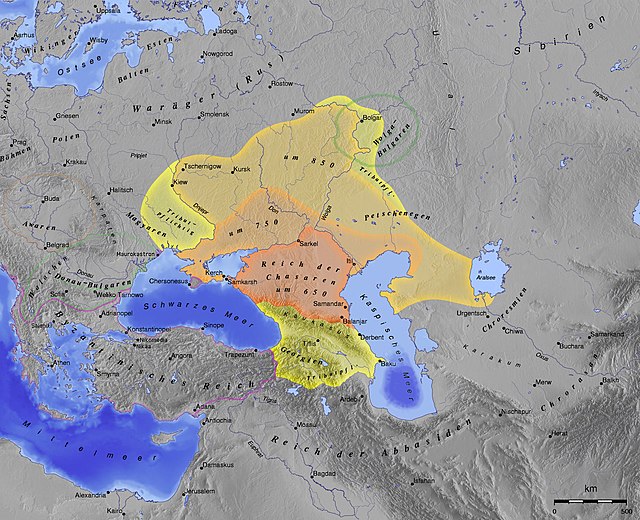-ћетки
-–убрики
- ¬еликие караимы (3)
- ¬осток или «апад - врем€ выбора (15)
- √рафоманечка (7)
- ≈вреи и »зраиль (362)
- ¬еликие евреи (93)
- ≈вреи пираты,авантюристы,шпионы,разбойники,военные (89)
- ∆ивопись (5)
- животные и растени€ (79)
- »стории о любви (7)
- »стори€ и этногенез (864)
- јльтернативна€ истори€ (5)
- јрийцы и јрии (индоевропейцы) (71)
- √енетические исследовани€ (38)
- ƒревние времена (28)
- »зменени€ климата, катастрофы, стихии (36)
- азаки - наследники ¬еликой ’азарии (43)
- Ќароды-симбионты (281)
- Ќовое врем€ и современность (44)
- ќдежда, оружие и доспех (16)
- самоопределение (4)
- —кифы (13)
- —лав€не и –усь (246)
- —редние века (29)
- ———– (13)
- “радиции (100)
- “юрки, монголы (98)
- ‘альшивки истории и истори€ фальшивок (9)
- ’азары и караимы (41)
- ÷ивилизации (1)
- языки, слова и выражени€ (98)
- нижки моего детства (6)
- улинари€, кухн€, национальные блюда (56)
- ћедицина и здоровье (140)
- ћузыка, танцы, песни (77)
- Ќаука, школа, образование и воспитание (36)
- ќбщество и его законы (239)
- ¬ойна, боевые искусства и оружие (132)
- азни, пытки, палачи, инквизици€ (18)
- пираты, разбойники и террористы (17)
- разведка и шпионаж (9)
- –асизм, геноцид и антисемитизм (31)
- –еволюции и перевороты, революционеры и заговорщик (23)
- ‘ашизм (23)
- „еловеческие жертвы, ритуальные убийства, людоедст (5)
- ѕравила жизни (68)
- –азное, заметки, наблюдени€, случаи, тайны (143)
- –елигии (169)
- »слам (5)
- »удаизм (55)
- ћолитва (7)
- —в€тые, пророки и пророчества (43)
- ’ристианство (67)
- язычество, маги€, суевери€ (17)
- символика и пам€тники (34)
- —казки, былины, легенды, притчи, пам€ть народа (49)
- —тихи (21)
- —траны и народы (357)
- итай (16)
- ћоре и корабли, загадочные земли (15)
- ќдесса (183)
- –осси€ (113)
- —Ўј (18)
- япони€ (17)
- ”краина (141)
- ¬еликие украинцы (19)
- ёмор (85)
-ћузыка
- _Assassin_s_Tango - из фильма "ћистер и миссис —мит"
- —лушали: 3916 омментарии: 0
- —естры Ѕерри: ≈врейска€ комсомольска€ (музыка »саака ƒунаевского)
- —лушали: 190 омментарии: 0
- »мперский марш «вездные войны
- —лушали: 62 омментарии: 0
- Mehdi "Blossoming flowers"
- —лушали: 3361 омментарии: 0
- _Dance for two_ - скрипка-яна Ўакиржанова, цимбалы-¬иктор ƒмитренко
- —лушали: 1937 омментарии: 0
-ѕоиск по дневнику
-»нтересы
-ƒрузь€
-ѕосто€нные читатели
-—ообщества
—оседние рубрики: языки, слова и выражени€(98), ÷ивилизации(1), ’азары и караимы(41), ‘альшивки истории и истори€ фальшивок(9), “юрки, монголы(98), “радиции(100), ———–(13), —редние века(29), —кифы(13), самоопределение(4), ќдежда, оружие и доспех(16), Ќовое врем€ и современность(44), Ќароды-симбионты(281), азаки - наследники ¬еликой ’азарии(43), »зменени€ климата, катастрофы, стихии(36), ƒревние времена(28), √енетические исследовани€(38), јрийцы и јрии (индоевропейцы)(71), јльтернативна€ истори€(5)
ƒругие рубрики в этом дневнике: ёмор(85), ”краина(141), —траны и народы(357), —тихи(21), —казки, былины, легенды, притчи, пам€ть народа(49), символика и пам€тники(34), –елигии(169), –азное, заметки, наблюдени€, случаи, тайны(143), ѕравила жизни(68), ќбщество и его законы(239), Ќаука, школа, образование и воспитание(36), ћузыка, танцы, песни(77), ћедицина и здоровье(140), улинари€, кухн€, национальные блюда(56), нижки моего детства(6), »стори€ и этногенез(864), »стории о любви(7), животные и растени€(79), ∆ивопись(5), ≈вреи и »зраиль(362), √рафоманечка(7), ¬осток или «апад - врем€ выбора(15), ¬еликие караимы(3)
∆ивет такой народ - не потомки ли они украинцев, то бишь русов? |
Ёто цитата сообщени€ Mila111111 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
∆ивЄт такой народ.
ѕредлагаю угадать национальность этой девушки. ќтвет под катом. ќбещаю, это по истине удивительно!

|
¬ендетта по-вандальски или ћесть местью вышибают |
ƒневник |
ќткуда вз€лись вандалы? Ќет, не современные, у которых «нет ничего св€того», а «доподлинные», которых со временем стали называть варвара¬ми и хулиганами.
Ќачнем с обсто€тельств по€влени€ термина «вандализм». ”ченые говор€т, что термин по€вилс€ во ‘ранции, после свержени€ Ќаполеона. огда аристократы вернулись во дворцы и поместь€, то ужаснулись. Ќародные толпы и вражеские солдаты раздолбили и загадили все, что возможно. ”мники стали проводить параллель с разграблением –има вандалами в 455 году. ƒолгое врем€ врагами французов были немцы. ƒругие говор€т, что в 1812 году русские называли вандалами французов, дико разграбивших и уничтоживших ћоскву и лишь по случайности не взорвавших ремль. ¬о второй мировой войне вандалами заслуженно называли немцев.
¬андалов долго причисл€ли к германцам, намека€ на дурную наследственность потомков. “акова одна из версий.
“еперь попытаемс€ собрать сведени€ об истоках вандальского народа. ¬о всех источниках указываетс€, что вандалы вели завоевани€ вместе с аланами (воинственными предками осетин). ќни вместе завоевали часть »талии, √аллии, »спании, ѕортугалии. ¬ 429 году переправились через √ибралтар, захватили часть —еверной јфрики (сейчас это Ћиви€), а затем и мощный город арфаген! »х военные успехи восхищают! Ќо возникают вопросы: как предки осетин вообще встретились с предками немцев? √де пересеклись их пути-дорожки? √де —еверный авказ и где √ермани€?
ќтвечаем.
¬о-первых, ученые говор€т о берегах ћэотиды, так раньше называлось јзовское море. ѕервые сообщени€ о вандалах шли из той области. ќднако, расселение этих племен было обширным (до Ѕалтики). » названий у племенных союзов было несколько: венеты, венеллы, венды, винулы и т.п. ¬ районах ћэотиды с ними и «скорефанились» аланы. »дем дальше.
¬о-вторых, есть сведени€, что еще ёлий ÷езарь в I веке до н.э. воевал с венеллами и венетами, которые обладали мощным флотом. —ражались они в восточных регионах —редиземного мор€. Ќазвани€ племен созвучны, но это не значит, что фигурируют именно вандалы .
¬-третьих, обратим внимание на некоторые объекты в ≈вропе. Ќапример, ¬енеци€ в »талии, город ¬енета в устье реки ќдер, область ¬андалужи€ (јндалузи€ – область »спании) – «свет вандалов », Ћужитани€ (Ћузитани€) – «светла€ страна», так раньше называли ѕортугалию. Ёти сведени€ вз€ты из статьи јлександра ѕортнова « Ќасто€щий вандал », журнал ««агадки истории», ћ., Ћогос-ћедиа, 2004 г. —ведени€, конечно, интересны и навод€т на многие мысли.
¬-четвертых, по словам ученого ѕавла “улаева, политическим центром вандалов-венетов много веков была область Ќорик на северо-востоке от »талии. якобы там было сильное государство еще до основани€ –има. огда –имска€ импери€ покорила Ќорик, он все еще продолжал оставатьс€ важным центром. ѕриблизительно там в VII веке образовалось слав€нское государство —амо, по имени правител€. Ќа южных окраинах Ќорика затем возникла Ѕавари€.
»так, сегодн€ мы коснулись сведений о слав€нском происхождении вандалов . »х верными союзниками сотни лет были аланы – предки осетин. ќни переселились на запад с берегов јзовского мор€. Ётот союз покорил почти всю ≈вропу и в V веке господствовал в арфагене.
ƒл€ начала вспомним, что с IV по VII века длилась эпоха «¬еликого переселени€ народов». ћногие ученые считают, что причиной этому стал холод, проникающий с пол€рных широт. «абега€ вперед, скажу, что племена воинственных гуннов вторглись на рымский полуостров в 375 году. ѕричем здесь это? ј притом, что гунны перешли ерченский пролив по льду!! ћожете себе представить, кака€ холодина была в те времена.
» вот, жители —еверной ≈вропы устремились в теплые земли. ¬арвары проникали в римские провинции, захватывали их. тому времени –имска€ импери€ ослабла. ¬ 395 году она была поделена. ¬осточной частью, со столицей в онстантинополе, стал править император јркадий. «ападна€ часть, со столицей в –име, досталась императору √онорию. –одители долго подбирали им€ сыну. ¬ древности оно значило «честь, почет, почесть» и с медициной было не св€зано.
Ёта «ападна€ –имска€ импери€ доживала свои последние годы. »мператоры свою резиденцию располагали уже не в –име, а в неприступной и удобно расположенной крепости –авенне. ѕод ударами варваров утрачивались все провинции одна за другой. ¬ 410 году «вечный город» захватили и 3 дн€ разрушали племена готов. ¬ 455 году племена вандалов вошли в –им и грабили его 14 дней.
»мператоры назначались в основном по протекции онстантинопол€. ѕравили они мало, часто мен€лись. Ќапример, один из римских полководцев –ицимер, по происхождению германец, поставил на престол и сам сместил четырех императоров. »ногда трон западного правител€ пустовал по 4 мес€ца, по полгода. ѕосле смерти –ицимера в 472 году, императоры мен€лись каждый год. Ќаконец, в 475 году полководец ќрест поставил на престол своего 15-летнего сына –омула јвгустула. онстантинополь на это согласи€ не дал, но мальчика можно формально считать последним правителем «ападной –имской империи.
¬ августе 476 года очередной полководец захватил власть. Ётого звали ќдоакр, и он тоже был германцем. ќн отослал знаки власти императора в онстантинополь и просил официально звать себ€ правителем »талии. ≈му дали звание патрици€, но просили, чтобы официальным императором уже не существующей «ападной –имской империи был ёлий Ќепот. ѕоследний был смещен с трона ќрестом год назад.
¬от такой бардак творилс€ на западе империи. ѕлемена воевали друг с другом. »мпери€ нанимала одних дл€ войны с другими. “е усиливались и начинали угрожать бывшим союзникам. ¬ласть захватывали кому не лень. ¬ойны, заговоры, убийства, грабежи. ак пузыри в кип€щей воде, племена и народы сталкивались, бурлили, раздувались, лопались. “ак что падение великой империи было неизбежно.
ј все началось из-за женщины. »звестному своим распутством римскому императору ¬алентиниану III вдруг взбрело в голову овладеть добродетельной женой сенатора ѕетрони€ ћаксима. ѕригласил тогда импе¬ратор сенатора во дворец и предло¬жил сыграть в шахматы — на личный перстень. Ќа беду, император оказал¬с€ неплохим игроком. ј может, сена¬тор посчитал, что перстень — это форма вз€тки, и поддалс€. ”читыва€ личность ћаксима, вполне возможно и та¬кое. ¬ыиграв перстень, ¬алентиниан отправил к жене ћаксима слуг с но¬силками: дескать, муж зовет ее во дво¬рец, а в подтверждение своих слов посылает свой перстень. Ќе подозрева€ ничего дурного, жена сенатора села в носилки, и ее унесли в дальние покои дворца, к ¬алентиниану...
∆ена от такого стыда умерла. ќпозоренный муж решил отомстить. ќн устроил заговор, и на военном параде и ¬алентиниан III был убит ударом кин¬жала в спину. »мператором стал он, ѕетроний ћаксим! », будучи к тому времени вдовцом, конечно, женилс€ на вдове-императрице, которую звали ≈вдоксией. Ќо однажды хитрый, осто¬рожный ћаксим совершил оплош¬ность, в припадке откровенности про¬болтавшись новой жене, что это он ор¬ганизовал убийство ¬алентиниана. “е¬перь уже решила отомстить ≈вдоксиа.
’ронологи€ событий такова:
ѕетроний ћаксим отомстил императору ¬алентиниану III за свою жену.
1. –аньше возникал вопрос, почему ѕетроний быстро женилс€ на вдове императора? ќтомстил, ну и живи дальше. ¬едь жена послушна и красива. ќказалось, что после изнасиловани€ ¬алентинианом III, бедна€ женщина умерла от позора. Ќе выдержало сердце. ќчень жаль ее.
2. «адумав отомстить, ѕетроний сначала сплел интригу вокруг мудрого и отважного полководца јэци€. »мператор сам проткнул того мечом и сильно радовалс€. ≈внух »раклий помогал добивать.
3. ”бив главу армии, ¬алентиниан III лишил себ€ опоры. роме того, соратники јэци€ захотели отомстить. ѕо одной из версий, гот ќптила воткнул кинжал в спину императора, во врем€ смотра военного парада.
4. ≈сть верси€, что помощи у вандалов просила не дочь ¬алентиниана III, а его вдова. ќднако, испанский епископ »даций, будучи современником тех событий, назвал это «дурными слухами».
5. ≈сли вдова ≈вдокси€ попросила помощи, то не сразу. —уд€ по всему, она не подозревала ѕетрони€. Ќо став императором, тот стал принуждать ее к замужеству, угрожать смертью. “огда все стало пон€тно. ≈вдокси€ решила, что лучше быть вандалам в –име, чем быть под убийцей мужа.
6. онечно, разведка сразу донесла королю вандалов √ейзериху об убийстве императора, и что армии возле –има нет. ” него был договор с ¬алентинианом III о ненападении. “еперь императора не стало, как не напасть? Ћюбой на его месте использовал бы такой момент.
7. ¬озможно, просьбой ≈вдоксии люди, намеренно, украсили мрачный сюжет истории. »ли наоборот, кто-то захотел подтвердить фразу «все зло из-за баб».
8. ѕочему ≈вдокси€ попросила именно вандалов арфагена? ¬о-первых, они ближе находились. ¬о-вторых, ее отец ‘еодосий – император ¬осточной –имской империи уже умер, и не мог помочь.
9. ороль √ейзерих отличалс€ маленьким ростом и хромотой. ќднажды, он упал с лошади и сильно повредил ногу. «ато он был мудрым, храбрым и долго правил.
10. ¬ –име подн€лась жутка€ паника. ѕетрони€ никто не слушал. ќдни говорили, что его раздавила толпа, другие, что его зарезали. якобы по наущению полководца-бургунда, убийство совершил солдат ”рс. »стерзанное тело нового императора, правившего всего 77 дней, бросили в реку “ибр. ∆естоко сделали.
11. ¬ арфагене объ€вили боевую тревогу. Ќесколько раз, "обн€в за спину и за живот" своих жен, вандалы вздохнули и убежали на свои корабли. орабли вандалов пересекли мо¬ре, вошли в устье реки “ибр и 12 июн€ 455 года по€вились перед стенами ве¬ликого –има.
12. ¬андалы по€вились через 3 дн€ после убийства ѕетрони€. –имский папа Ћев I уговорил √ейзериха не уничтожать людей. ¬торжени€ варваров никто не ожидал, войск не было.. ѕочти все население –има, немного-нимало почти миллион человек разбежалось по деревн€м и вес€м.
13. 15 июн€ вандалы вошли в –им без бо€, в открытые ворота. ќни спокойно топали по тротуарам, которые, в тот вечер, пестрели коричневыми кучками. Ќасиловать и убивать было почти не кого. “огда «потенциальный свекр» √ейзерих поделил –им, и каждому отр€ду отвел свой сектор. Ќапомним, в те годы население города приближалось к миллиону жителей! √рабеж длилс€ 14 дней. ак у вандалов кораблей хватило столько вывезти? Ќаверно, они разбили и сломали именно те объекты искусства, которые не поместились в трюмы, или которые лень было тащить. ј что оставалось делать?
14. –азграбив город, вандалы увели в рабство несколько тыс€ч римл€н.
15. ≈сть сведени€, что только одного золота вандалы увезли около 400 тонн! ј сколько еще было серебра и драгоценностей? Ѕогатых римл€н сделали рабами, а затем возвращали их родным за большой выкуп.
16. ѕо некоторым сведени€м войско из арфагена превышало 80 тыс€ч. ќни пришли самое малое на 1800 корабл€х! Ќо все богатства –има увезти не смогли.
.
17. ¬андалы сломали и разрушили то, что не поместилось. ѕерегруженные добычей корабли еле дотащились до арфагена, один, нагруженный мраморными стату€ми, затонул уже у входa в порт. Ќо вандалы были прекрасные мор€ки - затонул только один корабль, остальные дошли в целости. √ейзерих забрал ≈вдоксию с дочерьми. ќн женил сына на избраннице, а мать и другую дочь отправил в онстантинополь.
18. Ќесметные сокровища –има – это все, что сами римл€не награбили у других народов. ¬ арфагене эти горы драгоценностей находились до 534 года.
¬андалы, видимо, сумели поставить своеобразный «рекорд» даже дл€ тех жестоких времен. ѕосле такого разгрома –им оправитьс€ уже не смог, через 20 лет пришли отр€ды герман¬цев во главе с ќдоакром, и «ападна€ –имска€ импери€ перестала существовать. —транны бывают порою выверты истории: последнего императора –има звали так же, как и его основател€. –омулом началось, –омулом и кончилось.
ќднако пам€ть о страшном посещении вандалов затмила даже этот ти¬хий конец. ’от€ к разрушению «апад¬ной империи «приложили руку» и тюрки, и германцы, вс€ сомнительна€ сла¬ва досталась именно вандалам. 15 столетий назад исчезли они с лица земли, но вдруг спуст€ века по€вилось слово «вандализм».
то же, какого роду-племени были те, первые вандалы?
√ерманцы, скажете вы.
“ак вот, первые вандалы были слав€нами.
ќднако как же слав€не очутились в јфрике? » даже славным арфагеном завладели?
Ќа каком €зыке грабили вандалы?
Ёто плем€ обитало когда-то на берегах ћеотиды — јзовского мор€. Ќо страшные ежегодные засухи застави¬ли вандалов сн€тьс€ с обжитых мест. ним присоединились и обитавшие восточнее аланы, предки современных осетин. —паса€сь от засухи, эти народы двинулись на север, в сторону Ѕалтийского мор€.
Ќадо заметить, что две тыс€чи лет назад на огромных пространст¬вах ÷ентральной ≈вропы — от јдриатики до —еверного и Ѕалтийского морей — проживали многочисленные слав€нские племена: анты и склавины (на юге), венеды, венды, венеты, винулы — севернее и вдоль побере¬жий Ѕалтийского и —еверного морей. — венетами и венеллами, жившими «по берегам ќкеана и обладавшими огромным флотом», сражалс€ еще в I веке до н. э. √ай ёлий ÷езарь. ќ слав€нах-венетах напоминает название италь€нского города ¬енеции. √ерманские хроники сообщают, что обширный город венетов, называвшийс€ ¬енета и расположенный в ус¬тье ќдера, был уничтожен страшным штормом и землетр€сением 1 но€бр€ 1304 года. —редневековые гер¬манские хроники относ€т вандалов к той же группе западных слав€н и чет¬ко отличают их от немцев. ѕотомки слав€н — венетов, вендов и вандалов — и поныне живут в √ермании, их называют лужицкими (белыми) сербами, численность этой этнической группы — около 150 тыс€ч чело¬век. ќни представл€ют собой реликт когда-то великого племени западных слав€н, безжалостно уничтоженных двигавшимис€ на восток германскими племенами.
Ќа рубеже IV—V веков вандалы и аланы прошли территорию нынешней ¬енгрии, в 407 году они столкнулись в битвах с франками на –ейне и продолжали двигатьс€ на запад, пока осенью 409 года не пришли в »спанию.
ак ни странно, следы вандалов можно найти даже на со¬временных картах. Ѕлагодар€ топонимике. “ак, нынешнее на¬звание јндалузии, провинции »спании, €вл€етс€ слегка измененным слав€нским словом «¬андалужи€», что в переводе означает «свет вандалов». ¬озможно, от древнеслав€нского корн€ «луж» — «белый, светлый» - произошло и древнее название ѕортугалии — Ћузитани€, «светла€ страна».
роме того, сохранилось свыше сотни слов вандальского €зыка, практически неотличимых от русских. —реди них «баба», «брат», «беда», «дын€» (арбуз), «гора», «груша», «кобыла», «курва» (проститутка), «луг», «мед», «вода», «сестра», «волк», «видети», «звати», «пл€сати», «почивати», «працовати» (работать) и т. д.
Ќо германские племена вестготов не позволили слав€нам и осетинам за¬крепитьс€ на ѕиренейском полуостро¬ве, они вытеснили их в јфрику. ¬ 429 году полчища вандалов и аланов пере¬правились через √ибралтарский пролив в —еверную јфрику, разбили римcкую армию и захватили Ћивию. „ерез дес€ть лет вз€ли знаменитый арфаген, сначала уничтоженный римл€нами, а потом заново отстроенный ÷езарем в 44 году до н. э. ќтсюда они и совершали пиратские рейды по всему —редиземноморью.
Ќе было здесь в V веке страны, способной дать отпор 80-тыс€чной армии √ейзериха. ќгромна€ добыча, захваченна€ в –име, только разожгла аппетит, и √ейзерих затем последовательно ограбил орсику, —ардинию, —ицилию, Ѕалеарские острова, »талию и √рецию. –ассказывают, что маршруты своих походов он держал в глубокой тайне до последней минуты и сообщал о них, только выйд€ в море. ћожно представить, как кормчий, по¬гл€дыва€ на паруса, щурилс€ хитро:
— ого, батюшка, значит, грабить нынче будем? √реков али фр€зей каких?
Ќе от скрежещущих приказов, отданных на каком-нибудь германском диалекте, трепетали в тот век берега —редиземноморь€, а от лихих воплей, вроде «—арынь на кичку!». ¬ общем, грабили тогда «на слав€нском». Ёто шутка. Ќо вовсе не шутка, что королевство вандалов превратилось в столь грозное государство пиратов, что торговл€ на —редиземном море почти полностью прекратилась.
«авоевани€, погубившие воителей
Ќо в 477 году √ейзерих умер. ј его наследников погубили роскошь и безделье. –азграбив все —редиземноморье, скопив в арфагене не¬сметные сокровища, вандалы стали проводить врем€ в бесконечных кутежах и попойках, в театрах, бан€х и на ипподромах. ¬се в золоте и шелках, среди бесчисленных рабынь и наложниц, окруженные музыкантами, мимами и танцорами-гомосексуалистами, они быстро растер€ли силу и мужественность.
–асплата наступила скоро. ¬изанти€ тайно готовила мощный удар по арфагену. ¬ 533 году византийский флот под командованием знаменитого полководца ¬елизари€ возник перед арфагеном так же неожиданно, как когда-то корабли √ейзериха — перед –имом. ¬елизарий одним ударом раpогнал войско разжиревших бездельников и еще год ловил в горах прави¬телей некогда грозного государства. ¬ казну византийского императора ёс¬тиниана поступили сотни тонн золота «ападной –имской империи, а государство вандалов исчезло с лица зем¬ли. “ак слав€нам и не удалось обжить јфрику.
Ќо почему вандалов до сих пор считают германским племенем?
ƒело в том, что тьма средневековь€ затмила пам€ть о них. ¬спомнили только через тринадцать веков, когда после свержени€ Ќаполеона стара€ аристократи€ вместе со старой династией Ѕурбонов вернулась во ‘ранцию и увидела свои разоренные дворцы. ¬от тогда-то им, «ничего не забывшим и ничего не пон€вшим», пригодилось слово «вандализм».
ќднако французы считали вандалов немцами. «десь про€вились и исконна€ вражда галлов к агрессив¬ному и опасному германскому племени, и вли€ние античных историков, которыми в эпоху классицизма зачи¬тывались образованные французы. ƒревние римл€не практически не знали слав€н и не отличали их среди сотен «варварских» племен. “ак, например, √ай ёлий ÷езарь называл венедов и иных слав€н галлами, ѕлиний —тарший — германцами, а “ацит — сарматами, то есть аланами.
¬ отличие от них византийские историки, современники вандалов, жившие бок о бок со слав€нами, об€зательно отличали их от германцев. “аким историком был и ѕрокопий есарийский, советник полководца ¬елизари€, ходивший с ним в походы, в том числе и на арфаген. ќн-то и поведал п€тнадцать веков назад, по гор€чим следам, поистине удиви¬тельную историю вандалов.
≈сли взгл€нуть на карту ≈вропы, можно лишь дивитьс€ энергии, «пассионарности» целого народа, который в короткий срок с бо€ми прошел от јзовского мор€ через √ерманию, ‘ранцию, »спанию, ѕортугалию, Ћивию и разгромил великий –им. — этим бы усердием да на добрые дела. Ќо бесславно исчезли, растратив свои немеренные силы на пь€нство, грабежи, разврат, некогда великие воители, оставив в назидание только им€ свое.
ѕо материалам статьи :јлександр ѕќ–“Ќќ¬ Ќј—“ќяў»… ¬јЌƒјЋ «агадки истории 2004 год.
и сайта «аполни пробел ѕутешествие по истории http://www.zapolni-probel.ru/index.php
1.

2.

3.

4.

5.

8.

ћетки: вандалы русь |
—в€тослав |
Ёто цитата сообщени€ —вето€ра [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
н€зь —в€тослав »горевич - муж крови.

—¬я“ќ—Ћј¬!
"ћ”∆ –ќ¬»" ( Ќя«№ —¬я“ќ—Ћј¬ »√ќ–≈¬»„)
—ери€ сообщений " н€зь —ветослав": |
ћетки: —в€тослав слав€не русы |
—лав€не - значит —Ћј¬Ќџ≈ - от древнего "люди словене" - "—лавные люди" |
Ёто цитата сообщени€ воронина_тан€ [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
–ј«ћџЎЋ≈Ќ»я ќ —Ћј¬яЌј’

«а потр€сающую смесь гордости и самокопани€. –усского можно обобрать до нитки, избить, измазать в гр€зи — и все равно он будет смотреть на обидчиков с плохо скрываемой жалостью превосходства. ”веренность нашего народа в его величии и избранности никак не зависит от внешних обсто€тельств, на все остальные народы мира, включа€ прав€щих американцев, русский смотрит свысока. Ёто сознание держащих мир атлантов, сознание солнца, вокруг которого вращаютс€ все остальные народы-планеты, вело как к нашим величайшим триумфам, так и к поражени€м от самоупоени€.
|
–одное |
Ёто цитата сообщени€ ќльга_‘адейкина [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
я—Ќќ√Ћј«јя –”—№.«ј¬0Ћќ »Ќџ...
ћетки: –усь песни |
—казка ложь, да в ней намек 3 |
Ёто цитата сообщени€ воронина_тан€ [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
—≈ –≈“џ ЌјЎ»’ — ј«ќ

“Ћожью” у cлав€н называлась неполна€, поверхностна€ ѕравда. Ќапример, можно сказать: “¬от цела€ лужа бензина”, а можно сказать, что это лужа гр€зной воды, зат€нута€ сверху пленкой бензина. ¬о втором утверждении
ћетки: сказки |
"ј иди ты в баню", - говорила вельможам јнна ярославна |
Ёто цитата сообщени€ воронина_тан€ [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
ак русска€ королева ‘ранции јнна ярославна французов мытьс€ научила

–усска€ девушка јнна ярославна – королева ‘ранции. ќна осуществила революцию в чужой дл€ себ€ стране. »менно она научила французский двор читать и писать ещЄ в XI веке. Ёто она познакомила французов с баней и заставила во врем€ приЄма пищи пользоватьс€ столовыми приборами. јнна вела переписку с ѕапой –имским. ѕодданные чужой дл€ неЄ ‘ранции боготворили јнну и называли еЄ –ыжей јгнессой.
ћетки: средневековье гигиена –усь |
ѕрощание слав€нки |
Ёто цитата сообщени€ юрий_николаевич_даки [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
Ќ≈ ∆јЋ≈“№ Ќ» —≈Ѕя Ќ» ¬–ј√ќ¬ ---¬≈—№ «јЋ ¬—“јЋ --
ѕри исполнении песни ѕрощание cлав€нки убанским казачим хором мороз по коже идет. ѕроникновенно, призывно, так в –оссии еще никогда не пели! ¬есь зал встал! ¬от такие песни сейчас нужны нашему народу!
омментарий ’азарина:
„то мен€ поражает в марше "ѕрощание слав€нки", так это почти тождественность с еврейским свадебным маршем, исполн€емым клейзмерами (народными еврейскими музыкантами) - "ћарш до хупы" (’упа - это свадебный навес, символизирующий вступление невесты в еврейский дом. Ётот марш о ереской девушке покидающий отчий дом, чтобы войти в семью жениха. » как большинство еврейских произведений написан в миноре (за что кстати критиковали марш јгапкина)
ѕрочт€ ваше сообщение, задумалс€ и начал искать причину.
нашел.
“ам сказано - первый серьезный музыкант, которому јгапкин (автор марша) показал свое сочинение был Ѕогорад яков »саакович (в национальности € думаю нет сомнений), так как марш јгапкина первым слушател€м не совсем понравилс€. ÷итирую дальше -"Ѕогорад прин€л самое де€тельное участи в сочинении трио, помог записать клавир, сделал аранжировку, оркестровал марш и даже издал в симферопольской типографии за свой счет 100 экземпл€ров «ѕрощани€ слав€нки», увезенных потом јгапкиным с собой. ¬месте придумали и название марша, в котором, быть может, сыграла свою роль симферопольска€ речка —лав€нка, что так удачно совпало с идеей марша: женщина-слав€нка провожает любимого на войну."
„то осталось от первоначальной мелодии после такой редакции, трудно сказать.
Ќам и нашим современникам этот марш знаком в редакции „арнецкого Ћьва »сааковича, потомственного клейзмера.
÷итата: ¬иктор Ѕейлис - ¬оспоминание о бабушке.
„ернецкий всЄ марши писал и был весьма успешен, потому что эти марши немедленно исполн€ли все военные оркестры. Ќо его музыкальный дар стал исс€кать, и тогда он совершил – ¬итенька, как это слово? – да, плагиат. ќн хотел, чтобы его считали автором марша, который написал √едеон ‘идман. ќн сошел с ума и закончил свои дни в клинике дл€ умалишенных. ¬ палате он взрезал себе вены и кровью на стене написал ноты того самого марша. Ќичего сделать было нельз€. Ёто было написано кровью, и с этим не поспоришь, хот€ автор-то ‘идман. Ёту музыку часто играют. Ѕабушка садилась за фортепь€но (она играла по слуху) и исполн€ла бравурно всем известную мелодию. ѕо-моему, точно вспомнить не могу, это было «ѕрощание слав€нки».
я, конечно, гордилс€ своим великим прадедом и впоследствии часто рассказывал эту историю гост€м или в гост€х. ќднажды, когда € в очередной раз запевал «ѕрощание слав€нки», € заметил, что сид€щий за столом напротив мен€ симпатичнейший ∆ен€ јрензон наливаетс€ кровью.
- Ќеужели € фальшиво спел? – забеспокоилс€ €.
- ƒело в том, - возмущенно сказал јрензон, - что мой прадедушка, композитор „ернецкий, никогда не сходил с ума и уж тем более не воровал мотивчики.
- Ќе знаю, не знаю, - холодно ответил €.
ћы не раз встречались потом, но никогда больше не упоминали наших прадедов. (ј другого своего родственника € упом€нул гораздо удачнее, беседу€ с художником, который оказалс€ в такой же степени родства с адвокатом √рузенбергом, защищавшим ћендел€ Ѕейлиса, как € с героем этого процесса).
онец цитаты.
я не хочу преуменьшать роль –оссии и –усских и русской культуры, хочу лишь сказать, что русские евреи настолько породнились с –оссией и восприн€ли лучшее русское, и в то же врем€ отдавали –оссии свою душу.
ћарк Ѕернес, ”тесов (насто€щее им€ Ћазарь (Ћейзер) »осифович ¬айсбейн), ¬ладимир —еменович ¬ысоцкий, Ѕлантер, ƒунаевский, јлла ѕугачева, Ћариса ƒолина, иркоров (караим как и €) ... —колько их - евреев, отдавших душу и сердце –оссии.
¬от немногие из них:
ћарк Ѕернес (1911-1969).
јктер и эстрадный певец ћарк Ќаумович Ѕернес родилс€ 8 (21) окт€бр€ 1911 г. в г. Ќежине (”краина). —емь€ была крайне бедна€, oтeц ћ. Ѕернеса занималс€ сбором утильсырь€. ћальчиком Ѕернес стал статистом Xapьковского театра, здесь же окончил театральные курсы и в 1928 г. переехал в ћоскву, где работал в ћалом театре, ƒраматическом театре (бывш. орша), театре –еволюции.
¬ 1937 г. режиссер —. ёткевич поручил Ѕернесу первую значительную роль в кино роль расовского в фильме «Ўахтеры».
ѕопул€рность ћ. Ѕернесу принесло исполнение роли ости ∆игулева в фильме —. ёткевича «„еловек с ружьем» (1939). »гра Ѕернеса отличалась простотой, оба€нием, м€гким юмором. Ётот фильм €вилс€ дл€ Ѕернеса началом эстрадного пени€. ¬ нем он спел впоследствии широко известную песню ѕ. јрманда «“учи над городом встали».
¬ 1939 г. ћ. Ѕернес сыграл роль летчика ожухарова в фильме «»стребители» Ћ
спел в нем песню —. ћихалкова «¬ далекий край товарищ улетает».
ќсобенно €рко дарование Ѕернеса про€вилось в фильме «ƒва бойца» (режиссер
Ћ. Ћуков, 1943 г.). јртист создал прекрасный образ солдата-одессита. —ценарий написан по повести одессита Ћьва —лавина (он же — »цкович) — автора известной пьесы «»нтервенци€». ¬ фильме Ѕернес подчеркнул мужество и юмор, присущие одесситам не только в мирное врем€, но и в трудные военные годы.
¬ фильме ћ. Ѕернес исполнил песни Ќ. Ѕогословского «“Ємна€ ночь» и «Ўаланды
полные кефали». «Ўаланды» написаны поэтом ¬ладимиром јгатовым (он же — √уревич.
¬ последующие годы ћарк Ѕернес сыграл в кино многие интересные роли (55 фильмов). ≈го работа в кино отмечена √осударственной премией ———– (1951 г.).
ѕесни из кинофильмов были началом пути эстрадного певца ћ. Ѕернеса, получившего всенародное признание. ћ. Ѕернес был реальным организатором новой песни. »з
п€тидес€ти песен, которые были в его репертуаре, сорок написаны по его заказу (он
давал идею, тему, образ, развитие). ќн сотрудничал с поэтами (–. √амзатов, ћихаил Ћьвович ћатусовский (13 июл€ 1915 г. Ћуганск — 1990, ћосква) — поэт, автор текста песен «ѕодмосковные вечера», «Ўкольный вальс», «Ёто было недавно, это было давно»; поэм «Ќе забывай», «—уть»; мемуаров «—емейный альбом». Ћауреат √осударственной премии ———–. ќн сотрудничал с поэтами (≈. ƒолматовский, ≈. ≈втушенко и др.) и композиторами (ћ. Ѕлантер, Ќ. Ѕогословский, я. ‘ренкель, ј. Ёшпай, Ё. олмановский и др.). ¬ его репертуаре были лирические, веселые, шутливые, патриотические, спортивные и другие песни.
ћарк Ћазаревич √аллай — боевой летчик, √ерой —оветского —оюза, летчик истребитель, ученый и писатель, в своей книге «¬стречи» поместил очерк о ћарке Ѕернесе
«—овсем не такой». ћ. √алла€ назначили консультантом фильма «÷ель его жизни», где летчика-испытател€ играл ћарк Ѕернес. ћарки близко узнали друг друга, и √аллай пишет, что все персонажи Ѕернеса — железно-волевые, реже — иронично-волевые. ј он им диаметрально противоположен — эмоциональный, легко раним, внутренне не защищенный от бестактности, грубости, несправедливости. ≈динственна€ компенсаци€ от этого чувство юмора.
–ежиссер фильма A.M. –ыбаков ценил требовательность Ѕернеса к себе и другим. I ≈го раздражала халтура в любом ее про€влении. ≈го отличали подлинный интерес ко вс€кой технике.
¬ заключение возьмем на себ€ смелость сказать, что, несмотр€ на различные индивидуальности, ћарк Ѕернес и Ћеонид ”тесов пели одинаково — сердцем. » есть еще чретий»: »осиф обзон. ѕесн€ «— чего начинаетс€ –одина» объединила их.
ћарк Ќаумович Ѕернес скончалс€ в ћоскве 16 августа 1969 г.
≈го песенное творчество, запечатлев врем€, проложило мост в будущее.
јвторы песен
ћихаил —ветлов
ћ.ј.—ветлов.
ћихаил јркадьевич —ветлов (насто€ща€ фамили€ Ўейнкман, 1903, ≈катеринославль — 1964, ћосква) — поэт, драматург, автор поэтических сборников «—тихи», « орин», «Ќочные встречи», «√оризонт», «ќхотничий домик» и др., стихотворений «√ренаде», «ѕесн€ о аховке», пьес «√лубока€ провинци€», «—казка», «ƒвадцать лет спуст€», «ћыс ∆елани€», «Ѕранденбургские ворота», «„ужое счастье», «— новым счастььем» и др.; переводчик с идиш Ћ. витко, ». ‘ефера и других еврейских поэтов, лауреат государственной премии ———–.
Ќо перва€ книга стихов ћихаила —ветлова называлась «—тихи о ребе».
—тихотворение «√ренада», написанное задолго до √ражданской войны в »спании, и «местный кинодраматург и кинорежиссер √ригорий озинцев сравнивал по духу с «ƒон ихотом» —ервантеса.
ќн никуда не торопилс€, ничего не требовал, и в этом — нечто величественное. ¬о — дл€ поэзии, ничего — дл€ себ€. ѕоэзи€ — не способ существовани€, а единственный способ убедить человека в том, что он мудр и добр, что любить — весело, а лгать — только подло, но и смертельно скучно.
Ќе случайны эти его слова: «я как скора€ помощь, котора€ вот-вот поспеет...». —кора€ помощь его поэзии никогда не опаздывала: она приводила в сознание и напоминала о чести, мужестве и правде — тем, кто об этом почему-то забывал». «акончим стихами ћихаила —ветлова:
Ќет, все листь€ не облетели,
ћожет, жизнь потому хороша,
„то живет в моем старом теле
ѕонимающа€ душа.
(»з стих. «“ак живу €», 1959)
ак мы люд€м необходимы!
ак мы каждой душе близки!..
ћы с рождень€ непобедимы.
ћы — советские старики!
(»з стих. «—оветские старики», 1960)
акой это ужас, товарищи,
ака€ разлука с душой,
огда ты, как маленький, свалишьс€,
ј ты уже очень большой.
(»з стих. « акой это ужас, товарищи», 4 ма€ 1964)
≈втушенко
≈вгений јлександрович ≈втушенко родилс€ 18 июл€ 1933 г. на ст. «има в »ркутск области. ќтец — јлександр –удольфович √ангнус; мать — «инаида ≈рмолаевна ≈втушенко. ѕеред войной семь€ распалась. — 1947 года ≈. ≈втушенко занималс€ в поэтической студии ƒома пионеров ƒзержинского района ћосквы. Ќачал печататьс€ в 1949 г. 1951 г. был прин€т в Ћитературный институт им. A.M. √орького. ¬ 1952 г. прин€т в союз писателей ———–, и в этом же году вышел его первый сборник стихов «–азведчики гр€дущего». «а поэму «ћама и нейтронна€ бомба» в 1984 г. присуждена √осударственна€ преми€ ———–. ѕоставил два фильма по собственным сценари€м. ≈втушенко €вл€етс€ ѕрофессором в ѕитсбургском университете и в университете —айта-ƒоминго.. — 1989 г. — сопредседатель писательской ассоциации «јпрель», с 1988 г. — член общества «ћемориал».
ѕосле публикации стихотворени€ «Ѕабий яр» от нападок антисемитских де€телей молодого ≈. ≈втушенко защитил —амуил ћаршак (все происходило в публичной стихохотворной форме); а Ћеонид ”тесов в стихах собственного сочинени€ поблагодарил ≈втушенко. Ќа эти стихи ƒмитрием Ўостаковичем написана «13-€ симфони€» («Ѕабий яр»), прозвучавша€ в декабре 1962 г. ѕотом — двадцатип€тилетнее молчание и ни о, ной публикации этого стихотворени€ в стране.
“от, кто вчерашние жертвы забудет, ћожет быть, завтрашней жертвой будет, (»з поэмы ≈.≈втушенко «‘уку!»)
”тесов(¬айсбейн) Ћеонид ќсипович(1895 — 1982),
”“≈—ќ¬ Ћ≈ќЌ»ƒ (полное им€ ”тесов Ћеонид ќсипович; насто€щее им€ ¬айсбейн Ћазарь »осифович ) (9 марта 1895, ќдесса — 9 марта 1982, ћосква), эстрадный певец, актер театра и кино.
”чилс€ в ќдессе в коммерческом училище ‘айга, откуда в 1909 был отчислен за плохую успеваемость и неудовлетворительную дисциплину. ѕосле непродолжительной работы в брод€чем цирке (в качестве гимнаста) вернулс€ в ќдессу, где училс€ играть на скрипке. ¬ 1912 устроилс€ в ременчугский театр миниатюр; тогда же вз€л сценический псевдоним ”тесов. Ќачина€ с 1913 играл в одесской труппе . √. –озанова (Ѕольшой и ћалый –ишельевские театры), ’ерсонском театре миниатюр, передвижном театре миниатюр «ћозаика» (1914).
¬ 1917 зан€л 1-е место на конкурсе куплетистов в √омеле и в том же году организовал в ћоскве небольшой оркестр, с которым выступал в саду «Ёрмитаж». ¬ 1919 состо€лс€ кинематографический дебют ”тесова — в роли адвоката «арудного в фильме «Ћейтенант Ўмидт — борец за свободу». ¬ 1921-28 играл в таких театрах, как “еатр революционной сатиры (ћосква), “еатр музыкальной комедии, ѕалас-театр, —вободный театр (Ћенинград), «ћаринэ» (–ига). ¬ 1925 сн€лс€ в двух фильмах Ѕ. —ветлова — « арьера —пирьки Ўпандыр€» и «„ужие».
¬ 1928 после поездки в ѕариж, где впервые услышал профессиональный джаз, собрал музыкантов и стал готовить джазовую программу. 8 марта 1929 на сцене ћалого оперного театра (Ћенинград) дебютировал театрализованный джаз Ћеонида ”тесова с программой «“еа-джаз». Ёто был совершенно новый дл€ эстрады того периода жанр. ”тесов совмещал дирижирование с конферансом, танцами, пением, игрой на скрипке, чтением стихов. –азыгрывались разнообразные сценки между музыкантами и дирижером. ¬се выступление было режиссерски объединено, начина€ со знакомства с публикой и конча€ прощальной песней ѕока, дл€ трансл€ции которой использовались киноэкран и репродукторы, установленные на фасаде концертного здани€. ѕредтечей этой программы можно считать спектакль ”тесова «ќт трагедии до трапеции» (перва€ половина 20-х годов), в котором он про€вил себ€ как синтетический актер: на прот€жении шестичасового сценического действи€ из революционера ‘едора –аскольникова он превращалс€ в цар€ ћенела€ из оперетты «ѕрекрасна€ ≈лена», в дивертисменте играл соло на гитаре, по€вл€лс€ в облике скрипача, пел, аккомпаниру€ себе на гитаре, танцевал в паре с балериной и завершал представление упражнени€ми на трапеции.
¬ первые годы работы ”тесова с джазом про€вилось его пристрастие к так называемому блатному фольклору. ≈ще в 1929 в спектакле Ћенинградского театра сатиры «–еспублика на колесах» прозвучала песн€ — одесского кичмана, которую вскоре объ€вили «манифестом блатной романтики» и запретили. ¬ программу «“еа-джаз» были включены песни Ћимончики, √оп со смыком. Ѕлатной фольклор в исполнении ”тесова приобрел ироническую интонацию, снимавшую воровскую романтику. ¬ своих выступлени€х он часто использовал попул€рные мелодии с новыми текстами. ¬ начале 30-х годов поэт-песенник ¬. Ћебедев- умач по просьбе ”тесова написал новые тексты дл€ песен ѕодруженьки и ћурка, вошедшие в репертуар певца как ƒжаз-болельщик и ” окошка.
¬тора€ программа оркестра «ƒжаз на повороте» (1930) состо€ла из оркестровых фантазий на темы народных песен и четырех рапсодий, написанных ». ќ. ƒунаевским, — –усской, ”краинской, ≈врейской и —оветской. ѕо-новому зазвучали попул€рные мелодии ¬о субботу день ненастный, ¬иют витры и др. ¬ дальнейшем ”тесов часто включал в свои программы джазовые интерпретации мелодий народов ———–, объ€сн€€ это так: «≈сли у американского джаза негрит€нский фольклор, то почему у нас не может быть грузинского, арм€нского или украинского?».
¬ 1933 в репертуаре коллектива по€вл€етс€ пьеса «ћузыкальный магазин» (авторы Ќ. –. Ёрдман, ¬. «. ћасс), представл€юща€ собой р€д небольших комических эпизодов, происход€щих в музыкальном магазине в течение рабочего дн€. ¬ одной из сцен оркестр пародировал механизированный, бездушный джаз, исполн€€ переложенные ƒунаевским в ритме фокстрота арию индийского гост€ из «—адко» Ќ. ј. –имского- орсакова, «—ердце красавицы» из «–иголетто» ƒж. ¬ерди и некоторые темы из «≈вгени€ ќнегина» ѕ. ». „айковского. ”спех джазовой интерпретации классических произведений во многом определил содержание следующей программы оркестра — « армен и другие», в которой комически обыгрываемые эпизоды известной оперы сопровождались оджазированной музыкой ∆. Ѕизе.
¬ 1934 на экраны кинотеатров вышел фильм √. јлександрова «¬еселые реб€та», в котором снималс€ весь оркестр ”тесова. ќбщее настроение картины определили песни ƒунаевского на стихи Ћебедева- умача: —ердце, тебе не хочетс€ поко€ и ћарш веселых реб€т в исполнении Ћеонида ”тесова. ѕесни обрели большую попул€рность. ѕроходивший в Ћондоне конгресс мира и дружбы с ———– (1937) заканчивалс€ под ћарш веселых реб€т. — 1936 в выступлени€х оркестра принимает участие Ёдит ”тесова (дочь певца), актриса театра им. ¬ахтангова.
¬ 1937 джаз-оркестр ”тесова представил программу в двух отделени€х «ѕесни моей –одины». ¬ первую часть вошли песни о гражданской войне ( “ачанка, ѕолюшко), вторую составили лирические и комедийные песни. ѕрограмма шла несколько лет, вплоть до начала ¬еликой ќтечественной войны. ¬ 1938 ”тесов в качестве художественного руководител€ выпустил спектакль «ƒва корабл€», в котором прозвучали песни ¬ар€г, –аскинулось море широко, ћор€ки, раснофлотский марш, Ѕаллада о неизвестном мор€ке. ¬ 1939 написал свою первую книгу ««аписки актера». »грал роль директора кардиологического санатори€ «—пасибо, сердце» в спектакле-водевиле «ћного шума из тишины», где исполнил песни “айна, ћу-му, сразу ставшие попул€рными. ¬ том же году играл, пел и дирижировал оркестром в киноконцерте «ѕароход», который по праву считаетс€ прообразом современных видеоклипов.
ќбъ€вление о начале войны застает ”тесова во врем€ репетиции новой программы «Ќапева€, шут€ и игра€» в московском «Ёрмитаже». ∆ела€ поддержать солдат, оркестр в короткий срок создает первую военную программу «Ѕей врага!», в которой нар€ду с уже известными песн€ми звучат новые произведени€: » не раз и не два мы врага учили, ѕартизан ћорозко, ѕривет морскому ветру.
«а первый год войны оркестр дал свыше 200 концертов на заводах, корабл€х, в действующей армии на алининском фронте, посто€нно включа€ в программу новые песни: ∆ди мен€, ¬ земл€нке, “емна€ ночь, ќдессит ћишка, сатирические антифашистские частушки √адам нет пощады! ¬ июне 1942 Ћеониду ”тесову было присвоено звание заслуженного артиста –—‘—–. ¬тора€ программа военных лет «Ќапева€, шут€ и игра€» €вилась откликом на начало серьезных успехов —оветской армии. ¬ нее были включены песни: ѕрощание, ѕароход, ƒес€ть дочерей, ƒва друга. ¬ 1944 оркестр представил новую джаз-фантазию «—алют», в которой прозвучали отрывки из симфонических произведений, свыше двадцати старых и новых песен, лирические и сатирические интермедии. 9 ма€ 1945 при огромном стечении народа ”тесов выступил с оркестром на открытой эстраде на площади —вердлова в ћоскве.
800-летию ћосквы (1947) утесовский коллектив подготовил оркестровую фантазию «ћосква», в финале которой впервые исполн€лась песн€ ƒунаевского ƒорогие мои москвичи! ¬ 1952 по€вилась программа «ћузыка толстых», центральное место в которой занимала сатира на международные темы. 25-летие коллектива (1954) было отмечено эстрадным спектаклем «—еребр€на€ свадьба», в котором среди прочих ”тесов исполнил одно из последних произведений ƒунаевского я песне отдал все сполна. ѕесн€ вошла в фильм «¬еселые звезды» (экранизаци€ эстрадного концерта). ¬ марте 1960 в ћосковском театре эстрады была представлена программа «“ридцать лет спуст€». ¬ ней, нар€ду с обычным репертуаром, оркестр исполнил сложные классические произведени€ — марш —. —. ѕрокофьева из оперы «Ћюбовь к трем апельсинам» и пьесу . ƒебюсси Reverie. ќтличие от западного, €кобы чисто танцевального джаза, подчеркивалось пародийным номером «Ёволюци€ западного танца».
¬ 1965 Ћеониду ”тесову было присвоено звание народного артиста ———–. ќн стал первым артистом эстрады, удостоенным этого звани€. 9 окт€бр€ 1966 на концерте в ÷ƒ—ј артист почувствовал себ€ плохо. „ерез некоторое врем€ он решил покинуть сцену. ¬ оставшиес€ 16 лет жизни ”тесов написал еще одну книгу «—пасибо, сердце!», руководил оркестром, много снималс€ на телевидении, но практически не выходил на сцену. ¬ декабре 1981 состо€лось последнее выступление ”тесова.
ћузыкальные критики часто обвин€ли ”тесова в отсутствии певческого голоса. Ћеонид ќсипович неизменно отвечал: «ѕусть так! я пою не голосом — € пою сердцем!»
¬ысоцкий
¬џ—ќ÷ »… ¬Ћјƒ»ћ»– (полное им€ ¬ысоцкий ¬ладимир —еменович) (25 €нвар€ 1938, ћосква — 25 июл€ 1980, там же ), поэт, актер, автор и исполнитель песен
”чилс€ в ћосковском инженерно-строительном институте. ѕосле окончани€ школы ћосковского ’удожественного академического театра (1964) становитс€ артистом ћосковского театра на “аганке. ак актер получил признание за роль √амлета. ”частвовал во многих постановках. ѕрославилс€ пением собственных песен, которые распростран€лись на магнитофонных пленках по всей стране. ћногие песни написаны специально дл€ кино: —калолазка, —ыновь€ уход€т в бой, они привередливые, –асстрел горного эха, ќчи черные, Ѕаллада об уходе в рай и др. —нималс€ во многих кинокартинах: ороткие встречи (1967, режиссер ира ћуратова), ¬ертикаль (1967), ’оз€ин тайги, —лужили два товарища, ≈динственна€ дорога (все 1974), ѕлохой, хороший человек, «емл€ —анникова (1974), —каз про то, как царь ѕетр јрапа женил, Ѕегство мистера ћак- инли (все 1975), ћесто встречи изменить нельз€ и др.
Ѕыл женат на французской актрисе ћарине ¬лади (ѕол€ковой-Ѕайдаровой). концу своей короткой жизни стал кумиром молодежи. Ѕыл очень попул€рен последние дес€ть лет жизни.
≈го смерть оплакивалась всей страной, дес€тки тыс€ч людей пришли на его похороны. ѕохоронен на ¬аганьковском кладбище, воздвигнут пам€тник. ¬ ћоскве на “аганке открыт музей ¬ысоцкого, который возглавл€ет его сын.
ѕосле смерти записанные им песни и книги стали доступны (вышло полное собрание сочинений, диски).
ƒунаевский
ƒ”Ќј≈¬— »… »—јј (полное им€ ƒунаевский »саак ќсипович, »осифович) (18/30 €нвар€ 1900, город Ћоквица ѕолтавской области — 25 июл€ 1955, ћосква), композитор.
ќкончил ’арьковскую консерваторию по классу скрипки ». ё. јхрона (1919), занималс€ композицией у —. —. Ѕогатырева. — 1924 жил в ћоскве, руководил музыкальной частью “еатра сатиры, писал оперетты, балеты. ¬ 1929—41 был музыкальным руководителем и главным дирижером мюзик-холла в Ћенинграде, сотрудничал с джазом Ћ. ќ. ”тесова, был председателем Ћенинградского отделени€ —оюза композиторов (1937—41). ¬ 1932 началась де€тельность ƒунаевского как кинокомпозитора («ѕервый взвод», Ѕелгоскино).
¬ 1943 переехал в ћоскву, где стал художественным руководителем ансамбл€ ÷ентрального ƒома культуры железнодорожников (1938—48). —оздал 12 оперетт, в том числе «» нашим и вашим» (1927, ћосковский театр музыкальной буффонады), «∆енихи» (1927), «Ќожи» (1928, ћосковский театр сатиры), ««олота€ долина» (1938, ћосковский театр оперетты). —оздал музыку к фильмам: «÷ирк» (√осударственна€ преми€ ———–, 1941), «¬олга-¬олга» (√осударственна€ преми€ ———–, 1951), « убанские казаки». ¬месте с режиссером √. ¬. јлександровым и поэтом ¬. ». Ћебедевым- умачом ƒунаевский был создателем музыкальной комедии «¬еселые реб€та» ( ћарш веселых реб€т), а также таких песен из кинофильмов, как: ѕесн€ о –одине («÷ирк»), ѕесн€ о аховке (слова —ветлова, «“ри товарища»), ћарш энтузиастов (слова ј. ƒ. јктил€, «—ветлый путь»). —оздал жанр песни-марша: —портивный марш, ћарш “рактористов, ¬есенний марш, ѕесн€ о ћоскве, ѕесн€ о веселом ветре, ƒети капитана √ранта (слова ¬. ». Ћебедева- умача), ѕути-дороги (слова —. я. јлымова), ¬ечер вальса, Ќе забывай, Ћетите голуби (слова ћ. Ћ. ћатусовского). ѕесни: «ќ –одине», «ќ аховке», «ћарш энтузиастов» и др. ќппереты: ««олота€ долина», «¬ольный ветер», «—ын клоуна», «Ѕела€ акаци€». ћузыка к фильмам: «¬еселые реб€та», «¬ратарь», «÷ирк», «ƒети капитана √ранта», «¬олга-¬олга», «¬ес!; на», «—ветлый путь», « убанские казаки» и др.
ƒунаевский обогатил жанр песни, внес€ в нее элементы оперетты, джаза.
÷енным вкладом в эстрадную музыку €вл€ютс€ оркестровые номера из киномузыки ƒунаевского: ¬ыходной марш (фильм «÷ирк»), увертюра к фильму «ƒети капитана √ранта».
Ќародный артист –оссии (1950).
ƒ”Ќј≈¬— »…ћј —»ћ (полное им€ ƒунаевскийћаксим »саакович)
(р. 1945), композитор. —ын композитора ». ќ. ƒунаевского. ”ченик “. Ќ. ’ренникова.
—реди сочинений: мюзиклы «“или-тили-тесто...» (1968, ћосква), «≈мелино счастье» (1975, Ќовосибирск), «“ри мушкетера» (1977, иев), «ƒети капитана √ранта» (1987, —вердловск); концерт дл€ оркестра (1970), кантата дл€ хора а cappella «—тарые корабли» (на стихи ј. Ћундквиста, 1970); камерно-инструментальные ансамбли; сонаты; циклы романсов; хоры; музыка к кинофильмам (свыше 30, в том числе «ћэри ѕоппинс, до свидани€», 1983), к спектакл€м драматического театра.
»саковский
»саковский ћихаил ¬асильевич(1*900— 1973), поэт, √ерой —оц. “р. (1970), песни: «ѕрощание», « атюша», «ќгонек», «¬раги сожгли родную хату», «—нова замерло все до рассвета» и др.
ƒругие композиторы, музыканты, певцы и сочинители песен
Ѕаснер ¬ениамин ≈фимович(1925 — 1996), композитор, нар. арт. –—‘—– (1982). ѕесни: «Ќа безым€нной высоте», «— чего начинаетс€ –одина», «Ѕелой акации гроздь€ душистые» и др.
Ѕерезин ≈фим »осифович(р. 1919), артист эстрады, выступал в дуэте «“арапунька и Ўтепсель» с “имошенко ё. “., нар. арт. ”——– (1960), √ос. пр. ———– (1950).
Ѕлантер ћатфей »саакович(р. 1903), композитор, нар. арт. ———– (1975), √ерой —оц. “руда (1983), √ос. пр. ———– (1946). ѕесни: « атюш»», «¬ лесу прифронтовом», «Ћет€т перелетные птицы» и др.
√антварг ћихаил ’анонович(р. 1947), скрипач, лауреат конкурса им. ѕаганини, засл. арт. –‘, проф. —.-ѕетербургской консерватории,
√олодный (Ёпштейн) ћихаил —еменович(1903 — 1949), поэт. —тихи песни, баллады: «ѕесн€ о ўорсе», «ѕартизан ∆елезн€к», сборники; стихов о √ражданской войне и BOB. s
√ринберг ћари€ »зраилевна, пианистка, исполнительница сонат Ѕетховена.
ƒавидович Ѕелла яковлевна(р. 1928), пианистка, нар. арт. ———–, лауреат междунар. конкурсов. •
«ак яков »зраилевич(1913 — 1976), пианист, нар. арт. ———– (1966),; проф. ћоск. консерватории, 1-€ прем, междунар. конк. пианистов им. пена (1937).
ац —игизмунд јбрамович(1908—1984), композитор, нар. арт. –—‘—– (1980), √ос. пр. ———– (1950). ѕесни: «Ўумел сурово Ѕр€нский лес», « ак у дуба старого» и др.
ац јрнольд ћихайлович, руководитель Ќовосибирского симф. оркестра, «человек года» (1994).
обзон »осиф ƒавидович(р. 1937), певец (баритон), нар. арт. –—‘—– (1980), √ос. пр. ———– (1984).
оган ѕавел ƒавидович(1918 — 1942), поэт. —тихотворение «Ѕригантина» и др. ѕогиб на фронте.
олмановский Ёдуард —авельевич(р. 1923), композитор, нар. –—‘—– (1981), √ос. пр. ———– (1984). ѕесни: «’от€т ли русские войны», «я люблю, теб€ жизнь», «јлеша» и др.
Ћундстрем ќлег Ћеонидович (р. 1915), руководитель старейтейшего джаза –оссии, нар. арт. –‘.
ћандельштам ќсип Ёмильевич(1891 — 1938), поэт, погиб в √”Ћј√е
ћандельштам Ќадежда яковлевна (1899—1980), жена noоэта - писательница, сохранила поэтическое наследие ћандельштама ќ. Ё.
ћатусовский ћихаил Ћьмонтич(1915 — 1990), поэт-песенник. ѕесни: «Ўкольный вальс», «ѕодмосковные вечера» и др.
ћейтус ёрий —ергеевич(1903 — 1981), композитор, √ос. пр. ———– (1951). ќперы: «ћолода€ гварди€», «ярослав ћудрый», «»ван √розный».
ћессерерјсаф ћихайлович(р. 1903), артист балета, педагог, нар, арт. ———– (1976), √ос. пр. ———– (1941, 1947).
ћиров Ћев Ѕорисович (1903 — 1983), артист эстрады, выступал в сатирическом дуэте с Ќовицким ћ. ¬., нар. арт. –—‘—– (1970).
ћиронов јндрей јлександрович(1941 — 1987), сын ћироновой ћ. ¬. и ћенакера ј. —., нар. арт. –—‘—– (1985).
ќйстрах ƒавид ‘едорович(1908— 1974), скрипач, нар. арт. ———– (1953), лауреат многих премий, в том числе Ћен. пр. (1960), √ос. пр. ———– (1943), проф. ћоск. консерватории.
ќйстрах »горь ƒавидович(р. 1931), сын ƒ. ‘. ќйстраха, скрипач, дирижер, солист ћоск. филармонии, 1-€ преми€ им. ¬ен€вского на курсе в ѕознани.
ќстровский јркадий (јвраам) »льич(1914—1967), композитор, засл. де€т. иск. –—‘—– (1965). ѕесни: « омсомольцы — беспокойные сердца», «ѕусть всегда будет солнце», «√олос земли», «—п€т усталые игрушки» и др.
ѕазовский јрий ћоисеевич(1887 — 1953), дирижер, нар. арт. ———– (1940), худ. рук. и гл. дирижер Ѕольшого театра (1943 — 1948). √ос. пр, ———– (1941, 1942, 1943). ' '
ѕлисецка€ ћай€ ћихайловна(р. 1925), балерина, нар. арт. (1959), √ерой —оц. “р. (1985), Ћен. пр. (1964), р€д международных премий.
ѕокрасс ƒмитрий яковлевич(1899—1978), композитор, нар. арт.;| ———– (1975), —тал. пр. (1941). ћногие песни написаны в соавторстве братом — ѕокрассом ƒаниилом яковлевичем (1905 — 1954). ѕесни: «ћарш Ѕуденного», «ћосква майска€», «≈сли завтра война», «ѕо военной дороге», «ƒан приказ ему на «апад», «’од€т тучи, грозовые облака», «Hа границе тучи ход€т хмуро, край суровый тишиной объ€т», «ѕесн€ артиллеристов», «“ри танкиста», « расна€ јрми€ всех сильней» и др.
ѕугачева (ѕевзнер) јлла Ѕорисовна(р. 1949), нар. арт. –—‘—– (1985) и –‘ (1995), певица Ѕожией милостью.
.
–ахлин »ль€ яковлевич(р. 1922), создатель и руководитель Ћенинградского мюзик-холла, засл. арт. –—‘—–, аз——–, —ев.-ќсет. ј——–.
–еентович ёлий ћаркович(1914 — 1982), скрипач, нар. арт. –—‘—– (1976).
–езник »ль€ –ахмильевич(р. 1941), поэт, √ос. пр. ———– (1986). ѕесни: «¬ернисаж», «ћаэстро» и др.
–ейзен ћарк ќсипович(1895— 1994), певец (бас), нар. арт. ———– (1937), √ос. пр. ———– (1941, 1949, 1951).
–озенбаум јлександр яковлевич(р. 1947), бард, засл. арт. –‘,
–озенфельд ≈фим(данные в –ЌЅ —.-ѕетербурга отсутствуют), композитор, автор попул€рных романсов и танго: «—частье мое € нашел в нашей дружбе с тобой», «я возвращаю ваш портрет» и др.
–ознер Ёдди »гнатьевич(?), руководитель джаза, нар. арт. –—‘—–.
–озовский ћарк √ригорьевич (р. 1941), нар. арт. –‘, гл. режиссер “еатра на ћ. Ѕронной.
–ойзман Ћеонид »саакович(р. 1915), органист, пианист, музыковед, засл. де€т. иск. –—‘—– (1966), проф. ћоск. консерватории. ниги: «—оветска€ органна€ музыка» и др.
–убинштейн јнтон √ригорьевич(18291— 1894), пианист, композитор, общественный де€тель, проф. и дир. ѕетербургской консерватории (1887 — 1891). ќпера «ƒемон» и др.
—лонимский —ергей ћихайлович(р. 1932), сын ћ. Ћ. —лонимского, композитор, пианист, проф. Ћенингр. консерватории. ќперы: «ћастер и ћаргарита», «ћари€ —тюарт», «»кар».
—трок ќскар(данные в –ЌЅ —.-ѕетербурга отсутствуют), композитор, автор попул€рных танго.
“ухманов ƒавид ‘едорович(р. 1940), композитор, засл. де€т. ис –—‘—–. ѕесни: «ƒень ѕобеды», «ћой адрес — —оветский —оюз» и др.
нар. арт. —— (1965), любимец народа, јртист Ѕожией милостью.
‘айер ёрий ‘едорович(1890—1971), дирижер, нар. арт. ——— (1951), дирижер Ѕольшого театра (1923 — 1963). јвтор книги «ќ себе, музыке, о балете».
‘ейнберг —амуил ≈вгеньевич(1890— 1962), пианист и композите засл. де€т. иск. –—‘—– (1937), д. искусствоведени€, проф. ћоск. консе ватории, —тал. пр. (1946).
‘ельцман ќскар Ѕорисович (р. 1921), композитор, нар. арт. –—‘—– (1989). ќперетты, оратории, iimm. «„ерное море мое», «ћир дому твоему» и др.
‘радкин ћарк √ригорьевич([914—1990), композитор, нар. арт. ———– (1985), √ос. пр. ———– (1970). ѕесни: «—лучайный вальс», «Ѕерезы», «“ечет река ¬олга», ««а того парн€», « омсомольцы-добровольцы» и др.
‘ренкель ян јбрамович(1920— 1989), композитор, нар. арт. ———– (1989), √ос. прем. ———– (1972). ѕесни: «–усское поле», « алина красна€», «∆уравли», «ƒл€ теб€» и др.
‘рид √ригорий —амуилович(р. 1915), композитор, засл. де€т, иек, –—‘—– (1986). ћонооперы: «ƒневник јнны ‘ранк», «ѕисьме ¬ан √в–аи
‘ридлендер јлександр √ригорьевич(р. 1906), дирижер, композитор ќперы: «—нег», «“орт в небе»; балеты: « аменный цветок», «Ѕесгф»ƒјЌ* ница», ««о€».
’айкин Ѕорис Ёммануилович(1904—1978), дирижер, нар. арт. ———– (1972), проф. Ћенингр. (с 1935) и ћоск. (с 1954) консерваторий. —тал. пр. (1946 — дважды, 1951).
’айт ёлий(1897 — 1966), композитор. ѕесни: «ћы рождены, чтоб сказку сделать былью» (√имн ¬оздушного флота ———–), «—мена», «Ќаш герб»; романсы: « ороче будут встречи», «ћы с тобой не пара», «я не забуду» и др.
÷уккерман ¬иктор јбрамович(1903 — 1988), музыковед, засл. иск. –—‘—– (1966), д. искусствоведени€, проф. ћоск. консерватор»^'!! (с 1939). «
÷фасман јлександр Ќаумович(1906— 1971), композитор, пианист, дирижер, засл. арт. –—‘—– (1957). /”
Ўаинский ¬ладимир яковлевич(р. 1925), композитор, нар. арт. –—‘—– (1986). √ос. пр. ———– (1981). ѕесни: «ƒрозды», «Ќе плачь, девчонка», «“равы, травы», «”лыбка», «√олубой вагон»,
Ўаферан »горь, поэт-песенник. “ексты песен: «≈сли б не было войл ны», «√л€жу в озера синие», «Ќаши мамы», «Ёто ћосква» и др.
Ўафран ƒаниил Ѕорисович(р. 1923), виолончелист, нар. арт. CCG$ f (1977), √ос. пр. ———– (1952), 1-€ преми€ им. ¬игана на конкурсе в ѕраг^ (1950).
Ўтейнберг Ћев ѕетрович(1870—1945), дирижер, композитор, пар. арт. ———– (1937).
Ўтейнберг ћаксим ќсеевич (1883 — 1946), композитор, засл. де€т. иск. –—‘—– (1934), проф. Ћенингр. консерватории.
Ўуфутинский ћихаил «ахарович(р. 1944), попул€рный исполнитель несен и романсов.
Ёйфман Ѕорис яковлевич(р. 1946), балетмейстер Ћенингр. хорее* граф, училища, руководитель “еатра современного балета (с 1988). ѕрем, «олотой софит-96.
Ёлиасберг арл »льич(1907—1978), дирижер, засл. де€т. иск, –—‘—– (1944), √л. дирижер Ѕольшого симфон. оркестра Ћенрадиокоми-тета (1937 — 1950), 1-й исполнитель —едьмой (Ћенинградской) симфонии ƒм. Ўостаковича в блокадном Ћенинграде.
якобсон Ћеонид ¬ениаминович(1904— 1975), артист балета, балетмейстер, засл. де€т. иск. –—‘—– (1957). —тал. пр. (1951). –аботал в ћари-инском театре, ћалом театре оперы и балета, Ѕольшом театре.
ћетки: прощание слав€нки евреи музыка |
Ѕитва, о которой забыли все... |
ƒневник |
Ѕлестели на солнце железные латы, слышалось ржание огромных конских табунов, утол€вших жажду у берегов —лавутича; воины точили мечи.
ѕришли даже крестоносцы, и киевл€не с удивлением рассматривали диковинные доспехи рыцарей, никогда до этого не заходивших так далеко вглубь слав€нских земель.
ј через несколько мес€цев произошла страшна€ трагеди€...
...Ћишь один небольшой отр€д конных воинов ускользнул от смерти после страшной сечи. ќни бежали, а «татарове вслед их гон€ще, секуще на п€тьсот верст, до града до иева проливаша кровь, аки воду».
“ак упоминает Ќиконовска€ летопись о жестокой битве, состо€вшейс€ на берегу тихой украинской реки ¬орсклы более 600 лет тому назад, 12 августа 1399 года. ѕодробности сражени€ покрыты мраком столетий, почти все русские воины пали на поле брани. Ёта битва не упоминаетс€ в школьных учебниках, неизвестно и точное место, где она произошла.
ќ количестве ее участников можно только гадать. ¬еликий литовский кн€зь ¬итовт, возглавивший общие дружины слав€н, литовцев и крестоносцев, тот самый, который командовал объединенным войском в знаменитой √рюнвальдской битве, вел силу, «великую зело»; одних кн€зей с ним было п€тьдес€т.
ј ведь в знаменитой уликовской битве (1380 год) принимало участие всего 12 удельных кн€зей с боевыми дружинами! »звестный польский историк ѕ. Ѕоравский утверждает, что битва на ¬орскле была крупнейшей в ’IV веке! ѕочему же так мало известно об этом грандиозном по своим масштабам событии?
¬о-первых, очевидцев практически не осталось, т. к. все погибли в этой лютой сече (так утверждает »патьевска€ летопись). ј во-вторых, это было поражение страшное, кровавое! ќ таких не любили писать... ѕо крупицам из русских летописей и работ польских историков попробуем разобратьс€ – что же все-таки произошло жарким летом 1399 года?..
Ўестьсот лет назад иев был небольшим городом, входившим в состав ¬еликого кн€жества Ћитовского. Ќемногочисленные жители занимались привычным ремеслом и торговлей в некогда могучей столице –уси, только-только начинавшей оправл€тьс€ после татаро-монгольских набегов. ∆изнь теплилась в основном на ѕодоле и в районе ѕечерской лавры. Ќо весной 1399 года, как мы уже знаем, город преобразилс€.
¬ нем слышалась речь слав€н и немцев, литовцев, пол€ков, венгров... «десь собрались войска из многих европейских государств и кн€жеств. ќгромна€ арми€, состо€вша€ в основном из полков украинских, русских и белорусских земель, выступила 18 ма€ из иева.
¬озглавл€ли ее кн€зь€ јндрей ќльгердович ѕолоцкий, ƒмитрий ќльгердович Ѕр€нский, »ван Ѕорисович иевский, √леб —в€тославович —моленский, ƒмитрий ƒанилович ќстрожский и многие другие кн€зь€ и воеводы. √лавнокомандующим был великий кн€зь Ћитовский ¬итовт.
–€дом с ним (причудливы изгибы истории!) находилс€ тот самый хан “охтамыш, который объединил на некоторое врем€ ќрду, успел сжечь ћоскву, но вскоре сам был сброшен с ханского престола грозным Ёдигеем. — помощью ¬итовта “охтамыш намеревалс€ вернуть себе ханский престол и также вел с собой дружину.
Ќа стороне ¬итовта участвовали в походе и около ста т€желовооруженных рыцарей-крестоносцев, пришедших из ѕольши и германских земель. — каждым крестоносцем шло несколько оруженосцев, вооруженных не хуже рыцарей. Ќо большинство воинов составл€ли слав€не, собравшиес€ почти со всех концов –уси. ¬ообще, слав€нские земли занимали 90 процентов всей территории ¬еликого кн€жества Ћитовского, которое нередко так и называли Ћитовской –усью.
—лав€нские дружины, помн€ славную победу на уликовом поле, рассчитывали раз и навсегда покончить с татаро-монгольским игом. ¬ойско имело на вооружении даже артиллерию, не так давно по€вившуюс€ в ≈вропе. ќруди€ были довольно внушительные, хот€ и стрел€ли, в основном, каменными €драми. “аким образом, шестьсот лет назад на территории ”краины впервые раздалс€ грохот орудий...
8 августа силы объединенного войска встретились на ¬орскле с армией “имура- утлука, полководца золотоордынского хана Ёдиге€. —амоуверенный ¬итовт выставил ультиматум с требованием покорности. «ѕокорис€ и ты мне... и давай мне вс€к лето дани и оброк». ќрдынцы же, дождавшись подхода союзников крымских татар, сами выставили подобное требование. <br
/>
12 августа началась битва. јрми€ ¬итовта переправилась через ¬орсклу и атаковала татарское войско. —начала успех был на стороне объединенного войска, но затем коннице “имур- утлука удалось замкнуть кольцо окружени€, и тогда началось... ¬ плотной рукопашной битве артиллери€ оказалась бессильной. Ѕольшинство кн€зей и бо€р погибло, «сам же ¬итовт побежа в мале...»</br
“€желовооруженные крестоносцы тоже пали, не усто€в перед татарскими сабл€ми. ѕреследу€ небольшой отр€д чудом спасшегос€ ¬итовта и разор€€ все на своем пути, татары быстро подошли к иеву. √ород осаду выдержал, но вынужден был заплатить «окупь 3000 рублей литовских и ще 30 рублей окремо вз€то с ѕечерского монастыр€». ѕо тем временам это была огромна€ сумма.
»так, от татарского ига в тот век избавитьс€ не удалось. ѕоражение серьезно сказалось и на государственности Ћитовской –уси; скоро ослабевшему ¬итовту пришлось признать вассальную зависимость от ѕольши. ѕосле √рюнвальдской битвы (в которой, кстати, участвовало 13 русских полков из √алича, ѕеремышл€, Ћьвова, иева, Ќовгород-—еверского, Ћуцка, ременца) его положение несколько улучшилось; он даже хотел стать королем, но не смог противодействовать вли€нию польского корол€ ягайла. ”мер ¬итовт в 1430 году, и на –усь двинулись пол€ки... ј если бы итог битвы на ¬орскле был иным?..
ѕечально закончилось это сражение. ќ нем не напоминает ни один пам€тник, ни один обелиск на славной полтавской земле... Ѕитву на ¬орскле военные историки прив€зывают к литовско-польским походам, но ведь основной кост€к войска был русским. «ѕ€тьдес€т слав€нских кн€зей со дружины»!
»х гибель подкосила все последующие поколени€ потомков легендарного –юрика. „ерез несколько дес€тков лет не стало ни кн€зей ќстрожских, ни √алицких, ни иевских, ни Ќовгород-—еверских. ћногочисленные потомки ¬ладимира —в€того, ярослава ћудрого словно растворились, исчезли на нашей земле...
’ладнокровные шведы не забывают своих воинов, убитых под ѕолтавой и пам€тник стоит, и цветы каждый год привоз€т. јнгличане, попав под убийственный огонь русской артиллерии и потерпев кровопролитное поражение в 1855 голу под Ѕалаклавой, частенько приезжают посетить могилы своих предков, павших в далеком рыму. ¬еликолепный белый пам€тник английским солдатам возвышаетс€ в самом центре виноградного пол€.
–аботники винодельческого совхоза периодически подкрашивают его, а трактора бережно огибают во врем€ весенней пахоты. –€дом, на автотрассе обелиск, открытый в 1995 году. Ќо ведь ѕолтава находитс€ на рассто€нии полутора тыс€ч километров от Ўвеции, Ѕалаклава и того дальше от јнглии. ј тут, совсем р€дом, на ѕолтавщине лежат в земле останки наших соотечественников, и нет ни одного мемориального знака, ни одного креста там, где погибло, предположительно, более ста тыс€ч воинов!
≈сть над чем задуматьс€ и чего устыдитьс€ нам, потомкам...
»сточник <http://webstatti.com/velichajshaya-v-mire-bitva-o-kotoroj-zabyli-vse/>
ћетки: украина –усь ¬итовт |
Ѕыло врем€, когда имена имели €сный смысл и значение |
ƒневник |
—лав€нские €зыческие имена
омментарий ’азарина:
ќбратите внимани€, нет имен начинающихс€ на а, потому что в древнеслав€нских €зыках не было слов, начинающихс€ на эту букву, а также на букву ‘, как в украинском, который имеет более древние корни, например новоприобретенное из греческого - ’вЄдор, а не ‘едор.
ћетки: имена слав€не |
√де ты, јртани€? |
ƒневник |
јртани€

ј что если загадочный јркаим и есть столица јртании?

»ли так?


¬ерси€ 1:
¬ерси€ 2:
ћетки: јртани€ ’азари€ русы арии |
»нформаци€ к размышлению: воросу о вопросе... |
ƒневник |
вопросу об этнической истории украинцев.
Ётническа€ истори€ украинцев, и тех, кто донЄс до современности эту доминанту, очень удивительна и неоднозначна. ќна имеет множество нюансов, обраста€ множеством политических спекул€ций. Ќо основна€ беда в еЄ подаче, где выбираютс€ спорные штрихи истории, и наноситс€ псевдоукраинский лоск, лишь на том основании, что это как-то соотноситс€ с территорией современной ”краины. ѕравда в том, что дл€ возникновени€ такой разновидности восточных слав€н нужны были серьЄзные этнические причины в достаточно далЄком прошлом. –оль этого компонента надо искать не столько в политических перипети€х, сколько в самой жизни и развитии всех восточных слав€н и их взаимодействи€. „то не умал€ет несомненных заслуг и особенности украинцев, снова же, перед всеми восточными слав€нами. Ќапример, без их роли трудно представить само складывание современной восточнослав€нской государственности. Ёто вли€ние на становление первоначальной государственности –уси; иевской, Ќовгородской, ¬ладимиро-¬олынской и ¬ладимиро-—уздальской, начина€ с IX века вообще трудно переоценить. ¬ремена «начала –уси» достаточно подробно описаны в письменных источниках, в том числе слав€нских. ажетс€ странным, что поиск истины тут же погр€з в борьбе с «норманизмом», не замеча€ проблем самой слав€нской платформы и источников еЄ этнического складывани€ в восточнослав€нскую общность. √осударственность только подчеркнула мощь образовавшегос€ фундамента. ”краина всегда подразумевалась как источник всего слав€нского, что есть в –оссии и Ѕеларуси. » это бесспорно, слав€нска€ этническа€ подпитка изначальна дл€ них с юга и юго-запада. Ќо €вл€ютс€ ли современные украинцы автохтонами на этой территории, а не последними слав€нскими переселенцами, давшими импульс к перемещени€м предшественников всЄ далее от прародины? Ётот вопрос обрЄл практический смысл ввиду реальной государственности ”краины сегодн€. ¬ поисках национальной идеи и идентичности в ход идут только наци€-образующие и наци€-утверждающие проекты. Ќо несут ли они этническую суть? ћногое говорит о том, что повсеместно осуществл€етс€ подмена пон€тий и манипул€ци€ подход€щими доказательствами. —июминутные задачи борьбы за власть это способно помочь решить, но дл€ выстраивани€ долговременной стратегии этого €вно недостаточно. Ќар€ду с борьбой за собственную незалежность и неделимость, стоит серьЄзный вопрос об украинском этническом вли€нии в сложении российской и белорусской государственностей. Ёто тоже имеет место быть, но до какой степени такие подозрени€ оправданы? ќднако, в период распада и деградации объединительные моменты не так актуальны и востребованы национальными элитами, упивающимис€ обретЄнной творческой вседозволенностью. ¬ данной работе € ставлю задачу проследить трансформацию этнической идентичности, котора€ сегодн€ определ€етс€ как украинска€. »сследование временных промежутков, так же, как в предыдущих работах об этнической истории белорусов и великороссов, будет разбито на равные периоды, что позволит в равной степени отследить весь процесс, не отдава€ предпочтени€ отдельным событи€м. ѕолитические, религиозные, экономические и другие нюансы будут отнесены на второй план, не будем только упускать этническую составл€ющую, котора€ и должна помочь нам распутать толстый клубок парадоксов и непонимани€. Ёто важно, когда ищешь не трещины и доказательства любого разобщени€, а сохран€ешь контекст, в котором разворачиваетс€ тыс€челетний процесс. — начала V века надо четырьм€ блоками продолжительностью по четыреста лет отследить динамику, в которой активно работал протоукраинский этнический субстрат до насто€щего времени. Ёто должно дать нам понимание его места и роли в формировании восточнослав€нской этничности, а так же, следстви€, важные дл€ государственных трансформаций в истории восточнослав€нских этносов. I. - c V по VIII века. ¬о времена готского владычества (II – IV века) слав€не оказались в пределах одного государства и распространились на большей его части. ќб этом говорит то, что „ерн€ховска€ культура германцев после их изгнани€ гуннами осталась как слав€нска€, без резкого перехода. ѕохоже, отношени€ готов и слав€н были вполне гармоничными и взаимодополн€ющими. ”же тогда у готов можно было многому научитьс€, а, главное, узнать путь к Ѕалканам, куда слав€не двинутс€ уже через полторы сотни лет. √уннское нашествие 375г. не только уничтожило готское государство, но и вынудило бывших властителей искать свою судьбу в ёжной ≈вропе. √унны тоже долго не задержались и, двига€сь по ƒунаю, обосновались в ѕаннонии. ќсвободившеес€ пространство между ƒнестром и ƒнепром зан€ли анты, родственники аланов, которые в тесной св€зи с «постчерн€ховцами» слав€низировались, сохран€€ степной образ жизни. ¬ V веке часть слав€н начала пересел€тьс€ вниз, по рекам ƒнестр, ѕрут, —ирет к ƒунаю. —казывалась перенаселЄнность в ѕодолии и ¬олыни, где главенствовал ƒулебский союз 13-ти слав€нских племЄн. ¬осточные склоны арпат до ƒнестра были редко заселены разрозненным германо-кельто-фракийским населением, которое ассимилировалось многочисленными пришельцами. ¬изантийские источники называют слав€н «склавинами», а сами себ€ они именовали «словене», так и мы будем их называть в данном исследовании. VI век ещЄ больше усугубил ситуацию в ѕричерноморье. — левой стороны реки ƒнепр, на земли антов стали проникать болгары, которых из-за ƒона теснили другие тюркские союзы. ћежду ƒнестром и ѕрутом анты нашли, уже родственных им словен, с которыми стали селитьс€ р€дом и вместе. Ќачалс€ период активных нападений антов и словен на границы и земли ¬изантийской империи. ѕоходы были достаточно удачные, что обогатило слав€нскую знать и дало ей пон€тие о государственном устройстве. «а этот недолгий период в три дес€тка лет, на Ѕалканах побывали не только анты и словене, но и дулебы и лендз€не (союз «ападнослав€нских племЄн к западу от «ападного Ѕуга), что ещЄ более уплотнило слав€нское население от арпат до ƒнестра. —лав€нские поселени€ по€вились в долине нижнего течени€ ƒуна€, столкнувшись с более плотным романским населением, которое сформировалось ещЄ со времЄн римских завоеваний. ¬ начале 2-й половины VI века в ѕричерноморье произошла очередна€ катастрофа – аварска€. јнты потерпели сокрушительное поражение, покинув степи, окончательно растворившись в слав€нском мире. „асть их ушла с аварами к северным склонам арпат, “атр, —удет, друга€ часть окончательно смешалась со словенами, заселив нижнее ѕодунавье и восточную часть будущей “рансильвании – ќлтению (бассейн р. ќлт). VII век дл€ слав€н, особенно западных, был исключительно динамичным и привЄл к многочисленным переселени€м. ƒунайско- арпатские словене тоже оказались вовлечены в войны авар против ¬изантии, на стороне первых. ¬изанти€ с трудом удерживала арабское нашествие в ћалой јзии. јварский каганат тер€л свою силу, распада€сь на отдельные части, слав€нска€ самосто€тельность всЄ более возрастала. ¬ начале VII века был запущен процесс, последстви€ которого удивительным образом сказались на судьбах южных и восточных слав€н. ¬добавок к ’орватскому —оюзу, освободившемус€ от власти аваров, в »ллирию из Ѕогемии пришли сербы. —лав€нское население настолько уплотнилось, что из междуречь€ рек —авы и ƒуна€ на восток было выдавлено романское население. ѕо пути, вниз по течению ƒуна€, к ним присоедин€лись всЄ новые и новые беженцы, они и расселились на равнине по левому берегу ƒуна€. Ёта местность по имени пришельцев, волохов, стала называтьс€ ¬алахией. –оманское население возросло настолько, что стало доминировать, притесн€€ словен. ¬ середине VII века аварский каган назначил хана увера, что бы тот упор€дочил романские поселени€ по р. “иса, в итоге чего, и эти волохи ушли к нижнему ƒунаю. ћестные волохи – данубии, примкнули к родственным пришельцам и установили св€зь с ¬изантией. —ловенский «—оюз семи родов» самосто€тельно не мог эффективно противосто€ть ползучему вторжению волохов, а, обраща€сь к посредничеству »мперии, результат был ещЄ более предсказуем, она поддерживала христианских единоверцев. —ловен ¬алахии ждала судьба слав€н, растворившихс€ в √реции, но тут вмешалась в ход событий нова€ сила, к нижнему ƒунаю подошла болгарска€ орда хана јспаруха. Ѕолгары более трЄх дес€тков лет сдерживали на ƒнепре давление хазар, которые создали мощное государство от ¬олги и ƒона до —еверного авказа, но к концу VII века покинули ѕричерноморские степи и ушли за ƒнестр. «десь они нашли удобные места дл€ расселени€ в ћалой —кифии (ƒобрудже), распространились по ¬алахии и нижнему ƒунаю. Ќачались их продолжительные войны с ¬изантийской империей. ќтношение болгар к слав€нам было достаточно прагматичным, их устраивало такое соседство, а в военных походах они могли рассчитывать в их лице на надЄжную пехоту. ќднако, союз «семи племЄн» болгары распустили, переселив эти племена в регионах, где хотели укрепить свои позиции. √лавенствовавших в —оюзе северов поселили по ƒунаю, на границе с »мперией. ¬олохи у болгар довери€ не вызывали, так как они видели в них христианских единоверцев своих противников – ромеев. „асть волохов бежала в беспокойную ¬изантию, сотр€саемую войнами и внутренними смутами, друга€ часть – в ёжные арпаты, где было намного спокойнее, и проживали знакомые им словене. — этого момента и весь VIII век волохи выдавливали слав€н из ќлтении и ћунтении (“рансильвани€). ќни рассел€лись в слав€нских же поселени€х и начинали преобладать во всех сферах, ассимилиру€ недавних аборигенов. Ќо больша€ часть слав€н стала уходить через арпатский хребет на север и восток, возвраща€сь в долины —ирета, ѕрута и ƒнестра. Ётот разрыв положил начало разделению словен на тех, кто осталс€ на Ќижнем ƒунае и в этногенезе с тюркскими болгарами сохранил слав€нскую доминанту и тех, кто вернулс€ на свою прародину через три века. ѕервые стали восточной частью южнослав€нского мира, а вторые изменили и оформили восточнослав€нский мир, придав ему динамику и начала цивилизованной государственности, опыт которой они видели на Ѕалканах. ѕродолжающеес€ соперничество болгар и хазар, выливавшеес€ в сражени€ между ƒнестром и ƒунаем выжимали словенское население всЄ более на север, вверх по течению рек. ¬ ѕаннонии ситуаци€ к концу VIII всЄ более усугубл€лась, агони€ јварского каганата после слав€нских восстаний, войн с франками и внутренних смут всЄ более приближала его конец. ¬ современном «акарпатье и по реке “иса проживало большое количество слав€н, переселЄнных сюда после аваро-гепидских и аваро-лангобардских войн. —реди них были племена пол€н, смол€н, лупоглавов, названи€ которых скоро по€в€тс€ на —реднем ƒнепре. Ѕолее поздний летописец упоминает об их происхождении «от л€хов», где тоже проживали такие племена лендз€н. ≈сть одно обсто€тельство, которое позволит рассмотреть ситуацию в северо-восточном ѕрикарпатье в середине VIII века. — Ѕалкан, из северной »ллирии туда вернулась часть хорват, бывших антов, которые там уже проживали, уход€ от аваров два века назад. √ораздо позже, упомина€ о слав€нских племенах, летописцы говор€т о проживании Ѕелых ’орватов в верховь€х ƒнестра. ѕолучаетс€, что пол€не, смол€не и лупоглавы могли быть вытолкнуты к востоку, на ƒнепр приходом хорватов, а, значит, туда они переселились ранее, и, скорее всего, из «акарпать€. ѕереселение их из современной южной ѕольши выгл€дит не логично, так как в это врем€ происходило мощное продвижение западных слав€н по ¬исле на север и ќдре на северо-восток. Ётническое единство закарпатских пол€н с карпатскими словенами не вызывает сомнени€, и в дальнейшем, кроме самоназвани€, ничем их выдел€ть не будет. ¬ VIII веке словенское присутствие в современной лесостепной ”краине становитс€ доминирующим, а племена ƒулебского —оюза, всЄ более разъедин€€сь, уходили в лесную зону ¬олыни. јктивно происходит переход дулебских племЄн в словенскую этническую доминанту, в том числе €зыковую. началу государственности (IX веку), дулебский этнический образ могли сохранить только полешуки, дреговичи и древл€не, которых киевские пол€не считали «дикими, аки звери, живущими по-скотски». ¬ конечном итоге, от дулебской этнической сущности остались только дреговичи и та часть полешуков, берзичей, древл€н, жеревичей, радимичей, которые ушли с ними за ѕрип€ть или попали в их сферу вли€ни€. “ак происходил этногенез современных белорусов, наследников дулебской истории II – VIII веков. ќни так и останутс€ северными сосед€ми украинцев, но граница их порубежь€ будет постепенно смещатьс€ на север. VIII век отмечаетс€ всплеском градостроительства у восточных слав€н. ” союзов племЄн возникают мощные укреплЄнные центры, а в каждом племени — по несколько крепостей, контролирующих территорию расселени€. —мещение последних словен (тиверцы и уличи) от ƒнестра происходило к среднему ƒнепру, а степна€ зона всЄ более контролировалась тюрками, подвластными ’азарскому каганату. Ќесмотр€ на формальную зависимость от хазар с выплатой некоторой дани, словене, пол€не, смол€не и в€тичи подвергались и пр€мому притеснению, делавшему невозможным их развитие и существование в степи. ѕоэтому, уже в VIII веке отмечаютс€ переселени€ слав€нских племЄн далеко на север, смол€не и лупоглавы осели выше по ƒнепру, друга часть словен, перейд€ «ападную ƒвину, по р.Ћовать достигла озера »льмень, в€тичи по р.ќка достигли ¬олги. ќбращает внимание, что смол€не, словене и в€тичи осели в земл€х, уже освоенных кривичами, то есть, уже в слав€нской среде. ћеста их расселени€ очень не случайны, это места на оживлЄнных торговых пут€х. –азница в образе жизни и историческом опыте словен и кривичей ещЄ более значительна, чем с дулебами, поэтому словенам не составило труда структурировать это общество по своему разумению, не встреча€ конкуренции, и без давлени€ грозных хазар. ’арактеризу€ словенскую общность V – VIII веков с этнической стороны, заметно отличие от дулебов и кривичей большим участием в их этногенезе антского элемента. концу данного периода потомки антов в виде сербов и хорватов освоились в »ллирии, белые хорваты ещЄ сохран€лись в „ервенской земле и до ракова, дава€ начало польской государственности. «а ƒнепром, на Ћевобережье ещЄ сохран€лс€ полукочевой слав€нский —оюз север€н. јнтска€ истори€ в ѕричерноморье давно закончилась, но она ещЄ долго будет сказыватьс€ в судьбе восточных слав€н ”краины. II. - c IX по XII века. —ледующий период дл€ восточных слав€н лучше известен, несЄт свой оригинальный опыт государственности и взаимодействи€ в окружающем мире на новом уровне. Ётнические процессы продолжали формировать восточнослав€нскую общность, перераспредел€€ и акцентиру€ роли близкоэтнических элементов. Ётот период по праву можно назвать «словенско-украинским». ѕерва€ половина IX века проходила в борьбе, предшествующей государственности. ¬елась она именно в центрах расселени€ уже укоренившихс€ на новой-старой родине дунайско-карпатских словен. Ћегко она проходить не могла, предсто€ло утвердитьс€ не только в смысле организации власти, но и в этническом доминировании, создающем платформу дл€ этой самой власти. ¬ ѕрикарпатье словене, в виде волын€н и бужан, которые простились с дулебским прошлым, конкурировали с белыми хорватами, что задержало их победу. Ќа »льмене словене должны были создать видимость гармонии с кривичами, которые уступали в организованности, но контролировали огромные территории, хорошо адаптировавшись в финском окружении. Ќа среднем ƒнепре словене, в виде пол€н, успешно противосто€ли древл€нам, но уступали в военном отношении левобережным север€нам. Ёто не помешало им укрепитьс€ и развить успешную торговлю в иеве, который стал тем перспективным центром, вокруг которого и формируетс€ государственность. этому надо прибавить мощное хазарское вли€ние, не способствующее внутреннему развитию. »стори€ в€тичей на ¬олге слабо изучена, но процессы должны были происходить и там, что послужит через полтора-два века мощному подъЄму —еверо-¬осточной –уси. Ќо был и другой опыт. —мол€не и лупоглавы, укрепл€€сь на верхнем ƒнепре, окончательно растворились в местных кривичах, оставив им только своЄ название. –адимичи, позже других пришедшие на р.—ож тоже оказались поглощены распростран€ющимис€ выше по ƒнепру дреговичами. Ќовым фактором IX века стал всЄ более увеличивающийс€ поток вар€гов – скандинавских воинов германского происхождени€. »х военные отр€ды активно осваивали торговые пути, разбойнича€ и бер€ под контроль дальнюю торговлю. »х роль в оживлении цивилизационного процесса спорна, где-то они несли организационную суть, а где-то неисчислимые страдани€ и деградацию. ¬ норманнской теории возникновени€ восточнослав€нской государственности много слабых мест, которые предпочитают не замечать «западники». ¬ар€жска€ централизаци€ не касалась контрол€ этнической территории слав€н, как это пытались делать хазары, их задачей была только военна€ добыча, и этому подчин€лось всЄ. ”частие слав€н в воинских братствах вар€гов могло быть только индивидуальным и не носило массового характера, где могло растер€тьс€ всЄ скандинавское. Ўвеци€ и ƒани€ тех времЄн ещЄ не обладали каким-то выдающимс€ опытом государственности сами, да и вар€ги не были представител€ми интересов этих государств, скорее, изгои и искатели наживы и приключений. ѕоэтому, видеть в «норманизме» какой-то подарок свыше дл€ бедных слав€н – упрощение и непонимание сути их внутреннего развити€, пружин, приведших их к готовности к созданию государства, в том числе этнических. “ак или иначе, но во второй половине IX века государственность возникла и в Ќовгороде и в иеве, а в короткое врем€ объединила оба этих центра. ¬о главе еЄ сто€ла вар€жска€ династи€ –юриковичей, котора€ быстро порвала свои св€зи со —кандинавией и искала опору в своих слав€нских подданных. Ќачалс€ процесс создани€ не только этнического единства восточных слав€н, но и нации, объединЄнной в одном государстве. ак это часто бывало в слав€нской истории, они с лЄгкостью брали на себ€ название тех, чьими подданными они €вл€лись. –аспространившеес€ самоназвание «русы», дало и название государству – –усь. ¬ исторической литературе распространение получило название – иевска€ –усь, по названию своего центра, где был ¬еликий стол, сидел ¬еликий кн€зь. —амым замечательным было то, что первый опыт государственности оказалс€ объедин€ющим дл€ словен, дулебов и кривичей, которые до этого не имели раздел€ющих границ между собой. Ќе в этом ли причина восточнослав€нской т€ги к восстановлению этого единства после трудных периодов истории? ≈сли это так, то это плоха€ новость дл€ современных националистов. — усилением молодого государства, стала мен€тьс€ и обстановка на степных рубежах, ’азари€ начинала ослабевать, в ѕричерноморье прорвались их враги – печенеги. Ёти тюркские кочевники были столь же тревожны дл€ слав€н и угрожающи дл€ юго-восточных рубежей, но их можно было привлекать как противовес дл€ хазарской угрозы. ¬ конце IX века к ƒунаю прошла волна кочевых угров, мадь€р, венгров. ќни поселились в ѕаннонии, надолго взбудоражив политическую ситуацию в центральной ≈вропе. ƒл€ западных и южных слав€н венгры стали разделом, который существует и сегодн€, вызвав новые волны переселений. »з «акарпать€ пришли новые остатки словен, а вытесненные волохи из “рансильвании выжали и ассимилировали последних слав€н между арпатами и ƒнестром, положив начало романской ћолдове. Ќовый прилив переселенцев к верховью ƒнестра уничтожил воспоминание о Ѕелой ’орватии, создав галицко-волынскую общность на словенской основе, продолжив ассимил€цию полешуков как дулебов и вытесн€€ дреговичей за ѕрип€ть. —еверо-западна€ ”краина стала консолидироватьс€ в современном этническом виде, укрепл€€ основу иевской –уси. X век стал расцветом централизованной €зыческой –уси. ѕоходы ¬еликого кн€з€ —в€тослава уничтожили ’азарию как государство, а печенеги перестали представл€ть угрозу дл€ мощного государства. ѕоходы в Ѕолгарию и отношени€ с ¬изантией приобщили иевскую –усь к европейской цивилизации. —лав€нское лицо иевской –уси, несомненно, даже соседи перестали различать вар€жских руссов и слав€н. Ќе стоит обманыватьс€, что, прин€в под вли€нием государственности самоназвание, русские или русичи, потомки кривичей, дреговичей и словен утратили свою этническую сущность. ѕодданство, вероисповедание тогда ещЄ не €вл€лось заменой этничности. —ловенска€ модель иевской –уси прочно основывалась на оси иев – Ќовгород, развива€сь от иева к ¬олыни и от Ќовгорода по течению ¬олги. ќба этих центра скрепл€ли широкую полосу, населЄнную дреговичами, кривичами и север€нами. ќкраинные финские земли на севере активно колонизовались словенами ильменьскими и в€тичами. ѕол€не с волын€нами держали южные рубежи против тюркских кочевников. ѕрин€тие христианства в конце X века €вилось необходимым атрибутом государственной цивилизованности в понимании той эпохи. онечно, это не могло не изменить мироощущени€, и должно было создать неравномерное отношение к новому культу в разных регионах. ¬идимо, словене, как более государствообразующие, должны были стать во главе христианизации, как опора государственности. ¬ XI веке про€вились новые факторы, как внешние, так и внутренние. »з первых, произошла замена печенегов на половцев, которые в силу своей агрессивности создали большие проблемы в ѕричерноморье. ≈сли их набеги могли отражатьс€ организованными походами русских войск, то внутренние проблемы решались с большим трудом. Ётот период в исторической литературе называетс€ феодальной раздробленностью. ‘еодальную раздробленность прин€то объ€снить как €вление, св€занное с несовершенством престолонаследи€, которое приводит к региональной самосто€тельности и уничтожению центральной власти. концу XI века в пределах иевской –уси существовало уже восемь достаточно крупных, сильных и устойчивых центров. ќбращает на себ€ внимание, что земли южных кривичей выделились как ѕолоцкое и —моленское кн€жества. ќни не растворились в словенах, несмотр€ на то, что тоже считали себ€ русскими. »х земли разделили –усь на северную и южную, подорвав намечающуюс€ этническую однородность. „ерез несколько веков, именно в их земл€х начнЄтс€ новое объединение русских земель, но до этого произойдЄт очень много событий разного масштаба и разных последствий. Ќамечалс€ вариант, способный соединить южных и северных словен, но дл€ его реализации не было отпущено достаточно спокойного времени. XI веку общие задачи и близость практически соединили пол€н и север€н. иев и „ернигов, если бы им не мешали династические распри и степные соседи, могли создать ту основу, котора€ прот€гивалась до –€зани, и далее к в€тичской земле. Ќо эта св€зь оказалась слишком хрупкой и рвущейс€. ј всЄ пространство от ƒнестра до ћурома уже называлось ”крайной. XII век только усугубил ситуацию государственной деградации иевской –уси на основе иевско-Ќовгородской св€зи. ќсновные центры словен стали смещатьс€, северной –уси, от Ќовгорода к ¬ладимиро-—уздальской, южной – от иева к √алицко-¬олынской земле. ƒаже как центр, иев уже никого не устраивал, началась внутренн€€ этническа€ «пересборка» восточнослав€нского государства. –аспад коснулс€ не только крупных кн€жеств, дробление постигало и более мелкие уделы. ”же никто не помнит и не представл€ет, насколько счастливы были люди многочисленных кн€жений, но счЄт потерь в пользу более сплочЄнных соседей уже началс€, а трудные времена были уже на пороге. ѕолитика доказала, что может вредить осуществлению этнических задач. ќбобща€ весь период, надо отметить, что словене сыграли ведущую роль в возникновении восточнослав€нской государственности. Ётот опыт единства в дальнейшем много раз ещЄ будет побуждающим мотивом к единению. »сторическа€ пам€ть сохранила напоминание, что территори€ ”краины €вл€етс€ нашей общей восточнослав€нской колыбелью. √осударственный опыт формировани€ иевской –уси оказалс€ ограниченным в своЄм развитии в силу многих причин. Ётнические причины указывают на разорванность словенских центров, которые недостаточно интегрировали к себе близкоэтнические пространства. ≈му на смену придЄт централизаци€, котора€ будет прирастать периферией, централизу€ все св€зи, в том числе и этнические. III. - c XIII по XVI века. XIII век несЄт в себе большую драму дл€ восточнослав€нских кн€жеств, остатков иевской –уси. ѕосле битвы на алке в 1223 г. ¬торжение монголов уже не могло стать неожиданностью, это стало вопросом времени. –азгром северо-восточных кн€жеств в 1237г. поставил точку в плавном поиске и организации новых центров силы. ћонгольский поход 1240г. окончательно закрыл воспоминание о иевской –уси, избежали разгрома территории Ќовгорода, ѕолоцка и —моленска. Ќовгород уже не представл€л собой центра силы, как это было в IX веке, словенска€ прослойка, владе€ кривичской землЄй, сосредоточилась на торговле и обустройстве местного благополучи€. ѕо такому же пути пошли остатки разгромленных и подвластных татарам ¬ладимиро-—уздальских земель, центром всЄ более становилс€ Ќижний Ќовгород на ¬олге. заслуге двух Ќовгородов можно отнести только освоение северного кра€ до самого ”рала. »х вклад в борьбу за освобождение и объединение восточных слав€н будет минимален, без особых инициатив. Ќа этом их этническа€ св€зь с иевом окончательно потер€лась, они уже не войдут в общность, которую мы будем называть украинцами. —осредоточимс€ на положении южнорусских кн€жеств. иевска€, „ерниговска€ и ѕере€славска€ земли окончательно деградировали и, даже, обезлюдели. „ерез дес€тки лет иев не был восстановлен даже на дес€тую часть, жить на границе с ќрдой, где неуЄмна€ агрессивность чередовалась с периодами внутренних смут, было невозможно. ∆изнь сосредоточилась только на западе, в √алицко-¬олынской земле, там правили незаур€дные кн€зь€, ƒаниил, Ћев, –оман. ¬ременами, им удавалось теснить сильных соседей – ¬енгрию, ѕольшу, Ћитву, договариватьс€ с татарами, не допуска€ повторных опустошений. Ќе без оснований можно утверждать, что новый этап этнического и государственного «украинства» начал возрождатьс€ с запада. ≈сть ещЄ один момент, который характеризовал борьбу √алицко-¬олынского кн€жества с Ћитвой. ѕосле убийства литовского кн€з€ ¬ойшелка, Ћев ƒаниилович √алицкий претендовал на стол ¬еликого н€з€ Ћитовского. Ёта попытка провалилась, но само стремление к собиранию –уси незамеченным не осталось. XIV век в судьбе ”краины был ещЄ более сложным и принЄс новые испытани€, отодвинув объединительные задачи. ќслабление √алицкого и ¬олынского кн€жеств на фоне усилени€ Ћитвы и ѕольши к середине века привЄл к их разделу между сопредельными государствами. ѕричЄм, ¬олынь вызвала трени€ между Ћитвой и ѕольшей, а √алич войну между ѕольшей и ¬енгрией. ¬олынь перешла в подданство Ћитовскому кн€зю √едемину вместе с ѕодолией и иевской землЄй. »х объединение в рамках ¬ Ћ можно было бы приветствовать, если бы это изменило их положение. «ависимость от Ћитвы не освободила от ќрдынской дани и регул€рных нападений, а статус в ¬еликом н€жестве был даже не второстепенный. ƒл€ √алича началс€ длительный период изол€ции от остального восточнослав€нского мира, что наложило отпечаток даже на его место, даже в составе самой ”краины. √аличина всегда будет рассматриватьс€ как некий противовес остальной, «степной ”крине» и спорной территорией между восточными и западными слав€нами. ”местно вспомнить об аналогичной ситуации времЄн Ѕелой ’орватии и „ервенской земли. ¬ XIV веке обозначилось противоречие в религиозном вопросе. ≈сли приход христианства выгл€дел как объедин€юща€ дл€ восточных слав€н государственна€ идеологи€, то католическое вли€ние грозило, как и государственные границы, очередным этническим расколом. — 1385г., после ревской ”нии, началось активное сближение ѕольши и Ћитвы при поддержке пропольскоориентированной шл€хты. атолицизм становилс€ привилегированной верой, принадлежность к православию опускало восточнослав€нское население на ещЄ более низкий уровень беззащитности и бесправи€. “ак государство способно смещать этнические акценты. XV век на ”краине сохранил статус-кво, но наметились и некоторые тенденции, которые про€в€т себ€ позднее. –азница в положении украинцев польской и литовской частей становилась значительной. ¬ √алиции формировалось польско-католическое местничество, в украинской Ћитве, на татарском порубежье складывалась общность казачьей вольницы без твЄрдой власти сверху. ¬еликое н€жество Ћитовское (¬ Ћ) начинало ослабевать. Ќа смену пассионарным балтским кн€зь€м приходили поколени€ посредственных правителей, всЄ более зависевших от ѕольши. »х этническое вли€ние на ”краине ощущатьс€ не могло, балтское начало себ€ исчерпало, а слав€нское в Ѕелой –уси само попадало под польско-католическое давление, не способству€ развитию и единению восточных слав€н. ¬ этот же период окончательно закрепилось первенство ћосквы в освобождении от татарского владычества и объединении восточнослав€нских земель. –азрешилось соперничество с “верью, которое закрепило доминанту кривичского этнического начала в новой сборке –уси, которую уже можно было называть –оссией. ѕрослеживалась достаточно чЄтка€ тенденци€ к еЄ расширению, и этот проект государственности получал всЄ большую этническую поддержку. ¬ этот век окончательно в орбите ћосквы утвердились ¬ладимиро-—уздальские (в€тичские) земли, а поход »вана III положил конец видимости словенской самостийности в ¬еликом Ќовгороде. ѕопытка сыграть на религиозных и пролитовских настроени€х дорого обошлась торгово-купеческой знати, разосланные по отдалЄнным северным и восточным земл€м, они больше в Ќовгороде не доминировали. “ам возродилась древн€€ кривичска€ суть, ставша€ ещЄ одной опорой российской государственности. ¬ ходе борьбы с татарами –€занска€ ”краина закрепилась за ћосквой, положив начало присоединени€ —еверских земель. ѕоследующа€ война с ¬ Ћ расширила пределы владений »вана III до „ернигова с выходом к ”краине. Ёто рисовало картину будущих устремлений и не могло гарантировать спокойстви€ «добрых соседей». XVI век оправдал все тенденции и предвидени€, превратив их в результаты. ƒвижение ћосквы было таким мощным во всех направлени€х, что государственный организм не успевал адаптировать свою форму власти к месту в расшир€ющемс€ поле и системе управлени€. ѕоэтому, к концу века произошЄл откат, выразившийс€ в ¬еликой —муте, но даже это не могло остановить столь успешно запущенный проект. ¬ойны с ¬еликим кн€жеством Ћитовским в первой половине XVI века были дл€ ћосквы успешными и приводили к многочисленным случа€м отложени€ знатных особ в подданство московского цар€ вместе со своими земл€ми и людьми. ќднако, ћосква не создавала идеальные услови€ и стимулы дл€ массового присоединени€ слав€нской Ћитвы и достаточно жЄстко относилась к новым подданным. Ќаиболее показательна безуспешна€ попытка присоединени€ ”краины к ћоскве усили€ми аневского старосты ƒмитри€ »вановича ¬ишневецкого. ќн контролировал ѕоднепровье от иева до ƒикой степи, построил мощную крепость на острове ’ортица. ѕоднима€ в поход тыс€чи казаков, громил татар „ерного мор€ и ѕерекопа. ¬ 1556 г. »ван IV получил пр€мое предложение ƒмитри€ ¬ишневецкого, чтобы «его государь пожаловал и велел себе служить». ѕолитические интересы ћосковского царства пошли в разрез с этническими интересами, как это часто бывает. ѕодготовка к Ћивонской войне, котора€ началась через два года, требовала мирных отношений с Ћитвой и ѕольшей, которые были бы разрушены присоединением ”краины. »де€ «прорубить окно в ≈вропу» очередной раз всех обманула и отвлекла. Ћивонска€ война зат€нулась на четверть века, потребовав огромных затрат и оставив –оссию без приобретений, что указывает на приоритет этнических целей над политическими и экономическими корыстными интересами. ѕо иному она повли€ла на, казалось бы, безнадЄжную ситуацию в Ћитве и ѕольше. ” них по€вилс€ шанс, благодар€ российскому разгрому Ћивонии, договоритьс€ со шведами по территори€м и объединитьс€ в –ечь ѕосполитую. »де€, выразивша€с€ в Ћюблинской ”нии 1569г., витала уже два века. Ќежелание католической шл€хты Ћитвы со временем оказатьс€ под рукой ћосквы диктовало растворитьс€ в польской государственности, пренебрега€ этническими интересами своих восточнослав€нских подданных. ѕольша не испугалась во врем€ Ћивонской войны пойти ва-банк, в итоге приобрет€ огромные земли вне своей западнослав€нской этнической территории. —удьба ”краины усугубилась ещЄ больше, она перешла в пр€мое подчинение ѕольской ороны, воспоминание о литовской бытности растворилось в новых реали€х. ¬ составе ѕольши √алици€ вновь соединилась с ¬олынью, ѕодольем и киевской землЄй. Ќо разница двух ”краин уже обозначилась, если не в этническом смысле, то в ментальности и образе жизни. ≈сли √алици€ обретала мещанско-католический облик, то остальна€ ”краина склон€лась к казацкой вольнице. азачество, как слав€нский феномен, восходит ещЄ к антскому опыту, когда на степной границе по€вились слав€но€зычные всадники и поселени€, как адекватный ответ иранским и тюркским сосед€м. Ќа данном витке истории, казачество базировалось на словенской и северской этнических основах, что не мешало ему подпитыватьс€ и иноэтническим элементом, распростран€€сь на ¬олгу, ”рал и —ибирь. ѕрисоединение к –усскому государству средней и нижней ¬олги и ƒона, выход на авказ к “ереку и убани осуществл€лс€ при мощной поддержке южнорусского казачества. ќно имело одни задачи и похожий этнический тип, как и украинское, часто называемое ћолорусское казачество, казачество ћалой –уси. —амо воспоминание о совместном политическом прошлом, объедин€ло казачество, –усь и –осси€, православие, замен€ло даже понимание этнического родства, которое подразумевалось само собой. «адача борьбы с татарским ханством и “урцией стало выгл€деть не как пассивное сопротивление, а как видимый результат совместных усилий. „его нельз€ сказать о государственном сотрудничестве –оссии и ѕольши, их противосто€ние наносило непоправимый ущерб общеслав€нскому делу. –азменной монетой их устремлений и полем сражений неоднократно становились бывшие литовские земли. ≈сли –осси€ стремилась к восстановлению восточнослав€нского мира, то ѕольша была заинтересована в его расколе ради своей терп€щей бедствие на германском западе, государственности. Ётот спор должен был исторически разрешитьс€, противосто€ние достигло кульминации, русска€ модель про€вл€ла свои преимущества, в том числе, благодар€ этническому ресурсу, который про€вил себ€ особенно €рко в борьбе за ”краину, котора€ и подорвЄт в будущем польскую государственность. ќбобща€ весь период развити€ украинской этничности с XIII по XVI века, надо отметить т€жЄлые услови€, в которых оказались эти восточные слав€не вследствие разобщени€ и иноэтнической зависимости. ¬ойны, малые и большие, сплачивали украинцев, но многочисленные поражени€, уничтожени€ и гнЄт ставили под вопрос само существование слав€н на своих самых древних земл€х. ¬ этот период про€вилась вс€ губительность отсутстви€ своего государственного проекта от раскола иевской –уси и до начала перехода украинских земель под власть –оссии. ≈го ещЄ предсто€ло выстрадать следующими двум€ веками – вот она цена этнического раскола и счастье быть игрушкой в руках судьбы. IV. - c XVII по XX века. Ќачало XVII века ознаменовалось ¬еликой смутой государства ћосковского. Ёто €вление достаточно детально разбиралось и осмысливалось на прот€жении четырЄх столетий многими поколени€ми историков и политиков. ¬ данной работе нас может интересовать только участие и роль этнических украинцев в этих событи€х и последстви€, которые сказались на их судьбе. Ќесмотр€ на элементы интервенции, борьба развернулась именно в стиле √ражданской войны. ћногие историки подметили в ней борьбу двух укладов, названых «мещанским» и «казацким». ¬ этом смысле –осси€ и ”краина были очень похожи, казацка€ составл€юща€ была как защитным, так и государственно дезорганизующим элементом. Ќе случайно, все походы Ћжедмитриев и восстание Ѕолотникова (1606-1607 гг.) начинались на российско-украинском рубеже. Ќеудивительно, что дес€тки тыс€ч казаков пополнили толпы бесчинствующих банд, хоз€йничавших в центральной –оссии, не особо выбира€ кому служить, и не забот€сь о политическом будущем ¬еликой страны. ћногим удалось сколотить огромные состо€ни€ и, даже, сделать карьеру, благодар€ своему чутью и правильному выбору ставленников. ак итог, казачество показало свою бесперспективность в деле государственного строительства в –оссии, но дл€ ”краины оно своей освободительной роли ещЄ не сыграло. ”краинское казачество уже не желало терпеть притеснени€ королевской власти, а, тем более, безнаказанности магнатов. ѕерва€ половина XVII века ознаменовалась на ”краине ещЄ более масштабными казацкими войнами, они были способны потр€сать основы польской государственности. ¬ этой борьбе сплачивалась украинска€ этничность, противопоставл€вша€ себ€ западнослав€нскому миру, отверга€ католицизм и своЄ «хамское» положение в польском государстве. ¬ этой борьбе было много отча€ни€, безысходности, отсутстви€ перспективы. √ибли люди, союзники были ненадЄжны, а плодами слав€нской усобицы пользовались вчерашние враги, татары и турки. ¬ этой обстановке вновь и вновь вставал вопрос столетней давности, о подданстве ”краины российскому √осударю. Ётническое основание уже давило на прин€тие политических решений. Ѕорьба казаков под руководством Ѕогдана ’мельницкого не могла не закончитьс€ ѕере€славской –адой. ƒело даже не во враждебности польского государства, а в близости задач, которые сто€ли как перед ”краиной, так и в южной –оссии и безусловной этнической св€зи восточнослав€нских элементов. ћассовое бегство украинцев на левый берег ƒнепра и возможность поселитьс€ в верховь€х и притоках ƒона на земл€х московского цар€ привели к заселению этих территорий. —оздалс€ тип южнорусской этнической среды, как части русско-украинской общности восточнослав€нского мира. Ёта общность до сих пор существует в переходных соотношени€х в ѕричерноморье и на —еверном авказе. Ќачало новой совместной –оссийской государственности стало примером дл€ ѕравобережной ”краины. —ама –осси€ поворачивалась к своей европейской сути, а прин€тие «украинской» версии православи€ вызвало церковный раскол и жЄсткую борьбу со староверами. “ак по€вилась цель последующей освободительной борьбы украинцев или малоросси€н, котора€ могла сдерживатьс€ только межгосударственными отношени€ми –оссии и ѕольши. XVIII век окончательно переломил ситуацию неопределЄнности, начина€ с —еверной войны, российское присутствие в ѕольше всЄ более расшир€лось. ”краинское казачество всЄ более включалось в выполнение задач, решаемых российским государством, а измена гетмана ћазепы была последней крупной, завершавшей период неопределЄнности и вариантности будущего ”краины. –оссийска€ импери€ XVIII века была уже таким государством, прот€нувшимс€ от Ѕалтики до “ихого океана, что будущее слав€нского мир уже рассматривалось через призму его успехов. ”же весь слав€нский мир подпитывал эту империю, где можно было реализовать себ€ в полной мере, станов€сь полноправной частью ≈вропы и властелином јзии. ѕольский проект –ечи ѕосполитой окончательно себ€ исчерпал и заходил в тупик. «ависимость от него восточнослав€нских этносов при соседстве с бурно развивающимс€ соседом, –оссией, становилась абсурдной. ѕоэтому разделы –ечи ѕосполитой стали закономерным итогом еЄ политического развити€. ”краинские земли перешли в российское подданство. ѕрисоединение ѕричерноморь€, —еверного авказа, освоение бескрайней —ибири и ƒальнего ¬остока выплеснуло туда украинский этнический элемент. ѕо степ€м у „Єрного и јзовского морей уже не только скакали казачьи отр€ды, и пасс€ их скот, но и по€вилось многочисленное кресть€нство, осваивавшее и слав€низирующее эту территорию, как свою осЄдлую родину. ”краинское казачество было переведено на убань и “ерек. «адачи завоевани€ авказа требовали их уклада жизни, их служба окончательно была подчинена задачам империи, а их традиции быстро адаптировались к местной жизни, укоренив слав€нский элемент в нелЄгком соседстве с разрозненными и разнородными кавказскими этносами. ѕри всей положительности восточнослав€нской государственной переориентации украинцев, произошЄл очередной раскол их этнического единства. «а пределами –оссийской империи остались карпатские украинцы, они вошли в состав јвстро-¬енгрии. »х судьба в очередной раз была оторвана от украинского этнического массива, а древние земли, куда вернулись дунайские словене тыс€чу лет назад, остались вне ”краины в пределах –оссийской империи. — помощью –оссийской империи дл€ украинцев был окончательно сн€та угроза полуторатыс€челетних тюркских нашествий. ¬ойны с “урцией ещЄ продолжатс€ на авказе и Ѕалканах, но вторжений на ”краину, посто€нно сковывавших еЄ развитие уже не будет и в этом заслуга большого и сильного государства, способного обеспечить в неприкосновенности этническую территорию. XIX век обеспечил размеренное развитие украинской этничности. ѕричерноморье всЄ более покрывалось многочисленными селени€ми, где базовый этнический элемент и доминанта оставались за выходцами из лесостепной полосы ”краины. √орода на побережье основывались из имперских интересов, нес€ общерусскую культуру, котора€ всЄ более приобретала общий восточнослав€нский облик. –усский €зык становилс€ признаком имперской государственности, не отмен€ющей местных говоров и традиций, а дающий возможность преуспеть конкретному человеку в больших масштабах, реализовать свой личный потенциал. –оль русского литературного €зыка всЄ более выходила с уровн€ великороссов на уровень восточнослав€нский, слав€нский и балтослав€нский. ¬клад в это вносила не «имперскость», а все восточнослав€нские люди. ѕромышленное развитие потребовало притока рабочих рук на шахты ƒонбасса и металлургические производства, куда устремились миллионы вчерашних украинских кресть€н. — таким же энтузиазмом они осваивали новые земли —ибири и ƒальнего ¬остока, где удельный вес украинцев был местами подавл€ющий. »х самобытность не растворилась без остатка, а часто создавала причудливое смешение с местным этническим колоритом. «аметную роль сыграли выходцы из украинского казачества на —еверном авказе, особенно в раснодарском и —тавропольском кра€х. ћожно говорить о том, что сейчас трудно представить закрепление слав€н в этом беспокойном регионе без присутстви€ «украинской» пассионарности. ≈сли говорить о столетних традици€х казачества, то там они сохранились в большей мере, чем в мещанском укладе в самой ”краине. —овместное проживание в составе –оссийской империи великороссов, украинцев и белорусов на новом уровне вернуло ситуацию иевской –уси, когда восточнослав€нское единство было неоспоримо. —ейчас много говор€т о прецеденте «незалежности» дл€ государственной истории, но надо иметь ввиду, что прецеденты единства дл€ этнической истории ещЄ более существенны и закладывают ещЄ более серьЄзные причинно-следственные св€зи дл€ будущего. »на€ судьба в этом веке была карпатских украинцев в составе јвстро-¬енгерской империи. »х уклад замкнулс€ на этническом выживании, а многочисленна€ миграци€ в јмерику создала р€д замкнутых сообществ, ещЄ большее количество потер€лось дл€ слав€нского мира, растворившись в германцах и –оманцах. –аздельное проживание в полтора века до сих пор раздел€ет украинцев и показывает негатив государственного разделени€ дл€ этнического развити€. XX век наполнен массой политических событий, что сильно отвлекает от понимани€ этнических процессов. ќставим в стороне политические корысти в разрушении восточнослав€нской общности, вс€кие несправедливости и обоюдные претензии. Ётническа€ общность не должна приноситьс€ в жертву ради сохранени€ отдельных особенностей, так как ослабление будет всеобщим, и потери станут задачами дл€ будущей общности. ƒважды в этом веке ставилс€ вопрос о государственной особенности украинцев. ќдин раз в начале, кратковременно, теперь, по-серьЄзному, но как-то не очень естественно. ёжнослав€нский опыт показывает, что раздробитьс€ можно и до дес€тка государств, если это кому-то выгодно, а независимость друг от друга может стать самоцелью и идеологией любой государственности. ¬ исторической глубине, период существовани€ ———– невелик, но крайне ценен. огда пройдЄт сыра€ эпоха отрицани€, то в опыте ———– мы увидим не только повтор –оссийской империи, но и концентрацию такой слав€нской мощи, котора€ могла бы ещЄ более усилить ≈вропейский мир, если бы не превратилась в его внутреннюю конкуренцию, приведшую к «холодной √ражданской войне» ≈вроамериканской цивилизации. ———– добилс€ такого могущества благодар€ огромным жертвам, положенным ради ¬еликой ѕобеды. ћиллионы украинцев внесли свой вклад за слав€нское дело, ощуща€ себ€ неотъемлемой частью восточнослав€нского мира. «аслуженным результатом стало объединение всей ”краины в одних границах, одной восточнослав€нской страны, важной частью которой была ”краинска€ ——–. »менно в ней и вызревал опыт государственности, шло формирование элит, реализаци€ больших возможностей в рамках большой страны. Ќынешн€€ государственность, в отличие от —оюзной, строитс€ на отрицании всего близкого и объедин€ющего. Ёто трудна€ работа, так как, отрицает и весь предшествующий опыт, концентриру€сь только на борьбе и самосохранении. Ётнического смысла в этом нет, стагнаци€ замен€ет развитие. ¬место внешних успехов мы видим только самовыскребание и леле€ние всего псевдокультурно украинского. “ак завершилс€ XX век. ≈сли подводить итоги периода четырЄх веков, то они, бесспорно, этнически положительны и успешны. ¬осточнослав€нска€ общность набрала силу, оформилась территориально, про€вила свою доминирующую способность. ”краинска€ составл€юща€, в отличие от предыдущего периода восстановилась, приобрела и опробовала устойчивость, достойную больших задач. Ѕегло проследив этапы развити€ украинской составл€ющей в восточнослав€нской цивилизации, можно прийти ко многим основополагающим выводам. ќни приведут нас не к пониманию раскола, который демонстрируют «государственные интересы», а к единению, мощные силы которого обнаружат себ€ уже в недалЄком будущем. Ёти основы различного пор€дка, про€вл€ют себ€ с разной периодичностью и силой, но нивелировать их при помощи пограничных столбов – наивность элит псевдонациональной окраски. ¬о-первых, предки украинцев формировались в словен, которые уже до VI века населили арпаты и вышли к ƒунаю, из тех же дулебов, насел€вших современную северо-западную ”краину. ¬о-вторых, возвращение «дунайцев» через два века позволило им не только найти себе место под солнцем ѕрародины, но и доминировать над старожилами в этническом плане. ¬-третьих, словенский опыт контактов с балканскими государствами, в первую очередь, с ¬изантией, позволил им самим организовать восточнослав€нскую государственность, причЄм, не только иевской –уси, но и других удалЄнных центров, Ќовгорода и ¬ладимиро-—уздал€. ¬-четвЄртых, трудно представить большие испытани€, выпавшие на долю украинцев вследствии полуторатыс€челетней борьбы с тюркским югом и востоком. ƒаже, в составе ¬еликого н€жества литовского, –ечи ѕосполитой, –оссийской империи, они находились на переднем краю этой борьбы. ¬-п€тых, при всей общеевропейскости и общеслав€нскости, украинцы этнически т€нулись к остальным восточным слав€нам, стрем€сь к единой этнической судьбе, а не расколу, что подтверждаетс€ в непри€тии польской государственности. ¬-шестых, участие украинцев в российской государственности, освоении гигантских просторов в ≈вразии позволило сформироватьс€ местным элитам, которые играли заметную роль в –оссийской империи и —оветском —оюзе и заложили основы собственной государственности. ¬-седьмых, именно участие в общегосударственных задачах позволило создать мощный экономический потенциал, подн€ть уровень жизни, культуры, образовани€. ¬-восьмых, на территории ”краины возник наиболее гармоничный и этнически толерантный социум, где восточнослав€нские различи€ приобрели самые м€гкие переходы. »гнориру€ эти реальности, политтехнологи используют любые страшилки о страдани€х восточных слав€н друг от друга. ÷ель одна – успеть, как можно больше вбить клиньев, создать прецедентов, которые придЄтс€ трудно преодолевать многим поколени€м. ћожно видеть в них врагов, которые работают на чужие интересы, но гораздо банальней – обычное желание личного успеха любой ценой, не огл€дыва€сь на ущерб. Ќаша этническа€ перспектива – объединить усили€ восточных слав€н и быть вместе, дл€ этого не надо ни три государственности, ни тридцать три. Ќадо пон€ть, кто мы есть, какие у нас задачи на столети€ и тыс€челети€ в этом мире. ≈вропа – наш общий дом, в котором не надо доказывать свой «высший сорт», ещЄ более нелепо, когда в этом соревнуютс€ национальными паспортами. ¬место отстаивани€ своих пограничных столбов слав€не должны работать в јзии, создава€ дл€ всех комфортный мир будущего, пока его дл€ нас не создал кто-то другой, совсем не европейский и не американский. ¬ одиночку, как лебедь, рак и щука, с такими задачами не справитьс€, надо найти единство, которое есть – этническое. —егодн€ ”краина проходит зат€нувшийс€ период экспериментов с перепадами от эйфории к разочаровани€м. » это пройдЄт. —в€зь, даже, независимой ”краины с –оссией и Ѕеларусью настолько велика, что при любой перемене в политической ситуации всегда будет сто€ть вопрос об интеграции в восточнослав€нскую общность. “рудно представить более успешный путь этнического развити€, чем тот, который пройден восточными слав€нами за эти века. Ќаши общие предки радовались успехам и открыти€м, терпели поражени€ и снова шли вперЄд и добивались новых побед. “ак должно быть всегда, в этом наши мироощущени€, этнический характер, обща€ судьба. »сточник /iter-ignis.org/sylka/%d0%ba-%d0%b2%d0%be%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%81%d1%83-%d0%be%d0%b1-%d1%8d%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%b8-%d1%83%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b8/>
ћетки: ”краина ”краинцы –усь |
–усь = –ыжих+”краинцев+—ем€+ну очнь м€гкий знак... |
ƒневник |
ѕочему –усь назвали –усью?

ћало найдетс€ вопросов, на которые существует столько ответов. Ќазвание –усь возводили к росе, речке –ось, русым волосам, греческому слову «красный», скифскому «белый», племенам ругов и росомонов, острову –юген и даже к русалкам. ћножество похожих слов, корней, названий бытует на пространстве от Ѕалтики до причерноморских степей. «а какой же версией последовать? „ьим аргументам внимать?…
–усскому человеку не привыкать жить в услови€х неопределенности. ¬озможно, корни привычного дл€ нас состо€ни€ нужно искать в том, что мы до сих пор не знаем происхождени€ слова «–усь», а с ним и «–осси€» и «русский». ¬ этом мы уникальны. стати, происхождени€ слова «ћосква» мы тоже не знаем…
—лав€нска€ верси€
ƒоказательна€ база здесь следующа€. ¬ VIII-IX вв. среди восточных слав€н стало выдел€тьс€ плем€, живущее по среднему течению ƒнепра: к югу от иева до реки –оси и по течению этой реки и ее притока –оссавы. «десь при впадении –оси в ƒнепр находилс€ летописный город –одн€, остатки которого вид€т в н€жой горе, богатой археологическими находками.

—юда в град –одню «на устьи –оси» спуст€ несколько веков бежал из иева ярополк, унос€ ноги от своего брата ¬ладимира —в€того. “аким образом, –ось, –оссава, –одн€ соединены в одном месте. Ќагр€нувшие в эти места вар€ги, не мудрству€ лукаво, назвали землю аборигенов –усью.
«—арматска€» верси€
«ащитником этой гипотезы был ћихайло Ћомоносов, который считал, что русы €вл€ютс€ пр€мыми потомками воинственных сарматских племен роксоланов или росоманов (эти самоназвание и эволюционировали со временем в слово «–усь»). стати, конкурентами –уси за право носить титул потомков сарматов были и польска€ шл€хта.

«Ќалогова€» верси€
–€д историков утверждает, что «русью» называли не отдельное плем€, а профессию — сборщиков дани. ѕомните термин «полюдье»? ” некоторых финно-угорских народностей слово «люди» обозначало тех, кто вынужден был платить дань, а русью, веро€тно, называли тех, кто эту дань собирал. —реди тогдашних коллекторов было много вар€гов-дружинников, поэтому социальный термин, видимо, был перенесен и на этническое название вар€гов. »нтересно, что слово «люди» стало даже самоназванием одной из финно-угорских народностей (Ljudi)
«¬оенна€» верси€
Ќа ранних этапах образовани€ ƒревнерусского государства «русью» называли военное сословие. —начала слав€не называли «русью» викингов — скандинавских мореходов и воинов. «ачастую скандинавские отр€ды нанимались на службу к слав€нским вожд€м. ¬озникали профессиональные кн€жеские дружины. » слово «русь» приобрело новое значение: так называли теперь кн€жескую дружину.
![[0_8d83e_5aae6bdd_XXL%255B3%255D.jpg]](http://lh5.ggpht.com/-vnIGQoRYLMw/UwtyNik30jI/AAAAAAAG-j8/tQlH3DhhU2Y/s1600/0_8d83e_5aae6bdd_XXL%25255B3%25255D.jpg)
ƒружина состо€ла не только из скандинавов, в нее входили и слав€нские воины. ѕон€тие «русь» относилось к дружине в целом и обозначало приближенных и воинов кн€з€. —о временем «русью» стали называть территорию, которую контролировала или пыталась контролировать кн€жеска€ дружина. »м€ прав€щего сло€ становилось названием страны.
« раснолица€» верси€
ак известно византийцы называли агрессоров, совершавших периодически набеги на онстантинополь, пройд€ путь «из вар€гов в греки», «россами» (то есть «красными» или «рыжими»). Ёто дало повод дл€ гипотез, что свое прозвище гости из иевской –уси получили за цвет лица (то ли за рум€нец, то ли за склонность к обгоранию на южном солнце – не€сно). »нтересно, что »бн-‘адлан, встретивший вар€гов в 922 году, отозвалс€ о них: «ќни подобны пальмам, рум€ны, красны».
![[3e5a17a619c0%255B8%255D.jpg]](http://lh4.ggpht.com/-hXhzIhXK5GQ/UwtyPFugm1I/AAAAAAAG-kM/GqA8yxmftAA/s1600/3e5a17a619c0%25255B8%25255D.jpg)
√ребна€ верси€
„аще всего современные исследователи стро€т цепь рассуждений, отталкива€сь от древнейшего русского исторического пам€тника — «ѕовести временных лет». ”ченые обратили внимание: народы, помещенные летописцем на просторах русской земли, по форме названий распадаютс€ на три разр€да. ѕервый составл€ют слав€нские племена, названи€ которых заканчиваютс€ на -ане, -ене (пол€не, древл€не, словене).
¬торой разр€д образуют названи€ на -ичи (кривичи, радимичи, дреговичи). ќни также принадлежат слав€нским племенам. “ретий разр€д образуют односложные названи€ с м€гким согласным на конце (водь, чудь, сумь). “ак в летописи обозначены народы, обитавшие на севере ¬осточно-≈вропейской равнины и говорившие на €зыках финской группы. — каким разр€дом имеет сходство «русь»? ќчевидно, с третьим. ј значит, можно попытатьс€ обнаружить истоки названи€ на севере, там, где звучала финска€ речь.

» аналоги€ нашлась. —о средних веков и по сию пору шведов в ‘инл€ндии называют «руотси». ”ченые предполагают, что слово это произошло от древнескандинавского глагола «руо» — «плыть, грести». «–уотси» — «гребцы, мореходы». “ак древние жители финского берега называли викингов, приплывавших к ним из соседней —кандинавии.
ƒругими сосед€ми финских племен были слав€не. ќни восприн€ли слово «руотси» и преобразовали его по законам своего €зыка: «руотси» превратилось в «русь», подобно тому, как самоназвание западных финнов «суоми» превратилось в русских летопис€х в «сумь».
»так, по мнению многих исследователей, происхождение имени «–усь» св€зано с пон€тием «гребцы». —тало быть, название нашей страны произошло от зан€ти€, которое вполне согласуетс€ с ее речными просторами.

Ќаименование страны по древним зан€ти€м ее жителей не така€ уж редкость. Ќаши соседи называют свою страну —уоми. Ќо дл€ остальной ≈вропы она — ‘инл€нди€, «страна финнов». ак же по€вилось это им€? —лово «финн» пришло в европейские €зыки из древнегерманских наречий. ѕереводитс€ оно как «искатель» или «охотник». ƒревнейшие жители финской земли занимались охотой, добытые ими шкуры доходили до –имской империи. Ќазвание «‘инл€нди€» — «земл€ охотников» закрепилось за страной не случайно.
ѕодобным образом возникло и название «јнгли€». ¬ам никогда не казалось, что «јнгли€» и «игла» звучит похоже? ≈сли казалось, вы были совершенно правы. ќба слова восход€т к древнему индоевропейскому корню со значением «острый предмет». »м€ «јнгли€» подарили стране племена англов — выходцев из —кандинавии, с территории современной ƒании. Ќазвание этих племен происходит от пон€ти€ «острый предмет, рыболовный крючок». ” себ€ на родине англы промышл€ли рыболовством. ¬ IV-VI веках англы переселились на Ѕританские острова, покинув свою прежнюю «јнглию» — часть ётландского полуострова. ¬ыходит, јнгли€ — «страна рыбаков».
“ак что на севере ≈вропы есть «страна охотников», «страна рыбаков» и «страна гребцов» — –усь. ¬ принципе, не так уж и важно, кака€ верси€ более близка истине. √лавное, чтобы это никак не повли€ло на любовь к –одине!
»сточник <http://www.softmixer.com/2014/02/blog-post_3186.html>
ћетки: русь слав€не |
ќткуда вз€лись такие женщины в наших селень€х? |
ћетки: –усь амазонки |
–усь! |
Ёто цитата сообщени€ —вето€ра [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
–усский писатель ¬алентин »ванов
»ванов ¬алентин ƒмитриевич (1902-1975 гг)

–одилс€ в г. —амарканде в семье учител€. ”чилс€ в гимназии, много читал. «акончить образование однако не удалось: надо было работать. —емнадцати лет ¬алентин добровольцем вступает в расную јрмию, участвует в бо€х за —оветскую власть. ¬скоре, как не достигшего восемнадцати лет, его демобилизуют, и начинаетс€ богата€ событи€ми трудова€ жизнь. –азными професси€ми приходилось овладевать молодому рабочему, на многие стройки и предпри€ти€ попадает он по зову сердца или велению времени. » всюду его цен€т как знающего практика, умелого руководител€. ¬ литературу ¬алентин »ванов пришел поздно. ќн начал писать почти случайно, когда ему было далеко за сорок. ј по-насто€щему св€зал свою жизнь с литературой лишь в 50-е годы. —ам писатель считал важнейшими своими произведени€ми трилогию о начале –уси...
¬ 1951 вышел его научно-фантастический роман «Ёнерги€, подвластна€ нам», пронизанный верой в созидательные возможности человека. ƒалее последовало дес€тилетие исключительно плодотворной работы писател€: 1952 — роман «¬ арстовых пещерах», 1953 — роман «ѕо следу», 1954 — «¬озвращение »бадуллы», 1955 — «ѕовесть древних лет. ’роника IX века» (в этом произведении »ванов сделал «за€вку» на главную тему своего творчества — духовное наследие русского народа).
¬ книге «∆елтый металл» (1956) »ванов первым в советской литературе затронул проблему разлагающего вли€ни€ сионистской идеологии, чем вызвал на себ€ удар еврейских кругов. ƒруга€ книга »ванова — «–усь изначальна€» (1961; тт. 1 и 2) создала писателю широкую известность, она буквально зачитывалась до дыр. Ќо идеологические структуры ѕ——, а также русофобска€ критика сделали все, чтобы замолчать это произведение, по сути излагающее основы русского национального мировоззрени€ в самой доступной — художественной — форме. ѕопытки переизданий блокировались. “елевизионна€ экранизаци€ в 1970-е также натолкнулась на глухую стену враждебного молчани€. «–усь изначальна€» и др. произведени€ »ванова все последующие годы, вплоть до его кончины, вычеркивались из издательских планов чьими-то недобрыми руками, что привело писател€ на грань нищеты. »ванов был признанным знатоком ¬остока, его обычаев и нравов. ¬ этом он схож, пожалуй, еще с одним €рким русским талантом Ћ. ¬. —оловьевым, автором «ѕовести о ’одже Ќасреддине».
— ¬ики
»зданный в 1956 году детективный роман «∆Єлтый металл», посв€щенный нелегальной добыче, скупке и перепродаже золота, вызвал скандал в партийном руководстве и был изъ€т из продажи, по официальной формулировке «за хулиганские выпады в адрес грузин и других советских народов»; возможно также, из-за слишком подробных описаний функционировани€ советской «теневой экономики».
»звестность ¬алентину »ванову принесли исторические романы «–усь изначальна€» (1966), «ѕовести древних лет» (1955) и «–усь велика€» (1961), действие которых происходит соответственно в VI, IX и XI веках; впоследствии они были объединены автором в трилогию.
¬ 1968—1972 годах »ванов — участник «–усского клуба» — неформальной организации русских националистов, собиравшихс€ в ћосковском отделении ¬сесоюзного общества охраны пам€тников истории и культуры (¬ќќѕ»и ). ѕо мнению Ќ.ћитрохина, »ванову протежировала националистически настроенна€ группа (т. н. «русска€ парти€», «группа Ўелепина») в руководстве ѕ——.
—ери€ сообщений "истори€ слав€н в кино":
„асть 1 - –усский писатель ¬алентин »ванов
„асть 2 - "» на камн€х растут деревь€"
„асть 3 - ‘ильм "Ћегенда о кн€гине ќльге"
...
„асть 25 - "∆ар - ѕтица", —казки “омских ƒомовых, 1 сери€
„асть 26 - Ѕитва слав€нских богов
„асть 27 - —казочные русские красавицы
ћетки: –усь |
ќткуда произшло название ”краина |
ƒневник |

ћо€ хата с краю
1. ак и когда по€вилось слово "”краина"?
«ќукраинами» ("украинами", "украйнами") с XII по XVII вв. именовали различные пограничные земли –уси. ¬ »патьевской летописи под 6695 (1187) годом упоминаетс€ пере€славска€ "оукраина", под 6697 (1189) годом. - галицка€ "оукраина", под 6721 (1213) - перечисл€ютс€ пограничные города этой галицкой "оукраины": Ѕрест, ”гровск, ¬ерещин, —толп, омов. ¬ I ѕсковской летописи под 6779 (1271) - говоритс€ о сЄлах псковской "украины". ¬ русско-литовских договорах XV в. упоминаютс€ "вкраинъные места", "”краiные места", "¬краиныи места", под которыми понимаютс€ —моленск, Ћюбутск, ћценск. ¬ договоре двух р€занских кн€зей 1496 г. названы "наши села в ћордве на ÷не и на ”краине".
¬ отношении московско-крымской границы с конца XV в. также говорилось: "”краина", "Ќаши украины", "наши украинные места". ¬ 1571 г. была составлена "–оспись сторожам из украиных городов от польски€ украины по —осне, по ƒону, по ћече и по иным речкам". Ќар€ду с "татарскими украинами" существовали также "казанска€ украина" и "немецка€ украина". ƒокументы конца XVI в. сообщают об "украинской службе" московских служилых людей: "ј украинским воеводам всем во всех украинских городех государь велел сто€ть по своим местом по прежней росписи и в сход им быть по прежней росписи по полком; а как будет приход воинских людей на государевы украины, и государь велел быти в передовом в украинском полку". ¬ российском законодательстве XVII в. часто упоминаютс€ "”крайна", "”крайные городы", "√осударевы ”крайны", "Ќаши ”крайны", "”крайные/”краинские городы дикого пол€", "”крайнские городы", говоритс€ о пребывании воинских людей "на √осударевой службе на ”крайне". ѕон€тие это - крайне широкое: "...в —ибирь и в јстрахань и в иные дальние ”краинные городы". ќднако в ћосковском государстве с рубежа XV-XVI вв. существовала и ”крайна в узком смысле слова - окска€ ”крайна ("”краина за ќкой", "крымска€ украина"). ¬ российском законодательстве XVI-XVII вв. неоднократно приводитс€ список городов такой ”крайны: “ула, ашира, рапивна, јлексин, —ерпухов, “оруса, ќдоев. Ќар€ду с ней существовала и —лободска€ ”крайна ћосковского государства.
¬ конце XVI - I половине XVII в. словом "”краина" в узком смысле слова также стали обозначать земли —реднего ѕоднепровь€ - центральные области современной ”краины. ¬ польских источниках (королевских и гетманских универсалах) упоминаютс€ "замки и места наши ”крайные", "места и местечки ”краинные", "”краина иевска€". ¬ российском законодательстве XVII в. фигурирует "”крайна ћалороссийска€", "”крайна, котора€ зоветс€ ћалою –оссией", правобережье ƒнепра именовалось "ѕольской ”крайной". ћалоросси€ и —лободска€ ”крайна в российском законодательстве четко раздел€лись: "ћалороссийских городов жители приезжают в ћосковское государство и в ”краинные городы..."
2. ак именовали жителей пограничных украин?
¬ »патьевской летописи под 6776 (1268) г. упоминаютс€ жители польского пограничь€ - "Ћ€хове оукраин€не" ("...и зане весть б€хоуть подали им Ћ€хове оукраин€не"). ¬ русско-литовских договорах и посольских документах середины XV - I трети XVI вв. называютс€ "вкраинъные люди", "”краиные наши люди", "украинные слуги", "украинные люди", "украинники", т.е. жители —моленска, Ћюбутска, ћценска. ¬ польских документах с конца XVI в. значатс€ "старосты наши ”крайные", "паны воеводы и старосты ”краинные", "люди ”краинные", "обыватели ”краинные", " озаки ”краинные", "”краинные сенаторы". ¬ таком именовании не было никакого этнического оттенка. ¬ документах также упоминаютс€ "”краинские ратные люди" и "”краинные места" рымского ханства.
∆ители –уси по-прежнему именовали себ€ русскими, так же их именовали и иноплеменники. ¬ польских и русских источниках того же времени называютс€ "церкви –усские" в Ћуцке, "ƒуховенство –уское" и "рели€ [религи€, вера] –уска€", а также "народ наш –уский" (тут же - "обыватели тутейшие ”краинные"), "–усин", "Ћюди –ускiе", "–уские люди". ¬ тексте √ад€чского договора ¬ыговского с ѕольшей говоритс€ о населении ”краины как о "народе –уском" и "росси€нах". ѕодданные ћосковского государства именовались так же: "–уские люди", "твои великого государ€ ратные люди, –уские и „еркасы".
3. √де и как впервые стало употребл€тьс€ слово "украинцы"?
¬ ћосковском государстве "украинцами" изначально называли воинских людей (пограничников), несших службу на окской ”крайне - в ¬ерхнем и —реднем ѕоочье - против крымцев. ¬ марте 1648 г. московский думный дь€к »ван √авренЄв написал в –азр€дный приказ записку о приготовлении к докладу р€да дел, в которой, в частности, под шестым пунктом было кратко сказано: "”краинцев, кто зачем живет, не держать и их отпустить". —лово "украинцы" думный дь€к никак не по€сн€л; очевидно, в ћоскве оно было на слуху и в по€снении не нуждалось. „то оно означало, становитс€ €сно из последующих документов. ¬есной 1648 г. в св€зи со слухами о гр€дущем нападении крымцев на московские границы был объ€влен сбор воинских людей украинных городов - “улы, аширы, озлова, “арусы, Ѕелева, Ѕр€нска, арачева, ћценска. ¬ наказе воеводам Ѕуйносову-–остовскому и ¬ель€минову от 8 ма€, составленном по докладу дь€ка √авренЄва, в частности, было сказано: "...в те города воеводам отписать же, чтоб воеводы детей бо€рских и двор€н и вс€ких служилых людей на государеву службу выслали к ним тотчас". Ќа службе ћосковского государства в 1648 г. уже состо€ли малороссийские казаки, но они именовались не "украинцами", а "черкасами" (о них также говоритс€ в записке √авренЄва).
”потребление слова "украинцы" в ћосковском государстве не позднее II половины XVI в. видно из того, что в р€занских платежных книгах 1594-1597 гг. упоминаютс€ ”краинцовы - двор€не аменского стана ѕронского уезда. ¬ грамоте 1607 г. упоминаетс€ служилый человек √ригорий »ванов сын ”краинцов, получивший от цар€ ¬асили€ Ўуйского поместье в –€жском уезде (современна€ –€занска€ область). ’орошо известен также думный дь€к ≈.». ”краинцев (правильнее: ”краинцов; 1641-1708), подписавший в 1700 г. онстантинопольский мирный договор –оссии с ќсманской империей. ¬ 1694 г. ≈мель€н ”краинцов составил дл€ –азр€дного приказа родословную рода ”краинцовых, в соответствии с которой основателем фамилии был р€занский двор€нин середины XVI в. ‘Єдор јндреев сын Ћукин по прозвищу ”краинец; его отец был "испомещен на –€зани", то есть несколько восточнее вышеупом€нутых городов окской ”крайны, в результате чего и могло возникнуть отличительное прозвище "”краинец", а затем и фамили€ "”краинцовы". —корее всего, ‘едор ”краинец не был личностью мифологической: именно его внуки упоминались в книгах 1594-1597 гг., а правнук - в грамоте 1607 г.
—ама окска€ ”крайна формировалась еще дл€ обороны от ордынцев и приобрела особое значение с начала XVI в. в св€зи с частыми набегами крымцев. ¬ 1492 г. "приходили тотаров€ на украину на олексинские места". "¬оеводы украинные и люди", успешно отразившие крымский набег "на великого кн€з€ украйну на тульские места", упоминаютс€ уже в грамоте 1517 г. ѕротив крымцев в 1507-1531 гг. в “уле, ашире, «арайске, оломне были возведены крепости, размещены посто€нные гарнизоны, украинным двор€нам раздавались поместь€. ¬ 1541-1542 гг. активные боевые действи€ развернулись восточнее - под ѕронском (на –€занщине), что могло привести к переводу туда части украинных двор€н.
¬о II половине XVII в. служилые люди окской ”крайны - "”краинцы дети бо€рские" и "”краинцы двор€не" - упоминаютс€ в российском законодательстве весьма часто. ¬ ѕовести об јзовском сидении "украинцы" упоминаютс€ в том же смысле ("ево государевы люди украиньцы", "воеводы государевы люди украинцы", "ево государевы люди руские украинцы"). ¬ разр€дной книге, переписанной во II половине XVII в., значилось: "ј пришед царь в рым перед ним в другой четверг по велице дни, а возилс€ на “онких водах, а под украинцов пустил мурз дву или трех с малыми людьми €зыков добывали и про цар€ и великого кн€з€ проведывали". ∆ителей ћалороссии "украинцами" не называли. Ќапример, в ƒвинской летописи под 1679 г. фигурируют "яким малоросси€нин да онстантин украинец".
ѕо мере продвижени€ на юг российской границы слово "украинцы" с ѕоочь€ распростран€етс€ и на пограничных служилых людей —лободской ”крайны. ¬ 1723 г. ѕетр ¬еликий упоминает "”краинцов јзовской и иевской губерний" - украинных служилых людей, в том числе и со —лободской ”крайны. ѕри этом он четко отличает их от "ћалороссийского народа". ¬ 1731 г. на —лобожанщине стала создаватьс€ ”краинска€ лини€, защищавша€ российские границы от крымцев. јнонимный автор "«аписки о том, сколько € пам€тую о рымских и “атарских походах", участник похода 1736 г. против крымцев, писал о том, как татары сталкивались с "нашими легкими войсками («апорожцами и ”краинцами)". ѕри ≈лизавете ѕетровне из "”краинцов" формировались полки —лободской ландмилиции. ¬ 1765 г. здесь была учреждена —лободска€ ”краинска€ губерни€ (так именовалась ’арьковска€ губерни€ в 1765-1780 и 1797-1835 гг.). ¬ 1816-1819 гг. при ’арьковском университете издавалс€ весьма попул€рный "”краинский вестник".
4. огда и в каком смысле слово "украинцы" впервые стало употребл€тьс€ в ћалороссии?
¬ I половине - середине XVII в. слово "украинцы" (Ukraincow) употребл€ли пол€ки - так обозначались польские шл€хтичи на ”краине. ћ. √рушевский приводит цитаты из 2 донесений коронного гетмана Ќ. ѕотоцкого от июл€ 1651 г. в переводе с польского на современный украинский €зык, в которых гетман употребл€ет термин "панове украњнц≥" дл€ обозначени€ польских помещиков ”краины. ѕол€ки никогда не распростран€ли его на русское население ”краины. —реди кресть€н с. —н€тынка и —тарое село (ныне - Ћьвовска€ область) в польском документе 1644 г. упоминаетс€ некто с личным именем "”краинец" (Ukrainiec), а также "з€ть ”краинца" (Ukraincow ziec). ѕроисхождение такого имени не вполне пон€тно, но очевидно, что остальное население "украинцами", таким образом, не были. — середины XVII в. этот термин из польских документов пропадает.
¬о II половине XVII в. московские подданные изредка начинают употребл€ть слово "украинцы" в отношении малороссийского казачества. ћосковские послы ј. ѕрончищев и ј. »ванов, отправленные в ¬аршаву в 1652 г., отмечали в донесении, что в польской столице они встретили шестерых посланцев гетмана Ѕ. ’мельницкого, среди которых был "ќндрей Ћисичинский з ¬олын€, украинец, а ныне живет в Ѕогуславе". ќстальные представители ’мельницкого были уроженцами центральной или левобережной ”краины. ѕримечательно, что среди всех послов "украинцем" был назван лишь один Ћисичинский; таким образом, ѕрончищев и »ванов имели в виду, что Ћисичинский €вл€лс€ бывшим польским шл€хтичем, т.е. пользовались польской терминологией.
’орватский выходец ё. рижанич в своем труде, написанном в тобольской ссылке в 1663-1666 гг. (было открыто и опубликовано лишь в 1859 г.), дважды употребл€ет слово "украинцы" как синоним слова "черкасы". —вой труд, позднее получивший название "ѕолитика", рижанич писал латиницей на искусственном эклектическом €зыке - смеси церковнослав€нского, простонародного русского и литературного хорватского. —лово "украинцы" рижанич мог заимствовать из русского €зыка или самосто€тельно сконструировать: он родилс€ в Ѕихаче неподалеку от райны, где проживали краинцы (т.е. хорутане, или словенцы).
— последней трети XVII в. слово "украинцы" в отношении как казаков, так и слободских украинцев по€вл€етс€ и в отошедшей к –усскому государству части ћалороссии - в промосковских кругах казачьей старшины и духовенства. Ќаиболее €рким документом в данном отношении следует считать "ѕересторогу ”краины" (1669 г.) - публицистический трактат, написанный, скорее всего, наказным киевским полковником ¬. ƒворецким. "”краинцами" автор именует казаков ѕравобережной ”краины, которым и адресовано послание (в качестве синонимов употребл€ютс€ также "козаки", "панове козаки", "войска козацкие", "народ украинский"). ¬ отношении всего малороссийского населени€ примен€ютс€ пон€ти€ "народ рус(с)кий", "хртi€не русъкие", "русь" (ср. "москва и русь"; иногда пон€ти€ "–усь" и "русы" распростран€етс€ и на ћосковское государство). јвтор текста демонстрирует хорошее знание ситуации внутри –оссийского государства. "ѕересторога" была обнаружена в конце XIX в. в составе рукописного сборника ƒворецких; сторонник пророссийской ориентации ¬. ƒворецкий неоднократно бывал в ћоскве и получил там двор€нство, именно в 1669 г. он бежал из-под ареста у гетмана ƒорошенко, прибыл в российскую столицу, где имел аудиенцию у цар€, и возвратилс€ в иев с жалованной грамотой. "ѕересторога" вполне могла быть написана в ћоскве, стиль самого документа схож с расспросными речами ƒворецкого, собственноручно написанными им в российской столице.
≈диножды слово "украинцы" (в значении казаков) употреблено в " роинике о земле ѕольской" (1673 г.) игумена иево-ћихайловского «латоверхого монастыр€ ‘еодоси€ —офоновича, который был знаком с "ѕересторогой". ¬ письме архимандрита Ќовгорода-—еверского —пасского монастыр€ ћихаила Ћежайского бо€рину ј. ћатвееву в 1675 г. сказано: "Ќе ведаю, за что порубежные воеводы наших ”краинцов недавно изменниками зовут и некакую измену слышат, которую мы не видим; а если бы что было, € сам первой известил бы днем и ночью свету великому государю; изволь предварить, чтобы воеводы в таких мерах были опасны и таких вестей ненадобных не начинали и малороссийских войск не озлобл€ли; опасно, чтобы от малой искры большой огонь не запылал". ¬полне очевидно, что архимандрит употребл€ет пон€тие, хорошо известное в ћоскве, и имеет в виду пограничных воинских людей (казаков) ”краины.
¬ стихах малороссийского поэта лименти€ «иновьева, писавшего во времена ѕетра и ћазепы, единственный раз были упом€нут "”краинец породы ћалороссийской" (в собирательном смысле), то есть вводилось уточнение, о каких конкретно слободских "украинцах" шла в данном случае речь. Ћетопись —.¬. ¬еличко (составлена между 1720 и 1728 гг.) включает документ сомнительного происхождени€, датируемый €кобы 1662 г. - письмо запорожцев ё. ’мельницкому. ¬ документе содержатс€ следующие фразы: "Ќе забудь к тому же и того, что мы, войско низовое запорожское, скоро поднимемс€ на теб€, а вместе с нами встанут и все обабочные украинцы, наша брати€, и премногие другие пожелают отомстить тебе за обиды и разорени€. ¬ какой час и с какой стороны налетит на теб€ вихорь и подхватит и унесет теб€ из „игирина, ты и сам не узнаешь, а пол€ки и татары далеко будут от твоей обороны". "”краинцами" названы казаки обоих берегов ƒнепра. Ќаселение ћалороссии в целом ¬еличко именовал "народом козако-руським". ¬ Ћизогубовской летописи (по ¬.—. »конникову - 1742 г.) были упом€нуты "поднестр€не и забужане и иные украинцы"; таким образом, "украинцами" здесь именовались казаки - воинские люди различных окраин ћалороссии.
¬ыходец из известного малороссийского рода я.ћ. ћаркович (1776-1804) в своих "«аписках о ћалороссии, ее жител€х и произведени€х" (—ѕб., 1798) писал, что территори€ "между реками ќстром, —упоем, ƒнепром и ¬орсклой" (т.е. ѕолтавщина и юг „ерниговщины) "известна под именами ”краины, —тепи и ѕолей, отчего и тамошних жителей называют ”краинцами, —теповиками и ѕолевиками". ћаркович также называл их "степными ћалоросси€нами" и полагал, что они произошли от русских или половцев, которые прин€ли казачий образ жизни; их потомков польский король —тефан Ѕаторий расселил против крымских татар "при обоих берегах ƒнепра". "ќт сих озаков произошли и ”краинцы, составл€вшие прежде ћалороссийское войско: остатки оного суть нынешние озаки; но они уже не воины, а сельские жители", - отмечал ћаркович. ќн также сообщал, что эти "украинцы", хот€ и стали рассел€тьс€ по ≈катеринославской и Ќовороссийской губерни€м, тем не менее составл€ли особое сословие и не смешивались с малоросси€нами.
5. огда "украинцами" начали называть всЄ население ”краины-ћалороссии?
¬ыдающийс€ военный инженер генерал-майор ј.». –игельман (1720-1789) - обрусевший немец, служивший в 1745-1749 гг. в ћалороссии и на —лободской ”крайне - выйд€ в отставку и на склоне лет поселившись под „ерниговом, написал "Ћетописное повествование о ћалой –оссии и ее народе и козаках вообще" (1785-1786). ак уже было сказано, на „ерниговщине жили казаки, в отношении которых использовалось именование "украинцев". –игельман впервые распространил именование "украинцев" на население всей ”краины-ћалороссии. ѕон€ти€ "украинцы" и "малоросси€не", а также "”краина" и "ћалоросси€" использовались им как тождественные. –укопись –игельмана была хорошо известна историкам и привлекалась к исследовани€м (в частности, ƒ.Ќ. Ѕантыш- аменским в его "»стории ћалой –оссии"), однако никто из малороссийских историков - современников –игельмана (ѕ. —имоновский, —. Ћукомский и др.) слово "украинцы" в таком значении не употребл€л.
ѕольский граф-эмигрант, впоследствии российский чиновник, ян ѕотоцкий (1761-1815) издал в 1795 г. в ѕариже на французском €зыке хрестоматию отрывков из античных и раннесредневековых писателей под названием "»сторико-географические фрагменты о —кифии, —арматии и слав€нах". ¬о введении он привел список слав€нских народов, среди которых фигурировали "украинцы" или "малороссы" - отдельный от "русских" слав€нский народ, в древности раздел€вшийс€ на 4 племени: пол€н, древл€н, тиверцев и север€н. ѕотоцкий впервые (эпизодически) использовал слово "украинцы" как этноним. »нтересно отметить, что оно фигурирует всего 3 раза, но сразу в двух формах написани€ (les Uckrainiens, les Ukrainiens). ѕо мнению польского графа, русский народ происходил от словен новгородских, а кривичи, дреговичи и бужане влились в состав украинского, русского и отчасти польского народов. "ѕлемена √алича и ¬ладимира" (√алиции и ¬олыни) производились ѕотоцким от сарматов. Ѕолее к украинской теме автор не возвращалс€, а сама концепци€ ни в других трудах ѕотоцкого, ни у его современников развити€ не получила.
ќднако почины –игельмана и ѕотоцкого восприн€ты не были. —лово "украинцы" в литературных и политических произведени€х до середины XIX в. продолжало употребл€тьс€ в прежних значени€х. ’арьковский писатель ».». витка, одесский историк ј. —кальковский, а также ј.—. ѕушкин (веро€тно, вслед за ћарковичем и виткой) именовали "украинцами" малороссийских казаков. ¬ драме "Ѕорис √одунов" (1825) √. ќтрепьев говорит о себе: "» наконец из келии бежал / украинцам, в их буйные курени, / ¬ладеть конем и саблей научилс€..." (сцена "Ќочь. —ад. ‘онтан"). ќтсюда видно, что в русском варианте слово изначально имело ударение на второй слог (укрјинец), в то врем€ как в польском (по правилам польского ударени€) - на предпоследний (укра»нец).
»спользовалось и прежнее петровское значение слова. ƒекабрист ѕ.». ѕестель (1792-1826) в своей "–усской ѕравде" делил "народ русской" на п€ть "оттенков", различаемых, по его мнению, лишь "образом своего управлени€" (т.е. административным устройством): "росси€н", "белорусцев", "русснаков", "малоросси€н" и "украинцев". "”краинцы", как отмечал ѕестель, насел€ют ’арьковскую и урскую губернию. ’арьковский драматург √.‘. витка (ќсновь€ненко) (1778-1843), плем€нник ».». витки, в небольшом очерке "”краинцы" (1841) писал: "Ќароды, населившие нынешнюю ’арьковскую губернию, большею частью были украинцы и имели с малоросси€нами один €зык и одни обычаи, но со времени своего здесь поселени€ значительно отклонились от них до заметной разности..."
–асширительна€ трактовка использовалась достаточно случайно. .‘. –ылеев в набросках своей поэмы "Ќаливайко" (1824-1825) писал: "...ѕол€к, еврей и униат // Ѕеспечно, буйственно пируют, // ¬се радостью оживлены; // ќдни украинцы тоскуют...". Ётот отрывок ("¬есна") был впервые опубликован только в 1888 г. ¬ 1834 г. молодой ученый-ботаник ћ.ј. ћаксимович издал в ћоскве "”краинские народные песни", в комментари€х к которым писал: "”краинцы или ћалоросси€не составл€ют восточную половину ёжных или „ерноморских –уссов, имевшую своим средоточием богоспасаемый град иев". ќднако позднее, прин€вшись за изучение истории и культуры ћалороссии, ћаксимович сузил пон€тие "украинцы": по его мнению, так именовались потомки пол€н - казаки и жители —реднего ѕоднепровь€. ћаксимович не считал "украинцев" особым этносом.
6. огда под "украинцами" стали понимать отдельный слав€нский народ (этнос)?
Ќа рубеже 1845-1846 гг. в иеве по инициативе молодого профессора ”ниверситета св. ¬ладимира Ќ.». остомарова (ученика ћаксимовича) возникло " ирилло-ћефодиевское братство", поставившее перед собой задачу борьбы за создание слав€нской федерации, куда должна была войти и свободна€ ”краина. ¬ ”ставе братства остомаров написал: "ѕринимаем, что при соединении каждое слав€нское плем€ должно иметь свою самосто€тельность, а такими племенами признаем: южно-руссов, северно-руссов с белоруссами, пол€ков, чехов с [сло]венцами, лужичан, иллиро-сербов с хурутанами и болгар". “аким образом, автор ”става использовал искусственное слово "южно-руссы", противопоставленное им "северно-руссам с белоруссами". —торонник остомарова ¬асилий Ѕелозерский написал по€снительную записку к ”ставу, в которой содержалась следующа€ фраза: "Ќи одно из слав€нских племен не об€зано в той мере стремитьс€ к самобытности и возбуждать остальных братьев, как мы, ”краинцы". »менно с этого документа можно вести историю употреблени€ слова "украинцы" в этническом смысле.
Ѕелозерский, черниговский уроженец и преподаватель истории, не мог не знать рукопись –игельмана, хранившуюс€ у его сына, черниговского поветового маршала ј.ј. –игельмана, и активно использовавшуюс€ историками. ≈го брат Ќ.ј. –игельман (чиновник канцел€рии киевского генерал-губернатора, сотрудник ¬ременной комиссии дл€ разбора древних актов) дружил с членами " ирилло-ћефодиевского братства". ¬ 1847 г. рукопись была напечатана в ћоскве ќ.ћ. Ѕод€нским - еще одним их хорошим знакомым. ѕосле по€влени€ записки Ѕелозерского остомаров написал свою прокламацию "Ѕрать€ ”краинцы", в которой говорилось следующее: "...ћы принимаем, что все слав€не должны между собою соединитьс€. Ќо так, чтоб каждый народ составл€л особенную –ечь ѕосполитую и управл€лс€ не слитно с другими; так, чтоб каждый народ имел свой €зык, свою литературу, свое общественное устройство. “акими народами признаем: ¬еликоросси€н, ”краинцев, ѕол€ков, „ехов, Ћужичан, ’орутан, »ллиро-сербов и Ѕолгар. <...> ¬от брать€ ”краинцы, жители ”краины обоих сторон ƒнепра, мы даем вам это размышление; прочитайте со вниманием и пусть каждый думает, как достигнуть этого, и как бы лучше сделать...". ќборот "обе стороны ƒнепра" часто употребл€лс€ и в труде –игельмана, вдохновившем Ѕелозерского и остомарова.
»нтересна также эволюци€ употреблени€ слова "украинцы" у другого участника "Ѕратства" - ѕ.ј. улиша. ¬ 1845 г. улиш (в тогдашнем написании: улеш) приступил к публикации в журнале "—овременник" своего романа "„ерна€ рада". ¬ первоначальной версии (на русском €зыке) упоминались "ћалороссийский народ", "ћалоросси€не", "ёжно-–усский народ", "”краинский народ", присущий им "дух –усский", а также указывалось, что жители ”краины - "–усские". "”краинцами" в романе, как повелось с конца XVII - XVIII вв., именовались малороссийские казаки. Ёто слово также встречалось и в более ранних произведени€х улиша. Ќапример, в повести "ќгненный змей" содержалась следующа€ фраза: "Ќародна€ песн€ дл€ ”краинца имеет особенный смысл". ѕовествование было св€зано с местечком ¬оронеж близ √лухова (родиной самого улиша) - на границе с —лобожанщиной и недалеко от мест, где по ћарковичу селились потомки казаков. ¬ажно отметить, что в другом труде улишом восхвал€лись именно "козацкие песни".
ѕредставлени€ улиша, таким образом, были близки взгл€дам ћаксимовича. ќднако именно с 1846 г. улиш наполн€ет слово "украинцы" иным смыслом. — феврал€ этого года (то есть одновременно или сразу после по€влени€ записки Ѕелозерского) он начал печатать в петербургском журнале "«вездочка" свою "ѕовесть об украинском народе". ¬ ней фигурировали "народ ёжнорусский, или ћалороссийский" и "ёжноруссы, или ”краинцы". јвтор отмечал, что этот особый слав€нский народ, проживающий в –оссии и јвстрии, и от "севернорусских" отличаетс€ "€зыком, одеждою, обыча€ми и нравами", а истори€ его начиналась еще с кн€з€ јскольда. »нтересно, что в последнем абзаце своего труда улиш все-таки отметил, что "козаки-посел€не, потомки городовых козаков <...> отличаютс€ от прочих ”краинцев чистотою народного типа". ќднако употребление слова "украинцы" в этническом смысле в середине XIX в. было случайным и столь же искусственным, как и пон€ти€ "южноруссы". ќба эти пон€ти€ в равной степени не считались самоназвани€ми.
¬ целом слово "украинцы" как этноним широкого хождени€ в это врем€ не получило. ѕримечательно, что один из наиболее радикально настроенных участников "Ѕратства" “.√. Ўевченко никогда словом "украинцы" не пользовалс€. — 1850-х гг. улиш употребл€л его в своих исторических работах нар€ду с "малоруссами", "южными русичами", "польскими русичами". ѕри этом он отказалс€ от представлени€ "украинцев" как этноса и писал так: "—еверный и ёжный –усский народ есть одно и то же плем€". ¬ частной переписке "украинцы" четко отдел€лись им от "галичан".
ѕересмотрев свои прежние взгл€ды, остомаров в 1874 г. писал: "¬ народной речи слово "украинец" не употребл€лось и не употребл€етс€ в смысле народа; оно значит только обитател€ кра€: будь он пол€к, иудей - все равно: он украинец, если живет в ”крайне; все равно, как, напр., казанец или саратовец значит жител€ азани или —аратова". аса€сь исторической традиции словоупотреблени€, историк, кроме того, отмечал: "”краина значила <...> вообще вс€кую окраину. Ќи в ћалороссии, ни в ¬еликороссии это слово не имело этнографического смысла, а имело только географический". ‘илолог ћ. Ћевченко на основании собственных этнографических изысканий и в соответствии с мнением ћаксимовича указывал, что "украинцы - жители иевской губернии, котора€ называетс€ ”краиною". ѕо его словам, они были частью "южноруссов" или "малоруссов", которых правильнее было бы называть "русинами".
“акже сохран€лось представление конца XVII - XVIII вв. о казацкой этимологии слова "украинцы". ¬ стихотворении ѕ. „убинского (1862), положенном в основу современного гимна ”краины, говорилось: "ўе не вмерли в ”крањн≥ н≥ слава, н≥ вол€, / ўе нам, братт€ украњнц≥, усм≥хнетьс€ дол€! <...> ≤ покажем, що ми, братт€, козацького роду".
Ќесколько позднее в журнале " иевска€ старина" было опубликовано стихотворение неизвестного автора "ќтвет малороссийских козаков украинским слобожанам [—атира на слобожан]", в котором дл€ обозначени€ казаков фигурировало слово "украинцы". “екст стихотворени€ €кобы был найден в глуховском архиве ћалороссийской коллегии, он не имел датировки, но был св€зан с событи€ми 1638 г. и представл€лс€ как достаточно древний. ќднако оригинал текста "ќтвета" неизвестен, а его стиль позвол€ет судить, что на самом деле произведение было создано незадолго до публикации. —тоит отметить, что остомаров, в частности, считал присутствие слова "украинцы" в изданных текстах старых малороссийских песен одним из признаков подложности.
»сторик —.ћ. —оловьев еще в 1859-1861 гг. использовал слово "украинцы" дл€ обозначени€ жителей различных российских окраин - как сибирских, так и днепровских. √р. ј. . “олстой в своей сатирической "–усской истории от √остомысла до “имашева" (1868) написал о ≈катерине II, распространившей крепостное право на ћалороссию: "...» тотчас прикрепила / ”краинцев к земле". ¬ отличие от подобного словоупотреблени€, радикальный публицист ¬. ельсиев пользовалс€ этим пон€тием дл€ обозначени€ галичан-украинофилов.
Ќа рубеже XIX-XX вв. слово "украинцы" обычно использовалось не в этническом, а в географическом смысле (вслед за –игельманом и поздним остомаровым), обознача€ население ”краины. ¬ географическом значении пон€тие "украинцы" стало активно употребл€тьс€ лишь в работах общественного де€тел€ ћ.ѕ. ƒрагоманова (1841-1895), публиковавшихс€ с 1880-х гг. —перва ƒрагоманов различал "украинцев" ("российских украинцев", "украинцев-росси€н") и "галицко-руський народ" ("галичан", "русинов"), далее объединил их в "русинов-украинцев". ѕредками "украинцев" ƒрагоманов считал пол€н.
ак бы то ни было, в границы "”краинской земли" им включались территории ћалороссии, Ќовороссии (без рыма), ƒонской и убанской областей, ѕолесь€, √алиции и ѕодкарпать€. ѕлем€нница ƒрагоманова поэтесса Ћ. осач- витка (1871-1913; псевдоним: Ћес€ ”краинка) также различала "украинцев" и "галичан" ("галицких русинов"), но считала их одним народом. »нтересно, что собственное переложение на немецкий €зык гамлетовского монолога "To be or not to be?.." (1899) Ћес€ ”краинка подписала так: "Aus dem Kleinrussischen von L. Ukrainska" (дословно: "ќт малоросси€нки Ћ. ”краинской"). »ными словами, свой псевдоним Ћ. осач- витка понимала не в этническом, а в географическом смысле (жительница ”краины). ». ‘ранко, писавший о едином "украинско-руськом народе", называл себ€ "русином".
¬ период ѕервой мировой войны российское военное начальство различало "русинов" (галичан) и "украинцев", понима€ под последними военнослужащих Ћегиона украинских сечевых стрельцов (”——): " ременецким полком в районе ћакувки вз€ты 2 русин из батальона ƒолара. ќни показали, что на той же высоте наход€тс€ две роты украинцов —ечевиков, у которых некоторые офицерские должности зан€ты женщинами".
7. огда началось активное употребление слова "украинцы" в современном этническом значении?
ѕрофессор Ћембергского (Ћьвовского) университета (в 1894-1914 гг.), впоследствии председатель ”краинской ÷ентральной –ады и советский академик ћ.—. √рушевский (1866-1934) в своей "»стории ”краины-–уси" (10 томов, издавались в 1898-1937 гг.) попыталс€ использовать слово "украинцы" в этническом значении. √рушевский активно вводил пон€ти€ "украинские племена" и "украинский народ" в историографию ƒревней –уси и догосударственного периода. ¬месте с тем в его "»стории" слово "украинцы" ("украинец") употребл€етс€ применительно к событи€м до XVII в. весьма редко. ѕри этом очень часто упоминаютс€ термины "руський" и "русин", синонимом которых у √рушевского и выступает пон€тие "украинец". ¬ своей политической де€тельности √рушевский и его единомышленники начали активное использование этого слова в еженедельнике "”краинский вестник" (выходил в 1906 г. в ѕетербурге) и журнале "”краинска€ жизнь" (выходил в 1912-1917 гг. в ћоскве). “олько в начале ’’ в. начинаетс€ противопоставление пон€тий "украинец" и "малоросс".
Ћишь после победы ‘евральской революции 1917 г. в –оссии слово "украинцы" постепенно стало приобретать повсеместное хождение. ¬ официальных документах оно по-прежнему использовалось редко - в универсалах "÷ентральной –ады" оно фигурирует лишь дважды, причем используетс€ произвольно, по мере изменени€ политической конъюнктуры. ¬о II ”ниверсале (3 июл€ 1917 г.) "украинцы" понимаютс€ в географическом смысле: "√ромад€не земл≥ ”крањнськоњ. <...> ўо торкаЇтьс€ комплектованн€ в≥йськових частей, то дл€ сього ÷ентральна –ада матиме своњх представник≥в при каб≥нет≥ ¬≥йськового ћ≥н≥стра, при √енеральн≥м Ўтаб≥ ≥ ¬ерховному √оловнокомандуючому, €к≥ будуть брати участь в справах комплектуванн€ окремих частин виключно украњнц€ми, поск≥льки таке комплектуванн€, по опред≥ленню ¬≥йськового ћ≥н≥стра, буде €вл€тись з техн≥чного боку можливим без порушенн€ боЇспособности арм≥њ". III ”ниверсал (7 но€бр€ 1917 г.), вышедший уже после захвата власти в ѕетрограде большевиками, придавал слову "украинцы" этническое значение: "Ќароде украњнський ≥ вс≥ народи ”крањни! <...> ƒо територ≥њ Ќародньоњ ”крањнськоњ –еспубл≥ки належать земл≥, заселен≥ у б≥льшости ”крањнц€ми: ињвщина, ѕод≥л€, ¬олинь, „ерн≥г≥вщина, ѕолтавщина, ’арк≥вщина, атеринославщина, ’ерсонщина, “авр≥€ (без риму)".
¬ этническом смысле и как самоназвание слово "украинцы" на официальном уровне окончательно укоренилось лишь с созданием ”——–. ¬ √алиции это произошло только после вхождени€ ее территории в состав ———–/”——– в 1939 г., в «акарпатье - в 1945 г.
»так:
1. »значально (с XVI в.) "украинцами" именовались пограничные служилые люди ћосковского государства, несшие службу по ќке против крымцев.
2. — второй половины XVII в. под российским вли€нием пон€тие "украинцы" распространилось на слобожан и малороссийских казаков. — этого времени его постепенно стали употребл€ть и в самой ћалороссии.
3. концу XVIII в. относ€тс€ первые попытки русских и польских литераторов употребл€ть слово "украинцы" в отношении всего малороссийского населени€.
4. »спользование слова "украинцы" в этническом смысле (дл€ обозначени€ отдельного слав€нского этноса) началось с середины XIX в. в кругах российской радикальной интеллигенции.
5. "”краинцы" как самоназвание укоренилось только в советское врем€.
“аким образом, возникнув не позднее XVI в. и постепенно распростран€€сь от ћосквы до «акарпать€, слово "украинцы" полностью помен€ло свой смысл: изначально означа€ пограничных служилых людей ћосковского государства, оно, в конечном счете, приобрело значение отдельного слав€нского этноса.
07.08.2011 јвтор: јндрей ¬. —тавицкий, кандидат философских наук
»сточник http://via-midgard.info/news/article/proisxozhdenie-slov-ukraina-ukraincy-chto.htm
ћетки: –усь ”краина |
» восстал брат на брата... |
Ёто цитата сообщени€ Babajka [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
—в€та€ –усь (брать€м слав€нам). ¬от такие песни мы поем сейчас со слезами на глазах!
» говорили они друг другу: точно мы наказываемс€ за грех против брата нашего; мы видели страдание души его, когда он умол€л нас, но не послушали; за то и постигло нас горе сие. (Ѕыт.42:21)
Ќе следовало бы тебе злорадно смотреть на день брата твоего, на день отчуждени€ его; не следовало бы радоватьс€ о сынах »уды в день гибели их и расшир€ть рот в день бедстви€. (јвд.1:12)
” –ј»Ќј! Ќ”, Ќ≈”∆≈Ћ» “џ ѕќ√»Ѕј≈Ў№?
» дам им отроков в начальники, и дети будут господствовать над ними. » в народе один будет угнетаем другим, и каждый - ближним своим; юноша будет нагло превозноситьс€ над старцем, и простолюдин над вельможею. “огда ухватитс€ человек за брата своего, в семействе отца своего, [и скажет]: у теб€ [есть] одежда, будь нашим вождем, и да будут эти развалины под рукою твоею. ј [он] с кл€твою скажет: не могу исцелить [ран общества]; и в моем доме нет ни хлеба, ни одежды; не делайте мен€ вождем народа. (»с.3:4-7)
ћетки: ”краина –усь |
√енетика показывает, что евреи - это братский слав€нский народ! |

ѕроисхождение евреев с точки зрени€ генетики
ћетки: ≈вреи |
ѕроцитировано 1 раз
ќбщеслав€нское наследие - меры длины, азбука, календарь |
ƒневник |
ћетки: слав€не |
Ѕрать€ или братки? |
ƒневник |
“ри четверти жителей –оссии считают братскими народами украинцев и белорусов: опрос ¬÷»ќћ
¬сероссийский центр изучени€ общественного мнени€ (¬÷»ќћ) представил данные своего репрезентативного опроса жителей –оссии о том, существуют ли «братские» русскому народы и каковы критерии их общности.
“ри четверти жителей –оссии (75%) считают, что существуют «братские» по отношению к русскому народы. „ем старше респонденты, тем чаще они склонны раздел€ть эту точку зрени€: если среди 18-24-летних данной позиции придерживаютс€ 67%, то среди людей старше 60 лет – уже 79%. ¬ свою очередь, п€та€ дол€ опрошенных (18%) , напротив, за€вл€ет, что «братских» русскому народов нет.
аждый п€тый респондент характеризует «братские» народы, как близкие по происхождению (19%). “акже, по мнению респондентов, они оказывают поддержку и уважают друг друга (14%), живут в мире и единении, (10%) близки по культуре (10%), €зыку (8%) и т.д.
„тобы называтьс€ «братскими» народы, прежде всего, должны иметь дружественные отношени€ (60%) и общую историю (58%). роме того, их объедин€ет схожа€ культура (48%) и происхождение (46%). “реть жителей –оссии (35%) готова назвать «братскими» народы, относ€щиес€ к одной €зыковой группе. 32% опрошенных считают необходимым условием принадлежности к «братским» народам проживание на соседних территори€х. ƒругие же говор€т о тесных экономических св€з€х (30%). ќбща€ религи€ – ключевой фактор «братства» дл€ 24% участников опроса. ј 22% респондентов не могли бы назвать «братскими» народы, не имеющие единого вектора внешней политики.
«Ѕратскими» жители –оссии называют, в первую очередь, белорусов (79%) и украинцев (66%). –еже этот термин респонденты примен€ют к казахам (14%), арм€нам (7%), татарам (7%) и др. ≈ще 8% участников опроса причисл€ют к «братским» все народы, проживающие на территории –оссийской ‘едерации, а 4% - все население бывшего —оветского —оюза. 1% опрошенных полагает, что все народы мира - «братские».
»сточник: http://www.iarex.ru/news/48091.html
ћетки: —лав€не |
акой €зык самый сложный? |
ƒневник |
акой самый сложный €зык в мире

аждый человек, который когда-либо занималс€ изучением иностранного €зыка, задавалс€ вопросом, а какой же €зык самый сложный дл€ изучени€? языковеды, отвеча€ на данный вопрос, не дают однозначный ответ. ѕо их мнению, вс€ сложность состоит в том, какое наречие €вл€етс€ родным дл€ человека, который изучает иностранный €зык. ¬сЄ дело в том, что существуют родственные €зыки, такие как русский, украинский, польский, белорусский, чешский. ƒл€ человека русскоговор€щего не будет особым трудом изучить один из этих €зыков, что не скажешь о немце, €понце, англичанине, дл€ которых познание этих €зыков будет очень сложным процессом.
ƒл€ англо€зычного человека легко будет даватьс€ датский, голландский, французский и так далее. Ќапрашиваетс€ один вывод: чем сильнее изучаемый €зык отличаетс€ от родного €зыка, тем сложнее его будет учить.
—праведливо считать одними из самых сложных €зыков мира €понский, китайский, корейский €зыки по наличию в них множества иероглифов. “ак же прин€то считать одним из самых сложных венгерский €зык благодар€ наличию в нЄм 35 падежей.
¬ одни из самых сложных €зыков можно отнести и русский €зык (включа€ все родственные ему). — точки зрени€ письменности сюда следует добавить и арабские €зыки.
≈динственное, в чем лингвисты солидарны – так это то, что особн€ком стоит Ѕаскский €зык, а именно его изучение. ¬с€ трудность состоит в том, что он не похож ни на одну из существующих групп €зыков. ƒела€ вывод из вышесказанного, можно отметить лишь одно: пон€тие, какой €зык самый сложный дл€ изучени€ очень относительно, нельз€ говорить однозначно о сложности €зыка, сложности завис€т прежде всего от того наречи€, которое €вл€етс€ родным дл€ человека, что изучает иностранный €зык.
Ќо если нужен однозначный ответ, то как вариант говорите, что это Ѕаскский €зык
»сточник: smexota.net/all/12-2012/6a5edc9e59.php
ѕримечание ’азарина:
“рудно сказать, какой €зык самый сложный, а вот самый легкий дл€ мен€ - иврит. ƒумаю потому, что во многом этот €зык искусственный, построенный по строгой логике.
¬озможно, еще более лигичный €зык - эсперанто, но € его не изучал.
¬ообще, чем древнее €зык, тем он сложнее и красивее. –усский €зык красивый, но значительно деградировал по сравнению с €зыком иевской руси. ¬ этом отношении украинский €зык мне нравитс€ теем, что значительно ближе к истинно –”—№ ќћ” €зыку.
Ћюбител€м –уси и слав€нства, не знающим подлинно –”—— ќ√ќ €зыка:
–екомендую учебник: http://nasledie.ucoz.org/pdf/metodichka_drevnerusskij_jazyk.pdf
ћне не нравитс€ выражение - древнерусский, дело в том, что в действительности это средневековый русский.
ѕочему-то средние века везде с 6-го века начинаютс€, а дл€ –уси, почему-то древние времена, как будто –усь развивалась на другой планете.
” –уси есть действительно древние корни, не признаваемые историками.
ћетки: €зыки –усь |
’ортица = фортеца (просто в украинском €зыке нет звука "‘") - форпост –уси |
Ёто цитата сообщени€ Ark405 [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
ќ—“–ќ¬ ј«ј„№≈… —Ћј¬џ » — »‘— »’ ”–√јЌќ¬
ќстров ’ортица - один из самых больших островов ƒнепра, он лежит практически в центре «апорожь€. ≈го длина составл€ет 12 километров, а ширина - от 2 до 4 километров.
’ортица – остров с высокими скалистыми берегами, своего рода естественна€ укрепленна€ крепость, созданна€ природой. —верху подходы к нему защищал дев€тый днепровский порог из знаменитого каскада великих днепровских порогов, которые начинались от ƒнепропетровска и т€нулись до самого «апорожь€.
’ортица: остров казачьей славы и скифских курганов ќстров ’ортица - один из самых больших островов ƒнепра, он лежит практически в центре «апорожь€. ≈го длина составл€ет 12 километров, а ширина - от 2 до 4 километров.
’ортица – остров с высокими скалистыми берегами, своего рода естественна€ укрепленна€ крепость, созданна€ природой. —верху подходы к нему защищал дев€тый днепровский порог из знаменитого каскада великих днепровских порогов, которые начинались от ƒнепропетровска и т€нулись до самого «апорожь€. ћногие народы, насел€вшие эти земли, использовали выгодное стратегическое положение, которое занимает ’ортица.
«апорожье бережно хранит все, что св€зано со славной историей «апорожской —ечи – казачьей укрепленной крепости, существовавшей здесь в 16-18 веках. ≈ще раньше остров насел€ли скифы, первое упоминание об этом в летописи относитс€ к 10 веку. —кифскими курганами и каменными изва€ни€ми тоже привлекает туристов ’ортица. ‘ото этих исторических пам€тников и предметы быта скифов, найденные при раскопках, можно увидеть в музейном комплексе «—кифский стан».
Ќа остров и с него ведут уникальные арочные, двух€русные мосты, построенные по проекту инженера ѕреображенского. “уристы, приезжающие в «апорожье, стрем€тс€ посетить остров ’ортица. Ёкскурсии по его музе€м интересны и дет€м, и взрослым. «десь создан историко-культурный комплекс ««апорожска€ —ечь», восстановлены казацкое предместье и ѕокровский собор - один из первых храмов, построенный в 1576 году и просто€вший два столети€. ћного славных страниц вписала в историю ’ортица. ”краина гордитс€ ратными подвигами своих бесстрашных сынов, которые защищали наши рубежи от турков и сами совершали бесстрашные набеги на турецкие крепости.
Ѕольшой интерес туристов вызывает экспозици€ ћузе€ истории запорожского казачества. ќсобенный колорит посещению ’ортицы придают выступлени€ конного театра, который носит гордое им€ ««апорожские казаки». Ќа его территории, кроме театрализованных представлений, основанных на боевых казачьих забавах, можно осмотреть подн€тые со дна ƒнепра суда – казацкую чайку и бригантину 18 века. ‘ото острова ’ортица неизменно включаютс€ во все туристические путеводители по ”краине. ¬едь «апорожска€ —ечь вписала много героических страниц в нашу историю.
«апорожье, остров ’ортица – один из наиболее интересных маршрутов дл€ туристов, путешествующих по южной ”краине. ќб€зательно посетите этот героический днепровский остров, ове€нный скифскими тайнами и духом казачьей вольницы.
»сточник: http://xort.info/
ћетки: казаки скифы |
јс Ѕога ¬едает, √лагол€ ƒобро = ј«Ѕ” ј |
Ёто цитата сообщени€ UniqueAlenka [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
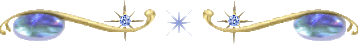
јзбучна€ истина. ѕрописна€ истина. ‘разы знакомые, но смысл давно утер€лс€. ј познавалась эта истина пр€мо в самой азбуке. ажда€ буква - символ, образы. –асположение не случайное. ћожно все прописные азбучные истины прочитать пр€мо в буквах.
ћетки: слова €зыки |
–усский лексикон |
Ёто цитата сообщени€ Mark_Orlov [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
огда одного школьника спросили, что бы он сделал, если бы в школе ввели, помимо русского €зыка, еще и древнерусский, он ответил, что скорее всего повесилс€ бы.
Ќу и зр€. ћы предлагаем рассмотреть вопрос с другой стороны. —€дьте поудобнее и наберите в легкие побольше воздуха. ѕредставим, что некоторые древнерусские слова по-прежнему присутствуют в нашей речи. ¬от что можно было бы слышать и читать каждый день.
я всегда вспоминаю своего первого школьного Ќј ј«ј“≈Ћя! ѕохоже, что с логикой у наших предков было все в пор€дке. ѕриход€т в школу зеленые первоклашки. –азбил окно, побил соседа, дернул самую красивую девочку за косу, — наказать! ѕричем пока есть врем€. ј вот в старших классах уже можно быть и учителем, потому что наказывать бесполезно. ”ченики и сами наказать могут. Ќу, а 5 окт€бр€ мы отмечали бы ƒень наказател€.
ћетки: слова €зыки |
Ѕылина - это то, что было... |
Ёто цитата сообщени€ Firefamer [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
√усл€р ≈гор —трельников родилс€ на ”краине, в «апорожской области. — самых первых концертов про€вил себ€ как €ркий, самобытный гусл€р-инструменталист, виртуоз-самородок! —тихи€ звучани€ живых струн гуслей, их волшебство и многотемброва€ глубина, жажда овладеть всеми тонкост€ми и приемами игры, привела его в класс знаменитого в –оссии мастера — ƒмитри€ Ћокшина. »скусство инструменталиста обрело еще большую силу, когда он стал исполнителем духовных песнопений и былин ƒревней –уси. ярка€ струнна€ имитаци€ колокольных звонов привела его на звонницы православных храмов. » вот, он уже звонарь —в€то-ƒанилова монастыр€ в ћоскве.
¬ концертной де€тельности, происходит встреча с соратниками — ¬алерием √араниным, Ћюбовью Ѕасурмановой, ћаксимом √авриленко, ¬асилием ∆данкиным и гитаристом »ваном —мирновым. ѕринимает активное участие в фестивал€х духовной и традиционной музыки. ≈го культурна€ мисси€ в —ербию в начале 2005 года оказалась очень важной дл€ духовного единени€ русского и сербского народов, результатом которой стал концерт «–усские за детей осово».
—ери€ сообщений "—лав€нские певцы, барды":
„асть 1 - ¬ладимир ¬ладимиров (гусли) - Ѕылина
„асть 2 - √усл€р
...
„асть 15 - ƒћ»“–»… Ѕ≈–јЌ∆≈ - √»ћЌ –ќƒ”
„асть 16 - ќлесь Ђј на «емле быть ƒобру!ї | »нтернет-преми€ ЂЌа Ѕлаго ћираї
„асть 17 - ≈гор —трельников -гусли - "»ль€ муромец и нечиста€ сила"
„асть 18 - »горь –астер€ев - Ќашествие 2011
„асть 19 - —ергей Ѕабкин & Classika - Ѕога
...
„асть 29 - ана - ¬есн€нка - Kana Vesnianka
„асть 30 - «накомьтесь : »ванна Ќечай "я жива"
„асть 31 - ќлес€ —инчук "Ћјƒј"
ћетки: музыка русь |
Ћада |
Ёто цитата сообщени€ Firefamer [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
—ери€ сообщений "—лав€нские певцы, барды":
„асть 1 - ¬ладимир ¬ладимиров (гусли) - Ѕылина
„асть 2 - √усл€р
...
„асть 29 - ана - ¬есн€нка - Kana Vesnianka
„асть 30 - «накомьтесь : »ванна Ќечай "я жива"
„асть 31 - ќлес€ —инчук "Ћјƒј"
ћетки: музыка песни русь |
—лав€не, слав€не, кругом одни слав€не... японские самураи под ”краинским трезубом. |
ƒневник |
ѕо материалам сайта http://www.germanicvs.com/
то знает, в каждой шутке есть дол€ шутки, а вдруг таки-да самураи - арии, Ќу в таком случае, они самые украинные украинцы јзии.
ј вот и цитата:
√овор€ про древнюю цивилизацию в »ндии, мы делаем адекватный вывод, что эта цивилизаци€ была основана —лав€нами-јри€ми в силу хот€ бы того обсто€тельства, что, —еверна€ »нди€ еще и сегодн€ €вл€етс€ другим после –еспублики Ѕеларусь местом, где концентраци€ —лав€но-јрийской гаплогруппы R1а достигает неверо€тно высокого показател€ в 70%. »сторические источники утверждают, что "арии", которые принесли культуру в »ндию, были белыми людьми. „то ж, эту информацию подтверждает и современна€ генетика. ѕоскольку в »ндии никаких "белых" гаплотипов, кроме —лав€но-јрийского R1а не вы€влено и вы€влено быть не может, то никто другой, кроме —лав€н, построить знаменитую цивилизацию в долине реки »нд физически просто не мог. јналогичные аргументы со 100%-й убедительностью позвол€ют нам предположить, что и древние цивилизации в ’арапе, “ибете и итае вообще, а так же и в японии, были созданы именно —лав€нами, а не кем-нибудь другим. Ќадлежащий анализ результатов генетических исследований не может не укрепить умного человека в этом абсолютно правильном мнении.

¬згл€ните на фотоснимок статуи предводител€ €понских самураев усуноки ћасашиге (1294-1336) у императорского дворца в “окио. Ёто очень характерный, знаковый, пам€тник. ¬ нем воплощен не азиатский, а ≈¬–ќѕ≈…— »… тип человека. японцы, в отличие от нас, хорошо помн€т, кто сто€л у истоков основани€ их родины и до сих пор очень обижаютс€, когда их называют "азиатами". ќни горд€тс€ своим белым прошлым, как горд€тс€ таковым все, кроме наших псевдоисториков, благодар€ которым другие народы растащили по куску нашу историю.
ћетки: самураи украина –усь |
Ќиколай ≈мелин. –усь |

ѕомните все - –усь начиналась с иева!
ћы- русские, украинцы и белорусы - родные брать€.
Ќе лезьте в наши семейные разборки своими гр€зными лапами, господа хорошие. ѕодеремс€ - помиримс€, опохмелимс€ (от кровавого похмель€), и возьмемс€ за переустройство этого мира...
ј тогда - "ховайтесь".
ћетки: –усь |
“рое в лодке, не счита€ евреев. |
ƒневник |
ак € уже вам писал, дорогие друзь€, € считаю, что мы €вл€емс€ свидетел€ми довольно болезненных родов новой нации - ”краинцы.
Ёта наци€ рождаетс€ на наших глазах, но процесс сложный, так как она рождаетс€ из трех этносов - «ападно-”краинского - кельтского в своем корне, ћалороссийского - слав€нского и русских, живущих на ”краине. как говоритс€ - зат€жные роды с обвитием пуповины на шее и поперечным предлежанием. Ќо € верю, что процесс идет, более того, он необратим, как необратима истори€. Ќельз€ дважды войти в одну и то же реку. я не считаю, что русские и украинцы - одна наци€, но это ближайшие брать€. » € хочу, чтобы они оставались брать€ми в единстве –уси. огда € говорю о –уси, € говорю не о –оссии, а о братском единстве –усского, ”краинского и Ѕелорусского народов, по подобию Ѕожьему существующими в единстве неслитно и нераздельно!
’азарин.
ѕредлагаю вам еще сведени€ о генетическом исследовании народов –уси.
–усские и украинцы – разницы нет!
ƒействительно ли русские, украинцы и белорусы – разные народы? Ќасколько они генетически близки? ак относитьс€ к западенской националистической пропаганде, что между русскими и украинцами €кобы лежит непреодолима€ пропасть? Ќа эти вопросы отвечает известный учЄный, профессор јнатолий јлексеевич лЄсов в эфире KM.TV.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dZgbsx8OEDo
≈сли вас интересуют книги проф. ј.ј. лЄсова, то приглашаем вас познакомитьс€ с его работами «анимательна€ ƒЌ -генеалоги€: Ќова€ наука даЄт ответы (ћ., ¬ече, 2013), котора€ вышла в серии «Ѕукиведи€», и ѕроисхождение слав€н (ћ., јлгоритм, 2013).
»сточник: http://pereformat.ru/2014/06/russkie-i-ukraincy/
лесов јнатолий - ѕроисхождение слав€н. ƒЌ -генеалоги€ против "норманнской теории" - https://yadi.sk/d/wYBHkfpjTkS74
ћетки: генетика |
јрии - реальность или выдумка псевдоисториков? |
ƒневник |
ѕредисловие ’азарина.
“рудности самоопределени€
огда мы говорим - –”—, ј–»…, –”—— »…, ” –ј»Ќ≈÷, что мы подразумеваем? ¬озникают разные проблемы, когда собеседники, произнос€ одни и те же слова, понимают их по разному.
ћожно говорить о нации или национальности в 3-х аспектах:
1) биологическом (как √итлер). ƒл€ него главное был - "голос крови". Ќе знал, бедн€га, что окажетс€, что каждый белый житель ≈вропы имеет в крови 7% еврейской крови, а у самого √итлера есть кровь евреев и жителей —еверной јфрики. примеру, Ћермонтов по крови шотландец и еврей, кстати, родственник „ерчилл€ и „арли „аплина.
¬се же по духу √итлер был дойч (немец - это презрительное прозвище иностранца, не говор€щего по-русски) со всеми преимуществами и недостатками "немецкой расы", да и по крови √итлер частично немец. (австрийский, правда - вестгот, а прародина вестготов рым и междуречье ƒнепра и ƒнестра.
ј Ћермонтов был русский, кто бы сомневалс€. ” ѕушкина, кстати, кровь эфиопска€, еврейска€ (караимска€) и русска€. ” русских кн€зей (19-го - 20-го века) достаточно еврейской крови, в том числе и у убийцы –аспутина - ёсупова.
–усские цари по происхождению зачастую были татарами и немцами.
Ќаличие угро-финского компонента у северных русских показывает ассимил€цию этих народов русскими в исторический период, но это никак не делает русских менее русскими.
ј жители ”краины вообще из двух этносов - западноукраинцы - кельты, родственники шотландцев, чье самоназвание - гелы, отсюда √алиси€ в »спании, √алли€, √аличина. —партак, кстати, был кельтом, то есть по крови близок к западно-украинцам. "ѕримучал (на нашу голову, а теперь они нас примучивают) —в€тослав дулебов, они же велын€не (волынка - национальный инструмент кельтов - шотландцев, ирландцев, уэльсцев и т.д)" - написано в летописи.
¬осточные ”краинцы - слав€не. Ќо по €зыку и те и другие слав€не.
¬ крови же у ”краинцев и ёжных русских (на ”краине, ƒону, –€зани) показывает тюркский компонент, но это не делает их менее –усами, русскими или слав€нами.
„ингис-хан лично изнасиловал столько женщин, что у каждого 200-го живущего на земле есть его кровь.
стати, исследователи говор€т, что когда заезжий монгол имел сношени€ с русскими девушками, он оставл€л ей пайцзу (знак) в виде дерев€нной дощечки, на которой руссими буквами было написано - "€ Єб твою мать", чтобы она повесила сей медальон отпрыску на шею (дабы отличать фолькс-монголов от низшей расы). ќтсюда и произошло известное выражение.
2) лингвистический компонент - все –усы принадлежат к индоевропейской=арийской €зыковой семье подсемье —Џ“» - то есть вместе со скифами, арм€нами, осетинами, иранцами, таджиками и жител€ми »ндии, в том числе и цыганами, возвращенцами из »ндии. (ко второй группе "÷≈“»" относ€тс€ германцы, греки,романцы и др.западные индоевропейцы), а исторически слав€не и германцы имеют общий корень; €зыкова€ группа - слав€не (восточные, есть еще южные и западные).
¬осточные слав€не: русские, украинцы и белорусы и есть - –усь, они разделились только в 15-м 16 веке по €зыку.
3) нации - русска€ наци€ сформировалась в конце 18-го - начале 19-го века (ƒержавин и ѕушкин словно говорили на разных €зыках, а мы говорим на €зыке ѕушкина. ѕроцесс становлени€ ”краинской нации еще до сих пор идет (и весьма болезненно).
Ќасчет белорусов, затрудн€юсь сказать, не изучал. «наю только, что јдам ћицкевич по матери еврей, по отцу - белорус, а считаетс€, почему-то, польским поэтом.
¬от така€ бывает путаница.
—ледующа€ стать€ рассматривает проблему ариев с точки зрени€ исследовани€ ƒЌ , а не исторического, культурного или €зыкового компонента.
ќдно лишь исследование ƒЌ у человека, скажем, считающего себ€ русским, не делает его менн русским, если у него "Ќе те гены".
Ётот спор напоминает мне старый французский фильм - "«акон есть закон", где идет спор о национальности главного геро€:
- ќн родилс€ от матери италь€нки и неизвестного отца, значит он италь€нец.
- Ќо он родилс€ на кухне - значит он француз (таверна, где родилс€ герой, была поделена между ‘ранцией и »талией, через нее и проходила граница).
¬ конце концов, € считаю, что человек принадлежит той нации, на €зыке которой он говорит и думает, к чьей культуре относитс€, чьими традици€ми живет, и в конечном счете, кем себ€ считает. ћы люди - образ и подобие Ѕожье, а не "разумные обезь€ны".
“ем более нельз€ превозносить или унижать какую-либо нацию.
ажда€ наци€ имеет свою историю, свою славу, своих героев. » своих негод€ев тоже...
ќткуда по€вились слав€не и «индоевропейцы»?
—мотрим в Ѕольшую —оветскую Ёнциклопедию и читаем: «≈динственно оправданным и прин€тым в насто€щее врем€ в науке €вл€етс€ применение термина «арии» лишь по отношению к племенам и народам, говорившим на индоиранских €зыках». Ёто надо же – так лихо и директивно откреститьс€ от своих предков. » далее – «¬ €зыкознании арийскими называютс€ индоиранские €зыки».

Ќа самом же деле это наши предки-арии принесли €зык в »ран, и через тыс€челети€, уже в наше врем€, его стали считать иранским. ј поскольку есть больша€ школа иранских €зыков, то арийские стали принимать за иранские, перепутав причину со следствием.
»ранские €зыки относ€тс€ к индоевропейским, и датировка их следующа€ – древнейшие, от II тыс€челети€ до н.э. до 300-400 лет до н.э., средний – от 300-400 лет до н.э. до 800-900 лет н.э., и новый – 800-900 лет н.э. по насто€щее врем€. “о есть древнейшие иранские €зыки датируютс€ уже после ухода ариев в »ндию и »ран, и более чем через 1000 лет после жизни праслав€нского предка (4800 лет назад). ≈сли понимать термин «иранский €зык» как €зык, на котором говорили в »ране до прихода ариев (что лингвисты, конечно, не имеют в виду), то на таким иранском €зыке он, наш предок, говорить никак не мог; это – сугубо лингвистический термин, и к динамике происхождени€ родов и народов отношени€ не имеет. Ќа арийском говорил: арийский €зык его потомки тыс€чу-полторы лет спуст€ и принесли в »ран. ј западно-иранска€ группа €зыков по€вилась вообще примерно в 500 г. до н.э.
¬ообще лингвисты в названии €зыков отличаютс€ особой вольностью, посто€нно пута€ причину со следствием. ¬ €зыки уральской группы они в своей безграничной мудрости посто€нно вставл€ют слово «финские», «финно-угорские», «финно-пермские», «финно-волжские», «прибалтийско-финские». Ќа самом деле это не согласуетс€ с картиной миграций народов, родов, гаплогрупп. Ёти миграции шли разными группами – будущие финны отдельно, будущие южные балты – отдельно. ќни – не финны по происхождению, по генеалогии. Ќет на ”рале финнов, финны – это конечна€ точка миграции в —кандинавии, а не начальна€, причем конечна€ точка всего небольшой части миграционных потоков – и людей, и €зыков. ’орошо еще, что английский €зык не назвали «американо-индейским», или «австрало-аборигенским», на том основании, что конечной точкой миграций (в их части) были јмерика и јвстрали€. ј вот арийский €зык назвали «иранским», именно по конечной точке одной из миграций, а потом – и «индоевропейским».
“ак арии и праслав€не старани€ми наших ученых стали безликими «индоевропейцами», а арийские, древнеслав€нские €зыки стали «иранскими» и «индоиранскими». Ёто тоже политкорректно. » пошли совершенно фантастичные пассажи, прин€тые в научной литературе, что «на ƒнепре жили ирано€зычные племена», что «скифы были ирано€зычны», что «жители јркаима говорили на иранских €зыках». Ќа арийских они говорили, дорогой читатель, на арийских. ќни же – древнеслав€нские €зыки. » об этом – тоже наше повествование.
—огласно индийским ведам, именно арии пришли в »ндию с севера, и это их гимны и сказани€ легли в основу индийских вед. », продолжа€ дальше, ведь это русский €зык (и родственные ему балтийские €зыки, например, литовский) ближе всех к санскриту, а от русского и балтийских €зыков и до ≈вропы рукой подать. —тало быть, балто-слав€нские €зыки и есть основа «индоевропейских €зыков», не так ли? “о есть, они же и арийские €зыки, если называть вещи своими именами.
“ак, никто и не спорит. Ќо, знаете ли, это как-то неправильно слав€нам такую честь оказывать. «»ндоевропейские €зыки» – это политкорректно, некие безликие «индоевропейцы» – тем более политкорректно, слав€не – не очень политкорректно. ј уж арии – это, знаете ли, чревато. ј почему чревато?
¬от как это определ€ет Ѕольша€ —оветска€ Ёнциклопеди€: «”же с середины 19 в. пон€тие «арии» (или «арийцы») примен€лось дл€ определени€ народов, принадлежавших к индоевропейской €зыковой общности. Ёто употребление термина было развито в расистской литературе (в особенности, в фашистской √ермании), придавшей ему тенденциозное и антинаучное значение».
Ќу, в том, как мы рассчитывали данные по временам жизни ариев, ничего расистского не было. ѕоэтому нацистскую √ерманию сюда тащить не будем. ” мен€, поделюсь, есть свой критерий в выборе собеседников или дискутантов. ак только человек в разговоре про гаплогруппу R1a и (или) ариев начинает вспоминать √итлера, € поворачиваюсь к нему спиной и ухожу. ќн – больной человек. — таким не стоит общатьс€. ќн живет шаблонами, в мозгу – пр€мые линии. »з таких получались классические политруки и вертухаи, дл€ которых шаг в сторону – побег.
стати, основное преступление нацистов было совсем не провозглашение себ€ «ари€ми». ѕровозгласили, и пусть с ними. „ем бы дит€ не тешилось. “ем более что среди современных немцев примерно 20% действительно относ€тс€ к гаплогруппе R1a, и чем дальше от западной к восточной √ермании (и далее на восток), тем этот процент выше. Ёто – именно потому, что на востоке √ермании издавна жили слав€не. Ќемецкие ученые отнюдь не были глупыми, они проводили глубокие исследовани€, и вы€вили сходство арийских символов, богов, культурных признаков между древними германцами и индийскими ари€ми, и пон€ли, что индоарии имели европейские корни. Ёто же подтверждает и ƒЌ -генеалоги€.
Ќо не в этом было преступление нацистов, пока это было только наукой. сожалению, нацисты пошли дальше, и объ€вили ариев «сверхчеловеками», избранной расой, а себ€ – их культурными преемниками. —ледующий шаг был – уничтожать «недочеловеков», среди них – евреев, цыган, слав€н, гомосексуалистов. ак только было произнесено слово «уничтожать», и слово претворилось в действие – нацисты поставили себ€ вне цивилизованного человечества, и в итоге подписали себе смертный приговор. ѕравда, до того они подписали смертный приговор миллионам невинных людей. ѕоэтому возлагать вину за это на ариев, которые жили тыс€челети€ назад – это крайн€€ степень идиотизма.
» всЄ же арии, знаете ли, – это страшновато. Ёто еще граждане во времена √”√Ѕ Ќ ¬ƒ ———– знали, а особенно сотрудники этой организации. ¬ то врем€ была разработка —екретно-политического отдела (—ѕќ) под названием «јрийцы», котора€ ув€зывала это слово с обвинени€ми в создании и пропаганде фашистских организаций в ———–. ак пишут источники того времени, основные обвинени€ выдвигались против представителей советской интеллигенции – преподавателей высших и средних учебных заведений, литературных работников издательств. ¬ частности, по «арийскому делу» была арестована и осуждена группа сотрудников по выпуску иностранных словарей. ¬ общем, об этом можно говорить много. ак отмечает историк ј. Ѕуровский, «попробуйте заговорить об ари€х в профессиональном сообществе – и уважаемые коллеги мгновенно напр€гутс€, подт€нутс€… —омнительна€ тема, нехороша€. Ћучше этой темой вообще не заниматьс€, спокойнее. ј если уж зан€лс€, то никаких выводов делать не надо».
Ќо мы сделаем, и не один. »так, стало €сно, что род R1a в ƒЌ -генеалогии – при рассмотрении древних времен, в частности, 6000-2500 лет назад – это арии, они же наши предки, праслав€не, они же «индоевропейцы». —вой арийский €зык, он же праслав€нский, они принесли в »ндию и »ран 3500-3400 лет назад, то есть 1400-1500 лет до нашей эры. ¬ »ндии он трудами великого ѕанини был отшлифован в санскрит примерно 2400 лет назад, близко к рубежу нашей эры, а в ѕерсии-»ране арийские €зыки стали основой группы иранских €зыков, древнейшие из которых датируютс€ II тыс€челетием до н.э. ¬се сходитс€.
¬от что значит, когда у лингвистов нет в руках дат жизни и миграции ариев, в частности, на территории современных »ндии и »рана. ќтсюда им, ари€м, а потом и всем другим – жител€м –усской равнины, ѕриднепровь€, ѕричерноморь€, ѕрикаспи€, южного ”рала – всем было присвоено звание «индоевропейцев», и тем более «ирано€зычных», с точностью до наоборот.
¬от откуда эти неуклюжие «индоевропейцы» вз€лись. Ќа самом деле арийские €зыки у них и без вс€кой »ндии или »рана были, по всей –усской равнине и до Ѕалкан. »ми же, ари€ми, €зык был принесен в ≈вропу еще 10-9 тыс€ч лет назад, ими же – и в »ран, и в »ндию, примерно 3500 лет назад. ќт »ндии до ≈вропы – одна и та же группа €зыков – арийских. ј ее вз€ли и назвали «индоевропейской», «индоиранской», «иранской». », что вообще уму непостижимо, наши люди, наши предки, праслав€не оказались «индоевропейцами», а то и «иранцами». «»рано-€зычные жители ƒнепра». аково? ѕора, наконец, филологам-лингвистам наводить у себ€ пор€док. ћы, специалисты в ƒЌ -генеалогии, поможем.
“ак в какую сторону шел арийский, праслав€нский поток – на запад, в ≈вропу, или наоборот, на восток? ѕо регионам – на повышение от 4800 лет, или на понижение? ¬ »ндию, как мы уже видели – на понижение, от 4800 до 3850 лет. «начит, поток с территории нынешней –оссии шел на восток. ј западнее?
» вот здесь наше повествование выходит в совершенно неожиданный, так сказать, ракурс. я еще несколько лет назад собрал 25-маркерные гаплотипы рода R1a1 по всем странам ≈вропы, и дл€ каждой страны или региона определил гаплотип общего дл€ попул€ции предка, и когда этот предок жил. ќказалось, что почти по всей ≈вропе, от »сландии на севере до √реции на юге, общий предок был один и тот же! »наче говор€, потомки как эстафету передавали свои гаплотипы своим же потомкам по поколени€м, расход€сь из одного и того же исторического места, прародины праслав€н, прародины «индоевропейцев», прародины ариев, которой оказались Ѕалканы. » не просто Ѕалканы, а —ерби€, осово, Ѕосни€, ’орвати€, ћакедони€. Ёто – ареал самых древних гаплотипов рода R1a1. » врем€ жизни первопредка, на которое указывают самые древние, самые мутированные гаплотипы – это примерно 10-9 тыс€ч лет назад.
¬ последующем те же выводы подтвердились при рассмотрении 67-маркерных гаплотипов, значительно более надежных объектов исследовани€, и результаты – если это кого интересует – были опубликованы в серии статей в журнале «Advances in Anthropology» (”спехи јнтропологии) в 2011-2012 гг. ƒЌ -генеалоги€ совершенно определенно указывает, что на прот€жении почти 6000 лет наши праслав€нские балканские предки жили в тех кра€х, никуда особо не передвига€сь. ≈сли и передвигались – следов тех активистов в гаплотипах наших современников пока почти не найдено. «ѕочти» – потому что дол€ тех древних гаплотипов составл€ет всего небольшую долю процента от гаплотипов R1a в ≈вропе. »наче говор€, те древние линии практически не дожили до нашего времени. ¬озможно, их и не осталось, одна надежда на ископаемые гаплотипы, но их пока проанализированы единицы. Ќо примерно 6000 лет назад началось ¬еликое переселение народов – видимо, в св€зи с переходом к новым формам хоз€йствовани€ и необходимостью освоени€ новых территорий. ѕервое выдвижение – на арпаты, на территорию исторической Ѕуковины. “ам, где найдена загадочна€ “рипольска€ культура, котора€, по мнению археологов, так же загадочно и пропала.
ј она не пропала. ѕотомки трипольцев там и живут. »х общий предок, по местным гаплотипам, принадлежал роду R1a. ѕраслав€нин. » гаплотип того предка нам теперь известен. ќн – тот же, что и гаплотип предка восточных слав€н. “а же семь€. стати, еще один маркер, уже другого типа – это свастика, древний символ ариев. ќн найден и на керамической посуде древнего “риполь€, и на –усской равнине, и в »ндии, »ране, и в јравии. ¬езде, куда доходили древние арии.
» далее пошли расходитьс€ волны миграций рода R1a во все стороны, с Ѕалкан (археологическа€ культура ¬инча и культуры, ей родственные) и Ѕуковины (трипольска€ культура). ѕрактически во все стороны – 6-5 тыс€ч лет назад, IV-III тыс€челетие до нашей эры. √ермани€ – точно такой же 25-маркерный гаплотип, что у восточных слав€н, 4600 лет назад.
13 25 16 10 11 14 12 12 10 13 11 30 15 9 10 11 11 24 14 20 32 12 15 15 16
—ейчас его обладателей (уже с мутаци€ми) в √ермании в среднем 18%, но в некоторых районах достигает трети. Ѕольшинство остального населени€ √ермании имеют «прибалтийскую» гаплогруппу I1 (24%) и «западноевропейскую» R1b (39%). стати, название «прибалтийска€» гаплогруппа I1 здесь совершенно условно, и по€вилось оттого, что в насто€щее врем€ ее носители живут в значительной степени на севере ≈вропы. Ќа самом деле это общеевропейска€ гаплогруппа, ее гаплотипы практически одинаковы от Ѕританских островов до ¬осточной ≈вропы, и все имеют одного общего предка, который жил примерно 3600 лет назад. Ќикакого предпочтени€ в этом отношении в ѕрибалтике нет.
Ќорвеги€ – такой же гаплотип, предок на территории современной Ќорвегии жил 4300 лет назад. ¬ Ќорвегии дол€ R1a сейчас в среднем – от 18% до 25% населени€. ¬ основном – «балтийска€» I1 (41%) и западноевропейска€ R1b (28%) гаплогруппы.
ѕоскольку у всех прочих европейцев рода R1a гаплотип первопредка на соответствующих территори€х такой же, то не буду это больше и упоминать. Ѕуду только указывать, когда первопредок, он же потомок балканских R1a, жил. Ќо сказать «потомок балканских» – это не совсем точно. ƒело в том, что примерно 4800-4600 лет назад носителей гаплогруппы R1a в ≈вропе практически не осталось, они или погибли, или бежали на –усскую равнину. ѕоэтому общий предок всех европейских гаплотипов и датируетс€ примерно 4800 лет назад, в это врем€ гаплотипы «обнулились». Ёто по-научному называетс€ «попул€ци€ прошла бутылочное горлышко». ћожно назвать – эффект «последнего из могикан». ≈сли этот последний из могикан выживет – то станет по сути дела основателем «новой» генеалогической линии, поскольку подсчет пойдет уже от него. Ёто, конечно, при условии, что от него будет мужское потомство, и оно выживет и приумножитс€. ѕотому и «бутылочное горлышко». ќно прошло или на подходе к –усской равнине, либо на самой –авнине. ¬ ≈вропу R1a вернулись с –усской равнины уже только в I тыс€челетии до нашей эры, и продолжалось это в ходе всего I тыс. до н.э. и I тыс нашей эры. ѕоэтому европейские R1a в подавл€ющем большинстве – с –усской равнины. » гаплотипы у всех похожие, хот€ и разошлись с тех времен почти на 40 ветвей.
ѕотому-то € и пишу здесь, что R1a по всей ≈вропе – праслав€нские, потомки праслав€нских общих предков. ј вот почему носители гаплогруппы R1a в ≈вропе почти все или погибли или бежали на –усскую равнину около 5000 лет назад – это отдельна€ истори€. ≈е сейчас мы касатьс€ не будем, да и много в ней пока белых п€тен. ’от€ соображени€ есть. ѕотом к этому вопросу подойдем.
¬озвращаемс€ к европейским R1a. Ўвеци€ – 4250 лет назад. ¬сего среди современных шведов 17% потомков праслав€н, рода R1a. ¬ основном – «балтийска€» I1 (48%) и «западноевропейска€» R1b (22%) гаплогруппы. ѕоскольку € выше дал определение «бутылочного горлышка попул€ции», то уже пон€тно, что примерно 3600 лет назад общеевропейска€ гаплогруппа I1 прошло то самое бутылочное горлышко, немногие выжившие бежали на север ≈вропы, в ѕрибалтику, подальше от ÷ентральной ≈вропы, и там, на севере, приумножились. ¬от и оказались «балтийской» гаплогруппой. ќтсюда видно, что все эти географические названи€ гаплогрупп весьмы зыбки, они отражают, как правило, только современное распределение гаплогрупп, и об их действительном происхождении почти ничего не говор€т. —читайте, что это жаргон.
ѕерейдем к јтлантике, на Ѕританские острова. «десь – цела€ группа территорий, на которых издавна живут потомки ариев, R1a, причем оп€ть с –усской равнины. ќни численно отнюдь не доминируют по сравнению с другим родом, R1b, представители которого пришли туда около 4000 лет назад. Ќо и их, потомков древних ариев, на островах не так мало.
¬ јнглии общий предок современных носителей R1a жил 4600 лет назад, как и в √ермании. Ќо в јнглии и вообще на Ѕританских островах потомков праслав€н относительно мало, от 2% до 9% по всем островам. “ам полностью доминируют западноевропейска€ R1b (до 92% по территори€м) и «балтийска€» I1 (16%) гаплогруппы.
¬ »рландии – 4200 лет назад. —ейчас в »рландии представителей гаплогруппы R1a немного, не более 2-4% населени€. “ам – до 90% западноевропейской гаплогруппы R1b. Ќа освоение северной, холодной и горной Ўотландии понадобилось врем€. ќбщий предок тамошнего филиала рода R1a жил 4300 лет назад. ¬ Ўотландии потомки праслав€н по численности снижаютс€ с севера на юг. Ќа севере, на Ўетландских островах, их 27%, и эта численность падает до 2-5% на юге страны. ¬ среднем, по всей стране, их около 6%. ќстальные – от двух третей до трех четвертей – имеют западноевропейскую гаплогруппу R1b.
Ќачнем двигатьс€ на восток. ѕольша, общий предок R1a жил 4600 лет назад. ” русско-украинских гаплотипов – 4800 лет назад, что практически совпадает в пределах точности расчетов. ƒа и даже если несколько поколений расчетных различий – это не разница дл€ таких сроков. ¬ современной ѕольше потомков праслав€н в среднем 50%, а в некоторых районах – до 55%. ќстальные имеют в основном западноевропейскую R1b (12%) и «балтийскую» I1 (17%) гаплогруппы.
¬ „ехии и —ловакии общий праслав€нский предок жил 4200 лет назад. ¬сего ненамного меньше, чем у русских и украинцев. “о есть речь идет о расселении на территори€х современных ѕольши, „ехии, —ловакии, ”краины, Ѕелоруссии, –оссии – все в пределах буквально нескольких поколений, но четыре с лишним тыс€чи лет назад.
¬ „ехии и —ловакии потомков праслав€н рода R1a около 40%. ” остальных в основном западноевропейска€ R1b (22-28%), «балтийска€» I1 и «балканска€» I2 (в совокупности 18%) гаплогруппы. Ќа территории современной ¬енгрии общий предок R1a жил 5000 лет назад. “ам сейчас до четверти потомков праслав€н-R1a. ќстальные имеют в основном западноевропейскую R1b (20%) и совокупную «балтийскую» I1 и «балканскую» I2 (суммарно 26%) гаплогруппы. — названием «балканска€» – та же истори€. Ќа самом деле по всей ¬осточной ≈вропе, от √реции до ѕрибалтики, гаплотипы группы I2 практически одинаковы, и у всех один общий предок, который жил примерно 2300 лет назад, в конце I тыс€челети€ до н.э. ќп€ть бутылочное горлышко попул€ции. Ќосители этих гаплотипов стали расходитьс€, видимо, с ¬осточных арпат по всей ¬осточной ≈вропе, и больше на юг, на Ѕалканы. ѕоэтому их там максимальное количество, сейчас до 40% по всем балканским странам. Ќо «возраст» – одинаков по всей ¬осточной ≈вропе. ѕоэтому название «балканска€» идет только от сегодн€шней численности. ќно не отражает историю миграций попул€ции, и тем более историю гаплогруппы I2 до их катастрофы около 5 тыс€ч лет назад, как показывает анализ гаплотипов.
¬ общем, ситуаци€ €сна. ƒобавлю только, что по европейским странам – »сланди€, Ќидерланды, ƒани€, Ўвейцари€, Ѕельги€, Ћитва, ‘ранци€, »тали€, –умыни€, јлбани€, „ерногори€, —ловени€, ’орвати€, »спани€, √реци€, Ѕолгари€, ћолдави€ – общий предок жил примерно 4500 лет назад. ≈сли точнее – то 4525 лет назад, но такой точностью € здесь умышленно не оперирую. Ёто – общий предок рода R1a по всем перечисленным странам. ќбщеевропейский предок, так сказать, не счита€ показанного выше балканского региона, прародины праслав€н, ариев, «индоевропейцев». Ќо и в ≈вропе есть ветви, современные гаплотипы которых имеют общих предков 5000-6000 лет назад. Ёто обычно север ≈вропы, видимо, остатки древних генеалогических линий, бежавших на окраины континента.
ƒол€ потомков праслав€н-ариев в этих странах варьируетс€ от 4% в √олландии и »талии (до 19% в ¬енеции и алабрии), 10% в јлбании, 8-11% в √реции (до 25% в —алониках), 12-15% в Ѕолгарии и √ерцоговине, 14-17% в ƒании и —ербии, 15-25% в Ѕоснии, ћакедонии и Ўвейцарии, 20% в –умынии и ¬енгрии, 23% в »сландии, 22-39% в ћолдавии, 29-34% в ’орватии, 30-37% в —ловении (16% в целом по Ѕалканам), ну и заодно – 32-37% в Ёстонии, 34-38% в Ћитве, 41% в Ћатвии, 40% в Ѕелоруссии, 45-54% на ”краине. ¬ –оссии праслав€н-ариев, как € уже упоминал, в среднем 48%, за счет высокой доли южно-балтийской группы N1c1 на севере –оссии, которых ошибочно называют угро-финнами (или финно-уграми), но на юге и в центре –оссии дол€ восточных слав€н, потомков ариев, достигает 60-75%.
√аплотипы предков везде те же самые. ƒа и почему им быть другими? –од-то один и тот же – R1a. ѕоказательно не то, что предковый гаплотип тот же, показательно то, что он получаетс€ из гаплотипов современников один и тот же. Ёто значит, что методологи€ анализа и обработки гаплотипов правильна€, статистика достаточна€, данные воспроизводимы и надежны. ¬от что крайне важно.
ѕерейдем к соседним с ¬енгрией ¬осточным арпатам. ѕро них € уже писал. Ќапомню, что Ѕуковина – это старое название местности на северо-востоке арпат, на стыке ”краины и –умынии, со стороны ”краины – „ерновицка€ область. √ород „ерновцы и есть исторический центр Ѕуковины. ¬ рамках археологии – часть территории трипольской культуры. Ёто и есть энеолит.
¬от и нашли мы тех, кто жил там в эпоху энеолита. Ќаучные труды излагают – происхождение трипольской культуры не определено, в основе ее были неолитические племена, то есть племена эпохи позднего каменного века, который продолжалс€ примерно до 5000 лет назад. ј ƒЌ -генеалоги€ определила. ѕраслав€не там жили. јрии. «»ндоевропейцы». Ќаши предки. –од R1a, к которому относ€тс€ до трех четвертей русских людей.
¬ научной литературе указываетс€, что ранние жители трипольской культуры, которые жили там 5000 лет назад и ранее, были «выдавлены оттуда миграцией «индоевропейцев» примерно 4000 лет назад. Ќо мы видим, что это не так. ѕраслав€не – и есть те самые ранние жители. ќни же «индоевропейцы», только тогда никаких «индо» и в помине не было: потомки этих праслав€н ушли в »ндию только через 2500 тыс€чи лет после описываемого периода их жизни в трипольской культуре. ¬от мы и нашли прародину европейских праслав€н, они же арии. Ёто – Ѕалканы, ƒинарские јльпы, дунайский бассейн.
ј как же авказ, јнатоли€, Ѕлижний ¬осток, јравийский полуостров как возможные прародины ариев, рода R1a, праслав€н? ƒа, давайте посмотрим.
јрмени€. ¬озраст общего предка рода R1a – 4400 лет назад.
ћала€ јзи€, јнатолийский полуостров. »сторический перекресток на пут€х между Ѕлижним ¬остоком, ≈вропой и јзией. Ёто был первый или второй кандидат дл€ «индоевропейской прародины». ќднако общий предок R1a жил там те же 4500-4000 лет назад. Ќо это – «индоевропейский» общий предок. ј миграционный путь древнейших носителей R1a проходил по јнатолии на запад, в сторону ≈вропы, примерно 10-9 тыс€ч лет назад. Ёту миграцию и уловили лингвисты, поместив в јнатолию прото-индоевропейский €зык те же 10-9 тыс€ч лет назад. “олько это не «прародина» индоевропейского €зыка, это транзит с востока в ≈вропу. » Ѕалканы – не прародина, тоже транзит. » причерноморские степи – не прародина, тоже транзит. ¬от и про€сн€етс€ ситуаци€ с лингвистами, которые никак не могут найти «прародину» индоевропейских €зыков вот уже двести лет, и просвета нет.
Ќет и не может быть «прародины» у €зыка, который тыс€челети€ми в подвижках, в эффектах дивергенции и конвергенции, и при этом его носители, в данном случае R1a как носители пра-индоевропейского, а затем и индоевропейского €зыка, он же арийский €зык, прошли длинный путь от ёжной —ибири до ≈вропы, от примерно 20 тыс€ч лет назад до 10-9 тыс€ч лет назад, и далее около 5 тыс€ч лет назад ушли на восток и далее в «ауралье вплоть до ита€, на юго-восток в »ндию и »ран, на юг через авказ в ћесопотамию и далее до јравии и до »ндийского океана. ¬озможно, и вымыли в нем сапоги. “ак что оп€ть диалектика, развитие по спирали. »так, и восточные слав€не, и арм€не, и анатолийцы – у всех арийский предок или тот же самый, или предки очень близки по времени, в пределах нескольких поколений.
—ледует отметить, что 4500-4000 лет до общего предка ариев в јнатолии хорошо согласуетс€ со временем по€влени€ хеттов в ћалой јзии в последней четверти III тыс€челети€ до н.э., поскольку есть данные, что хетты поднимали восстание против Ќарамсина (2236-2200 лет до н.э., то есть 4244-4208 лет до нашего времени).
√аплотипы рода R1a на јравийском полуострове (страны ќманского залива – атар, ќбъединенные јрабские Ёмираты). » еще – на рите. Ќазвани€ этих стран звучат непривычно в отношении рода R1a, но наши предки, или потомки наших предков и там побывали в древние времена, и современные обладатели R1a в тех кра€х несут их Y-хромосомы.
¬озраст общего предка на јравийском полуострове, определенный по гаплотипам – 4000 лет. Ёта дата хорошо согласуетс€ с 4000-4500 годами до общего предка в јрмении и јнатолии, если прин€ть за разумный вариант направление потока ариев со —реднерусской равнины через горы авказа и далее на юг, в јравию. »наче говор€, миграционна€ волна шла из ≈вропы, сохранила врем€ общего предка на авказе и в ћалой јзии, и уже на излете дошла до јравии, сдвинув врем€ общего предка на 400-500 лет. ¬ принципе, гаплотипы рода R1a могли быть занесены в јравию невольниками, доставленными в те кра€ четыре тыс€чи лет назад. Ќо ответить на этот вопрос надлежит уже историкам. ¬ свете же последних данных по гаплотипам R1a у арабов это становитс€ крайне маловеро€тным. —амые знаменитые и высокопоставленные кланы имеют носителей R1a.
¬ литературе опубликована сери€ гаплотипов с острова рит. ќни были собраны у жителей плато Ћасити, на котором по легендам спасались их предки во врем€ извержени€ и взрыва вулкана —анторин 3600 лет назад, и остальные гаплотипы были собраны на примыкающей территории префектуры √ераклион. –асчет времени жизни общего предка на рите проводилс€ нами несколькими разными способами, но результат один – 4400 лет назад. ”важительные 800 лет до взрыва вулкана —анторин. Ёта величина соответствует средним временам европейского расселени€ рода R1a.
ƒЌ наших современников показывают, что самые древние европейские корни ариев, рода R1a, давностью 10-9 тыс€ч лет, наход€тс€ на Ѕалканах – в —ербии, осово, Ѕоснии, ’орватии, ћакедонии. „ерез 5000-6000 лет этот род расширитс€ на северо-восток, на ¬осточные арпаты, образовав праслав€нскую, трипольскую культуру и положив начало великому переселению народов в IV-III тыс€челети€х до нашей эры. ¬ те же времена род R1a продвинулс€ и по южной дуге, и 4300 лет назад – по запис€м в наших ƒЌ – по€вилс€ в Ћиване. ѕр€мые потомки тех первых переселенцев живут в Ћиване и в наши дни. —реди них, потомков рода ариев – шииты-мусульмане с юга Ћивана, сунниты-мусульмане с севера страны и из долины Ѕекаа, христиане-марониты с ливанского севера, друзы, живущие в ливанских горах.
ак часть этого переселени€, вызванного, видимо, развитием сельского хоз€йства и переходом к его экстенсивным формам, а также развитием экономики, этот же род R1a продвинулс€ на запад, до јтлантики и Ѕританских островов, и на север, в —кандинавию. Ётот же род пришел на ближний север и восток – на земли современных ѕольши, „ехии, —ловакии, ”краины, Ћитвы, Ѕелоруссии, –оссии, с общим праслав€нским предком, жившим 4800 лет назад. Ётот же предок дал выжившее потомство, живущее в насто€щее врем€ по всей ≈вропе, от »сландии до √реции и ипра, и распространившеес€ до юга јравийского полуострова и ќманского залива.
ѕотомки того же предка, с тем же гаплотипом в ƒЌ , прошли до южного ”рала, построили там городища 4000-3800 лет назад, одно из них (открытое в конце 1980-х годов) получило известность как јркаим, и под именем ариев ушли в »ндию, принес€ туда 3500 лет назад свои праслав€нские гаплотипы. ¬ том же II тыс€челетии до нашей эры довольно многочисленна€ группа рода R1a, тоже называвша€ себ€ ари€ми, перешла из —редней јзии в »ран. Ёто – единственна€, но значима€ св€зка, позвол€юща€ назвать весь род R1a родом ариев. ќна же приводит к тождеству «индоевропейцев», ариев, праслав€н и рода R1a в рамках ƒЌ -генеалогии. ќна же, эта св€зка, помещает прародину «индоевропейцев», ариев, праслав€н на Ѕалканы. Ёта же св€зка приводит в соответствие место балканской европейской «прародины», поток миграции ариев-праслав€н, динамическую цепь археологических культур и соответствующий поток индоевропейских €зыков, и показывает место и врем€ по€влени€ частицы «индо».
“олько пон€тие «прародина» здесь – не €зыкова€ прародина, а предположительное место прибыти€ носителей R1a в ≈вропу, и оттуда уже распространение по континенту. ƒл€ R1a в более широком смысле это, конечно, не «прародина». ¬ообще поиски «прародин» дл€ миграций и €зыков в их динамике на прот€жении многих тыс€челетий и на рассто€ни€х во многие тыс€чи километров – зан€тие безнадежное и неперспективное, но почему-то непрекращающеес€. »нерци€? ѕравда, многие лингвисты определ€ют «прародину» индоевропейского €зыка не как место зарождени€ €зыка, но как расхождение его на ветви, и пытаютс€ пон€ть, из какой одной археологической культуры это произошло. Ёто зан€тие не менее безнадежное, поскольку расхождение индоевропейского €зыка, называть его пра-индоевропейским или прото-индоевропейским, происходило все врем€ на прот€жении тех самых 20 тыс€ч лет существовани€ гаплогруппы R1a, а на самом деле много ранее, оп€ть в динамике €зыка на прот€жении последних 60-55 тыс€ч лет, со времени по€влени€ европеоидов. » не только расхождение – дивергенци€, но и сли€ние-конвергенци€, и много других на первый взгл€д беспор€дочных €зыковых процессов.
Ќаконец, та же описанна€ выше св€зка, позвол€юща€ назвать весь род R1a родом ариев, убедительно показывает, что не праслав€не говорили на «индоиранских» €зыках, а наоборот, потомки праслав€н принесли свои арийские €зыки в »ндию и »ран, причем времена по€влени€ этих €зыков в »ндии и »ране, установленные лингвистами, полностью согласуютс€ со временем прихода туда потомков праслав€н – временем, записанным в виде мутаций в ƒЌ наших современников рода R1a. Ёто – примерно 3500 лет назад, но это времена по€влени€ €зыков в »ндии и »ране, сами же €зыки образовались много ранее, как описано выше. ¬идимо, расхождение арийского €зыка на «индоарийский», «иранский», и €зык митаннийских ариев, «ближневосточный», произошло при расхождении ариев по этим направлени€м с –усской равнины, примерно 4500 лет назад, в середине III тыс€челети€ до н.э. Ќо миграционные потоки (или военные экспедиции) расход€тс€ довольно быстро, а €зык – дело консервативное, поэтому расхождение самих €зыков можно датировать примерно 4000 лет назад. о времени перехода ариев в »ндию и на »ранское плато, примерно 3500 лет назад, €зыки уже достточно разошлись, чтобы образовать указанные ветви арийского €зыка.
јнатолий ј. лЄсов, профессор химии и биохимии ћосковского и √арвардского университетов и јЌ ———– (в разные времена), главный научный сотрудник
http://pereformat.ru/2013/02/otkuda-poyavilis-slavyane/
ћетки: арии слав€не |
ѕроисхождение –уси |
ƒневник |
ѕроисхождение –уси, а не происхождение имени –уси
кандидат исторических наук
рупнейший российский лингвист ќ.Ќ.“рубачев в работе « истокам –уси (наблюдени€ лингвиста)» вечным вопросом назвал не только вопрос о том, «откуда есть пошла русска€ земл€», но и вопрос о том, как и откуда она стала так называтьс€. “рубачев высказал убеждение, что эти два вопроса взаимозависимы и в подтверждение сослалс€ на высказывание јлександра Ѕрюкнера: «“от, кто удачно объ€снит название –уси, овладеет ключом к решению начал еЄ истории». ќднако если во главу угла при исследовании историогенеза народа брать второй вопрос – об удачном объ€снении имени, – то первый вопрос никогда не будет решЄн, потому что наука зав€знет на втором, что и происходит перед нашим взором в дискусси€х о начальном периоде древнерусской истории. јналогов данной ситуации нет, поскольку истории других народов не став€тс€ в зависимость от разгадки их имени.

ѕодмена летописного вопроса «ќткуда есть пошла русска€ земл€» вопросом «откуда она так стала называтьс€» произведена норманизмом, который вот уже более 200 лет нав€зывает науке свою концепцию скандинавского происхождени€ слова «русь» от шведских «гребцов»-*rodzmän и финского Ruotsi (подчЄркиваю, слова, поскольку «русь» у них изначально не им€).
ѕора всЄ-таки вспомнить, что истори€ какого-либо субъекта не может быть решена, опира€сь на историю имени субъекта. ѕо моему глубокому убеждению, летописный вопрос «откуда есть пошла русска€ земл€» совсем не нуждаетс€ в комплектации его вопросом «откуда она стала так называтьс€». Ћетописному вопросу «откуда есть пошла русска€ земл€» должно вернуть его главенствующее, ведущее положение без вс€ких оговорок. Ќо прежде чем раскрыть высказанную мысль, считаю необходимым сделать небольшую преамбулу.
ѕару лет тому назад, в 7-ом выпуске «—редневековой –уси» Ќ.‘. отл€р в небольшой статье-рецензии перечислил основные пункты символа веры норманизма, где на первом месте стоит, естественно, концепци€ скандинавского происхождени€ слова «русь». ѕри этом отл€р заметил, что все другие этимологии имени «русь», как то слав€нского, кельтского, иранского и пр. происхождений давно скомпроментированы лингвистами, соотвественно, все, кто пытаетс€ противопоставить скандинавской этимологии какую-то другую, относитс€ данным автором к кучке малообразованных антинорманистов, выступающих под ветхими знаменами и пр.
¬ своей преамбуле считаю нужным вкратце очертить нынешнюю ситуацию с продолжающимис€ попытками обосновать скандинавскую этимологию имени (или как отл€р пишет, слова «русь», поскольку повтор€ю, у норманистов оно изначально – не им€, а так себе, слово какое-то).
Ќапрасно норманисты за€вл€ют, что всЄ в их концепции прочно, лингвистически подшито и подогнано, в силу чего и признано всеми людьми доброй воли. ” шведских медиевистов, например, до сих пор не отыскалось убедительных обоснований этимологии –уси с происхождением от «шведских гребцов». ¬ работах по этой проблематике осторожно сообщаетс€, что лингвистический аспект по данному вопросу остаЄтс€ дискуссионным. Ќапомню, что приснопам€тные «гребцы» от шведского глагола ro “грести” должны были, по мысли создателей данной концепции, происходить из шведской местности –услаген, более раннее название которой было –уден.
¬ научной литературе не раз указывалось на то, что название –уден впервые упоминаетс€ в Ўвеции в 1296 г. в ”пландском областном законе, в котором указом корол€ Ѕиргер ћагнуссона повелевалось, что все, кто живут в —еверном –удене, должны следовать данному закону. ¬ форме Roslagen (Rodzlagen) это название, также в текстах законов, по€вл€етс€ только в 1493 г., и далее в 1511, 1526 и в 1528. ак общеприн€тое название оно закрепилось ещЄ позднее, поскольку даже при √уставе ¬азе было в употреблении называть эту область –уден (Gunnar T.Westin, Det medeltida Sveriges första häfte för Uppland/DMS,1:1, Norra Roden, 1972). Ќе собираюсь вдаватьс€ в рассмотрение всех филологических экзерсисов по поводу производства –уден в –уотси, а –уотси – в –усь. —кажу только, что в шведской медиевистике ученые не пришли к единому мнению по большинству основные вопросов, св€занных с –уденом: какую изначальную роль он играл, каковы были его границы; по-прежнему, дискуссионным, как сказано выше, остаЄтс€ и лингвистический аспект, т.е. попытки преобразовани€ глагола ro-/грести и существительного rodd/гребл€ через –уден в –уотси и –усь -, поскольку наличие соответствующих праформ в шведском €зыке раннесредневекового периода, по-прежнему, не вышло за рамки умозрительного допущени€, т.е. проще говор€, эти праформы не найдены, и единственное, что есть в наличии, это, повтор€ю: Roden – 1296, rodzkarlena (1470), rodzmän – примерно, в этот же период, Rodzlagen – не ранее 1493, т.е. из этих данных видно, что rodzmän могли образоватьс€ от Roden, а Rodzlagen мог образоватьс€ от rodzmän, но все эти преобразовани€ могли происходить в период с конца XIII в. и по XVI в., причЄм замыкались лишь на определЄнный регион Ўвеции.
ƒалее следует сказать, что только в последние пару дес€тилетий с отрицанием научной обоснованности скандинавской этимологии –уси выступили такие крупные российские учЄные как ќ.Ќ.“рубачев (см. например, « истокам –уси (наблюдени€ лингвиста») и ј.¬.Ќазаренко (см., например, ƒревн€€ –усь на международных пут€х). ќтмеча€ бесплодность результатов производства имени –усь из шведской этимологии, ј.¬.Ќазаренко, писал, что «не только любой (как выразилась ≈.ј.ћельникова), а ни один из предложенных до сих пор композитов не даЄт лингвистически удовлетворительной праформы…», поскольку остаЄтс€ загадкой, как в €зыке самих носителей исходна€ форма типа *roþs-men могла редуцироватьс€ до roþs.
ќ.Ќ.“рубачев также произнЄс решительный приговор попыткам произвести им€ –усь от шведских гребцов, сказав, что: «…разумнее будет согласитьс€, что скандинавска€ этимологи€ дл€ нашего –усь или хот€ бы финского –уотси не найдена» и напомнил, по его определению, пророческий приговор яна ќтрембского, крупнейшего польского €зыковеда и индоевропеиста: «Ёта концепци€ (имеетс€ в виду норманска€ этимологи€ –уси у ‘асмера) €вл€етс€ одной из величайших ошибок, когда-либо совершавшихс€ наукой».
ак многие, веро€тно, помн€т, “рубачЄв всЄ-таки видел св€зь между финским –уотси и –усью, правда, полага€, что им€ –усь пришло с юга и повли€ло на финское *rotsi. Ќо даже така€ попытка при всей тонкости анализа “рубачЄва не вышла за пределы допущени€, поскольку дл€ еЄ доказательства требовалось предположить, что существовало прадревнерусское *Rutsь, которое шло с юга на север, т.е. снова на пути рассуждений возникал вопрос праформы, которую не нашли.
Ќа этом € оставл€ю мир лингвоозабоченности по поводу происхождени€ имени –уси – полагаю, что € воздала должное этой, на мой взгл€д, скорбной традиции, и перейду к тому, о чЄм €, собственно, хотела рассказать. ¬ моЄм рассказе € постараюсь успеть затронуть два вопроса.
¬о-первых, € хочу предложить своЄ объ€снение тому, почему не удалось найти древнюю праформу дл€ –удена или почему им€ –уден такого позднего происхождени€. Ётому имеетс€ сама€ естественна€ причина.
«ан€тые лингвистической казуистикой относительно св€зи шведского –удена и финской –уотси, учЄные не удосужились проверить, а существовал ли шведский –уден в чисто в физико-географическом плане, иначе говор€, – задать себе летописный вопрос «откуда есть пошла земл€ –уден?» я попробовала это вы€снить, поскольку мне стало любопытно узнать: если название –уден и производные от него имеют столь позднее происхождение, то как же эта местность называлась ранее? » оказалось, что никак не называлась, поскольку самой этой земли в раннесредневековый период ещЄ не было. «емл€ или прибрежна€ полоса, получивша€ название –уден в конце XIII в., не только в IX в., но и в X в. как физико-географический субъект не существовала, ибо она находилась под водой. ƒело в том, что Ѕотни€ в районе шведской прибрежной акватории, начина€ с послеледникового периода, обнаруживает любопытный феномен постепенного подъЄма морского дна и прирастани€ за счЄт этого подъЄма новой суши, новой береговой полосы. ѕо исследовани€м шведских учЄных, уровень мор€ в районе, где сейчас расположен –услаген, был минимум на 6-7 м выше нынешнего.
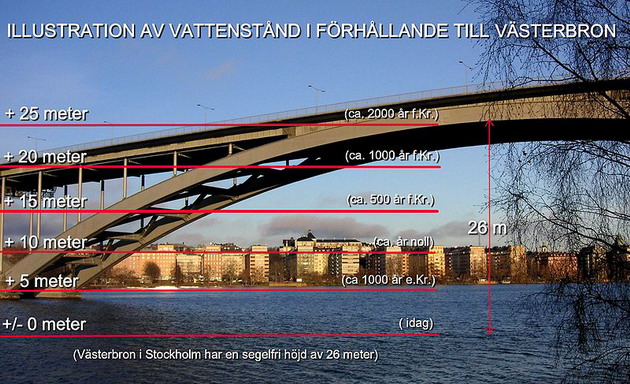
»ллюстраци€ изменени€ уровней водной поверхности относительно современного моста ¬эстербрун (—токгольм), вз€того за эталон благодар€ своей высоте в 26 м. расные отметки: верхн€€ 25 м – 2000 лет до –.’.; 10м – рубеж нашей эры; 5 м – ок. 1000 лет после –.’., то есть XI век. артинка показывает, как суша в прибрежной полосе ¬осточной Ўвеции постепенно «вырастала» из мор€, и в IX в. она почти вс€ была под водой. —токгольм – это южна€ часть –одена/–услагена, который в это врем€ находилс€ между отметкой 5 м и 10 м.
ƒаже в XI-XII вв., как пишет исследовательница из ”псалы арин алиссендорф, уровень мор€ был на 5 м выше, чем сейчас. Ќынешнее озеро ћэларен было открытым заливом мор€, а значительна€ часть береговой полосы была островками, более или менее выступавшими из воды. (Karin Calissendorf, arkivarie vid Ortnamnarkivet i Uppsala, Ortnamn i Uppland. Stockholm, 1986. S.11; см. также результаты картографических съЄмок адастровой службы или сведени€ об изменений уровн€ мор€ в районе —токгольма – южна€ часть старого –удена и в районе к северу от –услагена – Höga Kusten: уровень мор€ был выше в направлении с юга на север.) “от факт, что эта область только к XIII в. стала представл€ть из себ€ территорию с услови€ми, пригодными дл€ регул€рной человеческой де€тельности, подтверждаетс€ многими данными (одним из которых как раз и €вл€етс€ вышеупом€нутый королевский указ из областных ”пландских законов).
ѕервые достоверные сведени€ о прибрежной области на востоке —витьод, ставшей впоследствии –уденом/–услагеном, мы получаем от —норри —турлусона, который в 1219 г. побывал в Ўвеции и получил от своих информаторов ценные сведени€ о —вейской стране (Sveaväldet), в частности, об еЄ административном делении, которые он привЄл в —аге об ќлаве —в€том (« руг земной»). “ам сообщаетс€, что собственно —витьод состоит из п€ти частей и что п€та€ часть – это Sjöland/Sæland, к ней же относитс€ всЄ, что лежит в море к востоку от неЄ (den femte Sjöland och det som ligger därtill. Det ligger österut med havet).
Ѕыло врем€, когда шведские исследователи (в частности, ѕ.ћ.Ћийсинг/P.M. Lijsing – краевед, редактор журнала ”Hundare och skeppslag”) искавшие доказательства того, что название –уден существовало ранее, пытались убедить, что —норри —турлусон, говор€ «всЄ, что лежит к востоку в море», мог иметь в виду –уден. ¬ некоторых шведских переводах —аги об ќлаве —в€том даже вместо «иеланд смело подставл€лось –уден. Ќо это – чиста€ подтасовка фактов и попытка выдать желаемое за действительное. «иеланд – это не –уден и таковым быть не могла.
«иеланд (от sjö – море и land – земл€, страна) – это ћореланди€, т.е. это уже не море, но ещЄ и не земл€. Ёто архипелаг, состо€щий из островов, островков, выступающих над водной поверхностью, это – суша в процессе образовани€. Ќа ней ещЄ мало и кустов, и деревьев, на ней ещЄ так мало почвы, что еЄ покрывают одни лишь мхи и немного травы, стелющейс€ по каменистой поверхности и непон€тно, как цепл€ющейс€ за неЄ корн€ми. Ёти островки – ещЄ не земл€, это – еЄ костистна€ основа, выпирающа€ из воды и греюща€с€ под тусклым северным солнцем. ¬ этом царстве камн€ ещЄ нет места дл€ кипучей человеческой жизни. “олько редкие рыбачьи хибарки могли закрепитьс€ на влажной поверхности каменных выступов, хран€щих борозды, оставленные на них ледниками. ¬от что такое «иеланд. Ёто, собственно, не топоним: это синоним дл€ слова архипелаг, не получившего ещЄ собственного имени.
ƒанные —норри —турлусона – очень важное свидетельство того, что даже в его врем€ прибрежна€ полоса будущего –удена находилась в процессе формировани€. “олько к самому концу XIII в. части этого архипелага могли стать местом жительства дл€ населени€ в таком количестве, которое уже представл€ло интерес и дл€ королевской власти. ѕотому-то и потребовалс€ вышеупом€нутый указ 1296 г., в котором предписывалось, что отныне на население —еверного –удена будет распростран€тьс€ тот же закон, которому подчин€лось и население трЄх основных земель (фолькланд) ”пландии, а именно: “иундаланд, јтундаланд и ‘ьедрундаланд, известных с XI-XII вв. ¬ывод напрашиваетс€ сам собой: только к самому концу XIII в.природные услови€ прибрежной полосы позволили включить северную еЄ часть как новую землю в систему административного делени€ государства и объ€вить еЄ население подвластным королю свеев. Ќо как обратил внимание ѕ.ћ. Ћийсинг, в выборах корол€ свеев, по-прежнему, участвовали только представители трЄх старых земель, но не население –удена, которое, видимо, всЄ ещЄ не представл€ло, как бы сейчас сказали, интересного или сильного электората. ¬от простое объ€снение того, почему –уден/–услаген имеют позднее происхождение: им€ образовалось тогда, когда образовалась эта земл€.
“огда цепочка –уден/–услаген/–уотси рассыпаетс€. ≈сли –уотси св€зано с –уден/–услаген, то этот симбиоз не имеет отношени€ к –уси по чисто хронологическим соображени€м. ≈сли –уотси св€зано с чем-то другим, то надо сначала найти это другое, а потом строить концепцию. Ќа фоне приведЄнных данных попытки лингвистическим путЄм отыскать корни –уси, практически, в подводном царстве выгл€д€т чистейшим абсурдом. Ётот абсурд стал возможен потому, что исходный момент в исследовани€х был абсурден: вместо поисков происхождени€ народа стали заниматьс€ поисками происхождени€ его имени. Ќичего подобного нет в истории ни одного народа.
— этим перехожу ко второму вопросу в моЄм рассказе и постараюсь очень кратко представить свой взгл€д на то, где отыскивать ключи к решению начал истории народа –уси. ≈го сущность составл€ет мысль о том, что –усь и как народ, и как им€ ниоткуда в ¬осточную ≈вропу не приходили, а именно там и родились.
ѕо€сню высказанную мысль несколькими примерами. Ќапомню, что норманисты без устали повтор€ют, что у многих народов им€ пришло «со стороны» и перечисл€ют англичан, французов, болгар. ѕри этом в силу лингвистической зашоренности не учитываетс€ вс€ сложность взаимодействи€ различных этнических групп при миграции одного народа на землю другого, когда в результате миграций складываетс€ нова€ общность.
—огласно моим наблюдени€м, рождение новой этнической общности происходит от союза двух «родительских» организмов по определЄнной схеме: нова€ общность получает €зык от одного «родител€» и им€ – от другого, при этом один из «родителей» может быть «пришлым», тогда другой должен быть автохтоном, св€занным с местной землЄй. Ёто как бы формула этногенетического процесса, состо€ща€ из двух величин: вопроса €зыка и вопроса имени – двух наиважнейших вопросов, которые вставали перед людьми при рождении новой общности.
Ќапример, »тали€ согласно легенде, получила своЄ им€ от цар€ пришлых сикулов (сицилийцев) »тала, а еЄ латинский €зык сохранил им€ аборигенов – латинов; современна€ ‘ранци€ получила им€ от пришлых франков, но €зык осталс€ от автохтонной кельто-галльской традиции; в английской истории общий политоним объединЄнного королевства был унаследован от кельтской Ѕритании, а €зык – от пришлых германо€зычных англосаксов; в смешанной этнической среде – симбиозе тюркских протоболгар – потомков волжских булгар и балкано-слав€нских племЄн родилась современна€ Ѕолгари€, при этом политоним – Ѕолгари€ – был вз€т от тюрко-булгарских пришельцев, а €зык и другие феномены культуры – от местных слав€нских племЄн и т.д. стати, помимо волжских булгар, на Ѕалканы пересел€лись и индоевропейские народы. ќ.Ќ.“рубачев выделил на юге ¬осточной ≈вропы прототипы этнонимов хорваты и сербы, первоначально неслав€нских, но индоевропейских, носители которых ослав€нились на Ѕалканах с прин€тием слав€нских €зыков (см.например, « истокам –уси»).
јналогично должно было происходить и рождение современной русской общности и как этнического, и как политического объединени€ в период расселени€ слав€нства в ¬осточной ≈вропе. ќдним из «родителей» русских, давших новой общности €зык, было, безусловно, восточноевропейское слав€нство – «родитель» пришлый, как это и наблюдалось в истории большинства народов. Ќо тогда им€ –уси не могло прийти «со стороны», как это продемонстрировано выше на известных примерах. ќно должно было родитьс€ в ¬осточной ≈вропе до прихода туда слав€нства, но иметь индоевропейское происхождение. ѕоставив вопрос таким образом, € несколько лет тому назад подошла к идее индоевропейского субстрата на севере и в центре ¬осточной ≈вропы в древности, в котором увидела этническую среду, €вившуюс€ лоном дл€ древней –уси. Ќа основе данной идеи € стала развивать концепцию о двух периодах древнерусской истории: дослав€нском (индоевропейском) и слав€но-русском. Ёту гипотезу € представила в р€де уже опубликованных работ, но на ней в силу еЄ гигантского масштаба (включа€ и проблему соотношени€ индоевропейского субстрата с концепцией «сплошного финно-угорского мира на севере ¬осточной ≈вропы в древности) € не собираюсь останавливатьс€ в данном сообщении, тем более, что дл€ еЄ раскрыти€ в полноценную концепцию потребуетс€ врем€.
«десь € хочу с помощью небольшого примера подкрепить моЄ предположение о том, что в древнерусской истории был дослав€нский, но индоевропейский период и что расселение слав€н в ¬осточной ≈вропе происходило в среде этого дослав€нского древнерусского субстрата. Ќапомню, что говоритс€ в летописи: «…слав€не пришли и сели…по ƒвине и назвались полочанами, по речке, впадающей в ƒвину, именуемой ѕолота, от неЄ и назвались полочане…» ¬ науке это толкуетс€ так, что слав€не сами назвали речку слав€нским (?) именем ѕолота, а потом назвали этим именем и самих себ€. Ќо вот чуть ранее летопись говорит о том, что «яко пришедше седоша на реце им€нем ћарава, и прозвашас€ морава…». ќткрываем работу известного индоевропеиста ёлиуса ѕокорного «Zur Geschichte der Kelten und Illyrier» и читаем: «Ќа территории … к востоку от Ёльбы и к югу от ¬арты и Ўпрее, …—ев.-¬ост. Ѕогемии до Ёльбы, в ћоравии, нижн. јвстрии и —ловакии …названи€ рек не относ€тс€ ни к германским, ни к слав€нским, они происход€т, как доказано, из венето-иллирийских €зыков. ¬ област€х, где потом поселились слав€не: ƒалмаци€, ѕаннони€, »стри€ – были иллиры и венеты. …—ами иллирийские венеды ослав€нились позднее. …». ¬ числе дослав€нских, но индоевропейских гидронимов ѕокорный называет и ћораву. “аким образом, расселение южных и западных слав€н происходило в ≈вропе вплоть до Ѕалтики среди субстратного (или более древнего) индоевропейского населени€ дослав€нской €зыковой принадлежности. –ассел€€сь среди них, слав€не вступали с ним во взаимодействие на услови€х, о которых € сказала выше: если пришла€ общность давала свой €зык, то принимала им€ местного народа, так по€вилс€, например, слав€нский (что определ€лось €зыком) народ моравы. ¬сЄ логично и пон€тно.
ј вот что касаетс€ расселени€ восточноевропейского слав€нства, то волею науки слав€не, рассел€€сь в ¬осточной ≈вропе, обрекались на странные действи€: дойд€ до безым€нной реки, €кобы сначала давали название ей, а затем по еЄ имени называли и себ€. Ќо поскольку такого в истории не известно, то логичнее признать, что названи€ тех восточноевропейских рек, именами которых назывались пришедшие сюда слав€не, существовали в ¬осточной ≈вропе до расселени€ слав€н, т.е. принадлежали дослав€нскому индоевропейскму субстрату. Ќо иногда, согласно летописи, происходило так, что и пришлые слав€не давали новой общности свое им€: «“е же слав€не, которые сели около озера »льмен€, назвались своим именем – слав€нами…». ак видим, летопись чЄтко фиксирует тот единственный случай, когда пришлые слав€не дали своЄ им€ новой общности в ѕриильменье. «начит, во всех остальных примерах слав€не получали «не свои», а местные имена, €вно индоевропейской €зыковой принадлежности, но существовавшие до их прихода, закреплЄнные в топонимике, что определ€лось св€зью с местной культовой сакральностью, предковой антропонимией и т.д.
—ледующим примером, логически вытекающим из вышеизложенного, может быть пример, касающийс€ особенностей древненовгородского диалекта. ћногочисленные дискуссии на эту тему привели исследователей к выводу о том, что его особенности не могут быть объ€снены только как результат последовательного расселени€ восточноевропейского слав€нства из ѕоднепровь€ на север, исход€ из концепции монолитного правосточнослав€нского €зыка, восход€щей к ј.ј.Ўахматову (см. об этом труды ак. ј.ј.«ализн€ка). ќднако и этот важный вывод о северных диалектах древнерусского €зыка как более сложном феномене, чем это предполагалось ранее, не решает всех проблем.
ј.ј.«ализн€к называет такую особенность др.-новг. диалекта как окончание –е ». ед. муж., представленное в новг.-пск. пам€тниках, что оказалось дл€ др.–новг. диалекта нормой, сложившейс€ в дописьменную эпоху. «ќтсюда следовало, что в др.–новг. диалекте o-maskulina отличалась от остальных слав€нских диалектов не только материально (-е вместо –ъ), но и структурно: здесь сохран€лась свойственна€ древним индоевропейским €зыкам оппозици€ ». ед. муж. и ¬. ед. муж. (….подобно санскр. rathah – ratham), тогда как в остальном слав€нском мире ». ед. и ¬. ед. муж. совпали (ср. ст.-сл. градъ, наддиалектное др.-р. городъ). –ассматрива€ основные вехи более, чем столетней дисскуссии славистов о происхождении др.–новг. формы на –е, ј.ј.«ализн€к называет гипотезу ¬€ч. ¬с. »ванова, который предположил, что «…. др.–новг. формы на –е восход€т к праиндоевропейскому casus indefinitus, следы которого сохранились в хеттском, тохарском и некоторых других €зыках. —ущественна€ трудность, – замечает при этом ј.ј.«ализн€к, – состоит здесь в том, что необходимо признать сохранение праиндоевропейского архаизма лишь в одной узкой ветви слав€нских €зыков». “рудность эта будет непреодолима, хочетс€ заметить, но только в том случае, если рассматривать др.-новг. диалект единственно как узкую ветвь слав€нских €зыков.
ќднако если предположить, что часть индоевропейских пращуров/предков носителей древнерусского €зыка существовала на севере ¬осточной ≈вропы в период, хронологически совпадающий с наличием в ¬осточной ≈вропе индоиранских €зыков, и €вилась субстратной €зыковой средой дл€ восточноевропейского слав€нства, то следы праиндоевропейского casus indefinitus в др.–новг. диалекте получают свое логичное и естественное объ€снение. ѕроисхождение же общности ильменских словен укладываетс€ в рамки моей «формулы»: если им€ от одного «родител€» (в данном случае, «пришлого» слав€нского), то €зык будет от другого, здесь – индоевропейского дослав€нского «родител€» новгородцев.
лассическим примером, подтверждающим мысль о том, что русский и слав€нский €зыки развивались в древности как отдельные €зыки, €вл€ютс€ названи€ ƒнепровских порогов. ак известно, у онстантина Ѕагр€нородного приводитс€ два р€да имЄн дл€ днепровских порогов – «слав€нские» и «русские», из чего €вствует, что ещЄ в середине ’ в. русский €зык и слав€нский €зык не были идентичны. ћ.ё.Ѕрайчевский, например, обосновывал скифо-сарматскую этимологию русских названий порогов с конкретными аналоги€ми из осетинского €зыка, т.е. иными словами говор€, – он обосновывал дослав€нское восточноевропейское происхождение части русских топонимов.
–усска€ номенклатура ƒнепровских порогов, согласно ћ.ё.Ѕрайчевскому, намного старше слав€нской, и восходит, скорее всего, к последним векам до нашей эры. »менно эта номенклатура была исходной, а слав€нска€ представл€ла собой переводы или кальки сарматских названий. ќбщеизвестны стремлени€ норманистов доказать, что «росский €зык» у онстантина Ѕагр€нородного сохран€ет скандинавскую (древнешведскую) лексику (см. онстантин Ѕагр€нородный… // ѕод.ред. √.√.Ћитаврина и ј.ѕ.Ќовосельцева). ќднако их вы€снение €зыковой принадлежности «росских» названий осуществл€лось тем же методом, что и вы€снение «этимологии» имени –уси – на основе лингвистической схоластики, в отсутствие не только исторической, но и самой обычной логики. ѕоскольку предлагавшиес€ норманистами скандинавские названи€ порогов были неразрывно св€заны со шведскими «гребцами» *rodzmän из Rodzlagen, который, как оказываетс€, в IX в. ещЄ не «всплыл» на поверхность, то сейчас в первую очередь требуетс€ уточнить, откуда эти «гребцы» пригребли на –усь, а потом разбиратьс€ в этимологии названий порогов. Ёто – €вный пример того, что не может лингвистика решать исторические проблемы.
Ќо иде€ о дослав€нском слое в древнерусском €зыке наталкиваетс€ не только на норманистские теории (как фантастическа€ определ€лась, например, этимологи€ Ѕрайчевского), но и на господствующее в науке убеждение о том, что древнерусский и слав€нский €зык – синонимы. ќднако так ли уж научно безупречна эта мысль и так ли уж неверо€тна иде€ о двухслойности древнерусского €зыка? Ќапример, сегодн€ пон€ти€ English language и British language используютс€ как синонимы, но вр€д ли кому-нибудь покажетс€ абсурдным утверждение о том, что British language имел в истории своего развити€ догерманский период.
“о, что им€ –усь имеет глубокие корни в ¬осточной ≈вропе, подтверждаетс€ обилием гидронимов с корнем рус/рос/рас, которые очерчивают восточноевропейский ареал от ¬олги до Ќемана и арпат. Ќа этот феномен давно обращалось внимание, но в отсутствие идеи о дослав€нском индоевропейском периоде –уси использовать эти данные в полной мере не удавалось, хот€ с гидронимией как источником работали многие учЄные. ќбщеизвестны исследовани€ ќ.Ќ.“рубачева о св€зи имени русь и индоарийского субстрата в —еверном ѕричерноморье.
√лубина корней –уси должна соизмер€тьс€ с данными науки об эпохе индоевропейской общности в ¬осточной ≈вропе, еЄ датировкам, с теори€ми распада индоевропейского единства и формированию при этом выделившихс€ новых общностей, одним из которых, полагаю, и стала общность с именем –усь, что закрепилось в топонимике, отражавшей св€зь с местной культовой сакральностью, предковой антропонимией и т.д.
√идронимика говорит о том, что произойти это должно было в глубокой древности. ¬озможно, это был период, совпавший с уходом протоиндоариев на юг и далее – предположительно сер. II тыс. до н.э. ѕо моим предположени€м, им€ –усь – это им€ автохтонного реликтового женского первопредка (в отличие от слав€нского «родител€», которого этногенетические сказани€ определ€ют как мужского первопредка с именем –ус), «родившегос€» в среде архаичного индоевропейского населени€ ¬осточной ≈вропы и выделившегос€ из этого субстрата, дав им€ народу, а также станов€сь политонимом в разные исторические периоды. ѕолагаю, что как коренной субъект ¬осточной ≈вропы –усь имела здесь и свою длительную предковую предисторию. Ќадеюсь, что со временем мне удастс€ раскрыть эти идеи в работе под названием «ћатеринские корни –уси». »спользование терминов родства, таких как «материнский предок» и «отцовский предок» дл€ представлени€ картины происхождени€ народа сохранилось у народов с более архаичной историей, например, у кельтских народов.
о времени событий, описываемых в летопис€х в св€зи с призванием –юрика, им€ –уси носили многие субъекты в ≈вропе, как в ¬осточной, так и в «ападной, передава€ его преемникам либо на основе родовых, либо – иных традиций, определ€емых мифопоэтическим сознанием, использу€ его и как родовое им€, и как политоним. –ассказ ѕ¬Ћ как раз и касаетс€ того периода древнерусской истории, когда сначала древнее им€ –уси было прин€то двум€ вновь образованными полити€ми в ¬осточной ≈вропе по отдельности: одной стала –усска€ земл€ в ѕоднепровье или в летописном кн€женье пол€н, а второй – –усска€ земл€ в ѕоволховье/»льменском поозерье или в летописном кн€женье словен, а затем произошЄл процесс объединени€ этих двух политий в одну этнополитическую систему, св€занную общим именем древнего материнского первопредка –уси и ставшую предтечей средневекового –усского государства.
»зложенные взгл€ды наход€тс€ пока в стадии рабочих гипотез и нуждаютс€ в дальнейшей разработке. Ќо независимо от того, как к ним относитьс€, общий вывод из всего вышеизложенного несомненен: наша историческа€ наука должна критически переосмыслить наследие предыдущих эпох и избавитьс€ от утопий, мешающих двигатьс€ вперЄд.
Ћиди€ √рот,
кандидат исторических наук
P.S. ѕриведЄнный текст первоначально готовилс€ дл€ прошедшей конференции «Ќачала –усского мира» в —анкт-ѕетербурге и —тарой Ћадоге. ѕолностью стать€ с подробной библиографией будет опубликована в очередном выпуске сборника «»згнание норманнов из русской истории».
»сточник: http://pereformat.ru/2011/08/proisxozhdenie-rusi/
ћетки: –усь |
рах норманской теории под водами Ѕалтики |
ƒневник |
«Ўведские викинги» не могли создать ƒревнерусское государство
ќдна из экспозиций в Teknikens hus в Ќоррботтене нагл€дно демонстрирует изменени€ ландшафта на севере Ўвеции вдоль побережь€ Ѕотнического залива. огда-то она заставила мен€ задуматьс€ о том, как отразилс€ данный природный феномен – постепенный подъем морского дна – на геофизические процессы в районе современной ”ппсалы и —токгольма или в той исторической области, котора€ известна под названием –ослаген. ќказалось, что этот феномен существовал и там, то есть суша постепенно вырастала из воды. «емл€, вырастающа€ из мор€ – это, кстати, перевод шведского выражени€ Landet stiger ur havet, которым шведские ученые-естественники пользуютс€ в работах по истории природной среды Ўвеции.
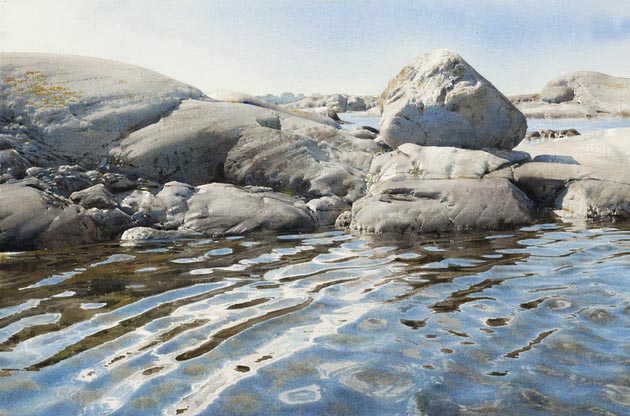
ћне с самого начала было пон€тно, что подъем дна Ѕотнического залива – важный аргумент, идущий вразрез с «норманнской» концепцией происхождени€ –уси от шведского –ослагена. —огласно упорным заверени€м норманистов в течение почти трЄх столетий, именно выходцы из так называемой —редней Ўвеции (–ослагена), будто бы сыграли ведущую роль в процессах образовани€ ƒревнерусского государства. ќни же €кобы преуспели в создании древнерусского института верховной кн€жеской власти, контролировали ¬олго-Ѕалтийский торговый путь и развивали торговлю впечатл€ющего трансевропейского масштаба. «атем будто бы отметились в возведении древнерусских городов в рамках ни то завоевательной экспансии, ни то миграции колонистов.
”местно вспомнить здесь слова российского норманиста начала XIX века ». айданова о том, что именно здесь, в –ослагене «начало нынешнего государства –оссийского», поскольку из –ослагена, мыслилось ему, прибыли вар€ги-русь, «коим отечество наше одолжено и именем своим и главным своим счастием – монархическою властью».1
ћысль о том, что «отечество наше одолжено» буквально всем пришельцам со —кандинавского полуострова, крепко сидит и в современной науке. “ак, мы можем найти в качестве внешнего фактора, благоустроившего русскую историю, «военные отр€ды скандинавов» или «дружинную среду», «викингские отр€ды» или даже просто «фон скандинавского присутстви€» у ≈.ј. ћельниковой; «дружины скандинавов» у ¬.я. ѕетрухина; «норманнских дружинников» или «движение викингов» на север ¬осточно-европейской равнины у ј.ј. √орского; «экспансию викингов» и «норманнские каганаты-кн€жества», усе€вшие всю ¬осточную ≈вропу, у –.√. —крынникова.2 ” Ћ.—. лейна имеютс€ и «воинские и торговые путешестви€ викингов в иевскую –усь», и «экспанси€ на восток», и «миграци€ норманнов в ¬осточную ≈вропу», а также – «попул€ци€ норманнов, распространивша€с€ по восточнослав€нским земл€м».3 артина хорошо известна€ в отечественной истории, поскольку она переходит из работы в работу у многих поколений историков, филологов, археологов на прот€жении более двух столетий. “олько относительно нашего времени могу отослать к работам ј.ј. √орского, Ћ.—. лейна, “.Ќ. ƒжаксон, Ќ.‘. отл€ра, ћ.Ѕ. —вердлова, ≈.ј. ћельниковой, ¬.я. ѕетрухина, ¬.¬. ѕузанова, –.√. —крынникова и др.
“очный адрес скандинавов – участников образовани€ ƒревнерусского государства, находим у ћ.Ѕ. —вердлова. Ќачало этого процесса у него св€зано как с переселением скандинавов в ¬осточную ≈вропу, так и с общеевропейской эпохой викингов:
¬еро€тно, в середине VIII в. начались их мирные переселени€ в ¬осточную ≈вропу… — началом Ёпохи викингов в конце VIII-IX в. на ¬осточную ≈вропу, как и на другие регионы ≈вропейского континента, распростран€етс€ завоевательна€ экспанси€ норманнов (в ¬осточной ≈вропе – прежде всего шведов, тогда как датчане и норвежцы отправл€лись в походы преимущественно на «апад). ќни наложили дань на северо-западное межплеменное объединение словен, кривичей и мери. “е восстали против вар€гов ок. 860 г., но затем между ними начались междоусобные распри, что привело к избранию ими кн€зем конунга –Єрика.4
Ёти несколько фраз изобилуют вымыслом и исторической небрежностью. Ќет никаких известий об экспансии «викингов» – у —вердлова даже конкретно обозначена их этническа€ принадлежность как шведов – в ¬осточную ≈вропу. ≈динственна€ аргументаци€, которую норманисты привод€т в этом случае, – это вопрос, задаваемый на прот€жении более 200 лет: «–аз викинги нападали на «ападе, то неужели вы такие наивные и думаете, что они не нападали на ¬осточную ≈вропу?!» јргумент, как говор€т юристы, недействительный, поскольку если какое-то событие происходило в одном месте, то совсем необ€зательно, чтобы аналогичное событие происходило в другом. ќднако проста€ логика в данном случае не работает.

ѕоэтому € решила, что дл€ более основательной аргументации необходимо вы€снить, как происходило создание государственности и института верховной власти в шведской истории, как развивалась там городска€ жизнь, каковой была демографическа€ ситуаци€ и пр. »ными словами, мне показалось нужным определить, обладала ли —редн€€ Ўвеци€ необходимым потенциалом собственного политического опыта или опыта градостроительства дл€ свершени€ той великой миссии в древнерусской истории, котора€ им приписываетс€ норманизмом. »мелись ли там достаточные ресурсы – человеческие и материальные – дл€ осуществлени€ гигантской работы на великих просторах ¬осточной ≈вропы? ƒл€ ответа на этот вопрос € привлекала результаты исследований шведских учЄных, посв€щЄнных проблематике политогенеза в Ўвеции и кругу вопросов, св€занных с ней. ѕод термином политогенез €, в соответствии с предложением ƒ.ћ. Ѕондаренко, Ћ.≈. √ринина, ј.¬. оротаева, понимаю «процесс формировани€ сложной политической организации любого типа, что выгл€дит более обоснованным также и с точки зрени€ этимологии: слово politeia в античной √реции обозначало политический пор€док любого типа, а не только государство».5
1. —оздание шведской государственности, согласно шведским медиевистам, носило зат€жной, длительный характер, признаки раннего государства можно вы€вить не ранее второй половины XIII – начала XIV вв. ѕриведу несколько выдержек из работ ведущих шведских историков.
—овременный исследователь проблем шведского социо- и политогенеза “. Ћиндквист уверен, что только со второй половины XIII в. королевска€ власть в Ўвеции стала выступать «как форма относительно тонкой политической организации, как государственна€ власть. »менно в этот период выросли привилегированные благородные сослови€ с точно определЄнными правами и об€занност€ми нести службу в пользу корол€ и общества. одификаци€ и запись законов, а также оформление политических институтов – вот что характерно дл€ данного периода. Ќа рубеже XIII-XIV вв. государственна€ власть была представлена королевской властью и молодыми сослови€ми духовной и светской знати. онец XIII в. был завершением того специфического и длительного исторического процесса социальных преобразований, характерных дл€ Ўвеции в период, который, в соответствии с традиционной терминологией, может быть назван как переходный от викингского периода к раннесредневековому».6 “о есть в так называемый викингский период (в шведской историографии: конец VIII – начало XII вв.) признаков государства не отмечено, социально-политическа€ организаци€ шведского общества не выходила за пределы догосударственных форм.
“. Ћиндквист пользуетс€ прин€тым в современной науке пон€тием раннее государство и оговарива€, что оформление государственности включает такой критерий как создание «территории под властью единого политического руководства», отмечает, что те признаки, которыми характеризуетс€ раннее государство, складывались в Ўвеции в период XI-XIV вв., т.е. в период, следующий за викингским периодом..7
Ёти же взгл€ды он развивает и в одной из последних работ, написанной совместно с ћарией ЎЄберг. ќпира€сь на «∆итие —в€того јнсгара», епископа √амбурга и распространител€ христианства в —еверной √ермании, ƒании и Ўвеции, побывавшего в 830 г. со своей миссией в Ѕирке и запечатлевшего социальные и политические отношени€ у свеев, “. Ћиндквист пишет, что территори€ свеев в этот период состо€ла из целого р€да мелких владений, не имевших определЄнной структуры или иерархии, властные полномочи€ корол€ были ограничены народным собранием. акой-либо централизованной или верховной королевской власти не существовало, в силу чего невозможно определить степень еЄ вли€ни€ на жизнь общества. ѕримерно такую же картину, подчЄркивает “. Ћиндквист, рисует нам и хронист јдам Ѕременский в 1070 г. по прошествии более чем 200 лет.8
»тог в поисках начал шведского политогенеза подвЄл историк ƒик ’аррисон:
” »ордана, ассиодора и ѕрокопи€… создан образ —кандинавии, дл€ которого характерно наличие множества мелких политических единиц… совершенно невозможно реконструировать политические границы областей в вендельский или викингский периоды, исход€ из названий, встречающихс€ в источниках XIII-XIV веков…
ќбласть, котора€ в шведской историографии обычно оказываетс€ в центре рассуждений о власти и королевстве в дохристианскую эпоху, – это ”ппланд (т.е. район ”ппсалы и —токгольма, включа€ –ослаген – Ћ.√.). роме того, область ”ппланд всегда была фавориткой археологов. ¬ сравнении с ЁстергЄтланд (Östergötland) и с ¬эстергЄтланд (Västergötland) археологическа€ изученность ”ппланд неизмеримо выше, поскольку там проводилось намного больше раскопок. »сследование ”ппланд проводилось в течение нескольких столетий, воспринима€сь чуть ли ни как дело государственной важности. ¬ период великодержавности в XVII в., или в период развити€ националистических тенденций в XIX в. ”ппланд рассматривалась как колыбель шведской государственности, а короли из —аги об »нглингах величались как общешведские древние монархи… —егодн€ наука отбросила эти заблуждени€ как анахронизм и отправила их на свалку истории, хот€ врем€ от времени они по€вл€ютс€ в туристических брошюрах или в устаревших исторических обзорах. Ќа самом деле мы не можем с достаточной уверенностью использовать даже известные сегодн€ названи€ областей применительно к рассуждени€м о вендельском или викингском периодах. Ќазвание ”ппланд мы впервые встречаем только в 1296 г., в св€зи с прин€тием свода ”ппландских законов. ƒо этого внутриконтинентальна€ часть будущей области распадалась на три небольших земли или на три так называемых фолькланда (folkland от folk – народ и lаnd – земл€ – Ћ.√.): јттундаланд, ‘ьедрундаланд и “иундаланд…
онкретные структуры власти – вождества, мелкие конунгства и группировки военных предводителей – запечатлелись не только в европейских хрониках, но и благодар€ средневековым наименовани€м этнических групп, а также благодар€ архаичным названи€м в сельской местности…. огда-то истори€ о све€х и гЄтах не вызывала проблем…
ќбычным дл€ историков и археологов было представление о том, что гЄты и свеи создали свои политические и военные организации, конфликтовавшие друг с другом. —веи, согласно этой гипотезе, подчинили себе гЄтов и дали им€ объединЄнному королевству —ве€рике – Ўвеци€. —ейчас мы в это не верим, поскольку это ничем не подтверждаетс€… ни один источник не упоминает это завоевание… “олько в течение XII-XIII вв. термин свеи стал означать членов той политической системы, котора€ располагалась к северу от ольморден и “иведен, а термин гЄты закрепилс€ за остальным населением королевства, прежде всего за теми крупными владельцами, которые входили в сферу архиепископств в —каре и в ЋинчЄпинге…9
—ледует также добавить, что только в середине XIV в. в Ўвеции по€вилось первое общегосударственное уложение законов, которое заменило множество провинциальных законов. —вод законов был разработан по распор€жению корол€ ћагнуса Ёрикссона (правил в 1319-1364 гг.). ƒо этого кажда€ область Ўвеции управл€лась своими провинциальными законами: ¬эстгЄталаген (Västgötalagen) – законы «ападной √Єталанд (старша€ редакци€ около 1220 г.), ЁстгЄталаген (Östgötalagen) – законы дл€ ¬осточной √Єталанд и острова Ёланд/Öland) (зафиксированы предположительно в 1290 г.), √уталаген – законы дл€ √отланда (возможно, 1220 г.), ”ппландслаген (Upplandslagen) – законы дл€ восточной части —ве€ланд (—редней Ўвеции) ”ппланд и входившей в неЄ √эстрикланд, зафиксированы в 1296 г., а также другими законами.10 ѕодобное развитие законодательной де€тельности – €вное свидетельство того, что институт верховной власти в Ўвеции не завершил своего оформлени€ ещЄ и к XIV веку.
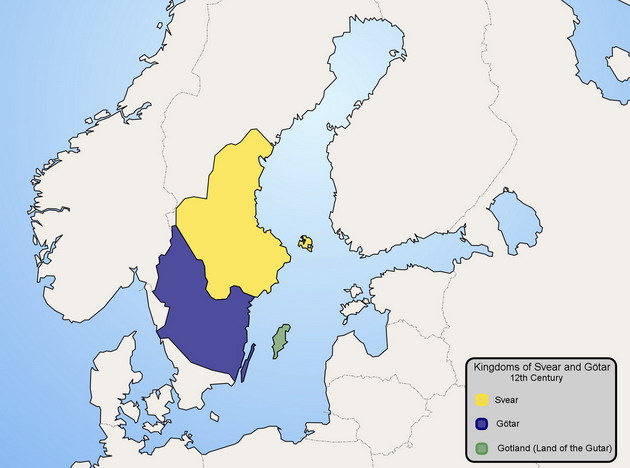
„то же касаетс€ викингского периода, то шведские учЄные сейчас сход€тс€ во мнении о том, что на раздробленной территории тогдашней Ўвеции имелось множество мелких правителей – конунгов и хЄвдингов/вождей, причЄм в рамках каждого из исторических регионов. такому выводу приходит, в частности, Ћ. √арн.11 ќбъединение этих исторических регионов или объединение севера Ўвеции (свеи) с югом Ўвеции (гЄты) зан€ло несколько столетий.
Ќапомню, что объединение Ќовгорода и иева представител€ми династии –юриковичей произошло за несколько дес€тилетий: ¬ лѣто 6370 произошло призвание –юрика с брать€ми, а в лѣто 6390 «сѣде ќлег кн€жа въ иевѣ». Ќе только большими ресурсами, но и большим организаторским опытом надо было обладать дл€ того, чтобы за два дес€тилети€ осуществить объединение гигантской территории под властью одной династии. »з —редней Ўвеции такой опыт принести было некому.
ƒополню ещЄ, что “. Ћиндквист подчЄркивает не только позднее образование шведского государства, но и его, во многом, вторичный характер:
¬торичные государства возникали под вли€нием или под воздействием более древних государственных образований… Ўведское государство, возникшее в позднем средневековье, было, конечно, вторичным. ќно возникло позднее многих государств в ≈вропе и даже в —кандинавии. ÷елый р€д €влений и представлений носили экзогенный характер: они «вводились» со стороны. ѕредставлени€ о значении и функци€х королевской власти, установлени€ и ритуалы дл€ носителей новой государственной власти были привнесены со стороны.12
Ёта цитата – €сный ответ тем, кто со времЄн упом€нутого айданова убеждЄн в том, что –усское государство об€зано «главным своим счастием – монархическою властью» неким безродным выходцам из —редней Ўвеции.
ƒл€ тех, кому приведенные отрывки из работ шведских историков покажутс€ многословными, сформулирую короче. аким-либо существенным опытом в создании государственности выходцы из —редней Ўвеции в IX веке не обладали и близко. ќбъединение шведских земель под властью одной королевской династии раст€нулось на века, следовательно, не имелось и опыта в создании института верховной власти.
“о же самое можно сказать и о развитии городов. —огласно данным шведских историков, строительство городов в Ўвеции по-насто€щему началось только с конца XIII в. ƒл€ раскрыти€ этой мысли следует написать отдельную заметку, здесь же завершу ее словами шведского археолога јмбросиани, который, рассужда€ о √нЄздове, заметил:
ƒостойно удивлени€, что викинги, которые в это врем€ (VIII-IX вв.) практически не имели собственной городской культуры, совершенно очевидно, играли значительную роль в развитии городов на востоке».13
¬от таким образом: у себ€ ничего не имели, а пришли в ¬осточную ≈вропу, и откуда-то вз€лось.
2. ƒемографический фактор стал следующим вопросом, который € поставила перед собой. „ем была обусловлена така€ специфика социополитической эволюции в Ўвеции, как длительно сохран€вша€ раздробленность территории, автономность отдельных регионов и общин?
ћногие шведские учЄные называют вли€ние природной среды: сильно пересечЄнный рельеф местности, горные и лесные массивы, множество водоЄмов, создававшие естественные преграды дл€ развити€ коммуникаций. ѕричЄм отмеченное вли€ние природной среды про€вл€лось неравномерно: некоторые области Ўвеции были более изолированы, чем остальные, что вли€ло на их развитие.
ќднако если повернуть это суждение другой стороной, то можно сказать, что на обозримых исторических отрезках времени количество населени€ в Ўвеции бывало недостаточно, чтобы преодолевать сложности географического характера. ¬ развитие этого предположени€ € решила посмотреть на то, какими данными в исследовании демографической проблематики располагает наука.
ѕри этом среди механизмов, движущих социальную эволюцию, численность населени€ и его рост €вл€ютс€ одними из важнейших. –ост населени€ как фактор, вли€ющий на изменени€ в социополитических структурах, рассматривал Ё. —ервис.14 –. арнейро считал важнейшими механизмами политической эволюции рост численности населени€ и демографическое давление в услови€х ограниченности среды.15 ’. лассен отмечал, что дл€ формировани€ сложного стратифицированного общества нужна достаточна€ численность населени€:
Ќеобходимое количество управленцев, слуг, придворных, св€щенников, солдат, земледельцев, торговцев и т.д. можно обеспечить, если население исчисл€етс€ тыс€чами… “ака€ больша€ численность людей – членов одного общества – имеет некоторые следстви€, самым важным из которых €вл€етс€ потребность в более развитых формах управлени€…16
Ћ.≈. √ринин характеризует вопрос о размерах политий как имеющий очень важное значение в социальной эволюции, поскольку «чем больше населени€ в политии, тем выше (при прочих равных услови€х) сложность устройства общества, поскольку новые объЄмы населени€ и территории могут требовать новых уровней иерархии и управлени€».17
ѕрименительно к шведской истории исследовани€ми динамики демографического развити€ в Ўвеции в первом тыс€челетии занимались такие учЄные как ќ. ’иенстранд, Ѕ. јмбросиани, K.-’. —ивен, —. ¬елиндер и др.18
јрхеолог ’иенстранд дл€ определени€ количества населени€ использовал археологический материал эпохи позднего железа в Ўвеции (550-1050), в частности, обширный материал из захоронений. ќн подчЄркивал, что така€ характеристика как определение количества населени€, €вл€етс€ фундаментальной при анализе социальных отношений в архаичных обществах. ќсновное внимание он уделил области ћэларен – историческому €дру шведского государства, куда входит ”ппсала и современный —токгольм и котора€ выступает часто синонимом дл€ исторического политонима —ве€рике. ƒанна€ область была хорошо обеспечена археологическим материалом и другими источниками дл€ реконструкции заселени€ этого ландшафта в вендельский и викингский периоды.
¬ своих исследовани€х ’иенстранд исходил из сравнительного анализа количества погребений, количества населЄнных пунктов и из исторических аналогий. оличество известных и зарегистрированных захоронений в области ћэларен доходило до 240 000. ’иенстранд предположил, что с учЄтом предложенного јмбросиани числа 2,2 как средней величины прироста, можно было посчитать, что к концу XI – началу XII вв. на данной территории находилось, в общем и целом, пор€дка 500 000 захоронений. ≈сли распределить это число во времени на прот€жении исследуемого археологического возраста в 25 столетий, т.е. с 1400 до нашей эры и по 1100 нашей эры, то получалс€ результат в 20 000 захоронений в столетие.
„исто гипотетически, по его мнению, можно было, благодар€ сопоставлению числа захоронений и числа поселений, вы€вленных археологами, а также использу€ исторические аналогии, реконструировать количество населени€ в каждой конкретной области в интересующий исторический период. ’иенстранд использовал данные археологических исследований јмбросиани, согласно которым количество поселений в районе ћэларен к концу викингского периода, т.е. к середине XI в. достигало 4000. —труктура поселений к концу викингского периода была представлена отдельными дворами, т.е. мелкими производительными единицами с одной семьЄй, иногда, с двум€.
ѕрин€в число членов семьи за 10, ’иенстранд получил 40 000 человек населени€, предположительно проживавшего на основных территори€х области ћэларен к концу викингского периода.19 ѕредпринимались и другие методы реконструкции, некоторые из которых ’иенстранд приводит в своей работе. Ќапример, делались допущени€, что захоронени€ отражали только часть количества населени€. ћогло иметьс€ значительное число производителей, которые не захоранивались в соответствии с обычными нормами, отдельные детские захоронени€ были ограничены, области могли иметь отток населени€, которое захоранивалось в других местност€х и т.д. Ќо ’иенстранд находил подобную аргументацию неубедительной.
ѕри использовании исторических аналогий ’иенстранд продемонстрировал следующий ход рассуждений. ѕо документам XIV века общее число населени€ во всей Ўвеции до эпидемии чумы, котора€ разразилась к середине этого столети€ (1350 г.), было 650 000 человек. —о ссылкой на подсчеты —. —ундквиста, который сообщал, что население области ћэларен к XVII в. насчитывало 205 000 человек, ’иенстранд высказал логичное предположение, что в XIV в. население области ћэларен могло быть меньше 205 000 и что вполне реалистичным представл€етс€ количество в 150 000 чел. ≈сли это количество прин€ть за исходное, то с учЄтом прин€тых коэффициентов расчЄта, на начало XI в. получаетс€ около 45 000, что примерно соответствовало расчЄтам ’иенстранда, основанным на археологических данных. Ѕолее точных расчЄтов, считает ’иенстранд, сделать не удаЄтс€.20
ѕодобна€ реконструкци€ количества населени€, с учЄтом коэффициентов прироста и смертности, проводилась и относительно других регионов. Ќа начало XI в. дл€ ¬осточной √Єталанд (Östergötland) предполагают 6500 человек, «ападной √Єталанд (Västergötland) – 5700, —моланд (Småland) – 7800, ’алланд (Halland, юго-западное побережье) – 1200, Ѕохуслен (Bohuslän, севернее ’алланда в районе современного √Єтеборга) – 3000, Ѕлекинге (Blekinge, небольша€ часть южного побережь€, к востоку от —коне) – 600, Ёланд (Öland, остров, выт€нувшийс€ вдоль юго-восточного побережь€ Ўвеции) – 1700, ƒальсланд-¬эрмланд (Dalsland-Värmland, самый запад —редней Ўвеции, на границе с Ќорвегией) – 1300, Ќэрке (Närke, в центре —редней Ўвеции, известна как часть —ве€ланд, с юго-востока граничила с ¬осточной √Єталанд) – 890, ’эльсингланд (Hälsingland, к северу от ”ппландии, упоминаетс€ јдамом Ѕременским как область, расположенна€ к северу от свеонов и населЄнна€ скридфиннами, т.е. саамами21) – 690.22
¬ работе ’иенстранда «Forntida samhällsformer och arkeologiska forskningsprogram» (Stockholm, 1982) даЄтс€ более обширна€ демографическа€ статистика области ћэларен, в рамках которой, дл€ показа динамики демографического развити€, привод€тс€ данные, начина€ с первых веков н.э.: 100 г., 500 г. и 1050 г., т.е. конец эпохи железа в Ўвеции и конец эпохи викингов. ¬ области ћэларен на начало нашей эпохи (100 г.) предположительно было 3000 человек, к началу VI в. (500 г.) – 9500 человек и, соответственно, к концу викингской эпохи, как было приведено в тексте статьи, 40000-43000 человек. Ќо тогда в IX веке в самой населЄнной части территории свеев могло быть, при равных благопри€тных услови€х, не более 30 000 человек. ћы не располагаем сведени€ми о том, какие земли ещЄ находились под рукой корол€ свеев. »звестно только, что процесс объединени€ вокруг уппсальской династии проходил медленно и был раст€нут на столети€. ¬еро€тнее всего, €дро свейских земель не выходило за пределы области ћэларен. Ќо страна, общее население которой, включа€ стариков, больных, женщин и детей, составл€ло не более 30 000 человек, €вно не обладала достаточными возможност€ми дл€ того, чтобы обеспечить как материальными, так и человеческими ресурсами те грандиозные походы в ¬осточную ≈вропу, которые грез€тс€ современным норманистам.
≈сли проанализировать данные по численности населени€, то можно сказать, что данна€ численность, скажем, в области ћэларен не только к концу, но и в начале викингского периода (приводитс€, например, численность в 30 000 человек) уже сама по себе могла бы быть достаточной дл€ того, чтобы обеспечить разные уровни политической интеграции вплоть до оформлени€ административного аппарата, выделившегос€ из общества, иначе говор€, така€ численность была достаточной дл€ образовани€ даже раннего государства. Ёто подтверждаетс€ известными фактами. “ак, лассен приводит примеры самых маленьких ранних государств “аити, население в которых имело пор€дка 5000 человек.23 √ринин отмечает, что 5000 человек – это «самый-самый нижний предел дл€ раннего государства. Ёто погранична€ зона, поскольку и стадиально догосударственные политии могут иметь такое и даже большее население. ќсобенно если речь идЄт о переходном периоде, когда догосударственное общество уже почти созрело к тому, чтобы перейти этот рубеж. — таким населением раннее государство по€витьс€ может, но дл€ этого нужны особо благопри€тные услови€, чаще всего наличие р€дом других государств». 24
ƒалее √ринин приводит сведени€ других авторов о численности населени€ малых ранних государств, часть из которых интересно привести здесь, поскольку численность населени€ в них дополн€етс€ данными о площади проживани€ данного населени€:
ƒь€конов приводит интересные данные о предполагаемом населении городов-государств ƒвуречь€ («номовых» государств, как он их называет) в III тыс. до н.э. Ќаселение всей округи ”ра (площадью 90 кв. км) в XXVIII-XXVII вв. до н.э. составл€ло предположительно 6 тыс. чел… –азмер типичного города-государства в ÷ентральной ћексике накануне испанского завоевани€ составл€л 15-30 тыс. чел… ј население одного из крупных государств май€ I тыс. н.э. – города “икал€ с округой составл€ло 45 тыс. человек (в том числе 12 тыс. чел. в самом городе), а площадь его равн€лась 160 кв. км.25
»з этих данных видно, что все малые государства образовывались в услови€х «скученности» проживани€ его населени€: либо это были островные территории, либо – городские (города-государства), т.е. территории, занимающие небольшие, ограниченные площади.
Ќаселение шведских исторических регионов в вендельский и викингский периоды было рассе€но на гораздо больших пространствах и, надлежит подчеркнуть, в отсутствии городской среды. ¬ысчитанное ’иенстрандом количество населени€ в 40000-45000 человек, имевшеес€ в области ћэларен (куда обычно включают регионы ”ппланд, —Єдерманланд и ¬эстманланд, т.е. всю центральную часть Ўвеции) к началу XI в., проживало на площади примерно в 29 987 кв. км. ƒанные вз€ты из современных справочников, где также сообщаетс€, что площадь исторической области ”ппланд составл€ла 12 676 кв. км, —Єдерманланд – 8388, ¬эстманланд – 8923.
ƒаже если учесть, что площадь ”ппланд в XI в. была меньше в силу того, что часть прибрежной полосы в этом регионе «прирастала» с течением времени за счЄт подн€ти€ дна Ѕалтийского мор€, всЄ равно площадь области ћэларен состо€ла из тыс€ч, а не сотен квадратных километров, как это было в малых государствах из приведЄнных примеров. »сторические области Ўвеции в вендельско-викингский периоды не были гомогенны по своей внутренней структуре. ’иенстранд выдел€л в области ћэларен 12 подрегионов, на каждый из которых приходилось чуть более 3000 человек населени€. ≈сли многие из этих подрегионов, как указывают шведские исследователи, были отделены от соседей труднопроходимыми пустошами, то мы получаем естественное объ€снение замедленного характера социополитической эволюции в Ўвеции.
арнейро назвал подобный фактор вли€ни€ теорией природных ограничений и подчЄркивал, что «мы спокойно можем включить концентрацию ресурсов и средовую ограниченность как факторы, ведущие к войнам за землю и, значит, к политической интеграции над уровнем общины».26 —оответственно, если средова€ ограниченность отсутствует, то отсутствуют или €вл€ютс€ ослабленными и стимулы к политической интеграции над уровнем общины. »наче говор€, населени€ Ўвеции вплоть до XIII в. не хватало дл€ объединени€ его в раннее государство, поскольку «просторы» Ўвеции были дл€ него великоваты. ак же его могло хватить дл€ завершени€ политогенеза на необъ€тных в сравнении со Ўвецией того времени просторах ¬осточной ≈вропы?
3. ¬ли€ние специфики геофизического развити€ восточного побережь€ Ўвеции на социополитическую эволюцию €вл€етс€ ещЄ одним вопросом. »так, результаты демографических исследований показали, что Ўвеци€ складывалась как малонаселенна€ страна: еЄ населени€ было недостаточно дл€ освоени€ имеющейс€ территории. Ќемаловажную роль здесь играл как раз такой природный фактор, как прирастание суши за счет подъема дна Ѕотнического залива. Ўведские учЄные давно обратили внимание на роль этого фактора.
Ќапример, один из ведущих шведских историков 40-50-х гг. —. “унберг писал, что невозможно пон€ть начальный период шведской истории (в его определении – äldsta Svetjuds historia, с использованием названи€ из исландских саг), не прин€в во внимание специфику географического развити€ области ”ппланд. ÷ентр, откуда, на его взгл€д, расходились лучи колонизации в южном, юго-восточном, восточном и северо-восточном направлени€х, находилс€ на границе между ”ппланд и ¬эстманланд (современное западное побережье озера ћэларен), т.е. в глубине континентальной части, а не на побережье.
“ака€ динамика определ€лось, по€сн€л “унберг, естественными геофизическими факторами, в силу которых суша здесь медленно поднималась из мор€ и очень постепенно принимала те очертани€ и ареал, которые мы видим сегодн€. ќб этом свидетельствует даже само название ”ппланд, что означает возвышенность вдалеке от мор€, от побережь€. “о есть ”ппланд – это земл€ к северу от ћэларен и вокруг его изрезанного заливчиками побережь€, напоминал “унберг. Ёти географические и культурно-географические предпосылки оказывали, по его убеждению, существенное вли€ние на политико-административное развитие области ”ппланд.
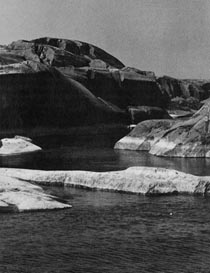
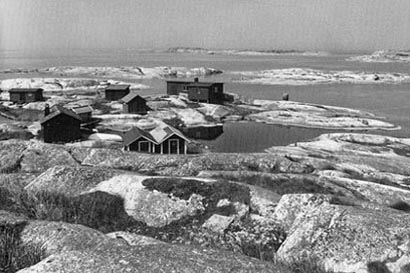
¬иды –ослагена из книги: Nordström A. Roslag. Stockholm, 1990. S. 9, 15. Ќа фото хорошо видно, как образовывалась эта область: уже не море, но ещЄ и не земл€ – архипелаг, состо€щий из островов и островков, выступающих над водной поверхностью. —уша в процессе образовани€, и этот процесс продолжаетс€ по сей день.
C течением столетий географическа€ основа —ве€ланд измен€лась. ѕрибрежна€ часть всЄ больше и больше поднималась из мор€ и становилась достаточной дл€ заселени€ еЄ людьми и возделывани€. ¬нутренние области (folkland) “иундаланд и јттундаланд получили новообретЄнные области до мор€, и это благопри€тно сказалось на их развитии. ѕоначалу данна€ прибрежна€ полоса, отмечал “унберг, наверн€ка, рассматривалась как земл€ общего пользовани€ и управл€лась в соответствии с этим.27
»зучение взаимодействи€ природных условий и исторического развити€ области ”ппланд продолжалось и велось интенсивно с 60-х годов прошлого века. ќднако этот процесс обнаружил определЄнные особенности, отмеченные шведским историком-медиевистом …ораном ƒальбеком, который занималс€ изучением области –уден.

¬ статье «ѕодъЄм суши и освоение самых северных областей ”ппланд» он отмечал, что проблематикой подъЄма суши в прибрежной части ”ппланд занималось много шведских исследователей, но все они были либо представител€ми естественных наук, либо археологами, а «историки же не придавали большого значени€ данному феномену». ƒальбек писал:
Ќо надо констатировать, что дл€ различных частей прибрежной полосы, прежде всего дл€ ”ппланд и Ќорланд… он играл значительную роль. ѕри изучении —еверного –удена мне стало очевидно, что изменени€ в соотношени€х между водой и сушей должны были сыграть очень большую роль в истории освоени€ прибрежной полосы ”ппланд… основна€ часть той географической области, которую мы исследовали, довольно поздно подн€лась со дна мор€, и таким образом, возраст еЄ поселений намного моложе внутриконтинентальных поселений ”ппланд. Ёто обсто€тельство повли€ло естественным образом на развитие хоз€йственной и политико-административной жизни данной области.28
Ќельз€ не согласитьс€ с ƒальбеком в том, что данный фактор должен был существенным образом сказатьс€ на всЄм социально-политическом процессе развити€ данной области, как минимум, в хронологическом плане.
Ёта мысль хорошо подкрепл€етс€ интереснейшими исследовани€ми јмбросиани о типах поселений, как важных данных по викингской истории ”ппланд. Ќа основе археологического материала он пришЄл к выводу, что на социально-политическое развитие этой области очень большое вли€ние оказал такой геофизический феномен как подн€тие дна Ѕалтийского мор€ в течение всего послеледникового периода, ведущее к посто€нному приросту береговой полосы ”ппланд. ¬озможность засел€ть новые участки побережь€ вызывала по€вление новых кресть€нских дворов за счЄт отселени€ части семей на новые участки. Ётот процесс распредел€лс€ на прот€жении многих столетий. јмбросиани подсчитал количество захоронений и сравнил эти данные со средними данными смертности дл€ раннесредневековых обществ.
Ќа основе полученных результатов он заключил, что основным типом поселени€ в викингский период в ”ппланд были одиночные обособленные дворы, а не деревни. “олько после викингского периода, т.е. самое раннее, в конце XI в. стала по€вл€тьс€ более плотна€ застройка и поселени€ типа малых деревень. ƒо тех пор пока подъЄм грунта при уппландском побережье давал новые участки земли, могло идти образование новых дворов, не требующее дроблени€ старых дворов. огда процесс образовани€ новых земель замедлилс€, старые подворь€ стали раздел€тьс€ на части и постепенно превращатьс€ в деревни.29
јмбросиани также показал, что большее количество крупных дворов и так называемых королевских усадеб (husbyar) хуторского типа, принадлежавших королю дл€ содержани€ или размещени€ его самого и королевской свиты, было сосредоточено именно в област€х, образованных за счЄт подъЄма грунта в более ранний период. ¬месте с тем он отметил, что короли с большей лЄгкостью могли за€вл€ть свои права на эти участки общинной собственности и присваивать себе часть участков, подаренных природой.30

–еконструкци€ административного делени€ —редней Ўвеции на земли-фолькланды, складывавшегос€ с XI в. и отражЄнного в ”ппландских областных законах. ќбластное название ”ппланд, по€вившеес€ в этих законах, постепенно вытеснило и заменило названи€ фолькландов. ∆елтым цветом обозначена прибрежна€ полоса –ослаген, первое название которой звучало как –оден. »менно эта часть прирастала постепенно за счет выступавших из мор€ островков, причем сначала кажда€ из двух коренных земель – “иунда и јттунда (отмечены, соответственно, красным и голубым цветами) – имели свой –оден. ќбе части прибрежной полосы слились в один –ослаген после вытеснени€ названий “иунда и јттунда одним именем ”ппланд. ћожно что-нибудь «выжать» из названий “иунда и јттунда дл€ получени€ имени –усь?
¬ыводы јмбросиани о типах поселений подкрепили исследовани€ другого шведского археолога ”. —порронга. ќн, изуча€ историю развити€ поселений в Ўвеции, также пришЄл к выводу о том, что почти весь викингский период, а именно до начала XI в. основным типом застройки в области ћэларен был отдельный кресть€нский двор, и только с начала XI в. начинают по€вл€тьс€ коллективные поселени€ типа деревень. Ќаправление развити€ организационных тенденций в упор€дочивании застройки поселений, распределении пахотных земель шло из внутриконтинентальных территорий к побережью. ÷ентрами данных процессов в восточной Ўвеции были ЁстергЄтланд и Ќэрке, а в ”ппланд таким центром развити€ была земл€ ‘ьэдрундаланд (на приведЄнной выше карте отмечена зелЄным цветом). ¬ других част€х ”ппланд, таких как јттундаланд организационные тенденции про€вл€ютс€ только ближе к концу викингского периода, а прибрежна€ полоса –оден начала вовлекатьс€ в этот процесс ещЄ позднее, не ранее конца XI в., поскольку, как подчЄркивает —порронг, –оден был почти незаселЄн в викингский период, население этой области стало прибывать только в последующие периоды..31
»так, природна€ геофизическа€ молодость прибрежной полосы –оден/–ослаген не оставл€ет никаких надежд отыскать хоть какую-то св€зь с именем –уси. ѕродолжающа€с€ псевдолингвистическа€ суета вокруг поисков неких праформ из €кобы древнешведского на основе roþs €вл€етс€ пережитком «гиперборейского» фантома, рождЄнного воображением шведского литератора и сановника ё. Ѕуре, в традици€х западноевропейских исторических утопий готицизма и рудбекианизма. ƒавность почти трЄхсотлетней привычки решать проблемы начального периода древнерусской истории через «удачное» объ€снение названи€ –уси затмевает тот факт, что сама постановка вопроса исследовать историю субъекта через историю имени субъекта абсурдна. јналогов подобному подходу не имеетс€: изучение истории других народов не ставитс€ в зависимость от разгадки их имени.
»сследование шведскими учЄными социо- и политогенеза в истории Ўвеции на новой теоретической основе, в русле преодолени€ давней традиции мифологизировать и архаизировать шведскую историю, привело к понимаю того, что путь движени€ к шведской государственности был раст€нут во времени, а его формы не выходили за пределы догосударственных образований как в течение всего вендельско-викингского периода, так и столетие после него. Ќа мой взгл€д, замедленный характер шведской социополитической эволюции определ€лс€, в значительной степени, спецификой демографического развити€ и слабым вли€нием такого фактора как средова€ ограниченность. Ёта проблематика нуждаетс€ в дальнейшем изучении, в том числе, и в изучении историками.
ќбласти вокруг озера ћэларен, известные в российской историографии как —редн€€ Ўвеци€, которой норманисты приписывают благословенную роль прародины –уси, не только в IX в., но и несколько столетий спуст€ не обладали опытом собственной государственности, не имели института верховной власти и не знали традиций градостроительства, поскольку основным типом поселений в течение длительных периодов там оставалс€ односемейный двор хуторского типа. „то касаетс€ пиратских и грабительских походов из раннесредневековой истории «ападной ≈вропы, то помимо выходцев из —кандинавских стран в них принимали участие многие другие герои, потер€нные на пут€х истории. „астично € затронула эту тему здесь.
ќбъединение земель свеев и гЄтов («севера» и «юга» нынешней Ўвеции) и создание единой политии под властью ”ппсальской династии свеев зан€ло несколько столетий в шведской истории. ”тверждать, что те же «викинги» за несколько дес€тилетий объединили Ќовгород и иев – это полнейший абсурд, который разлагает российскую историю уже около 300 лет. ¬след за героем известной сказки јндерсена хочетс€ воскликнуть: «ј король-то голый!»
ѕока же современные шведские школьники с удовольствием разгл€дывают экспозицию в музее и уже точно знают, когда «из мор€» по€вилс€ –ослаген. » филологический метод тут ничего не может изменить – так говорит геофизика. ћы же знаем о том, что ƒревн€€ –усь возникла раньше.
Ћиди€ √рот,
кандидат исторических наук
»сточник: http://pereformat.ru/2012/04/roslagen/
ћетки: –усь норманы Ўвеци€ |
ѕоскреби русского, получишь ари€.. |

ѕоскреби русского, получишь ари€
Ќедавно профессор јнатолий јлексеевич лЄсов буквально на несколько дней посетил ћоскву, и как всегда у него был очень плотный график. ћного встреч, интервью. Ќапример, состо€лась очень интересна€ беседа в студии KM.TV, видеозапись которой мы сегодн€ предлагаем вашему вниманию.
√лавной темой передачи стало новое направление в науке – ƒЌ -генеалоги€, котора€ позвол€ет пересмотреть многие вещи, знакомые ещЄ со школьной скамьи. ј.ј. лЄсов затронул очень важные вопросы – от происхождени€ человечества и самой ранней истории русского народа до современного ƒЌ -тестировани€.
ћетки: исследовани€ ƒЌ арии –усь |
Ќачало –уси |
ƒневник |
Ќачало –уси: продолжаем размышл€ть
Ќачало российской истории привычно посв€щаетс€ рассуждени€м о происхождении имени –уси. ƒескать, главное узнать, что за им€ «–усь», а там уж истори€ –уси сама из имени проистечет и стройными р€дами на главы и параграфы построитс€. ¬ ходе этих рассуждений в качестве прародины –уси столь же привычно упоминаетс€ шведский –ослаген — только подумать, что така€ область до сих пор существует в —редней Ўвеции! Ќо как € показала в своих работах, этой области не существовало в IX веке, с которым св€зываетс€ выход ƒревней –уси на историческую арену. ≈Є не было в силу геофизических особенностей развити€ восточного побережь€ Ўвеции — подъема дна Ѕалтийского мор€, что делает бессмысленными все попытки каких-то лингвистических изысканий по поводу –ослагена-–уотси.
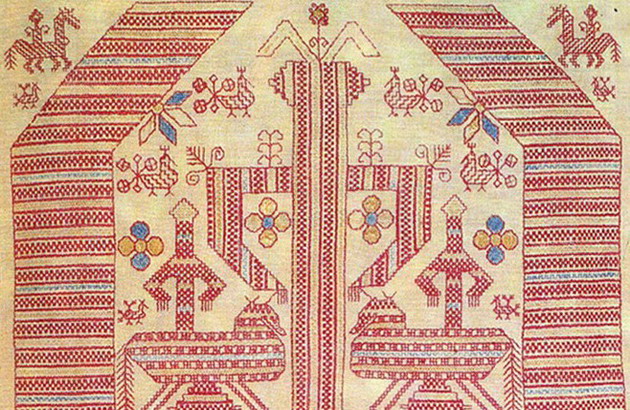
—ведени€ об особенност€х геофизического развити€ восточного побережь€ Ўвеции никогда не были доведены до российского общества официальной наукой. Ѕлагодар€ этому –ослаген, как выдуманна€ прародина –уси, прожил долгую и достаточно беспечальную жизнь в российской истории. » его миражный образ твердою стопой сто€л на пути всех попыток исследовать вопрос о более древнем периоде истории –уси, иначе говор€, о –уси до призвани€ вар€гов.
¬ посте про –оссию с русскими € напомнила о том, что древнерусские летописи совершенно однозначно говор€т о том, что –усь в ¬осточной ≈вропе существовала и до призвани€ вар€гов. ќб этом сообщает Ћаврентьевска€ летопись, перечисл€€ тех, кто обратилс€ к вар€гам: «–ѣша русь, чудь, словѣни, и кривичи». Ќо норманисты стали предлагать свое толкование дл€ этой неудобной фразы из летописи. ѕоскольку, говор€т, в летописи по –адзивилловскому списку эта фраза написана как: «–ѣша руси чюд(ь), и словене, и кривичи, и вси», то здесь дл€ слова «руси» следует видеть падежную форму: сказали кому? ќтвет напрашиваетс€ сам — –уси. ќднако никакого падежного окончани€ в –адзивилловской летописи нет, а есть множественное число – ру́си, сходное с указанием множественного числа других народов в этом р€ду: словени, кривичи. ≈сть дл€ этого аналоги€ и с Ќиконовской летописью, где сказано, например: «–оди же нарицаемie –уси, иже и умани». «десь мы видим ру́си и кума́ни как этнонимы, указанные во множественном числе. “о есть название народа русь могло быть и в форме мн. числа ру́си или как нам более привычно — ру́сы.
Ќо кроме этого есть сообщение ѕовести временных лет об образовании –усской земли у пол€н под 852 годом, т.е. за дес€ть лет до призвани€ –юрика. “аким образом, даже беглое обращение к летопис€м показывает, что наша историческа€ мысль живет под прессом традиции подгон€ть источники под известную догму: –усь из –ослагена, приплывша€ в лодке с социальным наполнением (одна из формулировок норманистов), а до этого никакой –уси в ¬осточной ≈вропе не было и быть не могло. Ќо если манипулировать источниками вместо того, чтобы уважительно изучать их, то трудно будет отыскать дорогу к нашим корн€м и ответить на вопрос: откуда мы?
ѕо моим предположени€м, прародиной –уси €вл€етс€ ¬осточна€ ≈вропа. »менно здесь родились и прожили всю свою длительную историю народ и им€ –усь, за исключением той части древнего этноса, который в ходе миграций разных времен покидал свою прародину. —обственно, именно эту мысль о русских, предки которых издревле жили в ¬осточной ≈вропе, отстаивали “атищев и Ћомоносов в споре с Ѕайером и ћиллером, если восстановить основную сущность этого спора. ѕри этом взгл€ды “атищева и Ћомоносова на древние корни русской истории в ¬осточной ≈вропе отражали непрерывную историографическую традицию, истоками своими восходившую к древнерусскому летописанию, русской книжной учености и русской устной традиции. ј также, между прочим, – к античности и западноевропейским гуманистам эпохи ¬озрождени€, которым, например, было известно о тождестве роксолан и русских.
Ќапример, немецкий гуманист јлберт ранц в своем труде «¬андали€», по€сн€€ родство названий «¬андали€» (Wandalia) и «¬енден» (Wenden), как мест нынешнего проживани€ слав€нских народов, упоминает и о таком слав€нском народе как русские (russi). —сыла€сь на ѕлини€ и —трабона, ранц замечает, что «Roxani», «Roxi», «Roxanos» – это древние наименовани€ русских.1 ƒанное рассуждение принадлежало к общеизвестным фактам его времени, что подтверждаетс€ « осмографией» италь€нского писател€, географа Ёне€ —ильви€ ѕикколомини (1405-1464), с 1458 г. – папы ѕи€ II. јвтор « осмографии», также со ссылкой на —трабона, писал о «северных роксанах» (roxani), отождествл€емых с «рутенами» (ruthenos).2 роме ѕикколомини о св€зи имени русских с роксоланами, или, иначе говор€, о русских как о народе с древними восточноевропейскими корн€ми, со ссылками на античную традицию, писали многие другие авторы XV-XVI веков: италь€нский историк ‘. аллимах, польский историк ћ. ћеховский, польский историк ƒециус, немецкий историк ». ’онтер, чешский историк ян ћатиаш из —удет и другие.3
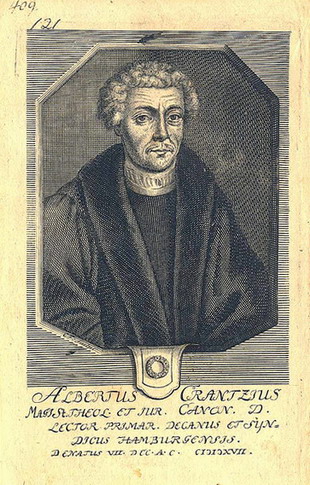
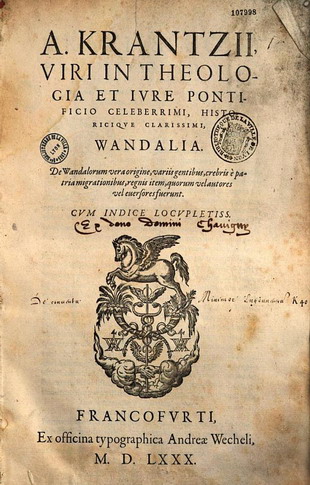
Ќо XVI век был переломным периодом в западноевропейской общественной мысли, когда стали зарождатьс€ и развиватьс€ исторические утопии вроде готицизма – идеи о германских завоевани€х, как движущей силе европейского развити€ и создател€х европейской государственности. ¬ыдуманные истории стали жить собственной жизнью, к XVIII веку они сложились в определЄнную традицию и были привезены в –оссию Ѕайером, ћиллером и Ўлецером в качестве квинтэссенции западноевропейской историософии.
¬месте с ними пришла иде€ о том, что вс€ соль древнерусской истории заключена в имени –уси, поскольку это прекрасно ув€зывалось со сложившимс€ к XVIII веку в «ападной ≈вропе стереотипом о том, что германцы принос€т другим народам свои имена, а вместе с именами – государственный пор€док, культуру, торговлю и прочее. –аз англы дали свое им€ јнглии, а франки – ‘ранции, значит им€ –уси могли принести в ¬осточную ≈вропу только германцы. Ўведские историки, начина€ с XVII века, пытались распростран€ть свои фантазии о том, что основоположниками древнерусской государственности были предки шведов. Ќемецкие готицисты (‘. »реник, ¬. ѕиркхеймер) еще в XVI веке, оформл€€ идею тождества готского и общегерманского, включили в этот симбиоз и шведов как один из народов «на германских островах» (а как же иначе, ведь, по убеждению многих западноевропейских историков и литераторов того времени, прародиной готов был юг Ўвеции!). ак следствие, дл€ Ѕайера, ћиллера, Ўлецера было совершенно однозначно, что им€ –уси было принесено в ¬осточную ≈вропу из Ўвеции, т.е. со стороны и именно таким же образом, как были принесены со стороны названи€ јнглии и ‘ранции.
» вот здесь стоит остановитьс€ на мгновение и подумать, о чем, собственно, идет речь. то такие были англы? ќднозначно – народ! ј кто такие были франки? “оже однозначно – народ! “акже и ћиллер, например, когда начинал свой спор с Ћомоносовым, был на сто процентов уверен, что где-то в Ўвеции должен был быть германо€зычный народ русь, который по примеру англов и франков принес свое им€ в ¬осточную ≈вропу. »ными словами, ћиллер был, по-своему, совершенно логичен. Ќо народа русь, как известно, ни в Ўвеции, ни во всей —кандинавии не нашли. ј уже искали, будьте любезны, всем европейским миром более двухсот лет самым тщательнейшим образом, загл€дыва€ во все уголки и подклети. » если бы та доктрина, котора€ вошла в историографию под названием норманизма, произрастала от научных корней, а не от исторического фантазировани€, то в одночасье, когда ее сторонники убедились в том, что народа русь в —кандинавии никогда не было, они честно признали бы неверность отправного момента. ѕосле чего предложили бы, наверное, вернутьс€ на исходные позиции и продолжить исследование оттуда, где оно было оставлено. „то делать, в науке и отрицательный результат считаетс€ результатом. ѕо крайней мере, благодар€ ему исследовател€ми бывает установлено, что данный путь – тупиковый.
Ќо в случае с норманизмом этого не произошло. ќкончательно установив, что народа руси в —кандинавии нет и никогда не было, как утверждалось в XVIII веке, поклонники идей норманизма не отказались от ключевого тезиса, а начали уже истинное лицедейство – лепить из народа русь гребцов-родсов, шулерски подменива€ идею руси как народа из Ўвеции идеей руси как гребцов из —редней Ўвеции. ј с какой стати тогда в работах норманистов продолжаютс€ сравнени€ с англами, франками, болгарами как примерами носителей имени «со стороны» в земли других народов? Ёти примеры дл€ норманистов недействительны! јнглы, франки, болгары были народами, а не какими-то гребцами в лодках «с социальным наполнением». ¬от пусть норманисты найдут себе идентичный пример, в котором профессионально-отраслевые группы транслировали бы где-нибудь название своей профессии в качестве самоназвани€ могучего народа и гигантской страны, и позанимаютс€ этим примером, а мы со стороны понаблюдаем, что из таких поисков получитс€. »ли пусть признают, наконец, что в так называемой концепции происхождени€ –уси от родсов-гребцов в научном плане, как говоритс€, латать – не за что хватать. ѕравда, выступить с подобным признанием, наход€сь внутри системы (€ имею в виду вузовско-академическую систему) будет очень сложно, поскольку система всегда постараетс€ выдавить такого «протестанта» как инородное тело.
ќднако рассуждени€ о том, что один народ может принести свое им€ в страну другого народа, достаточно интересны. “олько норманисты, в силу лингвистической зашоренности, не смогли учесть всей сложности взаимодействи€ различных этнических групп при миграции одного народа на землю другого, когда в результате миграций складываетс€ нова€ общность.
—огласно моим наблюдени€м, рождение новой этнической общности происходит от союза двух «родительских» организмов по определЄнной схеме: нова€ общность получает €зык от одного «родител€» и им€ — от другого. ѕричЄм если один из «родителей» €вл€етс€ «пришлым», то другой должен быть автохтоном, св€занным с местной землей. Ёто как бы формула этногенетического процесса, состо€ща€ из двух величин: вопроса €зыка и вопроса имени — двух наиважнейших вопросов, которые вставали перед людьми при рождении новой общности.
Ќапример, »тали€, согласно легенде, получила своЄ им€ от цар€ пришлых сикулов (сицилийцев) – »тала, а еЄ латинский €зык сохранил им€ аборигенов — латинов. —овременна€ ‘ранци€ получила им€ от пришлых франков, но €зык осталс€ от автохтонной кельто-галльской традиции. ¬ английской истории общий политоним объединЄнного королевства был унаследован от кельтской Ѕритании, а €зык — от пришлых германо€зычных англосаксов. ¬ смешанной этнической среде — симбиозе тюркских протоболгар — потомков волжских булгар и балкано-слав€нских племЄн родилась современна€ Ѕолгари€, при этом политоним — Ѕолгари€ — был вз€т от тюрко-булгарских пришельцев, а €зык и другие феномены культуры — от местных слав€нских племЄн. стати, помимо волжских булгар, на Ѕалканы пересел€лись и индоевропейские народы. јкадемик ќ.Ќ. “рубачев выделил на юге ¬осточной ≈вропы прототип этнонима сербы, первоначально неслав€нского, но индоевропейского, носители которого ослав€нились на Ѕалканах с прин€тием слав€нских €зыков (см. его работу « истокам –уси»). “о есть им€ «сербы» было пришлым индоевропейским именем, которое, соединившись с носител€ми слав€нских €зыков на Ѕалканах, стало названием современного слав€нского народа – сербов.
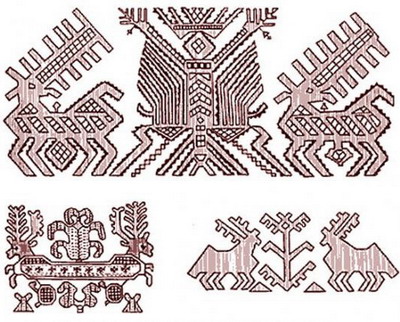
ѕо сходной логике должно было происходить и рождение современной русской общности и как этнического, и как политического объединени€ в период расселени€ слав€нства в ¬осточной ≈вропе. ќдним из «родителей» русских, давших новой общности €зык, было, безусловно, восточноевропейское слав€нство — «родитель» пришлый, как это и наблюдалось в истории большинства народов. Ќо тогда им€ –уси не могло прийти «со стороны», как это продемонстрировано выше на известных примерах, в частности, на примере британской истории, где древнее местное название Ѕритании было унаследовано пришлым германо€зычным населением. ѕоэтому им€ –уси и соотвественно, народ, его носивший, должны были родитьс€ в ¬осточной ≈вропе до прихода туда слав€нства, но иметь индоевропейское происхождение.
ѕоставив вопрос таким образом, € несколько лет назад подошла к идее индоевропейского субстрата на севере и в центре ¬осточной ≈вропы в древности, в котором предположила среду, €вившуюс€ лоном дл€ рождени€ ƒревней –уси. Ёту гипотезу € уже представила в р€де опубликованных работ.4 ¬ ее основе – несколько проблем, которые необходимо затронуть дл€ понимани€ истоков древнерусской истории.
Ќачать следует с проблемы локализации индоевропейцев в ¬осточной ≈вропе. Ќе посчитаю лишним напомнить существующее на сегодн€ мнение ученых:
¬ еще более давние времена предки иранцев и индийцев – ариев составл€ли один народ, который называют протоиндоиранцами. ќни – ветвь индоевропейской семьи и жили, как полагают, тем, что разводили скот в южнорусских степ€х и к востоку от ¬олги… ¬ течение столетий устойчивого, неизменного образа жизни, начина€, видимо, с IV-III тыс€челетий до н.э., протоиндоиранцы сформировали такую стойкую религиозную традицию, что элементы ее сохранились до наших дней у их потомков – брахманов »ндии и зороастрийцев »рана.
ак полагают, в начале III тыс€челети€ до н.э. протоиндоиранцы разделились на два отличающихс€ друг от друга по €зыку народа – индоарийцев и иранцев.5
“аким образом, индоевропейска€ общность, локализуема€ в ¬осточной ≈вропе в период с III тыс. до н.э. до середины II тыс. до н.э., приблизительно в течение II тыс. до н.э. стала переживать распад, предопределивший миграции выделившихс€ этнических групп на юг и восток јзии. ѕри этом часть индоевропейского субстрата, естественно, должна была остатьс€ на восточноевропейских земл€х. ѕо логике, при переселении какой-либо общности на новые территории, все до единого члены этой общности старое насиженное место не покидают: как правило, оставша€с€ часть мобилизуетс€ и объедин€етс€ в рамках новой общности и под новым именем. ¬от от этой оставшейс€ в ¬осточной ≈вропе части индоевропейской общности, предполагаемой мною, € и пытаюсь вести отсчет древнерусской истории, выдел€€ в ней более древний дослав€нский период.
Ќо обоснование подобного подхода наталкиваетс€ на большую сложность: в российской истории различают сейчас только один период – слав€нский, т.е. русов полностью отождествл€ют со слав€нами. ’от€ один единственный период в истории народа скорее исключение, чем правило.
Ќаличие различных периодов в истории архаичных этносов не така€ уж необычна€ вещь. Ѕлижайшим примером могут послужить венеты/венеды (энеты/генеты у √еродота), которые относились к одному из реликтовых индоевропейских этносов. ѕо археологическим данным, венеты по€вились на севере јдриатики около XII в. до н.э. »х €зык на прот€жении длительных исторических периодов св€зывалс€ с различными древними ветв€ми индоевропейских €зыков. √еродот считал их иллирийским народом. ”читыва€ кельто€зычие арморийских венетов и бесспорное вли€ние в IV-III вв. до н.э. кельтской материальной культуры на венетов, их считали (особенно в XIX в.) кельто€зычными, хот€ об отличии €зыка венетов от кельтского пр€мо говорил ѕолибий. ” —трабона венеты упоминаютс€ либо вместе с фракийцами, либо с киммерийцами. — первых веков нашей эры станов€тс€ довольно регул€рными сведени€ о венедах в ѕрибалтике. ¬о II веке венедов упоминают ѕтолемей и “ацит. ѕтолемей, дава€ описание «—арматии», отмечает, что «засел€ют —арматию очень многочисленные племена: венеды — по всему ¬енедскому заливу», т.е. по Ѕалтийскому побережью.6
Ќо с конца V-VI вв. балтийское побережье, св€занное с венедами названием ¬енедского залива, начинает осваиватьс€ носител€ми суковско-дзедзицкой культуры, которых отождествл€ют со слав€нами.7 — этого времени, благодар€ сообщению »ордана, устанавливаетс€ и св€зь венетов/венедов со слав€нами.8 ¬енедов очень часто напр€мую отождествл€ют со слав€нами, хот€ очевидно, даже из нескольких примеров, приведЄнных здесь, что венеды намного древнее слав€нства, т.е. они имели в своей истории длительный дослав€нский период. √енрих Ћатвийский знал дослав€нских венетов в ѕрибалтике ещЄ в XIII в.: они жили в районе ¬индавы, откуда были вытеснены куршами.
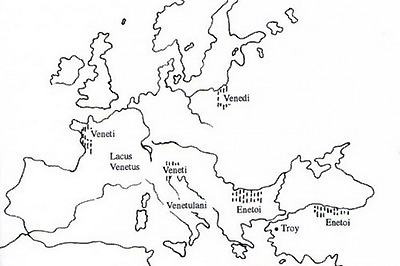
–асселение южных и западных слав€н, как известно, происходило в ≈вропе вплоть до Ѕалтики среди субстратного (или более древнего) индоевропейского населени€ дослав€нской €зыковой принадлежности. Ёто отмечено, в частности, известным индоевропеистом ёлиусом ѕокорным в работе «Zur Geschichte der Kelten und Illyrier», который писал, что в «област€х, где потом поселились слав€не: ƒалмаци€, ѕаннони€, »стри€ – были иллиры и венеты… —ами иллирийские венеды ослав€нились позднее».9
“аким образом, в истории древнего народа венедов четко выдел€ютс€ два периода: длительный дослав€нский период и слав€но-венедский, начавшийс€ тогда, когда венеды ослав€нились с расселением в их среде слав€нства. ѕо такой же схеме, полагаю, можно мыслить и древнерусскую историю, но дл€ раскрыти€ этой схемы надо избавитьс€ от стереотипа: русы – это только слав€не. ƒревн€€ индоевропейска€ –усь намного древнее слав€нства так же, как и реликтовые венеды древнее слав€но-венедов.
»стоки руси € св€зываю с той частью индоевропейского субстрата, который предположительно стал формироватьс€ в ¬осточной ≈вропе в течение II тыс€челети€ до н.э. с началом миграций и оттока индоевропейцев на юг и восток јзии. —огласно моим начальным исследовани€м, наличие этого индоевропейского субстрата можно предполагать не только на юге, но и в центре и на севере ¬осточной ≈вропы. »менно в этой индоевропейской субстратной среде рассел€лись восточные слав€не, по аналогии со слав€нами западными и южными, рассел€вшимис€ в среде венедо-иллирийского субстрата. я проводила собственные сопоставлени€ между некоторыми гидронимами русского —евера с данными названий ѕоднепровь€, а также – анализ сол€рных культов в саамской традиции и у народов —ибири, сравнива€ их с древнерусской традицией.
ѕервые результаты этих исследований подкрепл€ют предположение о наличии носителей индоевропейских €зыков на севере ¬осточной ≈вропы до начала освоени€ этих земель носител€ми уральских €зыков, а также – гипотезу о пр€мой преемственности между этими древними индоевропейцами и северорусской традицией, чем и объ€сн€етс€, например, близкое сходство саамской и древнерусской сол€рной мифологии.10 «адача моих исследований – доказать, что пр€мые предки русских, самого крупного народа ¬осточной ≈вропы, €вл€лись здесь насельниками, выделившись из индоевропейского субстрата на всем пространстве, от мор€ до мор€. Ќа пути к этим доказательствам стоит прин€та€ ныне в науке этническа€ карта ¬осточной ≈вропы в древности, однако мне удалось вы€снить, что представлени€ о ней исходно проистекают из утопического источника.
«анима€сь в последние годы также тематикой западноевропейских утопий и их вли€нием на развитие российской исторической мысли, € обнаружила, что представлени€ о том, что единственными насельниками на севере ¬осточной ≈вропы в древности были носители финно-угорских €зыков, по€вились также в лоне утопических теорий. —ложились эти теории сравнительно недавно, около середины XIX века. Ќо они имели свой пролог, поскольку €вились плодом донаучной шведской историографии XVII-XVIII вв., основанной на создании вымышленной истории, €кобы имевшей место в древности.
¬ публикаци€х по этой теме (раз, два, три) € рассказывала о том, что в XVI-XVII вв. в √ермании и скандинавских странах расцвел так называемый готицизм – течение, прославл€вшее величие древнего народа готов. Ўвеци€ была провозглашена прародиной готов и, соответственно, получила основоположнический статус относительно всей германской культуры. ¬ XVII в. шведские литераторы и историографы (ё. Ѕуре, √. Ўтэрнъельм, ё. ћессениус, ќ. –удбек и др.) сделали еще одно фантастическое открытие: согласно их видению, им€ легендарной √ипербореи из трудов античных авторов имело скандинавское происхождение. —ледовательно, по их рассуждени€м, и сама √иперборе€ была создана трудами скандинавов, конкретно – предками шведов, что «логично» вело их к выводу о том, что предки шведов имели основоположнические заслуги в создании древнегреческой культуры.
Ёто историческое мифотворчество, благодар€ «јтлантиде» шведского литератора –удбека (1630-1702), вплоть до второй половины XVIII века занимало воображение многих известных западноевропейских мыслителей, чтобы затем с миром отойти в область исторических курьезов и быть объ€вленным «шовинистическими причудами фантазии, доведенными до абсурда».11
—ледует добавить, что помимо гипербореев –удбек «нашел» предков шведов и в летописных вар€гах, описав шведо-вар€гов как великих завоевателей ¬осточной ≈вропы, сначала заселЄнной, по его суждению, вплоть до ƒона предками финнов, среди которых много позднее по€вились и слав€не. Ўведский историк ё. ЌордстрЄм так передавал эйфорическое чувство, вызванное в шведском обществе этим историозодчеством:
— такой историей мы чувствовали себ€ аристократией ≈вропы, которой предопределено владычествовать над миром.12
«десь уместно подчеркнуть, что «така€ истори€» была историей выдуманной, не имевшей места в реальной истории Ўвеции. ¬ключа€ и готскую историю, поскольку сейчас стало известно, что готы не выходили с юга Ўвеции.
ƒва столети€ купани€ в вымышленной исторической славе закрепили в общественной мысли Ўвеции традицию пристраивать к шведской истории великую древность, заимствованную из историй других народов. ƒревнерусска€ истори€, солидное покушение на которую было сделано –удбеком, все более и более овладевала воображением шведских литераторов и историографов как «поприще» дл€ великих де€ний предков шведов. ѕомимо привычки фантазировать на темы древнешведской истории, стремление провозгласить предков шведов основоположниками древнерусской истории было порождено и особенност€ми того исторического периода. ≈го начальной отметкой был —толбовский мир (1617), а расцветом – ¬елика€ —еверна€ война (1700-1721), в результате которой –осси€ вернула себе отторгнутые Ўвецией северо-западные русские земли.
¬ работах шведских историков и литераторов этого периода стала попул€рной мысль –удбека о том, что предки шведов издревле властвовали в ¬осточной ≈вропе и собирали дань с местного населени€. ќдним из вдохновл€ющих мотивов этих рассуждений было стремление обосновать историческое право Ўвеции облагать данью эти области, что после —толбовского мира на деле означало идеологизацию получени€ выгод от контрол€ за русской торговлей (прежде всего, за торговлей хлебом) с «ападом, а после поражени€ в —еверной войне – оправдание попыток реванша с целью возврата земель в устье Ќевы, где рос молодой —анкт-ѕетербург.
ќсновополагающим пунктом в этих рассуждени€х как раз и было создание определенной этнической карты ¬осточной ≈вропы, согласно которой финны (по –удбеку) жили в этих област€х задолго до по€влени€ здесь слав€н и подчин€лись предкам шведов, т.е. шведо-вар€гам, которым платили дань (’. Ѕреннер, ». Ўтраленберг, ј. ћоллер, —. ѕаулинус/Ћиндхейм, ». “унманн и мн. др.).13
ƒальнейшее развитие подобных представлений об этнической карте ¬осточной ≈вропы в древности, порожденных в лоне мифологизированной шведской историографии, мы видим в де€тельности крупных финских филологов и фольклористов, таких как ћ.ј. астрен (1813-1853), ƒ. ≈вропеус (1820-1884) и др. Ёта пле€да финских де€телей культуры принадлежала поколению интеллигенции, сложившемус€ на волне пробуждени€ национального самосознани€ в ‘инл€ндии в первой четверти XIX века. ќбразованные круги финского общества обратили свой интерес на €зык и фольклор дл€ того, чтобы исследовать корни народной культуры и показать место «финского племени» во всемирной истории. ¬ немалой степени этот энтузиазм подогревалс€ утвердившимс€ в европейской культуре принципом, рождЄнным в эпоху ѕросвещени€, – считать главным цивилизационным признаком наличие национальной письменной культуры, выраженной в пам€тниках письменности. Ќароды, письменных пам€тников не имевшие, отодвигать в разр€д «неисторических» и сто€щих вне цивилизационных процессов. “ем самым в плане исторической роли одним махом обездоливались многие европейские народы, культура которых развивалась и хранилась в лоне устной традиции – к таким народам относились и финны.
»здание знаменитым финским фольклористом Ё. ЋЄннротом « алевалы» в 1835-1849 гг. показало европейскому сообществу, что пам€тники устной традиции ничуть не менее ценны, чем пам€тники письменной традиции, и сыграло большую роль в привлечении внимани€ европейской общества к проблемам культур финно€зычных народов. Ќе меньшую известность получили труды астрена по сравнительному €зыкознанию и исторической лингвистике финно-угорских €зыков, а также вклад ≈вропеуса в собирание и систематизацию финского фольклора.
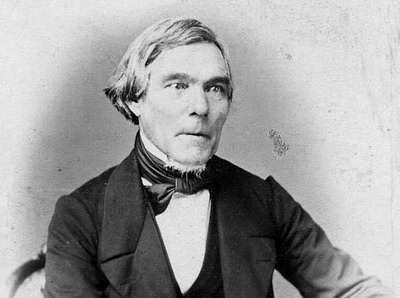
«аслуги названных учЄных, а также их коллег перед мировой наукой бесспорны, но образование они получали в шведских учебных заведени€х и историю учили «по –удбеку». ќт него и почерпнули они свои представлени€ о финнах, как первых насельниках в ¬осточной ≈вропе. ј под вли€нием их работ, в свою очередь, сложилась та картина сплошного финно-угорского мира, существовавшего в древности от —а€н до Ѕалтики и давшего, в частности, северу ¬осточной ≈вропы первое, в €зыковом отношении верифицируемое население.
”же в конце XIX – начале XX вв. у этой теории по€вились оппоненты, которые стали за€вл€ть о том, что созданна€ в лоне финно-угроведени€ этническа€ карта севера и центра ¬осточной ≈вропы €вл€етс€ неверной и, в действительности, она была более сложной по своему составу. ј.». —оболевский (1856-1929), бывший крупнейшим специалистом в области истории русского €зыка и восточнослав€нской диалектологии, занимавшийс€, в том числе, и исследованием топонимики и исторической географии, стал приходить к выводу о том, что носители финно-угорских €зыков не были автохтонами ни в центре, ни на севере ¬осточной ≈вропы, а первыми насельниками были носители индоевропейских €зыков.14
ак видно из этого, в пользу гипотезы об индоевропейском субстрате на восточноевропейском —евере ещЄ в начале XX века высказывались очень серьЄзные учЄные, но позднее эти исследовани€ заглохли. » сейчас представление о том, что население северо-востока ≈вропы в древности принадлежало исключительно к финно-угорской €зыковой семье, остаетс€ доминирующим в науке.15
ќднако проблема с толкованием северной топонимики ¬осточной ≈вропы осталась, и сегодн€ выступает совершенно очевидно, поскольку на севере обнаружено много топонимов, происхождение которых никик не объ€сн€етс€ из финно-угорских €зыков, как ни ломать их топоосновы. рупнейший российский исследователь саамского €зыка √.ћ. ерт пришЄл к выводу о том, что значительный процент топонимии восточноевропейского —евера не этимологизируетс€ из саамского €зыка (или более того, из финно-угорских €зыков вообще) и высказывал предположение, что часть из них – наследие населени€ каменного века, которое жило в нашей стране до саамов.16 »нтересна€ мысль, котора€ напоминает нам о том, что ¬осточна€ ≈вропа не была незаселЄнной пустыней до миграций сюда носителей уральских €зыков. Ћюди там жили, и вопрос только в том, следует ли их относить к этнически неверифицируемому палеоевропейскому населению, или всЄ-таки их верификаци€ возможна через индоевропейские €зыки, через их очень древние пласты.
»деи названных, а также некоторых других ученых помогли мне начать разрабатывать упом€нутую в начале статьи концепцию о дослав€нском индоевропейском периоде в древнерусской истории. ¬ ней € пытаюсь исходить из того,
что нынешние представлени€ об этнической карте ¬осточной ≈вропы в древности и о финно-угорском субстрате происход€т из ненаучного источника, восход€щего к –удбеку, соотвественно, должны быть перепроверены;
что этническа€ карта ¬осточной ≈вропы в древности могла быть полиэтничной таким же образом, как и южные пределы ≈вразии, т.е. индоевропейский субстрат, о котором писал, например, —оболевский, был, по моему мнению, той средой, где рассел€лись в ¬осточной ≈вропе носители уральской семьи €зыков.
јналогию предполагаемому мной процессу можно увидеть в этнической истории ёжной —ибири и ÷ентральной јзии, развивавшейс€ в лоне афанасьевской (середина III – II тыс. до н.э.) и андроновской (XVI-XIV вв. до н.э.) культур, где древнеиранские и древнетохарские традиции играли определ€ющую роль.17
¬ по€снение сказанному следует напомнить, что миграции индоариев и ирано€зычных племен, происходившие с юга ¬осточной ≈вропы на прот€жении чуть ли не тыс€челети€, выплеснули на гигантские пространства »ранского нагорь€, —редней јзии, южной —ибири, »ндийского субконтинента значительные группы индоевропейцев. ѕон€тно, что мигриру€ со своей восточноевропейской прародины, носители индоарийских и ирано€зычных племЄн уносили с собой и многие элементы сложившейс€ в период единой общности духовной культуры, законсервировавшиес€ впоследствии у еЄ индийских и иранских наследников, но также оказавшие большое вли€ние на развитие духовной культуры тех народов, с которыми они приходили в соприкосновение в ходе миграций. ¬ частности, исследовател€ми традиционной культуры народов —ибири и ƒальнего ¬остока было установлено, что в ёжную —ибирь, «ападную ћонголию и даже в итай индоевропейцы принесли такую важную основу духовной культуры, как солнцепоклонство, которое стало там как бы их визитной карточкой.
»зучение традиционной культуры народов ÷ентральной јзии и ёжной —ибири (тюрков и монголов, прежде всего) привело исследователей к выводу о неоднородности их культуры даже в границах одного этноса и позволило говорить о существовании на территории ёжной —ибири и ÷ентральной јзии двух типов культур, которые можно определить как восточноазиатскую, где верховными божествами €вл€ютс€ «емл€ и Ќебо, и южно-западноазиатскую (индоиранское единство), где отмечаетс€ триада божеств, включа€ солнечное божество.18
Ёти различи€ у народов алтайской €зыковой семьи €вл€ютс€ не случайным фактором, а определ€етс€ сложным этно- и культурогенезом, св€занным с тем, что их формирование проходило на территории, где на прот€жении тыс€челетий наблюдались миграции, определившие и современную этнолингвистическую карту ≈вразии. ”же в конце IV – начале III тыс. до н.э. было отмечено по€вление тазминской культуры скотоводов-европеоидов, дл€ которой были характерны сакральные изображени€, св€занные с культом солнца. —ледующей волной, пришедшей в ёжную —ибирь с запада, были афанасьевцы в середине III – II тыс. до н.э. “ретьей волной европеоидного населени€ были носители андроновской культуры (XVI-XIV вв. до н.э.), с которыми было св€зано по€вление двухколесных повозок и боевых колесниц с парной конской упр€жкой. середине II тыс. до н.э. относитс€ и возникновение ¬еликого нефритового пути, св€завшего ѕрибайкалье с ¬олго- амьем на западе и шан-иньским итаем на востоке.19

»сследовател€ми собран достаточный материал, подтверждающий гипотезу о том, что аборигенное, более древнее население ÷ентральной и ¬осточной јзии, на раннем этапе знало только культ «емли. ѕредставлени€ начинают мен€тьс€ с по€влением на этой территории народов, пришедших с запада и св€занных с образованием Ўан/»нь (XV-XI вв. до н.э.) и „жоу (XI-III вв. до н.э.). ѕод вли€нием пришельцев на гигантских пространствах ÷ентральной јзии развиваютс€ сол€рные культы и богата€ сол€рна€ мифологи€.
Ќо более того. ¬ли€ние индоевропейской (древнеиранской, тохарской) сол€рной религиозно-мифологической традиции было так велико, что сказалось не только на культурогенезе, но и на этногенезе народов —ибири и ÷ентральной јзии. “ак, в этих ареалах отмечено широкое распространение этнонимов с хори/хор: бур€ты – хоринцы, которые считаютс€ субстратом в этногенезе бур€т, монг – хоры (монгоры) ÷инха€, хор – па јмдо и “ибета, хоро (хоролоры) в составе €кутов, род хорилар и племенное объединение хори – тумат, упоминаемые в монгольской исторической хронике «—окровенное сказание».
”чЄные предполагают, что все эти этнонимы восход€т к древнеиранскому термину hvar (фарн) – солнце. древнеиран. khors, перс. hôr/horsed – солнце восходит и название древней арийской страны ’орезм – «земл€ —олнца».20 ¬ развитии этнической истории ÷ентральной јзии, по мнению современных узбекских учЄных, определ€ющую роль играл тюрко-иранский симбиоз: тюрко-согдийским было государство ангюй в междуречье јмударьи и —ырдарьи (с III-II вв. до н.э.); эфталиты (IV-V вв.) обладали как иранскими (€зык), так и тюркскими (антропологи€, культура) чертами; тюрко-иранским симбиозом была отмечена вс€ последующа€ динамика развити€ от эпохи —аманидов (IX-X вв.) до государств —ельджукидов и араханидов (XI-XII вв.), что и обусловило формирование тюркского этноса, получившего позднее название «узбеки».21
¬от такой исходной полиэтничностью – симбиозом урало-алтайских и индоевропейских народов – была отмечена от самых истоков этнокультурна€ истори€ южных пределов ≈вразии. ј северна€ часть ≈вразии, включа€ север и центр ¬осточной ≈вропы, согласно утвердившейс€ в науке картине, развивалась на прот€жении нескольких тыс€челетий в лоне одной только уральской €зыковой традиции, причем жив€ бок о бок с носител€ми индоевропейских €зыков на юге ¬осточной ≈вропы и €кобы не смешива€сь с ними, как вода с маслом.
ƒревнейшие носители индоевропейских €зыков юга ¬осточной ≈вропы перемещались на гигантских евразийских просторах и оказывали вли€ние на развитие культурных и этногенетических традиций в ёжной —ибири и ÷ентральной јзии на прот€жении трЄх тыс€челетий до нашей эры. Ќо они же €кобы никак не могли проникнуть на север и в центр ¬осточной ≈вропы вплоть до конца X века, т.е. до расселени€ в этих местах слав€нства. —овершенно очевидно, что подобные представлени€ об этнической карте ¬осточной ≈вропы в древности – искусственны. » поскольку они восход€т к шведской донаучной историографии, то надо начать их перепровер€ть, чтобы во всей полноте восстановить древнерусскую историю от ее предковых истоков.
ѕродолжение следует…
Ћиди€ √рот,
кандидат исторических наук
ћетки: –усь арии скифы |
Ѕодритсь ободриты... »ли еще раз о –юрике |
ƒневник |
»з окна в ≈вропу увидели –юрика
»сточники о допетровской –оссии и взгл€ды на происхождение –уси на «ападе долгое врем€ укладывались в рамки исторической традиции, которой следовали европейские интеллектуалы, авторы путевых записок и даже рассказчики из народа. ¬ книжном варианте эта традици€ оформилась ко времени √ерберштейна и ћюнстера. ≈Є фактическа€ сторона находила пр€мое подтверждение в трудах средневековых хронистов вроде “итмара и —аксона √рамматика, которые сообщали многие интересные сведени€ о –уси. Ќе удивительно, что эта традици€ нашла наиболее €ркое выражение в северной √ермании, с которой более-менее определЄнно св€зываетс€ прародина летописных вар€гов – основателей древнерусской государственности.

¬рем€ от времени сложивша€с€ историческа€ традици€ актуализировалась в контексте политических и межгосударственных св€зей. ¬ начале XVIII столети€ открылась нова€ страница во взаимоотношени€х –оссии с «ападной ≈вропой. ¬ разгар —еверной войны ѕЄтр I стремилс€ к усилению русского вли€ни€ на южном побережье Ѕалтики, рассчитыва€ на то, что эти территории удастс€ эффективно использовать как плацдарм дл€ борьбы со Ўвецией. √ерцогство ћекленбург, также вступившее в войну против шведов, в свою очередь рассчитывало на военную помощь –оссии. » русска€ дипломати€ не преминула воспользоватьс€ этим шансом, чтобы укрепить позиции на Ѕалтике. тому же, –осси€ впервые за несколько столетий снова вышла к балтийским рубежам, с которыми было тесно св€зано еЄ древнейшее прошлое. јктуальное внешнеполитическое сотрудничество помогло вспомнить про общую историю, котора€ уходила корн€ми ко временам вар€гов и последнего ободритского кн€з€ Ќиклота.
—о временем второго крупного визита цар€ ѕетра I в ≈вропу совпал брак прав€щего мекленбургского герцога арла Ћеопольда с дочерью »вана V јлексеевича ≈катериной, заключЄнный 19 апрел€ 1716 года в ƒанциге. “акой династический союз был вполне обусловлен не только политическими предпосылками, но и традиционными русско-мекленбургскими св€з€ми.1
высочайшей свадьбе великокн€жеский печатный двор в √юстрове выпустил юбилейную книгу торжественных поздравлений, стихов и генеалогий, составленную при непосредственном участии проректора местной гимназии ‘ридриха “омаса.2 ≈Є содержание было обусловлено не только актуальной политической значимостью событи€, к которому был приурочен труд, но и осмыслением целого исторического пласта в русле бытовавшей в ћекленбурге и ѕомерании традиции. ƒекларативный характер книги поддерживалс€ многими историческими обосновани€ми от предшествующих авторов. –осси€ вновь пришла на Ѕалтику, и это стало своего рода катализатором дл€ нового развити€ представлений о тесной св€зи русской истории с северно-германскими земл€ми.
Ѕрак арла Ћеопольда с ≈катериной »вановной, важный, безусловно, с политической точки зрени€, не был восприн€т современниками только таковым. ѕон€тно, что любой династический союз, а особенно в услови€х общеевропейской —еверной войны, был бы обусловлен, в первую очередь, политическими причинами. Ќо согласно мекленбургской генеалогической и исторической традиции к нему относились и как к продолжению древних династических св€зей, уходивших корн€ми во времена –юрика и древних представителей династии ободритов. ѕозднее ‘. “омас продолжил исследовани€ по русско-мекленбургским родослови€м, выступив инициатором дискуссии по этому вопросу.3
ѕроисхождение мекленбургской (вендской) династии от ободритов не вызывает сомнений у подавл€ющего большинства исследователей. ќбычно еЄ возвод€т к королю Ќиклоту, так как с него родословно-хронологическа€ последовательность не содержит существенных разночтений в источниках.4 ¬опрос о более древних представител€х династии, начина€ с легендарных королей, всегда был дискуссионным из-за некоторых расхождений в генеалоги€х. ќднако споры велись, как правило, вокруг частных вопросов, касающихс€ отдельных персоналий (реальность или мифичность, уточнение датировки правлени€ или смерти, преемственность родства и т.д.), то есть в узкогенеалогическом контексте. “огда как принципиальной, а следовательно, и наиболее значимой дл€ исторической науки проблемой оказываетс€ происхождение и причина длительного существовани€ традиции возводить мекленбургскую династию к глубокой древности и через ободритов св€зывать еЄ с –оссией.
»сторическое значение мекленбургских генеалогий представл€ютс€ чрезвычайно любопытными. ¬ их основе лежит иде€ происхождени€ прав€щих шверинских и гюстровских герцогов от древних вендских королей. ќсобенно полно она выразилась в генеалогическом труде Ќикола€ ћаршалка 1526 года, некоторое врем€ назад переизданном старани€ми сотрудника Ўверинского архива д-ра јндреаса –Єппке.5 ћаршалк был попул€рен в средневековой √ермании и за еЄ пределами, на него ссылались и современники, и последователи. ќднако в Ќовое врем€, с распространением в «ападной ≈вропе шведских романтических утопий, некоторые авторы стали относитьс€ к генеалогии ћаршалка как к историческому курьЄзу. “ак мекленбургский краевед √еорг Ћиш, указыва€ на увлечение ћаршалка древней историей, писал, что это «только его гипотеза», что «дóлжно предать забвению его вымысел и критически использовать правдивую историю».6 ќднако исторический романтизм ћаршалка, как теперь очевидно, был намного ближе к реальной исторической действительности, нежели предлагаема€ «альтернатива» – более поздние шведские представлени€ о роли предков скандинавов в мировой и русской истории.
¬ значительной мере ћаршалк опиралс€ на своего предшественника, ганзейского историка јльберта ранца.7 “радици€ получила развитие и в работах более поздних авторов.8 тому же, еЄ истоки представл€лись совершенно очевидными и обоснованными, в том числе и на основе фактического материала.9
¬ северной √ермании российска€ общественно-политическа€ мысль встретила не только понимание актуального момента, но и глубокий интерес к собственно русской истории, который не исчез за врем€ длительного шведского господства, поддержива€сь из столети€ в столетие. ѕоэтому состо€вша€с€ свадьба прав€щего герцога ћекленбурга с дочерью русского «царского рода», воспринималась в полном соответствии с этими представлени€ми. ¬ св€зи с женитьбой ликовал весь «ободритский народ» и вс€ «вендска€ земл€», так как великокн€жеский род вендов вновь, как и в прежние времена, породнилс€ с русскими.
Ѕрак арла Ћеопольда с ≈катериной воспринималс€ современниками намного важнее, нежели заур€дное и политически мотивированное событие, ведь с ним как будто возрождались древние св€зи ћекленбурга с –оссией. Ќесомненно, этого не могло произойти по сиюминутной политической случайности, оформленной волею отдельных северно-германских авторов, нередко обвин€емых сегодн€ в предвз€тости и в вымыслах.
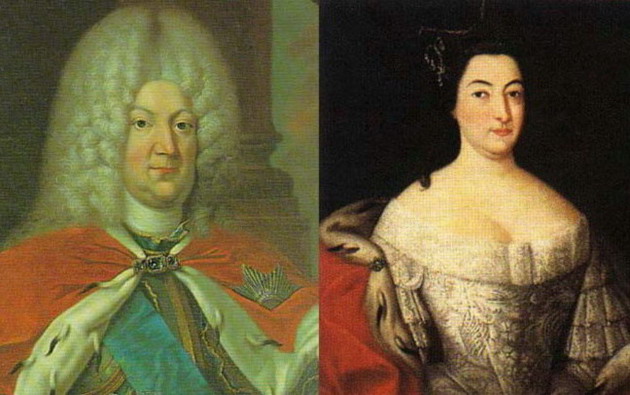
ќдно из центральных мест в гюстровской публикации ‘ридриха “омаса занимает хвалебна€ ода в честь состо€вшегос€ событи€. Ёто произведение поражает не только своими литературно-художественными достоинствами, из€щным стилем, свойственным поэзии начала XVIII века. ќно несЄт в себе живую историческую традицию, бытовавшую в ћекленбурге, отражает мекленбургский взгл€д на –оссию, как на родственное и дружественное государство. “радици€ непременно должна была находить отражение в широком общественном сознании жителей ћекленбурга, что хорошо заметно в отношении к браку между арлом Ћеопольдом и ≈катериной, когда «всЄ стало, как и прежде, как при ободритах».10
ѕроживание на территории одного региона, на южном побережье Ѕалтийского мор€, в общей культурной среде позвол€ет источникам сближать ободритов с вар€гами (варинами).11 Ќемецкий исследователь ‘. ¬иггер указывал на принадлежность вар€гов к племенному объединению ободритов, которые занимали города –атцебург, ¬арнов, –ерик и другие.12 јдам Ѕременский приводил их племенное самоназвание – reregi, которое наравне с топонимом –ерик могло быть св€зано с именем вар€жского кн€з€ –юрика.
‘ридрих “омас писал, со ссылкой на своих предшественников Ћатома и ’емница, что ободритский король ¬итслав (его упоминают также франкские хроники) был женат на дочери некоего русского кн€з€, и сыном от этого брака был принц √одлейб, который стал отцом троих братьев –юрика, —ивара и “рувора, урождЄнных вендских и вар€жских кн€зей, призванных править на –усь. ѕосле скорой кончины двоих братьев, –юрик будто бы стал единовластным правителем –уси.
онцепцию “омаса принимал мекленбургский историк ћатиус »оганн фон Ѕэр. —огласно его исследованию, у «корол€ рутенов и ободритов» ¬итислава был сын √оделайв, у которого, в свою очередь, были сыновь€ –юрик, —ивар и “рувор. ѕозднее –юрик основал Ќовгород и стал великим кн€зем русов.13
ѕротивоположное мнение в немецкой историографии того времени выражал разве что востоковед √отлиб «игфрид Ѕайер, который писал, что
Ѕернард Ћатом и ‘ридерик ’еминиций и последователи их, сие первое от всех как за подлинное положили. » понеже они сыскали, что –урик жил около 840 года по рождении ’ристовом, то потому и принцев процветавших у ¬агров и јбодритов сыскивали. » понеже у ¬итислава корол€ два сына были, один “расик, которого дети ведомы были, другой √оделайб, которого дети неизвестны, то оному –урика, “рувора и —инава приписали.14
ќднако не следует забывать, что Ѕайер находилс€ под сильным вли€нием шведских концепций, дл€ которых мекленбургска€ историческа€ традици€ была совершенно неприемлема с идейной точки зрени€. ¬ отличие от –оссии, Ўвеци€ утратила своЄ вли€ние на Ѕалтике и была заинтересована хоть в каком-то реванше, пусть даже не в сфере реальной внешней политики, а в области политической мифологии.
¬прочем, шведский взгл€д на раннюю русскую историю складывалс€ весьма противоречиво. ѕока до поражени€ под ѕолтавой было далеко, придворный историк и дипломат ѕЄтр ѕетрей в начале XVII века писал очень неопределЄнно:
я нигде не мог отыскать, что за народ были вар€ги, и потому должен думать и войти в подробные разыскани€, что они пришли из Ўведского королевства или из вошедших в состав его земель, ‘инл€ндии и Ћивонии.
ѕетрей полагал, что вар€ги были народом с побережь€ Ѕалтийского мор€, также как шведы, финны, кашубы, померанцы, венды и другие. Ќо определитьс€, с какого берега — южного или северного — они происходили, ѕетрей однозначно не мог. — одной стороны, он писал, что кн€зь€ –удрих, —инаус и “рувор вели своЄ происхождение и вышли из ѕруссии, а впоследствии стали править в северо-западной –уси. ќднако в той же работе, дальше по тексту, он поправл€лс€ и указывал, что вар€ги происходили не из южно-балтийской ¬агрии (Wagerland), а из Ўвеции.15
ѕо замечанию ё.ј. Ћимонова, ѕетрей широко использовал западноевропейские и русские источники, но комментировал их по собственному усмотрению.16 »мени –юрик у него соответствуют шведские Ёрик, ‘ридрих, √отфрид, «игфрид или –одрих; —инеус имеет скандинавскую аналогию —вен, —имон или —амсон; а “рувор — “ур, “ротт или “уф. ¬сЄ это мало соответствовало историческим реали€м, не встречало взаимности в соседних странах, зато отвечало актуальным на тот период шведским интересам.
ќднако, анализиру€ фразу ѕетре€ о том, что вар€ги «пришли из Ўведского королевства или из вошедших в состав его земель», необходимо признать, что упоминание Ўвеции возникло не случайно. ƒело в том, что южно-балтийское побережье, с которым вар€гов св€зывала европейска€ средневекова€ традици€, в первой половине XVII века, то есть во времена ѕетре€, входило в состав Ўведского королевства. “ак что здесь могло иметь место обобщение, по которому вар€ги будто бы «пришли из Ўвеции» в еЄ тогдашних границах. Ќо сегодн€ така€ полуправда, применима€ к конкретной исторической эпохе, конечно, не может претендовать на серьЄзное научное значение.
—пуст€ пару столетий, в канун последней российско-шведской войны 1808-1809 гг., по результатам которой от Ўвеции была отторгнута ‘инл€нди€, шведский взгл€д на русскую историю стал выражатьс€ более определЄнно, но отнюдь не приобрЄл за счЄт этого исторической объективности. “ак, историк ќлаф ƒалин в работе «»стори€ шведского государства» писал о кн€зе –юрике, в котором видел шведского корол€ Ёрика ”ппсальского. ѕо его мнению, от Ўвеции –усь оторвало только монголо-татарское нашествие.17
Ќапротив, в северной √ермании, на исторической прародине вар€гов, ничего придумывать было не нужно. ∆ива€ традици€ сохран€лась в этом регионе вплоть до XIX века. “огда здесь ещЄ бытовали народные легенды, которые не попали и не могли попасть в самые древние скандинавские саги. ќдно из таких преданий записал в ћекленбурге французский путешественник . ћармье:
¬ VIII веке племенем ободритов правил король по имени √одлав, отец трЄх юношей, одинаково сильных, смелых и жаждущих славы. ѕервый звалс€ –юриком, второй —иваром, третий “руваром. “ри брата, не име€ подход€щего случа€ испытать свою храбрость в мирном королевстве отца, решили отправитьс€ на поиски сражений и приключений в другие земли. ќни направились на восток и прославились в тех странах, через которые проходили. (…) ѕосле многих благих де€ний и страшных боЄв, брать€, которыми восхищались и благословл€ли, пришли в –уссию. (…) “огда –юрик получил в кн€жение Ќовгород, —ивар – ѕсков, “рувар – Ѕело-озеро. —пуст€ некоторое врем€, поскольку младшие брать€ умерли, не оставив детей, –юрик присоединил их кн€жества к своему и стал главой династии, котора€ царствовала до 1598 года.18
„астичку той же традиции, кажетс€, передала ј.—. ѕушкину н€н€ јрина –одионовна, котора€ была родом с русского севера, исторически св€занного с ѕрибалтикой. Ќа основе рукописных записей с еЄ слов поэт создал «—казку о царе —алтане», пронизанную глубоким историческим символизмом. Ќичего подобного записать в Ўвеции было невозможно, потому что народна€ пам€ть всегда безответна к мнимым «конструктивам», вызванным сиюминутными политическими цел€ми.
Ќо взаимное вли€ние политики и истории всегда было намного более тонким, чем зачастую прин€то считать. Ѕез серьЄзной исторической основы политический миф очень быстро оказываетс€ вырванным из контекста. “ака€ судьба, к примеру, постигла так называемую «норманнскую теорию», от которой сегодн€ дистанцируютс€ даже сторонники скандинавского происхождени€ вар€гов. ќтказатьс€ от последнего рудимента они пока не готовы, так как над ним зачастую довлеет груз уже написанных трудов, определ€ющих научный статус и положение, а в околонаучной среде – исключительно стереотипы, усвоенные на подсознательном уровне.
Ћетописна€ легенда о призвании вар€гов оказываетс€ полностью созвучной тому, что написал в XVII веке мекленбургский учЄный »оганн ‘ридрих ’емниц. ќн привЄл предание, согласно которому –юрик с брать€ми происходили с южного берега Ѕалтики и были сыновь€ми кн€з€ √одлава (√одлиба или √оделайба).19 Ёту династию св€зывали с городом –ерик, разрушенным датчанами в 808 году. ’емниц основывалс€ на данных более древнего манускрипта 1418 года из шверинского архива, который не сохранилс€ до наших дней. ¬ то же врем€ важно, что и ’емниц, и его предшественник – автор шверинского документа вр€д ли могли использовать информацию из русских летописей, которые стали известны в √ермании только в первой половине XVIII века благодар€ переводам √ерарда ‘ридриха ћиллера.
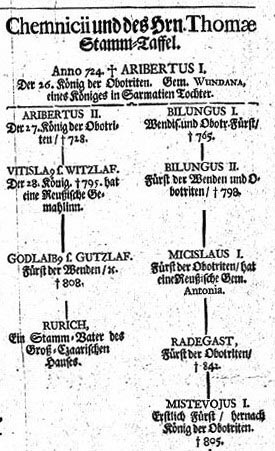
—ледовательно, свидетельства о –юрике и вар€гах в германских документах по€вились из неких других источников, не св€занных с древнерусским летописанием. ѕричЄм информаци€ этих источников, в целом, соответствовала летописным свидетельствам за исключением некоторых деталей. примеру, германские авторы употребл€ли форму имени —ивар, а не —инеус, или датировали само вар€жское призвание 840 годом. ѕо всей видимости, с теми же источниками соотноситс€ приведЄнна€ выше легенда о –юрике и его брать€х, записанна€ ћармье в ћекленбурге.
ѕодозревать ’емница в изобретении генеалогии –юрика бессмысленно. ¬о-первых, у него не было веских мотивов дл€ фальсификации, так как в его врем€ политические предпосылки сближени€ ћекленбурга и –оссии полностью отсутствовали. ¬о-вторых, ’емниц не предложил принципиально новой трактовки, котора€ расходилась бы с предшествующими ему источниками и, тем самым, могла бы вызывать сомнени€. Ќаконец, сам автор ссылаетс€ на первоисточник – то, что этот документ недоступен дл€ современных историков, вр€д ли относитс€ к вине ’емница.
»так, согласно мекленбургской традиции –юрик с брать€ми был «призван» около 840 года, что представл€етс€ довольно правдоподобным. ’ронологи€ начальной летописи весьма условна и оставл€ет немало противоречий. ќднако некоторые летописные списки, на наш взгл€д, более точно, нежели немецкие источники, указывают на место «призвани€». ¬еро€тнее всего, это был не Ќовгород, а Ћадога, заложенна€ вар€гами ещЄ в середине VIII века. Ќовгород –юрик «срубил» позднее, о чЄм свидетельствует и название города, и археологические данные, согласно которым он был основан не ранее IX столети€.
ќчевидно, что повышенный интерес к мекленбургским генеалоги€м в первой половине XVIII века был вызван политическими событи€ми, но он не был обусловлен только ими. ’от€ бы потому, что эти генеалогии по€вились отнюдь не ко времени свадьбы герцога арла Ћеопольда и ≈катерины, не были приурочены к бракосочетанию, а существовали задолго до этого, когда в «ападной ≈вропе о –уси имелись разве что разрозненные и противоречивые свидетельства. ћекленбургские генеалогии не исчезли после того, как династический союз распалс€, и ≈катерина »вановна в 1722 году вернулась в –оссию после развода. —корее наоборот, интерес к ним продолжилс€ и в северно-германской, и в российской литературе.
“от факт, что на определЄнном этапе внешнеполитических отношений –оссийской империи с северо-немецкими земл€ми мекленбургское историческое наследие было использовано в дипломатии, доказывает лишь наличие прочной основы дл€ сближени€ партнЄров. ¬ ћекленбурге устойчива€ традици€ помогала увидеть в –оссии дружественное государство, с которым существовали глубокие исторические и династические св€зи. –осси€, в свою очередь, смогла встретить в ћекленбурге верного союзника, который бережно сохранил историческую пам€ть. ¬ конце концов, ничего подобного не произошло в российско-шведских отношени€х, несмотр€ на то, что в Ўвеции того времени многократно «приватизировали» вар€гов и –юрика. Ќи политического аль€нса, ни даже примирени€ на мнимой исторической основе не получилось.
ѕозднее русско-мекленбургские св€зи продолжили укрепл€тьс€, и потомки от браков –омановых с представител€ми мекленбургской династии причисл€лись к –оссийскому »мператорскому ƒому.20 Ќапример, внучка ѕавла I велика€ кн€жна ≈катерина ћихайловна также была замужем за мекленбургским герцогом. ¬о многом, династические контакты продолжились, потому что, прорубив петровское окно в ≈вропу, –осси€ не оказалась в одиночестве, а приобрела старых и пор€дком подзабытых друзей. » они, как вы€снилось, тоже помнили –юрика.
—качать файл в формате PDF (скан из журнала –одина, є5/2012)
ћетки: –юрик –усь ѕетр ѕервый |
ћежду ѕеруном и ¬елесом |
ƒневник |
ћежду громовержцем и скотьим богом
—равнительный анализ саамской и древнерусской сол€рной мифологической традиции обнаруживает, что эти традиции восход€т к общему источнику. ѕричем учитыва€ ведущую роль в распространении солнцепоклонства носителей индоевропейских €зыков, – к источнику индоевропейскому. —огласно результатам моих исследований, частью этого индоевропейского субстрата €вл€лись древние русы, которых € определ€ю как народ, современник ариев, исконна€ территори€ проживани€ которого отмечена от ¬олги до Ѕалтийского мор€ восточноевропейскими гидронимами с основой рос/рус/рас. ћой вывод о древних русах совпадает с результатами исследований ј.ј. лЄсова по ƒЌ -генеалогии, согласно которым после ухода ариев на восток (ветвь R1a-L342.2) в ¬осточной ≈вропе осталась ветвь гаплогруппы R1a-Z280, т.е. центрально-евразийска€ ветвь R1a, к которой относитс€ большинство современных этнических русских.

ћежду ¬елесом и ѕеруном, худ. Ќэлла √енкина (1998 год, холст-масло)
—оответственно, распространител€ми сол€рных культов на восточноевропейском севере, отразившихс€ в саамской сол€рной мифологии, должны были €вл€тьс€ индоевропейцы – древние русы, историю которых в ¬осточной ≈вропе и следует начинать с III тыс. до н.э. »менно на такой хронологической глубине мы получаем возможность вы€вить тот древний культурно-генетический пласт, где отыскиваютс€ ключи к пониманию природы схожести русских сол€рных мифов с саамскими сол€рными мифами. Ќо аналогична€ схожесть обнаруживаетс€ и с сол€рными мифами народов —ибири. Ёти факты привели мен€ какое-то врем€ тому назад к мысли, что предки русских и предки части нынешних народов —ибири и —евера имели в древности периоды, когда они были св€заны в рамках единых сакральных общностей, основанных на солнцепоклонстве. »м€ ола, которым очерчиваетс€ гигантска€ территори€ от Ѕалтики до јлта€, служило, по моим предположени€м, св€зующим звеном в обширной тематике сол€рных культов, и возможно, €вл€лось теонимом очень древнего происхождени€, принадлежавшего женской ипостаси солнечного божества.
—олнце мыслилось солнцепоклонниками во многих зооморфных образах. Ќаиболее распространенными из них €вл€лись олень/лось, лебедь, конь – эти воплощени€ солнца достаточно хорошо исследованы в соответствующей литературе. Ќо на св€зь солнца и медвед€, как представл€етс€, обращалось меньшее внимание, хот€ медведь в древнерусских сол€рных культах и сол€рных культах некоторых народов –оссии играл совершенно особую роль. ¬ предыдущих стать€х уже обращалось внимание на то, что им€ олы как Ѕольшой ћедведицы обнаруживает глубокую архаику и €вно уводит к палеолитическим «медвежьим культам». «десь следует отметить, что ученые издавна обратили внимание на своеобразие характера взаимодействи€ человека и медвед€. ћедведь никогда не имел существенного значени€ как промысловый зверь, но, тем не менее, с древних времен был объектом культа, что ставит культ медвед€ особн€ком среди культов других животных, обычно объ€сн€емых с точки зрени€ охотничьей магии и других производственно-магических ритуалов.
¬ременем зарождени€ «медвежьих культов» прин€то считать мустьерскую эпоху или завершение нижнего палеолита, а наиболее древними св€тилищами – знаменитые мустьерские «медвежьи пещеры» или своеобразные медвежьи кладбища, в которых медвежьи кости составл€ют 95-99% всех костных останков, количество же особей в одном пункте доходит до 1000 медведей. ƒревнейшими из таких кладбищ €вл€ютс€ медвежьи пещеры в јльпах, —еверном ѕричерноморье и на авказе с €вно ритуальными захоронени€ми медвежьих черепов и лап.1
¬ изобразительном творчестве восточноевропейского —евера и в —ибири «медвежь€ тема» как отражение «медвежьих культов» по€вилась несколько позднее, на исходе каменного века. ќдним из известных погребений, где обнаружены медвежьи останки, €вл€етс€ неолитическое погребение ќленеостровского могильника на о. ќленьем в ќнежском озере: там было найдено 157 клыков медвед€ от 55 животных.2 ¬ажность культа почитани€ медвед€ подчеркиваетс€ тем, что в погребальных и культовых комплексах наход€тс€ также изображени€ животного из глины, кости, камн€ и дерева. ј.¬. “абарев называет великолепные неолитические ретушированные изображени€ медведей со сто€нок в јрхангельской области, у реки «имн€€ «олотница (впадает в Ѕелое море) и Ѕесовы —ледки у Ѕеломорска.3 Ќаиболее ранние изображени€ медвед€ на территории «ападной —ибири относ€тс€ к эпохе неолита. ќбнаружены изображени€ медвед€ в композиции из ”зунгура на √орном јлтае и в других районах ёжной —ибири, датированные эпохой неолита-ранней бронзы.4
ќтличительной особенностью медвежьих культов €вл€етс€ их никем не объ€сненное долгожительство. »сход€ из глубокой древности происхождени€ этого культа, ученые часто пытались св€зывать медвежий культ с бытом охотничьих народов. Ќо это не соотвествует действительности. “радиции этого культа сохран€лись у многих земледельческих народов на прот€жении тыс€челетий и €рко про€вл€ли себ€ даже в XIX веке. Ѕ.ј. –ыбаков приводил сведени€ историка и археолога ¬.—. ѕередольского, около 60 лет своей жизни отдавшего изучению древностей Ќовгородского кра€, о том, что в окрестност€х Ќовгорода в неолитических сло€х часто встречались «пальцевые кости медвежьей лапы, зарытые в одну €му с кост€ми человека».5 ульт медвежьей лапы под названием «скотьего бога» прослеживалс€ у подмосковных кресть€н еще в начале XX века. «—котьим богом», согласно ѕ¬Ћ, кн€зь —в€тослав величал ¬олоса («да имъемъ кл€тву от бога, в его же въруемъ – в ѕеруна и в ¬олоса, скотъ€ бога»). роме того, многочисленные данные о медвежьей лапе имеютс€ в русском фольклоре.
Ѕлагодар€ уникальной укорененности культа медвед€ и сохранности в нем архаичных элементов можно проследить глубину народной пам€ти и, таким образом, вы€вить древность предковой традиции того или иного народа. ¬едь медвежий культ по-разному про€вл€л себ€ в разные исторические периоды и у разных народов, особенно если рассматривать его в рамках синтеза с традици€ми солнцепоклонства.
Ќапомню, что сакральные изображени€ на стелах и скалах, св€занные с культом солнца, по€вились, например, в ёжной —ибири вместе с носител€ми тазминской культуры скотоводов-европеоидов (конец IV – нач. III тыс. до н.э.). ѕочитание солнца известно и у сменивших их афанасьевцев (середина III – II тыс. до н.э.), в погребени€х которых были найдены также и амулеты из когтей медвед€. ¬ пришедшей на смену афанасьевцам окуневской культуре получил уже распространение образ медвед€, преследующего солнце. Ќо у носителей андроновской культуры (XVI-XIV вв. до н.э. в ёжной —ибири), орнаменты которой были насыщены сол€рными символами, образ медвед€ исчез из археологических комплексов, однако, он вновь возвращаетс€, фиксируемый на пам€тниках пришедшей на смену андроновцам ирменской культуры (IX-VIII вв. до н.э.).6
¬сЄ это говорит о том, что в истории каждой отдельной этнической общности различные культы имели свою хронологию, свое самобытное лицо, определ€емое тем, в результате какого этнокультурного синтеза данный культ становилс€ частью истории конкретного народа. ¬ажные сведени€ о том, как возникал такой синтез, дает этнографи€. я уже приводила пример феномена, отмеченного исследовател€ми-африканистами и отражавшего ритуал перехода небольшого поселени€ на новое место, в котором запечатлелась глубока€ архаика. ¬ажнейшее значение в этом акте занимало так называемое сакральное освоение нового места жительства, в рамках которого «устанавливалс€» контакт с предками людей, жившими некогда на этом месте, а затем воссоздавалс€ и новый ритуальный центр дл€ общени€ с предками данного социума.7
«десь представл€етс€ уместным описать более подробно, как происходил один из таких ритуалов освоени€ нового места жительства в архаичных культурах банту€зычных регионов јфрики. Ётнограф-миссионер ј.∆юно отмечал, что предварительно выбранное новое место жительства «исследуетс€» на предмет его благопри€тности дл€ пересел€ющейс€ общины методом гадани€. Ќапример, с нового участка принос€т образцы растений и с помощью гадального камн€ определ€ют, где будет находитьс€ культовое место, к которому глава общины сложит свои св€тыни.
»звестный социальный антрополог . ƒок приводил такое описание подобного ритуала. огда возникает необходимость перемещени€ поселени€, например, земли вокруг старого поселени€ истощаютс€, то старейшина деревни собирает своих помощников и консультируетс€ с ними относительно переноса деревни. ѕосле того, как выбрано основное направление перехода, туда посылаютс€ молодые люди с поручением выбрать место дл€ деревни. ѕоследним из старой деревни уходит старейшина. Ќа выбранном участке под новое поселение мужчины устанавливают изгородь, а старейшина берет немного заготовленной муки и высыпает ее с восточной стороны нового участка за построенной изгородью. ѕри этом он обращаетс€ к духам людей, живших когда-либо в этих местах, со словами: «¬ы! ”сопшие здесь! ћы даем ¬ам эту пищу; мы хотим жить вместе с вами. ≈сли вам это не нравитс€, то пусть мы эту пищу найдем разбросанной. ≈сли же вы согласны нас прин€ть, то пусть пища останетс€ разбросанной». “очно такое же подношение делаетс€ с западной стороны ограды, но здесь оно предназначено дл€ злобных духов, не желающих уживатьс€ с людьми. ¬ том случае, если кучки муки останутс€ нетронутыми, то считаетс€, что жившие ранее здесь люди и злые существа, обитающие в новом месте, прин€ли новую общину.8
” этнографов имеетс€ множество описаний таких ритуалов освоени€ нового места жительства представител€ми традиционных культур, и важнейшей частью такого ритуала было сакральное освоение нового пространства. ¬ данном освоении началом начал был тот момент, что возрождение поселени€ при переходе на новое место об€зательно происходило вокруг нового центра, св€зующего общину с сакральным миром: это может быть дерево, выбранное путем гадани€, или первый кол, вбитый дл€ стены обители духа предков, или другие сакрализованные объекты: скала, источник воды и т.д. „ерез новый центр осуществл€лс€ момент культовой прив€зки переселенцев к новой местности и ритуальное воссоздание св€зи с предками прежнего социума, которые таким образом тоже становились компонентами этого нового мира.9
¬ приведенном материале исследователи вид€т отражение «идеологической» де€тельности первобытной общины любого догосударственного уровн€ в ходе еЄ пространственного перемещени€. –итуалы сакрального освоени€ нового пространства €вл€лись важнейшей частью процесса существовани€ социума в эпоху мифопоэтического сознани€. — точки зрени€ представителей первобытного социума, «ничейных» земель не существовало. ѕришельцы могли столкнутьс€ с реальным населением, с которым надо было вступать либо в военные действи€, либо в договорные отношени€. Ќо даже если земли были запустелыми и обезлюженными, то само собой подразумевалось, что у этой земли были прежние хоз€ева, духи которых продолжают обитать здесь. Ёто обусловливало дл€ новопоселенцев необходимость стать «законными» правопреемниками прежних «хоз€ев» и унаследовать культы поклонени€ их предкам, чтобы обеспечить благополучное существование своего социума.
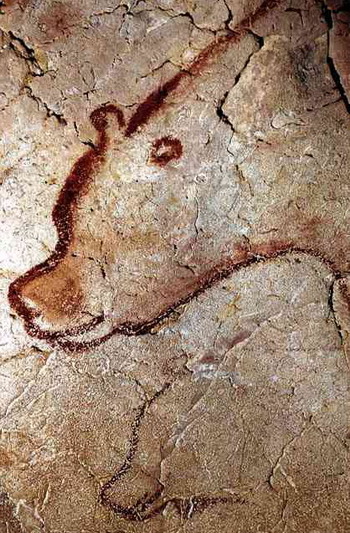 »менно данна€ особенность мифопоэтического сознани€ и обеспечила практически вечную сохранность тех культовых традиций, которые представл€ли особую важность дл€ людей. ¬озвраща€сь к нашему сюжету, отмечу, что у всех народов, у которых имелась традици€ медвежьего культа, сохранились представлени€ о медведе как о «первопредке». ¬ этом €вно видно то палеолитическое наследство, которое предки каждого народа – нынешнего носител€ традиции медвежьего культа, получили от палеолитических «хоз€ев» земли при сакральном освоении местности, куда они в качестве новопоселенцев прибыли в глубокой древности.
»менно данна€ особенность мифопоэтического сознани€ и обеспечила практически вечную сохранность тех культовых традиций, которые представл€ли особую важность дл€ людей. ¬озвраща€сь к нашему сюжету, отмечу, что у всех народов, у которых имелась традици€ медвежьего культа, сохранились представлени€ о медведе как о «первопредке». ¬ этом €вно видно то палеолитическое наследство, которое предки каждого народа – нынешнего носител€ традиции медвежьего культа, получили от палеолитических «хоз€ев» земли при сакральном освоении местности, куда они в качестве новопоселенцев прибыли в глубокой древности.
¬ русском фольклоре существует цикл сказок, где героем €вл€етс€ получеловек-полумедведь, рождающийс€ либо от медвед€-отца, либо от медведицы-женщины. ¬ этих сказках отразилась та сама€ архаична€ традици€, исход€ща€ из первобытного мифопоэтического мышлени€ о необходимости ритуального союза с древними «хоз€евами» земли. —оюз мог мыслитьс€ и в форме мистического совокуплени€ с женской или мужской ипостасью божества-автохтона.
—оответственно, культ медвежьей лапы в русской традиции, олицетвор€вшейс€ русским населением еще в XIX века со «скотьим богом» ¬олосом, может быть охарактеризован как культ автохтонного характера в ¬осточной ≈вропе, поскольку он естественно ув€зываетс€ с захоронени€ми медвежьих лап неолитического населени€ Ќовгородчины, о которых писал археолог ¬.—. ѕередольский. » этот факт – еще одно свидетельство того, что древние русы €вл€лись насельниками в центре и на —евере ¬осточной ≈вропе c тех времен, когда носители индоевропейских традиций стали локализоватьс€ в восточноевропейских пределах, сменив здесь носителей палеолитических медвежьих культов. —ледовательно, божество ¬олос €вл€етс€ древнейшим объектом поклонени€ русов и непосредственным «наследником» прежних «хоз€ев» земли, который св€зал древних русов с духами людей, живших на земле нынешней Ќовгородчины в палеолитической древности. ѕоэтому распространившиес€ с утопи€ми норманизма попытки отождествить божество ¬олоса с какими-то пришлыми скандинавскими культами посредством убогого «лингвистического» манипулировани€, пример чего € уже приводила, – чистейший абсурд.
Ќо в исторической науке с древност€ми Ќовгородчины прин€то св€зывать культ ѕеруна. ѕоэтому дл€ определени€ того, на какой культ опирались приверженцы традиций древнерусского солнцепоклонства, сохран€вшие верность имени олы – Ѕольшой ћедведицы вплоть до исторически верифицируемого времени, стоит провести краткий сравнительный анализ культов ѕеруна и ¬олоса. Ёто тем более важно, что и в современном норманизме (который, впрочем, сейчас не любит именовать себ€ норманизмом, а величает единственно правильным историческим учением), сохран€етс€ страстное желание как-нибудь протащить в русскую историю “ора и ќдина. ѕрисутствие этих культов в ¬осточной ≈вропе не зафиксировано ни русской письменной или устной традицией, ни соответствующими традици€ми в скандинавских странах. ќднако представители единственно правильного учени€ наход€т выход, вернее сказать, обход источников и рисуют, например, такую картину: было, дескать, такое «поверье норманнов, что на чужих земл€х прав€т местные боги… ѕоэтому, пристава€ к чужим берегам, они пр€тали своих богов в трюмах кораблей и поклон€лись местным богам. ¬се находит свои объ€снени€».10 ќбъ€снить можно, конечно, все, что угодно, но не вс€кое объ€снение годитс€ в науке. “ем более, что в другом месте своей книги тот же автор сообщает, что в «восточнослав€нских земл€х возможно было лишь продвижение по рекам, в распор€жении викингов были только лодки-однодревки…»11, а в них трюмов вроде бы не имелось. ќ судах русов будет написана отдельна€ стать€, хот€ этот вопрос уже затрагивалс€. Ќо и без пространных рассуждений видно, что картинка о приверженцах “ора и ќдина, которые приплыли в ѕриильменье под покровом ночной темноты, выгл€д€т сюжетом дл€ дешевой оперетки.
анализу культа ѕеруна в древней истории Ќовгородчины привлекают обычно два пам€тника. ќдин из них – это легенда, записанна€ в 1858-1859 г. этнографом и собирателем фольклора ѕ.». якушкиным, о происхождении ѕерынского скита: «Ётот зверь-зми€ка жил на этом самом месте, вот где теперь скит св€той стоит, ѕерюньской. ажинную ночь этот зверь-зми€ка ходил спать в »льмень озеро с ¬олховскою коровницей. ѕерешел зми€ка жить в самый Ќовгород; а на ту пору и народилс€ ¬олодимир-кн€зь в иеве…».12
Ёта легенда многажды привлекалась учеными в исследовани€х по древнерусскому €зычеству, начина€ с XIX века. ѕри всем различии еЄ оценок, сложившихс€ в науке, всех объедин€ет убеждение в том, что сказание посв€щено божеству ѕеруну, повествует об утверждении его культа в Ќовгороде и затем – свержении его кумира в св€зи с крещением новгородцев. ѕри этом ученые опираютс€ на сравнительный анализ легенды якушкина с рассказом, содержащемс€ в другом пам€тнике – «—казании о —ловене и –усе»:
Ѕольший же сын оного кн€з€ —ловена ¬олхв бесоугодник и чародей и лют в людех тогда бысть, и бесовскими ухищреньми мечты твор€ многи, и преобразу€с€ во образ лютаго звер€ коркодила, и залегше в той реце ¬олхове путь водный, и не поклон€ющихс€ же с€ ему овых пожираше, овых же испроверза€ и утопл€€. —его же ради людие, тогда невегласи, сущим богом ока€ннаго того нарица€ и √рома его, или ѕеруна, рекоша, руским бо €зыком гром перун именуетс€. ѕостави же он, ока€нный чародей, нощных ради мечтаний и собирани€ бесовскаго градок мал на месте некоем, зовомо ѕерын€, иде же и кумир ѕерунов сто€ше.
ћ.ј. ¬асильев уверен в книжном характере легенды, записанной якушкиным, и о ее зависимости от «—казани€ о —ловене и –усе». “о есть, проще говор€, по его мнению, старик, рассказ которого якушкин записал, слышал где-то «—казание» и пересказал его якушкину, но в более простонародном стиле.13
≈.Ѕ. √рузнова совершенно справедливо указывает как на различи€ в этих двух рассказах, так и на несовпадени€ в обрисовке образов звер€-змиюки в легенде якушкина и «бесоугодника ¬олхва» в книжном «—казании». »сход€ из вы€вленных ею различий, √рузнова делает вывод о том, что легенда, записанна€ якушкиным, имеет народное, а не книжное происхождение, и ей наход€тс€ аналоги в сказани€х, записанных в 1905 году на ”краине ƒ. Ёварницким «об идольском боге ѕеруне». »наче говор€, по мнению √рузновой, легенда, записанна€ якушкиным, имеет самосто€тельное значение дл€ реконструкции древнерусских мифологических представлений о ѕеруне.
— последним выводом данного автора € согласна, но, на мой взгл€д, упом€нутые источники содержат материал, важный дл€ истории не только культа ѕеруна. “ам приведены сведени€ о паре богов, т.е. о ѕеруне и о ¬олосе, о сли€нии этих культов в северорусской истории и об особенност€х каждого из них в отдельности.
—огласно «—казанию», нос€щему, безусловно, книжный характер (что, однако, не означает полной оторванности его создателей от исторических реалий древнерусской истории), род кн€жеского сына ¬олхва был пришлым в ѕриильменье: «—ловен и –ус с роды свои отлучишас€ от ≈ксинопонта… дошедше езера некоего велика… » тогда волхование повеле им быти населником места оного». “о, что новое место жительства было выбрано согласно предсказанию волхвов, вполне согласуетс€ с приведенными выше этнографическими данными об архаических ритуалах переселени€, где гадание – непременна€ часть прин€ти€ решени€ о выборе места жительства.
ѕоследовательность событий, описанных в «—казании» выгл€дит так, что чародей ¬олхв не сразу был прин€т в ѕриильменье как объект поклонени€, и произошло это не без принуждени€, поскольку «не поклон€ющихс€ же с€ ему овых пожираше». » только «сего же ради людие… сущим богом ока€ннаго того нарица€ и √рома его, или ѕеруна, рекоша». Ќа мой взгл€д, из этого рассказа проистекает, что ¬олхв принес в ѕриильменье свой культ и должен был выдержать борьбу за его признание с приверженцами того культа, который уже существовал на этой земле. “о, что его, ¬олхва, нарекли, в конце концов, именем громовержца ѕеруна, говорит о сли€нии двух культов: уже существовавшего в ѕриильменье культа √рома-ѕеруна и пришлого культа чароде€ ¬олхва.
—ли€ние двух культов в один – €вление в истории известное, которое может быть отмечено практически во всех древних культовых системах и религи€х, причем в разных вариантах. Ќапример, при переселении ариев в будущую »ндию культ арийского бога –удры слилс€ с доарийским божеством Ўивой, и новый бог стал носителем имен-синонимов Ўива-–удра, а впоследствии им€ –удра стало выступать только как одно из имен Ўивы. ј в результате сли€ни€ образа другого арийского божества, охранител€ мироздани€ ¬ишну с культом Ўивы, сложилось учение о единстве космической силы ¬ишну и Ўивы, и в древнеиндийской иконописи и скульптуре стали по€вл€тьс€ изображени€ двуединого бога, права€ половина тела которого представл€ла ¬ишну, а лева€ – Ўиву, и каждому из них были приданы характерные атрибуты.14
»з «—казани€» €вствует, что после того, как ¬олхв был наречен √ромом-ѕеруном, новое двуединое божество «постави… нощных ради мечтаний и собирани€ бесовскаго градок мал». √овор€ современным €зыком, сли€ние культа ¬олхва и ѕеруна в ѕриильменье в период, обозначенный в «—казании» как 3099 год от сотворени€ мира (2409 год до н.э.), было отмечено возведением новой кумирни «на месте некоем, зовомо ѕерын€, иде же и кумир ѕерунов сто€ше», иными словами – на месте имевшегос€ ранее капища одного ѕеруна. Ёти сведени€ вполне вписываютс€ в историю культов и верований, так что здесь «—казание» исторически адекватно.
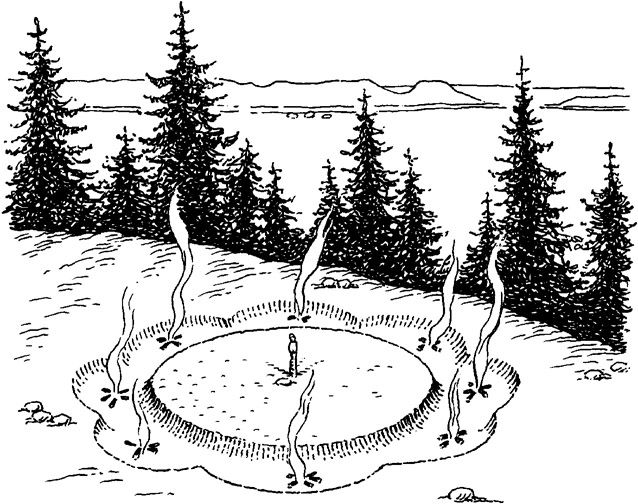
акие аргументы € могла бы привести относительно того, что ¬олхва из «—казани€» следует отождествл€ть с ¬олосом, а сведени€ о наречении ¬олхва √ромом следует понимать как свидетельство возникновени€ культа двуединого божества (например, как Ўива-–удра или как ¬ишну-Ўива)?
—амо им€ кн€жеского сына ¬олхва, по убеждению »ванова и “опорова, перекликаетс€ с именем ¬олоса: волохатый или волосатый. ќбраз ¬олхва имеет свои былинные аналоги в былинах о ¬олхе ¬сеславьевиче и о ¬ольге Ѕуслаевиче (—в€тославьевиче). ќсновной чертой этого р€да мифологизированных персонажей €вл€етс€ их способность к перевоплощению или реинкарнации, которой были наделены существа, отмеченные божественной или избраннической сущностью, согласно представлени€м, свойственным части архаичных религиозно-философских систем. Ќапример, мифы о ¬ишну повествуют о такой его отличительной черте, как способность воплощатьс€ в разных земных существ, причем не только в животных (известны его перевоплощени€ в рыбу, в вепр€, выход€щего из воды и др.), но и в людей, приобретавших благодар€ этому божественную сущность. —амыми знаменитыми воплощени€ми ¬ишну стали царевич –ама (герой поэмы «–ама€на») и царевич ришна (герой «ћахабхараты»).
—пособность к перевоплощению отличает также древнерусских ¬олха/¬олхва и ¬ольгу. ѕри этом многие их перевоплощени€ €вл€ютс€ зооморфными образами солнца: рыба, €сный сокол, тур-золотые рога. Ќазванные герои рождаютс€ от хтонического змеевидного существа, которое несложно отождествить с ¬олосом, исход€ как из указанного созвучи€ имен, так и из материала в источниках, который известен или может быть соотнесен с ¬олосом.
ќ ¬олосе известно, что он почиталс€ как покровитель скота, выступал оберегом кресть€нского двора, воспринималс€ как владыка аграрной магии и плодороди€ почвы, которого надо было умилостивл€ть («¬олосу на бородку» оставл€ли несколько несжатых колосьев). — солнцем ¬олоса можно св€зать благодар€ его функции бога богатства. ќбращает внимание то, что согласно ѕ¬Ћ, преступивший кл€тву, данную именем ¬олоса, должен будет понести кару от этого бога, и по выражению кн€з€ —в€тослава, «да будемъ золоти, €ко золото», что обычно переводитс€, как «да пожелтеем, как золото». ‘ункци€ обладател€ и хранител€ богатства содержалась в самом прозвании «скотий бог», поскольку слово скот имело в древнерусском €зыке значение имущество, деньги, отсюда скотница – казнохранилище, а скотолюбие – корыстолюбие.15
¬ древнерусских сказани€х, бытовавших на ”рале и записанных ѕ.ѕ. Ѕажовым уже в XX веке запечатлелс€ образ хранител€ золота – хтонического существа ¬еликого ѕолоза, который имел двойное обличье: человека и гигантского зме€. ќписание ¬еликого ѕолоза перекликаетс€ с известными чертами ¬олоса:
афтан на ем, штаны – все желтое, из золотой, слыш-ко, поповской парчи, а поверх кафтана широкий по€с с узорами и кист€ми, тоже из парчи, только с зеленью. Ўапка желта€, а справа и слева красные зазорины, и сапожки тоже красные. Ћицо желтое, в окладистой бороде, а борода вс€ в тугие кольца завилась… » вот вид€т реб€та – человека того уже нет. оторое место до по€са – все это голова стала, а от по€са ше€. √олова точь-в-точь така€, как была, только больша€, глаза ровно по гусиному €йцу стали, а ше€ змеина€. » вот из-под земли стало выкатыватьс€ тулово преогромного зме€. √олова подн€лась выше леса. ѕотом тулово выгнулось пр€мо на костер, выт€нулось по земле, и поползло это чудо к –€биновке, а из земли все кольца выход€т да выход€т. –овно им и конца нет. » то диво, костер-то потух, а на пол€нке светло стало. “олько свет не такой, как от солнышка, а какой-то другой, и холодом пот€нуло… —еменыч и объ€снил реб€там: «Ёто есть ¬еликий ѕолоз. ¬се золото в его власти. √де он пройдет – туда оно и подбежит. ј ходить он может и по земле и под землей, как ему надо, и места может окружить сколько хочет…».16
—ледовательно, ¬олх как «лютый зверь коркодил» в реке ¬олхов, самим именем св€занный с ¬олосом, и ¬ольга, рожденный от зме€ и принимавший облик «рыбы-щуки» (морда щуки, вообще говор€, очень схожа с мордой крокодила) были владыками подводного мира. ¬еликий ѕолоз – хранитель золота – одного из известных символов солнца, который мог ходить и по земле, и под землей, был владыкой подземного, загробного мира, в котором «свет не такой как от солнышка, а другой». Ёто напоминает, кстати, об идее «подземного» солнца на сосудах из могил фать€новской культуры – археологической культуры бронзового века (II тыс. до н.э.), локализовавшейс€ в центральной –оссии на территории »вановской, ¬ладимирской, ћосковской, “верской, —моленской, алужской, –€занской, “ульской, ќрловской, Ќижегородской и ярославской областей, в „увашии (Ѕаланово).17 —читаетс€, что фать€новска€ культура, в лоне культуры «боевых топоров», распространилась на указанные территории из региона рек ¬ислы и –ейна, а также ¬ерхнего и —реднего ѕоднестровь€. Ќо особо плотное сгущение находок погребальных сосудов с изображением «подземного солнца» прослеживаетс€ в ¬олго-окской области. ѕоэтому что касаетс€ идеи «подземного солнца» на погребальных сосудах фать€новской культуры, логичнее считать, что она была адаптирована носител€ми культуры «боевых топоров» по мере продвижени€ их на восток из ¬исленско-рейнского региона, что вполне согласовалось бы с известными закономерност€ми наследовани€ местных сакральных традиций пришельцами, главой которых и было, веро€тно, хтоническое божество, т.е. божество, выросшее из местной земли и объедин€вшее все три мира вселенной.
“аким образом, божество, скрытое за именем ¬олоса (название ¬олос – это €вно нарицательное иносказание, за которым скрывалось табуированное им€ древнейшего божества русов, также как и другое название божества ¬елис, которое согласно ‘асмеру, происходило от велий – великий) запечатленное во многих источниках в хтоническом облике, воспринималось в древнерусском мировоззрении как всемогущий владыка, объедин€вший под своей властью все три сферы: подземно-подводный, т.е. потусторонний мир, мир живой и плодонос€щей природы и небесный мир божественного солнца.
¬ажным свойством ¬олоса была его способность к реинкарнации. Ѕлагодар€ наличию данного свойства перерожденцы этого божества могли иметь и человеческий облик, и облик разных животных. ѕерерожденцы божества ¬олоса – боголюди.
ульт скотьего бога ¬олоса через культ медвежьей лапы уводил русскую традицию к неолитическим медвежьим культам севера на территории будущей Ќовгородской земли, а «—казание о —ловене и –усе» донесло до нас сведени€ о том, что перерожденец ¬олоса – чародей ¬олх – в середине III тыс. до н.э. пересел€лс€ от «≈вксинопонта» на север. «ѕодземное солнце» фать€новцев позвол€ет предположить, что этот культ охватывал в бронзовый век ¬олго-окский регион и, возможно, был распространен вплоть до ”рала. Ќа прот€жении всего русского средневековь€ культ ¬олоса прослеживалс€ на значительной территории русских земель. —казани€ этого периода св€зывают его с –усским —евером, Ќовгородчиной, ”ралом. ¬ышеупом€нутые герои былин, наделенные чертами ¬олосова оборотничества, рождаютс€ в иеве. »долы ¬олоса известны от северорусских земель до ¬ладимиро-—уздальской и –остовской земель вплоть до X-XI вв. »нтересно отметить, что в центральных русских земл€х, где находились капища ¬олоса, имелись и гидронимы с основой на коло-. Ќапример, ¬олосов во им€ св€тител€ Ќикола€ „удотворца женский монастырь ¬ладимирской и —уздальской епархии, созданный, по преданию, на месте капища ¬олоса, находитс€ на р. олочке – притоке олокши (впадает в л€зьму). ѕо преданию, образ свт. Ќикола€ неоднократно покидал храм и «€вл€лс€ на дереве, вис€щим на волосах». ¬ –остове ¬еликом идол ¬олоса, на месте которого в 991 году была возведена церковь ”спень€ Ѕогородицы, находилс€ неподалеку от притоков ¬олги – Ѕольша€ олокша и ћала€ олокша. «десь же в ярославской области протекает и река олба. –еки с аналогичным названием есть и в —ибири: олба – приток ћаны в бассейне ≈нисе€, друга€ олба впадает в озеро ћалое в ¬ерхнеобском бассейне, есть олба – приток —ерты в бассейне „улыма-ќби. Ќо есть олба и в Ќовгородской области: олбой называетс€ исток реки Ћаринки. “аким образом, оп€ть перед нами след, оставленный гидронимами с основой на кол-/коло- от Ѕалтики и ¬олжского бассейна до ќби и ≈нисе€, т.е. от олывани на Ѕалтике и олываней —амарской, Ќижегородской, ¬ладимирской губерний и ѕермского уезда до западносибирских олываней јлта€ и нынешней Ќовосибирской области. ¬осточноевропейска€ часть этой гигантской территории в древности и средневековье находилась в сфере распространени€ культа ¬олоса. ƒалее € попробую рассмотреть, прослеживаютс€ ли следы культа ¬олоса на сибирских просторах, отмеченных присутствием гидронимов с основой кол-/коло-, в такой же степени, как это видно в европейской части –оссии. Ќо сначала скажем несколько слов о культе ѕеруна.
—огласно легенде якушкина, зверь-зме€ка ѕерун «жил» на берегу реки ¬олхов у ее истока из »льмен€, в этом месте сто€л кумир ѕеруна, т.е. там находилось его капище. Ќо культ ѕеруна с древнейших времен прослеживаетс€ на южнобалтийском побережье. ѕодробные данные о том, что культ ѕеруна был известен у южнобалтийских народов, приводит –ыбаков. ” полабских слав€н он отразилс€ в названии дн€ недели: четверг – peräunedån – «перунов день» по аналогии с четвергами как дн€ми громовержцев, например, на латыни четверг – dies Iovis, т.е. день ёпитера, а у германских народов – Donnerstag (нем.), Thursday (англ.), Torsdag (шв.).
¬ XV веке в €зыке жителей острова –юген еще сохран€лось слово ѕерун.18 ƒревнерусский ѕерун сопоставим также с литовским ѕеркунасом. Ѕ.ј. –ыбаков со ссылкой на Ќидерле напомнил и о кельтском (P)erkunia.19 »звестно, что ѕрокопий есарийский сообщал о том, что у слав€н был бог – творец молний, который считалс€ владыкой над всем. »м€ ѕеруна фигурирует в фольклоре у сербов, словаков, болгар. ¬ 1905 году ƒ. Ёварницкий записал в ≈катеринославской губернии рассказ о культе ѕеруна в иеве и в ѕоднепровье. » хот€ этот рассказ повествует о времени крещени€ –уси, он содержит очень архаические черты.
»ванов и “опоров, рассматрива€ древнерусского ѕеруна в рамках сравнительного анализа с общеевропейскими текстами о боге грозы, пришли к выводу о том, что врем€ возникновени€ культа ѕеруна-√ромовержца, с учетом такой атрибутики как каменные стрелы («громовые стрелки» в древнерусской традиции), оружие из бронзы и пр. можно датировать «началом героической эпохи расселени€ индоевропейцев, видимо, с конца III тыс. до н.э.».20 јрхаичность культа ѕеруна характеризуетс€ тем, что мифы и ритуалы, св€занные с ѕеруном, соотнесены с дубами или дубовыми рощами, а также с устройством капищ на возвышенных местах. Ќа неЄ указывает и такой атрибут как палица, обнаруживающа€ сходство с ваджрой – палицой »ндры, которой он победил зме€ ¬ритру, а также то, что им€ и содержание культа ѕеруна перекликаютс€ с именем и элементами культа ведийского божества грозовой тучи и дожд€ ѕарджаньи.
Ќародна€ традици€ сохранила лишь фантастический, звериный облик ѕеруна, например, «зверь-зми€ка», а антропоморфный облик, в каком мог показыватьс€ ¬олос, в мифологических сюжетах о ѕеруне не отразилс€. ’от€ √рузнова напоминает о летописных сведени€х об идоле ѕеруна, установленном в иеве («голова сребр€на, ус злат»). Ќо возможно, что установление идола ѕеруна было данью сравнительно поздней традиции. ≈сли это так, то отсутствие антропоморфных образов в мифологической традиции говорит о том, что дл€ божества ѕеруна реинкарнаци€ не была характерна. Ќе€сно также, сложилось ли вокруг культа ѕеруна особое жречество, или же при образовании двуединого культа жрецы-волхвы стали и служител€ми ѕеруна. Ёто также не противоречило бы логике исторического развити€. Ќапример, культ богини –еи обслуживалс€ жрецами куретами, а фригийской богине ибеле служили жрецы корибанты. ѕосле сли€ни€ культов –еи и ибелы куреты стали жрецами –еи ибелы.
»з всего этого видно, что ѕерун выступал в ¬осточной и ёжной ≈вропе, а также на ёжной Ѕалтии как древнейшее и могущественное божество, под властью которого также объедин€лись три сферы: сфера небесного огн€, сфера земного плодороди€, орошаемого из грозовых туч и сфера подводного, т.е. потустороннего мира, где он представал хтоническим змеевидным владыкой.
» вот два великих культа – ¬олоса и ѕеруна – встретились в ѕриильменье, как это отразилось в легенде якушкина и в «—казании». —овершенно очевидно, что это были два культа. ќбобщу вкратце штрихи к «портрету» каждого из возглавл€вших эти культы божеств.
¬олос был наделен способностью к реинкарнации, поэтому ¬олх как перерожденец ¬олоса мог €вл€тьс€ и человеком, и животным. –еинкарнаци€ в культе ¬олоса и реинкарнаци€ в религиозно-философских системах ариев – важный момент дл€ их сравнительного анализа и еще один аргумент в пользу обосновани€ глубокой древности культа божества ¬олоса, как современника арийских божеств. —овпадение названи€ волхвов как жреческого титула с именами перерожденцев ¬олоса-¬олха и даже ¬ольги говорит о том, что при культе ¬олоса сложилось собственное жречество. Ќаличие собственного жречества у того или иного культа в древности – факт общеизвестный. ¬спомним, например, жрецов луперков – служителей защитника пастухов и стад, древнеримского Ћуперка. ¬о многих вариантах «—казани€» написание имени сына кн€з€ —ловена идет часто с маленькой буквы, как «волхв», т.е. не как им€ собственное, а как указатель жреческого статуса. Ќо титулы нередко становились именами собственными или, наоборот, имена собственные некоторых правителей закрепл€лись как титулы. «—казание» сохранило, веро€тно, тот момент, когда титул «волхв» как название жрецов ¬олоса стал в древнерусской традиции закрепл€тьс€ как антропоним, который впоследствии в былинах дл€ отличи€ от жреческого титула зазвучал как ¬олх.

“ипическа€ черта в «портрете» ¬олоса – это его борода. ¬спомним еще раз обр€д оставл€ть колось€ «¬олосу – на бородку». Ѕороду как об€зательный атрибут сохранил и христианский «преемник» ¬олоса – —в€той ¬ласий. ¬ день этого св€того его икону мазали коровьим маслом, что означало: у —в. ¬ласи€ и борода в масле. ¬ статье √рузновой (со ссылкой на ¬.». улакова) напоминаетс€ об одной археологической находке в Ќовгороде, обнаруженной в сло€х 30-60-х годов XII в. Ёто была фигурка человека-змеи, стилизованное тело которого с одной стороны венчала змеина€ голова, а с другой – бородатый мужчина. Ѕолее четкого пластического изображени€ ¬олоса можно только желать. Ѕорода, как отличительный признак ¬олоса, запечатлелась и в фольклоре: в сказе Ѕажова о ¬еликом ѕолозе это – желтолицый мужчина с окладистой бородой, завитой в кольца.
аким-то образом черты божества ¬олоса оказались увиденными ј.—. ѕушкиным и были перенесены им на образ «полнощных обладател€ гор» „ерномора (поэма «–услан и Ћюдмила»), дл€ поединка с которым «–услан свой путь отважно продолжает на дальний север» и которого один из героев поэмы охарактеризовал так: «”мен как бес, притом же, знай, к моей беде, в его чудесной бороде таитс€ сила рокова€, и, все на свете презира€, доколе борода цела – изменник не страшитс€ зла». ѕоэтическое прозвище „ерномора перекликаетс€ с чародеем ¬олхвом, род которого «отлучишас€ от ≈ксинопонта», прибыл из тех «полуденных стран», где воплощени€ ¬олоса знали как сыновей ¬олоса или ¬лашичей.
¬згл€ды современной науки по вопросу об источниках дл€ «–услана и Ћюдмилы» – кладезь премудрости, где есть все: от италь€нских рыцарских поэм и ¬ольтера до лубочных повестей типа ≈руслана оролевича, который, оказываетс€, тоже был тюркской переделкой иранского эпоса. „его только на свете не бывает, если смотреть на него через очки «истинной» науки! ќднако € вижу и другие источники. Ќа мой взгл€д, ј.—. ѕушкин обнаружил удивительно тонкое чутье историка как раз в ту эпоху, когда древности русской истории стали исчезать под наслоени€ми западноевропейских утопий, и вобрал наиболее ценные элементы из северорусских преданий, дав им бриллиантовую огранку своим поэтическим гением.
„ерты к «портрету» ѕеруна не размножились в таком количестве в древнерусской фольклорной или книжной традици€х, как описани€ ¬олоса. Ќо есть замечание летописца об усе златом у кумира ѕеруна. азалось бы, мелочь: у одного божества – борода, у другого – ус. Ќо в дописьменную эпоху даже самые незначительные детали в атрибутике божества содержали большую информационную нагрузку. јрхаичность культа ѕеруна выразилась в сохранении его св€зи с горами и с растительным миром – почитание дуба. ¬озможно, в древнерусской традиции представление о мощи ѕеруна выразилось в образах сказочных великанов, обладателей нечеловеческой силы – √орыни, ƒубыни и ”сыни. ¬ христианское врем€ ѕерун был вытеснен »льей-пророком.
ќба божества закрепились в народной пам€ти как змееподобные существа. Ќо воплощени€ змеиной природы ѕеруна и ¬олоса тоже имеют свои отличи€. Ќапример, √рузнова обратила внимание на то, что в предани€х, записанных Ёварницким, есть рассказ старика с острова ’ортица, датированный 1886 годом, в котором содержатс€ любопытные подробности о своеобразных змеиных династи€х. — момента по€влени€ ’риста, рассказывал старик, в пещерах стали жить трехголовые змеи, которые летали по свету и поедали людей и зверей, пока их не истребили богатыри-великаны. »м на смену пришли змеи с одной головой: один на ’ортицком острове, второй – на пороге √адючьем, а третий – на острове ѕерун, что ниже острова Ѕудыла. Ёти змеи были похожи на огромных гадюк, только умели летать. –азлетевшихс€ под натиском запорожских казаков одноглавых гадов сменили полозы, душившие овец и людей, обвива€сь вокруг тела жертвы. ќни катились за людьми, прин€в форму колеса, и спастись мог только тот, кто убегал против солнца, лишавшего нападающих возможности видеть добычу.21
Ћетающие змеи и полозы – €вно змееподобные ипостаси разных божеств. Ћетающие змееподобные существа чаще всего многоголовы (3, 6, 9, 12 или 5 и 7) и, естественно, имеют крыль€. Ётот образ хорошо сочетаетс€ со сказочным «меем √орынычем, который извергает плам€ и громом гремит, что св€зывает этот образ с богом-громовиком ѕеруном. ѕохищение и пожирание людей, возможно, аллегори€ человеческих жертвоприношений ѕеруну. рылатого «зми€ку» ѕеруна часто называют драконом (у –ыбакова – €щер, дл€ подчеркивани€ особой древности этого божества), а ¬олос/¬олх в «—казании» – оборотень «коркодила». ќбраз полоза, который сравниваетс€ с колесом, кат€щимс€ по земле и убивающем людей, перекликаетс€ с древними предани€ми о карающем солнце как колесе, которое в древнерусской традиции €вно было св€зано с ¬олосом – ¬еликим ѕолозом. “аким образом, в екатеринославском сказании остались запечатленными и культ ѕеруна-√рома, и носител€ солнцепоклонства – ¬олоса, существовавшими в ѕоднепровье, но не в виде объединенного культа, а в виде отдельных, смен€вших друг друга змеиных «династий», по выражению √рузновой.
ј в ѕриильменье возник, на мой взгл€д, двуединый культ ¬олоса-ѕеруна, по типу ¬ишну-Ўива или ибела-–е€. ¬ чем это выразилось? ѕрежде всего, в бытовой культуре приильменского населени€. ’тонические образы зме€ – дракона ѕеруна и зме€-«коркодила» ¬олоса играли в ней очень важную роль, при этом олицетвор€ли не отрицательное, а положительное начало: змеиные головы украшали ручки ковшей и сосудов дл€ воды (предметов, носивших ритуальный характер), кровли домов и ритуальные жезлы, т.е. символизировал изображение важного божества-оберега.22 ”ченым сложно бывает определить, кто есть кто на этих изображени€х – чаще всего змееобразные головы определ€ют головами драконов, и соотнос€т эти обереги только с ѕеруном. ’от€ некоторые с бóльшей веро€тностью имеют отношение к ¬олосу. Ќапример, на новгородских гусл€х, найденных при археологических раскопках, изображена морда животного, которую археологи тоже сочли похожей на морду дракона, кусающего свой хвост.23 ќднако ¬елесовым внуком назван эпический гусл€р вещий Ѕо€н, соловей старого времени, который вещие персты на живые струны вескладаше – этот образ из «—лова о полку »гореве», естественно, св€зывает изображение животного на новгородских гусл€х с древнейшим божеством русов ¬олосом/¬елесом.
ћ.Ћ. —ер€ков, исследу€ былину о —адко на предмет содержани€ в ней сакрального субстрата, показывает, что ћорской царь в былине обладает целым р€дом черт, характерных именно дл€ атрибутики ѕеруна. “ак, ћорской царь угрожает —адко сжечь его огнем, что естественно дл€ владыки грома и молнии, —адко отправл€етс€ в подводное царство на дубовой доске, а дуб – св€щенное дерево ѕеруна и т.д. Ќо, как и в случае со змеиной символикой, котора€ может скрывать как ѕеруна, так и ¬олоса, представл€етс€, что и былинно-сказочный образ ћорского цар€ тоже двойственной природы и в некоторых сюжетах обладает атрибутикой ¬олоса. ћорской царь награждает —адко трем€ золотыми рыбами. „исло ѕеруна – четыре, а не три, а тройка символизирует триадность пантеона, возглавл€емого —олнцем. «олото также – символ солнца и атрибут ¬олоса. ј гусл€р —адко так же, как и вещий Ѕо€н, наделен чудесными свойствами перерожденца ¬олоса. √усли были, по-видимому, атрибутом жрецов ¬олоса, а со временем этот атрибут был усвоен разными группами жрецов, в том числе, и на южнобалтийском побережье. ћожно вспомнить рассказ византийского историка и писател€ ‘еофилакта —имокатты (начало VII в.) о том, что в 591 году людьми императора ћаврики€ (582-602) были захвачены три гусл€ра, которые рассказали, что они родом славины и что живут они у оконечности западного ќкеана.24 Ёто еще один пример, что сли€ние культов ѕеруна и ¬олоса создало некое однородное сакральное пространство от ѕриильмень€ до западной оконечности ёжной Ѕалтии.
ќднако все эти рассуждени€ касаютс€ сли€ни€ культов ¬олха/¬олоса с культом ѕеруна в их мужских ипостас€х. ј как же ¬олховска€ коровница, к которой ходил ѕерун? ј вот ей-то до сих пор не находилось достойного места в научных изыскани€х. ѕоскольку сказочный «мей √орыныч и змей из екатеринославского сказани€ были похитител€ми девушек, то многие исследователи, вслед за ¬с. ћиллером, стали рассматривать ¬олховскую коровницу как жертву, похищенную зми€кой ѕеруном, несмотр€ на то, что сюжет легенды не содержит никакого намека на похищение, а дает совершенно иную информацию.
ѕод личиной ¬олховской коровницы здесь €вно выступает местное женское божество – женское воплощение ¬олоса. —войство одного божества выступать и в женском, и в мужском обличье, возможно, также св€зано с принципом реинкарнации. ѕо крайней мере, известно, что —олнце в русской народной традиции имело и женский, и мужской облик. ќт женского воплощени€ ¬олоса осталс€ образ ¬олосынь – так именовалось в русской традиции созвездие ѕле€д. »ванов и “опоров указывали на св€зь этого созвезди€ с медвежьим культом: си€ние ¬олосынь предвещало хорошую охоту на медвед€. ѕо мнению исследователей, ¬олосыни, могли пониматьс€ как астрализованный образ женщины и толковатьс€ как жены ¬олоса.25 ј –ыбаков обратил внимание на работу Ќ. янковича, в которой приводились данные о наименовании ѕле€д «¬лашичами», т.е. сыновь€ми ¬олоса.26
ѕодтверждением тому, что «скотий» или «коровий бог» существовал не только в мужском, но и в женском облике, €вл€етс€ тот факт, что в народной традиции покровительницей домашнего скота считалась —в. јгафь€ оровница, поскольку она оберегала коров от болезней. ƒень пам€ти —в. јгафьи оровницы 5/18 феврал€ предшествовал дню —в.¬ласи€ (11/24 феврал€) или ¬ласьеву дню, который в народе также именовалс€ коровьим праздником, а корову называли «власьевной». ¬ этот день мол€тс€ о сбережении скота, пригон€ют коров к церкви, коровье масло кладут в дар перед образом —в. ¬ласи€.
ќбраз —в. јгафьи оровницы подтверждает, что «скотий бог» ¬олос выступал и как женское божество, запечатлевшеес€ в легенде якушкина как ¬олховска€ коровница, чьей христианской заместительницей стала —в. јгафь€. Ќа –усском —евере были известны легенды о мифических коровах, обитавших в озерах. орова в древнерусской культуре была св€зана и с небесной «водой», т.е. с облаками, с осадками. —ходным образом у ариев корова именовалась как матерь человеческа€, а тучи в ¬едах воспевались как коровы, набухшие молоком дожд€. ƒревние культы сохран€ют в себе черты тотемизма, и св€щенные животные почитаютс€ в них как воплощени€ божества. „ем древнее культ, тем шире может быть в нем круг почитаемых животных, растений и других объектов поклонени€. Ќельз€ не вспомнить о том, что в былине о —адко вместе с ћорским царем фигурирует его дочь – ¬олхова, царевна прекрасна€ (иногда – царица и супруга ћорского цар€), в имени которой угадываетс€ св€зь с ¬олховской коровницей из предани€.
ƒревние божества в женском обличье надел€лась особой функцией осуществл€ть мистическое «совокупление» с мужским божеством, т.е. как бы вступать в сакральный «брак» – форма ритуала, с помощью которой осуществл€лось преемство сакральной власти внутри человеческого коллектива или происходило объединение («породнение») различных этнополитических систем. “ак, на мой взгл€д, следует понимать легенду якушкина, где выдел€етс€ легко верифицируема€ информаци€ о сакральных контактах между представител€ми двух культов: ѕеруна и ¬олоса, осуществл€вшимис€ жреческими главами этих культов, наделенными правами и полномочи€ми заключать сакральный «брачный» союз. » предание, следовательно, зафиксировало объединение двух €зыческих культов в единый пантеон, символически изобразив этот процесс как мистическое совокупление ѕеруна в мужской ипостаси и ¬олоса в женской ипостаси, сохранив в иносказательной форме факт большого исторического значени€.
¬ данном «браке» ѕерун был божеством «со стороны» ёжной Ѕалтии, а само им€ ¬олховской коровницы указывает на то, что «коровница» принадлежала к местным божествам древних русов, и их «соитие» отражало процесс сли€ни€ отдельных культов в общий древнерусский €зыческий пантеон с легко угадываемой целью: охватить весь регион от Ѕалтийского мор€ до ѕриильмень€ (и затем далее на юг, до ѕоднепровь€) и создать единое сакральное пространство дл€ его обитателей, что, как и во все времена, могло гарантировать большую свободу передвижени€, охрану жизни, какие-то единые нормы и т.д. ¬ сущности, сакральные границы в истории человечества предшествовали той роли, которую сейчас играют границы международных политических, экономических и прочих союзов.
ќбраз ¬олховской коровницы заслуживает отдельного рассмотрени€, поэтому роли древнерусского женского божества, запечатленного в этом образе, будет посв€щена следующа€ стать€ цикла о древнерусском солнцепоклонстве.
Ћиди€ √рот,
кандидат исторических наук
ћетки: €зычество –усь |
–усский кн€зь ќдоакр и италь€нец »ль€ ћуромец. »ли русы в »талии |
ƒневник |
- ќн родилс€ от матери италь€нки и неизвестного отца. «начит он италь€нец!
"«акон есть закон"
ѕредки русских в »талии V-VI веков (по устным источникам)
ак известно, у большинства народов на прот€жении многих столетий исторические знани€ только по пам€ти передавались в устной традиции. Ѕудучи впоследствии записаны, такие источники могли стать объектом изучени€. ‘иксации относительно немногих устных текстов осуществл€лись и средневековыми книжниками; такие материалы дошли, как правило, литературно обработанными. Ёто не уменьшает ценность источников устного происхождени€. ”стна€ истори€ охватывала и такие сферы исторического знани€, которые по разным причинам не получили достаточного освещени€ в истории письменной.
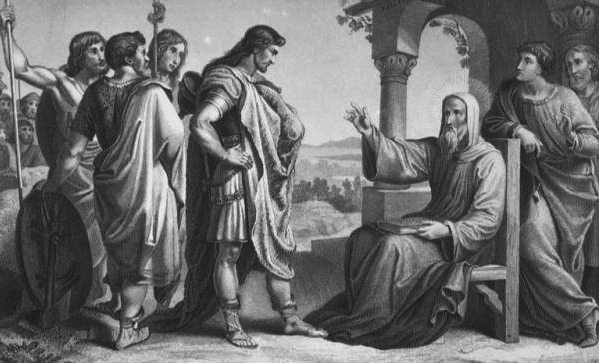
ќдоакр со свитой перед св. —еверином (фреска в конференц-зале Ќижнеавстрийского дома в ¬ене)
–ассказы и воспоминани€ непосредственных участников и очевидцев исторических событий €вл€лись первоисточниками, на их основе развивались исторические предани€, героические сказани€ и эпические песни, порой сохран€вшиес€ в устном бытовании на прот€жении многих столетий и лишь сравнительно недавно записанные собирател€ми фольклора или просто любител€ми старины. ѕовсеместно распространенные в средние века произведени€ этих устных жанров только в достаточно важных случа€х тогда записывались и использовались в политических цел€х.
√овор€ об устных источниках летописной записи или исторической повести, необходимо учитывать жанровые особенности исходного материала и степень текстовой устойчивости произведений при многократной изустной передаче, предшествовавшей занесению в рукопись. ќтношение к действительности в разных жанрах фольклора весьма различно. Ќекоторым из них была свойственна высока€ степень бережного обращени€ с фактом. “очность передачи таких произведений по пам€ти оказывалась порой очень велика. —табильность повествовани€ в устных вариантах могла быть даже выше, чем сходство разных списков произведени€ в некоторых из известных нам жанров средневековой литературы.
ќсновыва€сь на источниках такого рода можно уверенно соотносить первоначальный «выход в историю» древнерусского этноса с ¬еликим переселением народов. ќб этом достаточно определенно свидетельствовали устные источники, долго сохран€вшиес€ в пам€ти и отображенные (к сожалению, фрагментарно) в дошедших до нас письменных фиксаци€х, осуществленных в средние века. я имею здесь в виду не только тексты западноевропейские и византийские, которые специалистам были достаточно известны, но, главным образом, малоизвестные материалы, восточнослав€нской устной традиции.
Ќекоторые сюжеты и персонажи русских былин по своей типологии и по конкретным признакам т€готеют еще к III-IV столети€м. ¬ русском эпосе видны отзвуки характерного дл€ тогдашней эпохи общественного устройства и происходивших в те времена межэтнических катаклизмов, судьбоносных дл€ племен и народов, которые выдержали эти исторические испытани€. —обыти€ последующих веков отображал и западный эпос.
«наменита€ “идрексага, записанна€ в Ќорвегии лишь в XIII столетии, но основанна€ на предани€х и песн€х древних германцев, довольно подробно повествовала о крупных военных столкновени€х, в которых участвовали гунны, готы и русские. ѕочти на полвека ранее этой саги о таких событи€х писал —аксон √рамматик в своем труде «ƒе€ни€ данов», соответствующа€ часть которого основана на передаче эпических сказаний древних датчан. ѕо своему жанру этот материал аналогичен “идрексаге, историческое зерно угадываетс€ с трудом, будучи заслонено традиционными мотивами эпоса. ќднако не раз говоритс€ о –уси, упом€нут укрепленный ѕолоцк. ≈стественно, что решающа€ роль в борьбе против гуннов отведена здесь датскому королю, но из текста следует, что в событи€х участвуют русские. √оворитс€ о семидневном победоносном сражении с гуннами, в котором сразу же «образовались такие груды убитых, что три главные реки –уси, вымощенные трупами, наподобие мостов, стали легко проходимыми дл€ пешеходов». ѕосле описани€ битвы сказано о распределении земель между победител€ми гуннов, причем —еверна€ –усь, согласно скандинавской традиции, тут обозначена как «Holmgardia».
¬ажно подчеркнуть, что независимые друг от друга источники – датский и норвежский – совершенно по-разному тракту€ событи€ борьбы против гуннов, оказались единодушны в представлении, что –усь участвовала в этой борьбе.
ќднако причастность русских к тому, что совершалось в ≈вропе в эпоху ¬еликого переселени€ народов, едва ли могла ограничиватьс€ сражени€ми с войсками гуннов. “огдашние перемещени€ племен и этнических групп, вступавших в разнообразные военные союзы, в самых общих чертах известны. Ќо далеко не всЄ описывали детально авторы немногих дошедших до нас исторических сочинений того времени. ѕоэтому не следует пренебрегать и поздними отображени€ми в русской устной традиции. ќна сохран€ла сведени€ тыс€челетней давности. ‘рагментарные припоминани€ об исторических ситуаци€х и фактах V-VI столетий вполне могли устно бытовать и в XV-XVI столети€х (будучи, конечно, деформированы позднейшими осмыслени€ми) – подобно тому, как в народном устном репертуаре XIX века бытовали остатки воспоминаний о событи€х IX столети€, дошедшие до нас в предани€х о √остомысле и –юрике, которые успели еще записать собиратели фольклора в Ќовое врем€.
Ёто побуждает отнестись со вниманием к произведенной в 1525 году ѕавлом »овием Ќовокомским (ѕаоло ƒжовио) записи ответа русского гонца в –име ƒмитри€ √ерасимова на вопрос, не осталось ли у русских «какого-нибудь передаваемого из уст в уста от предков извести€ о готах или не сохранилось ли какого-нибудь записанного воспоминани€ об этом народе, который за тыс€чу лет до нас низвергнул державу цезарей и город –им, подвергнув его предварительно всевозможным оскорблени€м».
—огласно передаче »ови€, √ерасимов «ответил, что им€ готского народа и цар€ “отилы славно у них и знаменито, и что дл€ этого похода собралось вместе множество народов и преимущественно перед другими московиты. «атем, по его словам, их войско возросло от притока ливонцев и приволжских татар, но готами названы были все потому, что готы <…> €вились зачинщиками этого похода».
Ќасколько точно зафиксировал »овий сказанное ему √ерасимовым, мы, конечно, не знаем. явно поздним осмыслени€м XV-XVI веков об€заны упоминани€ ливонцев и татар, а термин «московиты» был тогда характерен дл€ суммарного обозначени€ русских в «ападной ≈вропе; этим словом посто€нно пользуетс€ и сам »овий. √еографические и лингвистические неточности не отмен€ют ценности главного содержани€ информации, которую сообщил √ерасимов: остаютс€ правдоподобные в своей основе сведени€ о преобладающем участии предков «московитов» в разноплеменных войсках, которые вместе с готами завоевывали неоднократно –им и подчин€ли »талию – не только в шестом столетии во времена “отилы. ќт кого и где усвоил это представление ƒмитрий √ерасимов, позднее участвовавший в работе по подготовке в Ќовгороде перевода √еннадиевской Ѕиблии, неизвестно. »сследовавша€ его де€тельность Ќ.ј. азакова высказывала мнение, что и сам √ерасимов «был уроженцем Ќовгорода».
ѕам€ть о событи€х эпохи ¬еликого переселени€ народов, оказываетс€, сохран€лась в предании, которое было хорошо знакомо русскому человеку начала XVI столети€ в пределах Ќовгородской земли.
—тоит вспомнить, что говоритс€ в сочинении современника – историка »мперии ѕрокопи€ о √отской войне. ќн упоминал шеститыс€чное войско, которое под предводительством »льдигеса проследовало из области склавенов в »талию, чтобы воевать против ёстиниана на стороне остроготов и “отилы; оно состо€ло из склавенов и некотрого числа гепидов.
“аким образом, русское устное предание о роли «московитов», хорошо известное в XVI веке ƒмитрию √ерасимову, позвол€ет не только уточнить, но и конкретизировать и глухие данные ѕрокопи€ о преобладании слав€н в войске, пришедшем дл€ поддержки “отилы в войне против императора ёстиниана в середине VI века.
ѕредани€ о более ранних событи€х середины V века, передававшиес€ изустно свыше тыс€чи лет, бытовали, оказываетс€, в среде украинского казачества. иевский лингвист академик ¬.√. —кл€ренко несколько лет назад привлек внимание научной общественности к малоизвестным сведени€м, которые отобразил универсал гетмана Ѕогдана ’мельницкого, датируемый 1648 годом и обращенный к казакам его войска по случаю войны с ѕольшей. ’мельницкий призвал казаков умножить славу их предков-русов, завоевавших в 470 году –им под предводительством ќдоакра и затем четырнадцать лет владевших этим древним городом.
—огласно сведени€м универсала, хронологическа€ неточность которого составила несколько лет, русы, возглавленные ќдоакром, прибыли тогда из –угии, от Ѕалтийского ѕоморь€. —ведени€ иных источников о племенной принадлежности самого ќдоакра неоднозначны, но есть указание на то, что он и сам был ругом.
»сторик готов »ордан писал о племени ругов, которые по его сведени€м поселилось как раз в Ѕалтийском ѕоморье ранее, чем туда пришли готы. ¬ отличие от ѕрокопи€, который ошибочно называл ругов готским племенем, »ордан противопоставл€ет ругов германцам. ќн относил ругов к племенам, которые, по его словам, превосходили германцев «как телом, так и духом» и «сражались всегда со звериной лютостью».
“ождество русов и ругов, давно обоснованное в р€де исследовательских работ, вызывало возражени€ некоторых авторов. “еперь же это тождество дополнительно подтверждаетс€ данными устной традиции, сохран€вшейс€, очевидно, в казачьей среде и потому отраженной даже универсалом Ѕогдана ’мельницкого. ќснованные на предани€х сведени€ этого документа о том, что русы, возглавленные ќдоакром, захватили –им в 470 году, хронологически неточны, но приблизительно соответствуют данным достоверных источников сведени€ о том, что 14 лет продолжалось в »талии владычество ќдоакра.
ѕредани€ о действи€х ќдоакра как вожд€ русов («рутенов») были известны не только в войсковой канцел€рии Ѕогдана ’мельницкого, возглавившего казаков, которые считали ќдоакра предводителем своих предков. јкадемик —кл€ренко напомнил и о латинской надписи первой четверти XVI столети€ в одной из катакомб на территории древнего Ќорика. ¬ надписи упом€нуто о действи€х в 477 году опустошившего тогда Ќорик ќдоакра, который фигурирует в этом тексте как «вождь рутенов, гепидов, готов, венгров и герулов».
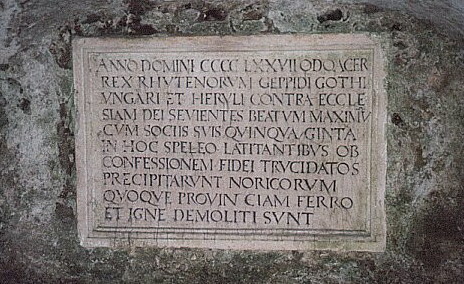
аменна€ плита с упоминанием ќдоакра в капелле св. ћаксима. атакомбы аббатства св. ѕетра, «альцбург (јвстри€)
—овокупные показани€ записанных в XIII веке пам€тников германского эпоса позвол€ют заключить, что после борьбы с гуннами знаменитый вит€зь »ль€ –усский оказалс€ в »талии, помога€ королю Ћомбардии. ¬ »талии же, согласно “идрексаге, находилась дочь »льи, котора€ ребенком была заложницей при дворе јттилы.
¬ сохранившихс€ былинах об »лье ћуромце присутствуют достаточно €сные указани€ на то, что эпическа€ «биографи€» его исторического прототипа св€зана с »талией. Ѕылинам вообще небезызвестна «Ћатынска€ земл€», как обозначали католические страны, в частности »талию, в ƒревней –уси. Ќо именно в св€зи с »льей былины упоминают «Ћатынские горы», а сам »ль€ нередко едет по «Ћатынской дороге». —уществует былина о встрече уже старого »льи ћуромца с неузнанным взрослым сыном. “ип ее сюжета международно распространен, проводились даже сопоставлени€ русской и германской версий. Ќо любопытно, что в вариантах русской былины мать молодого богатыр€ бывает названа «латынгоркой», с которой »ль€ прижил сына, рожденного в «горах Ћатыньських» – вдали от русских пределов.
Ќаиболее интересен особый вариант, записанный в 1871 году на берегу ќнежского озера от превосходного знатока былинной традиции “рофима √ригорьевича –€бинина. «десь говоритс€ о встрече богатыр€ не с сыном, а с дочерью, котора€ разыскивает отца и в ответ на расспросы »льи говорит, что она родилась в »талии, где живет еще ее мать. »з диалога вы€сн€етс€, что у матери ее жил »ль€, когда помогал италь€нскому королю. ѕривожу в сокращении этот диалог:
≈сть € родом из земли да из “аль€нскою,
” мен€ есть родна матушка честна вдова,
ƒа честна вдова она колачница <...>
» отпустила мен€ ехать на св€тую –усь
ѕоискать соби да родна батюшка <...>
»ль€, узнав, что это его дочь, говорит ей:
«ј когда € был во той земли во “аль€нскою,
“ри году служил € у корол€ таль€нскаго,
ƒа € жил тогда да й у честной вдовы,
” честной вдовы да й у колачницы <.. .>
Ќаши эпосоведы не раз отмечали высокие художественные достоинства этого варианта. ќн был закономерно включен в составленную ј.ћ. јстаховой академическую антологию былин, посв€щенных »лье, где даетс€ и обсто€тельна€ характеристика “.√. –€бинина, которому принадлежат «лучшие образцы былинного творчества». Ќо соотнесенность данного образца с »талией при комментировании оказалась обойденной.
ќбъ€снение следует искать в том, что былинные обозначени€ «Ћатынские горы», «Ћатынска€ дорога» и «латынгорка» исследователи этого сюжета не попытались объ€снить в св€зи с «Ћатынской землей», а стремились св€зать с термином «летьгола» или «латыгола», которым летописные извести€ XIII и XIV веков обозначали латышей. ќднако в Ћатвии гор нет, и «латышскую» гипотезу безуспешно пыталс€ обосновать ј.¬. ћарков. ≈му резонно возразил ¬.‘. ћиллер, ранее старавшийс€ вывести этот сюжет из »рана.
ѕервоначальный извод международного эпического сюжета о встрече богатыр€-отца с неузнанным богатырем-сыном, действительно, мог зародитьс€ и в »ране, и в —редней јзии, и в –оссии, и в —кандинавии, и в √ермании, на что справедливо указал ¬.‘. ћиллер. Ќо именно русска€ верси€ этого сюжета в своих вариантах бывает уснащена «латынскими» географическими реали€ми. Ѕесспорна географическа€ св€зь цитированного варианта именно с »талией и вполне очевидна сюжетна€ соотнесенность его с ролью »льи в пам€тниках германского эпоса, также указывающих на »талию.
—огласно былинам, на «Ћатынской дороге» находитс€ иногда богатырска€ застава, которую охран€ет »ль€; по «Ћатынской дороге» он едет, дабы совершить один из главных своих подвигов – победить »долище; по ней он возвращаетс€ издалека, направл€€сь в иев; на ней же он встречает своего неузнанного сына. — «Ћатынской дорогой» бывают св€заны и последние подвиги русского богатыр€, завершающие его эпическую «биографию». Ёто былина о «последней поездке» »льи:
ќто младости ездил до старости <…>
ƒа едет-де старый чистым полем
ƒа большой дорогой Ћатынскою,
ƒа наехал на дороге горюч камень <…>
Ќа этом камне написано пророчество: что ждет путника, если он поедет по какой-либо из трех дорог, начинающихс€ от камн€. »ль€ едет поочередно по каждой дороге; на двух первых побеждает разбойников и освобождает находившихс€ в заточении, а на третьей видит крест, сто€щий над подземельем, в котором оказалс€ богатый клад. ¬з€в его, »ль€ направл€етс€ в иев,
ƒа построил он церковь соборную,
—оборную да богомольнюю.
ƒа и тут ведь »ль€-то окаменел,
ƒа поныне ево мощи нетленные.
ћощи, сохран€емые доныне в катакомбах иево-ѕечерской лавры, принадлежат канонизированному русской церковью преподобному »лье ћуромцу, которого народна€ молва отождествила с древним героем былинного эпоса.
Ќо с эпической «биографией» именно древнего »льи –усского может быть св€зан и вполне достоверный исторический факт. «адолго до государственного прин€ти€ христианства кн€зем ¬ладимиром —в€тославичем в иеве существовал соборный храм —в€того »льи, упоминаемый «ѕовестью временных лет» в св€зи с событи€ми первой половины X века. ѕри ратификации договора с ¬изантией в 944 году в присутствии византийских послов именно в этой соборной церкви иева прис€гала христианска€ часть дружины кн€з€ »гор€.
’орошо известен существовавший не только на –уси обычай возводить храм, посв€щаемый тому св€тому, чье им€ носил храмоздатель. ћаловеро€тно, что именно эта церковь св. »льи по€вилась уже в V или VI веке, но эпическа€ традици€ могла быть использована при постройке или возобновлении храма, – подобно тому, как она впоследствии вли€ла на народное почитание мощей преподобного »льи ћуромца. ≈стественнее всего соотносить зафиксированную древность киевской церкви св. »льи с былиной о последних де€ни€х богатыр€ »льи и его кончине в иеве – после возведени€ здесь церкви. —уд€ по некоторым из вариантов былины о «последней поездке» »льи, его исторический прототип, возвраща€сь глубоким стариком на родную землю (много позже крушени€ державы јттилы), мог только тогда узнать о существовании иева: это поселение, если оно возникло в V или VI веке (согласно —инопсису »ннокенти€ √изел€), веро€тно, не было гуннами уничтожено – подобно древнейшему ѕолоцку.
ѕодвиги древнего »льи –усского в противосто€нии €зычникам, акцентированные пам€тником германского эпоса, могли послужить фундаментальной основой дл€ закреплени€ за этим персонажем в русском эпосе репутации охранител€ христианской веры – репутации, прошедшей и через столети€ обороны от €зыческих нашествий на –усь в последующие времена. ƒошедшие до нас былины рисуют богатыр€ »лью как сто€тел€ за веру православную и защитника от осквернени€ татарами православных церквей и монастырей – главным образом, киевских. Ќо в V или в VI веке на месте будущего стольного города иевской –уси могло быть только €зыческое поселение. ѕостроение в нем христианской церкви – де€ние, которое по плечу эпическому герою.
—ергей Ќиколаевич јзбелев,
доктор филологических наук, профессор
»сточник: http://pereformat.ru/2011/11/predki-russkih-v-italii/
ћетки: –усь |
—коморохи |
ƒневник |


—коморохи (скомрахи, глумцы, гусельники, игрецы, пл€сцы, весЄлые люди) — странствующие актеры в ƒревней –уси, выступавшие как певцы, острословы, музыканты, исполнители сценок, дрессировщики, акробаты.
Ётимологи€ слова "скоморох" плохо изучена и именно по этой причине существует большое количество версий происхождени€ этого термина. ¬.». ƒаль в своЄм “олковом словаре живого великорусского €зыка отмечает:
скоморох — «музыкант, дудочник, сопелыцик, гудочник, волынщик, гусл€р; промышл€ющий этим, и пл€ской, песн€ми, шутками, фокусами; потешник, ломака, гаер, шут; зап. медвежатник; комедиант, актер и пр.»
“ворчество скоморохов исследователи относ€т зарождению фольклорного театра на –уси (народный театр). —коморохи сочетали в своЄм творчестве пение, игру на музыкальных инструментах, пл€ски, медвежью потеху, кукольные представлени€, выступлени€ в масках, фокусы, пение былин, рассказы сказаний и прибауток. ¬ообще, сатира скоморохов была очень злободневной, т.к. ходили они по земле и одни из первых узнавали новые житейские новости. ¬ своих прибаутках скоморохи высмеивали человеческие пороки и были всегда уважаемыми на любых народных праздниках и на свадебных пирах.
”поминани€ о них по€вл€ютс€ в исторических источниках начина€ с XI века. ќсобую попул€рность получили скоморохи в XV—XVII вв. ¬ момент христианизации начинаетс€ искажение национальных духовно-нравственых традиций –уси. —коморохи вс€чески высмеивали это €вление и именно поэтому подвергались вс€ческим гонени€м со стороны церковных и гражданских властей.
¬ домах, особенно во врем€ своих пиршеств, русские люб€т музыку. Ќо так как ею стали злоупотребл€ть, распева€ под музыку в кабаках, корчмах и везде на улицах вс€кого рода срамные песни, то нынешний патриарх два года тому назад сперва строго воспретил существование таких кабачьих музыкантов и инструменты их, какие попадутс€ на улицах, приказывал тут же разбивать и уничтожать, а потом и вообще запретил русским вс€кого рода инструментальную музыку, приказав в домах везде отобрать музыкальные инструменты, которые и вывезены были... на п€ти возах за ћоскву реку и там сожжены.
[ ѕодробное описание путешестви€ √олштинского посольства в ћосковию... — ћ., 1870 — с. 344.]
«десь важно отметить тот факт, что с момента крещени€ –уси на русскую землю прибыли с «апада идеологи по уничтожению национальной культуры слав€н. ÷ерковные власти запрещали называть детей слав€нскими именами. ѕри этом, у людей отнимали народные музыкальные иструменты, запрещали петь русские народные песни, играть на гусл€х, исполн€ть былины, рассказывать народные сказки. ¬сЄ это напоминает действи€ оккупантов, внедр€ющих свою идеологию и свой образ жизни.
счастью наши предки сумели по крупицам сохранить свою историю и национальную культуру. Ќизкий им поклон за это. —умеем ли мы сохранить и передать нашим потомкам своЄ национальное наследие? ¬опрос остаЄтс€ открытым.
ѕословицы и поговорки
- ¬с€к спл€шет, да не так, как скоморох.
- Ќе учи пл€сать, € сам скоморох.
- ” вс€кого скомороха свои погудки.
- —коморохова жена всегда весела.
- —коморох голос на гудке настроит, а жить€ своего не устроит.
- » скоморох ину пору плачет.
- —коморох попу не товарищ.
‘ильм-сказка "¬озьми мен€ с собой" (1979), /ст им.√орького.
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Lm9dOIpy89Y
–ежиссер: Ѕорис –ыцарев
—трана: ———–
ƒеревенска€ сиротка ƒун€ша с первой встречи полюбила скомороха-озорника ћитроху, потешника. —ложна жизнь скомораха, стрем€щегос€ к правде и справедливости, но унывать ему некогда. –ешил пойти ћитроха в город к своему давнему при€телю с которым прежде скоморошничал. Ќыне у его при€тел€ семь€ и ремесло горшечника. ¬здумалось пойти ћитрохе в подмастерь€.
ƒун€ша так сильно полюбила ћитрофана, что ув€залась за ним в город. “ак они и шли до самого города, пока не повстречали на пути разбойников и бо€рских слуг. » во всех опасных случа€х выручала скомороха его смекалка да творчество скомороха веселить и потешать людей...
ѕри€тного семейного просмотра ...
ѕроисхождение слова скоморох
ѕочти два столети€ исследователи-профессионалы и просто любители пытаютс€ объ€снить этимологию (происхождение) слова «скоморох». —уществует более двух дес€тков версий. ¬от некоторые.
¬ 30-х годах XIX века чешский славист ѕ.Ўафарик напомнил о кочевом народе – скамарах, живших в V веке на ƒунае, и занимавшихс€ разбоем и грабежами. ќт них, €кобы, и произошли скоморохи. »ной аргументации учЄный не привЄл.
—торонник теории «захожести» (иностранного происхождени€) скоморохов, автор работы «—таринный театр в ≈вропе» (1870 г.) јлександр ¬еселовский предложил «восточную» этимологию: от арабского масхара – «шут, смешной человек».
—овременник ј.¬еселовского, академик я.√рот обратилс€ за помощью к готскому скамари и скандинавскому скемта, имеющих значение «шутить». ѕри этом он предположил существование подобных по звучанию и смыслу слов (возможно забытых) в слав€нских €зыках.
ј. ирпичников и ≈. √олубинский «сконструировали» из греческих слов скома – «шутка» и архо – «начальствую» сочетание скоммаpхос, перевед€ его как «начальник смехотворства». —ледует сказать, что в греческих словар€х и других источниках подобное словообразование не встречаетс€.
–усский филолог-славист ». —резневский поддержал теоретиков «захожести», «обнаружив» возможную этимологию в европейских €зыках: в италь€нском слова скарамучча и во французском – скарамуш, с одним значением – «шут», «насмешник». ак помен€лись в слове местами согласные «м» и «р» академик не объ€снил.
Ќ. ондаков в конце XIX века предложил «русскую» версию: от слова скора – «мех». —коромох, по его мнению, - «р€женый зверем». “а же проблема с перестановкой «м» и «р» не решена.
ѕо версии российского и советского филолога, академика »мператорской академии и јЌ ———–, создател€ раскритикованного впоследствии «нового учени€ о €зыке» («€фетической теории») Ќ.ћарра, множественное число слова скомороси (скомраси) восходит к праслав€нским корн€м, а те в свою очередь к индоевропейскому «scomors-os». “ак мог именоватьс€ брод€чий музыкант, пл€сун, комедиант. ј уж потом это слово могло попасть в европейские €зыки.
ѕоиски в доступных автору данной статьи словар€х санскрита (¬.ј. очергиной в их числе) приведЄнного Ќ.ћарром слова («scomors-os») результатов не принесли.
Ўут в санскрите имеет значени€ (в русской транскрипции) – муддха и затха; шутка- лиила и шабал; музыкант – вена и талава; актЄр – шайлуша и калажна.
¬озможно, у академика были другие, недоступные нам источники.
»ных, заслуживающих внимание этимологических гипотез слова «скоморох» нет. » потому…
≈ў® ќƒЌј ¬≈–—»я
≈го насто€щее им€ утрачено в далЄком прошлом. Ќаши предки, говор€ о нЄм уважительно, иногда шЄпотом, называли по разному: «дед», «старик», «отец», «отчим», «д€д€», «хоз€ин», «зверь», «владыка», «барин» и т.д.
ќн – предок и родоначальник, тотем, хоз€ин нижнего мира, дух, охран€ющий и исцел€ющий. —лав€не почитали его как повелител€ леса, воплотившегос€ в божестве под именем ¬елес.
¬сЄ это и многое другое относитс€ к медведю.
Ќа –уси медведь приобрЄл сакральное, магическое значение. »здавна приручили его скоморохи, в потехах народных главную роль уступили. «ќн, выученный и нашколенный различным людским ухваткам и людскому поведению, бродил со своими поводыр€ми по всей русской земле, из города в город, из деревни в деревню, потеша€ и забавл€€ добрых людей карикатурным, а отчасти и сатирическим представлением их же нравов и обычаев" (». ≈. «абелин. ƒомашний быт русских царей, т. I, ч. II).
ѕопул€рность медвежьих игр была огромна. –усские скоморохи с косолапыми артистами в XVI веке бывали в √ермании и даже в »талии.
«— медведем ход€щий» - и так можно назвать походного скомороха. ќт него, как «от печки» и предлагаетс€ начать обоснование ещЄ одной возможной этимологии слова «скоморох».
ƒл€ начала вспомним присказку «первый блин комом». ƒругую форму и смысл совершенно иной имело это привычное нашему слуху выражение в давние времена и длиннее было. Ќеискаженна€ пословица звучит так: «ѕервый блин комјм, блин второй – знакомым, третий блин – родне, а четвЄртый – мне».
омјми наши дедичи называли медведей, прародител€ми их своими считали. ѕохожи мишки на большой мохнатый ком.
ѕосле долгой зимы голодными просыпались бурые комы, надо было их уважить и задобрить, относили слав€не первые, выпеченные по случаю праздника пробуждени€ медвед€ блины к берлогам. ѕраздник этот весенний называлс€ омоедицей. ¬ наши дни под именем ћасленицы он известен.
— комјми ходили «весЄлые люди» - скоморохи. стати, во многих документах именуютс€ они ещЄ и скомрјхами. ¬ —тоглаве (1551 г.), например, читаем: « венчанию бы ко св€тым божиим цеpквам, скомpахом и глyмнцом пеpед свадьбою не ходити, а св€щенником бы о том запpещати с великим запpещением чтобы такое бесчиние никогда же неименовалос€». (—тоглав". »зд. ƒ. ожанчикова. —ѕб., 1863).
“ам же в ответе на 23-й вопрос: «¬сем св€щенником, по всем гpадом и селом, чтобы пpавославных хpистиан наказывали и yчили, в котоpые вpемена pодители сво€ поминают и они бы нищих покоили, и милостыню бы по силе давали, и коpмили и поили, а скомpахом бы и вс€ким глyмником запpещали и возбpан€ли, чтобы в те вpемена, коли поминают pодители, пpавославных хpистиан не смyщали теми бесовскими игpами».
акое из названий более древнее - скоморох или скомрах? ”вы, неизвестно.
ќт каких глаголов они образованы? √лагол «скоморошить» довольно часто встречаетс€ в старинных письменных актах. ј вот «скомрашить» автору статьи пока не попадалс€ на глаза.
«ато в —ловаре древнего слав€нского €зыка, составленного ј. —тарчевским по ќстромирову ≈вангелию (—-ѕт., 1899 г. стр.731) нашлось причастие –ј„№ЎЌЌ, имеющее значени€ «шагающий», «идущий». стати, в санскрите обнаружены его «близкие родственники»: слова рч и рш в этом €зыке имеют значение «движение».
сожалению, глагол, от которого образовано причастие –ј„№ЎЌЌ, в словаре —тарчевского не приводитс€. ћожно предположить его в форме «рачьшннить». ак будет звучать существительное?
—уществует глагол «ходить», от него образовано причастие «ход€щий» и существительное «ходок». ј идущий, шагающий, кто он? »дун, шагун? Ќе знаем таких.
Ќеисповедимы пути словесных изменений. ѕочему, например, есть глагол «мрачнеть», а существительные от него «мрак» и «морок»?
Ќе допросить авторов и многочисленных соавторов слов и их трансформаций.
¬спомним также глагол «ворошить» и производные от него причастие «ворошащий», существительное «ворох».
ћожет быть, в подобном алгоритме образовано существительное от глагола «рачьшннить»? » звучать оно могло как «рах» или «рох»? „еловека, профессионала, вод€щего медвед€, можно было назвать «с комом рах». »ли всЄ-таки более древним €вл€етс€ выражение "с комом рш"?
огда произошло образование из указанных древнеслав€нских (протоиндоевропейских?) элементов единого слова «скомрах» («скоморох»), "скоморош? ¬озможно, в недрах русской лингвистической системы.
стати, подобные словесные новообразовани€ возникают довольно часто. ¬спомним, к примеру, по€вившеес€ относительно недавно слово «спасибо». ƒо XX века в ответ на оказанную любезность говорили: «спаси Ѕог». ¬ литературе тех времЄн гораздо чаще встречаем «благодарю», «благодарствую», тоже когда-то звучавшие раздельно – «благо дарю», «благо дарствую».
«—ократили Ѕога» - получили сращение из двух слов в форме «спасибо».
∆ивЄт €зык, мен€етс€, упрощаетс€ с развитием цивилизации дл€ тел. “ер€ют смысл, глубину, красоту слова, созданные предками за тыс€челети€. ћногие уход€т из жизни. ѕокинувшим нас родным и близким они подобны. ћир без них не полон.
ћетки: –усь традиции юмор |
–усские прозвища |
ƒневник |


ѕрозвища по уму:
Ѕаламошка — полоумный, дурачок
Ѕожевольный — худоумный, дурной
Ѕожедурье — дурак от природы
√луподырый — глупый
ƒуботолк, ƒроволом, ќстолбень — дурак
оролобый — крепкоголовый, тупой, глупый
Ћободырный — недоумок
ћежеумок — человек очень среднего ума
ћордофил€ — дурак, да еще и чванливый
Ќегораздок — недалекий
ѕрозвища по внешности:
ѕентюх — пузатый человек с выдающейс€ кормой вдобавок
Ѕезпелюха, тюрюхайло — нер€ха
Ѕрыдлый — гадкий, вонючий
«атетЄха — дородна€ женщина
«агузастка — кругла€, толста€ женщина с большой попой
≈рпыль — малорослый
—коблЄное рыло — с выбритой бородой
«ахухр€ — нечЄса, нер€ха, растрепа
Ўпынь голова — человек с безобразием на голове
ѕсоватый — на пса похожий
‘уфлыга — невзрачный маленький мужичок
ѕрозвища по характеру:
ћаракуша — противный человек
≈лдыга — ворчливый
’об€ка, ћихрютка, —иволап — неуклюжий, неловкий
—вербигузка — девка-непоседа, у нее свербит в одном месте (гузка — это попа). ќна же ¬изгопр€ха
јщеул — пересмешник, зубоскал
¬етрогонка — вздорна€ баба
Ѕал€ба — рохл€, разин€
Ѕелебен€, Ћ€бз€ — пустоплет
Ѕобын€, Ѕун€ — надутый, чванливый
Ѕредкий — говорливый, болтливый (от слова «бред», как вы понимаете)
олотовка — драчлива€ и сварлива€ баба. ќна же уЄлда
√узын€ (–юма) — плакса, рЄва
ѕын€ — горда€, надута€, недоступна€ женщина
ѕ€тигуз — ненадежный человек, дословно можно перевести как «п€тижоп»
–асщеколда — болтлива€ баба
–азл€мз€ — неповоротливый, в€лый
ѕопрешница — женщина, которую хлебом не корми, дай поспорить
—уемудр — ложно премудрый
остер€, кропот, скапыжник — брюзга, ворчун
Ўинора — проныра
„уже€д — паразит, нахлебник
’об€ка — неуклюжий, неловкий
ѕрозвища по поведению:
¬олочайка, √ульн€, ®нда, Ѕезсоромна — все это великолепие эпитетов посв€щено распутным женщинам
ƒрочЄный — избалованный
Ѕзыр€, Ѕлуд€шка, Ѕуслай — бешеный повеса, гул€ка
¬аландай, олоброд, ћухоблуд — бездельник, лодырь
√лазоп€лка — любопытный
ћимозыр€ — разин€
ѕечна€ ездова — лент€йка
“рупЄрда — неповоротлива€ баба
“ьмонеистовый — активный невежа
≈рохвост — задира, спорщик
≈ндовочник — охочий до пива, браги, попоек
®ра — озорна€, бойка€ на €зык женщина
исел€й, колупай — в€лый, медлительный человек
Ўлында — брод€га, туне€дец
ѕотатуй — подхалим
Ќасупа — угрюмый, хмурый


ћетки: €зыки |
ћимо острова Ѕу€на... |
ƒневник |
ƒревнее русское предание
ќстров Ѕу€н и мудрый царь √видон, тридцать три богатыр€ и белочка с золотыми орешками – это образы, ставшие близкими и родными, сохранившиес€ на всю жизнь. ќни как будто затрагивают в душе живую пам€ть, скрытую под спудом ежедневной суеты. ¬новь и вновь перелистыва€ страницы пушкинского произведени€, не перестаЄшь удивл€тьс€ тому, насколько «—казка о царе —алтане» наполнена внутренней красотой и глубоким смыслом.

—читаетс€, что в детстве ј.—. ѕушкин услышал народные сказки от своей н€ни јрины –одионовны, а впоследствии создал произведени€ на основе детских воспоминаний. Ёто не совсем так. сказкам поэт обратилс€ в зрелом возрасте, когда сформировалс€ его интерес к древнерусской истории и русскому фольклору. ∆ивой миф переплетаетс€ в пушкинских сказках с живой историей.
»сследователи не раз предпринимали попытки приблизить «—казку о царе —алтане» к историческим реали€м, стремились переложить еЄ действие на географическую карту. Ќо многие из них уже свыклись с мыслью, что это почти бесполезно – слишком иносказательным кажетс€ на первый взгл€д это пушкинское произведение! Ћитературовед ћ. . јзадовский отмечал, что очень труден вопрос об источниках «—казки о царе —алтане».1 » сложность, конечно, состоит не только в том, чтобы вы€снить, к каким источникам обращалс€ непосредственно ѕушкин. ¬ажно пон€ть, откуда берЄт начало сама сказочна€ традици€, увлЄкша€ поэта.
¬р€д ли перед нами просто «прелестна€ детска€ сказочка», как опрометчиво выразилась ј. —ванидзе.2 √лубина и архаичность сюжета позвол€ют предположить, что в «—казке о царе —алтане» нашло отражение какое-то древнее предание, услышанное ѕушкиным.
ѕосле ссылки 1824 года в ћихайловское неисчерпаемым источником народного вдохновени€ дл€ поэта стала н€н€ јрина –одионовна. »звестно, что с еЄ слов ѕушкин записал несколько сказочных сюжетов. ѕервым в его тетради был текст, положенный в основу «—казки о царе —алтане», котора€ и открывала цикл пушкинских сказок. ¬ этом смысле ј.—. ѕушкин выступил своеобразным проводником народной традиции.
— ранних лет ѕушкин про€вл€л живой интерес к истории. ¬ набросках сохранилась его поэма «¬адим», задуманна€ как поэтическое осмысление легенды о вар€жском призвании в Ќовгород. ≈го вдохновл€л героический образ ќлега ¬ещего, воевавшего с хазарами и с византийцами и пригвоздившего в знак своей победы «щит на вратах ÷ареграда». ¬ отрывках дошла до нас поэма на сюжет исторического предани€ о Ѕове-королевиче. » это только те мотивы, в которых поэтический талант ѕушкина обращалс€ к наследию ƒревней –уси.
Ќа русском —евере, откуда была родом јрина –одионовна, веками сохран€лась традици€, восходивша€ к древнерусскому прошлому. ƒаже на рубеже XX века в северно-русских сЄлах ещЄ помнили сказани€ и былины о иевском кн€жестве и древнерусских богатыр€х. ј в пушкинские времена в народной среде сохран€лись и более ранние родовые предани€.
–усский —евер был исторически св€зан с област€ми, расположенными на южно-балтийском побережье. ультурные и этнические контакты Ќовгорода и ѕскова с ѕрибалтикой были обусловлены географией и существовали с древности. ѕоследние археологические изыскани€ позвол€ют считать, что Ћадога была основана выходцами из балтийского региона в начале VIII века. ѕозднее эти колонизаторы проникали вглубь страны, и дошли вплоть до берегов Ѕелого мор€. Ћетописец писал о том, что новгородцы происходили «отъ рода вар€жска».
ѕрочные св€зи между русскими регионами существовали до XII-XIII вв., когда ¬агри€, прародина вар€гов в сегодн€шнем восточном √ольштейне, и другие южнобалтийские земли попали под власть немецких завоевателей. ¬ыходцев оттуда называли «от Ќемец», и многие из этих переселенцев стали родоначальниками прославленных двор€нских родов, державших бразды правлени€ и в ћосковским царстве, и позднее в –оссийской империи. стати от одного из них, «мужа честна» –атши, вЄл своЄ происхождение и род ѕушкиных.
¬месте с балтийскими переселенцами на русский —евер приходили их мифы и сказани€. » живой носительницей этой традиции была н€н€ поэта јрина –одионовна. Ѕлагодар€ еЄ чуткому наставлению ѕушкин смог окунутьс€ в волшебный мир северо-русских сказок.
—огласно записи в церковной книге, јрина –одионовна родилась 10 апрел€ 1758 года в деревне Ћампово, расположенной в области, принадлежавшей некогда древнему Ќовгороду, потом Ўвеции и затем снова –оссии. ƒо —еверной войны ближайшие предки јрины, как и многие русские из тех мест, были фактически шведскими подданными. ќни жили в изол€ции от остального русского мира, бережно хран€ свои традиции, которые не подвергались чужим вли€ни€м и сохранили самобытность.
ѕушкинские записи тех сказочных сюжетов, что были сделаны в ћихайловском со слов јрины –одионовны, до поры до времени оставались неиспользованными, и только несколько лет спуст€ поэт воплотил их в своЄм творчестве.
¬ 1831 году работа над «—казкой о царе —алтане» была завершена. ѕри еЄ написании ѕушкин и обратилс€ к своим конспективным заметкам, сделанным в ссылке. ¬ основе сказки, вне сомнени€, лежало древнее предание, повествовавшее об островном государстве, состо€вшем из города-крепости, которое охран€лось береговой стражей и вело международную торговлю.
—южет этого пушкинского произведени€ находил параллели в европейском фольклоре, но не выпадал и из собственно русской традиции вопреки мнению некоторых литературоведов. ¬ариант јрины –одионовны, правда, содержал несколько оригинальных особенностей. ¬ запис€х ѕушкина читаем:
Ќекоторый царь задумал женитьс€, но не нашЄл по своему нраву никого. ѕодслушал он однажды разговор трЄх сестер. —тарша€ хвалилась, что государство одним зерном накормит, втора€, что одним куском сукна оденет, треть€, что с первого года родит 33 сына. ÷арь женилс€ на меньшой, и с первой ночи она понесла. ÷арь уехал воевать. ћачеха его, завиду€ своей невестке, решилась еЄ погубить. ѕосле дев€ти мес€цев царица благополучно разрешилась 33 мальчиками, а 34-й уродилс€ чудом – ножки по колено серебр€ные, ручки по локотки золотые, во лбу звезда, в заволоке мес€ц; послали известить о том цар€. ћачеха задержала гонца по дороге, напоила его пь€ным, подменила письмо, в коем написала, что царица разрешилась не мышью, не л€гушкой, неведомой зверюшкой. ÷арь весьма опечалилс€, но с тем же гонцом повелел дождатьс€ приезда его дл€ разрешени€. ћачеха оп€ть подменила приказ и написала повеление, чтоб заготовить две бочки; одну дл€ 33 царевичей, а другую дл€ царицы с чудесным сыном – и бросить их в море…»3
“аким было начало сказки, послужившее основой дл€ написани€. «ав€зка сказочного сюжета в данном случае традиционна – три девушки спор€т о том, что сделала бы кажда€ из них, став царицей. ÷арю полюбились слова третьей девушки – «кабы € была царица, € б дл€ батюшки-цар€ родила богатыр€». ¬ них заметна реальна€ подоплЄка родового сказани€, прославл€вшего продолжение рода и деторождение, считавшихс€ приоритетными в традиционном обществе перед другими «ценност€ми», пиршествами и пышными нар€дами. ÷арь вз€л в жЄны ту девушку, котора€ наиболее соответствовала родовому идеалу, представлени€м о женщине, как о матери и верной супруге.
ак и полагалось, «в те поры война была», и царь отправилс€ в поход, оставив молодую жену дома ожидать приплода. Ќо после успешных родов царица становитс€ жертвой коварного заговора, обрекшего еЄ на смерть в морских волнах, будучи вместе с сыном заточЄнной в бочке (кстати вполне обычный способ казни у северных народов). ¬ записи этот сюжет представлен так:
ƒолго плавали царица с царевичем в засмоленой бочке – наконец, море выкинуло их на землю. —ын заметил это. «ћатушка ты мо€, благослови мен€ на то, чтоб рассыпались обручи, и вышли бы мы на свет». – √осподь благослови теб€, дит€тко. – ќбручи лопнули, они вышли на остров. —ын избрал место и с благословени€ матери выстроил город и стал в оном жить да править. 4
„удеса, которые в сказке творит царевна Ћебедь, – поздний вымысел ѕушкина. ¬ первоначальном варианте их творил сам царевич. Ћюбопытно, что ни в пушкинских запис€х, ни в русских фольклорных редакци€х сюжета сказки нет образа царевны Ћебеди.5
Ќазвание острова ѕушкин восприн€л из русской народной традиции – Ѕу€н. ¬ древнерусском €зыке так именовали высокое место, холм, бугор, а также возвышенное место дл€ богослужени€. ¬ «—лове ƒаниила «аточника» Ѕу€н – это холм, гора («за бу€номъ кони паствити»). “ак могли называть и гору на острове, возвышавшуюс€ среди пучины в море. ¬ северно-русских говорах Ѕу€н также св€зан с водой, морем. Ќапрашиваетс€ сравнение с современным словом «буй», которым обозначают сигнальный ма€чок, возвышающийс€ над водой. ¬. ƒаль указывал на то, что в древности словом Ѕу€н называли пристань, торг, возвышенность.6 —ходный смысл слова выражен в раннем значении прилагательного «буйный» – выдающийс€, которое приобретало личные эпитеты смелый, храбрый, дерзкий. н€зь ¬севолод, герой «—лова о полку »гореве», например, носил воинское прозвище «Ѕуй тур». ¬ русском фольклоре образ острова-Ѕу€на широко распространЄн. ћногие заговоры, отражавшие €зыческую картину мира, начинались со слов: «Ќа море на ќки€не, на острове на Ѕу€не лежит бел-горюч камень јлатырь…». »менем этого загадочного камн€ скрепл€лось заклинание.
¬ы€вление этих архаичных значений помогает разгадать глубинный смысл пушкинской мифологемы «остров Ѕу€н». ѕредставл€етс€ город на горе посреди мор€, с пристанью и торгом, св€тилищами и храмами, что подтверждаетс€ и строками ѕушкина. » этот образ находит очень интересные исторические параллели.
¬ немецкой земле ћекленбург – ѕередн€€ ѕомерани€ лежит остров –юген, самый крупный на Ѕалтийском море. »менно его многие нынешние исследователи напр€мую св€зывают с древними русами и вар€гами, ставшими основател€ми российской государственности. »звестно, что даже поздних рюгенских кн€зей ещЄ по привычке именовали «кн€зь€ми русов» (principibus Russianorum). ѕосле того, как в 1325 году на –югене пресеклась прав€ща€ династи€, остров попал в состав ѕомерании, а в середине XVII века отошЄл к Ўвеции. — 1815 года по решению ¬енского конгресса –юген стал принадлежать ѕруссии. ¬о времена “ретьего –ейха остров был знаменит курортами нацистского общества «Kraft durch Freude», а во времена √ƒ– там располагалась советска€ военна€ база.

ќстров –юген на Ѕалтийском море
ќстров –юген состоит из меловых пород, поросших буйной растительностью. “уристы, приезжающие сюда непременно отправл€ютс€ на экскурсию к величественным белым утЄсам, нависающим над морем. «Ќемецка€ волна» как-то процитировала слова художницы √удрун јрнольд:
Ёта щедрость, эта первозданна€ мощь ландшафта вдохновл€ет мен€ снова и снова! я потому и живу здесь, в «аснице, чтобы меловые скалы были всегда р€дом.
ѕриродна€ красота –югена и в прошлом вдохновл€ла творцов. ¬ начале XIX века здесь работал замечательный живописец аспар ƒавид ‘ридрих. ќсобой достопримечательностью острова €вл€етс€ мелова€ скала оролевский трон (Königstuhl), возвышающа€с€ над морем на 180 метров. ѕо старой легенде, чтобы подтвердить свой титул и право на власть, будущий король должен был со стороны мор€ подн€тьс€ от еЄ подножи€ к вершине. —в€щенна€ бела€ скала как бы утверждала своим незыблемым величием св€щенное право. ѕам€ть о «белом камне јлатыре», видимо, сохранилась в русской традиции с тех времЄн.
—еверна€ оконечность острова –юген далеко выдаЄтс€ в море. ћыс с отвесными меловыми утЄсами ещЄ в древности получил название јркона, которое, по разным верси€м, означает «на горе» или «бела€ гора». ¬ древности на јрконе находилс€ храм —в€товита, которому приносили дары правители соседних государств и жертвовали часть товаров купцы.
ƒатский хронист —аксон √рамматик писал:
√ород јркона лежит на вершине высокой скалы; с севера, востока и юга он ограждЄн природной защитой… с западной стороны его защищает высока€ насыпь в п€тьдес€т локтей… ѕосреди города лежит открыта€ площадь, на которой возвышаетс€ прекрасный дерев€нный храм, почитаемый не только благодар€ великолепию своего зодчества, но и благодар€ величию бога, которому здесь был воздвигнут идол. 7
јрконский вал высотой более дес€ти метров сохранилс€ до наших дней. ћожно представить, каким величественным казалс€ город в древности! √ельмольд называл јркону «главным городом», столицей острова. ульт —в€товита здесь был настолько силЄн, что даже после крещени€ пришлось подменить его вымышленным культом св€того ¬ита. ¬ 1168 году јркону разрушил датский король ¬альдемар I.

ћыс јркона с наложением археологической схемы города
¬ендское название острова –юген – –у€н (Rujan). ѕосле немецкого завоевани€ и христианизации остатки древнего населени€ продолжали жить на острове. ќб этом свидетельствует архаична€ топонимика: Ѕесин, Ѕобин, √рабов, Ћюбков, ћЄдов, —ударь, “ишов… ћногие из названий навсегда сохранили св€зь с культом —в€товита – ¬итов, ¬итт, ¬итте. ј.—. ‘аминцын отмечал, что на острове –юген с тех пор сохранилось и несколько «св€тых мест»: Swante grad, Swante kam, Swante gore (ныне —вантов) и так далее.8
ѕам€ть о древнем острове –у€н сохран€лась и после того, как он попал под датское и шведское, то есть «немецкое» господство. ќна жила в северно-русской фольклорной традиции, в этнической среде, св€занной с русской ѕрибалтикой. »м€ –у€н получило в народе поэтический эпитет Ѕу€н.
—равнение сказочного Ѕу€на с реальным –у€ном-–югеном напрашиваетс€ и ещЄ одной важной деталью, попавшей в пушкинский текст из сказани€ јрины –одионовны. Ёто сюжет о чудесных богатыр€х, выход€щих из мор€, чтобы оберегать покой города и его жителей. ¬ запис€х ѕушкина читаем:
“ужит царевна об остальных своих дет€х. ÷аревич с еЄ благословени€ берЄтс€ их отыскать… ќн идЄт к морю, море всколыхалос€, и вышли 30 юношей и с ними старик.9
¬ этом отрывке содержитс€ важное уточнение – остров охран€ют не просто тридцать богатырей, а тридцать братьев √видона – снова указание на родовой характер предани€.
¬ исторических источниках можно проследить любопытную параллель к этому сказочному сюжету. ”пом€нутый —аксон √рамматик писал:
аждый житель острова [–юген] обоих полов вносил монету дл€ содержани€ храма [—в€товита]. ≈му также отдавали треть добычи и награбленного… ¬ его распор€жении были триста лошадей и столько же всадников, которые всЄ добываемое насилием и хитростью вручали верховному жрецу…10
“риста воинов —в€товита были отборной гвардией, на плечах которой лежала св€щенна€ об€занность охраны св€тилища и острова. ¬ообще дружина на –уси никогда не была многочисленной. ƒаже в крупных кн€жествах еЄ регул€рна€ численность колебалась около тыс€чи человек, притом, что профессиональна€ дружина была разделена на «старшую» (бо€ре) и «младшую» («дети бо€рские»). ѕринадлежность к воинству была привилегией, сопр€жЄнной с личной ответственностью. ¬о врем€ крупных войн созывали ополчение, которое значительно прибавл€ло войску численности.
ѕозднее в Ќовгороде были известны триста «золотых по€сов» – бо€рска€ верхушка, в руках которой находилась реальна€ власть. —овету трЄхсот «золотых по€сов» фактически подчин€лс€ и кн€зь, и посадник, и архиепископ. ќни же решали все важнейшие вопросы жизни Ќовгорода, которые позже выносились на вече.
Ќепросто проследить по источникам, насколько историчны имена сказочных персонажей. »м€ цар€ ѕушкин восприн€л у јрины –одионовны, превратив еЄ «—ултана —ултановича, турецкого государ€» в сказочного —алтана. Ёто им€, конечно, €вл€етс€ позднейшим вымыслом. ћожно предположить, что в изначальном варианте древнего предани€ оно было другим (родовое сказание всегда носит генеалогический характер и обычно «помнит» имена). Ќо в устном переложении из поколени€ в поколение первоначальное, «историческое» им€ было утрачено. “ак по€вилось им€ —ултан —ултанович (или —алтан в пушкинской обработке), которое хорошо сочеталось с многозначительной присказкой – «мимо острова Ѕу€на в царство славного —алтана».
Ёта присказка уникальна по своему историческому значению. «ћимо острова Ѕу€на» на восток, «в царство славного —алтана», плывут сказочные купцы. ј в действительности перед нами описание известного торгового пути «из ¬ар€г в √реки», начинавшегос€ в вар€жских земл€х на юге Ѕалтики и ведшего до онстантинопол€. ¬ образе «царства —алтана» можно почувствовать намЄк на ¬изантийскую империю, находившуюс€ с 1453 года под властью турецкого султана.
—алтану купцы рассказывают, что бывали «за морем» (указание, которое в летопис€х всегда сопутствует упоминанию вар€гов). ј поэтическое «родство» царей (отец-сын) при этом подчЄркивает св€зи острова Ѕу€на (–у€на-–югена) с онстантинополем. Ќаходки римских и византийских вещей неоднократно делали на острове археологи.
¬ажно и то, чем торгуют сказочные купцы. —реди товаров меха («торговали собол€ми, чЄрно-бурыми лисами»), кони («торговали кон€ми, жеребцами»), булат и украшени€, то есть те предметы, которые традиционно экспортировались из –уси.
»м€ √видон ѕушкин заимствовал, по всей видимости, из —казани€ о Ѕове-королевиче. ќно широко известно и в эпосе, обращение к которому позвол€ет восполнить образ. ¬ –оссии Ѕова-королевич был попул€рен как персонаж лубочных картинок. ќднако ещЄ —аксон √рамматик пересказывал предание о Ѕове, который был сыном русской королевы –инды и правил на Ѕалтике.

Ѕова-королевич
Ћегенда о Ѕове повествует о «добром короле √видоне», которого обманом умертвил коварный король ƒодон, захвативший власть в его стране. Ётот √видон правил «в великом государстве, в славном городе јнтоне».11 ѕоздние пересказчики уже не помнили древнего названи€ јркона и подменили его более близким и пон€тным – јнтон. ¬ажно, что упоминани€ об јрконе-јнтоне в —казании о Ѕове-королевиче отнюдь не фрагментарны, как обычно бывает в сказках (мол, дело было в таком-то царстве, о котором больше ничего не сообщаетс€). јнтон – это стольный город королевства, вокруг которого кипит борьба за власть. Ѕова мстит убийце своего отца ƒодону и возвращает себе королевский престол.
ѕриведЄнные свидетельства позвол€ют в полной мере переосмыслить то значение «—казки о царе —алтане», которое она имеет дл€ русской культуры. ј оно несравненно велико! ѕусть ѕушкин и изменил некоторые детали, добавил долю поэтического вымысла, но он сохранил неизменной основу древнего русского предани€. ”вы, в наши дни вр€д ли можно услышать и записать нечто подобное в вымирающих деревн€х. ¬ этом смысле пушкинские сказки оживл€ют историческую пам€ть, возрождают гордость за родное прошлое.
¬севолод ћеркулов,
кандидат исторических наук
»сточник: http://pereformat.ru/2011/10/drevnee-russkoe-predanie/
ћетки: –усь сказки |
—лав€не в скандинавии 1 |
ƒневник |
—лав€нский след в —кандинавии и двойные стандарты интерпретаций
–аннесредневекова€ истори€ слав€н в «ападной и —еверной ≈вропе до наших дней остаЄтс€ слабо изученной. ќсновной причиной тому €вл€етс€ вовсе не отсутствие археологического, лингвистического, этнографического материала или упоминаний в письменных источниках. Ѕолее всего мешают изучению этой проблемы стереотипы, политика и отжившие своЄ историко-политические мифы, а именно, вера в отсталость слав€н по отношению к германцам в средние века. √ерманцам или скандинавам – до последнего времени, а порой ещЄ и сейчас – отводитс€ роль цивилизаторов, колонизаторов, не знающих поражений завоевателей, носителей высокой культуры и передовых технологий. ѕринимаетс€, что скандинавы безраздельно господствовали на Ѕалтике, граб€, завоЄвыва€ и подчин€€ себе и своему вли€нию слав€нский юг и восток. ѕринимаетс€, не только безо вс€ких к тому оснований, но и вопреки фактам.

ќбраз бесстрашного викинга-скандинава в рогатом шлеме и на драккаре с полосатыми парусами активно используетс€ индустрией массового потреблени€ как хорошо продаваемый. — точки зрени€ прибыли, поддержка такого «викингского мифа» себ€, конечно, более чем оправдывает. Ќо вот с исторической точки зрени€, образ этот не только не выдерживает критики, но и пр€мо вредит науке и изучению. ’отим мы того или нет, но индустри€ массового потреблени€ и расхожие стереотипы оказывают вли€ние и на исследователей, которые с детства, будучи в плену у этих мифов, вид€т историю через их призму и позже. ¬ результате, даже вполне пор€дочные исследователи при интерпретации тех или иных исторических событий между слав€нами и скандинавами выбирают последних, как наиболее подход€щих на роль вершащих историю. ѕроблема в том, что многие попросту не могут поверить, что слав€не могли занимать в истории Ѕалтики не меньшую, чем скандинавы, роль.
артина другой истории Ѕалтики, в которой слав€не играли бы не меньшую, чем скандинавы роль, у многих, увы, просто не укладываетс€ в голове и кажетс€ чем-то вроде «альтернативной истории», «ложного патриотизма», «слав€нофильства» или чего-то подобного. ≈щЄ бы, ведь об экспансии и вли€нии скандинавских викингов в ≈вропе написаны сотни книг – от узкоспециализированных научных, до научно-попул€рных и художественных, сн€ты дес€тки фильмов. ј сколько не то что книг, а хот€ бы статей на русском €зыке написано о слав€нах в —кандинавии? ѕочему эта тема затрагиваетс€ и освещаетс€ так редко? ѕотому ли, что сказать об этом нечего или же потому, что она менее интересна дл€ русско€зычных читателей, чем истори€ скандинавских народов? ќтветить на эти вопросы предлагаю после прочтени€ данной статьи каждому дл€ себ€, и сделать соответствующие выводы.
Ќа сегодн€шний день, кроме известных уже много столетий письменных источников, собрано огромное количество материала об активности слав€н, преимущественно слав€н балтийских, в —кандинавии – как археологических, так и лингвистических. ћедленно но верно ситуаци€ с признанием роли балтийских слав€н в истории Ѕалтики, центральной и северной ≈вропы, начинает мен€тьс€ в позитивную сторону. ¬ажным кажетс€, что о колонизации слав€нами целых регионов южной —кандинавии начинают говорить уже однозначно и уверенно сами скандинавские, датские и шведские учЄные. ƒанна€ стать€ не ставит своей целью хоть сколько-либо полное рассмотрение слав€нских следов в —кандинавии – решение этой задачи не уместить и в нескольких томах. ѕотому, мы приведЄм лишь небольшой обзор слав€но-скандинавских св€зей и отношений в средние века, а также оценим роль слав€н на Ѕалтике на основании письменных источников и актуальных датских, шведских и немецких исследований.
ак южные, так и северные берега средневековой Ѕалтики были соединены между собой тесными торговыми отношени€ми и цепью торгово-ремесленных центров. Ќаходки из таких торгово-ремесленных центров обычно представл€ют широкий набор из импортных вещей со всей ≈вропы и даже јзии. –азн€тс€ разве что интерпретации этих находок. ѕочти все найденные в слав€нских земл€х украшени€ «скандинавского стил€» считаютс€ пр€мым указанием на присутствие скандинавов. ќбычно подобные находки очень люб€т демонстрировать в качестве указаний на скандинавское культурное вли€ние и присутствие в слав€нских земл€х. Ќам же, ввиду этого, хотелось бы обратить внимание на то, что слав€нскими украшени€ми —кандинави€ наполнена ничуть не меньше.

арта распространени€ филигранных слав€нских украшений в —кандинавии (по Brather, 2001).
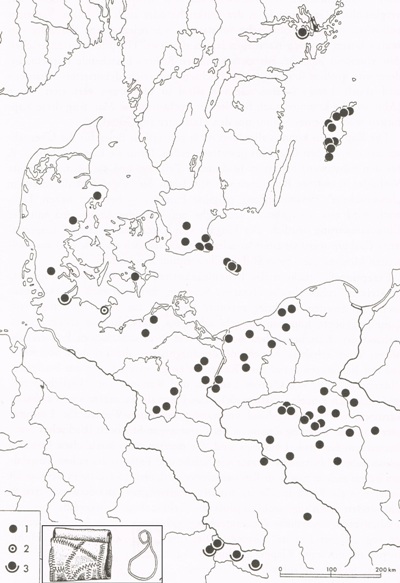
арта распространени€ капсуловидных капторг (по I. Gabriel, 1991).
Ќе менее обильно представлена в —кандинавии и керамика балтийских слав€н.

арта распространени€ слав€нской керамики в —кандинавии (по S.Brather, 2001).
“очнее сказать, слав€нска€ керамика в —кандинавии представлена в несравнимо большем количестве. ¬ —кандинавии не было своей местной традиции и технологий изготовлени€ качественной керамики, так что уже в раннем средневековье импорт на более качественные гончарные сосуды из слав€нских, фризских, франкских и британских земель пользовались здесь большим спросом. »сследование керамики слав€нской традиции в —кандинавии началось давно, но двигалось не быстро. ¬ первой половине прошлого века находки слав€нской керамики в —кандинавии приписывали скандинавской традиции. ѕоэтому немецкие археологи, наход€ керамику, однотипную находкам из —кандинавии, приписывали еЄ скандинавам. јргументаци€ была простой и нехитрой, особенно на волне «патриотизма» начина€ с 1930 годов – слав€не, €вл€€сь народом неисторическим, всегда бывшим лишь историческим материалом под руководством германских правителей, не были в состо€нии сами достичь такого культурного уровн€, а потому та керамика, что покачественней и покрасивее приписывалась скандинавам и древним германцам, а та, что была более примитивной, «оставл€лась» слав€нам. ќказалось, правда, всЄ совсем наоборот.
Ќе позднее ’ века почти вс€ южна€ —кандинави€ перешла на слав€нскую керамику, ввиду неконкурентоспособности местной традиции гончарного ремесла. ќчевидно, что поначалу слав€нска€ керамика изготавливалась слав€нскими ремесленниками, работавшими в скандинавских торговых центрах, позже их технологии перен€ли и сами скандинавы. ѕоэтому большую часть этой керамики нельз€ назвать «слав€нской» в пр€мом смысле слова – она изготавливалась в —кандинавии, слав€нскими в ней были в большинстве случаев лишь происхождение форм. ƒл€ обозначени€ этого типа керамики примен€етс€ термин «балтийска€ керамика» (нем. Ostseeware; англ. Baltic ware). ќднако часть еЄ всЄ же была полностью слав€нской – привозилась из слав€нских стран как импорт или изготавливалась, хоть и в —кандинавии, но группами слав€нских ремесленников, живших замкнутыми общинами и продававшими свой товар скандинавам. ќ некоторых таких случа€х ниже будет сказано подробнее.
¬виду того, что далеко не всегда есть возможность отличить импорт слав€нской керамики от еЄ скандинавских имитаций, мы приведЄм общие карты распространени€ «балтийской керамики» в —кандинавии, с оговорками или уточнени€ми в тех случа€х, где имеетс€ более детальный вариант. ѕриведЄнна€ выше карта из монографии немецкого археолога —. Ѕратера 2001 года интересна, прежде всего, указани€ми на находки слав€нской керамики в ётландии – регионе, где вли€ние слав€нских гончарных традиций было более скромным из-за близости и хорошего знакомства с ещЄ более развитой франкской и фризской керамикой. ќднако и тут слав€нска€ керамика оказываетс€ представленной вполне широко.
»звестен и другой импорт из слав€нских стран в —кандинавию. арнеоловые «восточные» бусины, центром распространени€ и местом изготовлени€ которых была иевска€ –усь.
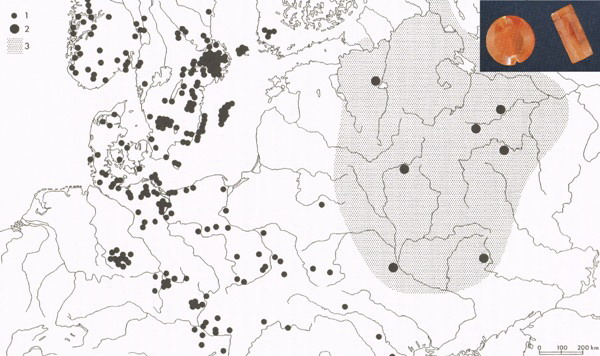
арта распространени€ карнеоловых бусин (по I. Gabriel, 1991): 1. места находок; 2. места предположительной обработки и экспорта; 3. район наибольшей концентрации находок 9-12 вв.
»звестны в —кандинавии шпоры и оковки ножен слав€нских типов, о чЄм подробнее ещЄ будет рассказано ниже.
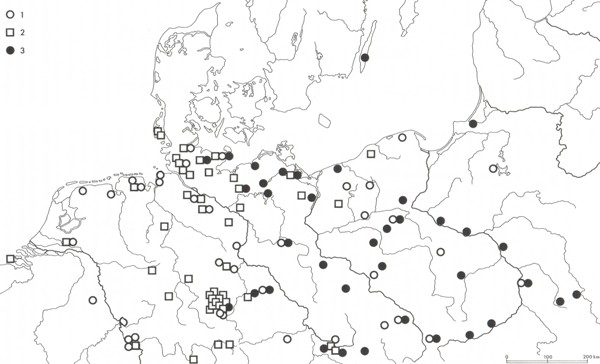
–аспространение шпор.

–аспространение оковок ножен слав€нского типа.
“акже пользовалс€ спросом в —кандинавии и овручский шифер, из которого изготавливали пр€слица, импортировавшийс€ сюда также из иевской –уси.
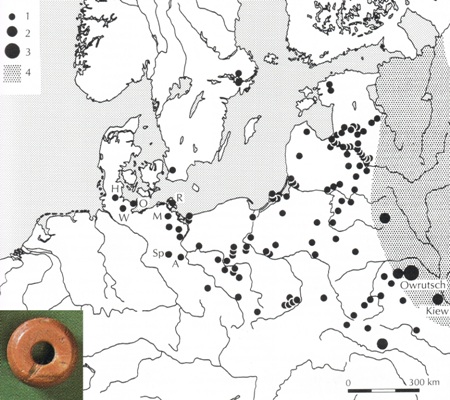
арта распространени€ пр€слиц из овручского шифера (I. Gabriel, 1991): 1. места находок; 2. места производства пр€слиц из импортированного шифера; 3. места добычи шофера и изготовлени€ пр€слиц; 4. район наибольшей концентрации находок 11-12 вв.
√овор€ о русских вещах в —кандинавии, стоит упом€нуть и о керамических €йцах, так называемых «киевских €йцах» и христианских крестах «русского» или «византийского» типов.
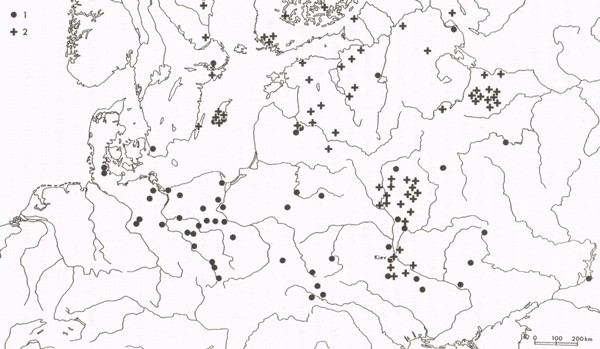
арта распространени€ русской христианской символики (S. Brather, 2001): 1. «киевские» писанки; 2. кресты «русского типа».
ак легко убедитьс€ даже по этим довольно устаревшим и не полным картам, слав€нский импорт в —кандинавии хорошо известен и представлен такими вещами как религиозные символы, детали костюма, женские украшени€. ¬се эти категории находок в археологии прин€то считать «этническими маркерами», о чЄм подробнее будет сказано в заключительной части обзора. “акже ниже будет представлен более детальный разбор слав€нских вещей в южной —кандинавии.
ћирные отношени€ и св€зи балтийских слав€н и скандинавов не ограничивались только торговлей. — первых подробных жизнеописаний слав€нских правителей в хрониках јдама Ѕременского и √ельмольда бросаютс€ в глаза их близкие династические св€зи со скандинавами. ќсобенно это касаетс€ христианских ободритских кн€зей. Ќадпись на рунном камне из Sönder Vissing в —редней ётландии сообщает о замужестве “ове, дочери ободритского кн€з€ ћстиво€, за датским королЄм √аральдом —инезубым во второй половине X века. Ќе исключено, что основой союзнических отношений между вагрийским кн€зем —елибуром и данами в ’ веке также мог быть династический союз. ѕо всей видимости, на датской принцессе был женат ободритский кн€зь ”до. ≈го сын √отшалк позже отправл€етс€ в изгнание со своей родины в ƒанию, где был хорошо прин€т королевским домом. ¬месте с датским королЄм нутом II √оттшальк принимал участие в походах в јнглию и Ќорманнию, а впоследствии женитс€ на «игрид, дочери корол€ —вена Ёстридсона.
ѕосле убийства √отшалка в слав€нских земл€х, его сын от «игрид, будущий ободритский король √енрих, также отправл€етс€ в изгнание к своим знатным датским родственникам, откуда через много лет приходит с датским флотом и занимает власть у себ€ на родине. —аксон √рамматик упоминает, что на сестре датского корол€ ¬альдемара, самого имевшего русские корни и жену, был женат один из сыновей ободритского кн€з€ Ќиклота – ѕрислав, бывший христианином и потому вынужденный покинуть родину. ¬озможно, к этой же ободритской династии принадлежала и нека€ знатна€ ободритка јстрид, на которой был женат датский король ќлаф в XI веке.
¬ X-XII веках династические св€зи данов и ободритов выгл€д€т прочной традицией, так что в иных случа€х ободритские правители получались данами по происхождению не менее чем на две трети. ќднако рассматривать это как «чужеродный элемент» тоже нельз€, так как и сами датские правители временами имели не меньший процент слав€нской крови в своих жилах. ƒо ’ века о династических св€з€х ободритов и скандинавов или данов практически ничего неизвестно, но, суд€ по частым союзам ободритов и данов, совместно разор€вших —аксонию и Ќордальбингию в IX-X веках, династические союзы между ними вполне веро€тны и в это врем€, хоть упоминани€ о них и не сохранились.
ѕри довольно активных торговых и, в некоторых случа€х, династических св€з€х балтийских слав€н и скандинавов, войны между ними были отнюдь не редки. ќбычно средневековую историю балтийского региона пытаютс€ преподнести так, будто бы скандинавы занимали лидирующую роль не только в торговле, но и в военном деле. —кандинавские викинги €кобы держали в страхе своими посто€нными набегами всю ≈вропу, которым население южных берегов не в силах было противосто€ть. Ќа самом же деле пиратство, грабительские набеги, военные морские походы через всю Ѕалтику и колонизаци€ новых земель, хоть и были в средние века делом обычным, но исключительно со скандинавами св€заны не были. –овно тем же занимались и балтийские слав€не, ничуть не реже предпринимавшие военные походы в —кандинавию, чем скандинавы – на юг Ѕалтики. –ассужда€ непредвз€то, едва ли можно говорить о значительном перевесе сил в этом плане какой-либо из сторон.
ќ войнах ободритов и данов франкские анналы сообщают, начина€ уже с наиболее ранних упоминаний в них обоих народов. ¬ 808 году на ободритов совершает поход датский король √оттфрид. √осударство ободритов в то врем€ было весьма сильно, включало в себ€, кроме собственно слав€нских земель, ещЄ и северные саксонские провинции – Ќордальбингию, часть Ѕарденгау и ¬игмодию, и имело выход к двум мор€м. ќчевидно не рассчитыва€ только на собственные силы, √оттфрид заручаетс€ поддержкой другого могущественного в то врем€ слав€нского племенного союза велетов, бывших восточными сосед€ми и старинными врагами ободритов. “ак же ему удаЄтс€ заручитьс€ поддержкой двух слав€нских племЄн, входивших уже собственно в ободритское государство – линонов и смельдингов – подн€вших м€теж, перейд€ на сторону данов во врем€ их нападени€. ѕодвергнувшимс€ нападению одновременно с трЄх сторон ободритам, тем не менее, удалось нанести войскам противника весьма ощутимый урон.
√оттфрид лишилс€ своих лучших и храбрейших воинов и своего брата…после чего вернулс€ [в ƒанию] с большим уроном дл€ своих войск…
“ак сообщают франкские анналы о событи€х 808 года. ќднако вз€в с ободритов тогда дань, данам не только не удалось закрепитьс€ в их земл€х, но и наоборот дальнейшие действи€ √оттрида пр€мо говор€т об опасени€х ответного похода ободритов. ¬ернувшись в ƒанию, он первым делом принимаетс€ за постройку масштабных оборонительных укреплений по всей полосе своей южной границы с ободритами – от Ѕалтийского побережь€ до —еверного мор€.

ћасштабна€ лини€ укреплени€ датско-ободритской границы ƒаневерк (красна€ лини€), строительство которой было начато √оттшальком после войны с ободритами 808 года
(по M. Müller-Wille, 2011).
ќ том, что какое-либо закрепление в слав€нских земл€х данам не представл€лось возможным даже после крупной победы 808 года, показывает сам факт разрушени€ √оттфридом ободритского эмпори€ –ерик и перевоза оттуда купцов в свой город ’айтабу, который он немногим позже начинает обносить крепостным валом. ќсновани€ к этому у него были на самом деле. ќчень быстро с помощью своих союзников франков ободриты навод€т пор€док сначала в своих земл€х, снова подчинив м€тежных смельдингов в 808-809 гг., после чего совершают ответный поход на велетов в том же 809 году. ≈щЄ через 6 лет, в 815 году, союзные войска ободритов и саксонцев, под предводительством посла императора франков совершают поход уже в саму ƒанию, пройд€ всю ётландию и дойд€ до острова «ееланд. ƒаны в это врем€ пр€чутс€ со своим флотом на неком острове, не реша€сь вступить в сражение. Ёто, впрочем, уникальный случай, когда ранний поход слав€нской армии на данов нашЄл отражение в письменных источниках, и то, только лишь потому, что ободриты были в то врем€ ближайшими союзниками франков и проводили общую с франкской империей политику.
Ќачина€ с 817 года ободритско-франкские отношени€ порт€тс€, переход€ в военное противосто€ние, потому и в источниках о них упоминаетс€ с тех пор лишь в контексте слав€но-немецких столкновений на континенте, но об отношени€х ободритов со скандинавами с тех пор известно не много. ¬ IX веке они нередко предстают как союзники данов в нападени€х на саксов. ќб отношени€х и войнах со скандинавами других слав€нских племЄн, находившихс€ ещЄ дальше от франков – велетов, помор€н или рюгенских слав€н и вовсе ничего неизвестно. ƒо середины X, а то и XI века, истори€ северо-восточного ћекленбурга и северной ѕольши практически не отразилась в источниках.
ѕервые подробные описани€ земель ободритов, помор€н, вильцев и рюгенских слав€н восход€т уже к XI-XII векам – хроникам јдама Ѕременского, √ельмольда и —аксона √рамматика. Ёти источники полны упоминаний слав€но-скандинавских войн, причЄм преподнос€т их зачастую очень далеко от «общеприн€того» сегодн€ представлени€ о «непобедимых скандинавских викингах» посто€нно тревожащих мирных континентальных кресть€н и горожан. ¬опреки этому, они описывают посто€нные нападени€ слав€нских пиратов на данов, в результате которых последним становилось небезопасно передвигатьс€ в узких проливах своих же собственных земель и островов. ќколо 1100 года —аксон описывает нападение слав€нских пиратов на данов между островами «ееланд и ‘альстер. ѕримерно в это же врем€ нападению пиратов между островами «ееланд и ‘юн подвергаетс€ датский правитель нуд. Ќередки были и масштабные военные кампании и походы слав€н в ётландию, датские острова и —кандинавию.
ћст€ за смерть полабского кн€з€ –атибора, в 1043 году ободриты совершают поход в ётландию, и, как сообщает јдам Ѕременский, «разор€€ окрестности, дошли до самого –ибе». ѕоход этот, впрочем, закончилс€ дл€ слав€н неудачно, сами же датско-ободритские отношени€ впоследствии были скреплены союзом после возвращени€ в ћекленбург женившегос€ перед этим на датской принцессе ободритского кн€з€ √отшалка. ¬ 1066 году ободриты под предводительством рута разрушают ’айтабу. ¬ 1150 году слав€не (видимо, рюгенские) совершают нападение на –оскильде. ольбацкие анналы передают под тем же 1150 годом и слав€нское нападение на —коне.
≈щЄ более далЄкий и удачный поход в —кандинавию совершил тЄзка полабского –атироба, –атибор ѕоморский в 1135 году, повед€ свою армию на один из важнейших норвежских городов онунгахеллу. —ага о нютлингах сообщает, что пришедший к норвежским берегам флот –атибора составл€л 550 кораблей, вмещавших каждый по 44 человека и 2 лошади. “аким образом, через море была переправлена арми€ в 1100 всадников и около 23 000 воинов. ќсадив и разрушив город онунгахеллу, –атибор с огромной добычей и множеством норвежских рабов вернулс€ в свою страну, а «торговый город онунгахелла» – подводит итог этой истории —норри —турлусон – «никогда уже больше не был таким процветающим как прежде».
ѕодобные сообщени€ об уводе слав€нами в рабство жителей —кандинавии отнюдь не редки. ¬ письменных источниках сообщаетс€ о присутствии датских рабов во многих значительных слав€нских городах – в ѕоморье, ƒеммине, ћекленбурге. ќ последнем городе, бывшем столицей ободритов, √ельмольд сообщает более подробно:
я слышал, что в ћикилинбурге в рыночные дни насчитывалось пленных данов до 700 душ и все были выставлены на продажу, лишь бы только хватило покупателей…
«ахваченных в ходе слав€нского военного похода и содержавшихс€ в ƒеммине датских рабов, их соотечественникам удалось освободить во врем€ крестового похода на слав€н. ¬ XII веке слав€но-датские войны носили перманентный характер и неоднократно описываютс€ √ельмольдом и —аксоном √рамматиком. » если «симпатии» датского хрониста в этих описани€х ожидаемо на стороне датчан, то немец √ельмольд был далЄк от симпатии и к тем, и к другим. ќднако, вместе с тем, нельз€ не заметить, что приводима€ им оценка боеспособности слав€н и данов очень разнитс€.
ороли данские, ленивые и распущенные, всегда нетрезвые среди посто€нных пиршеств, едва ли когда-нибудь ощущают удары поражений, обрушивающихс€ на страну…
“акую, не самую лестную характеристику подобрал √ельмольд дл€ датских конунгов. ѕод «ударами поражений», обрушивающиес€ на данов, он подразумевал именно слав€нские набеги на ƒанию своего времени, в контексте описани€ которых и было оставлено процитированное замечание. ћало того, что балтийские слав€не не уступают в описани€х √ельмольда скандинавам по военной мощи, он пр€мым текстом описывает их превосходство над данами. ѕосле того, как датский король ¬альдемар отказалс€ делитьс€ увезЄнными из јрконы сокровищами с √енрихом Ћьвом, последний решил вопрос тем, что приказал зависимым от него в то врем€ ободритам отомстить данам.
Ѕудучи призваны, они [ободриты] сказали: «ћы готовы», — и с радостью повиновались ему, который послал их. » открылись запоры и ворота, которыми раньше было закрыто море, и оно прорвалось, стрем€сь, затопл€€ и угрожа€ разорением многим данским островам и приморским област€м. » разбойники оп€ть отстроили свои корабли и зан€ли богатые острова в земле данской…
…»бо ƒани€ в большей части своей состоит из островов, которые окружены со всех сторон омывающим их морем, так что данам нелегко обезопасить себ€ от нападений морских разбойников, потому что здесь имеетс€ много мысов, весьма удобных дл€ устройства слав€нами себе убежищ. ¬ыход€ отсюда тайком, они нападают из своих засад на неосторожных, ибо слав€не весьма искусны в устройстве тайных нападений. ѕоэтому вплоть до недавнего времени этот разбойничий обычай был так у них распространен, что, совершенно пренебрега€ выгодами земледели€, они свои всегда готовые к бою руки направл€ли на морские вылазки, единственную свою надежду, и все свои богатства полага€ в корабл€х. Ќо они не затрудн€ют себ€ постройкой домов, предпочита€ сплетать себе хижины из прутьев, побуждаемые к этому только необходимостью защитить себ€ от бурь и дождей. » когда бы ни раздалс€ клич военной тревоги, они пр€чут в €мы все свое, уже раньше очищенное от м€кины, зерно и золото, и серебро, и вс€кие драгоценности. ∆енщин же и детей укрывают в крепост€х или по крайней мере в лесах, так что непри€телю ничего не остаетс€ на разграбление, — одни только шалаши, потерю которых они самым легким дл€ себ€ полагают. Ќападени€ данов они ни во что не став€т, напротив, даже считают удовольствием дл€ себ€ вступать с ними в рукопашный бой.
Ќегативную оценку боевого духа и умени€ ведени€ войны данов по сравнению со слав€нами √ельмольда невозможно приписать одному лишь желанию выставить подчинЄнных своего герцога, мст€щих предавшим его данам, или какой-то особой симпатией √ельмольда к слав€нам. —лав€н он называет морскими разбойниками и никак не выказывает восхищени€ их действи€ми. ќднако, описыва€ ¬агрию – край, в котором ему довелось жить и написать свою хронику, он замечал: «не самой худшей €вл€етс€ наша вагрска€ земл€, где имеютс€ мужи храбрые и опытные в битвах как с данами, так и со слав€нами».
ќ храбрости данов ему, в то же врем€, не находитс€ что сказать, даже тогда, когда они принимали участие в крестовом походе на слав€н на стороне немцев – то есть, казалось бы, делали весьма благое и богоугодное, по пон€ти€м посв€тившего долгие годы христианизации ободритов √ельмольда, дело. ѕомощь датского войска осаждавшим ободритскую крепость саксонцам √ельмольд описывает следующим образом:
…ѕришло также и войско данов к присоединилось к тем, которые осаждали ƒубин, и от этого осада усилилась. ¬ один из этих дней находившиес€ в осаде заметили, что войско данов действует в€ло, ибо те, которые дома настроены воинственно, вне его обычно трус€т; и, совершив внезапную вылазку, они убили многих данов и удобрили землю их трупами.
—ообщени€ √ельмольда об умении слав€н воевать с данами и большом их опыте в этом деле подтверждаютс€ и другими источниками. ќценка боеспособности слав€н и данов у —аксона √рамматика, дл€ которого возвеличивание подвигов датских правителей было одной из целей написани€ хроники, вполне предсказуемо отличаетс€ от не принадлежавшего ни к датской, ни к слав€нской стороне √ельмольда. ƒатский историк ѕол √риндер-’ансен, проанализировав упоминани€ слав€н в «ƒе€ни€х данов» —аксона √рамматика, пришЄл к любопытному выводу: при написании обширного труда датским хронистом использовалась концепци€ повествовани€, в которой описываемые событи€ не только передавали ход истории, но и передавались так, чтобы подчеркнуть основные идеи автора. ќдним из главных мотивов «де€ний данов» и истории данов в видении —аксона был мотив противосто€ни€ их со слав€нами. —аксон хоть и старалс€ намеренно унизить слав€н на фоне данов и представить их более примитивными, в то же врем€ ставил успешность в войнах со слав€нами критерием величи€ датских правителей. “е из них, которые, по его мнению, прославились в своЄ правление, об€зательно должны были победить слав€н, наказать слав€нских пиратов или отразить их набеги. —лабые же и никчЄмные правители отличались тем, что противосто€ть слав€нам не могли.1
ѕон€тно, что датский хронист, одним из важных источников которого были исландские саги и эпос, также совершенно очевидно приукрашивавший и воспевавший подвиги правителей и героев, был целиком и полностью на датской стороне в своЄм повествовании, и приводимые им данные во многих случа€х могут отображать только его «патриотическое» видение истории. ќднако то, какой представл€лась роль слав€н в датской истории самим данам, насколько войны с ними пронизывали их эпос (так, что мотив победы над слав€нами стал символом велича€ и подвига), показывает, какую в действительности роль играли слав€не в истории региона. ¬ хронике —аксона сообщаетс€ о датско-слав€нских войнах начина€ со времЄн легендарного корол€ ‘родо, ярмерика, Ёрика ƒоброго, √аральда —инезубого, —вена ¬илобородого, ћагнуса ƒоброго, нута —в€того, ќлафа √олода, Ќильса, нута Ћаварда и заканчива€ победами ¬альдемара ¬еликого.
≈два ли не вс€ истори€ данов представл€лась как посто€нное противосто€ние со слав€нами, достигшими своего апофиоза в середине – второй половине XII века, когда, по словам —аксона, в результате слав€нских набегов все датские острова кроме Ћолланда, выплатившего –югену дань, и ‘альстера, оказавшего сопротивление, превратились в пустыню. ¬се поселени€ восточной ётландии были оставлены жител€ми, на острове ‘юн оставались лишь немногие жители, а юг и восток острова «ееланд были полностью разорены. —ага о нютлингах, повествующа€ о событи€х того же времени, описывает лишь героические де€ни€ датских правителей, не особо распростран€€сь о том бедственном положении, в котором находилась ƒани€ после слав€нских войн. ќднако косвенно передаЄт эту информацию и она, вкладыва€ еЄ в уста рюгенского посла ƒамбора, ведшего переговоры с датским епископом о мире между –югеном и ƒанией во второй половине XII века, как раз после описываемых —аксоном событий. ƒамбор держалс€ на переговорах гордо и предложение мира между рюгенскими слав€нами и данами обосновывал тем, что мир этот выгоден, прежде всего, самой датской стороне. ќтказавшись предоставить данам заложников, ƒамбор дал датскому архиепископу следующий совет:
“ы молод и не знаешь того, что было раньше; не требуй у нас заложников и не разор€й нашу страну; лучше отправл€йс€ домой и всегда сохран€йте мир с нами, покуда ваши земли не станут столь же хорошо заселены, как наши земли сейчас; многие ваши земли лежат пусты и необитаемы; поэтому дл€ вас лучше мир, а не война.
“аким образом, во врем€ переговоров ƒамбор предупредил данов, что рюгенские слав€не разорили и привели в полное запустение значительную часть ƒании до времЄн јбсaлона, и готовы сделать это снова, если не прекрат€тс€ датские нападени€ на –юген. ”казание ƒамбора на незнание јбсaлоном более ранней ситуации и положени€ в датских земл€х крайне любопытно, так как €вл€етс€ одним из немногих письменных упоминаний о возможной зависимости части датских земель от –югена. Ётому, впрочем, есть и пр€мые свидетельства. ”же упоминалось о выплате дани островом Ћолланд рюгенским слав€нам до правлени€ корол€ ¬альдемара. ∆ители острова ‘альстер в то же врем€ содержали захваченных слав€нами пленников, что может объ€сн€тьс€ не только большой долей слав€нского населени€ на этом острове, но и политической зависимостью его от –югена в какой-то период.
Ёто же масштабное разорение ƒании рюгенскими слав€нами в середине XII века запечатлено и в переписке ¬альдемара ¬еликого и јбсалона с папой римским, после вз€ти€ јрконы, в 1169 году, где в вину жител€м –югена приводитс€, что они «были преданы неправедной вере, а идолопоклонству и заблуждению, облагали данью окружавшие их области и беспрерывно нападали на датское королевство и всех своих соседей, принос€ им великое разорение и угнета€ их».2
—лав€нские походы на датские острова в середине XII века подтверждает и археологи€. –езультатом проводившихс€ датскими археологами раскопок крепостей Ѕорребьерг и √улбдборг на острове Ћангеланд стал вывод – обе они были разрушены слав€нами около 1150 года.
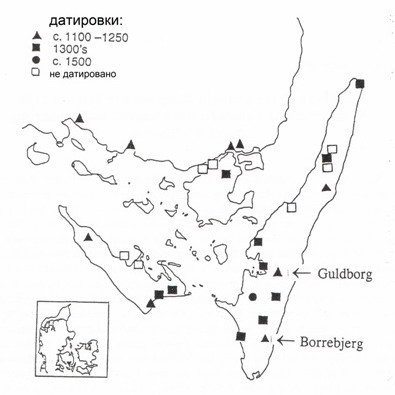
репости на острове Ћангеланд (по J. Skaarup, 2001).
ѕри раскопках первой фазы крепостного вала Ѕорребьерга пр€мо в крепостной стене были обнаружены останки не менее 14 человек – мужчин, женщин и детей, предположительно оставшиес€ лежать убитые в ходе набега в опустевшем городе. ѕредполагаетс€, что их останки попали в насыпь поспешно восстанавливаемых после разрушени€ крепости стен городища. ќднако просуществовала эта нова€ крепость очень недолго: за первым нападением последовало второе, после которого город больше никогда уже не восстанавливалс€. «–азрозненные части скелетов и различных предметов в каменной кладке второй фазы подтверждают ещЄ одно, ещЄ более ожесточЄнное сражение, окончательно предрешившее судьбу небольшого укрепительного сооружени€» – подводит итог раскопкам в крепости Ѕорребьерг археолог …. —кааруп.3 ак и повсюду на датских островах, в крепости была найдена преимущественно «балтийска€ керамика», по датированным украшени€м, принимаетс€ еЄ разрушение после 1130 года, предположительно в районе 1150-го.
–азрушение крепости √ульдборг на Ћангеланде датируют временем после 1134-го или 1140-го года, кроме украшений, ещЄ и по найденным в ней монетам. ¬ районе ворот этой крепости было обнаружено большое скопление камней, которыми оборон€вшиес€ предположительно пытались заблокировать вход, а также большое скопление оружи€, личных вещей, костей животных и людей, в числе которых были останки 4 взрослых мужчин, одной пожилой и двух молодых женщин, 5 детей и не идентифицированные кости. ќстанки убитых находились в слое пожара, так что предполагаетс€ поджог крепости в ходе или после еЄ вз€ти€. Ќиже этого сло€ были найдены ещЄ два хорошо сохранившихс€ скелета: мужчины, с наконечником стрелы слав€нского типа в руке, и 14-летнего подростка, предположительно намеренно здесь захороненные, а также находивша€с€ поверх передн€€ часть туловища лошади, в чЄм археологи подозревают жертвоприношение людей и кон€ победившими в знак благодарности богам за удачный исход битвы.
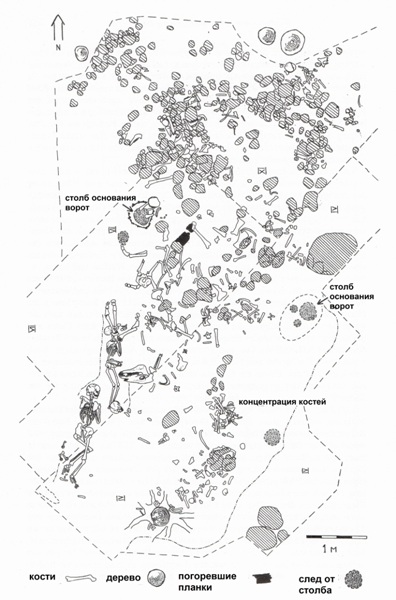
—лой пожара в районе ворот крепости √ульдборг (по J. Skaarup, 2001).
«Ќаходки на возвышенности √ульдборг подтверждают нападение слав€н. Ёти данные подтверждают историческую ситуацию середины 12 века» – сообщает …. —карупп об этой крепости, продолжа€: «Ќаходки из √ульдборга и одновременные находки из Ѕорребьерга дают нагл€дное представление о т€жЄлых услови€х жизни, в которых находилось население южной ƒании в середине 12 века… “от факт, что тела убитых защитников крепости остались лежать не погребЄнными, может указывать на обезлюживание большей части острова Ћангеланд. ¬ыжившие могли быть переправлены через море на рабские рынки на родине победителей, к примеру, в гольштинский —таригард/ќльденбург, расположенный южнее Ћангеланда всего в нескольких часах плавани€ от него… ќба места раскопок на острове Ћангеланд определЄнно подтверждают, что —аксон √рамматик отнюдь не преувеличивал, называ€ слав€н бедствием».4
ѕодтверждающиес€, таким образом, описани€ —аксона √рамматика и √ельмольда полного разорени€ датских островов с массовым уводом в рабство местного населени€, объ€сн€ют то значение, которое даны придавали победоносным походам на слав€н корол€ ¬альдемара в 1160-х годах. Ќепосредственно перед приходом его к власти в 1157 году, в ходе слав€нских войн даны в некоторых своих област€х оказались едва ли не на грани физического уничтожени€. ¬ силу р€да причин – покорени€ саксонцами ободритов, прин€ти€ христианства ѕрибиславом, а также предательства рюгенских кн€зей, ¬альдемару, при помощи ободритов и помор€нам, удалось подчинить сначала –юген, а позже, с помощью теперь уже зависимых от него рюгенских слав€н, и ѕоморье. ¬ то же врем€, союз данов с саксонцами прекратил и ободритские нападени€ на ƒанию, принес€ в неЄ долгожданный мир. ѕрекращение слав€нских нападений было дл€ датской истории XII века событием настолько важным, что в могилу ¬альдемара была вложена свинцова€ плита с надписью:
Hic iacet danorum Rex Waldemarus. Primus sclavorum expugnator. Et dominator. Patrie liberator. Pacis conservator. Qui filius sancti Kanuti rugianos expugnavit et ad fidem christi primus convertit…5
„то в приблизительном переводе значит:
«десь покоитс€ ¬альдемар, король данов, первый победитель и повелитель слав€н, освободитель родины, хранитель мира, сын нуда —в€того, победивший рюгенских слав€н и первым обративший их в христианство…
ќднако было бы несправедливо сводить все отношени€ слав€н и скандинавов к войнам и вражде. Ќе менее активны были слав€не на Ѕалтике и как торговцы, мирные колонизаторы и переносчики высоких технологий керамического производства, о которых уже упоминалось выше.
ёжна€ ётланди€. «начительное слав€нское присутствие принимаетс€ в одном из самых богатых и значительных торговых поселений ƒании и всей —кандинавии раннего средневековь€ – ’айтабу, где найдена не только слав€нска€ керамика и украшени€, но и слав€нские дома и захоронени€. ¬прочем, учитыва€ то, что после разрушени€ датским королЄм √оттфридом ободритского эмпори€ –ерик, купцы из –ерика были переселены в ’айтабу, это совсем не удивительно. роме самого торгового центра ’айтабу, слав€нска€ керамика встречаетс€ в обилии в районе залива Ўлей, севернее датско-ободритской границы и укреплений ƒаневерк. —ам ’айтабу был разрушен слав€нами в 1066 году.
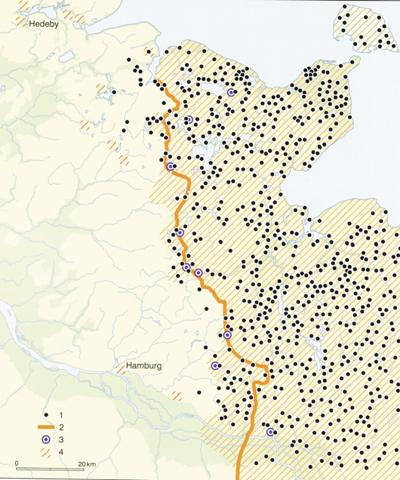
—лав€нска€ топонимика и находки в южной ётландии и ¬агрии (по ћ. Müller-Wille, 2011): 1. слав€нские и слав€но-немецкие топонимы; 2. limes saxoniae; 3. наиболее западные слав€нские крепости; 4. места находок слав€нской керамики.
северу от ’айтабу, на полуострове √амельгаб, известно два топонима смешанного слав€но-датского происхождени€: Oster Gurkhöj и Sünder Gorkhye (от слав€нского «горка»).6 —опоставл€€ данные лингвистики с приведенными выше данными археологии и письменными источниками о переселении ободритских купцов √оттфридом из –ерика в ’айтабу, есть все основани€ говорить не только об общине слав€нских купцов в этом торговом центре, что было бы делом самим собой разумеющимс€, но и о вполне ощутимом слав€нском присутствии в окружающих его с севера, юга, запада и востока област€х. ѕриведЄнна€ карта находок слав€нской керамики в —кандинавии показывает, что слав€нское культурное вли€ние имело место не только в южной, но и в центральной еЄ части.
ќстрова Ћолланд, ‘альстер и ћЄн. ќднако, при всЄм сказанном, ни в какое сравнение не идЄт южна€ ётланди€ с датскими островами, где слав€нское присутствие было настолько значительным, что разумнее говорить о чересполосном заселении некоторых из этих островов слав€нами и данами, чем о слав€нских общинах. ќ присутствии слав€н на датских островах свидетельствует как археологи€, так и письменные источники и лингвистика.
»зучение слав€нской топонимики датских островов началось ещЄ в начале прошлого века и поначалу встретило сопротивление со стороны датских исследователей. ¬о второй половине XX века на этот вопрос стали смотреть уже не столь предвз€то, а скорее, с интересом. –азные исследователи приводили разное количество слав€нских топонимов и их анализов. ¬ то врем€ как ¬. “орндаль в 1963 году приводил лишь около 20 топонимов в польско€зычной статье7, немецко€зычные исследовани€ подходили к вопросу более основательно. ”же в 1938 году вышла стать€ польского исследовател€ —танислава —авицки «ќ лехитских топонимах в южной ƒании» в том числе содержаща€ и разбор библиографии вопроса.8 Ќаиболее подробным и детальным подобным немецко€зычным исследованием можно назвать уже довольно старую, вышедшую в 1967 году работу …. ѕринца « вопросу о слав€нских топонимах и личных именах на южно-датских островах».9 ак и прочие авторы, он не ставил перед собой целью подсчитать точное число слав€нских топонимов на датских островах или хот€ бы установить критерии, по которым можно было осуществить такой подсчЄт. “рудность подсчЄта заключаетс€ в том, что нет €сности, как именно считать топонимы.
«ачастую от одного слав€нского топонима происходило до четырЄх смешанных слав€но-датских форм. примеру: северный X, южный ’, западный ’ и восточный ’; или большой X и малый X, где X – условный символ дл€ обозначени€ слав€нского топонима. ѕри отсутствии установленных дл€ подсчЄта критериев, ниже € приведу тот вариант, который был выбран дл€ подсчЄта мною и где дл€ вышеописанных случаев, когда один слав€нский топоним мог образовывать несколько смешанных слав€но-датских форм, он считаетс€ за один топоним, а не несколько. “опонимы € располагаю не по алфавиту, а по островам. ƒл€ удобства под списком слав€нских топонимов конкретного датского острова приводитс€ и список слав€нских имЄн, известных среди жителей данного острова в письменных источниках, и в конце – итоговый подсчЄт того и другого дл€ каждого острова. ¬ скобках даны немецкие обозначени€ дл€ рода названи€: (FN) – название местности; (ON) – название населЄнного пункта; (PN) – личное им€. —писок, основанный на исследовани€х …. ѕринца, € дополн€ю дл€ удобства несколькими слав€нскими именами, не замеченными этим исследователем и указанными в 2001 году датским исследователем Ѕ. …оргенсеном, основывавшемс€ на работах ‘. ’устеда (1994).10 “акие имена помечены звЄздочкой (*).
‘альстер
“опонимика:
1) Benes Agre (FN)
2) Dalgehavus Mark (FN)
3) Daleche Land schiffte (FN)
4) Jerlisse (FN)
5) Smalle Simeser; Brede Simeser (FN)
6) Gorke Hoy (FN)
7) Wommelitze Agre (FN)
8) Jerlitzegaerd (ON)
9) Korselitse (ќN)
»мена:
1) Gnemaer (PN)
2) Cassemirius (PN), этот азимир жил в XVII веке там же, где в XIII веке был замечен √немир (1)
3) Thord Dobic (PN)
4) Dobicsun*(PN)
»того: 7 названий местности, 2 топонима, 4 личных имени.
Ћолланд
“опонимика:
1) Binitze gaard (ќN)
2) Billitse (ON), дома, сл.*белый
3) Binnitse (ON), имение
4) Glukse (ON), дома, дворы
5) Kobelitse (ON), деревн€
6) Revitse (ON), дома
7) Trannisse Gard (ON), двор
8) Kuditse (ќN), деревн€
9) Tillitse (ON), деревн€
10) Vindeby (ON), деревн€
11) Vindebygaard, Vindebyskov (ON), имение
12) Vindeholme (ON/FN)
13) Kramnitse (FN/ON), дворы
14) Boris Ager (FN)
15) Boridtz schiffle (FN)
16) Budickis Lundager schiffte (FN)
17) Billitse Holme (FN), острова, сл.*белый
18) Binnitse Mark (FN), область
19) Kortwis (FN)
20) Rydvidse (FN), скалы
21) Kaetweedtz (FN)
»мена:
1) Vendt (PN)
2) Derbor/Dribor (PN)
3) Gnemer (PN)
4) Syborre (PN)
5) Gramele*(PN)
6) Paysik*(PN)
»того: 11 (13) топонимов, 10 (8) названий местности, 6 личных имЄн, из которых одно им€ на «венд».
ћЄн
“опонимика:
1) Bouvidtz aggere, Lille Bourvidtzer (FN)
2) Lille Buridtz, Store Buridtz (FN)
3) Nörre Buridtz Börn, Söndre Buridtz Börn (FN)
4) Goltze Höy (FN)
5) Gorke banke (FN)
6) Kampidtze (FN)
7) Lange Kleinidser (FN)
8) Kompelmoße Holm (FN)
9) Krogidtzerne (FN)
10) Koster (ON/FN), деревн€ и полуостров
11) Busemarke (ON), деревн€
12) Busen (ON), деревн€
13) Lille Gorker
»мена:
1) Danitslöf (PN)
2) Gnemerus (PN)
»того: 2 (4) топонимов, 10 (9) названий местности, 1 не€сное (Nr.13), 2 личных имени
√овор€ о слав€нских следах на датских островах, нельз€ не напомнить и о заимствовани€х из слав€нского в датский. ¬ данном случае особенно любопытно, что одно из этих заимствований встречаетс€ только в диалектах островов ‘альстер и Ћолланд.
«аимствование из слав€нского в диалекты островов ‘альстер и Ћолланд (*) и в датский:
kampe sig* < сл. «купатьс€»
bismer < сл. «безмен»
reje < сл. «рей» (разновидность креветки)
silke < сл. «шЄлк»
torv < сл. «торг»
»того: всего не менее 43 топонимов (ON и FN) и 12 слав€нских личных имЄн у жителей ю.-д. островов, заимствовани€ в €зыке местных жителей.
Ќа ‘альстере и ћЄне слав€нские названи€ местностей преобладают над названи€ми поселений, на Ћолланде их число примерно равно, с небольшим преобладанием топонимики. “акже на Ћолланде обращает на себ€ внимание «вендска€» топонимика и имена – €вление, в √ермании характерное дл€ мест, где слав€не были меньшинством. ќднако в случае Ћолланда эти поздние имена и топонимы совсем не могут быть доказательством изначального меньшинства там слав€н.
ƒатский исследователь Ѕ. …оргенсен приводил карту с 38 слав€нскими топонимами на островах Ћолланд, ‘альстер и ћЄн и 14 «вендскими» топонимами на южно-датских островах, указыва€, при этом, что всего в ƒании известно от 40 до 50 слав€нских топонимов (без учЄта «вендских»). ¬ 2011 году эта же карта была переиздана в более нагл€дном виде в немецком издании ћ. ћюллера-¬илле, этот вариант и приводитс€ ниже.
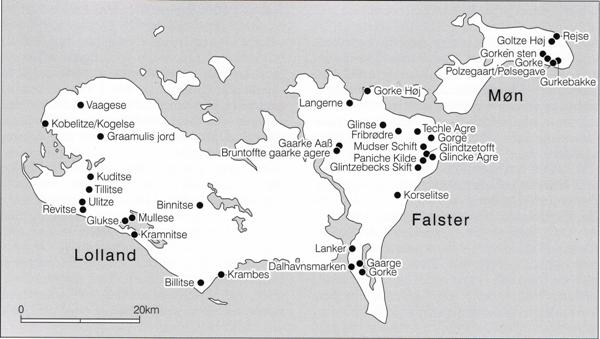
—лав€нска€ топонимика южно-датских островов (по M. Müller-Wille, 2011).
Ёти данные лингвистики крайне любопытны при сопоставлении их с данными археологии и письменных источников. ак уже замечалось, —аксон √рамматик упоминает случай выплаты Ћолландом дани слав€нам в XII веке, а на острове ‘альстер слав€не держали рабов, что также может указывать на политическую зависимость жителей острова от –югена. Ёти данные, в свою очередь, подтверждаютс€ и сообщени€ми √ельмольда о зан€тии слав€нами датских островов в XII веке и переписки ¬альдемара с папой римским в 1169 году об обложении рюгенскими слав€нами данью соседних народов. ¬ данном же случае, можно предложить, что ‘альстер и Ћолланд были завоЄваны и колонизированы рюгенскими слав€нами в неустановленное врем€ до конца XII века. „аще всего современными исследовател€ми предлагаютс€ датировки в районе IX-XII веков, до войн ¬альдемара. Ѕ. …оргсен придерживалс€ мнени€ о восхождени€ слав€нской топонимики ещЄ к довикингскому периоду: «ƒл€ датировки слав€нской топонимики должно быть прин€то насколько это возможно раннее врем€, в которому она восходила, другими словами, происхождение этой топонимики произошло в эпоху викингов или даже раньше, в любом случае, ранее позднего средневековь€».11
ќднако ни одно из мнений о датировке слав€нской топонимики, к сожалению, нельз€ подкрепить какими-либо действительными аргументами кроме «логических» измышлений. ясно на сей день пока одно: слав€не должны были играть в жизни южно-датских островов очень значительную роль. ¬ IX и XII веках они принадлежали ƒании, как это следует из описани€ поездки ¬ульфстана и по свидетельствам —аксона. ¬ промежуточное врем€ нельз€ исключать периодов принадлежности этих островов слав€нам. Ѕолее того, возможной кажетс€ и зависимость этих островов от слав€н в период ожесточЄнных войн и разорени€ ƒании середины XII века, непосредственно перед эпохой ¬альдемара. ”казанные обсто€тельства позвол€ют прин€ть существование на Ћолланде и ‘альстере такой доли слав€нского населени€, котора€ определ€ла внешнюю политику и была ло€льна своим слав€нским сосед€м, а скорее всего, даже и родственникам, на –югене. Ќедаром перед походами на –юген ¬альдемара едва не дошло до датского похода на «м€тежный ‘альстер», в чЄм можно предположить ло€льность или поддержку его жител€ми слав€н.
Ќередкие слав€нские имена, зафиксированные на этих островах, лишь подтверждают данные топонимики, археологии и слав€нских заимствований в местные диалекты. — другой стороны, нет оснований предполагать, что носители слав€нских имЄн могли происходить от завезЄнных когда-то в ходе войн пленников или рабов из слав€нских стран. ѕо крайней мере, три носител€ этих имЄн – √немир, ƒобищун и ѕайсик – были представител€ми знати или высшего сослови€. —аксон упоминает «знатного датчанина» √немира с острова ‘альстер, извещавшего слав€н о передвижени€х датского флота и, видимо, тождественному слав€нскому посланнику роскильдского епископа јбсалона, также находившегос€ на ‘альстере. –одом с ‘альстера, суд€ по всему, был и слав€нский переводчик јбсалона.
Ќесмотр€ на то, что вопросу слав€нского €зыка и присутстви€ на южно-датских островах удел€лось немалое внимание исследователей, вопрос это очень далЄк от разрешени€. ќчевидно, что перед нами – целый пласт датско-слав€нских отношений, не вошедший в письменные источники, но от того отнюдь не менее реальный. ѕримечательно и то, что заимствовани€ из слав€нского в датский все св€заны либо с торговлей и роскошью (торг, безмен, шЄлк), либо с рыболовством и водой (рей, купатьс€), в чЄм можно предположить колонизацию датских островов теми же группами слав€нского населени€, что занимались торговлей, в том числе и с ¬осточной ≈вропой.
—ами слав€не на южно-датских островах, вполне возможно, могли сохран€тьс€ вплоть до XVII века, когда впервые были зафиксированы некоторые из топонимов и имЄн. Ћюбопытно, что в некоторых случа€х заметна и пр€ма€ св€зь между именами из грамот и сохранением традиций. Ќоситель слав€нского имени азимир на острове ‘альстер в XVII веке, к примеру, известен из того же места, где в XIV веке также был известен носитель слав€нского имени √немир. ¬ других случа€х просматриваетс€ св€зь между слав€нскими названи€ми населЄнных пунктов и слав€нскими именами их жителей.
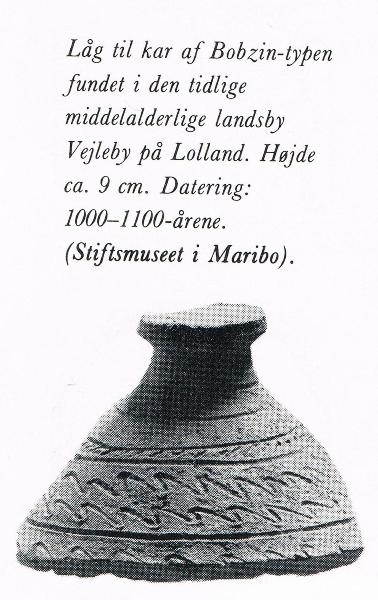
ќсколок керамики типа «Ѕобцин» и ¬ейлеби, остров Ћолланд (по N.-K. Liebgott, 1978).
»з слав€нских находок на островах ‘альстер, Ћолланд и ћЄн можно отметить слав€нскую или «балтийскую» керамику, слав€нские оковки ножен, кости с отверстием, по всей видимости, св€занные с магическими ритуалами и принимаемые ввиду большого числа находок у слав€н на юге Ѕалтики за слав€нскую традицию, овручский шифер из иевской –уси.
сожалению, по причине отсутстви€ детального анализа находок слав€нской керамики в ƒании лишь в редких случа€х исследователи могут говорить о том, какие из находок можно св€зать с импортом из слав€нских земель, а какие были произведены на месте, по слав€нским образцам. ќдна из таких мастерских, изготовл€вших керамику по слав€нскому образцу на месте, по всей видимости, находилась в поселении ¬ейлеби на острове Ћолланд, где известен особый подвид «балтийской керамики». ажетс€ любопытным и замечание датского археолога ¬андрупа ћартенса о том, что находима€ на данных южно-датских островах «балтийска€ керамика» в общем отличаетс€ от таковой из северо-западной датской области —коне тем, что своими формами ещЄ ближе к собственно слав€нской с южного берега Ѕалтики, в чем, очевидно, про€вл€етс€ вли€ние гораздо более обширного слав€нского компонента и, как следствие, лучшее сохранение слав€нских традиций, как и более тесные св€зи с южнобалтийской родиной.12
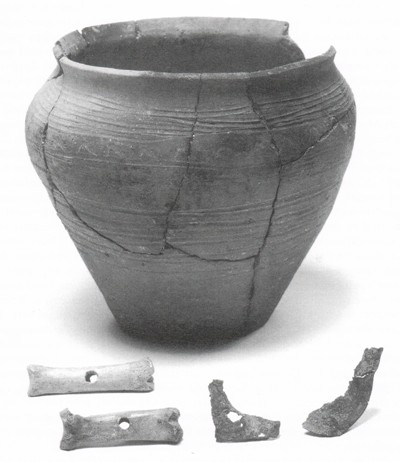
—лав€нские находки с ‘альстера (по K.L. Poulsen, 2001).
—о слав€нами св€зывают также судостроительную верфь в ‘рибрЄде на севере ‘альстера, где дл€ судостроительства примен€лась технологи€ скреплени€ планок дерев€нными дюбел€ми, как считаетс€, бывша€ характерной дл€ слав€н.13 —амо название этого места также слав€нского происхождени€ (от сл. «при броде»). ќднако такое мнение раздел€ют не все датские и немецкие археологи, о чЄм подробнее ещЄ будет сказано.
«еланди€, ‘юн, Ћангеланд и маленькие западно-датские острова. ¬ то врем€, как на Ћолланде, ‘альстере и ћЄне отмечаетс€ широка€ известность слав€нской топонимики, в совокупности со слав€нскими именами жителей островов и археологией, указывающа€ на то, что, по крайней мере, в некоторых част€х островов в какие-то временные периоды слав€нский €зык преобладал, а сами слав€не определ€ли внешнюю политику, на соседних с ними островах ситуаци€ несколько ина€.
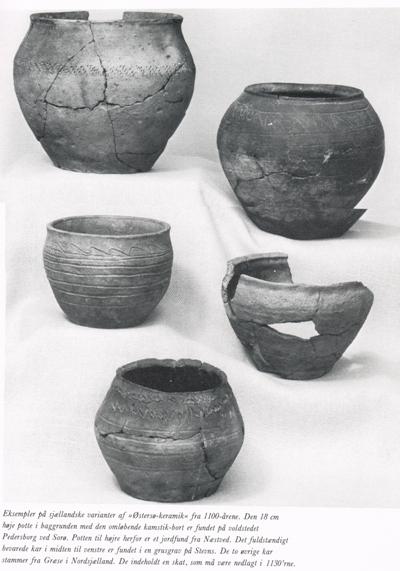
«Ѕалтийска€» керамика из ѕедерсборга, остров «ееланд (по N.-K. Liebgott, 1978).
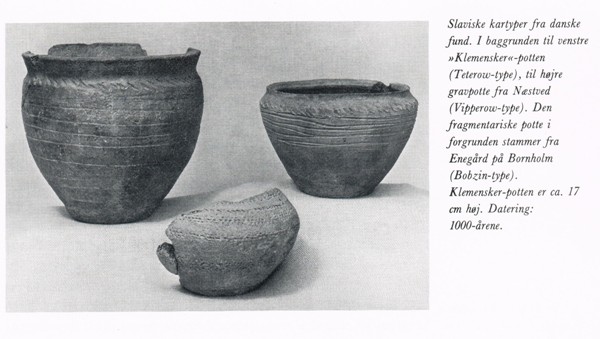
«Ѕалтийска€» керамика из Ќэстьед, остров «ееланд (по N.-K. Liebgott, 1978).
Ќа острове «ееланд известен всего один слав€нский топоним – Bildtze (FN). —лав€нское происхождение также имеет название маленьких южно-датских островов Kraßerne Schiffte. …. ѕринц подозревал слав€нское происхождение в следующих топонимах, хот€ и не был в нЄм уверен:
1) Engelitzer Agre
2) Nörre leditz schifft
3) Sortelidtz schiffte
ќднако, несмотр€ на небольшое число собственно слав€нской топонимики, на слав€нское присутствие здесь указывает многочисленна€ «вендска€» топонимика, включающа€ в себ€ основу «венд» – германское обозначение слав€н. “ака€ топонимика германского, а не слав€нского происхождени€, но она пр€мо указывает на поселени€ слав€н среди преимущественно датских земель.

«¬ендска€» топонимика южно-датских островов (по B. Jorgensen, 2001).
Ћюбопытно, что в некоторых случа€х данные лингвистики подтверждает археологи€. примеру, поселение ¬индеби (1 на карте) на острове ‘юн расположено пр€мо напротив города —вендборг, в котором помимо прочего был найден небольшой четырЄхголовый идол – традици€, не имеюща€ аналогий в —кандинавии, но хорошо известна€ и бывша€ даже специфической слав€нской чертой, особенно, у балтийских слав€н.14

»дол из —вендборга и параллели среди находок других слав€нских идолов (по H.M. Jansen, 1998): 1. идол из —вендборга; 2. збручский идол; 3. идол из поморского ¬олина.
“о же можно сказать и о поселении ¬индебоде на острове «ееланд, одного из наиболее значительных датских городов –оскильде, где были найдены многочисленные слав€нские артефакты. ак сообщает датский археолог ћ. Ќаум: «„ерепки намеренно разбитой «балтийской керамики» были найдены среди погребений в раннесредневековой церкви —в€того »акова в –оскильде. –азбитые черепки керамики были обнаружены, в основном, в черном наполнении около 61 могил одиннадцатого века или в промежутках между погребени€ми. »нтересно, что церковь расположена в части города, в средние века называвшейс€ «Vindebode», что можно перевести как «слав€нские хижины» или «слав€нское поселение». Ќазвание поселени€, так же как и элементы обнаруженной в культурных сло€х материальной культуры, производ€т впечатление слав€нского населени€ этой части –оскильде. “аким образом, традици€ порчи керамики и оставление осколков в захоронени€х могут быть св€заны с погребальным обр€дом проживавших в ¬индебоде слав€нских поселенцев».15

÷ерковь —в. »акова в –оскильде (по M. Andersen, 2001).
Ёта церковь —в. »акова, в находках из которой подозревают указани€ на слав€нский погребальный обр€д, находилась в районе –оскильде, называемом данами «слав€нским поселением», бывшим в позднем средневековье значительным торговым центром.
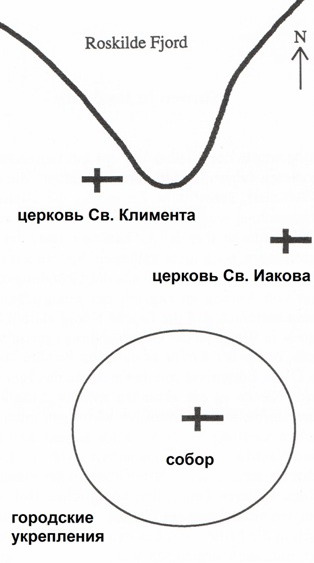
»сторический –оскильде. ѕоселение ¬индебоде находилось в районе церкви —в. »акова
(по M. Andersen, 2001).
ѕри раскопках этого района были обнаружены остатки столбов с плетЄной конструкцией между ними, в чЄм, по мнению археологов, стоит видеть не защитное сооружение, а разграничивавший торговый центр на «слав€нскую» и «датскую» части забор. ¬ –оскильде изготавливалась особенна€ разновидность «балтийской керамики», кроме того, здесь найдено более 20 оковок ножен слав€нского типа. “от факт, что большинство этих находок приходитс€ на ¬индебоде, подтверждает св€зь этих предметов со слав€нами.
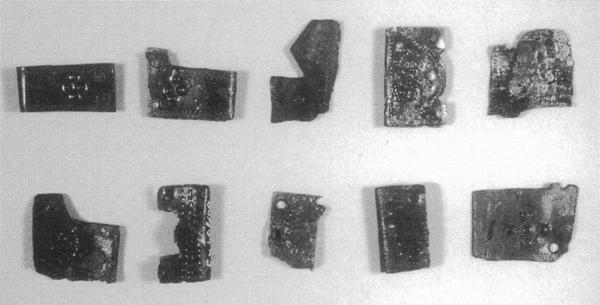
—лав€нские оковки ножен из –оскильде (по M. Andersen, 2001).
роме тесных св€зей с балтийскими слав€нами и очевидном их поселении в –оскильде, некоторые находки из города обнаруживают св€зь и с иевской –усью:

Ќайденна€ в ¬индебоде серьга, предположительно из иевской –уси.

Ќайденный в ¬индебоде крест «византийского типа», предположительно изготовленный на месте по древнерусскому прототипу (по M. Andersen, 2001).

Ѕрактеат, имитирующий византийскую монету, из –оскильде (по M. Andersen, 2001).

Ѕронзовый амулет в виде кон€, предположительно из иевской –уси, найденный в Veddelev, –оскильде (по M. Andersen, 2001).
Ћюбопытно, что импорт из иевской –уси – редка€ вещь в ƒании, как отмечает датский археолог ћ. јндерсен – в –оскильде оказываетс€ напр€мую св€зан с торговым поселением балтийских слав€н. ƒве первые вещи были найдены в ¬индебоде, а две других, хоть и за его пределами, но представл€ли собой очень характерные имитации. примеру, во врем€ раскопок в одной из важных крепостей ободритов ƒобин, существовавшей в те же X-XII века, что и –оскильде, было установлено, что подвески из местных имитаций восточных, датских и византийских монет, были весьма попул€рны у ободритской знати того времени, что позвол€ет увидеть в этих вещах св€зь.16
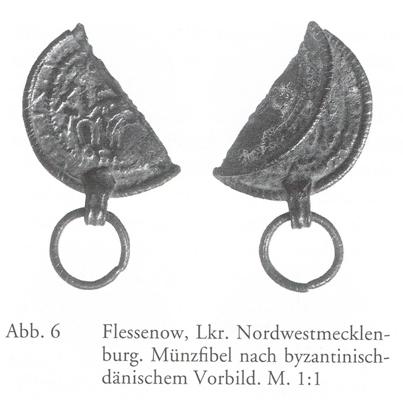

ѕодвески-имитации византийских монет из ободритской крепости ƒобин.
“о же можно предположить и дл€ креста, имевшего характерную дл€ восточнослав€нских земель форму, но одновременно украшенного необычными изображени€ми, по предположению ћ. јндерсена, бывшими «изображени€ми св€тых или апостолов, по изображени€м которых отчЄтливо видно, что ремесленником, изготовившим крест был дан, неверно пон€вший смысл оригинала, и изобразившего р€д скорее смешных фигур».
ћетки: –усь |
—лав€не в скандинавии 2 |
ƒневник |
(продолжение)
ћы же хотели бы обратить внимание на то, что символика изображений «скорее смешных фигур» с православного креста из –оскильде имеет пр€мые аналогии в религиозном искусстве балтийских слав€н, причЄм как раз среди металлических изделий. —ама символика четырЄх ликов по сторонам света была одним из основных религиозных символов балтийских слав€н и известна по находках и описани€м из ¬олина и –югена. роме уже приводившихс€ четырЄхголовых идолов, хотелось бы обратить внимание на похожую крестообразную находку из ¬олина, также украшенную четырьм€ ликами, схематическое изображение которых, в свою очередь, очень схоже с роскильдским крестом. —тилистически схожие изображени€ найдены на детал€х запонок на јрконе. »зображение в центре роскильдского креста со странно большим открытым ртом с зубами можно сравнить с изображением на найденной в вагрийском —таригарде оковке ножен, предположительно изображавшей слав€нских богов и мироустройство. ¬ верхней части еЄ находилась фигура, св€зываема€ с божеством «верхнего мира», по центру были изображени€ людей и зверей, а внизу, в «нижнем» мире, было помещено схожее изображение божества с открытым зубастым ртом. —равнива€ этот оклад с реконструируемой картиной слав€нского пантеона и мифологии, можно предположить, что нижнее божество было ¬елесом или „ернобогом, хоз€ином загробного мира, в то врем€ как верхн€€ фигура изображала верховного небесного бога – ѕеруна или —вентовита.

ѕровод€ стилистические параллели, нельз€ не отметить сходство в композиции со збручским идолом, в верхнем €русе которого было 4 предположительно божественных фигуры, а внизу – одна, также с открытым ртом. ¬ этом плане роскильдский крест как бы представл€ет «вид сверху» на композицию збручского идола, и можно предположить, что 4 лика по сторонам могли обозначать 4 лика —вентовита или ѕеруна, а зубаста€ фигура в середине – ¬елеса или „ернобога, наход€щегос€ в центре в подземном мире.
“акой симбиоз православной формы креста и €зыческих символов мог быть вполне обычным делом дл€ X-XII веков, учитыва€ то, что двоеверие хорошо известно и много позднее этого времени. тому же, крест найден, с одной стороны, далеко от иевской –уси, но очень близко к поселению балтийских слав€н-€зычников в ¬индебоде и на –югене. ¬ли€ние арконского храма —вентовита на датские христианские земли в то врем€ подтверждаетс€ словами —аксона √рамматика, укор€вшего датского корол€ —вена за то, что последний, будучи христианином, отправл€л дары —вентовиту на јркону. —хожую ситуацию, когда номинально считавшийс€ христианином купец одновременно мог более довер€ть €зыческим богам и рюгенскому оракулу, в результате чего и позаботилс€ о нанесении на крест дополнительных обережных €зыческих символов, вполне можно предположить в случае этой находки. “акже можно указать на сходство бронзовой фигурки кон€ с циркул€рным орнаментом не только с восточноевропейскими находками, но и привести ближайшие параллели из земель балтийских слав€н.

Ќаходки маленьких бронзовых фигурок коней в земл€х балтийских слав€н.
«десь же более интересно, что св€зь и торговл€ –оскильде с иевской –усью, похоже, могла осуществл€тьс€ через посредство балтийских слав€н. ¬ подтверждение можно ещЄ раз обратить внимание и на датские заимствовани€ из слав€нского – шЄлк (товар, привозившийс€ с востока, –уси), торг, безмен (указани€ на торговлю) и ре€. Ћюбопытно, что ближайшие формы заимствованным в датский €зык словам «безмен» и «ре€» – именно русские, а не просто общеслав€нские. ¬полне веро€тно, что приплывавшие из –уси купцы могли останавливатьс€ в –оскильде в поселении балтийских слав€н ¬индебоде или же импорт из иевской –уси привозили сами балтийские слав€не.
роме уже указанных слав€нских следов в –оскильде, сохранились и упоминани€ в письменных источниках слав€нских походов на этот город. —аксон √рамматик сообщает, как в 1150 году ¬едеманд возглавил оборону города от слав€нских пиратов и приказал обнести –оскильде крепостным валом и рвом. —лав€нам, совершившим в 1150 году поход на –оскильде, впрочем, не удалось вз€ть сам город.
—коне. Ќе менее ощутимое слав€нское присутствие и в принадлежавшей ƒании области —коне на юго-западе —кандинавского полуострова (современна€ Ўвеци€). «аметна€ концентраци€ «балтийской керамики» в —коне известна из ЋЄддекЄпинге, Ѕоргеби, Ћунда, ƒальби, ћЄллехольмена, ЁрсьЄ, »стада и ЅьЄреьЄ. ¬се эти населЄнные пункты расположены неподалЄку друг от друга в южной части —коне, что позвол€ет рассматривать это €вление в совокупности.
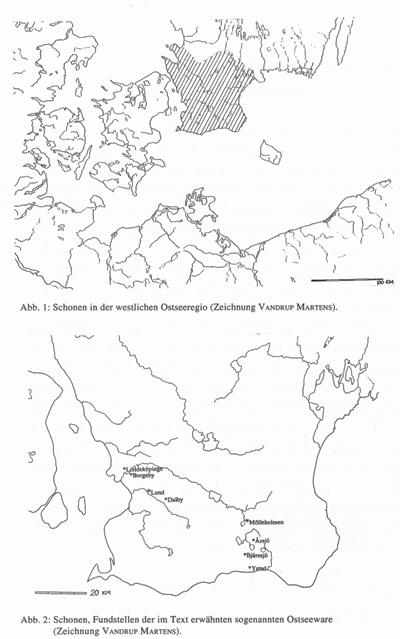
Ќекоторые места находок «балтийской» керамики в —коне (по V. Martens, 2001).
—лав€нскую или «балтийскую керамику» наход€т в —коне повсеместно и в огромных количествах, так что она с большим отрывом преобладает над прочими типами, в том числе и местными скандинавскими, которых, чем дальше на север, встречаетс€ всЄ больше. ак замечает ¬. ћартенс: «Ѕалтийска€ керамика известна практически из всех археологически исследованных мест в —коне: из городов, деревень и других мест находок всей «викингской эпохи» и раннего средневековь€. ¬ расположенных вдали от мор€ поселени€х также встречаетс€ и более грубый тип керамики очень плохого качества – так называема€ местна€ традици€ керамики викингской эпохи».18 ¬ ещЄ одном важном датском городе, Ћунде, слав€нска€ керамика составл€ет более 90% находок в наиболее древних и до 70% в поздних сло€х, а местна€ «викингска€» не встречаетс€ и вовсе. »сследователи, однако, св€зывают еЄ не с импортом из слав€нских земель, а предполагают изготовление еЄ в —коне по слав€нским образцам. ќчевидно, что навыки изготовлени€ качественной керамики слав€нского типа были занесены сюда слав€нскими поселенцами с юга Ѕалтики, так как именно в ћекленбурге встречаютс€ прототипы находимых в —коне форм. ¬ качестве такой слав€нской колонии в —коне можно назвать островное поселение в ћЄллехольмене, нар€ду соседним поселением ’ЄкЄн, €вл€ющимис€ пока что единственными, напр€мую св€зываемыми со слав€нскими колони€ми в —коне.
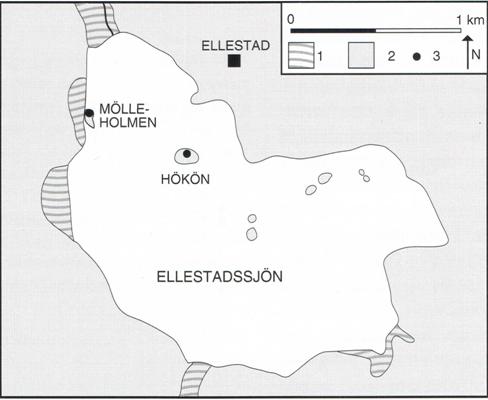
ќстровные слав€нские поселени€ ћЄлленхольмен и ’ЄкЄн на юге —коне (по R. Kelm, 2000).
¬ пользу этого свидетельствует не только само характерное дл€ слав€н южной Ѕалтики островное расположение поселени€, но и сам спектр находок. ¬с€ обнаруженна€ здесь керамика принадлежала к слав€нским типам: ¬ипперов (41,9%), “етеров (14,1%), ¬ардер (14,1%), Ѕобцин (15,9%), ћенкендорф (11%), √арц (2,6%) и ‘резендорф (0,4%).
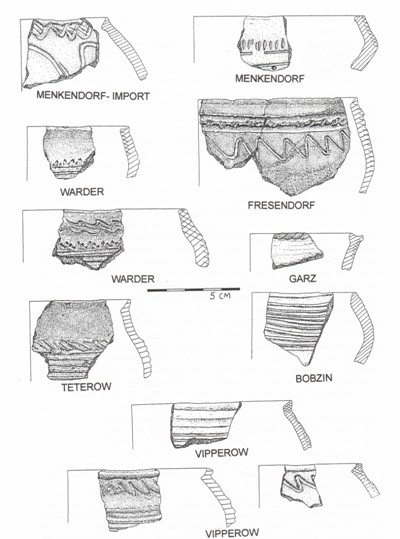
ерамика из ћЄлленхольмена (по V. Martens, 2001).
Ќепосредственный импорт археологи св€зывают лишь с одним слав€нским сосудом из ћЄллехольмена, отличавшимс€ отделкой и составом глины, дл€ других же предполагаетс€ местное изготовление. ќднако сосуды из ћЄлленхольмена в то же врем€ несколько отличаютс€ формой краЄв от прочих сконских имитаций слав€нской керамики и ближе к южнобалтийским прототипам, на основании чего принимаетс€, что первые слав€нские поселенцы привезли с родины слав€нские сосуды, по примеру которых и стали изготавливать керамику уже в —коне. ѕоселение в ћЄлленхофене датируетс€ 11 веком, приблизительно тем же периодом, когда слав€нска€ керамика доминировала в Ћунде. роме того, о св€зи жителей ћЄлленхольмена со слав€нами говор€т и другие находки из поселени€ – пр€жка ремн€ и саксонский пфенниг, какие были в то врем€ в повсеместном употреблении среди слав€н южной Ѕалтики.
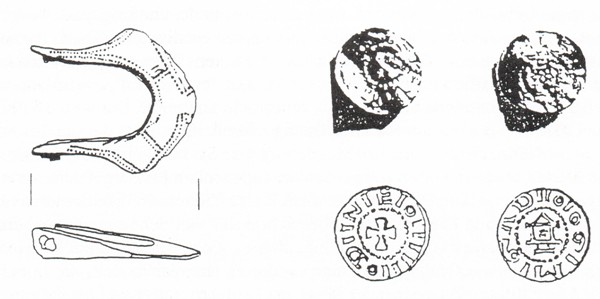
ѕр€жка ремн€ и саксонский пфенниг из ћЄлленхольмена (по V. Martens, 2001).
Ѕлижайшие параллели пр€жке ремн€ археологи наход€т в центральной ѕольше, однако, предполагают изготовление его в иевской –уси. ѕримечательно, что колонии балтийских слав€н в —кандинавии зачастую выказывают близкую св€зь этих колонистов с иевской –усью и, очевидно, указывают на то, что колонизаци€ —кандинавии осуществл€лась группами балтийских слав€н, поддерживавших активные св€зи с –усью и часто плававших в ¬осточную ≈вропу. ѕо аналоги€м типов керамики археолог –. ельм св€зывал основание поселений в ћЄлленхольмене и ’ЄкЄне со слав€нскими колонистами из северо-восточного ћекленбурга, усть€ ќдры: « омплекс ћЄлленхольмен-’ЄкЄн, имевший исключительное положение среди археологически известных одновременных с ними местных поселений по материалу находок и расположению на местности, по всей видимости, указывает на более или менее однородную часть слав€нского населени€. ѕереселение этой группы северо-западнослав€нских поселенцев, веро€тно происходивших из приграничного региона вильцев и помор€н в устье ќдры, можно датировать второй четвертью 11 века».19
роме указанных на приведЄнной выше карте мест, находки слав€нской керамики известны в —коне и в других местах, к примеру, в крепости “реллеборг.
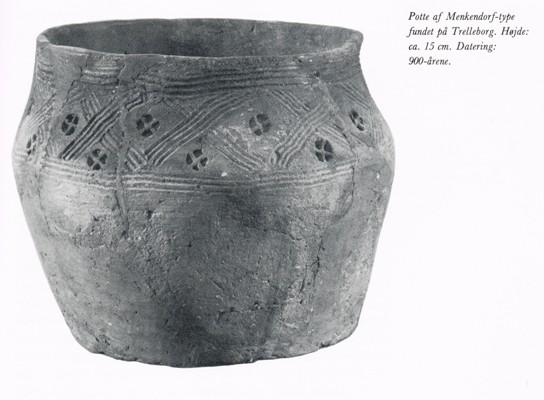
ерамика типа «ћенкендорф» из крепости “реллеборг (по N.-K. Liebgott, 1978).
Ѕорнхольм. Ќа острове Ѕорнхольм, расположенном к западу от –югена, слав€нска€ колонизаци€ имела ещЄ более впечатл€ющие размахи, чем на —коне. ќна прослеживаетс€ тут по полному набору археологических находок: керамике, височным кольцам, слав€нским оковкам ножен и др., соотносимых со слав€нской культурой вещами, чему в 2008 году датский археолог ћагдалена Ќаум посв€тила целую книгу «—лав€нска€ миграци€ и заселение на острове Ѕорнхольм в раннем средневековье», вышедшую отдельным томом лундской серии археологических исследований, и ставшую одной из немногих, где о слав€нской колонизации датских островов говоритьс€ уверено и напр€мую.
јнализиру€ многочисленный материал из поселений и погребений, исследовательница приходит к выводу: «—лав€нска€ миграци€ на Ѕорнхольм могла носить как спланированный, так и принудительный характер…Ќекоторые переселенцы могли быть св€заны с прав€щим классом, быть купцами или воинами, другие же были имевшими определЄнные навыки в ремесле кресть€нами, мужчинами и женщинами. Ќекоторые из них могли уже иметь представление об острове на острове, на основании того, что они слышали и видели. ƒл€ других же, особенно дл€ тех, переселение которых имело принудительный характер, это переселение могло стать печальным опытом переездом от семьи и родного дома в незнакомые кра€».20
ќднако если о причинах и обсто€тельствах слав€нского заселени€ Ѕорнхольма, ввиду отсутстви€ письменных свидетельств того времени, могут быть лишь крайне предположительные выводы, одно остаЄтс€ €сным – колонизаци€ эта носила весьма широкие масштабы. Ќаходки керамики исчисл€ютс€ многими сотн€ми экземпл€ров, оковок ножей и височных колец – многими дес€тками.

ћеста находок «балтийской» керамики на Ѕорнхольме (по M. Naum, 2008).
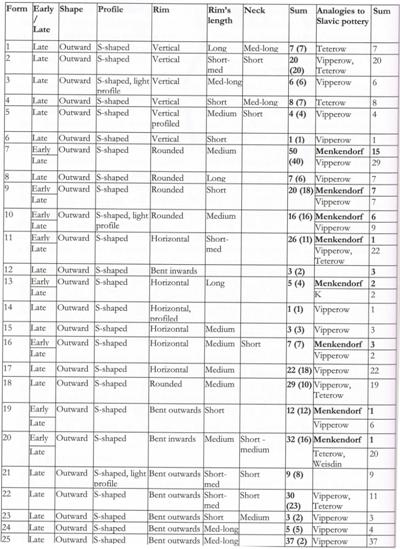
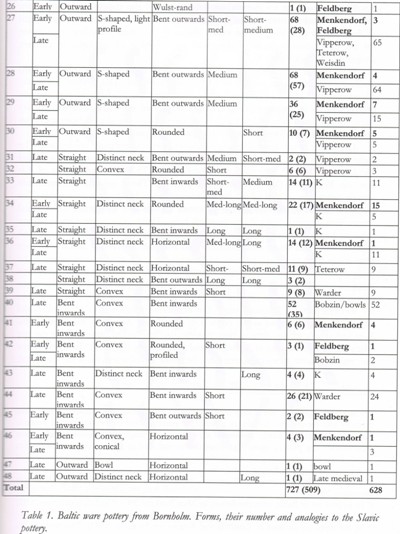
ƒанные по находкам «балтийской керамики» на Ѕорнхольме, слав€нские прототипы этой керамики и общее число находок – 628 (по M. Naum, 2008).
ѕо спектру распространени€ слав€нских типов керамики Ѕорнхольм более всего походит на западнослав€нские города и поселени€ «ападного ѕоморь€, региона усть€ ќдры. ѕотому, как и дл€ —коне эту область можно предположить как веро€тную прародину колонизировавших Ѕорнхольм слав€н.
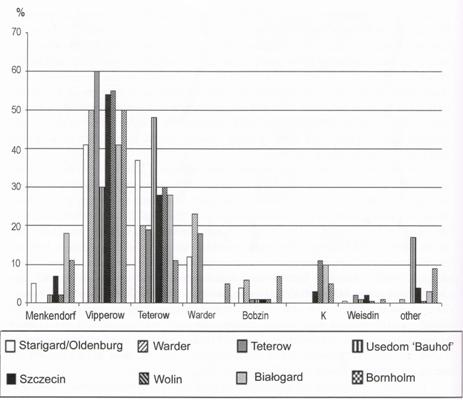
ƒоли керамики разных слав€нских типов в южнобалтийских городах и Ѕорнхольме (по M. Naum, 2008).

арта мест находок височных колец на Ѕорнхольме (по M. Naum, 2008).
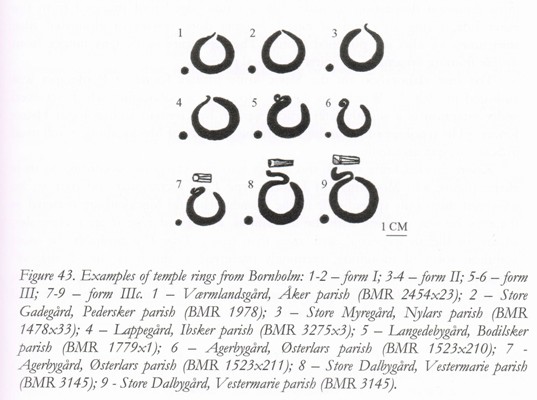
Ќекоторые из найденных на Ѕорнхольме западнослав€нских височных колец с указанием мест находки (по M. Naum, 2008).
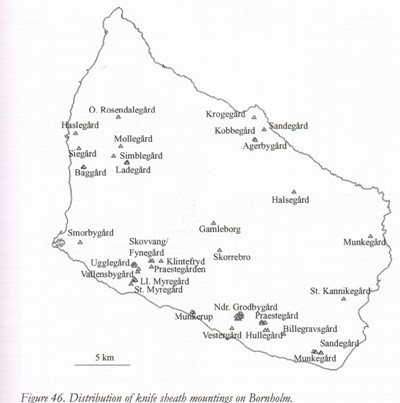
ћеста находок оковок ножен слав€нского типа на Ѕорнхольме (по M. Naum, 2008).
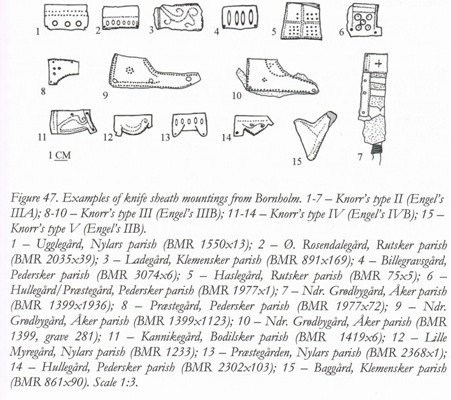
Ќекоторые из типов оковок ножен с Ѕорнхольма (по M. Naum, 2008).
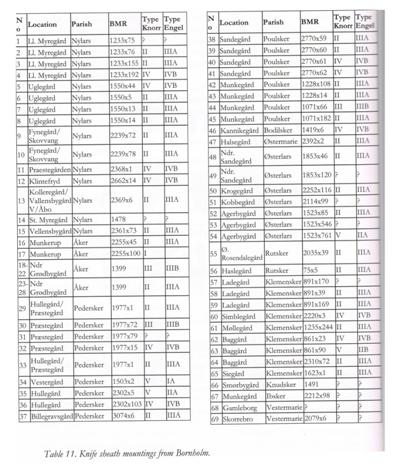
“ипы слав€нских оковок ножен, места их находок на Ѕорнхольме и общее их число – 69
(по M. Naum, 2008).
Ќередки здесь и слав€нские погребени€, представленные трупоположени€ми со слав€нским инвентарЄм. ак замечает ћ. Ќаум: «»сследовани€ ритуалов или, вернее, материальных остатков ритуалов, дают представление о двух пересекающихс€ процессах, в разной степени оказывавших вли€ние на социальную, политическую и культурную среду раннесредневекового Ѕорнхольма. ќдним из них была слав€нска€ миграци€ или группы слав€н, посел€вшихс€ на острове, другой было укрепление св€зей и контроль острова ƒатским королевством, осуществл€вшихс€ посредством христианизации, нового административного делени€ и изменени€ структур власти».21
Ќаличие богатого инвентар€ в уже, по всей видимости, христианских погребени€х в гробах, во множестве найденных на Ѕорнхольме, не имеют аналогов в местных скандинавских традици€х, но широко известны у слав€н юга Ѕалтики, из-за чего погребени€ эти и св€зывают со слав€нами. “акие погребени€ известны из нескольких борнхольмских кладбищ и представлены там в большом числе (более 62%). —ам инвентарь также слав€нского происхождени€ или традиции – уже упом€нутые выше оковки ножей, височные кольца и «балтийска€ керамика».
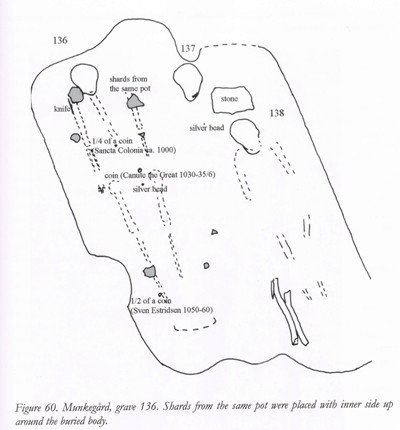
«ахоронени€ с нетипично богатым инвентарЄм в ћункегард, Ѕорнхольм (по M. Naum, 2008).
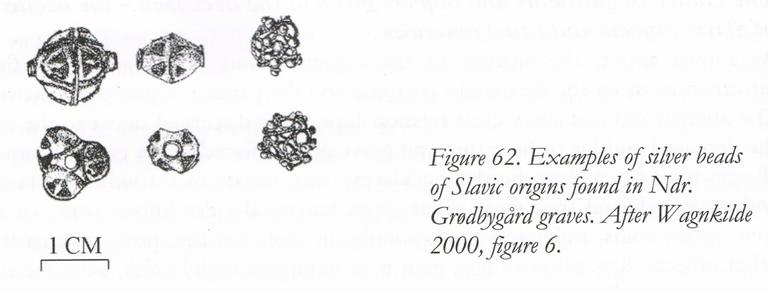
—лав€нские бусины из захоронений в √рЄдбигард, Ѕорнхольм (по M. Naum, 2008).
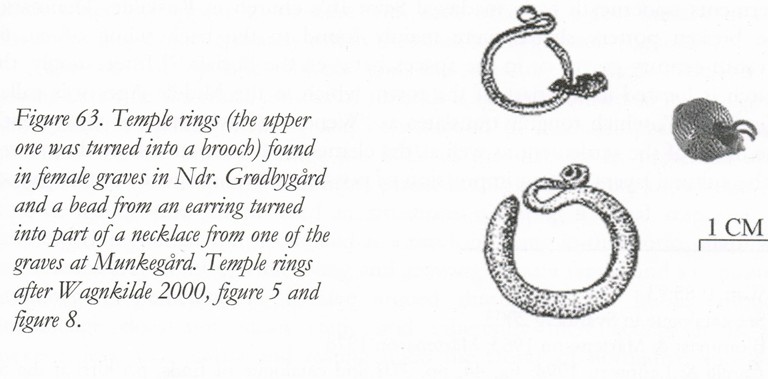
¬исочные кольца и бусины из захоронений в √рЄдбигард, Ѕорнхольм (по M. Naum, 2008).
ќднако слав€нска€ и даже «вендска€» топонимика здесь неизвестна, чему, по всей видимости, ещЄ предстоит найти объ€снение. ћожно отметить и большое число находок кладов на Ѕорнхольме, многие из которых были оставлены в слав€нских горшках.
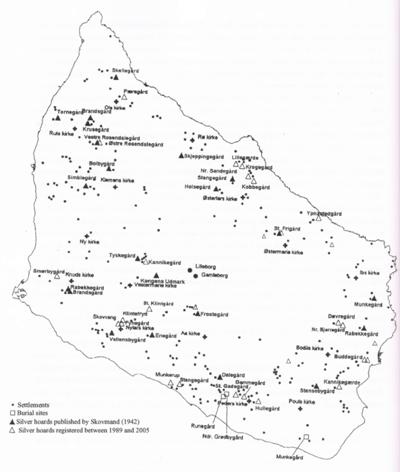
арта находок кладов и захоронений на Ѕорнхольме (по M. Naum, 2008).
ѕомимо того, что многие борнхольмские клады оставлены в посуде слав€нского типа, нередки и находки в них слав€нских украшений.

—лав€нские украшени€ из найденного на Ѕорнхольме клада (по M. Naum, 2008).
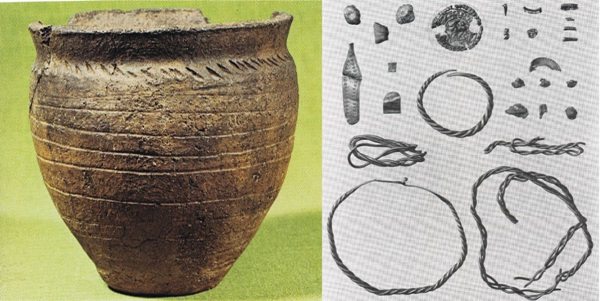
лад 11 века в «балтийской керамике» с острова Ѕорнхольм (по N.-K. Liebgott, 1978).
ќстров расположен практически в центре мор€ между —кандинавией и ѕоморьем и лежал как раз посередине морского торгового пути из южной Ѕалтики в иевскую –усь. Ѕольша€ концентраци€ кладов, как и следы слав€нских переселенцев, сконцентрированы в одних и тех же местах, что позвол€ет предположить св€зь между слав€нскими поселенцами острова и торговлей. ¬озможно, слав€нска€ колонизаци€ Ѕорнхольма была св€зана с обеспечением остановок купцов в их пути на восток и с востока или же напротив с пиратскими нападени€ми на проплывавших по этому торговому пути купцов. “ак или иначе, можно предположить заинтересованность слав€н в контроле на Ѕорнхольмом именно дл€ контрол€ торговых путем между южной Ѕалтикой, –усью и —кандинавией. Ќаиболее активным торговым регионом, с наибольшей концентрацией торговых центров, импорта и кладов в балтийскослав€нских земл€х было устье ќдры, так что сходство спектра борнхольмской керамики с типами керамики этого региона выгл€дит вполне естественным. — другой стороны, многое говорит, что посредниками в торговле и контроле этого участка южной Ѕалтики до 12 века были не сами помор€не, а рюгенские слав€не.
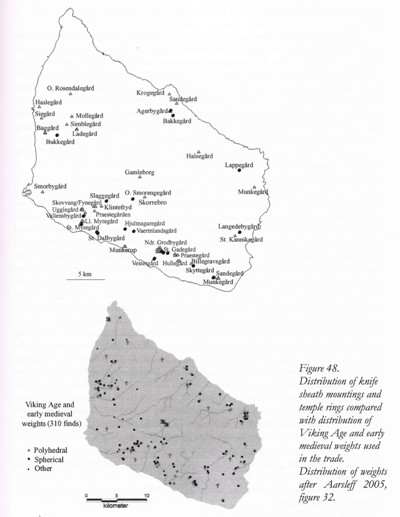
арты находок слав€нских оковок ножен и височных колец (сверху) и гирек, указывающих на торговлю (внизу) на острове Ѕорнхольм (по M. Naum, 2008).
“ака€ же ситуаци€ наблюдаетс€ и на другом, расположенном в центре Ѕалтики острове √отланд, бывшем пристанищем пиратов, где также известна ещЄ больша€ концентраци€ кладов и слав€нские находки. » то и другое отчЄтливо показывает активность балтийских слав€н в торговле с восточной ≈вропой и их далеко не подчинЄнную, а напротив, самую активную роль и контроль над участками и остановками на этом торговом пути.
сожалению, письменные источники также не запечатлели этого важного дл€ понимани€ истории региона эпизода слав€но-скандинавских отношений. »з св€зей острова с балтийскими слав€нами можно привести лишь очень поздний поход рюгенского кн€з€ яромара II на Ѕорнхольм в 1259 году по просьбе лундского епископа, и разрушени€ им там крепости корол€ ристофа Ћиллеборг.
Ўвеци€. —лав€нское присутствие на этих земл€х будет рассмотрено менее подробно, но вовсе не потому, что там его не было, а лишь потому, что материала по этому вопросу у мен€ на данный момент пока меньше, к тому же целью статьи ставилс€ не полный анализ слав€нских следов, а лишь ознакомительный обзор. роме слав€нских находок в юго-западной части современной Ўвеции, на которые уже было указано в разделе об области —коне, можно отметить и слав€нское присутствие в Ѕирке. јдам Ѕременский упоминает присутствие слав€н в этом шведском торговом центре в 11 веке, сообща€, что
…∆ители Ѕирки часто подвергаютс€ нападени€м пиратов, которых там великое множество… ¬ это место, поскольку оно €вл€етс€ наиболее безопасным в приморских районах Ўвеции, имеют обыкновение регул€рно съезжатьс€ по различным торговым надобност€м все суда данов или норманнов, а также слав€н и самбов; бывают там и другие народы —кифии.
јрхеологи€ вполне это подтверждает, кроме приведЄнных выше карт с находками многочисленных слав€нских вещей в Ѕирке, можно привести сообщение немецкого археолога …. ’еррманна о присутствии в Ѕирке курганов слав€нского рюгенского типа.22
—лав€нска€ керамика в обилии известна как в Ўвеции, так и немного реже – в Ќорвегии.
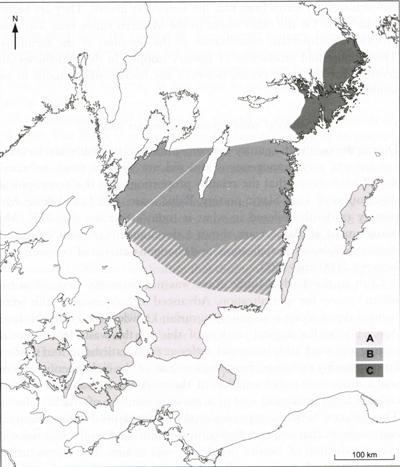
–аспространение «балтийской керамики» в —кандинавии.
Ќаходки «балтийской керамики» известны в незначительных количествах и из других мест —кандинавии. Ѕуквами ј, ¬, — отмечены региональные особенности. ј) ¬ восточной ƒании и на острове √отланд традици€ местной скандинавской керамики позднего железного века прекратилась с переходом на «балтийскую керамику» в первой половине 11 века. ¬) ¬ северном ’алланде, —моланде, ¬естергЄтланде и ЁстергЄтланде местна€ гончарна€ традици€ продолжалась и после по€влени€ «балтийской керамики». —) ¬ восточной части долины ћеларен «балтийска€ керамика» занимала центральное положение, в то врем€ как значительна€ часть местной керамики позднего железного века продолжала здесь изготавливатьс€ (по M. Roslund, 2007).
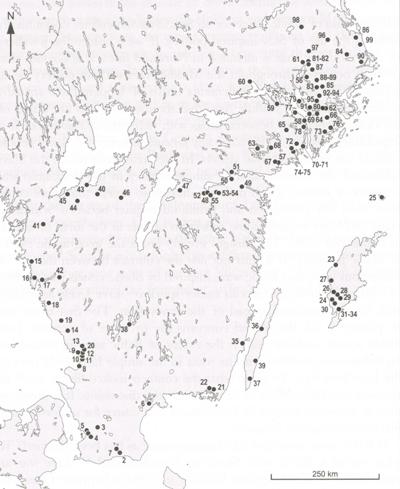
ћеста находок «балтийской керамики» в Ўвеции (по M. Roslund, 2007).
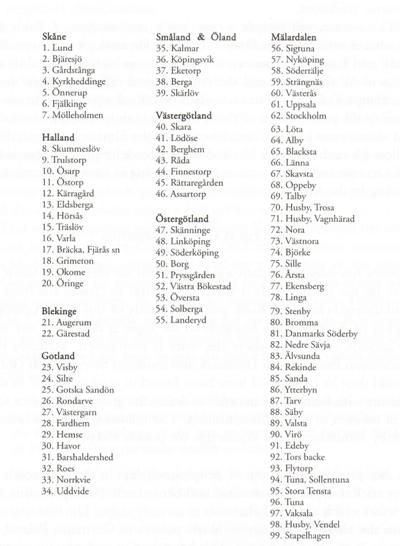
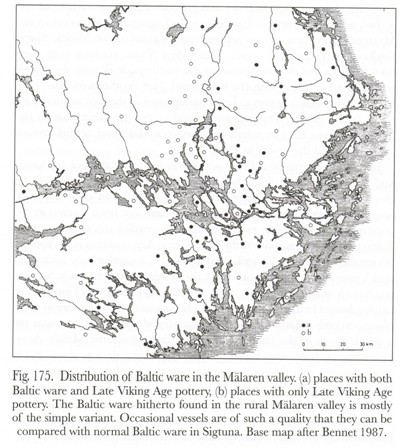
Ќаходки «балтийской керамики» в долине ћеларен в Ўвеции: а) места находок «балтийской керамики» вместе с местной керамикой позднего железного века; b) места находок исключительно местной керамики позднего железного века (по M. Roslund, 2007).
роме «балтийской» керамики в Ўвеции нередки и находки керамики из иевской –уси, по аналогам из северо-западных областей которых в Ўвеции со временем начали изготавливать дубликаты. ѕоздний рубеж датировки балтийско-слав€нской керамики обычно принимаетс€ концом 12 века, хот€ в некоторых област€х ћекленбурга и на острове –юген еЄ изготавливали ещЄ и в 13 веке. Ќаходки керамики из иевской –уси датируют периодом 1000-1300 гг.
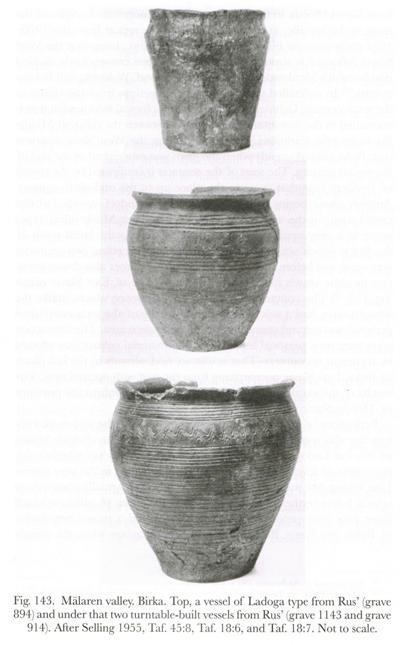
—лав€нска€ керамика ладожского типа из долины ћеларен и Ѕирки (по M. Roslund, 2007).
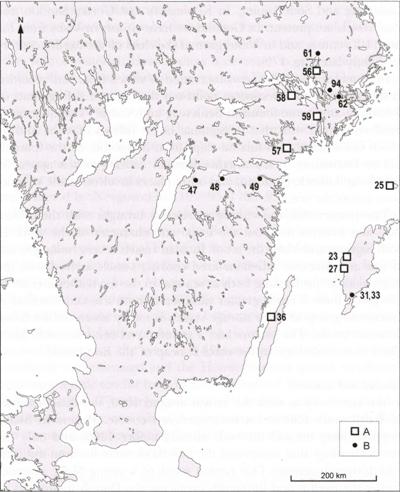
Ќаходки керамики из иевской –уси в Ўвеции. a) надЄжные находки; b) ненадЄжные находки
(по M. Roslund, 2007).
в активности слав€н и скандинавов на Ѕалтике и их интерпретаций
—лав€нское присутствие на датских островах впечатл€ет. »з приведЄнной выше информации может сложитьс€ впечатление, что многие из этих островов, в первую очередь, Ћолланд, ‘альстер, ћЄн и Ѕорнхольм, и вовсе были слав€нскими, а другие, такие как «ееланд, Ћолланд или юг области —коне – населены слав€нами и скандинавами черезполосно. » тут перед исследователем встаЄт вопрос, насколько правомерно был бы такой вывод. ажетс€, все «юридические» основани€ дл€ такого мнени€ имеютс€, но ведь мы не в суде, где всЄ решает точность формулировок, а всего лишь хотим вы€снить, как было на самом деле. ћожно ли на основании этого переписывать историю и мен€ть карты, ранее изображавшие эти области, как чисто датские? „тобы ответить на этот вопрос, нужно сначала определитьс€, насколько вообще археологи€, при отсутствии письменных источников, может решать подобные проблемы.
«атрагива€ тему слав€нского присутстви€ в —кандинавии, прежде всего, стоит рассмотреть так называемые «надЄжные указатели на этническую принадлежность», общеприн€тые в археологии. “акими «этническими маркерами», находка которых приравниваетс€ к доказательству присутстви€ этноса в данном месте, а не просто вещи, изготовленной в другой стране, традиционно принимаютс€ детали костюма: женские украшени€, металлические детали ремней, оковки ножен, а также религиозные символы и погребальный обр€д.
—читаетс€, что люди в те времена придерживались крайне консервативных взгл€дов на костюм, так что надеть скандинавский нар€д слав€нке бы не подобало, как и слав€нский – скандинавке. — другой стороны, принимаетс€, что женщины не были в раннем средневековье среди торговцев или воинов, поэтому детали женского костюма, находимые в чужих земл€х, указывают на проживание здесь чужеземцев семь€ми, то есть, на их колонии. ќднако такой подход не учитывает другое широко распространЄнное и хорошо подтвержденное источниками €вление того времени – работорговл€, увод женщин и мужчин во врем€ набегов, а также и мирных межнациональных браков. ¬ результате того и другого, можно предполагать, что люди оказывались в чужих земл€х в своих «национальных костюмах» и посел€лись в семь€х или поселени€х так, что археологи€ не смогла бы отличить их от «колонистов». роме того, красивые ювелирные украшени€, особенно из драгоценного металла, совершенно независимо от происхождени€ их «стил€», всегда были предметом торга и военной добычи, о чЄм недвусмысленно говор€т находки многочисленных слав€нских украшений в скандинавских кладах и торговых центрах, а скандинавских фибул, в свою очередь – в слав€нских торговых центрах и кладах.
ѕисьменные источники совершенно однозначно подтверждают, что импортные, редкие и «диковинные» вещи были очень желанным и хорошо продаваемым товаром в раннем средневековье, точно так же как и сейчас. ƒостаточно вспомнить слова јдама Ѕременского, о богатом слав€нском торговом городе ёмна, который был «богат товарами всех северных народов, нет ни одной диковинки, которой там не было бы». ому же продавали свои «диковинки» северные народы, если принимаетс€, что один этнос в силу своей консервативности не мог поддаватьс€ вли€нию чужеземной моды? “ака€ же ситуаци€ были и в обратном направлении, к примеру, в «—аге о Ќь€льсе» сообщаетс€ о том, как король √аральд одарил √уннара королевским облачением, в числе которого была «русска€ шапка».
«–усска€ шапка», таким образом, не только могла носитьс€ скандинавами, но, более того, носить такую шапку считалось за великую честь – она была символом королевской власти! ќднако дл€ археолога находка «русской шапки» в —кандинавии должна была бы указывать на пр€мое присутствие в этом месте русского, как и находка скандинавской «диковинной вещи» в слав€нских земл€х – на скандинава. —овершенно очевидно, что подобные «негласные договорЄнности» о «надЄжных этнических маркерах» в археологии на самом деле могут не иметь с реальной историей вообще ничего общего.
—мыслом дальней торговли был привоз импорта из дальних стран – этот факт настолько очевиден, что странным кажетс€ даже обращение внимани€ на этот вопрос. —прос на импорт, в свою очередь, говорит о востребованности чужеземных «диковинных» вещей среди населени€, способного эти вещи себе позволить. —ама дальн€€ торговл€ в то же врем€ подразумевала нахождение общин иностранных купцов в торговых центрах – пон€тно, что совершившие порой многодневные, а то и многонедельные плавани€ купцы не отправл€лись восво€си в тот же день, а некоторые из них могли и оставатьс€ на «зимовку», когда плавани€ становились невозможными в силу погодных условий, или же оставл€ть своих людей в торговых центрах дл€ посто€нного проживани€, сбыта товара, ухода за складами и пр. ѕотому находки чужеземных вещей, особенно в торговых центрах, могут указывать в равной степени как на присутствие здесь чужеземцев, так и просто на проникновение в такие места чужеземной моды. ƒостоверно определить эту тонкую границу на основании одного археологического материала невозможно.
ѕроблема же раннесредневековой истории —еверной ≈вропы заключаетс€ в отсутствии письменных упоминаний порой о целых веках до прин€ти€ христианства, так что истори€ народа начинает писатьс€ археологами. “ака€ ситуаци€, к примеру, сложилась после ¬торой мировой войны в восточной √ермании, где бурное развитие археологии привело к тому, что абсолютное большинство того, что написано о балтийских слав€нах, написано археологами и представл€ет порой более «историю вещей», чем историю народов.
Ќельз€ не упом€нуть и о разнице в интерпретации находок в —кандинавии и на юге Ѕалтики. Ќесмотр€ на огромный археологический и немалый лингвистический материал, скандинавские исследователи далеко не спешат засел€ть —кандинавию слав€нами или вести речь о значительном слав€нском вли€нии на историю —кандинавии. —лав€нские женские украшени€ из скандинавских кладов – те самые, что принимаютс€ как «надЄжный определитель этноса», к примеру, считают просто импортом. ерамику, столь €вно восход€щую к слав€нским традици€м и в огромных количествах находимую по всей —кандинавии, «политкорректно» называют не слав€нской, а «балтийской».
ак замечал в 2001 году шведский археолог ¬андруп ћартенс: «—реди археологических находок в —коне св€зи между слав€нами и данами наиболее выразительно представл€ютс€ в неверо€тных массах керамики, называемой «балтийской керамикой». Ёта группа находок, спектр типов которой базируетс€ на позднеслав€нской традиции южной Ѕалтики. Ётот тип керамики в —кандинавии называли также «слав€нским», «славоидным» или «позднеслав€нским» – этническими наименовани€ми, подчЄркивающими тесную св€зь с южной Ѕалтикой. ¬ системе классификации ƒагмар —еллинг, примен€ющейс€ в Ўвеции с 1955 по сегодн€шний день, эту керамику называют нейтральным названием «керамика AII». “ермин «балтийска€ керамика» был впервые введЄн в оборот в 1959 году ¬ольфгангом ’юбнером, по результатам его исследований в ’аитабу. “ак как термин «балтийска€ керамика» не св€зан с этносами, а более подчЄркивает область распространени€, мы отдаЄм ему предпочтение. ћенее подход€т термины «вендска€ керамика», также как и примен€емые Ёвальдом Ўульдтом и “орстеном емпке наименовани€ типов керамики по местам находок в слав€нских земл€х».23
¬ последнем предложении речь идЄт о примен€емых в немецкой литературе терминах «менкендорфска€», «фрезендорфска€», «фельдбергска€», «тетеровска€» керамика и др. “аким образом, археологи из скандинавских стран напр€мую за€вл€ют о невозможности пр€мой св€зи «слав€нской» керамики в —кандинавии со слав€нами, так как в большинстве случаев она изготавливалась на месте по слав€нским прототипам и была, таким образом, местной традицией.
“о же самое можно сказать и о «религиозных символах». ¬ыше была приведена карта с находками «православных» символов – керамических €иц-писанок и крестов «византийской» формы – на основании которых √отланд вполне можно было бы признать «православным». ƒумаю, не надо объ€сн€ть, что такого не случилось. “о же можно заметить и о находке «русского» креста в Ћунде, где археолог не только не счЄл этот религиозный символ однозначным указанием на присутствие русских, но и предположил о том, что крест был изготовлен местными германскими ремесленниками.
—овершенно ина€ ситуаци€ на юге Ѕалтики, где в любом скандинавском украшении и осколке керамики вид€т скандинавское присутствие, а в скоплении этих вещей в количестве одного-двух дес€тков в торговом центре речь ведЄтс€ уже о «значительной доле скандинавского населени€» или скандинавской колонии, в то врем€ когда находки многих сотен таких же вещей в —кандинавии ещЄ никому ни о чЄм не говор€т. ѕриведЄм лишь несколько примеров.
¬ раскопанном в 1960-1970-х годах торгово-ремесленном центре возле деревни ћенцлин на реке ѕене, недалеко от впадени€ еЄ в Ѕалтийское море, помимо прочего, было найдено несколько трапецевидных подвесок и одна подвеска в форме секиры, о которых немецкий археолог ”. Ўокнехт в своей монографии о раскопках в ћенцлине писал следуещее: «¬о врем€ раскопок [в ћенцлине] на поверхности были сделаны многочисленные находки, указывающие на культ “ора. » хот€ среди найденного материала не было типичных широко распространЄнных молоточков “ора в своей простейшей форме или украшенных обильным филигранным или зернистым орнаментом, находки эти всЄ же, несомненно, принадлежат к описанной выше группе».24
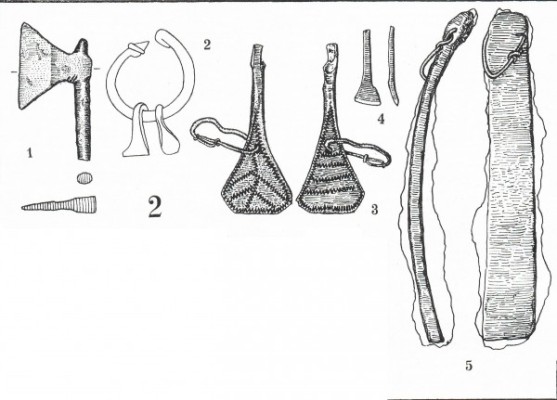
¬ещи из ћенцлина, выдаваемые за «молоточки “ора» и «несомненное указание на культ “ора».
» где же здесь молоточки, может задатьс€ вопросом читатель? ќднако дл€ этого было готово объ€снение, к примеру, дл€ находки под номером 2 на приведЄнной выше иллюстрации: «¬ 1938 году на поверхности было найдено маленькое железное кольцо с двум€ подвесками (каталог находок 2, номер 2, илл. 22). ¬ этой вещи можно признать насто€щее кольцо дл€ молоточков “ора. ¬ университетской коллекции √райфсвальда это кольцо, воспроизведЄнное …. ∆аком (J. Žak, 1963, илл. 18, 2), найти не удалось. Ќо всЄ же, имеетс€ одно маленькое железное кольцо, которое с большой долей веро€тности можно интерпретировать как кольцо дл€ молоточков “ора (каталог находок 32, номер 8, илл. 35). ќднако подвески на нЄм отсутствуют, так что кольцо приводитс€ вместе с другими железными кольцами».25
ƒругими словами, в университетском архиве города √райфсвальд имеетс€ некое, найденное в ћенцлине, железное кольцо без подвесок, дл€ которого археолог предполагает, что на нЄм когда-то могли быть подвески. ѕодвески эти, в свою очередь, по его предположению, могли быть молоточками “ора. »з всего этого скоплени€ ничем не подтверждЄнных допущений делаетс€ вывод: «кольцо с большой долей веро€тности можно интерпретировать, как кольцо дл€ молоточков “ора». „ита€ такое, невольно задумываешьс€ – а стоило ли вообще что-то копать с таким подходом? ¬едь найденный материал всЄ равно совершенно не сходитс€ не только с выводами, но даже и описани€ми! ажетс€, «о культе “ора в ћенцлине» уважаемый учЄный смог бы написать обширный трактат и вовсе без каких-либо находок.
Ќе менее ловко обошЄлс€ исследователь и с подвеской в виде секиры. –азумеетс€, указывала на культ “ора ему и она. » вот каким образом: €зыческий культ “ора у скандинавов сменилс€ культом —в. ќлафа. ¬ одной из скандинавских церквей известно изображение —в. ќлафа с секирой. ќтсюда «логично», что если —в. ќлаф – христианска€ «трансформаци€» культа “ора, то и секира – така€ же трансформаци€ молота “ора. «агвоздка лишь в том, что жил —в. ќлаф в 11 веке, а вещи, найденные в ћенцлине, принадлежат к 8-9 вв. ѕоэтому, благоразумно рассудив, исследователь пришЄл к выводу, что с секирой —в. ќлафа, менцлинска€ секира, всЄ же не св€зана. ¬ывод из этого он, правда, делает весьма оригинальный: «поэтому кольцо дл€ молоточков “ора, как и миниатюрный топорик стоит отнести непосредственно культу “ора». ƒействительно, кака€ разница, что у “ора не было секиры, а —в. ќлаф жил на 2 века позже – ведь, очевидно, что речь в случае всех этих вещей идЄт о культе “ора?! » в случае секиры, и в случае пустого кольца, и в случае просто куска гнутой проволоки. «абавно, что при всЄм этом сам же автор отмечал: «ћиниатюрные подвески в виде оружи€ или инструментов известны нам ещЄ со времЄн, предшествующих эпохе викингов. “ак, на одно большое ожерелье из первого клада в Szilagysomlyo в ¬енгрии одеты ножи, серпы, щипцы, ключи, молоты и другие разнообразные подвески, одетые всегда парно на одно кольцо. ќжерелье датировано 4-5 вв.». ќднако в заключении своего исследовани€ «культа “ора в ћенцлине» это не помешало ему давать следующие советы дл€ интерпретации находимых подвесок в виде оружи€: «“опоровидные украшени€-подвески известны в форме €нтарных топориков ещЄ с неолита. Ѕронзовые же железные молоточки “ора все принадлежат эпохе викингов. —мысл символов этих находок видитс€ в том, что копь€, мечи и лошадки могут быть лучше всего отнесены ќдину (B. Arrhenius, 1961, S.161 f.). —ерпы св€заны с культом плодороди€, в то врем€ как топоры были посв€щены “ору и впоследствии —в. ќлафу».
ѕодвески в виде молота и топора нужно трактовать как культ “ора, копь€, мечи и кони – как культ ќдина. ¬озможность нескандинавской интерпретации подобных находок не рассматриваетс€ в принципе – если конь, то ќдина, если топор, то “ора, или, на худой конец, ќлафа. —лав€нам и их символам на их же земле места решительно не остаЄтс€. Ёпоха викингов! “аким термином в немецко€зычной научной литературе прин€то обозначать раннее средневековье. Ќо в гораздо лучшей степени, чем реальные событи€ на Ѕалтике, этим термином можно обозначить то, что творитьс€ в головах у современных медиевистов. ћысль о том, что подвески в виде оружи€ могли означать, прежде всего, оружие и быть воинскими оберегами безо вс€ких “оров и ќдинов, попросту не приходит в голову. ѕритом, что и с самим-то «молотом “ора» дело обстоит «туманно». јдам Ѕременский, к примеру, описывал “ора со скипетром:
¬одана же шведы представл€ют вооружЄнным, как у нас обычно ћарса. ј “ор со своим скипетром напоминает ёпитера.
—трого говор€, никто не может поручитьс€, что те вещи, в которых подозреваетс€ «символика “ора», именно ею и были. ћолот, топор или секира были характерным атрибутом Ѕога-√ромовника в большинстве индоевропейских мифологий, а далеко не у одних только скандинавов, как это пытаютс€ представить некоторые. ћолот и секира были универсальными €зыческими символами, представление о которых было присуще слав€нам не менее, чем скандинавам. Ќе только нет никаких оснований полагать, что, к примеру, слав€не не могли ассоциировать такие же символы в рамках своих религиозных представлений со слав€нскими €зыческими богами, более того – есть пр€мые указани€ на то, что «молоты “ора» изготавливались в слав€нских земл€х – как в Ћадоге, где найдены формы дл€ отливки, так и в поморском ¬олине, где €нтарные молоточки “ора были среди находок в мастерских по обработке €нтар€. Ќо в то врем€ как скандинавским исследовател€м доказанности местной традиции производства «слав€нских» вещей или просто подозрение на таковую вполне достаточно, чтобы не просто перестать св€зывать керамику со слав€нами напр€мую, но даже и изменить термины на нейтральные, на юге Ѕалтики ничего подобного не случаетс€. ћестное производство «молотов “ора» в слав€нских земл€х здесь «ещЄ никому ни о чЄм не говорит».
Ќастолько подробно € остановилс€ на придуманных немецких археологом «молоточках “ора» из ћенцлина на самом деле не дл€ того, чтобы показать несосто€тельность этого учЄного, а дл€ того, чтобы показать насколько такие ни на чЄм не основанные фантазии мешают изучению реальной истории балтийских слав€н. ¬ своей монографии о ћенцлине ”. Ўокнехт попыталс€ представить найденное за «однозначные указани€ на скандинавов», проживавших там вместе со слав€нами чуть ли не в равных дол€х. Ќа основании этой его работы весьма авторитетный русский археолог ¬.¬. —едов пошЄл ещЄ дальше и писал уже о «метисации» слав€н и скандинавов в ћенцлине: «ќдним из ранних курганных могильников €вл€етс€ ћенцлинский — некрополь крупного торгового поселени€ VIII-IX вв. в ћенцлине на р. ѕеене. –аскопки его показали, что нар€ду со слав€нами здесь проживали переселенцы из —кандинавии, а торговые контакты осуществл€лись со многими област€ми Ѕалтики, в том числе с ‘рисландией. ¬ курганах ћенцлинского могильника отчетливо про€вл€етс€ скандинавский этнический показатель — умерших хоронили в сложенных из камней ладьевидных могилах под курганными насып€ми. —кандинавские элементы обнаруживаютс€ и в вещевых находках р€да погребений. урганна€ обр€дность очень скоро была восприн€та местными слав€нами, которые стали хоронить умерших в курганах, но, в отличие от скандинавов, по обр€ду трупосожжени€. ¬месте с тем следует отметить, что этническа€ атрибуци€ большинства трупосожжений не поддаетс€ определению, поскольку в ћенцлине имела место метисаци€ населени€ — во многих курганах про€вл€етс€ переплетение слав€нских и скандинавских элементов».26
“ак на пустом месте возникают мифы. — этнической интерпретацией керамики истори€ на юге и севере Ѕалтики истори€ ещЄ более удручающа€. ¬ 1990-95 годах был раскопан другой значительный торговый центр балтийских слав€н возле деревни √росс ЎтрЄмкендорф, дл€ которого большинством современных археологов принимаетс€ его тождественность с исторически известным ободритским эмпорием –ерик. ¬ поселении и принадлежащем к нему некрополе было найдено более 62 000 фрагментов керамики, более 90% которой относилось к слав€нским типам, а остальна€ была представлена импортом из франкских, фризских и скандинавских земель.
ерамика из √росс ЎтрЄмкендорфа была отправлена дл€ исследовани€ в шведский Ћунд. » вот, что сообщает в монографии по итогам исследовани€ этой керамики “. Ѕрорссон в своей монографии: «—кандинавское вли€ние на поселение у √росс ЎтрЄмкендорфа указывает на то, что межрегиональна€ торговл€ или же набеги начались уже за 70 лет до нападени€ на Ћиндесфарн. ¬ некрополе √росс ЎтрЄмкендорфа известны, помимо прочих, также погребени€ торговцев. » керамика и погребальный обр€д указывают на то, что в этом могильнике были захоронены представители различных регионов северной ≈вропы. Ќельз€ исключать и возможность использовани€ некропол€, как такового, жител€ми близлежайшего слав€нского поселени€ (выделено мною – ј.ѕ.)».27
ј теперь посмотрим, на чЄм основаны такие громкие выводы о сильном скандинавском вли€нии и в такой степени скандинавской принадлежности могильника, что рассматриваетс€ лишь возможность того, что на нЄм могли хоронить своих людей и местные слав€не. Ќиже € приведу таблицы “. Ѕрорссона со списком реконструированных сосудов из √росс ЎтрЄмкендорфа, где дл€ нагл€дности € подчеркнул скандинавскую керамику.
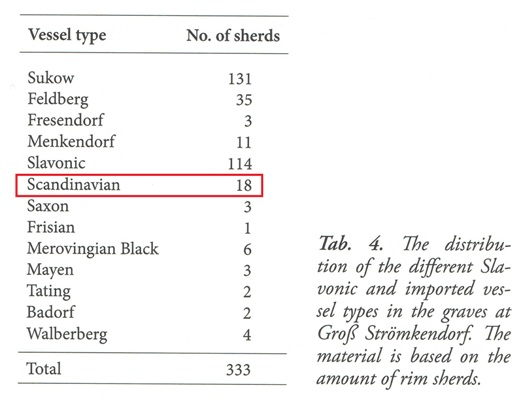
—лав€нска€ и импортна€ керамика из могильника в √росс ЎтрЄмкендорфе (по T. Brorsson, 2011).
ћетодом нехитрых подсчЄтов можно определить, что дол€ скандинавской керамики в могильнике составл€ла около 5%, слав€нской же – около 88%. ≈сли керамика «указывает на национальность», на чЄм настаивает “. Ѕрорссон, то придЄтс€ признать, что слав€н в могильнике должно было быть абсолютное большинство. ¬сего дол€ скандинавской керамики, найденной в торговом центре, составила, по подсчЄтам “. Ѕрорссона, около 2,2%.
«—кандинавский погребальный обр€д», по которому доказывают скандинавское происхождение покойников уже немецкие археологи, вещь также не менее туманна€. –ечь идЄт о захоронени€х в ладье – такой обр€д в силу р€да причин считаетс€ исключительно скандинавским, несмотр€ на дес€тки находок таких погребений в земл€х балтийских слав€н. ¬сего из 252 обнаруженных в √росс ЎтрЄмкендорфе погребений, лодочных захоронений было найдено 6, что в процентном отношении составл€ет около 2%. ƒаже оставив в стороне спорность «скандинавской» интерпретации лодочных захоронений, при всЄм желании скандинавов в √росс ЎтрЄмкендорфе можно насчитать 2-5%. Ќасколько сход€тс€ такие цифры с громкими за€влени€ми, о том, что в могильнике были захоронены «торговцы разных регионов северной ≈вропы», но «нельз€ исключать» и слав€н – предлагаю решить каждому самому.
’уже всего то, что такие фантазии могут быть прин€ты исследовател€ми других стран за чистую монету и на основании этого будут делатьс€ выводы, как это было в случае ћенцлина. ћожно привести и небольшой каламбур. ак и было отмечено выше, исследовали гроссштрЄмкендорфскую керамику в Ћунде, городе, где в средние века дол€ слав€нской керамики превышала 90%, но это не послужило основанием дл€ местных исследователей признать там какую-то чрезвычайно большую долю слав€н. 90% слав€нской керамики в Ћунде считают местной скандинавской традицией, в то же врем€ предлага€ считать могильник в √росс ЎтрЄмекндорфе преимущественно скандинавским на основании 5% скандинавской керамики и 2% погребений. “о, что так живо напоминает «исследовани€» немецких «историков» в период 1939-40 гг., к сожалению, €вл€етс€ самым что ни на есть «актуальным» положением науки – монографи€ вышла в 2011 году. »ли, может, дол€ слав€нской керамики в 90% – это и есть основной критерий прин€ти€ места за скандинавское, что на юге, что на севере Ѕалтики?
¬озвраща€сь же к лодочным захоронени€м, нельз€ не заметить двойных стандартов и здесь. ƒоказывают скандинавское происхождение захороненных в ладье в √ермании следующим образом. примеру, инвентарь одного из лодочных захоронений оказалс€ смешанным слав€но-франкским, так что на основании его такие выводы сделать трудно. Ќа помощь приход€т железные заклЄпки, которые прин€то считать (!) скандинавской, не знакомой слав€нам и не примен€вшейс€ ими традицией кораблестроени€. ƒаже не рассматрива€ вопрос о том, что совсем не об€зательно происхождение кораблестроительной традиции погребальной лодки, о которой вообще не известно, принадлежала ли она покойнику при жизни, с этнической принадлежностью в ней погребЄнного, обратим внимание лишь снова на двойные стандарты, примен€ющиес€ к этому вопросу в —кандинавии и на юге Ѕалтики. арты мест находок кораблей, построенных с применением разных типов соединений, были составлены датским исследователем румлин-ѕедерсеном ещЄ в 1980-х и сильно устарели, потому € дополнил их значками красного цвета.
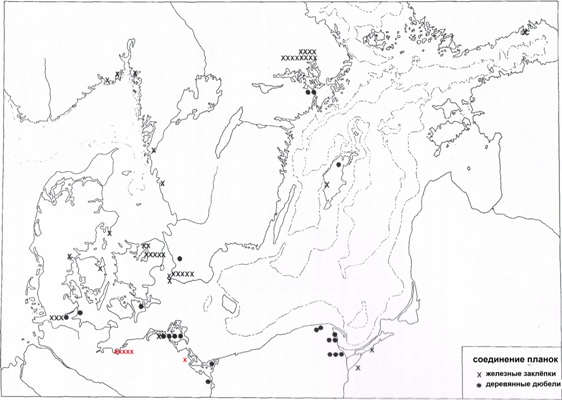
ћеста находок кораблей с железными и дерев€нными соединени€ми по румлин-ѕетерссену.
«а последние годы только на территории √ермании было найдено ещЄ 6 кораблей, планки которых были соединены железными заклЄпками – 5 в √росс ЎтрЄмкендорфе и 1 в ћенцлине. ≈щЄ один корабль с железными заклЄпками был известен до этого из –альсвика на –югене. “аким образом, на территории √ермании на насто€щий момент найдено 6 кораблей с железными заклЄпками и 4 – с дерев€нными дюбел€ми. ¬ польском ѕоморье преобладают дерев€нные дюбели, в ¬осточно-поморском-прусском регионе известны также и железные заклЄпки. —итуаци€, м€гко говор€, неоднозначна€ и не дающа€ основани€ дл€ каких-либо точных выводов. Ќо, тем не менее, наход€ корабли с железными заклЄпками, немецкие археологи во всех случа€х св€зывают их со скандинавами, на основании того, что слав€нской традицией, по их мнению, были дерев€нные дюбели.
ќднако все эти разговоры о «достоверных этнических маркерах» – дерев€нных дюбел€х в кораблестроительстве, слав€нских и скандинавских традици€х исчезают безо вс€кого следа, как только на острове ‘альстер наход€т верфь, на которой изготавливались корабли, скреплЄнные дерев€нными дюбел€ми. ќ роли слав€н на острове ‘альстер уже было написано немало – это и значительный слой слав€нской топонимики, и слав€нские имена местных жителей, и св€зи с –югеном в 12 веке, и археологи€. ќднако пока немецкие археологи в твЄрдой уверенности в слав€нской традиции дерев€нных дюбелей св€зывают каждый отличный от этой традиции корабль со скандинавами, они же удивительным образом не вид€т достаточных оснований дл€ св€зи верфи на ‘альстере со слав€нами. Ќемецкий археолог ‘. Ѕирман, составивший один из наиболее полных анализов ритуала захоронени€ в ладье на юге Ѕалтики, к примеру, не нашЄл оснований св€зывать верфь в ‘рибрЄде со слав€нами на основании дерев€нных дюбелей. ќн же, пыта€сь дать интерпретацию найденным на острове ”зедом многочисленным лодочным захоронени€м на слав€нском кладбище, предположил, что лодки эти слав€нам мог делать скандинавский гробовщик, так как лодки были скреплены железными заклЄпками в «скандинавской традиции». —ами лодочные захоронени€ на ”зедоме он хоть и признал слав€нскими, но, в то же врем€, попыталс€ св€зать проникновение этой традиции на юг Ѕалтики с ƒанией, где были известны однотипные захоронени€.

ћеста находок лодочных захоронений, однотипных узедомским по ‘. Ѕирману
(дополнено красным цветом ј.ѕ.)
—итуацию можно описать следующим образом. »звестны находки однотипных лодочных захоронений в слав€нских и скандинавских земл€х. ƒаже без моего дополнени€ видно, что в слав€нских земл€х их найдено не меньше. Ќа чЄм же тогда основано предположение о проникновении традиции из —кандинавии на юг Ѕалтики? ќказываетс€, не в малой степени на пресловутых железных заклЄпках, найденных на юге Ѕалтики лодок. ѕолучаетс€, если бы нашли такие же лодочные захоронени€, но в лодках, скреплЄнных дерев€нными дюбел€ми, то их должны были бы признать слав€нскими? Ќа приведЄнной выше карте можно заметить, что одно из мест находок однотипных с узедомскими лодочных захоронений показан ЋЄддекЄпинге в —коне. ќ слав€нских колони€х в этом регионе было написано выше, сейчас же интереснее обратить внимание, что найденные там лодочные захоронени€ были в лодках, скреплЄнных дерев€нными дюбел€ми. –азумеетс€, ни немецкие, ни датские археологи эти захоронени€ слав€нскими на этом основании не признали. Ќу, это же «совсем другое дело»!
Ћюбопытно, что вс€ нелепость этих двойных стандартов начинает осознаватьс€ молодым поколением немецких археологов. примеру, защитивша€ дипломную работу по реконструкции ладей из захоронений в √росс ЎтрЄмкендорфа . ’ольтцер закончила свою работу следующими словами: «»сход€ из выдвинутого Ѕиллом (1994) тезиса, на основании формы сечени€ заклЄпок речь здесь [в случае лодок в √росс ЎтрЄмкендорфе] должна была идти о скандинавских корабл€х. ѕо моему же мнению, в районах, где доказаны тесные культурные контакты, стоит не настаивать на причислении к какой-то определЄнной группе, а скорее прин€ть взаимопроникновение культур и традиций, в результате которого чЄткое разделение не всегда возможно».28
ќднако, увы, рассудительность и здравый смысл чаще уступают место штампам и согласию с авторитетами. Ќекоторые темы и вовсе представл€ютс€ чем-то вроде табу. примеру ». Ёрикссон, рассматрива€ слав€нское присутствие и топонимику на южно-датских островах, и вовсе за€вл€ет, что «вопрос о принадлежности южно-датских островов данам не вызывает сомнени€ также, как и слав€нска€ принадлежность восточной части земли Ўлезвиг-√ольштайн» (т.е. ¬агрии – прим. јѕ).29
ƒатска€ принадлежность этих островов, по его мнению, безусловно и безапелл€ционно доказываетс€ сообщением о поездке ¬ульфстана из ’аитабу в “русо, хот€ речь в этом случае, строго говор€, может идти лишь о конкретном периоде 9 века и только о политической зависимости, а не об этническом составе населени€ островов. “акие неаргументированные за€влени€ очень напоминают политическое разделение на «зоны вли€ни€». ћол, вы не лезете «к нам», а мы – «к вам». ƒоговорились о том, что в ¬агрии – слав€не, а в ƒании – даны, давайте теперь уважать договорЄнности. –азумеетс€, с историей, с изучением и попыткой еЄ осмыслить всЄ это не имеет совершенно ничего общего. ћотивированные политически или национально выводы неинтересны и лишь вред€т науке. ќднако, несмотр€ на всЄ вышесказанное, лично € поддержу скорее скандинавских, чем немецких археологов в их оценках.
ƒействительно, прежде чем переписывать историю на основании новонайденных брошек и горшков, нужно задатьс€ мыслью, насколько исторически обоснованы будут такие интерпретации. ¬ыводить «чужеродные элементы» в топонимике или находках нужно лишь в тех случа€х, когда интерпретаци€ их как местной традиции уже невозможна или полностью исключена. ¬ современной √ермании попытки интерпретации находок как местной традиции зачастую и вовсе не рассматриваютс€ изначально, в итоге пишетс€ истори€ вещей, а не народов. ƒвойные же стандарты, примен€ющиес€ к интерпретаци€м одних и тех же вещей или аналогичных ситуаций всегда в пользу скандинавов, выгл€д€т, по меньшей мере, цинично.
≈сли идти на такие крайности, что признавать кладбище с 252 захоронени€ми скандинавским или германским на основании 5% скандинавских горшков и 2% более чем спорных лодочных захоронений, то, примен€€ те же критерии к —кандинавии, где находки слав€нских вещей исчисл€ютс€ многими сотн€ми и даже преобладают во многих поселени€х и торговых центрах, можно «заселить» всю еЄ слав€нами и начать рассматривать эти земли как слав€нские колонии. Ќа одном Ѕорнхольме слав€нских «этнических маркеров» наберЄтс€ больше, чем на всей южной Ѕалтике – скандинавских, а на одном ‘альстере больше слав€нской топонимики, чем во всей ѕольше и восточной √ермании скандинавской. Ќо это, как всегда, «совсем другое дело».
ѕри всей моей симпатии к культуре и истории балтийских слав€н, € не стану пытатьс€ доказывать их превосходство над скандинавами – мне это не интересно. ќднако, рассужда€ трезво и в контексте двойных стандартов, примен€ющихс€ на юге и севере Ѕалтики, считаю необходимым подчеркнуть ещЄ одну характерную особенность, отличающую присутствие слав€н в —кандинавии от присутстви€ скандинавов в слав€нских земл€х – топонимику.
ак было показано, одна археологи€ не может дать точного ответа об этническом составе населени€, и ещЄ меньше – о его €зыке. ” неЄ просто нет дл€ этого возможностей и то, что некоторые археологи берутс€ об этом судить, да ещЄ и так однозначно, оставим на их совести. ≈динственными источниками, говор€щими о €зыке носителей той или иной материальной культуры €вл€ютс€ современные событи€м письменные сообщени€, а также топонимика. ¬ случае Ћолланда, ‘альстера и ћЄна топонимика недвусмысленно свидетельствует о том, что их засел€ли слав€не, которые должны были составл€ть основу населени€ в тех местах, где эти топонимы известны. «¬ендские» топонимы на прочих датских островах говор€т о меньшинстве слав€н, проживавших общинами среди преобладающего датского населени€. ќднако оба этих свидетельства совершенно однозначно указывают на присутствие слав€н.
¬ этой св€зи хотелось бы обратить внимание на то, что в топонимике юга Ѕалтики, которую немецкие археологи порой пытаютс€ заселить скандинавами, ничего даже отдалЄнно подобного неизвестно. —амым «скандинавским» регионом в плане топонимики на юге Ѕалтики можно назвать –юген. —кандинавское происхождение здесь подозреваетс€ в 5 топонимах из 600, то есть, менее 1%. —лав€нска€ топонимика в то же врем€ составл€ет 80%, а немецка€ 15%. Ќо и в этих 5 топонимах как минимум один €вл€етс€ более чем спорным – это название легендарного мыса јркона, дл€ которого предлагалось множество самых разных этимологий, но ни одна из них не может быть признана сколько-нибудь достоверной ввиду отсутстви€ пр€мых аналогов. »того 4 топонима, первое по€вление которых зафиксировано не ранее 12-13 веков и может объ€сн€тьс€ вхождением –югена в датское королевство в этот и последующий период. Ќа континенте дело со скандинавскими топонимами обстоит ещЄ хуже.
¬ обсуждении слав€нской топонимики датских островов как пример обратного вли€ни€ обычно привод€тс€ название эмпори€ ободритов –ерик, Ѕранденхузен – датского названи€ —таригарда/ќльденбурга по √ельмольду и …омсбург – легендарна€ ¬инета. ќднако принимаетс€, что последнее название балтского происхождени€ и было заимствовано скандинавами у балтов. ¬ случае —таригарда скандинавы хоть и называли его по-своему, но на местную топонимику это вли€ни€ не оказало. —о всей очевидностью потому, что скандинавы не играли в населении города такой роли, чтобы их название города стало общеприн€тым и было перен€то местным населением. ƒатска€ же этимологи€ –ерика по€вилась в 1939 году в нацисткой √ермании в процессе далеко ненаучной патриотической дискуссии, в которой принималась за данность неспособность слав€н к торговле, градостроительству и мореплаванию, а потому дл€ подтверждени€ этих утверждений старани€ми сразу нескольких историков искалась германска€ этимологи€ ободритскому торговому центру. »значально предлагалось выводить –ерик от скандинавского –Єрвикр («гавань в узком проливе»), от имени германского варварского правител€ Ѕерика, норманнского конунга –Єрика или ќрика и даже «шведского викинга –юрика, основавшего русское государство», пока не остановились на версии происхождени€ –ерика от исл. «рейр» – «тросник». ѕри выведении этой этимологии не учитывались не только возможные слав€нские этимологии, но и сам факт самоназвани€ ободритов как ререгов в 11 веке, в результате чего выводы эти нельз€ назвать соответствующими общеприн€тым научным нормам и следует пересмотреть.
¬ сравнении со значительным пластом слав€нской топонимики в ƒании, скандинавскую топонимику на юге Ѕалтики можно охарактеризовать как «многословное молчание». –едкие же случаи датских топонимов на –югене восход€т ко времени датского правлени€ и администрации. Ќи один из торговых центров балтийских слав€н, дл€ которых немецкие археологи предполагают чуть ли не равные доли слав€нского и скандинавского населени€, не имеет скандинавской этимологии. –альсвик на –югене происходит от сокращени€ слав€нского личного имени «–аль» и немецкого обозначени€ торгового центра «вик». ћенцлин, дл€ которого принимаетс€ цела€ «метисаци€» населени€, носит вполне слав€нское название. √росс ЎтрЄмкендорф – смешанное слав€но-немецкое: от нем гросс – «большой», слав€нского личного имени —трЄмеке и нем. «дорф» – деревн€, т.е. «больша€ деревн€ —трЄмеке». —таригард на юге Ѕалтики стали называть отнюдь не скандинавской его формой Ѕранденхузен, а немецкой калькой со слав€нского – «ќльденбург» (дословно – «старый город»). —лав€нскую этимологию имеет и название деревни близ торгового центра в устье ¬арнова – ƒирков (от лич. имени ƒерко), где также был значительный торговый центр и найдено много скандинавского импорта.
“акже и торговые центры «ападного ѕоморь€ имеют прозрачные слав€нские этимологии – ¬олин, ўецин, амень, олобжег. »сключением €вл€етс€ лишь √даньск, дл€ которого в некоторых случа€х предлагают германскую, но не скандинавскую, а древне-восточногерманскую этимологию. Ќеизвестно вблизи с этими торговыми центрами и никаких «скандинавских деревень», как это было в случае «вендской» топонимики датских островов и названи€ «¬индебуде» дл€ торгового района Ћунда. ќтсутствие либо минимальна€ дол€ скандинавской топонимики нагл€дно показывают, что скандинавы не были хоз€евами на юге Ѕалтики, не создавали тут поселений, роль же купцов была в этом плане скромной и выражалась лишь в культурном вли€нии. ѕоэтому, как бы не хотелось некоторым выставить ситуацию в противоположном свете ввиду личных симпатий, из всего получаетс€, что слав€не играли не только не меньшую, но в некоторых случа€х и лидирующую роль на Ѕалтике, в частности, это касалось торговли на датских островах.
¬ насто€щее врем€ находитс€ всЄ больше и больше свидетельств тому, что именно балтийские слав€не контролировали и морскую торговлю с иевской –усью, в то врем€ когда даны практически не были в ней задействованы, либо были задействованы через посредство балтийских слав€н.
¬ заключение остаЄтс€ лишь напомнить ещЄ раз слова рюгенского посла ƒамбора, предупреждавшего датского епископа от войны с –югеном: «“ы молод и не знаешь того, что было раньше. Ќе требуй у нас заложников и не разор€й нашу страну; лучше отправл€йс€ домой и всегда сохран€йте мир с нами». акие такие обсто€тельства были раньше јбсалона, которые он не учитывал, несправедливо, по мнению ƒамбора, объ€вив –югену войну? акова была дол€ рюгенских и балтийских слав€н в жизни ƒании и Ѕалтики вообще, и что мы знаем об истории Ѕалтики в дохристианский период? Ќаверное, науке бы очень не повредило, если бы при изучении археологического и лингвистического материала исследователи держали этот вопрос в голове, а не переписывали бы из книги в книгу национально и политически мотивированные штампы, с реальной историей не имеющие ничего общего.
јндрей ѕауль, историк
»сточник: http://pereformat.ru/2014/03/slavyanskij-sled-v-skandinavii/
ћетки: –усь |
ћы с тобой одной крови... –усь - »ран - »нди€. |
ƒневник |
≈щЄ одно доказательство глубокой древности русской культуры
http://pereformat.ru/2014/03/rachinsky-fedorov-lexicon/

Ќа сходство русского €зыка и санскрита исследователи обратили внимание ещЄ в XIX веке. ќб этом писали известный мыслитель ј.—. ’ом€ков, филолог ‘.». Ѕуслаев, слав€новед ј.‘. √ильфердинг и другие. Ћучше всего сходство €зыков раскрываетс€ при рассмотрении названий объектов, принадлежащих какой-либо единой семантической группе. Ќами была рассмотрена лексика, св€занна€ со строительной де€тельностью. –ассмотрение строительной лексики позволило не только показать сходство €зыков, но и вы€снить, какие сооружени€ строились слав€но-арь€ми до их разделени€ во II тыс. до –.’., какие при этом использовались оруди€.

Ѕыло вы€снено, что: 1) строились храмы, разнообразные дома, города и крепости, прокладывались дороги; 2) использовались те же оруди€ труда, которые были широко распространены среди плотников в XIX веке; 3) практически все современные обиходные слова, вход€щие в лексические группы «сооружени€ в кресть€нской усадьбе» и «строительна€ де€тельность», имеют фонетические и одновременно семантические индийские/иранские соответстви€. Ќи в каких других европейских €зыках (кроме слав€нских) не наблюдаетс€ подобного соответстви€ индоиранским словам современных обиходных слов, относ€щихс€ к указанным лексическим группам.
ѕерва€ часть статьи посв€щена результатам исследовани€, во второй части рассматриваютс€ конкретные слова, св€занные со строительной де€тельностью. ѕриведЄнные во второй части слова однозначно свидетельствует о том, что 4000 лет назад, перед тем, как древние русы и арии расстались друг с другом, они имели «главные оруди€ плотников» (по ¬.». ƒалю): топор, долото, струг (наструг), наверток, отвес, драч, а также тесло, скобель, резак, молоток – основные инструменты дерев€нного строительства. ќни строили разнообразные сооружени€, в том числе храмы, имеющие купола, у них были города и крепости, существовали пути сообщени€.
—оответственно, «общеприн€тые» представлени€ (1) о том, что пришедшие в »ндию арьи были кочевниками, (2) что русы, или шире – слав€не, до встречи с ¬изантией обладали лишь самыми примитивными строительными навыками и жили преимущественно в земл€нках, – не соответствуют действительности. ƒревние русы, так же как и арьи уже 4000 лет назад обладали высокой строительной культурой.
“аким образом, можно сказать, что сходство русской и арийской строительной лексики €вл€етс€ ещЄ одним доказательством глубокой древности русской культуры. ѕодробнее читайте в статье:
https://yadi.sk/i/v3m67SsAUnsg5

»ндоевропейские €зыки

¬осточна€ и западна€ ветвь индоевропейских €зыков
“ермин индоевропейские €зыки (англ. Indo-European languages) был впервые введЄн английским учЄным “омасом ёнгом в 1813 году. ¬ немецко€зычной литературе чаще используетс€ термин индогерманские €зыки (нем. indogermanische Sprachen). »ногда ранее индоевропейские €зыки назывались «арийскими», однако в насто€щее врем€ этим термином называетс€ подсемь€ индоевропейских €зыков, включающа€ нуристанскую ветвь и индоиранские €зыки.

ƒрево индоевропейских (арийских) €зыков
»стинные арийцы - индусы, иранцы и таджики.

арта расселени€ индоевропейских (арийских) народов
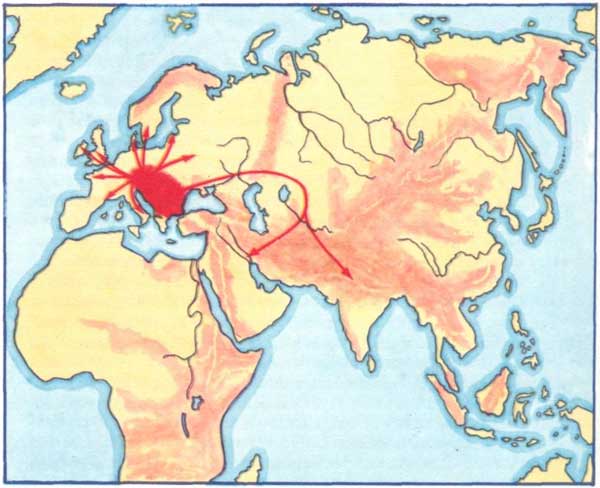

јрийцы, в смысле "¬осточные" или«азиатские индоевропейцы», были разделены на две ветви, индийцев и иранцев. »ранцами в лингвистическом смысле стали называть, независимо от политических границ, народы, объединенные в одно целое во лингвистическим признакам. огда в конце XIX века возникла мысль составить свод научного материала, относ€щегос€ к области «иранской филологии» (€зыкам, литературе и истории иранцев), то в лингвистический отдел этого свода вошли наречи€ от самого восточного из памирских, сарыкольского, до западных курдских, в восточной части малоазиатского полуострова, т. е., приблизительно, от 75 до 38 градусов вост. долг, от √ринвича. роме того, рассматриваетс€ наречие так называемых осетин (называющих сами себ€ ирон), живущих отдельно от прочих, «иранцев» на авказе, к западу от прежней военно-грузинской : дороги.
≈ще обширнее была область распространени€ иранских наречий в древности, хот€ во многих случа€х вопрос о том, какие именно народы говорили по-ирански, остаетс€ спорным.
≈ще большее пространство обнимала область распространени€ главного литературного €зыка »рана, так называемого «новоперсидского», образовавшегос€ уже при исламе; на нем писали далеко за пределами лингвистического »рана, от онстантинопол€ (к числу персидских поэтов принадлежал турецкий султан —елим II, 1566–1574) до алькутты и городов итайского “уркестана. »сторику иранской культуры необходимо считатьс€ и с этим фактом, и с еще более многочисленными переводами с персидского и подражани€ми персидским образцам». (»з сборника «»стори€ Ѕлижнего ¬остока», выпущенного в –оссии в 2002 году).
![[A2.jpg]](http://3.bp.blogspot.com/_YZo4TnSB7VY/S4Cu6FYEU0I/AAAAAAAAALc/IweH1fVKCqs/s1600/A2.jpg)
јЋјЎ» - это не те, кто с автоматами алашникова, а такой народ (смотри слева: типичный "калаш" из ѕакистана; щелкните по фото дл€ увеличени€). Ёто небольшое сообщество слав€но-ариев в ѕакистане насчитывает около 6 тыс€ч человек, проживающих в нескольких по-соседству лежащих населенных пунктах. алаши высто€ли в довольно сложных услови€х, если прин€ть во внимание тот факт, что они изолированы со всех сторон сосед€ми, которые ни в расовом, ни в культурно-религиозном смысле не €вл€ютс€ тождественными. ¬ отличие от титульного жител€  ѕакистана, калаши придерживаютс€ одной из архаичных форм многобожи€, что, при наличии соответствующего интереса, естественно, могло бы быть очень интересным дл€ современных ученых. ћеста, подобные этому в ѕакистане, €вл€ютс€ подлинными сокровищницами, из которых можно было бы черпать неверо€тной ценности знани€ о нашем прошлом. сожалению же, очень часто мы не только не занимаемс€ изучением наших первоисточников, но и, вообще, даже ничего не знаем об их существовании (справа: девочка из "калашей").
ѕакистана, калаши придерживаютс€ одной из архаичных форм многобожи€, что, при наличии соответствующего интереса, естественно, могло бы быть очень интересным дл€ современных ученых. ћеста, подобные этому в ѕакистане, €вл€ютс€ подлинными сокровищницами, из которых можно было бы черпать неверо€тной ценности знани€ о нашем прошлом. сожалению же, очень часто мы не только не занимаемс€ изучением наших первоисточников, но и, вообще, даже ничего не знаем об их существовании (справа: девочка из "калашей").
ак можно догадатьс€, человек европейского типа в јзии сохранилс€ не только среди калашей. ≈сли бы мы имели возможность как следует прочесать пуштунские деревни ѕакистана и јфганистана и осуществить обсто€тельный во€ж по северу »ндии, то мы убедились бы, что наши традиционные представлени€ о населении перечисленных регионов не соответствуют действительности. Ѕолее того, иной раз может показатьс€, что ты находишьс€ где-то если не среди совсем своих людей, то, по крайней мере, не между слишком чужих. оличество местных "европейцев" впечатл€ет (см.ниже: житель из пуштунскай деревни). 
Ќапример, в северо-индийских штатах много не только сел, но и довольно значительных городов, жители которых ничем, кроме экзотической одежды и не совсем привычного поведени€, не отличаютс€ от нас с вами. стати, один из этих городков называетс€, оп€ть-таки ј–»јЌј! роме этого, повторюсь, в северной части »ндии находитс€ много населенных пунктов с корнем -ариа Ёто в лишний раз доказывает, что јрии, прид€ на юг с севера, называли местности и населенные пункты по имени своей далекой ѕрародины, что бы они напоминали им о ней снова и снова.
Ѕесплодна€ масса современных историков пытаетс€ объ€снить обилие белых людей в азиатских регионах присутствием здесь некогда "пленных солдат јлександра ћакедонского" или "колониального корпуса британцев", которые, €кобы, щедро наследили в јзии в генетическом смысле. ќднако, достаточно только бросить взгл€д на генетические карты региона, и все сразу станет пон€тным. Ёти карты убедительно свидетельствуют о том, что, скажем, северна€ часть »ндии €вл€етс€ ареалом необычно высокой концентрации слав€но-арийской гаплагрупы R1а, где ее содержание среди здешнего населени€ достигает аж 70%! ≈динственным местом в мире, которое может быть сравнимым к северной »ндией в плане концентрации слав€но-арийской R1а, €вл€етс€ √родненска€ ќбласть –еспублики Ѕеларусь. √енетика также говорит, что ни солдаты ћакедонского, ни британский колониальный корпус не €вл€ютс€ ответственными за генетическую композицию выше упом€нутых жителей, так как, иначе, в их генетическую композицию входила бы не только слав€но-арийска€ гаплогруппа R1а, но и русо-вар€жска€ гаплогруппа I и ельтска€ R1b, которые свойственны и присущи как британцам, так и античным эллинам. »тоги же генетических исследований гавoр€т, что ни у афганцев с пуштунами, ни у индийцев вообще, гаплогруппы I и R1b не вы€влены.
 (слева: афганска€ девочка).
(слева: афганска€ девочка).
ћетки: –усь арии »ран »нди€ |
»з вар€г на –усь -1 |
ƒневник |
»з вар€г на –усь: балтийский торговый путь
Ќа прот€жении многих столетий жизнь слав€н, проживавших на юго-западном побережье Ѕалтийского мор€, на территории современных √ермании и ѕольши, была св€зана с ¬осточной ≈вропой и земл€ми —еверной –уси тесными торговыми отношени€ми. —еребро из арабских стран нар€ду с редкими и дорогосто€щими предметами роскоши из ¬изантии пользовались в слав€нских кн€жествах немалым спросом и приносили немалый доход как привозившим их купцам, так и контролировавшим торговые центры и собиравшим торговый налог кн€зь€м. ѕри поддержке местной знати торговл€ между западнослав€нскими городами южной Ѕалтики и –усью бурно развивалась, начина€ с самого раннего средневековь€, игра€ заметную роль в экономике и политической жизни региона, что в немалой степени определ€ло и ход истории.

”же в VII-VIII веках на юге Ѕалтики возникла разветвлЄнна€ сеть приморских торгово-ремесленных центров – инфраструктура, необходима€ дл€ поддержани€ остановок купеческих караванов в многодневных плавани€х между ¬осточной ≈вропой и южной ётландией. “ак по€вилс€ южно-балтийский торговый путь. ѕо археологическим данным торговые контакты слав€нских торговых городов южной Ѕалтики с ¬осточной ≈вропой и северной –усью прослеживаютс€, начина€ с конца VIII века и вплоть до позднего средневековь€. ќднако ввиду того, что земли эти не имели до крещени€ своей летописной традиции, описани€ морского южно-балтийского торгового пути встречаютс€ в письменных источниках лишь с X века, после саксонского завоевани€ и начала христианизации.
ќдно из первых подробных описаний земель южно-балтийских слав€н оставил посетивший во второй половине X века √ерманию и земли ободритского кн€з€ Ќакона еврейский купец »брагим ибн-якуб, особое внимание удел€вший торговле и экономике: «¬ общем слав€не мужественны и воинственны и, если бы только они не были разобщены и разделены на множество ветвей и частей, ни один народ в мире не смог бы противосто€ть их натиску. ќни насел€ют плодороднейшие и наиболее богатые продуктами земли. — большим усердием занимаютс€ они земледелием и хоз€йственной де€тельностью и превосход€т в этом все народы севера. “овары их по суши и по морю отправл€ютс€ на –усь и в онстантинополь».1
“орговый путь из балтийско-слав€нских кн€жеств на –усь начиналс€ из —таригарда в ¬агрии и шЄл с многочисленными остановками в торговых городах по южному берегу Ѕалтики, через прусские земли и остров √отланд. —ледующее, более подробное описание этого пути, восходит к началу христианизации ободритских земель и содержитс€ в написанной во второй половине XI века хронике јдама Ѕременского. ќписыва€ ёмну – богатейший слав€нский торговый город в устье ќдры, бывший, по мнению јдама, самым большим городом ≈вропы, он замечал: «ќт этого города [ёмны] коротким путЄм добираютс€ до города ƒимина, который расположен в устье реки ѕены, где обитают ру€не. ј оттуда – до провинции «емландии, которой владеют пруссы. ѕуть этот проход€т следующим образом: от √амбурга или от реки Ёльбы до города ёмны по суше добираютс€ семь дней. „тобы добратьс€ до ёмны по морю, нужно сесть на корабль в Ўлезвиге или ќльденбурге. ќт этого города 14 дней ходу под парусами до ќстрогарда –уси. —толица еЄ – город иев, соперник онстантинопольской державы, прекраснейшее украшение √реции» (Adam, 2-18(22)).
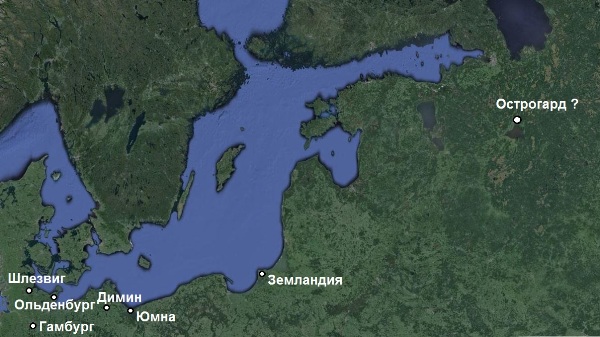
ћорской торговый путь из южной Ѕалтики на –усь по јдаму Ѕременскому
«ќльденбургом» немцы называли город —таригард, столицу кн€зей племени варов или вагров. ƒетальное археологическое изучение его и р€да других западнослав€нских торгово-ремесленных центров в северной √ермании и ѕольше позвол€ют реконструировать упоминаемый немецкими и арабскими источниками южно-балтийский торговый путь и составить некоторое представление об основных слав€нских городах, находившихс€ по пути следовани€ этого маршрута.
ќснование слав€нами первой старигардской крепости на 16-метровой возвышенности на узком перешейке полуострова ¬агри€ археологи относ€т ко второй половине VII века. –азмеры крепости, построенной на месте предполагаемого €зыческого ритуального комплекса или св€тилища доримского периода, даже на первом этапе достигавшими около 140 м в окружности, указывают на важное значение еЄ в регионе уже в это врем€. ¬озможно, город планировалс€ как столица и торгово-ремесленный центр изначально. — момента своего основани€ —таригард активно развиваетс€. ”же на рубеже VII-VIII вв. за крепостными стенами возникает открытое поселение-посад. ¬о второй половине VIII века сноситс€ прилегающа€ к посаду часть крепостной стены, в то же крепостными стенами обноситс€ сам посад, так что в конечном итоге возникает нова€ крепость овальной формы вдвое больших размеров и прот€жЄнностью около 260 метров. ќткрытое торгово-ремесленное поселение переноситс€ на южную от крепостных стен сторону. ¬ таком виде город просуществовал до разрушени€ его данами в XII веке. —огласно √ельмольду, еженедельный рынок оставалс€ у южного вала —таригарда и после его разрушени€.

ћакет-реконструкци€ крепости —таригард в музее города ќльденбург
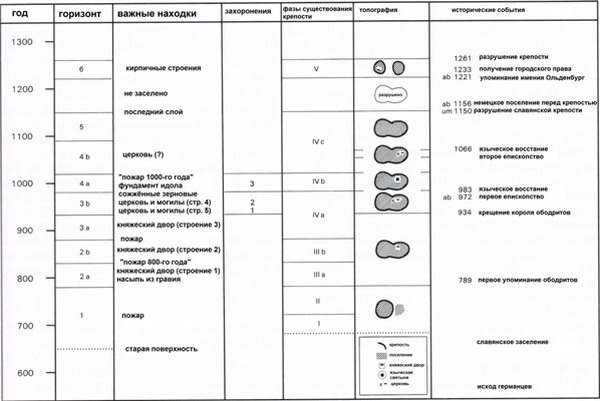
–азвитие —таригарда, по I. Gabriel, 1991
сожалению, письменные источники не отразили этот ранний период существовани€ города. ѕервые достоверные упоминани€ племени варов и их кн€зей в немецких письменных источниках известны, начина€ лишь с X века. ¬озможно, первое упоминание —таригарда содержитс€ в хронике ¬идукинда орвейского, сообщающей о конфликте кн€з€ ободритов ћстиво€ (Mistav) с кн€зем варов ∆елибором (Selibur) в 967 году. ¬ результате этой «вражды, унаследованной кн€зь€ми от своих отцов», войсками √ермана Ѕиллунга была вз€та и разграблена крепость ∆елибора. ¬ начале XI века “итмар ћерзебургским, говор€ о старигардских епископах –егинберте и Ѕернхарде, упоминает antiqua civitas, то есть «старый город» на латыни. “акой же смысл имело и известное из хроник јдама и √ельмольда слав€нское названи€ столицы варов/ваигров «—таригард». алькой с него €вл€етс€ немецкое название «ќльденбург» или «јльтинбург» (нем. «ольд»/«альт» – «старый» и «бург» – «город»), впервые упоминаемое јдамом Ѕременским и сохран€ющеес€ и до сих пор.
«ќльденбург – это крупный город слав€н, которые зовутс€ ваиграми; он расположен возле мор€, которое называют Ѕалтийским или ¬арварским, в одном дне пути от √амбурга» – сообщалось в схолии 15(16) к хронике јдама в конце XI века. √ельмольд в конце XII века приводил более подробные сведени€: «јльденбург — это то же, что на слав€нском €зыке —таргард, то есть старый город. –асположенный, как говор€т, в земле вагиров, в западной части [побережь€] Ѕалтийского мор€, он €вл€етс€ пределом —лавии. Ётот город, или провинци€, был некогда населен храбрейшими мужами, так как, наход€сь во главе —лавии, имел сосед€ми народы данов и саксов, и [всегда] все воины или сам первым начинал или принимал их на себ€ со стороны других, их начинавших. √овор€т, в нем иногда бывали такие кн€зь€, которые простирали свое господство на [земли] ободритов, хижан и тех, которые живут еще дальше» (Helm. 1-10).
«а врем€ своего существовани€ город несколько раз перестраивалс€. ¬о второй и последующих фазах существовани€ стариградской крепости фиксируетс€ застройка еЄ изнутри жилыми домами. Ќа фоне обычных домов несколько зданий заметно выдел€лись своими размерами, формами и столбовой техникой постройки – предположительно, церковь и кн€жеский дворец. ѕредполагаема€ кн€жеска€ резиденци€ находилась в самом большом из старигардских строений. ѕросторное здание с внутренними размерами 20,5х7 метров было разделено несколькими поперечными стенами, так что в центральное место отводилось залу с расположенным в центре очагом.

онтуры старигардских дворцов по I. Gabriel, 1991
¬озможно, иде€ такой планировки кн€жеского терема возникла у варских кн€зей после посещени€ ими резиденций франкских императоров. ƒо середины IX века ободриты поддерживали с франками тесные союзнические отношени€, их послы и кн€зь€ нередко упоминаютс€ в это врем€ при императорских дворах в ѕадеборне, јахене, »нгельхайме, ‘ранкфурте и омпанье. —воими размерами и внутренним устройством первый кн€жеский двор в —таригарде вполне сопоставим с королевской резиденцией арла ¬еликого (ок. 777 года) в ѕадеборне. ћало уступа€ императорской резиденции, дворец старигардских кн€зей имел и свои особенности, видимые на контуре как второй р€д столбов, окружающих строение.
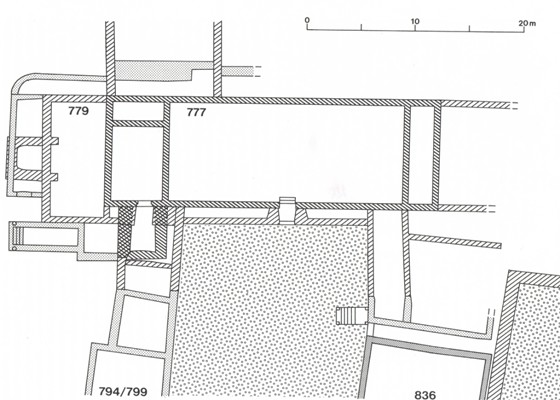
онтур резиденции арла ¬еликого в ѕадеборне по I. Gabriel, 1991
ѕредназначение их остаЄтс€ невы€сненным: служили ли они дл€ опоры выступающей крыши или некого навеса или только декоративным цел€м – остаЄтс€ лишь предполагать. ќднако поскольку эта деталь сохран€етс€ во всех трЄх дворцах, мен€вших свои размеры и внутреннее строение, можно предположить в этом некую местную старигардскую традицию. ак параллели можно привести известные у балтийских слав€н примеры внешних украшений €зыческих храмов и св€тилищ. “ак, €зыческий храм в √росс –адене также представл€л самое большое по размеру строение в поселении, к несущим стенам которого с внешней стороны была прикреплена ещЄ одна декоративна€ стена из резных досок. “ак же и о находившемс€ в непосредственной близости к —таригарду св€тилище ѕроне, √ельмольд сообщает об окружавшем его заборе или изгороди с резными украшени€ми, что даЄт основани€ предполагать в подобных резных накладных стенах-фасадах или оградах, окружавших несущие внешние стены, местную слав€нскую традицию.
јдам Ѕременский называл —таригард рубежа первого и второго тыс€челетий «весьма многолюдным городом», сообща€ о расправе в нЄм над 60 св€щенниками во врем€ первого €зыческого восстани€ балтийских слав€н (Adam, 2-43(41)). ќднако, несмотр€ на то, что —таригард был резиденцией кн€з€ и епископа и, несомненно, главным центром, откуда тогда проводилась христианизаци€ земель балтийских слав€н, цифра эта кажетс€ несколько завышенной. ¬озможно, —таригард стал в это врем€ лишь местом публичной казни св€щенников, не об€зательно будучи при этом и местом посто€нного проживани€ их всех. —хожие легенды, повествующие о доставке в —таригард дл€ казни св€щенников из слав€нского √амбурга, сохранились в позднесредневековых гамбургских предани€х об эбсторфских мучениках. Ќам же в данном случае важно то, что современникам город запомнилс€ как очень большой и многолюдный.

–еконструкци€ старигардской крепости по I.Gabriel, 2002
ƒо XII века —таригард оставалс€ одним из главных приморских торговых центров на Ѕалтике. ”поминаемые јдамом Ѕременским торговые св€зи —таригарда/ќльденбурга с –усью, а через неЄ – с ¬изантией и арабскими земл€ми, подтверждаютс€ и археологией. роме сделанных здесь находок отчеканенных на территории современного »рана, »рака и ”збекистана монет второй половины VIII – начала X веков, можно отметить и находки «ремней восточного типа», характерных дл€ раннеисламской и позднесасанидской культур и восточной знати, восточных жест€ных сосудов, попул€рных в ¬осточной ≈вропе серег «византийского типа», карнеоловых бусин и овручского шифера из –уси.
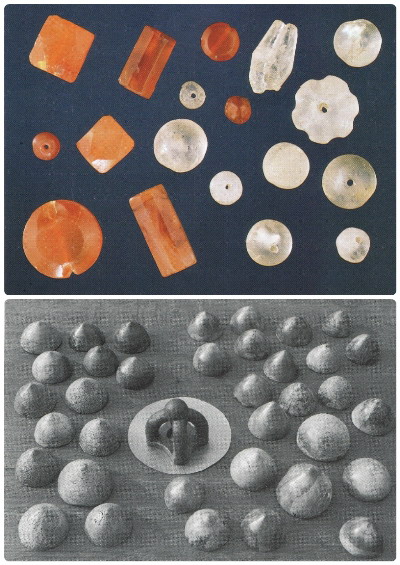
Ѕусины и средневекова€ настольна€ игра ’нефатафл из —таригарда по I. Gabriel, 1991
ћногочисленные находки франкских вещей (шпоры, €зычки ремней, татингска€ керамика, стекл€нные бокалы, оковки ножен, фибулы), фризска€ и саксонска€ керамика с круглым дном, скандинавские фибулы и застЄжки ремней, норвежский стеатит, нанесЄнные на кость руны, креплени€ ремней ножен и другой импорт, говор€т о не менее тесных торговых св€з€х города с западной и северной ≈вропой.
—уд€ по находкам, в —таригарде можно было найти большинство дорогосто€щих, редких и ценившихс€ в своЄ врем€ товаров тогдашней ≈вропы и даже јзии. «ачастую, по не самым лучшим образом сохранившимс€ находкам, современному человеку совсем не просто оценить какое значение и стоимость имели эти вещи более тыс€чи лет назад. ’орошим примером могут послужить найденные в —таригарде на первый взгл€д совершенно невзрачные фрагменты нескольких экземпл€ров восточной бронзовой посуды X, XI и ’II веков. «»зготовленные из бронзового листа сосуды, происход€щие из восточных стран, даже в Ўвеции €вл€ютс€ редкостью. –ечь идЄт о нескольких фл€жках или кувшинах, а также отдельных закрываемых крышками банках, в конечном итоге использовавшихс€ дл€ хранени€ серебр€ных драгоценностей» – комментирует старигардские находки немецкий археолог ». √абриель.2
ќднако насто€щую ценность подобных, крайне редких в западной ≈вропе сосудов, можно оценить по сообщению ¬идукинда орвейского, упоминавшего такие издели€ в качестве подарков императору ќттону арабскими послами в X веке: «»мператор, приобретший благодар€ многократным победам славу и известность, стал вызывать страх и вместе с тем благосклонность к себе многих королей и народов, ему приходилось поэтому принимать различных послов, а именно от римл€н, греков и сарацин, и получать через них дары разного рода — золотые, серебр€ные, а также медные сосуды, отличавшиес€ удивительным разнообразием работы, стекл€нные сосуды, издели€ из слоновой кости, вьючные седла различной выделки, благовони€ и мази различного рода, животных, невиданных до этого в —аксонии, львов и верблюдов, обезь€н и страусов» (¬идукинд, 3-56).
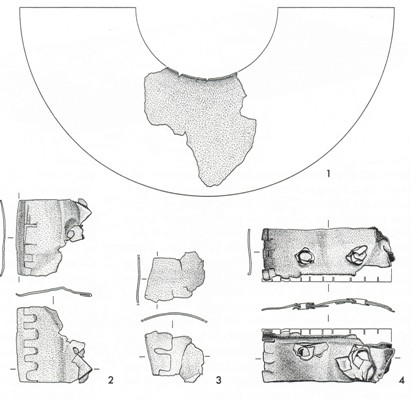
¬осточный медный кувшин из —таригарда по I. Gabriel, 1991
Ќаходки в —таригарде подобных сосудов, таким образом, могут указывать как на путешестви€ варских купцов в арабские земли, так и на присутствие арабских купцов или даже послов при кн€жеском дворе в самом городе. “ак или иначе, как и многие другие находки, они подтверждают значение города, бывшего одним из главных культурных центров северной части центральной ≈вропы. ¬арские кн€зь€ стремились не уступать ведущим центрам ‘ранкской империи. ѕотому неудивительно, что при наличии тесных св€зей франкское культурное вли€ние на варов прослеживаетс€ наиболее чЄтко. роме уже упоминавшихс€ аналогий в дворцовой архитектуре, можно отметить и особый вид керамики, так называемую «ольденбургскую роскошную керамику» (нем. oldenburger Prachtkeramik), производившуюс€ только в —таригарде. ѕредполагаетс€, что этот особенный, превосходивший прочие «обычные» слав€нские типы керамики в регионе, изготавливалс€ придворными гончарами варских кн€зей и возник непосредственно в городе, возможно, под вли€нием татингской керамики. ќдновременно с ним в городе изготавливалась и более простые слав€нские типы гончарной керамики, хоть и уступавшие, в отличии от «роскошной керамики» франкским образцам, однако, превосходившие при этом качеством современные им типы фризской, саксонской и скандинавской керамики.
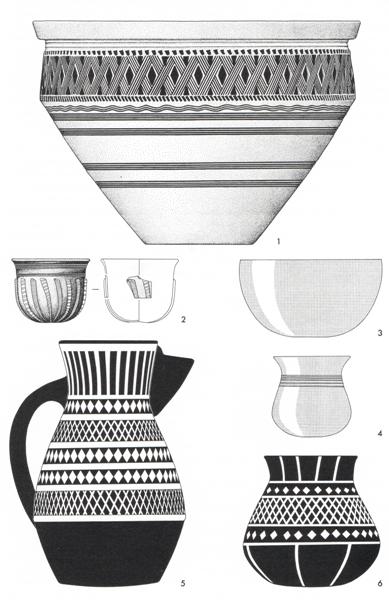
—таригардска€ «роскошна€ керамика» (1) и стекл€нна€ посуда (2-4) из —таригарда; дл€ сравнени€ – татингска€ керамика, найденна€ в Ѕирке
Ћюбопытны и другие находки из —таригарда, зачастую редкие дл€ €зыческой северной ≈вропы своего времени и также указывающие на культурное значение города: плектор дл€ игры на струнном музыкальном инструменте, писала, попул€рные у балтийской знати средневековые северно-европейские «шахматы», более известные под скандинавским названием «’нефатафл», а также колокол, по всей видимости, €вл€ющийс€ самым древним из известных в —еверной ≈вропе колоколов большого размера. ¬от иллюстрации некоторых находок из крепости плектор, писала, колокол (реконструкци€).



ѕервые письменные указани€ на имевшие межрегиональное значение торговые центры балтийских слав€н относ€тс€ к началу IX века. ѕод 808 годом анналы королевства франков сообщают о разрушении датским королЄм √оттфридом ободритского эмпори€ –ерик, сбор налогов с которого приносил немалый доход тогдашнему кн€зю ободритов ƒражко. ѕо всей видимости, это событие было не в малой степени спровоцировано пересечением торговых интересов и конкуренцией между ободритами и данами на юго-западе Ѕалтики. ѕереселив купцов из –ерика в датский торговый центр ’аитабу, √оттфрид тем самым стимулировал рост датской торговли и, соответственно, собиравшихс€ с неЄ пошлин. –ерик же после этого должен был придти в упадок. ѕосле нападени€ в 808 году он упоминаетс€ впоследствии в письменных источниках лишь единожды в следующем году, как место убийства самого ƒражко, после чего уже навсегда пропадает со страниц хроник. ѕопытки определить местоположение легендарного ободритского города предпринимались многими поколени€ми немецких историков. ¬ качестве претендентов на его звание предлагались самые разные города, но лишь археологические исследовани€ последних двух дес€тилетий смогли немного про€снить вопрос.
”же в конце 1970-80-х годов на основании многочисленных случайных находок на поверхности сельскохоз€йственного пол€ возле деревни √росс ЎтрЄмкендорф археологам стало €сно, что на этом месте должно было находитьс€ нечто очень существенное. ѕроводившиес€ в 1990-е годы раскопки открыли огромный, раст€нувшийс€ в общей сложности более чем на 20 га, торгово-ремесленный центр с пристанью и могильником – одно из самых больших ранних западнослав€нских поселений своего времени. «начительна€ часть его в насто€щее врем€ находитс€ под водой, но даже проведЄнные на сухопутном участке исследовани€ оправдали ожидани€ учЄных.3
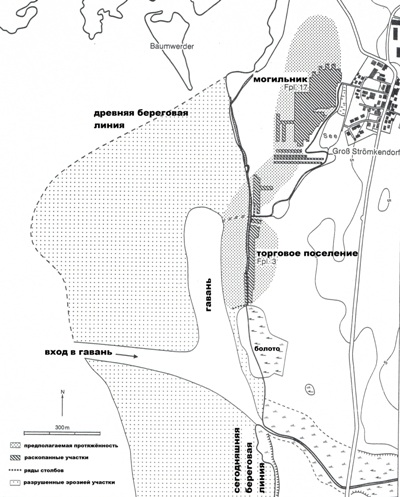
ѕлан раскопок торгового центра в √росс ЎтрЄмкендорфе
¬ то врем€ как население торгового центра проживало в очень скромных и малокомфортных земл€нках, здесь было найдено немалое количество дорогосто€щих импортных вещей и ремесленных мастерских со следами текстильного производства, производства гребней на импорт, производства керамики, кузнечного и ювелирного дела, обработки €нтар€ и стекла.4 ѕоследнее ремесло, подтверждЄнное 1724 стекл€нными находками, представл€ло из себ€ производство высоко ценившихс€ в то врем€ стекл€нных бус из импортированного, предположительно из ‘ранкской империи, стекла.5
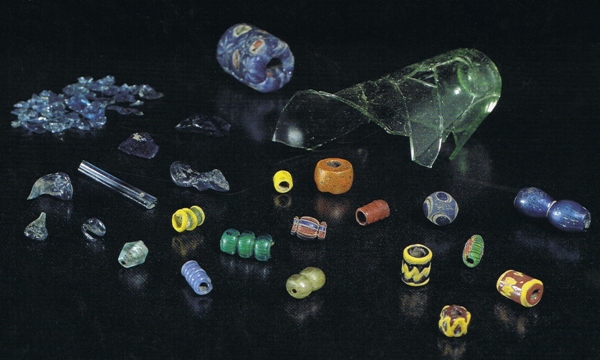
Ќаходки стекл€нных изделий из √росс ЎтрЄмкендорфа
Ќе менее ценными дл€ истории оказались и дендрохронологические анализы сохранившихс€ брЄвен колодцев поселени€, по которым удалось установить три фазы существовани€ торгового центра. ѕерва€ фаза указывала на его основание в 735-736 годах, втора€ – на обновление и расширение поселени€ и основание могильника в 760 г., треть€ же датируетс€ 780-811 годами, после чего поселение прекратило своЄ существование, более не обновл€лось и не перестраивалось.6
ѕредставша€, таким образом, картина существовани€ крупного торгового центра на территории проживани€ племени ободритов, основанного в первой половине VIII века, достигшего наибольшего расцвета в его конце и прекратившего существовать в первой четверти IX века, практически не оставила большинству современных немецких археологов сомнений – поселение в √росс ЎтрЄмкендорфе с большой долей веро€тности должно было быть легендарным ободритским городом –ерик.7

Ќекоторые находки из √росс ЎтрЄмкендорфа
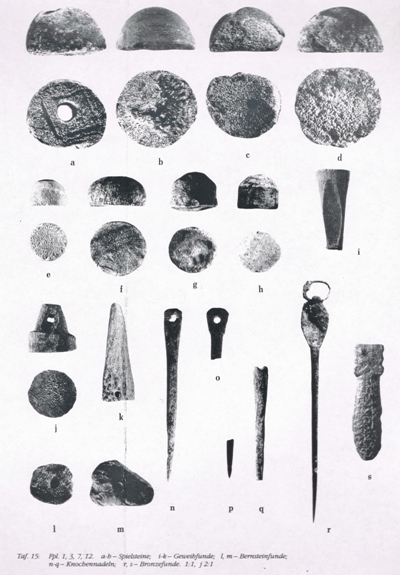
‘игуры настольной игры, издели€ из €нтар€, рога, кости и бронзы из √росс ЎтрЄмкендорфа
–€дом с торговым центром был найден могильник, исследование которого помогло узнать много нового о погребальном обр€де на юге Ѕалтики. ¬ особенности интересны обнаруженные здесь лодочные и камерное захоронени€. ѕомимо того, что само поселение в √росс ЎтрЄмкендорфе было одним из наиболее больших известных на насто€щий момент западнослав€нских поселений столь раннего периода, в непосредственной близи от него обнаружено и ещЄ несколько древнеслав€нских поселений-сателлитов.
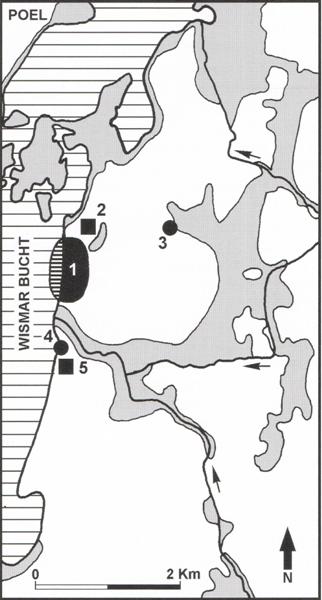
“орговый центр в √росс ЎтрЄмкендорфе и прилегающие к нему древнеслав€нские поселени€
“ак же и достаточно плотное дл€ этого региона заселение местности возле торгового центра уже в древнеслав€нский период указывает на то, что он возник в одном из местных племенных центров. ѕроведЄнные в обоих из двух известных из окрестностей √росс ЎтрЄмкендорфа крепост€х – ћекленбурге и »лове – дендрохронологические анализы бревЄн показали, что они были основаны до торгового центра и существовали в его врем€. “аким образом, обе они подход€т на роль крепости ƒражко, из которой он мог бы контролировать –ерик и собирать с него налог. Ѕолее веро€тной в этом случае кажетс€ крепость ћекленбург, позже известна€ как столица ободритских кн€зей и один из самых знаменитых слав€нских городов юга Ѕалтики.
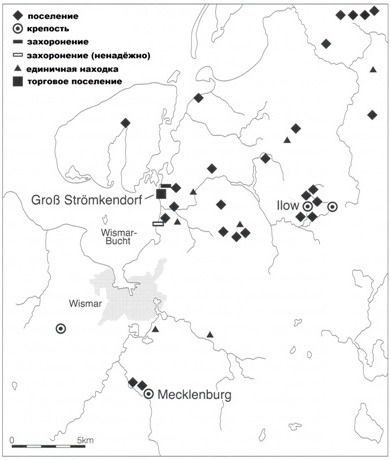
–асположение √росс ЎтрЄмкендорфа и крепостей »лово и ћекленбург
–асположенный у южного кра€ ¬агрии, у сли€ни€ рек “равы и —вартов, город Ћюбица наиболее хорошо известен по хронике √ельмольда в контексте событий XI-’II века. ѕосле возвращени€ из изгнани€ √енриха √оттшальковича, Ћюбица становитс€ резиденцией христианской династии ободритских кн€зей, а вместе с тем и главным городом всех подвластных им земель от —еверного мор€ до ѕоморь€. ¬первые в письменных источниках Ћюбица по€вл€етс€ довольно поздно. —холи€ 12(13) к хронике јдама Ѕременского гласит: «“равена – это река, котора€ протекает через земли вагров и впадает в ¬арварское море, на этой реке расположены – единственна€ гора јльберк и город Ћюбек».

ћакет-реконструкци€ крепости Ћюбица
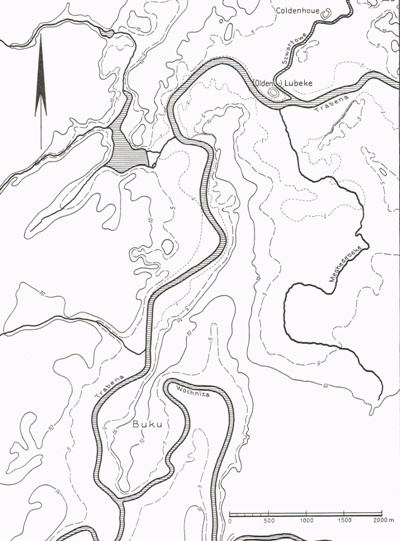
–асположение крепостей Ћюбицы и Ѕуку по ¬. Ќойгебауеру
¬ другом месте јдам ставит Ћюбицу (Leubice) XI века в р€д с наиболее значительными ободритскими городами того времени – —таригардом, –атцебургом и Ћенценом, упомина€, что уже во врем€ правлени€ вернувшегос€ из датского изгнани€ кн€з€ √оттшалька (1043-1066 гг.), в городе имелись христианские монастыри (Adam, 3-19). ќднако истори€ города началась много раньше этого. ƒендрохронологический анализ брЄвен крепости датирует еЄ основание 819 годом. ¬ ’I-’II вв. истори€ города оказалась тесным образом св€зана с противосто€нием €зыческой и христианской слав€нских династий, так что город разрушалс€ и возводилс€ заново в за сотню лет несколько раз. ’ронологию событий этого времени можно приблизительно реконструировать следующим образом:
• после 1066 г. (до 1093 г.) – разрушение Ћюбицы в ходе €зыческого восстани€ и возведение кн€зем рутом новой крепости Ѕуковец у сли€ни€ рек “равы и ¬окуницы, около 4 км южнее разрушенной Ћюбицы;
• около 1093 года – разрушение крепости Ѕуковец в результате нападени€ вернувшегос€ из изгнани€ с датским флотом √енриха;
• после 1093 г. – восстановление √енрихом крепости Ћюбица на прежнем месте у сли€ни€ “равы и —вартова;
• начало XII века – осада Ћюбицы рюгенскими слав€нами и поражение их у стен города;
• 1138 г. – разрушение Ћюбицы рюгенскими слав€нами под предводительством потомка рута, кн€з€ –аце;
• 1143 г. – основание немецкого города Ћюбек на месте разрушенной крепости кн€з€ рута Ѕуковец.
Ћюбица была столицей всех подвластных ободритам земель с 1093 по 1138 гг. ѕосле раздела ободритского королевства между Ќиклотом и ѕрибиславом и разрушени€ —таригарда, в 1131-1138 гг. Ћюбица была столицей ¬агрии, став одновременно и последней еЄ слав€нской столицей.
јрхеологическое изучение крепости старой Ћюбицы началось ещЄ в XIX веке. ”же первые раскопки, проводившиес€ в 1852-1867 гг. св€щенником . люгом, вы€вили фундамент построенной √енрихом каменной церкви. ¬ 1882 году раскопки продолжил любекский инженер Ё.јрндт, в результате чего были обнаружены остатки дерев€нных конструкций, указывавшие на поселение за пределами крепости. ¬ 1906 и 1908 гг. раскопки в Ћюбеке проводил ¬. ќнезорге. ѕоследний этап исследований пришЄлс€ уже на послевоенное врем€ 1947-1950 гг., начавшись под руководством польской исследовательницы ј. арпиньской и продолженный ¬. ’юбнером и другими немецкими исследовател€ми. Ѕыло вы€влено три периода существовани€ крепости, а само еЄ основание датируетс€ 819 годом. Ќаходки в культурных сло€х были представлены в основном керамикой: лепной в наиболее раннем слое и гончарной средне- и поднеслав€нской в двух последующих сло€х.
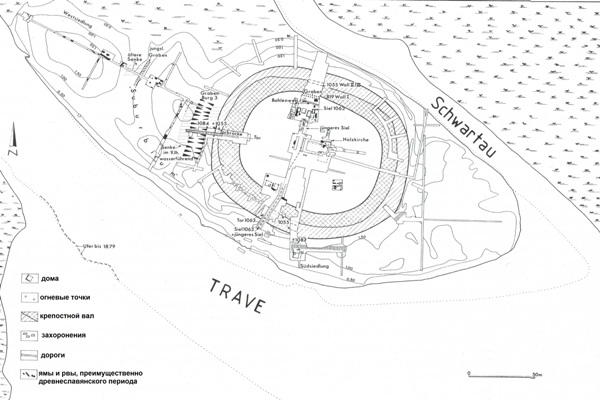
ѕлан раскопок городища Ћюбицы
Ќаиболее значительные и богатые находки были сосредоточены в церкви или непосредственной близости от неЄ и пришлись на последнюю фазу существовани€ города. ¬озможно, такое обсто€тельство объ€сн€етс€ тем, что когда в 1138 году город был разрушен в ходе внезапного нападени€, его жители не успели вынести ценные вещи, либо попытались их спр€тать, но были впоследствии убиты и не смогли их забрать, первые разрушени€ города не имели такого кардинального характера. ÷енные вещи, как и сами ремесленники и торговцы могли быть перевезены рутом в Ѕуковец, на территории которого, ввиду того, что она представл€ет плотно застроенный жилыми домами исторический центр современного Ћюбека, не проводилось масштабных археологических исследований.

‘ундамент церкви √енриха в —тарой Ћюбице
¬ случае же —тарой Ћюбицы наиболее интересный материал принесли раскопки построенной √енрихом и разрушенной –аце церкви. ак р€дом с этой церковью, так и внутри неЄ, был найден р€д погребений, очевидно, принадлежавших знатным христианам из окружени€ √енриха. ќ высоком статусе посещавших церковь и погребЄнных в ней людей говор€т находки 6 золотых височных колец, 4 золотых перстней, христианской паломнической реликвии в виде раковины, серебр€ной монеты и железной чаши. ќдин из золотых перстней содержал надпись Thebal Cuttani. “акие перстни в «ападной ≈вропе известны как атрибуты высшей знати и духовных лиц. ¬ двух известных случа€х носител€ми таких колец в раннесредневековой √ермании были немецкий император и епископ.

«олотые кольца из церкви Ћюбицы
—ама церковь отличалась от прочих, известных в то врем€ в северной √ермании, своими малыми размерами и архитектурой. “ак, в частности, не€сной остаЄтс€ предназначение фундамента ещЄ одной стены, проход€щей снаружи параллельно еЄ задней стене и равной ей по ширине. »сследование известковой породы показало, что материал дл€ церкви был привезЄн не из известного в то врем€ места добычи на горе «егеберг в ¬агрии, а с датских островов. ¬ происхождении не характерной формы также подозреваетс€ датское вли€ние, либо же самосто€тельное развитие в слав€нских земл€х. —в€зи с ƒанией, впрочем, выгл€д€т более чем естественно, принима€ во внимание датские корни самого √енриха и долгие годы, проведЄнные им в датском изгнании. ѕеред крепостью находилось довольно обширное ремесленное поселение-посад с указани€ми на токарную резьбу по дереву, обработку кожи и кузнечное дело. —реди наиболее интересных находок в ремесленном поселении можно отметить раскопки мастерской резчика по дереву, в которой кроме уже готовой продукции и заготовок был найден необычный резной гребень со стилизованными изображени€ми, по всей видимости, мифологических сюжетов.
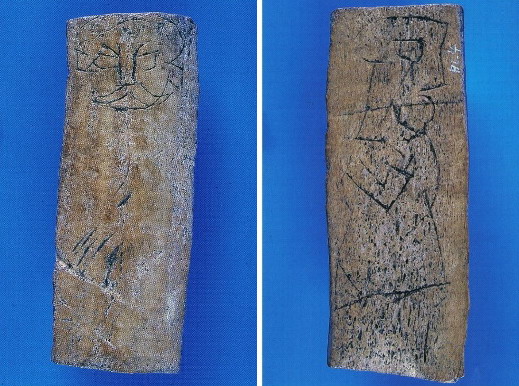
Ќаходки из токарной мастерской Ћюбицы
Ќаходка оков может говорить о продаже на местном рынке и рабов или на содержание в крепости пленников.

Ќекоторые находки из Ћюбицы: золотые височное кольцо и фибула, покрыта€ глазурью фигурка настольной игры ’нефатафл, оковы, пилки по кости
—ледующим важным пунктом торгового маршрута должно было быть устье реки ¬арнов в районе современного города –осток. ѕервое упоминание –остока в письменных источниках относитс€ только ко второй половине 12 века, однако, истори€ слав€нского заселени€ этих мест восходит ещЄ к 7-8 векам н.э. репости в это врем€ ещЄ не было, а наиболее ранние слав€нские поселени€ находились на месте современных городских районов √ельсдорф, ƒирков и в районе церкви св. ѕетра в историческом центре современного города.
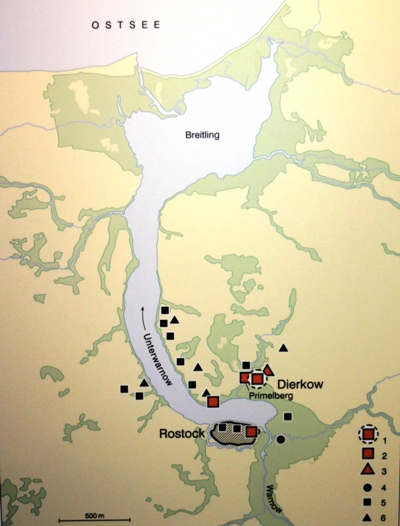
—лав€нские поселени€ в устье ¬арнова: 1- древнеслав€нский торгово-ремесленный центр (–осток-ƒирков); 2 – древнеслав€нские поселени€; 3 – древнеслав€нские кладбища; 4 – позднеслав€нска€ крепость; 5 – позднеслав€нские поселени€; 6 – позднеслав€нские кладбища
¬ ƒиркове в VIII-IX веках находилось значительное торгово-ремесленное поселение. » хот€ этот, находившийс€ далеко от границ франкской империи и, по всей видимости, принадлежащий враждебным им велетам эмпорий не отметилс€ ни в одном письменно источнике того времени, археологические раскопки 1985-1991 годов позвол€ют пролить немного света на его историю. ак и многие другие подобные открытые поселени€ балтийских слав€н, приморский торговый центр в ƒиркове был открыт случайно, когда в процессе строительства дороги у горы ѕримельберг рабочие наткнулись на скоплени€ древних артефактов. роме остатков домов, колодца, тыс€ч черепков древнеслав€нской керамики, тут были найдены следы обработки кости, €нтар€, стекла и металла – как обычного кузнечного дела, так и ювелирного.8 »з кости изготовл€лось множество самых разнообразных вещей от простых крючков и украшенных резьбой иголок дл€ нужд местного населени€, так и предназначенных на экспорт трЄхслойных гребней. ¬ качестве интересного примера резьбы по кости можно назвать изготовление игровых фигур из коренных зубов лошади. роме –остока така€ техника примен€лась также в датском ’аитабу.


Ќаходки из ƒиркова по ƒ. ¬арнке, 1993
»з €нтар€ изготавливались бусины, различные подвески и пр€слица. ак и в √росс ЎтрЄмкендорфе, высокого уровн€ в –остоке достигло производство стекла, в особенности, очень ценных по тем временам стекл€нных бус. ¬ обоих торговых поселени€х дл€ этого примен€лись импортированные осколки стекла. ачество многих ремесленных инструментов было отменным. јрхеолог ƒ. ¬арнке упоминает найденный в ƒиркове «изысканный» резец по дереву и два пинцета из кости, пружинное действие которых сохран€лись неизменным до сих пор, а один из экземпл€ров ножниц дл€ резки жести и бронзы оказалс€ самым древний своего рода в западнослав€нских земл€х, что говорит о передовом уровне ремесленных технологий в –остоке в VIII-IX вв. ћножество находок импортных вещей и украшений из франкских и скандинавских земель подчЄркивают развитую торговлю как по суше, так и по морю. —амо же население торгового центра жило преимущественно в земл€нках.
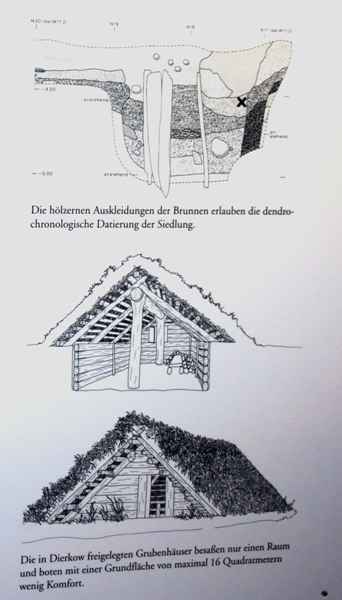
–еконструкци€ дирковских земл€нок
ѕроведЄнные по нескольким сохранившимс€ доскам колодца анализы дендродат показали конец 8 – первую половину 9 веков. –€дом с колодцем был обнаружен клад, предположительно принадлежавший жившему в поселении ювелиру и содержавший издели€ из золота и серебра, ремесленные инструменты, медные слитки, формы дл€ отливки, пробный камень со следами золота и стекл€нные бусы. ќсобого внимание заслуживает серебр€ный эфес меча из этого клада, указывающий на изготовление или, по крайней мере, ремонт мечей уже собственно в балтийско-слав€нских земл€х в 8-9 века.

Ќаходки из ƒиркова по ƒ. ¬арнке, 1993
¬ поселении был найден как франкский (бадорфска€, татингска€ и ракушечна€ керамика «мушельгрус», эйфельский базальт, пр€жка ремн€) и скандинавский (фибулы и подвески) импорт. ¬ том числе две «птичьих» фибулы, пластинчатые и равноплечные фибулы, несколько медных подвесок, одна из которых была покрыта позолотой.

«олотой перстень из ƒиркова по ƒ. ¬арнке, 1993
»сход€ из контекста находки этих украшений не в захоронени€х, а в поселении, где работали кузнецы и ювелиры, не кажетс€ неверо€тным и производство здесь этих скандинавских украшений – хот€ тогда разумнее говорить об украшени€х в скандинавском стиле. ћожно указать и на известность идентичных равноплечных фибул и в другом торговом центре того же времени – в находившемс€ так же в земл€х велетов поселении ћенцлин.
Ќи причала, ни могильника в ƒиркове найдено не было, однако, странным образом одно захоронение находилось пр€мо посреди поселени€. ѕрах кремированного 30-40-летнего мужчины был оставлен в урне раннеслав€нского типа —уков. »з инвентар€ был вложен лишь трЄхслойный гребень.
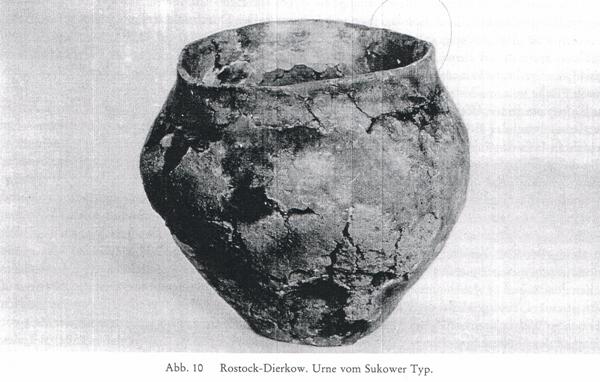
«ахоронение из ƒиркова по ƒ. ¬арнке, 1993
Ќесмотр€ на то, что существование торгового поселени€ датируют 8-9 веками, слав€нские поселени€ в ƒиркове не прекратили своего существовани€ в дальнейшем. ќписанное выше ремесленное поселение находилось под горой ѕримельберг и, предположительно, было оставлено в середине 9 века. Ќовое, сменившее его поселение, было перенесено на саму гору ѕримельберг, где нар€ду с импортом были найдены следы тех же ремЄсел, что и в первом поселении под горой, за исключением лишь ювелирного дела. Ёто новое поселение просуществовало до самого 14 века, хот€ должно было потер€ть значение не позднее середины 12 века, когда центр торговли и ремесла был перенесЄн в –осток. —амо название ƒирков (первое упоминание 1312 как Derеkow) лингвисты вывод из слав€нского личного имени ƒерко.
¬ качестве возможной кн€жеской ставки, из которой контролировалс€ открытый торгово-ремесленный центр в ƒиркове, археолог …. ’еррманн предполагал наход€щуюс€ на рассто€нии ок. 8 км к юго-востоку крепость возле деревни ‘резендорф, существовавшую одновременно с ƒирковом.
Ќе менее веро€тными кажутс€ и другие два претендента. ќдин – крепость –осток-ѕетрибл€йхе, наход€ща€с€ не более чем в 2 км южнее ƒиркова. ¬ывод о поздней еЄ датировке был сделан по нескольким немногочисленным фрагментам позднеслав€нской керамики, найденной на еЄ территории. ќднако, ввиду того, что планомерных раскопок здесь не проводилось, точно судить о датировке сложно. Ёта крепость действительно использовалась в позднеслав€нский период и должна была быть тем городом –осток, о разрушении которого данами во второй половине XII века сообщает —аксон √рамматик. Ѕудучи разрушенным в результате нападени€, –осток был заново отстроен ѕрибиславом в 1171 году на том месте, где сейчас находитс€ исторический центр современного –остока, и в верхних сло€х старого –остока действительно можно было бы ожидать позднеслав€нскую керамику, употребл€вшуюс€ жител€ми в XII веке, хот€ сам город в то же врем€ мог иметь и более ранние слои, установить которые возможно было бы лишь в ходе археологического исследовани€. ¬ насто€щее врем€ эта крепость полностью уничтожена, а место еЄ расположение превращено в авто-парковку.
¬ качестве другого кандидата можно указать и на расположенную в 5 км южнее ƒирковка крепость ессин, впоследствии известную как столица одноимЄнного племени кессинов. —в€зь торговых центров с племенными столицами прослеживаетс€ и в большинстве других известных балтийско-сла€нских племЄн (—таригард у варов или ваигров, ћекленбург у ободритов, ƒеммин у чрезпен€н), кроме помор€н, у которых, в силу особенностей социального стро€, торговые центры развивались несколько иначе. —толица племени кессинов, котора€ должна была быть и кн€жеской резиденцией, таким образом, как нельз€ лучше подходила бы на эту роль. ћестонахождение описанных ещЄ в XIX веке остатков крепостных валов кессинской крепости вскоре было «утер€но» и снова обнаружено лишь в 1993 году с помощью аэрофотосъЄмки. јрхеологические раскопки там не проводились.

√ород ƒимин, в насто€щее врем€ записываемый как ƒеммин, упоминаетс€ јдамом Ѕременским как лежащий на морском торговом пути и населЄнный рюгенскими слав€нами. ¬месте с тем, ƒеммин был и столицей велетского племени чрезпен€н, земли которых в ’I-XII вв., а возможно уже и в X веке, находились под частичным контролем и вли€нием –югена. Ќесмотр€ на то, что город был расположен достаточно далеко от мор€, именно его расположение на сли€нии рек ѕены и “оллензы и должно было стать одной из причин процветани€ города. ѕо ѕене из ƒеммина кратчайшим путЄм можно было попасть в устье ќдры, с расположенными там богатыми поморскими городами, а по “оллензе – спуститьс€ к “оллензскому и Ћипскому озЄрам – самой густонаселЄнной области балтийских слав€н, центру земель толленз€н и редариев, и расположенному где-то поблизости культурному, религиозному и политическому центру велетов, городу-храму –едегосту или –етре. ”же с первых упоминаний области чрезпен€н к северу от ѕены предстают как место пересечени€ интересов слав€нских политических сил южной Ѕалтики – велетских племЄн, рюгенских слав€н, помор€н и ободритских кн€зей. ѕосле р€да побед христианских ободритских кн€зей над –югеном, в ’II веке эти земли вход€т сначала в королевство √енриха √оттшальковича, а после его смерти, крещени€ ѕоморь€ и неудачной попытки –югена вернуть своЄ вли€ние в устье ќдры восточна€ часть их вместе с ƒеммином переходит под контроль поморских кн€зей.
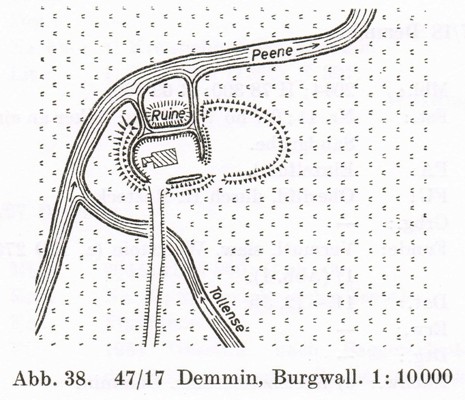
–асположение ƒеммина и крепостные валы по Corpus archäologischer Quellen
роме хроник јдама Ѕременского и √ельмольда, ƒеммин упоминаетс€ как один из важных городов бывших велетских земель в жизнеописани€х ќтто Ѕамбергского, крестившего ѕоморье. ѕо всей видимости, река ѕена в это врем€ должна была быть куда полноводней, так как во врем€ второй поездки ќтто в ѕоморье сообщаетс€, что на помощь прин€вшим христианство и ожидавшим нападени€ вильцев жител€м ƒеммина по ѕене пришЄл флот поморского кн€з€ ¬артислава. ќ значении города говорит и то, что во врем€ крестового похода на слав€н в 1147 году ƒеммин, нар€ду с крепостью Ќиклота ƒобин, стал главной целью осадивших его крестоносцев. Ќеизвестно, удалось ли тогда крестоносцам вз€ть город – у √ельмольда речь идЄт только о его осаде – но, так или иначе, ƒеммин осталс€ одним из наиболее хорошо укреплЄнных крепостей и наиболее значительных центров сопротивлени€ саксонскому завоеванию и после этого. ѕосле смерти Ќиклота в ƒеммин, пользу€сь покровительством поморских кн€зей, перебралс€ его сын ѕрибислав, отсюда соверша€ набеги на захвативших земли его отца саксонские гарнизоны. ѕосле поражени€ слав€нских войск в битве при ¬ерхене в 1164 году, ѕрибислав, отступа€ в ѕоморье, приказывает сжечь город, после чего саксонские войска сравн€ли с землЄй и его крепостные насыпи. ¬осстановление ƒеммина было начато ѕрибиславом и поморскими кн€зь€ми уже вскоре, однако, никогда более городу уже не суждено было достичь своего былого значени€.
ѕо всей видимости, разрушение ƒеммина в 1164 году должно было быть действительно очень основательным, так как несмотр€ на до сих пор сохран€ющиес€ на окраине современного ƒеммина остатки валов слав€нской крепости и пробные раскопки во второй половине прошлого века, значительных находок здесь сделать не удалось. »з наиболее интересных можно отметить большую концентрацию находок оружи€ – меча, топоров, копий.
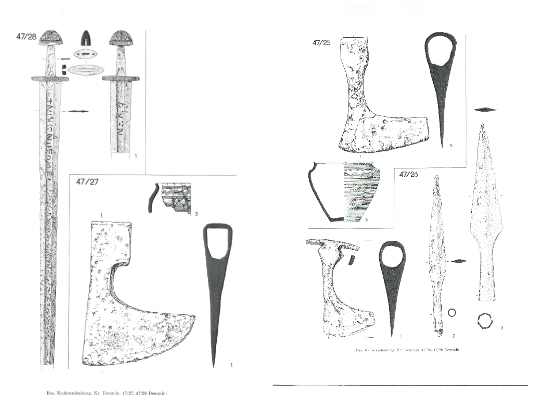
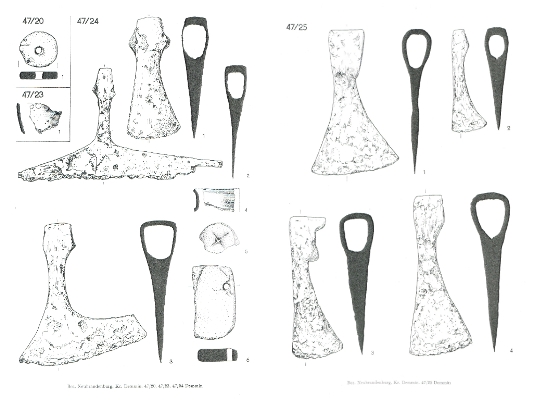
Ќаходки оружи€ из ƒеммина
¬озможно, в св€зи с ƒеммином стоит рассматривать позднеслав€нский некрополь, исследованный в соседней деревне «анцков. Ќесмотр€ на то, что погребени€ были представлены ингумаци€ми, многие детали погребального обр€да, как и особенности самих погребЄнных, представл€ют интересную информацию об обыча€х чрезпен€н. роме обычных ингумаций здесь известно и несколько «сид€чих захоронений», ещЄ больший интерес представл€ют два захоронени€ «вампиров» (головы захороненных были прижаты к земле огромными т€жЄлыми валунами), захоронени€ людей с символическими трепанаци€ми черепа и немало удивившими в своЄ врем€ археологов сложными протезами зубов. Ќа иллюстрации ниже – инвентарь погребений из слав€нского кладбища в «анцкове, 3 км от ƒеммина.
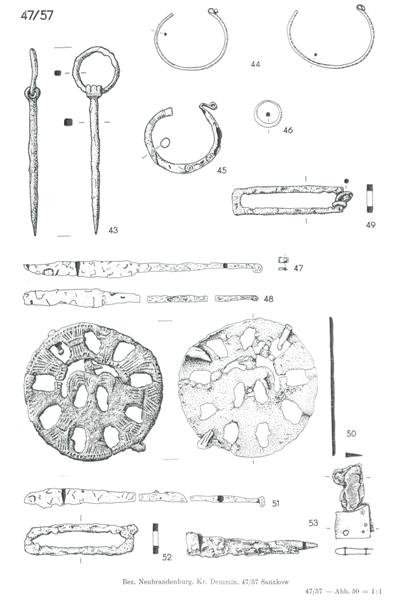
¬ то врем€ как раскопки в ƒеммине не принесли особенно интересных результатов, значительный торгово-ремесленный центр был найден археологами выше по течению ѕены, недалеко от сли€ни€ еЄ с устьем ќдры, возле деревни ћенцлин, вблизи города јнклам. ѕланомерные археологические исследовани€ торгового поселени€ в ћенцлине проводились в 1960-70х годах и были опубликованы в монографии ”. Ўокнехта в 1977 году.9
–аскопки вы€вили крупное торгово-ремесленное поселение с многочисленными мастерскими по обработке €нтар€, кости, изготовлению гребней, кузнечного дела, обработки цветных металлов и стекла, в том числе и производства стекл€нных бус, как и многочисленного импорта из франкских, фризских, скандинавских и восточноевропейских земель. ќсобый интерес представл€ют и раскопки части большого, принадлежащего к поселению могильника. ¬ 8 из 30 изученных до 1977 года захоронени€х были обнаружены окружающие их каменные кладки в форме ладей, а также 9 каменных кругов, окружавших захоронени€. —ам могильник располагалс€ пр€мо на месте более древних кладбищ эпохи бронзы и доримского периода, таким образом, что некоторые захоронени€ 8-9 веков были оставлены пр€мо поверх более древних. ѕериод существовани€ поселени€ датируетс€ с 8 до середины 10 вв. Ѕлижайшие параллели менцлинскиму похоронному обр€ду, представленному каменными кладками в форме ладьи, на юге Ѕалтики обнаруживаютс€ в –усиново в «ападном ѕоморье.10 Ёто также датированное VIII-IX веками захоронение, сделанное в непосредственной близости со слав€нской крепостью, подтверждает не только наличие такого погребального обр€да и в других слав€нских земл€х рассматриваемого региона, но и на возможную св€зь обр€да с местной знатью, проживавшей в крепост€х.

аменна€ кладка в могильнике ћенцлина в наши дни, на заднем плане река ѕена
»з находок 1970-х гг., возможно попавших в ћенцлин из северо-западной –уси или южной ‘инл€ндии, можно указать на подковообразные фибулы и находки арабских монет вне кладов. ћорским путЄм мог поступать на юг Ѕалтики и овручский шифер, пр€слица из которого были найдены в рассматриваемом регионе. Ќаходки, сделанные в ћенцлине после выхода упом€нутой выше монографии, были частично опубликованы ’. …онсом и –. Ѕл€йле в 2006 году. »з новых находок, указывающих на св€зь ћецлина с северо-западной –усью, можно отметить многочисленные арабские монеты вне кладов, колокольчики, центром распространени€ которых были балтские и финские земли северо-восточной ≈вропы, а также бронзовое изображение человеческого лица, в котором археолог ’. …онс подозревает культовый предмет и отмечает, что оно «выказывает в детал€х изображени€ причЄски, глаз и рта близкое соответствие с находкой из —тарой Ћадоги… датированной 8 веком. “ак что происхождение менцлинской находки из района —тарой Ћадоги выгл€дит веро€тным».11
ќн же комментирует и другую находку, указывающую на возможные св€зи ћенцлина с северо-западной –усью: «ќхватывающие всЄ южнобалтийское побережье св€зи проживавших в ћенцлине торговцев раскрывает находка выполненного из бронзы миниатюрного флюгера. ”крашенна€ в стиле боре находка принадлежит к эксклюзивной группе декоративных предметов второй половины IX – первой половины X веков, найденных в средней Ўвеции, на √отланде, в Ёланде и недалеко от русского —моленска, нагл€дно показывающий торговые маршруты вар€гов».12

Ѕронзовый флюгер из ћенцлина
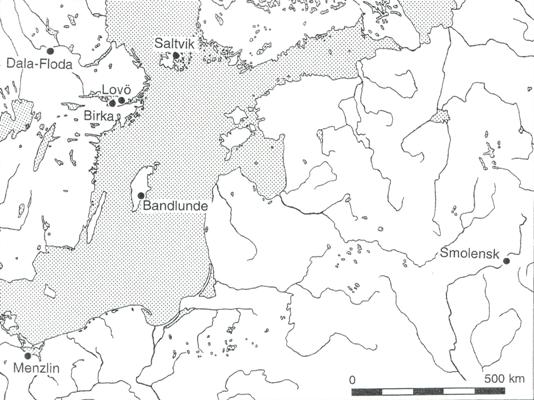
Ќаходки однотипных менцлинскому флюгеров
¬ызывает интерес и исследование в 2000 году ещЄ одного захоронени€ менцлинского могильника, на этот раз представленное не каменной кладкой, а оставленное в несожжЄнном планочном корабле и без инвентар€. Ѕлижайшие параллели такому погребальному обр€ду наход€тс€ в регионе в том же временном отрезке в могильнике, принадлежавшем торгово-ремесленному поселению в √росс ЎтрЄмкендорфе возле ¬исмара, где из 6 обнаруженных лодочных захоронений 5 также представл€ло собой захоронени€ в планочных несожжЄнных корабл€х.13
ак и открытое в 2000 году новое лодочное захоронение в ћенцлине, четыре из п€ти вышеуказанных лодочных захоронений в √росс ЎтрЄмкендорфе не содержали никакого инвентар€. »нвентарь, найденный в п€том гроссштрЄмкендорфском лодочном захоронении, был представлен слав€нской и фризской керамикой, оставленной вместе с франкским мечЄм. Ўестое лодочное захоронение могильника в √росс ЎтрЄмкендорфе было представлено ингумацией в расширенной однодревке, и имеет многочисленные пр€мые параллели в других балтийско-слав€нских земл€х – в –альсвике на –югене, ”зедоме, ¬олине, ошалине.
Ќа расположение р€дом с ћенцлином контролировавшей его военной базы указывают находки оружи€ в реке непосредственно перед торговым поселением. Ќаиболее же веро€тным местом дислокации военных дружин можно предположить поселение √Єрке, где, как уже указывалось, также были сделаны многочисленные находки оружи€, на основании чего археолог …. ’еррманн предполагал там поселение или несохранившуюс€ крепость, контролировавшую торговый центр. јрхеологи ’. …онс и –. Ѕл€йле указывали в качестве возможного варианта и на расположенный несколько западнее слав€нский крепостной вал близь деревни √рюттов.

“опографи€ менцлинского комплекса по H. Jöns и R. Bleile, 2001
Ќеобычно больша€ дл€ региона концентраци€ находок мечей в ћенцлине и √Єрке указывает на значимость этого места и присутствие здесь военной элиты. Ѕлижайшие параллели наиболее раннему из этих мечей, относ€щемус€ к 7 веку и украшенному сложным узором саксу, археологи вид€т, кроме Ўвейцарии, также и в ‘инл€ндии, что в контексте других св€зывающих регион с северо-восточной ≈вропой находок может быть не случайным.
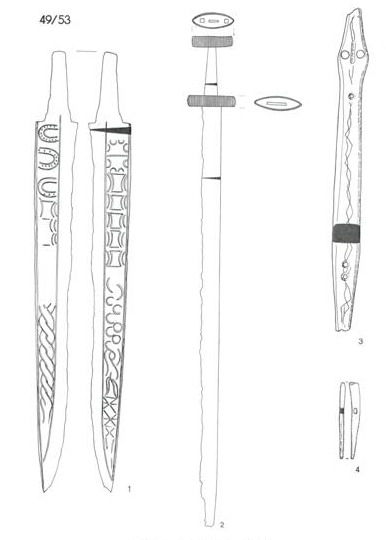
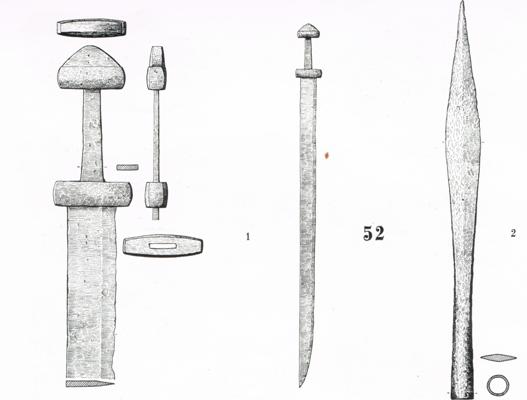
ћечи и прочее оружие из крепости √Єрке и окрестностей ћенцлина
—уд€ по находке в √Єрке происход€щего из иевской –уси керамического €йца, импортные вещи, привозимые менцлинскими купцами в устье ѕены, продавались здесь местной элите. “акие керамические €йца, известные в немецкой литературе как «киевские €йца», как и керамические овальные погремушки, были найдены в северной √ермании только в важных кн€жеских крепост€х и торговых центрах: Ўпандау, Ѕранденбурге, √Єрке, ¬олине, ”зедоме и, по всей видимости, были попул€рны у балтийско-слав€нской знати.
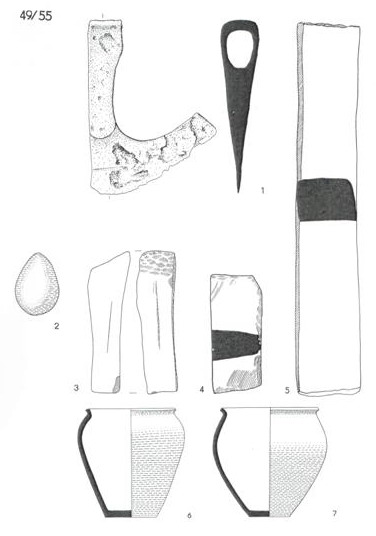
ерамическое «киевское» €йцо и некоторые другие находки из √Єрке
¬ качестве ещЄ одного претендента на расположение контролировавшей ћенцлин крепости можно назвать расположенный р€дом с ним город јнклам, где так же известны многочисленные слав€нские находки.
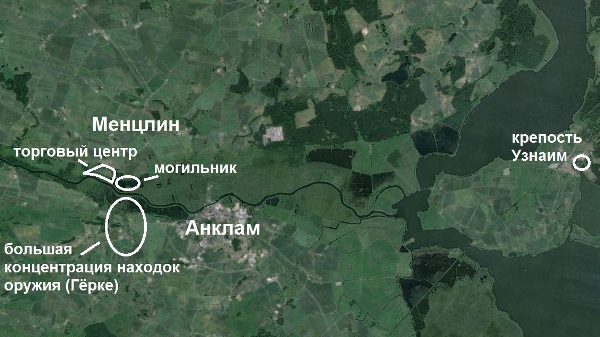
“опографи€ ћенцлина и город јнклам
— началом немецкой колонизации и христианизации ѕоморь€ јнклам стал известен как один из наиболее значительных немецких городов региона и, ввиду того, что большинство «новых» немецких городов XII-XIII вв. было основано или перестроено на месте старых слав€нских крепостей, это место обращает на себ€ внимание. —ама древнеслав€нска€ крепость могла быть впоследствии полностью застроена новыми домами. ћасштабных раскопок тут не проводилось, однако, в процессе ремонтных работ слав€нские находки ещЄ во времена √ƒ– были сделаны в 5 местах этого небольшого городка (16, 21,22,23, 25, 26). —реди находок в основном оружие и керамика.
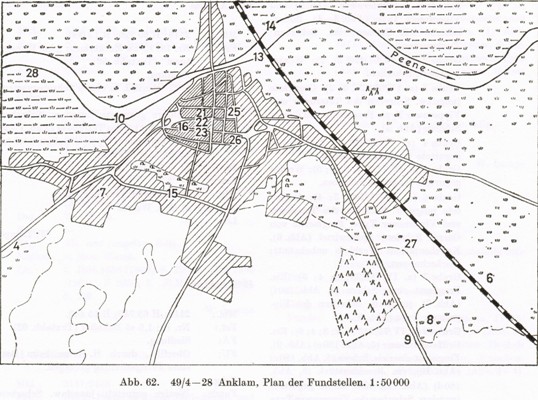
ќднако наиболее значительной находкой из јнклама стал клад арабского, преимущественно, североафриканского серебра, старша€ монета которого датируетс€ 811 годом, найденный здесь в 2009 году.14 ќставление клада, таким образом, соответствует периоду расцвета торгового центра в ћенцлине, и должно было быть св€зано с проводившейс€ там торговой де€тельностью. —евероафриканские монеты, в свою очередь, выказывают сходство с кладом в –альсвике на –югене 844 года, привезЄнном из ’азарии, и могут, таким образом, дополнительно указывать и на контакты ћенцлина с ¬осточной ≈вропой в этот период. —амо нижнее течение ѕены, от ƒеммина до острова ”зедом, в древнеслав€нские времена было очень густо заселено, что должно было быть св€зано с прохождением здесь торгового пути.
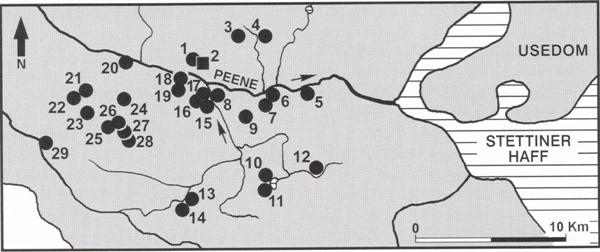
ƒревнеслав€нские находки в нижнем течении реки ѕены:
1,2 – ћенцлин; 5,6,7,9 – јнклам; 8,15,16,17 – √Єрке; 24 – √рюттов
ѕо другую сторону от реки ѕены, у места впадени€ еЄ в море, расположен один из трЄх крупных островов усть€ ќдры, по-немецки называющийс€ ”зедом, а по-польски ”знам. »з средневековых источников, в основном по жити€м ќтто Ѕамбергского, он известен в св€зи с одноимЄнным, располагавшимс€ на нЄм важным поморским городом ”знаимом. ¬ слав€нские времена весь регион усть€ ќдры и прилегающей к нему северо-западной части польского ѕоморь€ был одним из самых густонаселЄнных и богатых в западнослав€нских земл€х.

ћеста слав€нских находок на германской части острова ”зедом
”частие местных слав€н в межрегиональной торговле должно было начатьс€ уже в VIII веке. Ћюбопытно, что найденный на острове сапурский дирхам чеканки 715 года, по мнению исследователей, может €вл€тьс€ одновременно и древнейшей из найденных в западнослав€нских земл€х арабских монет вообще.15 VIII веком датируетс€ и основание древнейшей из известных на ”зедоме слав€нских крепостей, находивша€с€ возле современной деревни ћелентин.
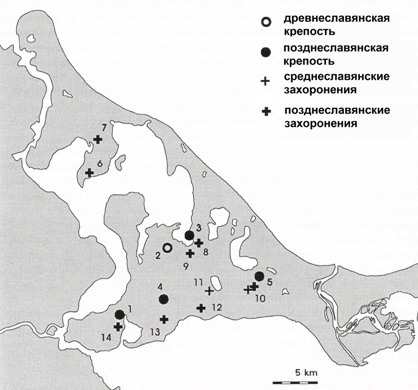
—лав€нские крепости и могильники на острове ”зедом
јрабские монеты IX века известны на ”зедоме лишь единичными или парными находками, клады – с начала X века, что в целом отражает и общую картину развити€ острова. ≈сли в наиболее ранний период археологией здесь подтверждено 86 слав€нских поселений, то к концу IX века их число увеличиваетс€ на 152,5%, а к ’I-XII вв. достигает 339 только на германской части острова. ”читыва€, что обща€ площадь принадлежащей √ермании части ”зедома составл€ет 373 кв.км, плотность населени€ здесь должна была быть очень высокой (почти 1 поселение на кв.км). репость ”знаим находилась в юго-западной части острова, практически напротив усть€ ѕены в районе јнклама, часть крепостного вала еЄ сохран€етс€ и до наших дней. сожалению, ни в одной из крепостей острова не проводилось сколько-нибудь детальных исследований. Ќаходки на поверхности или полученные из пробных раскопок были представлены преимущественно средне- и позднеслав€нской керамикой, в результате чего основание ”знаимской крепости предположительно датируют рубежом IX и X веков. ќднако даже по случайным находкам есть основани€ предполагать здесь один из приморских торговых центров и кн€жескую ставку по крайней мере с X века.

репость ”знаим (2) и окружающие еЄ позднеслав€нские открытые поселени€ (1)
Ѕольшое скопление следов открытых поселений вокруг крепости может указывать на нахождение здесь посада и торгово-ремесленных районов или рынков и принадлежавших к городу кладбищ. ќ рынке, расположенном где-то неподалЄку от города и «отвлекавшем» монахов соседнего монастыр€ √робе известно из грамот раннехристианского периода, в то врем€ как истори€ острова до начала его христианизации в XII веке не отразилась в письменных источниках. –аскопки двух слав€нских кладбищ в современном поселении ”зедом, неподалЄку от городища, показали, что несмотр€ на описанное в жити€х формальное прин€тие христианства, жители продолжали сохран€ть многие €зыческие традиции, о чЄм говор€т как находки многочисленных лодочных и одного камерного захоронени€, так и просто могилы с инвентарЄм и вложением монет с общей датировкой XI-XII вв. «ахоронени€ знати можно подозревать в двух найденных в другом месте острова захоронени€х воинов с мечами и шпорами. “акже и места находок кладов и монет на острове подтверждают средоточение торговой активности в западной его части.
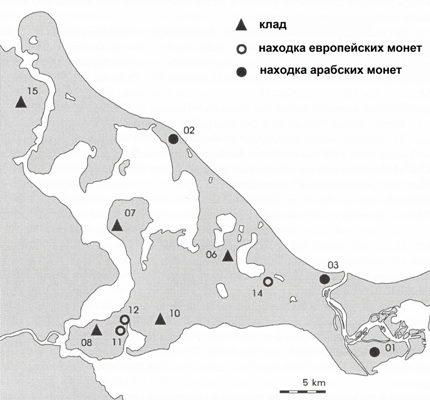
арта находок кладов и монет на ”зедоме
∆ити€ ќтто Ѕамбергского называют ”знаим в числе наиболее значительных поморских городов XII века и описывают как резиденцию поморских кн€зей. «акат крепости и жизни поселений на всЄм острове наступает во второй половине XII века. ¬ 1164 году, во врем€ датского нападени€, жители города, опаса€сь перехода важной крепости врагу, сжигают его. ¬ ходе дальнейших датско-поморских войн в 1170-х годах данами были опустошены и прилегавшие к крепости поселени€. ¬ числе случайных находок можно указать и на импорт из ¬осточной ≈вропы: карнеоловые бусины и фрагмент предположительно финской фибулы, котора€ представлена на иллюстрации ниже вместе с гребнем и другими находками из ”зедома.
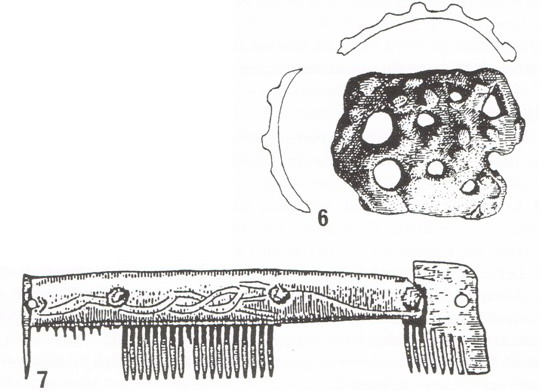
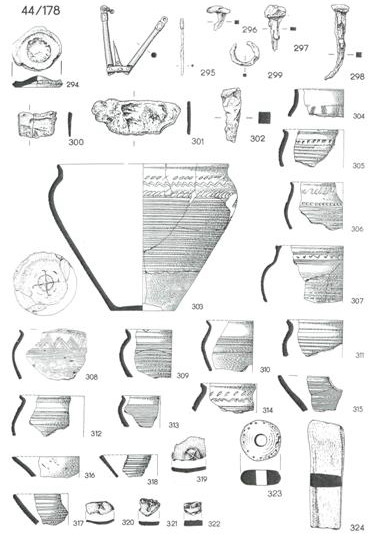
ѕродолжение следует…
јндрей ѕауль, историк и археолог
»сточник: http://pereformat.ru/2014/06/ostseeweg/
ћетки: –усь вар€ги |
Ѕодритесь ободриты!-1 |
ƒневник |
¬арины, которых называли ободритами
ќбодриты – одно из наиболее сильных и значительных племЄн балтийских слав€н в средние века. ќни насел€ли крайний северо-запад средневекового слав€нского мира, их земли начинались в ёжной ётландии на полуострове ¬агри€ на западе, граничили с —аксонией по реке Ёльбе на юге и с племенным союзом велетов или лютичей по реке ¬арнов на востоке, занима€ восточную половину федеративной земли Ўлезвиг-√ольштейн и западную половину федеративной земли ћекленбург-ѕередн€€ ѕомерани€ современной √ермании.

¬ историографии прин€то раздел€ть ободритов на «ободритов в узком смысле» – конкретное плем€, называвшеес€ ободритами, столицей которого была крепость ћекленбург, и «ободритский племенной союз», в который входили, как предполагаетс€, племена вагров, полабов, ободритов и варнабов. »ногда к ободритским племенам относ€т также и плем€ линонов, жившее на Ёльбе в районе города Ћенцен.
¬опреки тому, что форма «ободриты» в качестве названи€ одного из наиболее известных и сильных слав€нских племЄн юго-западной Ѕалтики прочно вошла в международную научную историографию и стала в ней общеприн€той, существуют серьЄзные основани€ сомневатьс€ в том, что именно она и была слав€нским самоназванием. ƒело в том, что форма эта, за единственным исключением, встречаетс€ только в континентально-германских или немецких источниках. »ли источникаx, восход€щих к этой летописной традиции и заимствовавших из неЄ формулировки через посредство титулов из утвердительных грамот латинской церкви. ¬ то же врем€ она неизвестна ни в ѕольше, ни в —кандинавии.
Oбодритов не знают польские хронисты адлубек и Ѕогухвал, оставившие в XIII веке подробнейшие описани€ ћекленбурга, многие детали которых основаны не на немецких хрониках того времени, а на каких-то других слав€нских источниках. Ќе знает их ни —аксон √рамматик, хот€ описываемые им событи€ датской истории XII века теснейшим образом св€заны с ободритами как династически, так и военно-политически, ни исландские саги: в обоих случа€х говоритс€ лишь о вендах, вандалах или слав€нах.
ѕодозрение вызывает уже сам факт, что употребл€ема€ немецкими источниками форма «ободриты» не имеет слав€нской этимологии, в чЄм видитс€ указание на веро€тный экзоэтноним. ¬озможно, название «ободриты» было перенесено франками на мекленбургских слав€н с какого-то обитавшего в IX веке на ƒунае племени. “ак, анналы королевства франков сообщают о том, как немецкий император в 824 году принимал в Ѕаварии послов «ободритов, которые повсюду называютс€ преденеценты и живут по соседству с болгарами на ƒунае в ƒакии». ћожно было бы предположить, что изначальна€ прародина этого слав€нского племени находилась в придунайских земл€х, откуда часть ободритов прибыла в северную √ерманию, а часть осталась на месте, однако, археологи€ этого не подтверждает. ¬ действительности же, с пришельцами из придунайских земель если кого и можно св€зать, то некоторые группы более южных слав€нских племЄн, известных под собирательным названием лужицких сербов. —лав€не, жившие в ћекленбурге, в то же врем€ оказываютс€ и в культурном (суково-дзедзицка€ керамика), и в €зыковом (северно-лехитские диалекты) отношении ближайшими родственниками слав€н из северной ѕольши.
‘орма ободриты начинает употребл€тьс€ впервые во франкской империи в конце VIII века и единственным еЄ упоминанием, не восход€щим к этой традиции напр€мую и не на континенте, которое мне удалось обнаружить, €вл€етс€ древнеанглийский перевод ќрозиуса, выполненный дл€ английского корол€ јльфреда в конце IX века. ¬ описании насел€ющих Ѕалтику народов южными сосед€ми данов там названы Afredi, что фонетически очень близко к некоторым формам записи ободритов во франкских хрониках (Abtrezi, Abtriti), и действительно географически соответствует проживанию ободритов в ёжной ётландии и по морскому побережью к югу от датских островов. Ќаибольша€ трудность тут заключаетс€ в установлении источников этих описаний. — одной стороны, часть данных должна была быть получена непосредственно от купцов и путешественников, как это видно в описани€х путешестви€ ¬ульфстана и путешестви€ в Ѕь€рмию. — другой – дл€ корол€ јльфреда в то врем€ переводились и «учЄные книги» вроде труда Ѕеды ƒостопочтенного и др. —ложно сказать, где была в этом случае почЄрпнута информаци€ конкретно об «афредах», живущих к югу от данов – пр€мо ли от самих данов, от английских ли купцов, или из франкских текстов или от франкских информаторов, использовавших в то врем€ форму «абтриты».
ќднако можно предположить, что источник информации о списке народов Ѕалтики в переводе ќрозиуса был германским, а не слав€нским. “ак, слав€нское плем€ гавол€н, имевшее два наименовани€ – хефелди (Ѕаварский √еограф, IX век) и стодор€не, названо в данном тексте «хефелдами». ¬ то врем€ как втора€ форма их названи€ – стодор€не – имеет черты слав€нского образовани€ от названи€ области —тодор при помощи суффикса -€не, и известна, кроме германских, также и по слав€нским источникам ( озьма ѕражский). Ќа странность формы хабелдун или хефелди давно было обращено внимание лингвистами, и в ней подозреваетс€ германский экзоэтноним, происход€щий от дослав€нского гидронима реки ’афель. “аким образом, из германской и слав€нской форм в «списке племЄн» јльфреда в этом случае с большой долей веро€тности был выбран германский экзоэтноним.
“о же можно сказать и о «вильцах», бывших германским обозначением слав€н, самоназванием которых было велеты. Ёта форма, однако, не €вл€етс€ исключительно франкской, но известна также и скандинавским сагам в виде эпонима ¬илькин, однако, неизвестность «вильцов» слав€нским источникам, знавшим их как лютичей, сама по себе не менее показательна в контексте разбираемого вопроса. “акже и общее обозначение балтийских слав€н в «списке јльфреда» – винеди – представл€ет из себ€ германский экзоэтноним, что верно, по крайней мере, дл€ IX века. “аким образом, выбор в «списке јльфреда» в пользу германских, а не слав€нских форм названий балтийско-слав€нских племЄн указывает, скорее, на германский источник информации. —амо же отнесение в нЄм земель от ƒона до –ейна к «√ермании» указывает на знакомство и использование дл€ составлени€ описаний в том числе и «книжной» континентальной традиции, восход€щей ещЄ к “ациту. ¬ том же IX веке така€ традици€ описаний «√ермании от –ейна до ¬ислы» прослеживаетс€ и во франкских источниках, к примеру, в биографии арла ¬еликого Ёйнхарда, описывавшего в том числе и ободритов в этой «¬еликой √ермании». ѕоэтому, учитыва€ указани€ в пользу германских информаторов јльфреда и использование франкской традиции с еЄ «абтритами» и исключительность этого источника на фоне полного молчани€ скандинавских, как наиболее веро€тный вариант, необходимо предположить восхождение «афредов» јльберта к современной ему франкской традиции «абтритов». ћожно отметить и соответстви€ в изменени€х транскрипции b>f в «списке јльфреда» и франкских формах того же времени (фр. Abtriti > др.-анг. Afredе; фр. Surbi > др.-анг. Surfе; фр. Hehfeldi > др.-анг. Hefeldan).
“ак или иначе, неупотребление формы «ободриты» их ближайшими сосед€ми – как слав€нскими, так и северогерманскими, вызывает целый р€д вопросов. ћожно отметить и неизвестность еЄ на –уси. –усские летописи знают наиболее значительные балтийско-слав€нские племена: лютичей и помор€н. ÷елый р€д свидетельств делает возможным известность рюгенских слав€н в ¬осточной ≈вропе под именем «русь», однако, полна€ неизвестность ободритов не получает никакого вразумительного объ€снени€, в случае если эта форма действительно была их слав€нским самоназванием, а не немецким экзоэтнонимом. Ќезнание ободритов русскими летопис€ми сложно объ€снить их, ободритов, незначительностью в политическом или экономическом плане или отсутствием ободритско-русских св€зей. ƒаже не говор€ о вы€вленных недавно св€з€х Ћадоги с ободритами ещЄ в VIII – начале IX вв., стоит отметить следующее обсто€тельство. –усские летописи называют формы названий балтийско-слав€нских племЄн, сложившиес€ не ранее X, а то и в XI вв.
‘орма «помор€не» со всей очевидностью была собирательным названием дл€ группы слав€нских племЄн, живших по побережью севернее будущих пол€ков, тогда ещЄ пол€н. ¬первые это название упоминаетс€ в XI веке, до этого же речь идЄт о более мелких племенах волын€н и пырычан у Ѕаварского географа в IX века. —корее всего, «ѕоморье» было изначально пон€тием географическим, и по нему уже всех живших там слав€н их более южные континентальные соседи собирательно называли «помор€нами». “акое название могло иметь смысл и по€витьс€ только у живших вдали от мор€ племЄн, так как, например, дл€ соседних с помор€нами рюгенских слав€н, выделение «поморского» характера волын€н, пырычан и прочих казалось бы довольно странным. — попытками подчинить себе ѕоморье польскими кн€зь€ми этот термин из географического начинает приобретать несколько иное значение, и обозначать владени€. н€зь ѕомеранский – а именно в такой форме впервые известно упоминание формы «помор€н» – в XI веке было, скорее, титулом и означало «кн€зь ѕоморь€», а не «кн€зь племени помор€н».
ќднако ввиду сопротивлени€ поморских слав€н стремлению пол€ков к включению ѕоморь€ в ѕольское кн€жество и его христианизации, начинаютс€ предпосылки к консолидации самосознани€ поморских племЄн как изначально отличных от пол€ков, более всего по принципу €зычники-христиане. ќднако о том, что «помор€не» не было изначальным самоназванием обитавших в ѕоморье слав€н, косвенно может свидетельствовать и тот факт, что така€ форма не сохранилась у их потомков, вместо этого называвшихс€ или называемых кашубами и словинцами. “аким образом, форма «помор€не», действительно, имела место в истории, но по€вление еЄ можно предположить не ранее X века, наиболее же актуальна она была в XI-XII веках, до прин€ти€ помор€нами христианства и сохранени€ ими самосознани€, противопоставл€ющего себ€ христианам-пол€кам.
‘орма лютичи также по€вл€етс€ в источниках не ранее X века, в то врем€ как до этого франкские анналы называют их вильцами, упомина€, что слав€нским их самоназванием было велеты (Ёйнхард). ¬полне возможно, при этом, что форма «лютичи» также была экзоэтнонимом, данным им соседними слав€нскими племенами. “акой вывод можно сделать из схолии 16(17) к тексту јдама Ѕременского, в которой сообщаетс€, что четыре племени хижан, чрезпен€н, толленцев и редариев «называют вильцами или лютичами за их храбрость». ¬ VIII-IX и, возможно, ещЄ в X веках племенной союз велетов включал в себ€ обширные земли от морского побережь€ на севере до реки √аволы в районе современных городов Ѕранденбург и Ѕерлин на юге. “очна€ дата распада союза не запечатлелась в источниках, однако, по р€ду фактов – проведению южновелетскими племенами независимой политики в X веке, упоминанию «гавол€н, называемых вильцами» как отдельного политического субъекта в переводе ќрозиуса во второй половине IX века и оставлением особой, характерной ранним велетам формы оборонительных сооружений, так называемых «больших фельдберских крепостей на высотах», в IX веке, можно прин€ть вторую половину IX века за возможную дату распада союза велетов. ¬озникновение нового названи€ лютичи можно св€зать с по€влением нового племенного союза уже упом€нутых выше четырЄх велетских племЄн. ¬первые на новый союз этих племЄн указываетс€ в XI веке, в схолии к јдаму Ѕременскому, что с детальными дополнени€ми подтверждает и √ельмольд в XII веке.
“аким образом, можно предположить по€вление формы «лютичи» в X веке. Ќаибольшего же вли€ни€ этот новый племенной союз достигает к XI – началу XII вв. ƒругими словами, русский летописец называет наиболее известные племена балтийских слав€н в формах своего времени, что на самом деле и пон€тно. “ем страннее становитс€ незнание русскими летопис€ми ободритов нар€ду с лютичами и помор€нами в XII веке – временем написани€ ѕ¬Ћ или предполагаемым более ранним не сохранившимс€ источникам XI века. »менно в это врем€ –усь, а именно новгородские земли, были тесно св€заны с ободритами торговыми контактами. јдам Ѕременский описывает южнобалтийский торговый путь, начинавшийс€ во входившем в «ободритский племенной союз» вагрийском городе —таригард и шедшем через земли лютичей (ƒеммин и река ѕене), помор€н (город ёмна), далее через ѕруссию на –усь (јдам, 2-18). “а же информаци€ о торговле —таригарда с –усью приводитс€ и √ельмольдом, подтвержда€сь современной археологией. Ќаходки импорта из иевской –уси на юге Ѕалтики отлично подтверждаютс€ находками арабских монет и кладов, маркирующими не только общее направление, но и промежуточные остановки на пути из —таригарда на –усь.
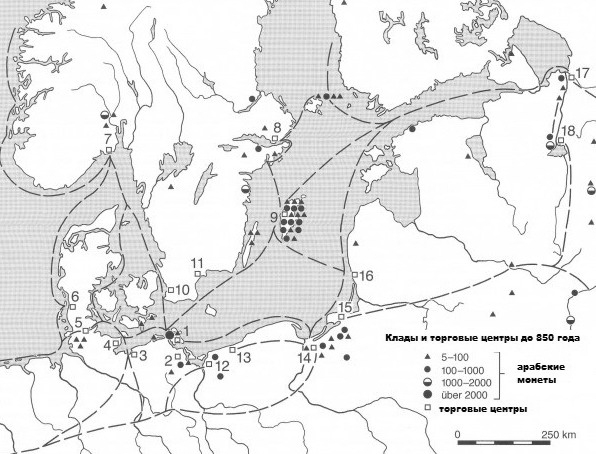
Ќаходки кладов арабских монет до 850 года и торговые пути на Ѕалтике.
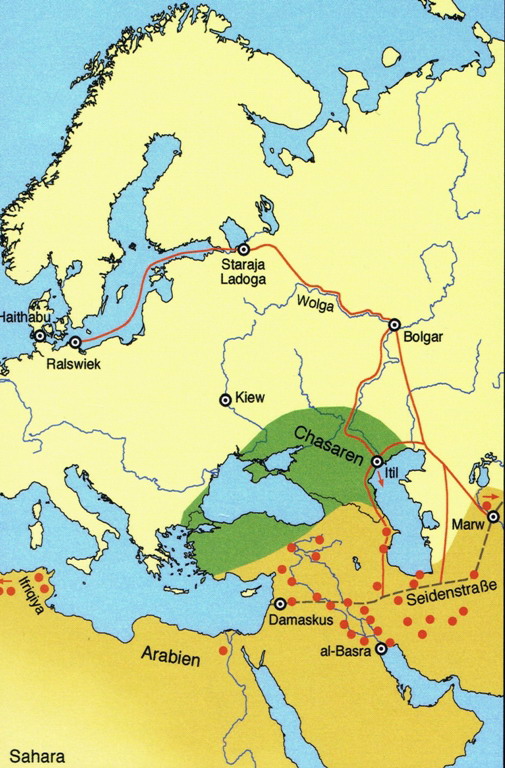
–еконструкци€ торгового маршрута из –альсвика на –югене в ¬осточную ≈вропу в сер. IX в.
ѕоэтому известность на –уси помор€н и лютичей, не говор€ уже о соседних пруссах, кажетс€ вполне закономерной, а неизвестность ободритов в то же врем€ вызывает вопросы. —тоит обратить внимание на импорт из иевской –уси, подтверждающий эти торговые св€зи ободритов – к примеру, глазированные керамические «киевские €йца-писанки» и овручский шифер. — торговлей с иевской –усью можно св€зать и византийские монеты, подвески из имитаций которых были попул€рны у ободритской знати в XII веке и найденные в важной ободритской крепости того времени – ƒобин. Ќаходки схожих брактеатов-имитаций византийских монет в –оскильде, с одной стороны, подтверждают попадание их на запад Ѕалтики морским путЄм, с другой – есть основани€ св€зывать эти имитации с торговым поселением балтийских слав€н ¬индебоде, бывшем предместьем –оскильде в XI-XII веках.
ћожно указать и на находки ободритских вещей в северорусских земл€х XI-XII веков. ¬ конце XI века власть над ободритским кн€жеством перешла к √енриху Ћюбекскому, в ходе удачных войн расширившему его до максимальных исторически известных дл€ ободритов размеров. ¬ начале XII века √енриху подчин€лись обширные земли, начина€ от берегов —еверного мор€ в Ќордальбингии на западе и выходившие за ќдру и включавшие в себ€ ѕоморье на востоке. Ќа юге его власть простиралась до реки √аволы в районе современных Ѕранденбурга и Ѕерлина.

оролевство √енриха Ћюбекского в начале XII века, по √ельмольду.
роме правителей рюгенских слав€н, √енрих был единственным из слав€нских правителей, удостоенных в хронике √ельмольда титула корол€. Ѕудучи христианином, он сделал своей столицей заново отстроенную на «христианский манер» крепость Ћюбицу, вследствие чего и получил в историографии «приставку» Ћюбекский. Ѕезусловно, королевство √енриха было очень вли€тельно в конце XI – начале XII века, не говор€ уже о том, что весь слав€нский участок южнобалтийского торгового пути из Ўлезвига и —таригарда через ¬олин и ƒеммин на –усь теперь находилс€ в его королевстве. ¬ это врем€ он чеканил свою монету, находки которой в ѕрибалтике и северо-западной –уси лишний раз подтверждают описанные јдамом и √ельмольдом торговые св€зи.
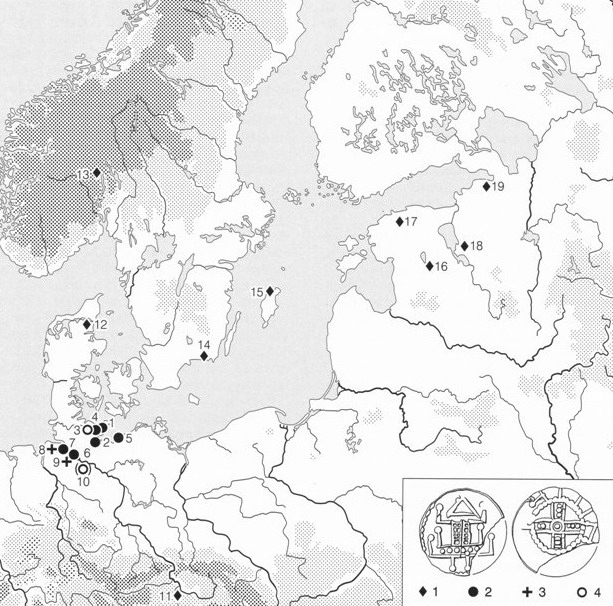
Ќаходки монет √енриха Ћюбекского.
Ќумизматический материал южнобалтийских кладов однозначно говорит о существовании торговых путей, св€зывающих балтийских слав€н со словенскими и позже новгородскими земл€ми совершенно независимо от также имевшей место быть торговли –уси со —кандинавией. ћожно указать на находки редких монет ард-аль-’азар середины IX века с острова –юген, совершенно неизвестных собственно в —кандинавии, но €вно св€занных с –усью и частично имевших даже редкие тамги хазарских каганов.
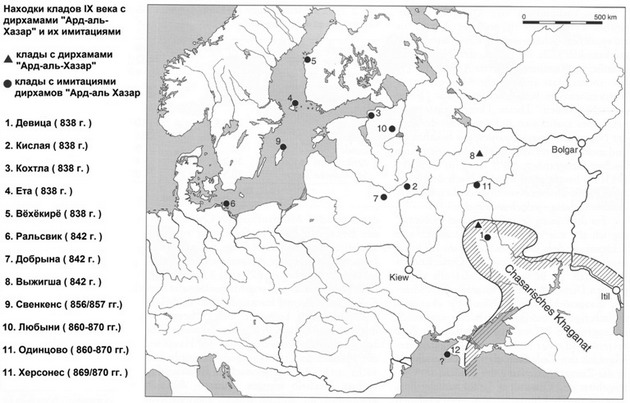
Ќаходки монет ард-аль-’азар середины IX века.
“о же можно сказать и о редких серебр€никах ¬ладимира —в€тославича X века, также неизвестных в —кандинавии, но находимых на юге Ѕалтики и отчЄтливо указывающих на тот же торговый путь через √отланд.
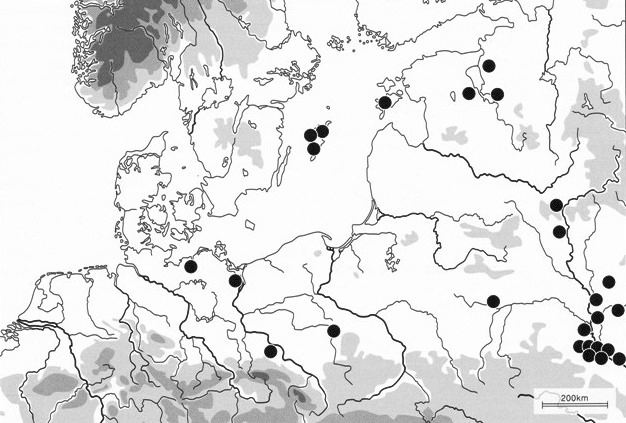
Ќаходки серебр€ников ¬ладимира —в€тославича на Ѕалтике X века.
Ќе менее интересны и находки редких серебр€ных украшений «пермского типа» на –югене и в устье ќдры IX-XI веков, предположительно бывшими предметом обмена балтийских купцов с финно-угорскими племенами северо-восточной ≈вропы, как и многие другие уникальные, св€зывающие южную Ѕалтику и –усь и неизвестные в —кандинавии находки. Ќеизвестность существовани€ ободритского королевства, по крайней мере, в период его наибольшего вли€ни€ при √енрихе Ћюбекском в XI-XII веках, приблизительно соответствующем времени написани€ первых летописей на –уси, объ€снить в таком случае крайне сложно. –ечь может идти с гораздо большей степенью веро€тности о неизвестности или неупотребл€емости в иевской –уси лишь самой формы «ободриты» дл€ западно-мекленбургских слав€н. “оргу€ с ними напр€мую, новгородские словене, скорее всего, знали своих партнЄров по их слав€нскому самоназванию, германский же «экзоэтноним» так и осталс€ на –уси неизвестным.
ƒалее можно отметить, что не отобразилось слово «ободриты» и в топонимике, в то врем€ как названи€ всех остальных племЄн «ободритского союза» наход€т такие параллели. Ќазвание полуострова ¬агри€ тождественно одной из форм названи€ племени, название полабов св€зано с названи€ми рек Ёльба/Ћаба, а варины или варнабы наход€т отражение в обильной топонимике на «вар». Ќа самом деле несоответствие названи€ племени названию занимаемой им области представл€етс€ совершенно уникальным и не характерным дл€ севернолехитских племЄн случаем. ¬се остальные названи€ племЄн северных лехитов того времени наход€т отражение в топонимике (вагры, полабы, смельдинги, линоны, варины, хижане, чрезпен€не, рюгенские слав€не, помор€не, волын€не, пырычане, укр€не, редарии, толленцы, моричане, «брежане» или «пригин€не», гавол€не, стодор€не, спреване, лебушане, речане).
Ќе сохранилась форма «ободриты» и в немецком фольклоре, по крайней мере, в той его части, дл€ которой нельз€ подозревать «литературной обработки» народных сюжетов немецкими авторами, увлекавшимис€ историей и хорошо знавших название «ободриты». ѕовсеместное распространение топонимики с основой «венд» дл€ слав€нских анклавов и поселений не только по всей √ермании, но и в —кандинавии, как и употребление на р€ду с ней в юридических документах XII-XIV веков приставки «венд» и «славус» дл€ граждан немецких городов со слав€нским происхождением, отчЄтливо показывают, что в то врем€, пока на юго-западе Ѕалтики сохран€лось слав€нское население, немцами примен€лись только эти две формы, перва€ из которых была общегерманским названием слав€н, а втора€ – латинской «учЄной» формой, либо слав€нским самоназванием. ‘орма ободриты, за разобранным выше исключением, в то же врем€ известна лишь по немецким «учЄным» текстам – хроникам и титулам кн€зей. Ќо в случае, если «ободриты» не было слав€нским самоназванием, то как же могли называть себ€ они сами?
ƒл€ разрешени€ этого вопроса можно указать и на ещЄ одну «ободритскую загадку» – плем€ варинов или варнабов. ѕринимаетс€, что плем€ это жило по реке ¬арнов к востоку от собственно ободритов. ќднако при ближайшем рассмотрении не трудно заметить, что описани€ этого племени коренным образом отличаетс€ от описаний всех прочих ободритских племЄн. ќбратимс€ к источникам.
ѕервым слав€нское плем€ варинов в контексте земель ободритов упоминал јдам Ѕременский в XI веке:
Populi Sclavorum multi, quorum primi sunt ab occidente confines Transalbianis Waigri, eorum civitas Aldinburg maritima. Deinde secuntur Obodriti, qui nunc Reregi vocantur, et civitas eorum Magnopolis. Item versus nos Polabingi, quorum civitas Razispurg. Ultra illos sunt Lingones et Warnabi. Mox habitant Chizzini et Circipani.
—лав€нские племена многочисленны; первые среди них – вагры, граничащие на западе с трансальбианами; город их – приморский ќльденбург. «а ними следуют ободриты, которые ныне зовутс€ ререгами, и их город ћагнополь. ƒалее, также по направлению к нам – полабы, и их город –атцебург. «а ними [живут] линоны и варнабы. ≈щЄ дальше обитают хижане и черезпен€не (2-18).
¬ разных списках рукописей јдама встречаютс€ формы записи варинов: Warnabi, Warnalii, Warnahi, Varnahi.
Ќельз€ не отметить следующее обсто€тельство: название «ободриты» дл€ слав€н, проживавших восточнее вагров, казалось хронисту не соответствующим реальности анахронизмом уже в XI веке («ободриты, которые ныне зовутс€ ререгами»). “аким образом, формой их названи€ в XI веке, по јдаму, было ререги. ћожно предположить, что друга€ форма названи€ ререгов – «ободриты» – была позаимствована јдамом из «∆изни арла ¬еликого» Ёйнхарда, момент с упоминанием ободритов, которой јдам цитируют всего несколькими строками выше («¬от что говорит Ёйнхард…» јдам, 2-17). јдам практически дословно повтор€ет этот свой «список племЄн» в ещЄ одном месте – фрагменте 4-19, где также фигурируют варнабы и ререги, с той лишь разницей, что ререги тут приравнены к ободритам вместе с полабингами без указаний на то, какие из этих форм были более современными:
Igitur omnes populi Sclavorum… hoc est Waigri et Obodriti vel Reregi vel Polabingi, item Linoges, Warnabi, Chizzini et Circipani.
Ѕолее пристальное внимание на форме ререги будет уделено впоследствии. —ледующим варнабов упоминает —аксонский јнналист в середине XII века дважды под 952 и 983 годами:
952. Uuaigiris, Abotritis vel Reregis, Polabingis, Linogibus, Uuanabis, Chizzinis, Circipanis…
983. Abotriti, qui nunc Reregi vocantur, et civitas eorum Magnopolis…Uuarnabi.
Ќе трудно заметить, что оба сообщени€ €вл€ютс€ пр€мыми цитатами из текста јдама Ѕременского, с которым автор безусловно был знаком и нередко цитировал в своей хронике. ”поминание 983 года представл€ет собой цитату отрывка јдама 2-18(22), а упоминание 952 года – цитату из отрывка 4-19. —аксонский јнналист не критически подходил к тексту јдама и не делал попыток изменить или исправить его содержание, поэтому за самосто€тельный источник его упоминани€ варнабов и ререгов считать нельз€ – это цитаты.
Ќемногим позже —аксонского јнналиста, во второй половине XII века, варнавов упоминает √ельмольд из Ѕосау в отрывке 1-2:
Deinde venitur ad Cyrcipanos et Kycinos, quos a Tholenzis et Rederis separat flumen Panis et civitas Dimine. Kycini et Circipani cis Panim, Tholenzi et Redari trans Panim habitant. Hii quatuor populi a fortitudine Wilzi sive Lutici appellantur. Ultra illos sunt Linguones et Warnavi. Hos secuntur Obotriti, civitas eorum Mikilinburg. Inde versus nos Polabi, civitas eorum Racisburg. Inde transitur fluvius Travena in nostram Wagirensem provinciam. Civitas huius provinciae quondam fuit Aldenburg maritima.
ƒальше мы попадаем к черезпен€нам и хижанам, которых от толенцев и редерей отдел€ют река ѕена и город ƒимин. ’ижане и черезпен€не живут по эту, толенцы и редери по ту сторону ѕены. Ёти четыре племени за свою храбрость называютс€ вильцами, или лютичами. Ќиже них наход€тс€ линоны и варны. «а ними следуют ободриты, город их — ћикилинбург. ќттуда по направлению к нам живут полабы, их город — –ацисбург. ќттуда, перейд€ реку “равну, мы попадаем в нашу землю вагров. √ородом этой земли был некогда приморский город јльденбург.
ак и у —аксонского јнналиста, отрывок с упоминанием варнов в ћекленбурге у √ельмольда восходит к «списку племЄн» јдама Ѕременского 2-18. –азница лишь в том, что јдам описывал слав€нские племена с запада на восток, от ¬агрии до ќдры, а √ельмольд же, наоборот, начинает от ќдры и заканчивает ¬агрией. Ќикакой новой информации по варнам √ельмольд в своей хронике в дальнейшем не сообщает.
ќднако прин€ть за самосто€тельный источник упоминание варнавов у √ельмольда всЄ-таки можно. —ледует обратить внимание на принципиальную разницу в подходе к использованию текста јдама √ельмольдом и —аксонским јнналистом. ¬ то врем€ как последний просто цитировал јдама и не про€вл€л какой-то осведомлЄнности по ободритам XI века из других источников, √ельмольд сам жил и писал в ободритских земл€х. ќн очень хорошо и детально разбиралс€ в здешних слав€нах и его «—лав€нска€ хроника» по праву считаетс€ основным и одним из самых главных источников по истории мекленбургских слав€н. √ельмольд часто и охотно цитировал целые абзацы из јдама, однако, к информации он подходил критически, исправл€л и дополн€л еЄ исход€ из своих знаний и актуальности тех или иных событий дл€ своего (XII век) времени.
ѕолный сравнительный анализ хроник јдама и √ельмольда зан€л бы слишком много места и лишь увЄл бы нас в сторону от рассматриваемого вопроса. ѕоэтому укажем лишь на пару примеров критической правки √ельмольдом конкретно того отрывка јдама, который св€зан со «списком слав€нских племЄн» (2-18; 2-19). “ак, объ€снение јдама о тождественности мекленбургских слав€н винулам и вандалам √ельмольд (1-2) перенимает, дополн€€ уже своими подробност€ми, в частности тем, что плем€ гавол€н – это плем€ герулов. ѕоследующее описание ёмны (2-19 у јдама) √ельмольд также перенимает, дополн€€ сообщением, что руины этого города сохран€ютс€ ещЄ в его врем€. »з чего можно сделать вывод, что √ельмольд не просто цитировал отрывки јдама 2-18 и 2-19, но и задумывалс€ над соответствием этих описаний реали€м второй половины XII века и исправл€л или дополн€л то, что считал нужным. онкретно в «списке племЄн» √ельмольд оставл€ет «варнов» и «ободритов», дополн€€ это место сообщением о реке “раве, как о границе между ваграми и ободритами, но в то же врем€ «исключает» из этого списка «ререгов». —о всей очевидностью – намеренно. объ€снению этого момента нам также предстоит обратитьс€ впоследствии, пока же укажем на следующее обсто€тельство.
ѕомимо обширных цитат из јдама, хроника √ельмольда содержит большое число уникальной и нигде более не встречающейс€ информации об ободритах и ваграх, что и пон€тно – он долгие годы посв€тил христианизации этих земель и должен был знать их лучше других. Ќе «вычеркнув» варнов как ререгов, он, очевидно, должен был быть согласен с существованием такого наименовани€ мекленбургских слав€н к северу от Ёльбы, к востоку от крепости ћекленбург и к западу от усть€ реки ¬арнов. », в то же врем€, он сообщает новые, не восход€щие к јдаму подробности истории всех мекленбургских племЄн «списка јдама» (вагров, полабов, ободритов, линонов, хижан, чрезпен€н и др.), кроме варнавов. ќчевидно, что у этого странного обсто€тельства должны были быть свои причины. ¬ то врем€ как дл€ вагров, ободритов и полабов в текстах јдама и √ельмольда упоминаютс€ свои кн€зь€, столицы (дл€ вагров – —таригард/ќльденбург, дл€ ободритов – ћекленбург, дл€ полабов – –атцебург) и «племенные боги», точнее «боги земли племени» (дл€ «альденбургской земли» вагров – ѕроне, дл€ полабов – ∆ива, дл€ ободритов – –адегаст), ничего подобного их хроники не сообщают о варнах. Ѕолее того, во врем€ активной христианизации ободритских земель кн€зем √оттшальком, в них создаЄтс€ два епископства:
»так, при этом кн€зе христианскую веру смиренно почитали все слав€нские племена, которые относились к √амбургскому диоцезу, а именно, вагры, ободриты, ререги и полабы; а также линоны, варны, хижане и черезпен€не вплоть до реки ѕаны, котора€ в грамотах нашей церкви именуетс€ ѕеной… “огда же во всех городах были основаны обители живущих согласно канонам св€тых мужей, а также монахов и св€тых дев, как то свидетельствуют те, которые видели их в Ћюбеке, ќльденбурге, Ћенцене, –атцебурге и других городах. ¬ ћагнополе же, славном городе ободритов, как говор€т, было три общины служивших Ѕогу людей (јдам, 4-19).
¬ этом, уже знакомом нам отрывке 4-19 јдам снова повтор€ет свой «список земель и слав€нских племЄн», вошедших в √амбургский диоцез при √оттшальке. √лавные города, в которых тогда были основаны епископства вполне соответствуют «племенным земл€м» этого списка следующим образом: ќльденбург был столицей вагров, Ћенцен – линонов, –атцебург – полабов, ћагнополь – ободритов. Ћюбек находилс€ также на территории ободритов. ¬озможно, возвышение этого города было св€зано с обмелением канала, называемого сейчас ¬алленштайнграбен и обеспечивавшего некогда соединение крепости ћекленбург с морем. јдамом он упоминаетс€ как значительный город уже в XI веке. ѕозже сменивший √оттшалька кн€зь рут построил напротив него новую крепость – Ѕуковец, а сменивший рута √енрих Ћюбекский восстановил заново —тарую Ћюбицу. ”поминание јдама, таким образом, отображает процесс постепенной утраты роли крепости ћекленбург перед новым городом в устье “равы.
»нтереснее же в этом случае другое. ¬ земл€х варнавов оп€ть не упоминаетс€ ровно ничего. “ам не было ни кн€зей, ни столицы, ни племенного бога, там не возводили церквей, не создавали епископств – нельз€ не признать, что «варнавы» в текстах јдама и √ельмольда не выступают как отдельна€ от племени ободритов политическа€ сила или культурна€ общность. ¬арнавы в хрониках јдама и √ельмольда выступают лишь как название слав€н, живших на территории, контролируемой «ободритами», что становитс€ отчЄтливо €сно при попытке сопоставлени€ границ «земли ободритов» и места проживани€ варнавов. ѕо описанию јдама варны находились между крепостью ћекленбург, хижанами и линонами. —толицей хижан был город ессин в устье реки ¬арнов. “о есть нижнее течение ¬арнова, у впадени€ его в море, варнам уже не принадлежало. —толицей линонов был город Ћенцен на Ёльбе. ƒл€ варнов, таким образом, остаЄтс€ территори€ к востоку от Ўверинского озера в бассейне реки ¬арнов, до нижнего еЄ течени€, бывша€ уже земл€ми ободритов.

”поминаемые в хрониках јдама и √ельмольда города полабов, линонов, ободритов и хижан (красным) и «варска€» топонимика (белым).
ћожно было бы предположить, что тут-то и были земли варнавов, однако, противоречи€ этому обнаруживаютс€ в самом тексте √ельмольда. ак уже отмечалось выше, отрывок с варнавами позаимствован им из текста јдама. “ам же, где описани€ ободритских земель были оставлены самим √ельмольдом и не восход€т к јдаму, эти земли упоминаютс€ просто как «ободритские». “ак, сообщаетс€, как после смерти √енриха Ћюбекского между его сыновь€ми возникла междоусобица из-за наследства. ќдин из его сыновей, —в€тополк, «призвав графа јдольфа с гользатами и штурмарами, предприн€л поход в землю ободритов и осадил город, который называетс€ ¬урле. огда город перешел в его власть, —в€тополк отправилс€ дальше, в город хижан, и осаждал его в течение п€ти недель» (√ельмольд 1-48).
»з чего выходит, что расположенна€ на ¬арнове крепость ¬урле находилась не в варнских, а в ободритских земл€х и ободритские земли пр€мо граничили с земл€ми хижан. Ёто же косвенно подтверждаетс€ и в отрывке 1-87, где √ельмольд упоминает ¬урле в одном р€ду с другими крепост€ми ободритов – »лово, ћекленбургом, «верином, ƒобином, замеча€, что Ќиклот из всех этих крепостей оставил себе одну лишь «¬урле, расположенную на реке ¬арне, возле земли хижан». ¬арнавы не упоминаютс€. Ќесколькими строками ниже в числе ободритских земель упоминаетс€ и ћиликов, очевидно, тождественный ћальхову и наход€щийс€, таким образом, на крайнем восточном пределе подконтрольных ободритам земель. “а же ситуаци€ наблюдаетс€ и в отрывке 1-52. ѕосле смерти нуда Ћаварда ободритские кн€зь€ «ѕрибислав и Ќиклот, разделив государство на две части и управл€€: один землей ваирнов и полабов, другой землей ободритов» (1-52). ѕод «ваирнами» имеютс€ в виду вагры, так как во владение ѕрибиславу, по хронике √ельмольда, досталс€ —таригард. ¬арнавы не упоминаютс€, в то врем€ как под «землЄй ободритов» понимаютс€ все земли к востоку от вагров и полабов.
Ћюбопытно, что не упоминают варнавов в числе владений Ќиклота и его сына ѕрибислава и генеалогии ƒоберанского монастыр€. ¬место этого титул ободритских кн€зей по ним звучит как «король вагров, чрезпен€н, полабов, ободритов, хижан и всех слав€н», что соответствует не восход€щим к јдаму описани€м √ельмольда, где земли ободритов на востоке доходили до крепости ¬урле и ћальхова и граничили где-то в этой области с племенем хижан и лютичей.
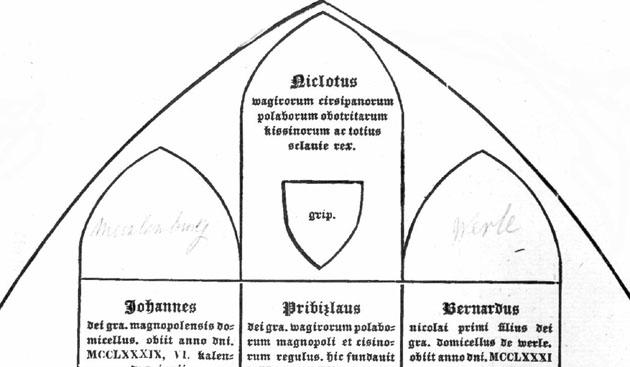
“итул Ќиклота и ѕрибислава по доберанским генеалоги€м.
јналогична€ ситуаци€ прослеживаетс€ в отрывках √ельмольда 1-6 и 1-36, где за ободритами сразу следуют хижане или кессины:
1-6. Winithos, eos scilicet qui dicuntur Wagiri, Obotriti, Kycini, Circipani, et usque ad flumen Panim et urbem Dimin.
1-36. Wagiri, Polabi, Obotriti, Kycini, Cyrcipani, Lutici, Pomerani et universae Slavorum naciones.
ѕервый отрывок (1-6) похож на компил€цию из двух отрывков јдама (4-19) «Chizzini et Circipani, usque ad Panem fluvium» + (2-18) «Chizzini et Circipani, quos a Tholosantibus et Retheris separat flumen Panis, et civitas Dimine».
»так, детальный разбор источников показывает, что, несмотр€ на упоминание вскользь неких варнабов јдамом Ѕременским и перен€вшим позже его слова √ельмольдом, никаких варнавов в XI-XII веках, получаетс€, и не было, а были только ободриты. —амо же им€ ободритов, в то же врем€, было учЄным анахронизмом и не соответствовало реальному самоназванию племени уже в XI веке. ѕривлечение топонимики в качестве дополнительного источника показывает, что если кто и оставил в ней следы, то именно варнавы, вары или варны, а не ободриты. “опонимика на «вар» достаточно распространена на южной Ѕалтике.

“опонимика на «вар» в ¬осточной √ермании.
ѕоказательно, что вс€ топонимика на «вар» выказывает черты слав€нского словообразовани€ (за единственным исключением Hwerеnofeldа/Werinofelde), то есть передаЄт не сохранившийс€ в источниках живой €зык мекленбургских слав€н, а не «учЄные» термины. — одной стороны, настолько широкое распространение «варнской» топонимики в слав€нских земл€х, говорит, скорее, за то, что такие топонимы восход€т к севернолехитскому «варна»-«ворона», так как эта топонимика известна в земл€х разных племЄн. —обственно, именно так и трактует большинство южнобалтийских «¬арновов» современна€ немецка€ лингвистика. — другой стороны, р€д топонимов не может восходить к основе «варна» и предполагает образование их от основы «вар» – ¬арин и нем. «¬еринофельде» или «’веринофельде», то есть «поле веринов». ѕереход а-е был делом довольно обычным и у континентальных германцев, и у севернолехитских слав€н, так что, к примеру, первое упоминание одного из ¬арницев, нынешнего района Ўверина, впервые как «¬ернице», может быть вполне естественным. ƒругой, бранденбургский ¬арниц, наход€щийс€ в ѕригнице, впервые упоминаетс€ и вовсе как ¬ерлиц, однако, датска€ форма этого топонима звучала как «Varnas», в нЄм подозревают св€зь с «древнегерманским племенем варинов» (Springer M., Warnen, In: RGA, Bd.33, S. 275).
≈щЄ более однозначным указанием на «древнегерманское плем€ варинов» признаЄтс€ немецкое название местности «¬еринофельде», находившейс€ в IX веке где-то к востоку от реки «аале (Herrmann J., Slawen in Deutschland, Berlin, 1985, S.10; Much R., Die Germanen des Tacitus, Heidelberg, 1967, S. 446). “акже и дл€ реки ¬арнов, единственной из многих слав€нских «¬арновов», принимаетс€ возможность этимологии от «древнегерманского племени варинов» (Foster E., Willich C. Mecklenburg. Ortsnamen und Siedlungsentwicklung, Stuttgart, 2007, S. 377).
—в€зь с неким «германским» племенем во всех случа€х кажетс€ надуманной и необоснованной – все эти топонимы упоминаютс€ впервые в то врем€, когда эти земли достоверно были уже несколько столетий населены слав€нами. «аале упоминаетс€ как граница между сербами и тюрингами в том же IX веке, что и «¬аринское поле» к востоку от «аале. јрхеологи€ подтверждает не только повсеместное расселение слав€н к востоку от «аале, но и к западу от этой реки, по крайней мере, до реки ”нструт в центральной “юрингии, так что «граница между тюрингами и сербами» во франкском понимании была не более чем границей франкской провинции “юринги€, населЄнной в IX веке вперемежку слав€нами и германцами, и неподконтрольными франкам земл€ми независимых сербов.
“аким образом, топоним ¬еринофельде хоть и германского происхождени€, но может указывать лишь на то, что земли, где в IX веке жили лужицкие сербы и не жили германцы, немецкие соседи сербов называли «полем варинов». Ћюбопытно и то, что два топонима, возможно, указывающих на «варнов» – ¬арин и ¬арниц, наход€тс€ на территории проживани€ ободритов в узком смысле, в самом его центре, между главными ободритскими городами «верин и ћекленбург. ¬ любом случае, в отличие от полного отсутстви€ топонимики, указывающей на «ободритов», достаточно обильна€ «варинска€», «варска€» или «варнавска€» топонимика находитс€ в интересующем нас регионе.
јнализ всех этих свидетельств наводит на мысль, что вары, варны, варины, варнавы или кака€-то близка€ форма попросту и была слав€нским самоназванием племени «ободритов», по крайней мере, в XI-XII веках. ’ронисты, привыкшие к «учЄному» названию в то же врем€ отмечали, что название это «уже» не соответствует действительности. —амо представление јдама о том, что «ободриты» было самоназванием племени в более ранние времена, могло попросту €вл€тьс€ его интерпретацией «ободритов» из цитируемого им текста Ёйнхарда. ƒругими словами, прочитав Ёйнхарда, јдам, конечно, пон€л о ком речь, и, возможно, удивившись незнакомой ему до этого форме названи€, мог прин€ть еЄ более древнее название ререгов, но перен€ть в свою хронику. ¬еро€тно, зна€, что тех слав€н, что прав€т в ћекленбурге, ранние хроники называли ободритами, а в его врем€ их называли ререгами, ему в то же врем€ было известно и то, что по окраинам контролируемых мекленбургскими кн€зь€ми земель слав€не называют себ€ иначе – ваграми, полабами, линонами, варинами. ¬озможно, ввиду плохого знани€ слав€нского, несколько локальных названий одного племени и «учЄна€» традици€ старых хроник были прин€ты им за отдельные племена.
¬ действительности же до јдама во франкских хрониках не было упоминаний варнавов в западном ћекленбурге, хот€ земли ободритов «в широком смысле» предстают как состо€щие из нескольких областей с самых первых упоминаний. ¬ 808 году франкские анналы сообщают о подчинении датским королЄм √оттфридом двух ободритских областей. роме того, сообщаетс€ о двух зависимых от ободритов слав€нских племенах на Ёльбе, подн€вших м€теж и перешедших на сторону √оттфрида – смельдингах и линонах. ќ последних достоверно известно, что их столицей был город Ћенцен на юге современного ћекленбурга. ѕо всей видимости, это плем€ было изначально «вильцким», а не ободритским, так как ¬идукинд орвейский описывает в X веке разрушение саксонцами столицы линонов, Ћенцена, как ответ на нападение редариев. “о же можно заключить и из описанного √ельмольдом похода ободритского кн€з€ √енриха Ћюбекского на брежан, в ходе которого он «случайно» узнал о проживавшем по соседству слав€нском племени линонов, не собиравшемс€ поднимать м€теж или выступать против него, однако, разорил их земли и увЄл много пленных.
—мельдинги должны были находитьс€ к северу от Ёльбы, в еЄ нижнем течении, и к востоку от линонов, примерно в районе современного города ƒЄмиц и, возможно, далее на запад. ”поминани€ о них прекращаютс€ к концу IX века, а в XI веке примерно на этих же территори€х между полуостровом ¬агри€ и Ћенценом описываетс€ плем€ полабов со столицей в –атцебурге. —амо название полабов, очевидно, происходит от названи€ местности – района, по/выше [реки] Ћабы/Ёльбы. ¬ том же XI веке упоминаетс€ и кн€зь –атибор, как один из трЄх ободритских кн€зей, с именем которого обычно св€зывают название столицы полабов –атцебурга (т.е. «город –атибора»). ‘орма, приводима€ јдамом – polabingi – возможно была германским экзоэтнонимом, происход€щим от слав€нского названи€ местности *Polabe и германского суффикса принадлежности -ing. “аким образом, дл€ формы «полабы» (в смысле «племени») можно также предположить позднее возникновение. Ёта форма могла быть обобщЄнным названием дл€ р€да более мелких племЄн, в том числе и бывших смельдингов, объединЄнных в X, а то и в XI веке, быть может даже только самим –атибором, в единое политическое целое или и вовсе титулом.
—лучайно ли в отрывке 4-19 полабинги были приравнены јдамом к ободритам и ререгам? Ѕыли ли области смельдингов и линонов в 808 году теми област€ми, на которые удалось наложить дань √оттфриду, или речь шла о совсем других ободритских област€х – также остаЄтс€ неизвестным. ќднако на основании этого сообщени€ можно предположить деление ободритского государства как минимум на две области – на область смельдингов и «ободритскую область» или на область смельдингов и ещЄ две «ободритские области». ѕритом что плем€ линонов также входило в ободритское государство до 808 года, оно не учитываетс€ в данном случае по причине иного, вильцского происхождени€.
Ѕаварский географ во второй половине IX века также говорит о существовании двух групп ободритов, из которых перва€ – северные абодриты (Nortabtrezi), проживающие возле данов и граничащие с франкскими земл€ми, и втора€ – восточные абодриты (Osteratrezi), обитающие где-то в другом месте, за пределами франкского государства. Ќа первый взгл€д, может показатьс€, что под «восточными ободритами» имеютс€ ввиду «дунайские ободриты», известные франкам примерно в то же врем€. ќднако в 823 году, то есть за год до прибыти€ послов дунайских ободритов к императору, в анналах королевства франков говоритс€ о гибели корол€ вильцев Ћюба в сражении с восточными ободритами (Osterabtrezi). ’од событий тех лет не позвол€ет поместить этих восточных ободритов 823 года нигде, кроме современного ћекленбурга. ќчевидно, что под «восточными ободритами» должна была подразумеватьс€ восточна€ часть южнобалтийских ободритов, действительно воевавших в начале VIII века с вильцами и, таким образом, это сообщение также указывает на деление ободритского государства во второй половине IX века не менее, чем на две области.
¬ X веке на двойное деление ободритов – на собственно ободритов и варов – указывает ¬идукинд орвейский, то же подтверждает в начале XI века и “итмар ћерзебургский, упомина€ «ободритов и варов» как нечто единое. Ѕолее подробно на этих сообщени€х ещЄ предстоит остановитьс€ впоследствии.
√ельмольд, хоть и перен€вший €кобы «четверное деление» ободритов на вагров, полабов, ободритов и варнов, в другом, не восход€щем к јдаму моменте, сообщает о разделении государства ободритов между двум€ ободритскими кн€зь€ми Ќиклотом и ѕрибиславом на две части, притом что ѕрибиславу достались две западные области – ¬агри€ и ѕолабье, а Ќиклоту всего одна – «ободритска€».
“аким образом, все источники во все времена сообщали о разделении государства ободритов на две или три области, но никто из авторов, кроме јдама, не сообщает о четвЄртой, «варнской» составл€ющей ни до, ни после него. ¬ результате закрадываетс€ подозрение, что «список» јдама был следствием недостаточно детального знакомства его со слав€нскими земл€ми. — одной стороны, он определЄнно знал ещЄ из старых франкских хроник о том, что слав€н, прав€щих земл€ми от ¬агрии до ¬арнова называли ободритами, но знал также и современные ему названи€ проживавших на этих земл€х племЄн, причЄм некоторые в немецких (полабинги, раны и, возможно, вагры), а некоторые в слав€нских (варнабы и, возможно, ререги) формах. » всЄ это попало в один «список», €вл€ющийс€ ввиду этого компил€цией всей известной јдаму в то врем€ информации по мекленбургским слав€нам, собранной из разно€зычных и даже разновременных источников, но совсем не об€зательно точно отражающим собственно слав€нские названи€ и делени€ на области. “акие компил€ционные «списки слав€нских племЄн» и перечисление нескольких разных форм названий одного племени, как нескольких разных племЄн, были характерны дл€ јдама. “о же самое он описывал и в более восточных земл€х в том же отрывке 2-18:
≈сть и другие слав€нские племена, которые проживают между Ёльбой и ќдером, как-то: гавол€не, живущие по реке √авель, доксаны, любушане, вилины, стодоране и многие другие.
√авол€не и стодор€не перечислены как два отдельных племени, причЄм разделЄнные при этом аж целыми трем€ слав€нскими племенами, хот€ в действительности гавол€не и стодор€не – было двум€ разными названи€ми одного и того же племени, по всей видимости, немецким и слав€нским вариантами. ѕоэтому нельз€ исключать подобного и дл€ неподтверждаемых другими источниками варнабов, вполне возможно бывших просто другим названием «ободритов в узком смысле». ѕри этом локализаци€ их между –атцебургом (полабы), Ћенценом (линоны) и ессином (хижане) как раз и €вл€етс€ описанием области, неоднократно называемой √ельмольдом просто «ободритской» и котора€ при разделе досталась Ќиклоту.
Ѕолее того, кажетс€ вполне веро€тным, что «варины» могло быть слав€нским самоназванием не только «ободритов в узком смысле», но и «ободритов в широком смысле», и быть общим дл€ всех слав€н от южной ётландии на западе, Ёльбы на юге и реки ¬арнов на востоке. ”казанием на это служат формы упоминани€ ещЄ одного «ободритского» племени – вагров. Ќесмотр€ на то, что форма «вагры» така€ же общеприн€та€ и привычна€ в историографии, как и форма «ободриты», в действительности она отнюдь не €вл€етс€ ни единственной, ни даже преобладающей. Ќаиболее ранние источники знают «вагров» как «варов». ажетс€, первым их упоминает в конце X века ¬идукинд орвейский в отрывке 3-68. ¬ разных рукопис€х (ј, ¬) известны формы написани€ Waris и Waaris:
Selibur praeerat Waris, Mistav Abdritis (A)
Selibur praeerat Waаris, Mistav Abdritis (B)
¬идукинд сообщает о двойном делении и управлении в X веке «ободритских» земель кн€зь€ми «елибуром, правившим варами, и ћиставом, правившим ободритами. ¬ начале XI века то же самое подтверждает и “итмар ћерзебургский в отрывке 8-4: et mens populi istius, qui Abodriti et Wari vocantur («разум того народа, что зовЄтс€ ободриты и вары).
ѕритом, описани€ “итмара не €вл€ютс€ цитатой из ¬идукинда, так что их можно прин€ть за самосто€тельное свидетельство. —трого говор€, его Abodriti et Wari можно даже интерпретировать таким образом, что обе формы были синонимами. —обственно «вагры», точнее «ваигры», по€вл€ютс€ лишь в конце XI века у јдама Ѕременского в уже процитированном выше отрывке 2-18 в «списке слав€нских племЄн». ѕо разным спискам известны написани€ Waigri, Vagri – последнее встречаетс€ лишь один раз в одной рукописи. “акже упоминани€ вагров содержатс€ в схоли€х к хронике јдама:
схоли€ 13 – Waigros;
схоли€ 16 – Waigri;
схоли€ 29 – Waigri.
ак уже упоминалось, текст јдама вместе с его «ваиграми» переписали в свои хроники в XII веке —аксонский јнналист и √ельмольд. —аксонский јнналист предсказуемо повтор€ет форму јдама waigri (uuaigiri), √ельмольд чаще употребл€ет написаниe Wаgiri, но несколько реже также и форму Wairi. —писок упоминаний вагров у √ельмольда € привожу по изданию Ѕ. Ўмaйдлера (Helmolds Slavenchrocnik. Dritte Auflage. Bearbeitet von Bernhard Schmeidler, Hannover, 1937), цифрами указан отрывок, в случае различных форм написани€ в одном отрывке в разных списках рукописей такие формы приведены в одной строке с разделительным знаком (/). ¬ скобках указаны упоминани€ вагров в тексте √ельмольда, €вл€ющиес€ цитатами из хроники јдама.
1-2. Wagirensem provinciam (јдам 2-18)
1-2. Wairis (јдам 4-18)
1-6. Wagiri (јдам 2-18)
1-12. Wagirorum (јдам, сх. 16, 29)
1-12. Wagricae / Wagrice
1-12. Wagirorum
1-12. Wagirorum
1-12. Wagirorum
1-14. terram Wagirorum
1-18. Wagiri
1-18. Wagirorum
1-18. Wagiri
1-20. Wagirorum provinciam (јдам, 3-19)
1-25. Wagirorum
1-36. Wagirensium
1-36. Wagiri
1-49. terram Wagirorum / terram Wairorum
1-49. terram Wagirorum
1-52. Wairensium provinciam
1-53. Wairensi provincia / Wagirensi provincia
1-56. Wairensum provinsium / Wairencium provinsium / Wagirensium provinsium
1-56. Wairensi terra / Wagirensi terra
1-56. Wairorum terra / wayrorum terra / Wagirorum tera
1-57. terrram Wairensium / terram wairencium / terram Wagirens.
1-57. deserta Wairensis provinciae
1-62. Wagirensium terram
1-63. Wagirensium provinciam / wairensium provinciam
1-63. Wagirensium terram / wairensium terram
1-64. Wagirensium terram / Wagirencium terram / wairensium terram
1-64. terra Wagirorum / terra wairorum
1-67. Wagirensi terrae
1-67. Wagirensem terram
1-67. Wagirensis provincia
1-71. terra Wagirorum
1-76. terrae Wagirensi / terrae wairensi
1-80. Wagirensem terram
1-80. Wagiram / wairam
1-83. Wagiram / wairam
1-83. Wagiram / wairam
1-84. Wagiram / waira
1-84. Wagira / waira
1-84.Wagirensi terra / wairensi terra
1-87. terrae Wagirensis / terrae wairensis
1-89. terra Wagiorum / terra wairorum
1-92. Wagirrensium /wairensium
1-92. Wagirensi / wairensi
1-92. Wagirensi /wairensi
1-94. Wagirensem /wairensem
2-108. Wagirensis /wairensis
Waigri у √ельмольда превращаетс€ в wagiri, в некоторых местах и списках встречаетс€ форма wairi, что, с одной стороны, может объ€сн€тьс€ как опиской (выпадением g), так и указанием на равноправность обоих форм написани€. ƒл€ подтверждени€ первого предположени€, однако, потребуетс€ анализ непосредственно текстов рукописей и подробный анализ всей «—лав€нской хроники» на предмет описок с выпадением g в других местах. ƒальнейшие источники написаны уже во времена вхождени€ земель ободритов в немецкие герцогства, когда название земли племени стало лишь названием области или титулом, подтверждающим право на владение этими земл€ми. “акие источники, в отличие от хронистов-современников слав€н, представл€ют мало интереса, так как целью титулов в грамотах было не указание актуальной по времени и наиболее близкой к изначальному произношению формы, а как раз наоборот – сохранение написани€ формы в желательно неизменЄнном виде.
“аким образом, сравнительный анализ упоминаний вагров показывает, что эта форма была более поздней, чем форма «вари», и восходит к јдаму. ƒаже у √ельмольда, перен€вшего «вагров» у јдама, эта форма не €вл€етс€ единственной, но наравне с ней встречаетс€ и не менее близка€ «варам», чем «ваграм», форма «ваиры». —трого говор€, вопрос вообще следует ставить иначе – откуда, собственно, вообще вз€л своих «ваигров» јдам? ѕеречисление «вагров» и «варнабов» в одном списке говорит, что название жителей полуострова ¬агри€ всЄ-таки несколько отличалось от названи€ слав€н, живших к востоку от него. ћожно предположить, что форма «ваигры» могла быть немецкой формой «варов». “екст јдама, в частности, отличаетс€ тем, что в «списке слав€нских племЄн» в нЄм встречаютс€ и немецкие формы: экзоэтнонимы или просто фонетически отличающиес€ от слав€нских, то есть звучание их передано так, как его произносили в то врем€ немцы. ќдной из таких форм было впервые упоминаемое јдамом название рюгенских слав€н – руны или раны. ќстальные источники, кроме √ельмольда, их так не называют. √ельмольд же, «согласившись» лишь с «ранами», но не с «рунами» јдама, уточн€л, что другим их названием было ругиане. ќднако в одном месте он приводит форму ране, не восход€щую к тексту јдама и указывающую на немецкое словообразование – это название огромного кургана «–аниберг», возведЄнного √енрихом Ћюбекским дл€ погибших под Ћюбеком рюгенских слав€н. ¬тора€ часть слова -берг – это немецкое «гора». “о есть √ельмольд в своей латино€зычной хронике вставил немецкое название кургана, из чего следует, что «рани» было именно употребл€емой в то врем€ немцами формой, а ругиане – возможно, традиционной «учЄной» латынью или слав€нским самоназванием.
»ме€ такие предпосылки в тексте јдама, нельз€ исключать такого же варианта и дл€ по€вившихс€ у него «ваигров». —ледует указать и на то, что нар€ду с отсутствием «ободритской» топонимики неизвестна и топонимика с основой «вагры», указывавша€ бы на слав€нское словообразование. —овременное название полуострова «¬агри€» восходит к латинской форме, известной впервые из единого упоминани€ в одном из списков јдама, но ставшее впоследствии «официальной» и закрепившеес€ начина€ с конца XII – XIII вв., толи потому, что перешло в титул, толи потому, что изначально было немецкой формой. —удить о возможности перехода гипотетических слав€нских варов в немецких ваигров или ваигиров, лучше, конечно, предоставить лингвистам. Ќо за отсутствием разбора последними этого вопроса можно напомнить, что схожие процессы фонетического изменени€ форм в слав€но-немецком мире тех времЄн известны и в случае рюгенских слав€н, дл€ которых привод€тс€ формы runi (јдам), ruiani (¬идукинд, √ельмольд), rugiani (√ельмольд). ћногие дес€тки грамот рюгенских кн€зей XII-XIV вв. отчЄтливо показывают, что формы –у€ и –уга были синонимами. —амо чередование г-й известно в это врем€ как у немцев, так предполагаетс€ и дл€ балтийских слав€н, так что ваиры и вагры также вполне могли быть синонимами без вс€ких описок. ¬ свою очередь, если двойное «а» в Waari в одной из рукописей ¬идукинда не было опиской, это может свидетельствовать о том, что первый гласный звук в первом слоге мог несколько отличатьс€ от классического «а». ќ €зыке собственно вагров и отличии особенностей их диалекта от прочих слав€н, к сожалению, нет почти никаких данных, но такие отличи€ вполне могли быть. — другой стороны, этот звук «й» мог возникнуть и на «пустом месте» уже собственно у немцев. примеру, именно так вышло с немецким названием русских – Reussen (ройсен), где никакого «й» в «слав€нском оригинале», разумеетс€, не было.
»так, можно предположить, что от полуострова ¬агри€ до рек ¬арнов и Ёльба проживало одно плем€, латинской формой написани€ которого было Wari (’ век), немецкой формой произношени€ Waigren (XI век, јдам), позже перешедшей в Wagiren и Wairen (XII век, √ельмольд), а ещЄ позже, в процессе немецкой колонизации ¬агрии и постепенном упадке там слав€нства, в собственно «вагров». —лав€нской формой в таком случае могла быть форма варины, что подтверждаетс€ чертами слав€нского образовани€ в форме, проводимой јдамом – варн-ове. ¬ качестве основы дл€ слав€нских форм вар-ины и вар-[и]н-ове по всей видимости была наиболее древн€€ из упоминаемых в немецких хрониках форм вар, из которой посредством традиционного дл€ слав€н словообразовани€ при помощи суффиксов и окончаний –ин и –ов и получались вышеназванные формы варины и варинове. “о же самое известно и дл€ другого слав€нского племени, восточных соседей варинов – велетов, формы названи€ которых записывались на латыне Weletabi и Weleti, что также говорит о равноправности обоих форм с –ове и без.
“ерритории ободритов или варинов с самых ранних времЄн показывали деление на две или три провинции со своими кн€зь€ми, традици€ми (храмы и св€тыни) и столицами, в результате чего и воспринимались немцами как изначально разные племена. —амо название «ободриты» примен€лось в узком смысле – к варинам или варам, управл€вшим всеми этими земл€ми из крепости ћекленбург, и в широком переносилось на всех слав€н подчинЄнных их власти.
–азвива€ гипотезу о форме «ободритов», как континентально германском экзоэтнониме варов или варинов, следует снова, теперь уже более подробнее, обратитьс€ к наиболее ранним упоминани€м ободритов и варинов во франкских хрониках. ак уже отмечалось выше, впервые ободриты упоминаютс€ во франкских анналах в конце VIII века как союзники франков. ¬ 789 году франки совершили поход на велетов, о чЄм биограф арла ¬еликого Ёйнхард даЄт более подробные сведени€:
ѕосле того как те волнени€ были улажены, была начата (друга€] война со слав€нами [789], которых у нас прин€то называть вильцами, а на самом деле (то есть на своем наречии) они зовутс€ велатабами. ¬ той войне среди прочих союзников королю служили саксы, которые последовали за знаменами корол€ согласно приказу, однако покорность их была притворной и далекой от преданности. ѕричина войны была в том, что ободритов, которые некогда были союзниками франков, вильцы беспокоили частыми набегами и их невозможно было сдержать приказами [корол€]…
ѕо всему получаетс€, что несмотр€ на первое упоминание ободритов в 789 году, контакты франков с ними должны были начатьс€ раньше этого периода, так как в это врем€ франки уже выполн€ют перед ободритами свои союзнические об€зательства. ”поминаний о более раннем заключении союза или подчинении ободритов франками мы не найдЄм во франкских анналах, однако, такие упоминани€ имеютс€ у Ёйнхарда:
ќн [ арл] так усмирил все варварские и дикие народы, что насел€ют √ерманию между реками –ейном, ¬исулой, а также океаном и ƒанубием (народы те почти схожи по €зыку, но сильно отличаютс€ обыча€ми и внешностью), что сделал их данниками. —реди последних самые замечательные [народы]: велатабы, сорабы, ободриты, богемцы; с ними арл сражалс€ в войне, а остальных, число которых гораздо больше, он прин€л в подчинение [без бо€]…
ќбращает на себ€ внимание преувеличение Ёйнхардом восточных границ завоЄванных арлом слав€нских земель. «нал ли Ёйнхард действительно о войне арла с ободритами или же это было его собственным предположением на основании отсутстви€ упоминаний франкско-ободритских отношений в хрониках? ѕо какой-то причине отношени€ франков с обитавшими к северу и востоку от Ёльбы слав€нами – ободритами и велетами – не запечатлелись на страницах хроник, однако, они должны были иметь место ещЄ до арла. “ак, осаждЄнный в своей крепости во врем€ упом€нутого похода 789 года велетский кн€зь ƒраговит сообщил арлу ¬еликому о том, что право на свою власть в этих земл€х он получил от майордома арла ћартелла (до 741 года). ¬о врем€ же правлени€ арла ћартелла франкские источники, странным образом, о походе на вильцев не сообщают. —огласно продолжателю ‘редегара, какие-то «короли вендов и фризов» помогли ѕипину в подавлении саксонского восстани€ в 747-748 гг., под которыми, ввиду упоминани€ в одном списке с фризами и соседстве с —аксонией, можно было бы предположить правителей ободритов или велетов, или и тех и других.
(продолжение следует)
ћетки: ободриты слав€не |
Ѕодритесь ободриты!-2 |
ƒневник |
(продолжение)
“ака€ ситуаци€ с неупоминанием начала дипломатических отношений с соседними слав€нами или вхождени€ их во франкскую империю была отнюдь не уникальна дл€ франкского летописани€. “о же самое можно встретить и в хронике ‘редегара, сообщающей под 630 годом об отпадении сорбов от франков, до этого «долгое врем€ подчин€вшихс€ франкам» и переходе их на сторону —амо. ѕритом, что ни о каких войнах франков с сорбами, подчинении франками сорбов или союзе с ними до этого времени также ничего не сообщаетс€. ќ наиболее раннем периоде отношений слав€нских и германских племЄн в √ермании неизвестно практически ничего. ¬се восточные слав€нские соседи франкской империи (сорбы, велеты, ободриты) предстают в первых упоминани€х как давно подчин€ющиес€ франкам, но подн€вшими м€теж, или давними союзниками, о начале отношений с которыми ничего неизвестно.
Ќа первую половину VIII века, когда велеты должны были «получить власть от майордома» и в которой можно предполагать союз с ободритами во врем€ саксонских войн, франкские хроники описывают подчинение франками —аксонии – области, находившейс€ как раз между франками, ободритами и велетами. ѕричЄм р€д фактов, такие как заселение земель к югу от нижнего течени€ Ёльбы предками полабских древан уже в VII-VIII веках и существование слав€нской крепости в ’олленштедте в 804 году чуть ли не в центре —аксонии, подтверждают начало слав€но-германских отношений в —аксонии до 789 года. ƒо 630 года, когда произошло отпадение «долгое врем€ подчин€вшихс€ франкам» сорбов, описываютс€ войны франков в “юрингии, котора€ потом таким же странным образом оказываетс€ населена слав€нами в очень значительной степени вопреки тому, что как слав€нска€ земл€ никогда не упоминалась. ƒл€ нас же интереснее, что в это же врем€, «забывшее» так много из истории слав€но-франкских отношений, описываетс€ война франков с варнами. ≈Є ‘редагар упоминает под 595 годом:
¬ этом же году арми€ ’ильдеберта храбро сражалась против варнов, которые попытались подн€ть м€теж. ¬ бою пало так много варнов, что из всего народа лишь немногие остались в живых…
ѕрин€то считать этих варнов «восточногерманским племенем варинов», о локализации которых где-то в пределах франкской империи того времени ничего неизвестно, как ничего неизвестно и о подчинении франками до этого варнов в “юрингии или —аксонии. јбстрагиру€сь от св€зи варнов центральной √ермании 595 года с неким «восточногерманским племенем», о котором тут до этого ничего неизвестно, следует указать на три обсто€тельства.
¬о-первых, локализаци€ варнов, исход€ из короткого упоминани€ ‘редегара, возможна только где-то на неподконтрольных франкской империи земл€х, а не конкретно в “юрингии. ¬о-вторых, в конце VI – начале VII века должно было иметь место подчинение франками некоторых слав€нских племЄн, что не отразилось в хрониках, но как это следует из упоминани€ долгого подчинени€ сорбов до 630 года. ¬-третьих, точное определение €зыка варнов ‘редегара 595 года невозможно из его упоминани€, так что ничего не мешает этим варнам 595 года быть слав€нами.
ажетс€, то, что те слав€не, которые в VIII веке стали известны как ободриты, жили в современном ћекленбурге уже в конце VI века, ещЄ никем не оспаривалось, а потому, нельз€ исключать, что свидетельство ‘редегара о войне франков с варнами в 595 году могло быть одним из ранних упоминаний «ободритов» ещЄ под собственным самоназванием. ажетс€, ничего не противоречит и тому, что описываемые событи€ могли происходить в современном ћекленбурге – в тексте ‘редегара нет этому противоречий, а его описание войны франков с варнами в конце VI века неплохо соотноситс€ с упоминанием Ёйнхарда о подчинении арлом ободритов силой, прин€в известную долю желани€ сконцентрировать все слав€нские завоевани€ франков на де€тельности арла. —оотнос€тс€ они и с сообщени€ми франкских анналов, указывающих, что завоевани€ франками слав€нских племЄн в ћекленбурге начались задолго до арла ¬еликого, так что ƒраговит уже получал подтверждение власти, то есть был подданным, майордома арла. ћожно указать и на археологические указани€ на присутствие франков в ћекленбурге в конце VI века или контакты с ними, как раз во врем€ «варнской» войны.
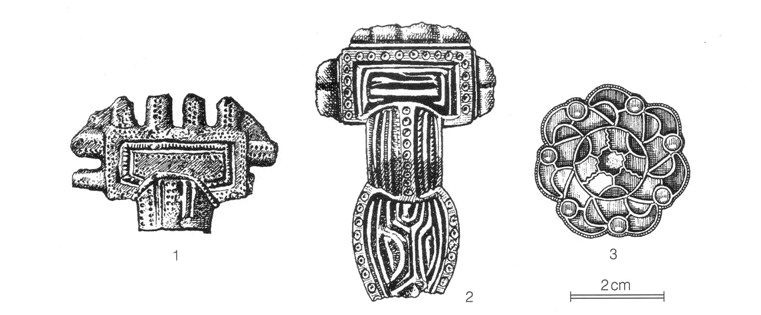
ћеровинские украшени€ конца VI века из ћекленбурга.
ѕо ‘редегару варны не были полностью истреблены франками в конце VI века. Ёто же подтверждает и небезызвестный документ, как предполагаетс€, созданный в самом начале IX века, во времена арла ¬еликого – «ѕравда англов и варинов, €вл€ющихс€ тюрингами» (Lex Angliorum et Werinorum, hoc est Thuringorum). ќчевидно, что по€вление юридического правового документа с таким названием в IX веке должно было подразумевать наличие самих англов и варинов в то врем€ на подчинЄнных арлу земл€х. ќбычно в этих варинах и англах пытаютс€ увидеть два германских племени, насел€вших незначительные области “юрингии, однако, недостаток данных по этому вопросу не позвол€ет делать определЄнных выводов об их локализации в √ермании.
Ѕросаетс€ в глаза другое. јнглы и варины упоминаютс€ по соседству на юго-западе Ѕалтики ещЄ со времЄн “ацита. »сторическа€ область јнгли€ (нем. јнгельн) и по сей день граничит на юге с исторической областью ¬агри€, название которой, как и слав€нского племени на ней проживавшего, многие источники передают как вары или ваирны. “ам же, где подозреваетс€ проживание упоминаемого “ацитом племени варинов – в западной части современного ћекленбурга – позже отмечаетс€ высока€ концентраци€ топонимики на «вар» и собственно слав€нское плем€ варинов, возможно, попросту бывшее другим названием племени ободритов.
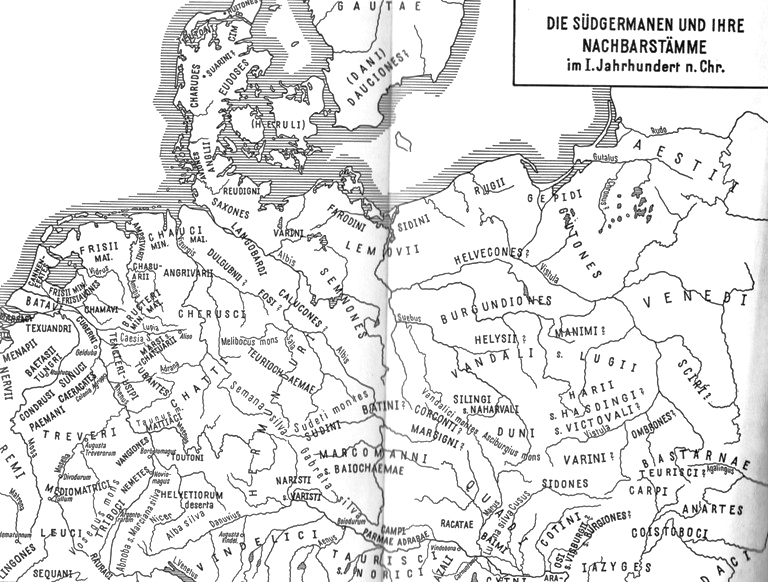
ѕлемена «¬еликой √ермании» между –ейном и ¬ислой по “ациту.
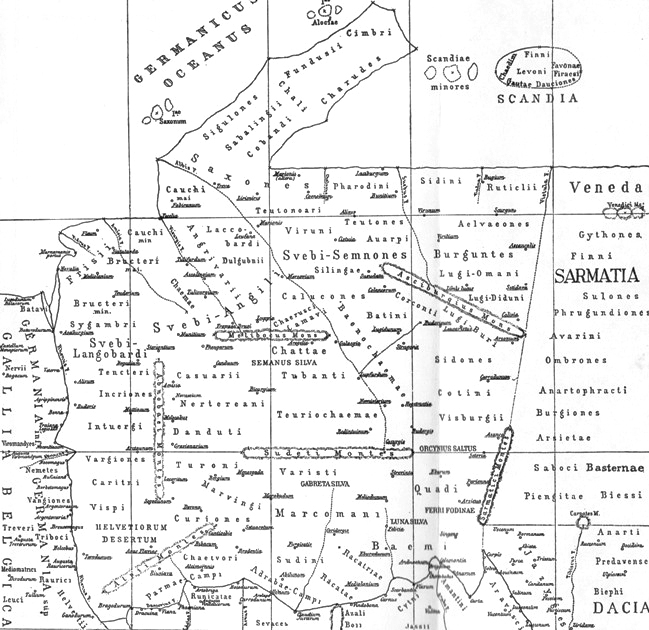
«√ермани€» по ѕтолемею.
¬ качестве подтверждени€ локализации «германских» варинов в “юрингии приводитс€, кроме св€зи варинов и тюрингов в «ѕравде», центрально-германский топоним Hwerеnоfelde. ќднако упоминаетс€ он впервые лишь в то врем€, когда земли эти уже были населены слав€нами. — раннего средневековь€ и до XIII века восточна€ половина “юрингии была населена слав€нами. ÷ентральна€ еЄ часть – черезполосно слав€нами и немцами, а восточна€, где и находитс€ упоминаемый топоним – полностью слав€нами. ¬ результате аргумент об указании топонима Hwerinafelde на прародину «германских» варинов или место их нахождени€ в VI веке кажетс€ не выдерживающим критики. “опоним, действительно, показывает германское словообразование, но его позднее упоминание во врем€ уже достоверного проживани€ там слав€н, указывает лишь на то, что одну из населЄнных слав€нами областей германские соседи называли «полем хверинов». ”казание же Ёйнхардом и другими источниками на реку «аале, как на границу между слав€нами и тюрингами IX веке и далее, свидетельствует, в свою очередь, о том, что «тюрингами» обобщЄнно называли всех жителей области “юринги€, независимо от того слав€нами они были или немцами, так как междуречье «аале и ”нструта было населено слав€нами по крайней мере до XII века. Ёто же снимает и аргумент с «об€зательной» германской принадлежностью тюрингов в «ѕравде англов и варинов» в том же IX веке. ¬ то же врем€, археологически присутствие «ободритов» в IX веке прослеживаетс€ очень далеко на юг, доход€, по меньшей мере, до города ’олленштедт в центральной части исторической —аксонии.
—ама гипотеза о жившем в √ермании племени «германских» варинов, вдруг неожиданно «исчезнувшем» в IX веке, сразу после установлени€ дл€ них законов, кажетс€ более чем странной. ƒл€ чего понадобилось создавать свод законов дл€ такого малочисленного и незначительного племени, представители которого должны были находитьс€ на грани исчезновени€? √ораздо пон€тнее было бы создание свода законов, дл€ официально зависимых от ‘ранкской империи «ободритов», хоть и не входивших в империю, как —аксони€, но получавших власть от франкских императоров и состо€вших в наиболее тесных св€з€х с франками именно в это врем€. Ќе исключено также, что «варинами» могла называть слав€нских соседей германска€ часть населени€ тогдашней “юрингии, а то и вовсе франки, использу€ этот термин как синоним «слав€н». ѕоэтому можно предположить, что это не варины «исчезают» в начале IX века, а наоборот, в конце VIII века дл€ их обозначени€ начинает примен€тьс€ нова€ форма – «ободриты».
—ами же варины упоминаютс€ на юго-востоке Ѕалтики начина€ с I века н.э. и заканчива€ XII веком, когда их территории окончательно были завоЄваны немцами. «¬арнабы» хроник јдама и √ельмольда на самом деле оказываютс€ никем иным, как «варинами», если провести аналогию с такими же формами упоминани€ велетов – Weletabi, Weleti – бывших равноправными и обозначавших одно и тоже. ќбласть расселени€ варинов по топонимике можно определить от границы с јнглией в южной ётландии и полуострова ¬агри€ на западе, до нижнего течени€ Ёльбы на юге, реки ¬арнов и ћорицкого озера на востоке. Ќаибольша€ концентраци€ топонимики на «вар» однозначно находитс€ в земл€х «ободритов» в широком смысле. —уществовала ли при этом нека€ область варинов ещЄ и в “юрингии, остаЄтс€ под вопросом. “ака€ верси€ не выгл€дит невозможной, однако, главные области расселени€ варинов, при этом, всЄ равно на основании многочисленных письменных источников и топонимики можно предполагать на юго-западе Ѕалтики.
ѕодвод€ предварительный итог, можно составить несколько тезисов.
1. — начала н.э. и до XII века исторические источники сообщают о проживании на юго-западе Ѕалтики племени варинов. Ёто им€ известно как римским (ѕлинний, “ацит), так и византийским (ѕрокопий), франкским (‘редегар, «ѕрадва англов и варинов»), англо-саксонским (¬идсид), немецким (јдам, √ельмольд) источникам и многочисленной топонимике. –усским летопис€м оно могло быть известно в форме «вар€ги».
2. ‘орма «ободриты» дл€ обозначени€ проживающих на юго-западе Ѕалтики слав€н по€вл€етс€ в конце VIII века во франкских источниках и соседствует с упоминани€ми о союзных франкам слав€нах-ободритах, проживавших на ƒунае.
3. ќтличное от ободритов, св€занное с ними плем€ «вагров» упоминаетс€ впервые в X веке в форме «вары», в XI веке по€вл€етс€ форма «ваигры». Ёта форма восходит к хронике јдама Ѕременского, называвшей, помимо латинских, и немецкие формы произношени€ слав€нских племЄн своего времени.
4. ќтличное от ободритов плем€ варинов (варнаби) упоминаетс€ впервые јдамом Ѕременским, отмечавшим в то же врем€ неактуальность формы «ободриты» как названи€ западно-мекленбургских слав€н в XI веке.
5. ”поминани€ отличного от ободритов племени варинов/варнабов —аксонским јнналистом и √ельмольдом дословно восход€т к тексту јдама. ѕо собственным описани€м √ельмольда ободриты и варины занимают одни и те же области.
6. ќписани€ племени варинов у јдама и √ельмольда отличаютс€ от описаний прочих племЄн, так что они не предстают отдельным этническим субъектом, культурно или политически отличным от «ободритов в узком смысле». ¬ хронике √ельмольда восточные границы племени «ободритов» в узком смысле проход€т по реке ¬арнов и доход€т до племени хижан, так что «варинабы», помещЄнные им между столицами – –атцебургом полабов, Ћенценом линонов и ессином хижан – должны были находитьс€ внутри «земли ободритов в узком смысле». »сход€ из одинаковых племенных границ, переданных √ельмольдом дл€ варинов и ободритов, у них должна была быть одна столица (ћекленбург) и единые традиции («племенной бог» –адегаст), в то врем€ как различие в €зыческих традици€х было характерно дл€ балтийских слав€н, согласно тому же хронисту.
7. ќбильна€ топонимика на «вар» на юго-западе Ѕалтики имеет черты слав€нского словообразовани€, и если что и подтверждает, то сообщени€ источников о проживавших здесь слав€нских варинах, но не ободритах. “опонимика, восход€ща€ к форме «ободриты» в то же врем€ неизвестна, что представл€етс€ совершенно уникальным и не характерным дл€ северно-лехитских племЄн случаем. “опонимика с основой «вагр», имеюща€ черты слав€нского словообразовани€, также неизвестна.
8. —лав€не, жившие от южной ётландии до Ёльбы и реки ¬арнов, должны были быть известны на Ѕалтике, имели немалое вли€ние на соседние народы и торговали с –усью в VIII-XII века, в результате чего неизвестность «вагров» и «ободритов» русским летопис€м вызывает р€д вопросов.
–азобравшись немного с варинами, можно вернутьс€ к ререгам. ¬ поисках решени€ проблемы этой формы названи€ ободритов нужно учитывать два обсто€тельства.
¬о-первых, несмотр€ на большое сходство с названием ободритского города –ерик, она, тем не менее, не может быть от него производной по причине того, что по€вл€етс€ лишь в конце XI века, в то врем€ как –ерик был разрушен в начале IX. ќбратна€ св€зь – происхождение названи€ города –ерик от самоназвани€ ободритов – выгл€дит возможной. ‘ранкские анналы сообщают, что –ерик называлс€ так «на €зыке данов», что, однако, отнюдь не тождественно тому, что это слово происходило из датского €зыка. ¬ начале IX века, сразу после разрушение –ерика, франко-датские св€зи осуществл€лись через датских купцов. —ообщение франкского хрониста о «названии города на €зыке данов» в действительности показывает лишь то, что информаци€ о городе и его названии была получена от данов и переданное ими название не было франкам известно. Ќо это отнюдь не исключает возможности того, что даны могли называть город ободритов его слав€нским названием, которое также не было известно франкам, но так как информаци€ была получена от датчан, франкский хронист не мог знать таких подробностей. — другой стороны, город мог иметь и датский вариант названи€, отличный от слав€нского – традици€ скандинавов называть слав€нские города другими именами хорошо известна. ¬ таком случае, слово –ерик могло иметь как датскую этимологию, так и попросту происходить от названи€ ободритов – ререги. “о есть –ерик – город ререгов, что косвенно указывало бы на существование такой формы названи€ ободритов уже в IX веке.
¬о-вторых, форма самоназвани€ ободритов «ререги» достоверно известна только из одного источника – јдама Ѕременского. јдам указывал, что форма эта более соответствовала названию ободритов, чем собственно «ободриты» в его врем€, то есть в 1070-х годах. ¬ то же врем€ намеренна€ критическа€ правка этого фрагмента √ельмольдом, убравшим из «списка» форму ререги и оставившим только «ободритов», говорит о том, что ко второй половине XII века форма эта снова перестала соответствовать реали€м времени.
“ак как это обсто€тельство €вл€етс€, по сути, единственной зацепкой в вопросе о по€влении ререгов в списке јдама, следует обратить на него более пристальное внимание. „то же такое могло произойти, что сменило на короткий период форму названи€ ободриты на ререги в конце XI века? Ќа самом деле, в это врем€ в государстве ободритов действительно произошли кардинальные изменени€. ¬ 1066 году династи€ прав€щих в Mекленбурге кн€зей в ходе €зыческого восстани€ была вопреки закону о наследовании власти смещена, а новым ободритским правителем стал рут из некой, происход€щей извне и не св€занной с предыдущей, династии. √ельмольд сообщает о вражде этих династий, притом, что потомки рута в XII веке представл€ютс€ им как рюгенские слав€не. Ќемецкие историки XVI века, “омас антцов и Ќиколай ћаршалк, также определЄнно говорили о происхождении династии рута с –югена, источники их, правда, не совсем €сны. » тут снова хотелось бы обратить внимание ещЄ на два обсто€тельства.
1. — одной стороны, форма «ободриты» тесно св€зана в источниках с кн€зь€ми, правившими в крепости ћекленбург, «ободритами в узком смысле». — другой стороны, как многочисленна€ топонимика, так и письменные источники указывают, что слав€не к западу и востоку от крепости ћекленбург продолжали называть себ€ варами или варинами.
2. »сследовател€ми неоднократно обращалось внимание на схожесть окончани€ латинской формы obodriti с патронимическими окончани€ми на –ичи, известными в названи€х слав€нских племЄн.
ѕоэтому, если форма «ободрит(ч)и» была патронимической, она не об€зательно должна была быть св€зана с «легендарным предком», но вполне могла восходить к основателю династии. »м€ этого гипотетического «ќбодра» не могло сохранитьс€ в источниках, так как первые упоминани€ «ободритов» застают их уже как «давних» союзников. ѕервые же упоминани€ ободритов говор€т о том, что подтверждение своей власти в ћекленбурге они получали от франкских императоров, и эта власть переходила по наследству. “аким образом, происхождение от династии «ободритов», действительно, давало право на крепость ћекленбург и власть над земл€ми варинов. ј если «ободриты» было названием династии и ободритами в узком смысле немцы называли ближайшее окружение мекленбургских кн€зей, а в широком – всех подвластных им слав€н, то с приходом к власти новой династии рута в 1066 году, название ободритов, действительно, должно было перестать быть актуальным. ’роника јдама была написана в 1070-х годах, во врем€ правлени€ рута, что придаЄт его словам «ободриты, которых ныне называют ререгами», вполне конкретный смысл.
«–ереги», в таком случае, должно было быть названием династии рута, что, учитыва€ веро€тное происхождение его с острова –юген, и вовсе может оказатьс€ тождественно одной небезызвестной восточноевропейской династии. ≈щЄ более соблазнительным было бы предположить, что в адамовских Reregi заглавной буквой должна была быть W, а не R – это бы и вовсе разом сн€ло все вопросы. ќднако это было бы уже и вовсе произвольной фантазией. ¬ рукопис€х јдама, действительно, известны описки в первой букве этого слова, но они довольно предсказуемы – Reregi, Keregi. “о же, что —аксонский анналист переписал уже в середине XII века именно ререгов, не даЄт поводов видеть там что-то другое.
’роника √ельмольда написана в 1160-1170-х годах, уже после того, как династи€ рута снова сменилась династией «ободритов». ¬ его врем€ жили и правили представители как раз этой традиционной «ободритской» династии – Ќиклот, ѕрибислав и его сыновь€, бывшие уже христианами. √ельмольд крайне негативно относилс€ к династии рута, €зычника и €рого врага христианства, и называл его и его потомков исключительно нелестными словами. ѕотому редакци€ им «списка» јдама с «вырезкой» ререгов и сохранением просто ободритов выгл€дит также вполне пон€тной – она соответствует реали€м его времени.
¬озможно, интересным может оказатьс€ и песн€ ¬идсид, вкоторой упоминаютс€ варины с их правителем Ѕиллунгом. ѕринимаетс€, что ¬идсид восходит к германскому эпосу ещЄ эпохи ¬еликого переселени€ народов, но наиболее ранн€€ сохранивша€с€ рукопись датируетс€ X веком. ¬ременем, когда у ободритов действительно был правитель с именем Ѕиллунг. Ќе могла ли ¬идсид запечатлеть в том числе и реалии своего времени? ¬ X веке ободриты были св€заны с северными германцами – данами – близкими союзническими отношени€ми. “ак, даны приход€т на помощь осаждЄнной немцами крепости варского кн€з€ —елибура, во врем€ его конфликта с ћстивоем, сыном Ѕиллунга. ƒочь ћстиво€, внучка Ѕиллунга, “офа, была женой датского корол€ ’аральда —инезубого.
“акже можно предположить, что слав€нское самоназвание ободритов – варины – сохранилось, по крайней мере, в одном из уже упоминавшихс€ «варнских» топонимов, названии реки ¬арнов. “опонимика могла обозначать не столько центр занимаемой племенем территории, сколько его границы: если все внутри племени называли себ€ одинаково, то выдел€ть какое-то поселение как «варнское», смысла бы не имело. ќднако такое выделение было бы естественно на приграничных земл€х варнов. » если к западу от ободритов в узком смысле, суд€ по всему, жило то же самое плем€, упоминающеес€ в наиболее ранних источниках как вары, то к востоку от них жили уже другие слав€не – лютичи. √ельмольд и јдам подчЄркивают их отличие от ободритов. јдам располагает плем€ варнабов между полабами, линонами и хижанами. √ельмольд сообщает, что крепость ¬урле на реке ¬арнов находилась в ободритских земл€х, недалеко от границы с хижанами. “ак оно и было – главный город хижан, ессин, находилс€ чуть ниже по течению, также на ¬арнове. “аким образом, ¬арнов был границей лютичей и ободритов в узком смысле по √ельмольду. ¬арнабы не могли не граничить с хижанами по ¬арнову и исход€ из описаний јдама. Ќазвание реки ¬арнов, таким образом, могло означать собственно то, что и до сих пор так очевидно слышитс€ в нЄм даже современному русскому слуху – «реку варнов», или разграничительную черту, за которой дл€ лютичей начинались «земли варнов».
√раницы племЄн чаще всего по рекам и проходили. “ак, река “рава была границей между племенами вагров и ободритов в узком смысле по √ельмльду. –ека Ћаба/Ёльба была политической границей —аксонии и слав€нских земель, река ѕена – границей племЄн толленцев и чрезпен€н. ѕо √ельмольду, река ¬арнов была границей ободритов и хижан (лютичей), так что дл€ лютичей известность этой разграничительной реки как «варнской» [границы] выгл€дела бы вполне естественно. Ќо дл€ самих ободритов-варинов такое выделение едва ли могло бы иметь смысл. ƒл€ них она должна была быть «лютичской» границей, а не варнской. ќбодритское название реки в таком случае могло отличатьс€ от «¬арнова» и, возможно, сохранилось в скандинавских источниках. ƒаны (—аксон √рамматик и —ага о нютлингах) в XII веке знали ¬арнов под названием √удакра или схожими формами.
Ќазвание, насколько мне известно, не имеет ни германской, ни слав€нской этимологии, и по€вление у данов такого «бессымсленного» дл€ них и не заимствованного у слав€н, в случае, если все они называли ¬арнов – ¬арновом, кажетс€ очень странным. ¬ то же врем€ на северо-востоке √ермании известно много гидронимики, не восход€щей ни к германскому, ни к слав€нскому €зыкам – со всей очевидностью дошедшей ещЄ с глубокой древности. ¬ земл€х ободритов такими дослав€нскими гидронимами €вл€ютс€ названи€ рек “рава, Ёльба/Ћаба, Ёльда. ажетс€ маловеро€тным, чтобы даны сохранили название такого незначительного в межрегиональном плане гидронима на прот€жении более чем полутыс€чи лет, в то врем€ как у слав€н он и вовсе был неизвестен. — другой стороны, было бы очень веро€тным заимствование гидронима данами у слав€н в X-XII веках – времени наиболее активных датско-ободритских династических св€зей, присутстви€ знатных данов в ободритских городах, и частых войн XII века. ¬ таком случае, они могли заимствовать дослав€нский гидроним у ободритов или хижан, дл€ которых выделение ¬арнова, как границы земли варнов кажетс€ менее актуальным, чем дл€ соседних лютичей (хижане – тоже лютичи, но их столица сто€ла на ¬арнове, так что едва ли они могли отождествл€ть его с «варнской землЄй»).
—охранение дослав€нской топонимики слав€нами, жившими по ¬арнову, гораздо более веро€тно, чем данами, никогда тут и вовсе не жившими. ѕоэтому употребление двух форм названи€ реки может объ€сн€тьс€ просто: одна из них, √удакра, была древней формой, употребл€вшейс€ хижанами или варинами, друга€ – ¬арнов – более новой, «лютичской». ¬ пользу этого говорит и сохранение этой формы названи€ реки (√удакра) в названии св€щенной рощи хижан – √одерак – на берегу ¬арнова, о которой сообщает јрнольд Ћюбекский. “акой же топоним подтверждают и папские грамоты. ¬ том случае, если это слово было бы датского происхождени€ и не было бы известно местным слав€нам, сложно было бы объ€снить возникновение этого топонима в сугубо слав€нском €зыческом мире, безо вс€ких указаний на датские колонии.
Ќесмотр€ на многие не€сные и малоизученные эпизоды истории ободритов, приведЄнные данные позвол€ют говорить о тождественности названий варинов и ободритов. ѕроисхождение формы «ободриты» при этом могло быть св€зано с перенесением франками этого названи€ на западную ветвь южнобалтийских слав€н с племени дунайских ободритов и закрепитьс€ в последующем франкском летописании как немецкий «учЄный экзоэтноним», либо же могло быть св€зано с династией, правившей в крепости ћекленбург и получившей подтверждение своей власти сначала от франкских императоров, а позже – от саксонских герцогов, и потому выдел€вшей своЄ династическое происхождение, дававшее право на власть над земл€ми варинов.
јндрей ѕауль, историк
»сточник: http://pereformat.ru/2014/04/varini-obodriti/
Ћиди€ √рот ¬арины - вар€ги - вэринги: https://yadi.sk/i/VFRfWYaVVDCm5
ћетки: ободриты слав€не |
’азарский город ’арьков 1 |
ƒневник |
»¬јЌ —ј–ј“ќ¬, кандидат технических наук
ќ ѕќЋ≈, ѕќЋ≈...
»з книги: ¬адим —уханов“айны веков. —борник.

—уществует много версий, объ€сн€ющих происхождение названи€ города.
ѕервую такую гипотезу высказал ƒмитрий √ригорьевич √умилевский, более известный просвещенному читателю под именем ‘иларета. ѕрофессор ћосковской духовной академии, автор шестикратно переиздаваемой «»стории русской церкви», ‘иларет с 1848 по 1859 год возглавл€л ’арьковскую епархию. ¬ этот период он и издал фундаментальную работу по истории городов и сел ’арьковской губернии, где св€зал наименование ’арькова с одной из рек, подарившей городу свое им€. ак известно, строительство города‑крепости ’арьков велось в 1654–1658 годах.
Ќо еще в « ниге Ѕольшому „ертежу» (1627 год) ”поминаетс€, что «...Ћопин пала в ’арькову, а ’арькова пала в ”ды»... » далее: «ј выше ƒонецкого городища, с правой стороны, впала в ”ды речка ’арькова, от городища с версту»... ѕривед€ ссылки из « ниги Ѕольшому „ертежу», ‘иларет писал: «ќтселе пон€тно, что город ’арьков получил название от реки ’арьков, как город ќлешн€ от р. ќлешки, город Ћебедин по озеру Ћебедину...» —егодн€ эта верси€ считаетс€ официальной, о чем говоритс€ в экспозиции и путеводителе по ’арьковскому историческому музею. Ќо гипотеза ‘иларета не единственна€.
≈ще три гипотезы
’арьков возник на месте старинного городища. √ородище это в свое врем€ даже измер€ли. ј дело было так.
ќдним из первых городов, построенных южнее «Ѕелгородской черты», был „угуев. ќсновавший его гетман ќстр€ница прожил в нем недолго. ¬скоре он был убит, форпост на русской границе опустел. ћосковское правительство срочно выслало в „угуев воеводу с группой служилых людей. ¬ об€занности воеводы входило не только укрепление своего города, но и поиск мест дл€ строительства будущих крепостей. “очно выполн€€ инструкции, чугуевский воевода √ригорий —пешнев частенько выезжал дл€ осмотра своей округи и во врем€ одной из таких разведок точно измерил и описал ’арьковское городище, тогда совершенно запустевшее. Ќо чье же?
“атаро‑монголы на русской земле городов не строили, и в 1877 году профессор II. я. јристов высказал гипотезу, будто городище это – остатки древнего половецкого города Ўарукан€, а искаженный корень «шарук» и лег в основу самого слова «’арьков».
¬ X–XI веках воинственные племена кипчаков – куманов, которых наши предки называли половцами, заполонили южнорусские степи. ¬ русской истории Ўарукань, находившийс€ где‑то в верховь€х ƒонца, помн€т благодар€ ¬ладимиру ћономаху. Ћетописи рассказывают, что в 1111 году жители Ўарукан€ без бо€ сдали город русским дружинам, выйд€ навстречу ћономаху с рыбой и вином. Ќо дает ли этот факт основание предполагать, что жили здесь христиане? ≈ще раз летопись упоминает Ўарукань, описыва€ поход кн€з€ ярополка в 1116 году. ƒальнейша€ судьба Ўарукан€ неизвестна. ћожет быть, оттого, что наименовани€ половецких городов, по мнению
Ќ. я. јристова, были св€заны с именами ханов, сто€вших у власти; умирал один хан или власть переходила к другому, и название города мен€лось. “ак и Ўарукань в разные времена, веро€тно, носил названи€ разные. —начала летопись называла его ќсеневым, по имени хана јсана или ќсен€, сдавшегос€ в плен ћономаху. ¬ 1082 году власть перешла к Ўаруку, тоже едва не попавшему в русский плен в 1107 году. ѕозже город стал называтьс€ „ешуевым – наверно, по имени хана, ставшего предводителем половцев после смерти Ўарука.
Ѕольше русские летописи о Ўарукане не упоминают. Ќо в летописном описании »горева похода 1185 года на берегу реки ”ды по€вл€етс€ город ƒонец, которого во времена ћономаха не было. Ёто дало основание многим ученым считать, что город ƒонец возник на месте старого Ўарукан€.
јристов прочел летопись совсем иначе. ќн установил, что русские дружины, «поидоша съ ƒонови ко граду Ўаруканю», вз€ли его. (–ека ”ды в летопис€х называлась ƒоном или ƒонцом. —овременный —еверский ƒонец в те времена называлс€ ¬еликим ƒоном.) »сторик решил, что Ўарукань находилс€ не на берегу ”ды, а на некотором рассто€нии от реки, и отождествил это место с месторасположением ’арькова. “ак ли это – сказать трудно. роме гипотезы, никаких документальных доказательств нет. ј гипотез о месторасположении Ўарукан€ было предостаточно.
»наче мыслил автор знаменитой €фетической теории академик Ќиколай яковлевич ћарр. ќн считал, что корень «’ј–» (так же как «—ј–», « ќ—» и « ј«») не что иное, как этноним хазар. Ётноним – это наименование племени или народности. ќтсюда ’арьков (как азань, острома и —аратов) – древний хазарский город. ћного веков хазарский каганат (пока верхушке удавалось удерживать в повиновении насел€вшие территорию этого более чем странного государства‑призрака тюркские, слав€нские и другие племена) грабил окрестные народы. Ќо при ¬ещем ќлеге перестают платить дань север€не и радимичи – слав€нские племена, засел€вшие верхнее левобережье ƒнепра. «атем – в€тичи. ќкончательно покончил с врагами —в€тослав »горевич. ѕосле его похода хазарский каганат рассыпалс€, паразитическа€ верхушка, состо€ща€ из чиновников и торговцев, сбежала (кому удалось), и если б не... впрочем, истори€ хазарского каганата в известной мере более чем поучительна.
ѕарадоксально, но факт, более чем тыс€чу лет назад —в€тослав стал подлинным освободителем подъ€ремного хазарского люда от их фальшиво‑лицемерного «цар€» и его ростовщически‑жадных сатрапов.
ѕростые тюрки от его набега не пострадали: они просто не принимали никакого участи€ в военных действи€х. Ћюди продолжали жить как и жили, говор€, конечно же, на €зыке своих отцов и дедов. “ак, может, «’арьков» – тюркское слово? «’ј–» обозначает снег или лед, а « ќ¬» может быть объ€снена как узкое речище, берег или речка. ¬ целом название ’арьков, по мнению ». ¬. ћуромцева, автора еще одной гипотезы, обозначает «холодна€ речка». ¬ подтверждение своей правоты ученый приводит названи€ и других ближних рек и ручьев: —туденок и Ћед€ной яр.
Ёти три гипотезы – не единственные. ≈сть и еще. о не пора ли автору перестать заниматьс€ пересказом, а сказать то, что вроде б еще не говорилось?..
ј что именно?
»сследовани€, проведенные автором, обнаружили факты, плохо укладывающиес€ в здани€ существующих гипотез. » фактов таких немало. ¬от некоторые из них.
1. ќказываетс€, существует немало населенных пунктов и рек, названи€ которых содержат корень «харк» или «харьк». ѕоловина населенных пунктов с корнем «харк» называютс€ ’арьковцы, другие нос€т название ’арьков, ’арьковка, ’арьковское, ’арькивщина. роме них, имеютс€ и другие населенные пункты, чьи имена очень близки к корню «харк».
2. Ќекоторые из этих населенных пунктов и рек нанесены на старинную карту Ѕоплана. арта увидела свет задолго до по€влени€ ’арькова. » хот€ на ней все названи€ с корнем «харк», переданные латинскими буквами, пишутс€ через букву « », на последующих издани€х мы видим уже букву «X».
3. ¬се населенные пункты с корнем «харк» расположены в пределах ”краины вблизи юго‑восточной границы известных нам древних слав€нских поселений.
4. ¬ современной ёгославии на границе ’орватии и —ербии расположен город ’ртковцы (не напоминает ли украинское ’арьковцы?), а на границе ’орватии и ¬енгрии – ’аркани.
5. ƒалее. “олько один из всех населенных пунктов с корнем «’ј– » стоит на реке ’арьков. Ёто сам город ’арьков. ќстальные размещаютс€ на реках ”дай, Ћохвица, јльта и др. Ѕолее того, и ’арьков‑то приблизилс€ к одноименной реке только тогда, когда разросс€ за пределы начальной крепости. ј крепость была построена на обрывистом берегу реки Ћопань (на месте древнего городища), которое хот€ и отсто€ло довольно далеко от реки ’арьков, однако носило почему‑то название ’арьковского, а не Ћопанского.
6. » еще о хазарах. Ќа –уси они известны были под именем «козар». Ќапример, древние летописи, описыва€ событи€ 859 и 1117 годов, рассказывают нам: «...козари имаху дань на пол€нех и на север€нех... или: «...придоша беловежци, си есть козаре, в русь...» и т. д. » в XX веке сохранились их многочисленные следы в виде названий населенных пунктов: озарка, азариновка, озары, озарска€ и др. ¬се эти названи€ сегодн€ звучат и пишутс€, как и в древних летопис€х, с четким указанием первой буквы « ».
ј теперь давайте‑ка поразмыслим. ќтчего столь локально расположены все эти поселени€? ј если ’арьков получил свое им€ от реки, так почему возникли ’арьковцы на ”дае или Ћохвице? ≈сли ’арьков – от хазар, тогда почему тыс€чу лет сохран€лось « ќ«ј–џ»? » т, д. ѕусть и читатель сам потрудитс€ над выводами. Ќо что, если... впрочем, здесь пора уже честно сознатьс€, что есть и еще одна гипотеза.
√ипотеза автора
ј что, если слово «’арьков» напоминает нам об одном из восточнослав€нских племен, живших в те далекие времена на юго‑востоке ≈вропы? «а обычай носить темную одежду соседи называли их «черными». ¬озможно, это были потомки киммерийцев, которых, кстати, финикийцы называли темными, а может, мелакхлены – «черноризцы», то есть люди в черной одежде. ѕоследние были знакомы грекам еще с VI века до н. э. «атем в V веке до н. э. о них пишет √еродот, помеща€ их между —еймом и ƒоном, к северу от царских скифов, но оговарива€, что это не скифское плем€.
¬ III веке до н. э. племена, «нос€щие черную одежду», известны под именем савдараты. »звестны они и в I веке к. э.: писатель ƒион ’рисостом, посетивший в то врем€ ќльвию, рассказывает, что ольвийские жители носили черные плащи на манер одного из соседних туземных племен. »сследовани€ показали, что пам€ть об их древнем местожительстве и поныне живет во многих названи€х на всем пространстве ёго‑¬осточной ≈вропы от верховий ƒнепра до убани.
¬ названи€х более чем 250 рек, ручьев и балок, расположенных только в верховь€х ƒнепра и в бассейне ƒона, можно обнаружить корни «„≈–Ќ», « ј–» или «’ј–». Ќевольно вспоминаетс€ кн€зь „ерный – легендарный основатель города „ернигова. «аставл€ет задуматьс€ частое повторение определени€ «черный» во многих географических названи€х юго‑востока ≈вропы: реки „ерна€ алитва, „ерный ∆еребец, „ерна€ протока убани, „ерные горы – передова€ северна€ возвышенность авказских гор, „ерные земли – территори€, расположенна€ на юго‑западе ѕрикаспийской низменности, –усское, или „ерное, море, “мутаракань, Ѕоспор иммерийский (у финикийцев амар – темный, черный).
(продолжение следует)
ћетки: ”краина хазары |
’азарский город ’арьков 2 |
ƒневник |
(продолжение)
ќтсюда предположени€ автора.
Ќазвание «’ќ–¬ј“џ», возможно, обозначает «черные слав€не», где «’ќ–» – это темный (русское «карий» или тюркские «кара» или «хара»), а «¬ј“», подобно в€тичам, – производное от венетов или антов, древнейших названий слав€нских племен. ¬спомним, что в древних источниках неоднократно упоминаютс€ «черные болгары» и «черные хазары», жившие на юго‑востоке ≈вропы. Ќе исключено, что «черные слав€не», «черные болгары» и «черные хазары» – названи€ одних и тех же племен, отождествл€емых древними авторами в различные времена с теми народами, которые были известны им лучше.
—уществование хорватских племен на юго‑востоке ≈вропы во II–IV веках нашей эры (то есть задолго до заселени€ ими территории современной ’орватии) подтверждаетс€ и теми фактами, что у сармат употребл€лись личные имена ’ќ–¬ј“ и јЌ“, очевидно, характеризовавшие каких‑то лиц‑ по этническому признаку. ѕтолемей в низовь€х ƒона и ƒонца поместил народ саргатии, им€ которого не что иное, как искаженное им€ ’ќ–¬ј“.
Ќазвание легендарной јртании – земли артов, крупного объединени€ слав€нских племен, существовавшего еще до иевской –уси на юго‑¬остоке ≈вропы, также св€зано с именем «черных слав€н», только с его какой‑то видоизмененной формой: хорваты – харты или арты, харки или арки. ¬озможно, что такое построение аналогично существующим сегодн€ формам: жители полесь€ – полещуки, северские слав€не – севрюки. » хот€ последние названи€ возникли значительно позже, это не исключает возможности возникновени€ подобных названий и в более ранние времена. ¬ доказательство возможности такого предположени€ можно привести сохранившиес€ с древних времен названи€ югослав€нских селений ’ртица и ’рваце или названи€ неизвестных нам иирков и герков.
¬ XII веке прекрасный поэт Ќизами, воспользовавшись древними источниками, писал, что русы в «акавказье приходили «из страны алан и герков».
то это герки? ћожет, потомки иирков, о которых упоминал еще √еродот, описыва€ скифский мир во времена завоеваний ƒари€? ј может, харки – герки – иирки – одно из племен юго‑восточных слав€н, живших на всем пространстве от ¬олги до убани и ƒнепра?
—егодн€ известно, что аланы жили на —еверном авказе и в верховь€х —еверского ƒонца и ƒона. ћногочисленные пам€тники алан разысканы вблизи ’арькова в районе ¬ерхнего —алтова, откуда весь археологический комплекс подобных пам€тников получил название —алтовской культуры.
–усы жили в среднем ѕоднепровье. ѕо свидетельству древнерусских летописей, –усью называлась область, где жили пол€не, «еще ныне зовома€ –усь».
ј где жили герки? ѕожалуй, герки (или харки) жили где‑то в непосредственной близости от русов и алан. “опонимика подтверждает это: город ’арьков, река ’арьков и балка ’арьков в ’арьковской области, селени€ ’арькивка, ’аривка, ’арькивщина и река ’оркалуж на —умщине, ’арькове в „ерниговской области, река ’арьковка под ќршею, три села ’арьковцы в ѕолтавской области, остров ’ортица, две балки —редн€€ и Ќижн€€ ’ортица и курган араватка в «апорожской области, ’арьков под древним ѕере€славлем (позже – это селение аратуль), ’арьковцы на реке јльте, река ’орватка в районе ¬асильковка иевской области, поселение ’орив на горе ’оривице, ’арьковцы в „еркасской области, ’арьковцы в ’мельницкой и другие.
Ёти названи€ – следы наших предков. » то, что почти все они расположены в земл€х пол€н, радимичей и север€н, можно легко объ€снить. ѕлемена, жившие на юго‑востоке ≈вропы, первыми ощущали удары орд, двигавшихс€ из глубин ÷ентральной јзии. —ражатьс€ приходилось почти непрерывно: не успевали отразить одну орду, как азиатский вулкан извергал все новые и новые волны пришельцев. » так на прот€жении сотен лет. ѕод давлением пришлых орд коренные жители этого кра€ были вынуждены оставл€ть свои родные земли. ќдни племена пересел€лись на запад, в бассейн ƒуна€; другие – на северо‑запад и север, в бассейны ƒнепра и ќки. ѕам€ть об этих переселени€х уже много веков спуст€ докатилась к древнему летописцу, который писал: «...по мнозех же врем€нех сели суть словени по дунаеви где есть ныне угорьска земл€ и болгарьска. ќто тех словен разидошас€ по земле и прозвашас€ имены своими где оседше на котором месте... а се ти же словени хровате белии и сереб и хорутане...» ƒа, слав€нские племена заселили ѕодунавье во второй половине I тыс€челети€ н. э. ќткуда ж они пришли к ƒунаю, древний летописец не помнит и потому не пишет. Ќо отголоски древнейших событий сохранил сам народ. нам дошли древние песни русского народа, рассказывающие о сказочном мире древних богатырей. » хот€ мир богатырей сказочный, в нем, как в зеркале, отразились исторические событи€ древнейших времен, поразившие народную пам€ть и воображение.
ѕримечательна в этом смысле былинна€ песн€ о богатыре ƒунае сыне »вановиче, им€ которого носит река ƒунай. ¬ этой песне можно выделить три характерных интересующих нас момента. Ёто то, что ƒунай непохож на других богатырей и в иев пришел из других краев, где
—лужил ƒунай во семи ордах,
¬о семи ордах, семи орол€м...
Ќесмотр€ на это, ƒунай именно русский богатырь, что подчеркиваетс€ в песне его отчеством «сын »ванович», которое всегда указывает русское происхождение фольклорных героев. (—равните: »ль€ ћуромец сын »ванович, »ван ÷аревич и др.)
ќкончил жизнь богатырь в водах реки, им€ которой и сохран€ет пам€ть о нем, о богатыре ƒунае:
...ѕотому быстра река ƒунай слывет;
—воим устьем впала в сине море.
¬озможно, что корни легенды о брать€х –адиме и ¬€тко тоже св€заны с переселением жителей јртании и в€тичи заселили верховь€ ƒнепра и ќку не с запада, а подыма€сь вверх по ƒонцу и ƒону? » неспроста легендарный »ль€ ћуромец сын »ванович, кресть€нский сын из села арачарова близ города ћурома, идет через «¬€тические леса», мимо черниговского города арачева на юг, к «колыбели русской народности» в стольный иев‑град. ќбратите внимание, »ль€ ћуромец идет не на запад к земле л€шской, откуда будто бы пришел его предок ¬€тко, а на юг. » здесь, на юге, обнаруживаютс€ у »льи ћуромца загадочные родовые св€зи со «бутом Ѕорисом оролевичем из семьи или рода орол€ «адонского. Ёто слова из песни об »лье ћуромце. ј вот сведени€ совсем другого характера, но по сути своей очень близкие к тем, что мы нашли в былинной песне об »лье ћуромце:
1. ¬ реку ’арьков впадает река ћуром, в верховье которой стоит селение ћуром. 2. —тарейший русский город ћуром расположен в мордовской земле, где слав€нские поселени€ по€вились еще до иевской –уси. 3. ’арьковскую область пересекал когда‑то ћуравский шл€х, древнейший путь на европейской части нашей страны. 4. ”краинский €зык сохранил слово ћ”–, что означает каменна€ крепостна€ стена. 5. √ород, обнесенный каменной крепостной стеной, существовал вблизи ’арькова (¬ерхний —алтов) еще задолго до иевской –уси. ”ж не в этих ли кра€х и располагалось ««адонское оролевство»?
—лав€не в ѕрикавказье?
”ход€ из родных мест, часть «черных слав€н» селилась среди родственных слав€нских племен, образу€ новые поселени€, которые в отличие от местного населени€ стали называтьс€ «черными». » неудивительно, что за пределами земли пол€н и север€н, то есть в самой јртании, таких названий нет, так как там все поселени€ были «артанскими». “акую же картину можно наблюдать сегодн€ и в ёгославии. ¬доль всей хорватской границы разбросаны «хорватские» названи€ городов и сел: ’орватини у “риеста; река ерка и город ’аркани в ¬енгрии; ’ртковцы в —ербии; ’ртица в осове; ’рвачаны, ’рватско —ело, ’рватски ¬лагай на границе с Ѕоснией; ’рваце на границе с √ерцеговиной. ¬ центре ’орватии таких названий мы не встречаем.
—в€зь современных хорват со своими юго‑восточными предками можно проследить по следующей цепочке, каждое звено которой в той или иной степени доказуемо: хорваты – сербы, сербы – север€не.
÷ентром северской земли был „ернигов, основанный кн€зем „ерным. Ќо именно черниговские кн€зь€ (а не киевские) рассматривали “мутаракань как свою «отчину». „то‑то нам неизвестное давало им основание роднитьс€ с земл€ми на берегах убани, јзовского и „ерного морей.
јриаднина нить таких построений привела нас к берегам јзовского мор€ – древней ћеотиды, где размещалс€ третий слав€нский центр – јртани€. Ќет, не случайно «оселедец» украинских казаков носил кн€зь —в€тослав, а еще ранее так стригли головы праболгарские владыки, обитавшие на берегах ƒона и убани, их и называли «кн€зь€ с остриженными головами».
Ќе случайно и одно из названий южных болгар было «¬енентр».
ќ существовании юго‑восточного слав€нского центра упоминаетс€ в самых различных источниках: страна јртани€, русска€ церковь по уставу Ћьва ‘илософа, христиане Ўарукан€ и ’азарии, бродники в южных степ€х, нити, св€зывающие „ернигов с “мутараканью, и многое другое.
» – кто знает – возможно, автор «—лова о полку »гореве» в своих строках: «...ƒив кличет по верху дерева, велит прислушатьс€ земл€м незнаемым: ¬олге и ѕоморью и ѕосулью и —урожу и орсуню и тебе “мутараканский хан...» – обращаетс€ не к враждебным земл€м, а к земл€м, утер€нным слав€нами под давлением кочевников: от берегов ¬олги до „ерноморь€, от —улы до побережь€ рыма и “амани. «ƒикое поле» – столети€ звал наш народ эти земли. ”ж не к нему ли обращалс€ пушкинский –услан, говор€: «ќ поле, поле, кто теб€ усе€л мертвыми кост€ми?» —клоним же перед ними голову – это не только прах завистников земли древнерусской, это могилы отцов, без которых не было бы нас с вами, читатель...
¬. — ”–Ћј“ќ¬, кандидат исторических наук
—Ћ≈ƒ —¬≈“ќЌќ—Ќџ’
Ћюди не стрем€тс€ оригинальничать, когда дают вещам имена. ќни или приспосабливают дл€ названи€ новоувиденного старый корень, или заимствуют в свой €зык то слово, которым новоувиденное обозначаетс€ в €зыке другого народа.
ак показал в 1950–1952 годах основоположник глоттохронологии ћ. —вадеш, любой народ неизбежно обновл€ет за каждое тыс€челетие около 19,5 процента корневых слов своего €зыка. орневых слов не так уж много, и они на прот€жении тыс€челетий рассе€лись по всем континентам. примеру, можно насчитать дес€ток‑другой корневых слов, почти одинаково звучащих в русском €зыке и в €зыках австралийских аборигенов или бушменов ёжной јфрики. ¬ древности праслав€нскими корневыми словами пользовались, видимо, многие народы. ¬авилон€не дорогу называли «дарагу», шумерское слово «уруду» (медь) сближаетс€ чешским ученым Ѕ. √розным со слав€нским корнем «руда» и т. д.
ѕланета наша не столь уж велика, а народы не всегда сид€т на одном месте. “ак, в начале нашей эры готы переселились с балтийских берегов в причерноморские степи и отсюда доходили чуть ли не до »ндии. Ћегенды осетин повествуют о походах в —кандинавию, о набегах нартов на Ѕлижний ¬осток и в јфрику. ƒревние слав€не (в частности, русы и хорваты) с незапам€тных пор играли активную роль в судьбах ≈вропы, ÷ентральной и ѕередней јзии.
»сторики допускают, что в конце II – начале I тыс€челети€ до н. э. киммерийско‑слав€нские отр€ды через ‘ракию и Ѕосфор вторгались в ћалую јзию, а из –усского ѕол€ просачивались через ƒарь€льское ущелье в «акавказье. ¬ конце концов во главе ”рарту, унаследовавшего славу индоевропейского хуррито‑митаннийского государства II тыс€челети€ до н. э., становитс€ царь –уса I (конец VIII века до н. э.). ¬близи теплых источников к югу от √лавного авказского хребта основываетс€ опорный пункт “еплице, впоследствии “ифлис (ныне “билиси). —лав€не воздвигают в ћингрелии цитадель, получившую название √орди (от «город», «град»), а в малоазиатской ‘ригии стро€т крепость √ордион. ќтмечаетс€ также, что им€ фрако‑фригийского бога —абадиоса (ќсвободитель) выводимо из исконно слав€нского корневого слова «свобода». ƒаже в Ѕиблии, в ветхозаветной книге пророка »езекиил€, осталась пам€ть о могучем северном народе –ос (–ош), одно только им€ которого внушало ужас семитам.
стати, название јртании, одного из трех до‑киевских слав€нских царств (нар€ду с у€вией и —лавней), напоминает названи€ славных урартов (уруатри) и более ранних хурритов‑митанни. Ќекоторые ключевые слова урартского €зыка совпадают или близки с соответствующими словами русского и сербскохорватского €зыков. Ќапример, местоимение «€» на урартском звучит почти так же, как по‑русски. »мена же царей митанни, производные от сугубо индоевропейского, арийского корн€ «рта» (пор€док развертывани€ времени в бытие; закон, управл€ющий судьбой вселенной), тоже, наверное, имеют какое‑то отношение к јртании. Ќапример, известен митаннийский царь јртатама I, который правил приблизительно в 1460– 1440 годах до н. э. и выдал свою дочь замуж за египетского фараона “утмоса IV – дедушку того знаменитого фараона‑еретика Ёхнатона, что был мужем Ќефертити. “ыс€челетие спуст€ царские имена, начинающиес€ на «арта», были распространены на —реднем ¬остоке – ахеменидские јртаксерксы в ѕерсии, арм€нские јрташесы, јртавазды и т. д.
» русы, и другие слав€нские племена обладают таким же историческим достоинством, как индоиранцы, германцы, тюрки и прочие народы, и имеют за своими плечами, конечно, не дес€ть‑п€тнадцать веков исторического быти€, а несколько тыс€челетий минимум. ќни неминуемо должны были оставить свои следы во многих районах ≈вразии и сопредельных регионов. Ќасколько же обоснованна в этой св€зи гипотеза о хорватах как древних насельниках ’арьковщины, давших ’арькову его им€? ѕопробуем проследить пути хорватского племени сквозь времена и пространства.
»звестно, что между 625 и 629 годами византийский император »раклий, стрем€сь ослабить натиск авар, пригласил часть сербов с Ёльбы и часть хорватов из √алиции поселитьс€ на Ѕалканах. »звестно также, что к северным арпатам в √алицию хорваты пришли в начале слав€нской экспансии на запад, то есть лет за сто‑двести до переселени€ в »ллирию.
¬ малоизвестной «¬лесовой книге», €вл€ющейс€, как предполагают, пам€тником €зыческой –уси, об этом событии говоритс€ следующее:
«се бо оре отец иде пренд ны а кие венде за рушь и щек венде племы све а хорив хорвы све а и земь бо граденц на то а €кве се мы внушате бгве одейде хорив и щек одо ине а сехом до карпансьте гор€ и тамо б€хом ини граде твор€еам ину им€хом соплеме‑ны ин€и богентсве им€хом велк».
¬ переводе это звучит приблизительно так: «и вот ќрь отец идет перед нами, а ий ведет за –усь, и ўек ведет племена свои, а ’орив хорвов своих... (далее непон€тно)... поскольку мы внучата богов; отошли ’орев и ўек от остальных и сели до арпатских гор и там иные города создали, иных имели соплеменников, иное имели великое богатство».
»ными словами, согласно «¬лесовой книге» ий, ўек и ’орив не три родных брата, а вожди братских племен: русов, чехов, хорватов. ≈сли русы перед началом расселени€ обитали в районе иева где‑то неподалеку от реки –ось, то вполне возможно, что их соседи, хорваты, частично осели где‑то неподалеку от реки ’арьковы.
„то касаетс€ первичного смысла слова «хорват», то едва ли оно означает лишь «карие (черные) ваты (венеты, анты)». Ќапомним, что ’орив привел к арпатам плем€, известное позднее византийскому историку, императору онстантину Ѕагр€нородному (X век) под именем «белых хорватов». —уществуют и другие гипотезы о происхождении имени «хорват». ѕтолемей в своей «√еографии» (II век) помещал народ «сербой» (сербов) в степ€х между северо‑восточными предгорь€ми авказа и ¬олгой. ѕольский славист . ћошиньский производит им€ «серб» от индоевропейского корн€ «серв» (страж, пастух). Ѕыть может, позднее ирано€зычные сарматы перевели это слово на свой лад как «хавр» (страж) и стали, добавив суффикс «ат», называть хорватами тех сербов, что жили с ними бок о бок. ¬ двух греческих надпис€х из “анаиса (Ќижний ƒон), относ€щихс€ к концу II века, €сно прочитываютс€ имена «хороатос», «хороуатос». ¬ обыча€х, обр€дах, формах жилищ, хоз€йственной практике сербов и хорватов до сих пор сохранились реликты их пастушеского прошлого.
—лав€нские племена не просто соседствовали со степными ирано€зычными скифами, сарматами и аланами, но иногда раствор€лись в них или почти сливались с ними. “ак, по мнению √. ¬. ¬ернадского, известное в античности воинственное плем€ роксоланов (во «¬лесовой книге» – русколань) произошло в результате типичного куначеского союза‑сли€ни€, в котором участвовали, с одной стороны, некоторые кланы русов и р€д кланов алан – с другой. »ранские корни входили в слав€нскую речь, а слав€нские нередко фонетически « иранизировались». ѕревращение «серба» в «хорвата» вполне могло иметь место, и, как указал недавно польский ученый 3. √ол€б, если древнеслав€нское слово начинаетс€ на «х», его с большой веро€тностью можно считать словом ирано€зычного происхождени€.
Ќо €вл€етс€ ли азово‑каспийский регион прародиной хорватов, откуда часть их пришла на ’арьковщину? сожалению, многие до сих пор рассматривают древних слав€н исконными земледельцами и не допускают даже мысли, что какие‑то слав€нские племена полтора‑два тыс€челети€ назад продолжали жить первобытно‑индоевропейской пастушеско‑земледельческой жизнью в разных уголках степного по€са, простирающегос€ от нынешней ¬енгрии в глубь ÷ентральной јзии. ћежду тем не только сербы и хорваты были пастухами, но, видимо, и русы. ќтметим, что «¬лесова книга» описывает древних русов как степной народ, вод€щий свой скот «от востока до ариенстеа горе», и к V веку река ¬олга в ее степной части была известна западным географам как река –ос, «русска€ река».
—тепь же широка, но легко и быстро проходима, как море на ладь€х, а степн€ки очень непоседливы. —кажем, пришли европеоидные, но, веро€тно, уже тюрко€зычные «черные клобуки» из ѕриараль€ на реку –ось, стали в силу каких‑то, веро€тно, давних своих св€зей с русами служить киевским кн€зь€м, но после татарского разгрома частично откочевали снова за ¬олгу, породив нынешних каракалпаков (черношапочников) на территории бывшего ’орезма, к югу от јральского мор€. “ак, возможно, и хорваты. —уд€ по р€ду археологических, антропологических и лингвистических соображений, пришли они в ѕриазовье, веро€тно, из благодатного острова в море пустынь – из того же ’орезма. » древнее название ’орезма – «’вар‑зем» – означает на €зыке древнеиранской јвесты «земл€ —олнца».
“аким образом, название хорват производно, возможно, не от корн€ «хавр» (страж), а от другого ирано€зычного корн€ «хвар» (солнце). ѕо мнению ѕ. “е‑деско, слово «хорват» выводитс€ из иранского «хварвант» (санскритское «сварвант») – «солнцеподобный», «солнценосный». —оответственно название русов, как предполагают некоторые ученые, св€зано с древнеиндоевропейским, арийским корневым словом, означающим «свет», «светоносный», «св€той» («расхша» в јвесте, «рухс» в аланском €зыке). Ќапомним, что в исконно слав€нской религии обожествл€лс€ именно свет, солнечный знак, круг – зигзаг времени.
ј при очередном зигзаге истории старый смысл племенного имени не всегда ув€зывалс€ с изменившимис€ обсто€тельствами, переосмысл€лс€ в духе той или иной народной этимологии». Ќапример, по цвету волос или по одежде: русы – значит русые, хорваты – черноволосые, черношапочные и т. п. ¬скрыва€ в имени пласт за пластом, как бы сходишь по ступен€м истории к первоистокам.
¬ «јссирийском царском списке» сообщаетс€ о «живших в шатрах» легендарных цар€х ’архару и ’арцу, странствовавших в III тыс€челетии до н. э. где‑то, видимо, в евразийских степ€х. ј в древнеперсидских надпис€х провинци€ јрахози€ с центром в городе андагар (ныне в јфганистане) называлась ’арахвати. Ќет ли и здесь св€зи с хорватами?
„то ж, и готы в одну и ту же эпоху обитали и в —кандинавии, и на Ѕалтике, и в рыму, и на авказе, не говор€ о готских королевствах «ападной ≈вропы, и, разумеетс€, поддерживали сношени€ друг с другом, јланы в первой половине I тыс€челети€ рассе€лись от —иньцз€на до Ѕританских островов и —еверной јфрики. ≈сли объективно (и без русофобской предвз€тости) обобщить свидетельства древних источников и данные современной науки, то напрашиваетс€ вывод, что п€тнадцать веков назад русы обосновались, видимо, и на ¬олге, и в ѕриазовье, и в рыму, и на ƒнепре, и на Ќемане, и на Ѕалтике, и даже, возможно, в —кандинавии, на берегах —еверного мор€, и в ÷ентральной јзии. ’орватские кланы тоже наверн€ка не раз растекались по планете.
ƒревние слав€не жили в таких же социально‑экономических услови€х, как и соседствовавшие с ними ирано€зычные, германо€зычные и тюрко€зычные племена. Ќекоторые кланы и племена и слав€н, и иранцев, и германцев, и тюрок прибивались к побережь€м, станов€сь викингами морей, другие предпочитали всаднический степной простор, третьи искали свою судьбу в хлебопашестве. Ќо вольнолюбивые непоседы рождались везде и разносили по белу свету не только свои корневые слова и имена, но и славу своего рода.
» еще:
»стори€ ’арькова
 Ќаименование:
Ќаименование:
ѕредистори€ основани€ ’арькова
¬ раннем средневековье на территории ’арьковской области жили кочевые племена: аланы, хазары, печенеги, половцы. Ќекоторые историки полагают, что половецка€ столица Ўарукань — этимологический источник названи€ города ’арькова. ѕо одним данным, название города пошло от реки ’арьков, по другим — от легендарного казака ’арько.
ћифический казак XVI, начала XVII или даже XVIII века ’арько, по имени которого €кобы назван город и которому воздвигнута в 2004 году в начале проспекта Ћенина конна€ стату€ работы «. ÷еретели, по поздней легенде, приведЄнной Ќ. остомаровым (1881), был казачьим сотником, грабителем имений.[1] ѕо другой поздней легенде, записанной ≈.“опчиевым (опубликована в 1838), которую раскритиковал как недостоверную ƒ.Ѕагалей, утонул близ будущего «миЄва в реке —еверский ƒонец: «Ќе приходитьс€ быть первому поселению при реке Ћопани, иначе город ’арьков называлс€ бы Ћопанью или река Ћопань — ’арьковом. ≈щЄ дед моего деда зашЄл в этот край и именно в окрестности ’арькова, когда было здесь мало народу… ѕервый поселенец… поселилс€ при ней [Ѕелгородской кринице] хутором… » этот первый поселенец был ’арько… огда именно жил ’арько, неизвестно, но говорили, что назад тому более 200 лет…[от 1838] ќн был не из простых. ¬ышел из ѕольши начальником нескольких семей [православных]… ќднажды… настигнул их [татар] около нынешнего города «миЄва. ќтбил добычу и освободил пленных. Ќо, угнавшись за самыми татарами на ту сторону ƒонца, был подавлен большим числом собравшихс€ непри€телей и потонул в ƒонце, на обратной переправе с двум€ своими сыновь€ми. “атары, наконец, проникли в скрытное убежище поселени€ ’арька и разорили его совершенно… ѕосле этого заселение ’арька оставалось долго впусте. √оворили также, что самые татары, первые, называли его именем реку, при которой он жил». (этого не может быть, поскольку гидроним ’арьков намного старше).
—огласно «“опографическому описанию ’арьковскому наместничеству» (1785) ответом на восьмой вопрос анкеты «≈жели можно справитс€ о его [города] начале, кем, когда и на какой случай построен, и какими людьми спервоначали€ быль заселен» €вл€ютс€ следующие слова (дословно): ««а подлинно неизвестно, но естьли поверить молве, то на сем месте завел себе хутор некто из зажиточных малоросси€н, но кто он был таков, откуда и когда, о том сведений нет, именем ’аритон, а по просторечию ’арько, от котораго €кобы сей город и река звание свое получили».Ќо в следующем «ќписании…», 1787 года, нет никакого ’арько, написано коротко и €сно: «ѕостроен в царствование цар€ јлексе€ ћихайловича 1653 году».
¬ печатном «“опографическом описании ’арьковскаго наместничества с историческим предуведомлением…» 1788 года издани€ сказано, что город получил своЄ название по реке: «√убернской город ’арьков, привилегированный, называетс€ по речке ’арькову, при которой он расположен».
ћатериал из ¬икипедии
ћетки: ”краина хазары |
¬ар€ги = слав€не, и не вс€кий викинг - скандинав |
ƒневник |
| 27 июн, 2014 @ 00:17 ѕоморские слав€не в «эпоху викингов» | |||
|---|---|---|---|
|
ѕервыми о наступлении этой эпохи узнали монахи из обители —в€того утберта на острове Ћиндисфарн, близ нортумбрийского побережь€ (—еверо-¬осточна€ јнгли€). ¬ один из июньский дней 793 г. к острову пристало несколько ладей, на носу которых устрашающе скалились драконьи морды. ¬ысадившиес€ с них светловолосые голубоглазые люди, вооруженные секирами и мечами, действовали быстро и слаженно. ѕрежде чем смиренные отцы успели сообразить, за какие грехи наказует их √осподь, монастырь подвергс€ полному разгрому: церковь была осквернена и разграблена, погреба и подвалы, где хранились съестные припасы и ценные вещи, старательно вычищены, брати€ большей частью перебита; немногие монахи, чудом уцелевшие в этой резне, были захвачены и обращены в рабов. утру на месте монастыр€ остались одни дым€щиес€ развалины. Ќ.–ерих. ¬ар€жское море ¬ следующем году зловещие огни зан€лись над монастыр€ми в ярроу и ¬ермуте. ѕосле монахов пришел черед их паствы, ставшей легкой добычей заморских хищников. ѕрибрежные районы јнглии, Ўотландии, »рландии один за другим превращались в безлюдную пустыню: люди гибли под ударами смертоносных секир или уводились в рабство; все, что не могло уместитьс€ на палубах дракаров, безжалостно уничтожалось — скот забивали, дома сжигали. ¬ласти не могли организовать отпор вездесущим грабител€м, а ученые мужи не знали, чем объ€снить такую напасть. ќставалось цитировать пророка »еремию: «ќт севера откроетс€ бедствие на всех обитателей сей земли» (»ер.,1: 14).
ƒолгое врем€ жестокие морские дружинники оставались дл€ людей «ападной ≈вропы просто «норманнами» — «северными людьми». ¬опреки усто€вшемус€ мнению, норманны не были исключительно скандинавами. — IX в. по€вл€ютс€ многочисленные упоминани€ о нападени€х балтийских слав€н-вендов на побережье —еверной ≈вропы. ѕо известию јдама Ѕременского, –у€н (–юген) и прилегающие к нему острова были «полны пиратами и кровожадными разбойниками, которые не щад€т никого из проплывающих мимо». √ельмольд пишет о балтийских слав€нах и ру€нах, что «весь этот народ, преданный идолопоклонству, всегда странствующий и подвижный, промышл€ющий разбоем, посто€нно беспокоит, с одной стороны, данов, с другой — саксов». ¬ англосаксонских хрониках встречаютс€ сообщени€, вроде следующего: «ѕослал ¬семогущий Ѕог толпы жестоких €зыческих народов, датчан и норвежцев, готов и шведов, вендов и фризов, опустошавших около 200 лет грешную јнглию...». ќ массовом присутствии на английской земле слав€н свидетельствуют топонимы — город ¬ильтон, графство ¬ильтшир и др., образованные от племенного названи€ велетов-вильцев.  Ќ.–ерих. —тро€т ладьи —лав€нские суда были не менее прочны и подвижны, чем драккары викингов. ¬ деле кораблестроени€ и мореходства балтийские слав€не составл€ли настолько сильную конкуренцию скандинавам, что последние заимствовали у них р€д морских терминов, в том числе lodhia (ладь€)*. »звестно, что слав€не почти на четверть века раньше датчан научились строить военные суда, поднимавшие на свой борт лошадей. *¬илинбахов ¬. Ѕ. Ќесколько замечаний о теории ј. —тендер-ѕетерсена // —кандинавский сборник VI. — “аллин: Ёстонское государственное издательство, 1963. ѕоэтому слав€нский берег Ѕалтики был единственным местом в ≈вропе, где не возносили молитвы √осподу об избавлении от неистовства норманнов. Ќапротив, венды сами атаковали побережье —кандинавии. Ўведы, норвежцы и датчане часто искали союза со слав€нами. —кальд √алфред пел о вендах, участвовавших в битве €рла Ёрика с ќлавом “рюгвассоном, первым норвежским королем, который в молодости успел послужить поморскому кн€зю Ѕориславу и женитьс€ на его дочери √ейре. —ага о …омских викингах рассказывает, что в городе …омне (слав€нском ¬олине) на службе у слав€нского кн€з€ находилась разноплеменна€ дружина воинов. »з …омны-¬олина происходил родом последний вит€зь €зыческой ƒании — ѕална “оке, слав€нин по рождению.  Ќ.–ерих. Ћадьи —амый чувствительный удар по земл€м поморских слав€н в эпоху викингов нанесли даны. ¬ 808 г. датский конунг √одфред из рода —кьолдунгов, вступив в союз с вильцами, напал на владени€ ободритов и разорил их столицу –арог (–ерик). ќбодритский кн€зь ƒражко успел спастись, но его младший брат √одлав (или √отлейб) попал в плен и был повешен. ¬ следующем году √одфред предательски умертвил и ƒражко. Ћишенные своих предводителей ободриты, однако, отча€нно сопротивл€лись: в борьбе с ними √одфред потер€л своих лучших воинов, включа€ своего плем€нника –егивальда, и значительную часть войска. Ќаконец, сила ободритов была сломлена, и, как сообщают немецкие хронисты, больша€ часть ободритской земли об€залась платить дань датскому государю. Ќо уже в 810 г. ободриты восстали и собрались воевать ƒанию. ѕоход не состо€лс€ из-за внезапной смерти √одфреда, убитого одним из его слуг. Ёто событие освободило ободритов от датской дани. |
||
»сточник:
ћетки: слав€не викинги вар€ги |