-Метки
Царское село Ювелирное баклажаны вишня выпечка выпечка не сладкая выпечка с вареньем выпечка с фруктами вышивка вышивка крестом гатчина грибы дворцы декабристы десерты дети развитие детям вязание дома москвы дома питера женщина в истории живопись журналы по вязанию заготовки история россии история руси италия кабачки картофель кекс кексы кефир клубника книги и журналы кремль крым куриное филе курица лаваш легенды и мифы лепешка лицеисты мода мороженое москва музеи россии музыка мысли мясной фарш мясо овощи ораниенбаум павловск петергоф печенье пироги пирожки питер питер пригороды пицца пончики поэзия пригороды питера пушкин а.с. романовы романс россия рыба салаты секреты вязания спицами соусы творог флоренция хлеб храмы россии цветы черешня чтобы помнили школа гастронома шоколад яблоки в тесте
-Рубрики
- Афоризмы,мысли (949)
- Библиотеки (140)
- Бисер.Украшения. (84)
- Видео (58)
- Возраст не помеха (2)
- Вокруг света (250)
- Вокруг света - Абхазия (51)
- Вокруг света - Англия,Ирландия,Шотландия (213)
- Вокруг света - Германия (57)
- Вокруг света - Греция,Кипр (66)
- Вокруг света - Европа (200)
- Вокруг света - Египет,Израиль,Турция (168)
- Вокруг света - Индия,Китай,Япония,Тайланд (110)
- Вокруг света - Италия (314)
- Вокруг света - Прибалтика,Скандинавия (8)
- Вокруг света - Россия (818)
- Вокруг света - Россия.Москва и Подмосковье. (2073)
- Вокруг света - Россия.Питер и пригороды (1075)
- Вокруг света - США,Канада.Американский континент (74)
- Вокруг света - Украина (125)
- Вокруг света - Франция (275)
- Выпечка - не сладкая (518)
- Выпечка - без выпечки (71)
- Выпечка - бисквит,пудинг (73)
- Выпечка - булочки,слойки,плюшки,вафли (280)
- Выпечка - в лаваше (154)
- Выпечка - кексы,маффины,капкейки (522)
- Выпечка - корзиночки,тарталетки (117)
- Выпечка - лепёшки,хачапури,чебуреки,беляши (220)
- Выпечка - манник (75)
- Выпечка - печенье,бублики,рогалики (568)
- Выпечка - пироги (172)
- Выпечка - пироги с абрикосами,персиками,бананами (99)
- Выпечка - пироги с ананасом,апельсином,лимоном (44)
- Выпечка - пироги с виноградом,сливой,смородиной (75)
- Выпечка - пироги с вишней,черешней. (199)
- Выпечка - пироги с клубникой (71)
- Выпечка - пироги с яблоками,грушами (614)
- Выпечка - пирожки (72)
- Выпечка - пирожное (69)
- Выпечка - пицца (163)
- Выпечка - пляцок. (6)
- Выпечка - пончики,хворост (217)
- Выпечка - профитроли,эклеры (50)
- Выпечка - рулеты сладкие (32)
- Выпечка - с творогом (87)
- Выпечка - с шоколадом,сгущёнкой,вареньем (160)
- Выпечка - тесто,глазурь,крем,секреты выпечки (218)
- Выпечка - торты (176)
- Выпечка - штрудель,медовик,наполеон (104)
- Вышивка (474)
- Вышивка - алфавит,часы (47)
- Вышивка - бискорню,маятники,игольницы (69)
- Вышивка - мережки,хардангер.барджелло (90)
- Вязание для не модельных (37)
- Вязание и ткань (57)
- Вязание крючком - филейное вязание (390)
- Вязание крючком - абажуры,чехлы (17)
- Вязание крючком - ананасы (41)
- Вязание крючком - ангелы,бабочки,сердечки (98)
- Вязание крючком - безотрывное вязание (54)
- Вязание крючком - болеро,топы,блузы,жилеты (328)
- Вязание крючком - броши,бусы,украшения (75)
- Вязание крючком - брюгское кружево (83)
- Вязание крючком - веера,зонтики,пакетницы,чехлы дл (101)
- Вязание крючком - вытачки,воротники,карманы,кокетк (62)
- Вязание крючком - жакеты,кардиганы,пальто (128)
- Вязание крючком - игольницы,корзиночки,шкатулочки (78)
- Вязание крючком - игрушки,шарики,снежинки,яйца (226)
- Вязание крючком - кайма,кружево,углы (241)
- Вязание крючком - косметички,органайзеры,сумочки (64)
- Вязание крючком - костюмы, платья,сарафаны (108)
- Вязание крючком - ленточное кружево (53)
- Вязание крючком - мотивы,узоры (837)
- Вязание крючком - накидки,пончо,шали (98)
- Вязание крючком - покрывало,подушки,коврики,сидушк (99)
- Вязание крючком - прихватки,подстаканники,цветы (137)
- Вязание крючком - пуловеры,туники (312)
- Вязание крючком - салфетки,скатерти (226)
- Вязание крючком - сарафаны,платья,костюмы (117)
- Вязание крючком - секреты вязания,соединение,схемы (284)
- Вязание крючком - тунисское вязание (109)
- Вязание крючком - шляпы,шапки,шарфы,митенки,варежк (142)
- Вязание крючком - юбки (100)
- Вязание спицами - болеро,пуловеры,топы,туники (111)
- Вязание спицами - жакеты,кардиганы,пальто (95)
- Вязание спицами - платья,сарафаны,юбки (27)
- Вязание спицами - пончо,палантины,накидки,шарфы,ша (94)
- Вязание спицами-узоры,секреты вязания (846)
- Декор предметов,подарков (124)
- Дети.Вязание - варежки,шапки,шарфы (44)
- Дети.Вязание - комплекты (13)
- Дети.Вязание - кофточки,юбочки (41)
- Дети.Вязание - пинетки (37)
- Дети.Вязание - платья,сарафаны (82)
- Дети.Вязание - пледы,конверты (63)
- Дети.Вязание. (24)
- Дети.Питание. (72)
- Дети.Развитие. (286)
- Для дневника,для компа (182)
- Женщины в истории (483)
- ЖЗЛ (100)
- Журнал - Burda,Вязание крючком (246)
- Журнал - Дуплет (113)
- Журнал - Сабрина,Сандра,Диана (107)
- Журнал - Салфетки,Ondori,Crochet (60)
- Журнал - Формула рукоделия,Валя-Валентина (31)
- Журнал - Чудесный крючок (89)
- Журнал-вышиваю крестиком (40)
- Журнал-Золушка,Лена (12)
- Журналы и книги (186)
- Журналы и книги по кулинарии.Школа гастронома. (481)
- Здоровье - гимнастика для суставов (174)
- Здоровье - гимнастика для фигуры (101)
- Здоровье - рецепты (85)
- Здоровье.Питание (22)
- Здоровье.Травы (6)
- Здоровье.Уход за собой.Волосы. (67)
- Игрушки (137)
- Игрушки - зайцы (93)
- Игрушки - кошки и собаки (58)
- Игрушки - куклы,тильды (652)
- Игрушки - мишки и мышки (70)
- Игрушки - секреты производства (29)
- Игрушки - символ года (41)
- Игры,флешки (65)
- Интерьер.Ремонт.Дизайн (153)
- Искусство.Антиквариат (69)
- Искусство.Балет и опера. (240)
- Искусство.Есенин Сергей,Дункан Айседора. (109)
- Искусство.Живопись.Скульптура (293)
- Искусство.Литература.Биографии. (234)
- Искусство.Мода. (197)
- Искусство.Музыка (469)
- Искусство.Музыка. Михайлов.Домогаров.Пелагея. (70)
- Искусство.Музыка.Гитара.Джаз.Саксофон. (147)
- Искусство.Музыка.Елена Ваенга (42)
- Искусство.Музыка.Романс.Блюз.Танго. (609)
- Искусство.Мультики. (3)
- Искусство.Поэзия (931)
- Искусство.Пушкин А.С. (324)
- Искусство.Ремёсла и народные промыслы. (135)
- Искусство.Стекло,фарфор (199)
- Искусство.Театр и кино (210)
- Искусство.Чтобы помнили (583)
- Искусство.Ювелирное - Фаберже (152)
- Искусство.Ювелирное,камни,минералы (407)
- История (26)
- История вещей,названий,выражений (352)
- История России (1338)
- История России - династии (248)
- История России - Декабристы и их жёны (308)
- История России - Романовы (507)
- История России до Романовых (376)
- История России.Славой предков горжусь (428)
- Календарь (435)
- Коробочки и шкатулочки (72)
- декорированые (23)
- шитые (17)
- Кулинария. Вареники,пельмени,манты. (96)
- Кулинария. Народов мира (4)
- Кулинария.Блины.Оладьи.Панкейки. (305)
- Кулинария.Блюда в горшочках. (157)
- Кулинария.Грибы. (149)
- Кулинария.Десерты (665)
- Кулинария.Десерты - мороженое,сорбет,гранита (461)
- Кулинария.Десерты - тирамису и панна котта (129)
- Кулинария.Детям. (4)
- Кулинария.Дж Оливер,Гор Рамзи (86)
- Кулинария.Заготовки (483)
- Кулинария.Закуски - канапе,бутерброды (354)
- Кулинария.Капуста. (177)
- Кулинария.Картофель (911)
- Кулинария.Кофе и чай. (280)
- Кулинария.Курица.Индейка.Гусь. (1185)
- Кулинария.Масло,молочные продукты,яйца (294)
- Кулинария.Мясо,котлеты,тефтели. (492)
- Кулинария.Напитки (270)
- Кулинария.Овощи. (949)
- Кулинария.Паста. (229)
- Кулинария.Первые блюда - супы-пюре (190)
- Кулинария.Первые блюда холодные (64)
- Кулинария.Первые блюда. (448)
- Кулинария.Пикник.Барбекю.Шашлык. (103)
- Кулинария.Пряности и травы,специи (251)
- Кулинария.Рис.Крупы. (101)
- Кулинария.Рыба и морепродукты. (539)
- Кулинария.Салаты (1572)
- Кулинария.Секреты,замена продуктов (218)
- Кулинария.Смузи (441)
- Кулинария.Соусы,заправки,кляр,уксус. (979)
- Кулинария.Сталик Ханкишиев. (48)
- Кулинария.Сыр и вино. (108)
- Кулинария.Фрукты.Ягоды. (190)
- Кулинарный словарь (28)
- Легенды и мифы.Библия.Древние Греция и Рим (353)
- Магия.Приметы (253)
- Монастыри,соборы,церкви мира (75)
- Монастыри,соборы,церкви Москвы и Подмосковья (248)
- Монастыри,соборы,церкви России (157)
- О кошках (107)
- Огород на балконе.Цветы (94)
- Пасха (145)
- куличи,пасха,яйца (65)
- Рукоделие,украшения (80)
- Православие (319)
- иконы (95)
- молитвы (21)
- праздники (35)
- святые,святители,мученики (80)
- Православие - посты,постная кухня (67)
- второе (4)
- выпечка (24)
- салаты (9)
- супы (6)
- Приборы.Аэрогриль (41)
- Приборы.Блендер. (21)
- Приборы.Микроволновка.Мультиварка (504)
- Приборы.Пароварка (42)
- Приборы.Хлебопечка.Хлеб (188)
- Пригодится (57)
- Притчи (159)
- Секреты (18)
- Секреты - ношения платков,хранения (131)
- Секреты - уборка,стирка,пятна (175)
- Секреты сервировки и этикета. (120)
- Учим математику (39)
- Учим язык английский (513)
- Учим язык итальянский (30)
- Учим язык русский (200)
- Фоны и схемы (23)
- Фото (168)
- Фото - зверьё моё (526)
- Фото - пейзажи (42)
- Фото -цветы (122)
- Фотошоп (27)
- Хочу (29)
- Шитьё (285)
- сарафаны,туники,платья,юбки (54)
- чехлы,для хранения (39)
- швы,секреты,пуговицы (136)
- шторы (18)
-Музыка
- Именинница. Гр. Белый День
- Слушали: 1036 Комментарии: 0
- Любо, братцы, любо
- Слушали: 3810 Комментарии: 0
- В.А. Моцарт Маленькая ночная серенада
- Слушали: 163 Комментарии: 0
- El Condor Pasa: Полёт кондора
- Слушали: 199 Комментарии: 0
- Божья Коровка - ТЕПЛОХОД
- Слушали: 487 Комментарии: 0
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Статистика
Выбрана рубрика История России - Декабристы и их жёны.
Другие рубрики в этом дневнике: Шитьё(285), Хочу (29), Фотошоп(27), Фото -цветы(122), Фото - пейзажи(42), Фото - зверьё моё(526), Фото(168), Фоны и схемы(23), Учим язык русский (200), Учим язык итальянский (30), Учим язык английский (513), Учим математику(39), Секреты сервировки и этикета.(120), Секреты - уборка,стирка,пятна(175), Секреты - ношения платков,хранения(131), Секреты(18), Притчи(159), Пригодится(57), Приборы.Хлебопечка.Хлеб(188), Приборы.Пароварка(42), Приборы.Микроволновка.Мультиварка(504), Приборы.Блендер.(21), Приборы.Аэрогриль(41), Православие - посты,постная кухня(67), Православие(319), Пасха(145), Огород на балконе.Цветы(94), О кошках(107), Монастыри,соборы,церкви России(157), Монастыри,соборы,церкви Москвы и Подмосковья(248), Монастыри,соборы,церкви мира(75), Магия.Приметы(253), Легенды и мифы.Библия.Древние Греция и Рим(353), Кулинарный словарь(28), Кулинария.Фрукты.Ягоды.(190), Кулинария.Сыр и вино.(108), Кулинария.Сталик Ханкишиев.(48), Кулинария.Соусы,заправки,кляр,уксус.(979), Кулинария.Смузи(441), Кулинария.Секреты,замена продуктов(218), Кулинария.Салаты(1572), Кулинария.Рыба и морепродукты.(539), Кулинария.Рис.Крупы.(101), Кулинария.Пряности и травы,специи(251), Кулинария.Пикник.Барбекю.Шашлык.(103), Кулинария.Первые блюда.(448), Кулинария.Первые блюда холодные(64), Кулинария.Первые блюда - супы-пюре(190), Кулинария.Паста.(229), Кулинария.Овощи.(949), Кулинария.Напитки(270), Кулинария.Мясо,котлеты,тефтели.(492), Кулинария.Масло,молочные продукты,яйца(294), Кулинария.Курица.Индейка.Гусь.(1185), Кулинария.Кофе и чай.(280), Кулинария.Картофель(911), Кулинария.Капуста.(177), Кулинария.Закуски - канапе,бутерброды(354), Кулинария.Заготовки(483), Кулинария.Дж Оливер,Гор Рамзи(86), Кулинария.Детям.(4), Кулинария.Десерты - тирамису и панна котта(129), Кулинария.Десерты - мороженое,сорбет,гранита(461), Кулинария.Десерты(665), Кулинария.Грибы.(149), Кулинария.Блюда в горшочках.(157), Кулинария.Блины.Оладьи.Панкейки.(305), Кулинария. Народов мира(4), Кулинария. Вареники,пельмени,манты.(96), Коробочки и шкатулочки(72), Календарь(435), История России.Славой предков горжусь(428), История России до Романовых(376), История России - Романовы(507), История России(1338), История вещей,названий,выражений(352), История(26), Искусство.Ювелирное,камни,минералы(407), Искусство.Ювелирное - Фаберже(152), Искусство.Чтобы помнили(583), Искусство.Театр и кино(210), Искусство.Стекло,фарфор(199), Искусство.Ремёсла и народные промыслы.(135), Искусство.Пушкин А.С.(324), Искусство.Поэзия(931), Искусство.Мультики.(3), Искусство.Музыка.Романс.Блюз.Танго.(609), Искусство.Музыка.Елена Ваенга(42), Искусство.Музыка.Гитара.Джаз.Саксофон.(147), Искусство.Музыка. Михайлов.Домогаров.Пелагея.(70), Искусство.Музыка(469), Искусство.Мода.(197), Искусство.Литература.Биографии.(234), Искусство.Живопись.Скульптура(293), Искусство.Есенин Сергей,Дункан Айседора.(109), Искусство.Балет и опера.(240), Искусство.Антиквариат(69), Интерьер.Ремонт.Дизайн(153), Игры,флешки(65), Игрушки - символ года(41), Игрушки - секреты производства(29), Игрушки - мишки и мышки(70), Игрушки - куклы,тильды(652), Игрушки - кошки и собаки(58), Игрушки - зайцы(93), Игрушки(137), Здоровье.Уход за собой.Волосы.(67), Здоровье.Травы(6), Здоровье.Питание(22), Здоровье - рецепты(85), Здоровье - гимнастика для фигуры(101), Здоровье - гимнастика для суставов(174), Журналы и книги по кулинарии.Школа гастронома.(481), Журналы и книги(186), Журнал-Золушка,Лена(12), Журнал-вышиваю крестиком(40), Журнал - Чудесный крючок(89), Журнал - Формула рукоделия,Валя-Валентина(31), Журнал - Салфетки,Ondori,Crochet(60), Журнал - Сабрина,Сандра,Диана(107), Журнал - Дуплет(113), Журнал - Burda,Вязание крючком(246), ЖЗЛ(100), Женщины в истории(483), Для дневника,для компа(182), Дети.Развитие.(286), Дети.Питание.(72), Дети.Вязание.(24), Дети.Вязание - пледы,конверты (63), Дети.Вязание - платья,сарафаны(82), Дети.Вязание - пинетки(37), Дети.Вязание - кофточки,юбочки(41), Дети.Вязание - комплекты(13), Дети.Вязание - варежки,шапки,шарфы(44), Декор предметов,подарков(124), Вязание спицами-узоры,секреты вязания(846), Вязание спицами - пончо,палантины,накидки,шарфы,ша(94), Вязание спицами - платья,сарафаны,юбки(27), Вязание спицами - жакеты,кардиганы,пальто(95), Вязание спицами - болеро,пуловеры,топы,туники(111), Вязание крючком - юбки(100), Вязание крючком - шляпы,шапки,шарфы,митенки,варежк(142), Вязание крючком - тунисское вязание(109), Вязание крючком - секреты вязания,соединение,схемы(284), Вязание крючком - сарафаны,платья,костюмы(117), Вязание крючком - салфетки,скатерти(226), Вязание крючком - пуловеры,туники(312), Вязание крючком - прихватки,подстаканники,цветы(137), Вязание крючком - покрывало,подушки,коврики,сидушк(99), Вязание крючком - накидки,пончо,шали(98), Вязание крючком - мотивы,узоры(837), Вязание крючком - ленточное кружево(53), Вязание крючком - костюмы, платья,сарафаны(108), Вязание крючком - косметички,органайзеры,сумочки(64), Вязание крючком - кайма,кружево,углы(241), Вязание крючком - игрушки,шарики,снежинки,яйца(226), Вязание крючком - игольницы,корзиночки,шкатулочки(78), Вязание крючком - жакеты,кардиганы,пальто(128), Вязание крючком - вытачки,воротники,карманы,кокетк(62), Вязание крючком - веера,зонтики,пакетницы,чехлы дл(101), Вязание крючком - брюгское кружево(83), Вязание крючком - броши,бусы,украшения(75), Вязание крючком - болеро,топы,блузы,жилеты(328), Вязание крючком - безотрывное вязание(54), Вязание крючком - ангелы,бабочки,сердечки(98), Вязание крючком - ананасы(41), Вязание крючком - абажуры,чехлы(17), Вязание крючком - филейное вязание(390), Вязание и ткань(57), Вязание для не модельных(37), Вышивка - мережки,хардангер.барджелло(90), Вышивка - бискорню,маятники,игольницы(69), Вышивка - алфавит,часы(47), Вышивка(474), Выпечка - штрудель,медовик,наполеон(104), Выпечка - торты(176), Выпечка - тесто,глазурь,крем,секреты выпечки(218), Выпечка - с шоколадом,сгущёнкой,вареньем(160), Выпечка - с творогом(87), Выпечка - рулеты сладкие(32), Выпечка - профитроли,эклеры(50), Выпечка - пончики,хворост(217), Выпечка - пляцок.(6), Выпечка - пицца(163), Выпечка - пирожное(69), Выпечка - пирожки(72), Выпечка - пироги с яблоками,грушами(614), Выпечка - пироги с клубникой(71), Выпечка - пироги с вишней,черешней.(199), Выпечка - пироги с виноградом,сливой,смородиной(75), Выпечка - пироги с ананасом,апельсином,лимоном(44), Выпечка - пироги с абрикосами,персиками,бананами(99), Выпечка - пироги(172), Выпечка - печенье,бублики,рогалики(568), Выпечка - манник(75), Выпечка - лепёшки,хачапури,чебуреки,беляши(220), Выпечка - корзиночки,тарталетки(117), Выпечка - кексы,маффины,капкейки(522), Выпечка - в лаваше(154), Выпечка - булочки,слойки,плюшки,вафли(280), Выпечка - бисквит,пудинг(73), Выпечка - без выпечки(71), Выпечка - не сладкая(518), Вокруг света - Франция(275), Вокруг света - Украина(125), Вокруг света - США,Канада.Американский континент(74), Вокруг света - Россия.Питер и пригороды(1075), Вокруг света - Россия.Москва и Подмосковье.(2073), Вокруг света - Россия(818), Вокруг света - Прибалтика,Скандинавия(8), Вокруг света - Италия(314), Вокруг света - Индия,Китай,Япония,Тайланд(110), Вокруг света - Египет,Израиль,Турция(168), Вокруг света - Европа(200), Вокруг света - Греция,Кипр(66), Вокруг света - Германия(57), Вокруг света - Англия,Ирландия,Шотландия(213), Вокруг света - Абхазия(51), Вокруг света(250), Возраст не помеха(2), Видео(58), Бисер.Украшения.(84), Библиотеки(140), Афоризмы,мысли(949)
Другие рубрики в этом дневнике: Шитьё(285), Хочу (29), Фотошоп(27), Фото -цветы(122), Фото - пейзажи(42), Фото - зверьё моё(526), Фото(168), Фоны и схемы(23), Учим язык русский (200), Учим язык итальянский (30), Учим язык английский (513), Учим математику(39), Секреты сервировки и этикета.(120), Секреты - уборка,стирка,пятна(175), Секреты - ношения платков,хранения(131), Секреты(18), Притчи(159), Пригодится(57), Приборы.Хлебопечка.Хлеб(188), Приборы.Пароварка(42), Приборы.Микроволновка.Мультиварка(504), Приборы.Блендер.(21), Приборы.Аэрогриль(41), Православие - посты,постная кухня(67), Православие(319), Пасха(145), Огород на балконе.Цветы(94), О кошках(107), Монастыри,соборы,церкви России(157), Монастыри,соборы,церкви Москвы и Подмосковья(248), Монастыри,соборы,церкви мира(75), Магия.Приметы(253), Легенды и мифы.Библия.Древние Греция и Рим(353), Кулинарный словарь(28), Кулинария.Фрукты.Ягоды.(190), Кулинария.Сыр и вино.(108), Кулинария.Сталик Ханкишиев.(48), Кулинария.Соусы,заправки,кляр,уксус.(979), Кулинария.Смузи(441), Кулинария.Секреты,замена продуктов(218), Кулинария.Салаты(1572), Кулинария.Рыба и морепродукты.(539), Кулинария.Рис.Крупы.(101), Кулинария.Пряности и травы,специи(251), Кулинария.Пикник.Барбекю.Шашлык.(103), Кулинария.Первые блюда.(448), Кулинария.Первые блюда холодные(64), Кулинария.Первые блюда - супы-пюре(190), Кулинария.Паста.(229), Кулинария.Овощи.(949), Кулинария.Напитки(270), Кулинария.Мясо,котлеты,тефтели.(492), Кулинария.Масло,молочные продукты,яйца(294), Кулинария.Курица.Индейка.Гусь.(1185), Кулинария.Кофе и чай.(280), Кулинария.Картофель(911), Кулинария.Капуста.(177), Кулинария.Закуски - канапе,бутерброды(354), Кулинария.Заготовки(483), Кулинария.Дж Оливер,Гор Рамзи(86), Кулинария.Детям.(4), Кулинария.Десерты - тирамису и панна котта(129), Кулинария.Десерты - мороженое,сорбет,гранита(461), Кулинария.Десерты(665), Кулинария.Грибы.(149), Кулинария.Блюда в горшочках.(157), Кулинария.Блины.Оладьи.Панкейки.(305), Кулинария. Народов мира(4), Кулинария. Вареники,пельмени,манты.(96), Коробочки и шкатулочки(72), Календарь(435), История России.Славой предков горжусь(428), История России до Романовых(376), История России - Романовы(507), История России(1338), История вещей,названий,выражений(352), История(26), Искусство.Ювелирное,камни,минералы(407), Искусство.Ювелирное - Фаберже(152), Искусство.Чтобы помнили(583), Искусство.Театр и кино(210), Искусство.Стекло,фарфор(199), Искусство.Ремёсла и народные промыслы.(135), Искусство.Пушкин А.С.(324), Искусство.Поэзия(931), Искусство.Мультики.(3), Искусство.Музыка.Романс.Блюз.Танго.(609), Искусство.Музыка.Елена Ваенга(42), Искусство.Музыка.Гитара.Джаз.Саксофон.(147), Искусство.Музыка. Михайлов.Домогаров.Пелагея.(70), Искусство.Музыка(469), Искусство.Мода.(197), Искусство.Литература.Биографии.(234), Искусство.Живопись.Скульптура(293), Искусство.Есенин Сергей,Дункан Айседора.(109), Искусство.Балет и опера.(240), Искусство.Антиквариат(69), Интерьер.Ремонт.Дизайн(153), Игры,флешки(65), Игрушки - символ года(41), Игрушки - секреты производства(29), Игрушки - мишки и мышки(70), Игрушки - куклы,тильды(652), Игрушки - кошки и собаки(58), Игрушки - зайцы(93), Игрушки(137), Здоровье.Уход за собой.Волосы.(67), Здоровье.Травы(6), Здоровье.Питание(22), Здоровье - рецепты(85), Здоровье - гимнастика для фигуры(101), Здоровье - гимнастика для суставов(174), Журналы и книги по кулинарии.Школа гастронома.(481), Журналы и книги(186), Журнал-Золушка,Лена(12), Журнал-вышиваю крестиком(40), Журнал - Чудесный крючок(89), Журнал - Формула рукоделия,Валя-Валентина(31), Журнал - Салфетки,Ondori,Crochet(60), Журнал - Сабрина,Сандра,Диана(107), Журнал - Дуплет(113), Журнал - Burda,Вязание крючком(246), ЖЗЛ(100), Женщины в истории(483), Для дневника,для компа(182), Дети.Развитие.(286), Дети.Питание.(72), Дети.Вязание.(24), Дети.Вязание - пледы,конверты (63), Дети.Вязание - платья,сарафаны(82), Дети.Вязание - пинетки(37), Дети.Вязание - кофточки,юбочки(41), Дети.Вязание - комплекты(13), Дети.Вязание - варежки,шапки,шарфы(44), Декор предметов,подарков(124), Вязание спицами-узоры,секреты вязания(846), Вязание спицами - пончо,палантины,накидки,шарфы,ша(94), Вязание спицами - платья,сарафаны,юбки(27), Вязание спицами - жакеты,кардиганы,пальто(95), Вязание спицами - болеро,пуловеры,топы,туники(111), Вязание крючком - юбки(100), Вязание крючком - шляпы,шапки,шарфы,митенки,варежк(142), Вязание крючком - тунисское вязание(109), Вязание крючком - секреты вязания,соединение,схемы(284), Вязание крючком - сарафаны,платья,костюмы(117), Вязание крючком - салфетки,скатерти(226), Вязание крючком - пуловеры,туники(312), Вязание крючком - прихватки,подстаканники,цветы(137), Вязание крючком - покрывало,подушки,коврики,сидушк(99), Вязание крючком - накидки,пончо,шали(98), Вязание крючком - мотивы,узоры(837), Вязание крючком - ленточное кружево(53), Вязание крючком - костюмы, платья,сарафаны(108), Вязание крючком - косметички,органайзеры,сумочки(64), Вязание крючком - кайма,кружево,углы(241), Вязание крючком - игрушки,шарики,снежинки,яйца(226), Вязание крючком - игольницы,корзиночки,шкатулочки(78), Вязание крючком - жакеты,кардиганы,пальто(128), Вязание крючком - вытачки,воротники,карманы,кокетк(62), Вязание крючком - веера,зонтики,пакетницы,чехлы дл(101), Вязание крючком - брюгское кружево(83), Вязание крючком - броши,бусы,украшения(75), Вязание крючком - болеро,топы,блузы,жилеты(328), Вязание крючком - безотрывное вязание(54), Вязание крючком - ангелы,бабочки,сердечки(98), Вязание крючком - ананасы(41), Вязание крючком - абажуры,чехлы(17), Вязание крючком - филейное вязание(390), Вязание и ткань(57), Вязание для не модельных(37), Вышивка - мережки,хардангер.барджелло(90), Вышивка - бискорню,маятники,игольницы(69), Вышивка - алфавит,часы(47), Вышивка(474), Выпечка - штрудель,медовик,наполеон(104), Выпечка - торты(176), Выпечка - тесто,глазурь,крем,секреты выпечки(218), Выпечка - с шоколадом,сгущёнкой,вареньем(160), Выпечка - с творогом(87), Выпечка - рулеты сладкие(32), Выпечка - профитроли,эклеры(50), Выпечка - пончики,хворост(217), Выпечка - пляцок.(6), Выпечка - пицца(163), Выпечка - пирожное(69), Выпечка - пирожки(72), Выпечка - пироги с яблоками,грушами(614), Выпечка - пироги с клубникой(71), Выпечка - пироги с вишней,черешней.(199), Выпечка - пироги с виноградом,сливой,смородиной(75), Выпечка - пироги с ананасом,апельсином,лимоном(44), Выпечка - пироги с абрикосами,персиками,бананами(99), Выпечка - пироги(172), Выпечка - печенье,бублики,рогалики(568), Выпечка - манник(75), Выпечка - лепёшки,хачапури,чебуреки,беляши(220), Выпечка - корзиночки,тарталетки(117), Выпечка - кексы,маффины,капкейки(522), Выпечка - в лаваше(154), Выпечка - булочки,слойки,плюшки,вафли(280), Выпечка - бисквит,пудинг(73), Выпечка - без выпечки(71), Выпечка - не сладкая(518), Вокруг света - Франция(275), Вокруг света - Украина(125), Вокруг света - США,Канада.Американский континент(74), Вокруг света - Россия.Питер и пригороды(1075), Вокруг света - Россия.Москва и Подмосковье.(2073), Вокруг света - Россия(818), Вокруг света - Прибалтика,Скандинавия(8), Вокруг света - Италия(314), Вокруг света - Индия,Китай,Япония,Тайланд(110), Вокруг света - Египет,Израиль,Турция(168), Вокруг света - Европа(200), Вокруг света - Греция,Кипр(66), Вокруг света - Германия(57), Вокруг света - Англия,Ирландия,Шотландия(213), Вокруг света - Абхазия(51), Вокруг света(250), Возраст не помеха(2), Видео(58), Бисер.Украшения.(84), Библиотеки(140), Афоризмы,мысли(949)
Никита Кирсанов. "Декабрист Сергей Волконский". |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Декабрист Сергей Волконский".

Волконские принадлежали к высшим слоям русской аристократии, в которую они попали не потому, что их предок был царским фаворитом или брадобреем. Они вели своё происхождение от "святого" князя Михаила Черниговского. Дед декабриста, Семён Фёдорович, принимал участие во многочисленных войнах первой половины XVIII века. В Семилетнюю войну он был генерал-лейтенантом, командовал кирасирами и заведовал провиантмейстерской частью. Умер Семён Волконский в 1768 году и похоронен в своём селе Новоникольское Мышкинского уезда Ярославской губернии. Позже над его могилой жена и сын Григорий Семёнович (отец декабриста) построили церковь.
Карьера Григория Семёновича во многом сходна с карьерой своего отца. Его жизнь хорошо охарактеризована, хотя в несколько напыщенных фразах, в надписи на могильной плите в Александро-Невской лавре в Петербурге: "Генерал - от кавалерии князь Григорий Семёнович Волконский. Служил отечеству 66 лет. На поле брани Румянцева, Суворова, Репнина - сподвижник, на поприще гражданском - Оренбургский военный губернатор. Член Государственного Совета. Родился 25 января 1742 г., переселился в жизнь вечную 1824 г. июня 17 дня".
Сыновья Григория Семёновича тоже служили исправно и достигли высоких чинов. Старший сын Николай (с 1801 г. в память деда со стороны матери фельдмаршала Н.В. Репнина носил эту фамилию) - участник Аустерлицкого сражения, в котором командовал эскадроном кавалергардов, атаку которых описал Л.Н. Толстой в произведении "Война и мир". В 1810 году Николай был послом в Испании, а в 1813-1814 гг. - наместником Саксонии. После войны на протяжении почти 20 лет Николай Репнин занимал пост Малороссийского генерал-губернатора. Второй сын - Никита - дослужился до генерал-майора, с 1811 г. служил в 3-й армии. Радовался Оренбургский генерал-губернатор и успехам младшего сына, Сергея, которого в письмах называл не иначе, как "наш герой". Служба Сергея Волконского началась в 1796 году, когда ему было всего восемь лет. В этом же году он был зачислен (конечно, номинально) штабс-фурьером в штаб Суворова, с которым отец был знаком лично и которого обожествлял, усвоив себе некоторые странности характера великого полководца. Продвижение по службе недоросля Сергея Волконского шло быстро - в службу записан 6 июля, а в августе уже был адъютантом в Алексопольском пехотном полку, в сентябре - полковым квартирмейстером Староингерманландского полка, а в марте 1797 г. "переименован" ротмистром в Екатеринославский Кирасирский полк.
Пока "шла" служба, Волконский до 14 лет учился. Действительная служба началась только в декабре 1805 года, когда он был переведён поручиком в Кавалергардский полк. Принимал участие во всех крупных сражениях в войнах с Францией, Турцией. За храбрость, проявленную в бою под Прейсиш-Эйлау, получил золотую шпагу. Во время Отечественной войны получил чин полковника, а в 1813 году - генерал-майора. Ему было в это время 25 лет. Сергей Волконский принимал участие в 58 сражениях. После войны был назначен бригадным командиром. Подобно многим своим товарищам Сергей Григорьевич пережил увлечение масонством, был членом "Соединённых друзей", ложи "Сфинкс", сам основал ложу "Трёх добродетелей". Война оказала огромное влияние на будущего декабриста. Позже он писал: "Зародыш сознания обязанностей гражданина сильно уже начал высказываться в моих мыслях и чувствах, причиной чего были народные события 1814 и 1815 гг., которых я был свидетелем, вселившие в меня вместо слепого повиновения и отсутствия всякой самостоятельности мысль, что гражданину свойственны обязанности отечественные, идущие по крайней мере, наряду с верноподданическими".
После возвращения в Россию Волконский служил во второй армии, располагавшейся на Украине. Здесь он сближается с членом тайного общества Михаилом Орловым, с которым вместе учился, вместе начинал службу в Кавалергардском полку. Молодой генерал вращался в кругу людей, связанных с Союзом спасения, а затем Союзом благоденствия. Но членом Союза благоденствия Сергей Григорьевич стал только в 1820 г., заняв в нём сразу довольно значительное положение. Он сблизился с П.И. Пестелем. После образования Южного общества Волконский ещё больше внимания уделяет революционной деятельности. Он находится в курсе всех событий, касающихся Общества - на его квартире в Киеве проходили съезды членов Южного общества. Он выполнял поручения Пестеля, направленные на сближение Северного и Южного обществ, вёл переговоры с Польским обществом о совместном выступлении.
В 1824 г. Волконский решил просить руки дочери героя 1812 года Н.Н. Раевского, Марии. За содействием он обратился к своему товарищу Михаилу Орлову, который был женат на старшей дочери Раевского. Волконский предупредил Орлова, что если участие в тайном обществе явится препятствием к вступлению в брак, тогда он готов отказаться от личного счастья, "нежели решусь своим политическим убеждениям и своему долгу". На некоторое время Волконский уехал в отпуск на кавказские воды, "с намерением буде получу отказ, искать поступления на службу в Кавказскую армию и в боевой жизни развлечь горе от неудачи в личной жизни".
Но не только это привело Волконского на Кавказ. Он имел задание от Южного общества узнать подробности о тайном обществе, которое якобы существовало в кавказской армии. Если бы удалось установить с ним связь, то это привело бы к тому, что в день выступления можно было расчитывать на Кавказский корпус и даже на его командующего А.П. Ермолова.
Из разговора с А.И. Якубовичем у Волконского сложилось впечатление, что на Кавказе действительно существует тайное общество, которое готово поддержать восстание, а в случае неудачи будет тем зерном, "могущим возродить новую попытку". Окрылённый этими надеждами, Волконский возвратился с Кавказа, тем более что старик Раевский согласился выдать за него свою дочь. 11 января 1825 года в киевской церкви Спаса на Берестове состоялось венчание. Жена была на 17 лет моложе своего мужа и вышла замуж не по любви, а под влиянием отца, которого все Раевские обожествляли. В первый год совместной жизни супруги провели вместе только три месяца - после свадьбы Мария Николаевна заболела и должна была уехать на лечение в Одессу. Волконский остался со своей дивизией.
Для тайного общества настали тревожные дни - стало известно о доносах на его членов. Волконский встретился с женой только осенью, чтобы отвезти её в Умань, где стояла его дивизия, а сам затем уехал в Тульчин, где находился штаб второй армии. Здесь Волконский узнал о доносе Майбороды и о том, что Пестель арестован. Но всё же ему удалось повидаться с руководителем Южного общества, предупредить о доносе. На это Пестель ответил: "Смотри, ни в чём не сознавайся! Я же, хоть и жилы мне будут тянуть пыткой - ни в чём не сознаюсь! Одно только необходимо сделать - это уничтожить "Русскую правду", одна она может нас погубить".
Волконский возвратился в Умань. Мария Николаевна описывала это возвращение в следующих словах: "Он вернулся среди ночи; он меня будит, зовёт: "Вставай скорей", я встаю, дрожа от страха. Моя беременность приближалась к концу, и это возвращение, этот шум меня испугали. Он стал растапливать камин и сжигать какие-то бумаги. Я ему помогала, как умела, спрашивая, в чём дело? "Пестель арестован" - "За что?" - Нет ответа. Вся эта таинственность меня тревожила". Именно этой ночью Волконская впервые соприкоснулась с тайным обществом.
Сергей Григорьевич понимал, что рано или поздно, но он тоже будет арестован. Волконский отвёз жену в имение её отца с. Болтышка Чигиринского уезда и возвратился в Умань. Ещё раз он посетил Болтышку, когда пришло известие, что 7 января 1826 г. родился сын Николай. Волконский был арестован на своей квартире в Умани.
Теперь его увезли в столицу в сопровождении фельдъегеря. По дороге они обогнали несколько таких же саней, в которых везли его товарищей. Навстречу попадались флигель-адъютанты, ехавшие по "Высочайшему повелению" для расследования восстания Черниговского полка. Вся страна была возбуждена. Шло расследование, которым руководил лично император. Следовали бесконечные допросы - устные, письменные, перекрёстные. Делались очные ставки. На одном из допросов генерал-адъютант Чернышёв сказал: "Стыдитесь, генерал-майор князь Волконский, прапорщики больше вас показывают!"
Положение Волконского было тяжёлым - полная неизвестность о жене и ребёнке, разобщённость с матерью, братьями, сестрой, неизвестность в отношении будущего.
Мать С.Г. Волконского - Александра Николаевна - была обер-гофмейстерикой двора. Она не сразу посетила своего сына в крепости, утверждая, что это свидание убило бы её. Ещё когда следствие не закончилось, она уехала из Петербурга в Москву с императрицей, где начинались приготовления к коронации. В Петербурге она владела домом на Мойке, где сейчас находится музей-квартира А.С. Пушкина.
Нелёгким было положение и Марии Николаевны. После рождения сына она заболела и находилась в тяжёлом состоянии, когда же приходила в себя и спрашивала о муже, ей отвечали, что он находится в Молдавии по делам службы. Наконец, она узнала правду и решила ехать в столицу, чтобы повидаться с мужем. Оставив маленького сына у своей тётки графини Браницкой в Белой Церкви, она в апреле отправилась в дорогу. В Петербурге она остановилась у своей свекрови в доме на Мойке.
Мария Николаевна добилась свидания с мужем, которое произвело на неё тягостное впечатление. В эту тяжёлую минуту Волконская осталась одна. Её братья старались очернить Волконского. Особенно старался брат Александр. В семье мужа она тоже встретила только колкости и холодность.
Наконец приговор Верховного уголовного суда так определил состав преступления Волконского: "участвовал согласием в умысле на цареубийство и истребление всей императорской фамилии, имел умысел на заточении императорской фамилии, участвовал в управлении Южным обществом и старался о соединении его с Северным; действовал в умысле на отторжение областей от империи и употреблял поддельную печать полевого аудитора". Осуждён был по I разряду. Срок каторги был определён сначала в 20 лет, а затем сокращён до 15-ти.
Находясь в крепости, Волконский в мае 1826 г. составил духовное завещание, в котором дал распоряжение относительно своего имущества. Душеприказчиками Волконский назначил своего тестя Н.Н. Раевского и брата Николая Репнина. Вместе с Марией Николаевной они назначались также опекунами Николеньки. Свои имения Волконский разделял на благоприобретённые и родовые. К первым относились 10 тысяч десятин земли в Таврической губернии, хутор возле Одессы и дом в этом же городе; "родовое имение состоит: а) Нижегородской губернии Балахнинского уезда Кирюшинское имение, первоначально поступившее в числе 1498 душ, в котором в силу домового акта, в ноябре 1824 г. учинённого, полагаю причитается до 72 душ, а по сему всего в Кирюшинском имении 1560 душ; b) Ярославской губернии Угличского уезда Заозерское имение в числе 643 душ; с) переведённые из Томальского имения в Новорепьёвку 44 душ..."
По завещанию жена получала Новорепьёвку, хутор, дом в Одессе, седьмую часть из Нижегородского имения. Родовые имения, в том числе Заозерье, Волконский завещал сыну.
После составления завещания Волконский написал ещё записку, в которой дал пояснения относительно некоторых статей завещания. В этой записке он писал: "Заозерское имение весьма невыгодно, ужасно малоземельно и в общем владении с другими двумя владельцами. Продажа оного и покупка другого есть оборот несомнительно выгодный для пользы сына моего". Заозерского имения Волконский коснулся ещё раз в специальной "Записке по делам, матушке поручаемых". Он писал: "В Нижегородской вотчине оброк с души - 30 руб. Годового дохода 45 тыс. В Заозерье - 25 руб., посему 16075. Дробных по сим же имениям доходам может ещё будет до 2000..." С Заозерского имения в 1825 г. Волконский получил 6788 руб. В этой же записке Волконский указывал на возможность продажи имения: "Ежели приступить необходимо будет к продаже Заозерской вотчины, посему, полагаете, можно продать, считая цены по ревизской душе".
После приговора Волконский, Трубецкой, Оболенский, Давыдов, Артамон Муравьёв, Якубович, братья Борисовы закованными были отправлены в Иркутск, а оттуда - в Благодатский рудник. В октябре 1826 г. маркшейдер Черниговцев доносил начальнику Нерчинских заводов - "все означенные восемь человек размещены по принадлежности на Благодатском руднике, что все они ремесла никакого за собой не имеют, кроме российского языка, и прочих наук, входящих в курс благородного воспитания". От губернатора Цейдлера последовало распоряжение об использовании государственных преступников для работы в шахте. Декабристы работали на руднике до середины сентября 1827 года.
Именно сюда, в Благодатский рудник, приехала жена С.Г. Волконского. Ей пришлось приложить много усилий, чтобы опять увидеть своего мужа. Хоть царь в письме к Марии Николаевне после предупреждения об опасностях, которые ожидают княгиню в Сибири, и написал, что "предоставляю вполне вашему усмотрению избрать тот образ действий, который покажется вам наиболее соответствующим вашему настоящему положению", но избрать было нелегко. Братья и отец были против. Когда Н.Н. Раевский услышал из уст дочери о намерении ехать в Сибирь, он поднял кулаки над её головой и закричал: "Я тебя прокляну, если ты через год не вернёшься".
Но Волконская всё же поехала. На некоторое время она остановилась в Москве у Зинаиды Волконской, бывшей замужем за братом декабриста, Никитой Григорьевичем Волконским и которую Пушкин называл "царицей муз и красоты". Невестка устроила для Марии Николаевны как бы прощальный музыкальный вечер. На нём присутствовал и А.С. Пушкин.
После нескольких дней пребывания в Москве Волконская тронулась в путь по заснеженной России. В Иркутске губернатор всячески отговаривал Марию Николаевну от её намерений, но видя её решительность, предложил подписать условия, что теперь она будет считаться женой ссыльного каторжного, что "дети, которые приживутся в Сибири, поступят в казённые заводские крестьяне", и ещё ряд пунктов, ограничивающих её свободу. Она подписала.
Вскоре произошла встреча с мужем. "Вид его кандалов так воспламенил и растрогал меня, что я бросилась перед ним на колени и поцеловала его кандалы, а потом и его самого".
В 1827 г. декабристы из рудника переведены были в Читинский острог, где прожили три года. Здесь Волконские получили известие о смерти своего сына Николеньки, которому А.С. Пушкин составил проникновенную эпитафию:
"В сиянии и радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благославляет мать и молит за отца".
В сентябре 1830 года декабристов перевели в тюрьму Петровского завода. Жёны поначалу проживали в камерах своих мужей, а потом начали покупать или строить собственные дома. Такой дом имела и Волконская, а в 1835 г. перед самым выходом на поселение, в нём разрешили жить и Сергею Григорьевичу. В 1832 г. у них родился сын, Михаил, а через два года - дочь Елена. Теперь княгиня Волконская всецело посвятила себя заботам о своих детях, тем более, что она уже потеряла надежду вернуться в Россию.
Мать Волконского, умирая, просила Николая I вернуть сына из Сибири и разрешить ему жить в одном из своих имений. Царь не разрешил это, но жизнь Сергея Григорьевича была облегчена - в 1835 г. он вышел на поселение. Правительство долго решало, где поселить Волконских. Лучшим местом в Сибири считались Курган и Ялуторовск, но в первом уже жили 6 декабристов, а во втором - 3. Николай приказал поселить Волконского одного. Он соглашался даже на Ялуторовск, но потребовал перевести живших там декабристов в другое место. Наконец, решили спросить у Волконского, где он желает жить - в Петровском заводе или в Баргузине, где жил на поселении Михаил Кюхельбекер (в случае согласия Волконского на Баргузин, Кюхельбекера должны были перевести в другое место). Волконский остался жить в Петровском заводе, а в 1836 г. переселился в село Урик Иркутской губернии. Там жил врач - декабрист Ф.Б. Вольф, который всегда мог помочь часто болевшим детям, а также и Сергею Григорьевичу, страдавшему ревматизмом.
В Урике, кроме Вольфа, жили М.С. Лунин и Муравьёвы - Никита и Александр. В восьми верстах в Усть-Куде жили И.В. Поджио и П.А. Муханов, в 30 верстах в селении Оёк позднее были поселены - С.П. Трубецкой и Ф.Ф. Вадковский. Расстояния не мешали встречам друзей, но особенно близок Волконский был с М.С. Луниным.
В Урике Сергей Григорьевич с увлечением занялся любимым делом - земледелием, которому посвящал всё свободное время ещё в Петровском заводе. В Урике у него было 15 десятин.
О смягчении участи Волконских просили их высокопоставленные родственники. О переводе Волконского на Кавказ просил брат Марии Николаевны, генерал-лейтенант Н.Н. Раевский-младший. Об этом же ходатайствовал и новороссийский генерал-губернатор Воронцов. Но эти просьбы Бенкендорф даже не доводил до сведения императора. Надежды вернуться в Россию пропадали.
В 1846 г. Волконские переехали в Иркутск. Сергей Григорьевич хотел, чтобы его сын Михаил получил университетское образование. Ступенькой к диплому должна была быть гимназия. М.С. Волконский в 1849 г. окончил Иркутскую гимназию с золотой медалью. Высшего образования, которое дало бы ему возможность сделать "блестящую карьеру", он не получил. Но и без "диплома" он занимал впоследствии высокие административные посты и дослужился до товарища министра просвещения.
Мария Николаевна, очутившись в большом, по масштабам Сибири, городе, поставила свой дом на широкую ногу, стараясь вести светский образ жизни, который она едва вкусила до замужества. Визиты, балы - всё это мало интересовало стареющего декабриста. Большую часть времени он проводил в деревне, поближе к крестьянам, среди которых у него было много друзей.
Десять лет прожили Волконские в Иркутске. В июне 1855 г. дочь Сергея Григорьевича Елена обратилась с просьбой резрешить ей и матери, чьё здоровье всё ухудшалось, поехать в Москву для консультации с врачами. Разрешение было получено. Мать и дочь выехали в Москву 6 августа. Волконский проводил их до Красноярска и вернулся в свой опустевший дом. Ему предстояло прожить в нём ещё целый год.
26 августа 1856 г. последовал царский Манифест о помиловании декабристов. Волконскому возвращались "все права потомственного дворянина, только без почётного титула, прежде им носимого, и без прав на прежнее имущество, с дозволением возвратиться с семейством из Сибири и жить, где пожелает в пределах империи, за исключением С.-Петербурга и Москвы, под надзором". Этот Манифест был привезён в Сибирь из Москвы по личному распоряжению нового царя Александра II Михаилом Волконским.
Жить в Москве Волконскому запрещалось - формально он жил в деревне Зыково Московской губернии, а фактически - в Москве, сначала на Спиридоновке, а затем в собственном доме дочери Е.С. Молчановой.
В 1826 г. Сергей Григорьевич завещал свои родовые имения за исключением 7-й части, сыну Николаю. После его смерти они должны были вернуться обратно в род. Братья Волконского Никита и Николай после смерти первенца Сергея Григорьевича отказались от причитавшихся им наделов в пользу семьи декабриста. Братья также завещали своим сыновьям Александру Никитичу и Василию Николаевичу не пользоваться чужим достоянием, а передать их Сергею Григорьевичу.
Годы, проведённые в Сибири, сказывались на здоровье Марии Николаевны и Сергея Григорьевича. Волконская умерла в 1863 г. в возрасте 57 лет в селе Вороньки Козелецкого уезда Черниговской губернии, в имении второго мужа дочери, Н.А. Кочубея. Через два года там же умер и С.Г. Волконский.

Волконские принадлежали к высшим слоям русской аристократии, в которую они попали не потому, что их предок был царским фаворитом или брадобреем. Они вели своё происхождение от "святого" князя Михаила Черниговского. Дед декабриста, Семён Фёдорович, принимал участие во многочисленных войнах первой половины XVIII века. В Семилетнюю войну он был генерал-лейтенантом, командовал кирасирами и заведовал провиантмейстерской частью. Умер Семён Волконский в 1768 году и похоронен в своём селе Новоникольское Мышкинского уезда Ярославской губернии. Позже над его могилой жена и сын Григорий Семёнович (отец декабриста) построили церковь.
Карьера Григория Семёновича во многом сходна с карьерой своего отца. Его жизнь хорошо охарактеризована, хотя в несколько напыщенных фразах, в надписи на могильной плите в Александро-Невской лавре в Петербурге: "Генерал - от кавалерии князь Григорий Семёнович Волконский. Служил отечеству 66 лет. На поле брани Румянцева, Суворова, Репнина - сподвижник, на поприще гражданском - Оренбургский военный губернатор. Член Государственного Совета. Родился 25 января 1742 г., переселился в жизнь вечную 1824 г. июня 17 дня".
Сыновья Григория Семёновича тоже служили исправно и достигли высоких чинов. Старший сын Николай (с 1801 г. в память деда со стороны матери фельдмаршала Н.В. Репнина носил эту фамилию) - участник Аустерлицкого сражения, в котором командовал эскадроном кавалергардов, атаку которых описал Л.Н. Толстой в произведении "Война и мир". В 1810 году Николай был послом в Испании, а в 1813-1814 гг. - наместником Саксонии. После войны на протяжении почти 20 лет Николай Репнин занимал пост Малороссийского генерал-губернатора. Второй сын - Никита - дослужился до генерал-майора, с 1811 г. служил в 3-й армии. Радовался Оренбургский генерал-губернатор и успехам младшего сына, Сергея, которого в письмах называл не иначе, как "наш герой". Служба Сергея Волконского началась в 1796 году, когда ему было всего восемь лет. В этом же году он был зачислен (конечно, номинально) штабс-фурьером в штаб Суворова, с которым отец был знаком лично и которого обожествлял, усвоив себе некоторые странности характера великого полководца. Продвижение по службе недоросля Сергея Волконского шло быстро - в службу записан 6 июля, а в августе уже был адъютантом в Алексопольском пехотном полку, в сентябре - полковым квартирмейстером Староингерманландского полка, а в марте 1797 г. "переименован" ротмистром в Екатеринославский Кирасирский полк.
Пока "шла" служба, Волконский до 14 лет учился. Действительная служба началась только в декабре 1805 года, когда он был переведён поручиком в Кавалергардский полк. Принимал участие во всех крупных сражениях в войнах с Францией, Турцией. За храбрость, проявленную в бою под Прейсиш-Эйлау, получил золотую шпагу. Во время Отечественной войны получил чин полковника, а в 1813 году - генерал-майора. Ему было в это время 25 лет. Сергей Волконский принимал участие в 58 сражениях. После войны был назначен бригадным командиром. Подобно многим своим товарищам Сергей Григорьевич пережил увлечение масонством, был членом "Соединённых друзей", ложи "Сфинкс", сам основал ложу "Трёх добродетелей". Война оказала огромное влияние на будущего декабриста. Позже он писал: "Зародыш сознания обязанностей гражданина сильно уже начал высказываться в моих мыслях и чувствах, причиной чего были народные события 1814 и 1815 гг., которых я был свидетелем, вселившие в меня вместо слепого повиновения и отсутствия всякой самостоятельности мысль, что гражданину свойственны обязанности отечественные, идущие по крайней мере, наряду с верноподданическими".
После возвращения в Россию Волконский служил во второй армии, располагавшейся на Украине. Здесь он сближается с членом тайного общества Михаилом Орловым, с которым вместе учился, вместе начинал службу в Кавалергардском полку. Молодой генерал вращался в кругу людей, связанных с Союзом спасения, а затем Союзом благоденствия. Но членом Союза благоденствия Сергей Григорьевич стал только в 1820 г., заняв в нём сразу довольно значительное положение. Он сблизился с П.И. Пестелем. После образования Южного общества Волконский ещё больше внимания уделяет революционной деятельности. Он находится в курсе всех событий, касающихся Общества - на его квартире в Киеве проходили съезды членов Южного общества. Он выполнял поручения Пестеля, направленные на сближение Северного и Южного обществ, вёл переговоры с Польским обществом о совместном выступлении.
В 1824 г. Волконский решил просить руки дочери героя 1812 года Н.Н. Раевского, Марии. За содействием он обратился к своему товарищу Михаилу Орлову, который был женат на старшей дочери Раевского. Волконский предупредил Орлова, что если участие в тайном обществе явится препятствием к вступлению в брак, тогда он готов отказаться от личного счастья, "нежели решусь своим политическим убеждениям и своему долгу". На некоторое время Волконский уехал в отпуск на кавказские воды, "с намерением буде получу отказ, искать поступления на службу в Кавказскую армию и в боевой жизни развлечь горе от неудачи в личной жизни".
Но не только это привело Волконского на Кавказ. Он имел задание от Южного общества узнать подробности о тайном обществе, которое якобы существовало в кавказской армии. Если бы удалось установить с ним связь, то это привело бы к тому, что в день выступления можно было расчитывать на Кавказский корпус и даже на его командующего А.П. Ермолова.
Из разговора с А.И. Якубовичем у Волконского сложилось впечатление, что на Кавказе действительно существует тайное общество, которое готово поддержать восстание, а в случае неудачи будет тем зерном, "могущим возродить новую попытку". Окрылённый этими надеждами, Волконский возвратился с Кавказа, тем более что старик Раевский согласился выдать за него свою дочь. 11 января 1825 года в киевской церкви Спаса на Берестове состоялось венчание. Жена была на 17 лет моложе своего мужа и вышла замуж не по любви, а под влиянием отца, которого все Раевские обожествляли. В первый год совместной жизни супруги провели вместе только три месяца - после свадьбы Мария Николаевна заболела и должна была уехать на лечение в Одессу. Волконский остался со своей дивизией.
Для тайного общества настали тревожные дни - стало известно о доносах на его членов. Волконский встретился с женой только осенью, чтобы отвезти её в Умань, где стояла его дивизия, а сам затем уехал в Тульчин, где находился штаб второй армии. Здесь Волконский узнал о доносе Майбороды и о том, что Пестель арестован. Но всё же ему удалось повидаться с руководителем Южного общества, предупредить о доносе. На это Пестель ответил: "Смотри, ни в чём не сознавайся! Я же, хоть и жилы мне будут тянуть пыткой - ни в чём не сознаюсь! Одно только необходимо сделать - это уничтожить "Русскую правду", одна она может нас погубить".
Волконский возвратился в Умань. Мария Николаевна описывала это возвращение в следующих словах: "Он вернулся среди ночи; он меня будит, зовёт: "Вставай скорей", я встаю, дрожа от страха. Моя беременность приближалась к концу, и это возвращение, этот шум меня испугали. Он стал растапливать камин и сжигать какие-то бумаги. Я ему помогала, как умела, спрашивая, в чём дело? "Пестель арестован" - "За что?" - Нет ответа. Вся эта таинственность меня тревожила". Именно этой ночью Волконская впервые соприкоснулась с тайным обществом.
Сергей Григорьевич понимал, что рано или поздно, но он тоже будет арестован. Волконский отвёз жену в имение её отца с. Болтышка Чигиринского уезда и возвратился в Умань. Ещё раз он посетил Болтышку, когда пришло известие, что 7 января 1826 г. родился сын Николай. Волконский был арестован на своей квартире в Умани.
Теперь его увезли в столицу в сопровождении фельдъегеря. По дороге они обогнали несколько таких же саней, в которых везли его товарищей. Навстречу попадались флигель-адъютанты, ехавшие по "Высочайшему повелению" для расследования восстания Черниговского полка. Вся страна была возбуждена. Шло расследование, которым руководил лично император. Следовали бесконечные допросы - устные, письменные, перекрёстные. Делались очные ставки. На одном из допросов генерал-адъютант Чернышёв сказал: "Стыдитесь, генерал-майор князь Волконский, прапорщики больше вас показывают!"
Положение Волконского было тяжёлым - полная неизвестность о жене и ребёнке, разобщённость с матерью, братьями, сестрой, неизвестность в отношении будущего.
Мать С.Г. Волконского - Александра Николаевна - была обер-гофмейстерикой двора. Она не сразу посетила своего сына в крепости, утверждая, что это свидание убило бы её. Ещё когда следствие не закончилось, она уехала из Петербурга в Москву с императрицей, где начинались приготовления к коронации. В Петербурге она владела домом на Мойке, где сейчас находится музей-квартира А.С. Пушкина.
Нелёгким было положение и Марии Николаевны. После рождения сына она заболела и находилась в тяжёлом состоянии, когда же приходила в себя и спрашивала о муже, ей отвечали, что он находится в Молдавии по делам службы. Наконец, она узнала правду и решила ехать в столицу, чтобы повидаться с мужем. Оставив маленького сына у своей тётки графини Браницкой в Белой Церкви, она в апреле отправилась в дорогу. В Петербурге она остановилась у своей свекрови в доме на Мойке.
Мария Николаевна добилась свидания с мужем, которое произвело на неё тягостное впечатление. В эту тяжёлую минуту Волконская осталась одна. Её братья старались очернить Волконского. Особенно старался брат Александр. В семье мужа она тоже встретила только колкости и холодность.
Наконец приговор Верховного уголовного суда так определил состав преступления Волконского: "участвовал согласием в умысле на цареубийство и истребление всей императорской фамилии, имел умысел на заточении императорской фамилии, участвовал в управлении Южным обществом и старался о соединении его с Северным; действовал в умысле на отторжение областей от империи и употреблял поддельную печать полевого аудитора". Осуждён был по I разряду. Срок каторги был определён сначала в 20 лет, а затем сокращён до 15-ти.
Находясь в крепости, Волконский в мае 1826 г. составил духовное завещание, в котором дал распоряжение относительно своего имущества. Душеприказчиками Волконский назначил своего тестя Н.Н. Раевского и брата Николая Репнина. Вместе с Марией Николаевной они назначались также опекунами Николеньки. Свои имения Волконский разделял на благоприобретённые и родовые. К первым относились 10 тысяч десятин земли в Таврической губернии, хутор возле Одессы и дом в этом же городе; "родовое имение состоит: а) Нижегородской губернии Балахнинского уезда Кирюшинское имение, первоначально поступившее в числе 1498 душ, в котором в силу домового акта, в ноябре 1824 г. учинённого, полагаю причитается до 72 душ, а по сему всего в Кирюшинском имении 1560 душ; b) Ярославской губернии Угличского уезда Заозерское имение в числе 643 душ; с) переведённые из Томальского имения в Новорепьёвку 44 душ..."
По завещанию жена получала Новорепьёвку, хутор, дом в Одессе, седьмую часть из Нижегородского имения. Родовые имения, в том числе Заозерье, Волконский завещал сыну.
После составления завещания Волконский написал ещё записку, в которой дал пояснения относительно некоторых статей завещания. В этой записке он писал: "Заозерское имение весьма невыгодно, ужасно малоземельно и в общем владении с другими двумя владельцами. Продажа оного и покупка другого есть оборот несомнительно выгодный для пользы сына моего". Заозерского имения Волконский коснулся ещё раз в специальной "Записке по делам, матушке поручаемых". Он писал: "В Нижегородской вотчине оброк с души - 30 руб. Годового дохода 45 тыс. В Заозерье - 25 руб., посему 16075. Дробных по сим же имениям доходам может ещё будет до 2000..." С Заозерского имения в 1825 г. Волконский получил 6788 руб. В этой же записке Волконский указывал на возможность продажи имения: "Ежели приступить необходимо будет к продаже Заозерской вотчины, посему, полагаете, можно продать, считая цены по ревизской душе".
После приговора Волконский, Трубецкой, Оболенский, Давыдов, Артамон Муравьёв, Якубович, братья Борисовы закованными были отправлены в Иркутск, а оттуда - в Благодатский рудник. В октябре 1826 г. маркшейдер Черниговцев доносил начальнику Нерчинских заводов - "все означенные восемь человек размещены по принадлежности на Благодатском руднике, что все они ремесла никакого за собой не имеют, кроме российского языка, и прочих наук, входящих в курс благородного воспитания". От губернатора Цейдлера последовало распоряжение об использовании государственных преступников для работы в шахте. Декабристы работали на руднике до середины сентября 1827 года.
Именно сюда, в Благодатский рудник, приехала жена С.Г. Волконского. Ей пришлось приложить много усилий, чтобы опять увидеть своего мужа. Хоть царь в письме к Марии Николаевне после предупреждения об опасностях, которые ожидают княгиню в Сибири, и написал, что "предоставляю вполне вашему усмотрению избрать тот образ действий, который покажется вам наиболее соответствующим вашему настоящему положению", но избрать было нелегко. Братья и отец были против. Когда Н.Н. Раевский услышал из уст дочери о намерении ехать в Сибирь, он поднял кулаки над её головой и закричал: "Я тебя прокляну, если ты через год не вернёшься".
Но Волконская всё же поехала. На некоторое время она остановилась в Москве у Зинаиды Волконской, бывшей замужем за братом декабриста, Никитой Григорьевичем Волконским и которую Пушкин называл "царицей муз и красоты". Невестка устроила для Марии Николаевны как бы прощальный музыкальный вечер. На нём присутствовал и А.С. Пушкин.
После нескольких дней пребывания в Москве Волконская тронулась в путь по заснеженной России. В Иркутске губернатор всячески отговаривал Марию Николаевну от её намерений, но видя её решительность, предложил подписать условия, что теперь она будет считаться женой ссыльного каторжного, что "дети, которые приживутся в Сибири, поступят в казённые заводские крестьяне", и ещё ряд пунктов, ограничивающих её свободу. Она подписала.
Вскоре произошла встреча с мужем. "Вид его кандалов так воспламенил и растрогал меня, что я бросилась перед ним на колени и поцеловала его кандалы, а потом и его самого".
В 1827 г. декабристы из рудника переведены были в Читинский острог, где прожили три года. Здесь Волконские получили известие о смерти своего сына Николеньки, которому А.С. Пушкин составил проникновенную эпитафию:
"В сиянии и радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благославляет мать и молит за отца".
В сентябре 1830 года декабристов перевели в тюрьму Петровского завода. Жёны поначалу проживали в камерах своих мужей, а потом начали покупать или строить собственные дома. Такой дом имела и Волконская, а в 1835 г. перед самым выходом на поселение, в нём разрешили жить и Сергею Григорьевичу. В 1832 г. у них родился сын, Михаил, а через два года - дочь Елена. Теперь княгиня Волконская всецело посвятила себя заботам о своих детях, тем более, что она уже потеряла надежду вернуться в Россию.
Мать Волконского, умирая, просила Николая I вернуть сына из Сибири и разрешить ему жить в одном из своих имений. Царь не разрешил это, но жизнь Сергея Григорьевича была облегчена - в 1835 г. он вышел на поселение. Правительство долго решало, где поселить Волконских. Лучшим местом в Сибири считались Курган и Ялуторовск, но в первом уже жили 6 декабристов, а во втором - 3. Николай приказал поселить Волконского одного. Он соглашался даже на Ялуторовск, но потребовал перевести живших там декабристов в другое место. Наконец, решили спросить у Волконского, где он желает жить - в Петровском заводе или в Баргузине, где жил на поселении Михаил Кюхельбекер (в случае согласия Волконского на Баргузин, Кюхельбекера должны были перевести в другое место). Волконский остался жить в Петровском заводе, а в 1836 г. переселился в село Урик Иркутской губернии. Там жил врач - декабрист Ф.Б. Вольф, который всегда мог помочь часто болевшим детям, а также и Сергею Григорьевичу, страдавшему ревматизмом.
В Урике, кроме Вольфа, жили М.С. Лунин и Муравьёвы - Никита и Александр. В восьми верстах в Усть-Куде жили И.В. Поджио и П.А. Муханов, в 30 верстах в селении Оёк позднее были поселены - С.П. Трубецкой и Ф.Ф. Вадковский. Расстояния не мешали встречам друзей, но особенно близок Волконский был с М.С. Луниным.
В Урике Сергей Григорьевич с увлечением занялся любимым делом - земледелием, которому посвящал всё свободное время ещё в Петровском заводе. В Урике у него было 15 десятин.
О смягчении участи Волконских просили их высокопоставленные родственники. О переводе Волконского на Кавказ просил брат Марии Николаевны, генерал-лейтенант Н.Н. Раевский-младший. Об этом же ходатайствовал и новороссийский генерал-губернатор Воронцов. Но эти просьбы Бенкендорф даже не доводил до сведения императора. Надежды вернуться в Россию пропадали.
В 1846 г. Волконские переехали в Иркутск. Сергей Григорьевич хотел, чтобы его сын Михаил получил университетское образование. Ступенькой к диплому должна была быть гимназия. М.С. Волконский в 1849 г. окончил Иркутскую гимназию с золотой медалью. Высшего образования, которое дало бы ему возможность сделать "блестящую карьеру", он не получил. Но и без "диплома" он занимал впоследствии высокие административные посты и дослужился до товарища министра просвещения.
Мария Николаевна, очутившись в большом, по масштабам Сибири, городе, поставила свой дом на широкую ногу, стараясь вести светский образ жизни, который она едва вкусила до замужества. Визиты, балы - всё это мало интересовало стареющего декабриста. Большую часть времени он проводил в деревне, поближе к крестьянам, среди которых у него было много друзей.
Десять лет прожили Волконские в Иркутске. В июне 1855 г. дочь Сергея Григорьевича Елена обратилась с просьбой резрешить ей и матери, чьё здоровье всё ухудшалось, поехать в Москву для консультации с врачами. Разрешение было получено. Мать и дочь выехали в Москву 6 августа. Волконский проводил их до Красноярска и вернулся в свой опустевший дом. Ему предстояло прожить в нём ещё целый год.
26 августа 1856 г. последовал царский Манифест о помиловании декабристов. Волконскому возвращались "все права потомственного дворянина, только без почётного титула, прежде им носимого, и без прав на прежнее имущество, с дозволением возвратиться с семейством из Сибири и жить, где пожелает в пределах империи, за исключением С.-Петербурга и Москвы, под надзором". Этот Манифест был привезён в Сибирь из Москвы по личному распоряжению нового царя Александра II Михаилом Волконским.
Жить в Москве Волконскому запрещалось - формально он жил в деревне Зыково Московской губернии, а фактически - в Москве, сначала на Спиридоновке, а затем в собственном доме дочери Е.С. Молчановой.
В 1826 г. Сергей Григорьевич завещал свои родовые имения за исключением 7-й части, сыну Николаю. После его смерти они должны были вернуться обратно в род. Братья Волконского Никита и Николай после смерти первенца Сергея Григорьевича отказались от причитавшихся им наделов в пользу семьи декабриста. Братья также завещали своим сыновьям Александру Никитичу и Василию Николаевичу не пользоваться чужим достоянием, а передать их Сергею Григорьевичу.
Годы, проведённые в Сибири, сказывались на здоровье Марии Николаевны и Сергея Григорьевича. Волконская умерла в 1863 г. в возрасте 57 лет в селе Вороньки Козелецкого уезда Черниговской губернии, в имении второго мужа дочери, Н.А. Кочубея. Через два года там же умер и С.Г. Волконский.
Метки: декабристы волконские |
Никита Кирсанов. "Декабрист Владимир Штейнгейль". |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Декабрист Владимир Штейнгейль".
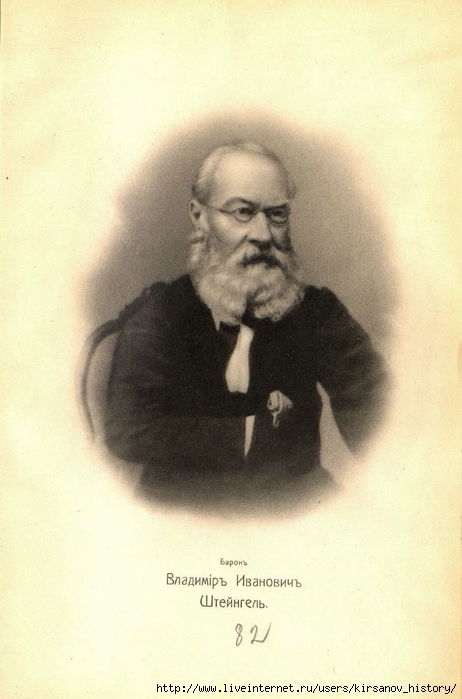
Барон Владимир Иванович Штейнгейль (13 апреля 1783 г. - 20 сентября 1862 г.), происходил из дворян Московской губернии. Родился будущий декабрист в городе Обве Пермского наместничества (ныне село Верхняя Язьва Красновишерского района Пермской области), в семье капитана-исправника, затем городского головы города Обва, барона Иоганна Готфрида Штейнгeйля (ок. 1750 г. - 14 мая 1804 г.) - выходца из небольшого немецкого княжества Бранденбург - Байрейт. В своих воспоминаниях В.И. Штейнгейль подробно рассказывает о своём раннем детстве, о судьбе отца, который ещё в 1772 г., поступил на русскую службу, участвовал в русско-турецкой войне 1768-1774 гг., а затем оказавшись на небольших административных должностях, стал беззащитной жертвой царящего произвола и преследований местной продажной администрации. Мать В.И. Штейнгейля - дочь купца Варвара Макаровна Разумова.
14 августа 1792 г. Владимир Иванович был определён в Морской кадетский корпус, находившийся тогда в Кронштадте. Он отлично учился и был «первым по успехам». По окончании кадетского корпуса 18 мая 1799 г. Штейнгейль был произведён в мичманы и назначен в Балтийский флот. С 1795 г. плавал по Балтийскому морю, в 1799-1800 гг. «в эскадре контр-адмирала П.В. Чичагова у берегов Англии и Голландии». В начале 1802 г. В.И. Штейнгейль, как следует из его послужного списка, был «переведён в морскую команду, в Охотском порте находящуюся», а в декабре 1806 г. «из сей команды поступил в Иркутскую морскую команду», на следующий год он уже «определён командиром оной» в чине лейтенанта, где «обозревал реки Нерчинского края вплоть до Амура». 24 ноября 1809 г. Штейнгейль вновь переведён в Балтийский флот, но уже 14 февраля 1810 г. «командирован к Сибирскому генерал-губернатору (И.Б. Пестелю) по особым поручениям в Иркутске». 14 декабря 1810 г. в чине капитан- лейтенанта Штейнгейль выходит в отставку, по официальной формулировке - «за болезнию», как говорится в его послужном списке. В том же году Штейнгейль женится на дочери действительного статского советника, директора Кяхтинской таможни Вонифатьева - Пелагее Петровне и 1811 г. переселяется в Петербург. Здесь по протекции своего дяди Финлянского генерала-губернатора Фаддея Фёдоровича Штейнгейля Владимир Иванович поступает на службу в Министерство внутренних дел.
Грянула «гроза двенадцатого года». 4 августа Штейнгейль вступает штабс-капитаном в 4 дружину петербургского ополчения. С ополчением проходит весь путь Отечественной войны 1812 г., участвует в заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. В его военной биографии - взятие Полоцка 6 октября 1811 г., за что был награждён орденом Анны 2-ой степени: за Чашники - орден Владимира 4-ой степени с бантом, Березина - вторично награждён тем же орденом, осада Данцига в 1813 г., побеждённый Париж. 7 апреля 1813 г. Штейнгейль был откомандирован в новгородское ополчение дежурным майором, а 26 сентября того же года поступил в 5-ю сводную дружину петербургского ополчения. 24 сентября 1814 г. В.И. Штейнгейль был назначен адъютантом и правителем дел Гражданской и Военной канцелярии при Московском главнокомандующем и генерал-губернаторе А.П. Тормасове. В этой своей роли Штейнгейль энергично работает над составлением проекта застройки Москвы (от которой после пожара 1812 г. осталось «сущее пепелище»), занимается «вспоможением разорённым» и т.д. Несомненны его заслуги в деле восстановления исторических памятников Кремля и возрождения столицы, к чему были привлечены известные архитекторы той эпохи О.И. Бове, Ф.К. Соколов, А.А. Бентакур. За отличия по службе, 30 августа 1816 г. Штейнгейль был произведён в подполковники, однако 4 декабря 1819 г. он вынужден был уйти в отставку из-за интриг московского обер-полицмейстера А.С. Шульгина, который рассеивал слухи и писал доносы о том, что Штейнгейль «успел обогатиться в Москве» и «во зло употреблял доверенность своего начальника» А.П. Тормасова. Александр I поверил этой злостной клевете, и для Штейнгейля наступило время опалы и невзгод.
Оставшись по сути дела без средств и обременённый большим семейством (Дети В.И. Штейнгейля: Юлия (7.4.1811– 2.7.1897), с 1833 г. замужем за сенатором Михаилом Ивановичем Топильским (10.5.1809–2.5.1873); Ростислав (р. 1.4.1813); Всеволод (р. 1815); Мария (1816–8.3.1817); Николай (7.12.1817-1845), артиллерист; Надежда (31.7.1819–11.12.1898); Вячеслав (12.5.1823–8.9.1897), инспектор Александровского лицея (1853 - 1858 гг.), редактор «Российской военной хроники» (1858 -1868), генерал от инфантерии (1891), женат с 1855 г. на Людмиле Петровне Анжу (4.2.1834–15.6.1897); Людмила (4.5.1824–31.12.1898); Владимир (р. 1.7.1825), штабс-капитан лейб-гвардии Гатчинского полка, с 1861 г. в отставке. Сёстры: Татьяна (р. 12.1.1791), в 1826 г. жила в Воронеже, замужем за Маркшейдером Марком Яковлевичем; Екатерина (р. 24.11.1795), замужем за управляющим заводами в Златоусте Германом; Мария (р. 6.1.1798), не замужем, жила в Москве в семье брата), Штейнгейль вынужден заняться частными делами. Он управляет винокуренным заводом в Тульской губернии, исполняет обязанности личного оператора у Астраханского губернатора. В 1821 г. он собирался открыть в Москве пансион для юношества - не получилось, и осенью того же года Штейнгейль устраивается на службу к армейскому поставщику В.В. Варгину.
В 1823 г. В.И. Штейнгейль познакомился с К.Ф. Рылеевым, как рассказывает первый в своих воспоминаниях, Рылеев, писавший в то время поэму «Войнаровский», хотел, чтобы Штейнгейль, хорошо знавший Сибирь, был его консультантом. Но, конечно, не только эти «практические» мотивы руководили Рылеевым, который уже в то время являлся одним из вождей Северного общества и стремился к привлечению в общество новых членов. Рылеев знал, что Штейнгейль - человек исключительной честности, непримиримый со всякими проявлениями произвола и беззакония, горячий патриот. В 1824 г. Рылеев принял Штейнгейля в тайное общество и открыл ему цель общества - введение конституции, сообщил о существования Южного общества и его республиканской программе, предложил «в Москве приобресть членов между купечеством», познакомил с И.И. Пущиным. «Спасибо, что полюбил Пущина, - писал в последствии Штейнгейлю Рылеев,- я ещё от этот ближе к тебе. Кто любит Пущина, тот уже непременно сам редкий человек». Штейнгейль явился внимательным читателем и критиком конституции Никиты Муравьёва (на полях текста конституции сохранились 34 замечания Штейнгейля).
Отличаясь от большинства более молодых декабристов богатым жизненным опытом, Штейнгейль, подобно другим деятелям декабристского движения жил в постоянной жажде знаний, в атмосфере высокой духовной культуры. Он интересовался сочинениями юридического и полемического характера, читал «многие духовные сочинения», много времени уделял изучению литературы и истории.
В. И. Штейнгейль принимал самое деятельное участие в подготовке восстания 1825 г. Приехав в конце сентября в Петербург, как он объяснял следователям, для определения в учебные заведения троих сыновей, Штейнгейль встретился с Рылеевым, который сообщил ему, что дела тайного общества идут успешно и что уже разработан план выступления даже без расчёта на смену царей на престол. На следующий день после получения известия о смерти Александра I, Штейнгейль на квартире Рылеева вместе с другими членами тайного общества обсуждает план убийства Константина Павловича.
Впоследствии Штейнгейль ежедневно присутствует на совещаниях у Рылеева. Когда стало известно об отречении Константина Павловича от престола, был выработан окончательный план выступления войск на Сенатской площади с объявлением через Сенат «Манифеста к русскому народу». Штейнгейлю было поручено написать введение к этому Манифесту, составленному Сергеем Трубецким. Вероятно, помимо введения Штейнгейль составил и свой самостоятельный вариант «Манифеста к русскому народу».
Утром 14 декабря Штейнгейль читает написанные страницы «Манифеста» Рылееву. На одном из совещаний у Рылеева, перед восстанием Штейнгейль предложил возвести но престол жену Александра I Елизавету Алексеевну, и теперь, к решающему моменту, он даже приготовил приказ по войскам. «Храбрые воины! Император Александр I скончался оставя Россию в бедственном положении. В завещании своём наследие престола он предоставил великому князю Николаю Павловичу, но великий князь отказался, объявив себя к этому не готовым, и первый присягнул императору Константину. Ныне же получено известие, что и цесаревич решительно отказывается. Итак, они не хотят. Они не умеют быть отцами народа, но мы не совсем осиротели: нам осталась мать Елисавета. Виват Елисавета Вторая и Отечество!» Штейнгейль полагал, что при сохранении внешних форм монархии власть Елизаветы Алексеевны, ограниченная конституцией, будет чисто номинальной, и впоследствии «Елисавета» сама может отказаться от престола в пользу республики. В день 14 декабря Штейнгейль находился на Сенатской площади, хотя и не в рядах восставших. По-видимому, это был своеобразный «инспекционный выход» Штейнгейля из квартиры Рылеева, с тем, чтобы следить за ходом восстания. В 7 часов вечера 14 декабря Штейнгейль присутствует на последнем собрании на квартире Рылеева. В течении последующих пяти дней он остаётся в Петербурге, 20 декабря выезжает в Москву, где сообщает члену московской организации Северного общества С.М. Семёнову подробности о восстании. Арестованный в Москве 2 января 1826 г. Штейнгейль привезён в Петербург и доставлен прямо в Зимний дворец, где его допрашивал Николай I. 6 января он был доставлен в Петропавловскую крепость с собственноручной запиской царя: «Посадить по усмотрению под строгий арест». Его поместили в № 7 Никольской куртины.
11 января 1826 г. из крепости Штейнгейль отправил царю письмо, которое по его собственному определению, представляло собой «краткий, но резкий очерк минувшего царствования», а по сути дела являлось обвинительным актом самодержавию. 29 января он направляет царю новое письмо, - продолжение предыдущего.
Верховный уголовный суд приговорил Штейнгейля к пожизненной каторге за то, что он «знал об умысле на цареубийство и лишение свободы (царской семьи) с согласием на последнее; принадлежал к тайному обществу с знанием цели и участвовал в приготовлении к мятежу планами, советами, сочинением манифеста и приказа к войскам».
По царской конфирмации 10 июня 1826 г. срок каторжных работ, осуждённому по III разряду Штейнгейлю сократили до 20 лет, и по манифесту от 22 августа 1826 г. - до 15 лет, с последующим пожизненным поселением в Сибири. 25 июня 1826 г. Штейнгейль был помещён в крепость Свартгольм на Аландских островах. Кроме него здесь содержались осуждённые на каторгу декабристы Г.С. Батеньков, В.А. Бечаснов, И.С. Повало-Швейковский, Н.А. Панов и А.Н. Сутгоф. В условиях строгого одиночного заключения Штейнгейль содержался около года. 17 июня 1827 г. его, закованного в кандалы, отправили с фельдъегерем в Сибирь (приметы: рост 2 аршина 5 1/2 вершков (1 м 66 см), «лицом бел, круглолиц, волосы на голове и бровях тёмно-русые с сединою, глаза светло-голубые, нос большой с горбинкой, подбородок раздвоившийся»). 15 августа 1827 г. Штейнгейль соединился с остальными 84 ссыльнокаторжными декабристами в Читинском остроге, а летом 1830 г. вместе с ними был переведён в Петровский завод, где и отбывал каторгу, срок которой был сокращён указом 8 ноября 1832 г. до 10 лет.
По указу 14 декабря 1835 г. срок каторжных работ для Штейнгейля был прекращён и его перевели на поселение в село Елань в 64 верстах от Иркутска. Имея ничтожное «денежное пособие» (37 рублей 14 копеек серебром в год), Штейнгейль решил заняться литературным трудом. Через генерал-губернатора Восточной Сибири С.Б. Броневского он направил для публикации в «Северной пчеле» статью «Нечто о неверностях, проявляющихся в русских сочинениях и журнальных статьях о России». Статья по заведённому порядку была передана шефу жандармов А.Х. Бенкендорфу. Тот ответил, что считает «неудобным дозволять государственным преступникам посылать сочинения для напечатания в журналах, то сие поставит их в сношения, несоответственное их положению». Статья была похоронена в архивах III отделения.
В ответ на своё ходатайство Штейнгейль получил разрешение на поселение в Ишиме Тобольской губернии, куда он прибыл 11 марта 1837 г., ровно месяц, находясь в пути, а 20 января 1840 с после неоднократных и настойчивых просьб, добился перевода в Тобольск. Тобольским губернатором в то время был М.В. Ладыженский, жена которого была хорошо знакома со Штейнгейлем.
В.И. Штейнгейль 7 марта 1840 г. был радушно принят в доме Ладыженских и с тех пор стал их другом и советчиком. Оценив ум декабриста, широту его взглядов и знаний, тобольский губернатор поручал иногда Штейнгейлю составление деловых бумаг. Генерал-губернатор Западной Сибири князь Горчаков расценил это как непозволительное и вредное влияние государственных преступников на тобольскую администрацию и предложил перевести немедленно Штейнгейля в Тару.
Главное же дело было в том, что Штейнгейль составил листовку - обращение к крестьянам, взбунтовавшимся против проведения земельной реформы Киселёва. Листовка призывала бунтовщиков к спокойствию, тем не менее, показалась опасной, так как вышла из-под руки государственного преступника.
И Штейнгейля, дабы не покушался на государственное управление, в сентябре 1843 г. переводят в Тару. Он отчаянно сопротивляется высылке, и только, «высочайшее распоряжение» Николая I заставляет декабриста тронуться в путь. Да и как не тронуться, когда под окном останавливается экипаж с жандармом!
Однако судите сами, каково письмо, направленное из Тары бывшим каторжником шефу жандармов сиятельному графу Бенкендорфу:
Тара, 30 сентября 1843 г.
«Благородный граф!
В последний раз в жизни обращаю к Вам вопль мой. Имейте терпение, не затворяйте благородного сердца Вашего. Вы допустили сделать из меня грязный мячик, которым в злобе вздумали запятнать человека превосходных качеств души и сердца, и я закинут за 600 вёрст далее... Ради Господа! Подумайте, граф, ей-ей, пора устать в преследовании нас! Вы дворянин не татарского происхождения; в Вас течёт кровь благородных ливонских рыцарей... Во всю жизнь мою, в службе, в гонении, в изгнании, везде я ненавидел зло и старался делать добро... Но не обращаюсь к прошедшему. Граф, положите руку на сердце: Вы знаете, все ли виновные так пострадали? Не усыпляйтесь же счастьем и богатством: мы всё равно близки к вечности - и Вы - христианин!»
Вскоре тарские жители заметили невысокого старца, с величественным профилем, усердно посещавшего все церковные службы - «государственный преступник» оказался набожным человеком. В Таре у него нашлись старые знакомые по Восточной Сибири, появились новые.
Центральные государственные архивы сохранили множество тарских писем В.И. Штейнгейля, более всего к М.А. Бестужеву, которого он нежно любил, несмотря на разницу в возрасте. Из них мы узнаём о жизни декабриста в далёком сибирском городке.
«В местном моем отношении, - писал Штейнгейль в 1846 году - я так держу себя, что в большие праздники, - заметь, при известном гонении Горчакова - все, начиная с окружного, предваряют меня визитом. В именины, даже в ненастный день, каков был в нынешнем году, и несмотря, что не делаю никакой закуски, все знаменитости тарские были с поздравлением. Это радует - догадаешься, разумею, с той стороны, - что личное достоинство начинает быть в России и в Сибири невольно уважаемо».
Местные «знаменитости» - окружные начальники, городничие, заседатели - в течение восьми лет поддерживали тёплые отношения с бывшим каторжником. В этот период в Тару присылали чаще чиновников из столиц. Некоторые из тарских «деятелей» начинали учиться в горном кадетском корпусе, но по разным причинам ушли оттуда, другие вступили в службу «из 2-го кадетского Морского корпуса».
Впрочем, многие из среднего тарского начальства были выходцами из обер-офицерских семей, начинавшие некогда канцеляристами.
Начинал канцеляристом, в штабе Витебского правления, и тарский городничий (с 24.12.1844 г.), Александр Васильевич Квятковский, хотя происходил из дворян, утверждённых герольдией. Можно предположить, что это о нём писал Штейнгейль В.К. Кюхельбекеру в письме, датируемом иркутскими декабристоведами концом июля - августом 1846 г. (Некоторые исследователи полагают, что в 1841-1847 гг. в должности тарского городничего служил Александр Дмитриевич Блохин. Это не так - в 1841 г. Горчаков распорядился убрать его с этой должности и вообще из Западной Сибири. Причина немилости та, на которую указывал И.И. Пущин - пьяница. В 1846 г. городничим Тары стал штабс-капитан Евгений Михайлович Романович). «Вы знаете, - писал Штейнгейль Кюхельбекеру, - что я совсем не имею дара писать стихами и никогда не писывал; но здешний городничий, лишившись двух малюток, которые схоронены вместе, просил меня написать эпитафию. Вот как исполнил я его желание:
Малютки взглянули только на свет,
Подарили улыбкой мать и отца;
Но взять их на небо - просили Творца,
Увидя, что чистой здесь радости нет.
Не уверен, не сделал ли ошибки против версификации: впрочем, здесь не скоро кто заметит.
Видите, как бы мне хотелось говорить с Вами: чем я Вас занимаю».
На окружное начальство в Таре Штейнгейлю тоже везло. В 1846 г. окружным был майор Георг (Егор) Борисович Ганнеман, дворянин Московской губернии, учившийся в своё время во 2-м Кадетском корпусе. По ранней смерти его, не дожившего до 50 лет, окружным начальником был утверждён 12 июля 1849 г. 60-летний Иван Курзин, начинавший служить ещё в 1807 г. рядовым в Ширванском пехотном полку. Воевал Курзин в Галиции в 1809 г., при Бородино в 1812 г., шёл в авангарде при изгнании французов из Малого Ярославца, затем из города Красного. По болезни его прикомандировали к Главному дежурству, с которым он бывал в Силезии, Пруссии, Богемии, Саксонии, Вестфалии, в компаниях при Дрездене, 13 сентября 1813 г. - при Лейпциге, при крепости Магдебург.
Знакомство Штейнгейля с тарским «светским кругом», переписка с друзьями давали ему возможность быть в курсе событий не только сибирских, но и европейских.
И в Таре он читает «Московские ведомости», французские и немецкие журналы и газеты, пишет иронические пьесы, которые расходятся в спискак по Москве (к сожалению, до сих пор они неизвестны). Возможно, там же, в Таре начинает свои «Автобиографические записки». В Таре навещают его друзья - Иван Иванович Пущин, Иван Дмитриевич Якушкин, Иван Андреевич Заливин, знакомец Штейнгейля по Петровскому заводу, Клавдия Васильевна Лапина, жена тарского заседателя земского суда Павла Лапина, пересылали его письма помимо официальной почты, а на адрес Клавдии Васильевны шла корреспонденция для Штейнгейля.
Но Тара ему тесна. Человек высокого государственного ума и активного действия, бывший некогда правой рукой Московского главнокомандующего, оказался в этом городишке как в клетке, и продолжал попытки вырваться из захолустья.
Теперь он бомбардирует письмами нового шефа III отделения А.Ф. Орлова.
Пишет он 11 апреля 1846 г.: «И о чём прошу я после 20 летнего страдания? Не о помиловании, не о возвращении в жизнь, о том только, чтобы дострадать было дозволено там, где находился я и где кто-нибудь из товарищей несчастья мог бы мне закрыть глаза навеки в час последний».
Несмотря на обычные - «сиятельный граф», «милостивый государь», письмо вышло непочтительное, и взбешённый граф шлёт в Омск «реляцию», где выговаривает князю Горчакову, что Штейнгейль сопроводил свою просьбу «неприличными его состоянию выражениями». Вроде: «Неужели важность христианского правительства состоит в непреклонном равнодушии к воплям обидимых! Есть ли бог, вечность, потомство. Страшно посмеваться ими!» Соответственна и высочайшая реакция: просьба Штейнгейля до тех пор не будет уважена, пока местное начальство не даст о нём положительного отзыва и не «засвидетельствует, что переменил беспокойный нрав свой», а вместе с тем приказано было внушить ему, «дабы он излагал свои письма осторожнее и что в противном случае он будет, подвергнут строгому взысканию». И бывший каторжник надолго замолчал.
Между прочим, «беспокойный нрав» и «дерзость» Штейнгейля почувствовали на себе не только царедворцы, но и некоторые товарищи Штейнгейля по изгнанию. Ещё находясь в Петровском заводе, он стал писать оскорбительные письма семьям Трубецких и Юшневских. Доктор Ф.Б. Вольф сообщал об этом декабристу М.А. Фонвизину: «Наш astuсieux vieillard так же при отъезде из Петровского ужасно напроказил - разумеется, что дело состояло в письме, которое написал Юшневским, но такое письмо вообразите, что письмо к Трубецким есть дружеское изъяснение в сравнении этой эпистолы. Так пересолил, что перешло всякие границы и понятия, и от того более смешно, чем досадно». Правда, в последствии, живя в Тобольске, Штейнгейль ничего подобного себе не позволял, но так и остаётся загадкой причина конфликта Штейнгейля с некоторыми декабристами, и причина написания подобных писем. 12 июля 1840 г. М.А. Фонвизин писал из Тобольска И.Д. Якушкину: «Штейнгейль живёт смирно и покамест коленок не делает. После объяснения, которое я имел с ним на счёт его переписки, он ко мне не ходит, но, встречаясь с ним на улице или в церкви мы друг другу кланяемся. Сегодня встретился я с ним у жандармского генерала» (Н.Я. Фалькенберга).
В 1849-1851 гг. Западную Сибирь с ревизией посетил генерал-адъютант, двоюродный брат декабриста - Н.Н. Анненков. Именно ему обязан был Штейнгейль возвращением из Тары в Тобольск. «Приехал Анненков ревизором и по просьбе моей и кузена исходатайствовал перемещение меня в Тобольск, куда я и прибыл в феврале 1852 года» - вспоминал в последствии Штейнгейль.
По манифесту об амнистии 26 августа 1856 г. В.И. Штейнгейлю были возвращены его права состояния (дворянское достоинство и титул барона). Разрешалось вернуться в Европейскую Европу, однако ему, как и другим возвращённым из ссылки декабристам, запрещался въезд «в обе столицы» (Москву и Петербург), кроме того, все «амнистированные» оставались под полицейским надзором.
На прошение Штейнгейля Александру II о разрешении поселится в Петербурге, где были его семья и близкие, и приезжать в Москву, где были похоронены его дети, ответа не последовало.
25 октября 1856 г. Штейнгейль прибыл в Тверь, откуда 3 ноября выехал на стацию Колпино. И только 25 ноября 1856 г. по ходатайству попечителя Александровского (бывшего Царскосельского) лицея герцога П.Г. Ольденбургского (родственника царя) Штейнгейлю было разрешено проживание в Петербурге с семейством у сына Вячеслава, инспектора того же Александровского лицея. Полицейский надзор за В.И. Штейнгейлем оставался до 12 декабря 1858 г.
Надо сказать, что в Тобольске оставались у Владимира Ивановича внебрачные дети: Мария и Андрей (в мае 1857 г. - 16 и 15 лет); Андрей учился в тобольской гимназии под фамилией Петров позднее в Петербургском Технологическом институте. По прошению от 20 мая 1857 г. им дана фамилия Бароновы и права личного почетного гражданства (определение прав Сената 18 июня 1857 г.). Трагична судьба многих потомков Бароновых: некоторые погибли в сталинские 1930-е гг. Герман Андреевич Баронов, внук декабриста, был арестован в Омске в июне 1941 г. и осуждён как враг народа на 5 лет лагерей. Он был отправлен в Сиблаг, освобождён в 1943 г., но следы его затерялись. Неизвестна судьба братьев Германа Андреевича, жены его, старой больной женщины, оставшейся после ареста в одиночестве. Сегодня в Таре есть улица Штейнгейля. В городском краеведческом музее хранится ваза или карандашница из горного хрусталя, принадлежавшая декабристу. А может быть сохранился дом, где он жил? Растут правнуки тех, кого он навещал и кому помогал?
В последние годы жизни Владимир Иванович Штейнгейль продолжал живо интересоваться политическими событиями, прежде всего, ходом подготовки крестьянской и других реформ. 5 марта 1859 г. ему было разрешено носить медаль в память Отечественной войны 1812 г., а немногим ранее 1 мая 1858 г. разрешено «производить ему пособие получаемое им в Сибири - 114 рублей 28 копеек в год». В газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Северная пчела», в журнале «Морской сборник» старый декабрист опубликовал серию статей о русских поселениях в Америке, о Российско-Американской компании, о начальнике над военными поселениями графе А.А. Аракчееве. Скончался В.И. Штейнгейль в Петербурге. На его похоронах были писатели и историки: Н.Х. Вессель, П.А. Лавров, И.И. Шишкин, Д.М. Хмыров, М.М. Семевский, В.Р. Зотов. Гроб несли на руках до конца Троицкого моста. Поравнявшись с Петропавловской крепостью, около места казни декабристов, Лавров и другие потребовали остановить процессию и «отслужить литию» (краткую панихиду), где готовились выступить с речами, и хотя сын Штейнгейля, инспектор Лицея полковник В.В. Штейнгейль, не допустил этого, в III отделение поступили агентурные сведения об этой «манифестации» и «манифестах», а шеф III отделения В.И. Долгоруков представил о сём «всеподданнейший доклад». Похоронен В.И. Штейнгейль был Большеохтинском кладбище, но могила его неизвестна.
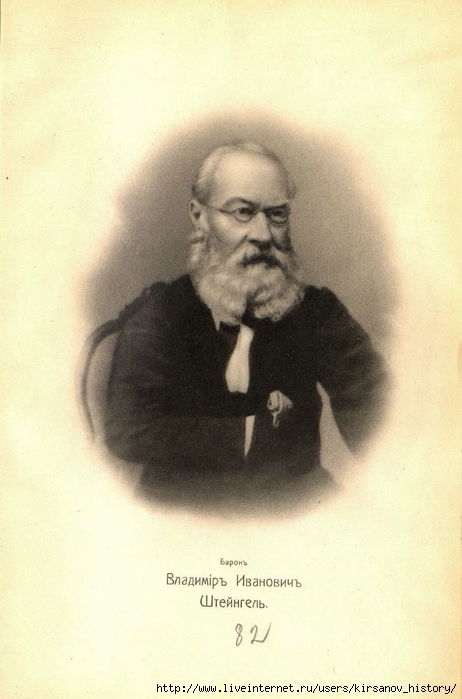
Барон Владимир Иванович Штейнгейль (13 апреля 1783 г. - 20 сентября 1862 г.), происходил из дворян Московской губернии. Родился будущий декабрист в городе Обве Пермского наместничества (ныне село Верхняя Язьва Красновишерского района Пермской области), в семье капитана-исправника, затем городского головы города Обва, барона Иоганна Готфрида Штейнгeйля (ок. 1750 г. - 14 мая 1804 г.) - выходца из небольшого немецкого княжества Бранденбург - Байрейт. В своих воспоминаниях В.И. Штейнгейль подробно рассказывает о своём раннем детстве, о судьбе отца, который ещё в 1772 г., поступил на русскую службу, участвовал в русско-турецкой войне 1768-1774 гг., а затем оказавшись на небольших административных должностях, стал беззащитной жертвой царящего произвола и преследований местной продажной администрации. Мать В.И. Штейнгейля - дочь купца Варвара Макаровна Разумова.
14 августа 1792 г. Владимир Иванович был определён в Морской кадетский корпус, находившийся тогда в Кронштадте. Он отлично учился и был «первым по успехам». По окончании кадетского корпуса 18 мая 1799 г. Штейнгейль был произведён в мичманы и назначен в Балтийский флот. С 1795 г. плавал по Балтийскому морю, в 1799-1800 гг. «в эскадре контр-адмирала П.В. Чичагова у берегов Англии и Голландии». В начале 1802 г. В.И. Штейнгейль, как следует из его послужного списка, был «переведён в морскую команду, в Охотском порте находящуюся», а в декабре 1806 г. «из сей команды поступил в Иркутскую морскую команду», на следующий год он уже «определён командиром оной» в чине лейтенанта, где «обозревал реки Нерчинского края вплоть до Амура». 24 ноября 1809 г. Штейнгейль вновь переведён в Балтийский флот, но уже 14 февраля 1810 г. «командирован к Сибирскому генерал-губернатору (И.Б. Пестелю) по особым поручениям в Иркутске». 14 декабря 1810 г. в чине капитан- лейтенанта Штейнгейль выходит в отставку, по официальной формулировке - «за болезнию», как говорится в его послужном списке. В том же году Штейнгейль женится на дочери действительного статского советника, директора Кяхтинской таможни Вонифатьева - Пелагее Петровне и 1811 г. переселяется в Петербург. Здесь по протекции своего дяди Финлянского генерала-губернатора Фаддея Фёдоровича Штейнгейля Владимир Иванович поступает на службу в Министерство внутренних дел.
Грянула «гроза двенадцатого года». 4 августа Штейнгейль вступает штабс-капитаном в 4 дружину петербургского ополчения. С ополчением проходит весь путь Отечественной войны 1812 г., участвует в заграничных походах русской армии 1813-1814 гг. В его военной биографии - взятие Полоцка 6 октября 1811 г., за что был награждён орденом Анны 2-ой степени: за Чашники - орден Владимира 4-ой степени с бантом, Березина - вторично награждён тем же орденом, осада Данцига в 1813 г., побеждённый Париж. 7 апреля 1813 г. Штейнгейль был откомандирован в новгородское ополчение дежурным майором, а 26 сентября того же года поступил в 5-ю сводную дружину петербургского ополчения. 24 сентября 1814 г. В.И. Штейнгейль был назначен адъютантом и правителем дел Гражданской и Военной канцелярии при Московском главнокомандующем и генерал-губернаторе А.П. Тормасове. В этой своей роли Штейнгейль энергично работает над составлением проекта застройки Москвы (от которой после пожара 1812 г. осталось «сущее пепелище»), занимается «вспоможением разорённым» и т.д. Несомненны его заслуги в деле восстановления исторических памятников Кремля и возрождения столицы, к чему были привлечены известные архитекторы той эпохи О.И. Бове, Ф.К. Соколов, А.А. Бентакур. За отличия по службе, 30 августа 1816 г. Штейнгейль был произведён в подполковники, однако 4 декабря 1819 г. он вынужден был уйти в отставку из-за интриг московского обер-полицмейстера А.С. Шульгина, который рассеивал слухи и писал доносы о том, что Штейнгейль «успел обогатиться в Москве» и «во зло употреблял доверенность своего начальника» А.П. Тормасова. Александр I поверил этой злостной клевете, и для Штейнгейля наступило время опалы и невзгод.
Оставшись по сути дела без средств и обременённый большим семейством (Дети В.И. Штейнгейля: Юлия (7.4.1811– 2.7.1897), с 1833 г. замужем за сенатором Михаилом Ивановичем Топильским (10.5.1809–2.5.1873); Ростислав (р. 1.4.1813); Всеволод (р. 1815); Мария (1816–8.3.1817); Николай (7.12.1817-1845), артиллерист; Надежда (31.7.1819–11.12.1898); Вячеслав (12.5.1823–8.9.1897), инспектор Александровского лицея (1853 - 1858 гг.), редактор «Российской военной хроники» (1858 -1868), генерал от инфантерии (1891), женат с 1855 г. на Людмиле Петровне Анжу (4.2.1834–15.6.1897); Людмила (4.5.1824–31.12.1898); Владимир (р. 1.7.1825), штабс-капитан лейб-гвардии Гатчинского полка, с 1861 г. в отставке. Сёстры: Татьяна (р. 12.1.1791), в 1826 г. жила в Воронеже, замужем за Маркшейдером Марком Яковлевичем; Екатерина (р. 24.11.1795), замужем за управляющим заводами в Златоусте Германом; Мария (р. 6.1.1798), не замужем, жила в Москве в семье брата), Штейнгейль вынужден заняться частными делами. Он управляет винокуренным заводом в Тульской губернии, исполняет обязанности личного оператора у Астраханского губернатора. В 1821 г. он собирался открыть в Москве пансион для юношества - не получилось, и осенью того же года Штейнгейль устраивается на службу к армейскому поставщику В.В. Варгину.
В 1823 г. В.И. Штейнгейль познакомился с К.Ф. Рылеевым, как рассказывает первый в своих воспоминаниях, Рылеев, писавший в то время поэму «Войнаровский», хотел, чтобы Штейнгейль, хорошо знавший Сибирь, был его консультантом. Но, конечно, не только эти «практические» мотивы руководили Рылеевым, который уже в то время являлся одним из вождей Северного общества и стремился к привлечению в общество новых членов. Рылеев знал, что Штейнгейль - человек исключительной честности, непримиримый со всякими проявлениями произвола и беззакония, горячий патриот. В 1824 г. Рылеев принял Штейнгейля в тайное общество и открыл ему цель общества - введение конституции, сообщил о существования Южного общества и его республиканской программе, предложил «в Москве приобресть членов между купечеством», познакомил с И.И. Пущиным. «Спасибо, что полюбил Пущина, - писал в последствии Штейнгейлю Рылеев,- я ещё от этот ближе к тебе. Кто любит Пущина, тот уже непременно сам редкий человек». Штейнгейль явился внимательным читателем и критиком конституции Никиты Муравьёва (на полях текста конституции сохранились 34 замечания Штейнгейля).
Отличаясь от большинства более молодых декабристов богатым жизненным опытом, Штейнгейль, подобно другим деятелям декабристского движения жил в постоянной жажде знаний, в атмосфере высокой духовной культуры. Он интересовался сочинениями юридического и полемического характера, читал «многие духовные сочинения», много времени уделял изучению литературы и истории.
В. И. Штейнгейль принимал самое деятельное участие в подготовке восстания 1825 г. Приехав в конце сентября в Петербург, как он объяснял следователям, для определения в учебные заведения троих сыновей, Штейнгейль встретился с Рылеевым, который сообщил ему, что дела тайного общества идут успешно и что уже разработан план выступления даже без расчёта на смену царей на престол. На следующий день после получения известия о смерти Александра I, Штейнгейль на квартире Рылеева вместе с другими членами тайного общества обсуждает план убийства Константина Павловича.
Впоследствии Штейнгейль ежедневно присутствует на совещаниях у Рылеева. Когда стало известно об отречении Константина Павловича от престола, был выработан окончательный план выступления войск на Сенатской площади с объявлением через Сенат «Манифеста к русскому народу». Штейнгейлю было поручено написать введение к этому Манифесту, составленному Сергеем Трубецким. Вероятно, помимо введения Штейнгейль составил и свой самостоятельный вариант «Манифеста к русскому народу».
Утром 14 декабря Штейнгейль читает написанные страницы «Манифеста» Рылееву. На одном из совещаний у Рылеева, перед восстанием Штейнгейль предложил возвести но престол жену Александра I Елизавету Алексеевну, и теперь, к решающему моменту, он даже приготовил приказ по войскам. «Храбрые воины! Император Александр I скончался оставя Россию в бедственном положении. В завещании своём наследие престола он предоставил великому князю Николаю Павловичу, но великий князь отказался, объявив себя к этому не готовым, и первый присягнул императору Константину. Ныне же получено известие, что и цесаревич решительно отказывается. Итак, они не хотят. Они не умеют быть отцами народа, но мы не совсем осиротели: нам осталась мать Елисавета. Виват Елисавета Вторая и Отечество!» Штейнгейль полагал, что при сохранении внешних форм монархии власть Елизаветы Алексеевны, ограниченная конституцией, будет чисто номинальной, и впоследствии «Елисавета» сама может отказаться от престола в пользу республики. В день 14 декабря Штейнгейль находился на Сенатской площади, хотя и не в рядах восставших. По-видимому, это был своеобразный «инспекционный выход» Штейнгейля из квартиры Рылеева, с тем, чтобы следить за ходом восстания. В 7 часов вечера 14 декабря Штейнгейль присутствует на последнем собрании на квартире Рылеева. В течении последующих пяти дней он остаётся в Петербурге, 20 декабря выезжает в Москву, где сообщает члену московской организации Северного общества С.М. Семёнову подробности о восстании. Арестованный в Москве 2 января 1826 г. Штейнгейль привезён в Петербург и доставлен прямо в Зимний дворец, где его допрашивал Николай I. 6 января он был доставлен в Петропавловскую крепость с собственноручной запиской царя: «Посадить по усмотрению под строгий арест». Его поместили в № 7 Никольской куртины.
11 января 1826 г. из крепости Штейнгейль отправил царю письмо, которое по его собственному определению, представляло собой «краткий, но резкий очерк минувшего царствования», а по сути дела являлось обвинительным актом самодержавию. 29 января он направляет царю новое письмо, - продолжение предыдущего.
Верховный уголовный суд приговорил Штейнгейля к пожизненной каторге за то, что он «знал об умысле на цареубийство и лишение свободы (царской семьи) с согласием на последнее; принадлежал к тайному обществу с знанием цели и участвовал в приготовлении к мятежу планами, советами, сочинением манифеста и приказа к войскам».
По царской конфирмации 10 июня 1826 г. срок каторжных работ, осуждённому по III разряду Штейнгейлю сократили до 20 лет, и по манифесту от 22 августа 1826 г. - до 15 лет, с последующим пожизненным поселением в Сибири. 25 июня 1826 г. Штейнгейль был помещён в крепость Свартгольм на Аландских островах. Кроме него здесь содержались осуждённые на каторгу декабристы Г.С. Батеньков, В.А. Бечаснов, И.С. Повало-Швейковский, Н.А. Панов и А.Н. Сутгоф. В условиях строгого одиночного заключения Штейнгейль содержался около года. 17 июня 1827 г. его, закованного в кандалы, отправили с фельдъегерем в Сибирь (приметы: рост 2 аршина 5 1/2 вершков (1 м 66 см), «лицом бел, круглолиц, волосы на голове и бровях тёмно-русые с сединою, глаза светло-голубые, нос большой с горбинкой, подбородок раздвоившийся»). 15 августа 1827 г. Штейнгейль соединился с остальными 84 ссыльнокаторжными декабристами в Читинском остроге, а летом 1830 г. вместе с ними был переведён в Петровский завод, где и отбывал каторгу, срок которой был сокращён указом 8 ноября 1832 г. до 10 лет.
По указу 14 декабря 1835 г. срок каторжных работ для Штейнгейля был прекращён и его перевели на поселение в село Елань в 64 верстах от Иркутска. Имея ничтожное «денежное пособие» (37 рублей 14 копеек серебром в год), Штейнгейль решил заняться литературным трудом. Через генерал-губернатора Восточной Сибири С.Б. Броневского он направил для публикации в «Северной пчеле» статью «Нечто о неверностях, проявляющихся в русских сочинениях и журнальных статьях о России». Статья по заведённому порядку была передана шефу жандармов А.Х. Бенкендорфу. Тот ответил, что считает «неудобным дозволять государственным преступникам посылать сочинения для напечатания в журналах, то сие поставит их в сношения, несоответственное их положению». Статья была похоронена в архивах III отделения.
В ответ на своё ходатайство Штейнгейль получил разрешение на поселение в Ишиме Тобольской губернии, куда он прибыл 11 марта 1837 г., ровно месяц, находясь в пути, а 20 января 1840 с после неоднократных и настойчивых просьб, добился перевода в Тобольск. Тобольским губернатором в то время был М.В. Ладыженский, жена которого была хорошо знакома со Штейнгейлем.
В.И. Штейнгейль 7 марта 1840 г. был радушно принят в доме Ладыженских и с тех пор стал их другом и советчиком. Оценив ум декабриста, широту его взглядов и знаний, тобольский губернатор поручал иногда Штейнгейлю составление деловых бумаг. Генерал-губернатор Западной Сибири князь Горчаков расценил это как непозволительное и вредное влияние государственных преступников на тобольскую администрацию и предложил перевести немедленно Штейнгейля в Тару.
Главное же дело было в том, что Штейнгейль составил листовку - обращение к крестьянам, взбунтовавшимся против проведения земельной реформы Киселёва. Листовка призывала бунтовщиков к спокойствию, тем не менее, показалась опасной, так как вышла из-под руки государственного преступника.
И Штейнгейля, дабы не покушался на государственное управление, в сентябре 1843 г. переводят в Тару. Он отчаянно сопротивляется высылке, и только, «высочайшее распоряжение» Николая I заставляет декабриста тронуться в путь. Да и как не тронуться, когда под окном останавливается экипаж с жандармом!
Однако судите сами, каково письмо, направленное из Тары бывшим каторжником шефу жандармов сиятельному графу Бенкендорфу:
Тара, 30 сентября 1843 г.
«Благородный граф!
В последний раз в жизни обращаю к Вам вопль мой. Имейте терпение, не затворяйте благородного сердца Вашего. Вы допустили сделать из меня грязный мячик, которым в злобе вздумали запятнать человека превосходных качеств души и сердца, и я закинут за 600 вёрст далее... Ради Господа! Подумайте, граф, ей-ей, пора устать в преследовании нас! Вы дворянин не татарского происхождения; в Вас течёт кровь благородных ливонских рыцарей... Во всю жизнь мою, в службе, в гонении, в изгнании, везде я ненавидел зло и старался делать добро... Но не обращаюсь к прошедшему. Граф, положите руку на сердце: Вы знаете, все ли виновные так пострадали? Не усыпляйтесь же счастьем и богатством: мы всё равно близки к вечности - и Вы - христианин!»
Вскоре тарские жители заметили невысокого старца, с величественным профилем, усердно посещавшего все церковные службы - «государственный преступник» оказался набожным человеком. В Таре у него нашлись старые знакомые по Восточной Сибири, появились новые.
Центральные государственные архивы сохранили множество тарских писем В.И. Штейнгейля, более всего к М.А. Бестужеву, которого он нежно любил, несмотря на разницу в возрасте. Из них мы узнаём о жизни декабриста в далёком сибирском городке.
«В местном моем отношении, - писал Штейнгейль в 1846 году - я так держу себя, что в большие праздники, - заметь, при известном гонении Горчакова - все, начиная с окружного, предваряют меня визитом. В именины, даже в ненастный день, каков был в нынешнем году, и несмотря, что не делаю никакой закуски, все знаменитости тарские были с поздравлением. Это радует - догадаешься, разумею, с той стороны, - что личное достоинство начинает быть в России и в Сибири невольно уважаемо».
Местные «знаменитости» - окружные начальники, городничие, заседатели - в течение восьми лет поддерживали тёплые отношения с бывшим каторжником. В этот период в Тару присылали чаще чиновников из столиц. Некоторые из тарских «деятелей» начинали учиться в горном кадетском корпусе, но по разным причинам ушли оттуда, другие вступили в службу «из 2-го кадетского Морского корпуса».
Впрочем, многие из среднего тарского начальства были выходцами из обер-офицерских семей, начинавшие некогда канцеляристами.
Начинал канцеляристом, в штабе Витебского правления, и тарский городничий (с 24.12.1844 г.), Александр Васильевич Квятковский, хотя происходил из дворян, утверждённых герольдией. Можно предположить, что это о нём писал Штейнгейль В.К. Кюхельбекеру в письме, датируемом иркутскими декабристоведами концом июля - августом 1846 г. (Некоторые исследователи полагают, что в 1841-1847 гг. в должности тарского городничего служил Александр Дмитриевич Блохин. Это не так - в 1841 г. Горчаков распорядился убрать его с этой должности и вообще из Западной Сибири. Причина немилости та, на которую указывал И.И. Пущин - пьяница. В 1846 г. городничим Тары стал штабс-капитан Евгений Михайлович Романович). «Вы знаете, - писал Штейнгейль Кюхельбекеру, - что я совсем не имею дара писать стихами и никогда не писывал; но здешний городничий, лишившись двух малюток, которые схоронены вместе, просил меня написать эпитафию. Вот как исполнил я его желание:
Малютки взглянули только на свет,
Подарили улыбкой мать и отца;
Но взять их на небо - просили Творца,
Увидя, что чистой здесь радости нет.
Не уверен, не сделал ли ошибки против версификации: впрочем, здесь не скоро кто заметит.
Видите, как бы мне хотелось говорить с Вами: чем я Вас занимаю».
На окружное начальство в Таре Штейнгейлю тоже везло. В 1846 г. окружным был майор Георг (Егор) Борисович Ганнеман, дворянин Московской губернии, учившийся в своё время во 2-м Кадетском корпусе. По ранней смерти его, не дожившего до 50 лет, окружным начальником был утверждён 12 июля 1849 г. 60-летний Иван Курзин, начинавший служить ещё в 1807 г. рядовым в Ширванском пехотном полку. Воевал Курзин в Галиции в 1809 г., при Бородино в 1812 г., шёл в авангарде при изгнании французов из Малого Ярославца, затем из города Красного. По болезни его прикомандировали к Главному дежурству, с которым он бывал в Силезии, Пруссии, Богемии, Саксонии, Вестфалии, в компаниях при Дрездене, 13 сентября 1813 г. - при Лейпциге, при крепости Магдебург.
Знакомство Штейнгейля с тарским «светским кругом», переписка с друзьями давали ему возможность быть в курсе событий не только сибирских, но и европейских.
И в Таре он читает «Московские ведомости», французские и немецкие журналы и газеты, пишет иронические пьесы, которые расходятся в спискак по Москве (к сожалению, до сих пор они неизвестны). Возможно, там же, в Таре начинает свои «Автобиографические записки». В Таре навещают его друзья - Иван Иванович Пущин, Иван Дмитриевич Якушкин, Иван Андреевич Заливин, знакомец Штейнгейля по Петровскому заводу, Клавдия Васильевна Лапина, жена тарского заседателя земского суда Павла Лапина, пересылали его письма помимо официальной почты, а на адрес Клавдии Васильевны шла корреспонденция для Штейнгейля.
Но Тара ему тесна. Человек высокого государственного ума и активного действия, бывший некогда правой рукой Московского главнокомандующего, оказался в этом городишке как в клетке, и продолжал попытки вырваться из захолустья.
Теперь он бомбардирует письмами нового шефа III отделения А.Ф. Орлова.
Пишет он 11 апреля 1846 г.: «И о чём прошу я после 20 летнего страдания? Не о помиловании, не о возвращении в жизнь, о том только, чтобы дострадать было дозволено там, где находился я и где кто-нибудь из товарищей несчастья мог бы мне закрыть глаза навеки в час последний».
Несмотря на обычные - «сиятельный граф», «милостивый государь», письмо вышло непочтительное, и взбешённый граф шлёт в Омск «реляцию», где выговаривает князю Горчакову, что Штейнгейль сопроводил свою просьбу «неприличными его состоянию выражениями». Вроде: «Неужели важность христианского правительства состоит в непреклонном равнодушии к воплям обидимых! Есть ли бог, вечность, потомство. Страшно посмеваться ими!» Соответственна и высочайшая реакция: просьба Штейнгейля до тех пор не будет уважена, пока местное начальство не даст о нём положительного отзыва и не «засвидетельствует, что переменил беспокойный нрав свой», а вместе с тем приказано было внушить ему, «дабы он излагал свои письма осторожнее и что в противном случае он будет, подвергнут строгому взысканию». И бывший каторжник надолго замолчал.
Между прочим, «беспокойный нрав» и «дерзость» Штейнгейля почувствовали на себе не только царедворцы, но и некоторые товарищи Штейнгейля по изгнанию. Ещё находясь в Петровском заводе, он стал писать оскорбительные письма семьям Трубецких и Юшневских. Доктор Ф.Б. Вольф сообщал об этом декабристу М.А. Фонвизину: «Наш astuсieux vieillard так же при отъезде из Петровского ужасно напроказил - разумеется, что дело состояло в письме, которое написал Юшневским, но такое письмо вообразите, что письмо к Трубецким есть дружеское изъяснение в сравнении этой эпистолы. Так пересолил, что перешло всякие границы и понятия, и от того более смешно, чем досадно». Правда, в последствии, живя в Тобольске, Штейнгейль ничего подобного себе не позволял, но так и остаётся загадкой причина конфликта Штейнгейля с некоторыми декабристами, и причина написания подобных писем. 12 июля 1840 г. М.А. Фонвизин писал из Тобольска И.Д. Якушкину: «Штейнгейль живёт смирно и покамест коленок не делает. После объяснения, которое я имел с ним на счёт его переписки, он ко мне не ходит, но, встречаясь с ним на улице или в церкви мы друг другу кланяемся. Сегодня встретился я с ним у жандармского генерала» (Н.Я. Фалькенберга).
В 1849-1851 гг. Западную Сибирь с ревизией посетил генерал-адъютант, двоюродный брат декабриста - Н.Н. Анненков. Именно ему обязан был Штейнгейль возвращением из Тары в Тобольск. «Приехал Анненков ревизором и по просьбе моей и кузена исходатайствовал перемещение меня в Тобольск, куда я и прибыл в феврале 1852 года» - вспоминал в последствии Штейнгейль.
По манифесту об амнистии 26 августа 1856 г. В.И. Штейнгейлю были возвращены его права состояния (дворянское достоинство и титул барона). Разрешалось вернуться в Европейскую Европу, однако ему, как и другим возвращённым из ссылки декабристам, запрещался въезд «в обе столицы» (Москву и Петербург), кроме того, все «амнистированные» оставались под полицейским надзором.
На прошение Штейнгейля Александру II о разрешении поселится в Петербурге, где были его семья и близкие, и приезжать в Москву, где были похоронены его дети, ответа не последовало.
25 октября 1856 г. Штейнгейль прибыл в Тверь, откуда 3 ноября выехал на стацию Колпино. И только 25 ноября 1856 г. по ходатайству попечителя Александровского (бывшего Царскосельского) лицея герцога П.Г. Ольденбургского (родственника царя) Штейнгейлю было разрешено проживание в Петербурге с семейством у сына Вячеслава, инспектора того же Александровского лицея. Полицейский надзор за В.И. Штейнгейлем оставался до 12 декабря 1858 г.
Надо сказать, что в Тобольске оставались у Владимира Ивановича внебрачные дети: Мария и Андрей (в мае 1857 г. - 16 и 15 лет); Андрей учился в тобольской гимназии под фамилией Петров позднее в Петербургском Технологическом институте. По прошению от 20 мая 1857 г. им дана фамилия Бароновы и права личного почетного гражданства (определение прав Сената 18 июня 1857 г.). Трагична судьба многих потомков Бароновых: некоторые погибли в сталинские 1930-е гг. Герман Андреевич Баронов, внук декабриста, был арестован в Омске в июне 1941 г. и осуждён как враг народа на 5 лет лагерей. Он был отправлен в Сиблаг, освобождён в 1943 г., но следы его затерялись. Неизвестна судьба братьев Германа Андреевича, жены его, старой больной женщины, оставшейся после ареста в одиночестве. Сегодня в Таре есть улица Штейнгейля. В городском краеведческом музее хранится ваза или карандашница из горного хрусталя, принадлежавшая декабристу. А может быть сохранился дом, где он жил? Растут правнуки тех, кого он навещал и кому помогал?
В последние годы жизни Владимир Иванович Штейнгейль продолжал живо интересоваться политическими событиями, прежде всего, ходом подготовки крестьянской и других реформ. 5 марта 1859 г. ему было разрешено носить медаль в память Отечественной войны 1812 г., а немногим ранее 1 мая 1858 г. разрешено «производить ему пособие получаемое им в Сибири - 114 рублей 28 копеек в год». В газетах «Санкт-Петербургские ведомости», «Северная пчела», в журнале «Морской сборник» старый декабрист опубликовал серию статей о русских поселениях в Америке, о Российско-Американской компании, о начальнике над военными поселениями графе А.А. Аракчееве. Скончался В.И. Штейнгейль в Петербурге. На его похоронах были писатели и историки: Н.Х. Вессель, П.А. Лавров, И.И. Шишкин, Д.М. Хмыров, М.М. Семевский, В.Р. Зотов. Гроб несли на руках до конца Троицкого моста. Поравнявшись с Петропавловской крепостью, около места казни декабристов, Лавров и другие потребовали остановить процессию и «отслужить литию» (краткую панихиду), где готовились выступить с речами, и хотя сын Штейнгейля, инспектор Лицея полковник В.В. Штейнгейль, не допустил этого, в III отделение поступили агентурные сведения об этой «манифестации» и «манифестах», а шеф III отделения В.И. Долгоруков представил о сём «всеподданнейший доклад». Похоронен В.И. Штейнгейль был Большеохтинском кладбище, но могила его неизвестна.
Метки: декабристы |
Никита Кирсанов. "Декабрист Николай Лисовский". |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Декабрист Николай Лисовский".

Многие географические названия в низовьях Енисея сохранили имена первых промышленников, имевших здесь промыслы. Так Бреховские острова получили своё название от семьи Бреховых, промышлявших на островах в начале XVIII века. Насонов остров - от владельца зимовья Василия Насонова, Нифантьев Яр - от Тимофея Яковлевича Нифантьева. В XVIII веке в этих местах промышляли Селивановы, Грибановы, Ананьевы. Возможно, отсюда пошли названия - Грибанов мыс, зимовье Ананьинское.
Самым крупным селением в низовьях Енисея после Дудинки было старинное село Толстый Нос размещавшееся в 200 верстах от неё, на правом берегу реки, на мысу. В XIX веке селение Толстоносовское считалось последним селением Енисейской губернии. Севернее Толстого Носа енисейские торговцы практически не плавали, хотя крестьяне жили вплоть до Ледовитого океана. К концу 1880-х гг. в Толстоносовском селе насчитывалось шесть домов и проживало полсотни жителей.
В 1770 году стараниями архимандрита Туруханского Троицкого монастыря Амвросия в "урочище при Толстом Мысу по Енисею" была построена Введенская церковь. Церковь эта сгорела до основания в 1832 году. Через десять лет, в Толстом Носу была возведена новая деревянная церковь. В её ограде 7 января 1844 года нашёл свой последний приют, умерший при загадочных обстоятельствах декабрист Николай Фёдорович Лисовский.
Смерть декабриста овеяна многочисленными легендами. Одни полагают, что внезапная его кончина была связана с эпидемией оспы, свирепствовавшей в тот год, другие не исключают что он погиб от рук купцов-конкурентов.
Лисовскому и его товарищу декабристу Ивану Борисовичу Аврамову 24 октября 1830 года "высокопочтимо" было разрешено заниматься в Туруханском крае торговыми оборотами, ездить для покупки хлеба и других припасов в Енисейск. Они совершали поездки в самые отдалённые станки вплоть до Толстого Носа. В низовьях Енисея, собирая пушнину у ненцев и энцев, живо интересовались их укладом жизни...
На сегодняшний день, могила Лисовского, одна из немногочисленных достопримечательностей Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, ибо ни от церкви, ни от самого посёлка Толстый Нос не осталось и следа.
Будущий декабрист происходил из дворян Полтавской губернии. Он родился в мае 1802 года в семье коллежского регистратора Фёдора Лисовского (ск. 1820), имевшего в услужении "трёх душ мужеского пола". Мать - Екатерина Фёдоровна, унаследовала от мужа только маленький деревянный дом в Кременчуге и зарабатывала на жизнь рукоделием и шитьём. После осуждения старшего сына, проживала вдвоём с незамужней дочерью в весьма стеснённых условиях и просила о пособии (1.09.1826).
Воспитывался Николай Фёдорович в Кременчугском народном училище с 1811 по 1815 гг. До настоящего времени здание училища не сохранилось, оно было разрушено в годы Великой Отечественной войны.
20 марта 1815 года в Елизаветграде (ныне Кировоград) поступил на службу в Пензенский пехотный полк подпрапорщиком, куда спустя год поступил и его брат Аркадий. С 1 января 1816 г. - портупей-прапорщик. 30 января 1819 г. произведён в прапорщики, 23 апреля 1820 г. - в подпоручики, а 4 мая 1823 г. в поручики.
Летом 1825 года во время пребывания на Лещинском лагерном сборе 3-го пехотного корпуса 2-й армии в с. Млынщине (ныне село Житомирского района Житомирской области) был привлечён Петром Фёдоровичем Громницким в Общество соединённых славян.
"В июне 1825 года Громницкий открыл ему о существовании Славянского общества, не сказав цели оного. В лагере при Лещине был он на 1-м и 3-м совещаниях у Андреевича (Яков Максимович Андреевич, член Общества соединённых славян - Н.К.), где узнал, что цель общества есть введение республиканского правления посредством военной революции или возмущения от войска и что предположено начать действия в 1826 году при сборе корпуса, поднести государю конституцию для подписания и, в случае несогласия на оную, лишить жизни его величество. Бестужев-Рюмин (Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, один из руководителей Васильковской управы Южного общества - Н.К.) требовал при сем случае клятвы; все целовали образ, но Лисовский не сделал сего.
Впоследствии он раскаялся в своей опрометчивости, но не решился донести начальству об обществе, боясь участи, обещанной членами доносчику; однако, дабы сколь-нибудь удалиться от оного, старался о переводе в другой полк. Узнав от Борисова 1-го (Андрей Иванович Борисов, один из руководителей Общества соединённых славян - Н.К.) об открытии общества, решительно отказался от всякого действия и, хотя впоследствии на убеждения Борисова и обещал вместе с Громницким содействовать обществу с тем, однако, чтобы артиллерия до прихода их не трогалась с места, но ложно, с намерением обмануть Борисова, которого также с Громницким удержали от поездки с таковым же соглашением в Троицкий полк, отобрали от него письма к двум ротным командирам оного, сказав, что сами отправят их, и сожгли оные по выезде Борисова, твёрдо решившись ничего не предпринимать, что и исполнили. Из показаний других лиц видно, что Лисовский назначен был в число заговорщиков для покушения на жизнь государя императора, но не токмо без согласия его на то, но даже и без ведома, и что он удалился от общества и не делал ни малейшего противного службе внушения нижним чинам" ("Алфавит членов бывших злоумышленных тайных обществ и лиц, прикосновенных к делу".).
Как явствует из заключения Следственной комиссии по делу декабристов, участие Лисовского в деятельности тайного общества незначительно. Однако, нужно учитывать, что правитель дел следственной комиссии А.Д. Боровков, процитированный выше, делал свои заключения на основе "чистосердечных" показаний самих участников заговора. А они, как правило, разнились с реалиями. Николай Лисовский вполне осознанно вступал в общество, задачей которого было освобождение славян "из-под чужой власти", ликвидация монархического строя, примирение между славянскими народами и создание федеративного союза славянских республик с демократическим строем, каждая из которых имела право самостоятельно организовывать свою законодательную и исполнительную власть. В этот союз должны были входить русские, украинцы, белорусы, поляки, венгры (славяне в Венгрии), богемцы, хорваты, дальматинцы, сербы и моравцы. Социальная программа Общества соединённых славян предусматривала освобождение крестьян от крепостной зависимости, равенство всех граждан, уменьшение классовых различий и т.д.
Общество считало нужным подготовить к революционному выступлению все слои населения, а не только военных. Идеологическая основа и политическая программа Общества соединённых славян были сформулированы в присяге и катехизисе (всего 17 правил). В сентябре 1825 года после объединения посредством М.П. Бестужева-Рюмина с Южным обществом, славяне тем не менее, сохранили свою программу и отдельную управу и Николай Фёдорович Лисовский до самого ареста, последовавшего в январе 1826 года, был верен и своим товарищам по обществу и оставался приверженцем его программы.
Приказ об аресте Лисовского был отдан 26 января 1826 года. Его доставили из Житомира в Петербург на Главную гауптвахту 9 февраля и в тот же день перевели в № 32 Невской куртины Петропавловской крепости с предписанием: "посадить по усмотрению и содержать строго".
По суровому приговору Верховного уголовного суда, Лисовский был осуждён по VII разряду к лишению чинов и дворянства и ссылке в каторжную работу сроком на два года. Высочайшим указом от 22 августа 1826 г. "повелено оставить его в работе на один год, а потом обратить на поселение в Сибири". При назначении наказания, судьи почему-то не учли "отдаление" Лисовского от общества и его "расскаяние в опрометчивости". 7 февраля 1827 года Николай Фёдорович был отправлен из крепости в Сибирь. На случай возможного побега "государственного преступника", были составлены его приметы: рост 2 аршина 6 вершков, "лицо белое, продолговатое, глаза карие, нос небольшой, остр, волосы на голове и бровях светлорусые".
4 апреля 1827 года партия декабристов, в составе которой был Лисовский прибыла в Читинский острог. По окончании определённого срока наказания в апреле 1828 года Николай Фёдорович был обращён на поселение в город Туруханск Енисейской губернии, где ему и Ивану Борисовичу Аврамову, было "высочайше разрешено заниматься по всему краю торговыми оборотами и ездить для покупки хлеба и других припасов в Енисейск".
Поводом послужило отсутствие каких-либо средств к существованию и помощи от родственников из России. Состоятельные декабристы, правда, оказывали поддержку. Так в реестре наблюдений за поведением и образом жизни "государственных преступников" зафиксировано, что "9 марта 1830 года Лисовский получил от жены Нарышкина 75 рублей и посылки в двух ящиках, а 16 августа 1830 года поступило Аврамову от жены Волконского двести рублей, а Лисовскому 75 рублей и письмо".
В июле 1833 года Лисовский обвенчался с дочерью протоиерея, выпускника Тобольской духовной семинарии, настоятеля Преображенского собора в Туруханске Алексея Алексеевича Петрова (1788-1858) Платонидой Алексеевной. В этом браке у них родилось шестеро детей: Надежда (13 августа 1835 г.), Владимир (18 сентября 1836 г.), Алексей (6 февраля 1838 г.), Надежда (другая), Симеон и Аполлинарий. Последние трое умерли в младенчестве. Надежда в 1847 г. была зачислена в сиропитательное заведение Елизаветы Медведниковой в Иркутске, а Алексей в том же году стал воспитанником пансиона Иркутской губернской гимназии. Какова их дальнейшая судьба - неизвестно.
Платонида Алексеевна после смерти мужа переехала в Канск, где в то время её отец служил настоятелем Спасского собора. В марте 1847 г. она просила о пособии, а 10 ноября 1855 г. ей по её прошению был высочайше разрешён свободный проезд в Киев. Дальнейшая её судьба также неизвестна.
Любопытен документ, хранящийся в Красноярском краевом архиве. Это донос священника Туруханской церкви Андрея Орлова, касаемый женитьбы Лисовского: "Сего 1833 года июля 29 дня находившийся при здешней Преображенской церкви благочинный протоиерей отец Алексей Петров отдал родную дщерь свою Платониду за государственного преступника Николая Лисовского, имеет с ним явную и даже тайную в отношениях связь и неизъяснимое дружелюбие чего я по верности к августейшему монарху никак скрыть не осмелюсь..."
Несмотря на то, что Лисовскому и Аврамову была разрешена свободная торговля по всему Енисейскому округу и периодическую поддержку друзей-декабристов, их материальное положение оставляло желать лучшего. Аврамов также обзавёлся семьёй. В рапорте того же священника Орлова сказано: "Другой государственный преступник Иван Аврамов ... в доме своём держит в наложницах казачью дочь Феоктисту Даурскую, прижил с ней двух сыновей, наречённых протоиереем в святом крещении Сергеем и Александром".
Внезапная смерть Аврамова, вынудила и так обременённого большим семейством Лисовского, взять на попечение детей своего покойного друга. О всех этих сложностях и потере друга Николай Фёдорович сообщал брату Аврамова Андрею Борисовичу в ноябре 1840 года из Енисейска.
"Душевно сожалею, что письмо моё должно чувствительно вас огорчить; как мне ни горько и как не прискорбно, но должен объявит вам, что я оплакиваю невознаградимую потерю: любимый вами друг и ваш брат Иван Борисович приказал долго жить. Не смею утешать в этой потере, но сам плачу вместе с вами: вы потеряли брата, я схоронил с ним то, что несколько привязывало меня к жизни.
Мы были вместе на низу для промысла рыбы. 15 августа он должен был отправиться для сбыта нашего промысла в Енисейске, а мне нужно было оставаться дома. Не предчувствуя, что в последний раз видимся, мы обняли друг друга и расстались.
Отошедши с лишком 500 вёрст, он занемог. Началом его болезни был вред (фурункул - Н.К.), на правой стороне носа, от него сделалась опухоль (это было 14 октября), и затянуло совсем правый глаз, после этого он начал чувствовать озноб. 15 числа к вечеру опухоль распространилась на другую половину лица, он не мог уже видеть и левым глазом.
В этом положении он оставался до вечера. 16 числа мог ещё ходить, но жаловался на сильную боль в левом боку. Ночью ему сделалось хуже, около полуночи потерял употребление языка, владение членами и пробыл в таком положении несколько часов. 17 октября на станции Осиновская (вёрст 300 ниже Енисея), умер, оставя мне столько горя и хлопот. Потому что начальство, приняв всё, что было на судне, за собственность его одного, описало и взяло под сохранение.
Я теперь только узнал, как неосторожно мы поступили, что не составили акта, по которому бы имущество одного, должно принадлежать другому. Но вы знаете, Андрей Борисович, что в продолжение 13-летней жизни нашей в Туруханске ... всё, что мы имели, принадлежало как одному, так и другому.
Поэтому надеюсь на великодушие и доброту вашего сердца. Ради памяти любимого вами брата не лишайте семейства моего последнего куска хлеба, откажитесь от крох, добытых нами кровавым потом, и пришлите доверенность на выдачу мне всего конфискованного имущества. Всё, что у нас теперь находится, принадлежит людям, которые нам верили, - и даже недостанет, если ваша доверенность и бог не помогут новым рыбным оборотом поправить дела.
Теперь я должен открыть вам некоторые обстоятельства, касающиеся до прежней жизни покойного нашего друга. По излишней скромности своей он скрывал от вас, что имеет детей, а между прочим, он оставил на моё попечение двух человек, а третьего через несколько времени ожидаю. Женщина эта 12 лет была подругой его жизни, мальчик и девочка - оба мои крестники.
Если бы я имел хоть малое состояние, то поверьте, что вы никогда бы этого не узнали; но я обременён семейством, состоящим из девяти человек с женой и детьми Ивана Борисовича. Итак, позвольте надеяться, Андрей Борисович, что вы не откажете помочь мне в моём горе и не замедлите выслать просимую мною доверенность.
С глубочайшим почтением и совершенной преданностию имею честь быть, милостивый государь, вашим покорным слугой.
Николай Лисовский. Енисейск, 1840 год, ноябрь".
После смерти Аврамова, Лисовский ещё три года заботился о его жене и детях. Какова их дальнейшая судьба - неизвестно. Сам Николай Фёдорович получил место поверенного по питейным сборам у откупщика Н. Мясоедова и продолжал заниматься торговлей и рыбным промыслом вплоть до своей внезапной и загадочной кончины в посёлке Толстый Нос, последовавшей 6 января 1844 года...

Многие географические названия в низовьях Енисея сохранили имена первых промышленников, имевших здесь промыслы. Так Бреховские острова получили своё название от семьи Бреховых, промышлявших на островах в начале XVIII века. Насонов остров - от владельца зимовья Василия Насонова, Нифантьев Яр - от Тимофея Яковлевича Нифантьева. В XVIII веке в этих местах промышляли Селивановы, Грибановы, Ананьевы. Возможно, отсюда пошли названия - Грибанов мыс, зимовье Ананьинское.
Самым крупным селением в низовьях Енисея после Дудинки было старинное село Толстый Нос размещавшееся в 200 верстах от неё, на правом берегу реки, на мысу. В XIX веке селение Толстоносовское считалось последним селением Енисейской губернии. Севернее Толстого Носа енисейские торговцы практически не плавали, хотя крестьяне жили вплоть до Ледовитого океана. К концу 1880-х гг. в Толстоносовском селе насчитывалось шесть домов и проживало полсотни жителей.
В 1770 году стараниями архимандрита Туруханского Троицкого монастыря Амвросия в "урочище при Толстом Мысу по Енисею" была построена Введенская церковь. Церковь эта сгорела до основания в 1832 году. Через десять лет, в Толстом Носу была возведена новая деревянная церковь. В её ограде 7 января 1844 года нашёл свой последний приют, умерший при загадочных обстоятельствах декабрист Николай Фёдорович Лисовский.
Смерть декабриста овеяна многочисленными легендами. Одни полагают, что внезапная его кончина была связана с эпидемией оспы, свирепствовавшей в тот год, другие не исключают что он погиб от рук купцов-конкурентов.
Лисовскому и его товарищу декабристу Ивану Борисовичу Аврамову 24 октября 1830 года "высокопочтимо" было разрешено заниматься в Туруханском крае торговыми оборотами, ездить для покупки хлеба и других припасов в Енисейск. Они совершали поездки в самые отдалённые станки вплоть до Толстого Носа. В низовьях Енисея, собирая пушнину у ненцев и энцев, живо интересовались их укладом жизни...
На сегодняшний день, могила Лисовского, одна из немногочисленных достопримечательностей Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района, ибо ни от церкви, ни от самого посёлка Толстый Нос не осталось и следа.
Будущий декабрист происходил из дворян Полтавской губернии. Он родился в мае 1802 года в семье коллежского регистратора Фёдора Лисовского (ск. 1820), имевшего в услужении "трёх душ мужеского пола". Мать - Екатерина Фёдоровна, унаследовала от мужа только маленький деревянный дом в Кременчуге и зарабатывала на жизнь рукоделием и шитьём. После осуждения старшего сына, проживала вдвоём с незамужней дочерью в весьма стеснённых условиях и просила о пособии (1.09.1826).
Воспитывался Николай Фёдорович в Кременчугском народном училище с 1811 по 1815 гг. До настоящего времени здание училища не сохранилось, оно было разрушено в годы Великой Отечественной войны.
20 марта 1815 года в Елизаветграде (ныне Кировоград) поступил на службу в Пензенский пехотный полк подпрапорщиком, куда спустя год поступил и его брат Аркадий. С 1 января 1816 г. - портупей-прапорщик. 30 января 1819 г. произведён в прапорщики, 23 апреля 1820 г. - в подпоручики, а 4 мая 1823 г. в поручики.
Летом 1825 года во время пребывания на Лещинском лагерном сборе 3-го пехотного корпуса 2-й армии в с. Млынщине (ныне село Житомирского района Житомирской области) был привлечён Петром Фёдоровичем Громницким в Общество соединённых славян.
"В июне 1825 года Громницкий открыл ему о существовании Славянского общества, не сказав цели оного. В лагере при Лещине был он на 1-м и 3-м совещаниях у Андреевича (Яков Максимович Андреевич, член Общества соединённых славян - Н.К.), где узнал, что цель общества есть введение республиканского правления посредством военной революции или возмущения от войска и что предположено начать действия в 1826 году при сборе корпуса, поднести государю конституцию для подписания и, в случае несогласия на оную, лишить жизни его величество. Бестужев-Рюмин (Михаил Павлович Бестужев-Рюмин, один из руководителей Васильковской управы Южного общества - Н.К.) требовал при сем случае клятвы; все целовали образ, но Лисовский не сделал сего.
Впоследствии он раскаялся в своей опрометчивости, но не решился донести начальству об обществе, боясь участи, обещанной членами доносчику; однако, дабы сколь-нибудь удалиться от оного, старался о переводе в другой полк. Узнав от Борисова 1-го (Андрей Иванович Борисов, один из руководителей Общества соединённых славян - Н.К.) об открытии общества, решительно отказался от всякого действия и, хотя впоследствии на убеждения Борисова и обещал вместе с Громницким содействовать обществу с тем, однако, чтобы артиллерия до прихода их не трогалась с места, но ложно, с намерением обмануть Борисова, которого также с Громницким удержали от поездки с таковым же соглашением в Троицкий полк, отобрали от него письма к двум ротным командирам оного, сказав, что сами отправят их, и сожгли оные по выезде Борисова, твёрдо решившись ничего не предпринимать, что и исполнили. Из показаний других лиц видно, что Лисовский назначен был в число заговорщиков для покушения на жизнь государя императора, но не токмо без согласия его на то, но даже и без ведома, и что он удалился от общества и не делал ни малейшего противного службе внушения нижним чинам" ("Алфавит членов бывших злоумышленных тайных обществ и лиц, прикосновенных к делу".).
Как явствует из заключения Следственной комиссии по делу декабристов, участие Лисовского в деятельности тайного общества незначительно. Однако, нужно учитывать, что правитель дел следственной комиссии А.Д. Боровков, процитированный выше, делал свои заключения на основе "чистосердечных" показаний самих участников заговора. А они, как правило, разнились с реалиями. Николай Лисовский вполне осознанно вступал в общество, задачей которого было освобождение славян "из-под чужой власти", ликвидация монархического строя, примирение между славянскими народами и создание федеративного союза славянских республик с демократическим строем, каждая из которых имела право самостоятельно организовывать свою законодательную и исполнительную власть. В этот союз должны были входить русские, украинцы, белорусы, поляки, венгры (славяне в Венгрии), богемцы, хорваты, дальматинцы, сербы и моравцы. Социальная программа Общества соединённых славян предусматривала освобождение крестьян от крепостной зависимости, равенство всех граждан, уменьшение классовых различий и т.д.
Общество считало нужным подготовить к революционному выступлению все слои населения, а не только военных. Идеологическая основа и политическая программа Общества соединённых славян были сформулированы в присяге и катехизисе (всего 17 правил). В сентябре 1825 года после объединения посредством М.П. Бестужева-Рюмина с Южным обществом, славяне тем не менее, сохранили свою программу и отдельную управу и Николай Фёдорович Лисовский до самого ареста, последовавшего в январе 1826 года, был верен и своим товарищам по обществу и оставался приверженцем его программы.
Приказ об аресте Лисовского был отдан 26 января 1826 года. Его доставили из Житомира в Петербург на Главную гауптвахту 9 февраля и в тот же день перевели в № 32 Невской куртины Петропавловской крепости с предписанием: "посадить по усмотрению и содержать строго".
По суровому приговору Верховного уголовного суда, Лисовский был осуждён по VII разряду к лишению чинов и дворянства и ссылке в каторжную работу сроком на два года. Высочайшим указом от 22 августа 1826 г. "повелено оставить его в работе на один год, а потом обратить на поселение в Сибири". При назначении наказания, судьи почему-то не учли "отдаление" Лисовского от общества и его "расскаяние в опрометчивости". 7 февраля 1827 года Николай Фёдорович был отправлен из крепости в Сибирь. На случай возможного побега "государственного преступника", были составлены его приметы: рост 2 аршина 6 вершков, "лицо белое, продолговатое, глаза карие, нос небольшой, остр, волосы на голове и бровях светлорусые".
4 апреля 1827 года партия декабристов, в составе которой был Лисовский прибыла в Читинский острог. По окончании определённого срока наказания в апреле 1828 года Николай Фёдорович был обращён на поселение в город Туруханск Енисейской губернии, где ему и Ивану Борисовичу Аврамову, было "высочайше разрешено заниматься по всему краю торговыми оборотами и ездить для покупки хлеба и других припасов в Енисейск".
Поводом послужило отсутствие каких-либо средств к существованию и помощи от родственников из России. Состоятельные декабристы, правда, оказывали поддержку. Так в реестре наблюдений за поведением и образом жизни "государственных преступников" зафиксировано, что "9 марта 1830 года Лисовский получил от жены Нарышкина 75 рублей и посылки в двух ящиках, а 16 августа 1830 года поступило Аврамову от жены Волконского двести рублей, а Лисовскому 75 рублей и письмо".
В июле 1833 года Лисовский обвенчался с дочерью протоиерея, выпускника Тобольской духовной семинарии, настоятеля Преображенского собора в Туруханске Алексея Алексеевича Петрова (1788-1858) Платонидой Алексеевной. В этом браке у них родилось шестеро детей: Надежда (13 августа 1835 г.), Владимир (18 сентября 1836 г.), Алексей (6 февраля 1838 г.), Надежда (другая), Симеон и Аполлинарий. Последние трое умерли в младенчестве. Надежда в 1847 г. была зачислена в сиропитательное заведение Елизаветы Медведниковой в Иркутске, а Алексей в том же году стал воспитанником пансиона Иркутской губернской гимназии. Какова их дальнейшая судьба - неизвестно.
Платонида Алексеевна после смерти мужа переехала в Канск, где в то время её отец служил настоятелем Спасского собора. В марте 1847 г. она просила о пособии, а 10 ноября 1855 г. ей по её прошению был высочайше разрешён свободный проезд в Киев. Дальнейшая её судьба также неизвестна.
Любопытен документ, хранящийся в Красноярском краевом архиве. Это донос священника Туруханской церкви Андрея Орлова, касаемый женитьбы Лисовского: "Сего 1833 года июля 29 дня находившийся при здешней Преображенской церкви благочинный протоиерей отец Алексей Петров отдал родную дщерь свою Платониду за государственного преступника Николая Лисовского, имеет с ним явную и даже тайную в отношениях связь и неизъяснимое дружелюбие чего я по верности к августейшему монарху никак скрыть не осмелюсь..."
Несмотря на то, что Лисовскому и Аврамову была разрешена свободная торговля по всему Енисейскому округу и периодическую поддержку друзей-декабристов, их материальное положение оставляло желать лучшего. Аврамов также обзавёлся семьёй. В рапорте того же священника Орлова сказано: "Другой государственный преступник Иван Аврамов ... в доме своём держит в наложницах казачью дочь Феоктисту Даурскую, прижил с ней двух сыновей, наречённых протоиереем в святом крещении Сергеем и Александром".
Внезапная смерть Аврамова, вынудила и так обременённого большим семейством Лисовского, взять на попечение детей своего покойного друга. О всех этих сложностях и потере друга Николай Фёдорович сообщал брату Аврамова Андрею Борисовичу в ноябре 1840 года из Енисейска.
"Душевно сожалею, что письмо моё должно чувствительно вас огорчить; как мне ни горько и как не прискорбно, но должен объявит вам, что я оплакиваю невознаградимую потерю: любимый вами друг и ваш брат Иван Борисович приказал долго жить. Не смею утешать в этой потере, но сам плачу вместе с вами: вы потеряли брата, я схоронил с ним то, что несколько привязывало меня к жизни.
Мы были вместе на низу для промысла рыбы. 15 августа он должен был отправиться для сбыта нашего промысла в Енисейске, а мне нужно было оставаться дома. Не предчувствуя, что в последний раз видимся, мы обняли друг друга и расстались.
Отошедши с лишком 500 вёрст, он занемог. Началом его болезни был вред (фурункул - Н.К.), на правой стороне носа, от него сделалась опухоль (это было 14 октября), и затянуло совсем правый глаз, после этого он начал чувствовать озноб. 15 числа к вечеру опухоль распространилась на другую половину лица, он не мог уже видеть и левым глазом.
В этом положении он оставался до вечера. 16 числа мог ещё ходить, но жаловался на сильную боль в левом боку. Ночью ему сделалось хуже, около полуночи потерял употребление языка, владение членами и пробыл в таком положении несколько часов. 17 октября на станции Осиновская (вёрст 300 ниже Енисея), умер, оставя мне столько горя и хлопот. Потому что начальство, приняв всё, что было на судне, за собственность его одного, описало и взяло под сохранение.
Я теперь только узнал, как неосторожно мы поступили, что не составили акта, по которому бы имущество одного, должно принадлежать другому. Но вы знаете, Андрей Борисович, что в продолжение 13-летней жизни нашей в Туруханске ... всё, что мы имели, принадлежало как одному, так и другому.
Поэтому надеюсь на великодушие и доброту вашего сердца. Ради памяти любимого вами брата не лишайте семейства моего последнего куска хлеба, откажитесь от крох, добытых нами кровавым потом, и пришлите доверенность на выдачу мне всего конфискованного имущества. Всё, что у нас теперь находится, принадлежит людям, которые нам верили, - и даже недостанет, если ваша доверенность и бог не помогут новым рыбным оборотом поправить дела.
Теперь я должен открыть вам некоторые обстоятельства, касающиеся до прежней жизни покойного нашего друга. По излишней скромности своей он скрывал от вас, что имеет детей, а между прочим, он оставил на моё попечение двух человек, а третьего через несколько времени ожидаю. Женщина эта 12 лет была подругой его жизни, мальчик и девочка - оба мои крестники.
Если бы я имел хоть малое состояние, то поверьте, что вы никогда бы этого не узнали; но я обременён семейством, состоящим из девяти человек с женой и детьми Ивана Борисовича. Итак, позвольте надеяться, Андрей Борисович, что вы не откажете помочь мне в моём горе и не замедлите выслать просимую мною доверенность.
С глубочайшим почтением и совершенной преданностию имею честь быть, милостивый государь, вашим покорным слугой.
Николай Лисовский. Енисейск, 1840 год, ноябрь".
После смерти Аврамова, Лисовский ещё три года заботился о его жене и детях. Какова их дальнейшая судьба - неизвестно. Сам Николай Фёдорович получил место поверенного по питейным сборам у откупщика Н. Мясоедова и продолжал заниматься торговлей и рыбным промыслом вплоть до своей внезапной и загадочной кончины в посёлке Толстый Нос, последовавшей 6 января 1844 года...
Метки: декабристы |
Никита Кирсанов. "Декабрист Валериан Голицын" (часть 2). |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Декабрист Валериан Голицын" (часть 2).
Около трёх лет провёл Валериан в Киренске. В 1829 году последовала царская "милость" - он был зачислен рядовым в 42 егерский полк, а через полгода переведён в 9 Кавказский линейный батальон, который располагался в Астрахани. При назначении его на службу командирам Кавказского корпуса предписывалось от 17 ноября 1829 г. иметь за Голицыным "тайный и бдительный надзор". Командир батальона полковник Бланжиевский в своём рапорте от 21 января 1833 г. так описывал службу декабриста в Астрахани: "В батальоне за ним был учреждён тайный надзор, и ежедневно я имел в виду о всех занятиях его в отправлении службы и вне оной. Во время службы рядовой Голицын наравне с прочими нижними чинами в очередь на службу наряжали в караул, на главную гауптвахту, к провиантским бунтам, в таможню и в тюремный замок; стоял (он) на установленных постах очередные часы; дневальным по роте; на ротных и батальонных учениях со всеми вместе выводом был, все обязанности исполнял с ревнстью и усердием, вёл себя хорошо, свободу же имел, как и прочии чины, и ничего противного законам за ним я не замечал".
12 ноября 1832 года дежурный генерал военного министерства генерал-адъютант Клейнмихель сообщил астраханскому военному губернатору Пяткину, что "Государь император повелел осуждённого приговором Верховного уголовного суда Валериана Голицына" выслать из Астрахани в Грузию, отправить его в Тифлис "со всеми о нём сведениями к командиру отдельного Кавказского корпуса". Бумагу эту губернатор получил 27 ноября и на другой день сделал распоряжение "не мало не медля исполнить оное поручение". Но николаевская бюрократическая машина часто сама попадала в ловушки, изобретённые ею для других. Когда командир Голицына обратился к коменданту Ребиндеру с просьбой выписать подорожную для отправления Голицына и обеспечить прогонными деньгами его конвой, то комендант заявил, что нижним чинам прогоны не выдаются, и пускай Голицына отправят "по средствам внутренней стражи, предписав им иметь за ним в пути ближайший надзор". Бланжиевский в ответ на такое предписание рапортовал, что "будучи по преступлению своему важным, он не подлежит в разряд обыкновенных арестантов, пересылаемых посредством внутренней стражи". Только "важность" преступника убедила Ребиндера "в необходимости отправления его под надзором благонадёжного унтер-офицера". Лишь 10 декабря были доставлены прогоны. В это время Голицын простудился и заболел. "Освидетельствовав" его вместе с ротным командиром, полковник Бланжиевский из чувства сострадания к больному, чтобы не подвергать его здоровье опасности при столь дальней дороге и к тому же зимой, оставил Голицына впредь до выздоровления в местном околотке, где лечил его доктор Суворов.
О такой "поблажке" государственному преступнику узнал губернатор. Считая подобный поступок ослушанием царского повеления и сделав за это командиру батальона строгий выговор, он предписал ему 16 декабря "с получением сего, без малейшего отлагательства времени отправить сего рядового к месту служения, донеся в то же время мне о часе его выбытия для представления нынешнею почтою военному министру гр. Александру Ивановичу Чернышёву". Пришлось выполнять столь строгое распоряжение и на следующий же день в 8 часов утра отправить преступника "в том же болезненном состоянии" под конвоем унтер-офицера Ростова.
Конечно, весть о задержании Голицына в Астрахани достигла Петербурга. Военный министр писал генералу Пяткину: "до сведения государя императора дошло" не только то, "что рядовой Голицын, после объявления ему высочайшей воли, оставался давнее время в Астрахани и пользовался свободою", но ещё "и сделал значительный долг, простирающийся до 2 тысяч рублей". Граф не постеснялся добавить собственноручно: "сверх 3000, прежде сего им издержанных".
Теперь, естественно, мчатся фельдъегеря с одного конца страны на другой с перепиской относительно долгов Голицына. От батальонного командира опять требуют объяснений "по какой причине отправлен он не тотчас, у кого именно и сколько занял денег и какое из них сделал он употребление?"
Все обвинения оказались ложными, ни на чём не основанными. Подтвердив причину задержки перепиской с комендантом и медицинским актом, бывший командир Голицына донёс губернатору, что "во время службы денежных долгов (он) не делал. По разведывании, у купцов и маклеров не занимал, не делал никаких расходов, потому что не имел из чего; по векселям частным распискам и на верное слово ни у кого не занимал и, наконец, по служении его в батальоне жалоб и претензий ни на малейшую сумму и ни по каким случаям, как словесным, так и письменным - (я) не получал". Эти сведения подтвердило также губернское правление.
Вся переписка (на 26 листах) была отослана в столицу. Видимо, она вполне удовлетворила военного министра, так как больше распоряжений в Астрахань не поступало. А больной Голицын, не подозревая о том, что задал столько работы канцелярии, ехал в сопровождении унтер-офицера в пехотный графа Паскевича полк.
В середине января 1833 года декабрист прибыл в урочище Царские Колодцы, где располагался полк. Царские Колодцы, находившиеся в 120 верстах от Тифлиса, представляли собой солдатскую слободу, вытянувшуюся вёрст на шесть. В слободе находилось несколько каменных домов, до ближайшего грузинского селения было 20 вёрст.
В этом заброшенном уголке Грузии Голицын совершенно неожиданно для себя встретил своего знакомого по Петербургу, декабриста с причудливой и печальной судьбой - А.О. Корниловича. Александр Осипович Корнилович занимался литературой, в то же время это единственный среди декабристов специалист-историк, черпавший свои исторические сведения в государственных архивах. Статьи Корниловича на исторические темы свидетельствуют о его разносторонних интересах. Его перу принадлежит ряд работ по истории России XVII века, но больше всего Корниловича привлекала эпоха Петра I. Ряд очерков, помещённых в журналах и в "Полярной звезде", издававшейся Рылеевым и Александром Бестужевым, завершился изданием А.О. Корниловичем альманаха "Русская старина" (1824 г.) с посвящением памяти Петру I. В этом сборнике помещены четыре статьи Корниловича о быте петровского времени, об ассамблеях и о личности Петра I. Сочинения Корниловича о Петре I были использованы А.С. Пушкиным при написании романа "Арап Петра Великого". Пушкин использовал и другие работы Корниловича при создании своих произведений, в частности, переводы Корниловичем сочинений голландца Стрюйса о восстании Разина, "Жизнеописание Мазепы" при написании "Полтавы".
Членом тайного общества Корнилович стал в 1825 году, но принимал в нём довольно активное участие. Верховный уголовный суд приговорил его к лишению дворянства и 12 годам каторги. После срок был сокращён до 8 лет. В марте 1827 года Корнилович был уже в Читинском остроге.
Однако в Сибири он был недолго. Менее чем через год фельдъегерь, привезший декабриста Вадковского, забрал с собой Корниловича в столицу. Причиной быстрого возвращения из Сибири был донос Фаддея Булгарина в III отделение, в котором он писал о своих подозрениях относительно связи декабристов с австрийским правительством. Это могло казаться правдоподобным, тем более что князь С.П. Трубецкой был женат на графине Лаваль, сестра которой была замужем за австрийским послом в Петербурге графом Лебцельтерном. По словам Булгарина, секретарь посольства Гуммлауэр подружился с Корниловичем. Последнего Булгарин рисовал как ветренного и болтливого молодого человека, через которого австрийский посол и его секретарь выведывали сведения о разных лицах. Доносу Булгарина был дан ход. Таким образом, Корнилович опять оказался в Петербурге. 15 февраля 1828 года он был доставлен в Петропавловскую крепость. Он дал подробные письменные показания о встрече с австрийским послом и его секретарём, сношения с которыми ограничивались светскими встречами и невинными разговорами. Объяснение Корниловича, написанное в крепости, по-видимому, показалось убедительным для Николая I.
Неделю спустя Корнилович написал свою первую записку, в которой предлагал поручить ему составить историю России, начиная с эпохи Петра I, с выяснением различных проектов, выдвинутых в своё время, но затем забытых, осуществление которых могло бы быть полезно в будущем.
В апреле того же года он представил вторую записку с проектами мер для повышения нравственности в семейной жизни крестьян, в том числе об учреждении приходских училищ. Николай I распорядился "дозволить ему писать что хочет" и вместе с тем поручил ему описать, "каким образом обходятся с каторжниками в Чите". Корнилович в своей новой записке подробно и правдиво описал положение декабристов на каторге. Эту записку читал Николай I, и, на основании её, разрешено было снимать кандалы с декабристов, "кто этого своей кроткостью заслуживает".
Затем Корнилович представил одну за другой записки о положении в польских губерниях, о мерах к развитию русской торговли в Азии, об улучшении положения сельских священников, о русско-персидских делах. Всего за время заключения в крепости декабрист написал 23 различные записки. Бенкендорф распорядился присылать ему газеты, некоторые журналы и книги. Корнилович, очевидно, надеялся, что его проекты помогут его освобождению. Он просил о разрешении участвовать в походе против турок, но просьба успеха не имела. Ему разрешили писать матери, сёстрам, брату.
В крепости он написал повесть из эпохи Петра I "Андрей Безыменный". Об этом Бенкендорф доложил Николаю I, в результате чего повесть была напечатана отдельной книжкой в типографии III отделения и вышла в свет без имени автора и ограниченном количестве экземпляров. В крепости Корнилович занимался переводами Тита Ливия и Тацита.
Заключение Корниловича в крепости, по его словам, было значительно более тяжёлым, чем сибирская каторга. Оно продолжалось четыре с половиной года. В ноябре 1832 года он был отправлен на Кавказ, будучи назначен рядовым в пехотный графа Паскевича-Эриванского полк, стоявший в Царских Колодцах. Корнилович ехал на Кавказ, полный надежд и литературных планов, но очень скоро он писал брату в письме: "Ну уж сторонка, в которую судьба меня забросила. Подлинно Южная Сибирь! и климат, и жители - одно к одному. Думаю даже, что жизнь в Сибири гораздо предпочтительнее". Солдатская лямка везде была тяжела. Постепенно крепло убеждение, что из этого состояния можно вырваться только ценой крови, только в бою можно было получить офицерское звание и отставку.
Корнилович искренне обрадовался прибытию Валериана Голицына. Уже в январе 1834 года Корнилович писал в письме к матери: "На счастье моё, встретил здесь своего товарища по несчастию Голицына (кн. В.М.), с которым вместе живу. Таким способом в компании с ним время веселее провожу, и дешевле стоит жизнь. В настоящее время живу в тесноте, в крестьянской избе, где двум с трудом можно повернуться. Но это ненадолго, скоро переедем в другое помещение, где нам будет просторнее". Такой же радостью полно и письмо к старшему брату Михаилу, написанное в мае: "Я, любезный мой, совершенно праздную, от утра до вечера на боку, читаю старые журналы, за недостатком новых. К счастью, нашёл здесь товарища в несчастии Голицына, пострадавшего вместе со мною по одному делу, хорошего, умного человека, с которым вместе тянем горе. Без него я совершенно бы зачерствел".
Корнилович и Голицын в какой-то мере были интеллектуальным центром в Царских Колодцах. Они превосходили окружающих по уму и образованию, поэтому большинство офицеров старались поддерживать с ними знакомство. Дом, в котором жили эти "нижние чины", стал своеобразным клубом - всегда кто-то приходил побеседовать. Частые посещения становились даже в тягость, особенно Корниловичу, который вообще был менее общительным, и его замкнутость ещё больше усилилась в крепости. К тому же частые посетители не давали работать. Сначала друзья жили вместе, но потом Голицын купил себе избу, тем самым несколько улучшил бытовые условия и свои и Корниловича. Встречались они по-прежнему каждый день. Корнилович и ещё несколько опальных офицеров (Хвостов, Райко) составили тот круг близких друзей, в среде которых проходили грустные дни нелёгкой солдатской службы на Кавказе.
В этой отупляющей однообразной жизни, где каждый день похож на предыдущий, так же как и годы сливались в вереницу одинаковых дней, иногда являлась нечаянная радость, когда появлялся какой-нибудь старый товарищ, подобно тому, как в один из весенних дней 1834 года в солдатской слободке неожиданно оказался декабрист и писатель Александр Бестужев-Марлинский. Друзья не знали, куда усадить желанного гостя, чем угостить, а, главное, говорили день и ночь напролёт, слушали друг друга и не могли наслушаться. Но такие события случались крайне редко. Чаще всего серые будни солдатской службы, тревоги, разговоры о предстоящих экспедициях в Персию или против горцев. Хотя часто эти экспедиции кончались смертью от пули горца, как это случилось через три года с Бестужевым-Марлинским или смертью от малярии, которая через пять лет погубила поэта Александра Одоевского, военных действий желали, их ждали, так как это была единственная возможность освободиться от солдатской шинели, а затем и вообще получить свободу.
1 августа 1834 года полк, в котором служили Корнилович и Голицын, отправился в поход в Дагестан. Путь до города Кубы друзья проделали вместе, а затем Корнилович получил приказ, что он поступает в распоряжение генерала Ланского. 25 августа Корнилович заболел лихорадкой, которая быстро прогрессировала. 29 августа ему стало совсем плохо. Голицын всё это время находился возле больного друга. Позже в письме к брату Корниловича, Михаилу, Валериан писал: "Видя, что болезнь усиливается, я пригласил ещё другого лекаря... Я находился при нём до 9 часов, он находился без памяти...", в 11 часов Корниловича не стало. "...30 числа, отпев его по обряду греко-российскому", совершили погребение "не блистательно, но торжественно". Могила его "по правую сторону дороги, ведущей из Дербента в Торки и на самом берегу Самура..."
Далее Голицын пишет: "Я хотел, чтобы место могилы Александра Осиповича не было утрачено, и велел насыпать груду камней и поставить деревянный крест. На возвратном пути я опять нашёл его в целости, но так как наш скромный памятник стоит на большой дороге, на поле, где жители сеют хлеб, то плуг ского сравняет это место. Зная расположение полковника Ховена к вам и покойному, я просил его поставить какой-нибудь камень с надписью". После смерти Корниловича вещи и бумаги его остались у Голицына.
Смерть друга потрясла Валериана. Ему хотелось сохранить память о своём товарище, перенеся любовь к нему на его близких. Он обращается к М.О. Без-Корниловичу: "Начатое по столь горестной причине знакомство, я надеюсь, продолжится в более приятных обстоятельствах, по крайней мере, это моё искреннее желание, ибо я очень любил вашего братца и не могу оставаться равнодушным к тем, кого он любил и которые его любят, а поэтому прошу Вас принять в число ваших знакомых и Валериана Голицына".
А тем временем "по воле его величества" декабрист вновь переводится в новый для него Кабардинский егерский полк, принимавший активное участие в войне с горцами. В 1835 году Валериан Михайлович участвует в экспедиции за Кубань.
В Кабардинском полку служило много декабристов. С 1829 по 1836 год в нём служил Н.П. Окулов, а с 1837 по 1843 год - М.А. Назимов, вместе с последним туда же прибыл А.И. Вегелин. К сожалению, мы ничего не знаем о взаимоотношениях Валериана с этими декабристами. Даже неизвестно, были ли знакомы Окулов и Голицын, хотя это не исключено.
Отношение многих офицеров к Голицыну было гуманным. Декабрист впоследствии с благодарностью вспоминал генерала Николая Николаевича Раевского, сына героя войны 1812 года. Несмотря на разницу в чине, он обращался с Валерианом Михайловичем по-дружески, приглашал к себе обедать и проводить вечера.
Современники отмечали, что Голицын несмотря на свой ум, очень дорожил своим аристократическим происхождением, и ему было приятно, когда его называли князем. Декабрист Н.И. Лорер, встречавшийся с Голицыным в конце 1850-х годов, писал: "В князе Валериане Михайловиче было много странного, и при всём его либерализме, он был аристократ до мозга костей".
Аристократизм Голицына принял такие болезненные формы, очевидно, под влиянием ссылки и службы на Кавказе. Своей солдатской шинелью он явно тяготился. В 1835 году он был произведён в унтер-офицеры (4.06.1835), а через два года получил звание прапорщика (31.05.1837). Голицын не мог скрыть удовольствия, что снова может одеть тонкий сюртук вместо толстой шинели.
Летом 1835 года Голицын впервые посетил Пятигорск, а впоследствии некоторое время жил в Ставрополе, возле которого располагался Кабардинский егерский полк. Здесь он, ещё будучи унтер-офицером, посещал вместе с декабристом С.И. Кривцовым дом Н.М. Сатина и Н.В. Майера. Сатин во время учёбы в Московском университете близко сошёлся с Герценом и Огарёвым, стал участником их студенческого кружка. В 1835 году он вместе с ними был арестован и сослан в Симбирскую губернию, а через два года по болезни переведён на Кавказ, где познакомился со многими декабристами. Он следующим образом характеризовал Валериана Михайловича: "замечательно умный человек". Споры с ним были самые интересные: мы горячились, а он, хладнокровно улыбаясь, смело и умно защищал свои софизмы и большею частию, не убеждая других, оставался победителем".
Один из постоянных посетителей квартиры Майера офицер Генерального штаба Г.И. Филипсон вспоминал потом об этом времени: "Через Майера и у него я познакомился со многими декабристами, которые по разрядам присылались из Сибири в войско Кавказского корпуса. Из них князь Валериан Михайлович Голицын жил в одном доме с Майером и был нашим постоянным собеседником. Это был человек замечательного ума и образования. Аристократ до мозга костей, он был бы либеральным вельможей, если бы судьба не забросила его в сибирские рудники. Казалось бы, у него не могло быть резких противоречий с политическими и религиозными убеждениями Майера, но это было напротив, оба одинаково любили парадоксы и одинаково горячо их отстаивали. Спорам не было конца, и иногда утренняя заря заставала нас за нерешёнными вопросами".
Майер - это доктор Вернер из "Героя нашего времени". Портретное сходство полное. Оно прослеживается по линии и внешнего и внутреннего сходства, вплоть до мелочей. Майер был настолько своеобразен, ярок и привлекателен, что многие его черты Лермонтов перенёс нетронутыми в роман.
В Ставрополе Лермонтов очутился в декабре 1837 года, когда возвращался из первой своей кавказской ссылки. Он сразу оказался в атмосфере оживлённых споров на квартире у Майера и Сатина. Ставропольские встречи и разговоры нашли своё отражение в романе "Герой нашего времени". В дневнике Печорина можно прочитать: "Я встретил Вернера в С. среди многочисленного и шумного круга молодёжи; разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление; толковали об убеждениях: каждый был убеждён в разных разностях". Это очень перекликается с рассказами Сатина и Филипсона.
Лермонтов с Майером и Голицыным был знаком раньше. С последним он познакомился летом 1837 года в Пятигорске, где Голицын был в отпуске и лечился на водах. В книге ванных билетов от 24 мая 1837 года записано: "выдано 10 билетов унтер-офицеру Валериану Голицыну". Когда Лермонтов проездом в Петербург задержался в Ставрополе, он, вероятно, встретил в кружке декабристов и своего знакомого - В.М. Голицына.
М.Ю. Лермонтов, был знаком и с младшим братом Валериана - Леонидом, который когда-то служил в лейб-гвардии Гусарском полку. На одном из листов альбома рисунков Лермонтова есть записи, сделанные его рукой, очевидно, адреса знакомых: "Аквердова - на Кирочной, графиня Завадовская, Леонид Голицын в доме Ростовцева".
В дневнике у В.А. Жуковского есть запись, свидетельствующая о встрече Лермонтова и Леонида Голицына: "5 ноября 1839, воскресенье. Обедал у Смирновой. Поутру у Дашкова. Вечер у Карамзиных. Князь и княгиня Голицыны и Лермонтов". Женой Л.М. Голицына была внучка М.И. Кутузова - Анна Матвеевна Толстая.
Жизнь в Сибири, служба на Кавказе подорвали здоровье Валериана Михайловича. 22 июля 1838 года он был уволен с военной службы и должен был отправиться в Астрахань, но 17 сентября этого же года ему было разрешено служить по гражданскому ведомству на Кавказе. Голицыну удалось остаться в ставшем для него родным Ставрополе, он был зачислен в штат "Общего Кавказского областного управления". Но на "статской службе" был он недолго: кавказский климат не действовал на него благотворно, и в 1839 году Голицына уволили со службы по болезни.
После 14 лет ссылки и службы опять на свободе. Хотя это скорее была какая-то "полусвобода", так как за ней стояли "голубые мундиры". Хотелось скорее уехать с Кавказа. В это время произошла встреча его с Лорером, который запечатлел этот момент в следующих строках: "Мрачный ноябрь месяц наступил, и я почти безвыходно сижу в своей лачужке. Однажды утром слышу знакомый голос, осведомляющийся обо мне, и через несколько минут обнимаю моего дорогого товарища князя Валериана Михайловича Голицына, который наконец получил отставку и едет, счастливец, к матери и братьям. Как истый москвич, после первых дружеских объятий, он потребовал чайку. Я послал сказать Ромбергу, что буду у него обедать с товарищем, угостил покуда приятеля чаем из самовара, а он мне успел передать все затруднения, которые ему делали при получении отставки. И меня, стало быть, ждёт подобная же участь! Заботою Голицына в настоящее время было - как бы переправить в Керчь свою карету. Я взялся похлопотать об этом и, пригласив к себе Дорошенку, просил его помощи и содействия. Он обещал достать большую шаланду, но требовал терпения и согласия князя выждать более благоприятной погоды. Волею и неволею надо было согласиться, но ненадолго: ибо на другой же день всё было исполнено, и карету до Тамани перевезли на волах, а там поставили на большую лодку с 6-ю человеками гребцов. На берегу я простился с этим милым человеком и весело возвратился к себе в лачужку, радуясь, что и ещё один из наших свободен и после 17 лет несчастной ссылки возвращается на родину".
Местом жительства Голицыну был назначен Орёл. Царь не мог, конечно, оставить своего "друга" без внимания. За Голицыным был установлен секретный надзор. Только через год ему разрешили на лето поехать в местечко Хиславичи Могилёвской губернии, где находилось имение сестры графини Екатерины Михайловны Салтыковой (29.09.1808-9.12.1882).
Валериану Михайловичу не разрешили даже ездить в Москву, где жила мать. Наталья Ивановна очень любила своего сына. Когда он был в Сибири, она почти каждый день писала ему письма, а после перевода сына на Кавказ - каждый год ездила в Астрахань или Пятигорск, чтобы провести с ним несколько недель.
Когда княгиня Голицына ездила к сыну на Кавказ, она брала с собой двоюродную племянницу, княжну Дарью Андреевну Ухтомскую (19.03.1824-24.12.1871), которую воспитывала у себя как родную дочь, и даже любила её больше родной дочери. Княжна Долли, как звала её тётка, не была красавицей, но её весёлость и обаяние производили очень приятное впечатление. Валериан влюбился в молодую княжну, но старая княгиня была против этого брака сына. Княжна Ухтомская, верная своей любви к ссыльному, отказывала всем женихам. Только через год после смерти матери он получил разрешение приехать в Москву, чтобы 23 января 1843 года обвенчаться с княжной Долли.
Валериану Михайловичу было уже без малого сорок лет. Тотчас после свадьбы молодые поселились в имении при селе Архангельское-Хованщина Епифановского уезда Тульской губернии, где прожили десять лет и где родились их дети: Леонилла (р. 28.12.1844), впоследствии бывшая замужем за Иваном Александровичем Сипягиным и Мстислав (28.10.1847-26.03.1902), к которому как к внучатому племяннику (21.05.1863) перешёл майорат с добавлением титула графа Остермана-Толстого. Мстислав Валерианович был женат (с 30.06.1869) на Амалии Ивановне Лоренц (р. 25.10.1851). Скончался и был похоронен в селе Красное Рязанской губернии.
Живя в Архангельском-Хованщине, В.М. Голицын очень сблизился с жившим в 15 км Иваном Артемьевичем Раевским. Жена последнего, Е.И. Раевская, так описала внешний облик декабриста: "Валериан Голицын был среднего роста, хорошо сложен. Лицо его было смуглое, нос орлиный, волосы чёрные, как смоль, бороду брил, усы носил немного подстриженными. Большие его чёрные глаза (как тогда говорили "бибиковские") глядели прямо и строго, но любовь его к семье смягчала иногда до нежности эту обычную строгость. В молодости он, вероятно, был очень хорош собой... Характера он был прямого, правдивого, высказывал своё мнение без утайки. На его дружбу можно было положиться".
В деревне Валериана Михайловича посещали образованные мыслящие люди, проживавшие в окрестностях и близкие ему по взглядам. Здесь их ждала богатая библиотека, почти все отечественные и иностранные газеты и журналы, которые можно было получить в России, и, конечно, умный, несколько парадоксальный собеседник.
Е.И. Раевская рассказывает, что собиравшиеся у Голицына обсуждали и вопросы об отмене крепостного права. Само собой разумеется, что проекты, которые обсуждались, предусматривали отмену крепостного права сверху и в интересах помещиков, но в николаевское время даже разговоры о "крестьянском деле" допускались только в специальных секретных комитетах.
В 1853 году Голицыну разрешено было проживать в Москве, но под строгим надзором, от которого он был освобождён лишь в марте 1856 года, а в августе ему и детям был возвращён княжеский титул с освобождением от всех ограничений.
В.М. Голицын всегда любил Россию. Во время Крымской войны декабрист очень остро переживал неудачи русской армии. Он хотел даже предложить помещикам сформировать за свой счёт батальоны.
После амнистии многие декабристы поселились в Москве или в ближайших губерниях. В первопрестольной Голицын встресался с А.П. Беляевым, Н.И. Лорером, П.С. Бобрищевым-Пушкиным, Н.В. Басаргиным, М.И. Муравьёвым-Апостолом. Недалеко от Архангельского поселился в усадьбе Высокое М.М. Нарышкин, приезжавший часто к Валериану Михайловичу. В Калуге Голицын посещал Е.П. Оболенского, с которым у него было много общего во взглядах.
Валериан Михайлович был разумным хозяином, свои дела вёл аккуратно, жил по средствам. После смерти своего дяди бездетного графа А.И. Остермана-Толстого в 1857 г. В.М. Голицын по завещанию получил огромное наследство. Ему досталось до 70 тысяч десятин земли в разных губерниях, но везде царил страшный беспорядок, дела были запутаны, так как герой 1812 года жил постоянно за границей, а имения находились в полном распоряжении управляющих. До 1857 года имениями А.И. Остермана-Толстого сначала управлял Александр Голицын, а затем Леонид Голицын, которому Остерман-Толстой передал имения, не входившие в майорат, в том числе подмосковную усадьбу Ильинское. Однако, Л.М. Голицын, оказался неважным управляющим.
Валериан Михайлович стал вникать во все дела, пытаясь наладить их. Он предпринял в 1859 году поездки по своим поместьям, но в имении Матоксе Шлиссельбургского уезда (ныне деревня в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области) неожиданно заболел холерой. В.М. Голицын успел только написать письмо Я.И. Ростовцеву, с которым был в дружеских отношениях. Он просил Ростовцева оказать поддержку семье. Валериан Голицын, любимый женою и детьми, всегда окружённый друзьями, умер 8 октября 1859 года, в глуши среди болот, в присутствии слуги. Похоронили его в Москве в родовом склепе на кладбище Данилова монастыря, однако, в советское время кладбище было упразднено и могила декабриста оказалась утраченной...
Около трёх лет провёл Валериан в Киренске. В 1829 году последовала царская "милость" - он был зачислен рядовым в 42 егерский полк, а через полгода переведён в 9 Кавказский линейный батальон, который располагался в Астрахани. При назначении его на службу командирам Кавказского корпуса предписывалось от 17 ноября 1829 г. иметь за Голицыным "тайный и бдительный надзор". Командир батальона полковник Бланжиевский в своём рапорте от 21 января 1833 г. так описывал службу декабриста в Астрахани: "В батальоне за ним был учреждён тайный надзор, и ежедневно я имел в виду о всех занятиях его в отправлении службы и вне оной. Во время службы рядовой Голицын наравне с прочими нижними чинами в очередь на службу наряжали в караул, на главную гауптвахту, к провиантским бунтам, в таможню и в тюремный замок; стоял (он) на установленных постах очередные часы; дневальным по роте; на ротных и батальонных учениях со всеми вместе выводом был, все обязанности исполнял с ревнстью и усердием, вёл себя хорошо, свободу же имел, как и прочии чины, и ничего противного законам за ним я не замечал".
12 ноября 1832 года дежурный генерал военного министерства генерал-адъютант Клейнмихель сообщил астраханскому военному губернатору Пяткину, что "Государь император повелел осуждённого приговором Верховного уголовного суда Валериана Голицына" выслать из Астрахани в Грузию, отправить его в Тифлис "со всеми о нём сведениями к командиру отдельного Кавказского корпуса". Бумагу эту губернатор получил 27 ноября и на другой день сделал распоряжение "не мало не медля исполнить оное поручение". Но николаевская бюрократическая машина часто сама попадала в ловушки, изобретённые ею для других. Когда командир Голицына обратился к коменданту Ребиндеру с просьбой выписать подорожную для отправления Голицына и обеспечить прогонными деньгами его конвой, то комендант заявил, что нижним чинам прогоны не выдаются, и пускай Голицына отправят "по средствам внутренней стражи, предписав им иметь за ним в пути ближайший надзор". Бланжиевский в ответ на такое предписание рапортовал, что "будучи по преступлению своему важным, он не подлежит в разряд обыкновенных арестантов, пересылаемых посредством внутренней стражи". Только "важность" преступника убедила Ребиндера "в необходимости отправления его под надзором благонадёжного унтер-офицера". Лишь 10 декабря были доставлены прогоны. В это время Голицын простудился и заболел. "Освидетельствовав" его вместе с ротным командиром, полковник Бланжиевский из чувства сострадания к больному, чтобы не подвергать его здоровье опасности при столь дальней дороге и к тому же зимой, оставил Голицына впредь до выздоровления в местном околотке, где лечил его доктор Суворов.
О такой "поблажке" государственному преступнику узнал губернатор. Считая подобный поступок ослушанием царского повеления и сделав за это командиру батальона строгий выговор, он предписал ему 16 декабря "с получением сего, без малейшего отлагательства времени отправить сего рядового к месту служения, донеся в то же время мне о часе его выбытия для представления нынешнею почтою военному министру гр. Александру Ивановичу Чернышёву". Пришлось выполнять столь строгое распоряжение и на следующий же день в 8 часов утра отправить преступника "в том же болезненном состоянии" под конвоем унтер-офицера Ростова.
Конечно, весть о задержании Голицына в Астрахани достигла Петербурга. Военный министр писал генералу Пяткину: "до сведения государя императора дошло" не только то, "что рядовой Голицын, после объявления ему высочайшей воли, оставался давнее время в Астрахани и пользовался свободою", но ещё "и сделал значительный долг, простирающийся до 2 тысяч рублей". Граф не постеснялся добавить собственноручно: "сверх 3000, прежде сего им издержанных".
Теперь, естественно, мчатся фельдъегеря с одного конца страны на другой с перепиской относительно долгов Голицына. От батальонного командира опять требуют объяснений "по какой причине отправлен он не тотчас, у кого именно и сколько занял денег и какое из них сделал он употребление?"
Все обвинения оказались ложными, ни на чём не основанными. Подтвердив причину задержки перепиской с комендантом и медицинским актом, бывший командир Голицына донёс губернатору, что "во время службы денежных долгов (он) не делал. По разведывании, у купцов и маклеров не занимал, не делал никаких расходов, потому что не имел из чего; по векселям частным распискам и на верное слово ни у кого не занимал и, наконец, по служении его в батальоне жалоб и претензий ни на малейшую сумму и ни по каким случаям, как словесным, так и письменным - (я) не получал". Эти сведения подтвердило также губернское правление.
Вся переписка (на 26 листах) была отослана в столицу. Видимо, она вполне удовлетворила военного министра, так как больше распоряжений в Астрахань не поступало. А больной Голицын, не подозревая о том, что задал столько работы канцелярии, ехал в сопровождении унтер-офицера в пехотный графа Паскевича полк.
В середине января 1833 года декабрист прибыл в урочище Царские Колодцы, где располагался полк. Царские Колодцы, находившиеся в 120 верстах от Тифлиса, представляли собой солдатскую слободу, вытянувшуюся вёрст на шесть. В слободе находилось несколько каменных домов, до ближайшего грузинского селения было 20 вёрст.
В этом заброшенном уголке Грузии Голицын совершенно неожиданно для себя встретил своего знакомого по Петербургу, декабриста с причудливой и печальной судьбой - А.О. Корниловича. Александр Осипович Корнилович занимался литературой, в то же время это единственный среди декабристов специалист-историк, черпавший свои исторические сведения в государственных архивах. Статьи Корниловича на исторические темы свидетельствуют о его разносторонних интересах. Его перу принадлежит ряд работ по истории России XVII века, но больше всего Корниловича привлекала эпоха Петра I. Ряд очерков, помещённых в журналах и в "Полярной звезде", издававшейся Рылеевым и Александром Бестужевым, завершился изданием А.О. Корниловичем альманаха "Русская старина" (1824 г.) с посвящением памяти Петру I. В этом сборнике помещены четыре статьи Корниловича о быте петровского времени, об ассамблеях и о личности Петра I. Сочинения Корниловича о Петре I были использованы А.С. Пушкиным при написании романа "Арап Петра Великого". Пушкин использовал и другие работы Корниловича при создании своих произведений, в частности, переводы Корниловичем сочинений голландца Стрюйса о восстании Разина, "Жизнеописание Мазепы" при написании "Полтавы".
Членом тайного общества Корнилович стал в 1825 году, но принимал в нём довольно активное участие. Верховный уголовный суд приговорил его к лишению дворянства и 12 годам каторги. После срок был сокращён до 8 лет. В марте 1827 года Корнилович был уже в Читинском остроге.
Однако в Сибири он был недолго. Менее чем через год фельдъегерь, привезший декабриста Вадковского, забрал с собой Корниловича в столицу. Причиной быстрого возвращения из Сибири был донос Фаддея Булгарина в III отделение, в котором он писал о своих подозрениях относительно связи декабристов с австрийским правительством. Это могло казаться правдоподобным, тем более что князь С.П. Трубецкой был женат на графине Лаваль, сестра которой была замужем за австрийским послом в Петербурге графом Лебцельтерном. По словам Булгарина, секретарь посольства Гуммлауэр подружился с Корниловичем. Последнего Булгарин рисовал как ветренного и болтливого молодого человека, через которого австрийский посол и его секретарь выведывали сведения о разных лицах. Доносу Булгарина был дан ход. Таким образом, Корнилович опять оказался в Петербурге. 15 февраля 1828 года он был доставлен в Петропавловскую крепость. Он дал подробные письменные показания о встрече с австрийским послом и его секретарём, сношения с которыми ограничивались светскими встречами и невинными разговорами. Объяснение Корниловича, написанное в крепости, по-видимому, показалось убедительным для Николая I.
Неделю спустя Корнилович написал свою первую записку, в которой предлагал поручить ему составить историю России, начиная с эпохи Петра I, с выяснением различных проектов, выдвинутых в своё время, но затем забытых, осуществление которых могло бы быть полезно в будущем.
В апреле того же года он представил вторую записку с проектами мер для повышения нравственности в семейной жизни крестьян, в том числе об учреждении приходских училищ. Николай I распорядился "дозволить ему писать что хочет" и вместе с тем поручил ему описать, "каким образом обходятся с каторжниками в Чите". Корнилович в своей новой записке подробно и правдиво описал положение декабристов на каторге. Эту записку читал Николай I, и, на основании её, разрешено было снимать кандалы с декабристов, "кто этого своей кроткостью заслуживает".
Затем Корнилович представил одну за другой записки о положении в польских губерниях, о мерах к развитию русской торговли в Азии, об улучшении положения сельских священников, о русско-персидских делах. Всего за время заключения в крепости декабрист написал 23 различные записки. Бенкендорф распорядился присылать ему газеты, некоторые журналы и книги. Корнилович, очевидно, надеялся, что его проекты помогут его освобождению. Он просил о разрешении участвовать в походе против турок, но просьба успеха не имела. Ему разрешили писать матери, сёстрам, брату.
В крепости он написал повесть из эпохи Петра I "Андрей Безыменный". Об этом Бенкендорф доложил Николаю I, в результате чего повесть была напечатана отдельной книжкой в типографии III отделения и вышла в свет без имени автора и ограниченном количестве экземпляров. В крепости Корнилович занимался переводами Тита Ливия и Тацита.
Заключение Корниловича в крепости, по его словам, было значительно более тяжёлым, чем сибирская каторга. Оно продолжалось четыре с половиной года. В ноябре 1832 года он был отправлен на Кавказ, будучи назначен рядовым в пехотный графа Паскевича-Эриванского полк, стоявший в Царских Колодцах. Корнилович ехал на Кавказ, полный надежд и литературных планов, но очень скоро он писал брату в письме: "Ну уж сторонка, в которую судьба меня забросила. Подлинно Южная Сибирь! и климат, и жители - одно к одному. Думаю даже, что жизнь в Сибири гораздо предпочтительнее". Солдатская лямка везде была тяжела. Постепенно крепло убеждение, что из этого состояния можно вырваться только ценой крови, только в бою можно было получить офицерское звание и отставку.
Корнилович искренне обрадовался прибытию Валериана Голицына. Уже в январе 1834 года Корнилович писал в письме к матери: "На счастье моё, встретил здесь своего товарища по несчастию Голицына (кн. В.М.), с которым вместе живу. Таким способом в компании с ним время веселее провожу, и дешевле стоит жизнь. В настоящее время живу в тесноте, в крестьянской избе, где двум с трудом можно повернуться. Но это ненадолго, скоро переедем в другое помещение, где нам будет просторнее". Такой же радостью полно и письмо к старшему брату Михаилу, написанное в мае: "Я, любезный мой, совершенно праздную, от утра до вечера на боку, читаю старые журналы, за недостатком новых. К счастью, нашёл здесь товарища в несчастии Голицына, пострадавшего вместе со мною по одному делу, хорошего, умного человека, с которым вместе тянем горе. Без него я совершенно бы зачерствел".
Корнилович и Голицын в какой-то мере были интеллектуальным центром в Царских Колодцах. Они превосходили окружающих по уму и образованию, поэтому большинство офицеров старались поддерживать с ними знакомство. Дом, в котором жили эти "нижние чины", стал своеобразным клубом - всегда кто-то приходил побеседовать. Частые посещения становились даже в тягость, особенно Корниловичу, который вообще был менее общительным, и его замкнутость ещё больше усилилась в крепости. К тому же частые посетители не давали работать. Сначала друзья жили вместе, но потом Голицын купил себе избу, тем самым несколько улучшил бытовые условия и свои и Корниловича. Встречались они по-прежнему каждый день. Корнилович и ещё несколько опальных офицеров (Хвостов, Райко) составили тот круг близких друзей, в среде которых проходили грустные дни нелёгкой солдатской службы на Кавказе.
В этой отупляющей однообразной жизни, где каждый день похож на предыдущий, так же как и годы сливались в вереницу одинаковых дней, иногда являлась нечаянная радость, когда появлялся какой-нибудь старый товарищ, подобно тому, как в один из весенних дней 1834 года в солдатской слободке неожиданно оказался декабрист и писатель Александр Бестужев-Марлинский. Друзья не знали, куда усадить желанного гостя, чем угостить, а, главное, говорили день и ночь напролёт, слушали друг друга и не могли наслушаться. Но такие события случались крайне редко. Чаще всего серые будни солдатской службы, тревоги, разговоры о предстоящих экспедициях в Персию или против горцев. Хотя часто эти экспедиции кончались смертью от пули горца, как это случилось через три года с Бестужевым-Марлинским или смертью от малярии, которая через пять лет погубила поэта Александра Одоевского, военных действий желали, их ждали, так как это была единственная возможность освободиться от солдатской шинели, а затем и вообще получить свободу.
1 августа 1834 года полк, в котором служили Корнилович и Голицын, отправился в поход в Дагестан. Путь до города Кубы друзья проделали вместе, а затем Корнилович получил приказ, что он поступает в распоряжение генерала Ланского. 25 августа Корнилович заболел лихорадкой, которая быстро прогрессировала. 29 августа ему стало совсем плохо. Голицын всё это время находился возле больного друга. Позже в письме к брату Корниловича, Михаилу, Валериан писал: "Видя, что болезнь усиливается, я пригласил ещё другого лекаря... Я находился при нём до 9 часов, он находился без памяти...", в 11 часов Корниловича не стало. "...30 числа, отпев его по обряду греко-российскому", совершили погребение "не блистательно, но торжественно". Могила его "по правую сторону дороги, ведущей из Дербента в Торки и на самом берегу Самура..."
Далее Голицын пишет: "Я хотел, чтобы место могилы Александра Осиповича не было утрачено, и велел насыпать груду камней и поставить деревянный крест. На возвратном пути я опять нашёл его в целости, но так как наш скромный памятник стоит на большой дороге, на поле, где жители сеют хлеб, то плуг ского сравняет это место. Зная расположение полковника Ховена к вам и покойному, я просил его поставить какой-нибудь камень с надписью". После смерти Корниловича вещи и бумаги его остались у Голицына.
Смерть друга потрясла Валериана. Ему хотелось сохранить память о своём товарище, перенеся любовь к нему на его близких. Он обращается к М.О. Без-Корниловичу: "Начатое по столь горестной причине знакомство, я надеюсь, продолжится в более приятных обстоятельствах, по крайней мере, это моё искреннее желание, ибо я очень любил вашего братца и не могу оставаться равнодушным к тем, кого он любил и которые его любят, а поэтому прошу Вас принять в число ваших знакомых и Валериана Голицына".
А тем временем "по воле его величества" декабрист вновь переводится в новый для него Кабардинский егерский полк, принимавший активное участие в войне с горцами. В 1835 году Валериан Михайлович участвует в экспедиции за Кубань.
В Кабардинском полку служило много декабристов. С 1829 по 1836 год в нём служил Н.П. Окулов, а с 1837 по 1843 год - М.А. Назимов, вместе с последним туда же прибыл А.И. Вегелин. К сожалению, мы ничего не знаем о взаимоотношениях Валериана с этими декабристами. Даже неизвестно, были ли знакомы Окулов и Голицын, хотя это не исключено.
Отношение многих офицеров к Голицыну было гуманным. Декабрист впоследствии с благодарностью вспоминал генерала Николая Николаевича Раевского, сына героя войны 1812 года. Несмотря на разницу в чине, он обращался с Валерианом Михайловичем по-дружески, приглашал к себе обедать и проводить вечера.
Современники отмечали, что Голицын несмотря на свой ум, очень дорожил своим аристократическим происхождением, и ему было приятно, когда его называли князем. Декабрист Н.И. Лорер, встречавшийся с Голицыным в конце 1850-х годов, писал: "В князе Валериане Михайловиче было много странного, и при всём его либерализме, он был аристократ до мозга костей".
Аристократизм Голицына принял такие болезненные формы, очевидно, под влиянием ссылки и службы на Кавказе. Своей солдатской шинелью он явно тяготился. В 1835 году он был произведён в унтер-офицеры (4.06.1835), а через два года получил звание прапорщика (31.05.1837). Голицын не мог скрыть удовольствия, что снова может одеть тонкий сюртук вместо толстой шинели.
Летом 1835 года Голицын впервые посетил Пятигорск, а впоследствии некоторое время жил в Ставрополе, возле которого располагался Кабардинский егерский полк. Здесь он, ещё будучи унтер-офицером, посещал вместе с декабристом С.И. Кривцовым дом Н.М. Сатина и Н.В. Майера. Сатин во время учёбы в Московском университете близко сошёлся с Герценом и Огарёвым, стал участником их студенческого кружка. В 1835 году он вместе с ними был арестован и сослан в Симбирскую губернию, а через два года по болезни переведён на Кавказ, где познакомился со многими декабристами. Он следующим образом характеризовал Валериана Михайловича: "замечательно умный человек". Споры с ним были самые интересные: мы горячились, а он, хладнокровно улыбаясь, смело и умно защищал свои софизмы и большею частию, не убеждая других, оставался победителем".
Один из постоянных посетителей квартиры Майера офицер Генерального штаба Г.И. Филипсон вспоминал потом об этом времени: "Через Майера и у него я познакомился со многими декабристами, которые по разрядам присылались из Сибири в войско Кавказского корпуса. Из них князь Валериан Михайлович Голицын жил в одном доме с Майером и был нашим постоянным собеседником. Это был человек замечательного ума и образования. Аристократ до мозга костей, он был бы либеральным вельможей, если бы судьба не забросила его в сибирские рудники. Казалось бы, у него не могло быть резких противоречий с политическими и религиозными убеждениями Майера, но это было напротив, оба одинаково любили парадоксы и одинаково горячо их отстаивали. Спорам не было конца, и иногда утренняя заря заставала нас за нерешёнными вопросами".
Майер - это доктор Вернер из "Героя нашего времени". Портретное сходство полное. Оно прослеживается по линии и внешнего и внутреннего сходства, вплоть до мелочей. Майер был настолько своеобразен, ярок и привлекателен, что многие его черты Лермонтов перенёс нетронутыми в роман.
В Ставрополе Лермонтов очутился в декабре 1837 года, когда возвращался из первой своей кавказской ссылки. Он сразу оказался в атмосфере оживлённых споров на квартире у Майера и Сатина. Ставропольские встречи и разговоры нашли своё отражение в романе "Герой нашего времени". В дневнике Печорина можно прочитать: "Я встретил Вернера в С. среди многочисленного и шумного круга молодёжи; разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление; толковали об убеждениях: каждый был убеждён в разных разностях". Это очень перекликается с рассказами Сатина и Филипсона.
Лермонтов с Майером и Голицыным был знаком раньше. С последним он познакомился летом 1837 года в Пятигорске, где Голицын был в отпуске и лечился на водах. В книге ванных билетов от 24 мая 1837 года записано: "выдано 10 билетов унтер-офицеру Валериану Голицыну". Когда Лермонтов проездом в Петербург задержался в Ставрополе, он, вероятно, встретил в кружке декабристов и своего знакомого - В.М. Голицына.
М.Ю. Лермонтов, был знаком и с младшим братом Валериана - Леонидом, который когда-то служил в лейб-гвардии Гусарском полку. На одном из листов альбома рисунков Лермонтова есть записи, сделанные его рукой, очевидно, адреса знакомых: "Аквердова - на Кирочной, графиня Завадовская, Леонид Голицын в доме Ростовцева".
В дневнике у В.А. Жуковского есть запись, свидетельствующая о встрече Лермонтова и Леонида Голицына: "5 ноября 1839, воскресенье. Обедал у Смирновой. Поутру у Дашкова. Вечер у Карамзиных. Князь и княгиня Голицыны и Лермонтов". Женой Л.М. Голицына была внучка М.И. Кутузова - Анна Матвеевна Толстая.
Жизнь в Сибири, служба на Кавказе подорвали здоровье Валериана Михайловича. 22 июля 1838 года он был уволен с военной службы и должен был отправиться в Астрахань, но 17 сентября этого же года ему было разрешено служить по гражданскому ведомству на Кавказе. Голицыну удалось остаться в ставшем для него родным Ставрополе, он был зачислен в штат "Общего Кавказского областного управления". Но на "статской службе" был он недолго: кавказский климат не действовал на него благотворно, и в 1839 году Голицына уволили со службы по болезни.
После 14 лет ссылки и службы опять на свободе. Хотя это скорее была какая-то "полусвобода", так как за ней стояли "голубые мундиры". Хотелось скорее уехать с Кавказа. В это время произошла встреча его с Лорером, который запечатлел этот момент в следующих строках: "Мрачный ноябрь месяц наступил, и я почти безвыходно сижу в своей лачужке. Однажды утром слышу знакомый голос, осведомляющийся обо мне, и через несколько минут обнимаю моего дорогого товарища князя Валериана Михайловича Голицына, который наконец получил отставку и едет, счастливец, к матери и братьям. Как истый москвич, после первых дружеских объятий, он потребовал чайку. Я послал сказать Ромбергу, что буду у него обедать с товарищем, угостил покуда приятеля чаем из самовара, а он мне успел передать все затруднения, которые ему делали при получении отставки. И меня, стало быть, ждёт подобная же участь! Заботою Голицына в настоящее время было - как бы переправить в Керчь свою карету. Я взялся похлопотать об этом и, пригласив к себе Дорошенку, просил его помощи и содействия. Он обещал достать большую шаланду, но требовал терпения и согласия князя выждать более благоприятной погоды. Волею и неволею надо было согласиться, но ненадолго: ибо на другой же день всё было исполнено, и карету до Тамани перевезли на волах, а там поставили на большую лодку с 6-ю человеками гребцов. На берегу я простился с этим милым человеком и весело возвратился к себе в лачужку, радуясь, что и ещё один из наших свободен и после 17 лет несчастной ссылки возвращается на родину".
Местом жительства Голицыну был назначен Орёл. Царь не мог, конечно, оставить своего "друга" без внимания. За Голицыным был установлен секретный надзор. Только через год ему разрешили на лето поехать в местечко Хиславичи Могилёвской губернии, где находилось имение сестры графини Екатерины Михайловны Салтыковой (29.09.1808-9.12.1882).
Валериану Михайловичу не разрешили даже ездить в Москву, где жила мать. Наталья Ивановна очень любила своего сына. Когда он был в Сибири, она почти каждый день писала ему письма, а после перевода сына на Кавказ - каждый год ездила в Астрахань или Пятигорск, чтобы провести с ним несколько недель.
Когда княгиня Голицына ездила к сыну на Кавказ, она брала с собой двоюродную племянницу, княжну Дарью Андреевну Ухтомскую (19.03.1824-24.12.1871), которую воспитывала у себя как родную дочь, и даже любила её больше родной дочери. Княжна Долли, как звала её тётка, не была красавицей, но её весёлость и обаяние производили очень приятное впечатление. Валериан влюбился в молодую княжну, но старая княгиня была против этого брака сына. Княжна Ухтомская, верная своей любви к ссыльному, отказывала всем женихам. Только через год после смерти матери он получил разрешение приехать в Москву, чтобы 23 января 1843 года обвенчаться с княжной Долли.
Валериану Михайловичу было уже без малого сорок лет. Тотчас после свадьбы молодые поселились в имении при селе Архангельское-Хованщина Епифановского уезда Тульской губернии, где прожили десять лет и где родились их дети: Леонилла (р. 28.12.1844), впоследствии бывшая замужем за Иваном Александровичем Сипягиным и Мстислав (28.10.1847-26.03.1902), к которому как к внучатому племяннику (21.05.1863) перешёл майорат с добавлением титула графа Остермана-Толстого. Мстислав Валерианович был женат (с 30.06.1869) на Амалии Ивановне Лоренц (р. 25.10.1851). Скончался и был похоронен в селе Красное Рязанской губернии.
Живя в Архангельском-Хованщине, В.М. Голицын очень сблизился с жившим в 15 км Иваном Артемьевичем Раевским. Жена последнего, Е.И. Раевская, так описала внешний облик декабриста: "Валериан Голицын был среднего роста, хорошо сложен. Лицо его было смуглое, нос орлиный, волосы чёрные, как смоль, бороду брил, усы носил немного подстриженными. Большие его чёрные глаза (как тогда говорили "бибиковские") глядели прямо и строго, но любовь его к семье смягчала иногда до нежности эту обычную строгость. В молодости он, вероятно, был очень хорош собой... Характера он был прямого, правдивого, высказывал своё мнение без утайки. На его дружбу можно было положиться".
В деревне Валериана Михайловича посещали образованные мыслящие люди, проживавшие в окрестностях и близкие ему по взглядам. Здесь их ждала богатая библиотека, почти все отечественные и иностранные газеты и журналы, которые можно было получить в России, и, конечно, умный, несколько парадоксальный собеседник.
Е.И. Раевская рассказывает, что собиравшиеся у Голицына обсуждали и вопросы об отмене крепостного права. Само собой разумеется, что проекты, которые обсуждались, предусматривали отмену крепостного права сверху и в интересах помещиков, но в николаевское время даже разговоры о "крестьянском деле" допускались только в специальных секретных комитетах.
В 1853 году Голицыну разрешено было проживать в Москве, но под строгим надзором, от которого он был освобождён лишь в марте 1856 года, а в августе ему и детям был возвращён княжеский титул с освобождением от всех ограничений.
В.М. Голицын всегда любил Россию. Во время Крымской войны декабрист очень остро переживал неудачи русской армии. Он хотел даже предложить помещикам сформировать за свой счёт батальоны.
После амнистии многие декабристы поселились в Москве или в ближайших губерниях. В первопрестольной Голицын встресался с А.П. Беляевым, Н.И. Лорером, П.С. Бобрищевым-Пушкиным, Н.В. Басаргиным, М.И. Муравьёвым-Апостолом. Недалеко от Архангельского поселился в усадьбе Высокое М.М. Нарышкин, приезжавший часто к Валериану Михайловичу. В Калуге Голицын посещал Е.П. Оболенского, с которым у него было много общего во взглядах.
Валериан Михайлович был разумным хозяином, свои дела вёл аккуратно, жил по средствам. После смерти своего дяди бездетного графа А.И. Остермана-Толстого в 1857 г. В.М. Голицын по завещанию получил огромное наследство. Ему досталось до 70 тысяч десятин земли в разных губерниях, но везде царил страшный беспорядок, дела были запутаны, так как герой 1812 года жил постоянно за границей, а имения находились в полном распоряжении управляющих. До 1857 года имениями А.И. Остермана-Толстого сначала управлял Александр Голицын, а затем Леонид Голицын, которому Остерман-Толстой передал имения, не входившие в майорат, в том числе подмосковную усадьбу Ильинское. Однако, Л.М. Голицын, оказался неважным управляющим.
Валериан Михайлович стал вникать во все дела, пытаясь наладить их. Он предпринял в 1859 году поездки по своим поместьям, но в имении Матоксе Шлиссельбургского уезда (ныне деревня в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области) неожиданно заболел холерой. В.М. Голицын успел только написать письмо Я.И. Ростовцеву, с которым был в дружеских отношениях. Он просил Ростовцева оказать поддержку семье. Валериан Голицын, любимый женою и детьми, всегда окружённый друзьями, умер 8 октября 1859 года, в глуши среди болот, в присутствии слуги. Похоронили его в Москве в родовом склепе на кладбище Данилова монастыря, однако, в советское время кладбище было упразднено и могила декабриста оказалась утраченной...
Метки: декабристы голицыны |
Никита Кирсанов. "Декабрист Валериан Голицын" (часть 1) |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Декабрист Валериан Голицын" (часть 1).

Отец декабриста М.Н. Голицын - потомок древнего княжеского рода. К XIX веку этот род стал очень разветвлённым, но князья продолжали играть значительную роль в управлении государством. Родной брат Михаила Николаевича, Александр Николаевич (8.12.1773-4.12.1844), с детства был другом великого князя Александра Павловича, поэтому после воцарения последнего стал обер-прокурором Синода (1803). Под стать своему царствующему другу, обер-прокурор увлекался религией и мистикой. Мистические настроения особенно овладели князем после 1812 года, когда он стал возглавлять Российское библейское общество. С 1816 года А.Н. Голицын занимал пост министра просвещения, а через год возглавил объединённое министерство духовных дел и народного просвещения, которое Н.М. Карамзин называл министерством "затмения".
Период управления Голицына характерен душной атмосферой мистицизма и мракобесия. Достаточно сказать, что среди сотрудников министра находились такие личности, как М.Л. Магницкий и Д.П. Рунич. Политика А.Н. Голицына вызывала недовольство православной церкви. Дело дошло даже до публичного скандала в салоне графини Орловой-Чесменской, когда архимандрит Фотий прокричал "анафему" министру. Ревностный сын православной церкви, обер-прокурор святейшего Синода и министр духовных дел был предан самому страшному для христианина проклятию. Положение Голицына пошатнулось, и в 1824 году, вследствие происков Фотия и А.А. Аракчеева, он вынужден был подать в отставку. "Без лести предан" видел в Голицыне своего соперника по влиянию на царя. Об огромном доверии Александра I своему министру говорит хотя бы то, что он вместе с Аракчеевым и митрополитом Филаретом принимал участие в составлении Манифеста об отречении от престола Константина Павловича. Рукой Голицына была даже написана довольно мудрёная заключительная фраза Манифеста: "О нас же просим всех верноподданных наших да они с любовью, по которой Мы в попечение о них непоколебимом благосостоянии полагали Высочайше на земли благо, принесли сердечные мольбы к Господу и Спасителю Нашему Иисусу Христу о принятии души Нашей, по не изречённому Его милосердию, в Царствие его вечное". Голицын также сделал копии с этого Манифеста, которые и были разосланы в Государственный Совет, Сенат и Синод. Как известно, этот Манифест содержался в глубокой тайне.
В период "междуцарствия" А.Н. Голицын поддерживал Николая I и настаивал, чтобы тот исполнил волю своего брата, выраженную в Манифесте от 16 августа 1823 года. Позднее Голицын управлял почтовым ведомством.
Всю жизнь А.Н. Голицын провёл холостяком и был известен своей нетрадиционной сексуальной ориентацией. Н.М. Языков в письме 1824 года приводит анекдот, "будто бы государь призывал к себе известного содомита В.Н. Бантыш-Каменского и приказал ему составить список всех ему знакомых по этой части, что Бантыш-Каменский представил ему таковой список, начав оный министром просвещения, потом стоял канцлер и так далее... Он имел после этого аудиенцию у государя и удостоверил его клятвенно в истине своего донесения". А.С. Пушкин высмеял Голицына в эпиграмме "Вот Хвостовой покровитель..." Знаменитый мемуарист и сам гомосексуал Ф.Ф. Вигель вспоминает о Голицыне ещё более непристойно: "Не краснея, нельзя говорить об нём, более ничего не скажу: его глупостию, его низостию и пороками не стану пачкать страниц".
Михаил Николаевич Голицын (19.06.1756-3.04.1827) не занимал таких постов, как его брат, но тоже стоял значительно высоко на служебной лестнице. В 1802 году он был назначен Ярославским губернатором, пост которого занимал четырнадцать лет. В отличие от своего брата, обер-прокурора, губернатор не очень увлекался мистикой, хотя и отдавал дань моде (да и с ориентацией у него "всё было в порядке"). Его больше занимали дела по управлению губернией - это ведь было напряжённое время войн с Наполеоном, а затем последовала Отечественная война 1812 года, и М.Н. Голицыну пришлось заниматься организацией госпиталей, ополчением, размещением беженцев и т.п. На организацию ополчения губернатор пожертвовал пять тысяч рублей из своих доходов. Война принесла горе и князю - в Бородинском сражении погиб его 22-летний сын Николай.
Во время правления Голицына в Ярославле были открыты "Ярославское Демидовское высших наук училище", гимназия, "Общество любителей российской словесности" и типография при губернском правлении.
Князю Михаилу Николаевичу не везло в семейной жизни. Ему не было ещё и сорока лет, когда умерла его вторая жена - Федосья Степановна Ржевская, воспитанница первого выпуска Смольного института. По приказу Екатерины II она была запечатлена Левицким, который изобразил её танцующей. Похоронив жену в Толгском монастыре, князь Михаил Николаевич отправился исполнять свои служебные обязанности в Эстляндию, где он был тогда вице-губернатором. Вскоре он женился третий раз. Его женой стала Наталья Ивановна Толстая (18.07.1771-24.11.1841), сестра А.И. Остермана-Толстого, героя войны 1812 года, прославившегося особенно во время заграничных походов (Кульм). "Княгиня Наталья Ивановна, - писала о ней одна из родственниц, - была, в своём роде, замечательная женщина по уму, самостоятельному характеру и оригинальному обращению в обществе". Уже в Ярославле от этого брака 23 сентября 1803 года у Голицыных родился второй сын - Валериан. Очевидно, будущий декабрист родился в губернаторском доме, который находился тогда на углу Которосльной набережной и Духовской улицы (ныне улица Республиканская). Здание находилось напротив факультета иностранных языков пединститута, ближе к реке. В 1820-е годы, когда губернатор переехал на Волжскую набережную, здание пришло в ветхость, а в 1840-е годы от него остались одни развалины. Сохранился чертёж этого здания, выполненный по приказу Ярославского гражданского губернатора М.Н. Голицына в 1809 году.
У Валериана было ещё два брата: старший - Александр (1798-1858), в аристократическом свете известный под прозвищем "Серебряный". Одно время у него были сомнения в истинности православия, и он перешёл в католичество. В 1820-е годы довольно часто думающая молодёжь пыталась истолковать отрицательные стороны русской действительности косностью православия, его зависимостью от бюрократического государственного аппарата. Многим казалось, что духовное освобождение можно найти в лоне независимой могущественной католической церкви. Даже такой яркий и оригинальный ум, как Чаадаев, тоже был очарован католицизмом, а для молодого мыслителя Печерина это даже кончилось поступлением в монашеский орден. У Александра Голицына колебания между католицизмом и православием кончились в пользу отечественной религии. В этом сыграл определённую роль и митрополит Филарет, написавший в 1820-х годах специально для князя "Серебряного" "Разговор между испытующим и верующим", в котором ополчился против векового врага православной церкви - "папежства". Впоследствии Александр Голицын довольно успешно служил, стал статским советником и возглавлял почтовое ведомство в Варшаве.
Младший брат декабриста - Леонид Михайлович (15.02.1806-23.02.1860) - служил в гвардии. Во время войны с Турцией в 1828 году он был адъютантом Дибича. Голицын принимал участие в подавлении восстания в Польше в 1831 году, где был тяжело ранен, после чего вышел в отставку.
М.Н. Голицын принадлежал к состоятельным дворянам. У него были имения в Ярославском, Ростовском, Пошехонском, Ветлужском, Ливенском, Епифанском уездах. По седьмой ревизии (1815 г.) Ярославскому губернатору только в управляемой им губернии принадлежало 748 душ мужского пола. К моменту восстания декабристов имения Голицына значительно возросли. В 1822 году Михаил Николаевич купил с торгов у статского советника М.А. Майкова за 34750 рублей в Ярославском уезде сельцо Горки, Копытово, Поратки, деревни Чебакино, Тантыково, Починки, Михино, Поповку, Савкино. В начале XIX века князю Голицыну принадлежало также село Карабиха, возле которого была построена усадьба. После смерти старого князя в 1827 году усадьба перешла к его сыну Леониду, у вдовы которого Анны Матвеевны и их дочери Екатерины Леонидовны и приобрёл усадьбу Н.А. Некрасов.
В первой половине XIX века барский дом в Карабихе выглядел иначе, чем теперь. По семейным преданиям Голицыных, план усадьбы составил тот же архитектор, который строил и подмосковное Ильинское, принадлежавшее в начале XIX века А.И. Остерману-Толстому. Барский дом был с антресолями и двумя боковыми флигелями, которые соединялись со средним домом галереями. Вдоль всего фасада пристроены были массивные каменные аркады. В центральной части они достигали уровня второго этажа, т.е. образовывалась терраса с двумя въездами, настолько широкими, что парные экипажи Голицыных подавались прямо под портик к дверям парадного гостиной. За домом начинался английский парк с большими лужайками, беседками, горками, статуями. Ко времени продажи усадьбы Голицыны давно не жили в ней. Постройки обветшали, парк зарос, беседки и мостики развалились, статуи были разбиты.
Н.А. Некрасов приобрёл усадьбу и земли только по правую сторону дороги, а земли по левую сторону остались за Голицыными.
В 1868-1870 годах брат поэта, Фёдор Алексеевич, произвёл ремонт и частичную перестройку ансамбля барского дома. В результате этого ремонта фасад утратил свой первоначальный облик. Интерьер также потерял прежнее великолепие, хотя в кабинете Некрасова оставались ещё кое-какие вещи из голицынских времён - старинная бронза и большой портрет Екатерины II.
Будущий декабрист до 11 лет воспитывался дома, затем с 1814 по 1815 гг. в петербургском Пансионе коллегии иезуитов, а в 1815-1817 гг. пансионе Жонсона. Затем он учился в Москве у профессора Шлецера, сына известного историка Августа Шлецера. В семь лет (29.03.1811) сын губернатора был зачислен формально в привилегированное учебное заведение - Пажеский корпус, где уже учился его старший брат Александр, а затем будет учиться и младший - Леонид. Реально в стенах этого учебного заведения Валериан Голицын оказался в 1819 году.
Постановка образования в Пажеском корпусе не отличалась серьёзностью. Учителя были плохо подготовлены, ни один из них "не умел представить свою науку в достойном её виде и внушить к ней любовь и уважение". Особенно плохо преподавали историю - изучали только античную и русскую. Так как почти все воспитанники происходили из аристократических семей, и отцы которых занимали высокие посты, многое пажам сходило с рук. Поэтому дисциплина в корпусе была слабой - царил дух своеобразного буршианства, процветало своеволие старших по отношению к младшим. Говоря современным языком: в корпусе процветала "дедовщина" и проделки питомцев были очень далеки от невинных. Будущий декабрист А.С. Гангеблов, тоже бывший жертвой этих проделок, рассказывает, что однажды группа пажей решила отомстить своему товарищу. Для этого они заколотили его в бочку, предварительно обмотав голову полотенцем, и под крики "ура" спустили с лестницы.
Но наряду с гусарским духом, воспеваемым Денисом Давыдовым и бытовавшим среди дворянской военной молодёжи, в корпусе среди определённой части пажей господствовал дух свободолюбия и личной независимости. Некоторых не устраивали занятия, где античную историю в основном преподавали для знания мифологии, а французский язык для того, чтобы уметь изъясняться в великосветском обществе. Среди воспитанников распространялась литература, которая явно не рекомендовалась для назидательного чтения. Наконец, в Пажеском корпусе возникло тайное общество "квилки". В основном, в нём занимались самообразованием, но и туда проникали идеи, волновавшие передовых людей России. Руководитель этого кружка, "вольнолюбец до цинизма", по определению Гангеблова, дружил с писателем-декабристом Александром Бестужевым.
В 1820 году, когда В.М. Голицын был уже камер-пажем, в Пажеском корпусе произошёл настоящий "бунт". Поводом послужило наказание воспитанника Арсеньева розгами. Это вызвало возмущение пажей, возглавляемых "квилками". Позже Гангеблов заметил, что "школьный бунт этот был детищем тех же учений, которые привели к декабрьской катастрофе". Хотя руководитель "квилков" А.Н. Креницын по высочайшему повелению был наказан розгами, исключён из корпуса и разжалован в солдаты, случай оставил след и был одной из зарниц грозы 1825 года. Интересно отметить, что уже будучи на Кавказе, Гангеблов, встретившись там с Голицыным, неоднократно в своих разговорах вспоминал тот бунт, о котором он счёл также необходимым сообщить на следствии, "что семя, брошенное в школьную почву, могло бы рано или поздно принести вредные плоды". В такой атмосфере провёл Голицын без малого три года.
26 марта 1821 года князь начал служить в чине прапорщика в знаменитом Преображенском полку. В этом полку он прослужил три года, а 3 февраля 1824 года был уволен поручиком. 2 февраля 1825 года он поступил в Департамент Внешней торговли с переименованием в титулярные советники. Кто мог подозревать, что молодой камер-юнкер - племянник одного из влиятельнейших людей в государстве А.Н. Голицына - уже два года является членом тайного общества?
В Северное общество Валериан Михайлович вступил ещё будучи офицером-преображенцем в 1823 году. Изучая историю Северного общества, можно прийти к выводу, что в этой декабристской организации в период с 1823 по 1825 годы выделилось два крыла: более умеренной программы и тактики - Никита Муравьёв, Сергей Трубецкой, Николай Тургенев, и сторонники революционной программы и особенно тактики - так называемая, "отрасль" Рылеева. Хотя "отрасль" не представляла какой-то особой организации внутри общества, но она объединяла между собой людей, связанных общностью понимания как задач, стоявших перед тайным обществом, так и общих всему движению тактических лозунгов и положений программы. В.М. Голицын по своим взглядам примыкал к "отрасли" К.Ф. Рылеева, хотя лично они встречались редко.
В Северном обществе, в отличие от Южного, не было общепризнанной, принятой программы. Конституция Никиты Муравьёва вызвала в столичной декабристской организации серьёзную критику, которая ещё более усилилась, когда в 1823-1824 гг. члены Северного общества познакомились с программой Южного общества. Революционная решительность и демократические тенденции "южан" встретили сочувствие многих новых членов общества. Взгляды сторонников П.И. Пестеля импонировали Голицыну. В 1823-1824 гг. он вступал в спор с одним из руководителей Северного общества, С.П. Трубецким, перед которым защищал республиканские идеи Пестеля. Одним из пунктов разногласий в области тактики был вопрос о цареубийстве. Опыт французской и испанской революций приводил членов Южного общества к пониманию необходимости одновременного уничтожения всех возможных претендентов на престол как опоры контрреволюции.
На одном из собраний у Оболенского член Южного общества А.В. Поджио сказал декабристам Митькову, Валериану Голицыну и другим, что "покушение на жизнь всей царской фамилии положено первым началом действия общества". Это должно служить сигналом к революционному выступлению. "Отрасль" Рылеева разделяла точку зрения Пестеля. Источники свидетельствуют, что на собрании у Оболенского после слов Поджио об истреблении царской семьи Митьков ответил: "Моё мнение: до корня всех истребить. Валериан Голицын равным образом был с тем согласен". Декабрист Матвей Муравьёв-Апостол подтверждал на следствии, что во всё время его пребывания в 1823 году в столице, "Никита Муравьёв и князь Сергей Трубецкой не были согласны на счёт преступного предложения Южного общества: республики и истребления (царской фамилии). Н. Тургенев, князь Оболенский, Рылеев, Бестужев, Вадковский, Свистунов, Анненков, Депрерадович разделяли сие мнение". Князь Голицын принимал участие в нескольких собраниях (Оболенского, Поджио), где обсуждались как программные документы, так и тактические вопросы. Правда, особой активности князь не проявлял.
Надо сказать, что Валериан Голицын стал главным героем романа Мережковского "14 декабря", но пусть читатель не надеется найти в этом произведении какие-то факты из жизни реального Голицына. Не говоря уже о мировоззрении, которым автор наделил своего героя. Мережковский в качестве исторической канвы взял воспоминания декабриста И.Д. Якушкина.
Арестовали Голицына в январе 1826 года. 24 числа этого месяца он был отправлен в крепость с неизменной запиской: "присылаемого князя Голицына посадить на гауптвахту, содержать строго, но хорошо". Для престарелого Михаила Николаевича это был удар, который стал тяжелее вдвойне, когда в Карабиху пришло известие, что арестован и старший сын, Александр, подпоручик лейб-гвардии пешей артиллерии. Последний был арестован вследствие показаний фон Вольского, сообщившего князю Голицыну ещё в 1823 году о существовании тайного общества. Брат Валериана не изъявил желания сделаться членом этого общества, однако, Матвей Муравьёв-Апостол сообщил на следствии, что на одном из собраний у Поджио наряду с Валерианом присутствовал и "брат его артиллерийский" (имеется в виду, что Александр служил в артиллерии). Якушкин и Михаил Бестужев считали старшего Голицына принадлежавшим к обществу и даже возлагали на него определённые надежды. Михаил Бестужев, рассказывая о восстании на Сенатской площади писал: "Пешая гвардейская артиллерия не соединилась с нами потому, что князь А. Голицын и прочие члены общества по малодушию позволили... себя арестовать". Хотя в рассказе Бестужева много неточностей, и вряд ли всё происходило так на самом деле, но, очевидно, Александр Голицын знал об обществе. Показания главных членов Северного общества были для него благоприятными, и следователи не стали особенно тщательно выяснять обстоятельства связей гвардейского поручика с декабристами. Пробыв под арестом до 20 апреля, А. Голицын был освобождён без каких-либо последствий для своей карьеры.
Младший брат томился на карауле у Петровских ворот Петропавловской крепости в мучительном ожидании своей участи. Сначала Валериан решил всё отрицать, не говорить, что он является членом тайного общества. Но следователи знали слишком много, больше того, чем мог он догадывться. Это стало ясно уже из предварительного устного допроса. Следственная комиссия обычна присылала вопросы арестованному. Голицын колебался - отрицать или рассказать? Верность слову, понятие дворянской чести требовали первого, но вместе с тем приходили мысли о молодости, о суровых военных законах, восходящих ещё к петровскому времени.
Нужно вести себя твёрдо, - главное - отрицать своё согласие на цареубийство. Очная ставка с Александром Поджио, который показал, что Голицын соглашался на истребление императорской фамилии. Нет, никогда не соглашался. - А слова Митькова - "До корня всех истребить". - Нет, никогда не слышал таких слов от Митькова. Показания других об истреблении царя - обнадёживающие для князя: одни говорят, что Голицын не присутствовал, когда Митьков произносил страшные слова, другие - что вообще не помнят Голицына. Похоже, что самая чёрная туча проходит. Может чем-нибудь поможет дядя Александр Николаевич? Брата Александра ведь освободили. А пока: серый гранит, часовые, одноногий комендант. О своём пребывании в крепости Валериан Михайлович вспоминал позже: "Мой день разделён на две равные половины. До полудня я лежал в постели. С полудня до полуночи я ходил безостановочно по своей крошечной тюрьме и курил. Ни книг, ни бумаги, ни чернил, ни перьев, ни карандашей не давали. Табак давали, картуз табаку лежал у меня у окна, и когда он был запечатанный, то от сырости тюрьмы всегда лопалась бумага. В полночь я ложился и до полудня следующего дня уже не вставал с постели. Что я передумал во время ежедневного двенадцатичасового хождения взад и вперёд по пространству в несколько шагов, рассказать невозможно".
По приговору Верховного уголовного суда Валериан Голицын был осуждён по VIII разряду - "лишение чинов и дворянства и ссылка в Сибирь бессрочно". По конфирмации в августе 1826 г. "бессрочно" заменено на 20 лет. Приговор оказался сравнительно мягким. Может здесь и сказалось заступничество дяди? Ведь вымолил же на коленях Алексей Орлов у императора Николая I помилование своему брату Михаилу.
Своему "другу по 14 декабря" (так в непринуждённой атмосфере Николай I называл сосланных декабристов) В.М. Голицыну царь сначала местом ссылки назначил Якутск. Условия жизни в этом крае были суровыми, русского населения было очень мало, якуты вели кочевой образ жизни. Не хватало даже хлеба, поэтому местное население заготавливало в прок древесную кору, которую сушили, а затем употребляли вместе с молоком. Но в глухих местах Якутии было невозможно создать того строгого и бдительного надзора, которого требовало правительство. Вероятно, по этой причине, а также под влиянием дяди и отца, в конце июля 1826 года Голицына отправили в город Киренск Иркутской губернии. Название "город" было слишком громким для Киренска. В 1858 году в нём проживало всего 830 человек, а во времена Голицына - и того меньше.
На поселение Валериана вёз фельдъегерь Тихонов. Попутчиком стал бывший поручик Черниговского полка А.И. Шахирёв, тоже осуждённый по VIII разряду. Местом поселения ему был назначен глухой, спрятанный среди болот, Сургут Тобольской губернии. До Тобольска доехали вместе, распрощались, чтобы больше уже никогда не встретиться. Шахирёв умер через два года.
Ссылка сына в Сибирь совсем подорвала здоровье престарелого князя. Для него "государственный преступник", замышлявший перевернуть устои государства, был всего-навсего мальчик, который и шагу не может ступить без поддержки отца. Как будет он жить в холодной Сибири среди диких якутов? Кто будет заботиться о его здоровье, о его досуге в этой дикой стране, где и собеседника невозможно найти? Брат Александр Николаевич и так сделал всё, что можно, но нужно как-то помочь сыну. Старый князь, наконец, решил кого-нибудь из близких людей к Валериану послать, чтобы опытный человек помог наладить ему жизнь. Выбор пал на Василия Лазова, грека по национальности, проживавшего в семье Голицыных около 20 лет и бывшего дядькой почти всех младших детей, в том числе и Валериана. Лазов сам согласился ехать в далёкую Сибирь. Князь дал в помощь греку двух крепостных, снабдил их деньгами, наставлениями, письмами родных к "своему мальчику", и Лазов в начале 1827 года отправился в Сибирь. Но старый князь так и не дождался сообщений верного грека о сыне: в этом же, 1827 году, семидесятилетний Михаил Николаевич скончался.
Прибыв в Иркутск, Лазов явился к губернатору И.Б. Цейдлеру и заявил, что желает отправиться по торговым делам в Киренск и Якутск. При этом он добавил, что "быв с давнего времени знаком с домом князей Голицыных, намерен, согласно сделанного ему поручения, присоединиться к сосланному в Сибирь государственному преступнику Валериану Голицыну, устроить его жизнь, заниматься его хозяйством и наблюдать за нравственным и физическим поведением".
Для губернатора такая просьба явилась неожиданной, но он всё же отпустил грека в Киренск. Сомнения о законности разрешения ехать Лазову к Голицыну не оставляли Цейдлера. Совсем недавно он выдержал упорную борьбу с Е.И. Трубецкой, М.Н. Волконской и А.Г. Муравьёвой. А ведь ещё в сентябре 1826 года иркутский гражданский губернатор получил высочайше одобренное указание генерал-губернатора Восточной Сибири Лавинского, в котором предписывалось местному начальству "употреблять всевозможные внушения и убеждения к оставлению их (имелись в виду жёны декабристов) в сем городе и к обратному отъезду в Россию". В частности, рекомендовалось внушить жёнам, что, "следуя за своими мужьями и продолжая с ними супружескую связь, они, естественно, сделаются причастными к их судьбе и потеряют прежнее звание, т.е. будут уже признаваемые не иначе, как жёнами ссыльно-каторжных, а дети, которые приживутся в Сибири, определить в казённые крестьяне".
Но даже эти угрозы не оказали действия. Губернатор разрешил ехать к своим мужьям: всё-таки здесь - законный брак, освящённый церковью, а как быть с "дядькой", следующему к государственному преступнику, чтобы следить за его "нравственным и физическим состоянием"?
Цейдлер решил обратиться к генерал-губернатору. Последний совсем растерялся. Ведь по его заявлению уже было возбуждено дело "за беспорядки при распределении государственных преступников" против председателя Иркутского губернского правления Н.П. Горлова, который отнёсся чрезвычайно гуманно к первой партии декабристов и разместил их вблизи Иркутска, вместо того, чтобы отправить в дальние рудники. И не сочтут ли в Петербурге прибытие "дядьки" к молодому Голицыну как послабление? После раздумий Лавинский решил обратиться за соответствующими разъяснениями к Главному управляющему третьим отделением Бенкендорфу. Правда, генерал-губернатор Восточной Сибири сделал это в неофициальной форме - это было частное письмо, написанное на французском языке. Всесильный шеф жандармов доложил об этом самому Николаю I.
По распоряжению царя Бенкендорф на письме Лавинского сделал следующие пометки: "Кто ему (Лазову) дал паспорт и как он испросил у нежинского магистрата написать об этом губернатору (Черниговскому, в губернии которого находился Нежин, Губернатор донёс позднее, что в Нежине Лазов "промышленности никакой не имел"); написать князю Голицыну в Москву (Д.В. Голицын - в 1820-1843 гг. московский генерал-губернатор), чтобы он испросил мать молодого Голицына, почему она выбрала этого грека, чтобы доверять своего сына; кто те двое слуг и по какому праву она туда их послала. Генерал-губернатору Сибири - чтобы он немедленно отослал этого грека обратно, хорошо допросил его предварительно, а равно и слуг".
Через некоторое время Бенкендорф получил своеобразное письмо-покаяние матери Валериана, Натальи Ивановны Голицыной. Она писала следующее: "На вопрос, сделанный мне чиновником московского военного губернатора статским советником Тургеневым по какому случаю грек Василий Лазов находится в городе Киренске, который объявил тамошнему начальству, что он приехал к сыну моему Валериану Голицыну - устроить ему жительство, заняться его хозяйством и наблюдать за его нравственным и физическим поведением, объясняю: что означенный грек Лазов, имея около 50 лет от роду, более 20 лет жил у нас в доме, как друг, при котором все почти дети наши родились и возросли и который по собственной своей привязанности к нам просил даже нашего согласия ехать туда, так как от правительства не было запрещения на въезд и жительство в оных городах свободного состояния людям. Мы не только не отказали ему в том, но не могли довольно признать сердечного расположения его к нам, тем более, что зная хорошую его нравственность и правила, мы польстились поручить ему назидание сына нашего, постигнутого несчастием на 23 году, быв совершенно уверенны, что он не допустит его впасть в пороки, которые бы ещё могли усугубить его положение. Что касается до крепостных людей, в то время, когда господин Лазов решился предпринять этот путь, нодобны были ему люди для сопровождения и для услуги - по летам его невозможно было на расстоянии 7 000 вёрст ехать одному или с неизвестными лицами, почему покойный муж мой, желая дать ему в услугу тех, которые сами пожелают, собрал их и спросил. Эти двое изъявили желание ехать и служить г. Лазову, на кой предмет и снабжены были плакатными паспортами, дабы в случае, если они пожелают оттуда возвратиться, чтоб не встретилось им какое препятствие".
Царь, прочтя это письмо и не видя здесь потрясения государственных основ, приказал: "Крепостных выслать обратно в Россию, а греку разрешить остаться в Киренске, но взять с него подписку, что он согласен поселиться в сем городе, в противном случае выслать и его". Бенкендорф сообщил высочайшую резолюцию Лавинскому, но уже было поздно. Генерал-губернатор вызвал ещё раньше Лазова из Киренска в Иркутск и придирчиво рассмотрел его бумаги. Из писем "от отца, матери и других родственников преступника Валериана Голицына" он увидел, что Лазова "убеждали решить всё возможное о Валериане Голицыне, способствовать ему советами к терпеливому сношению участи его, подтверждать в поведении его, отвергнуть от худых наклонностей, в которые он мог бы погрузиться от отчаяния, доставлять ему всё нужное к жизни и быть ему неразлучным собеседником". Как видим, намерения были самые благие и могли быть даже полезны для властей, но последняя не могла терпеть, чтобы наряду с ней находилась ещё какая-нибудь опека. Лавинский приказал Лазову и крестьянам уехать в Россию. Впоследствии, однако, Лазов всё же несколько раз приезжал к Голицыну в Сибирь с деньгами, книгами и т.п.
Злоупотребления администрации сказывались не только на людях близких к декабристам, но и сами декабристы постоянно ощущали "заботу" сибирской администрации, которая подчас была более нахальной, чем в европейской части страны. Строго контролировалась переписка "государственных преступников". Письма пересылались через жандармское управление и поступали туда только в открытом виде. Во все почтовые отделения страны были разосланы списки декабристов и лиц, с которыми они переписывались. Почтовое начальство обязано было вскрывать все такие письма и "поступать с ними соответственно по содержанию", т.е. пересылать во всех подозрительных случаях в жандармское управление. Именно таким образом до нас дошло письмо Валериана Голицына к матери от 28 мая 1828 года. Из этого письма жандармы сделали интересующие их выписки и отправили в третье отделение.
Письмо раскрывает злоупотребления администрации, которые на каждом шагу отравляли жизнь Голицына. Он писал: "Нам разрешено писать и получать письма от наших родных, а между тем вот уже более трёх месяцев, что я не имею писем от сестрицы; наверное, это не по её вине. Позволяют нашим родным приходить нам на помощь, но деньги не доходят до нас целиком и мы совершенно не знаем, какие суммы высылаются нам.
Несмотря на наши хлопоты, несмотря на письмо, которое вы написали губернатору с просьбой переслать мне деньги на мою жизнь, несмотря на то, что я получил только 3200 рублей вместо 4000 в продолжении этих двух лет, что я здесь, губернатор мне ничего не выслал, и я вынужден лишать себя очень многого и платить вдвое дороже за вещи, которые мог бы иметь дешевле и лучшего качества. Даже вещи прибывают разрозненными. Только сегодня я получил ружьё, посланное Леонидом (младшим братом), не хватает в нём двух частей и его, по-видимому, употребляли на охоте, так как оно сильно подержано. Губернатор предварительно послал мне ключ от ящика, в котором находилось ружьё, а ящик прибыл ко мне открытым, а ключ не подходит к замку, наверное, его подменили. Из русских журналов я получил только первый номер "Телеграфа". Из 50 пудов муки доставлено мне только 25 пудов, остальная часть девалась бог весть куда, так же как и много других вещей, о посылке которых я не знаю, ибо не все письма доходят до меня.
Словом, нас хорошо обставили. Невозможно дальше оставаться в этом положении, так как оно всё ухудшается. Вам следовало бы, дорогая матушка, попросить, чтобы нам разрешили писать непосредственно; письма могли бы вскрывать на почте, но по крайней мере была бы установлена отчётность. Настоящее письмо будет вложено в письмо к губернатору, которому я излагаю все свои нужды, но увенчается ли это успехом, бог знает, т.к. я уже писал ему и безрезультатно. Кроме того, его плохо слушают. Так, например, это ружьё должен был передать мне исправник, но я получил его бог весть каким путём и месяц спустя. Будет ли вообще доставлено ему это моё письмо, т.к. кто знает, в его ли канцелярии или здесь делаются эти "прекрасные дела". И вы хорошо понимаете, что в первом случае не доставят из опасения кары, во втором - чтобы не быть уличёнными в злоупотреблениях. Ужасно подумать, что придётся всю жизнь провести с подобными людьми".
Иркутский губернатор Цейдлер вынужден был в своё оправдание приложить к письму Голицына следующую записку: "Долгом считаю объявить, что все вещи осматриваются при мне и отправляются тотчас и потому ничего утеряно быть не может. Что нумера газет не все, в этом правительство не виновато, а что пришлют, то и отправляем. Посылки худо укладываются, вещи приходят потерянные и разбитые. Муки прислано 5 кулей, а не 50 пудов. Денег Голицыну отправлено 3300 рублей, и по желанию матери его, из принадлежащих ему 500 отослано Веденяпину. Следовательно, ничего и никаких денег правительство здешнее не удерживает". Губернатор не смог опровергнуть фактов, хотя и свалил всю вину на плохую упаковку. Из записки Цейдлера видно, что Голицын помогал своему товарищу по несчастью. Но сейчас трудно установить, о каком Веденяпине идёт речь. Аполлон Веденяпин был осуждён по VIII разряду и в это время находился на поселении в Киренске вместе с Голицыным. Младший брат Аполлона, Алексей Васильевич Веденяпин в это время служил рядовым на Кавказе в 42 егерском полку. Очевидно, его имеет в виду Цейдлер, иначе бы Голицын знал об этих 500 рублях, если бы их получил Аполлон Веденяпин.

Отец декабриста М.Н. Голицын - потомок древнего княжеского рода. К XIX веку этот род стал очень разветвлённым, но князья продолжали играть значительную роль в управлении государством. Родной брат Михаила Николаевича, Александр Николаевич (8.12.1773-4.12.1844), с детства был другом великого князя Александра Павловича, поэтому после воцарения последнего стал обер-прокурором Синода (1803). Под стать своему царствующему другу, обер-прокурор увлекался религией и мистикой. Мистические настроения особенно овладели князем после 1812 года, когда он стал возглавлять Российское библейское общество. С 1816 года А.Н. Голицын занимал пост министра просвещения, а через год возглавил объединённое министерство духовных дел и народного просвещения, которое Н.М. Карамзин называл министерством "затмения".
Период управления Голицына характерен душной атмосферой мистицизма и мракобесия. Достаточно сказать, что среди сотрудников министра находились такие личности, как М.Л. Магницкий и Д.П. Рунич. Политика А.Н. Голицына вызывала недовольство православной церкви. Дело дошло даже до публичного скандала в салоне графини Орловой-Чесменской, когда архимандрит Фотий прокричал "анафему" министру. Ревностный сын православной церкви, обер-прокурор святейшего Синода и министр духовных дел был предан самому страшному для христианина проклятию. Положение Голицына пошатнулось, и в 1824 году, вследствие происков Фотия и А.А. Аракчеева, он вынужден был подать в отставку. "Без лести предан" видел в Голицыне своего соперника по влиянию на царя. Об огромном доверии Александра I своему министру говорит хотя бы то, что он вместе с Аракчеевым и митрополитом Филаретом принимал участие в составлении Манифеста об отречении от престола Константина Павловича. Рукой Голицына была даже написана довольно мудрёная заключительная фраза Манифеста: "О нас же просим всех верноподданных наших да они с любовью, по которой Мы в попечение о них непоколебимом благосостоянии полагали Высочайше на земли благо, принесли сердечные мольбы к Господу и Спасителю Нашему Иисусу Христу о принятии души Нашей, по не изречённому Его милосердию, в Царствие его вечное". Голицын также сделал копии с этого Манифеста, которые и были разосланы в Государственный Совет, Сенат и Синод. Как известно, этот Манифест содержался в глубокой тайне.
В период "междуцарствия" А.Н. Голицын поддерживал Николая I и настаивал, чтобы тот исполнил волю своего брата, выраженную в Манифесте от 16 августа 1823 года. Позднее Голицын управлял почтовым ведомством.
Всю жизнь А.Н. Голицын провёл холостяком и был известен своей нетрадиционной сексуальной ориентацией. Н.М. Языков в письме 1824 года приводит анекдот, "будто бы государь призывал к себе известного содомита В.Н. Бантыш-Каменского и приказал ему составить список всех ему знакомых по этой части, что Бантыш-Каменский представил ему таковой список, начав оный министром просвещения, потом стоял канцлер и так далее... Он имел после этого аудиенцию у государя и удостоверил его клятвенно в истине своего донесения". А.С. Пушкин высмеял Голицына в эпиграмме "Вот Хвостовой покровитель..." Знаменитый мемуарист и сам гомосексуал Ф.Ф. Вигель вспоминает о Голицыне ещё более непристойно: "Не краснея, нельзя говорить об нём, более ничего не скажу: его глупостию, его низостию и пороками не стану пачкать страниц".
Михаил Николаевич Голицын (19.06.1756-3.04.1827) не занимал таких постов, как его брат, но тоже стоял значительно высоко на служебной лестнице. В 1802 году он был назначен Ярославским губернатором, пост которого занимал четырнадцать лет. В отличие от своего брата, обер-прокурора, губернатор не очень увлекался мистикой, хотя и отдавал дань моде (да и с ориентацией у него "всё было в порядке"). Его больше занимали дела по управлению губернией - это ведь было напряжённое время войн с Наполеоном, а затем последовала Отечественная война 1812 года, и М.Н. Голицыну пришлось заниматься организацией госпиталей, ополчением, размещением беженцев и т.п. На организацию ополчения губернатор пожертвовал пять тысяч рублей из своих доходов. Война принесла горе и князю - в Бородинском сражении погиб его 22-летний сын Николай.
Во время правления Голицына в Ярославле были открыты "Ярославское Демидовское высших наук училище", гимназия, "Общество любителей российской словесности" и типография при губернском правлении.
Князю Михаилу Николаевичу не везло в семейной жизни. Ему не было ещё и сорока лет, когда умерла его вторая жена - Федосья Степановна Ржевская, воспитанница первого выпуска Смольного института. По приказу Екатерины II она была запечатлена Левицким, который изобразил её танцующей. Похоронив жену в Толгском монастыре, князь Михаил Николаевич отправился исполнять свои служебные обязанности в Эстляндию, где он был тогда вице-губернатором. Вскоре он женился третий раз. Его женой стала Наталья Ивановна Толстая (18.07.1771-24.11.1841), сестра А.И. Остермана-Толстого, героя войны 1812 года, прославившегося особенно во время заграничных походов (Кульм). "Княгиня Наталья Ивановна, - писала о ней одна из родственниц, - была, в своём роде, замечательная женщина по уму, самостоятельному характеру и оригинальному обращению в обществе". Уже в Ярославле от этого брака 23 сентября 1803 года у Голицыных родился второй сын - Валериан. Очевидно, будущий декабрист родился в губернаторском доме, который находился тогда на углу Которосльной набережной и Духовской улицы (ныне улица Республиканская). Здание находилось напротив факультета иностранных языков пединститута, ближе к реке. В 1820-е годы, когда губернатор переехал на Волжскую набережную, здание пришло в ветхость, а в 1840-е годы от него остались одни развалины. Сохранился чертёж этого здания, выполненный по приказу Ярославского гражданского губернатора М.Н. Голицына в 1809 году.
У Валериана было ещё два брата: старший - Александр (1798-1858), в аристократическом свете известный под прозвищем "Серебряный". Одно время у него были сомнения в истинности православия, и он перешёл в католичество. В 1820-е годы довольно часто думающая молодёжь пыталась истолковать отрицательные стороны русской действительности косностью православия, его зависимостью от бюрократического государственного аппарата. Многим казалось, что духовное освобождение можно найти в лоне независимой могущественной католической церкви. Даже такой яркий и оригинальный ум, как Чаадаев, тоже был очарован католицизмом, а для молодого мыслителя Печерина это даже кончилось поступлением в монашеский орден. У Александра Голицына колебания между католицизмом и православием кончились в пользу отечественной религии. В этом сыграл определённую роль и митрополит Филарет, написавший в 1820-х годах специально для князя "Серебряного" "Разговор между испытующим и верующим", в котором ополчился против векового врага православной церкви - "папежства". Впоследствии Александр Голицын довольно успешно служил, стал статским советником и возглавлял почтовое ведомство в Варшаве.
Младший брат декабриста - Леонид Михайлович (15.02.1806-23.02.1860) - служил в гвардии. Во время войны с Турцией в 1828 году он был адъютантом Дибича. Голицын принимал участие в подавлении восстания в Польше в 1831 году, где был тяжело ранен, после чего вышел в отставку.
М.Н. Голицын принадлежал к состоятельным дворянам. У него были имения в Ярославском, Ростовском, Пошехонском, Ветлужском, Ливенском, Епифанском уездах. По седьмой ревизии (1815 г.) Ярославскому губернатору только в управляемой им губернии принадлежало 748 душ мужского пола. К моменту восстания декабристов имения Голицына значительно возросли. В 1822 году Михаил Николаевич купил с торгов у статского советника М.А. Майкова за 34750 рублей в Ярославском уезде сельцо Горки, Копытово, Поратки, деревни Чебакино, Тантыково, Починки, Михино, Поповку, Савкино. В начале XIX века князю Голицыну принадлежало также село Карабиха, возле которого была построена усадьба. После смерти старого князя в 1827 году усадьба перешла к его сыну Леониду, у вдовы которого Анны Матвеевны и их дочери Екатерины Леонидовны и приобрёл усадьбу Н.А. Некрасов.
В первой половине XIX века барский дом в Карабихе выглядел иначе, чем теперь. По семейным преданиям Голицыных, план усадьбы составил тот же архитектор, который строил и подмосковное Ильинское, принадлежавшее в начале XIX века А.И. Остерману-Толстому. Барский дом был с антресолями и двумя боковыми флигелями, которые соединялись со средним домом галереями. Вдоль всего фасада пристроены были массивные каменные аркады. В центральной части они достигали уровня второго этажа, т.е. образовывалась терраса с двумя въездами, настолько широкими, что парные экипажи Голицыных подавались прямо под портик к дверям парадного гостиной. За домом начинался английский парк с большими лужайками, беседками, горками, статуями. Ко времени продажи усадьбы Голицыны давно не жили в ней. Постройки обветшали, парк зарос, беседки и мостики развалились, статуи были разбиты.
Н.А. Некрасов приобрёл усадьбу и земли только по правую сторону дороги, а земли по левую сторону остались за Голицыными.
В 1868-1870 годах брат поэта, Фёдор Алексеевич, произвёл ремонт и частичную перестройку ансамбля барского дома. В результате этого ремонта фасад утратил свой первоначальный облик. Интерьер также потерял прежнее великолепие, хотя в кабинете Некрасова оставались ещё кое-какие вещи из голицынских времён - старинная бронза и большой портрет Екатерины II.
Будущий декабрист до 11 лет воспитывался дома, затем с 1814 по 1815 гг. в петербургском Пансионе коллегии иезуитов, а в 1815-1817 гг. пансионе Жонсона. Затем он учился в Москве у профессора Шлецера, сына известного историка Августа Шлецера. В семь лет (29.03.1811) сын губернатора был зачислен формально в привилегированное учебное заведение - Пажеский корпус, где уже учился его старший брат Александр, а затем будет учиться и младший - Леонид. Реально в стенах этого учебного заведения Валериан Голицын оказался в 1819 году.
Постановка образования в Пажеском корпусе не отличалась серьёзностью. Учителя были плохо подготовлены, ни один из них "не умел представить свою науку в достойном её виде и внушить к ней любовь и уважение". Особенно плохо преподавали историю - изучали только античную и русскую. Так как почти все воспитанники происходили из аристократических семей, и отцы которых занимали высокие посты, многое пажам сходило с рук. Поэтому дисциплина в корпусе была слабой - царил дух своеобразного буршианства, процветало своеволие старших по отношению к младшим. Говоря современным языком: в корпусе процветала "дедовщина" и проделки питомцев были очень далеки от невинных. Будущий декабрист А.С. Гангеблов, тоже бывший жертвой этих проделок, рассказывает, что однажды группа пажей решила отомстить своему товарищу. Для этого они заколотили его в бочку, предварительно обмотав голову полотенцем, и под крики "ура" спустили с лестницы.
Но наряду с гусарским духом, воспеваемым Денисом Давыдовым и бытовавшим среди дворянской военной молодёжи, в корпусе среди определённой части пажей господствовал дух свободолюбия и личной независимости. Некоторых не устраивали занятия, где античную историю в основном преподавали для знания мифологии, а французский язык для того, чтобы уметь изъясняться в великосветском обществе. Среди воспитанников распространялась литература, которая явно не рекомендовалась для назидательного чтения. Наконец, в Пажеском корпусе возникло тайное общество "квилки". В основном, в нём занимались самообразованием, но и туда проникали идеи, волновавшие передовых людей России. Руководитель этого кружка, "вольнолюбец до цинизма", по определению Гангеблова, дружил с писателем-декабристом Александром Бестужевым.
В 1820 году, когда В.М. Голицын был уже камер-пажем, в Пажеском корпусе произошёл настоящий "бунт". Поводом послужило наказание воспитанника Арсеньева розгами. Это вызвало возмущение пажей, возглавляемых "квилками". Позже Гангеблов заметил, что "школьный бунт этот был детищем тех же учений, которые привели к декабрьской катастрофе". Хотя руководитель "квилков" А.Н. Креницын по высочайшему повелению был наказан розгами, исключён из корпуса и разжалован в солдаты, случай оставил след и был одной из зарниц грозы 1825 года. Интересно отметить, что уже будучи на Кавказе, Гангеблов, встретившись там с Голицыным, неоднократно в своих разговорах вспоминал тот бунт, о котором он счёл также необходимым сообщить на следствии, "что семя, брошенное в школьную почву, могло бы рано или поздно принести вредные плоды". В такой атмосфере провёл Голицын без малого три года.
26 марта 1821 года князь начал служить в чине прапорщика в знаменитом Преображенском полку. В этом полку он прослужил три года, а 3 февраля 1824 года был уволен поручиком. 2 февраля 1825 года он поступил в Департамент Внешней торговли с переименованием в титулярные советники. Кто мог подозревать, что молодой камер-юнкер - племянник одного из влиятельнейших людей в государстве А.Н. Голицына - уже два года является членом тайного общества?
В Северное общество Валериан Михайлович вступил ещё будучи офицером-преображенцем в 1823 году. Изучая историю Северного общества, можно прийти к выводу, что в этой декабристской организации в период с 1823 по 1825 годы выделилось два крыла: более умеренной программы и тактики - Никита Муравьёв, Сергей Трубецкой, Николай Тургенев, и сторонники революционной программы и особенно тактики - так называемая, "отрасль" Рылеева. Хотя "отрасль" не представляла какой-то особой организации внутри общества, но она объединяла между собой людей, связанных общностью понимания как задач, стоявших перед тайным обществом, так и общих всему движению тактических лозунгов и положений программы. В.М. Голицын по своим взглядам примыкал к "отрасли" К.Ф. Рылеева, хотя лично они встречались редко.
В Северном обществе, в отличие от Южного, не было общепризнанной, принятой программы. Конституция Никиты Муравьёва вызвала в столичной декабристской организации серьёзную критику, которая ещё более усилилась, когда в 1823-1824 гг. члены Северного общества познакомились с программой Южного общества. Революционная решительность и демократические тенденции "южан" встретили сочувствие многих новых членов общества. Взгляды сторонников П.И. Пестеля импонировали Голицыну. В 1823-1824 гг. он вступал в спор с одним из руководителей Северного общества, С.П. Трубецким, перед которым защищал республиканские идеи Пестеля. Одним из пунктов разногласий в области тактики был вопрос о цареубийстве. Опыт французской и испанской революций приводил членов Южного общества к пониманию необходимости одновременного уничтожения всех возможных претендентов на престол как опоры контрреволюции.
На одном из собраний у Оболенского член Южного общества А.В. Поджио сказал декабристам Митькову, Валериану Голицыну и другим, что "покушение на жизнь всей царской фамилии положено первым началом действия общества". Это должно служить сигналом к революционному выступлению. "Отрасль" Рылеева разделяла точку зрения Пестеля. Источники свидетельствуют, что на собрании у Оболенского после слов Поджио об истреблении царской семьи Митьков ответил: "Моё мнение: до корня всех истребить. Валериан Голицын равным образом был с тем согласен". Декабрист Матвей Муравьёв-Апостол подтверждал на следствии, что во всё время его пребывания в 1823 году в столице, "Никита Муравьёв и князь Сергей Трубецкой не были согласны на счёт преступного предложения Южного общества: республики и истребления (царской фамилии). Н. Тургенев, князь Оболенский, Рылеев, Бестужев, Вадковский, Свистунов, Анненков, Депрерадович разделяли сие мнение". Князь Голицын принимал участие в нескольких собраниях (Оболенского, Поджио), где обсуждались как программные документы, так и тактические вопросы. Правда, особой активности князь не проявлял.
Надо сказать, что Валериан Голицын стал главным героем романа Мережковского "14 декабря", но пусть читатель не надеется найти в этом произведении какие-то факты из жизни реального Голицына. Не говоря уже о мировоззрении, которым автор наделил своего героя. Мережковский в качестве исторической канвы взял воспоминания декабриста И.Д. Якушкина.
Арестовали Голицына в январе 1826 года. 24 числа этого месяца он был отправлен в крепость с неизменной запиской: "присылаемого князя Голицына посадить на гауптвахту, содержать строго, но хорошо". Для престарелого Михаила Николаевича это был удар, который стал тяжелее вдвойне, когда в Карабиху пришло известие, что арестован и старший сын, Александр, подпоручик лейб-гвардии пешей артиллерии. Последний был арестован вследствие показаний фон Вольского, сообщившего князю Голицыну ещё в 1823 году о существовании тайного общества. Брат Валериана не изъявил желания сделаться членом этого общества, однако, Матвей Муравьёв-Апостол сообщил на следствии, что на одном из собраний у Поджио наряду с Валерианом присутствовал и "брат его артиллерийский" (имеется в виду, что Александр служил в артиллерии). Якушкин и Михаил Бестужев считали старшего Голицына принадлежавшим к обществу и даже возлагали на него определённые надежды. Михаил Бестужев, рассказывая о восстании на Сенатской площади писал: "Пешая гвардейская артиллерия не соединилась с нами потому, что князь А. Голицын и прочие члены общества по малодушию позволили... себя арестовать". Хотя в рассказе Бестужева много неточностей, и вряд ли всё происходило так на самом деле, но, очевидно, Александр Голицын знал об обществе. Показания главных членов Северного общества были для него благоприятными, и следователи не стали особенно тщательно выяснять обстоятельства связей гвардейского поручика с декабристами. Пробыв под арестом до 20 апреля, А. Голицын был освобождён без каких-либо последствий для своей карьеры.
Младший брат томился на карауле у Петровских ворот Петропавловской крепости в мучительном ожидании своей участи. Сначала Валериан решил всё отрицать, не говорить, что он является членом тайного общества. Но следователи знали слишком много, больше того, чем мог он догадывться. Это стало ясно уже из предварительного устного допроса. Следственная комиссия обычна присылала вопросы арестованному. Голицын колебался - отрицать или рассказать? Верность слову, понятие дворянской чести требовали первого, но вместе с тем приходили мысли о молодости, о суровых военных законах, восходящих ещё к петровскому времени.
Нужно вести себя твёрдо, - главное - отрицать своё согласие на цареубийство. Очная ставка с Александром Поджио, который показал, что Голицын соглашался на истребление императорской фамилии. Нет, никогда не соглашался. - А слова Митькова - "До корня всех истребить". - Нет, никогда не слышал таких слов от Митькова. Показания других об истреблении царя - обнадёживающие для князя: одни говорят, что Голицын не присутствовал, когда Митьков произносил страшные слова, другие - что вообще не помнят Голицына. Похоже, что самая чёрная туча проходит. Может чем-нибудь поможет дядя Александр Николаевич? Брата Александра ведь освободили. А пока: серый гранит, часовые, одноногий комендант. О своём пребывании в крепости Валериан Михайлович вспоминал позже: "Мой день разделён на две равные половины. До полудня я лежал в постели. С полудня до полуночи я ходил безостановочно по своей крошечной тюрьме и курил. Ни книг, ни бумаги, ни чернил, ни перьев, ни карандашей не давали. Табак давали, картуз табаку лежал у меня у окна, и когда он был запечатанный, то от сырости тюрьмы всегда лопалась бумага. В полночь я ложился и до полудня следующего дня уже не вставал с постели. Что я передумал во время ежедневного двенадцатичасового хождения взад и вперёд по пространству в несколько шагов, рассказать невозможно".
По приговору Верховного уголовного суда Валериан Голицын был осуждён по VIII разряду - "лишение чинов и дворянства и ссылка в Сибирь бессрочно". По конфирмации в августе 1826 г. "бессрочно" заменено на 20 лет. Приговор оказался сравнительно мягким. Может здесь и сказалось заступничество дяди? Ведь вымолил же на коленях Алексей Орлов у императора Николая I помилование своему брату Михаилу.
Своему "другу по 14 декабря" (так в непринуждённой атмосфере Николай I называл сосланных декабристов) В.М. Голицыну царь сначала местом ссылки назначил Якутск. Условия жизни в этом крае были суровыми, русского населения было очень мало, якуты вели кочевой образ жизни. Не хватало даже хлеба, поэтому местное население заготавливало в прок древесную кору, которую сушили, а затем употребляли вместе с молоком. Но в глухих местах Якутии было невозможно создать того строгого и бдительного надзора, которого требовало правительство. Вероятно, по этой причине, а также под влиянием дяди и отца, в конце июля 1826 года Голицына отправили в город Киренск Иркутской губернии. Название "город" было слишком громким для Киренска. В 1858 году в нём проживало всего 830 человек, а во времена Голицына - и того меньше.
На поселение Валериана вёз фельдъегерь Тихонов. Попутчиком стал бывший поручик Черниговского полка А.И. Шахирёв, тоже осуждённый по VIII разряду. Местом поселения ему был назначен глухой, спрятанный среди болот, Сургут Тобольской губернии. До Тобольска доехали вместе, распрощались, чтобы больше уже никогда не встретиться. Шахирёв умер через два года.
Ссылка сына в Сибирь совсем подорвала здоровье престарелого князя. Для него "государственный преступник", замышлявший перевернуть устои государства, был всего-навсего мальчик, который и шагу не может ступить без поддержки отца. Как будет он жить в холодной Сибири среди диких якутов? Кто будет заботиться о его здоровье, о его досуге в этой дикой стране, где и собеседника невозможно найти? Брат Александр Николаевич и так сделал всё, что можно, но нужно как-то помочь сыну. Старый князь, наконец, решил кого-нибудь из близких людей к Валериану послать, чтобы опытный человек помог наладить ему жизнь. Выбор пал на Василия Лазова, грека по национальности, проживавшего в семье Голицыных около 20 лет и бывшего дядькой почти всех младших детей, в том числе и Валериана. Лазов сам согласился ехать в далёкую Сибирь. Князь дал в помощь греку двух крепостных, снабдил их деньгами, наставлениями, письмами родных к "своему мальчику", и Лазов в начале 1827 года отправился в Сибирь. Но старый князь так и не дождался сообщений верного грека о сыне: в этом же, 1827 году, семидесятилетний Михаил Николаевич скончался.
Прибыв в Иркутск, Лазов явился к губернатору И.Б. Цейдлеру и заявил, что желает отправиться по торговым делам в Киренск и Якутск. При этом он добавил, что "быв с давнего времени знаком с домом князей Голицыных, намерен, согласно сделанного ему поручения, присоединиться к сосланному в Сибирь государственному преступнику Валериану Голицыну, устроить его жизнь, заниматься его хозяйством и наблюдать за нравственным и физическим поведением".
Для губернатора такая просьба явилась неожиданной, но он всё же отпустил грека в Киренск. Сомнения о законности разрешения ехать Лазову к Голицыну не оставляли Цейдлера. Совсем недавно он выдержал упорную борьбу с Е.И. Трубецкой, М.Н. Волконской и А.Г. Муравьёвой. А ведь ещё в сентябре 1826 года иркутский гражданский губернатор получил высочайше одобренное указание генерал-губернатора Восточной Сибири Лавинского, в котором предписывалось местному начальству "употреблять всевозможные внушения и убеждения к оставлению их (имелись в виду жёны декабристов) в сем городе и к обратному отъезду в Россию". В частности, рекомендовалось внушить жёнам, что, "следуя за своими мужьями и продолжая с ними супружескую связь, они, естественно, сделаются причастными к их судьбе и потеряют прежнее звание, т.е. будут уже признаваемые не иначе, как жёнами ссыльно-каторжных, а дети, которые приживутся в Сибири, определить в казённые крестьяне".
Но даже эти угрозы не оказали действия. Губернатор разрешил ехать к своим мужьям: всё-таки здесь - законный брак, освящённый церковью, а как быть с "дядькой", следующему к государственному преступнику, чтобы следить за его "нравственным и физическим состоянием"?
Цейдлер решил обратиться к генерал-губернатору. Последний совсем растерялся. Ведь по его заявлению уже было возбуждено дело "за беспорядки при распределении государственных преступников" против председателя Иркутского губернского правления Н.П. Горлова, который отнёсся чрезвычайно гуманно к первой партии декабристов и разместил их вблизи Иркутска, вместо того, чтобы отправить в дальние рудники. И не сочтут ли в Петербурге прибытие "дядьки" к молодому Голицыну как послабление? После раздумий Лавинский решил обратиться за соответствующими разъяснениями к Главному управляющему третьим отделением Бенкендорфу. Правда, генерал-губернатор Восточной Сибири сделал это в неофициальной форме - это было частное письмо, написанное на французском языке. Всесильный шеф жандармов доложил об этом самому Николаю I.
По распоряжению царя Бенкендорф на письме Лавинского сделал следующие пометки: "Кто ему (Лазову) дал паспорт и как он испросил у нежинского магистрата написать об этом губернатору (Черниговскому, в губернии которого находился Нежин, Губернатор донёс позднее, что в Нежине Лазов "промышленности никакой не имел"); написать князю Голицыну в Москву (Д.В. Голицын - в 1820-1843 гг. московский генерал-губернатор), чтобы он испросил мать молодого Голицына, почему она выбрала этого грека, чтобы доверять своего сына; кто те двое слуг и по какому праву она туда их послала. Генерал-губернатору Сибири - чтобы он немедленно отослал этого грека обратно, хорошо допросил его предварительно, а равно и слуг".
Через некоторое время Бенкендорф получил своеобразное письмо-покаяние матери Валериана, Натальи Ивановны Голицыной. Она писала следующее: "На вопрос, сделанный мне чиновником московского военного губернатора статским советником Тургеневым по какому случаю грек Василий Лазов находится в городе Киренске, который объявил тамошнему начальству, что он приехал к сыну моему Валериану Голицыну - устроить ему жительство, заняться его хозяйством и наблюдать за его нравственным и физическим поведением, объясняю: что означенный грек Лазов, имея около 50 лет от роду, более 20 лет жил у нас в доме, как друг, при котором все почти дети наши родились и возросли и который по собственной своей привязанности к нам просил даже нашего согласия ехать туда, так как от правительства не было запрещения на въезд и жительство в оных городах свободного состояния людям. Мы не только не отказали ему в том, но не могли довольно признать сердечного расположения его к нам, тем более, что зная хорошую его нравственность и правила, мы польстились поручить ему назидание сына нашего, постигнутого несчастием на 23 году, быв совершенно уверенны, что он не допустит его впасть в пороки, которые бы ещё могли усугубить его положение. Что касается до крепостных людей, в то время, когда господин Лазов решился предпринять этот путь, нодобны были ему люди для сопровождения и для услуги - по летам его невозможно было на расстоянии 7 000 вёрст ехать одному или с неизвестными лицами, почему покойный муж мой, желая дать ему в услугу тех, которые сами пожелают, собрал их и спросил. Эти двое изъявили желание ехать и служить г. Лазову, на кой предмет и снабжены были плакатными паспортами, дабы в случае, если они пожелают оттуда возвратиться, чтоб не встретилось им какое препятствие".
Царь, прочтя это письмо и не видя здесь потрясения государственных основ, приказал: "Крепостных выслать обратно в Россию, а греку разрешить остаться в Киренске, но взять с него подписку, что он согласен поселиться в сем городе, в противном случае выслать и его". Бенкендорф сообщил высочайшую резолюцию Лавинскому, но уже было поздно. Генерал-губернатор вызвал ещё раньше Лазова из Киренска в Иркутск и придирчиво рассмотрел его бумаги. Из писем "от отца, матери и других родственников преступника Валериана Голицына" он увидел, что Лазова "убеждали решить всё возможное о Валериане Голицыне, способствовать ему советами к терпеливому сношению участи его, подтверждать в поведении его, отвергнуть от худых наклонностей, в которые он мог бы погрузиться от отчаяния, доставлять ему всё нужное к жизни и быть ему неразлучным собеседником". Как видим, намерения были самые благие и могли быть даже полезны для властей, но последняя не могла терпеть, чтобы наряду с ней находилась ещё какая-нибудь опека. Лавинский приказал Лазову и крестьянам уехать в Россию. Впоследствии, однако, Лазов всё же несколько раз приезжал к Голицыну в Сибирь с деньгами, книгами и т.п.
Злоупотребления администрации сказывались не только на людях близких к декабристам, но и сами декабристы постоянно ощущали "заботу" сибирской администрации, которая подчас была более нахальной, чем в европейской части страны. Строго контролировалась переписка "государственных преступников". Письма пересылались через жандармское управление и поступали туда только в открытом виде. Во все почтовые отделения страны были разосланы списки декабристов и лиц, с которыми они переписывались. Почтовое начальство обязано было вскрывать все такие письма и "поступать с ними соответственно по содержанию", т.е. пересылать во всех подозрительных случаях в жандармское управление. Именно таким образом до нас дошло письмо Валериана Голицына к матери от 28 мая 1828 года. Из этого письма жандармы сделали интересующие их выписки и отправили в третье отделение.
Письмо раскрывает злоупотребления администрации, которые на каждом шагу отравляли жизнь Голицына. Он писал: "Нам разрешено писать и получать письма от наших родных, а между тем вот уже более трёх месяцев, что я не имею писем от сестрицы; наверное, это не по её вине. Позволяют нашим родным приходить нам на помощь, но деньги не доходят до нас целиком и мы совершенно не знаем, какие суммы высылаются нам.
Несмотря на наши хлопоты, несмотря на письмо, которое вы написали губернатору с просьбой переслать мне деньги на мою жизнь, несмотря на то, что я получил только 3200 рублей вместо 4000 в продолжении этих двух лет, что я здесь, губернатор мне ничего не выслал, и я вынужден лишать себя очень многого и платить вдвое дороже за вещи, которые мог бы иметь дешевле и лучшего качества. Даже вещи прибывают разрозненными. Только сегодня я получил ружьё, посланное Леонидом (младшим братом), не хватает в нём двух частей и его, по-видимому, употребляли на охоте, так как оно сильно подержано. Губернатор предварительно послал мне ключ от ящика, в котором находилось ружьё, а ящик прибыл ко мне открытым, а ключ не подходит к замку, наверное, его подменили. Из русских журналов я получил только первый номер "Телеграфа". Из 50 пудов муки доставлено мне только 25 пудов, остальная часть девалась бог весть куда, так же как и много других вещей, о посылке которых я не знаю, ибо не все письма доходят до меня.
Словом, нас хорошо обставили. Невозможно дальше оставаться в этом положении, так как оно всё ухудшается. Вам следовало бы, дорогая матушка, попросить, чтобы нам разрешили писать непосредственно; письма могли бы вскрывать на почте, но по крайней мере была бы установлена отчётность. Настоящее письмо будет вложено в письмо к губернатору, которому я излагаю все свои нужды, но увенчается ли это успехом, бог знает, т.к. я уже писал ему и безрезультатно. Кроме того, его плохо слушают. Так, например, это ружьё должен был передать мне исправник, но я получил его бог весть каким путём и месяц спустя. Будет ли вообще доставлено ему это моё письмо, т.к. кто знает, в его ли канцелярии или здесь делаются эти "прекрасные дела". И вы хорошо понимаете, что в первом случае не доставят из опасения кары, во втором - чтобы не быть уличёнными в злоупотреблениях. Ужасно подумать, что придётся всю жизнь провести с подобными людьми".
Иркутский губернатор Цейдлер вынужден был в своё оправдание приложить к письму Голицына следующую записку: "Долгом считаю объявить, что все вещи осматриваются при мне и отправляются тотчас и потому ничего утеряно быть не может. Что нумера газет не все, в этом правительство не виновато, а что пришлют, то и отправляем. Посылки худо укладываются, вещи приходят потерянные и разбитые. Муки прислано 5 кулей, а не 50 пудов. Денег Голицыну отправлено 3300 рублей, и по желанию матери его, из принадлежащих ему 500 отослано Веденяпину. Следовательно, ничего и никаких денег правительство здешнее не удерживает". Губернатор не смог опровергнуть фактов, хотя и свалил всю вину на плохую упаковку. Из записки Цейдлера видно, что Голицын помогал своему товарищу по несчастью. Но сейчас трудно установить, о каком Веденяпине идёт речь. Аполлон Веденяпин был осуждён по VIII разряду и в это время находился на поселении в Киренске вместе с Голицыным. Младший брат Аполлона, Алексей Васильевич Веденяпин в это время служил рядовым на Кавказе в 42 егерском полку. Очевидно, его имеет в виду Цейдлер, иначе бы Голицын знал об этих 500 рублях, если бы их получил Аполлон Веденяпин.
Метки: декабристы голицыны |
Никита Кирсанов. "Декабрист Флегонт Башмаков". |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Декабрист Флегонт Башмаков".

Флегонт Миронович Башмаков (1774 г. - 21 сентября 1859 г.), по возрасту самый старший из декабристов, происходил из дворян Симбирской губернии. Крестьян не имел.
На военную службу поступил 28 ноября 1794 г. сержантом во 2-й фузилерный полк. 24 февраля 1797 г. был переведён в артиллерию подпрапорщиком, с которой участвовал во многих войнах. В походе 1799 г. А.В. Суворова в Италию особенно отличился в делах при Лоди, Нови, Требии и Мантуе. Принимал участие в Турецкой и Шведской войнах, после чего 22 января 1806 г. уволен в отставку. Ровно через год вновь принят на службу. 15 ноября 1807 г. произведён в штабс-капитаны, за отличие в сражении капитан - 12 декабря 1808 г., майор - 21 декабря 1810 г., подполковник - 9 февраля 1811 г. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии 1813-1814 гг. За отличие в сражении 1812 г. произведён в полковники. Состоял в оккупационном корпусе графа Воронцова и вернулся в Россию только в 1818 г. Служил на Кавказе.
26 марта 1820 г. из полковников 17-ой артиллерийской бригады за клевету и растрату был разжалован в солдаты без лишения дворянства и определён в рядовые Черниговского пехотного полка. Во время службы в этом полку Ф.М. Башмаков был принят в Южное общество декабристов, хотя сам это решительно отрицал на следствии.
Выполняя отдельные поручения, он не стал активным деятелем тайного общества. Но жил Башмаков на одной квартире с главой южан П.И. Пестелем. И это обстоятельство послужило причиной суровой расправы над старым воином, ибо в восстании Черниговского полка Башмаков не участвовал.
Арестован, тем не менее, он был как раз в связи с восстанием Черниговского полка, и лишь во время следствия выяснилась его причастность к Южному обществу.
15 февраля 1826 г. закованный в кандалы Башмаков был доставлен в Петербург, в Главный штаб. На следующий день переведён в Петропавловскую крепость «для содержания как солдата и преступника» и помещён в особый арестантский каземат Васильевской куртины. Кандалы же с Башмакова были сняты только 13 мая 1826 г.
По высочайшему повелению (17 августа 1826 г.) Башмаков был предан военному суду при 1-ой армии в Могилёве (отправлен туда 31 августа) и приговорён к лишению дворянства, исключению из военного звания и ссылке навечно в Сибирь на поселение. Приговор 10 сентября 1827 г. был конфирмован.
В начале Ф.М. Башмаков был поселён в Рыбинской волости Тарского округа Тобольской губернии (ныне с. Большие Уки). Прибыл туда 24 августа 1828 г., а затем, в конце этого же года, переведён в Тару, где провёл долгих десять лет жизни.
Местные жители с уважением относились к крепкому старику - изумительному рассказчику и знатоку русской военной истории, обладающему прекрасной памятью. Несмотря на возраст, Башмаков много ходил пешком, отказывается носить даже зимой чулки, калоши. Материально Башмаков жил очень трудно: в России у него осталась восьмидесятилетняя мать, не располагавшая средствами. Помощь Флегонту Мироновичу оказывали его друзья декабристы.
По ходатайству матери в феврале 1838 г. Башмаков был переведён в Курган, а 5 марта 1853 г. - в Тобольск. По ходатайству князя А.А. Суворова (его сестра, Варвара Аркадьевна, в первом браке была за двоюродным братом Башмакова - Дмитрием Евлампиевичем Башмаковым), в сентябре 1853 г. последовало высочайшее соизволение возвратить его на жительство во внутренние губернии России (сперва во Владимир, а затем в Казанскую губернию в имение его родственника генерал-майора Николая Дмитриевича Булыгина).
Прошёл год, но Башмаков не торопился с выездом. Ему грозили принудительным выселением. Это испугало старика, поэтому он просил оставить его в Тобольске и писал тобольскому губернатору В.А. Арцимовичу: «Я стар, уже конец приходит моей жизни, лестно мне умереть от ядра»; «для чего мне в Казань и в Россию, - вообще могила там не теплее, я слаб и не в силах в восемьдесят лет переехать дальнего расстояния».
Башмакова оставили в Тобольске, где он и умер. Могила его находится на Завальном кладбище, рядом с товарищами по ссылке, не дожившими до освобождения.
У Ф.М. Башмакова былы двое детей: сын Александр (р. 1814 г.) и дочь Екатерина(1816-1841 гг.), в замужестве Головина, скончавшаяся в С.-Петербурге и похороненная в Лазаревской усыпальнице Александро-Невской лавры (напольная плита).

Флегонт Миронович Башмаков (1774 г. - 21 сентября 1859 г.), по возрасту самый старший из декабристов, происходил из дворян Симбирской губернии. Крестьян не имел.
На военную службу поступил 28 ноября 1794 г. сержантом во 2-й фузилерный полк. 24 февраля 1797 г. был переведён в артиллерию подпрапорщиком, с которой участвовал во многих войнах. В походе 1799 г. А.В. Суворова в Италию особенно отличился в делах при Лоди, Нови, Требии и Мантуе. Принимал участие в Турецкой и Шведской войнах, после чего 22 января 1806 г. уволен в отставку. Ровно через год вновь принят на службу. 15 ноября 1807 г. произведён в штабс-капитаны, за отличие в сражении капитан - 12 декабря 1808 г., майор - 21 декабря 1810 г., подполковник - 9 февраля 1811 г. Участник Отечественной войны 1812 г. и заграничных походов русской армии 1813-1814 гг. За отличие в сражении 1812 г. произведён в полковники. Состоял в оккупационном корпусе графа Воронцова и вернулся в Россию только в 1818 г. Служил на Кавказе.
26 марта 1820 г. из полковников 17-ой артиллерийской бригады за клевету и растрату был разжалован в солдаты без лишения дворянства и определён в рядовые Черниговского пехотного полка. Во время службы в этом полку Ф.М. Башмаков был принят в Южное общество декабристов, хотя сам это решительно отрицал на следствии.
Выполняя отдельные поручения, он не стал активным деятелем тайного общества. Но жил Башмаков на одной квартире с главой южан П.И. Пестелем. И это обстоятельство послужило причиной суровой расправы над старым воином, ибо в восстании Черниговского полка Башмаков не участвовал.
Арестован, тем не менее, он был как раз в связи с восстанием Черниговского полка, и лишь во время следствия выяснилась его причастность к Южному обществу.
15 февраля 1826 г. закованный в кандалы Башмаков был доставлен в Петербург, в Главный штаб. На следующий день переведён в Петропавловскую крепость «для содержания как солдата и преступника» и помещён в особый арестантский каземат Васильевской куртины. Кандалы же с Башмакова были сняты только 13 мая 1826 г.
По высочайшему повелению (17 августа 1826 г.) Башмаков был предан военному суду при 1-ой армии в Могилёве (отправлен туда 31 августа) и приговорён к лишению дворянства, исключению из военного звания и ссылке навечно в Сибирь на поселение. Приговор 10 сентября 1827 г. был конфирмован.
В начале Ф.М. Башмаков был поселён в Рыбинской волости Тарского округа Тобольской губернии (ныне с. Большие Уки). Прибыл туда 24 августа 1828 г., а затем, в конце этого же года, переведён в Тару, где провёл долгих десять лет жизни.
Местные жители с уважением относились к крепкому старику - изумительному рассказчику и знатоку русской военной истории, обладающему прекрасной памятью. Несмотря на возраст, Башмаков много ходил пешком, отказывается носить даже зимой чулки, калоши. Материально Башмаков жил очень трудно: в России у него осталась восьмидесятилетняя мать, не располагавшая средствами. Помощь Флегонту Мироновичу оказывали его друзья декабристы.
По ходатайству матери в феврале 1838 г. Башмаков был переведён в Курган, а 5 марта 1853 г. - в Тобольск. По ходатайству князя А.А. Суворова (его сестра, Варвара Аркадьевна, в первом браке была за двоюродным братом Башмакова - Дмитрием Евлампиевичем Башмаковым), в сентябре 1853 г. последовало высочайшее соизволение возвратить его на жительство во внутренние губернии России (сперва во Владимир, а затем в Казанскую губернию в имение его родственника генерал-майора Николая Дмитриевича Булыгина).
Прошёл год, но Башмаков не торопился с выездом. Ему грозили принудительным выселением. Это испугало старика, поэтому он просил оставить его в Тобольске и писал тобольскому губернатору В.А. Арцимовичу: «Я стар, уже конец приходит моей жизни, лестно мне умереть от ядра»; «для чего мне в Казань и в Россию, - вообще могила там не теплее, я слаб и не в силах в восемьдесят лет переехать дальнего расстояния».
Башмакова оставили в Тобольске, где он и умер. Могила его находится на Завальном кладбище, рядом с товарищами по ссылке, не дожившими до освобождения.
У Ф.М. Башмакова былы двое детей: сын Александр (р. 1814 г.) и дочь Екатерина(1816-1841 гг.), в замужестве Головина, скончавшаяся в С.-Петербурге и похороненная в Лазаревской усыпальнице Александро-Невской лавры (напольная плита).
Метки: декабристы |
Никита Кирсанов. "Декабрист из Пошехонья" |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Декабрист из Пошехонья".

Дед декабриста Окулова Прокопий Иванович (в 1791 году отставной бригадир) разделил свои имения между сыновьями, и прапорщик Павел Прокопьевич (отец декабриста) получил в Вологодской губернии деревню Алёшино, в Ярославской - село Владычное Пошехонского уезда, а в Костромской - деревни Ониково и Якшино.
Отец декабриста не дослужился до чинов своего отца, а полученные в наследство имения таяли, и своему сыну, Николаю Павловичу, он завещал только пятнадцать душ в деревне Якшино (второе название Беляки). Так, за пол-столетия Окуловы из средних дворян превратились в мелкопоместных. Поэтому, несмотря на Жалованную грамоту дворянства, внуки бригадира служили ради куска хлеба, ради того, чтобы дать приличное образование детям. В 1826 году брат декабриста, Иван Павлович, давая по требованию Николая I сведения об имущественном положении своих родственников, писал, что ему самому с женой принадлежит имение в 30 душ крепостных (к тому времени обременённое долгами), брату Александру Павловичу (полковнику Финляндского полка) 19 душ, старшей сестре, Елене Павловне, вместе с имением мужа - 77 душ (правда 60 душ заложено на 24 года в Опекунском Совете), а младшая сестра, Елизавета Павловна, "находится вне всякого состояния и проживает у тётки с материнской стороны".
Николай Павлович Окулов родился в 1799 году. По примеру своего старшего брата Ивана в 1810 г. поступил кадетом в Морской корпус. Через пять лет Н.П. Окулов был уже мичманом, а в 21 год - лейтенантом. Вся служба будущего декабриста была связана с Балтийским морем: учебные плавания, маневры. В 1824 г. он служил на фрегате "Лёгкий" и совершил поход от Кронштадта до Исландии. Правда, такие плавания были редкостью, так как с 1823 г. началась служба в Гвардейском морском экипаже. В это время Н.П. Окулов был назначен командиром придворной яхты "Церера".
Служба в гвардии давала возможность вращаться в кругу блестящей офицерской молодёжи, которая вела несколько рассеянный "гусарский" образ жизни, воспетый молодым Пушкиным, Языковым, Давыдовым, Лермонтовым. Среди близких знакомых Окулова мы встречаем братьев Бестужевых. Популярный в своё время писатель-романтик декабрист Александр Бестужев, писавший пол псевдонимом Марлинский, в своей памятной книжке за 1824 год довольно часто отмечает дни, которые он проводил у Окуловых. Например, запись 10 января: "Обедал у Греча, вечером был до полуночи у Окулова", 7 февраля: "Я поехал к Окулову, где пробыл долго", и т.д. Несколько позже младший брат Александра Бестужева, Пётр Бестужев, в своих "Памятных записках", в которых "описывал только тех, кто был ближе мне в настоящем жребии (записи относятся к 1828 г., когда П.А. Бестужев был сослан на Кавказ за участие в тайном обществе - Н.К.) или казались замечательными в некотором отношении", писал об Окулове: "Старый товарищ мой на море (П.А. Бестужев с 1812 года учился в Морском корпусе, а в 1824 г. вместе с Окуловым плавал на фрегате "Лёгкий" - Н.К.), в шалостях, в горе и радости. Любезный человек! Добр, как нельзя более, честнейших правил, на всё готовый для друга... С ним не раскаивался бы провести всю жизнь, уверенный, что никакое обстоятельство в свете не могло б переменить его участие и расположение. Ум его образован настолько, чтобы не краснеть в хорошем обществе. Характер живой, но мнительный - во всём подозревает он неискренность, думает, что его обманывают в дружбе, в приёме, и может стать, редко ошибается. Простительный его недостаток есть маленькое фанфаронство, которое с его фигурой делается смешным". (Воспоминания Бестужевых. М.-Л., 1951, с. 368-369).
Лейтенант Окулов не был членом тайного общества, но постоянно находился в кругу декабристов - уже упоминавшиеся Бестужевы, сослуживцы по Гвардейскому экипажу - А.П. Арбузов, братья А.П. и П.П. Беляевы. Конечно, Н.П. Окулов принимал участие в разговорах об "аракчеевщине", о военных поселениях, о вояжах "кочующего деспота". Поэтому 14 декабря 1825 года он поддержал своих товарищей и вместе с ними оказался на Сенатской площади.
Подготовка к восстанию в Гвардейском экипаже шла давно. В основном её вели Арбузов, братья Беляевы и братья Бодиско. Рано утром 14 декабря экипаж посетили Пётр Бестужев, Пётр Каховский и Николай Цебриков. Николай Бестужев, появившись в казармах, сказал: "Кажется, мы все здесь собрались за общим делом и никто из вас не откажется действовать". Кто-то из молодых офицеров ответил: "С вами мы готовы идти...". В экипаж приехал бригадный командир С. Шипов. Он попытался уговорить экипаж присягнуть Николаю, но "единогласно все офицеры, кроме штабс-офицеров, и все рядовые отказались". Шипова никто не слушал, а лейтенант Вишневский ответил, что "мы не видим отречения императора и поэтому считаем своим долгом сохранить присягу Константину". Матросы тем временем стали собираться во дворе казарм. Когда Шипов хотел прочесть Манифест и скомандовал "На караул", матросы отказались выполнить приказ. Арбузов показал на допросе, что Окулов говорил нижним чинам, будто егерские солдаты заявляют: "ежели их будут заставлять переменить присягу, то они готовы на всё".
Окулов вселял уверенность в матросов, убеждая их, что они не одни. Бригадный командир, чувствуя, что почва уходит из-под ног, решил арестовать Вишневского, но стоявшие рядом офицеры немедленно отдали генералу свои сабли. Среди них был и Окулов. Это было уже открытое неповиновение. Ротных командиров Шипов всё же арестовал. Младшие офицеры находились в очень возбуждённом состоянии. Братья Беляевы, Миллер, братья Бодиско и ещё несколько офицеров бросились в канцелярию экипажа и освободили своих командиров. Тут все услышали выстрелы, раздававшиеся на Сенатской площади. Мичман Пётр Бестужев закричал: "Ребята, это наших бьют..." Как только командиры рот соединились с матросами, весь экипаж ринулся к воротам. Командир батальона Качалов попытался остановить матросов, но они его обошли и стройно пошли на площадь, где было приказано собираться.
Прибыв на площадь, Гвардейский морской экипаж выстроился, как пишет А.Н. Сутгоф, "в большом порядке", в колонне к атаке между каре Московского полка и Исаакиевским собором. Пётр Бестужев, который всё время находился в роте Арбузова, показывает, что экипаж расположился "взводами на две половины, одна лицом к Адмиралтейству, другая - к манежу конной гвардии".
Возможно, именно к роте Окулова подъезжал великий князь Михаил Павлович, брат Николая I, уговаривая матросов прекратить восстание. Мы не знаем, как вёл себя Окулов на площади, но, очевидно, он оставался со своими подчинёнными до конца, т.е. до тех пор, пока картечь не начала косить ряды солдат и матросов.
Окулов был арестован 15 декабря великим князем Михаилом Павловичем. До 3 января бывший командир придворной яхты находился на главной гауптвахте, размещавшейся в Зимнем дворце. Это была импровизированная тюрьма: перегородили одну из комнат - в одной половине находился член Северного общества А.Е. Розен, в другой - братья Беляевы, братья Бодиско и Окулов. Вскоре Окулов был переведён в Петропавловскую крепость, где содержались остальные декабристы.
Окулову было предъявлено обвинение, что он "лично действовал в мятеже", хотя и был "на площадь увлечён обманом". По приговору Верховного уголовного суда осуждён по XI разряду, что означало разжалование в рядовые до выслуги с определением в дальние гарнизоны без лишения дворянства.
12 июля подсудимым был прочитан приговор, и не прошло ещё суток, как для пяти, находящихся вне разряда (Пестеля, Рылеева, Каховского, М. Бестужева-Рюмина и С. Муравьёва-Апостола), рано утром 13 июля приговор был приведён в исполнение.
На рассвете этого же дня моряков, вместе с прочими приговорёнными Верховным уголовным судом, вывели на гласис Петропавловской крепости, где уже выстроились каре и четыре шеренги лейб-гвардии Павловского полка. Все осуждённые за исключением моряков, составлявших отдельную группу, были выведены в середину образованного из войск четырёхугольника, где и состоялось исполнение приговора - срывали мундиры, которые тут же бросали в костёр, над лишёнными дворянства ломались шпаги. Моряков-декабристов отделили от всех остальных, и затем они направились к величественным Невским воротам Петропавловской крепости. Отсюда их должны были отвезти к месту исполнения приговора.
Местом совершения гражданской казни для моряков была выбрана лично Николаем I "практическая эскадра" Балтийского флота, а именно, флагманский 74-пушечный корабль "Князь Владимир". Казнь над декабристами-моряками должна была совершиться в сугубо морской обстановке. Весь экипаж флагманского корабля, свыше 600 человек, состоял из того же Гвардейского экипажа, большинство офицеров которого были преданы суду за бунт.
Казни предшествовала некоторая подготовительная работа, которая производилась при ближайшем участии царя. Дважды в течение полутора месяцев перед казнью он делал смотр эскадре, обращая особенное внимание на "Владимир". Монаршее благоволение начальнику эскадры Кроуну, командиру корабля-флагмана, капитану I ранга Качалову, а так же всем линейным штабс-и обер-офицерам того же корабля, пожалование нижних чинов рублём - играли роль подготовки всего личного состава "Владимира" к предстоящей казни. Царь отдал также приказание о введении в Кронштадт до начала казни новых войск, которые заняли форты и должны были нести караулы в городе. Только после всего этого император мог спокойно уехать из Петербурга и день казни провести в Царском селе.
В 6 часов 13 июля был произведён пушечный выстрел с "Владимира" и одновременно был поднят чёрный флаг. Вдали, из Кронштадта увидели шхуну "Опыт", буксируемую пароходом. После поднятия флага стали немедленно прибывать на флагманский корабль по два, по три офицера с судов, находящихся в составе эскадры и на рейде, а также и гребные суда с нижними чинами. Через час шхуна "Опыт" с баркасами, буксируемая "Проворным", подошла довольно близко к "Владимиру" и стала на якорь. К тому времени подошёл второй пароход "Скорый" и стал обходить флагманский корабль. Через полчаса, пользуясь гребными судами, шхуна "Опыт" с баркасами была подведена к правому борту "Владимира" и поставлена у трапа. "Государственные преступники" были переведены с баркасов на корабль и поставлены в середине построенного на шканцах каре из экипажа "Владимира".
По прочтении приговора Кроуном над головами Арбузова, Завалишина, Дивова, Н. Бестужева, Торсона, братьев Беляевых, М. Кюхельбекера, М. Бодиско и Чижова были переломлены (заранее подпиленные) сабли, оторваны эполеты, которые вместе с мундирами были выброшены за борт. Остальные заключённые, включая и Окулова, по прочтении приговора были лишены мундиров и сабель. В донесении на имя Дибича того же 13 июля можно прочитать: "над десятью переломаны сабли и оторваны эполеты, как и мундиры их брошены за борт, прочие лишены мундиров и сабель". К половине девятого всё было кончено. Осуждённых, переодетых в матросскую одежду, перевели обратно на баркасы. В шканечных журналах 74-го пушечного корабля "Сысой Великий" и 44-го пушечного фрегата "Вестовой" от 13 июля записано: "в 3/4 девятого министерская яхта от адмиральского корабля" и "в 3/4 десятого прошли обратно с буксируемой яхтой и баркасом". Таким образом, всё свершилось согласно распоряжению: "По прочтении им высочайшей конфирмации затем отправлены обратно для содержания до ночи в Санкт-Петербургской крепости".
В инструкции, данной капитану 3-го ранга Балашову, было предусмотрено как поступить с осуждёнными по прибытии в С.-Петербург: "первых восьмерых по списку (Арбузов, Завалишин, Дивов, Н. Бестужев, Торсон, Беляевы, М. Кюхельбекер), также и лейтенанта Чижова, представить тотчас в С.-Петербургское губернское правление для отсылки по принадлежности; Бодиско же 1-го (Бориса) сослать с корабля "Владимир" в Кронштадт для записания в матросы во флот, а из остальных - Бодиско 2-го (Михаила) препроводить в инженерный департамент военного министерства, а прочих, как-то П. Бестужева, Вишневского, Мусина-Пушкина (Епафродита) и Окулова, доставить в инспекторский департамент Главного штаба е.и.в." (Его императорского величества).
Прибыв в город и остановившись около Исаакиевского моста и "полагая неудобным разводить из (осуждённых) по городу для доставления по принадлежности", адмирал Моллер обратился к коменданту Петропавловской крепости Сукину с просьбой принять декабристов в крепость. В своём докладе от 14 июля на высочайшее имя Моллер подчеркнул, что "преступники не были в губернском правлении, но и на берегу, и что на судах никто с ними никакого сообщения не имел и свидания также". По приказу свыше моряки-декабристы были приняты в крепость. Отсюда их отправляли в Сибирь.
После экзекуции бывший гвардейский лейтенант Окулов встретился в доме коменданта Петропавловской крепости генерала Сукина со своим попутчиком Михаилом Пущиным, братом лицейского друга Александра Сергеевича Пушкина, Ивана Ивановича Пущина. Здесь же находился и фельдъегерь Григорьев с жандармом, которым отныне была вручена судьба Н.П. Окулова и М.И. Пущина. А сама судьба олицетворялась в виде пакета, находящегося в фельдъегерской сумке. У крыльца стояли две перекладные тройки, на одну сел Окулов с жандармом, на другую - Пущин с фельдъегерем, и на рассвете за Шлиссельбургской заставой осталась "Северная Венеция" - Петербург, которого бывшему моряку уже не суждено было увидеть. А тройки мчались в далёкую Сибирь, но настроение было бодрое - наконец-то кончились допросы с театральным завязыванием глаз и вождением по несколько раз по одним и тем же комнатам, наконец-то можно было дышать не спёртым воздухом каземата, а бодрящим воздухом приближающейся осени, да и перекладные после крепости казались роскошной каретой.
К Рыбинску Окулов подъезжал с замирающим сердцем. От города было рукой подать до родного Пошехонья, где находились родовые имения Окуловых: деревни Соколово, Калиновка, Красная, Берендяк, тянувшиеся к красивому селу Владычное, где всё напоминало о детстве, о родителях - и окуловское поле, и окуловский выгон, и деревянный дом, спрятавшийся в парке. В самом Рыбинске жила родная тётка по материнской линии - старушка Румянцева, которая приласкала племянника и его спутников, как родных. Старушка суетилась, на стол подавалось лучшее угощение, и всевозможная снедь клалась в повозки. Конечно, не обошлось без различных настоек и водки, до которых особенно охоч был фельдъегерь. Григорьев, воспользовавшись случаем поесть и выпить, напился до безобразия и уснул богатырским сном. Теперь можно было спокойно осмотреть у него сумку, где хранились инструкции военного министра. В бумаге, подписанной лично военным министром, председателем следственной комиссии А.И. Татищевым, было сказано, что Окулова фельдъегерь должен был оставить в Томске, а Пущина везти в Красноярск; далее указывалось что Григорьев должен обращаться с ними вежливо (как-никак дворяне), останавливаться где пожелают того сопровождаемые, а главное - не был указан точно срок прибытмя на место.
Переночевав в Рыбинске, отправились далее, но теперь с Григорьевым обращались бесцеремонно, заставляли его делать остановки, где им хотелось. Поэтому очень скоро Окулова и Пущина догнал фельдъегерь Седов, который сопровождал декабристов Краснокутского и Чижова, а около Екатеринбурга присоединтлся к ним ещё один фельдъегерь, везший Аполлона Веденяпина, так что по Сибири ехали большой и, можно сказать, дружной компанией, несмотря на нелёгкое будущее. Сибирь сначала не казалась такой страшной. Очень радушно встретил декабристов городничий города Каинска Степанов. Три дня прожили они у хлебосольного хозяина. Баня смыла грязь и пыль, позволила забыть усталость и приготовила к дальнейшему путешествию по Сибири. А дальше потянулась пустынная Барабинская степь.
На всю жизнь запомнилось также декабристам доброе отношение простых сибиряков к "несчастным", как называли в Сибири всех ссыльных. Особенно поразил один случай. 15 августа 1826 года после утомительного пути тройки остановились в одном большом селении. Изнурённые дорогой, голодные декабристы спросили поесть. У смотрителя станции ничего не нашлось, но тут оказался крестьянин, который пригласил их всех в избу и предложил, что бог послал. Окулов, Пущин и другие рады были съесть хоть кусок хлеба и пошли к пригласившему, правда, не ожидая чего-нибудь особенного и не надеясь, что крестьянин сможет накормить девять человек. Однако крестьянин угостил сытными щами, рыбой и жареными рябчиками. Когда Пущин, как самый денежный из декабристов, предложил крестьянину 15 рублей за вкусный обед, последний обиделся и отказался взять деньги. Сначала декабристам показалось это в диковинку, но потом они привыкли к подобным случаям. Сибирский крестьянин имел больше земли, чем крестьянин Европейской части России, а главное, не знал крепостного права, которое иссушало душу русского народа.
Через пять дней после обеда у крестьянина, т.е 20 августа, Окулов прибыл в Томск, а его товарища М. Пущина тройка умчала дальше. Началась служба в Томском гарнизонном батальоне. А между тем, через два дня после приезда в Томск, в Москве по решению царя Окулов должен был снова отправиться в путь - теперь с востока на запад - "в тёплую Сибирь": Высочайшим указом 22 августа повелено перевести солдата Окулова в полевые полки Кавказского корпуса - "дабы мог заслужить вину свою". Только в марте 1827 года началась тяжёлая, полная опасностей служба в 42-м егерском полку. Сослуживцами его были декабристы Алексей Веденяпин и Нил Кожевников.
О службе Окулова на Кавказе известно мало. Через два года он был произведён в унтер-офицеры. Это звание декабрист получил за участие в штурме крепости Карс. Вместе с ним в бою отличились Веденяпин и Фок. Повышение было ничтожным по сравнению с подвигами, совершёнными декабристами. Но командующий Паскевич не жаловал "преступников". "Вообще, разжалованных, - писал Паскевич Дибичу в июле 1828 года,- во всех сражениях употреблял я в первых рядах или в стрелках, и всегда там, где представлялось наиболее опасности. Из них один убит и 7 ранено. Все они вели себя отлично. Храбро в назначаемые им места шли совершенно с доброю волею и с желанием заслужить вину свою кровью, сверх того, о тех, кои рекомендуются в прилагаемом списке, запрашивал я особо полковых командиров на счёт их нравственности, и они отзывались, что совершенно ручаются за их поведение. Хотя таковые заслуги разжалованных по делу о злоумышленных обществах и одобряемое поведение обращает на них внимание начальства, но я полагаю, что производство их в офицеры можно отложить до окончания настоящей войны, разве в продолжении оной окажут примеры отваги и храбрости". ("Русская старина", 1903, т. 114, с. 486). Но и окончание войны не принесло Окулову офицерских погон. До младшего офицерского чина ему предстояло служить ещё семь лет. В 1829 году он был переведён в Кабардинский егерский полк. И в этом полку Окулов воевал так же храбро и за отличие в экспедиции против горцев ему в 1836 году присвоили звание прапорщика с переводом в Черноморский линейный 9-й батальон. Через полтора года он был подпоручиком.
Тяжёлая солдатская служба, непривычный климат подорвали здоровье Окулова, и в марте 1838 года он был уволен со службы по болезни. После отставки Николай Павлович возвратился в своё родовое имение село Владычное Пошехонского уезда Ярославской губернии. Окулов не поддерживал связей с декабристами и, очевидно, не очень любил вспоминать морозный декабрьский день 1825 года, Сибирь и службу на Кавказе. Во всяком случае, никто из декабристов не знал о его дальнейшей судьбе, даже не знали, когда он умер. Дата смерти Окулова не была известна многим советским историкам. Он как бы затерялся в пошехонской глуши. Действительно, жизнь его после возвращения с Кавказа не представляет ничего интересного. Она была наполнена мелочными заботами небогатого провинциального помещика. Очень редко спокойное течение жизни нарушалось какими-нибудь всплесками, и то чаще всего семейного характера.
В 1853 году Окулов был опекуном малолетнего Н.А. Соколова. Правда, он несколько превысил свои опекунские права, и в 1855 г. с него была взыскана стоимость вещей Соколова, незаконно проданных Окуловым. В 1865 г. он упоминается среди поручителей на свадьбе своей племянницы Елены. Здесь же упомянут двоюродный брат декабриста, генерал-майор Александр Николаевич Окулов. Ещё один двоюродный брат, Михаил Николаевич, в 1848 году был пошехонским предводителем дворянства. Последнее упоминание о декабристе находим в метрической книге села Владычного: "Села Владычное помещик Николай Павлов Окулов умер 1 апреля 1871 года, 5 апреля священником А. Смирновым с причтом погребён при церкви". В графе - "от чего умер" написано "от старости". (Районный архив г. Пошехонье-Володарска, ф. 326, л. 50, об. 51). Судя по всему, Н.П. Окулов умер бездетным. По рассказам местного старожила С.И. Гуляева, дом Окулова находился в парке и простоял до 1918 года, а затем был разобран. В соседней деревне Лукинская находилось, вероятно, поместье сестры декабриста Анны Павловны. Её дом после перестройки стал частью школы. Родственники Н.П. Окулова жили ещё в советское время. Могила декабриста не сохранилась.

Дед декабриста Окулова Прокопий Иванович (в 1791 году отставной бригадир) разделил свои имения между сыновьями, и прапорщик Павел Прокопьевич (отец декабриста) получил в Вологодской губернии деревню Алёшино, в Ярославской - село Владычное Пошехонского уезда, а в Костромской - деревни Ониково и Якшино.
Отец декабриста не дослужился до чинов своего отца, а полученные в наследство имения таяли, и своему сыну, Николаю Павловичу, он завещал только пятнадцать душ в деревне Якшино (второе название Беляки). Так, за пол-столетия Окуловы из средних дворян превратились в мелкопоместных. Поэтому, несмотря на Жалованную грамоту дворянства, внуки бригадира служили ради куска хлеба, ради того, чтобы дать приличное образование детям. В 1826 году брат декабриста, Иван Павлович, давая по требованию Николая I сведения об имущественном положении своих родственников, писал, что ему самому с женой принадлежит имение в 30 душ крепостных (к тому времени обременённое долгами), брату Александру Павловичу (полковнику Финляндского полка) 19 душ, старшей сестре, Елене Павловне, вместе с имением мужа - 77 душ (правда 60 душ заложено на 24 года в Опекунском Совете), а младшая сестра, Елизавета Павловна, "находится вне всякого состояния и проживает у тётки с материнской стороны".
Николай Павлович Окулов родился в 1799 году. По примеру своего старшего брата Ивана в 1810 г. поступил кадетом в Морской корпус. Через пять лет Н.П. Окулов был уже мичманом, а в 21 год - лейтенантом. Вся служба будущего декабриста была связана с Балтийским морем: учебные плавания, маневры. В 1824 г. он служил на фрегате "Лёгкий" и совершил поход от Кронштадта до Исландии. Правда, такие плавания были редкостью, так как с 1823 г. началась служба в Гвардейском морском экипаже. В это время Н.П. Окулов был назначен командиром придворной яхты "Церера".
Служба в гвардии давала возможность вращаться в кругу блестящей офицерской молодёжи, которая вела несколько рассеянный "гусарский" образ жизни, воспетый молодым Пушкиным, Языковым, Давыдовым, Лермонтовым. Среди близких знакомых Окулова мы встречаем братьев Бестужевых. Популярный в своё время писатель-романтик декабрист Александр Бестужев, писавший пол псевдонимом Марлинский, в своей памятной книжке за 1824 год довольно часто отмечает дни, которые он проводил у Окуловых. Например, запись 10 января: "Обедал у Греча, вечером был до полуночи у Окулова", 7 февраля: "Я поехал к Окулову, где пробыл долго", и т.д. Несколько позже младший брат Александра Бестужева, Пётр Бестужев, в своих "Памятных записках", в которых "описывал только тех, кто был ближе мне в настоящем жребии (записи относятся к 1828 г., когда П.А. Бестужев был сослан на Кавказ за участие в тайном обществе - Н.К.) или казались замечательными в некотором отношении", писал об Окулове: "Старый товарищ мой на море (П.А. Бестужев с 1812 года учился в Морском корпусе, а в 1824 г. вместе с Окуловым плавал на фрегате "Лёгкий" - Н.К.), в шалостях, в горе и радости. Любезный человек! Добр, как нельзя более, честнейших правил, на всё готовый для друга... С ним не раскаивался бы провести всю жизнь, уверенный, что никакое обстоятельство в свете не могло б переменить его участие и расположение. Ум его образован настолько, чтобы не краснеть в хорошем обществе. Характер живой, но мнительный - во всём подозревает он неискренность, думает, что его обманывают в дружбе, в приёме, и может стать, редко ошибается. Простительный его недостаток есть маленькое фанфаронство, которое с его фигурой делается смешным". (Воспоминания Бестужевых. М.-Л., 1951, с. 368-369).
Лейтенант Окулов не был членом тайного общества, но постоянно находился в кругу декабристов - уже упоминавшиеся Бестужевы, сослуживцы по Гвардейскому экипажу - А.П. Арбузов, братья А.П. и П.П. Беляевы. Конечно, Н.П. Окулов принимал участие в разговорах об "аракчеевщине", о военных поселениях, о вояжах "кочующего деспота". Поэтому 14 декабря 1825 года он поддержал своих товарищей и вместе с ними оказался на Сенатской площади.
Подготовка к восстанию в Гвардейском экипаже шла давно. В основном её вели Арбузов, братья Беляевы и братья Бодиско. Рано утром 14 декабря экипаж посетили Пётр Бестужев, Пётр Каховский и Николай Цебриков. Николай Бестужев, появившись в казармах, сказал: "Кажется, мы все здесь собрались за общим делом и никто из вас не откажется действовать". Кто-то из молодых офицеров ответил: "С вами мы готовы идти...". В экипаж приехал бригадный командир С. Шипов. Он попытался уговорить экипаж присягнуть Николаю, но "единогласно все офицеры, кроме штабс-офицеров, и все рядовые отказались". Шипова никто не слушал, а лейтенант Вишневский ответил, что "мы не видим отречения императора и поэтому считаем своим долгом сохранить присягу Константину". Матросы тем временем стали собираться во дворе казарм. Когда Шипов хотел прочесть Манифест и скомандовал "На караул", матросы отказались выполнить приказ. Арбузов показал на допросе, что Окулов говорил нижним чинам, будто егерские солдаты заявляют: "ежели их будут заставлять переменить присягу, то они готовы на всё".
Окулов вселял уверенность в матросов, убеждая их, что они не одни. Бригадный командир, чувствуя, что почва уходит из-под ног, решил арестовать Вишневского, но стоявшие рядом офицеры немедленно отдали генералу свои сабли. Среди них был и Окулов. Это было уже открытое неповиновение. Ротных командиров Шипов всё же арестовал. Младшие офицеры находились в очень возбуждённом состоянии. Братья Беляевы, Миллер, братья Бодиско и ещё несколько офицеров бросились в канцелярию экипажа и освободили своих командиров. Тут все услышали выстрелы, раздававшиеся на Сенатской площади. Мичман Пётр Бестужев закричал: "Ребята, это наших бьют..." Как только командиры рот соединились с матросами, весь экипаж ринулся к воротам. Командир батальона Качалов попытался остановить матросов, но они его обошли и стройно пошли на площадь, где было приказано собираться.
Прибыв на площадь, Гвардейский морской экипаж выстроился, как пишет А.Н. Сутгоф, "в большом порядке", в колонне к атаке между каре Московского полка и Исаакиевским собором. Пётр Бестужев, который всё время находился в роте Арбузова, показывает, что экипаж расположился "взводами на две половины, одна лицом к Адмиралтейству, другая - к манежу конной гвардии".
Возможно, именно к роте Окулова подъезжал великий князь Михаил Павлович, брат Николая I, уговаривая матросов прекратить восстание. Мы не знаем, как вёл себя Окулов на площади, но, очевидно, он оставался со своими подчинёнными до конца, т.е. до тех пор, пока картечь не начала косить ряды солдат и матросов.
Окулов был арестован 15 декабря великим князем Михаилом Павловичем. До 3 января бывший командир придворной яхты находился на главной гауптвахте, размещавшейся в Зимнем дворце. Это была импровизированная тюрьма: перегородили одну из комнат - в одной половине находился член Северного общества А.Е. Розен, в другой - братья Беляевы, братья Бодиско и Окулов. Вскоре Окулов был переведён в Петропавловскую крепость, где содержались остальные декабристы.
Окулову было предъявлено обвинение, что он "лично действовал в мятеже", хотя и был "на площадь увлечён обманом". По приговору Верховного уголовного суда осуждён по XI разряду, что означало разжалование в рядовые до выслуги с определением в дальние гарнизоны без лишения дворянства.
12 июля подсудимым был прочитан приговор, и не прошло ещё суток, как для пяти, находящихся вне разряда (Пестеля, Рылеева, Каховского, М. Бестужева-Рюмина и С. Муравьёва-Апостола), рано утром 13 июля приговор был приведён в исполнение.
На рассвете этого же дня моряков, вместе с прочими приговорёнными Верховным уголовным судом, вывели на гласис Петропавловской крепости, где уже выстроились каре и четыре шеренги лейб-гвардии Павловского полка. Все осуждённые за исключением моряков, составлявших отдельную группу, были выведены в середину образованного из войск четырёхугольника, где и состоялось исполнение приговора - срывали мундиры, которые тут же бросали в костёр, над лишёнными дворянства ломались шпаги. Моряков-декабристов отделили от всех остальных, и затем они направились к величественным Невским воротам Петропавловской крепости. Отсюда их должны были отвезти к месту исполнения приговора.
Местом совершения гражданской казни для моряков была выбрана лично Николаем I "практическая эскадра" Балтийского флота, а именно, флагманский 74-пушечный корабль "Князь Владимир". Казнь над декабристами-моряками должна была совершиться в сугубо морской обстановке. Весь экипаж флагманского корабля, свыше 600 человек, состоял из того же Гвардейского экипажа, большинство офицеров которого были преданы суду за бунт.
Казни предшествовала некоторая подготовительная работа, которая производилась при ближайшем участии царя. Дважды в течение полутора месяцев перед казнью он делал смотр эскадре, обращая особенное внимание на "Владимир". Монаршее благоволение начальнику эскадры Кроуну, командиру корабля-флагмана, капитану I ранга Качалову, а так же всем линейным штабс-и обер-офицерам того же корабля, пожалование нижних чинов рублём - играли роль подготовки всего личного состава "Владимира" к предстоящей казни. Царь отдал также приказание о введении в Кронштадт до начала казни новых войск, которые заняли форты и должны были нести караулы в городе. Только после всего этого император мог спокойно уехать из Петербурга и день казни провести в Царском селе.
В 6 часов 13 июля был произведён пушечный выстрел с "Владимира" и одновременно был поднят чёрный флаг. Вдали, из Кронштадта увидели шхуну "Опыт", буксируемую пароходом. После поднятия флага стали немедленно прибывать на флагманский корабль по два, по три офицера с судов, находящихся в составе эскадры и на рейде, а также и гребные суда с нижними чинами. Через час шхуна "Опыт" с баркасами, буксируемая "Проворным", подошла довольно близко к "Владимиру" и стала на якорь. К тому времени подошёл второй пароход "Скорый" и стал обходить флагманский корабль. Через полчаса, пользуясь гребными судами, шхуна "Опыт" с баркасами была подведена к правому борту "Владимира" и поставлена у трапа. "Государственные преступники" были переведены с баркасов на корабль и поставлены в середине построенного на шканцах каре из экипажа "Владимира".
По прочтении приговора Кроуном над головами Арбузова, Завалишина, Дивова, Н. Бестужева, Торсона, братьев Беляевых, М. Кюхельбекера, М. Бодиско и Чижова были переломлены (заранее подпиленные) сабли, оторваны эполеты, которые вместе с мундирами были выброшены за борт. Остальные заключённые, включая и Окулова, по прочтении приговора были лишены мундиров и сабель. В донесении на имя Дибича того же 13 июля можно прочитать: "над десятью переломаны сабли и оторваны эполеты, как и мундиры их брошены за борт, прочие лишены мундиров и сабель". К половине девятого всё было кончено. Осуждённых, переодетых в матросскую одежду, перевели обратно на баркасы. В шканечных журналах 74-го пушечного корабля "Сысой Великий" и 44-го пушечного фрегата "Вестовой" от 13 июля записано: "в 3/4 девятого министерская яхта от адмиральского корабля" и "в 3/4 десятого прошли обратно с буксируемой яхтой и баркасом". Таким образом, всё свершилось согласно распоряжению: "По прочтении им высочайшей конфирмации затем отправлены обратно для содержания до ночи в Санкт-Петербургской крепости".
В инструкции, данной капитану 3-го ранга Балашову, было предусмотрено как поступить с осуждёнными по прибытии в С.-Петербург: "первых восьмерых по списку (Арбузов, Завалишин, Дивов, Н. Бестужев, Торсон, Беляевы, М. Кюхельбекер), также и лейтенанта Чижова, представить тотчас в С.-Петербургское губернское правление для отсылки по принадлежности; Бодиско же 1-го (Бориса) сослать с корабля "Владимир" в Кронштадт для записания в матросы во флот, а из остальных - Бодиско 2-го (Михаила) препроводить в инженерный департамент военного министерства, а прочих, как-то П. Бестужева, Вишневского, Мусина-Пушкина (Епафродита) и Окулова, доставить в инспекторский департамент Главного штаба е.и.в." (Его императорского величества).
Прибыв в город и остановившись около Исаакиевского моста и "полагая неудобным разводить из (осуждённых) по городу для доставления по принадлежности", адмирал Моллер обратился к коменданту Петропавловской крепости Сукину с просьбой принять декабристов в крепость. В своём докладе от 14 июля на высочайшее имя Моллер подчеркнул, что "преступники не были в губернском правлении, но и на берегу, и что на судах никто с ними никакого сообщения не имел и свидания также". По приказу свыше моряки-декабристы были приняты в крепость. Отсюда их отправляли в Сибирь.
После экзекуции бывший гвардейский лейтенант Окулов встретился в доме коменданта Петропавловской крепости генерала Сукина со своим попутчиком Михаилом Пущиным, братом лицейского друга Александра Сергеевича Пушкина, Ивана Ивановича Пущина. Здесь же находился и фельдъегерь Григорьев с жандармом, которым отныне была вручена судьба Н.П. Окулова и М.И. Пущина. А сама судьба олицетворялась в виде пакета, находящегося в фельдъегерской сумке. У крыльца стояли две перекладные тройки, на одну сел Окулов с жандармом, на другую - Пущин с фельдъегерем, и на рассвете за Шлиссельбургской заставой осталась "Северная Венеция" - Петербург, которого бывшему моряку уже не суждено было увидеть. А тройки мчались в далёкую Сибирь, но настроение было бодрое - наконец-то кончились допросы с театральным завязыванием глаз и вождением по несколько раз по одним и тем же комнатам, наконец-то можно было дышать не спёртым воздухом каземата, а бодрящим воздухом приближающейся осени, да и перекладные после крепости казались роскошной каретой.
К Рыбинску Окулов подъезжал с замирающим сердцем. От города было рукой подать до родного Пошехонья, где находились родовые имения Окуловых: деревни Соколово, Калиновка, Красная, Берендяк, тянувшиеся к красивому селу Владычное, где всё напоминало о детстве, о родителях - и окуловское поле, и окуловский выгон, и деревянный дом, спрятавшийся в парке. В самом Рыбинске жила родная тётка по материнской линии - старушка Румянцева, которая приласкала племянника и его спутников, как родных. Старушка суетилась, на стол подавалось лучшее угощение, и всевозможная снедь клалась в повозки. Конечно, не обошлось без различных настоек и водки, до которых особенно охоч был фельдъегерь. Григорьев, воспользовавшись случаем поесть и выпить, напился до безобразия и уснул богатырским сном. Теперь можно было спокойно осмотреть у него сумку, где хранились инструкции военного министра. В бумаге, подписанной лично военным министром, председателем следственной комиссии А.И. Татищевым, было сказано, что Окулова фельдъегерь должен был оставить в Томске, а Пущина везти в Красноярск; далее указывалось что Григорьев должен обращаться с ними вежливо (как-никак дворяне), останавливаться где пожелают того сопровождаемые, а главное - не был указан точно срок прибытмя на место.
Переночевав в Рыбинске, отправились далее, но теперь с Григорьевым обращались бесцеремонно, заставляли его делать остановки, где им хотелось. Поэтому очень скоро Окулова и Пущина догнал фельдъегерь Седов, который сопровождал декабристов Краснокутского и Чижова, а около Екатеринбурга присоединтлся к ним ещё один фельдъегерь, везший Аполлона Веденяпина, так что по Сибири ехали большой и, можно сказать, дружной компанией, несмотря на нелёгкое будущее. Сибирь сначала не казалась такой страшной. Очень радушно встретил декабристов городничий города Каинска Степанов. Три дня прожили они у хлебосольного хозяина. Баня смыла грязь и пыль, позволила забыть усталость и приготовила к дальнейшему путешествию по Сибири. А дальше потянулась пустынная Барабинская степь.
На всю жизнь запомнилось также декабристам доброе отношение простых сибиряков к "несчастным", как называли в Сибири всех ссыльных. Особенно поразил один случай. 15 августа 1826 года после утомительного пути тройки остановились в одном большом селении. Изнурённые дорогой, голодные декабристы спросили поесть. У смотрителя станции ничего не нашлось, но тут оказался крестьянин, который пригласил их всех в избу и предложил, что бог послал. Окулов, Пущин и другие рады были съесть хоть кусок хлеба и пошли к пригласившему, правда, не ожидая чего-нибудь особенного и не надеясь, что крестьянин сможет накормить девять человек. Однако крестьянин угостил сытными щами, рыбой и жареными рябчиками. Когда Пущин, как самый денежный из декабристов, предложил крестьянину 15 рублей за вкусный обед, последний обиделся и отказался взять деньги. Сначала декабристам показалось это в диковинку, но потом они привыкли к подобным случаям. Сибирский крестьянин имел больше земли, чем крестьянин Европейской части России, а главное, не знал крепостного права, которое иссушало душу русского народа.
Через пять дней после обеда у крестьянина, т.е 20 августа, Окулов прибыл в Томск, а его товарища М. Пущина тройка умчала дальше. Началась служба в Томском гарнизонном батальоне. А между тем, через два дня после приезда в Томск, в Москве по решению царя Окулов должен был снова отправиться в путь - теперь с востока на запад - "в тёплую Сибирь": Высочайшим указом 22 августа повелено перевести солдата Окулова в полевые полки Кавказского корпуса - "дабы мог заслужить вину свою". Только в марте 1827 года началась тяжёлая, полная опасностей служба в 42-м егерском полку. Сослуживцами его были декабристы Алексей Веденяпин и Нил Кожевников.
О службе Окулова на Кавказе известно мало. Через два года он был произведён в унтер-офицеры. Это звание декабрист получил за участие в штурме крепости Карс. Вместе с ним в бою отличились Веденяпин и Фок. Повышение было ничтожным по сравнению с подвигами, совершёнными декабристами. Но командующий Паскевич не жаловал "преступников". "Вообще, разжалованных, - писал Паскевич Дибичу в июле 1828 года,- во всех сражениях употреблял я в первых рядах или в стрелках, и всегда там, где представлялось наиболее опасности. Из них один убит и 7 ранено. Все они вели себя отлично. Храбро в назначаемые им места шли совершенно с доброю волею и с желанием заслужить вину свою кровью, сверх того, о тех, кои рекомендуются в прилагаемом списке, запрашивал я особо полковых командиров на счёт их нравственности, и они отзывались, что совершенно ручаются за их поведение. Хотя таковые заслуги разжалованных по делу о злоумышленных обществах и одобряемое поведение обращает на них внимание начальства, но я полагаю, что производство их в офицеры можно отложить до окончания настоящей войны, разве в продолжении оной окажут примеры отваги и храбрости". ("Русская старина", 1903, т. 114, с. 486). Но и окончание войны не принесло Окулову офицерских погон. До младшего офицерского чина ему предстояло служить ещё семь лет. В 1829 году он был переведён в Кабардинский егерский полк. И в этом полку Окулов воевал так же храбро и за отличие в экспедиции против горцев ему в 1836 году присвоили звание прапорщика с переводом в Черноморский линейный 9-й батальон. Через полтора года он был подпоручиком.
Тяжёлая солдатская служба, непривычный климат подорвали здоровье Окулова, и в марте 1838 года он был уволен со службы по болезни. После отставки Николай Павлович возвратился в своё родовое имение село Владычное Пошехонского уезда Ярославской губернии. Окулов не поддерживал связей с декабристами и, очевидно, не очень любил вспоминать морозный декабрьский день 1825 года, Сибирь и службу на Кавказе. Во всяком случае, никто из декабристов не знал о его дальнейшей судьбе, даже не знали, когда он умер. Дата смерти Окулова не была известна многим советским историкам. Он как бы затерялся в пошехонской глуши. Действительно, жизнь его после возвращения с Кавказа не представляет ничего интересного. Она была наполнена мелочными заботами небогатого провинциального помещика. Очень редко спокойное течение жизни нарушалось какими-нибудь всплесками, и то чаще всего семейного характера.
В 1853 году Окулов был опекуном малолетнего Н.А. Соколова. Правда, он несколько превысил свои опекунские права, и в 1855 г. с него была взыскана стоимость вещей Соколова, незаконно проданных Окуловым. В 1865 г. он упоминается среди поручителей на свадьбе своей племянницы Елены. Здесь же упомянут двоюродный брат декабриста, генерал-майор Александр Николаевич Окулов. Ещё один двоюродный брат, Михаил Николаевич, в 1848 году был пошехонским предводителем дворянства. Последнее упоминание о декабристе находим в метрической книге села Владычного: "Села Владычное помещик Николай Павлов Окулов умер 1 апреля 1871 года, 5 апреля священником А. Смирновым с причтом погребён при церкви". В графе - "от чего умер" написано "от старости". (Районный архив г. Пошехонье-Володарска, ф. 326, л. 50, об. 51). Судя по всему, Н.П. Окулов умер бездетным. По рассказам местного старожила С.И. Гуляева, дом Окулова находился в парке и простоял до 1918 года, а затем был разобран. В соседней деревне Лукинская находилось, вероятно, поместье сестры декабриста Анны Павловны. Её дом после перестройки стал частью школы. Родственники Н.П. Окулова жили ещё в советское время. Могила декабриста не сохранилась.
Метки: декабристы |
Никита Кирсанов. "Декабрист Пётр Громницкий" (часть 2) |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Декабрист Пётр Громницкий" (часть 2).
Энергичный и деятельный П.Ф. Громницкий принимал активное участие и в последующих событиях. Когда армия была размещена на зимние квартиры, началась работа по подготовке солдат к восстанию. Пропаганда велась в ряде частей и в особенности в полках Пензенском, Саратовском, 8-й и 9-й артиллерийских бригадах, где многие офицеры были членами тайного общества. Успех работы во многом зависел от того, как относились офицеры к подчинённым им "нижним чинам". Источники свидетельствуют, что отношение это было очень гуманным и мягким. После ареста декабристов адъютант главного штаба 1-й армии Сотников доносил, что Спиридов в своей роте "поселил дух своеволия, ибо говорят, что он солдатам давал много воли и обходился с ними запанибрата". О подпоручике Саратовского полка Н.О. Мозгалевском, сообщал Сотников, "солдаты сожалеют и говорят, что он для них был весьма добр". Я.М. Андреевича солдаты очень любили, часто приходили к нему жаловаться на свои нужды.
В донесении адъютанта есть указания и на привязанность солдат Пензенского полка к своим начальникам. "Об офицерах, взятых из их полка, - писал Сотников, - солдаты весьма сожалеют, а в особенности о Тютчеве и Громницком, о которых говорят, что они для них были весьма хороши".
Пропаганду среди солдат офицеры, входившие в тайное общество, вели, конечно, прежде всего в подчинённых им частях. Пропаганда связывалась с тяжёлой жизнью солдат, с их нуждами, с рабским и угнетённым положением их отцов, матерей, братьев. Цель её состояла в возбуждении ненависти к правительству, в том, чтобы привлечь их к участию в восстании.
Весьма деятельно вели эту работу офицеры Пензенского полка Спиридов, Тютчев, Громницкий, Лисовский, Фролов. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что из этого полка к следствию было привлечено 14 человек из числа нижних воинских чинов. Двое из них Пётр Гульбин и Андрей Муркин, обвинялись в ведении пропаганды среди других солдат и в том, что они "изъявляли готовность содействовать Муравьёву-Апостолу". Как видно из материалов, следственная комиссия с особым усердием допрашивала пензенцев "для ближайшего и скорейшего открытия, до какой степени развращена нравственность в тех ротах сего полка, коими командовали капитан Тютчев, поручики Громницкий и Лисовский".
Пропаганду в своих частях вели также офицеры Саратовского, Черниговского полков и артиллерийских бригад.
Можно считать, что агитационная работа среди солдат имела некоторый успех. Об этом свидетельствовали и сами декабристы. Так, Андреевич считал готовой артиллерию, Спиридов и Тютчев ручались за вверенные роты, а Громницкий говорил, что он "тотчас взбунтует свою роту". Горбачевский утверждал, что 8-я артиллерийская бригада с восторгом приняла предложение восстать.
Из этого видно, что агитация доходила до солдат, держала их на подъёме, возбуждала доверие к командирам. И если во время восстания на юге Черниговский полк не был поддержан другими частями - в этом вина не солдат.
Надо сказать, что важное место в восстании отводилось Пензенскому полку, так как считалось, что он более других частей готов к этому. И.И. Сухинов на следствии показал: "Бестужев и Муравьёв рассказывали (членам тайного общества), что они имеют большую надежду на Пензенский и Саратовский полки". Сам Бестужев-Рюмин говорил во время допроса: "На Пензенский полк мы имели более надежды, нежели на другие, потому что там, кроме семёновских солдат, служили майор Спиридов и капитан Тютчев".
Но Пензенский полк не выступил. В это время он квартировал в городе Староконстантинове и близлежащих деревнях, вдали от района действий Черниговского полка, и не имел никаких сведений о начавшемся восстании ни от Муравьёва-Апостола, ни от Бестужева-Рюмина. Отсутствие каких-либо известий от руководителей восстания сыграло немаловажную роль.
По той же причине не выступил и Саратовский полк, который, по словам члена тайного общества И.Ф. Шимкова, "с нетерпением ожидал начала восстания". Без пехотного прикрытия не выступили и артиллеристы.
Мы не будем здесь останавливаться подробно на восстании Черниговского полка, которое хорошо освещено в литературе о декабристах. Как известно, восстание началось 29 декабря, а 3 января 1826 года оно было подавлено правительственными войсками у деревни Ковалёвки. Основная черта его - выжидательная тактика руководителя восстания Сергея Муравьёва-Апостола, надежда на присоединение других полков. Но эта надежда не оправдалась. Неясность плана действий восставших, спонтанность и неорганизованность, нерешительность некоторых офицеров, членов тайного общества, удержали от выступления даже те части, которые были готовы к нему.
Вскоре начались аресты. Сняв первоначальные допросы в главной квартире 1-й армии, арестованных офицеров-декабристов отправили под строгим караулом в Петербург. Там производилось основное следствие. Верховному уголовному суду было предано 37 членов Южного общества и 23 члена Общества соединённых славян. Некоторых судили в Могилёве. Следствие о солдатах, участниках движения, велось в Белой Церкви. Многие из них были приговорены к наказаниям шпицрутенами от 1 до 12 тысяч ударов с последующей ссылкой в Сибирь или на Кавказ в действующую армию.
П.Ф. Громницкий и его товарищи по полку М.М. Спиридов, А.И. Тютчев, П.Д. Мозган, А.Ф. Фролов и Н.Ф. Лисовский были арестованы в Староконстантинове Волынской губернии. В январе-феврале 1826 года, в разное время, их отправили в Петербург. Громницкого доставили на главную гауптвахту 9 февраля. Того же числа он был допрошен и препровождён в Петропавловскую крепость с запиской Николая I коменданту Сукину: "Присылаемого Громницкого посадить по усмотрению и содержать строго". Его поместили в № 8 Трубецкого бастиона.
Во время следствия Пётр Фёдорович держался стойко, не каялся, не молил о пощаде. На вопрос о цели Славянского общества он точно пояснил: "Цель сего общества была соединить все славянские народы в один союз, средства к достижению оной заключались в умножении членов, в точном исполнении правил и силе оружия".
При дальнейших допросах П.Ф. Громницкий высказывался ещё более определённо о задачах тайного общества: "Положено было начать действия уничтожением царствующего лица и всех тех, кои могли бы сему противиться. Исполнение сего действия поручено Бестужевым и Муравьёвым капитану Тютчеву, Горбачевскому, Громницкому и проч... начать действия при сборе корпуса... истреблением царствующего лица и, соединившись со 2-й армией, идти в Москву для учреждения нового правления".
Небезынтересен и такой факт, связанный с показаниями Громницкого. Известно, что во время следствия Николай I отдал приказ: "Из дел вынуть и сжечь все возмутительные стихи". Приказ был выполнен. Уцелело лишь одно пушкинское стихотворение "Кинжал". Его записал на память по требованию следствия П.Ф. Громницкий. Бестужев-Рюмин, показывал он, "в разговорах своих восхвалял сочинения Александра Пушкина и прочитал наизусть одно... не менее вольнодумное. Вот оно..." Далее следовал записанный Громницким текст пушкинского "Кинжала". Его не удалось извлечь и сжечь согласно царскому приказу, так как запись располагалась на двух смежных страницах, обороты которых были заняты важными показаниями при допросе, не подлежавшие уничтожению. Тогда председатель следственной комиссии военный министр Татищев нашёл такой выход из положения: он густо зачеркнул текст стихотворения и в начале и в конце его написал: "С высочайшего соизволения вымарал военный министр Татищев".
Этот факт свидетельствует, между прочим, и о том, как широко были распространены среди декабристов сочинения А.С. Пушкина, которые они не только читали, но и знали наизусть. "Рукописных экземпляров вольнодумческих сочинений Пушкина и прочих столько по полкам, что нас самих удивляло", - показывал Бестужев-Рюмин.
Как уже говорилось выше, Верховный уголовный суд распределил всех декабристов по разрядам (категориям) с различными мерами наказания. Громницкий попал во II разряд. Ему вменялось в вину "участие согласием на цареубийство и согласие на бунт". Кроме того, он обвинялся в пропаганде среди солдат. По приговору суда Громницкий был "осуждён к лишению чинов и дворянства и к ссылке в каторжную работу на 20 лет, а потом на поселение в Сибири".
После приговора Пётр Фёдорович некоторое время содержался в Петропавловской крепости, а затем был вывезен из Петербурга (21.10.1826) в крепость Свеаборг, затем Свартгольм (4.10.1827) и Кексгольм (март 1828), где и находился до отправки в Сибирь 24 апреля 1828 года. Каторгу он отбывал вместе со всеми декабристами сначала в Чите, куда его привезли в конце июня 1828 года, а с сентября 1830 года в Петровском заводе.
О сибирском периоде жизни П.Ф. Громницкого сведений сохранилось немного. Сам он не оставил каких-либо записок, а упоминания о нём в мемуарах, письмах других декабристов не дают полного представления о пребывании его на каторге и поселении. Поэтому мы можем говорить об этом периоде его жизни лишь в общих чертах.
Понятно, что, попав в Читинский острог, а затем в Петровскую тюрьму, П.Ф. Громницкий должен был понести на себе все тяготы и лишения каторжного режима. Но Пётр Фёдорович не пал духом. Наряду с другими он активно участвовал в научной и культурной жизни заключённых, изучал ремёсла, работал в тюремных мастерских. Среди декабристов П.Ф. Громницкий "считался лучшим слесарем и был учеником Николая Бестужева во всевозможных мастерствах". Не имея богатых родственников, не получая ни от кого материальной помощи, он мог существовать только благодаря товарищеской "Большой артели".
П.Ф. Громницкому, как и другим декабристам, осуждённым по II разряду, срок каторги был сокращён сначала до 15 лет, а затем (8.11.1832) до 10 лет. По указу 14 декабря 1835 года они освобождались от каторжных работ и переводились на поселение. Местом поселения П.Ф. Громницкого было назначено село Бельское Ирсктской губернии, куда он прибыл в 1836 году.
Одновременно с его прибытием в село, Черемховским волостным правлением (село Бельское находилось на территории Черемховской волости) было получено указание иркутских властей "немедленно принять означенного Громницкого... и впоследствии, а именно с 1 июля доносить ежемесячно о поведении его на основании предназначенных правил".
Пётр Фёдорович находился уже в Бельском, когда туда приехал с семьёй И.А. Анненков. Общность идей, одинаковая судьба сблизили декабристов, и они подружились. Около двух лет ссыльные провели вместе, проявляя заботу друг о друге, деля все невзгоды жизни в глухой отдалённой деревне. В июне 1838 года Анненкова перевели в Туринск Тобольской губернии, и Громницкий остался в Бельском один.
Несмотря на запрещение властей, он устанавливает связи с некоторыми ссыльно-поселенцами, в частности с декабристом М.С. Луниным. За чтение и переписывание сочинений Лунина П.Ф. Громницкий в 1842 году был арестован и посажен в Иркутске на гаутвахту, где провёл пять месяцев, а потом был отдан под особый надзор местной полиции.
Тяготы и невзгоды, всё пережитое сломили здоровье декабриста, и в нём стала развиваться болезнь - туберкулёз лёгких. Громницкому было разрешено на время лечения переехать в село Усолье Тельминской волости, где располагалась больница. 31 мая 1851 года Громницкий умер. В метрической книге Усольской Спасской церкви была сделана запись: "Переселенец из государственных преступников в Черемховской волости Пётр Фёдорович Громницкий, 70 (!) лет, умер от чахотки. Погребение совершено на сельском приходском кладбище" 2 июня 1851 года.
Энергичный и деятельный П.Ф. Громницкий принимал активное участие и в последующих событиях. Когда армия была размещена на зимние квартиры, началась работа по подготовке солдат к восстанию. Пропаганда велась в ряде частей и в особенности в полках Пензенском, Саратовском, 8-й и 9-й артиллерийских бригадах, где многие офицеры были членами тайного общества. Успех работы во многом зависел от того, как относились офицеры к подчинённым им "нижним чинам". Источники свидетельствуют, что отношение это было очень гуманным и мягким. После ареста декабристов адъютант главного штаба 1-й армии Сотников доносил, что Спиридов в своей роте "поселил дух своеволия, ибо говорят, что он солдатам давал много воли и обходился с ними запанибрата". О подпоручике Саратовского полка Н.О. Мозгалевском, сообщал Сотников, "солдаты сожалеют и говорят, что он для них был весьма добр". Я.М. Андреевича солдаты очень любили, часто приходили к нему жаловаться на свои нужды.
В донесении адъютанта есть указания и на привязанность солдат Пензенского полка к своим начальникам. "Об офицерах, взятых из их полка, - писал Сотников, - солдаты весьма сожалеют, а в особенности о Тютчеве и Громницком, о которых говорят, что они для них были весьма хороши".
Пропаганду среди солдат офицеры, входившие в тайное общество, вели, конечно, прежде всего в подчинённых им частях. Пропаганда связывалась с тяжёлой жизнью солдат, с их нуждами, с рабским и угнетённым положением их отцов, матерей, братьев. Цель её состояла в возбуждении ненависти к правительству, в том, чтобы привлечь их к участию в восстании.
Весьма деятельно вели эту работу офицеры Пензенского полка Спиридов, Тютчев, Громницкий, Лисовский, Фролов. Об этом свидетельствует, в частности, тот факт, что из этого полка к следствию было привлечено 14 человек из числа нижних воинских чинов. Двое из них Пётр Гульбин и Андрей Муркин, обвинялись в ведении пропаганды среди других солдат и в том, что они "изъявляли готовность содействовать Муравьёву-Апостолу". Как видно из материалов, следственная комиссия с особым усердием допрашивала пензенцев "для ближайшего и скорейшего открытия, до какой степени развращена нравственность в тех ротах сего полка, коими командовали капитан Тютчев, поручики Громницкий и Лисовский".
Пропаганду в своих частях вели также офицеры Саратовского, Черниговского полков и артиллерийских бригад.
Можно считать, что агитационная работа среди солдат имела некоторый успех. Об этом свидетельствовали и сами декабристы. Так, Андреевич считал готовой артиллерию, Спиридов и Тютчев ручались за вверенные роты, а Громницкий говорил, что он "тотчас взбунтует свою роту". Горбачевский утверждал, что 8-я артиллерийская бригада с восторгом приняла предложение восстать.
Из этого видно, что агитация доходила до солдат, держала их на подъёме, возбуждала доверие к командирам. И если во время восстания на юге Черниговский полк не был поддержан другими частями - в этом вина не солдат.
Надо сказать, что важное место в восстании отводилось Пензенскому полку, так как считалось, что он более других частей готов к этому. И.И. Сухинов на следствии показал: "Бестужев и Муравьёв рассказывали (членам тайного общества), что они имеют большую надежду на Пензенский и Саратовский полки". Сам Бестужев-Рюмин говорил во время допроса: "На Пензенский полк мы имели более надежды, нежели на другие, потому что там, кроме семёновских солдат, служили майор Спиридов и капитан Тютчев".
Но Пензенский полк не выступил. В это время он квартировал в городе Староконстантинове и близлежащих деревнях, вдали от района действий Черниговского полка, и не имел никаких сведений о начавшемся восстании ни от Муравьёва-Апостола, ни от Бестужева-Рюмина. Отсутствие каких-либо известий от руководителей восстания сыграло немаловажную роль.
По той же причине не выступил и Саратовский полк, который, по словам члена тайного общества И.Ф. Шимкова, "с нетерпением ожидал начала восстания". Без пехотного прикрытия не выступили и артиллеристы.
Мы не будем здесь останавливаться подробно на восстании Черниговского полка, которое хорошо освещено в литературе о декабристах. Как известно, восстание началось 29 декабря, а 3 января 1826 года оно было подавлено правительственными войсками у деревни Ковалёвки. Основная черта его - выжидательная тактика руководителя восстания Сергея Муравьёва-Апостола, надежда на присоединение других полков. Но эта надежда не оправдалась. Неясность плана действий восставших, спонтанность и неорганизованность, нерешительность некоторых офицеров, членов тайного общества, удержали от выступления даже те части, которые были готовы к нему.
Вскоре начались аресты. Сняв первоначальные допросы в главной квартире 1-й армии, арестованных офицеров-декабристов отправили под строгим караулом в Петербург. Там производилось основное следствие. Верховному уголовному суду было предано 37 членов Южного общества и 23 члена Общества соединённых славян. Некоторых судили в Могилёве. Следствие о солдатах, участниках движения, велось в Белой Церкви. Многие из них были приговорены к наказаниям шпицрутенами от 1 до 12 тысяч ударов с последующей ссылкой в Сибирь или на Кавказ в действующую армию.
П.Ф. Громницкий и его товарищи по полку М.М. Спиридов, А.И. Тютчев, П.Д. Мозган, А.Ф. Фролов и Н.Ф. Лисовский были арестованы в Староконстантинове Волынской губернии. В январе-феврале 1826 года, в разное время, их отправили в Петербург. Громницкого доставили на главную гауптвахту 9 февраля. Того же числа он был допрошен и препровождён в Петропавловскую крепость с запиской Николая I коменданту Сукину: "Присылаемого Громницкого посадить по усмотрению и содержать строго". Его поместили в № 8 Трубецкого бастиона.
Во время следствия Пётр Фёдорович держался стойко, не каялся, не молил о пощаде. На вопрос о цели Славянского общества он точно пояснил: "Цель сего общества была соединить все славянские народы в один союз, средства к достижению оной заключались в умножении членов, в точном исполнении правил и силе оружия".
При дальнейших допросах П.Ф. Громницкий высказывался ещё более определённо о задачах тайного общества: "Положено было начать действия уничтожением царствующего лица и всех тех, кои могли бы сему противиться. Исполнение сего действия поручено Бестужевым и Муравьёвым капитану Тютчеву, Горбачевскому, Громницкому и проч... начать действия при сборе корпуса... истреблением царствующего лица и, соединившись со 2-й армией, идти в Москву для учреждения нового правления".
Небезынтересен и такой факт, связанный с показаниями Громницкого. Известно, что во время следствия Николай I отдал приказ: "Из дел вынуть и сжечь все возмутительные стихи". Приказ был выполнен. Уцелело лишь одно пушкинское стихотворение "Кинжал". Его записал на память по требованию следствия П.Ф. Громницкий. Бестужев-Рюмин, показывал он, "в разговорах своих восхвалял сочинения Александра Пушкина и прочитал наизусть одно... не менее вольнодумное. Вот оно..." Далее следовал записанный Громницким текст пушкинского "Кинжала". Его не удалось извлечь и сжечь согласно царскому приказу, так как запись располагалась на двух смежных страницах, обороты которых были заняты важными показаниями при допросе, не подлежавшие уничтожению. Тогда председатель следственной комиссии военный министр Татищев нашёл такой выход из положения: он густо зачеркнул текст стихотворения и в начале и в конце его написал: "С высочайшего соизволения вымарал военный министр Татищев".
Этот факт свидетельствует, между прочим, и о том, как широко были распространены среди декабристов сочинения А.С. Пушкина, которые они не только читали, но и знали наизусть. "Рукописных экземпляров вольнодумческих сочинений Пушкина и прочих столько по полкам, что нас самих удивляло", - показывал Бестужев-Рюмин.
Как уже говорилось выше, Верховный уголовный суд распределил всех декабристов по разрядам (категориям) с различными мерами наказания. Громницкий попал во II разряд. Ему вменялось в вину "участие согласием на цареубийство и согласие на бунт". Кроме того, он обвинялся в пропаганде среди солдат. По приговору суда Громницкий был "осуждён к лишению чинов и дворянства и к ссылке в каторжную работу на 20 лет, а потом на поселение в Сибири".
После приговора Пётр Фёдорович некоторое время содержался в Петропавловской крепости, а затем был вывезен из Петербурга (21.10.1826) в крепость Свеаборг, затем Свартгольм (4.10.1827) и Кексгольм (март 1828), где и находился до отправки в Сибирь 24 апреля 1828 года. Каторгу он отбывал вместе со всеми декабристами сначала в Чите, куда его привезли в конце июня 1828 года, а с сентября 1830 года в Петровском заводе.
О сибирском периоде жизни П.Ф. Громницкого сведений сохранилось немного. Сам он не оставил каких-либо записок, а упоминания о нём в мемуарах, письмах других декабристов не дают полного представления о пребывании его на каторге и поселении. Поэтому мы можем говорить об этом периоде его жизни лишь в общих чертах.
Понятно, что, попав в Читинский острог, а затем в Петровскую тюрьму, П.Ф. Громницкий должен был понести на себе все тяготы и лишения каторжного режима. Но Пётр Фёдорович не пал духом. Наряду с другими он активно участвовал в научной и культурной жизни заключённых, изучал ремёсла, работал в тюремных мастерских. Среди декабристов П.Ф. Громницкий "считался лучшим слесарем и был учеником Николая Бестужева во всевозможных мастерствах". Не имея богатых родственников, не получая ни от кого материальной помощи, он мог существовать только благодаря товарищеской "Большой артели".
П.Ф. Громницкому, как и другим декабристам, осуждённым по II разряду, срок каторги был сокращён сначала до 15 лет, а затем (8.11.1832) до 10 лет. По указу 14 декабря 1835 года они освобождались от каторжных работ и переводились на поселение. Местом поселения П.Ф. Громницкого было назначено село Бельское Ирсктской губернии, куда он прибыл в 1836 году.
Одновременно с его прибытием в село, Черемховским волостным правлением (село Бельское находилось на территории Черемховской волости) было получено указание иркутских властей "немедленно принять означенного Громницкого... и впоследствии, а именно с 1 июля доносить ежемесячно о поведении его на основании предназначенных правил".
Пётр Фёдорович находился уже в Бельском, когда туда приехал с семьёй И.А. Анненков. Общность идей, одинаковая судьба сблизили декабристов, и они подружились. Около двух лет ссыльные провели вместе, проявляя заботу друг о друге, деля все невзгоды жизни в глухой отдалённой деревне. В июне 1838 года Анненкова перевели в Туринск Тобольской губернии, и Громницкий остался в Бельском один.
Несмотря на запрещение властей, он устанавливает связи с некоторыми ссыльно-поселенцами, в частности с декабристом М.С. Луниным. За чтение и переписывание сочинений Лунина П.Ф. Громницкий в 1842 году был арестован и посажен в Иркутске на гаутвахту, где провёл пять месяцев, а потом был отдан под особый надзор местной полиции.
Тяготы и невзгоды, всё пережитое сломили здоровье декабриста, и в нём стала развиваться болезнь - туберкулёз лёгких. Громницкому было разрешено на время лечения переехать в село Усолье Тельминской волости, где располагалась больница. 31 мая 1851 года Громницкий умер. В метрической книге Усольской Спасской церкви была сделана запись: "Переселенец из государственных преступников в Черемховской волости Пётр Фёдорович Громницкий, 70 (!) лет, умер от чахотки. Погребение совершено на сельском приходском кладбище" 2 июня 1851 года.
Метки: декабристы |
Никита Кирсанов. "Декабрист Пётр Громницкий" (часть 1). |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Декабрист Пётр Громницкий" (часть 1).

У Фёдора Григорьевича Громницкого (1771-1830) и его жены Екатерины Фёдоровны (ск. после 1852) было шестеро детей: три сына Пётр, Александр (р. 1805) и Виктор (р. 1811) и три дочери Мария (р. 1798), Варвара (р. 1803) и Ольга (р. 1804). О них не сохранилось почти никаких сведений. Известно лишь, что братья - Александр и Виктор находились на военной службе, а сёстры - жили "при родителях". В Пензенском областном архиве есть дело о дворянстве рода Громницких, в котором говорится, что в январе 1860 года девица Варвара Фёдоровна Громницкая "распиской объяснила" дворянскому депутатскому собранию, что "из рода Громницких кроме неё никого в живых нет, сама же она не желает вести дело о дворянстве и не может за неимением средств представить гербовую бумагу". Депутатское собрание определило: "Дело о дворянстве Громницких считать конченным. Дальнейших затем причислений к роду Громницких не было, и имений, как видно из окладной книги, за ними в Пензенской губернии не состоит".
Однако по данным 1828 года, Громницким, в Керенском уезде Пензенской губернии принадлежали деревни Шуриновка (267 душ мужского пола), Артамас, Новая и Ключи. Ещё в 1799 году Фёдор Григорьевич "приобрёл землю в Русском Пимбуре у коллежского асессора Андрея Боташова 10 четв.", а также имел "земли в с. Архангельское, Дубасово тож". "Но как они обременены долгами, то домашние их обстоятельства крайне стеснены", - доносил керенский предводитель дворянства пензенскому губернатору в ответ на запрос последнего о семействе Громницких. Екатерина Фёдоровна после смерти мужа приобрела землю в Русском Пимбуре, Баранчеевке и Новосёлках, но уже к 1860 году, как было сказано выше, ни земель, ни имений за Громницкими не числилось.
Фёдор Григорьевич, находился на военной службе, вышел в отставку в 1794 году в чине капитана, а потом жил в Керенском уезде, где занимал разные должности. В 1805-1811 гг. он был земским исправником. В 1812-1813 гг. собирал в уезде средства на ополчение. В 1816-1829 гг. служил уездным судьёй. Затем он оставил гражданскую службу и жил с семьёй то в городе Керенске, то в своём имении - деревне Артамасе.
Дата рождения его сына, будущего декабриста Петра Фёдоровича Громницкого - 1803 г., встречающаяся в некоторых изданиях, указана неправильно. Из личного дела Фёдора Григорьевича видно, что Пётр родился в 1801 г., а в 1803 родилась его сестра Варвара Фёдоровна (ГАПО, ф. 196, оп. 2, д. 545).
Детские годы Петра Громницкого прошли в Керенском уезде, в доме родителей. Здесь он обучался грамоте, здесь получил первые впечатления об окружающей действительности, потом воспитывался во 2-м кадетском корпусе в Петербурге, куда поступил кадетом 13 июня 1814 года. Любимыми его предметами, как показывал он следственной комиссии, были отечественная словесность, история и география. 1 февраля 1819 года П.Ф. Громницкий был выпущен прапорщиком в армию и зачислен в Пензенский пехотный полк, находившийся в то время в Пензенской губернии. За время четырёхлетнего пребывания в родных местах уже взрослым человеком будущий декабрист многое узнал по личным наблюдениям и по рассказам других о жизни крепостной деревни, и у него всё больше укреплялась мысль о необходимости изменения существующего порядка.
В 1823 году Пензенский полк был переведён на Украину и расквартирован в районе Новограда-Волынского. Там П.Ф. Громницкий вскоре познакомился и подружился с подпоручиком 8-й артиллерийской бригады Петром Ивановичем Борисовым, который оказал на него большое влияние. Разговоры шли, показывал Громницкий во время следствия, о "правительстве с самой невыгодной стороны", не пропускался ни малейший случай, "где можно было сказать что-либо дурное на особу царствующую или на особ, имеющих влияние в правительстве". В то же время Пётр Борисов читал ему сочинения Гельвеция, Вольтера и других прогрессивных французских писателей. В начале 1824 года П.Ф. Громницкий, к тому времени поручик Пензенского полка, был принят в тайное Общество соединённых славян, а позднее стал заместителем его председателя.
Общество это было основано на Волыни в 1823 году братьями Андреем и Петром Борисовыми и Юлианом Казимировичем Люблинским. Общество стало численно расти. Каждый его участник обязывался привлекать новых лиц, и в этом направлении велась работа. Политической целью тайной организации было уничтожение "самовластия" и образования федеративного союза славянских республик. Предполагалось уничтожение сословий, освобождение крестьян от крепостной зависимости, установление демократических свобод и прав для народа.
Братья Борисовы написали "Правила" Общества соединённых славян ("Катехизис") и "Клятвенное обещание", которые были приняты всеми членами общества. Первое правило гласило: "Не надейся ни на кого, кроме твоих друзей и твоего оружия. Друзья тебе помогут, оружие тебя защитит". "Не желай иметь раба, когда сам рабом быть не хочешь", - говорилось в другом пункте "Правил". Клятвенное обещание гласило, что в тайную организацию каждый член вступал для освобождения себя от тиранства и возвращения роду человеческому свободы. Он обязывался никогда не выдавать сочленов, хотя бы грозил ему "самый ад со всеми ужасами", а к цели славянского единства идти во что бы то ни стало, хотя бы через тысячи смертей и тысячи препятствий, посвятив цели общества последний вздох. Для большего возбуждения энтузиазма клятва произносилась на мече.
В марте 1825 года в местечке Чернихово, в 25 верстах от Житомира, происходило собрание всех членов Славянского общества, которое признало необходимым поручить управление Обществом президенту (председателю) и секретарю. Президентом был избран Пётр Борисов, секретарём - И.И. Иванов, а заместителем президента - П.Ф. Громницкий. Собрание решило начать сбор членских взносов, предполагалось выработать новый устав.
К концу лета 1825 года в Обществе соединённых славян насчитывалось несколько десятков членов. Позднее состав его пополнился новыми членами. В своём большинстве "славяне" были офицерами 8-й и 9-й артиллерийских бригад и Пензенского, Черниговского и Саратовского пехотных полков. В частности, из офицеров Пензенского полка членами Общества были: поручик П.Ф. Громницкий, подпоручик П.Д. Мозган, капитан А.И. Тютчев, подпоручик А.Ф. Фролов, поручик Н.Ф. Лисовский, майор М.М. Спиридов.
Однако сложившиеся обстоятельства изменили все намерения "славян". Летом 1825 года 3-й корпус был собран на манёвры под местечком Лещином, недалеко от Житомира. Во время этого сбора член Славянского общества Тютчев встретился со своими старыми товарищами по Семёновскому полку подполковником Черниговского полка С.И. Муравьёвым-Апостолом, подпоручиком Полтавского пехотного полка М.П. Бестужевым-Рюминым и узнал от них о существовании на юге другого тайного общества. Муравьёв-Апостол и Бестужев-Рюмин, члены Южного общества, и видные деятели его Васильковской управы, в свою очередь, узнали от Тютчева о существовании Общества соединённых славян. Они предложили "славянам" присоединиться к Южному обществу. Начались переговоры о слиянии. Роль посредников между двумя обществами взяли на себя Тютчев и его товарищ по Пензенскому полку Громницкий.
За период с 3 по 13 сентября 1825 года состоялось несколько собраний всех "славян" с участием представителей Южного общества - Муравьёва-Апостола и Бестужева-Рюмина. На собраниях говорили о бесправии армии, о тяжёлом положении солдат и младших офицеров, угнетаемых начальством, "на которое нельзя жаловаться", о крайнем бесправии крестьян, о недостатках системы управления, о несправедливости высших властей, о необходимости в России перемены правления. При этом Бестужев-Рюмин читал "славянам" выдержки из "Русской Правды" Пестеля.
Обсуждался вопрос и о "способах действия", о тактике революционной борьбы. На одном из собраний Бестужев-Рюмин произнёс речь, в которой говорил: "Наша революция будет подобна революции Испанской (1820 г.). Она не будет стоить ни единой капли крови, ибо произведётся одною армией, без участия народа. Москва и Петербург с нетерпением ожидают восстания войск. Наша Конституция утвердит навсегда свободу и благоденствие народа. Будущего 1826 года в августе месяце император будет смотреть 3-й корпус, и в это время решится судьба деспотизма; тогда ненавистный тиран падёт под нашими ударами. Мы поднимем знамя свободы и пойдём на Москву, провозглашая Конституцию".
Это была тактика военного переворота, принятая Южным обществом. Теперь её должны были принять и члены Общества соединённых славян.
Последнее собрание "славян" происходило 13 сентября. Оно было наиболее многочисленным и оживлённым. Было положено соединиться с Южным обществом на основаниях, предложенных Бестужевым-Рюминым. Как указывал И.И. Горбачевский, Бестужев-Рюмин первым произнёс клятву быть верным обществу. Его примеру последовали все присутствующие на этом собрании. "Все с жаром клялись, - писал Горбачевский, - при первом знаке явиться в назначенное место с оружием в руках, употребить все способы для увлечения своих подчинённых действовать с преданностью и самозабвением... Чистосердечные, торжественные клятвы смешивались с криками: "Да здравствует Конституция! Да здравствует республика! Да здравствует народ! Да погибнет различие сословий! Да погибнет дворянство вместе с царским саном!"
То, что определило отношение "славян" к Южному обществу и побудило их объединиться с ним, - это демократическое устройство государства, предусмотренное "Русской Правдой" Пестеля. Пётр Борисов говорил о Южном обществе: "Целью сего общества есть введение в России чистой демократии, уничтожающей не только сан монарха, но и дворянское достоинство и все сословия и сливающей их в одно сословие - Гражданское". Это и была та платформа, на которой произошло объединение обществ. При этом "славяне" желали быстрого революционного действия, "рвались к делу, и дело приближалось. Все ожидали начала действий", - замечала академик М.В. Нечкина.
15 сентября войска выходили из Лещинского лагеря на зимние квартиры. В этот день представители "славян" Спиридов, Горбачевский и Пестов ещё раз встретились с Бестужевым-Рюминым, чтобы набрать группу лиц, готовых на цареубийство, по терминологии Южного общества - "заговорщиков". В эту группу были намечены 12 человек: Пестов, Спиридов, Тютчев, Громницкий, Лисовский, Горбачевский, братья Андрей и Пётр Борисовы, Бечаснов, Кузьмин, Сухинов и Соловьёв.
Из всего сказанного выше видно, что Пётр Фёдорович Громницкий играл активную роль в Обществе соединённых славян, являлся заместителем его председателя, вместе с Тютчевым выступал посредником во время переговоров о слиянии "славян" с Южным обществом. В числе наиболее видных представителей "славян" он вошёл в группу заговорщиков-цареубийц.
В то же время П.Ф. Громницкий вёл работу по приёму в тайное общество новых членов. Так, им были приняты в Общество соединённых славян поручик Пензенского полка Н.Ф. Лисовский, офицер Черниговского полка В.Н. Соловьёв и другие лица. На следствии Соловьёв рассказывал, что он приглашён был членом общества Громницким и что Громницкий "сообщил ему о сем обществе, что оно существует с давнего времени, на предмет для перемены образа правления и восстановления конституции, говорил ему, чтобы стараться увеличить число известных ему по характеру людей, и давать отчёт о принятых в общество, на что он, Соловьёв, дав клятву по имеющейся у него, Громницкого, форме, хранил в тайне и никому о том не объявлял".
Во время Лещинского лагеря П.Ф. Громницкий постоянно общался с офицерской молодёжью разных частей. Например, он неоднократно бывал у поручика Черниговского полка А.Д. Кузьмина, где собирались и другие офицеры для обсуждения положения дел в обществе. Рядовой Черниговского полка Игнатий Ракуза во время допроса показал: "Из числа офицеров 8-й пехотной дивизии, весьма часто у Кузьмина бывавших, я приметил следующих: Пензенского пехотного полка капитана Тютчева, поручиков Лисовского и Громницкого. Артиллерийских офицеров видел многих, но по фамилии не знаю". И.И. Сухинов рассказывал, что в один из вечеров он и его товарищи по приглашению Кузьмина прибыли к нему в деревню недалеко от Лещина "в предположенное там быть собрание" и нашли у него "многое число пехотных и артиллерийских офицеров и юнкеров", среди которых были пензенцы Спиридов, Тютчев, Громницкий и Лисовский.
Из показаний ряда декабристов известно, что во время лагеря при Лещине многие офицеры разных полков, в числе их и Громницкий с товарищами по Пензенскому полку, часто бывали в "Балагане" (палатке) Сергея Муравьёва-Апостола, где "слышали преступные суждения его о необходимости переворота в государстве, о силе и связях Южного общества и проч. и... были увлечены к соединению с Южным обществом". выдержки из Целью сего общества есть введение в России чистой демократии, уничтожающей не только сан монарха, но и дворянское достоинство и все сословия и сливающей их в одно сословие - Гражданское.

У Фёдора Григорьевича Громницкого (1771-1830) и его жены Екатерины Фёдоровны (ск. после 1852) было шестеро детей: три сына Пётр, Александр (р. 1805) и Виктор (р. 1811) и три дочери Мария (р. 1798), Варвара (р. 1803) и Ольга (р. 1804). О них не сохранилось почти никаких сведений. Известно лишь, что братья - Александр и Виктор находились на военной службе, а сёстры - жили "при родителях". В Пензенском областном архиве есть дело о дворянстве рода Громницких, в котором говорится, что в январе 1860 года девица Варвара Фёдоровна Громницкая "распиской объяснила" дворянскому депутатскому собранию, что "из рода Громницких кроме неё никого в живых нет, сама же она не желает вести дело о дворянстве и не может за неимением средств представить гербовую бумагу". Депутатское собрание определило: "Дело о дворянстве Громницких считать конченным. Дальнейших затем причислений к роду Громницких не было, и имений, как видно из окладной книги, за ними в Пензенской губернии не состоит".
Однако по данным 1828 года, Громницким, в Керенском уезде Пензенской губернии принадлежали деревни Шуриновка (267 душ мужского пола), Артамас, Новая и Ключи. Ещё в 1799 году Фёдор Григорьевич "приобрёл землю в Русском Пимбуре у коллежского асессора Андрея Боташова 10 четв.", а также имел "земли в с. Архангельское, Дубасово тож". "Но как они обременены долгами, то домашние их обстоятельства крайне стеснены", - доносил керенский предводитель дворянства пензенскому губернатору в ответ на запрос последнего о семействе Громницких. Екатерина Фёдоровна после смерти мужа приобрела землю в Русском Пимбуре, Баранчеевке и Новосёлках, но уже к 1860 году, как было сказано выше, ни земель, ни имений за Громницкими не числилось.
Фёдор Григорьевич, находился на военной службе, вышел в отставку в 1794 году в чине капитана, а потом жил в Керенском уезде, где занимал разные должности. В 1805-1811 гг. он был земским исправником. В 1812-1813 гг. собирал в уезде средства на ополчение. В 1816-1829 гг. служил уездным судьёй. Затем он оставил гражданскую службу и жил с семьёй то в городе Керенске, то в своём имении - деревне Артамасе.
Дата рождения его сына, будущего декабриста Петра Фёдоровича Громницкого - 1803 г., встречающаяся в некоторых изданиях, указана неправильно. Из личного дела Фёдора Григорьевича видно, что Пётр родился в 1801 г., а в 1803 родилась его сестра Варвара Фёдоровна (ГАПО, ф. 196, оп. 2, д. 545).
Детские годы Петра Громницкого прошли в Керенском уезде, в доме родителей. Здесь он обучался грамоте, здесь получил первые впечатления об окружающей действительности, потом воспитывался во 2-м кадетском корпусе в Петербурге, куда поступил кадетом 13 июня 1814 года. Любимыми его предметами, как показывал он следственной комиссии, были отечественная словесность, история и география. 1 февраля 1819 года П.Ф. Громницкий был выпущен прапорщиком в армию и зачислен в Пензенский пехотный полк, находившийся в то время в Пензенской губернии. За время четырёхлетнего пребывания в родных местах уже взрослым человеком будущий декабрист многое узнал по личным наблюдениям и по рассказам других о жизни крепостной деревни, и у него всё больше укреплялась мысль о необходимости изменения существующего порядка.
В 1823 году Пензенский полк был переведён на Украину и расквартирован в районе Новограда-Волынского. Там П.Ф. Громницкий вскоре познакомился и подружился с подпоручиком 8-й артиллерийской бригады Петром Ивановичем Борисовым, который оказал на него большое влияние. Разговоры шли, показывал Громницкий во время следствия, о "правительстве с самой невыгодной стороны", не пропускался ни малейший случай, "где можно было сказать что-либо дурное на особу царствующую или на особ, имеющих влияние в правительстве". В то же время Пётр Борисов читал ему сочинения Гельвеция, Вольтера и других прогрессивных французских писателей. В начале 1824 года П.Ф. Громницкий, к тому времени поручик Пензенского полка, был принят в тайное Общество соединённых славян, а позднее стал заместителем его председателя.
Общество это было основано на Волыни в 1823 году братьями Андреем и Петром Борисовыми и Юлианом Казимировичем Люблинским. Общество стало численно расти. Каждый его участник обязывался привлекать новых лиц, и в этом направлении велась работа. Политической целью тайной организации было уничтожение "самовластия" и образования федеративного союза славянских республик. Предполагалось уничтожение сословий, освобождение крестьян от крепостной зависимости, установление демократических свобод и прав для народа.
Братья Борисовы написали "Правила" Общества соединённых славян ("Катехизис") и "Клятвенное обещание", которые были приняты всеми членами общества. Первое правило гласило: "Не надейся ни на кого, кроме твоих друзей и твоего оружия. Друзья тебе помогут, оружие тебя защитит". "Не желай иметь раба, когда сам рабом быть не хочешь", - говорилось в другом пункте "Правил". Клятвенное обещание гласило, что в тайную организацию каждый член вступал для освобождения себя от тиранства и возвращения роду человеческому свободы. Он обязывался никогда не выдавать сочленов, хотя бы грозил ему "самый ад со всеми ужасами", а к цели славянского единства идти во что бы то ни стало, хотя бы через тысячи смертей и тысячи препятствий, посвятив цели общества последний вздох. Для большего возбуждения энтузиазма клятва произносилась на мече.
В марте 1825 года в местечке Чернихово, в 25 верстах от Житомира, происходило собрание всех членов Славянского общества, которое признало необходимым поручить управление Обществом президенту (председателю) и секретарю. Президентом был избран Пётр Борисов, секретарём - И.И. Иванов, а заместителем президента - П.Ф. Громницкий. Собрание решило начать сбор членских взносов, предполагалось выработать новый устав.
К концу лета 1825 года в Обществе соединённых славян насчитывалось несколько десятков членов. Позднее состав его пополнился новыми членами. В своём большинстве "славяне" были офицерами 8-й и 9-й артиллерийских бригад и Пензенского, Черниговского и Саратовского пехотных полков. В частности, из офицеров Пензенского полка членами Общества были: поручик П.Ф. Громницкий, подпоручик П.Д. Мозган, капитан А.И. Тютчев, подпоручик А.Ф. Фролов, поручик Н.Ф. Лисовский, майор М.М. Спиридов.
Однако сложившиеся обстоятельства изменили все намерения "славян". Летом 1825 года 3-й корпус был собран на манёвры под местечком Лещином, недалеко от Житомира. Во время этого сбора член Славянского общества Тютчев встретился со своими старыми товарищами по Семёновскому полку подполковником Черниговского полка С.И. Муравьёвым-Апостолом, подпоручиком Полтавского пехотного полка М.П. Бестужевым-Рюминым и узнал от них о существовании на юге другого тайного общества. Муравьёв-Апостол и Бестужев-Рюмин, члены Южного общества, и видные деятели его Васильковской управы, в свою очередь, узнали от Тютчева о существовании Общества соединённых славян. Они предложили "славянам" присоединиться к Южному обществу. Начались переговоры о слиянии. Роль посредников между двумя обществами взяли на себя Тютчев и его товарищ по Пензенскому полку Громницкий.
За период с 3 по 13 сентября 1825 года состоялось несколько собраний всех "славян" с участием представителей Южного общества - Муравьёва-Апостола и Бестужева-Рюмина. На собраниях говорили о бесправии армии, о тяжёлом положении солдат и младших офицеров, угнетаемых начальством, "на которое нельзя жаловаться", о крайнем бесправии крестьян, о недостатках системы управления, о несправедливости высших властей, о необходимости в России перемены правления. При этом Бестужев-Рюмин читал "славянам" выдержки из "Русской Правды" Пестеля.
Обсуждался вопрос и о "способах действия", о тактике революционной борьбы. На одном из собраний Бестужев-Рюмин произнёс речь, в которой говорил: "Наша революция будет подобна революции Испанской (1820 г.). Она не будет стоить ни единой капли крови, ибо произведётся одною армией, без участия народа. Москва и Петербург с нетерпением ожидают восстания войск. Наша Конституция утвердит навсегда свободу и благоденствие народа. Будущего 1826 года в августе месяце император будет смотреть 3-й корпус, и в это время решится судьба деспотизма; тогда ненавистный тиран падёт под нашими ударами. Мы поднимем знамя свободы и пойдём на Москву, провозглашая Конституцию".
Это была тактика военного переворота, принятая Южным обществом. Теперь её должны были принять и члены Общества соединённых славян.
Последнее собрание "славян" происходило 13 сентября. Оно было наиболее многочисленным и оживлённым. Было положено соединиться с Южным обществом на основаниях, предложенных Бестужевым-Рюминым. Как указывал И.И. Горбачевский, Бестужев-Рюмин первым произнёс клятву быть верным обществу. Его примеру последовали все присутствующие на этом собрании. "Все с жаром клялись, - писал Горбачевский, - при первом знаке явиться в назначенное место с оружием в руках, употребить все способы для увлечения своих подчинённых действовать с преданностью и самозабвением... Чистосердечные, торжественные клятвы смешивались с криками: "Да здравствует Конституция! Да здравствует республика! Да здравствует народ! Да погибнет различие сословий! Да погибнет дворянство вместе с царским саном!"
То, что определило отношение "славян" к Южному обществу и побудило их объединиться с ним, - это демократическое устройство государства, предусмотренное "Русской Правдой" Пестеля. Пётр Борисов говорил о Южном обществе: "Целью сего общества есть введение в России чистой демократии, уничтожающей не только сан монарха, но и дворянское достоинство и все сословия и сливающей их в одно сословие - Гражданское". Это и была та платформа, на которой произошло объединение обществ. При этом "славяне" желали быстрого революционного действия, "рвались к делу, и дело приближалось. Все ожидали начала действий", - замечала академик М.В. Нечкина.
15 сентября войска выходили из Лещинского лагеря на зимние квартиры. В этот день представители "славян" Спиридов, Горбачевский и Пестов ещё раз встретились с Бестужевым-Рюминым, чтобы набрать группу лиц, готовых на цареубийство, по терминологии Южного общества - "заговорщиков". В эту группу были намечены 12 человек: Пестов, Спиридов, Тютчев, Громницкий, Лисовский, Горбачевский, братья Андрей и Пётр Борисовы, Бечаснов, Кузьмин, Сухинов и Соловьёв.
Из всего сказанного выше видно, что Пётр Фёдорович Громницкий играл активную роль в Обществе соединённых славян, являлся заместителем его председателя, вместе с Тютчевым выступал посредником во время переговоров о слиянии "славян" с Южным обществом. В числе наиболее видных представителей "славян" он вошёл в группу заговорщиков-цареубийц.
В то же время П.Ф. Громницкий вёл работу по приёму в тайное общество новых членов. Так, им были приняты в Общество соединённых славян поручик Пензенского полка Н.Ф. Лисовский, офицер Черниговского полка В.Н. Соловьёв и другие лица. На следствии Соловьёв рассказывал, что он приглашён был членом общества Громницким и что Громницкий "сообщил ему о сем обществе, что оно существует с давнего времени, на предмет для перемены образа правления и восстановления конституции, говорил ему, чтобы стараться увеличить число известных ему по характеру людей, и давать отчёт о принятых в общество, на что он, Соловьёв, дав клятву по имеющейся у него, Громницкого, форме, хранил в тайне и никому о том не объявлял".
Во время Лещинского лагеря П.Ф. Громницкий постоянно общался с офицерской молодёжью разных частей. Например, он неоднократно бывал у поручика Черниговского полка А.Д. Кузьмина, где собирались и другие офицеры для обсуждения положения дел в обществе. Рядовой Черниговского полка Игнатий Ракуза во время допроса показал: "Из числа офицеров 8-й пехотной дивизии, весьма часто у Кузьмина бывавших, я приметил следующих: Пензенского пехотного полка капитана Тютчева, поручиков Лисовского и Громницкого. Артиллерийских офицеров видел многих, но по фамилии не знаю". И.И. Сухинов рассказывал, что в один из вечеров он и его товарищи по приглашению Кузьмина прибыли к нему в деревню недалеко от Лещина "в предположенное там быть собрание" и нашли у него "многое число пехотных и артиллерийских офицеров и юнкеров", среди которых были пензенцы Спиридов, Тютчев, Громницкий и Лисовский.
Из показаний ряда декабристов известно, что во время лагеря при Лещине многие офицеры разных полков, в числе их и Громницкий с товарищами по Пензенскому полку, часто бывали в "Балагане" (палатке) Сергея Муравьёва-Апостола, где "слышали преступные суждения его о необходимости переворота в государстве, о силе и связях Южного общества и проч. и... были увлечены к соединению с Южным обществом". выдержки из Целью сего общества есть введение в России чистой демократии, уничтожающей не только сан монарха, но и дворянское достоинство и все сословия и сливающей их в одно сословие - Гражданское.
Метки: декабристы |
Никита Кирсанов. "Декабрист Николай Панов" (часть 2) |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Декабрист Николай Панов" (часть 2).

О пребывании Н.А. Панова в Чите (25.08.1827 - сент. 1830) и Петровском заводе (сент. 1830 - июль 1839) практически не сохранилось никаких сведений. Дочь декабриста Анненкова Ольга вспоминала, что "Панов постоянно рассказывал мне басни и даже выписал для меня первое издание басен Крылова, которое теперь составляет библиографическую редкость. От него же я узнала первые сказки: Красную шапочку, Спящую царевну и др." Жена декабриста А.П. Юшневского Мария Казимировна писала брату мужа 18 декабря 1836 г.: "У нас есть некто Николай Алексеевич Панов, который тебя в Москве видывал, и однажды ты у него был: не помню, куда-то вы с ним вместе ездили. Он небольшого роста, белокурый. Может, ты его вспомнишь. Ему только 36 лет теперь, а весь седой. Так странно видеть человека молодого лицом, а голова, как у 75 летнего старика. Впрочем, у нас нет ни одного человека без седых волос". Получив ответ через некоторое время, Юшневская опять пишет: "Панов был весьма доволен твоим письмом. Он так живо перенёсся мысленно в давние времена, когда вам так было весело обоим в Москве, и рассказывал мне историю о M-lle Mellard. Николай Алексеевич тебе кланяется и благодарит тебя за милые строки, которые ты написал, а ещё того более, что ты так хорошо вспомнил его. В одном ты ошибся: он не жил у Николы на Песках, а у Ржевской Божией Матери... 12 июня, 1837 г. Петровский завод" (Письма декабриста А.П. Юшневского и его жены М.К. Юшневской из Сибири. Киев: типография Т.Г. Мейнандера, 1908 г.). А вот "главный обличитель" своих товарищей по изгнанию, Д. Завалишин, рисует Панова с несколько иной стороны: "... князь Щепин-Ростовский и Панов, находятся в гнусной связи… в Петровском каземате, когда даже тюремщик не считает нужным запирать комнаты заключённых на замок, Щепин на ночь запирает Панова, чтобы никто другой не мог воспользоваться его благосклонностью…" Оставим это "свидетельство" без комментариев...
В 1839 г. перед выходом Панова на поселение Николаем Александровичем Бестужевым были написаны два его портрета, и он попросил для подарка брату Дмитрию - тот, что искусствоведами сейчас признаётся лучшим. Долгое время он хранился у потомков Дмитрия Алексеевича в Воронеже, но в настоящее время утрачен. Сохранилась только литография художника А.Т. Скино, сделанная в 1857 г. по просьбе Е.И. Якушкина, собиравшего материалы о товарищах по несчастью своего отца.
8 ноября 1832 г. срок каторги для осуждённых по I разряду был сокращён до 15 лет, а указом от 14 декабря 1839 г. - до 13. По отбытии срока, в июле 1839 г. (указ от 10.07.), Панов был обращён на поселение в село Михалёво Жилкинской волости Иркутского округа. Рядом были поселены его друзья, наиболее близкие из которых были бывший однополчанин А.Н. Сутгоф в селе Введенщина, А.М. Муравьёв и Ф.Б. Вольф в Урике и семейство Трубецких в Оёке. Попытки Панова заняться хозяйством были не очень удачными, вскоре он, по-видимому, перестал уделять этому внимание.
Добродушный, снисходительный к окружающим, он везде был желанным гостем и нередко навещал друзей, порой подолгу задерживаясь у них. Сохранились воспоминания сибиряка Н.А. Белоголового о декабристах, опубликованные в книге "Русские мемуары. Избранные страницы". М., 1990 г. О Панове мемуарист пишет: ".. я был очень застенчив и легко терялся с мало знакомыми людьми, а поэтому всякий наезд гостей, когда в зале накрывали к обеду большой стол, обращался для меня в немалую пытку. Особенно боялся я декабриста Панова, который довольно часто приезжал к обеду и любил потешаться надо мной. Это был небольшого роста плотный блондин, с большими выпуклыми глазами, с румянцем на щеках и с большими светло-русыми усами; за обедом он начинал стрелять в меня шариками хлеба и, должно быть любуясь моим конфузом, приставал ко мне с вопросами обыкновенно всё в одном и том же роде: "А зачем у тебя мои зубы? когда ты у меня их стащил? давай же мне их тотчас же назад!" Следующие разы повторялись те же вопросы по поводу носа, глаза; я краснел до ушей, готов был провалиться под стул и был чрезвычайно рад, когда по окончании обеда мог удалиться в свою комнату". Будучи в курсе дел иркутской колонии, Панов постоянно переписывался с братьями Бестужевыми, а после отъезда в Западную Сибирь А.М. Муравьёва и Вольфа и с ними, сообщая новости, но не опускаясь до сплетен, а с искренним участием и благожелательностью. Весной 1841 г. узнав об аресте М.С. Лунина, Панов присоединился к М.Н. Волконской, организовавшей проводы при отправке его в Акатуй.
Из обширной переписки, которую вёл на поселении Панов, до нас дошло только одиннадцать писем, хранящихся в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве. Первое датировано 1842-м годом, последнее 1849-м. Текст их русский и французский, одно письмо адресовано брату Дмитрию Алексеевичу, остальные его жене, а вскоре вдове, Софье Александровне.
Общий тон писем очень сдержанный; живо интересуясь жизнью родных, здоровьем маленьких племянников, подробностями домашних дел, Панов очень скупо рассказывает о себе, своих занятиях, ничего не сообщает о товарищах по поселению, не называет ничьих имён. Единственное исключение составляет письмо, где упоминается, и притом в весьма любопытном контексте, жена декабриста М.М. Нарышкина, делившая с мужем его изгнание.
"Елизавета Петровна Нарышкина очень страдала расстройством нерв, и путешествие, которое она должна была сделать, почти совсем её излечило", - не без горькой иронии пишет Панов. В этом "путешествии" которое совершили жёны декабристов от блестящих светских салонов до "мрачных пропастей земли", не оставалось, очевидно, места для "расстройства нерв".
28 июля 1843 г. Панов узнал о смерти брата - единственно близкого ему человека и единственной его поддержки (Дмитрий Алексеевич умер скоропостижно в своём московском доме в Ржевском переулке 29 мая 1843 г. и был похоронен на кладбище Спасо-Андроникова монастыря). Письмо Панова, обращённое к невестке, более чем горестно:
"Это известие меня поразило, как гром; в первую минуту я не чувствовал ни горя, ни тоски... Я не верил своим глазам, читал и не понимал, что читаю. Я всё искал, нельзя ли перетолковать, не худо ли я понял; но когда я прочёл другой раз - тут только я постиг весь ужас моей потери и горе, как камень, легло на сердце".
Софья Александровна, сообщая Панову о смерти мужа, заверила его в том, что она не прекратит оказывать ему помощь.
"Благодарю вас, друг мой, - пишет Панов, - что что вы хотите продолжать его попечение обо мне... Меня утешает мысль, что не долго я буду нуждаться в ваших попечениях, что наконец провидение сжалится надо мной и дарует мне давно желаемый покой".
Слово своё Софья лександровна сдержала и до конца поддерживала Панова, посылая ему деньги и вещи.
С лета 1843 г. в письмах Панова встречаются жалобы на сильные головные боли, общее недомогание. 25 мая 1844 г. ему было разрешено поехать на лечебные Туркинские воды; по возвращении он пишет невестке: "Воды, как кажется, мне помогли, но не столько, сколько я ожидал от них ... в оправдание вод должно прибавить, что они моральных болезней, болезней души излечить не могут, а у меня, сколько я понимаю, это была главная причина. Вы ошибаетесь думая, что болезнь меня пришибла, нет дорогой друг, я обладаю ещё достаточной долей мужества для того, чтобы страдать".
Мужества ему понадобилось много: приступы принимали всё более тяжёлый характер и повторялись всё чаще.
"У меня были такие сильные головные боли, что я не знал, что со мной будет, я не мог ни читать, ни писать, ни даже говорить. Надо вам сказать, что здешний климат холодный сырой вызвал эту болезнь... я боюсь, чтобы она не стала хронической... одна мысль об этом заставляет меня содрагаться, я предпочёл бы горячку, от которой рискуешь умереть, но не страдаешь так долго", - пишет он в январе 1844 года.
В том же 1844 г. Панов получил от невестки письмо, где она устанавливала размеры помощи, которую будет впредь ему оказывать. Ответ на это письмо (к сожалению, с утраченным окончанием) содержит выразительную характеристику того бесправного и безвыходного положения, в котором оказались поселенцы, особенно те, кто не получал никакой материальной поддержки: "...я со своей стороны считаю обязанностью, святою обязанностью, сказать Вам от души спасибо, сестра, что не оставила брата мужа твоего. Я откровенно скажу Вам, что в том стеснённом положении, в котором мы находимся, я не знаю, чем бы я стал жить: трудиться, чтобы добывать себе хлеб, нам невозможно. Мы поселенцы, платим подати и не пользуемся никакими правами поселенца. Всякий поселенец имеет право взять билет и идти по всей губернии для заработка, даже в другую губернию. Пусть бы нам дали подобное позволение и я уверен найти себе место, где бы я мог получать 4 или 5 тыс. жалования".
15 июля 1845 г. Панову было разрешено переселиться в село Урик Кудинской Волости Иркутского округа. Он купил дом А.М. Муравьёва, переведённого в Тобольск. Здесь он принимал приехавшего в Иркутск в мае 1849 г. для лечения И.И. Пущина. Сам Панов часто и подолгу гостил у Трубецких, вначале в с. Оёк, а затем в Иркутске. В их семье встречался с иркутскими жителями, сочувственно относящимся к ссыльным. Иногда он прибегал к их услугам.
"Вы получите это письмо, моя добрая сестра Софья Александровна, а также небольшую посылку через г-на Коленко Захара Васильевича, классного инспектора Иркутского института, которого я Вам рекомендую как прекрасного молодого человека, пользующегося здесь большим уважением. Он согласился взять письмо, а также посылку и оказал мне этим большую услугу..." - пише Панов и, тревожась, чтобы о его незаконном послании не стало известно властям, просит невестку: "Для того, чтобы показать мне, что Вы получили письмо и посылку, вставьте в Ваше первое письмо слова человек предполагает, а бог располагает и подчеркните их".
Последнее письмо, написанное Пановым из дошедших до нас, датируется августом 1849 года. В нём - ни слова о себе; всё оно наполнено беспокойством о семье брата, устройством его детей и т.п. ("Литературная Россия" № 52 (416) от 25 декабря 1970 г., стр. 17).
Встречать новый 1850 год Н.А. Панов приехал к Трубецким в Иркутск. Далее приведу письмо декабриста С.П. Трубецкого - С.А. Пановой от 13 февраля. "Мадам, ваш шурин сообщал вам о своей болезни. С этого момента она всё время прогрессировала, и хотя он продолжал держаться на ногах, он худел и угасал на глазах. К несчастью, у нас не было никаких сомнений, что жизнь его продлиться долго. Действительно, прошедшего 14 января мы испытали горечь, закрыв глаза нашего замечательного друга. Это был чувствительный удар для всей нашей семьи, к которой он был так привязан. Он был за два дня до смерти в полном сознании. Он скончался без видимых страданий, окружённый моей женой и несколькими друзьями. Можно сказать, что не болезнь убила его, но что ему не хватило жизни. Я должен был раньше сообщить вам, мадам, об этом печальном событии, и я намеревался сделать уже давно, но не мог найти вашего теперешнего адреса в бумагах моего покойного друга и узнал его только сегодня из письма от 7 января, которое вы адресовали г-ну губернатору и в котором вы послали вашему шурину 260 руб. сер.
Мадам, ваш шурин незадолго до своей смерти уже получил от вас немного денег. Он тут же употребил их на уплату некоторых долгов, но у него ещё немного оставалось. Если вы будете так добры разрешить кпотребить те деньги, которые вы послали ему в последний раз и которые он не успел получить при жизни, также на уплату того, что он оставался ещё должен, я надеюсь, употребив также те средства, которые он мне оставил, ликвидировать все долги, которые он мог здесь сделать. При всех случаях я исключаю долг за дом, который он купил у г-на Муравьёва, живущего в Тобольске и имеющего от него вексель, о котором вы, возможно, знаете. Дом этот расположен верстах в 20 от города, и нужен счастливый случай, чтобы извлечь из него какую-либо пользу. Я вас прошу также, мадам, сообщить мне, кому вы уплатили 300 руб. ассигн., о которых идёт речь в вашем последнем письме, чтобы по ошибке я не уплатил второй раз те же деньги.
У вашего шурина была табакерка, которой он постоянно пользовался, с портретом покойного брата, я буду иметь честь, мадам, передать её вам, так же как и другие портреты членов вашей семьи. Нежная забота, которую вы всегда проявляли по отношению к моему покойному другу, внушает мне чувства глубокого уважения к вам, мадам, и я прошу вас принять выражение его от вашего преданного слуги Сергия Трубецкого".
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Софья Александровна Панова после смерти мужа продала дом в Ржевском переулке и переселилась в особняк на Собачьей площадке (снесена в 1950-х гг. в связи с расширением Нового Арбата), где и прожила до самой своей кончины, последовавшей 13 декабря 1881 года. Она была похоронена на кладбище Новодевичьего монастыря, но могила её не сохранилась.
У Пановых было четверо детей - две дочери и два сына: Елизавета (?); Надежда (р. в 1842 г.); Алексей (р. 10.08.1827 г.), впоследствии штаб-ротмистр, с 1850 г. - в отставке и Николай (16.02.1832 - 14.05.1895), чиновник канцелярии Управления Губернского гражданского начальства в Москве, с 1855 г. - Госсекретарь. Похоронен в Новодевичьем монастыре (могила не сохранилась).
Николай Дмитриевич был страстным поклонником творчества драматурга А.Н. Островского. Проживая в доме матери на Собачьей площадке в середине 1850-х гг. он устраивал представления, в качестве режиссёров приглашая приятелей Островского по "Москвитянину" Николая Шеповалова и скульптора Рамазанова который, кстати, изваял в мраморе бюст Панова. В дивертисментах участвовали графиня Ростопчина, композитор Дюбюк и актёр Пров Садовский. Николай Дмитриевич первым начал собирать черновые рукописи Островского, составившие потом основу собрания Н.И. Шеповалова, а ныне бережно хранящихся в Отделе рукописей РГБ. Примечательно ещё то, что лучшие фотопортреты драматурга Островского, были выполнены в салоне родственника Николая Дмитриевича - Михаила Михайловича Панова. Впрочем, это уже совсем другая история...

О пребывании Н.А. Панова в Чите (25.08.1827 - сент. 1830) и Петровском заводе (сент. 1830 - июль 1839) практически не сохранилось никаких сведений. Дочь декабриста Анненкова Ольга вспоминала, что "Панов постоянно рассказывал мне басни и даже выписал для меня первое издание басен Крылова, которое теперь составляет библиографическую редкость. От него же я узнала первые сказки: Красную шапочку, Спящую царевну и др." Жена декабриста А.П. Юшневского Мария Казимировна писала брату мужа 18 декабря 1836 г.: "У нас есть некто Николай Алексеевич Панов, который тебя в Москве видывал, и однажды ты у него был: не помню, куда-то вы с ним вместе ездили. Он небольшого роста, белокурый. Может, ты его вспомнишь. Ему только 36 лет теперь, а весь седой. Так странно видеть человека молодого лицом, а голова, как у 75 летнего старика. Впрочем, у нас нет ни одного человека без седых волос". Получив ответ через некоторое время, Юшневская опять пишет: "Панов был весьма доволен твоим письмом. Он так живо перенёсся мысленно в давние времена, когда вам так было весело обоим в Москве, и рассказывал мне историю о M-lle Mellard. Николай Алексеевич тебе кланяется и благодарит тебя за милые строки, которые ты написал, а ещё того более, что ты так хорошо вспомнил его. В одном ты ошибся: он не жил у Николы на Песках, а у Ржевской Божией Матери... 12 июня, 1837 г. Петровский завод" (Письма декабриста А.П. Юшневского и его жены М.К. Юшневской из Сибири. Киев: типография Т.Г. Мейнандера, 1908 г.). А вот "главный обличитель" своих товарищей по изгнанию, Д. Завалишин, рисует Панова с несколько иной стороны: "... князь Щепин-Ростовский и Панов, находятся в гнусной связи… в Петровском каземате, когда даже тюремщик не считает нужным запирать комнаты заключённых на замок, Щепин на ночь запирает Панова, чтобы никто другой не мог воспользоваться его благосклонностью…" Оставим это "свидетельство" без комментариев...
В 1839 г. перед выходом Панова на поселение Николаем Александровичем Бестужевым были написаны два его портрета, и он попросил для подарка брату Дмитрию - тот, что искусствоведами сейчас признаётся лучшим. Долгое время он хранился у потомков Дмитрия Алексеевича в Воронеже, но в настоящее время утрачен. Сохранилась только литография художника А.Т. Скино, сделанная в 1857 г. по просьбе Е.И. Якушкина, собиравшего материалы о товарищах по несчастью своего отца.
8 ноября 1832 г. срок каторги для осуждённых по I разряду был сокращён до 15 лет, а указом от 14 декабря 1839 г. - до 13. По отбытии срока, в июле 1839 г. (указ от 10.07.), Панов был обращён на поселение в село Михалёво Жилкинской волости Иркутского округа. Рядом были поселены его друзья, наиболее близкие из которых были бывший однополчанин А.Н. Сутгоф в селе Введенщина, А.М. Муравьёв и Ф.Б. Вольф в Урике и семейство Трубецких в Оёке. Попытки Панова заняться хозяйством были не очень удачными, вскоре он, по-видимому, перестал уделять этому внимание.
Добродушный, снисходительный к окружающим, он везде был желанным гостем и нередко навещал друзей, порой подолгу задерживаясь у них. Сохранились воспоминания сибиряка Н.А. Белоголового о декабристах, опубликованные в книге "Русские мемуары. Избранные страницы". М., 1990 г. О Панове мемуарист пишет: ".. я был очень застенчив и легко терялся с мало знакомыми людьми, а поэтому всякий наезд гостей, когда в зале накрывали к обеду большой стол, обращался для меня в немалую пытку. Особенно боялся я декабриста Панова, который довольно часто приезжал к обеду и любил потешаться надо мной. Это был небольшого роста плотный блондин, с большими выпуклыми глазами, с румянцем на щеках и с большими светло-русыми усами; за обедом он начинал стрелять в меня шариками хлеба и, должно быть любуясь моим конфузом, приставал ко мне с вопросами обыкновенно всё в одном и том же роде: "А зачем у тебя мои зубы? когда ты у меня их стащил? давай же мне их тотчас же назад!" Следующие разы повторялись те же вопросы по поводу носа, глаза; я краснел до ушей, готов был провалиться под стул и был чрезвычайно рад, когда по окончании обеда мог удалиться в свою комнату". Будучи в курсе дел иркутской колонии, Панов постоянно переписывался с братьями Бестужевыми, а после отъезда в Западную Сибирь А.М. Муравьёва и Вольфа и с ними, сообщая новости, но не опускаясь до сплетен, а с искренним участием и благожелательностью. Весной 1841 г. узнав об аресте М.С. Лунина, Панов присоединился к М.Н. Волконской, организовавшей проводы при отправке его в Акатуй.
Из обширной переписки, которую вёл на поселении Панов, до нас дошло только одиннадцать писем, хранящихся в Государственном музее А.С. Пушкина в Москве. Первое датировано 1842-м годом, последнее 1849-м. Текст их русский и французский, одно письмо адресовано брату Дмитрию Алексеевичу, остальные его жене, а вскоре вдове, Софье Александровне.
Общий тон писем очень сдержанный; живо интересуясь жизнью родных, здоровьем маленьких племянников, подробностями домашних дел, Панов очень скупо рассказывает о себе, своих занятиях, ничего не сообщает о товарищах по поселению, не называет ничьих имён. Единственное исключение составляет письмо, где упоминается, и притом в весьма любопытном контексте, жена декабриста М.М. Нарышкина, делившая с мужем его изгнание.
"Елизавета Петровна Нарышкина очень страдала расстройством нерв, и путешествие, которое она должна была сделать, почти совсем её излечило", - не без горькой иронии пишет Панов. В этом "путешествии" которое совершили жёны декабристов от блестящих светских салонов до "мрачных пропастей земли", не оставалось, очевидно, места для "расстройства нерв".
28 июля 1843 г. Панов узнал о смерти брата - единственно близкого ему человека и единственной его поддержки (Дмитрий Алексеевич умер скоропостижно в своём московском доме в Ржевском переулке 29 мая 1843 г. и был похоронен на кладбище Спасо-Андроникова монастыря). Письмо Панова, обращённое к невестке, более чем горестно:
"Это известие меня поразило, как гром; в первую минуту я не чувствовал ни горя, ни тоски... Я не верил своим глазам, читал и не понимал, что читаю. Я всё искал, нельзя ли перетолковать, не худо ли я понял; но когда я прочёл другой раз - тут только я постиг весь ужас моей потери и горе, как камень, легло на сердце".
Софья Александровна, сообщая Панову о смерти мужа, заверила его в том, что она не прекратит оказывать ему помощь.
"Благодарю вас, друг мой, - пишет Панов, - что что вы хотите продолжать его попечение обо мне... Меня утешает мысль, что не долго я буду нуждаться в ваших попечениях, что наконец провидение сжалится надо мной и дарует мне давно желаемый покой".
Слово своё Софья лександровна сдержала и до конца поддерживала Панова, посылая ему деньги и вещи.
С лета 1843 г. в письмах Панова встречаются жалобы на сильные головные боли, общее недомогание. 25 мая 1844 г. ему было разрешено поехать на лечебные Туркинские воды; по возвращении он пишет невестке: "Воды, как кажется, мне помогли, но не столько, сколько я ожидал от них ... в оправдание вод должно прибавить, что они моральных болезней, болезней души излечить не могут, а у меня, сколько я понимаю, это была главная причина. Вы ошибаетесь думая, что болезнь меня пришибла, нет дорогой друг, я обладаю ещё достаточной долей мужества для того, чтобы страдать".
Мужества ему понадобилось много: приступы принимали всё более тяжёлый характер и повторялись всё чаще.
"У меня были такие сильные головные боли, что я не знал, что со мной будет, я не мог ни читать, ни писать, ни даже говорить. Надо вам сказать, что здешний климат холодный сырой вызвал эту болезнь... я боюсь, чтобы она не стала хронической... одна мысль об этом заставляет меня содрагаться, я предпочёл бы горячку, от которой рискуешь умереть, но не страдаешь так долго", - пишет он в январе 1844 года.
В том же 1844 г. Панов получил от невестки письмо, где она устанавливала размеры помощи, которую будет впредь ему оказывать. Ответ на это письмо (к сожалению, с утраченным окончанием) содержит выразительную характеристику того бесправного и безвыходного положения, в котором оказались поселенцы, особенно те, кто не получал никакой материальной поддержки: "...я со своей стороны считаю обязанностью, святою обязанностью, сказать Вам от души спасибо, сестра, что не оставила брата мужа твоего. Я откровенно скажу Вам, что в том стеснённом положении, в котором мы находимся, я не знаю, чем бы я стал жить: трудиться, чтобы добывать себе хлеб, нам невозможно. Мы поселенцы, платим подати и не пользуемся никакими правами поселенца. Всякий поселенец имеет право взять билет и идти по всей губернии для заработка, даже в другую губернию. Пусть бы нам дали подобное позволение и я уверен найти себе место, где бы я мог получать 4 или 5 тыс. жалования".
15 июля 1845 г. Панову было разрешено переселиться в село Урик Кудинской Волости Иркутского округа. Он купил дом А.М. Муравьёва, переведённого в Тобольск. Здесь он принимал приехавшего в Иркутск в мае 1849 г. для лечения И.И. Пущина. Сам Панов часто и подолгу гостил у Трубецких, вначале в с. Оёк, а затем в Иркутске. В их семье встречался с иркутскими жителями, сочувственно относящимся к ссыльным. Иногда он прибегал к их услугам.
"Вы получите это письмо, моя добрая сестра Софья Александровна, а также небольшую посылку через г-на Коленко Захара Васильевича, классного инспектора Иркутского института, которого я Вам рекомендую как прекрасного молодого человека, пользующегося здесь большим уважением. Он согласился взять письмо, а также посылку и оказал мне этим большую услугу..." - пише Панов и, тревожась, чтобы о его незаконном послании не стало известно властям, просит невестку: "Для того, чтобы показать мне, что Вы получили письмо и посылку, вставьте в Ваше первое письмо слова человек предполагает, а бог располагает и подчеркните их".
Последнее письмо, написанное Пановым из дошедших до нас, датируется августом 1849 года. В нём - ни слова о себе; всё оно наполнено беспокойством о семье брата, устройством его детей и т.п. ("Литературная Россия" № 52 (416) от 25 декабря 1970 г., стр. 17).
Встречать новый 1850 год Н.А. Панов приехал к Трубецким в Иркутск. Далее приведу письмо декабриста С.П. Трубецкого - С.А. Пановой от 13 февраля. "Мадам, ваш шурин сообщал вам о своей болезни. С этого момента она всё время прогрессировала, и хотя он продолжал держаться на ногах, он худел и угасал на глазах. К несчастью, у нас не было никаких сомнений, что жизнь его продлиться долго. Действительно, прошедшего 14 января мы испытали горечь, закрыв глаза нашего замечательного друга. Это был чувствительный удар для всей нашей семьи, к которой он был так привязан. Он был за два дня до смерти в полном сознании. Он скончался без видимых страданий, окружённый моей женой и несколькими друзьями. Можно сказать, что не болезнь убила его, но что ему не хватило жизни. Я должен был раньше сообщить вам, мадам, об этом печальном событии, и я намеревался сделать уже давно, но не мог найти вашего теперешнего адреса в бумагах моего покойного друга и узнал его только сегодня из письма от 7 января, которое вы адресовали г-ну губернатору и в котором вы послали вашему шурину 260 руб. сер.
Мадам, ваш шурин незадолго до своей смерти уже получил от вас немного денег. Он тут же употребил их на уплату некоторых долгов, но у него ещё немного оставалось. Если вы будете так добры разрешить кпотребить те деньги, которые вы послали ему в последний раз и которые он не успел получить при жизни, также на уплату того, что он оставался ещё должен, я надеюсь, употребив также те средства, которые он мне оставил, ликвидировать все долги, которые он мог здесь сделать. При всех случаях я исключаю долг за дом, который он купил у г-на Муравьёва, живущего в Тобольске и имеющего от него вексель, о котором вы, возможно, знаете. Дом этот расположен верстах в 20 от города, и нужен счастливый случай, чтобы извлечь из него какую-либо пользу. Я вас прошу также, мадам, сообщить мне, кому вы уплатили 300 руб. ассигн., о которых идёт речь в вашем последнем письме, чтобы по ошибке я не уплатил второй раз те же деньги.
У вашего шурина была табакерка, которой он постоянно пользовался, с портретом покойного брата, я буду иметь честь, мадам, передать её вам, так же как и другие портреты членов вашей семьи. Нежная забота, которую вы всегда проявляли по отношению к моему покойному другу, внушает мне чувства глубокого уважения к вам, мадам, и я прошу вас принять выражение его от вашего преданного слуги Сергия Трубецкого".
ПОСЛЕСЛОВИЕ
Софья Александровна Панова после смерти мужа продала дом в Ржевском переулке и переселилась в особняк на Собачьей площадке (снесена в 1950-х гг. в связи с расширением Нового Арбата), где и прожила до самой своей кончины, последовавшей 13 декабря 1881 года. Она была похоронена на кладбище Новодевичьего монастыря, но могила её не сохранилась.
У Пановых было четверо детей - две дочери и два сына: Елизавета (?); Надежда (р. в 1842 г.); Алексей (р. 10.08.1827 г.), впоследствии штаб-ротмистр, с 1850 г. - в отставке и Николай (16.02.1832 - 14.05.1895), чиновник канцелярии Управления Губернского гражданского начальства в Москве, с 1855 г. - Госсекретарь. Похоронен в Новодевичьем монастыре (могила не сохранилась).
Николай Дмитриевич был страстным поклонником творчества драматурга А.Н. Островского. Проживая в доме матери на Собачьей площадке в середине 1850-х гг. он устраивал представления, в качестве режиссёров приглашая приятелей Островского по "Москвитянину" Николая Шеповалова и скульптора Рамазанова который, кстати, изваял в мраморе бюст Панова. В дивертисментах участвовали графиня Ростопчина, композитор Дюбюк и актёр Пров Садовский. Николай Дмитриевич первым начал собирать черновые рукописи Островского, составившие потом основу собрания Н.И. Шеповалова, а ныне бережно хранящихся в Отделе рукописей РГБ. Примечательно ещё то, что лучшие фотопортреты драматурга Островского, были выполнены в салоне родственника Николая Дмитриевича - Михаила Михайловича Панова. Впрочем, это уже совсем другая история...
Метки: декабристы |
Никита Кирсанов. "Декабрист Николай Панов" (часть 1) |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Декабрист Николай Панов" (часть 1).

В Центральном историческом архиве сохранилось два любопытных документа: "Прошение Майора Алексея Николаева сына Панова о сопричислении детей Дмитрия и Николая" к дворянскому сословию в апреле 1817 года и копия свидетельства Московской духовной Консистории выданное ему о рождении сыновей. Цитирую ( л. 19): "... родились они здесь в Москве в приходе церкви Ржевской Пресвятой Богородицы, что в Пречистенском сороке 1803 года ноября 19 дня... А по справке оные дети ваши рождёнными и крещёнными в метрических Пречистенского Сорока Церкви Ржевской Пресвятой Богородицы что на Поварской 1803-го года Книгам в отделении о родившихся записаны так: № 17 ноября 19-го дому прихожанина Секунд Майора Алексея Николаевича Панова родились два сына Дмитрий и Николай и крещены тогож месяца 21-го дня восприемники были 1-й отставной солдат Калина Герасимов сын Зайцев и мещанка Аграфена Фёдорова, другие восприемники были вечьно цеховой полухмахерской мастер Пётр Тимофеев сын Меднов, и Сырометной Слободы мещанка Фёкла Иванова..."
Пановы получили традиционное для того времени домашнее образование. Их наставники - иностранцы обучали братьев французскому, итальянскому и немецкому языкам; преподавали географию, историю, математику и французскую литературу. Николай, в отличие от Дмитрия, "старался наиболее усовершенствоваться" в истории и военных науках.
После смерти отца в 1818 году, близнецы вступили в наследство (мать, Елизавета Борисовна, ур. Кошелева, скончалась ранее - 13 мая 1816 года; похоронена рядом с мужем в подклете Успенской церкви села Никололужецкого Боровского уезда Калужской губернии). 2 октября 1826 года боровский уездный предводитель дворянства на запрос об имущественном состоянии Пановых, докладывал Калужскому губернатору: "В Боровском уезде живёт ... отставной поручик Дмитрий Алексеевич Панов, служивший прежде в лейб-гвардии Подольском кирасирском полку. Положение его со стороны имения можно почесть довольно достаточно, ибо имеет оставшихся в общем владении с братом в губерниях Пензенской 324, Владимирской 367, и Калужской 170 душ. Всегдашнее жительство имеет в Москве и временно приезжает в боровское имение, где у него деревянный дом с хорошим господским заведением, прислуга порядочная из собственных людей, крестьяне состоят на пашне, хозяйственным образом обрабатываемой и при таковом распоряжении за собственным продовольствием поступает иногда некоторое количество хлеба в продажу" (ГАКО. Ф. 32. Оп. 19. Д. 1447).
Практически одновременно в 1820 году братья поступают подпрапорщиками на военную службу. Дмитрий в лейб-гвардии Подольский кирасирский полк, а Николай (4 сентября) в лейб-гвардии Гренадёрский. Служба продвигалась успешно : "в штрафах по суду или без суда ... не бывал". 17.11.1821 г. Николай Панов был произведён в прапорщики; 18.02.1823 г. - назначен батальонным адъютантом; 5.04.1823 г. - произведён в подпоручики; 27.09.1824 г. - в поручики, а 15.08.1825 г. переведён во фронт.
В ноябре 1825 года Н.А. Панов был принят П.Г. Каховским в Северное тайное общество. Из материалов следствия по делу декабристов известны вопросы, заданные Панову, и его письменные ответы.
- С какого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей?
- Время начала свободным мыслям я не могу наверное назначить; основание же им я получил от чтения книг о Революциях ... когда я узнал о существовании общества и сделавшись членом оного, тогда свободный образ мыслей во мне усилился.
- Когда и где именно приняты вы в тайное общество ... Что именно побудило вас вступить в оное?
- Не что иное, как желание принадлежать оному, так как оно было ... для блага общего.
В то время, когда Николая Панова захлестнул дух революционных преобразований (определение С.С. Ланды) его брат Дмитрий, так же имевший чин поручика вышел в отставку (29.10.1824 г.), сочетался законным браком с девицей Софьей Александровной Савиной (12.02.1806 - 13.12.1881) и благополучно поселился с ней в калужском имении. Николаю же имевшему в Москве невесту, было судя по всему не до женитьбы. До 14 декабря 1825 года разделившего жизнь братьев Пановых на "до" и "после" оставались считанные дни...
Описывать весь ход событий в Петербурге 14 декабря 1825 г. смысла нет - день расписан историками практически поминутно. Но об одном эпизоде я всё-таки напомню. Николай Панов, которому удалось вывести лейб-гренадёр из казарм, повёл их не на Сенатскую площадь, а по Миллионной улице к Зимнему дворцу. И не только подошёл ко дворцу, но и прорвался через караул в дворцовый двор. Он был на волосок от захвата дворца - последствия этого легко представить. Но там он столкнулся с Сапёрами и не решился на схватку с ними. Лейб-гренадёры снова вышли на Дворцовую площадь, где их увидел подъезжающий в этот момент Николай I. Он так вспоминал об этом драматическом моменте: "Подъехав к ним, ничего не подозревая, я хотел остановить людей и выстроить, но на моё "Стой!" отвечали мне: "Мы - за Константина!" Я указал им на Сенатскую площадь и сказал: "Когда так, то вот вам дорога" и вся сия толпа прошла мимо меня, сквозь все войска и присоединилась без препятствия к своим одинаково заблужденным товарищам. К счастию, что сие так было, ибо иначе бы началось кровопролитие под окнами дворца и участь наша была более чем сомнительна".
Когда восстание было подавлено, двоюродный брат Панова, тоже поручик лейб-гренадёр Дмитрий Васильевич Панов, предложил ему "партикулярную шинель", чтобы он мог уйти с площади, но Николай Алексеевич отказался. Переночевав у брата и узнав, что арестовано много солдат и офицеров, поехал сам в Петропавловскую крепость и сдался её коменданту А.Я. Сукину.
На первом допросе у В.В. Левашова 15 декабря Панов держался твёрдо, на вопросы отвечал сдержанно, никого из товарищей не назвал, после чего был возвращён в крепость с предписанием: "присылаемого Панова как самого упрямого посадить тоже в Алексеевский равелин и содержать наистрожайше". 15 января 1826 г. показан в № 9, а 30 января в № 2 того же бастиона; в мае - в № 34 Кронверкской куртины.
Свою линию поведения Панов не изменил и в дальнейшем: на вопросы, кто из членов общества наиболее действовал в исполнении замыслов, кто и когда предполагал начать открытые действия, кто, где и когда имел совещания о возмущении 14 декабря, Панов отозвался полным незнанием (ВД, II, 99-115; ЦГА РФ, ф. 109, 1 эксп., 1826 г., д. 61, ч. 45.).
Верховным уголовным судом Панов был отнесён к I разряду и приговорён по конфирмации 10 июля 1826 г. в каторжную работу вечно (26.08.1826 г. срок каторги сокращён до 20 лет). 8 августа 1826 г. переведён в крепость Свартхольм, где находился до самой отправки в Сибирь.
21 июня 1827 г. вместе с группой других осуждённых Панов был отправлен в Читинский острог (приметы: рост 2 арш. 4 4/8 вершк., "лицом бел, круглолиц, глаза голубые, волосы на голове и бровях светлорусые, нос мал"). В Западной Сибири в это время находился присланный из Петербурга с ревизией сенатор Б.А. Куракин, в его задачу входило так же и наблюдение за поведением, нравственным состоянием и настроениями следующих к местам своего заключения "государственных преступников", о чём он и доносил регулярно шефу жандармов графу А.Х. Бенкендорфу.
9 ибля 1827 г. в донесении посланном из Тобольска, Куракин сообщал: "Что касается Панова, то что скажу я Вам о нём? что моё удивление при виде сего молодого человека столь мало чувствительным к своей участи было велико? - Это правда. Но что слышать его говорящим то, что он говорил, превзошло меру разума, который даровала мне природа, - и это тоже правда! Дело шло о той цели, которую он и его сотоварищи поставили себе, т.е. просить у императора "конституцию с оружием в руках, чтобы положить", как он говорил, "границы власти монархии". Это он находит весьма простым и очень естественным; когда же подумаешь, что такие вещи проявляются после полуторых лет тюрьмы и перед перспективой каторжных работ, - я думаю, что можно без колебания сказать, что этот молодой человек ещё не исправился и не раскаялся".

В Центральном историческом архиве сохранилось два любопытных документа: "Прошение Майора Алексея Николаева сына Панова о сопричислении детей Дмитрия и Николая" к дворянскому сословию в апреле 1817 года и копия свидетельства Московской духовной Консистории выданное ему о рождении сыновей. Цитирую ( л. 19): "... родились они здесь в Москве в приходе церкви Ржевской Пресвятой Богородицы, что в Пречистенском сороке 1803 года ноября 19 дня... А по справке оные дети ваши рождёнными и крещёнными в метрических Пречистенского Сорока Церкви Ржевской Пресвятой Богородицы что на Поварской 1803-го года Книгам в отделении о родившихся записаны так: № 17 ноября 19-го дому прихожанина Секунд Майора Алексея Николаевича Панова родились два сына Дмитрий и Николай и крещены тогож месяца 21-го дня восприемники были 1-й отставной солдат Калина Герасимов сын Зайцев и мещанка Аграфена Фёдорова, другие восприемники были вечьно цеховой полухмахерской мастер Пётр Тимофеев сын Меднов, и Сырометной Слободы мещанка Фёкла Иванова..."
Пановы получили традиционное для того времени домашнее образование. Их наставники - иностранцы обучали братьев французскому, итальянскому и немецкому языкам; преподавали географию, историю, математику и французскую литературу. Николай, в отличие от Дмитрия, "старался наиболее усовершенствоваться" в истории и военных науках.
После смерти отца в 1818 году, близнецы вступили в наследство (мать, Елизавета Борисовна, ур. Кошелева, скончалась ранее - 13 мая 1816 года; похоронена рядом с мужем в подклете Успенской церкви села Никололужецкого Боровского уезда Калужской губернии). 2 октября 1826 года боровский уездный предводитель дворянства на запрос об имущественном состоянии Пановых, докладывал Калужскому губернатору: "В Боровском уезде живёт ... отставной поручик Дмитрий Алексеевич Панов, служивший прежде в лейб-гвардии Подольском кирасирском полку. Положение его со стороны имения можно почесть довольно достаточно, ибо имеет оставшихся в общем владении с братом в губерниях Пензенской 324, Владимирской 367, и Калужской 170 душ. Всегдашнее жительство имеет в Москве и временно приезжает в боровское имение, где у него деревянный дом с хорошим господским заведением, прислуга порядочная из собственных людей, крестьяне состоят на пашне, хозяйственным образом обрабатываемой и при таковом распоряжении за собственным продовольствием поступает иногда некоторое количество хлеба в продажу" (ГАКО. Ф. 32. Оп. 19. Д. 1447).
Практически одновременно в 1820 году братья поступают подпрапорщиками на военную службу. Дмитрий в лейб-гвардии Подольский кирасирский полк, а Николай (4 сентября) в лейб-гвардии Гренадёрский. Служба продвигалась успешно : "в штрафах по суду или без суда ... не бывал". 17.11.1821 г. Николай Панов был произведён в прапорщики; 18.02.1823 г. - назначен батальонным адъютантом; 5.04.1823 г. - произведён в подпоручики; 27.09.1824 г. - в поручики, а 15.08.1825 г. переведён во фронт.
В ноябре 1825 года Н.А. Панов был принят П.Г. Каховским в Северное тайное общество. Из материалов следствия по делу декабристов известны вопросы, заданные Панову, и его письменные ответы.
- С какого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей?
- Время начала свободным мыслям я не могу наверное назначить; основание же им я получил от чтения книг о Революциях ... когда я узнал о существовании общества и сделавшись членом оного, тогда свободный образ мыслей во мне усилился.
- Когда и где именно приняты вы в тайное общество ... Что именно побудило вас вступить в оное?
- Не что иное, как желание принадлежать оному, так как оно было ... для блага общего.
В то время, когда Николая Панова захлестнул дух революционных преобразований (определение С.С. Ланды) его брат Дмитрий, так же имевший чин поручика вышел в отставку (29.10.1824 г.), сочетался законным браком с девицей Софьей Александровной Савиной (12.02.1806 - 13.12.1881) и благополучно поселился с ней в калужском имении. Николаю же имевшему в Москве невесту, было судя по всему не до женитьбы. До 14 декабря 1825 года разделившего жизнь братьев Пановых на "до" и "после" оставались считанные дни...
Описывать весь ход событий в Петербурге 14 декабря 1825 г. смысла нет - день расписан историками практически поминутно. Но об одном эпизоде я всё-таки напомню. Николай Панов, которому удалось вывести лейб-гренадёр из казарм, повёл их не на Сенатскую площадь, а по Миллионной улице к Зимнему дворцу. И не только подошёл ко дворцу, но и прорвался через караул в дворцовый двор. Он был на волосок от захвата дворца - последствия этого легко представить. Но там он столкнулся с Сапёрами и не решился на схватку с ними. Лейб-гренадёры снова вышли на Дворцовую площадь, где их увидел подъезжающий в этот момент Николай I. Он так вспоминал об этом драматическом моменте: "Подъехав к ним, ничего не подозревая, я хотел остановить людей и выстроить, но на моё "Стой!" отвечали мне: "Мы - за Константина!" Я указал им на Сенатскую площадь и сказал: "Когда так, то вот вам дорога" и вся сия толпа прошла мимо меня, сквозь все войска и присоединилась без препятствия к своим одинаково заблужденным товарищам. К счастию, что сие так было, ибо иначе бы началось кровопролитие под окнами дворца и участь наша была более чем сомнительна".
Когда восстание было подавлено, двоюродный брат Панова, тоже поручик лейб-гренадёр Дмитрий Васильевич Панов, предложил ему "партикулярную шинель", чтобы он мог уйти с площади, но Николай Алексеевич отказался. Переночевав у брата и узнав, что арестовано много солдат и офицеров, поехал сам в Петропавловскую крепость и сдался её коменданту А.Я. Сукину.
На первом допросе у В.В. Левашова 15 декабря Панов держался твёрдо, на вопросы отвечал сдержанно, никого из товарищей не назвал, после чего был возвращён в крепость с предписанием: "присылаемого Панова как самого упрямого посадить тоже в Алексеевский равелин и содержать наистрожайше". 15 января 1826 г. показан в № 9, а 30 января в № 2 того же бастиона; в мае - в № 34 Кронверкской куртины.
Свою линию поведения Панов не изменил и в дальнейшем: на вопросы, кто из членов общества наиболее действовал в исполнении замыслов, кто и когда предполагал начать открытые действия, кто, где и когда имел совещания о возмущении 14 декабря, Панов отозвался полным незнанием (ВД, II, 99-115; ЦГА РФ, ф. 109, 1 эксп., 1826 г., д. 61, ч. 45.).
Верховным уголовным судом Панов был отнесён к I разряду и приговорён по конфирмации 10 июля 1826 г. в каторжную работу вечно (26.08.1826 г. срок каторги сокращён до 20 лет). 8 августа 1826 г. переведён в крепость Свартхольм, где находился до самой отправки в Сибирь.
21 июня 1827 г. вместе с группой других осуждённых Панов был отправлен в Читинский острог (приметы: рост 2 арш. 4 4/8 вершк., "лицом бел, круглолиц, глаза голубые, волосы на голове и бровях светлорусые, нос мал"). В Западной Сибири в это время находился присланный из Петербурга с ревизией сенатор Б.А. Куракин, в его задачу входило так же и наблюдение за поведением, нравственным состоянием и настроениями следующих к местам своего заключения "государственных преступников", о чём он и доносил регулярно шефу жандармов графу А.Х. Бенкендорфу.
9 ибля 1827 г. в донесении посланном из Тобольска, Куракин сообщал: "Что касается Панова, то что скажу я Вам о нём? что моё удивление при виде сего молодого человека столь мало чувствительным к своей участи было велико? - Это правда. Но что слышать его говорящим то, что он говорил, превзошло меру разума, который даровала мне природа, - и это тоже правда! Дело шло о той цели, которую он и его сотоварищи поставили себе, т.е. просить у императора "конституцию с оружием в руках, чтобы положить", как он говорил, "границы власти монархии". Это он находит весьма простым и очень естественным; когда же подумаешь, что такие вещи проявляются после полуторых лет тюрьмы и перед перспективой каторжных работ, - я думаю, что можно без колебания сказать, что этот молодой человек ещё не исправился и не раскаялся".
Метки: декабристы |
Никита Кирсанов: "Случай Якубовича". Часть 6. |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов: "Случай Якубовича". Часть 6.
В то время, как Якубович отправил письмо сестре, уже было удовлетворено его ходатайство о перемене места поселения. Он получил предложение от золотопромышленников Малевинского и Базилевского поступить на службу в качестве управляющего Ермаковской резиденцией их компании. Так, летом 1841 г. Якубович оказался в селе Назимово Анциферовской волости Енисейского округа Енисейской губернии. Что побудило Якубовича поступить на службу в золотопромышленную компанию? Может быть, действительно он привлёк к себе недовольное внимание В.Я. Руперта? Может быть, казённая промышленность медлила с осуществлением его проектов и не отдала должное его геологоразведочным изысканиям? Может быть, золотопромышленная компания частная, а не казённая, сулила большую отзывчивость на проекты и деятельность Якубовича и, что не менее важно, предоставляла ему полноту инициативы.
Якубович понимал, на что идёт. Он шёл на полное одиночество. Его товарищи, первый из них В.Л. Давыдов, находились в Красноярске, на далёком расстоянии, далёком и недосягаемом при ограниченной свободе передвижения ссыльнопоселенца. Лишь изредка, по особым надобностям службы, он мог посетить Енисейск, что требовало специального разрешения властей в каждом отдельном случае. Перевешивала перспектива развернуть во всю ширь энергию и дарование. Демон исключительности не оставлял своей жертвы и с новой и новой силой её искушал.
Разочарование пришло сразу, хотя ненадолго. Из письма С.П. Трубецкого к И.И. Пущину узнаём, как золотопромышленник поступил с Якубовичем: "...он прожил до глубокой осени (1841 г.) совершенно один в бревенчатой юрте; не зная будет ли ему печь на зиму. Единственное человеческое лицо, которое было с ним, был пастух, пасший скот золотопромышленников. Денег оставалось всего 5 рублей и даже табаку не было". Больших денег из поселения под Иркутском Якубович, как видим, не привёз. Всё же Трубецкой не располагал достаточными сведениями о первых месяцах пребывания Якубовича в Ермаковской резиденции золотопромышленников (по-видимому, он писал об условиях жизни Якубовича в самом Назимове). О деятельности Якубовича в Ермаковской резиденции, много больше узнаётся из его письма к В.Л. Давыдову от 18 октября 1841 г.:
"Я тебе расскажу вкратце, что было и есть. Приехав с прииска, нашёл я 2-х негодяев приказчиков, 7 человек рабочих и 1 лошадь водовозную; надобно было сено косить, скот гнать в тайгу - и строиться к зиме, также принимать, набивать в мешки хлеб и проч. Сумма в кассе была 900 р.; прошу распоряжаться, как хочешь".
Якубовичу удалось получить долг у некоего Кузнецова 8 тысяч рублей, и он "сена поставил 3259 копен, прогнал скот без всякой траты, выстроил, не имев ни одной плахи, ни тесины, контору, доделал начатый флигель, славную русскую избу на 30 чел., конюшню крепкую с полом и яслями на 100 лошадей, на 8 сажень два амбара, три зимовки для чернорабочих, кузницу с белой баней в одной связи, отхожие места, притон на 100 лошадей, очистил тайги с версту, нажёг угля 65 кор. и вырубил к зиме дров до 100 саженей". Здесь на мгновение Якубович как бы взглянул на себя со стороны: "Ты скажешь: да ты чудо сделал!" Оказывается, нет, золотопромышленникам этого чуда мало, они хотят нанять 600 рабочих.
Якубович составляет смету, необходимую для их содержания, но "никто не хочет и думать, как это сделать", да "и зачем столько рабочих - так вздумалось безотчётно". Якубович задумывается над своим опрометчивым решением: "...я решил удалиться от этого хаосу подобру-поздорову, и бог с ними и с их золотом - не бойся, брат, хлеб найду и без них, я чувствую мои силы - и меня немножко знают добрые люди. Как часто, - признаётся он, - навёртывается слеза раскаяния, что перемудрил... но это наука - и пословица правду говорит: дураков и в церкве биют!" Однако "слеза раскаяния" быстро просохла, а пословицу нетрудно подобрать к любому случаю. Как-то удалось Якубовичу справиться с ситуацией, потребовавшей от него "чуда", на котором настаивали золотопромышленники. 3 сентября 1842 г. он сообщает Давыдову:
"У меня всё кипит под рукой, бъюсь напропалую с препятствиями и неудобствами", но жалуется: "Холод и дожди меня допекают - раны мои тоже сказываются". И признаётся: "Время летит, я старею - силы душевные и телесные слабеют - что же делать, так богу угодно!" Но здесь же, отвечая на письмо Давыдова: "Ты, брат, чудесно описал приезжавшего миллионщика - знаешь ли, что мне жаль, что я не встречусь с ним - меня съедает мой демон деятельности и предприимчивости - голова полна проектов... знаешь ли, что, если бы я ему объяснил, что удалось видеть на приисках, он бы не пожалел сотню тысяч убить, но зато головой отвечаю, что сделал бы открытия жильного золота - а это не россыпям чета - и верно бы понял выгоды переселить крестьян свободных, на своё иждивение и с известными условиями, на некоторые речки не далее 60 вёрст от приисков..."
Далее: "Посмотрел бы ты, посмотрел бы ты, что теперь делается в Назимове; рабочие с большими деньгами, рублей по 900 некоторые выработали - что за пьянство, буйство и проч.; приискатели и их партии выходят из тайги на тощих конях, оборванные, обожжённые - словно сброд разбитой армии - и многие с длинными рожами - проискав 100 т. и ничего не найдя". И среди всего прочего неизменный мотив: "всё, что знаешь о моих родных, пожалуйста напиши - ты мне окажешь большую услугу".
Прошло ещё семь месяцев. Пыл предпринимательской деятельности, начал потихоньку остывать. Якубович, похоже, разобрался в положении, в которое сам поставил себя. Досаден был необдуманный и неудачный почин. Досаден и возмутителен был обман доверия, которое он оказал своим нанимателям. Это отражено в письмах Якубовича, отрывки из которых приведены выше. Жалобами, высказанными в письмах товарищам, Якубович не ограничивался. Сохранилось дело 1842 г., под названием: "Относительно перевода государственного преступника Якубовича из с. Назимова в г. Красноярск". Оно на 16 листах. Дело, как говорится, последствий не имело.
Ошибка Якубовича оказалась непоправимой. И, как мы уже знаем, он со всеми свойственными ему находчивостью, целеустремлённостью, энергией, азартом ответил на очередной вызов судьбы. Очередной вызов стал последним. Письмо Давыдову, датируемое 25 августа 1843 г., содержит уже не сигналы тревоги (они содержались и в предыдущих письмах), но сигнал бедствия. Да, как и прежде, "от дела голова идёт кругом", "сколько работы проделано - какое пространство изрыскано", как и прежде, чувство ответственности за взятые обязательства: "Я взял на себя обязанность важную - поэтому по совести её выполню". Всё так.
Но впервые возникает открыто вопрос: "Какая цель усилиям, право, не под силу?" - и ещё: "У меня нет цели трудиться". Письмо передаёт душевное смятение Якубовича и касается чего-то для него очень важного, болезненно переживаемого, связанного с отношениями к Давыдову и его семье, чего-то такого, что мы объяснить не можем. "Что ты сделал со мной, друг и брат! - так начинается письмо и продолжается словами: "Ты отнял посох у слепца - последнюю нравственную опору отказом - бог тебе судья, я не сержусь, но сердце кровью облилось, прочитав твоё письмо; ты отказал - и я откажусь, и погодя немного буду с повинной головой просить правительство взять меня с Назимова обратно в Разводную".
В чём отказал Давыдов Якубовичу? Содержание письма допускает мысль, что Давыдов ответил отказом на какие-то деловые начинания Якубовича, на его желание принять ещё какие-то предложения золотопромышленников. Но возможны и иные допущения: "Добрый друг, Александра Ивановна! - обращается Якубович к жене Давыдова в приписке к тому же письму. - Что вы со мной сделали, чем я заслужил отказ? Знаете ли, что вы одним словом разрушили лучшие мечты моей жизни - столько времени, с такими усилиями я стремился к моей цели, и, когда начал помаленьку достигать её, вы одним словом всё стёрли; бог видит скорбь, вами мне сделанную, но я не буду на вас сетовать: вы мать - имеете право располагать вашими детьми; но знайте: я не приму предложение Николая Ивановича (золотопромышленник. - Н.К.); и бог с ними, с их золотом. Осрамлю себя, высказав непостоянным, но через некоторое время оставлю все дела - и с бедностью стану горе мыкать без цели и надежды в мире".
К чему бы ни относился отказ, полученный Якубовичем от В.Л. и А.И. Давыдовых, он явился ударом, крушением, как определил сам Якубович, "последней нравственной опоры", лишил его "лучшей мечты", отнял у него "цель". Возможно, Якубович преувеличивал, что не было ему чуждо. Но горе своё переживал таким, каким описал. Встречается и жалоба на болезнь, и признание: "Я отжил своё - мне жизнь давно не раздолье". И неизменная тревога о близких: "Ты видел Козьму Яковлевича, скажи, брат, что он говорит о моих? Не скрой дурных вестей, я привык к этому давно..."
Якубович тем временем продолжал порученное золотопромышленниками дело, но прежним не был. Затравленный самодержавием, допекаемый местными властями, отверженный роднёй, изнурённый трудом, одолеваемый недугами, он и в своём Назимовском загоне был ещё не вполне одинок, он ещё оставался собой, пока жили в нём его "мечта" и "цель". Эти "мечта" и "цель", конечно, ограничивались личным масштабом - они совсем не те "мечта" и "цель", о которых он так сильно, так страстно писал Николаю I из Петропавловской крепости.
Прошлое не было позабыто, ни обесценено, но будущее, во всяком случае в границах жизни декабриста, надежд не сулило. Но и ограниченные личным масштабом "мечта" и "цель" , о которых мы не можем сказать ничего, кроме того, что масштаб их был личный, служили опорной точкой и прошлому в его историческом масштабе.
Теперь Якубович лишился последней точки опоры, чудом поддерживающей его лучшие идеалы, источавшей романтический свет на жесточайшую действительность и его деятельность в ней. Жизнь подошла к самой чёрной странице, не последней, она ещё будет перевёрнута, но самой чёрной.
На Месяцеслове, 14 декабря 1843 г., сбивающимся почерком, Якубович сделал запись: "С. Назимово. Как перед богом, по совести говорю: после 19 лет лишения свободы, что в этот день 1825 г. я был прав по чувству, но совершенно не знал черни и народа русского, который долго, очень долго, должен быть в опеке правительства".
Заметим, между 14 декабря 1843 г. и 1825 г. прошло не 19 лет, а 18. Описка, выдающая душевное состояние Якубовича. Народ он действительно знал плохо, хотя и здесь необходима поправка: солдата он знал хорошо и находил с ним общий язык во время сражений, как и в военные будни. Но сейчас, пьянствующий и буянивший сброд, который находился в его ведении как управляющего Ермаковской золотопромышленной резиденцией, другие, пришлые с волчьими повадками люди, жаждавшие золота, заслонили от него и рядовых кавказского корпуса, и крестьян, полтавских и черниговских, о жизни и быте которых он всё-таки знал и не по рассказам, а по собственным наблюдениям и впечатлениям.
Плохо было Якубовичу в полночь 14 декабря 1843 г., когда так же не вовремя он пытался продумать и оценить испытанное и пережитое; нехорошо человеку быть одному - это с трагической силой подтверждает его запись. Назимовский опыт жизни Якубовича наслоился на прошлое, даже на то недавнее, когда он жил под Иркутском.
Добытчики, невесть откуда появившиеся в Назимово, частью же завербованные для работы на приисках, были, вероятно, народом "отпетым", в самом деле чернью, развращённой и опустившейся. Это они отвечали характеристике, данную им Якубовичем: "разврат, пороки, изуверие, невежество", это для обуздания их и подобным им анархических элементов казалось Якубовичу подходящей "сильная централизация правления", "самодержавие" - народ здесь был не при чём.
А, может быть, изнанкой неправедного гнева Якубовича как раз и было отчаяние в готовности народа решающе воздействовать на ход истории? "Боже, прости меня! В полночь 14 декабря" - этими словами кончается запись. Всё-таки "царь, прости меня" было бы много хуже.
Чёрная страница была перевёрнута Якубовичем уже две недели спустя. В тот же Месяцеслов Якубович вписал и другую - откуда только прибавилась сила духа! - страницу: "Вот и 43-й год кончился, 20-й год ссылки, гонения, бедности, труда наступает. Боже! даруй мне сил выполнить долг человека-гражданина и мою лепту в скарб отечества принесть: не запятнанную, не осквернённую гордостию и самостию, но выраженную любовью и правдой. Я очень болен, мне 59 лет (описка. - Н.К.), раны мои напоминают, что скоро конец, служащий началом".
Итоговая запись. Возвращение к началам, не тем, о которых скорбно писал Якубович, а тем, которым отданы были лучшие надежды, высокие побуждения, молодые силы, возвращение к лепте в "скарб отечества", которую принёс он, "человек-гражданин". И пришедшее, наконец, освобождение от демона исключительности, ибо "лептой в скарб отечества" Якубович считал всё им содеянное за вычетом того, что "пятнало" и "оскверняло" принесённую лепту "гордостию и самостию". Жизнь покидала Якубовича, но дух его светлел.
14 сентября 1844 г. Якубович написал прощальное письмо Давыдовым: "Мне плохо - скоро всему будет конец; водяная меня душит". Он просил "принять кое-какие безделки на память и помочь бедным нашим товарищам из капитала, который я назначил на сей предмет". Он не расставался с памятью о родных: "Уведомьте после моих родных, что я угас". К этому времени относится попытка Якубовича получить лечение в Красноярске.
Сохранилось дело на трёх листах под названием "По представлению Енисейского гражданского губернатора о дозволении государственному преступнику Александру Якубовичу переселиться в Красноярск для лечения болезни". Власти с разрешением на перевод Якубовича в Красноярск не торопились. Последнее из дошедших до нас писем Якубовича обращено к Я.Д. Казимирскому и датировано 17 июня 1845 г.: "Милостивый государь, Яков Дмитриевич! Вот уже год, как я болен, страдания мои невыносимы, но надежда, что мне позволят вылечиться, переменив место моего жительства, подкрепляла меня до сих пор; но я вижу, что решительно отказались довести до сведения государя императора мою просьбу и причину оной, чем осуждают меня на медленную хуже пытки смерть. Я потерял почти рассудок, войдите в моё положение, пусть меня свезут в Красноярскую больницу и там решат достояние ли я проклятого Назимова или погоста Новокрещенска Красноярской церкви. С чувством глубочайшего уважения, честь имею быть вашим, милостивого государя, покорным слугою Александр Якубович". На письме рукой Казимирского пометка: "Ответил 14 июля".
2 сентября 1845 г. Якубович был доставлен в больницу г. Енисейска. На следующий день он скончался. Причина смерти - "грудная водянка". Вероятнее всего, это был рак лёгкого.
5 сентября 1845 г. Якубович был похоронен на Крестовоздвиженском кладбище (другое название Севастьяновское), без напутствия, притчем Троицкой церкви. В метрической книге Богоявленского собора была сделана запись за № 33: "Государственный преступник Александр Якубович, 60 лет (описка. - Н.К.), умер от "водяной", погребён по отношению старшего лекаря Большанкина от 5 сентября на Крестовском кладбище". Могила декабриста не сохранилась.
25 января 1846 г. в Кургане ослепший уже В.К. Кюхельбекер продиктовал стихи "На смерть Якубовича". Якубович и некогда назвавший его "пламенным любовником свободы" Кюхельбекер давно не были дружны. Но на далёкую енисейскую могилу Якубовича Кюхельбекер бросил свои "три горсти земли". Самое значительное, в следующих строфах:
Он был из первых в стае той орлиной,
Которой ведь и я принадлежал...
Тут нас, исторгнутых одной судьбиной
Умчал в тюрьму и ссылку тот же вал...
Так мудрено ли, что я в своей пустыне
Над Якубовичем рыдаю ныне?
Ты отстрадался, труженик, герой,
Ты вышел наконец на тихий берег,
Где нет упрёков, где тебе покой!
И про тебя не смолкнет бурный Терек,
И станет говорить Бешту седой...

Крестовоздиженская церковь и кладбище в Енисейске, на котором был похоронен А.И. Якубович.
В то время, как Якубович отправил письмо сестре, уже было удовлетворено его ходатайство о перемене места поселения. Он получил предложение от золотопромышленников Малевинского и Базилевского поступить на службу в качестве управляющего Ермаковской резиденцией их компании. Так, летом 1841 г. Якубович оказался в селе Назимово Анциферовской волости Енисейского округа Енисейской губернии. Что побудило Якубовича поступить на службу в золотопромышленную компанию? Может быть, действительно он привлёк к себе недовольное внимание В.Я. Руперта? Может быть, казённая промышленность медлила с осуществлением его проектов и не отдала должное его геологоразведочным изысканиям? Может быть, золотопромышленная компания частная, а не казённая, сулила большую отзывчивость на проекты и деятельность Якубовича и, что не менее важно, предоставляла ему полноту инициативы.
Якубович понимал, на что идёт. Он шёл на полное одиночество. Его товарищи, первый из них В.Л. Давыдов, находились в Красноярске, на далёком расстоянии, далёком и недосягаемом при ограниченной свободе передвижения ссыльнопоселенца. Лишь изредка, по особым надобностям службы, он мог посетить Енисейск, что требовало специального разрешения властей в каждом отдельном случае. Перевешивала перспектива развернуть во всю ширь энергию и дарование. Демон исключительности не оставлял своей жертвы и с новой и новой силой её искушал.
Разочарование пришло сразу, хотя ненадолго. Из письма С.П. Трубецкого к И.И. Пущину узнаём, как золотопромышленник поступил с Якубовичем: "...он прожил до глубокой осени (1841 г.) совершенно один в бревенчатой юрте; не зная будет ли ему печь на зиму. Единственное человеческое лицо, которое было с ним, был пастух, пасший скот золотопромышленников. Денег оставалось всего 5 рублей и даже табаку не было". Больших денег из поселения под Иркутском Якубович, как видим, не привёз. Всё же Трубецкой не располагал достаточными сведениями о первых месяцах пребывания Якубовича в Ермаковской резиденции золотопромышленников (по-видимому, он писал об условиях жизни Якубовича в самом Назимове). О деятельности Якубовича в Ермаковской резиденции, много больше узнаётся из его письма к В.Л. Давыдову от 18 октября 1841 г.:
"Я тебе расскажу вкратце, что было и есть. Приехав с прииска, нашёл я 2-х негодяев приказчиков, 7 человек рабочих и 1 лошадь водовозную; надобно было сено косить, скот гнать в тайгу - и строиться к зиме, также принимать, набивать в мешки хлеб и проч. Сумма в кассе была 900 р.; прошу распоряжаться, как хочешь".
Якубовичу удалось получить долг у некоего Кузнецова 8 тысяч рублей, и он "сена поставил 3259 копен, прогнал скот без всякой траты, выстроил, не имев ни одной плахи, ни тесины, контору, доделал начатый флигель, славную русскую избу на 30 чел., конюшню крепкую с полом и яслями на 100 лошадей, на 8 сажень два амбара, три зимовки для чернорабочих, кузницу с белой баней в одной связи, отхожие места, притон на 100 лошадей, очистил тайги с версту, нажёг угля 65 кор. и вырубил к зиме дров до 100 саженей". Здесь на мгновение Якубович как бы взглянул на себя со стороны: "Ты скажешь: да ты чудо сделал!" Оказывается, нет, золотопромышленникам этого чуда мало, они хотят нанять 600 рабочих.
Якубович составляет смету, необходимую для их содержания, но "никто не хочет и думать, как это сделать", да "и зачем столько рабочих - так вздумалось безотчётно". Якубович задумывается над своим опрометчивым решением: "...я решил удалиться от этого хаосу подобру-поздорову, и бог с ними и с их золотом - не бойся, брат, хлеб найду и без них, я чувствую мои силы - и меня немножко знают добрые люди. Как часто, - признаётся он, - навёртывается слеза раскаяния, что перемудрил... но это наука - и пословица правду говорит: дураков и в церкве биют!" Однако "слеза раскаяния" быстро просохла, а пословицу нетрудно подобрать к любому случаю. Как-то удалось Якубовичу справиться с ситуацией, потребовавшей от него "чуда", на котором настаивали золотопромышленники. 3 сентября 1842 г. он сообщает Давыдову:
"У меня всё кипит под рукой, бъюсь напропалую с препятствиями и неудобствами", но жалуется: "Холод и дожди меня допекают - раны мои тоже сказываются". И признаётся: "Время летит, я старею - силы душевные и телесные слабеют - что же делать, так богу угодно!" Но здесь же, отвечая на письмо Давыдова: "Ты, брат, чудесно описал приезжавшего миллионщика - знаешь ли, что мне жаль, что я не встречусь с ним - меня съедает мой демон деятельности и предприимчивости - голова полна проектов... знаешь ли, что, если бы я ему объяснил, что удалось видеть на приисках, он бы не пожалел сотню тысяч убить, но зато головой отвечаю, что сделал бы открытия жильного золота - а это не россыпям чета - и верно бы понял выгоды переселить крестьян свободных, на своё иждивение и с известными условиями, на некоторые речки не далее 60 вёрст от приисков..."
Далее: "Посмотрел бы ты, посмотрел бы ты, что теперь делается в Назимове; рабочие с большими деньгами, рублей по 900 некоторые выработали - что за пьянство, буйство и проч.; приискатели и их партии выходят из тайги на тощих конях, оборванные, обожжённые - словно сброд разбитой армии - и многие с длинными рожами - проискав 100 т. и ничего не найдя". И среди всего прочего неизменный мотив: "всё, что знаешь о моих родных, пожалуйста напиши - ты мне окажешь большую услугу".
Прошло ещё семь месяцев. Пыл предпринимательской деятельности, начал потихоньку остывать. Якубович, похоже, разобрался в положении, в которое сам поставил себя. Досаден был необдуманный и неудачный почин. Досаден и возмутителен был обман доверия, которое он оказал своим нанимателям. Это отражено в письмах Якубовича, отрывки из которых приведены выше. Жалобами, высказанными в письмах товарищам, Якубович не ограничивался. Сохранилось дело 1842 г., под названием: "Относительно перевода государственного преступника Якубовича из с. Назимова в г. Красноярск". Оно на 16 листах. Дело, как говорится, последствий не имело.
Ошибка Якубовича оказалась непоправимой. И, как мы уже знаем, он со всеми свойственными ему находчивостью, целеустремлённостью, энергией, азартом ответил на очередной вызов судьбы. Очередной вызов стал последним. Письмо Давыдову, датируемое 25 августа 1843 г., содержит уже не сигналы тревоги (они содержались и в предыдущих письмах), но сигнал бедствия. Да, как и прежде, "от дела голова идёт кругом", "сколько работы проделано - какое пространство изрыскано", как и прежде, чувство ответственности за взятые обязательства: "Я взял на себя обязанность важную - поэтому по совести её выполню". Всё так.
Но впервые возникает открыто вопрос: "Какая цель усилиям, право, не под силу?" - и ещё: "У меня нет цели трудиться". Письмо передаёт душевное смятение Якубовича и касается чего-то для него очень важного, болезненно переживаемого, связанного с отношениями к Давыдову и его семье, чего-то такого, что мы объяснить не можем. "Что ты сделал со мной, друг и брат! - так начинается письмо и продолжается словами: "Ты отнял посох у слепца - последнюю нравственную опору отказом - бог тебе судья, я не сержусь, но сердце кровью облилось, прочитав твоё письмо; ты отказал - и я откажусь, и погодя немного буду с повинной головой просить правительство взять меня с Назимова обратно в Разводную".
В чём отказал Давыдов Якубовичу? Содержание письма допускает мысль, что Давыдов ответил отказом на какие-то деловые начинания Якубовича, на его желание принять ещё какие-то предложения золотопромышленников. Но возможны и иные допущения: "Добрый друг, Александра Ивановна! - обращается Якубович к жене Давыдова в приписке к тому же письму. - Что вы со мной сделали, чем я заслужил отказ? Знаете ли, что вы одним словом разрушили лучшие мечты моей жизни - столько времени, с такими усилиями я стремился к моей цели, и, когда начал помаленьку достигать её, вы одним словом всё стёрли; бог видит скорбь, вами мне сделанную, но я не буду на вас сетовать: вы мать - имеете право располагать вашими детьми; но знайте: я не приму предложение Николая Ивановича (золотопромышленник. - Н.К.); и бог с ними, с их золотом. Осрамлю себя, высказав непостоянным, но через некоторое время оставлю все дела - и с бедностью стану горе мыкать без цели и надежды в мире".
К чему бы ни относился отказ, полученный Якубовичем от В.Л. и А.И. Давыдовых, он явился ударом, крушением, как определил сам Якубович, "последней нравственной опоры", лишил его "лучшей мечты", отнял у него "цель". Возможно, Якубович преувеличивал, что не было ему чуждо. Но горе своё переживал таким, каким описал. Встречается и жалоба на болезнь, и признание: "Я отжил своё - мне жизнь давно не раздолье". И неизменная тревога о близких: "Ты видел Козьму Яковлевича, скажи, брат, что он говорит о моих? Не скрой дурных вестей, я привык к этому давно..."
Якубович тем временем продолжал порученное золотопромышленниками дело, но прежним не был. Затравленный самодержавием, допекаемый местными властями, отверженный роднёй, изнурённый трудом, одолеваемый недугами, он и в своём Назимовском загоне был ещё не вполне одинок, он ещё оставался собой, пока жили в нём его "мечта" и "цель". Эти "мечта" и "цель", конечно, ограничивались личным масштабом - они совсем не те "мечта" и "цель", о которых он так сильно, так страстно писал Николаю I из Петропавловской крепости.
Прошлое не было позабыто, ни обесценено, но будущее, во всяком случае в границах жизни декабриста, надежд не сулило. Но и ограниченные личным масштабом "мечта" и "цель" , о которых мы не можем сказать ничего, кроме того, что масштаб их был личный, служили опорной точкой и прошлому в его историческом масштабе.
Теперь Якубович лишился последней точки опоры, чудом поддерживающей его лучшие идеалы, источавшей романтический свет на жесточайшую действительность и его деятельность в ней. Жизнь подошла к самой чёрной странице, не последней, она ещё будет перевёрнута, но самой чёрной.
На Месяцеслове, 14 декабря 1843 г., сбивающимся почерком, Якубович сделал запись: "С. Назимово. Как перед богом, по совести говорю: после 19 лет лишения свободы, что в этот день 1825 г. я был прав по чувству, но совершенно не знал черни и народа русского, который долго, очень долго, должен быть в опеке правительства".
Заметим, между 14 декабря 1843 г. и 1825 г. прошло не 19 лет, а 18. Описка, выдающая душевное состояние Якубовича. Народ он действительно знал плохо, хотя и здесь необходима поправка: солдата он знал хорошо и находил с ним общий язык во время сражений, как и в военные будни. Но сейчас, пьянствующий и буянивший сброд, который находился в его ведении как управляющего Ермаковской золотопромышленной резиденцией, другие, пришлые с волчьими повадками люди, жаждавшие золота, заслонили от него и рядовых кавказского корпуса, и крестьян, полтавских и черниговских, о жизни и быте которых он всё-таки знал и не по рассказам, а по собственным наблюдениям и впечатлениям.
Плохо было Якубовичу в полночь 14 декабря 1843 г., когда так же не вовремя он пытался продумать и оценить испытанное и пережитое; нехорошо человеку быть одному - это с трагической силой подтверждает его запись. Назимовский опыт жизни Якубовича наслоился на прошлое, даже на то недавнее, когда он жил под Иркутском.
Добытчики, невесть откуда появившиеся в Назимово, частью же завербованные для работы на приисках, были, вероятно, народом "отпетым", в самом деле чернью, развращённой и опустившейся. Это они отвечали характеристике, данную им Якубовичем: "разврат, пороки, изуверие, невежество", это для обуздания их и подобным им анархических элементов казалось Якубовичу подходящей "сильная централизация правления", "самодержавие" - народ здесь был не при чём.
А, может быть, изнанкой неправедного гнева Якубовича как раз и было отчаяние в готовности народа решающе воздействовать на ход истории? "Боже, прости меня! В полночь 14 декабря" - этими словами кончается запись. Всё-таки "царь, прости меня" было бы много хуже.
Чёрная страница была перевёрнута Якубовичем уже две недели спустя. В тот же Месяцеслов Якубович вписал и другую - откуда только прибавилась сила духа! - страницу: "Вот и 43-й год кончился, 20-й год ссылки, гонения, бедности, труда наступает. Боже! даруй мне сил выполнить долг человека-гражданина и мою лепту в скарб отечества принесть: не запятнанную, не осквернённую гордостию и самостию, но выраженную любовью и правдой. Я очень болен, мне 59 лет (описка. - Н.К.), раны мои напоминают, что скоро конец, служащий началом".
Итоговая запись. Возвращение к началам, не тем, о которых скорбно писал Якубович, а тем, которым отданы были лучшие надежды, высокие побуждения, молодые силы, возвращение к лепте в "скарб отечества", которую принёс он, "человек-гражданин". И пришедшее, наконец, освобождение от демона исключительности, ибо "лептой в скарб отечества" Якубович считал всё им содеянное за вычетом того, что "пятнало" и "оскверняло" принесённую лепту "гордостию и самостию". Жизнь покидала Якубовича, но дух его светлел.
14 сентября 1844 г. Якубович написал прощальное письмо Давыдовым: "Мне плохо - скоро всему будет конец; водяная меня душит". Он просил "принять кое-какие безделки на память и помочь бедным нашим товарищам из капитала, который я назначил на сей предмет". Он не расставался с памятью о родных: "Уведомьте после моих родных, что я угас". К этому времени относится попытка Якубовича получить лечение в Красноярске.
Сохранилось дело на трёх листах под названием "По представлению Енисейского гражданского губернатора о дозволении государственному преступнику Александру Якубовичу переселиться в Красноярск для лечения болезни". Власти с разрешением на перевод Якубовича в Красноярск не торопились. Последнее из дошедших до нас писем Якубовича обращено к Я.Д. Казимирскому и датировано 17 июня 1845 г.: "Милостивый государь, Яков Дмитриевич! Вот уже год, как я болен, страдания мои невыносимы, но надежда, что мне позволят вылечиться, переменив место моего жительства, подкрепляла меня до сих пор; но я вижу, что решительно отказались довести до сведения государя императора мою просьбу и причину оной, чем осуждают меня на медленную хуже пытки смерть. Я потерял почти рассудок, войдите в моё положение, пусть меня свезут в Красноярскую больницу и там решат достояние ли я проклятого Назимова или погоста Новокрещенска Красноярской церкви. С чувством глубочайшего уважения, честь имею быть вашим, милостивого государя, покорным слугою Александр Якубович". На письме рукой Казимирского пометка: "Ответил 14 июля".
2 сентября 1845 г. Якубович был доставлен в больницу г. Енисейска. На следующий день он скончался. Причина смерти - "грудная водянка". Вероятнее всего, это был рак лёгкого.
5 сентября 1845 г. Якубович был похоронен на Крестовоздвиженском кладбище (другое название Севастьяновское), без напутствия, притчем Троицкой церкви. В метрической книге Богоявленского собора была сделана запись за № 33: "Государственный преступник Александр Якубович, 60 лет (описка. - Н.К.), умер от "водяной", погребён по отношению старшего лекаря Большанкина от 5 сентября на Крестовском кладбище". Могила декабриста не сохранилась.
25 января 1846 г. в Кургане ослепший уже В.К. Кюхельбекер продиктовал стихи "На смерть Якубовича". Якубович и некогда назвавший его "пламенным любовником свободы" Кюхельбекер давно не были дружны. Но на далёкую енисейскую могилу Якубовича Кюхельбекер бросил свои "три горсти земли". Самое значительное, в следующих строфах:
Он был из первых в стае той орлиной,
Которой ведь и я принадлежал...
Тут нас, исторгнутых одной судьбиной
Умчал в тюрьму и ссылку тот же вал...
Так мудрено ли, что я в своей пустыне
Над Якубовичем рыдаю ныне?
Ты отстрадался, труженик, герой,
Ты вышел наконец на тихий берег,
Где нет упрёков, где тебе покой!
И про тебя не смолкнет бурный Терек,
И станет говорить Бешту седой...

Крестовоздиженская церковь и кладбище в Енисейске, на котором был похоронен А.И. Якубович.
Метки: декабристы якубович |
Никита Кирсанов: "Случай Якубовича". Часть 5. |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов: "Случай Якубовича". Часть 5.
Выход на поселение, какими ни были урезанными права и ограниченными возможности деятельности поселенцев, вдохнул в Якубовича новые силы. Впервые ему предстали разнообразие, величавость, ширь, приволье сибирской природы, пленявшей романтическое воображение, как в своё время ландшафты Кавказа. В ответном письме сестре Анне, Якубович писал из Малой Разводной под Иркутском: "Ты говоришь с любовью о своём саде. Извини, друг, что я не разделяю твоего восторга. Мой сад немного большего размера: вёрст тысяча, дремучий лес по берегу Байкала и чего хочешь, того и просишь: скалы, воды, тундра, мхи вековые. Ну, раздолье ссыльной душе!" Правда, сообщая декабристу В.Л. Давыдову о своих занятиях - "ружьё и сети в руки и марш добывать питание", Якубович добавлял с горечью: "Ты видишь, сколько удовольствий для сердца и ума; этот род жизни заставит не только на Кавказ проситься, но хоть в Елисейские".
Богатые силы Якубовича искали выхода в совсем другом "роде жизни". Возможно, под прямым впечатлением признаний Якубовича, уже упоминавшийся нами, инженер-путеец А.И. Штукенберг писал: "И этот замечательный человек, оставленный под конец друзьями и родными, дошёл до того, что помогал рыбакам тянуть невод или ходил на охоту". Как увидим, он нашёл и иное применение своим силам. Всё же эпитет "замечательный", применённый Штукенбергом к Якубовичу приближает к высшему "роду жизни", который по убеждению мемуариста, был достоин известных ему декабристов.
Безграничное уважение Штукенберга вызывала личность Николая Бестужева - "гениальный Николай Александрович", а о Якубовиче: "Якубович был совсем другая личность". Совсем другая, однако в свою очередь "замечательная", выходившая из ряда вон - даже такого "ряду", как декабристы. Чем? Мужеством, отвагой, верностью убеждениям, ярким талантом ("по воле магического рассказчика, все то смеялись гомерическим смехом, то волновались гневом и печалью") - таким Штукенберг помнил Якубовича ещё в его бытность на Петровском заводе, таким же знал и на поселении.
Личность замечательная романтическим обаянием, которое излучала и им покоряла: "Впрочем, этим господам (декабристам. - Н.К.), ещё наводившим и тогда ужас своим именем, было запрещено жить в Иркутске; но Якубович иногда под вечер приезжал ко мне тайком на лодке с угольщиками. Бывало, иногда сидишь себе под вечер у окна и любуешься, как перед глазами несётся мимо величавая река (я жил тогда на берегу), как вдруг пристанет чёрная лодочка, из неё выйдет ещё чернее человеческая фигура - и через минуту предо мною является отставной кавказец "Якуб-большая голова", как его там звали, - и всегда у него на устах или острота или каламбур. "Я к вам явился как настоящий карбонарей", - говорил он".
И по всей совокупности характеристических черт Якубовича, метко и точно запечатлённых в мемуарах Штукенберга, "этот замечательный человек" принадлежит к числу тех декабристов, о которых у мемуариста, подлинно стоявшего на высоте своих задач, читаем слова, исполненные патриотизма: "И пока на Руси такие люди будут изнывать в тёмной неизвестности, окружённые или крепостными стенами, или пустынею, а бездарные - всем двигать, - не идти ей, родимой, вперёд, а только сидеть сиднем, как Илье Муромцу, в ожидании, что бог даст ноги". По достоинству воздано как декабристам, так и их врагам и палачам - царю и его помощникам.
Цитируя Штукенберга, мы встретились с указанием на лодку с угольщиками, с которой Якубович сходил на берег. Но почему в лодке оказались угольщики? Мы имеем дело с одним из направлений, на которых Якубович пытался расширить тугое кольцо судьбы. И направление это было в ладу как раз с "железным путём", которым шествовал век, с "промышленными заботами", которые близки были Якубовичу, как показало его письмо к Николаю I, близки как насущая необходимость исторического развития России и благополучия её населения.
Вот как это получилось (письмо Якубовича к В.Л. Давыдову от 13 сентября 1839 г.): "Теперь расскажу тебе, что со мной было во всё это время: бродивши на охоте, я набрёл на пласт чудесного каменного угля, нанял двух работников (это и есть "угольщики", возможно, что со временем их стало больше. - Н.К.) и сделал несколько разведок, оказался уголь чудесной доброты, и копи можно производить легко и в большом изобилии на берегу самой Ангары; желая пользы краю и зная, что казённые заводы, Угольской в особенности, нуждаются в средствах отопления, я отослал несколько пудов угля к исправнику с просьбой довести это до сведения г. генерал-губернатора, последний понял всю выгоду казны и края от введения этой новой промышленности в общее употребление, хотел прислать ко мне чиновника для осмотра угля и копей; тем более это будет полезно, что предполагаемый пароход может за дешёвую цену иметь целые миллионы пудов угля..."
Интерес к делу развития производительных сил края не остывал. Год спустя И.Д. Якушкин писал В.Л. Давыдову: "Каменный уголь вывозится правительством в Уголье, и если будет пароходство, то ты, брат, увидишь как мы умеем уголь превращать в золото". С инициативой Якубовича были связаны, по-видимому, какие-то льготы в свободе его передвижения, в пользу чего говорит дело "О дозволении государственному преступнику Якубовичу иметь разъезды по Иркутскому округу - 1839 г." В обращении к генерал-губернатору от 20 ноября 1840 г. Якубович благодарил за позволение "трудиться - разум и силы употреблять на службу других..."
Размах деятельности Якубовича был велик. Сверх изыскательских работ и забот о претворении в жизнь их результатов им, по выходе на поселение, основана была небольшая школа и устроен мыловаренный завод: он "так исправно и удачно", пишет декабрист А.Е. Розен "производил дело, что не только сам содержал себя безбедно, но помогал другим беспомощным товарищам и посылал своим родным гостинцы, ящики лучшего чая".
Но и это не всё. Через посредство сибирского золотопромышленника Малевинского (компания Малевинского и Базилевского), Якубович получил поручение от откупа на покупку муки у населения. Он выполнил поручение менее чем за месяц, доставив "более 7 тысяч выгоды моим верителям" и получив за комиссию 2 тысячи рублей.
Декабрист М.М. Спиридов, находившийся в Красноярске, писал И.И. Пущину, якобы в коммерческом рвении Якубович "сделался крепостным откупщиком и многие его действия плоховаты", затем следовало не совсем понятное в данном контексте: "...вероятно ты знаешь, как он увлекателен и как он Малоросс!" (письмо написано 4 апреля 1840 г.). Спиридов явно пользовался информацией, полученной из вторых рук, и по тону его письма резко контрастирует дошедшему до нас письму Якубовича к нему (от 20 мая 1839 г.) - сердечному, дружественному, участливому. В письме к В.Л. Давыдову, с которым Якубовича связывали самые близкие и неизменные на всём протяжении каторги и ссылки отношения, он объяснял, что полученные от откупа деньги израсходовал на расплату с долгами, сохранив на своё содержание по 75 рублей в месяц с расчётом на год. Он делился с Давыдовым мыслью о дальнейших заработках, "чтобы иметь возможность заплатить всем и вся", а затем соединиться с Давыдовым и его семьёй: "...выкупя мою Петровскую нищету, я - ваш и употреблю всё возможное, чтобы быть вместе с моими бесценными друзьями".
Вообще в отрицательных оценках Якубовича его соузниками недостатка не было. Он обладал способностью так же притягивать к себе людей, как и отталкивать их от себя: яркий пример, когда недостатки человека являются прямым продолжением его достоинств. На самом же деле Якубович просто оставался самим собой. Его деятельность на хозяйственном поприще по инициативе, размаху, темпераменту, предприимчивости, масштабу напоминает его деятельность на военном поприще в бытность на Кавказе.
Иной была точка приложения сил, но и это не удивляет, и не только потому, что иного поля деятельности у ссыльнопоселенца не было (впрочем, и это поле деятельности Якубович отмежевал сам), но и потому, что хозяйственная деятельность в понятиях Якубовича ценилась как общественно необходимая и полезная. Даже генерал-губернатору Якубович писал: "Трудиться - разум и силы употреблять на службу других..." Правда, самолюбие, чувство исключительности угадываются и в энергии, с которой Якубович то основывал мыловаренный завод, то разведывал месторождение угля, стремясь организовать их эксплуатацию и сбыт по водной системе, то в неслыханно сжатые сроки выполнял поручения откупа. Он действовал во всём геройски - и не мог иначе.
Но на хозяйствовании жизнедеятельность Якубовича не замыкалась. Не замыкались на Сибири и интересы его. Он получал газеты и журналы, на что, наконец, расщедрились его родные (не отец). На собственные средства выписывал "Санкт-Петербургскую газету" и журналы министерств просвещения и внутренних дел: "Теперь я знаю, что делается на Святой Руси, и могу радоваться хорошему и полезному". Чему именно Якубович "радовался", остаётся невыясненным. Удовлетворение от получаемой информации было невелико - Якубович нуждался в общении, в собеседниках, чтобы обсудить прочитанное: "Газеты и журналы... исправно имею, - писал он Давыдову, - но что толку: с кем разделить мысль, кому передать чувства?" Он оставался прям и смел в оценках событий, не отступал от сложившихся политических убеждений и открыто высказывал их посторонним людям, чем вызывал тревогу товарищей.
Декабрист Ф.Ф. Вадковский писал 7 октября 1839 г. Е.П. Оболенскому: "Был я также у Бабаке (прозвище Якубовича, сам себя он иногда называл "Бабока". - Н.К.)... он живёт припеваючи и хозяйски, часто по вечерам бывает в городе и, что мне не понравилось, поставил себя на такую ногу, что к нему беспрестанно городские жители ездят; он, по обыкновению своему, произносит им речи, обрабатывает их по-драгунски, если чуть не по нём, толкует с ними о промышленности, даёт им проекты, одним словом, слишком много рисуется и суетится. Я боюсь, чтоб эта несчастная страсть к слушателям и зрителям не обратила внимания Руперта (В.Я. Руперт - военный генерал-губернатор Восточной Сибири. - Н.К.) и не навлекла бы ему какой-нибудь неприятности".
О том, что Якубович "рисуется и суетится", писали многие его товарищи. Нам представляется, что Якубович был далёк от того, чтобы "суетится". Он был человеком дела, хладнокровным, когда это требовалось, и собранным на то, чтобы дело было сделано как можно успешнее и быстрее. Таким Якубович неизменно показывал себя и в военных действиях на Кавказе , и в хозяйственных предприятиях в Сибири, отдаваясь делу без резервов, не жалея сил, целиком. "Несчастная страсть к слушателям и зрителям", "рисовка" действительно присуща была Якубовичу, он любил огни рампы.
Но если отвлечься от того, что вносил Якубович в "позу" от красок собственной индивидуальности, то останется типическое, присущее в разной степени большинству декабристов, останутся "моральные нормы декабристского круга, требовавшие прямого перенесения поведения литературных героев в жизнь". В этом отношении показательна "полная растерянность декабристов в условиях следствия - в трагической обстановке поведения без свидетелей, которым можно было бы, расчитывая на понимание, адресовать героические поступки, без литературных образцов, поскольку гибель без монологов в военно-бюрократическом вакууме не была ещё предметом искусства той поры".
Исключения из правила, разумеется, были: не только П.И. Пестель, но и Г.С. Батеньков апеллировали к грядущим поколениям, не обнаружил растерянности во время следствия И.И. Пущин, да и сам Якубович оказался для следователей "твёрдым орешком". Нашлись в среде декабристов и люди, сломленные самодержавием, утратившие веру в некогда вдохновлявшие идеалы. Это похуже "рисовки". Якубович был не из их числа, не из "робкого десятка". Он оставаля борцом, отважно сражавшимся с судьбой, нашедшим применение в условиях чрезвычайных своей неистощимой инициативе. Он сохранял верность убеждениям. Их доносит его письмо к сестре, написанное в Малой Разводной 20 июня 1841 г. Оно даёт и некоторое представление об иркутянах, с которыми общался Якубович (что вызвало тревогу Вадковского), отчасти поясняет, почему он "обрабатывал" их "по-драгунски". Якубович пишет: "В городе есть несколько умных, добрых земляков. Они меня не чуждаются, ласкают даже; но, на беду, все высокоблагородные, а я бездомный экс-дворянин и потому придерживаюсь малороссийской поговорки: с панами не водись!" Следует обобщение: "Не удивляйся, душа моя, что наши паничи, превращаясь в панов, забывают хорошее приобретённое и снова грязнут в дедовских причудах, поверьях и спеси. Так быть должно; потому паничи!"
Но самый гражданский отрывок письма, своего рода духовное завещание Якубовича, следующий: "Друг мой! Ты исполнила своё предназначение женщины: ты жена, мать семейства. Теперь осталось выполнить обязанность гражданки: дай детям твоим истинное нравственное воспитание, образуй их быть полезными Отечеству и твоё семейство, миллионная частица целого, исполнит свой долг. Самое главное: убеди и докажи твоим детям, что не на пир им дана жизнь, но на борьбу, труд, на искупление греховности своей! И кто бы они ни были по способностям ума, твёрдости воли и заслугам, но они рождены быть слугами Отечеству, которому должно жертвовать имуществом, жизнью и честью". Наставление брата и завет декабриста.
Содержание письма примечательно чертами, характерными для состояния самого Якубовича, нравственного и физического. Он начинает письмо: "Только что оправился от сильной болезни..." За полгода до него Якубович в обращении к енисейскому генерал-губернатору писал: "Раны и недуги часто напоминают о преждевременной старости". О болезни писал Якубович и в 1838 г., будучи в Петровском заводе, Я.Д. Казимирскому, что подтверждается и Штукенбергом в воспоминаниях, относящихся к тому же времени: "От раны у него часто болела голова; тогда он часто тосковал и никто не смел к нему подступиться". Оставалась и глубокая, незаживающая душевная травма. 17 сентября 1839 г. он писал В.Л. Давыдову: "Писем не было и, кажется, не будет". Конечно, от отца. Их действительно так и не было: "Благодарю бога, что наш отец силён, здоров и деятелен; дай бог, чтобы жизнь его и силы продлились" - это из письма к сестре. Там же: "Отца нашего поцелуй; скажи ему, что я его сын любящий и покорный до гроба". Отверженный сын сохранял любовные чувства к отцу и мучился отверженностью. Болезни, травмы, телесные и душевные, исподволь разрушали силы Якубовича; он же уходил с головой в деятельность, тратя силы, перенапрягая их, как требовал его буйный, неукротимый темперамент. "Шангреневая кожа" непрестанно сокращалась. Однажды, как увидим, это станет очевидно Якубовичу, впрочем, не раньше, как иссякнут все силы.
Выход на поселение, какими ни были урезанными права и ограниченными возможности деятельности поселенцев, вдохнул в Якубовича новые силы. Впервые ему предстали разнообразие, величавость, ширь, приволье сибирской природы, пленявшей романтическое воображение, как в своё время ландшафты Кавказа. В ответном письме сестре Анне, Якубович писал из Малой Разводной под Иркутском: "Ты говоришь с любовью о своём саде. Извини, друг, что я не разделяю твоего восторга. Мой сад немного большего размера: вёрст тысяча, дремучий лес по берегу Байкала и чего хочешь, того и просишь: скалы, воды, тундра, мхи вековые. Ну, раздолье ссыльной душе!" Правда, сообщая декабристу В.Л. Давыдову о своих занятиях - "ружьё и сети в руки и марш добывать питание", Якубович добавлял с горечью: "Ты видишь, сколько удовольствий для сердца и ума; этот род жизни заставит не только на Кавказ проситься, но хоть в Елисейские".
Богатые силы Якубовича искали выхода в совсем другом "роде жизни". Возможно, под прямым впечатлением признаний Якубовича, уже упоминавшийся нами, инженер-путеец А.И. Штукенберг писал: "И этот замечательный человек, оставленный под конец друзьями и родными, дошёл до того, что помогал рыбакам тянуть невод или ходил на охоту". Как увидим, он нашёл и иное применение своим силам. Всё же эпитет "замечательный", применённый Штукенбергом к Якубовичу приближает к высшему "роду жизни", который по убеждению мемуариста, был достоин известных ему декабристов.
Безграничное уважение Штукенберга вызывала личность Николая Бестужева - "гениальный Николай Александрович", а о Якубовиче: "Якубович был совсем другая личность". Совсем другая, однако в свою очередь "замечательная", выходившая из ряда вон - даже такого "ряду", как декабристы. Чем? Мужеством, отвагой, верностью убеждениям, ярким талантом ("по воле магического рассказчика, все то смеялись гомерическим смехом, то волновались гневом и печалью") - таким Штукенберг помнил Якубовича ещё в его бытность на Петровском заводе, таким же знал и на поселении.
Личность замечательная романтическим обаянием, которое излучала и им покоряла: "Впрочем, этим господам (декабристам. - Н.К.), ещё наводившим и тогда ужас своим именем, было запрещено жить в Иркутске; но Якубович иногда под вечер приезжал ко мне тайком на лодке с угольщиками. Бывало, иногда сидишь себе под вечер у окна и любуешься, как перед глазами несётся мимо величавая река (я жил тогда на берегу), как вдруг пристанет чёрная лодочка, из неё выйдет ещё чернее человеческая фигура - и через минуту предо мною является отставной кавказец "Якуб-большая голова", как его там звали, - и всегда у него на устах или острота или каламбур. "Я к вам явился как настоящий карбонарей", - говорил он".
И по всей совокупности характеристических черт Якубовича, метко и точно запечатлённых в мемуарах Штукенберга, "этот замечательный человек" принадлежит к числу тех декабристов, о которых у мемуариста, подлинно стоявшего на высоте своих задач, читаем слова, исполненные патриотизма: "И пока на Руси такие люди будут изнывать в тёмной неизвестности, окружённые или крепостными стенами, или пустынею, а бездарные - всем двигать, - не идти ей, родимой, вперёд, а только сидеть сиднем, как Илье Муромцу, в ожидании, что бог даст ноги". По достоинству воздано как декабристам, так и их врагам и палачам - царю и его помощникам.
Цитируя Штукенберга, мы встретились с указанием на лодку с угольщиками, с которой Якубович сходил на берег. Но почему в лодке оказались угольщики? Мы имеем дело с одним из направлений, на которых Якубович пытался расширить тугое кольцо судьбы. И направление это было в ладу как раз с "железным путём", которым шествовал век, с "промышленными заботами", которые близки были Якубовичу, как показало его письмо к Николаю I, близки как насущая необходимость исторического развития России и благополучия её населения.
Вот как это получилось (письмо Якубовича к В.Л. Давыдову от 13 сентября 1839 г.): "Теперь расскажу тебе, что со мной было во всё это время: бродивши на охоте, я набрёл на пласт чудесного каменного угля, нанял двух работников (это и есть "угольщики", возможно, что со временем их стало больше. - Н.К.) и сделал несколько разведок, оказался уголь чудесной доброты, и копи можно производить легко и в большом изобилии на берегу самой Ангары; желая пользы краю и зная, что казённые заводы, Угольской в особенности, нуждаются в средствах отопления, я отослал несколько пудов угля к исправнику с просьбой довести это до сведения г. генерал-губернатора, последний понял всю выгоду казны и края от введения этой новой промышленности в общее употребление, хотел прислать ко мне чиновника для осмотра угля и копей; тем более это будет полезно, что предполагаемый пароход может за дешёвую цену иметь целые миллионы пудов угля..."
Интерес к делу развития производительных сил края не остывал. Год спустя И.Д. Якушкин писал В.Л. Давыдову: "Каменный уголь вывозится правительством в Уголье, и если будет пароходство, то ты, брат, увидишь как мы умеем уголь превращать в золото". С инициативой Якубовича были связаны, по-видимому, какие-то льготы в свободе его передвижения, в пользу чего говорит дело "О дозволении государственному преступнику Якубовичу иметь разъезды по Иркутскому округу - 1839 г." В обращении к генерал-губернатору от 20 ноября 1840 г. Якубович благодарил за позволение "трудиться - разум и силы употреблять на службу других..."
Размах деятельности Якубовича был велик. Сверх изыскательских работ и забот о претворении в жизнь их результатов им, по выходе на поселение, основана была небольшая школа и устроен мыловаренный завод: он "так исправно и удачно", пишет декабрист А.Е. Розен "производил дело, что не только сам содержал себя безбедно, но помогал другим беспомощным товарищам и посылал своим родным гостинцы, ящики лучшего чая".
Но и это не всё. Через посредство сибирского золотопромышленника Малевинского (компания Малевинского и Базилевского), Якубович получил поручение от откупа на покупку муки у населения. Он выполнил поручение менее чем за месяц, доставив "более 7 тысяч выгоды моим верителям" и получив за комиссию 2 тысячи рублей.
Декабрист М.М. Спиридов, находившийся в Красноярске, писал И.И. Пущину, якобы в коммерческом рвении Якубович "сделался крепостным откупщиком и многие его действия плоховаты", затем следовало не совсем понятное в данном контексте: "...вероятно ты знаешь, как он увлекателен и как он Малоросс!" (письмо написано 4 апреля 1840 г.). Спиридов явно пользовался информацией, полученной из вторых рук, и по тону его письма резко контрастирует дошедшему до нас письму Якубовича к нему (от 20 мая 1839 г.) - сердечному, дружественному, участливому. В письме к В.Л. Давыдову, с которым Якубовича связывали самые близкие и неизменные на всём протяжении каторги и ссылки отношения, он объяснял, что полученные от откупа деньги израсходовал на расплату с долгами, сохранив на своё содержание по 75 рублей в месяц с расчётом на год. Он делился с Давыдовым мыслью о дальнейших заработках, "чтобы иметь возможность заплатить всем и вся", а затем соединиться с Давыдовым и его семьёй: "...выкупя мою Петровскую нищету, я - ваш и употреблю всё возможное, чтобы быть вместе с моими бесценными друзьями".
Вообще в отрицательных оценках Якубовича его соузниками недостатка не было. Он обладал способностью так же притягивать к себе людей, как и отталкивать их от себя: яркий пример, когда недостатки человека являются прямым продолжением его достоинств. На самом же деле Якубович просто оставался самим собой. Его деятельность на хозяйственном поприще по инициативе, размаху, темпераменту, предприимчивости, масштабу напоминает его деятельность на военном поприще в бытность на Кавказе.
Иной была точка приложения сил, но и это не удивляет, и не только потому, что иного поля деятельности у ссыльнопоселенца не было (впрочем, и это поле деятельности Якубович отмежевал сам), но и потому, что хозяйственная деятельность в понятиях Якубовича ценилась как общественно необходимая и полезная. Даже генерал-губернатору Якубович писал: "Трудиться - разум и силы употреблять на службу других..." Правда, самолюбие, чувство исключительности угадываются и в энергии, с которой Якубович то основывал мыловаренный завод, то разведывал месторождение угля, стремясь организовать их эксплуатацию и сбыт по водной системе, то в неслыханно сжатые сроки выполнял поручения откупа. Он действовал во всём геройски - и не мог иначе.
Но на хозяйствовании жизнедеятельность Якубовича не замыкалась. Не замыкались на Сибири и интересы его. Он получал газеты и журналы, на что, наконец, расщедрились его родные (не отец). На собственные средства выписывал "Санкт-Петербургскую газету" и журналы министерств просвещения и внутренних дел: "Теперь я знаю, что делается на Святой Руси, и могу радоваться хорошему и полезному". Чему именно Якубович "радовался", остаётся невыясненным. Удовлетворение от получаемой информации было невелико - Якубович нуждался в общении, в собеседниках, чтобы обсудить прочитанное: "Газеты и журналы... исправно имею, - писал он Давыдову, - но что толку: с кем разделить мысль, кому передать чувства?" Он оставался прям и смел в оценках событий, не отступал от сложившихся политических убеждений и открыто высказывал их посторонним людям, чем вызывал тревогу товарищей.
Декабрист Ф.Ф. Вадковский писал 7 октября 1839 г. Е.П. Оболенскому: "Был я также у Бабаке (прозвище Якубовича, сам себя он иногда называл "Бабока". - Н.К.)... он живёт припеваючи и хозяйски, часто по вечерам бывает в городе и, что мне не понравилось, поставил себя на такую ногу, что к нему беспрестанно городские жители ездят; он, по обыкновению своему, произносит им речи, обрабатывает их по-драгунски, если чуть не по нём, толкует с ними о промышленности, даёт им проекты, одним словом, слишком много рисуется и суетится. Я боюсь, чтоб эта несчастная страсть к слушателям и зрителям не обратила внимания Руперта (В.Я. Руперт - военный генерал-губернатор Восточной Сибири. - Н.К.) и не навлекла бы ему какой-нибудь неприятности".
О том, что Якубович "рисуется и суетится", писали многие его товарищи. Нам представляется, что Якубович был далёк от того, чтобы "суетится". Он был человеком дела, хладнокровным, когда это требовалось, и собранным на то, чтобы дело было сделано как можно успешнее и быстрее. Таким Якубович неизменно показывал себя и в военных действиях на Кавказе , и в хозяйственных предприятиях в Сибири, отдаваясь делу без резервов, не жалея сил, целиком. "Несчастная страсть к слушателям и зрителям", "рисовка" действительно присуща была Якубовичу, он любил огни рампы.
Но если отвлечься от того, что вносил Якубович в "позу" от красок собственной индивидуальности, то останется типическое, присущее в разной степени большинству декабристов, останутся "моральные нормы декабристского круга, требовавшие прямого перенесения поведения литературных героев в жизнь". В этом отношении показательна "полная растерянность декабристов в условиях следствия - в трагической обстановке поведения без свидетелей, которым можно было бы, расчитывая на понимание, адресовать героические поступки, без литературных образцов, поскольку гибель без монологов в военно-бюрократическом вакууме не была ещё предметом искусства той поры".
Исключения из правила, разумеется, были: не только П.И. Пестель, но и Г.С. Батеньков апеллировали к грядущим поколениям, не обнаружил растерянности во время следствия И.И. Пущин, да и сам Якубович оказался для следователей "твёрдым орешком". Нашлись в среде декабристов и люди, сломленные самодержавием, утратившие веру в некогда вдохновлявшие идеалы. Это похуже "рисовки". Якубович был не из их числа, не из "робкого десятка". Он оставаля борцом, отважно сражавшимся с судьбой, нашедшим применение в условиях чрезвычайных своей неистощимой инициативе. Он сохранял верность убеждениям. Их доносит его письмо к сестре, написанное в Малой Разводной 20 июня 1841 г. Оно даёт и некоторое представление об иркутянах, с которыми общался Якубович (что вызвало тревогу Вадковского), отчасти поясняет, почему он "обрабатывал" их "по-драгунски". Якубович пишет: "В городе есть несколько умных, добрых земляков. Они меня не чуждаются, ласкают даже; но, на беду, все высокоблагородные, а я бездомный экс-дворянин и потому придерживаюсь малороссийской поговорки: с панами не водись!" Следует обобщение: "Не удивляйся, душа моя, что наши паничи, превращаясь в панов, забывают хорошее приобретённое и снова грязнут в дедовских причудах, поверьях и спеси. Так быть должно; потому паничи!"
Но самый гражданский отрывок письма, своего рода духовное завещание Якубовича, следующий: "Друг мой! Ты исполнила своё предназначение женщины: ты жена, мать семейства. Теперь осталось выполнить обязанность гражданки: дай детям твоим истинное нравственное воспитание, образуй их быть полезными Отечеству и твоё семейство, миллионная частица целого, исполнит свой долг. Самое главное: убеди и докажи твоим детям, что не на пир им дана жизнь, но на борьбу, труд, на искупление греховности своей! И кто бы они ни были по способностям ума, твёрдости воли и заслугам, но они рождены быть слугами Отечеству, которому должно жертвовать имуществом, жизнью и честью". Наставление брата и завет декабриста.
Содержание письма примечательно чертами, характерными для состояния самого Якубовича, нравственного и физического. Он начинает письмо: "Только что оправился от сильной болезни..." За полгода до него Якубович в обращении к енисейскому генерал-губернатору писал: "Раны и недуги часто напоминают о преждевременной старости". О болезни писал Якубович и в 1838 г., будучи в Петровском заводе, Я.Д. Казимирскому, что подтверждается и Штукенбергом в воспоминаниях, относящихся к тому же времени: "От раны у него часто болела голова; тогда он часто тосковал и никто не смел к нему подступиться". Оставалась и глубокая, незаживающая душевная травма. 17 сентября 1839 г. он писал В.Л. Давыдову: "Писем не было и, кажется, не будет". Конечно, от отца. Их действительно так и не было: "Благодарю бога, что наш отец силён, здоров и деятелен; дай бог, чтобы жизнь его и силы продлились" - это из письма к сестре. Там же: "Отца нашего поцелуй; скажи ему, что я его сын любящий и покорный до гроба". Отверженный сын сохранял любовные чувства к отцу и мучился отверженностью. Болезни, травмы, телесные и душевные, исподволь разрушали силы Якубовича; он же уходил с головой в деятельность, тратя силы, перенапрягая их, как требовал его буйный, неукротимый темперамент. "Шангреневая кожа" непрестанно сокращалась. Однажды, как увидим, это станет очевидно Якубовичу, впрочем, не раньше, как иссякнут все силы.
Метки: декабристы якубович |
Никита Кирсанов: "Случай Якубовича". Часть 4. |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов: "Случай Якубовича". Часть 4.
По определению суда Якубович получил 20 лет каторги. "Простите навсегда, любезные сердцу..." - обращался он к отцу, сестре, братьям в письме, написанном сразу после "сентенции" (в июле 1826 г.) В августе этого же года Якубович писал, что следует "к назначению, которое мне ужаснее смерти", что он вдалеке "от родины с грустью в сердце, мраком в воображении, должен жить окружённый всеми ужасами наказанных преступлений".
Не столько страх перед каторгой, сколько сословное сознание и чувство позора, покрывшего его имя, продиктовало ему строчку: "Простите навсегда".
Обряд лишения дворянства совершился. Заранее подпиленную саблю палач переломил над головой, вместе с мундиром в огонь полетел знак боевого отличия. Для Якубовича это была казнь, страшнее той казни в рассрочку, которой являлись 20 лет каторги. Сословная психология так густо выражена была в Якубовиче, как мало в ком из других декабристов. "Надежда моя, - писал он сразу после процедуры бесчествования, - вспорхнула при переломе сабли над полуразрушенной главой моей, опалила крылья на огне, где горел знак, купленный презрением жизни (владимирский орден. - Н.К.)... Ах, для чего убийственный свинец на горах кавказских не пресёк моего бытия? Позор! Позор! Ужаснее смерти!..." Чувство позора темнило разум, и Якубович готов был признать, что и в самом деле он был виновен и достоин постигшей его кары.
В том же письме к отцу (июль 1826 г.) находим мотив, прозвучавший ещё на следствии и не оставлявший Якубовича до конца жизни: "Самолюбие подстрекало меня, и сей порок ужаснейший был причиной моей погибели". Самооценка трезвая. Только напомним, что "сей порок ужаснейший" имел корни не в одной психологии конкретного индивида - Якубовича, но и в социально-исторической психологии, психологии романтической; по шкале её ценностей "самолюбие" являлось добродетелью, а не пороком.
Да оно и было добродетельно постольку, поскольку являлось ответной реакцией на обезличение, регламентацию духовной жизни, извне продиктованными правилами, отжившими традициями, условновностями, этикетом. Даже приведённые строки письма Якубовича к отцу, написанные под живым впечатлением процедуры гражданской казни и каторжного приговора, строки искренние, отчаянные, напоминают о литературном вкусе романтизма.
Мы располагаем двумя письмами Якубовича, написанными по прибытии этапом из Петербурга в Иркутск. Оба от августа 1826 г. Отцу Якубович писал: "О страданиях душевных и телесных не стану говорить. Вы из можете вообразить, представляя себе путешествие в 6 000 вёрст в телегах". В течение этого пути "Муравьёв (Артамон Захарович. - Н.К.) как зять министра финансов имел случай получить деньги и нас всех содержать дорогой". О себе Якубович сообщал: "...сто рублей и две рубашки было моё богатство". Он просил вознаградить деньгами некоего А.К. Седова, по-видимому, конвойного офицера за "всевозможные одолжения" во время этапа. Он надеялся на родительскую помощь: "Вы, конечно, захотите облегчить мою судьбу пособиями" - и указывал на генерал-губернатора Лавинского и губернатора Цейдлера, к которым следовало (через "знатного покровителя") обратиться на этот предмет.
Одновременно Якубович обращался к своему знакомому Ф.И. Гавриленко с просьбой уведомить отца о возможности обратиться за разрешением оказывать денежную помощь к губернатору Цейдлеру. Он также просил Гавриленко вознаградить "из оставшихся у вас моих денег" гвардейского жандарма Разумовского: "он пекся обо мне и несчастных моих товарищах с доброходством честного и добродетельного человека". Любопытно, что обременять отца вознаграждением Седова и Разумовского Якубович не решался. Видимо, он не переоценивал щедрости отца. Он, однако, не мог усомниться в том, что "дражайший родитель" (так обращался он к отцу) позаботится о сыне: "...прощайте и молю, не презирайте вашего несчастного сына".
Случилось худшее. Горечь и стыд за отцовское отступничество от обязанностей нравственных и уз естественных на всю глубину жгли сердце сына, и меру им знал он один. Для самолюбивого и впечатлительного Якубовича эта ситуация, вынуждавшая к тому же пользоваться денежной поддержкой соузников, была мучительна. Он так и не мог до конца поверить в случившееся, ловил доходившие изредка слухи об отце и родных, а в письмах к друзьям, знакомым, к сестре (наконец, вступившей с ним в переписку) спрашивал об отце любовно и уважительно. Друзья понимали, молчали и помогали. "Он имел несчастье в Сибири, - вспоминал А.Е. Розен, - что все родные забыли его, не писали, не помогали ему". В течение всего двадцатилетнего отрезка жизни Якубовича на каторге и в ссылке измена отца оставалась постоянно действующим фактором, расстраивавшим его нравственное здоровье.
Мы мало знаем о Якубовиче в первые годы каторги, когда он находился в Иркутском Усолье, Благодатском руднике и Читинском остроге. Несколько лучше документировано его пребывание на Петровском заводе, куда вместе с другими декабристами он был переведён в 1830 г. Но и самый ранний из относящихся к этому периоду каторги документ, дошедший до нас, относится лишь к февралю 1837 г. Это письмо Якубовича к А.А. Бестужеву-Марлинскому с оценкой его повести "Мулла-Нур". Оно и вводит в обстановку жизни узников Петровского завода, слушавших повесть (её читал вслух и комментировал Якубович), и объясняет причины их восхищения повестью.
Художественный стиль повести отвечал эстетическим вкусам декабристов, как декабристской была и оценка кавказских войн автором повести. По словам М.К. Азадовского, "признание необходимости кавказских войн сочетались у декабристов с резко отрицательным отношением к жестоким методам усмирения и к царившему на Кавказе произволу и насилию со стороны царской и военной администрации, естественно вызывавшими решительный протест горцев".
Узники Петровского завода, судя по их приёму повести Бестужева, не изменили своему отношению к кавказским войнам. Якубович, как никто из его друзей по заключению, мог судить о кавказских войнах, прославивших его имя искусством воевать, смягчая при этом эксцессы и высказывая уважение к побеждённым. Декабристская точка зрения на кавказские войны импонировала Якубовичу в повести "Мулла-Нур", но он продолжал обдумывать их, воспроизводить картины сражений и "усмирения" мирного населения, встававшие, как живые, в памяти, и приходил к выводам всё более решительным.
Два года с немногим спустя после отправки письма Бестужеву, он писал декабристу М.М. Спиридову: "Не могу понять, что заставило Беляевых после стольких лет поселения и при таком состоянии итти служить на Кавказ; несмотря на мой Дон-Кихотский дух и воспоминания, если бы я имел хотя 1/4 Беляевых состояния, то и калачом меня бы не заманили на кавказскую бойню".
Письма и записки Якубовича, относящиеся ко времени пребывания его на Петровском заводе, охватывают даты с февраля 1837 г. по март 1839 г. Они не содержат политических высказываний, донося, однако, неумолкающий голос протеста против положения жертвы политической расправы. Они отражают разные душевные состояния Якубовича - то живые и бодрые, как, например, при чтении повести "Мулла-Нур" в круге товарищей, то горестно-ироничные, язвительные, например, записка к плац-майору Петровского завода Я.Д. Казимирскому (1838-1839 гг.): "Его высокоблагородию милостивому государю, Якову Дмитриевичу Казимирскому.
Извините меня, сделайте одолжение, Яков Дмитриевич, что утруждаю вас просьбой в русско-тюремном роде, но нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поёт; и я Лазаря пою, чтобы вы позволили принести от Давыдова мне рюмку водки. Погода исстрелянные мои кости ломает не на шутку, а aqua vitae универсальное лекарство. Имею честь быть вашим покорным слугою Александр Якубович".
Остальные письма и записки характеризуют Якубовича как человека доброго, душевного, доверчивого (порой до наивности), щедрого на благодарный отзыв за всякий, хотя бы и малый, знак внимания к его судьбе каторжанина. Его память берегла имена всех лиц независимо от их положения, от протекшего времени, кто выразил ему сочувствие как умел и как мог.
В письме от 1 августа 1838 г. Якубович обращался к Казимирскому, отправлявшемуся с женой Александрой Семёновной в поездку, в частности, и по тем местам, где прошли первые каторжные декабристов. Он писал:
"Милостивый государь, Яков Дмитриевич!
Напутное желание хотя не углажует дороги, не придаёт быстроты коням и даже не смазывает колёс, но если от сердца выльется, то имеет своё место в карете и на перекладной; и потому: желаю вам и Александре Семёновне щастливо совершить поездку и скорее возвратиться к нам; благодарю вас, что вы не забыли возвратиться в мою келью, сжать руку старого узника - позвольте просить васисполнить некоторые мои поручения в Нерчинске и по дороге: в Чите вы увидите тамошнего пристава Семёна Семёновича, фамилию забыл - виноват, сейчас вспомнил - Резанова. Поклонитесь ему - он при нас (слово неразборчиво. - Н.К.) был в Благодатском добрым человеком, а в Биянкиной Хрисанфу Петровичу Кандину усердно кланяюсь - помню его гостеприимство и незабвенную питую мадеру. Пётр Михайлович Черниговцев великодушным своим обращением и участием, которое он нам показывал, навсегда останется в памяти моего сердца. Сделайте одолжение, Яков Дмитриевич, передайте этим добрым людям мой сердечный привет и извините, что утруждаю вас моей слезницей.
Ваш покорный слуга Александр Якубович.
P.S. Александре Семёновне сверх желаний щастливой дороги - желаю памяти. Помнить по возвращении истинно уважающего её, аз многострадального. Вам же, Яков Дмитриевич, поневоле списки напомнят что под № 53-м прозябает растительной жизнью Ал. Якубович".
И это письмо не без чувства "русско-тюремного". И оно свидетельство "памяти сердца", пользуясь выражением самого Якубовича, памяти глубокой, взволнованной, памяти навсегда. И ещё одно свидетельство тому, что на самом "краю света", куда забросило декабристов самодержавие, свет оставался не без добрых людей, просто добрых и одновременно граждански добрых, сознававших более или менее высокие побуждения декабристов. И, наконец, письмо это, как и другие письма Якубовича, - свидетельство его литературной одарённости. Приведём ещё одно письмо:
"Милостивый государь, Яков Дмитриевич!
Простите, что утруждаю вас просьбой, но дела для моего сердца важное и потому обращаюсь к вам: если г-н Максимович (золотопромышленник, генерал-майор. Как следует из письма Якубовича имел отношение к его семье. - Н.К.) будет у вас и вы, запустив нравственный щуп в его душу, увидите, что он человек, у которого сердце с левой стороны и разум не помутился от канцелярского могущества и иркутского фимиама лести, то, сделайте милость, скажите ему, что у вас под стёклушком хранится бедный (слово неразборчиво) аз многогрешный, который желал бы его видеть и расспросить о родных. Знаю, что не радостный рассказ меня ожидает, но это необходимо для уравнения моих поступков; если он примет ваше предложение без гримасы, как после ревеню, то дайте мне знать, и я тогда обращусь к Григорию Максимовичу (Г.М. Ребиндер - комендант Петровского завода, после смерти С.Р. Лепарского. - Н.К.), чтобы видеть г-на Максимовича.
Кого только уважаешь, к тому обращаешься с подобной откровенностью. И вы, Яков Дмитриевич, видимо, примите мою просьбу как знак уважения, с каковым имею честь быть вашим покорным слугою. Александр Якубович".
Мы не знаем, с какой стороны находилось сердце у Максимовича, так как не располагаем известиями, сосоялась или нет встреча с ним Якубовича. Мысль о родных Якубовича не покидала, хотя всё ясней становилось ему, что ничего "радостного" ожидать от них не приходилось. Мучило Якубовича чувство стыда за родных перед товарищами по Петровскому заводу, унижала необходимость пользоваться их денежной поддержкой. Долгое время спустя Якубович ещё будет употреблять усилия, чтобы "выкупить Петровскую нищету". Мы весьма далеки от характеристики образа мыслей и интересов Якубовича в период его пребывания на Петровском заводе. Мы просто воспользовались материалами из архивов, относящихся к этому периоду, дабы добавить штрихи к образу этого не привлекшего большого внимания исследователей декабриста. Лишь из всей жизни и деятельности Якубовича, как она отразилась в источниках, находящихся в нашем распоряжении, встаёт его значительный и трагический образ. Добавим только, что в письмах петровского периода, окрашенных в разные эмоциональные тона, написанных в "русско-тюремном роде", Якубович предстаёт как политический узник, не сломленный судьбой, не растративший энергии, не отступивший от своих убеждений, готовый к деятельности.
В 1839 г. Якубович был освобождён из Петровского завода и поселён в деревне Малая Разводная верстах в пяти от Иркутска.
По определению суда Якубович получил 20 лет каторги. "Простите навсегда, любезные сердцу..." - обращался он к отцу, сестре, братьям в письме, написанном сразу после "сентенции" (в июле 1826 г.) В августе этого же года Якубович писал, что следует "к назначению, которое мне ужаснее смерти", что он вдалеке "от родины с грустью в сердце, мраком в воображении, должен жить окружённый всеми ужасами наказанных преступлений".
Не столько страх перед каторгой, сколько сословное сознание и чувство позора, покрывшего его имя, продиктовало ему строчку: "Простите навсегда".
Обряд лишения дворянства совершился. Заранее подпиленную саблю палач переломил над головой, вместе с мундиром в огонь полетел знак боевого отличия. Для Якубовича это была казнь, страшнее той казни в рассрочку, которой являлись 20 лет каторги. Сословная психология так густо выражена была в Якубовиче, как мало в ком из других декабристов. "Надежда моя, - писал он сразу после процедуры бесчествования, - вспорхнула при переломе сабли над полуразрушенной главой моей, опалила крылья на огне, где горел знак, купленный презрением жизни (владимирский орден. - Н.К.)... Ах, для чего убийственный свинец на горах кавказских не пресёк моего бытия? Позор! Позор! Ужаснее смерти!..." Чувство позора темнило разум, и Якубович готов был признать, что и в самом деле он был виновен и достоин постигшей его кары.
В том же письме к отцу (июль 1826 г.) находим мотив, прозвучавший ещё на следствии и не оставлявший Якубовича до конца жизни: "Самолюбие подстрекало меня, и сей порок ужаснейший был причиной моей погибели". Самооценка трезвая. Только напомним, что "сей порок ужаснейший" имел корни не в одной психологии конкретного индивида - Якубовича, но и в социально-исторической психологии, психологии романтической; по шкале её ценностей "самолюбие" являлось добродетелью, а не пороком.
Да оно и было добродетельно постольку, поскольку являлось ответной реакцией на обезличение, регламентацию духовной жизни, извне продиктованными правилами, отжившими традициями, условновностями, этикетом. Даже приведённые строки письма Якубовича к отцу, написанные под живым впечатлением процедуры гражданской казни и каторжного приговора, строки искренние, отчаянные, напоминают о литературном вкусе романтизма.
Мы располагаем двумя письмами Якубовича, написанными по прибытии этапом из Петербурга в Иркутск. Оба от августа 1826 г. Отцу Якубович писал: "О страданиях душевных и телесных не стану говорить. Вы из можете вообразить, представляя себе путешествие в 6 000 вёрст в телегах". В течение этого пути "Муравьёв (Артамон Захарович. - Н.К.) как зять министра финансов имел случай получить деньги и нас всех содержать дорогой". О себе Якубович сообщал: "...сто рублей и две рубашки было моё богатство". Он просил вознаградить деньгами некоего А.К. Седова, по-видимому, конвойного офицера за "всевозможные одолжения" во время этапа. Он надеялся на родительскую помощь: "Вы, конечно, захотите облегчить мою судьбу пособиями" - и указывал на генерал-губернатора Лавинского и губернатора Цейдлера, к которым следовало (через "знатного покровителя") обратиться на этот предмет.
Одновременно Якубович обращался к своему знакомому Ф.И. Гавриленко с просьбой уведомить отца о возможности обратиться за разрешением оказывать денежную помощь к губернатору Цейдлеру. Он также просил Гавриленко вознаградить "из оставшихся у вас моих денег" гвардейского жандарма Разумовского: "он пекся обо мне и несчастных моих товарищах с доброходством честного и добродетельного человека". Любопытно, что обременять отца вознаграждением Седова и Разумовского Якубович не решался. Видимо, он не переоценивал щедрости отца. Он, однако, не мог усомниться в том, что "дражайший родитель" (так обращался он к отцу) позаботится о сыне: "...прощайте и молю, не презирайте вашего несчастного сына".
Случилось худшее. Горечь и стыд за отцовское отступничество от обязанностей нравственных и уз естественных на всю глубину жгли сердце сына, и меру им знал он один. Для самолюбивого и впечатлительного Якубовича эта ситуация, вынуждавшая к тому же пользоваться денежной поддержкой соузников, была мучительна. Он так и не мог до конца поверить в случившееся, ловил доходившие изредка слухи об отце и родных, а в письмах к друзьям, знакомым, к сестре (наконец, вступившей с ним в переписку) спрашивал об отце любовно и уважительно. Друзья понимали, молчали и помогали. "Он имел несчастье в Сибири, - вспоминал А.Е. Розен, - что все родные забыли его, не писали, не помогали ему". В течение всего двадцатилетнего отрезка жизни Якубовича на каторге и в ссылке измена отца оставалась постоянно действующим фактором, расстраивавшим его нравственное здоровье.
Мы мало знаем о Якубовиче в первые годы каторги, когда он находился в Иркутском Усолье, Благодатском руднике и Читинском остроге. Несколько лучше документировано его пребывание на Петровском заводе, куда вместе с другими декабристами он был переведён в 1830 г. Но и самый ранний из относящихся к этому периоду каторги документ, дошедший до нас, относится лишь к февралю 1837 г. Это письмо Якубовича к А.А. Бестужеву-Марлинскому с оценкой его повести "Мулла-Нур". Оно и вводит в обстановку жизни узников Петровского завода, слушавших повесть (её читал вслух и комментировал Якубович), и объясняет причины их восхищения повестью.
Художественный стиль повести отвечал эстетическим вкусам декабристов, как декабристской была и оценка кавказских войн автором повести. По словам М.К. Азадовского, "признание необходимости кавказских войн сочетались у декабристов с резко отрицательным отношением к жестоким методам усмирения и к царившему на Кавказе произволу и насилию со стороны царской и военной администрации, естественно вызывавшими решительный протест горцев".
Узники Петровского завода, судя по их приёму повести Бестужева, не изменили своему отношению к кавказским войнам. Якубович, как никто из его друзей по заключению, мог судить о кавказских войнах, прославивших его имя искусством воевать, смягчая при этом эксцессы и высказывая уважение к побеждённым. Декабристская точка зрения на кавказские войны импонировала Якубовичу в повести "Мулла-Нур", но он продолжал обдумывать их, воспроизводить картины сражений и "усмирения" мирного населения, встававшие, как живые, в памяти, и приходил к выводам всё более решительным.
Два года с немногим спустя после отправки письма Бестужеву, он писал декабристу М.М. Спиридову: "Не могу понять, что заставило Беляевых после стольких лет поселения и при таком состоянии итти служить на Кавказ; несмотря на мой Дон-Кихотский дух и воспоминания, если бы я имел хотя 1/4 Беляевых состояния, то и калачом меня бы не заманили на кавказскую бойню".
Письма и записки Якубовича, относящиеся ко времени пребывания его на Петровском заводе, охватывают даты с февраля 1837 г. по март 1839 г. Они не содержат политических высказываний, донося, однако, неумолкающий голос протеста против положения жертвы политической расправы. Они отражают разные душевные состояния Якубовича - то живые и бодрые, как, например, при чтении повести "Мулла-Нур" в круге товарищей, то горестно-ироничные, язвительные, например, записка к плац-майору Петровского завода Я.Д. Казимирскому (1838-1839 гг.): "Его высокоблагородию милостивому государю, Якову Дмитриевичу Казимирскому.
Извините меня, сделайте одолжение, Яков Дмитриевич, что утруждаю вас просьбой в русско-тюремном роде, но нужда скачет, нужда пляшет, нужда песенки поёт; и я Лазаря пою, чтобы вы позволили принести от Давыдова мне рюмку водки. Погода исстрелянные мои кости ломает не на шутку, а aqua vitae универсальное лекарство. Имею честь быть вашим покорным слугою Александр Якубович".
Остальные письма и записки характеризуют Якубовича как человека доброго, душевного, доверчивого (порой до наивности), щедрого на благодарный отзыв за всякий, хотя бы и малый, знак внимания к его судьбе каторжанина. Его память берегла имена всех лиц независимо от их положения, от протекшего времени, кто выразил ему сочувствие как умел и как мог.
В письме от 1 августа 1838 г. Якубович обращался к Казимирскому, отправлявшемуся с женой Александрой Семёновной в поездку, в частности, и по тем местам, где прошли первые каторжные декабристов. Он писал:
"Милостивый государь, Яков Дмитриевич!
Напутное желание хотя не углажует дороги, не придаёт быстроты коням и даже не смазывает колёс, но если от сердца выльется, то имеет своё место в карете и на перекладной; и потому: желаю вам и Александре Семёновне щастливо совершить поездку и скорее возвратиться к нам; благодарю вас, что вы не забыли возвратиться в мою келью, сжать руку старого узника - позвольте просить васисполнить некоторые мои поручения в Нерчинске и по дороге: в Чите вы увидите тамошнего пристава Семёна Семёновича, фамилию забыл - виноват, сейчас вспомнил - Резанова. Поклонитесь ему - он при нас (слово неразборчиво. - Н.К.) был в Благодатском добрым человеком, а в Биянкиной Хрисанфу Петровичу Кандину усердно кланяюсь - помню его гостеприимство и незабвенную питую мадеру. Пётр Михайлович Черниговцев великодушным своим обращением и участием, которое он нам показывал, навсегда останется в памяти моего сердца. Сделайте одолжение, Яков Дмитриевич, передайте этим добрым людям мой сердечный привет и извините, что утруждаю вас моей слезницей.
Ваш покорный слуга Александр Якубович.
P.S. Александре Семёновне сверх желаний щастливой дороги - желаю памяти. Помнить по возвращении истинно уважающего её, аз многострадального. Вам же, Яков Дмитриевич, поневоле списки напомнят что под № 53-м прозябает растительной жизнью Ал. Якубович".
И это письмо не без чувства "русско-тюремного". И оно свидетельство "памяти сердца", пользуясь выражением самого Якубовича, памяти глубокой, взволнованной, памяти навсегда. И ещё одно свидетельство тому, что на самом "краю света", куда забросило декабристов самодержавие, свет оставался не без добрых людей, просто добрых и одновременно граждански добрых, сознававших более или менее высокие побуждения декабристов. И, наконец, письмо это, как и другие письма Якубовича, - свидетельство его литературной одарённости. Приведём ещё одно письмо:
"Милостивый государь, Яков Дмитриевич!
Простите, что утруждаю вас просьбой, но дела для моего сердца важное и потому обращаюсь к вам: если г-н Максимович (золотопромышленник, генерал-майор. Как следует из письма Якубовича имел отношение к его семье. - Н.К.) будет у вас и вы, запустив нравственный щуп в его душу, увидите, что он человек, у которого сердце с левой стороны и разум не помутился от канцелярского могущества и иркутского фимиама лести, то, сделайте милость, скажите ему, что у вас под стёклушком хранится бедный (слово неразборчиво) аз многогрешный, который желал бы его видеть и расспросить о родных. Знаю, что не радостный рассказ меня ожидает, но это необходимо для уравнения моих поступков; если он примет ваше предложение без гримасы, как после ревеню, то дайте мне знать, и я тогда обращусь к Григорию Максимовичу (Г.М. Ребиндер - комендант Петровского завода, после смерти С.Р. Лепарского. - Н.К.), чтобы видеть г-на Максимовича.
Кого только уважаешь, к тому обращаешься с подобной откровенностью. И вы, Яков Дмитриевич, видимо, примите мою просьбу как знак уважения, с каковым имею честь быть вашим покорным слугою. Александр Якубович".
Мы не знаем, с какой стороны находилось сердце у Максимовича, так как не располагаем известиями, сосоялась или нет встреча с ним Якубовича. Мысль о родных Якубовича не покидала, хотя всё ясней становилось ему, что ничего "радостного" ожидать от них не приходилось. Мучило Якубовича чувство стыда за родных перед товарищами по Петровскому заводу, унижала необходимость пользоваться их денежной поддержкой. Долгое время спустя Якубович ещё будет употреблять усилия, чтобы "выкупить Петровскую нищету". Мы весьма далеки от характеристики образа мыслей и интересов Якубовича в период его пребывания на Петровском заводе. Мы просто воспользовались материалами из архивов, относящихся к этому периоду, дабы добавить штрихи к образу этого не привлекшего большого внимания исследователей декабриста. Лишь из всей жизни и деятельности Якубовича, как она отразилась в источниках, находящихся в нашем распоряжении, встаёт его значительный и трагический образ. Добавим только, что в письмах петровского периода, окрашенных в разные эмоциональные тона, написанных в "русско-тюремном роде", Якубович предстаёт как политический узник, не сломленный судьбой, не растративший энергии, не отступивший от своих убеждений, готовый к деятельности.
В 1839 г. Якубович был освобождён из Петровского завода и поселён в деревне Малая Разводная верстах в пяти от Иркутска.
Метки: декабристы якубович |
Никита Кирсанов: "Случай Якубовича". Часть 3. |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов: "Случай Якубовича". Часть 3.
Второй петербургский отрезок жизни Якубовича начался в июне 1825 г. Он возвратился в столицу со сложившимися политическими убеждениями. Имел ли он какой-то выработанный план действий - сказать трудно. Наиболее вероятно, что те или иные действия он собирался предпринять смотря по обстоятельствам. Была лишь готовность к действиям, а конкретно, если обстоятельства к ним не будут располагать, Якубович стремился добиться обратного перевода из армии в гвардию. Это оставалось для него делом восстановления поруганной чести.
В столицу он прибыл по "высочайшему изволению" и, как заявил на следствии, "старался через генерала барона Дибича довести до сведения покойного государя мою службу... прося перевода в гвардию, с обратным назначением в Грузию, где в мирное время я видел более случаев к отличиям". Якубович говорил сущую правду. Сразу по прибытии в Петербург делу о переводе Якубовича в гвардию дан был ход. Уже 3 июля 1825 г. А.П. Толстой, адъютант Дибича, писал: "Несколько раз заходил к вам, любезнейший Александр Иванович, но не находил дома... Вот бумага, доказывающая, сколько занимается вами барон Дибич. Я буду просить вас дать некоторое понятие о делах, за которые вы были представлены (к переводу в гвардию. - Н.К.)".
Якубович прибегнул к личным связям ради перевода в гвардию. Отвечая Якубовичу но полученные от него письма, Денис Давыдов 24 августа 1825 г. сообщал из Москвы: "Сейчас я от Лариона Васильевича Васильчикова (генерал, член Государственного совета. - Н.К.), который по бивачным и боевым сношениям любит меня, как брата. Я его просил, чтоб он помог тебе, как бы он мне помог, - и взял с него на сей счёт слово, следовательно, непременно явись к нему, этого требует от тебя моя дружба. Он завтра едет в Петербург".
Июль-август 1825 г. занят был у Якубовича заботами, связанными с лечением головной раны. В цитировавшемся письме А.П. Толстого содержится вопрос: "Желаю знать, в какой день начнёте вы операцию", а в письме Давыдова читаем: "Слава богу, что операция кончилась счастливо, конечно, терзание было ужасное, но я боялся более, нежели терзания". И там же: "Когда я Васильчикову говорил об операции твоей и о том, что ты хвалишь оператора, он немедленно назвал Арнта". Следовательно, операция была сделана между 3 июля и 24 августа 1825 г. После операции (трепанация черепа, дважды произведённая без наркоза, которого в то время ещё не было) Якубович посетил Москву; едва ли это было ранее сентября 1825 г. Сохранилась записка Д.В. Давыдова (без обозначения числа и месяца), звавшего Якубовича в свой московский дом: "Брат Александр Иванович! Если ни к кому не позван сегодня обедать, приезжай похлебать солдатских щей у меня. Я обедаю ровно в 2 часа". С кем ещё встречался в Москве Якубович? Можно с уверенностью сказать, что встреча с Д.В. Давыдовым не была единственной. Он был "нарасхват" в Москве, как и в Петербурге.
Появление Якубовича в столицах приобрело значение общественного события, чему сверх военной и гражданской репутации, восторженного приёма друзей способствовала и удачная проба пера Якубовича - его "Отрывки о Кавказе", напечатанные в "Северной пчеле" в ноябре 1825 г. и замеченные А.С. Пушкиным, его артистическая, разносторонне одарённая натура. Знали ли в столицах Якубовича - акварелиста и рисовальщика? До нас его рисунки дошли. Это пейзажные и жанровые наблюдения - хваткие, острые, живые. Но в чём Якубович поистине не имел соперников, так это в искусстве устного импровизированного рассказа.
Один из его устных рассказов воспроизведён в мемуарах А.И. Штукенберга, инженера-путейца, встречавшегося в бытность в Восточной Сибири с декабристами-поселенцами (в 1836-1839 гг.). Это рассказ Якубовича о его дуэли с Грибоедовым. В рассказе смещены и даты, и реалии, смещены постольку, поскольку подчинены художественному жанру. Рассказ вовсе не безразличен правде самой личности Якубовича, артистичной, неисправимо романтической. Рассказ занимает 30 печатных строк, а перед нами законченная новелла, композиционно стройная, динамически развивающаяся и завершающаяся неожиданно. Чеканный язык - ни слова без функциональной нагрузки!
Понятно, что Якубович был радостно принят в литературно-театральной среде Петербурга: "Очень часто, - вспоминает П.А. Каратыгин о Якубовиче, - я встречал его в доме кн. Шаховского: личность его была весьма значительна". И дальше: "Любили мы с братом слушать его рассказы о кавказской жизни и молодецкой, боевой удали. Это был его любимый конёк, тут он был настоящий Демосфен. Дар слова у него был необыкновенный. Речь его лилась безостановочно; можно было думать, что он свои рассказы прежде приготовил и выучил их наизусть; каждое слово было на своём месте, и ни в одном он не затруднялся".
Из двух братьев Каратыгиных В.А. Каратыгин был знаменитым трагическим актёром. "Любили мы с братом слушать его красноречивые рассказы..." - признание высокое. На Кавказе Якубович действовал как романтический герой. Писал, судя по "Отрывкам о Кавказе", как романтический писатель. Среди любимых им прозаиков-современников А.А. Бестужев (Марлинский). И, приняв во внимание похвалу Каратыгиных, романтическим был и импровизаторский дар Якубовича-рассказчика.
А время шло. Лечение было кончено - с ним и отпуск. Что было делать? Возвращаться? Время шло, а дело не двигалось: в верхах подвиги и раны кавказской службы Якубовича ни во что не ставились. Старое оскорбление он переживал с новой остротой, тем болезненнее, чем сердечнее, чем отзывчивее был приём, оказанный ему в обширной среде друзей и знакомых. Отступать было не в характере Якубовича. Не о возвращении на Кавказ, о кардинальных политических переменах - чем скорее, тем лучше! - помышлял Якубович. Связи с декабристским окружением наверняка возобновились у него с первых дней возвращения в Петербург. Они педставляются более интенсивными в осень 1825 г., как и жизнь самих декабристских обществ стала в это время насыщенней и напряжённей.
На одной из очередных встреч тайного общества Якубович обратился к присутствующим: "Господа! Признаюсь, я не люблю никаких тайных обществ; по моему мнению, один решительный человек полезнее всех карбонариев и масонов. Я знаю, с кем говорю, и потому не буду таиться. Я жестоко оскорблён царём!" - он протянул Рылееву полуистлевший приказ об отчислении из гвардии: "Вот пилюля, которую я восемь лет ношу у ретивого; восемь лет жажду мщения... И наконец я здесь! и уверен, что ему не ускользнуть от меня. Тогда пользуйтесь случаем; делайте, что хотите! Созывайте ваш великий собор и дурачьтесь досыта". Аутентичность речи Якубовича, как она зафиксирована в материалах следствия, сомнений не вызывает. Он на всём протяжении следствия оставался смелым, прямым, резким, несмотря на нотки раскаяния и умения молчать, если откровенность грозила ему и товарищам.
С показаниями, уличающими Якубовича, выступили на следствии Рылеев, Бриген, Трубецкой, Никита Муравьёв, Пестель, Штейнгейль, Оболенский, Каховский, Сергей Муравьёв-Апостол, Александр и Николай Бестужевы, всего более 20 участников тайных обществ - лавина показаний! Они, между прочим, полнее всех источников, указывают на сеть идейных и личных связей Якубовича с декабристами - широкую и густую сеть, сложившуюся в течение первого и второго петербургских отрезков жизни Якубовича, кавказской службы, отлучек на Украину. Цитированная речь доносит живой голос Якубовича, как и аналогичное с ней объяснение А.А. Бестужеву, вошедшее в доклад следственной комиссии по делу восстания 14 декабря: "Не хочу принадлежать ни к какому Обществу, чтобы не плясать по чужой дудке: сделаю своё; вы пользуйтесь этим, как захотите" - и далее: "Я же постараюсь увлечь за собою войска или при неудаче застрелюсь: мне жизнь наскучила".
"Мне жизнь наскучила...", как относиться к этим словам 29-летнего Якубовича? Как к романтической фразе, однако имеющей значение более широкое и прямое. Личность, щедро одарённая, деятельная, "с умом и талантом" томилась и изнывала в ограниченных рамках жизнедеятельности, предписанных "высочайше". Не переставали напоминать Якубовичу и многочисленные ранения. "Страдающий душой и телом", - говорил он о себе на следствии. Этот мотив, нарастая, прозвучит в письмах и обращениях Якубовича в течение всего 20-летия, которое ему ещё предстояло прожить.
Недюжинной личности Якубовича ("с вашим дарованием и сделав уже себе имя в армии, вы можете для отечества своего быть полезнее" - реплика Рылеева Якубовичу) было тесно и томительно не в одних "высочайше" предписанных рамках, но и в рамках внутренних, заданных психологией и идеологией дворянина. Личность Якубовича перерастала их, но на путях ложных. "Созывайте ваш великий собор и дурачьтесь досыта", "не хочу принадлежать ни к какому Обществу, чтобы не плясать по чужой дудке" - как-будто всякое политическое учреждение - "дурачество", всякая организационная борьба - "плясание по чужой дудке".
Якубовичу не хотелось "плясать по чужой дудке". Он плясал, однако "по дудке" собственных страстей, изнывал в муках неутолимого самолюбия. Демона своего Якубович знал "в лицо", ненавидел и любил его, а потому и не мог одолеть. "Несчастное самолюбие и желание казаться необыкновенным, - показывал он, - вовлекли меня в погибель. В минуту отчаяния, страдающий душой и телом, когда мне сама жизнь была постыла, у меня вырвались преступные слова противу блаженной памяти покойного государя. Потом участие, похвалы, просьбы принадлежать Обществу (и посвятить себя, как они говорили, Отечеству), всё сие мне казалось необыкновенным, романтическим, и я в безумии на себя клепал ожесточение, и сочинил нелепую баснь 8-летней мести".
Конечно, мы не можем отвлекаться ни от душевного состояния Якубовича после катастрофы 14 декабря, ни от обстановки, в которой сделано это самообличение. И всё же его признания правдивы и искренни. Да, "несчастное самолюбие", "желание казаться необыкновенным" присущи были ему и двигали его поступками. "Участие" и "похвала" действительно сопровождали его в течение второго отрезка петербургской жизни, как до этого на Кавказе.
Произнесено было самим Якубовичем и ключевое, для характеристики его душевного склада, поступков, поведения слово - романтизм. Демон страстей, искушавших и поглощавших Якубовича, был законодателем и кумиром целой, правда весьма пёстрой, культурно-исторической генерации, как в России, так и в странах Западной Европы. Но как в бою Якубович сочетал бесстрашие с хладнокровием, так и страсти политические не помутили его общественного сознания. "В чаду страстей..." - сказал он следователям, объясняя свои слова и поступки. Что и говорить, без "чада страстей" не обходилось, но это не исключало наличия у Якубовича продуманных и зрелых социально-политических констатаций и прогнозов.
Не одну взлелеянную месть императору привёз он в Петербург, но и систему идей, без зазора укладывавшуюся в политическую программу Общества. В письме к Николаю I из крепости 28 декабря 1825 г. Якубович рассмотрел "положение всех сословий, входящих в состав империи". Первым разделом рассмотрения были "крестьяне", затем "воины", далее "купечество", "духовенство", наконец, "дворянство".
Теперь обратимся к разговорам между А.А. Бестужевым и Якубовичем. Они происходили в Петербурге ещё при жизни Александра I. Якубович показывал: "Когда в разговорах с Бестужевым я выставил несправедливости правительства в отношении ко мне, объяснил состояние солдата армии ("воины"), хлебопашца ("крестьяне") и дворянина ("дворянство"). Тогда он сказал о существовани Общества, которого цель добродеятелями, благородством и службой Отечеству ввести новые благодетельные перемены, и не допустить до решительного переворота Государство, которое по всем признакам близится к сей Эпохе, я восхитился этой мыслью, сказал: "Я ваш!.." Как видим, Якубович "объяснил" Бестужеву не меньше, чем Бестужев "объяснил" Якубовичу. "Пламенный любовник свободы" радостно бросился в объятия единомышленников.
Разноречия с Обществом произошли не до, а по вступлении в него Якубовича. Они были не программными, а тактическими. Якубович считал наиболее дееспособным (в качестве начала) "карающий кинжал", горячился, когда Рылеев и другие участники Общества отговаривали его от покушения, негодовал на них, когда умер Александр, - "это вы его вырвали у меня!". Сложными представляются и последующие отношения Якубовича с Обществом. "Командуя всегда авангардом..." - вспоминаются его слова о кавказской службе.
На этот раз он не командовал, а подчинялся, и не столь бесспорным политическим авторитетам, какими на военном поприще были Ермолов и Вельяминов. Смирился, когда Общество отклонило его от мести царю, смирился и тогда, когда Общество отвергло его план: "...разбить кабаки, позволить солдатам и черни грабёж, потом вынести из какой-нибудь церкви хоругви и итти ко дворцу". Разве перед лицом бунта "беспощадного" не прошиб бы властителей холодный пот? А не дать бунту перерасти в "бессмысленный" надлежало руководителям восстания, зависело от их умения согласовать и привести к цели действие разних сил. Якубович предлагал свой сценарий восстания, учитывавший многолетний опыт общения с солдатами в повседневности военного быта и в чрезвычайности боевых действий.
Роль, отведённая Якубовичу руководителями восстания, была важной, но не из заглавных, а ещё значимее то, что это была роль не в им разработанном "сценарии". Якубович настолько не проникся порученной ему ролью, что, ночью с 13 на 14 декабря посетив (в согласии с "ролью") гвардейский морской экипаж (и хорошо принятый), который предстояло вывести для захвата Зимнего дворца, ранним утром 14 декабря заявил Рылееву, что отказывается от поручения. Роль была не впору ни его самолюбию - фактор субъективный, но учёту подлежащий, ни знанию солдата и командирскому опыту - фактор объективный.
Небезынтересно, что день 13 декабря Якубович провёл на очередном рауте у драматурга князя А.А. Шаховского. Каким оказался коротким путь из всетского салона со знаменитыми писателями, прославленными артистами, важными генералами (день 13 декабря в доме Шаховского провёл и граф М.А. Милорадович) на завтрашнюю площадь Восстания! И хотя для исследователей этот короткий путь составляет тему, заслуживающую длительного обсуждения, нельзя не усмотреть здесь и свидетельства "рассеянного" отношения Якубовича к своей роли в событии 14 декабря, может быть, и скепсиса к замыслу события и его успеху. Так или иначе, в день восстания Якубович был с восставшими.
Он принял поручение Рылеева разведать ситуацию в стане противника, поручение рискованное и ответственное. Он его выполнил с успехом: Держитесь, вас крепко боятся!" - слова, ободрившие восставших и отвечавшие действительности. Д.В. Давыдову говорил генерал А.Н. Чеченский: "Вы знаете, что я умею ценить мужество, а потому поверите моим словам. Находясь в день 14 декабря близ государя, я во всё время наблюдал за ним. Я могу уверить честным словом, что у государя, бывшего во всё время весьма бледным, душа была в пятках. Не сомневайтесь в моих словах, я не привык врать".
Остальное, что последовало в этот и последующие дни, хорошо изучено и широко известно. На следствии Якубович не терял присутствия духа. Неосторожными показаниями не обременил участи друзей, пытался выйти в связь с ними, обходил расставленные следствием западни.
Его никогда не оставляла память о казнённых друзьях. В нём жили стихи Рылеева. До нас дошли листки с записанными Якубовичем стихами "Мне тошно здесь, как на чужбине..." и "О, милый друг, мне внятен голос твой...". К записанному добавил: "Сии стихи писал Кондратий Фёдорович Рылеев за три дня до сентенции и стуком в стену передал Е.П. Оболенскому 1826 г. 7 июля". И подписался: "Якубович. 1838 г. 18 января в Петровском заводе 10-м отделении № 53 каземата".
Когда ещё следствие по делу 14 декабря было в самом разгаре, в обстоятельствах вершившейся участи Якубовича возникла и исчезла фигура владельца более чем 2 000 крепостных душ его отца - Ивана Александровича Якубовича. В марте 1826 г. он появился в приёмной члена следственной комиссии, а потом Верховного уголовного суда по делу декабристов генерала В.В. Левашова. Просил о свидании с сыном, получив отказ, ретировался. Оставил и письменный след о посещении генерала: "Хотя на просьбу мою о свидани с сыном я получил от начальника штаба отказ, хотя с чувствами исполненными горечи и покрытый в будущности бесславием еду в моё уединение оплакивать участь сына моего, но всё же сие не уменьшает чувства моей благодарности к особе вашего превосходительства (В.В. Левашову. - Н.К.); приемлется вами участие в моей горести... исполнен буду душевного о вас почтения... Иван Якубович, предводитель дворянства Роменского уезда Полтавской губернии".
Нет, не ради свидания с сыном посетил столицу Иван Якубович. Он хотел засвидетельствовать собственную лояльность и благонамеренность. Он не "оплакивал" в своём "уединении" участь сына - он отрёкся от него: ни письма, ни привета, ни гроша денег сыну-каторжанину, потом ссыльнопоселенцу - так с начала и до конца. Среди родственников всей череды декабристов, конечно, были люди разные, на беду, постигшую декабристов, в разной степени отозвавшихся. Но предводитель дворянства Роменского уезда, богатейший крепостник-собственник, не имел равных (не имел и близких) себе по жестокосердию, лицемерию и раболепию...
Второй петербургский отрезок жизни Якубовича начался в июне 1825 г. Он возвратился в столицу со сложившимися политическими убеждениями. Имел ли он какой-то выработанный план действий - сказать трудно. Наиболее вероятно, что те или иные действия он собирался предпринять смотря по обстоятельствам. Была лишь готовность к действиям, а конкретно, если обстоятельства к ним не будут располагать, Якубович стремился добиться обратного перевода из армии в гвардию. Это оставалось для него делом восстановления поруганной чести.
В столицу он прибыл по "высочайшему изволению" и, как заявил на следствии, "старался через генерала барона Дибича довести до сведения покойного государя мою службу... прося перевода в гвардию, с обратным назначением в Грузию, где в мирное время я видел более случаев к отличиям". Якубович говорил сущую правду. Сразу по прибытии в Петербург делу о переводе Якубовича в гвардию дан был ход. Уже 3 июля 1825 г. А.П. Толстой, адъютант Дибича, писал: "Несколько раз заходил к вам, любезнейший Александр Иванович, но не находил дома... Вот бумага, доказывающая, сколько занимается вами барон Дибич. Я буду просить вас дать некоторое понятие о делах, за которые вы были представлены (к переводу в гвардию. - Н.К.)".
Якубович прибегнул к личным связям ради перевода в гвардию. Отвечая Якубовичу но полученные от него письма, Денис Давыдов 24 августа 1825 г. сообщал из Москвы: "Сейчас я от Лариона Васильевича Васильчикова (генерал, член Государственного совета. - Н.К.), который по бивачным и боевым сношениям любит меня, как брата. Я его просил, чтоб он помог тебе, как бы он мне помог, - и взял с него на сей счёт слово, следовательно, непременно явись к нему, этого требует от тебя моя дружба. Он завтра едет в Петербург".
Июль-август 1825 г. занят был у Якубовича заботами, связанными с лечением головной раны. В цитировавшемся письме А.П. Толстого содержится вопрос: "Желаю знать, в какой день начнёте вы операцию", а в письме Давыдова читаем: "Слава богу, что операция кончилась счастливо, конечно, терзание было ужасное, но я боялся более, нежели терзания". И там же: "Когда я Васильчикову говорил об операции твоей и о том, что ты хвалишь оператора, он немедленно назвал Арнта". Следовательно, операция была сделана между 3 июля и 24 августа 1825 г. После операции (трепанация черепа, дважды произведённая без наркоза, которого в то время ещё не было) Якубович посетил Москву; едва ли это было ранее сентября 1825 г. Сохранилась записка Д.В. Давыдова (без обозначения числа и месяца), звавшего Якубовича в свой московский дом: "Брат Александр Иванович! Если ни к кому не позван сегодня обедать, приезжай похлебать солдатских щей у меня. Я обедаю ровно в 2 часа". С кем ещё встречался в Москве Якубович? Можно с уверенностью сказать, что встреча с Д.В. Давыдовым не была единственной. Он был "нарасхват" в Москве, как и в Петербурге.
Появление Якубовича в столицах приобрело значение общественного события, чему сверх военной и гражданской репутации, восторженного приёма друзей способствовала и удачная проба пера Якубовича - его "Отрывки о Кавказе", напечатанные в "Северной пчеле" в ноябре 1825 г. и замеченные А.С. Пушкиным, его артистическая, разносторонне одарённая натура. Знали ли в столицах Якубовича - акварелиста и рисовальщика? До нас его рисунки дошли. Это пейзажные и жанровые наблюдения - хваткие, острые, живые. Но в чём Якубович поистине не имел соперников, так это в искусстве устного импровизированного рассказа.
Один из его устных рассказов воспроизведён в мемуарах А.И. Штукенберга, инженера-путейца, встречавшегося в бытность в Восточной Сибири с декабристами-поселенцами (в 1836-1839 гг.). Это рассказ Якубовича о его дуэли с Грибоедовым. В рассказе смещены и даты, и реалии, смещены постольку, поскольку подчинены художественному жанру. Рассказ вовсе не безразличен правде самой личности Якубовича, артистичной, неисправимо романтической. Рассказ занимает 30 печатных строк, а перед нами законченная новелла, композиционно стройная, динамически развивающаяся и завершающаяся неожиданно. Чеканный язык - ни слова без функциональной нагрузки!
Понятно, что Якубович был радостно принят в литературно-театральной среде Петербурга: "Очень часто, - вспоминает П.А. Каратыгин о Якубовиче, - я встречал его в доме кн. Шаховского: личность его была весьма значительна". И дальше: "Любили мы с братом слушать его рассказы о кавказской жизни и молодецкой, боевой удали. Это был его любимый конёк, тут он был настоящий Демосфен. Дар слова у него был необыкновенный. Речь его лилась безостановочно; можно было думать, что он свои рассказы прежде приготовил и выучил их наизусть; каждое слово было на своём месте, и ни в одном он не затруднялся".
Из двух братьев Каратыгиных В.А. Каратыгин был знаменитым трагическим актёром. "Любили мы с братом слушать его красноречивые рассказы..." - признание высокое. На Кавказе Якубович действовал как романтический герой. Писал, судя по "Отрывкам о Кавказе", как романтический писатель. Среди любимых им прозаиков-современников А.А. Бестужев (Марлинский). И, приняв во внимание похвалу Каратыгиных, романтическим был и импровизаторский дар Якубовича-рассказчика.
А время шло. Лечение было кончено - с ним и отпуск. Что было делать? Возвращаться? Время шло, а дело не двигалось: в верхах подвиги и раны кавказской службы Якубовича ни во что не ставились. Старое оскорбление он переживал с новой остротой, тем болезненнее, чем сердечнее, чем отзывчивее был приём, оказанный ему в обширной среде друзей и знакомых. Отступать было не в характере Якубовича. Не о возвращении на Кавказ, о кардинальных политических переменах - чем скорее, тем лучше! - помышлял Якубович. Связи с декабристским окружением наверняка возобновились у него с первых дней возвращения в Петербург. Они педставляются более интенсивными в осень 1825 г., как и жизнь самих декабристских обществ стала в это время насыщенней и напряжённей.
На одной из очередных встреч тайного общества Якубович обратился к присутствующим: "Господа! Признаюсь, я не люблю никаких тайных обществ; по моему мнению, один решительный человек полезнее всех карбонариев и масонов. Я знаю, с кем говорю, и потому не буду таиться. Я жестоко оскорблён царём!" - он протянул Рылееву полуистлевший приказ об отчислении из гвардии: "Вот пилюля, которую я восемь лет ношу у ретивого; восемь лет жажду мщения... И наконец я здесь! и уверен, что ему не ускользнуть от меня. Тогда пользуйтесь случаем; делайте, что хотите! Созывайте ваш великий собор и дурачьтесь досыта". Аутентичность речи Якубовича, как она зафиксирована в материалах следствия, сомнений не вызывает. Он на всём протяжении следствия оставался смелым, прямым, резким, несмотря на нотки раскаяния и умения молчать, если откровенность грозила ему и товарищам.
С показаниями, уличающими Якубовича, выступили на следствии Рылеев, Бриген, Трубецкой, Никита Муравьёв, Пестель, Штейнгейль, Оболенский, Каховский, Сергей Муравьёв-Апостол, Александр и Николай Бестужевы, всего более 20 участников тайных обществ - лавина показаний! Они, между прочим, полнее всех источников, указывают на сеть идейных и личных связей Якубовича с декабристами - широкую и густую сеть, сложившуюся в течение первого и второго петербургских отрезков жизни Якубовича, кавказской службы, отлучек на Украину. Цитированная речь доносит живой голос Якубовича, как и аналогичное с ней объяснение А.А. Бестужеву, вошедшее в доклад следственной комиссии по делу восстания 14 декабря: "Не хочу принадлежать ни к какому Обществу, чтобы не плясать по чужой дудке: сделаю своё; вы пользуйтесь этим, как захотите" - и далее: "Я же постараюсь увлечь за собою войска или при неудаче застрелюсь: мне жизнь наскучила".
"Мне жизнь наскучила...", как относиться к этим словам 29-летнего Якубовича? Как к романтической фразе, однако имеющей значение более широкое и прямое. Личность, щедро одарённая, деятельная, "с умом и талантом" томилась и изнывала в ограниченных рамках жизнедеятельности, предписанных "высочайше". Не переставали напоминать Якубовичу и многочисленные ранения. "Страдающий душой и телом", - говорил он о себе на следствии. Этот мотив, нарастая, прозвучит в письмах и обращениях Якубовича в течение всего 20-летия, которое ему ещё предстояло прожить.
Недюжинной личности Якубовича ("с вашим дарованием и сделав уже себе имя в армии, вы можете для отечества своего быть полезнее" - реплика Рылеева Якубовичу) было тесно и томительно не в одних "высочайше" предписанных рамках, но и в рамках внутренних, заданных психологией и идеологией дворянина. Личность Якубовича перерастала их, но на путях ложных. "Созывайте ваш великий собор и дурачьтесь досыта", "не хочу принадлежать ни к какому Обществу, чтобы не плясать по чужой дудке" - как-будто всякое политическое учреждение - "дурачество", всякая организационная борьба - "плясание по чужой дудке".
Якубовичу не хотелось "плясать по чужой дудке". Он плясал, однако "по дудке" собственных страстей, изнывал в муках неутолимого самолюбия. Демона своего Якубович знал "в лицо", ненавидел и любил его, а потому и не мог одолеть. "Несчастное самолюбие и желание казаться необыкновенным, - показывал он, - вовлекли меня в погибель. В минуту отчаяния, страдающий душой и телом, когда мне сама жизнь была постыла, у меня вырвались преступные слова противу блаженной памяти покойного государя. Потом участие, похвалы, просьбы принадлежать Обществу (и посвятить себя, как они говорили, Отечеству), всё сие мне казалось необыкновенным, романтическим, и я в безумии на себя клепал ожесточение, и сочинил нелепую баснь 8-летней мести".
Конечно, мы не можем отвлекаться ни от душевного состояния Якубовича после катастрофы 14 декабря, ни от обстановки, в которой сделано это самообличение. И всё же его признания правдивы и искренни. Да, "несчастное самолюбие", "желание казаться необыкновенным" присущи были ему и двигали его поступками. "Участие" и "похвала" действительно сопровождали его в течение второго отрезка петербургской жизни, как до этого на Кавказе.
Произнесено было самим Якубовичем и ключевое, для характеристики его душевного склада, поступков, поведения слово - романтизм. Демон страстей, искушавших и поглощавших Якубовича, был законодателем и кумиром целой, правда весьма пёстрой, культурно-исторической генерации, как в России, так и в странах Западной Европы. Но как в бою Якубович сочетал бесстрашие с хладнокровием, так и страсти политические не помутили его общественного сознания. "В чаду страстей..." - сказал он следователям, объясняя свои слова и поступки. Что и говорить, без "чада страстей" не обходилось, но это не исключало наличия у Якубовича продуманных и зрелых социально-политических констатаций и прогнозов.
Не одну взлелеянную месть императору привёз он в Петербург, но и систему идей, без зазора укладывавшуюся в политическую программу Общества. В письме к Николаю I из крепости 28 декабря 1825 г. Якубович рассмотрел "положение всех сословий, входящих в состав империи". Первым разделом рассмотрения были "крестьяне", затем "воины", далее "купечество", "духовенство", наконец, "дворянство".
Теперь обратимся к разговорам между А.А. Бестужевым и Якубовичем. Они происходили в Петербурге ещё при жизни Александра I. Якубович показывал: "Когда в разговорах с Бестужевым я выставил несправедливости правительства в отношении ко мне, объяснил состояние солдата армии ("воины"), хлебопашца ("крестьяне") и дворянина ("дворянство"). Тогда он сказал о существовани Общества, которого цель добродеятелями, благородством и службой Отечеству ввести новые благодетельные перемены, и не допустить до решительного переворота Государство, которое по всем признакам близится к сей Эпохе, я восхитился этой мыслью, сказал: "Я ваш!.." Как видим, Якубович "объяснил" Бестужеву не меньше, чем Бестужев "объяснил" Якубовичу. "Пламенный любовник свободы" радостно бросился в объятия единомышленников.
Разноречия с Обществом произошли не до, а по вступлении в него Якубовича. Они были не программными, а тактическими. Якубович считал наиболее дееспособным (в качестве начала) "карающий кинжал", горячился, когда Рылеев и другие участники Общества отговаривали его от покушения, негодовал на них, когда умер Александр, - "это вы его вырвали у меня!". Сложными представляются и последующие отношения Якубовича с Обществом. "Командуя всегда авангардом..." - вспоминаются его слова о кавказской службе.
На этот раз он не командовал, а подчинялся, и не столь бесспорным политическим авторитетам, какими на военном поприще были Ермолов и Вельяминов. Смирился, когда Общество отклонило его от мести царю, смирился и тогда, когда Общество отвергло его план: "...разбить кабаки, позволить солдатам и черни грабёж, потом вынести из какой-нибудь церкви хоругви и итти ко дворцу". Разве перед лицом бунта "беспощадного" не прошиб бы властителей холодный пот? А не дать бунту перерасти в "бессмысленный" надлежало руководителям восстания, зависело от их умения согласовать и привести к цели действие разних сил. Якубович предлагал свой сценарий восстания, учитывавший многолетний опыт общения с солдатами в повседневности военного быта и в чрезвычайности боевых действий.
Роль, отведённая Якубовичу руководителями восстания, была важной, но не из заглавных, а ещё значимее то, что это была роль не в им разработанном "сценарии". Якубович настолько не проникся порученной ему ролью, что, ночью с 13 на 14 декабря посетив (в согласии с "ролью") гвардейский морской экипаж (и хорошо принятый), который предстояло вывести для захвата Зимнего дворца, ранним утром 14 декабря заявил Рылееву, что отказывается от поручения. Роль была не впору ни его самолюбию - фактор субъективный, но учёту подлежащий, ни знанию солдата и командирскому опыту - фактор объективный.
Небезынтересно, что день 13 декабря Якубович провёл на очередном рауте у драматурга князя А.А. Шаховского. Каким оказался коротким путь из всетского салона со знаменитыми писателями, прославленными артистами, важными генералами (день 13 декабря в доме Шаховского провёл и граф М.А. Милорадович) на завтрашнюю площадь Восстания! И хотя для исследователей этот короткий путь составляет тему, заслуживающую длительного обсуждения, нельзя не усмотреть здесь и свидетельства "рассеянного" отношения Якубовича к своей роли в событии 14 декабря, может быть, и скепсиса к замыслу события и его успеху. Так или иначе, в день восстания Якубович был с восставшими.
Он принял поручение Рылеева разведать ситуацию в стане противника, поручение рискованное и ответственное. Он его выполнил с успехом: Держитесь, вас крепко боятся!" - слова, ободрившие восставших и отвечавшие действительности. Д.В. Давыдову говорил генерал А.Н. Чеченский: "Вы знаете, что я умею ценить мужество, а потому поверите моим словам. Находясь в день 14 декабря близ государя, я во всё время наблюдал за ним. Я могу уверить честным словом, что у государя, бывшего во всё время весьма бледным, душа была в пятках. Не сомневайтесь в моих словах, я не привык врать".
Остальное, что последовало в этот и последующие дни, хорошо изучено и широко известно. На следствии Якубович не терял присутствия духа. Неосторожными показаниями не обременил участи друзей, пытался выйти в связь с ними, обходил расставленные следствием западни.
Его никогда не оставляла память о казнённых друзьях. В нём жили стихи Рылеева. До нас дошли листки с записанными Якубовичем стихами "Мне тошно здесь, как на чужбине..." и "О, милый друг, мне внятен голос твой...". К записанному добавил: "Сии стихи писал Кондратий Фёдорович Рылеев за три дня до сентенции и стуком в стену передал Е.П. Оболенскому 1826 г. 7 июля". И подписался: "Якубович. 1838 г. 18 января в Петровском заводе 10-м отделении № 53 каземата".
Когда ещё следствие по делу 14 декабря было в самом разгаре, в обстоятельствах вершившейся участи Якубовича возникла и исчезла фигура владельца более чем 2 000 крепостных душ его отца - Ивана Александровича Якубовича. В марте 1826 г. он появился в приёмной члена следственной комиссии, а потом Верховного уголовного суда по делу декабристов генерала В.В. Левашова. Просил о свидании с сыном, получив отказ, ретировался. Оставил и письменный след о посещении генерала: "Хотя на просьбу мою о свидани с сыном я получил от начальника штаба отказ, хотя с чувствами исполненными горечи и покрытый в будущности бесславием еду в моё уединение оплакивать участь сына моего, но всё же сие не уменьшает чувства моей благодарности к особе вашего превосходительства (В.В. Левашову. - Н.К.); приемлется вами участие в моей горести... исполнен буду душевного о вас почтения... Иван Якубович, предводитель дворянства Роменского уезда Полтавской губернии".
Нет, не ради свидания с сыном посетил столицу Иван Якубович. Он хотел засвидетельствовать собственную лояльность и благонамеренность. Он не "оплакивал" в своём "уединении" участь сына - он отрёкся от него: ни письма, ни привета, ни гроша денег сыну-каторжанину, потом ссыльнопоселенцу - так с начала и до конца. Среди родственников всей череды декабристов, конечно, были люди разные, на беду, постигшую декабристов, в разной степени отозвавшихся. Но предводитель дворянства Роменского уезда, богатейший крепостник-собственник, не имел равных (не имел и близких) себе по жестокосердию, лицемерию и раболепию...
Метки: декабристы якубович |
Никита Кирсанов: "Случай Якубовича". Часть 2. |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов: "Случай Якубовича". Часть 2.
Когда "высочайше" разжалованный лейб-гвардии корнет прибыл к месту назначения, чтобы в звании прапорщика начать службу в армейской части, он убедился, что далёкая обочина страны вовсе не была окраиной общественной жизни. В Грузии первых десятилетий XIX в. сложилась близко связанная с русской культурой, хотя и немногочисленная ещё, среда местной передовой интеллигенции, пламенной душой и выдающимся умом которой был А.Г. Чавчавадзе. 1819-м годом датируют начало первого периодического издания в Грузии - "Газета Грузии". В офицерских кругах расквартированной в Грузии русской армии многие лица отличались широтой интересов, вниманием ко всему живому, что было характерно для русской общественной мысли в Петербурге и Москве. Складывались в традицию и общение с местной прогрессивной интеллигенцией, и не стеснённое формальностями общение друг с другом офицеров, находившихся на разных степенях военной иерархии, наконец, уважительное отношение к личному достоинству и житейским необходимостям рядового состава. В Тифлисе, Кара-Агаче, Цинандали (имении Чавчавадзе) сложились и действовали культурные и политические очаги, в которых "легко дышалось" и русским опальным людям.
Якубович провёл в Кавказском корпусе семь с половиной лет. Здесь выявились и развернулись недюжинные силы его личности, нашёл выход опыт гражданский и военный, жаждавший применения и грубо оборванный в Петербурге. Опыт "бурных дней Кавказа" однозначным не был, конечно, способствовал обогащающей работе Якубовича над самим собой, но выход его мятежному духу указан был положением военного, находившегося в составе действующей армии. Здесь, на военном поприще, Якубовичу и предстояло показать поистине чудеса личного бесстрашия и отваги, изобретательность и новаторство тактических решений, умение находить общий язык с офицерами и, что особенно примечательно, с рядовым составом. Кавказский отрезок жизни Якубовича, очень насыщенный как военными событиями, так и связями и общениями на почве преддекабристских идей по напряжённости, полноте общественных интересов ничуть не уступал всему, что стало достоянием и жило в нём благодаря заграничным походам и последующим годам, проведённым в столице. Знакомясь с источниками, служащими реконструкцией кавказского периода жизни и деятельности Якубовича, мы убеждаемся, как и следовало ожидать, в односторонности их: об его участии в кавказских войнах мы узнаём много больше, чем об участии в общественно-политической жизни передовых русско-грузинских кругов этого времени. Но при отличии этих сфер жизнедеятельности Якубовича "герой" их оставался один - отличались лишь точки приложения, применения его сил.
Боевые соединения, в которых участвовал Якубович, действовали в Дагестане (1820 г.), Кабарде (1821-1822 гг.), Закубанье (1823-1824 гг.). Военная экспедиция 1820 г., особенно летом принесла первые лавры Якубовичу. Он командовал "мусульманской конницей" и, как писал о нём А.П. Ермолов, "в бою, при овладении высотами, отличил себя поистине блистательной храбростью", за что и был произведён из прапорщиков в штабс-капитаны. На Кабардинском театре военных действий Якубович выступал во всеоружии боевого опыта и знаний: "...имел вполне самостоятельный круг действий и подчинялся непосредственно только начальнику войск в Кабарде". По словам военного историка В. Потто, "для Якубовича этот период времени был временем неустанной военной деятельности, в котором с блеском выразилась вся его предприимчивая и страстная натура". И, наконец, Закубанье. Первая военная экспедиция имела место летом 1823 г., вторая - с осени 1823 г. и по осень 1824 г. И опять Якубович отличился и доблестью, и воинским искусством. За участие в первой экспедиции он был награждён орденом Владимира 4-й степени с бантом, а за участие во второй, 14 июня 1824 г. произведён в капитаны.
В.А. Потто в своих военно-исторических трудах, основанных на широкой базе источников, красочно передающих самый колорит событий, конкретные черты лиц - участников их, пишет: "Было что-то легендарное в этих набегах Якубовича... Рассказы о нём тогда ходили по целому Кавказу. Отважнейшие черкесские князья, и даже самый знаменитый в то время Джембулат Болотоков искали его дружбы и гордились быть его кунаками. Они ценили в нём великодушие, верность данному слову и рыцарское обращение с пленными, особенно с женщинами. Последних Якубович отпускал всегда без выкупа. Одну красавицу-княгиню он даже отвёз в горы сам и лично передал мужу. Признательный князь отпустил тогда с Якубовичем всех бывших у него русских пленных".
И ещё: в 1823 г. горец "выстрелил в упор, и пуля, ударив в лоб, прошла над правым глазом через весь череп... В лагере Якубовича считали раненым смертельно; лучшие доктора давали ему несколько часов жизни. Но железная натура его всё превозмогла, и через сутки, бледный, с повязанной головой, он уже ехал верхом перед своими линейцами. Горцы считали его заколдованным.
Забытый в снежных пустынях азиатского севера, он оставался долго в памяти тех, с кем вместе на южной окраине дорогой родины боролся за будущий мир и гражданское процветание плодоносного края, которому только воинственные предания старины и мешали выступить из периода умственного застоя и вековой неподвижности бытия и понятия. И не только в памяти товарищей по окружению - Якубович жил и в памяти самих врагов, уважавших в нём его рыцарственные качества, представлявшие редкое сочетание безумной отваги с полным хладнокровием в бою и с умением побеждать - умение уважать и ценить доблести побеждённого".
Как рыцарь, устремлённый к цели, Якубович действовал без оглядки, пренебрегая трудностями, опираясь прежде всего на решимость, пыл, знание приёмов и психологии противника, не отказывая и ему в "рыцарственных качествах". И побеждал - как в согласии с логикой, так и, казалось бы, логике вопреки. Всегда и во всём - лишь бы привлекало поле деятельности - он первенствовал. "... Командуя всегда авангардом отрядов, довёл себя до полного изнурения..." - показывал о себе Якубович на следствии. "Полное изнурение" - следствие полной самоотдачи. Много лет спустя, уже будучи на поселении, Якубович сам взглянет на себя со стороны и поиронизирует: "Несмотря на мой Дон-Кихотский дух..." и т.д.
Это был герой, чья судьба, внутренний образ и внешний облик, поведение, действия удивляли и увлекали тех, кто встречался с ним или слышал о нём не менее, чем романтические герои "восточных поэм" Байрона и "южных поэм" Пушкина. Героям Байрона Якубович был ближе своей монодраматичностью. Ареной деятельности его, как и у героев литературного романтизма, были земли с необычайным ландшафтом, особенно Дагестан и Кабарда, быт их населения отличался экзотичностью - всё здесь дышало поэзией не одомашненной, не прирученной. "Якубович так сроднился с обычаями горцев и образом войны их, - писал Потто, - что не отличался от них ни одеждой, ни вооружением, ни искусством в наездничестве". Герой исключительный, что выражалось и в самой внешности его: рослый, широкоплечий, стройный, черноволосый, длинноусый, большеглазый, быстрый в движениях - таким его описали современники. Но, выступая в качестве героя романтического, Якубович пристально вглядывался в современность. Он и действовал в годы кавказского изгнанничества не только на полях сражений, но и на поле общественно-идейной жизни.
Не подлежит сомнению влияние на Якубовича А.П. Ермолова и его начальника штаба А.А. Вельяминова, людей замечательных, наделённых силой ума и воли, одарённых, свободомыслящих. Не подлежат сомнению нити взаимных симпатий, протянувшиеся между Ермоловым, Вельяминовым и Якубовичем. Ермолов считал его отличным офицером, ходатайствовал о его награждении и неоднократно о переводе из армии в гвардию. Едва ли это были только отношения между высокопоставленным генералом и признанным за храбрость и умение офицером. Ермолов, как и Вельяминов, испытывал презрение к деспотизму и отвращение к крепостничеству, следуя, однако, аксиоме из Екклезиаста: "время глаголати, и время молчати". Трудно представить, что они не знали в одном из любимых офицеров ничего, кроме его воинских достоинств. Вельяминов был с Якубовичем "накоротке", несмотря на разницу занимаемых положений. Свидетельство - дошедшее до нас письмо Вельяминова к Якубовичу из Закубанья на кавказские воды 18 августа 1823 г.: товарищеская свобода обращения и уважительный тон! "Всегда преданный А. Вельяминов" - не дежурная любезность в конце письма, а выражение чувства от души испытываемого.
Якубович навсегда запечатлел образ Ермолова. Находясь на каторге и поселении, он следил за его судьбой. Он знал об опале, которой подвергся Ермолов уже в первые годы царствования Николая I, о его вынужденной отставке.
Якубовичу выпал случай отдать дань благодарности и уважения Ермолову. В письме к О.А. Лепарскому из каземата в Петровском заводе Якубович (в марте 1838 г.) обращался с просьбой: "Вы увидите моего благодетеля - Алексея Петровича Ермолова - скажите ему, что в шахтах и штольнях Благодатска его имя было прославляемо (очевидно, не одним Якубовичем, но и другими декабристами). Отдайте ему при сем прилагаемый крест. 20 лет тому назад, умирая, рядовой его мне завещал, а я, ссыльно-каторжный, посылаю его бывшему моему генералу".
Общение с Ермоловым и Вельяминовым, с передовой русской и грузинской молодёжью, группировавшейся в нескольких очагах политической и культурной жизни Грузии, и не на последнем месте закалявшая и воспитывавшая характер боевая практика в составе действующей армии - всё это образовало Якубовича таким, каким мы его знаем в качестве одного из видных и ярких деятелей декабристского движения. В.К. Кюхельбекер в письме из Тифлиса (куда он попал не по доброй воле) к поэту В.И. Туманскому 18 ноября 1821 г. писал: "Письмо моё будет к тебе доставлено Александром Ивановичем Якубовичем, - ты его, верно, знаешь по слуху; советую тебе с ним познакомиться, - он человек, исполненный чувства и благородства и пламенный любовник свободы". Характеристика знаменательная. О существовании "тайного общества" Кюхельбекер знал уже в 1817-1818 гг. Немалый интерес вызывает и то, что Якубович взял письмо Кюхельбекера, чтобы вручить его Туманскому лично. Следовательно, в конце 1821 г. (быть может, в ноябре) Якубович выезжал с Кавказа. Куда? В формуляре о прохождении Якубовичем кавказской службы указаний на его отлучку в это время нет. Всего вероятнее, что Якубович выезжал на Украину, в губернии Полтавскую и Черниговскую. На Украину из Петербурга в сентябре 1821 г. уехал Туманский. Нет в этом формуляре указаний и на другую отлучку Якубовича из армии, о которой мы узнаём лишь с его собственных слов на следствии: "Быв в отпуску на 28-мь дней в 1822-м году в Малороссии, я виделся с графом Завадовским - убийцей моего друга, виновником моих бедствий, который не только пред властями, но и у отца моего умел меня очернить, я и с ним примирился, простил всё прошедшее..."
Здесь возникают вопросы. Письмо Кюхельбекера Туманскому, в котором Якубович назван "пламенным любовником свободы", не рекомендательное ли? Не завязывались ли через посредство Туманского связи Якубовича с дворянскими революционерами, теперь уже не столичными - как раз в 1821 г. на Украине образовалось Южное общество декабристов? И как провёл Якубович другой, не зарегистрированный полковой канцелярией месячный отпуск на Украине в 1822 г.? Для примирения с Завадовским? Правда, имеется информация, убеждающая в том, что Якубович какое-то время провёл под родительским кровом. Очернённый в глазах отца, Якубович искал примирения. В прошлом, 1821 г., по-видимому, это не удалось. Но у Якубовича-отца глаза были велики от страха перед "высочайшей" немилостью к его сыну, Завадовский к этому страху мало что мог прибавить. Кажется, и в 1822 г. примирение между отцом и сыном не состоялось. Новый отпуск, на этот раз в формуляр занесённый, начался в ноябре 1824 г. (в Петербурге Якубович появился в июне 1825 г.). Он опять провёл более полугода на Украине. Есть указание в его следственном деле о полученном от отца согласии выделить ему (в случае выхода в отставку) долю помещичьих владений и о посредничестве в этом деле третьего лица (Ф.И. Гавриленко). Если в делах между отцом и сыном требовался посредник, то и примирение их представляется сомнительным. Якубович-старший показал себя человеком малодушным, бросившим, как выяснится из дальнейшего, сына на произвол предержащей власти. И вопрос о том, как именно использовал А.И. Якубович свой последний отпуск осенью 1824 г., пока остаётся открытым.
Так или иначе, но в ноябре 1824 г. Якубович покинул Кавказ. О водовороте событий, поглотивших его год с небольшим спустя, едва ли он и предполагал. Но внутренне готов был к событиям большим, может быть чрезвычайным. В течение кавказского периода жизни и деятельности определились своеобразие личности Якубовича-декабриста. Человеком, захваченным и ведомым одною страстью, мы бы его не назвали. Это был действительно "ум просвещённый" (определение Д.В. Давыдова), способный объять мыслью всю картину современного ему общества, вникнуть в положение классов и сословий, осознать историческую обречённость институтов и учреждений крепостничества. Но не в этом своеобразие Якубовича-декабриста. Пути, на которых, только и было возможно Якубовичу самовыразиться и самоутвердиться на Кавказе, самовыразиться так блистательно и самоутвердиться так прочно, что молва о нём и доходила до столичных центров, и опережала его в сражениях - враги трепетали перед одним именем его! Пути эти вели к осознанию собственной исторической исключительности. Якубович сам верил в свою легенду - да и, в самом деле, разве не чудеса изобретательности и отваги сопровождали и венчали его боевой путь! Якубович как свою играл роль романтического героя. Так играл, что слился с ролью, а роль как бы испробовала в нём свои пределы.
Всё это окончательно выяснится в Петербурге, куда, заметим, он привезёт и неизжитую ненависть к самодержцу, с которой много лет назад покинул столицу...
Когда "высочайше" разжалованный лейб-гвардии корнет прибыл к месту назначения, чтобы в звании прапорщика начать службу в армейской части, он убедился, что далёкая обочина страны вовсе не была окраиной общественной жизни. В Грузии первых десятилетий XIX в. сложилась близко связанная с русской культурой, хотя и немногочисленная ещё, среда местной передовой интеллигенции, пламенной душой и выдающимся умом которой был А.Г. Чавчавадзе. 1819-м годом датируют начало первого периодического издания в Грузии - "Газета Грузии". В офицерских кругах расквартированной в Грузии русской армии многие лица отличались широтой интересов, вниманием ко всему живому, что было характерно для русской общественной мысли в Петербурге и Москве. Складывались в традицию и общение с местной прогрессивной интеллигенцией, и не стеснённое формальностями общение друг с другом офицеров, находившихся на разных степенях военной иерархии, наконец, уважительное отношение к личному достоинству и житейским необходимостям рядового состава. В Тифлисе, Кара-Агаче, Цинандали (имении Чавчавадзе) сложились и действовали культурные и политические очаги, в которых "легко дышалось" и русским опальным людям.
Якубович провёл в Кавказском корпусе семь с половиной лет. Здесь выявились и развернулись недюжинные силы его личности, нашёл выход опыт гражданский и военный, жаждавший применения и грубо оборванный в Петербурге. Опыт "бурных дней Кавказа" однозначным не был, конечно, способствовал обогащающей работе Якубовича над самим собой, но выход его мятежному духу указан был положением военного, находившегося в составе действующей армии. Здесь, на военном поприще, Якубовичу и предстояло показать поистине чудеса личного бесстрашия и отваги, изобретательность и новаторство тактических решений, умение находить общий язык с офицерами и, что особенно примечательно, с рядовым составом. Кавказский отрезок жизни Якубовича, очень насыщенный как военными событиями, так и связями и общениями на почве преддекабристских идей по напряжённости, полноте общественных интересов ничуть не уступал всему, что стало достоянием и жило в нём благодаря заграничным походам и последующим годам, проведённым в столице. Знакомясь с источниками, служащими реконструкцией кавказского периода жизни и деятельности Якубовича, мы убеждаемся, как и следовало ожидать, в односторонности их: об его участии в кавказских войнах мы узнаём много больше, чем об участии в общественно-политической жизни передовых русско-грузинских кругов этого времени. Но при отличии этих сфер жизнедеятельности Якубовича "герой" их оставался один - отличались лишь точки приложения, применения его сил.
Боевые соединения, в которых участвовал Якубович, действовали в Дагестане (1820 г.), Кабарде (1821-1822 гг.), Закубанье (1823-1824 гг.). Военная экспедиция 1820 г., особенно летом принесла первые лавры Якубовичу. Он командовал "мусульманской конницей" и, как писал о нём А.П. Ермолов, "в бою, при овладении высотами, отличил себя поистине блистательной храбростью", за что и был произведён из прапорщиков в штабс-капитаны. На Кабардинском театре военных действий Якубович выступал во всеоружии боевого опыта и знаний: "...имел вполне самостоятельный круг действий и подчинялся непосредственно только начальнику войск в Кабарде". По словам военного историка В. Потто, "для Якубовича этот период времени был временем неустанной военной деятельности, в котором с блеском выразилась вся его предприимчивая и страстная натура". И, наконец, Закубанье. Первая военная экспедиция имела место летом 1823 г., вторая - с осени 1823 г. и по осень 1824 г. И опять Якубович отличился и доблестью, и воинским искусством. За участие в первой экспедиции он был награждён орденом Владимира 4-й степени с бантом, а за участие во второй, 14 июня 1824 г. произведён в капитаны.
В.А. Потто в своих военно-исторических трудах, основанных на широкой базе источников, красочно передающих самый колорит событий, конкретные черты лиц - участников их, пишет: "Было что-то легендарное в этих набегах Якубовича... Рассказы о нём тогда ходили по целому Кавказу. Отважнейшие черкесские князья, и даже самый знаменитый в то время Джембулат Болотоков искали его дружбы и гордились быть его кунаками. Они ценили в нём великодушие, верность данному слову и рыцарское обращение с пленными, особенно с женщинами. Последних Якубович отпускал всегда без выкупа. Одну красавицу-княгиню он даже отвёз в горы сам и лично передал мужу. Признательный князь отпустил тогда с Якубовичем всех бывших у него русских пленных".
И ещё: в 1823 г. горец "выстрелил в упор, и пуля, ударив в лоб, прошла над правым глазом через весь череп... В лагере Якубовича считали раненым смертельно; лучшие доктора давали ему несколько часов жизни. Но железная натура его всё превозмогла, и через сутки, бледный, с повязанной головой, он уже ехал верхом перед своими линейцами. Горцы считали его заколдованным.
Забытый в снежных пустынях азиатского севера, он оставался долго в памяти тех, с кем вместе на южной окраине дорогой родины боролся за будущий мир и гражданское процветание плодоносного края, которому только воинственные предания старины и мешали выступить из периода умственного застоя и вековой неподвижности бытия и понятия. И не только в памяти товарищей по окружению - Якубович жил и в памяти самих врагов, уважавших в нём его рыцарственные качества, представлявшие редкое сочетание безумной отваги с полным хладнокровием в бою и с умением побеждать - умение уважать и ценить доблести побеждённого".
Как рыцарь, устремлённый к цели, Якубович действовал без оглядки, пренебрегая трудностями, опираясь прежде всего на решимость, пыл, знание приёмов и психологии противника, не отказывая и ему в "рыцарственных качествах". И побеждал - как в согласии с логикой, так и, казалось бы, логике вопреки. Всегда и во всём - лишь бы привлекало поле деятельности - он первенствовал. "... Командуя всегда авангардом отрядов, довёл себя до полного изнурения..." - показывал о себе Якубович на следствии. "Полное изнурение" - следствие полной самоотдачи. Много лет спустя, уже будучи на поселении, Якубович сам взглянет на себя со стороны и поиронизирует: "Несмотря на мой Дон-Кихотский дух..." и т.д.
Это был герой, чья судьба, внутренний образ и внешний облик, поведение, действия удивляли и увлекали тех, кто встречался с ним или слышал о нём не менее, чем романтические герои "восточных поэм" Байрона и "южных поэм" Пушкина. Героям Байрона Якубович был ближе своей монодраматичностью. Ареной деятельности его, как и у героев литературного романтизма, были земли с необычайным ландшафтом, особенно Дагестан и Кабарда, быт их населения отличался экзотичностью - всё здесь дышало поэзией не одомашненной, не прирученной. "Якубович так сроднился с обычаями горцев и образом войны их, - писал Потто, - что не отличался от них ни одеждой, ни вооружением, ни искусством в наездничестве". Герой исключительный, что выражалось и в самой внешности его: рослый, широкоплечий, стройный, черноволосый, длинноусый, большеглазый, быстрый в движениях - таким его описали современники. Но, выступая в качестве героя романтического, Якубович пристально вглядывался в современность. Он и действовал в годы кавказского изгнанничества не только на полях сражений, но и на поле общественно-идейной жизни.
Не подлежит сомнению влияние на Якубовича А.П. Ермолова и его начальника штаба А.А. Вельяминова, людей замечательных, наделённых силой ума и воли, одарённых, свободомыслящих. Не подлежат сомнению нити взаимных симпатий, протянувшиеся между Ермоловым, Вельяминовым и Якубовичем. Ермолов считал его отличным офицером, ходатайствовал о его награждении и неоднократно о переводе из армии в гвардию. Едва ли это были только отношения между высокопоставленным генералом и признанным за храбрость и умение офицером. Ермолов, как и Вельяминов, испытывал презрение к деспотизму и отвращение к крепостничеству, следуя, однако, аксиоме из Екклезиаста: "время глаголати, и время молчати". Трудно представить, что они не знали в одном из любимых офицеров ничего, кроме его воинских достоинств. Вельяминов был с Якубовичем "накоротке", несмотря на разницу занимаемых положений. Свидетельство - дошедшее до нас письмо Вельяминова к Якубовичу из Закубанья на кавказские воды 18 августа 1823 г.: товарищеская свобода обращения и уважительный тон! "Всегда преданный А. Вельяминов" - не дежурная любезность в конце письма, а выражение чувства от души испытываемого.
Якубович навсегда запечатлел образ Ермолова. Находясь на каторге и поселении, он следил за его судьбой. Он знал об опале, которой подвергся Ермолов уже в первые годы царствования Николая I, о его вынужденной отставке.
Якубовичу выпал случай отдать дань благодарности и уважения Ермолову. В письме к О.А. Лепарскому из каземата в Петровском заводе Якубович (в марте 1838 г.) обращался с просьбой: "Вы увидите моего благодетеля - Алексея Петровича Ермолова - скажите ему, что в шахтах и штольнях Благодатска его имя было прославляемо (очевидно, не одним Якубовичем, но и другими декабристами). Отдайте ему при сем прилагаемый крест. 20 лет тому назад, умирая, рядовой его мне завещал, а я, ссыльно-каторжный, посылаю его бывшему моему генералу".
Общение с Ермоловым и Вельяминовым, с передовой русской и грузинской молодёжью, группировавшейся в нескольких очагах политической и культурной жизни Грузии, и не на последнем месте закалявшая и воспитывавшая характер боевая практика в составе действующей армии - всё это образовало Якубовича таким, каким мы его знаем в качестве одного из видных и ярких деятелей декабристского движения. В.К. Кюхельбекер в письме из Тифлиса (куда он попал не по доброй воле) к поэту В.И. Туманскому 18 ноября 1821 г. писал: "Письмо моё будет к тебе доставлено Александром Ивановичем Якубовичем, - ты его, верно, знаешь по слуху; советую тебе с ним познакомиться, - он человек, исполненный чувства и благородства и пламенный любовник свободы". Характеристика знаменательная. О существовании "тайного общества" Кюхельбекер знал уже в 1817-1818 гг. Немалый интерес вызывает и то, что Якубович взял письмо Кюхельбекера, чтобы вручить его Туманскому лично. Следовательно, в конце 1821 г. (быть может, в ноябре) Якубович выезжал с Кавказа. Куда? В формуляре о прохождении Якубовичем кавказской службы указаний на его отлучку в это время нет. Всего вероятнее, что Якубович выезжал на Украину, в губернии Полтавскую и Черниговскую. На Украину из Петербурга в сентябре 1821 г. уехал Туманский. Нет в этом формуляре указаний и на другую отлучку Якубовича из армии, о которой мы узнаём лишь с его собственных слов на следствии: "Быв в отпуску на 28-мь дней в 1822-м году в Малороссии, я виделся с графом Завадовским - убийцей моего друга, виновником моих бедствий, который не только пред властями, но и у отца моего умел меня очернить, я и с ним примирился, простил всё прошедшее..."
Здесь возникают вопросы. Письмо Кюхельбекера Туманскому, в котором Якубович назван "пламенным любовником свободы", не рекомендательное ли? Не завязывались ли через посредство Туманского связи Якубовича с дворянскими революционерами, теперь уже не столичными - как раз в 1821 г. на Украине образовалось Южное общество декабристов? И как провёл Якубович другой, не зарегистрированный полковой канцелярией месячный отпуск на Украине в 1822 г.? Для примирения с Завадовским? Правда, имеется информация, убеждающая в том, что Якубович какое-то время провёл под родительским кровом. Очернённый в глазах отца, Якубович искал примирения. В прошлом, 1821 г., по-видимому, это не удалось. Но у Якубовича-отца глаза были велики от страха перед "высочайшей" немилостью к его сыну, Завадовский к этому страху мало что мог прибавить. Кажется, и в 1822 г. примирение между отцом и сыном не состоялось. Новый отпуск, на этот раз в формуляр занесённый, начался в ноябре 1824 г. (в Петербурге Якубович появился в июне 1825 г.). Он опять провёл более полугода на Украине. Есть указание в его следственном деле о полученном от отца согласии выделить ему (в случае выхода в отставку) долю помещичьих владений и о посредничестве в этом деле третьего лица (Ф.И. Гавриленко). Если в делах между отцом и сыном требовался посредник, то и примирение их представляется сомнительным. Якубович-старший показал себя человеком малодушным, бросившим, как выяснится из дальнейшего, сына на произвол предержащей власти. И вопрос о том, как именно использовал А.И. Якубович свой последний отпуск осенью 1824 г., пока остаётся открытым.
Так или иначе, но в ноябре 1824 г. Якубович покинул Кавказ. О водовороте событий, поглотивших его год с небольшим спустя, едва ли он и предполагал. Но внутренне готов был к событиям большим, может быть чрезвычайным. В течение кавказского периода жизни и деятельности определились своеобразие личности Якубовича-декабриста. Человеком, захваченным и ведомым одною страстью, мы бы его не назвали. Это был действительно "ум просвещённый" (определение Д.В. Давыдова), способный объять мыслью всю картину современного ему общества, вникнуть в положение классов и сословий, осознать историческую обречённость институтов и учреждений крепостничества. Но не в этом своеобразие Якубовича-декабриста. Пути, на которых, только и было возможно Якубовичу самовыразиться и самоутвердиться на Кавказе, самовыразиться так блистательно и самоутвердиться так прочно, что молва о нём и доходила до столичных центров, и опережала его в сражениях - враги трепетали перед одним именем его! Пути эти вели к осознанию собственной исторической исключительности. Якубович сам верил в свою легенду - да и, в самом деле, разве не чудеса изобретательности и отваги сопровождали и венчали его боевой путь! Якубович как свою играл роль романтического героя. Так играл, что слился с ролью, а роль как бы испробовала в нём свои пределы.
Всё это окончательно выяснится в Петербурге, куда, заметим, он привезёт и неизжитую ненависть к самодержцу, с которой много лет назад покинул столицу...
Метки: декабристы якубович |
Никита Кирсанов: "Случай Якубовича". Часть 1. |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов: "Случай Якубовича". Часть 1.

Александр Иванович Якубович. Портрет работы П. Каратыгина. 1823-1825 гг. Оригинал хранится во Всероссийском музее А.С. Пушкина в С.-Петербурге.
"Я имел высокие намерения, но Богу, верно не угодно было дать мне случай их выполнить. Братцы! Не судите по наружности и не обвиняйте прежде времени".
А.И. Якубович
Среди декабристов Александр Иванович Якубович выделяется не только как видный участник движения, но и как весьма сложная фигура, как деятель противоречивый, как человек "трудный" в отношениях с окружающими. Условно говоря, существовало два Якубовича: реальный и легендарный. Нечто было реальное в легенде, как и нечто легендарное в реальности. Легенда, сложившаяся в среде современников Якубовича представляла его как дуэлянта, искателя приключений, любителя острых ощущений, краснобая, позёра. Легенда, впрочем, двоилась. В одной её разновидности возникал образ типичного бретёра, в другой - благородного, великодушного, самоотверженного героя, образ рыцаря. Это затрудняло подступ к личности Якубовича для исследователей. Ещё большую трудность составила путанность действий Якубовича в день 14 декабря, сбившая "со следа" и позднейших исследователей. Так и получилось, что в персоналии деятелей движения место Якубовича осталось незаполненным.
Между тем, изучая "случай Якубовича", вырисовывается образ человека, который был гораздо содержательнее своей легендарной репутации. Взять хотя бы письмо Якубовича Николаю I из Петропавловской крепости подвергшее смелой критике социально-политическую систему в России. Это письмо, по оценке историка М.К. Азадовского, является "замечательным памятником, характеризующим Якубовича, как подлинного патриота, глубоко размышлявшего о судьбах и положении родины".
Заслуживают внимания и сибирские письма Якубовича, из которых узнаётся, что его незаурядная энергия ушла в хозяйственную и промысловую деятельность. А сверх того, в душе ссыльного декабриста обнаружились интимные чувства дружбы и даже сентиментальности. Одно из писем глухо говорит даже о какой-то сердечной драме, пережитой стареющим Якубовичем.
М.К. Азадовский в своих работах призывал "отказаться от слишком упрощённых воззрений на личность Якубовича и его деятельность" и верно отмечал, что "правильному пониманию облика Якубовича препятствует и крайняя скудность биографических материалов о нём".
"Случай Якубовича" - попытка восполнить этот пробел. Данный очерк - реконструкция на основе архивных материалов этапов жизненного пути декабриста.
Год рождения А.И. Якубовича, согласно полковому формуляру, 1792-й. Здесь не всё ясно. На следствии по делу 14 декабря имеется показание: "Имя моё Александр Иванов сын, от роду имею 29 лет". Если так, то год рождения Якубовича 1796-й. Будем склоняться к принятию именно этой даты, хотя в других источниках - прошении Якубовича о дозволении ему переселиться в село Назимово Енисейской губернии, записи на листе Месяцеслова, сделанной им в самом начале 1844 г. - имеется путанница в датах. В упомянутом прошении, датированном 20 ноября 1840 г., Якубович пишет, что ему 46 лет. Если так, то год рождения Якубовича 1794-й. На листе Месяцеслова Якубович пишет: "Мне 59 лет". Описка явная, понятная, если принять во внимание тяжёлую болезнь и близкую болезни тревогу душевную, испытываемые Якубовичем в дни, к которым относится эта запись. Вероятно, Якубович хотел написать "49 лет"; в этом случае выходит, что год его рождения 1795-й, а, поскольку писал он в начале января 1844 г., а месяц рождения его не известен, не исключено, что в это время ему шёл 49-й год, что возвращает к его показанию на следствии: "от роду имею 29 лет", т.е. к году 1796-му. Не обойдём и свидетельства косвенного, но важного. В.К. Кюхельбекер в стихотворении "На смерть Якубовича" писал:
Все, все валятся сверстники мои,
Как с дерева валится лист осенний...
За полог все скользят мои друзья:
Пред ним один останусь скоро я.
Стихотворение написано в 1846 г. В живых ещё оставались многие декабристы, немало их и пережили Кюхельбекера. Таким образом, речь шла не вообще об уходивших из жизни друзьях по общим идеалам и борьбе, а о тех из них, кто были его, Кюхельбекера, сверстниками. Мы процитировали первую строфу стихотворения. А вот, что читаем в четвёртой строфе:
Вот он остался, сверстник мне единый,
Вот он мне в гроб дорогу указал...
Следовательно, "сверстник" можно толковать лишь однозначно. Кюхельбекер родился 10 июня 1797 г. и имел основания назвать Якубовича сверстником, если принять 1796-й год за дату рождения Якубовича.
Крайне скудны сведения о родителях декабриста и его ближайших родственниках. Архивы помогают нам частично восполнить этот пробел. Его дед по отцовской линии - Александр 1-й Яковлевич Якубович (1739-1810); бабка - Мария Михайловна Иваненко (р. 1745). Дед по материнской линии - князь Пётр Иванович Кейкуатов (ск. 1807); бабка - Анна Яковлевна Лизогуб (1752-1807). Поскольку иконография членов семьи Якубовича крайне скудна, то мы воспроизведём в данном материале портрет Елизаветы Васильевны Кейкуатовой, урождённой Лукашевич (р. 1813). Она была дочерью статского советника, переяславского поветового маршала, члена Союза благоденствия Василия Лукича Лукашевича (1787-4.10.1866) и Анастасии Моисеевны Иваненко (ск. 22.2.1865). Была замужем за князем Николаем Ивановичем Кейкуатовым (р. 1806), доводившимся А.И. Якубовичу двоюродным братом.
Родился А.И. Якубович на Украине, в одном из поместий отца, бывшего предводителем дворянства Роменского уезда Полтавской губернии. Иван Александрович Якубович (р. 1772), был крупным собственником. В формуляре нижегородского драгунского полка, где служил с начала 1818 г. Александр Якубович, значится, что за его отцом "состоит крестьян мужеска пола 1200 душ в Полтавской и Черниговской губерниях". По прибытии на каторгу Якубович подтвердил, что его отец, проживавший в селе Липовом Роменского уезда Полтавской губернии ( ныне Талалаевский район Черниговской области), с братьями Якубовича Петром (1803-1844), Иваном (р. 1805) и Николаем (р. 1807), является собственником 1200 крепостных. В этих же показаниях упоминается сестра Анна Ивановна (р. 1797), бывшая замужем за подполковником Василием Яковлевичем Новицким (1798-1850) и проживавшая в собственном имении Слободка Роменского уезда Полтавской губернии (ныне Талалаевский район Черниговской области), владелица 500 крепостных. В Черниговской губернии проживал дядя А.И. Якубовича, родной брат его матери, князь Иван Петрович Кейкуатов, собственник 1800 крепостных. Упоминает А.И. Якубович и своего двоюродного брата - колежского асессора А.Л. Оболенского, собственника 5 000 крепостных. "Всех сих родственников дела, - писал А.И. Якубович - сколько мне известно было, в самом лучшем состоянии".
Домашнее воспитание и начальное образование Якубович получил от иностранцев-гувернёров - Паро и Себастьяни. Затем поступил в Московский университетский благородный пансион, где, по собственному признанию, более всего старался усовершенствоваться в истории и военных науках. Это были науки излюбленные, но и во всём круге обучения Якубович проявил способности и прилежание, судя по тому, что имя его было начертано золотыми буквами на памятной доске выпускников пансиона. Окончил его Якубович, по-видимому, в 1812 г. В 1813 г. получил назначение в действующую армию (в гвардейский уланский полк), побывал в походах во Францию, германские княжества, Варшавское герцогство, Пруссию и, наконец, возвратился на родину, в Петербург (не позднее октября 1815 г.). Отечественная война 1812 г. и последовавшие за ней заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. явились для Якубовича, как и для других декабристов, великой школой патриотизма, расширили и обогатили умственный кругозор. Этот опыт в последствии полногласно отзовётся в письме Якубовича к Николаю I из Петропавловской крепости, а именно: крах надежд на обретение Россией свободы в последующее за войной 1812 г. десятилетие.
Мы мало знаем о жизни Якубовича в Петербурге, продолжавшейся по 1817 г. включительно, но что значили в жизни петербурга годы 1815-1817, знаем. Жизнь столицы била ключом: долго не стихали победные ликования, переходившие в радостные надежды на социальное обновление родины, возвратившиеся из походов носители воинской славы сознавали себя (лучшие, благороднейшие) носителями русской гражданственности, высокая волна патриотического чувства объединяла население, и в чувстве этом сквозило предчувствие грядущего празденства свободы. Жизнь била ключом! Но есть и ключи подземные: годы 1815-1817 вошли в жизнь столицы как время формирования преддекабристских, декабристских и околодекабристских обществ. После перерыва военных лет здесь осуществилась встреча Якубовича с товарищем по университетскому пансиону А.С. Грибоедовым. А может быть, и с Пушкиным? Был же связан Якубович с кругом лиц, создававшим "Зелёную лампу" - литературное общество, близкое Союзу благоденствия. На участие Якубовича в "Зелёной лампе" указывал литературовед Б. Модзалевский. Но общество оформилось в 1819 г. - Якубович уже был на Кавказе. Таким образом, Якубович принадлежал к группе инициаторов "Зелёной лампы". И возможно на этой почве состоялось знакомство Пушкина с Якубовичем.
Имя Якубовича, обстоятельства его жизни в столице, во всяком случае в ноябре 1817 г. (причастность к дуэли между Шереметевым и Завадовским), дальнейшая судьба Якубовича привлекали внимание Пушкина и волновали его. Это следует из письма Пушкина к А.А. Бестужеву 30 ноября 1825 г., в котором он писал о Якубовиче. Его образ запечатлелся в сознании поэта глубоко и надолго, что следует из замысла "Романа на кавказских водах" (1831). Во второй половине декабря 1825 г. Пушкин в Тригорском сделал портретные эскизы многих жертв 14 декабря 1825 г. На одной стороне листа набросаны эскизы портретов Н.Н. Раевского-младшего, С.П. Трубецкого, С.И. Муравьёва-Апостола, В.Ф. Раевского, К.Ф. Рылеева, А.Н. Раевского и других, а на обороте того же листа - портреты А.И. Якубовича, И.И. Пущина и ещё нескольких лиц. А под эскизами дважды нарисованы весы с перевесившей чашей - символ Фемиды. Как правило, Пушкин рисовал только тех людей, которых знал лично и в этой связи, нам представляется вероятным, что знакомство Пушкина с Якубовичем было очным. И оно - среди больших событий петербургских лет жизни Якубовича.
12 ноября 1817 г. произошла дуэль между В.В. Шереметевым и А.П. Завадовским из-за балерины Истоминой, окончившаяся смертью Шереметева. Секундантом Шереметева был А.И. Якубович, а Завадовского - А.С. Грибоедов. На следствии по делу о дуэли Якубович (как и Завадовский) скрыли участие в ней Грибоедова. Сам Грибоедов отрицал своё секундантство. Все и всё знали о дуэли, но формальных поводов привлечь Грибоедова к ответственности не было, а пущенные в ход "связи" своё дело сделали. Грибоедов остался в столице. Якубович по "высочайшему" приказу, последовавшему 20 января 1818 г., был переведён из гвардии в армию, а именно в 44-й Нижегородский драгунский полк, имевший стоянку неподалёку от Тифлиса - в селении Кара-Агач.
Ссылка на Кавказ, надломила Якубовича. "За что? - спрашивал он себя. - За что я получил это изгнание на далёкую обочину страны? Только лишь за то, что я остался верен кодексу чести дворянина?" Увозя с собой из Петербурга запас вольнолюбивых стремлений и убеждений, Якубович увозил с собой также и смертельную обиду на самодержца...

Александр Иванович Якубович. Портрет работы П. Каратыгина. 1823-1825 гг. Оригинал хранится во Всероссийском музее А.С. Пушкина в С.-Петербурге.
"Я имел высокие намерения, но Богу, верно не угодно было дать мне случай их выполнить. Братцы! Не судите по наружности и не обвиняйте прежде времени".
А.И. Якубович
Среди декабристов Александр Иванович Якубович выделяется не только как видный участник движения, но и как весьма сложная фигура, как деятель противоречивый, как человек "трудный" в отношениях с окружающими. Условно говоря, существовало два Якубовича: реальный и легендарный. Нечто было реальное в легенде, как и нечто легендарное в реальности. Легенда, сложившаяся в среде современников Якубовича представляла его как дуэлянта, искателя приключений, любителя острых ощущений, краснобая, позёра. Легенда, впрочем, двоилась. В одной её разновидности возникал образ типичного бретёра, в другой - благородного, великодушного, самоотверженного героя, образ рыцаря. Это затрудняло подступ к личности Якубовича для исследователей. Ещё большую трудность составила путанность действий Якубовича в день 14 декабря, сбившая "со следа" и позднейших исследователей. Так и получилось, что в персоналии деятелей движения место Якубовича осталось незаполненным.
Между тем, изучая "случай Якубовича", вырисовывается образ человека, который был гораздо содержательнее своей легендарной репутации. Взять хотя бы письмо Якубовича Николаю I из Петропавловской крепости подвергшее смелой критике социально-политическую систему в России. Это письмо, по оценке историка М.К. Азадовского, является "замечательным памятником, характеризующим Якубовича, как подлинного патриота, глубоко размышлявшего о судьбах и положении родины".
Заслуживают внимания и сибирские письма Якубовича, из которых узнаётся, что его незаурядная энергия ушла в хозяйственную и промысловую деятельность. А сверх того, в душе ссыльного декабриста обнаружились интимные чувства дружбы и даже сентиментальности. Одно из писем глухо говорит даже о какой-то сердечной драме, пережитой стареющим Якубовичем.
М.К. Азадовский в своих работах призывал "отказаться от слишком упрощённых воззрений на личность Якубовича и его деятельность" и верно отмечал, что "правильному пониманию облика Якубовича препятствует и крайняя скудность биографических материалов о нём".
"Случай Якубовича" - попытка восполнить этот пробел. Данный очерк - реконструкция на основе архивных материалов этапов жизненного пути декабриста.
Год рождения А.И. Якубовича, согласно полковому формуляру, 1792-й. Здесь не всё ясно. На следствии по делу 14 декабря имеется показание: "Имя моё Александр Иванов сын, от роду имею 29 лет". Если так, то год рождения Якубовича 1796-й. Будем склоняться к принятию именно этой даты, хотя в других источниках - прошении Якубовича о дозволении ему переселиться в село Назимово Енисейской губернии, записи на листе Месяцеслова, сделанной им в самом начале 1844 г. - имеется путанница в датах. В упомянутом прошении, датированном 20 ноября 1840 г., Якубович пишет, что ему 46 лет. Если так, то год рождения Якубовича 1794-й. На листе Месяцеслова Якубович пишет: "Мне 59 лет". Описка явная, понятная, если принять во внимание тяжёлую болезнь и близкую болезни тревогу душевную, испытываемые Якубовичем в дни, к которым относится эта запись. Вероятно, Якубович хотел написать "49 лет"; в этом случае выходит, что год его рождения 1795-й, а, поскольку писал он в начале января 1844 г., а месяц рождения его не известен, не исключено, что в это время ему шёл 49-й год, что возвращает к его показанию на следствии: "от роду имею 29 лет", т.е. к году 1796-му. Не обойдём и свидетельства косвенного, но важного. В.К. Кюхельбекер в стихотворении "На смерть Якубовича" писал:
Все, все валятся сверстники мои,
Как с дерева валится лист осенний...
За полог все скользят мои друзья:
Пред ним один останусь скоро я.
Стихотворение написано в 1846 г. В живых ещё оставались многие декабристы, немало их и пережили Кюхельбекера. Таким образом, речь шла не вообще об уходивших из жизни друзьях по общим идеалам и борьбе, а о тех из них, кто были его, Кюхельбекера, сверстниками. Мы процитировали первую строфу стихотворения. А вот, что читаем в четвёртой строфе:
Вот он остался, сверстник мне единый,
Вот он мне в гроб дорогу указал...
Следовательно, "сверстник" можно толковать лишь однозначно. Кюхельбекер родился 10 июня 1797 г. и имел основания назвать Якубовича сверстником, если принять 1796-й год за дату рождения Якубовича.
Крайне скудны сведения о родителях декабриста и его ближайших родственниках. Архивы помогают нам частично восполнить этот пробел. Его дед по отцовской линии - Александр 1-й Яковлевич Якубович (1739-1810); бабка - Мария Михайловна Иваненко (р. 1745). Дед по материнской линии - князь Пётр Иванович Кейкуатов (ск. 1807); бабка - Анна Яковлевна Лизогуб (1752-1807). Поскольку иконография членов семьи Якубовича крайне скудна, то мы воспроизведём в данном материале портрет Елизаветы Васильевны Кейкуатовой, урождённой Лукашевич (р. 1813). Она была дочерью статского советника, переяславского поветового маршала, члена Союза благоденствия Василия Лукича Лукашевича (1787-4.10.1866) и Анастасии Моисеевны Иваненко (ск. 22.2.1865). Была замужем за князем Николаем Ивановичем Кейкуатовым (р. 1806), доводившимся А.И. Якубовичу двоюродным братом.
Родился А.И. Якубович на Украине, в одном из поместий отца, бывшего предводителем дворянства Роменского уезда Полтавской губернии. Иван Александрович Якубович (р. 1772), был крупным собственником. В формуляре нижегородского драгунского полка, где служил с начала 1818 г. Александр Якубович, значится, что за его отцом "состоит крестьян мужеска пола 1200 душ в Полтавской и Черниговской губерниях". По прибытии на каторгу Якубович подтвердил, что его отец, проживавший в селе Липовом Роменского уезда Полтавской губернии ( ныне Талалаевский район Черниговской области), с братьями Якубовича Петром (1803-1844), Иваном (р. 1805) и Николаем (р. 1807), является собственником 1200 крепостных. В этих же показаниях упоминается сестра Анна Ивановна (р. 1797), бывшая замужем за подполковником Василием Яковлевичем Новицким (1798-1850) и проживавшая в собственном имении Слободка Роменского уезда Полтавской губернии (ныне Талалаевский район Черниговской области), владелица 500 крепостных. В Черниговской губернии проживал дядя А.И. Якубовича, родной брат его матери, князь Иван Петрович Кейкуатов, собственник 1800 крепостных. Упоминает А.И. Якубович и своего двоюродного брата - колежского асессора А.Л. Оболенского, собственника 5 000 крепостных. "Всех сих родственников дела, - писал А.И. Якубович - сколько мне известно было, в самом лучшем состоянии".
Домашнее воспитание и начальное образование Якубович получил от иностранцев-гувернёров - Паро и Себастьяни. Затем поступил в Московский университетский благородный пансион, где, по собственному признанию, более всего старался усовершенствоваться в истории и военных науках. Это были науки излюбленные, но и во всём круге обучения Якубович проявил способности и прилежание, судя по тому, что имя его было начертано золотыми буквами на памятной доске выпускников пансиона. Окончил его Якубович, по-видимому, в 1812 г. В 1813 г. получил назначение в действующую армию (в гвардейский уланский полк), побывал в походах во Францию, германские княжества, Варшавское герцогство, Пруссию и, наконец, возвратился на родину, в Петербург (не позднее октября 1815 г.). Отечественная война 1812 г. и последовавшие за ней заграничные походы русской армии в 1813-1814 гг. явились для Якубовича, как и для других декабристов, великой школой патриотизма, расширили и обогатили умственный кругозор. Этот опыт в последствии полногласно отзовётся в письме Якубовича к Николаю I из Петропавловской крепости, а именно: крах надежд на обретение Россией свободы в последующее за войной 1812 г. десятилетие.
Мы мало знаем о жизни Якубовича в Петербурге, продолжавшейся по 1817 г. включительно, но что значили в жизни петербурга годы 1815-1817, знаем. Жизнь столицы била ключом: долго не стихали победные ликования, переходившие в радостные надежды на социальное обновление родины, возвратившиеся из походов носители воинской славы сознавали себя (лучшие, благороднейшие) носителями русской гражданственности, высокая волна патриотического чувства объединяла население, и в чувстве этом сквозило предчувствие грядущего празденства свободы. Жизнь била ключом! Но есть и ключи подземные: годы 1815-1817 вошли в жизнь столицы как время формирования преддекабристских, декабристских и околодекабристских обществ. После перерыва военных лет здесь осуществилась встреча Якубовича с товарищем по университетскому пансиону А.С. Грибоедовым. А может быть, и с Пушкиным? Был же связан Якубович с кругом лиц, создававшим "Зелёную лампу" - литературное общество, близкое Союзу благоденствия. На участие Якубовича в "Зелёной лампе" указывал литературовед Б. Модзалевский. Но общество оформилось в 1819 г. - Якубович уже был на Кавказе. Таким образом, Якубович принадлежал к группе инициаторов "Зелёной лампы". И возможно на этой почве состоялось знакомство Пушкина с Якубовичем.
Имя Якубовича, обстоятельства его жизни в столице, во всяком случае в ноябре 1817 г. (причастность к дуэли между Шереметевым и Завадовским), дальнейшая судьба Якубовича привлекали внимание Пушкина и волновали его. Это следует из письма Пушкина к А.А. Бестужеву 30 ноября 1825 г., в котором он писал о Якубовиче. Его образ запечатлелся в сознании поэта глубоко и надолго, что следует из замысла "Романа на кавказских водах" (1831). Во второй половине декабря 1825 г. Пушкин в Тригорском сделал портретные эскизы многих жертв 14 декабря 1825 г. На одной стороне листа набросаны эскизы портретов Н.Н. Раевского-младшего, С.П. Трубецкого, С.И. Муравьёва-Апостола, В.Ф. Раевского, К.Ф. Рылеева, А.Н. Раевского и других, а на обороте того же листа - портреты А.И. Якубовича, И.И. Пущина и ещё нескольких лиц. А под эскизами дважды нарисованы весы с перевесившей чашей - символ Фемиды. Как правило, Пушкин рисовал только тех людей, которых знал лично и в этой связи, нам представляется вероятным, что знакомство Пушкина с Якубовичем было очным. И оно - среди больших событий петербургских лет жизни Якубовича.
12 ноября 1817 г. произошла дуэль между В.В. Шереметевым и А.П. Завадовским из-за балерины Истоминой, окончившаяся смертью Шереметева. Секундантом Шереметева был А.И. Якубович, а Завадовского - А.С. Грибоедов. На следствии по делу о дуэли Якубович (как и Завадовский) скрыли участие в ней Грибоедова. Сам Грибоедов отрицал своё секундантство. Все и всё знали о дуэли, но формальных поводов привлечь Грибоедова к ответственности не было, а пущенные в ход "связи" своё дело сделали. Грибоедов остался в столице. Якубович по "высочайшему" приказу, последовавшему 20 января 1818 г., был переведён из гвардии в армию, а именно в 44-й Нижегородский драгунский полк, имевший стоянку неподалёку от Тифлиса - в селении Кара-Агач.
Ссылка на Кавказ, надломила Якубовича. "За что? - спрашивал он себя. - За что я получил это изгнание на далёкую обочину страны? Только лишь за то, что я остался верен кодексу чести дворянина?" Увозя с собой из Петербурга запас вольнолюбивых стремлений и убеждений, Якубович увозил с собой также и смертельную обиду на самодержца...
Метки: декабристы якубович |
Никита Кирсанов. "Желание блага земли родной..." |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Желание блага земли родной..."

В следственном деле декабриста Михаила Николаевича Глебова есть такой вопрос: "С которого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей?" Ответ последовал следующий: "Начала свободного образа мыслей назначить не могу; они постепенно развёртывались во мне: сперва это было чувство любви к человечеству, потом желание блага земли родной. Часто обращаясь к сей последней мысли, мне казалось, что одно монархическое правление может утвердить на незыблемом основании благоденствие моего отечества. Сообщество и чтение мало способствовали к распространению сих мыслей, ибо книги свободного содержания очень редки".
Михаил Николаевич Глебов происходил из дворян С.-Петербургской губернии. Родился он 20 сентября 1804 года в С.-Петербурге. Крещён 22 сентября в церкви Воскресения Христова (ныне Шпалерная ул, 35а; Чернышевского пр-кт, 3).
Отец — коллежский советник Николай Михайлович Глебов (ум. до 1826), мать — Мария Иоакимовна Иванова (ум. 1828), жила в Путивльском уезде (ныне Сумская область Украины) Курской губернии (где у неё было имение в 700 душ, из них 300 душ заложено и на имении большие частные долги).
Братья: Николай, подпрапорщик Колыванского пехотного полка; Виктор, отставной юнкер л.-гв. Драгунского полка; Порфирий (1810-16.06.1866), юнкер л.-гв. артиллерийской бригады, в последствии генерал-лейтенант артиллерийской бригады, военный историк; Дмитрий, прапорщик (1835) и Александр.
Сёстры: Софья; Екатерина, замужем за отставным гв. штабс-капитаном Ильёю Ивановичем Головиным (вторым браком был женат на Софье Михайловне Введенской). Их дети: Екатерина Ильинична, замужем за А.А. Шеншиным; Ольга Ильинична, в замужестве Маркова и Елизавета, девица; Клавдия; Ольга — в 1826 находились в пансионе в Петербурге на попечении у статского советника Ивана Энгеля.
Воспитывался будущий декабрист в Петербургском университетском пансионе (набережная реки Фонтанки, дом надворного советника Отто; ныне №164), куда поступил 13 июня 1818 года. С Глебовым вместе учились М.И. Глинка, будущий великий композитор и В.Л. Пушкин, младший брат поэта, а преподавателем был В.К. Кюхельбекер. По окончании курса и сдаче экзамена получил права на чин 12 класса (июль 1821 года) и определён в департамент Министерства юстиции — 15 августа 1821 года. С 25 февраля 1824 года - коллежский секретарь и 1 июля того же года определён в Государственную комиссию погашения долгов помощником письмоводителя при управляющем.
О существовании Северного тайного общества М.Н. Глебов узнал от П.Г. Каховского, о чём последний заявил на следствии. Знал он также и о его цели - введение конституции, но членом "оного" быть не захотел. "Я люблю отечество, - говорил Глебов Каховскому, - счастием почту умереть для блага его, но игрушкой таинственности быть не могу; не могу войти в общество, хорошо не зная ни намерений, ни сил его".
Хотя имя Глебова и упоминалось как члена Северного общества (А.А. Бестужев, Н.П. Кожевников), но следствием было установлено обратное. Тем не менее Глебов явился на площадь 14 декабря 1825 года, желая принять участие в восстании и имея в руках кем-то данную шпагу, стоял в каре. Видя, что солдатам холодно ("видя, что солдаты грелись"), он дал на площади 100 рублей для покупки солдатам вина. Стоял в каре до тех пор, пока не выстроилась конная гвардия. После чего, оставя бунтовщиков, возвратился домой.
17 декабря Глебов был арестован и доставлен в Петропавловскую крепость («чиновника Глебова посадить под арест, где удобно, он случайно пристал, но содержать строго») в №3 бастиона Петра II, затем переведён в №33 Кронверкской куртины.
По суровому приговору Верховного уголовного суда Глебов был осуждён по V разряду к лишению чинов и дворянства и по конфирмации 10 июля 1826 года приговорён в каторжную работу на 10 лет, срок которой был сокращён до 6 лет (22.8.1826).
Вечером 5 февраля 1827 года Глебова заковали в ножные кандалы, и фельдъегерная тройка зимней петербургской ночью увезла его на каторгу в Читинскую тюрьму.
Комендант Петропавловской крепости генерал-адъютант А.Я. Сукин в тот же вечер доложил военному министру генералу от инфантерии А.И. Татищеву: [...] "сего 5 февраля пополудни в 11 часов для препровождения по назначению сданы присланному [...] из инспекторского департамента Главного штаба его императорского величества фельдъегерю Яковлеву с жандармами" "государственные преступники" А.Е. Розен, Н.П. Репин, М.Н. Глебов и М.К. Кюхельбекер.
Андрей Розен вспоминал: "Лишь только вошёл в комнату, как привели туда трёх моих товарищей: Н.П. Репина, М.Н. Глебова и М.К. Кюхельбекера, с которыми я был в одном разряде. Мы дружно обнялись. У нас была своя тёплая одежда, только Кюхельбекер стоял в фризовой шинели, что заставило меня придумать, какую одежду уступить ему из моей. Когда спросили его, имеет ли что-нибудь потеплее этой шинели, он распахнул её и с улыбкою показал мне славный калмыцкий тулуп. Комендант объявил нам, что по приказанию государя императора отправляет нас в Сибирь в железах; с последним словом фейерверкер, позади стоявший, опустил поднятый угол шинели, и об пол брякнулись четыре пары кандалов. Обручи вокруг ноги были складные, их надели, заперли замками, ключи передали фельдъегерю. Мы вышли. Репин заметил, что такие шпоры слишком громко побрякивают; по лестнице трудно было спуститься, я держался за перила, товарищ споткнулся и едва не упал; тогда плац-майор подал нам красные шнурки, коими завязывают пучки перьев. Один конец шнура привязали за кольцо, между двухколенчатых кандалов, а другой конец с поднятыми железами - вокруг пояса; таким образом могли мы двигаться живее и делать шаги в пол-аршина. Услужливые жандармы встретили нас у крыльца, посадили по одиночке в сани, и мы тронулись в дальний путь, в дальние снега". И далее: "29 марта ехал я последнюю станцию с Глебовым в крытой повозке, ямщик был бурят, сбруя коней была верёвочная с узлами. На десятой версте от станции поднялись в гору, показалась долина Читы, а там небольшое селение на горе, окружённой горами. Мы спускались шагом; вдруг лопнула шлея коренной лошади, лошади понесли, переломился деревянный шкворень - в один миг мы были выброшены из повозки: Глебов через правую пристяжную скатился на землю, ямщик выбросился в сторону, я повис правою ногой на оглобле, левою на постромке и на шлее левой пристяжной и обеими руками ухватился за гриву коренной. В таком положении кони таскали меня две версты, пока впереди нас ехавшие Репин, Кюхельбекер и ямщик их, видевшие снизу горы моё бедствие, не остановили коней и не сняли меня; в кандалах, запутавшись в тяж, я сам себе помочь не мог".
По приезде в Читу Глебов и прибывшие с ним в одной партии стали первыми жильцами так называемого дъячковского каземата. В конце августа - начале сентября 1827 года они переселились в новый острог - "большой" каземат, имевший "четыре большие комнаты, в каждой из оных жили от 10 до 17 человек". Е.П. Оболенский писал из Читы 12 марта 1830 года: "Нас в одном доме или в четырёх больших комнатах 42 человека". И.Д. Якушкин вспоминал, что "большой каземат был невообразимо дурно построен, окна с железными решётками были вставлены прями в стену без колод, и стёкла были всегда зимой покрыты толстым льдом".
В августе 1830 года узников Читинского острога перевели в новую тюрьму, построенную при Петровском чугуноплавильном заводе. М.Н. Глебову было в то время 26 лет. Вот что сообщалось о нём тюремными надзирателями: его приметы: рост 2 аршина 6 3/8 вершков (1 м 68 см), "лицо белое, чистое, круглое, глаза серые, нос большой широкий, волосы на голове и бровях тёмно-русые".
Два года провёл М.Н. Глебов на каторге в Петровском заводе, но, никаких сведений о пребывании его там, равно как и в Чите, не сохранилось.
28 июля 1832 года окончился срок каторжных работ для А.Е. Розена и М.Н. Глебова, и они покидали Петровский острог. Декабрист П.А. Муханов писал своей сестре Е.А. Шаховской: "Мы попрощались сегодня с госпожой Розен, её мужем и господином Глебовым, которого мы очень любим. Одному богу известно, как этот последний будет жить на поселении. Уезжающих отсюда ожидает совершенно иная жизнь. Образ жизни настолько зависит от места поселения, что к этому трудно приготовиться заранее. Уезжают отсюда часто без денег, неизвестно куда, неизвестно кем станут - пахарем, рыбаком, торговцем. Единственно, что не вызывает сомнение, - это то, что ждёт одиночество. Отъезд господина Глебова вызвал у нас чувство глубокого сожаления".
М.Н. Глебов был обращён на поселение в село Кабанское Верхнеудинского округа Иркутской губернии (ныне город Кабанск, районный центр в республике Бурятия). Ходатайствовал о переводе из-за болезненных припадков в Братский острог Нижнеудинского округа для совместной жизни с поселённым туда декабристом П.А. Мухановым, с которым был особенно дружен. В просьбе было отказано по "замеченной закоснелости последнего в своих заблуждениях" (5 июня 1841 года).
Глебов не стал просить другое место поселения. Он, как и многие его товарищи, испытывал в месте ссылки острое чувство духовного одиночества, тоску по товарищам, друзьям. Преодолеть его можно было постоянным активным участием в жизни окружающего его нового общества. Однако этого не произошло.
Поначалу кабанский ссыльный пытался заниматься торговлей. Завёл себе лавчонку и вёл "мелочную продажу", приторговывая "тесёмочками и серьгами". Впоследствии М.Н. Глебову, а также М.К. Кюхельбекеру, Аполлону Веденяпину и "ещё двум из Славян" было дозволено "разъезжать по целой Сибири", заниматься торговлей, но дела шли из ряда вон плохо. Декабрист, одинокий и забытый родственниками, начал потихоньку спиваться и влачил "жалкое существование". Получивший прекрасное образование М.Н. Глебов мог бы заниматься педагогической деятельностью или, чтобы поддерживать своё существование, по примеру других декабристов, мог бы заниматься земледелием. Очевидно, и попытки к этому были. Отсутствие документальных материалов не позволяет говорить о педагогической деятельности Глебова. Надо с очевидностью признать, что он не имел ни времени, ни возможности для этого, прежде всего из-за тяжёлых условий жизни. А вот земледелием он всё-таки занимался, но результатов хороших это не дало. В 1833 году Глебов писал из Кабанска: "Земледелие... в здешнем крае скудно вознаграждает труды".
Нищенское положение М.Н. Глебова в Кабанске нашло своё отражение в письмах декабристов С.П. Трубецкого - Е.П. Оболенскому (Шилаево, 1-3 августа 1839 года) и И.И. Пущина - Е.П. Оболенскому (Иркутск, 16-17 августа 1839 года). В "Священную артель" декабристов, которой заведовал И.И. Пущин, Глебов давно не вносил денег (последний раз в 1830 году - 30 рублей) за неимением их, а то, что присылали ему товарищи, попав в дурное окружение села Кабанского, пропивал. Вот строки из письма С.П. Трубецкого:
"В Кабанске мы встречены Глебовым, который разумеется бросился к нам на шею. При виде его и потом его жилища впечатление было грустное. Сколько я мог узнать, кажется, от достоверных людей, всё не так дурно, как прежде нам сказывали, но всё-таки очень плохо. Он нас проводил до моря (о. Байкал. - Н.К.) и пробыл с нами 4 дня. Это нужно было для того, чтобы несколько рассеять первое впечатление, которое вид его на нас произвёл. И которое было самое невыгодное. Ему, кажется, совестно и неловко между нами. Он просил выхлопотать ему позволение беспрепятственно видеться с тобою (Оболенским. - Н.К.) и тебе с ним. Для него, может быть, это не будет бесполезно. Мы бы хотели, однако же, чтобы эти свидания продолжались недолго, другими словами, чтоб он переехал к Муханову".
Уезжая, Трубецкой оставил неимущему Глебову 200 рублей. После того, как в просьбе о переводе в Братский острог Глебову было отказано, он совсем спился, продал всё своё небольшое имущество, заложил убогое жилище и ещё взял в долг у Ильи Жукова, унтер-офицера Кабанской этапной команды, 500 рублей. После чего обратился к председателю "Священной артели" декабристов И.И. Пущину с просьбой погасить этот долг. Пущин по этому поводу писал Оболенскому: "Сделай дружбу, уведомь Глебова, что Муханов постоянно в Братском остроге. Я обещал несчастному жителю Кабанска написать прямо, но истинно не знаю, что ему сказать, кроме этого уведомления. Насчёт возможности уплатить его долг 500 р. я не знаю никакого средства: все без денег. Не стану, друг Оболенский, передавать тебе впечатление, которое на меня произвёл Глебов, это невыразимо жестоко: главное, мне кажется, что он никак не хочет выйти из бездны, в которую погряз. Всё-таки советуй ему как-нибудь перебраться к Муханову, его присутствие в Кабанском нисколько не прибавляет возможности уплатить долг. Может быть, Муханов найдёт средство его удовлетворить".
Но ни Муханов, ни Трубецкой, ни Пущин, ни Оболенский уже не могли помочь товарищу по изгнанию. С.Г. Волконский в своих "Записках" пишет: "Мих. Ник. Глебов, друг Рылеева, поселённый в какой-то деревне за Байкалом, был отравлен мужем своей любовницы и там схоронен".
А.Е. Розен - "Записки декабриста": Глебов "был поселён недалеко от Верхнеудинска в Кабанках, где прожил девятнадцать лет, сначала вёл мелочную прожажу в лавочке, потом скучал и всё жаждал и скучал и умер в 1851 году..."
19 октября 1851 года Михаил Николаевич погиб от побоев и отравления грабителей в Кабанской слободе. Виновными были признаны унтер-офицер Кабанской этапной команды Илья Жуков и крестьянская дочь Наталья Юрьева.
11 января 1852 года императору представили донесение генерал-адъютанта А.Ф. Орлова: «Военный губернатор Забайкальской области доносит, что находившийся на поселении в кабанской слободе государственный преступник Михаил Глебов 19-го октября 1851 года скоропостижно умер, и как видно из производимого сем следствия, смерть его была насильственная, в причинении которой подозревается унтер-офицер Кабанской этапной команды Илья Жуков».
В секретном докладе Венного министерства от 10.06.1852 № 312 на имя Главного начальника III Отделения с приложением копии, снятой с донесения генерал-губернатору Восточной Сибири от 19.04.1852 № 1925, поданного военным губернатором Забайкальской области значится:
«В следствие предписания Вашего Высокопревосходительства от 22 м[есяца] февраля за № 380, я требовал от Верхнеудинского земского суда подробные сведения по делу о скоропостижно умершем государственном преступнике Глебове, на каких данных основано подозрение на унтер офицера Жукова и прочих участников.
Ныне Верхнеудинский земский суд от 20-го м[есяца] марта за № 4076 доносит мне, что заключающиеся по этому делу лица, а именно: крестьянская дочь Наталья Юрьева при первоначальном опросе Г. Калмыковым показала, что она во время прожития своего в доме преступника Глебова имела с ним любовную связь, и потом с унтер-офицером Жуковым, который проживал также у того Глебова по случаю покупки дома, и на 19 ч[исла] октября месяца 1850 г. Жуков бывши в пьяном виде наносил жестокие побои Глебову, от чего Глебов несколько раз падал на пол, после таковых побоев Глебов жаловался на сильную боль спины, груди и сердца, при том у него шла кровь изо рта и из заднего прохода с какою-то жидкою материю, когда же об этом уведомлен был сельский старшина Мартынов, то приказал об этом никому не говорить. В дополнение к этому Юрьева показала, что прежде нанесения Глебову унтер-офицером Жуковым побоев, она подавала Глебову простое вино, а после побоев давала молоко, которое обращалось рвотою, увидя она на столе рюмку с вином желала подать оную Глебову, но на дне той рюмки было какое-то белое вещество вроде порошка, почему Юрьева спрашивала у Жукова, но он отвечал, что в рюмке соль; Глебов услыша это просил подать ему выпить и когда выпил, то немного спустя упал на пол в конвульсиях и ничего уже не говорил. Затем Юрьева увидя в рюмке остатки порошка, насильно дала оный проглотить Глебову.
Показание крестьянской дочери Натальи Юрьевой подтвердили бывшие при этом отец ею Николай Юрьев и крестьянин Андрей Татаринов, с присовокуплением, что Жуков и Глебов были пьяны и драка происходила от ревности. Сельский старшина Мартынов первоначально не хотел дать ответов следователю по сему предмету, а потом отозвался, что, действительно, когда он пришел в дом Глебова, то при нем унтер-офицер Жуков положил на стол бумажку, на которой была надпись «сулема», и просил Мартынова объявить начальству, что Глебов из нею будто бы принял порошок, и скрыть во все это происшествие почему старшина Мартынов воспретил бывшим в доме Глебова лицам об этом говорить и в следствие просьбы того Жукова просил священника дозволить тело преступника Глебова предать земле. Унтер-офицер Жуков также при первоначальном спросе, в преступлении не сознавался, но на очных ставках с прикосновенными к сему делу лицами во всем сознался, присовокупив, что если он скрыл это в первом допросе, то боялся, чтоб не сочли его участником в насильственной смерти Глебова, а на третьей очной ставке против улик показал, что Глебов взявши деньги за дом, передавать во владение не хотел. После таковых очных ставок против улик Жукова в том, что девка Юрьева, сама наливала в рюмку вино и подавала Глебову, который выпивши упал на пол, означенная Юрьева во всем созналась.
Из вышеизложенного видно, что унтер-офицер Жуков и девка Юрьева, имея любовную связь, с общего их согласия отравили Глебова и прочим лицам об этом было известно, но скрывали.
О чем Вашему Высокопревосходительству имею честь донести в дополнение донесения моего от 9-го марта за № 1325 и при том доложить, что дело о смерти Глебова производством окончено, но остается в земском суде не отосланным на решение Судебного места, за неполучением Иркутскою врачебною управою от Медицинского департамента окончательного заключения о действительном отравлении Глебова сулемою».
Такова была кончина одного из первых дворянских революционеров, который, как и все его товарищи, стастно желал "блага земли родной" и пронёс "любовь к человечеству" через всю свою недолгую и горькую жизнь.
Со временем могила "кабанского страдальца" Михаила Глебова затерялась на кладбище при Христорождественской церкви. Да и сам храм в годы лихолетья был разрушен. Революционеры XX века построили на его месте райком партии...

В следственном деле декабриста Михаила Николаевича Глебова есть такой вопрос: "С которого времени и откуда заимствовали вы свободный образ мыслей?" Ответ последовал следующий: "Начала свободного образа мыслей назначить не могу; они постепенно развёртывались во мне: сперва это было чувство любви к человечеству, потом желание блага земли родной. Часто обращаясь к сей последней мысли, мне казалось, что одно монархическое правление может утвердить на незыблемом основании благоденствие моего отечества. Сообщество и чтение мало способствовали к распространению сих мыслей, ибо книги свободного содержания очень редки".
Михаил Николаевич Глебов происходил из дворян С.-Петербургской губернии. Родился он 20 сентября 1804 года в С.-Петербурге. Крещён 22 сентября в церкви Воскресения Христова (ныне Шпалерная ул, 35а; Чернышевского пр-кт, 3).
Отец — коллежский советник Николай Михайлович Глебов (ум. до 1826), мать — Мария Иоакимовна Иванова (ум. 1828), жила в Путивльском уезде (ныне Сумская область Украины) Курской губернии (где у неё было имение в 700 душ, из них 300 душ заложено и на имении большие частные долги).
Братья: Николай, подпрапорщик Колыванского пехотного полка; Виктор, отставной юнкер л.-гв. Драгунского полка; Порфирий (1810-16.06.1866), юнкер л.-гв. артиллерийской бригады, в последствии генерал-лейтенант артиллерийской бригады, военный историк; Дмитрий, прапорщик (1835) и Александр.
Сёстры: Софья; Екатерина, замужем за отставным гв. штабс-капитаном Ильёю Ивановичем Головиным (вторым браком был женат на Софье Михайловне Введенской). Их дети: Екатерина Ильинична, замужем за А.А. Шеншиным; Ольга Ильинична, в замужестве Маркова и Елизавета, девица; Клавдия; Ольга — в 1826 находились в пансионе в Петербурге на попечении у статского советника Ивана Энгеля.
Воспитывался будущий декабрист в Петербургском университетском пансионе (набережная реки Фонтанки, дом надворного советника Отто; ныне №164), куда поступил 13 июня 1818 года. С Глебовым вместе учились М.И. Глинка, будущий великий композитор и В.Л. Пушкин, младший брат поэта, а преподавателем был В.К. Кюхельбекер. По окончании курса и сдаче экзамена получил права на чин 12 класса (июль 1821 года) и определён в департамент Министерства юстиции — 15 августа 1821 года. С 25 февраля 1824 года - коллежский секретарь и 1 июля того же года определён в Государственную комиссию погашения долгов помощником письмоводителя при управляющем.
О существовании Северного тайного общества М.Н. Глебов узнал от П.Г. Каховского, о чём последний заявил на следствии. Знал он также и о его цели - введение конституции, но членом "оного" быть не захотел. "Я люблю отечество, - говорил Глебов Каховскому, - счастием почту умереть для блага его, но игрушкой таинственности быть не могу; не могу войти в общество, хорошо не зная ни намерений, ни сил его".
Хотя имя Глебова и упоминалось как члена Северного общества (А.А. Бестужев, Н.П. Кожевников), но следствием было установлено обратное. Тем не менее Глебов явился на площадь 14 декабря 1825 года, желая принять участие в восстании и имея в руках кем-то данную шпагу, стоял в каре. Видя, что солдатам холодно ("видя, что солдаты грелись"), он дал на площади 100 рублей для покупки солдатам вина. Стоял в каре до тех пор, пока не выстроилась конная гвардия. После чего, оставя бунтовщиков, возвратился домой.
17 декабря Глебов был арестован и доставлен в Петропавловскую крепость («чиновника Глебова посадить под арест, где удобно, он случайно пристал, но содержать строго») в №3 бастиона Петра II, затем переведён в №33 Кронверкской куртины.
По суровому приговору Верховного уголовного суда Глебов был осуждён по V разряду к лишению чинов и дворянства и по конфирмации 10 июля 1826 года приговорён в каторжную работу на 10 лет, срок которой был сокращён до 6 лет (22.8.1826).
Вечером 5 февраля 1827 года Глебова заковали в ножные кандалы, и фельдъегерная тройка зимней петербургской ночью увезла его на каторгу в Читинскую тюрьму.
Комендант Петропавловской крепости генерал-адъютант А.Я. Сукин в тот же вечер доложил военному министру генералу от инфантерии А.И. Татищеву: [...] "сего 5 февраля пополудни в 11 часов для препровождения по назначению сданы присланному [...] из инспекторского департамента Главного штаба его императорского величества фельдъегерю Яковлеву с жандармами" "государственные преступники" А.Е. Розен, Н.П. Репин, М.Н. Глебов и М.К. Кюхельбекер.
Андрей Розен вспоминал: "Лишь только вошёл в комнату, как привели туда трёх моих товарищей: Н.П. Репина, М.Н. Глебова и М.К. Кюхельбекера, с которыми я был в одном разряде. Мы дружно обнялись. У нас была своя тёплая одежда, только Кюхельбекер стоял в фризовой шинели, что заставило меня придумать, какую одежду уступить ему из моей. Когда спросили его, имеет ли что-нибудь потеплее этой шинели, он распахнул её и с улыбкою показал мне славный калмыцкий тулуп. Комендант объявил нам, что по приказанию государя императора отправляет нас в Сибирь в железах; с последним словом фейерверкер, позади стоявший, опустил поднятый угол шинели, и об пол брякнулись четыре пары кандалов. Обручи вокруг ноги были складные, их надели, заперли замками, ключи передали фельдъегерю. Мы вышли. Репин заметил, что такие шпоры слишком громко побрякивают; по лестнице трудно было спуститься, я держался за перила, товарищ споткнулся и едва не упал; тогда плац-майор подал нам красные шнурки, коими завязывают пучки перьев. Один конец шнура привязали за кольцо, между двухколенчатых кандалов, а другой конец с поднятыми железами - вокруг пояса; таким образом могли мы двигаться живее и делать шаги в пол-аршина. Услужливые жандармы встретили нас у крыльца, посадили по одиночке в сани, и мы тронулись в дальний путь, в дальние снега". И далее: "29 марта ехал я последнюю станцию с Глебовым в крытой повозке, ямщик был бурят, сбруя коней была верёвочная с узлами. На десятой версте от станции поднялись в гору, показалась долина Читы, а там небольшое селение на горе, окружённой горами. Мы спускались шагом; вдруг лопнула шлея коренной лошади, лошади понесли, переломился деревянный шкворень - в один миг мы были выброшены из повозки: Глебов через правую пристяжную скатился на землю, ямщик выбросился в сторону, я повис правою ногой на оглобле, левою на постромке и на шлее левой пристяжной и обеими руками ухватился за гриву коренной. В таком положении кони таскали меня две версты, пока впереди нас ехавшие Репин, Кюхельбекер и ямщик их, видевшие снизу горы моё бедствие, не остановили коней и не сняли меня; в кандалах, запутавшись в тяж, я сам себе помочь не мог".
По приезде в Читу Глебов и прибывшие с ним в одной партии стали первыми жильцами так называемого дъячковского каземата. В конце августа - начале сентября 1827 года они переселились в новый острог - "большой" каземат, имевший "четыре большие комнаты, в каждой из оных жили от 10 до 17 человек". Е.П. Оболенский писал из Читы 12 марта 1830 года: "Нас в одном доме или в четырёх больших комнатах 42 человека". И.Д. Якушкин вспоминал, что "большой каземат был невообразимо дурно построен, окна с железными решётками были вставлены прями в стену без колод, и стёкла были всегда зимой покрыты толстым льдом".
В августе 1830 года узников Читинского острога перевели в новую тюрьму, построенную при Петровском чугуноплавильном заводе. М.Н. Глебову было в то время 26 лет. Вот что сообщалось о нём тюремными надзирателями: его приметы: рост 2 аршина 6 3/8 вершков (1 м 68 см), "лицо белое, чистое, круглое, глаза серые, нос большой широкий, волосы на голове и бровях тёмно-русые".
Два года провёл М.Н. Глебов на каторге в Петровском заводе, но, никаких сведений о пребывании его там, равно как и в Чите, не сохранилось.
28 июля 1832 года окончился срок каторжных работ для А.Е. Розена и М.Н. Глебова, и они покидали Петровский острог. Декабрист П.А. Муханов писал своей сестре Е.А. Шаховской: "Мы попрощались сегодня с госпожой Розен, её мужем и господином Глебовым, которого мы очень любим. Одному богу известно, как этот последний будет жить на поселении. Уезжающих отсюда ожидает совершенно иная жизнь. Образ жизни настолько зависит от места поселения, что к этому трудно приготовиться заранее. Уезжают отсюда часто без денег, неизвестно куда, неизвестно кем станут - пахарем, рыбаком, торговцем. Единственно, что не вызывает сомнение, - это то, что ждёт одиночество. Отъезд господина Глебова вызвал у нас чувство глубокого сожаления".
М.Н. Глебов был обращён на поселение в село Кабанское Верхнеудинского округа Иркутской губернии (ныне город Кабанск, районный центр в республике Бурятия). Ходатайствовал о переводе из-за болезненных припадков в Братский острог Нижнеудинского округа для совместной жизни с поселённым туда декабристом П.А. Мухановым, с которым был особенно дружен. В просьбе было отказано по "замеченной закоснелости последнего в своих заблуждениях" (5 июня 1841 года).
Глебов не стал просить другое место поселения. Он, как и многие его товарищи, испытывал в месте ссылки острое чувство духовного одиночества, тоску по товарищам, друзьям. Преодолеть его можно было постоянным активным участием в жизни окружающего его нового общества. Однако этого не произошло.
Поначалу кабанский ссыльный пытался заниматься торговлей. Завёл себе лавчонку и вёл "мелочную продажу", приторговывая "тесёмочками и серьгами". Впоследствии М.Н. Глебову, а также М.К. Кюхельбекеру, Аполлону Веденяпину и "ещё двум из Славян" было дозволено "разъезжать по целой Сибири", заниматься торговлей, но дела шли из ряда вон плохо. Декабрист, одинокий и забытый родственниками, начал потихоньку спиваться и влачил "жалкое существование". Получивший прекрасное образование М.Н. Глебов мог бы заниматься педагогической деятельностью или, чтобы поддерживать своё существование, по примеру других декабристов, мог бы заниматься земледелием. Очевидно, и попытки к этому были. Отсутствие документальных материалов не позволяет говорить о педагогической деятельности Глебова. Надо с очевидностью признать, что он не имел ни времени, ни возможности для этого, прежде всего из-за тяжёлых условий жизни. А вот земледелием он всё-таки занимался, но результатов хороших это не дало. В 1833 году Глебов писал из Кабанска: "Земледелие... в здешнем крае скудно вознаграждает труды".
Нищенское положение М.Н. Глебова в Кабанске нашло своё отражение в письмах декабристов С.П. Трубецкого - Е.П. Оболенскому (Шилаево, 1-3 августа 1839 года) и И.И. Пущина - Е.П. Оболенскому (Иркутск, 16-17 августа 1839 года). В "Священную артель" декабристов, которой заведовал И.И. Пущин, Глебов давно не вносил денег (последний раз в 1830 году - 30 рублей) за неимением их, а то, что присылали ему товарищи, попав в дурное окружение села Кабанского, пропивал. Вот строки из письма С.П. Трубецкого:
"В Кабанске мы встречены Глебовым, который разумеется бросился к нам на шею. При виде его и потом его жилища впечатление было грустное. Сколько я мог узнать, кажется, от достоверных людей, всё не так дурно, как прежде нам сказывали, но всё-таки очень плохо. Он нас проводил до моря (о. Байкал. - Н.К.) и пробыл с нами 4 дня. Это нужно было для того, чтобы несколько рассеять первое впечатление, которое вид его на нас произвёл. И которое было самое невыгодное. Ему, кажется, совестно и неловко между нами. Он просил выхлопотать ему позволение беспрепятственно видеться с тобою (Оболенским. - Н.К.) и тебе с ним. Для него, может быть, это не будет бесполезно. Мы бы хотели, однако же, чтобы эти свидания продолжались недолго, другими словами, чтоб он переехал к Муханову".
Уезжая, Трубецкой оставил неимущему Глебову 200 рублей. После того, как в просьбе о переводе в Братский острог Глебову было отказано, он совсем спился, продал всё своё небольшое имущество, заложил убогое жилище и ещё взял в долг у Ильи Жукова, унтер-офицера Кабанской этапной команды, 500 рублей. После чего обратился к председателю "Священной артели" декабристов И.И. Пущину с просьбой погасить этот долг. Пущин по этому поводу писал Оболенскому: "Сделай дружбу, уведомь Глебова, что Муханов постоянно в Братском остроге. Я обещал несчастному жителю Кабанска написать прямо, но истинно не знаю, что ему сказать, кроме этого уведомления. Насчёт возможности уплатить его долг 500 р. я не знаю никакого средства: все без денег. Не стану, друг Оболенский, передавать тебе впечатление, которое на меня произвёл Глебов, это невыразимо жестоко: главное, мне кажется, что он никак не хочет выйти из бездны, в которую погряз. Всё-таки советуй ему как-нибудь перебраться к Муханову, его присутствие в Кабанском нисколько не прибавляет возможности уплатить долг. Может быть, Муханов найдёт средство его удовлетворить".
Но ни Муханов, ни Трубецкой, ни Пущин, ни Оболенский уже не могли помочь товарищу по изгнанию. С.Г. Волконский в своих "Записках" пишет: "Мих. Ник. Глебов, друг Рылеева, поселённый в какой-то деревне за Байкалом, был отравлен мужем своей любовницы и там схоронен".
А.Е. Розен - "Записки декабриста": Глебов "был поселён недалеко от Верхнеудинска в Кабанках, где прожил девятнадцать лет, сначала вёл мелочную прожажу в лавочке, потом скучал и всё жаждал и скучал и умер в 1851 году..."
19 октября 1851 года Михаил Николаевич погиб от побоев и отравления грабителей в Кабанской слободе. Виновными были признаны унтер-офицер Кабанской этапной команды Илья Жуков и крестьянская дочь Наталья Юрьева.
11 января 1852 года императору представили донесение генерал-адъютанта А.Ф. Орлова: «Военный губернатор Забайкальской области доносит, что находившийся на поселении в кабанской слободе государственный преступник Михаил Глебов 19-го октября 1851 года скоропостижно умер, и как видно из производимого сем следствия, смерть его была насильственная, в причинении которой подозревается унтер-офицер Кабанской этапной команды Илья Жуков».
В секретном докладе Венного министерства от 10.06.1852 № 312 на имя Главного начальника III Отделения с приложением копии, снятой с донесения генерал-губернатору Восточной Сибири от 19.04.1852 № 1925, поданного военным губернатором Забайкальской области значится:
«В следствие предписания Вашего Высокопревосходительства от 22 м[есяца] февраля за № 380, я требовал от Верхнеудинского земского суда подробные сведения по делу о скоропостижно умершем государственном преступнике Глебове, на каких данных основано подозрение на унтер офицера Жукова и прочих участников.
Ныне Верхнеудинский земский суд от 20-го м[есяца] марта за № 4076 доносит мне, что заключающиеся по этому делу лица, а именно: крестьянская дочь Наталья Юрьева при первоначальном опросе Г. Калмыковым показала, что она во время прожития своего в доме преступника Глебова имела с ним любовную связь, и потом с унтер-офицером Жуковым, который проживал также у того Глебова по случаю покупки дома, и на 19 ч[исла] октября месяца 1850 г. Жуков бывши в пьяном виде наносил жестокие побои Глебову, от чего Глебов несколько раз падал на пол, после таковых побоев Глебов жаловался на сильную боль спины, груди и сердца, при том у него шла кровь изо рта и из заднего прохода с какою-то жидкою материю, когда же об этом уведомлен был сельский старшина Мартынов, то приказал об этом никому не говорить. В дополнение к этому Юрьева показала, что прежде нанесения Глебову унтер-офицером Жуковым побоев, она подавала Глебову простое вино, а после побоев давала молоко, которое обращалось рвотою, увидя она на столе рюмку с вином желала подать оную Глебову, но на дне той рюмки было какое-то белое вещество вроде порошка, почему Юрьева спрашивала у Жукова, но он отвечал, что в рюмке соль; Глебов услыша это просил подать ему выпить и когда выпил, то немного спустя упал на пол в конвульсиях и ничего уже не говорил. Затем Юрьева увидя в рюмке остатки порошка, насильно дала оный проглотить Глебову.
Показание крестьянской дочери Натальи Юрьевой подтвердили бывшие при этом отец ею Николай Юрьев и крестьянин Андрей Татаринов, с присовокуплением, что Жуков и Глебов были пьяны и драка происходила от ревности. Сельский старшина Мартынов первоначально не хотел дать ответов следователю по сему предмету, а потом отозвался, что, действительно, когда он пришел в дом Глебова, то при нем унтер-офицер Жуков положил на стол бумажку, на которой была надпись «сулема», и просил Мартынова объявить начальству, что Глебов из нею будто бы принял порошок, и скрыть во все это происшествие почему старшина Мартынов воспретил бывшим в доме Глебова лицам об этом говорить и в следствие просьбы того Жукова просил священника дозволить тело преступника Глебова предать земле. Унтер-офицер Жуков также при первоначальном спросе, в преступлении не сознавался, но на очных ставках с прикосновенными к сему делу лицами во всем сознался, присовокупив, что если он скрыл это в первом допросе, то боялся, чтоб не сочли его участником в насильственной смерти Глебова, а на третьей очной ставке против улик показал, что Глебов взявши деньги за дом, передавать во владение не хотел. После таковых очных ставок против улик Жукова в том, что девка Юрьева, сама наливала в рюмку вино и подавала Глебову, который выпивши упал на пол, означенная Юрьева во всем созналась.
Из вышеизложенного видно, что унтер-офицер Жуков и девка Юрьева, имея любовную связь, с общего их согласия отравили Глебова и прочим лицам об этом было известно, но скрывали.
О чем Вашему Высокопревосходительству имею честь донести в дополнение донесения моего от 9-го марта за № 1325 и при том доложить, что дело о смерти Глебова производством окончено, но остается в земском суде не отосланным на решение Судебного места, за неполучением Иркутскою врачебною управою от Медицинского департамента окончательного заключения о действительном отравлении Глебова сулемою».
Такова была кончина одного из первых дворянских революционеров, который, как и все его товарищи, стастно желал "блага земли родной" и пронёс "любовь к человечеству" через всю свою недолгую и горькую жизнь.
Со временем могила "кабанского страдальца" Михаила Глебова затерялась на кладбище при Христорождественской церкви. Да и сам храм в годы лихолетья был разрушен. Революционеры XX века построили на его месте райком партии...
Метки: декабристы |
Никита Кирсанов. "Благословляю десницу Божiю..." (12). |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Благословляю десницу Божiю..." (12).
Таким образом, Трубецкой, возможно, ранее других своих товарищей узнал о деятельности Герцена и Огарёва и ещё до выхода в августе 1855 года первой книжки «Полярной звезды» знал о существовании Вольной русской типографии в Лондоне. Из небольшого числа сохранившихся писем Трубецкого, можно судить о том, что «Колокол» находился в сфере внимания декабриста. И.И. Пущин в письме от 19 ноября 1858 года (в ответ на не дошедшее до нас письмо Трубецкого от 4 октября 1858 г.) сообщал: «Петербургские новости, вероятно, к вам доходят прямым путём, и, следовательно, вы от меня их не ждите. «Колокол» и у вас слышен без сомнения - я остановился на 25–м ударе». (В № 25 «Колокола» от 1 октября 1858 года было помещено «Письмо к редактору», в котором говорилось, что надежды на прогрессивные реформы лопнули, что напрасно сохраняют ещё веру в Александра II и что царская семья занимается спекуляциями. - Н.К.).
13 июня 1858 года по ходатайству своячениц Трубецкой получил разрешение, съездить в Варшаву для свидания с родственниками. В секретном отношении Долгорукова наместнику Царства Польского М.Д. Горчакову от 22 мая 1858 года указывалось, что Трубецкому разрешено поехать «на самое короткое время». Тут же следовало предупреждение о необходимости учредить за ним негласный полицейский надзор и немедленно сообщить о возвращении его из Варшавы в Киев; если же он захочет поехать за границу, «ни под каким видом не выдавать ему заграничный паспорт». Пробыв в Варшаве две недели, Трубецкой 8 июля 1858 г. возвратился в Киев.
Вскоре Н.Р. Ребиндера перевели в Одессу попечителем учебного округа. До него в 1856–1858 годах в этой должности состоял знаменитый хирург Н.И. Пирогов. В Одессе Ребиндеры поселились на даче у Пирогова, расположенной в 19 верстах от города, и он некоторое время лечил Александру Сергеевну. В октябре 1858 года перебрался в Одессу и Трубецкой. Он поселился в гостинице "Европейская", принадлежавшей купцу Вагнеру. Незадолго до отъезда Сергей Петрович получил известие о кончине одного из самых близких друзей – И.Д. Якушкина. В Одессе Сергей Петрович прожил год. Ваню и Федю из Одессы он отправил в Саблы к Давыдовым, сам же часто бывал проездом в Симферополе, Ялте, Севастополе: «Были на Малаховом кургане, - сообщала А.С. Ребиндер мужу, - на могилах четырёх адмиралов, в доках и на Бастионах. Такого разорения невозможно представить. Извозчик показывал дорогой, где что происходило, указал на батарею, построенную бабами, которых высылали, но они не ушли, сделали себе укрепления не хуже других. Не могу пройти всё это молчанием, потому что всё видимое и слышанное произвело на меня сильное впечатление. Хоть всё более или менее известно, но тысячу подробностей узнаёшь только на месте. Ехали по Воронцовской дороге. Внизу видны следы неприятельского лагеря. Мы проехали по самым тем местам, где был жестокий бой под Чёрной…» В письме от 1 июля 1859 года А.С. Ребиндер писала мужу, что 28 мая они с Сергеем Петровичем и Давыдовыми ездили в Бахчисарай, который « с своими татарами напомнил мне Маймачин, хотя он и не похож на него, но есть что- то общее. Мы осмотрели мечеть, сады и фонтаны, видели ханские гробницы. Унтер – офицер, показывавший нам дворец, объяснял всё, как умел, и рассказывал в прозе то, что Пушкин воспел в стихах. Хоть предмет один и тот же, но я предпочитаю рассказ последнего».
16 мая 1859 года С.П. Трубецкой с дочерью Елизаветой Давыдовой встречал в Севастополе возвратившихся из заграничного путешествия через Константинополь по Чёрному морю Свербееых. В Баден–Бадене у Свербеевых 6 августа 1858 года родился сын. В связи с этим А.И. Герцен писал 23 августа 1858 года: «Письмо ваше тем больше обрадовало всех нас – что в нём была хорошая весть о новом Дмитрии – ему «Колокол» звонит привет». О приезде Свербеевых сообщала А.С. Ребиндер мужу в Петербург: «Наши путешественники приехали. Зина не изменилась нисколько. Мальчик у них прехорошенький, но Николай Дмитриевич переменился, ужасно похудел».
Свербеевы намеревались возвратиться в Сибирь. Сергей Петрович одобрительно отнёсся к этому решению, сам же не видел возможности ехать с ними: «Если б меня не связывал Ваня, - писал он Свербеевым, - то я бы от вас не отставал, мне приличнее умереть в Иркутске, нежели где-либо в другом месте, матушка была неразлучна со мною в жизни своей, и мне следовало бы лечь вблизи её могилы».
С.П. Трубецкой надеялся перевести сына из Ришельевского лицея в Московский университет. В связи со студенческими волнениями в университете А.С. Ребиндер писала сестре: "Невольно думаю о Ване, что через год и он куда – нибудь поступит и непременно будет замешан во всевозможные истории, если не сделается до тех пор рассудительнее".
В феврале 1859 года Н.Р. Ребиндер выехал в Петербург в связи с назначением на должность директора департамента народного посвящения. 29 июля А.С. Ребиндер в сопровождении отца, которому было разрешено поселиться в Москве, отправилась к мужу. Ваня и Федя выехали вслед за ними. В Москву прибыли 19 августа, Сергей Петрович поселился с детьми вначале у своей сестры Е.П. Потёмкиной на Пречистенке, затем в доме Стромиловой на углу Трубниковского и Дурновского переулков, где прожил до 1 сентября 1860 года.
Отъезд Свербеевых в Сибирь не состоялся. 4 декабря 1859 года Зинаида Сергеевна вступила во владения имением Сетуха Новосильского уезда Тульской губернии. (Имение до этого называлось Покровское. Н.Д. Свербеев приобрёл его за 129 тысяч рублей серебром. - Н.К.).
1859 год принёс С.П. Трубецкому новые переживания. 3 апреля скончался И.И. Пущин; из Иркутска пришло известие от Горбунова: «Не успел я уведомить вас о смерти одного из ваших товарищей (М.К. Кюхельбекера), а приходиться уведомлять о смерти другого – В.А. Бечаснов скончался вчера 16 октября, утром. Вымирают или выезжают все, что было лучшего, самостоятельного в Сибири. Остаются чиновники да купцы, люди зависимые, то же без голоса. И теперь всех вас поминают беспрестанно, а придёт время, то вспомнят и не так. Послезавтра мы хороним его в монастыре подле Панова и Муханова. Веретенников даст деньги на похороны, и мы с Петрашевским взялись хлопотать о могиле». В том же году скончался и В.М. Голицын. С грустью Сергей Петрович замечает: «Ряды наши редеют. Смерть косит и здесь и в Сибири».
У самого Трубецкого возобновились приступы, сопровождавшиеся лёгочными кровотечениями. Здоровье дочери Александры ухудшилось. Беспокоило материальное положение детей. Несколько лет решался Сенатом вопрос о разделе имущества, оставшегося после смерти Екатерины Ивановны.
Завещание её матери, графини Александры Григорьевны Лаваль, не сохранилось. Об имуществе, оставшемся после её смерти, можно судить по «раздельной записи», в которой значится: недвижимость в виде Архангельского медеплавительного завода в Стерлитамакском уезде Оренбургской губернии, населённые имения в Московской, Петербургской, Пензенской, Тамбовской, Тверской, Саратовской и Таврической губерниях (свыше 9 тысяч душ крестьян мужского пола), дома в Петербурге, Моршанске и Иркутске общей стоимостью в 1,5 млн. рублей серебром (далее денежные исчисления даны так же в серебряных рублях); наличные капиталы в банках Штиглица (в Петербурге) и Ротшильда (в Париже), в Петербургском опекунском совете, государственных Заёмном и Коммерческом банках на сумму 150 тысяч; драгоценности (золото, серебро, бриллианты, картины, бронза, хрусталь, фарфор, книги и пр.) на сумму 130 тысяч; коллекция античных предметов, оценённая в 50 тысяч; наконец ежегодный доход с имений и с завода на сумму 150 тысяч. Таким образом на 1850 год наследство составляло 2 млн. 600 тысяч рублей. Наследницами являлись: Екатерина Ивановна Трубецкая, Зинаида Ивановна Лебцельтерн (4.06.1801-4.04.1873), Софья Ивановна Борх (11.05.1809-8.10.1871) и Александра Ивановна Коссаковская (21.10.1811-21.06.1886).
Доверенным лицом А.Г. Лаваль был Иван Сергеевич Персин. Он сообщал, что ясности с имениями нет. Дела Лаваль велись крайне плохо. Многие документы потеряны или истреблены, «вероятно, по стычке управляющих с деловыми людьми, которых состояло при доме 72 человека мошенников и пьяниц, графиню обкрадывали в собственном доме». Забывчивость её в последние годы была так велика, что при описи оставшегося имущества обнаружены просроченные ломбардные билеты на 26 и 11 тысяч рублей. Масса бумаг из деревень и завода найдены нераспечатанными с 1845 года. Бриллианты стоимостью в 51 тысячу рублей были обнаружены в старой шляпной коробке.
И.С. Персин писал: «Самое лучшее, по моему мнению, будет: выделивши вам теперешний доход в 24 тысячи рублей, который вы получаете, остальное имение разделить на четыре равные части по взаимному всех согласию и бросить жребий, который должен решить, какая часть кому достанется».
Мнения наследниц расходились относительно судьбы коллекции древностей, картин, библиотеки, представляющих собой большую ценность в комплексе. Разрозненность значительно обесценивало каждое из этих собраний, что вызывало на первых заседаниях разногласия. З.И. Лебцельтерн противилась продаже предметов искусства, предлагая разделить их между наследницами; она же соглашаясь на продажу драгоценностей, мебели и библиотеки, категорически возражала против продажи античной коллекции и дома. А.И. Косаковская предлагала вывезти коллекцию картин в Англию, мотивируя это тем, что "ни в Петербурге, ни в Москве нет любителей галерей, которые хотели бы расширить свои коллекции". С этим не соглашался её муж, ссылаясь на то, что продажа коллекций, собранных с такой любовью их матерью, оскорбило бы её память.
Он предлагал всё поделить поровну. Этот план не устраивал Трубецких, нуждавшихся в деньгах, а не в предметах роскоши. К концу раздела наследницы всё-таки пришли к соглашению, сохранив между собой добрые отношения. Всё недвижимое имущество было поделено в соответствии с завещанием А.Г. Лаваль, а движимое, кроме коллекции античной и египетской скульптуры, приобретённой Эрмитажем за 32,5 тысячи рублей, было соответственно разделено на четыре части, в том числе библиотека , насчитывающая свыше 8 тысяч томов. Часть наследства, доставшаяся Е.И. Трубецкой, оценивалась в 647 тысяч рублей. Кроме наличных капиталов, она получила: имения Саблы в Симферопольском уезде Таврической губернии, оценённое в 90 тысяч; Пензенское имение в 115 тысяч ; село Екатерининское Нижегородского уезда Московской губернии в 35 тысяч и дом в Иркутске, оценённый в 10 тысяч рублей. Дом Лавалей на Английской набережной (ныне дом № 4), оценённый в 150 тысяч рублей оставила за собой С.И. Борх с обязательством выплатить ¾ его стоимости сёстрам. После смерти Е.И. Трубецкой, часть наследства Сергея Петровича составляла 58240 рублей серебром и дом в Иркутске, но он отказался от своей доли в пользу дочерей Александры и Зинаиды, поскольку их сестра Елизавета получила в приданое при жизни матери наследство, превышавшее доли её сестёр. Ивану Сергеевичу Трубецкому досталось в наследство имение в Пензенской губернии, во владение которым он вступил в начале 1860 года.
Сергей Петрович был нужен всем своим детям. П.А. Горбунов писал бывшему своему воспитаннику Ване Трубецкому: «Из письма Н.А. Белоголового к брату я узнал, что Сергей Петрович был опасно болен. Он пишет, что болезнь серьёзная и что подобные припадки могут возвращаться при малейшем расстройстве, как физическом, так и нравственном. На тебе лежит теперь обязанность беречь отца, сколько можно. Окружи его своею любовью, всем вниманием, на кое только способен. Береги от всякого душевного беспокойства, пуще всего сам не подавай к нему никакого повода. Ты один при нём, а он тебе ещё нужен, да и как я знаю, ты добр, ты честен, но в твоей молодой голове дуют ещё все 24 ветра. Тебе долго ещё будет нужен такой кроткий любящий советчик, как твой почтенный отец. Кто в состоянии заменить тебе его, да и кого ты послушаешь, как его?»
30 ноября 1859 года А.С. Ребиндер сообщила сестре «важную новость»: «Папе разрешено приезжать по временам в Петербург». В начале 1860 года врачи настоятельно советовали ей ехать для лечения за границу. Хлопоты о разрешении отцу сопровождать её оказались безуспешными. Видимо старый, больной, но сильный духом декабрист всё ещё был опасен правительству, упорно не желавшему выпускать его из России, из-под контроля III отделения.
Проводив дочь, Сергей Петрович выехал с сыном в их Пензенское имение с. Напольный Вьяс Саранского уезда. Там они застали безрадостную картину: «Наш хутор, - иронизировал Трубецкой, - нашли в отличном состоянии: ни коровы, ни овцы, ни свиньи, только три лошади для разъездов управляющего, бывшие на пашне (барщинные) в самом худом положении, а оброчные крестьяне найдены в гораздо лучшем, нежели я полагал». Первые распоряжения нанятому новому управляющему Р.Н. Лету составили целую программу действий, направленных на улучшение состояния крестьян: «Не отягощать крестьян никакими барщинными работами, а таковые работы проводить вольными людьми», вникнуть, в чём состоят их занятия сверх хлебопашества, насколько и какие из этих занятий приносят им более выгоды; выяснить причины бедности крестьян; узнать от самих крестьян, охотно ли они пойдут на вольную работу по земледелию и за какую плату; защищать крестьян во всех случаях, когда это будет необходимо; открыть больницу, в которой принимать всех больных из имения, и выписывать из больницы не иначе «как по убеждению доктора, что они совершенно выздоровели»; для ухода за больными иметь достаточное число фельдшеров и служителей; непременно прививать оспу всем детям, для чего обучить оспопрививанию смышлёных вдов и девиц, которые смогут заняться этим не хуже мужчин, и положить им определённое жалованье. Постараться уговорить крестьян сажать деревья около своих изб и принять меры к сохранению и приумножению лесных посадок. Крестьян, бывших ранее на барщине, перевести по их желанию на оброк. Были приняты меры против несправедливого захвата управляющим имения Борхов в селе Большой Вьяс (с 8 июня 1860 г., перешедшее во владение И.С. Трубецкому) лесных и пашенных наделов, которыми пользовались ранее крестьяне.
Трубецкой приступил к подготовке «соображений, каким образом можно будет устроить имение при ожидаемом освобождении крестьян», предписав управляющему «крестьян и дворовых людей содержать в должном повиновении и стараться о водворении между ними доброй нравственности». В этом наставлении обращает на себя внимание требование Трубецкого содержать крестьян в повиновении. Почему же человек, ненавидевший рабство, не освободил своих крестьян собственной властью тот час же как стал их владельцем? (В данном случае не имеет значения, что крестьяне принадлежали не ему, а сыну, тот во всём следовал советам отца). Ответ прост: накануне проведения общей реформы «сверху» частная инициатива в этом деле расценивалась бы как вызов правительству.
Веру в благополучное законное решение крестьянского вопроса разделяли в то время все декабристы. Трубецкой не одобрял участившихся выступлений крестьян в Пензенской губернии в имении Борхов из-за тяжёлых, с его точки зрения, последствий и для государства и для самих крестьян. Он считал, что помещики должны удержать крестьян от опасных выступлений и содействовать скорейшему переходу их к жизни в «новых условиях».
Несмотря на солидное наследство, оставленное Е.И. Трубецкой, материальное положение семьи было шатким. Наличных капиталов почти не было. Не находилось покупателей на дом в Иркутске. Золотоносный прииск Элихта, акционером которого был Трубецкой, не только не приносил дохода, но и стал убыточным. Чтобы отправить Александру Сергеевну на лечение за границу, Ребиндеры были вынуждены заложить столовое серебро и прибегнуть к займу. Сам Сергей Петрович вёл более чем скромный образ жизни и, чтобы сводить концы с концами, зачастую вынужден был сокращать расходы на квартиру, экипаж и пр. Из небольших личных средств он по-прежнему посылал взносы в «малую артель» для оказания помощи нуждающимся товарищам или их семьям.
Поездка в Пензенскую губернию, а оттуда в Нижний Новгород, где состоялась встреча со старыми друзьями, в том числе с Г.И. Невельским и его семейством, позволила Трубецкому на какое-то время отвлечься от мрачных мыслей о здоровье старшей дочери, об ухудшившемся состоянии Н.Д. Свербеева.
9 июля 1860 года из Дрездена пришло известие о кончине 30 июня Александры Сергеевны. Нужно было найти физические и душевные силы, чтобы пережить горе, поддержать детей, внуков, мужа дочери. Он отправился в Сетуху проведать Н.Д. Свербеева, оттуда вернулся в Москву, чтобы затем вместе с сыном и младшей дочерью ехать в Петербург на похороны Александры Сергеевны, тело которой было доставлено пароходом 9 августа. Похоронили А.С. Ребиндер на Новодевичьем кладбище. Дочь Ребиндеров Екатерина осталась жить в семействе З.И. Свербеевой и называла ее мама, а Николай Романович приобрёл имение вблизи Нарвы и переселился туда со старшей дочерью и сыновьями.
Вернувшись в Москву в середине августа 1860 года Трубецкой с 1 сентября поселился в доме княгини Мещёрской – или доме Панина (М.А. Мещёрская – дочь А.Н. Панина) на Никитской во флигеле на втором этаже, что в Шереметевском переулке (ныне – Романов переулок, 7).
Сергей Петрович старался не замыкаться в своем горе, встречался со старыми друзьями: сердечно рад был встрече с Г.С. Батеньковым и Е.П. Оболенским, сам отправился в подмосковное имение Никольское к А.В. Поджио, побывал в Твери у М.И. Муравьёва-Апостола, навестил в Москве Анненковых, вернувшихся из-за границы, часто бывал у Нонушки Бибиковой, ездил к сестре Елизавете Петровне, в имение Аниково Звенигородского уезда Московской губернии (после её смерти перешедшее к И.С. Трубецкому). Его навестили старые сибирские знакомые: М.С. Корсаков, Фёдоровский, Савичевский, часто бывал Н.А. Белоголовый. М.С. Корсаков рассказывал о состоянии дел Амурской экспедиции, об отношениях с Китаем, о разногласиях в Иркутском обществе со времени дуэли между чиновниками Беклемишевым и Неклюдовым.
Трубецкой продолжал внимательно следить за подготовкой крестьянской реформы, делился с Ребиндером мыслями о результатах Варшавской встречи трёх императоров. Одним словом он старался вести самый деятельный образ жизни и быть полезным своим друзьям и близким. Неожиданно у него случился сердечный приступ, началось кровотечение. Сын вызвал телеграммой А.В. Поджио. Тот пробыл три дня и, когда опасность, казалось, миновала, уехал. В ночь с 21 на 22 ноября приступ повторился, и Сергей Петрович скончался на руках сына и Г.С. Батенькова.
О смерти С.П. Трубецкого подробно написал в своих "Воспоминаниях" Н.А. Белоголовый: "... Князю Трубецкому разрешено было проживать в Москве, в виде исключения и под тем предлогом, чтобы не расставаться с сыном, который поступил студентом в московский университет. Жил он в небольшой квартирке на Кисловке вместе с сыном, и я нередко навещал его; хотя разница в летах между нами была на целых 50 лет, но меня привлекала к нему и необыкновенная доброта его, и то чувство благоговения, какое я питал с своего ещё безсознательного детства к декабристам, тем более, что живя весьма уединённо и тесно, не выходя на воздух вследствие одышки, старик скучал и всегда при прощании настойчиво просил заходить к нему. Он, видимо, дряхлел, и давняя болезнь сердца, по мере развития старческого окостенения сосудов, всё более и более беспокоила его мучительными припадками, а потому я нисколько не удивился, когда в ноябре ранним утром ко мне прибежал кто-то сказать, что князю очень плохо и меня просят прийти поскорее. Я отправился немедленно и нашёл его уже мёртвым в сидячей позе на диване, бельё на нём и всё кругом залито было хлынувшей изо рта кровью с такой стремительностью и в таком количестве, что смерть наступила быстро и без страданий..."
В архиве III отделения собственной его императорского Величества канцелярии хранятся секретные донесения от 29 ноября и 5 декабря 1860 года шефа жандармов Московской губернии подполковника А.В. Воейкова, содержащие ценные сведения о кончине и похоронах С.П. Трубецкого. Вот что писал А.В. Воейков в первом донесении: «Возвращённый из Сибири дворянин Сергей Петрович Трубецкой, находившийся постоянно с августа месяца прошлого 1859 года в Москве по случаю своего нездоровья, 22-го сего ноября впоследствии апоплексического удара (кровоизлияния в мозг) скончался. По ненахождению в Москве замужней дочери Свербеевой и других родных, в ожидании приезда их похороны отлагались до 25 числа, но никто из них по разным случаям не приехал, кроме знакомых покойного - Бестужева-Рюмина, Апостола-Муравьёва, жены Пущина (к тому времени вдовы декабриста, Н.Д. Пущиной, урождённой Апухтиной, в первом замужестве Фонвизиной. - Н.К.) и Поджио, который, по-видимому, на похоронах принимал большое участие и до самого места нёс образ, самими же похоронами распоряжался г-н Бибиков (И.М. Бибиков, давнишний друг С.П. Трубецкого. - Н.К.) и частию сенатор Подчасский (И.И. Подчасский, второй муж сестры декабриста Е.П. Потёмкиной. - Н.К.).
Студенты университета по сочувствию к сыну Трубецкого, их товарища, учившегося на юридическом факультете, гроб покойного из дома княгини Мещёрской (где квартировал) несли на руках до церкви св. Николая, что в Хлынове (приходская церковь в Хлыновском тупике; не сохранилась), где было отпевание тела, и по окончании оного не допустили поставить гроба на колесницу, а несли опять на руках попеременно, что было весьма затруднительно, так как при этой процессии находилось более ста человек одних студентов разных факультетов, сопровождавших до самой могилы в Новодевичий монастырь; когда же процессия поравнялась со зданием университета, то была остановлена для совершения литии (краткой панихиды).
Таковое сочувствие студентов к покойному Трубецкому породило в обществе толки о сделанной со стороны их демонстрации, и что будто бы между студентами рассылались приглашения для желающих быть на похоронах Трубецкого, как человека страдавшего много лет во время ссылки своей в Сибири.
«Долгом поставляя почтительнейши донести вашему сиятельству о смерти Трубецкого и его похоронах, присовокупить честь имею, что доносимое мною обстоятельство, я не оставил без проверки более положительной; впрочем, речей или каких-либо замечательных случаев не происходило. Сын Трубецкого в настоящее время находится в Петербурге, где имеет родных».
На донесении имеется помета В.А. Долгорукова: «Доложено его величеству 4 декабря».
Как ни старался Воейков представить похороны Трубецкого как самые заурядные, на самом деле, по свидетельству современников, они вылились в политическую демонстрацию. Была вызвана рота солдат, сопровождавшая процессию на кладбище. Даже мёртвый декабрист вызывал опасения у властей, даже в могилу его сопровождали под конвоем!
Перед гробом Трубецкого М.И. Муравьёв-Апостол нёс икону с изображением Христа в терновом венце, как бы символизируя тем самым страдания умершего за народ. По поводу этой иконы был сделан официальный запрос родным, но они отговорились тем, что эта семейная реликвия, принадлежавшая жене Трубецкого Екатерине Ивановне.
В донесении Долгорукову от 5 декабря 1860 года Воейков сообщал: «Что же касается до рассказов об образе, несённом перед гробом (как оказалось Муравьёвым-Апостолом). Спасителя в терновом венце большого размера, то таковой был не нарочно выбран, а снят со стены залы, который принадлежал покойной жене Трубецкого».
Н.А. Белоголовый в письме брату от 25 ноября отмечал: «Публики было очень много, но главную массу составляли студенты; они хотели, верно, заявить свое сочувствие этому ратнику свободы, гроб его несли все на своих руках до кладбища, что составляет около 7 вёрст». В числе провожавших Трубецкого были М.М. Нарышкин и Г.С. Батеньков.
Похоронен Трубецкой на старом кладбище Новодевичьего монастыря близ Смоленского собора.
"Он был олицетворённая доброта", - писал о Трубецком декабрист А.Ф. Фролов. Другой декабрист Е.П. Оболенский в письме к детям Трубецких выразил общую мысль своих товарищей: «Отрадно то чувство, которое сохранилось в чистом, честном чувстве к Сергею Петровичу и Екатерине Ивановне. Пусть дружба отцов перейдёт в ваши сердца и даст отрадное чувство взаимного единодушия немногих искренних друзей их, которые ещё живы».
Сын декабриста Е.И. Якушкин, познакомившись с Трубецким в Иркутске, написал о нём: «Самый замечательный человек из всех иркутских жителей – Трубецкой. Всегда спокойный, всегда одинаковый, он не производит впечатление с первого раза, но, узнавши его хоть несколько, нельзя не почувствовать к нему привязанности и глубокого уважения. Привычками своими и обращением, равным ко всем, он напоминает Пущина, но по уму, образованию он стоит несравненно выше, не говоря уже об убеждениях».
Внук декабриста В.Е. Якушкин в статье, посвященной выходу в свет в 1906 году «Записок Трубецкого», писал, что Трубецкой "был несомненно, одним из самых видных представителей общественного движения того времени. По уму, характеру, по своим взглядам и преданности делу, за которое взялся по глубокому убеждению, имел большое влияние среди товарищей и, влияние это отражалось на всём ходе дел тайных обществ. Он пожертвовал личным счастьем и счастьем горячо любимой жены ради своей любви к Отечеству, ради своих стремлений сделать русский народ свободным и счастливым".
С высоты прожитых лет, вглядываясь в глубину прошедших веков, по-разному можно расценивать духовную судьбу и жизненную участь Сергея Петровича Трубецкого. Предупреждая читателя от скоропалительных выводов, приведём слова самого декабриста, написанные им уже после амнистии 1856 года: «Я убеждён,- писал он, - что если б я не испытал жестокой превратности судьбы и шёл бы беспрепятственно блестящим путём, мне предстоящем, то, со временем утратил бы истинное достоинство человека. Ныне же я благословляю десницу Божию, проведшую меня по тернистому пути и тем очистившую сердце моё от страстей, им обладавших, показавшую мне, в чём истинно заключается достоинство человека и цель человеческой жизни».
Никита Кирсанов, 1984 - 2014 гг.
Таким образом, Трубецкой, возможно, ранее других своих товарищей узнал о деятельности Герцена и Огарёва и ещё до выхода в августе 1855 года первой книжки «Полярной звезды» знал о существовании Вольной русской типографии в Лондоне. Из небольшого числа сохранившихся писем Трубецкого, можно судить о том, что «Колокол» находился в сфере внимания декабриста. И.И. Пущин в письме от 19 ноября 1858 года (в ответ на не дошедшее до нас письмо Трубецкого от 4 октября 1858 г.) сообщал: «Петербургские новости, вероятно, к вам доходят прямым путём, и, следовательно, вы от меня их не ждите. «Колокол» и у вас слышен без сомнения - я остановился на 25–м ударе». (В № 25 «Колокола» от 1 октября 1858 года было помещено «Письмо к редактору», в котором говорилось, что надежды на прогрессивные реформы лопнули, что напрасно сохраняют ещё веру в Александра II и что царская семья занимается спекуляциями. - Н.К.).
13 июня 1858 года по ходатайству своячениц Трубецкой получил разрешение, съездить в Варшаву для свидания с родственниками. В секретном отношении Долгорукова наместнику Царства Польского М.Д. Горчакову от 22 мая 1858 года указывалось, что Трубецкому разрешено поехать «на самое короткое время». Тут же следовало предупреждение о необходимости учредить за ним негласный полицейский надзор и немедленно сообщить о возвращении его из Варшавы в Киев; если же он захочет поехать за границу, «ни под каким видом не выдавать ему заграничный паспорт». Пробыв в Варшаве две недели, Трубецкой 8 июля 1858 г. возвратился в Киев.
Вскоре Н.Р. Ребиндера перевели в Одессу попечителем учебного округа. До него в 1856–1858 годах в этой должности состоял знаменитый хирург Н.И. Пирогов. В Одессе Ребиндеры поселились на даче у Пирогова, расположенной в 19 верстах от города, и он некоторое время лечил Александру Сергеевну. В октябре 1858 года перебрался в Одессу и Трубецкой. Он поселился в гостинице "Европейская", принадлежавшей купцу Вагнеру. Незадолго до отъезда Сергей Петрович получил известие о кончине одного из самых близких друзей – И.Д. Якушкина. В Одессе Сергей Петрович прожил год. Ваню и Федю из Одессы он отправил в Саблы к Давыдовым, сам же часто бывал проездом в Симферополе, Ялте, Севастополе: «Были на Малаховом кургане, - сообщала А.С. Ребиндер мужу, - на могилах четырёх адмиралов, в доках и на Бастионах. Такого разорения невозможно представить. Извозчик показывал дорогой, где что происходило, указал на батарею, построенную бабами, которых высылали, но они не ушли, сделали себе укрепления не хуже других. Не могу пройти всё это молчанием, потому что всё видимое и слышанное произвело на меня сильное впечатление. Хоть всё более или менее известно, но тысячу подробностей узнаёшь только на месте. Ехали по Воронцовской дороге. Внизу видны следы неприятельского лагеря. Мы проехали по самым тем местам, где был жестокий бой под Чёрной…» В письме от 1 июля 1859 года А.С. Ребиндер писала мужу, что 28 мая они с Сергеем Петровичем и Давыдовыми ездили в Бахчисарай, который « с своими татарами напомнил мне Маймачин, хотя он и не похож на него, но есть что- то общее. Мы осмотрели мечеть, сады и фонтаны, видели ханские гробницы. Унтер – офицер, показывавший нам дворец, объяснял всё, как умел, и рассказывал в прозе то, что Пушкин воспел в стихах. Хоть предмет один и тот же, но я предпочитаю рассказ последнего».
16 мая 1859 года С.П. Трубецкой с дочерью Елизаветой Давыдовой встречал в Севастополе возвратившихся из заграничного путешествия через Константинополь по Чёрному морю Свербееых. В Баден–Бадене у Свербеевых 6 августа 1858 года родился сын. В связи с этим А.И. Герцен писал 23 августа 1858 года: «Письмо ваше тем больше обрадовало всех нас – что в нём была хорошая весть о новом Дмитрии – ему «Колокол» звонит привет». О приезде Свербеевых сообщала А.С. Ребиндер мужу в Петербург: «Наши путешественники приехали. Зина не изменилась нисколько. Мальчик у них прехорошенький, но Николай Дмитриевич переменился, ужасно похудел».
Свербеевы намеревались возвратиться в Сибирь. Сергей Петрович одобрительно отнёсся к этому решению, сам же не видел возможности ехать с ними: «Если б меня не связывал Ваня, - писал он Свербеевым, - то я бы от вас не отставал, мне приличнее умереть в Иркутске, нежели где-либо в другом месте, матушка была неразлучна со мною в жизни своей, и мне следовало бы лечь вблизи её могилы».
С.П. Трубецкой надеялся перевести сына из Ришельевского лицея в Московский университет. В связи со студенческими волнениями в университете А.С. Ребиндер писала сестре: "Невольно думаю о Ване, что через год и он куда – нибудь поступит и непременно будет замешан во всевозможные истории, если не сделается до тех пор рассудительнее".
В феврале 1859 года Н.Р. Ребиндер выехал в Петербург в связи с назначением на должность директора департамента народного посвящения. 29 июля А.С. Ребиндер в сопровождении отца, которому было разрешено поселиться в Москве, отправилась к мужу. Ваня и Федя выехали вслед за ними. В Москву прибыли 19 августа, Сергей Петрович поселился с детьми вначале у своей сестры Е.П. Потёмкиной на Пречистенке, затем в доме Стромиловой на углу Трубниковского и Дурновского переулков, где прожил до 1 сентября 1860 года.
Отъезд Свербеевых в Сибирь не состоялся. 4 декабря 1859 года Зинаида Сергеевна вступила во владения имением Сетуха Новосильского уезда Тульской губернии. (Имение до этого называлось Покровское. Н.Д. Свербеев приобрёл его за 129 тысяч рублей серебром. - Н.К.).
1859 год принёс С.П. Трубецкому новые переживания. 3 апреля скончался И.И. Пущин; из Иркутска пришло известие от Горбунова: «Не успел я уведомить вас о смерти одного из ваших товарищей (М.К. Кюхельбекера), а приходиться уведомлять о смерти другого – В.А. Бечаснов скончался вчера 16 октября, утром. Вымирают или выезжают все, что было лучшего, самостоятельного в Сибири. Остаются чиновники да купцы, люди зависимые, то же без голоса. И теперь всех вас поминают беспрестанно, а придёт время, то вспомнят и не так. Послезавтра мы хороним его в монастыре подле Панова и Муханова. Веретенников даст деньги на похороны, и мы с Петрашевским взялись хлопотать о могиле». В том же году скончался и В.М. Голицын. С грустью Сергей Петрович замечает: «Ряды наши редеют. Смерть косит и здесь и в Сибири».
У самого Трубецкого возобновились приступы, сопровождавшиеся лёгочными кровотечениями. Здоровье дочери Александры ухудшилось. Беспокоило материальное положение детей. Несколько лет решался Сенатом вопрос о разделе имущества, оставшегося после смерти Екатерины Ивановны.
Завещание её матери, графини Александры Григорьевны Лаваль, не сохранилось. Об имуществе, оставшемся после её смерти, можно судить по «раздельной записи», в которой значится: недвижимость в виде Архангельского медеплавительного завода в Стерлитамакском уезде Оренбургской губернии, населённые имения в Московской, Петербургской, Пензенской, Тамбовской, Тверской, Саратовской и Таврической губерниях (свыше 9 тысяч душ крестьян мужского пола), дома в Петербурге, Моршанске и Иркутске общей стоимостью в 1,5 млн. рублей серебром (далее денежные исчисления даны так же в серебряных рублях); наличные капиталы в банках Штиглица (в Петербурге) и Ротшильда (в Париже), в Петербургском опекунском совете, государственных Заёмном и Коммерческом банках на сумму 150 тысяч; драгоценности (золото, серебро, бриллианты, картины, бронза, хрусталь, фарфор, книги и пр.) на сумму 130 тысяч; коллекция античных предметов, оценённая в 50 тысяч; наконец ежегодный доход с имений и с завода на сумму 150 тысяч. Таким образом на 1850 год наследство составляло 2 млн. 600 тысяч рублей. Наследницами являлись: Екатерина Ивановна Трубецкая, Зинаида Ивановна Лебцельтерн (4.06.1801-4.04.1873), Софья Ивановна Борх (11.05.1809-8.10.1871) и Александра Ивановна Коссаковская (21.10.1811-21.06.1886).
Доверенным лицом А.Г. Лаваль был Иван Сергеевич Персин. Он сообщал, что ясности с имениями нет. Дела Лаваль велись крайне плохо. Многие документы потеряны или истреблены, «вероятно, по стычке управляющих с деловыми людьми, которых состояло при доме 72 человека мошенников и пьяниц, графиню обкрадывали в собственном доме». Забывчивость её в последние годы была так велика, что при описи оставшегося имущества обнаружены просроченные ломбардные билеты на 26 и 11 тысяч рублей. Масса бумаг из деревень и завода найдены нераспечатанными с 1845 года. Бриллианты стоимостью в 51 тысячу рублей были обнаружены в старой шляпной коробке.
И.С. Персин писал: «Самое лучшее, по моему мнению, будет: выделивши вам теперешний доход в 24 тысячи рублей, который вы получаете, остальное имение разделить на четыре равные части по взаимному всех согласию и бросить жребий, который должен решить, какая часть кому достанется».
Мнения наследниц расходились относительно судьбы коллекции древностей, картин, библиотеки, представляющих собой большую ценность в комплексе. Разрозненность значительно обесценивало каждое из этих собраний, что вызывало на первых заседаниях разногласия. З.И. Лебцельтерн противилась продаже предметов искусства, предлагая разделить их между наследницами; она же соглашаясь на продажу драгоценностей, мебели и библиотеки, категорически возражала против продажи античной коллекции и дома. А.И. Косаковская предлагала вывезти коллекцию картин в Англию, мотивируя это тем, что "ни в Петербурге, ни в Москве нет любителей галерей, которые хотели бы расширить свои коллекции". С этим не соглашался её муж, ссылаясь на то, что продажа коллекций, собранных с такой любовью их матерью, оскорбило бы её память.
Он предлагал всё поделить поровну. Этот план не устраивал Трубецких, нуждавшихся в деньгах, а не в предметах роскоши. К концу раздела наследницы всё-таки пришли к соглашению, сохранив между собой добрые отношения. Всё недвижимое имущество было поделено в соответствии с завещанием А.Г. Лаваль, а движимое, кроме коллекции античной и египетской скульптуры, приобретённой Эрмитажем за 32,5 тысячи рублей, было соответственно разделено на четыре части, в том числе библиотека , насчитывающая свыше 8 тысяч томов. Часть наследства, доставшаяся Е.И. Трубецкой, оценивалась в 647 тысяч рублей. Кроме наличных капиталов, она получила: имения Саблы в Симферопольском уезде Таврической губернии, оценённое в 90 тысяч; Пензенское имение в 115 тысяч ; село Екатерининское Нижегородского уезда Московской губернии в 35 тысяч и дом в Иркутске, оценённый в 10 тысяч рублей. Дом Лавалей на Английской набережной (ныне дом № 4), оценённый в 150 тысяч рублей оставила за собой С.И. Борх с обязательством выплатить ¾ его стоимости сёстрам. После смерти Е.И. Трубецкой, часть наследства Сергея Петровича составляла 58240 рублей серебром и дом в Иркутске, но он отказался от своей доли в пользу дочерей Александры и Зинаиды, поскольку их сестра Елизавета получила в приданое при жизни матери наследство, превышавшее доли её сестёр. Ивану Сергеевичу Трубецкому досталось в наследство имение в Пензенской губернии, во владение которым он вступил в начале 1860 года.
Сергей Петрович был нужен всем своим детям. П.А. Горбунов писал бывшему своему воспитаннику Ване Трубецкому: «Из письма Н.А. Белоголового к брату я узнал, что Сергей Петрович был опасно болен. Он пишет, что болезнь серьёзная и что подобные припадки могут возвращаться при малейшем расстройстве, как физическом, так и нравственном. На тебе лежит теперь обязанность беречь отца, сколько можно. Окружи его своею любовью, всем вниманием, на кое только способен. Береги от всякого душевного беспокойства, пуще всего сам не подавай к нему никакого повода. Ты один при нём, а он тебе ещё нужен, да и как я знаю, ты добр, ты честен, но в твоей молодой голове дуют ещё все 24 ветра. Тебе долго ещё будет нужен такой кроткий любящий советчик, как твой почтенный отец. Кто в состоянии заменить тебе его, да и кого ты послушаешь, как его?»
30 ноября 1859 года А.С. Ребиндер сообщила сестре «важную новость»: «Папе разрешено приезжать по временам в Петербург». В начале 1860 года врачи настоятельно советовали ей ехать для лечения за границу. Хлопоты о разрешении отцу сопровождать её оказались безуспешными. Видимо старый, больной, но сильный духом декабрист всё ещё был опасен правительству, упорно не желавшему выпускать его из России, из-под контроля III отделения.
Проводив дочь, Сергей Петрович выехал с сыном в их Пензенское имение с. Напольный Вьяс Саранского уезда. Там они застали безрадостную картину: «Наш хутор, - иронизировал Трубецкой, - нашли в отличном состоянии: ни коровы, ни овцы, ни свиньи, только три лошади для разъездов управляющего, бывшие на пашне (барщинные) в самом худом положении, а оброчные крестьяне найдены в гораздо лучшем, нежели я полагал». Первые распоряжения нанятому новому управляющему Р.Н. Лету составили целую программу действий, направленных на улучшение состояния крестьян: «Не отягощать крестьян никакими барщинными работами, а таковые работы проводить вольными людьми», вникнуть, в чём состоят их занятия сверх хлебопашества, насколько и какие из этих занятий приносят им более выгоды; выяснить причины бедности крестьян; узнать от самих крестьян, охотно ли они пойдут на вольную работу по земледелию и за какую плату; защищать крестьян во всех случаях, когда это будет необходимо; открыть больницу, в которой принимать всех больных из имения, и выписывать из больницы не иначе «как по убеждению доктора, что они совершенно выздоровели»; для ухода за больными иметь достаточное число фельдшеров и служителей; непременно прививать оспу всем детям, для чего обучить оспопрививанию смышлёных вдов и девиц, которые смогут заняться этим не хуже мужчин, и положить им определённое жалованье. Постараться уговорить крестьян сажать деревья около своих изб и принять меры к сохранению и приумножению лесных посадок. Крестьян, бывших ранее на барщине, перевести по их желанию на оброк. Были приняты меры против несправедливого захвата управляющим имения Борхов в селе Большой Вьяс (с 8 июня 1860 г., перешедшее во владение И.С. Трубецкому) лесных и пашенных наделов, которыми пользовались ранее крестьяне.
Трубецкой приступил к подготовке «соображений, каким образом можно будет устроить имение при ожидаемом освобождении крестьян», предписав управляющему «крестьян и дворовых людей содержать в должном повиновении и стараться о водворении между ними доброй нравственности». В этом наставлении обращает на себя внимание требование Трубецкого содержать крестьян в повиновении. Почему же человек, ненавидевший рабство, не освободил своих крестьян собственной властью тот час же как стал их владельцем? (В данном случае не имеет значения, что крестьяне принадлежали не ему, а сыну, тот во всём следовал советам отца). Ответ прост: накануне проведения общей реформы «сверху» частная инициатива в этом деле расценивалась бы как вызов правительству.
Веру в благополучное законное решение крестьянского вопроса разделяли в то время все декабристы. Трубецкой не одобрял участившихся выступлений крестьян в Пензенской губернии в имении Борхов из-за тяжёлых, с его точки зрения, последствий и для государства и для самих крестьян. Он считал, что помещики должны удержать крестьян от опасных выступлений и содействовать скорейшему переходу их к жизни в «новых условиях».
Несмотря на солидное наследство, оставленное Е.И. Трубецкой, материальное положение семьи было шатким. Наличных капиталов почти не было. Не находилось покупателей на дом в Иркутске. Золотоносный прииск Элихта, акционером которого был Трубецкой, не только не приносил дохода, но и стал убыточным. Чтобы отправить Александру Сергеевну на лечение за границу, Ребиндеры были вынуждены заложить столовое серебро и прибегнуть к займу. Сам Сергей Петрович вёл более чем скромный образ жизни и, чтобы сводить концы с концами, зачастую вынужден был сокращать расходы на квартиру, экипаж и пр. Из небольших личных средств он по-прежнему посылал взносы в «малую артель» для оказания помощи нуждающимся товарищам или их семьям.
Поездка в Пензенскую губернию, а оттуда в Нижний Новгород, где состоялась встреча со старыми друзьями, в том числе с Г.И. Невельским и его семейством, позволила Трубецкому на какое-то время отвлечься от мрачных мыслей о здоровье старшей дочери, об ухудшившемся состоянии Н.Д. Свербеева.
9 июля 1860 года из Дрездена пришло известие о кончине 30 июня Александры Сергеевны. Нужно было найти физические и душевные силы, чтобы пережить горе, поддержать детей, внуков, мужа дочери. Он отправился в Сетуху проведать Н.Д. Свербеева, оттуда вернулся в Москву, чтобы затем вместе с сыном и младшей дочерью ехать в Петербург на похороны Александры Сергеевны, тело которой было доставлено пароходом 9 августа. Похоронили А.С. Ребиндер на Новодевичьем кладбище. Дочь Ребиндеров Екатерина осталась жить в семействе З.И. Свербеевой и называла ее мама, а Николай Романович приобрёл имение вблизи Нарвы и переселился туда со старшей дочерью и сыновьями.
Вернувшись в Москву в середине августа 1860 года Трубецкой с 1 сентября поселился в доме княгини Мещёрской – или доме Панина (М.А. Мещёрская – дочь А.Н. Панина) на Никитской во флигеле на втором этаже, что в Шереметевском переулке (ныне – Романов переулок, 7).
Сергей Петрович старался не замыкаться в своем горе, встречался со старыми друзьями: сердечно рад был встрече с Г.С. Батеньковым и Е.П. Оболенским, сам отправился в подмосковное имение Никольское к А.В. Поджио, побывал в Твери у М.И. Муравьёва-Апостола, навестил в Москве Анненковых, вернувшихся из-за границы, часто бывал у Нонушки Бибиковой, ездил к сестре Елизавете Петровне, в имение Аниково Звенигородского уезда Московской губернии (после её смерти перешедшее к И.С. Трубецкому). Его навестили старые сибирские знакомые: М.С. Корсаков, Фёдоровский, Савичевский, часто бывал Н.А. Белоголовый. М.С. Корсаков рассказывал о состоянии дел Амурской экспедиции, об отношениях с Китаем, о разногласиях в Иркутском обществе со времени дуэли между чиновниками Беклемишевым и Неклюдовым.
Трубецкой продолжал внимательно следить за подготовкой крестьянской реформы, делился с Ребиндером мыслями о результатах Варшавской встречи трёх императоров. Одним словом он старался вести самый деятельный образ жизни и быть полезным своим друзьям и близким. Неожиданно у него случился сердечный приступ, началось кровотечение. Сын вызвал телеграммой А.В. Поджио. Тот пробыл три дня и, когда опасность, казалось, миновала, уехал. В ночь с 21 на 22 ноября приступ повторился, и Сергей Петрович скончался на руках сына и Г.С. Батенькова.
О смерти С.П. Трубецкого подробно написал в своих "Воспоминаниях" Н.А. Белоголовый: "... Князю Трубецкому разрешено было проживать в Москве, в виде исключения и под тем предлогом, чтобы не расставаться с сыном, который поступил студентом в московский университет. Жил он в небольшой квартирке на Кисловке вместе с сыном, и я нередко навещал его; хотя разница в летах между нами была на целых 50 лет, но меня привлекала к нему и необыкновенная доброта его, и то чувство благоговения, какое я питал с своего ещё безсознательного детства к декабристам, тем более, что живя весьма уединённо и тесно, не выходя на воздух вследствие одышки, старик скучал и всегда при прощании настойчиво просил заходить к нему. Он, видимо, дряхлел, и давняя болезнь сердца, по мере развития старческого окостенения сосудов, всё более и более беспокоила его мучительными припадками, а потому я нисколько не удивился, когда в ноябре ранним утром ко мне прибежал кто-то сказать, что князю очень плохо и меня просят прийти поскорее. Я отправился немедленно и нашёл его уже мёртвым в сидячей позе на диване, бельё на нём и всё кругом залито было хлынувшей изо рта кровью с такой стремительностью и в таком количестве, что смерть наступила быстро и без страданий..."
В архиве III отделения собственной его императорского Величества канцелярии хранятся секретные донесения от 29 ноября и 5 декабря 1860 года шефа жандармов Московской губернии подполковника А.В. Воейкова, содержащие ценные сведения о кончине и похоронах С.П. Трубецкого. Вот что писал А.В. Воейков в первом донесении: «Возвращённый из Сибири дворянин Сергей Петрович Трубецкой, находившийся постоянно с августа месяца прошлого 1859 года в Москве по случаю своего нездоровья, 22-го сего ноября впоследствии апоплексического удара (кровоизлияния в мозг) скончался. По ненахождению в Москве замужней дочери Свербеевой и других родных, в ожидании приезда их похороны отлагались до 25 числа, но никто из них по разным случаям не приехал, кроме знакомых покойного - Бестужева-Рюмина, Апостола-Муравьёва, жены Пущина (к тому времени вдовы декабриста, Н.Д. Пущиной, урождённой Апухтиной, в первом замужестве Фонвизиной. - Н.К.) и Поджио, который, по-видимому, на похоронах принимал большое участие и до самого места нёс образ, самими же похоронами распоряжался г-н Бибиков (И.М. Бибиков, давнишний друг С.П. Трубецкого. - Н.К.) и частию сенатор Подчасский (И.И. Подчасский, второй муж сестры декабриста Е.П. Потёмкиной. - Н.К.).
Студенты университета по сочувствию к сыну Трубецкого, их товарища, учившегося на юридическом факультете, гроб покойного из дома княгини Мещёрской (где квартировал) несли на руках до церкви св. Николая, что в Хлынове (приходская церковь в Хлыновском тупике; не сохранилась), где было отпевание тела, и по окончании оного не допустили поставить гроба на колесницу, а несли опять на руках попеременно, что было весьма затруднительно, так как при этой процессии находилось более ста человек одних студентов разных факультетов, сопровождавших до самой могилы в Новодевичий монастырь; когда же процессия поравнялась со зданием университета, то была остановлена для совершения литии (краткой панихиды).
Таковое сочувствие студентов к покойному Трубецкому породило в обществе толки о сделанной со стороны их демонстрации, и что будто бы между студентами рассылались приглашения для желающих быть на похоронах Трубецкого, как человека страдавшего много лет во время ссылки своей в Сибири.
«Долгом поставляя почтительнейши донести вашему сиятельству о смерти Трубецкого и его похоронах, присовокупить честь имею, что доносимое мною обстоятельство, я не оставил без проверки более положительной; впрочем, речей или каких-либо замечательных случаев не происходило. Сын Трубецкого в настоящее время находится в Петербурге, где имеет родных».
На донесении имеется помета В.А. Долгорукова: «Доложено его величеству 4 декабря».
Как ни старался Воейков представить похороны Трубецкого как самые заурядные, на самом деле, по свидетельству современников, они вылились в политическую демонстрацию. Была вызвана рота солдат, сопровождавшая процессию на кладбище. Даже мёртвый декабрист вызывал опасения у властей, даже в могилу его сопровождали под конвоем!
Перед гробом Трубецкого М.И. Муравьёв-Апостол нёс икону с изображением Христа в терновом венце, как бы символизируя тем самым страдания умершего за народ. По поводу этой иконы был сделан официальный запрос родным, но они отговорились тем, что эта семейная реликвия, принадлежавшая жене Трубецкого Екатерине Ивановне.
В донесении Долгорукову от 5 декабря 1860 года Воейков сообщал: «Что же касается до рассказов об образе, несённом перед гробом (как оказалось Муравьёвым-Апостолом). Спасителя в терновом венце большого размера, то таковой был не нарочно выбран, а снят со стены залы, который принадлежал покойной жене Трубецкого».
Н.А. Белоголовый в письме брату от 25 ноября отмечал: «Публики было очень много, но главную массу составляли студенты; они хотели, верно, заявить свое сочувствие этому ратнику свободы, гроб его несли все на своих руках до кладбища, что составляет около 7 вёрст». В числе провожавших Трубецкого были М.М. Нарышкин и Г.С. Батеньков.
Похоронен Трубецкой на старом кладбище Новодевичьего монастыря близ Смоленского собора.
"Он был олицетворённая доброта", - писал о Трубецком декабрист А.Ф. Фролов. Другой декабрист Е.П. Оболенский в письме к детям Трубецких выразил общую мысль своих товарищей: «Отрадно то чувство, которое сохранилось в чистом, честном чувстве к Сергею Петровичу и Екатерине Ивановне. Пусть дружба отцов перейдёт в ваши сердца и даст отрадное чувство взаимного единодушия немногих искренних друзей их, которые ещё живы».
Сын декабриста Е.И. Якушкин, познакомившись с Трубецким в Иркутске, написал о нём: «Самый замечательный человек из всех иркутских жителей – Трубецкой. Всегда спокойный, всегда одинаковый, он не производит впечатление с первого раза, но, узнавши его хоть несколько, нельзя не почувствовать к нему привязанности и глубокого уважения. Привычками своими и обращением, равным ко всем, он напоминает Пущина, но по уму, образованию он стоит несравненно выше, не говоря уже об убеждениях».
Внук декабриста В.Е. Якушкин в статье, посвященной выходу в свет в 1906 году «Записок Трубецкого», писал, что Трубецкой "был несомненно, одним из самых видных представителей общественного движения того времени. По уму, характеру, по своим взглядам и преданности делу, за которое взялся по глубокому убеждению, имел большое влияние среди товарищей и, влияние это отражалось на всём ходе дел тайных обществ. Он пожертвовал личным счастьем и счастьем горячо любимой жены ради своей любви к Отечеству, ради своих стремлений сделать русский народ свободным и счастливым".
С высоты прожитых лет, вглядываясь в глубину прошедших веков, по-разному можно расценивать духовную судьбу и жизненную участь Сергея Петровича Трубецкого. Предупреждая читателя от скоропалительных выводов, приведём слова самого декабриста, написанные им уже после амнистии 1856 года: «Я убеждён,- писал он, - что если б я не испытал жестокой превратности судьбы и шёл бы беспрепятственно блестящим путём, мне предстоящем, то, со временем утратил бы истинное достоинство человека. Ныне же я благословляю десницу Божию, проведшую меня по тернистому пути и тем очистившую сердце моё от страстей, им обладавших, показавшую мне, в чём истинно заключается достоинство человека и цель человеческой жизни».
Никита Кирсанов, 1984 - 2014 гг.
Метки: декабристы трубецкие |
Никита Кирсанов. "Благословляю десницу Божiю..." (11) |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Благословляю десницу Божiю..." (11).
Чтобы как-то отвлечься от постигшего его горя, Сергей Петрович, в сопровождении сына Ивана и дочери Зинаиды, сразу после похорон уезжает к Ребиндерам в Кяхту. «…Мне её (Е.И. Трубецкой) недостаёт, но я её не оплакиваю; знаю, что её душа всегда с нами, так же точно, как моя мысль постоянно с нею. Я буду продолжать без жалоб терпеть существование до тех пор, пока никто из моих не будет иметь нужды во мне… Моё одно желание быть руководителем моей младшей дочери до тех пор, пока она со мной и продолжать развивать семена тех добрых качеств, какими Провидение наделило моего сына. Он ещё молод, ему нет ещё двенадцати лет, я нисколько не рассчитываю прожить достаточно долго, чтобы окончить его воспитание, но я на этот счёт спокоен, ибо я убеждён, что при наличности родных, дающих нам столько доказательств своего к нам участия, недостатка в покровителях у него не будет»…
Вернувшись в Иркутск, Сергей Петрович писал Батенькову: «Собственная душа не мешает мысли заниматься общим делом. Война и ожидание её последствий всегда предметом разговоров, когда сходимся». Он с горечью сообщал, что событие в России редко доставляют утешение, «чаще сердце обливается кровью, и тогда негодование берёт верх над другими чувствами. Странная бедность в людях! Глас народа, говорят, есть глас божий, но и народ не произносит никакого имени. Знаем только то, что те, которые есть, не годятся, а кого поставить вместо их? - Нет ответа».
Амур, Севастополь, Камчатка, Кронштадт – вот горячие точки, к которым было обращено внимание декабриста. «Военные действия, и в особенности в Крыму, поневоле поглощают все его мысли и хоть ненадолго отвлекают от ежеминутной скорби», - отмечала А.С. Ребиндер, сообщая о состоянии отца. Вызывала негодование бездарность правительства, начавшего неправую войну, и командования, которое в этой войне проливало напрасно кровь, губило народное добро и утешало себя мыслью, что урон неприятеля более значителен. «Всего не узнаете, что здесь известно по письмам из тех краёв, - сообщал Трубецкой. – Какая бездна хлеба погублена, а сколько истребилось капиталов! А он (Горчаков) радуется, что частная только собственность пострадала большею частию, а матросов и офицеров большая часть уже перебита на стенах севастопольских». Давыдовы сообщали из Крыма о возможном разорении имения и о своём беспокойстве, «как спасти крестьян на случай наступления к ним неприятеля». (Крымское имение Давыдовых Саблы в период войны в мае 1854 года находилась в прифронтовой полосе, и в нём был развёрнут госпиталь).
Грустные известия приходили от друзей: смерть унесла Фонвизина, Муханова, братьев Борисовых, В. Давыдова, Н. Бестужева; здоровье И.Д. Якушкина, приехавшего в Иркутск в 1854 году, настолько ухудшилось, что опасались за его жизнь. В конце 1854 года уехали в Петербург Ребиндеры, а вскоре в доме началась эпидемия скарлатины, тяжело болели Иван, Фёдор Кучевский, Мария Александровна Неустроева, с 1852 года ставшая женой П.А. Горбунова, которая так и не поправилась.
29 апреля 1856 года в Знаменской церкви, состоялась венчание младшей дочери Трубецкого Зинаиды с Николаем Дмитриевичем Свербеевым, выпускником Московского университета, родственником Е.П. Оболенского. Из глухих намёков в письмах Трубецкого к З.И. Лебцельтерн и И.Д. Якушкина к В.И. Якушкину за октябрь 1854 – февраль 1855 годов, а так же из письма Свербеева к Трубецкому от 25 марта 1855 года следует, что поведение Свербеева, увлечение которого Зиной началось ещё в 1852 году, несколько изменилось после смерти Е.И. Трубецкой, когда Зинаиде угрожало превращение из богатой наследницы в бесприданницу (Екатерина Ивановна не оставила завещания). Это вызвало настороженность Трубецкого, и Свербееву было отказано. В.И. Якушкин писал И.И. Пущину 28 октября 1854 года: «Жар многих женихов начинает остывать. Свербеич (Свербеев Н.Д.) последнее время вёл себя так дико и непристойно, что из рук вон; отца это очень оскорбляло, и он шпиговал при всяком случае, но, кажется без пользы, по крайней мере видимой». Определённую роль в отказе Трубецкого сыграл и В.И. Якушкин, также претендовавший на руку Зины. Однако Н.Д. Свербеев сумел «оправдаться» перед Трубецким и его дочерью, и помолвка состоялась. И.Д. Якушкин, «известившись, что дело по моим отношениям к семейству Трубецких, не заладилось», обиделся и хотел съехать из дома Сергея Петровича, где он в это время жил. Трубецкой постарался загладить возникшую неловкость, посвятив старого друга во все подробности этого сватовства, в котором решающую роль, по – видимому, сыграло предпочтение, оказанное Зинаидой Сергеевной Свербееву. (Среди претендентов на руку Зинаиды Сергеевны были ещё адьютанты Н.Н. Муравьёва - офицер лейб-гвардии Егерского полка А.Э. Енгалычев, офицер лейб-гвардии Семёновского полка А.Н. Сеславин, а так же, чиновник по особым поручениям, барон В.И. Вольф. - Н.К.). Молодые поселились у Трубецкого во флигеле, пристроенном в 1852 году к заушаковскому дому.
С замужеством Зины дом Трубецких помолодел и оживился. Вокруг «ветеранов» стала собираться молодёжь: братья Белоголовые, В.И. Вольф, Е.В. Пфаффиус, А.И. Заборинский, приехавшие по делам службы С.П. Колошин (сын декабриста П.И. Колошина) и А.П. Полторацкий, ссыльные поляки. Часто бывала Е.П. Ротчева, женщина образованная, почитательница Руссо. Её салон в Иркутске посещали петрашевцы, один из которых, Ф.Н. Львов, женился на её дочери. «Зелёное поле», как называл эти собрания у Трубецкого Н.Д. Свербеев, собирало ежедневно бойцов, между которыми разгорались «сильные прения». От молодёжи не отставали и «старики»: А. Поджио, Волконский, И. Якушкин, Бесчаснов, Трубецкой. (В середине 1850-х годов В Иркутске образовался кружок передовой молодёжи, получивший название «Общество Зелёных полей». Организаторами его стали братья Николай и Андрей Белоголовые, воспитанники декабристов Юшневского и А. Поджио. Возможно, прообразом общества послужили собрания Зелёных полей в доме Трубецкого. - Н.К.).
Тогда же, на этих собраниях читалась и обсуждалась статья Н.А. Мельгунова «Мысли вслух об истекшем тридцатилетии России», опубликованная в Лондоне в 1856 году в I части «Голосов России», и Б.И. Чичерина «Восточный вопрос с русской точки зрения». Обе статьи так заинтересовали Трубецкого, что он собственноручно переписал их. Статьи содержали резкую критику политики царского правительства во всех областях государственного устройства, особенно в годы Крымской войны, которая вскрыла язвы русской жизни.
В.Е. Якушкин, внук декабриста, упомянул об этих статьях в связи с поражением России в русско-японской войне 1904–1905 годов, видя аналогию в характере ведения обеих войн. По замечанию Якушкина, статьи с анализом русской действительности, подобные упомянутым, ходили в 1850-е годы по рукам в списках, поскольку не печатались в связи с цензурным запретом. «Сильно сочувствовал им Трубецкой, - писал Якушкин, - если на 7–м десятке пожелал их списать собственноручно».
В августе 1856 года должна была состояться коронация Александра II. Многие декабристы и особенно их близкие связывали с ней надежды на амнистию. Трубецкой не разделял их. Н.Д. Свербеев в полном согласии с мнением тестя писал Е.П. Оболенскому 8 августа 1856 года: «Если и будет амнистия, то её даруют как-нибудь мерзко, ибо у нас не подло правительство не сумеет поступить». Действительно, амнистия имела ограниченный характер, а манифест содержал всякого рода оговорки и «частные изъятия», которые проводились негласно. Таким «изъятием» явилось умолчание о тайном надзоре за возвратившимися из ссылки декабристами. Им разрешалось жить, где захотят, исключая Москву и Петербург. Трубецкой, как и некоторые его товарищи, не хотел воспользоваться амнистией, и «детям стоило больших трудов оторвать его от могилы жены; только ради воспитания своего сына Ивана он сдался на увещевания». В июне 1856 года Сергей Петрович побывал в Петровском заводе у И.И. Горбачевского и заказал через него решётку на могилу Екатерины Ивановны… Перед отъездом навек отправился Сергей Петрович с сыном, дочерью и зятем в ограду Знаменского монастыря, к могиле жены и трёх детей; опустившись на колени, он притронулся рукой к серому камню и потерял сознание. Его пытались привести в чувство, но всё было безуспешно. Так в обморочном состоянии его и погрузили на сиденье возка...
1 декабря 1856 года Трубецкой покинул Иркутск. Свой дом он оставил на попечение П.А. Горбунова. (История этого дома такова: Трубецкие решили расширить дом, купленный у Цейдлера в 1845 году в Знаменском предместье, и в 1851–1852 году пристроили к нему ещё один дом. О ходе строительства и внутренней отделки нового дома (или, как иногда называется в документах, флигеля) сохранилась обширная переписка между И.С. Персиным и Трубецким. План обоих домов воспроизведён Н.Д. Свербеевым и А.А. Елагиной с обозначением комнат нижнего этажа, где поселились супруги Свербеевы. В декабре 1856 года Трубецкой с детьми и Свербеевы покинули Иркутск, оставив дом на попечение П.А. Горбунова. В 1866 году дом бал продан за 6 тысяч рублей серебром купцу П.О. Катышевцеву. Этот заушаковский дом Трубецких сгорел в начале XX века. Сохранившийся в Иркутске дом (ныне музей декабристов на ул. Дзержинского, 64), принадлежавший С.П. Трубецкому, был построен для его дочери А.С. Ребиндер, муж которой в 1854–1855 годах намеревался перебраться из Кяхты в Иркутск. - Н.К. ).
Основную часть своего книжного собрания С.П. Трубецкой пожертвовал библиотеке Восточно–Сибирского отдела Русского географического общества. (Во время пожара в Иркутске в 1879 году библиотека сгорела). Часть книг по истории Франции и Всемирной истории он подарил Иркутскому девичьему институту. Сохранилось только 35 книг из этого собрания.
Багаж Трубецкого при отъезде из Иркутска состоял из 15 ящиков общим весом в 119 пудов. Из них в 11 ящиках (более 100 пудов) были книги, 1 ящик – с книгами И.Д. Якушкина, 1 ящик на 7 пудов был с бумагами, письмами, портретами.
Власти потребовали от С.П. Трубецкого точных сведений о пути его дальнейшего следования и месте предполагаемого поселения в России. Гнев старого декабриста против полицейского надзора нашёл отражение в официальном протесте и резких письмах иркутскому исправнику Д.Н. Гурьеву, а так же в письмах к дочери Александре и сестре Е.П. Потёмкиной.
Местом жительства С.П. Трубецкой избрал Киев, где обосновались Ребиндеры. По дороге в Россию первая длительная остановка была в Нижнем Новгороде. Здесь Сергей Петрович родился, с этим городом декабристы связывали свои планы преобразования государства, ему они отводили роль столицы России. Ко времени приезда Трубецкого, в Нижнем жили многие его друзья и родные. Губернатором только что, в сентябре 1856 года, был назначен старый друг по тайному обществу А.Н. Муравьёв. Здесь же с 1855 года обосновалась М.А. Дорохова, дом которой служил местом встреч передовой интеллигенции города, у неё останавливались все декабристы, возвращавшиеся из Сибири. По–видимому, у неё состоялась встреча Трубецкого с П.Н. Свистуновым. В Нижнем жили давний приятель по обществу «Зелёная лампа» и по Союзу благоденствия А.Д. Улыбышев и брат казнённого декабриста М.П. Бестужева-Рюмина Николай Павлович. Его отца и всю семью Бестужевых–Рюминых Трубецкой знал ещё с детства. Сергей Петрович остановился в семье племянника – Владимира Александровича Трубецкого, где имел возможность познакомиться с его приятелем и сослуживцем В.И. Далем. Там же в Нижнем Трубецкого ждала Е.П. Потёмкина, выехавшая из Москвы навстречу брату.
29 января 1857 года Трубецкой прибыл в Москву (он остановился в доме Дохтуровой на Волхонке; ныне № 13). По ходатайству свояка А.М. Борха ему было разрешено пробыть в столице две недели для разрешения дел по опекунству сына. Начальник 2-го округа корпуса жандармов генерал С.В. Перфильев доносил шефу жандармов В.А. Долгорукову, что Трубецкому, не успевшему в течении положенных двух недель закончить дела, разрешено остаться в Москве «впредь до особого распоряжения» и что при наблюдении за ним «ничего заслуживающего внимания до сего времени не замечено». Однако агенты доносили другое: Трубецкой и Волконский «позволяли себе входить в самые неприличные разговоры о существующем порядке вещей». Получив эти сведения, Долгоруков потребовал разъяснения у Перфильева и московского генерал–губернатора А.А. Закревского. Первый 23 февраля 1857 года доносил Долгорукову: «несмотря на столь продолжительное отчуждение от общества, при вступлении в него вновь они не выказывают никаких странностей, ни унижения, ни застенчивости; свободно вступают в разговор, рассуждают об общих интересах, которые, как видно, никогда не были им чужды, невзирая на их положение; словом сказать, 30 – летнее их отсутствие ничем не выказывается, не наложило на них никакого особенного отпечатка, так что многие этому удивляются и, предполагая их встретить совсем другими людьми: частью сбитыми, утратившими энергию, частью одичалыми, могут находить, что они лишнее себе дозволяют». Далее Перфильев добавил, что ничего другого сказать не может, кроме «изложенного выше удивления, что они сохранили способность обо всём говорить, не сдерживаясь и не выказывая отсталости». Закревский сообщал Долгорукову 12 марта 1857 года: «Трубецкой и Волконский, о проживании которых в Москве имеется особая переписка, ни в чём предосудительном не замечены. Одежда их заключается в пальто и сюртуках, и действительно они носят бороды. Оба находились постоянно в домашнем кругу и появлялись в обществе только случайно: Трубецкой один раз у дочери своей Свербеевой, а Волконский сверх того, у зятя своего отставного полковника Раевского».
Следовательно, Трубецкой и Волконский принимали участие в разговорах на темы, занимавшие в то время умы передовых людей. Неизвестно, о чём велись разговоры в гостиных, посещаемых Трубецким и Волконским постоянно или «случайно», но, скорее всего, это были вопросы, связанные с освобождением крестьян. Ещё весной 1856 года в Сибирь дошли слухи о выступлении Александра II 30 марта перед предводителями московского дворянства, где была высказана мысль о необходимости освободить крестьян сверху, чем ждать, когда они сами освободят себя снизу. В Москве Трубецкому и Волконскому, по–видимому, стало известно о начале заседаний Секретного комитета по крестьянскому делу. Но не только высказывания декабристов вызывали настороженность полицейских агентов, немедленно доносивших о каждом их шаге и слове, но и внешний вид – пальто и длинные бороды – воспринимался как вызов правительству. Не случайно Сергей Петрович в письмах к И.И. Пущину писал: «За что вы так нападаете на мою бороду? Когда уже Закревский в Москве и кн. Долгоруков здесь её пощадили.»
Пробыв в Москве более трех недель, Трубецкой выехал в Киев и прибыл туда 5 марта 1857 года. А.С. Ребиндер указывает точный адрес, по которому поселился Трубецкой в Киеве: «На Липках, в доме Марковича против дома губернатора и почти возле дома, который когда – то принадлежал Василию Львовичу (Давыдову) и где жили наши папенька и маменька в 1824 году». Однако квартира оказалась не по средствам, и он в мае 1857 года переселился в «дом Палехина в Липках наверху Кривой горы, или Университетского спуска», в соседстве с А.И. Давыдовой. (Дом В.Л. Давыдова, ныне Печёрский район, ул. Панаса Мирного, 8/20 – не сохранился, но на его месте установлена мемориальная доска с надписью: «На этом месте находился дом, в котором в 1822–1825 году собирались члены Южного общества декабристов. Здесь была принята «Русская правда». - Н.К.). 17 сентября 1857 года С.П. Трубецкой вновь переменил квартиру поселившись в доме Крыжановской в Елизаветинском переулке. (Распространённое мнение в декабристкой литературе о том, что Трубецкой проживал в доме № 3 по современной Владимирской улице, ошибочно. В этом доме жил брат декабриста Пётр Петрович Трубецкой. - Н.К.).
В ответ на сообщение Трубецкого о приезде в Киев А.В. Поджио писал: «Итак, вы у Днепра, у детей, у Университета, у места всех наших бывших и желаний, и мечтаний!» Поджио вспоминал о далёких днях 1825 года, когда в Киеве собирались заговорщики, разрабатывались планы будущего восстания и преобразования государства. Трубецкой просил Свербеевых, оставшихся в Москве, сообщить ему обо всех друзьях – декабристах и помочь наладить связь со всеми, с кем она была прервана после отъезда из Сибири. В Киеве он нашёл А.И. Давыдову и М.К. Юшневскую, пригласил к себе на жительство А.А. Быстрицкого. В мае 1857 года Трубецкого навестил Н.В. Басаргин с семьёй. Они не виделись 20 лет. Басаргины пробыли в Киеве четыре дня, на обратном пути из Тульчина они провели в Киеве ещё несколько дней. Сергея Петровича часто навещал Н.И. Лорер. Ждали Пущиных, И.Д. Якушкина, но приезд их не состоялся из-за болезней. Из Киева Трубецкой ездил к Давыдовым в Каменку. Здесь он внимательно присматривался к быту крестьян, справедливо замечая, что по одной Каменке нельзя судить обо всех, так же как по одной хате нельзя судить о благосостоянии всех крестьян вообще. Его сведения о Каменке того времени представляют несомненный интерес, так же, как и описание окружающей природы, ведения хозяйства местными помещиками, положения крестьян в соответствии с инвентариями, при составлении которых допускался произвол. Трубецкой писал: «В наших преобразованиях то дурно, что хоть об ином и долго говорят, видя его необходимость, но когда приступают к делу, то делают его с поспешностью, и от этого бывают почти всегда промахи». С большим интересом отнёсся он к плану строительства железной дороги от Киева до Одессы, а также шоссейных дорог для соединения с ней.
Не прерывал Трубецкой связи с Иркутском. Его интересовали события, происходившие на Востоке: миссия Е.В. Путятина в Китай, деятельность Н.Н. Муравьёва на Амуре, предложение американцев построить железную дорогу «от Читы на Верхнеудинск и кругом Байкала», проекты развития пароходства по рекам и Байкалу, устройства электрического телеграфа.
Из писем и других источников видно, что Трубецкой в Киеве в свои 67 лет вёл очень деятельный образ жизни. Он активно переписывался с друзьями, родными, возобновил работу над записками по истории тайных обществ, по настоянию Е.И. Якушкина составил замечания на записки Штейнгейля и Оболенского, вёл дневник, готовил сына Ивана и воспитанника Фёдора Кучевского в гимназию. На вечерах у Ребиндеров, где собирались главным образом профессора и преподаватели университета, Трубецкой участвовал в беседах о научных открытиях, системе образования, его интересовали взгляды учёных на состояние экономики, финансов, сельского хозяйства, на местные условия земледелия.
Одним из тревожных событий того времени были студенческие волнения, начавшиеся в Киевском, Московском и Харьковском университетах. О них с беспокойством говорили в семье Ребиндеров и среди их друзей. Трубецкой разделял мнение зятя о неудовлетворённой системе образования, при которой в учебных заведениях бытовала муштра, военная дисциплина. Пользуясь большим уважением и доверием Ребиндера, Трубецкой старался поддержать его в той обстановке, которая сложилась в городе в связи со студенческими волнениями и приездом специального чиновника для разбирательства дела.
В Киеве жили также старый товарищ Трубецкого П.И. Пущин, братья Арнольди, один из которых Александр Иванович (однополчанин и приятель М.Ю. Лермонтова) – вероятно, рассказывал о своих встречах с поэтом. Возможно, в это же время Н.И. Лорер познакомил Сергея Петровича с рукописью своих «Записок». В Киеве он давал читать их М.В. Юзефовичу. Наезжая в Москву, Лорер знакомил с рукописью Д.Н. Свербеева, своего родственника, с которым и Трубецкой был в свойстве. В это же время и Сергей Петрович работал над своими «Записками». Два декабриста, связанные дружескими почти родственными отношениями, имели основания для взаимного обмена мыслями и воспоминаниями о прошлой деятельности.
Трубецкой по мере возможности посещал театр, оперу, концерты. Вечерами, оставаясь с больной дочерью Сашей (А.С. Ребиндер болела туберкулезом, «чахоткой», как тогда говорили), он часто читал ей вслух произведения И.С. Тургенева и И.А. Гончарова, с которым был лично знаком ещё по Иркутску, куда писатель приезжал после плавания на фрегате «Паллада».
Главным предметом раздумий Трубецкого оставалась подготовка крестьянской реформы. В письме Н.Д. Свербееву от 19 апреля 1857 года он спрашивал: «Что делает вопрос, который повсеместно занимает? Здесь очень беспокоятся и желали бы скорого его разрешения; боятся, что медленность усилит существующее волнение». Нерешительность действий Главного комитета по крестьянскому делу объяснялось опасением правительства вызвать недовольство дворянского сословия. В то же время феодальная система была серьёзным тормозом для развития и сельского хозяйства, и промышленности. «При таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание – опасностью весьма серьёзной».
Трубецкой имел возможность познакомиться с состоянием сельского хозяйства и промышленных предприятий на Украине и в Крыму, в частности с положением дел в сахарной промышленности и торговле; знал со слов помещиков и особенно помещиков предпринимателей, о трудностях ведения хозяйства при недостатке свободных рабочих рук, об их заинтересованности в скорейшем решении крестьянского вопроса, что позволило бы широко использовать труд аграрных и промышленных рабочих. «Не знаю, как поступит здешнее дворянство, - писал Трубецкой Свербеевым, - но знаю многих благомыслящих людей, которые давно желают положить конец тому шаткому положению, в котором они находятся и определить отношения свои к крестьянам на твёрдом основании, которое могло бы обещать им спокойствие в будущем. Ожидание так велико в здешнем народе, что медленность может возбудить такие беспорядки, которые трудно будет прекратить. Если ж будут помещики медлить, то нельзя отвечать, чтоб не было вспышек».
К концу 1850–х годов относится заметка Трубецкого о положении крестьян в Восточной Сибири, написанная в связи с распространением правительственной теории «официальной народности», утверждавшей, что русский народ по природе своей нереволюционен, стоит за царя, не протестует против крепостного права, видит в помещике отца родного и искони глубокого религиозен. Вопреки этому мнению Трубецкой утверждал, что «о русском крестьянине правительство имеет самые ложные понятия», поддерживаемые рядом писателей славянофильского толка, « выдающих себя за патриотов и потому восхваляющих всё русское». На самом деле крестьяне страдали от невежества, нищеты и пьянства. При упадке нравственного умственного положения крестьян их права часто обращались им во вред, например, судное право превращалось в «чисто шемякин суд». Земские власти допускали произвол. Процветало взяточничество. Отсутствие хозяйского наблюдения со стороны начальства усугубляло все эти несправедливости.
В другой черновой заметке – о заготовлении провианта и фуража для армии и флота – декабрист говорит о необходимости создания для пользы крестьян объединённых компаний по организации поставок. Эта заметка явилась откликом на статью Вл. Трубникова «Заготовление провианта и фуража для армии и флота».
С нетерпением, ожидая крестьянскую реформу, Трубецкой всё больше убеждался, что разумное решение дворянским сословием этой проблемы несбыточно. В дневниковых записях за 1857–1858 год декабрист отмечал, что дворянство не оказало ни малейшей готовности содействовать проведению крестьянской реформы, что оно сроднилось с мыслью, что право владения крепостными людьми нисколько не противоречит законам природы и что на нём по их мнению, держатся благоденствие государства, его сила, могущество а «власть господская благодетельна для крепостного сословия». «Нет надобности, - заключал Трубецкой, - оспаривать всех этих и подобных положений. То, что видится беспрестанно на деле, нисколько не оправдывает вышереченных притязаний дворянства».
Видимо, с этого времени надежды на осуществление крестьянской реформы Трубецкой связывает с царём, которому дворянство, не желающее решить дело, вынуждено будет подчиниться. Эта либеральная позиция была в тот период присуща многим прогрессивным деятелям (в том числе и Герцену), связывающим надежды на крестьянскую реформу с Александром II.
В 1857 году Трубецкой поддержал желание Н.Д. Свербеева переехать на службу в Нижний Новгород, где губернатором был А.Н. Муравьёв, занимавший откровенно антикрепостническую позицию и активно боровшийся за скорейшее освобождение крестьян. Сам Трубецкой тоже хотел поселиться в Нижнем, где надеялся встречаться с сибиряками часто приезжавшими на Макарьевскую ярмарку. План этот не был осуществлён, так как Свербеев вышел в отставку и отправился с женой за границу.
Свербеевы собирались посетить в числе европейских столиц и Лондон, где А.И. Герцен и Н.П. Огарёв издавали «Колокол» и «Полярную звезду». «Решение ваше, - писал Трубецкой 29 марта 1858 года, - о знакомствах и действиях ваших нас (т.е. Трубецкого и Ребиндера) удовлетворило; Николай Романович ожидает, что Николай Дмитриевич передаст кое-что и в других отношениях общезанимательных». 3 мая 1858 года Свербеев уведомил Трубецкого о том, что не писал ему «обо всех своих похождениях в Англии, не доверяя русской почте». К числу «общезанимательных» сведений могла быть отнесена информация о посещении Свербеевым Герцена и Огарёва. Об этой встрече А.И. Герцен упомянул в письме М. Мейзенбург: «Приехала дочь князя Трубецкого, которая родилась на каторге и провела всю свою жизнь в Иркутске. Это живое предание 14 декабря было полно для нас самого жгучего интереса». Недавно были обнаружены неизвестные ранее письма Герцена к Н.Д. Свербееву, свидетельствующие об их встречах и дальнейшей переписке. О своих встречах в Лондоне с Герценом в апреле 1858 года Свербеевы, конечно не могли, открыто писать Трубецкому. Чаще удавалось передавать письма с надёжными людьми к родным в Москву. Вполне вероятно, что, вернувшись из – за границы летом 1859 года в Россию, в Крым, Свербеевы говорили с Сергеем Петровичем об интересе Герцена к запискам декабристов, в том числе и Трубецкого. Ведь не случайно наиболее интенсивно он работал над «Записками» в конце 1850–х годов, то есть после возвращения Свербеевых из-за границы. Ещё в конце 1854 года Трубецкой узнал от Свербеева, что Герцен открыл в Лондоне Вольную русскую типографию, где печатались статьи, запрещённые в России, и что Д.Н. Свербеев прислал сыну очерк Герцена «Тюрьма и ссылка», напечатанный в Париже в 1854 году в газете «Revuedesdeux Mondes» как одно из «недошедших в Россию сведений о его книгах».
Чтобы как-то отвлечься от постигшего его горя, Сергей Петрович, в сопровождении сына Ивана и дочери Зинаиды, сразу после похорон уезжает к Ребиндерам в Кяхту. «…Мне её (Е.И. Трубецкой) недостаёт, но я её не оплакиваю; знаю, что её душа всегда с нами, так же точно, как моя мысль постоянно с нею. Я буду продолжать без жалоб терпеть существование до тех пор, пока никто из моих не будет иметь нужды во мне… Моё одно желание быть руководителем моей младшей дочери до тех пор, пока она со мной и продолжать развивать семена тех добрых качеств, какими Провидение наделило моего сына. Он ещё молод, ему нет ещё двенадцати лет, я нисколько не рассчитываю прожить достаточно долго, чтобы окончить его воспитание, но я на этот счёт спокоен, ибо я убеждён, что при наличности родных, дающих нам столько доказательств своего к нам участия, недостатка в покровителях у него не будет»…
Вернувшись в Иркутск, Сергей Петрович писал Батенькову: «Собственная душа не мешает мысли заниматься общим делом. Война и ожидание её последствий всегда предметом разговоров, когда сходимся». Он с горечью сообщал, что событие в России редко доставляют утешение, «чаще сердце обливается кровью, и тогда негодование берёт верх над другими чувствами. Странная бедность в людях! Глас народа, говорят, есть глас божий, но и народ не произносит никакого имени. Знаем только то, что те, которые есть, не годятся, а кого поставить вместо их? - Нет ответа».
Амур, Севастополь, Камчатка, Кронштадт – вот горячие точки, к которым было обращено внимание декабриста. «Военные действия, и в особенности в Крыму, поневоле поглощают все его мысли и хоть ненадолго отвлекают от ежеминутной скорби», - отмечала А.С. Ребиндер, сообщая о состоянии отца. Вызывала негодование бездарность правительства, начавшего неправую войну, и командования, которое в этой войне проливало напрасно кровь, губило народное добро и утешало себя мыслью, что урон неприятеля более значителен. «Всего не узнаете, что здесь известно по письмам из тех краёв, - сообщал Трубецкой. – Какая бездна хлеба погублена, а сколько истребилось капиталов! А он (Горчаков) радуется, что частная только собственность пострадала большею частию, а матросов и офицеров большая часть уже перебита на стенах севастопольских». Давыдовы сообщали из Крыма о возможном разорении имения и о своём беспокойстве, «как спасти крестьян на случай наступления к ним неприятеля». (Крымское имение Давыдовых Саблы в период войны в мае 1854 года находилась в прифронтовой полосе, и в нём был развёрнут госпиталь).
Грустные известия приходили от друзей: смерть унесла Фонвизина, Муханова, братьев Борисовых, В. Давыдова, Н. Бестужева; здоровье И.Д. Якушкина, приехавшего в Иркутск в 1854 году, настолько ухудшилось, что опасались за его жизнь. В конце 1854 года уехали в Петербург Ребиндеры, а вскоре в доме началась эпидемия скарлатины, тяжело болели Иван, Фёдор Кучевский, Мария Александровна Неустроева, с 1852 года ставшая женой П.А. Горбунова, которая так и не поправилась.
29 апреля 1856 года в Знаменской церкви, состоялась венчание младшей дочери Трубецкого Зинаиды с Николаем Дмитриевичем Свербеевым, выпускником Московского университета, родственником Е.П. Оболенского. Из глухих намёков в письмах Трубецкого к З.И. Лебцельтерн и И.Д. Якушкина к В.И. Якушкину за октябрь 1854 – февраль 1855 годов, а так же из письма Свербеева к Трубецкому от 25 марта 1855 года следует, что поведение Свербеева, увлечение которого Зиной началось ещё в 1852 году, несколько изменилось после смерти Е.И. Трубецкой, когда Зинаиде угрожало превращение из богатой наследницы в бесприданницу (Екатерина Ивановна не оставила завещания). Это вызвало настороженность Трубецкого, и Свербееву было отказано. В.И. Якушкин писал И.И. Пущину 28 октября 1854 года: «Жар многих женихов начинает остывать. Свербеич (Свербеев Н.Д.) последнее время вёл себя так дико и непристойно, что из рук вон; отца это очень оскорбляло, и он шпиговал при всяком случае, но, кажется без пользы, по крайней мере видимой». Определённую роль в отказе Трубецкого сыграл и В.И. Якушкин, также претендовавший на руку Зины. Однако Н.Д. Свербеев сумел «оправдаться» перед Трубецким и его дочерью, и помолвка состоялась. И.Д. Якушкин, «известившись, что дело по моим отношениям к семейству Трубецких, не заладилось», обиделся и хотел съехать из дома Сергея Петровича, где он в это время жил. Трубецкой постарался загладить возникшую неловкость, посвятив старого друга во все подробности этого сватовства, в котором решающую роль, по – видимому, сыграло предпочтение, оказанное Зинаидой Сергеевной Свербееву. (Среди претендентов на руку Зинаиды Сергеевны были ещё адьютанты Н.Н. Муравьёва - офицер лейб-гвардии Егерского полка А.Э. Енгалычев, офицер лейб-гвардии Семёновского полка А.Н. Сеславин, а так же, чиновник по особым поручениям, барон В.И. Вольф. - Н.К.). Молодые поселились у Трубецкого во флигеле, пристроенном в 1852 году к заушаковскому дому.
С замужеством Зины дом Трубецких помолодел и оживился. Вокруг «ветеранов» стала собираться молодёжь: братья Белоголовые, В.И. Вольф, Е.В. Пфаффиус, А.И. Заборинский, приехавшие по делам службы С.П. Колошин (сын декабриста П.И. Колошина) и А.П. Полторацкий, ссыльные поляки. Часто бывала Е.П. Ротчева, женщина образованная, почитательница Руссо. Её салон в Иркутске посещали петрашевцы, один из которых, Ф.Н. Львов, женился на её дочери. «Зелёное поле», как называл эти собрания у Трубецкого Н.Д. Свербеев, собирало ежедневно бойцов, между которыми разгорались «сильные прения». От молодёжи не отставали и «старики»: А. Поджио, Волконский, И. Якушкин, Бесчаснов, Трубецкой. (В середине 1850-х годов В Иркутске образовался кружок передовой молодёжи, получивший название «Общество Зелёных полей». Организаторами его стали братья Николай и Андрей Белоголовые, воспитанники декабристов Юшневского и А. Поджио. Возможно, прообразом общества послужили собрания Зелёных полей в доме Трубецкого. - Н.К.).
Тогда же, на этих собраниях читалась и обсуждалась статья Н.А. Мельгунова «Мысли вслух об истекшем тридцатилетии России», опубликованная в Лондоне в 1856 году в I части «Голосов России», и Б.И. Чичерина «Восточный вопрос с русской точки зрения». Обе статьи так заинтересовали Трубецкого, что он собственноручно переписал их. Статьи содержали резкую критику политики царского правительства во всех областях государственного устройства, особенно в годы Крымской войны, которая вскрыла язвы русской жизни.
В.Е. Якушкин, внук декабриста, упомянул об этих статьях в связи с поражением России в русско-японской войне 1904–1905 годов, видя аналогию в характере ведения обеих войн. По замечанию Якушкина, статьи с анализом русской действительности, подобные упомянутым, ходили в 1850-е годы по рукам в списках, поскольку не печатались в связи с цензурным запретом. «Сильно сочувствовал им Трубецкой, - писал Якушкин, - если на 7–м десятке пожелал их списать собственноручно».
В августе 1856 года должна была состояться коронация Александра II. Многие декабристы и особенно их близкие связывали с ней надежды на амнистию. Трубецкой не разделял их. Н.Д. Свербеев в полном согласии с мнением тестя писал Е.П. Оболенскому 8 августа 1856 года: «Если и будет амнистия, то её даруют как-нибудь мерзко, ибо у нас не подло правительство не сумеет поступить». Действительно, амнистия имела ограниченный характер, а манифест содержал всякого рода оговорки и «частные изъятия», которые проводились негласно. Таким «изъятием» явилось умолчание о тайном надзоре за возвратившимися из ссылки декабристами. Им разрешалось жить, где захотят, исключая Москву и Петербург. Трубецкой, как и некоторые его товарищи, не хотел воспользоваться амнистией, и «детям стоило больших трудов оторвать его от могилы жены; только ради воспитания своего сына Ивана он сдался на увещевания». В июне 1856 года Сергей Петрович побывал в Петровском заводе у И.И. Горбачевского и заказал через него решётку на могилу Екатерины Ивановны… Перед отъездом навек отправился Сергей Петрович с сыном, дочерью и зятем в ограду Знаменского монастыря, к могиле жены и трёх детей; опустившись на колени, он притронулся рукой к серому камню и потерял сознание. Его пытались привести в чувство, но всё было безуспешно. Так в обморочном состоянии его и погрузили на сиденье возка...
1 декабря 1856 года Трубецкой покинул Иркутск. Свой дом он оставил на попечение П.А. Горбунова. (История этого дома такова: Трубецкие решили расширить дом, купленный у Цейдлера в 1845 году в Знаменском предместье, и в 1851–1852 году пристроили к нему ещё один дом. О ходе строительства и внутренней отделки нового дома (или, как иногда называется в документах, флигеля) сохранилась обширная переписка между И.С. Персиным и Трубецким. План обоих домов воспроизведён Н.Д. Свербеевым и А.А. Елагиной с обозначением комнат нижнего этажа, где поселились супруги Свербеевы. В декабре 1856 года Трубецкой с детьми и Свербеевы покинули Иркутск, оставив дом на попечение П.А. Горбунова. В 1866 году дом бал продан за 6 тысяч рублей серебром купцу П.О. Катышевцеву. Этот заушаковский дом Трубецких сгорел в начале XX века. Сохранившийся в Иркутске дом (ныне музей декабристов на ул. Дзержинского, 64), принадлежавший С.П. Трубецкому, был построен для его дочери А.С. Ребиндер, муж которой в 1854–1855 годах намеревался перебраться из Кяхты в Иркутск. - Н.К. ).
Основную часть своего книжного собрания С.П. Трубецкой пожертвовал библиотеке Восточно–Сибирского отдела Русского географического общества. (Во время пожара в Иркутске в 1879 году библиотека сгорела). Часть книг по истории Франции и Всемирной истории он подарил Иркутскому девичьему институту. Сохранилось только 35 книг из этого собрания.
Багаж Трубецкого при отъезде из Иркутска состоял из 15 ящиков общим весом в 119 пудов. Из них в 11 ящиках (более 100 пудов) были книги, 1 ящик – с книгами И.Д. Якушкина, 1 ящик на 7 пудов был с бумагами, письмами, портретами.
Власти потребовали от С.П. Трубецкого точных сведений о пути его дальнейшего следования и месте предполагаемого поселения в России. Гнев старого декабриста против полицейского надзора нашёл отражение в официальном протесте и резких письмах иркутскому исправнику Д.Н. Гурьеву, а так же в письмах к дочери Александре и сестре Е.П. Потёмкиной.
Местом жительства С.П. Трубецкой избрал Киев, где обосновались Ребиндеры. По дороге в Россию первая длительная остановка была в Нижнем Новгороде. Здесь Сергей Петрович родился, с этим городом декабристы связывали свои планы преобразования государства, ему они отводили роль столицы России. Ко времени приезда Трубецкого, в Нижнем жили многие его друзья и родные. Губернатором только что, в сентябре 1856 года, был назначен старый друг по тайному обществу А.Н. Муравьёв. Здесь же с 1855 года обосновалась М.А. Дорохова, дом которой служил местом встреч передовой интеллигенции города, у неё останавливались все декабристы, возвращавшиеся из Сибири. По–видимому, у неё состоялась встреча Трубецкого с П.Н. Свистуновым. В Нижнем жили давний приятель по обществу «Зелёная лампа» и по Союзу благоденствия А.Д. Улыбышев и брат казнённого декабриста М.П. Бестужева-Рюмина Николай Павлович. Его отца и всю семью Бестужевых–Рюминых Трубецкой знал ещё с детства. Сергей Петрович остановился в семье племянника – Владимира Александровича Трубецкого, где имел возможность познакомиться с его приятелем и сослуживцем В.И. Далем. Там же в Нижнем Трубецкого ждала Е.П. Потёмкина, выехавшая из Москвы навстречу брату.
29 января 1857 года Трубецкой прибыл в Москву (он остановился в доме Дохтуровой на Волхонке; ныне № 13). По ходатайству свояка А.М. Борха ему было разрешено пробыть в столице две недели для разрешения дел по опекунству сына. Начальник 2-го округа корпуса жандармов генерал С.В. Перфильев доносил шефу жандармов В.А. Долгорукову, что Трубецкому, не успевшему в течении положенных двух недель закончить дела, разрешено остаться в Москве «впредь до особого распоряжения» и что при наблюдении за ним «ничего заслуживающего внимания до сего времени не замечено». Однако агенты доносили другое: Трубецкой и Волконский «позволяли себе входить в самые неприличные разговоры о существующем порядке вещей». Получив эти сведения, Долгоруков потребовал разъяснения у Перфильева и московского генерал–губернатора А.А. Закревского. Первый 23 февраля 1857 года доносил Долгорукову: «несмотря на столь продолжительное отчуждение от общества, при вступлении в него вновь они не выказывают никаких странностей, ни унижения, ни застенчивости; свободно вступают в разговор, рассуждают об общих интересах, которые, как видно, никогда не были им чужды, невзирая на их положение; словом сказать, 30 – летнее их отсутствие ничем не выказывается, не наложило на них никакого особенного отпечатка, так что многие этому удивляются и, предполагая их встретить совсем другими людьми: частью сбитыми, утратившими энергию, частью одичалыми, могут находить, что они лишнее себе дозволяют». Далее Перфильев добавил, что ничего другого сказать не может, кроме «изложенного выше удивления, что они сохранили способность обо всём говорить, не сдерживаясь и не выказывая отсталости». Закревский сообщал Долгорукову 12 марта 1857 года: «Трубецкой и Волконский, о проживании которых в Москве имеется особая переписка, ни в чём предосудительном не замечены. Одежда их заключается в пальто и сюртуках, и действительно они носят бороды. Оба находились постоянно в домашнем кругу и появлялись в обществе только случайно: Трубецкой один раз у дочери своей Свербеевой, а Волконский сверх того, у зятя своего отставного полковника Раевского».
Следовательно, Трубецкой и Волконский принимали участие в разговорах на темы, занимавшие в то время умы передовых людей. Неизвестно, о чём велись разговоры в гостиных, посещаемых Трубецким и Волконским постоянно или «случайно», но, скорее всего, это были вопросы, связанные с освобождением крестьян. Ещё весной 1856 года в Сибирь дошли слухи о выступлении Александра II 30 марта перед предводителями московского дворянства, где была высказана мысль о необходимости освободить крестьян сверху, чем ждать, когда они сами освободят себя снизу. В Москве Трубецкому и Волконскому, по–видимому, стало известно о начале заседаний Секретного комитета по крестьянскому делу. Но не только высказывания декабристов вызывали настороженность полицейских агентов, немедленно доносивших о каждом их шаге и слове, но и внешний вид – пальто и длинные бороды – воспринимался как вызов правительству. Не случайно Сергей Петрович в письмах к И.И. Пущину писал: «За что вы так нападаете на мою бороду? Когда уже Закревский в Москве и кн. Долгоруков здесь её пощадили.»
Пробыв в Москве более трех недель, Трубецкой выехал в Киев и прибыл туда 5 марта 1857 года. А.С. Ребиндер указывает точный адрес, по которому поселился Трубецкой в Киеве: «На Липках, в доме Марковича против дома губернатора и почти возле дома, который когда – то принадлежал Василию Львовичу (Давыдову) и где жили наши папенька и маменька в 1824 году». Однако квартира оказалась не по средствам, и он в мае 1857 года переселился в «дом Палехина в Липках наверху Кривой горы, или Университетского спуска», в соседстве с А.И. Давыдовой. (Дом В.Л. Давыдова, ныне Печёрский район, ул. Панаса Мирного, 8/20 – не сохранился, но на его месте установлена мемориальная доска с надписью: «На этом месте находился дом, в котором в 1822–1825 году собирались члены Южного общества декабристов. Здесь была принята «Русская правда». - Н.К.). 17 сентября 1857 года С.П. Трубецкой вновь переменил квартиру поселившись в доме Крыжановской в Елизаветинском переулке. (Распространённое мнение в декабристкой литературе о том, что Трубецкой проживал в доме № 3 по современной Владимирской улице, ошибочно. В этом доме жил брат декабриста Пётр Петрович Трубецкой. - Н.К.).
В ответ на сообщение Трубецкого о приезде в Киев А.В. Поджио писал: «Итак, вы у Днепра, у детей, у Университета, у места всех наших бывших и желаний, и мечтаний!» Поджио вспоминал о далёких днях 1825 года, когда в Киеве собирались заговорщики, разрабатывались планы будущего восстания и преобразования государства. Трубецкой просил Свербеевых, оставшихся в Москве, сообщить ему обо всех друзьях – декабристах и помочь наладить связь со всеми, с кем она была прервана после отъезда из Сибири. В Киеве он нашёл А.И. Давыдову и М.К. Юшневскую, пригласил к себе на жительство А.А. Быстрицкого. В мае 1857 года Трубецкого навестил Н.В. Басаргин с семьёй. Они не виделись 20 лет. Басаргины пробыли в Киеве четыре дня, на обратном пути из Тульчина они провели в Киеве ещё несколько дней. Сергея Петровича часто навещал Н.И. Лорер. Ждали Пущиных, И.Д. Якушкина, но приезд их не состоялся из-за болезней. Из Киева Трубецкой ездил к Давыдовым в Каменку. Здесь он внимательно присматривался к быту крестьян, справедливо замечая, что по одной Каменке нельзя судить обо всех, так же как по одной хате нельзя судить о благосостоянии всех крестьян вообще. Его сведения о Каменке того времени представляют несомненный интерес, так же, как и описание окружающей природы, ведения хозяйства местными помещиками, положения крестьян в соответствии с инвентариями, при составлении которых допускался произвол. Трубецкой писал: «В наших преобразованиях то дурно, что хоть об ином и долго говорят, видя его необходимость, но когда приступают к делу, то делают его с поспешностью, и от этого бывают почти всегда промахи». С большим интересом отнёсся он к плану строительства железной дороги от Киева до Одессы, а также шоссейных дорог для соединения с ней.
Не прерывал Трубецкой связи с Иркутском. Его интересовали события, происходившие на Востоке: миссия Е.В. Путятина в Китай, деятельность Н.Н. Муравьёва на Амуре, предложение американцев построить железную дорогу «от Читы на Верхнеудинск и кругом Байкала», проекты развития пароходства по рекам и Байкалу, устройства электрического телеграфа.
Из писем и других источников видно, что Трубецкой в Киеве в свои 67 лет вёл очень деятельный образ жизни. Он активно переписывался с друзьями, родными, возобновил работу над записками по истории тайных обществ, по настоянию Е.И. Якушкина составил замечания на записки Штейнгейля и Оболенского, вёл дневник, готовил сына Ивана и воспитанника Фёдора Кучевского в гимназию. На вечерах у Ребиндеров, где собирались главным образом профессора и преподаватели университета, Трубецкой участвовал в беседах о научных открытиях, системе образования, его интересовали взгляды учёных на состояние экономики, финансов, сельского хозяйства, на местные условия земледелия.
Одним из тревожных событий того времени были студенческие волнения, начавшиеся в Киевском, Московском и Харьковском университетах. О них с беспокойством говорили в семье Ребиндеров и среди их друзей. Трубецкой разделял мнение зятя о неудовлетворённой системе образования, при которой в учебных заведениях бытовала муштра, военная дисциплина. Пользуясь большим уважением и доверием Ребиндера, Трубецкой старался поддержать его в той обстановке, которая сложилась в городе в связи со студенческими волнениями и приездом специального чиновника для разбирательства дела.
В Киеве жили также старый товарищ Трубецкого П.И. Пущин, братья Арнольди, один из которых Александр Иванович (однополчанин и приятель М.Ю. Лермонтова) – вероятно, рассказывал о своих встречах с поэтом. Возможно, в это же время Н.И. Лорер познакомил Сергея Петровича с рукописью своих «Записок». В Киеве он давал читать их М.В. Юзефовичу. Наезжая в Москву, Лорер знакомил с рукописью Д.Н. Свербеева, своего родственника, с которым и Трубецкой был в свойстве. В это же время и Сергей Петрович работал над своими «Записками». Два декабриста, связанные дружескими почти родственными отношениями, имели основания для взаимного обмена мыслями и воспоминаниями о прошлой деятельности.
Трубецкой по мере возможности посещал театр, оперу, концерты. Вечерами, оставаясь с больной дочерью Сашей (А.С. Ребиндер болела туберкулезом, «чахоткой», как тогда говорили), он часто читал ей вслух произведения И.С. Тургенева и И.А. Гончарова, с которым был лично знаком ещё по Иркутску, куда писатель приезжал после плавания на фрегате «Паллада».
Главным предметом раздумий Трубецкого оставалась подготовка крестьянской реформы. В письме Н.Д. Свербееву от 19 апреля 1857 года он спрашивал: «Что делает вопрос, который повсеместно занимает? Здесь очень беспокоятся и желали бы скорого его разрешения; боятся, что медленность усилит существующее волнение». Нерешительность действий Главного комитета по крестьянскому делу объяснялось опасением правительства вызвать недовольство дворянского сословия. В то же время феодальная система была серьёзным тормозом для развития и сельского хозяйства, и промышленности. «При таких условиях самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание – опасностью весьма серьёзной».
Трубецкой имел возможность познакомиться с состоянием сельского хозяйства и промышленных предприятий на Украине и в Крыму, в частности с положением дел в сахарной промышленности и торговле; знал со слов помещиков и особенно помещиков предпринимателей, о трудностях ведения хозяйства при недостатке свободных рабочих рук, об их заинтересованности в скорейшем решении крестьянского вопроса, что позволило бы широко использовать труд аграрных и промышленных рабочих. «Не знаю, как поступит здешнее дворянство, - писал Трубецкой Свербеевым, - но знаю многих благомыслящих людей, которые давно желают положить конец тому шаткому положению, в котором они находятся и определить отношения свои к крестьянам на твёрдом основании, которое могло бы обещать им спокойствие в будущем. Ожидание так велико в здешнем народе, что медленность может возбудить такие беспорядки, которые трудно будет прекратить. Если ж будут помещики медлить, то нельзя отвечать, чтоб не было вспышек».
К концу 1850–х годов относится заметка Трубецкого о положении крестьян в Восточной Сибири, написанная в связи с распространением правительственной теории «официальной народности», утверждавшей, что русский народ по природе своей нереволюционен, стоит за царя, не протестует против крепостного права, видит в помещике отца родного и искони глубокого религиозен. Вопреки этому мнению Трубецкой утверждал, что «о русском крестьянине правительство имеет самые ложные понятия», поддерживаемые рядом писателей славянофильского толка, « выдающих себя за патриотов и потому восхваляющих всё русское». На самом деле крестьяне страдали от невежества, нищеты и пьянства. При упадке нравственного умственного положения крестьян их права часто обращались им во вред, например, судное право превращалось в «чисто шемякин суд». Земские власти допускали произвол. Процветало взяточничество. Отсутствие хозяйского наблюдения со стороны начальства усугубляло все эти несправедливости.
В другой черновой заметке – о заготовлении провианта и фуража для армии и флота – декабрист говорит о необходимости создания для пользы крестьян объединённых компаний по организации поставок. Эта заметка явилась откликом на статью Вл. Трубникова «Заготовление провианта и фуража для армии и флота».
С нетерпением, ожидая крестьянскую реформу, Трубецкой всё больше убеждался, что разумное решение дворянским сословием этой проблемы несбыточно. В дневниковых записях за 1857–1858 год декабрист отмечал, что дворянство не оказало ни малейшей готовности содействовать проведению крестьянской реформы, что оно сроднилось с мыслью, что право владения крепостными людьми нисколько не противоречит законам природы и что на нём по их мнению, держатся благоденствие государства, его сила, могущество а «власть господская благодетельна для крепостного сословия». «Нет надобности, - заключал Трубецкой, - оспаривать всех этих и подобных положений. То, что видится беспрестанно на деле, нисколько не оправдывает вышереченных притязаний дворянства».
Видимо, с этого времени надежды на осуществление крестьянской реформы Трубецкой связывает с царём, которому дворянство, не желающее решить дело, вынуждено будет подчиниться. Эта либеральная позиция была в тот период присуща многим прогрессивным деятелям (в том числе и Герцену), связывающим надежды на крестьянскую реформу с Александром II.
В 1857 году Трубецкой поддержал желание Н.Д. Свербеева переехать на службу в Нижний Новгород, где губернатором был А.Н. Муравьёв, занимавший откровенно антикрепостническую позицию и активно боровшийся за скорейшее освобождение крестьян. Сам Трубецкой тоже хотел поселиться в Нижнем, где надеялся встречаться с сибиряками часто приезжавшими на Макарьевскую ярмарку. План этот не был осуществлён, так как Свербеев вышел в отставку и отправился с женой за границу.
Свербеевы собирались посетить в числе европейских столиц и Лондон, где А.И. Герцен и Н.П. Огарёв издавали «Колокол» и «Полярную звезду». «Решение ваше, - писал Трубецкой 29 марта 1858 года, - о знакомствах и действиях ваших нас (т.е. Трубецкого и Ребиндера) удовлетворило; Николай Романович ожидает, что Николай Дмитриевич передаст кое-что и в других отношениях общезанимательных». 3 мая 1858 года Свербеев уведомил Трубецкого о том, что не писал ему «обо всех своих похождениях в Англии, не доверяя русской почте». К числу «общезанимательных» сведений могла быть отнесена информация о посещении Свербеевым Герцена и Огарёва. Об этой встрече А.И. Герцен упомянул в письме М. Мейзенбург: «Приехала дочь князя Трубецкого, которая родилась на каторге и провела всю свою жизнь в Иркутске. Это живое предание 14 декабря было полно для нас самого жгучего интереса». Недавно были обнаружены неизвестные ранее письма Герцена к Н.Д. Свербееву, свидетельствующие об их встречах и дальнейшей переписке. О своих встречах в Лондоне с Герценом в апреле 1858 года Свербеевы, конечно не могли, открыто писать Трубецкому. Чаще удавалось передавать письма с надёжными людьми к родным в Москву. Вполне вероятно, что, вернувшись из – за границы летом 1859 года в Россию, в Крым, Свербеевы говорили с Сергеем Петровичем об интересе Герцена к запискам декабристов, в том числе и Трубецкого. Ведь не случайно наиболее интенсивно он работал над «Записками» в конце 1850–х годов, то есть после возвращения Свербеевых из-за границы. Ещё в конце 1854 года Трубецкой узнал от Свербеева, что Герцен открыл в Лондоне Вольную русскую типографию, где печатались статьи, запрещённые в России, и что Д.Н. Свербеев прислал сыну очерк Герцена «Тюрьма и ссылка», напечатанный в Париже в 1854 году в газете «Revuedesdeux Mondes» как одно из «недошедших в Россию сведений о его книгах».
Метки: декабристы трубецкие |






