-Музыка
- Именинница. Гр. Белый День
- Слушали: 1036 Комментарии: 0
- Любо, братцы, любо
- Слушали: 3810 Комментарии: 0
- В.А. Моцарт Маленькая ночная серенада
- Слушали: 163 Комментарии: 0
- El Condor Pasa: Полёт кондора
- Слушали: 199 Комментарии: 0
- Божья Коровка - ТЕПЛОХОД
- Слушали: 487 Комментарии: 0
-Метки
-Рубрики
- Афоризмы,мысли (955)
- Библиотеки (140)
- Бисер.Украшения. (84)
- Видео (58)
- Возраст не помеха (2)
- Вокруг света (251)
- Вокруг света - Абхазия (51)
- Вокруг света - Англия,Ирландия,Шотландия (213)
- Вокруг света - Германия (57)
- Вокруг света - Греция,Кипр (66)
- Вокруг света - Европа (200)
- Вокруг света - Египет,Израиль,Турция (168)
- Вокруг света - Индия,Китай,Япония,Тайланд (110)
- Вокруг света - Италия (317)
- Вокруг света - Прибалтика,Скандинавия (8)
- Вокруг света - Россия (821)
- Вокруг света - Россия.Москва и Подмосковье. (2075)
- Вокруг света - Россия.Питер и пригороды (1084)
- Вокруг света - США,Канада.Американский континент (74)
- Вокруг света - Украина (125)
- Вокруг света - Франция (275)
- Выпечка - не сладкая (522)
- Выпечка - без выпечки (71)
- Выпечка - бисквит,пудинг (74)
- Выпечка - булочки,слойки,плюшки,вафли (281)
- Выпечка - в лаваше (154)
- Выпечка - кексы,маффины,капкейки (524)
- Выпечка - корзиночки,тарталетки (117)
- Выпечка - лепёшки,хачапури,чебуреки,беляши (220)
- Выпечка - манник (75)
- Выпечка - печенье,бублики,рогалики (573)
- Выпечка - пироги (176)
- Выпечка - пироги с абрикосами,персиками,бананами (100)
- Выпечка - пироги с ананасом,апельсином,лимоном (44)
- Выпечка - пироги с виноградом,сливой,смородиной (75)
- Выпечка - пироги с вишней,черешней. (199)
- Выпечка - пироги с клубникой (74)
- Выпечка - пироги с яблоками,грушами (616)
- Выпечка - пирожки (72)
- Выпечка - пирожное (69)
- Выпечка - пицца (163)
- Выпечка - пляцок. (6)
- Выпечка - пончики,хворост (217)
- Выпечка - профитроли,эклеры (50)
- Выпечка - рулеты сладкие (32)
- Выпечка - с творогом (90)
- Выпечка - с шоколадом,сгущёнкой,вареньем (163)
- Выпечка - тесто,глазурь,крем,секреты выпечки (218)
- Выпечка - торты (176)
- Выпечка - штрудель,медовик,наполеон (104)
- Вышивка (474)
- Вышивка - алфавит,часы (47)
- Вышивка - бискорню,маятники,игольницы (69)
- Вышивка - мережки,хардангер.барджелло (90)
- Вязание для не модельных (37)
- Вязание и ткань (57)
- Вязание крючком - филейное вязание (390)
- Вязание крючком - абажуры,чехлы (17)
- Вязание крючком - ананасы (41)
- Вязание крючком - ангелы,бабочки,сердечки (98)
- Вязание крючком - безотрывное вязание (54)
- Вязание крючком - болеро,топы,блузы,жилеты (328)
- Вязание крючком - броши,бусы,украшения (75)
- Вязание крючком - брюгское кружево (83)
- Вязание крючком - веера,зонтики,пакетницы,чехлы дл (101)
- Вязание крючком - вытачки,воротники,карманы,кокетк (62)
- Вязание крючком - жакеты,кардиганы,пальто (128)
- Вязание крючком - игольницы,корзиночки,шкатулочки (78)
- Вязание крючком - игрушки,шарики,снежинки,яйца (226)
- Вязание крючком - кайма,кружево,углы (241)
- Вязание крючком - косметички,органайзеры,сумочки (65)
- Вязание крючком - костюмы, платья,сарафаны (108)
- Вязание крючком - ленточное кружево (53)
- Вязание крючком - мотивы,узоры (837)
- Вязание крючком - накидки,пончо,шали (98)
- Вязание крючком - покрывало,подушки,коврики,сидушк (99)
- Вязание крючком - прихватки,подстаканники,цветы (137)
- Вязание крючком - пуловеры,туники (312)
- Вязание крючком - салфетки,скатерти (226)
- Вязание крючком - сарафаны,платья,костюмы (117)
- Вязание крючком - секреты вязания,соединение,схемы (284)
- Вязание крючком - тунисское вязание (109)
- Вязание крючком - шляпы,шапки,шарфы,митенки,варежк (142)
- Вязание крючком - юбки (100)
- Вязание спицами - болеро,пуловеры,топы,туники (111)
- Вязание спицами - жакеты,кардиганы,пальто (95)
- Вязание спицами - платья,сарафаны,юбки (27)
- Вязание спицами - пончо,палантины,накидки,шарфы,ша (94)
- Вязание спицами-узоры,секреты вязания (846)
- Декор предметов,подарков (124)
- Дети.Вязание - варежки,шапки,шарфы (44)
- Дети.Вязание - комплекты (13)
- Дети.Вязание - кофточки,юбочки (41)
- Дети.Вязание - пинетки (37)
- Дети.Вязание - платья,сарафаны (82)
- Дети.Вязание - пледы,конверты (63)
- Дети.Вязание. (24)
- Дети.Питание. (72)
- Дети.Развитие. (289)
- Для дневника,для компа (182)
- Женщины в истории (484)
- ЖЗЛ (100)
- Журнал - Burda,Вязание крючком (246)
- Журнал - Дуплет (113)
- Журнал - Сабрина,Сандра,Диана (107)
- Журнал - Салфетки,Ondori,Crochet (60)
- Журнал - Формула рукоделия,Валя-Валентина (31)
- Журнал - Чудесный крючок (90)
- Журнал-вышиваю крестиком (40)
- Журнал-Золушка,Лена (12)
- Журналы и книги (186)
- Журналы и книги по кулинарии.Школа гастронома. (490)
- Здоровье - гимнастика для суставов (175)
- Здоровье - гимнастика для фигуры (103)
- Здоровье - рецепты (85)
- Здоровье.Питание (22)
- Здоровье.Травы (6)
- Здоровье.Уход за собой.Волосы. (67)
- Игрушки (137)
- Игрушки - зайцы (93)
- Игрушки - кошки и собаки (58)
- Игрушки - куклы,тильды (652)
- Игрушки - мишки и мышки (70)
- Игрушки - секреты производства (29)
- Игрушки - символ года (41)
- Игры,флешки (65)
- Интерьер.Ремонт.Дизайн (153)
- Искусство.Антиквариат (69)
- Искусство.Балет и опера. (241)
- Искусство.Есенин Сергей,Дункан Айседора. (109)
- Искусство.Живопись.Скульптура (296)
- Искусство.Литература.Биографии. (234)
- Искусство.Мода. (197)
- Искусство.Музыка (472)
- Искусство.Музыка. Михайлов.Домогаров.Пелагея. (70)
- Искусство.Музыка.Гитара.Джаз.Саксофон. (147)
- Искусство.Музыка.Елена Ваенга (42)
- Искусство.Музыка.Романс.Блюз.Танго. (612)
- Искусство.Мультики. (3)
- Искусство.Поэзия (941)
- Искусство.Пушкин А.С. (326)
- Искусство.Ремёсла и народные промыслы. (135)
- Искусство.Стекло,фарфор (199)
- Искусство.Театр и кино (210)
- Искусство.Чтобы помнили (586)
- Искусство.Ювелирное - Фаберже (152)
- Искусство.Ювелирное,камни,минералы (407)
- История (27)
- История вещей,названий,выражений (352)
- История России (1343)
- История России - династии (251)
- История России - Декабристы и их жёны (308)
- История России - Романовы (508)
- История России до Романовых (380)
- История России.Славой предков горжусь (431)
- Календарь (437)
- Коробочки и шкатулочки (72)
- декорированые (23)
- шитые (17)
- Кулинария. Вареники,пельмени,манты. (96)
- Кулинария. Народов мира (4)
- Кулинария.Блины.Оладьи.Панкейки. (305)
- Кулинария.Блюда в горшочках. (157)
- Кулинария.Грибы. (149)
- Кулинария.Десерты (667)
- Кулинария.Десерты - мороженое,сорбет,гранита (465)
- Кулинария.Десерты - тирамису и панна котта (129)
- Кулинария.Детям. (4)
- Кулинария.Дж Оливер,Гор Рамзи (86)
- Кулинария.Заготовки (488)
- Кулинария.Закуски - канапе,бутерброды (355)
- Кулинария.Капуста. (177)
- Кулинария.Картофель (914)
- Кулинария.Кофе и чай. (281)
- Кулинария.Курица.Индейка.Гусь. (1186)
- Кулинария.Масло,молочные продукты,яйца (294)
- Кулинария.Мясо,котлеты,тефтели. (493)
- Кулинария.Напитки (270)
- Кулинария.Овощи. (954)
- Кулинария.Паста. (229)
- Кулинария.Первые блюда - супы-пюре (191)
- Кулинария.Первые блюда холодные (64)
- Кулинария.Первые блюда. (449)
- Кулинария.Пикник.Барбекю.Шашлык. (104)
- Кулинария.Пряности и травы,специи (252)
- Кулинария.Рис.Крупы. (102)
- Кулинария.Рыба и морепродукты. (540)
- Кулинария.Салаты (1580)
- Кулинария.Секреты,замена продуктов (218)
- Кулинария.Смузи (442)
- Кулинария.Соусы,заправки,кляр,уксус. (980)
- Кулинария.Сталик Ханкишиев. (48)
- Кулинария.Сыр и вино. (108)
- Кулинария.Фрукты.Ягоды. (190)
- Кулинарный словарь (28)
- Легенды и мифы.Библия.Древние Греция и Рим (354)
- Магия.Приметы (253)
- Монастыри,соборы,церкви мира (76)
- Монастыри,соборы,церкви Москвы и Подмосковья (248)
- Монастыри,соборы,церкви России (157)
- О кошках (107)
- Огород на балконе.Цветы (94)
- Пасха (145)
- куличи,пасха,яйца (65)
- Рукоделие,украшения (80)
- Православие (322)
- иконы (96)
- молитвы (21)
- праздники (35)
- святые,святители,мученики (81)
- Православие - посты,постная кухня (68)
- второе (5)
- выпечка (24)
- салаты (9)
- супы (6)
- Приборы.Аэрогриль (41)
- Приборы.Блендер. (21)
- Приборы.Микроволновка.Мультиварка (504)
- Приборы.Пароварка (42)
- Приборы.Хлебопечка.Хлеб (188)
- Пригодится (57)
- Притчи (159)
- Секреты (18)
- Секреты - ношения платков,хранения (132)
- Секреты - уборка,стирка,пятна (175)
- Секреты сервировки и этикета. (120)
- Учим математику (39)
- Учим язык английский (514)
- Учим язык итальянский (30)
- Учим язык русский (201)
- Фоны и схемы (23)
- Фото (168)
- Фото - зверьё моё (526)
- Фото - пейзажи (42)
- Фото -цветы (122)
- Фотошоп (27)
- Хочу (29)
- Шитьё (285)
- сарафаны,туники,платья,юбки (54)
- чехлы,для хранения (39)
- швы,секреты,пуговицы (136)
- шторы (18)
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Статистика
Записей: 46446
Комментариев: 3276
Написано: 57038
Другие рубрики в этом дневнике: Шитьё(285), Хочу (29), Фотошоп(27), Фото -цветы(122), Фото - пейзажи(42), Фото - зверьё моё(526), Фото(168), Фоны и схемы(23), Учим язык русский (201), Учим язык итальянский (30), Учим язык английский (514), Учим математику(39), Секреты сервировки и этикета.(120), Секреты - уборка,стирка,пятна(175), Секреты - ношения платков,хранения(132), Секреты(18), Притчи(159), Пригодится(57), Приборы.Хлебопечка.Хлеб(188), Приборы.Пароварка(42), Приборы.Микроволновка.Мультиварка(504), Приборы.Блендер.(21), Приборы.Аэрогриль(41), Православие - посты,постная кухня(68), Православие(322), Пасха(145), Огород на балконе.Цветы(94), О кошках(107), Монастыри,соборы,церкви России(157), Монастыри,соборы,церкви Москвы и Подмосковья(248), Монастыри,соборы,церкви мира(76), Магия.Приметы(253), Легенды и мифы.Библия.Древние Греция и Рим(354), Кулинарный словарь(28), Кулинария.Фрукты.Ягоды.(190), Кулинария.Сыр и вино.(108), Кулинария.Сталик Ханкишиев.(48), Кулинария.Соусы,заправки,кляр,уксус.(980), Кулинария.Смузи(442), Кулинария.Секреты,замена продуктов(218), Кулинария.Салаты(1580), Кулинария.Рыба и морепродукты.(540), Кулинария.Рис.Крупы.(102), Кулинария.Пряности и травы,специи(252), Кулинария.Пикник.Барбекю.Шашлык.(104), Кулинария.Первые блюда.(449), Кулинария.Первые блюда холодные(64), Кулинария.Первые блюда - супы-пюре(191), Кулинария.Паста.(229), Кулинария.Овощи.(954), Кулинария.Напитки(270), Кулинария.Мясо,котлеты,тефтели.(493), Кулинария.Масло,молочные продукты,яйца(294), Кулинария.Курица.Индейка.Гусь.(1186), Кулинария.Кофе и чай.(281), Кулинария.Картофель(914), Кулинария.Капуста.(177), Кулинария.Закуски - канапе,бутерброды(355), Кулинария.Заготовки(488), Кулинария.Дж Оливер,Гор Рамзи(86), Кулинария.Детям.(4), Кулинария.Десерты - тирамису и панна котта(129), Кулинария.Десерты - мороженое,сорбет,гранита(465), Кулинария.Десерты(667), Кулинария.Грибы.(149), Кулинария.Блюда в горшочках.(157), Кулинария.Блины.Оладьи.Панкейки.(305), Кулинария. Народов мира(4), Кулинария. Вареники,пельмени,манты.(96), Коробочки и шкатулочки(72), Календарь(437), История России.Славой предков горжусь(431), История России до Романовых(380), История России - Романовы(508), История России(1343), История вещей,названий,выражений(352), История(27), Искусство.Ювелирное,камни,минералы(407), Искусство.Ювелирное - Фаберже(152), Искусство.Чтобы помнили(586), Искусство.Театр и кино(210), Искусство.Стекло,фарфор(199), Искусство.Ремёсла и народные промыслы.(135), Искусство.Пушкин А.С.(326), Искусство.Поэзия(941), Искусство.Мультики.(3), Искусство.Музыка.Романс.Блюз.Танго.(612), Искусство.Музыка.Елена Ваенга(42), Искусство.Музыка.Гитара.Джаз.Саксофон.(147), Искусство.Музыка. Михайлов.Домогаров.Пелагея.(70), Искусство.Музыка(472), Искусство.Мода.(197), Искусство.Литература.Биографии.(234), Искусство.Живопись.Скульптура(296), Искусство.Есенин Сергей,Дункан Айседора.(109), Искусство.Балет и опера.(241), Искусство.Антиквариат(69), Интерьер.Ремонт.Дизайн(153), Игры,флешки(65), Игрушки - символ года(41), Игрушки - секреты производства(29), Игрушки - мишки и мышки(70), Игрушки - куклы,тильды(652), Игрушки - кошки и собаки(58), Игрушки - зайцы(93), Игрушки(137), Здоровье.Уход за собой.Волосы.(67), Здоровье.Травы(6), Здоровье.Питание(22), Здоровье - рецепты(85), Здоровье - гимнастика для фигуры(103), Здоровье - гимнастика для суставов(175), Журналы и книги по кулинарии.Школа гастронома.(490), Журналы и книги(186), Журнал-Золушка,Лена(12), Журнал-вышиваю крестиком(40), Журнал - Чудесный крючок(90), Журнал - Формула рукоделия,Валя-Валентина(31), Журнал - Салфетки,Ondori,Crochet(60), Журнал - Сабрина,Сандра,Диана(107), Журнал - Дуплет(113), Журнал - Burda,Вязание крючком(246), ЖЗЛ(100), Женщины в истории(484), Для дневника,для компа(182), Дети.Развитие.(289), Дети.Питание.(72), Дети.Вязание.(24), Дети.Вязание - пледы,конверты (63), Дети.Вязание - платья,сарафаны(82), Дети.Вязание - пинетки(37), Дети.Вязание - кофточки,юбочки(41), Дети.Вязание - комплекты(13), Дети.Вязание - варежки,шапки,шарфы(44), Декор предметов,подарков(124), Вязание спицами-узоры,секреты вязания(846), Вязание спицами - пончо,палантины,накидки,шарфы,ша(94), Вязание спицами - платья,сарафаны,юбки(27), Вязание спицами - жакеты,кардиганы,пальто(95), Вязание спицами - болеро,пуловеры,топы,туники(111), Вязание крючком - юбки(100), Вязание крючком - шляпы,шапки,шарфы,митенки,варежк(142), Вязание крючком - тунисское вязание(109), Вязание крючком - секреты вязания,соединение,схемы(284), Вязание крючком - сарафаны,платья,костюмы(117), Вязание крючком - салфетки,скатерти(226), Вязание крючком - пуловеры,туники(312), Вязание крючком - прихватки,подстаканники,цветы(137), Вязание крючком - покрывало,подушки,коврики,сидушк(99), Вязание крючком - накидки,пончо,шали(98), Вязание крючком - мотивы,узоры(837), Вязание крючком - ленточное кружево(53), Вязание крючком - костюмы, платья,сарафаны(108), Вязание крючком - косметички,органайзеры,сумочки(65), Вязание крючком - кайма,кружево,углы(241), Вязание крючком - игрушки,шарики,снежинки,яйца(226), Вязание крючком - игольницы,корзиночки,шкатулочки(78), Вязание крючком - жакеты,кардиганы,пальто(128), Вязание крючком - вытачки,воротники,карманы,кокетк(62), Вязание крючком - веера,зонтики,пакетницы,чехлы дл(101), Вязание крючком - брюгское кружево(83), Вязание крючком - броши,бусы,украшения(75), Вязание крючком - болеро,топы,блузы,жилеты(328), Вязание крючком - безотрывное вязание(54), Вязание крючком - ангелы,бабочки,сердечки(98), Вязание крючком - ананасы(41), Вязание крючком - абажуры,чехлы(17), Вязание крючком - филейное вязание(390), Вязание и ткань(57), Вязание для не модельных(37), Вышивка - мережки,хардангер.барджелло(90), Вышивка - бискорню,маятники,игольницы(69), Вышивка - алфавит,часы(47), Вышивка(474), Выпечка - штрудель,медовик,наполеон(104), Выпечка - торты(176), Выпечка - тесто,глазурь,крем,секреты выпечки(218), Выпечка - с шоколадом,сгущёнкой,вареньем(163), Выпечка - с творогом(90), Выпечка - рулеты сладкие(32), Выпечка - профитроли,эклеры(50), Выпечка - пончики,хворост(217), Выпечка - пляцок.(6), Выпечка - пицца(163), Выпечка - пирожное(69), Выпечка - пирожки(72), Выпечка - пироги с яблоками,грушами(616), Выпечка - пироги с клубникой(74), Выпечка - пироги с вишней,черешней.(199), Выпечка - пироги с виноградом,сливой,смородиной(75), Выпечка - пироги с ананасом,апельсином,лимоном(44), Выпечка - пироги с абрикосами,персиками,бананами(100), Выпечка - пироги(176), Выпечка - печенье,бублики,рогалики(573), Выпечка - манник(75), Выпечка - лепёшки,хачапури,чебуреки,беляши(220), Выпечка - корзиночки,тарталетки(117), Выпечка - кексы,маффины,капкейки(524), Выпечка - в лаваше(154), Выпечка - булочки,слойки,плюшки,вафли(281), Выпечка - бисквит,пудинг(74), Выпечка - без выпечки(71), Выпечка - не сладкая(522), Вокруг света - Франция(275), Вокруг света - Украина(125), Вокруг света - США,Канада.Американский континент(74), Вокруг света - Россия.Питер и пригороды(1084), Вокруг света - Россия.Москва и Подмосковье.(2075), Вокруг света - Россия(821), Вокруг света - Прибалтика,Скандинавия(8), Вокруг света - Италия(317), Вокруг света - Индия,Китай,Япония,Тайланд(110), Вокруг света - Египет,Израиль,Турция(168), Вокруг света - Европа(200), Вокруг света - Греция,Кипр(66), Вокруг света - Германия(57), Вокруг света - Англия,Ирландия,Шотландия(213), Вокруг света - Абхазия(51), Вокруг света(251), Возраст не помеха(2), Видео(58), Бисер.Украшения.(84), Библиотеки(140), Афоризмы,мысли(955)
Николай Александрович Бестужев, овеянный гениальностью..., часть 3. |
Это цитата сообщения TimOlya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Николай Александрович Бестужев, овеянный гениальностью..., часть 3.
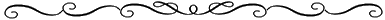
Последняя часть рассказа о художнике-декабристе Николае Александровиче Бестужеве посвящена его пребыванию на поселении, куда он с братом Михаилом прибыл в сентябре 1839 года. Ещё в острогах они мечтали попасть в Селенгинск, заштатный городок в Забайкалье, куда их влекла жажда активной трудовой жизни. Бестужевы считали, что именно здесь они смогут найти применение своему трудолюбию и изобретательности. Кроме того, из Селенгинска было рукой подать до городов Верхнеудинска, Нерчинска, Кяхты и Иркутска. Сверх того для удобств самой жизни этот город хорош тем, что пользуется прекрасным климатом на берегу величественной реки, изобилующей рыбой (Михаил Бестужев)

***
Метки: декабристы бестужев |
Николай Александрович Бестужев, овеянный гениальностью...Часть 2. |
Это цитата сообщения TimOlya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Николай Александрович Бестужев, овеянный гениальностью...Часть 2.
Николай Александрович Бестужев, овеянный гениальностью...Часть 2.
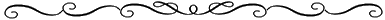
Читинская тюрьма не была предназначена для большого числа узников, поэтому в 1828 году император Николай I приказал начать строительство новой тюрьмы для участников декабрьского восстания при Петровском железоделательном заводе, что в 634 верстах от Читы. Несмотря на то, что к концу лета 1830 года отделка каземата ещё не была завершена, декабристы, разделённые на две партии, одна 7 августа, вторая – 9 августа, покинули Читинский острог. Переход длился 48 суток с 15 днёвками.

***
Метки: декабристы бестужев |
Николай Александрович Бестужев, овеянный гениальностью...Часть 1. |
Это цитата сообщения TimOlya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Николай Александрович Бестужев, овеянный гениальностью...Часть 1.
Николай Бестужев, овеянный гениальностью...Часть 1.
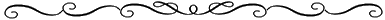

Метки: декабристы бестужев |
Декабристы, 86 портретов (продолжение) |
Это цитата сообщения Bo4kaMeda [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Метки: декабристы |
Декабристы, 86 портретов (альбом) |
Это цитата сообщения Bo4kaMeda [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Метки: декабристы |
Великие женщины России: Екатерина Ивановна Трубецкая (V). |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
ЖИЗНЬ НА ПОСЕЛЕНИИ
Оёк находился в 36 верстах от Иркутска при впадении реки Оёки в Куду и в пяти верстах от Урика, где на поселении уже жили Волконские, Муравьёвы - Никита с дочерью и его брат Александр, Ф.Б. Вольф, М.С. Лунин; там же получили разрешение поселиться А.Н. Сутгоф и Ф.Ф. Вадковский.
Трубецкие выстроили собственный дом, в котором прожили шесть лет до переезда в Иркутск. Жили своим хозяйством, заведя огород и домашний скот. В письме к А.Ф. Бригену в 1840 г. Сергей Петрович так описывал их новый быт: "Не от нас зависело избрать себе место жительства, а теперь мы уже совершенно здесь основались и обзавелись сельским хозяйством. Живём в совершенном уединении, друг другу с женой помогаем в воспитании детей и в хозяйстве... Над Сашенькой я испытывал свои педагогические способности и опытом познал, как трудно прилагать теорию на деле. Сколько ошибок, пока не дойдёшь до путного!... Думают обыкновенно, что детей может учить всякий, кто чему-нибудь сам учился, это грубая ошибка; им очень трудно внятно передать, их понятия не те, как у взрослого человека, и, что мне кажется очень ясно, то совершенно темно для дитяти..."
Уединённая жизнь иногда разнообразилась, особенно в праздники: на Рождество и на Масленицу ездили в Урик к Волконским или принимали у себя живших в окрестностях поселенцев и местных жителей. Иногда даже устраивали музыкальные вечера. Как-то сестра Зинаида Лебцельтерн прислала романс своего сочинения, пригласили Ф. Вадковского, сочинявшего музыку и прекрасно игравшего на скрипке, и получился концерт. На такие вечера съезжались целыми семьями, чему особенно радовались дети. Они дружили между собой не меньше родителей.
Живя в Оёке, Трубецкие оставили по себе добрую память. Н.А. Белоголовый, воспитанник декабриста А.В. Поджио, ставший потом известным врачом, в своих воспоминаниях писал о Трубецкой, что она "была олицетворённая доброта, окружённая обожанием не только своих товарищей по ссылке, но всего населения, находившего у неё помощь словом и делом". Она переписывалась со многими поселенцами - Е.П. Оболенским, И.И. Пущиным, Фонвизиными и для всех старалась быть ангелом-утешителем. Принимала большое участие в жизни Ф.Ф. Вадковского, выписывала для его скрипки струны из Рима, стала вместе с А.Н. Сутгофом его душеприказчицей.
А в это время мать Екатерины Ивановны графиня А.Г. Лаваль не переставала хлопотать за семью дочери и добилась у властей разрешения на переезд её вместе с детьми в Иркутск (под предлогом лечения). В 1845 г. Трубецкой было разрешено проживать с детьми в Иркутске, а мужу иногда приезжать к ним. В письме к Нарышкиной Екатерина Ивановна писала: "Мы переехали в город... Муж будет приезжать навещать нас с разрешения генерал-губернатора от времени до времени. К счастью, это условие оказалось лишь простой формальностью, так что мой муж лишь ограничивается тем, что ездит в Оёк, вот и всё".
Дети подрастали, нужно было думать об их образовании. По ходатайству графини А.Г. Лаваль, её внучкам Елизавете и Зинаиде было разрешено поступить в только что открывшийся в Иркутске Девичий институт Восточной Сибири. Не обошлось без волнений. Ещё в 1842 г. правительство в виде "милости" предложило ссыльным декабристам помещать детей в военно-учебные заведения или девичьи институты, но при одном условии: дети могли определяться туда не под своими фамилиями, а под новыми - по имени отцов. Так, дочери Трубецких могли стать Сергеевыми. Только в этом случае детям ссыльных декабристов возвращалось дворянство. В связи с этим Сергей Петрович писал с горечью брату 16 мая 1842 г.: "...Средства преследовать нас самих, видно, истощились, начинается преследование нас в детях наших... Спрашиваю, к чему послужило бы нашим девочкам дворянство, купленное такою дорогою ценой? ... Лишённые фамилии родителей, они делаются чужими для семейства своих родителей, лишаются права наследства, и согласием моим на то я бесчестил бы детей, жену и её семейство. В заключение: ни за какие блага в свете я не соглашусь, чтобы жена моя была разлучена с детьми, это будет и ей, и им стоить жизни. Жена моя довольно для меня и за меня потерпела, убийцей её и детей моих я не буду". Однако, спустя три года, в 1845 г., в результате того, что большинством декабристов, кроме В.Л. Давыдова, требование перемены фамилии для детей было отвергнуто, выяснилось, что девочки Трубецкие могут быть приняты под собственной фамилией. Таким образом, две дочери Трубецких смогли получить официальное образование и блестяще закончили институт с золотыми медалями. Кроме собственных детей, в семье Трубецких воспитыаались дочери декабриста М.К. Кюхельбекера - Анна и Юстина. Когда девочки подросли, стараниями Екатерины Ивановны они были определены в Сиропитательный дом Е.М. Медведниковой - первое в Восточной Сибири женское учебное заведение, причём содержание одной из них, Анны, княгиня оплачивала сама.
Обосновавшись в Иркутске, Екатерина Ивановна старалась привнести в новый быт атмосферу своего родного дома в Петербурге. У неё бывали на праздничных приёмах по случаю Рождества или Пасхи или просто на литературно-музыкальных вечерах представители местной интеллигенции, друзья-декабристы, известный мореплаватель и исследователь Дальнего Востока Г.И. Невельской с членами своей экспедиции, генерал-губернатор Восточной Сибири Н.Н. Муравьёв. Такие приёмы и музыкальные вечера становились событием, способствовали развитию эстетических вкусов иркутян, обогащали в целом культурную жизнь города. Оба дома - и Волконских, и Трубецких - постепенно превратились в два культурных центра Иркутска. "Обе хозяйки - Трубецкая и Волконская - своим умом и образованием, а Трубецкая - и своею необыкновенною сердечностью, были как бы созданы, чтобы сплотить всех товарищей в одну дружную колонию", - писал уже упоминавшийся доктор Н.А. Белоголовый.
По свидетельству современников, Екатерина Ивановна в это время много занималась благотворительностью, помогала православным храмам Иркутска, оказывала помощь многим нуждающимся. Благодаря её радушию, дом Трубецких был хорошо известен странникам, больным, беднякам как место, где всегда можно было получить и пищу, и кров.
В 1846 г. после тяжёлой болезни умер в Петербурге отец Екатерины Ивановны граф И.С. Лаваль. В 1850 г. умерла и мать Каташи. Эти трагедии, пережитые вдалеке от дома, как и все перенесённые ранее утраты детей и всяческие лишения, конечно же, сказывались на здоровье Трубецкой. После смерти отца она написала сестре: "...вообще у меня совершенный облик и повадки 60-летней женщины, я чувствую себя страшно постаревшей". А спустя четыре года Зинаида Лебцельтерн так охарактеризовала состояние сестры: "Вскоре после смерти матери сестра заболела, и в конце-концов у неё обнаружили чахотку. Но нам об этом не сообщили. Мы издавна знали, что она страдает грыжей, из-за которой не может ходить, и что по дому и саду её возят в кресле...".

Екатерина Ивановна Трубецкая. Дагерротип. 1850 г.
Постепенно дочери стали выходить замуж и покидать родительский дом. Почти одновременно, с разницей в несколько месяцев, в 1852 г. вышли замуж Елизавета за Петра Васильевича Давыдова, сына декабриста В.Л. Давыдова, и старшая дочь Александра за кяхтинского градоначальника Н.Р. Ребиндера, человека, близкого по своему мировоззрению к декабристскому кругу. Дома оставались младшие - Зина и Иван. К этому времени здоровье Екатерины Ивановны очень пошатнулось. Сергей Петрович так описывал в письме к Лебцельтерн состояние жены после отъезда дочерей: "...Несмотря на то, что она желала их замужества и знала, что они счастливы, разлука с ними была ей очень тяжела. Не без основания можно сказать, что клинок разрушил ножны, ибо тело её не было достаточно сильным, чтобы безнаказанно переносить движения души. После отъезда Лизы она стала худеть, потом ночами стала появляться испарина, ревматические боли в лопатках, сухой кашель после прошлой весны, который с большим трудом удалось привести к отхаркиванию и который свидетельствовал о поражении лёгких..."
Екатерина Ивановна умерла 14 октября 1854 г. Ей было без малого 54 года, 28 из них она провела в Сибири. Похоронили её 17 октября в ограде Знаменского монастыря, прямо перед воротами, рядом с могилами её детей Владимира, Никиты и Софьи. На похоронах присутствовали все живущие в иркутской колонии декабристы и весь Иркутск во главе с генерал-губернатором Н.Н. Муравьёвым, - все шли за её гробом из церкви Знамения Божьей матери, где происходило отпевание, до могилы. Речей при погребении не произнёс никто - они казались излишними.
На следующий день газета "Вестник Восточной Сибири" писала, что "ей не нужно было ни надгробных слов, ни похвал человеческих, которые напомнили бы о жизни её. Дела покойной сами за себя говорят. Толпа, облагодетельствованная ею, принесла ей дань любви - сердечные слёзы".
Но, пожалуй, самой точной характеристикой этой замечательной, поистине великой русской женщины являются слова Сергея Петровича Трубецкого, высказанные им в письме к Г.С. Батенькову от 26 февраля 1855 г.: "...Жена моя была не просто женщина, которая соединила судьбу свою с моей судьбой для прохождения жизни по одному общему пути. Она слила всё существование своё с моим; мысли, чувства, правила, желания, надежды, - всё, одним словом, всё было у нас общее. Она не жила для себя, она жила единственно для меня и детей; и это не на словах, а на деле, все поступки её, все помышления её не имели предметами ничего другого. В отношении самой себя она старания прилагала единственно о том, чтобы исправить все недостатки, которые в себе замечала, и приобрести все христианские добродетели, которых исполнение требует от нас Спаситель... Тридцать четыре года мы прожили вместе, и прожили их, как один день".
Метки: декабристы трубецкая екатерина женщина в истории |
Великие женщины России: Екатерина Ивановна Трубецкая (IV). |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
"УЛЫБКИ КАТОРГИ"
В Чите у Трубецких появилась "первая улыбка каторги" - в феврале 1830 г. родилась дочь Александра. Это было долгожданное событие, так как несколько лет у Трубецких не было детей.
В июле 1830 г. для всех заключённых, разбросанных по рудникам, была выстроена специальная тюрьма в Петровском заводе. Петровск находился в 100 верстах от Иркутска. Собирая всех в одном месте, правительство тем самым старалось избежать рассеяния декабристов по разным местам Сибири. Место для строительства выбирал комендант тюрьмы С.Р. Лепарский, но, осматривая местность с горы, он обманулся привлекательностью зелёного луга, который оказался болотом. Тем не менее, несмотря на неудобное местоположение, новые условия для декабристов, по их воспоминаниям, стали благом: они получили возможность общения, организовали свою тюремную "академию", где каждый мог читать лекции по тем отраслям знаний, в которых был сведущ, организовали тюремную артель материальной помощи тем, кто не получал денег от родных. "Каземат дал нам опору друг в друге", - вспоминал М.А. Бестужев.
К этому времени возымели своё действие хлопоты влиятельных родных об облегчении условий жизни. Официально было разрешено посылать осуждённым необходимые вещи, книги, продукты питания, такие, как крупы, чай, сахар, кофе и т.п. Но главное - было разрешено отправлять жёнам заключённых деньги на покупку или строительство собственных домов. К этому времени у Трубецких уже было трое детей. Всего у Екатерины Ивановны родилось в Сибири семеро, но трое (Владимир, Никита и Софья) умерли ещё в детстве. В живых остались три дочери - Александра (1830-1860), в замужестве Ребиндер, Елизавета (1834-1918), в замужестве Давыдова, Зинаида (1837-1924), в замужестве Свербеева, и сын Иван (1843-1874).
Трубецкая построила себе дом возле каземата, а рядом и напротив появились дома других женщин - так образовалась улица, получившая название Дамской. В письме к сестре в 1836 г. Екатерина Ивановна так описывала своё жилище: "У нас двухэтажный дом. В нижнем - комната для служанки и кладовые. В верхнем этаже три комнаты. Я сплю в первой из них с Никитой и его кормилицей. Другую комнату занимают две малышки и их няня, а средняя служит гостиной, столовой и кабинетом для учебных занятий Сашеньки. Окна выходят на тюрьму и горы, которые нас окружают. Ты, конечно, знаешь, что Петровск представляет собой заболоченную впадину среди высоких гор, покрытых редким лесом. Вид их не имеет ничего весёлого".
При всех преимуществах жизни в Петровском заводе бытовые условия там оказались хуже, чем в Чите, где в камерах был дневной свет, а мужьям даже разрешалось жить в домах вместе с жёнами. В новой тюрьме каждому заключённому была отведена отдельная камера, тёмная, сырая и совершенно без окон. В таких помещениях жёны могли жить с заключёнными, но без детей. А ведь к июню 1830 г. маленькие дети были уже и у Давыдовой, Анненковой, Муравьёвой.
И вот женщины - Трубецкая, Фонвизина, Давыдова, Нарышкина, Муравьёва и Волконская - обратились в III отделение к шефу жандармов гр. А.Х. Бенкендорфу каждая с письмом, в которых они просили не ухудшать условий жизни в Петровском по сравнению с Читой и разрешить им жить со своими мужьями вне тюрьмы, в их собственных домах. Трубецкая писала: "Генерал, в течение почти пяти лет моим единственным желанием было делить заключение с моим мужем. Пока дело касалось одной меня, это было возможно. Но теперь у меня ребёнок, и я боюсь за него. Я не уверена, сможет ли он выдержать сырой и нездоровый воздух темницы. Вынужденная взять его с собой в тюрьму, я, может быть, подвергаю его жизнь опасности: ведь там я буду лишена какой бы то ни было помощи, какких бы то ни было средств, чтобы ухаживать за ним в случае его болезни. Поскольку мне не на кого оставить ребёнка, я должна буду жить вне тюрьмы. Но я боюсь, что последние силы меня покинут, если я, как и прежде, смогу видеться с мужем лишь раз в три дня - этого мне не выдержать. Генерал, я всё оставила, только чтобы не расставаться с мужем, я живу им одним. Ради Бога, не отнимайте у меня возможность быть с ним. Умоляю Вас, постарайтесь добиться у Государя этой великой милости - разрешения видеться с мужем каждый день, как это было дозволено нам в Чите".
Об этом же Бенкендорфа просили и другие, и в ответ на это, "для лучшего свету", как он выразился в письме к С.Р. Лепарскому, окошки были прорублены. "Что касается детей, - писал Бенкендорф, - то нельзя знать, сколько их будет, - сих несчастных жертв необдуманной любви". Только трагическая смерть Александры Муравьёвой в 1832 г. заставила власти пойти на уступки. Муравьёва жестоко простудилась, постоянно бегая из дома в тюрьму к мужу Никите и обратно к маленькой дочке. Болезнь оказалась для неё роковой - в возрасте 32 лет она скончалась. Это была первая смерть среди сосланных, она потрясла всех и в Сибири, и в Петербурге. И.С. Лаваль в связи с этим событием писал дочери: "Твоё последнее письмо меня очень огорчило, моя дорогая Каташа. Я уже две недели знал эту печальную новость... Я уверен, что ты позаботишься о несчастных, которых покинула эта достойная женщина, и что твои заботы о них станут для тебя источником утешения".
После этого трагического события женатым было разрешено видеться со своими семьями в домах.

Екатерина Ивановна Трубецкая. Миниатюра на слоновой кости работы Н.А. Бестужева. 1828 г. Местонахождение оригинала неизвестно. Публикуется по фототипии.
Для Трубецких потянулись годы совсем новой, отличной от Петербурга жизни. Рядом с трудностями и лишениями было и счастье: росли дети. Екатерина Ивановна и Сергей Петрович тщательно занимались их воспитанием и образованием, много внимания уделяли детскому чтению. Сергей Петрович разработал специальную методику преподавания различных предметов. К подрастающим детям выписывались гувернантки из Петербурга. Вот как описывает Екатерина Ивановна жизнь семьи в это время в письме к сестре от мая 1836 г.: "Мы встаём в 7 утра и завтракаем в 8, после чего Сергей даёт уроки Сашеньке. До сих пор это ограничивается чтением и писанием по-русски и немного арифметики. Если погода хорошая, дети идут гулять или играют в нашем маленьком саду; если нет, Сашенька берёт свою работу и вышивает рядом с моими пяльцами. Если госпожа Давыдова или лицо, находящееся при маленькой Муравьёвой, соглашается взять на себя моих маленьких для прогулок, то я с радостью пользуюсь этим, чтобы остаться дома и поработать над диваном, который я вышиваю для мама. Мы обедаем в полдень. После обеда мы иногда идём с детьми к Давыдовой или маленькой Муравьёвой. Иной раз мы остаёмся дома. Дети играют. Сергей чем-нибудь занимается, а я, как всегда, за моими пяльцами. Мы пьём чай в 4 часа, ужинаем в 8, и наступает время укладывания детей. Тогда мы с Сергеем читаем, беседуем и очень спокойно заканчиваем вечер, почти всегда скорее довольные своим днём. Время от времени мы видим остальных дам или у них, или у нас, но вообще наш образ жизни, как видишь, не очень оживлённый. Чтобы закончить твоё осведомление, нужно тебе сказать, что между Петровским и Петербургом существует разница в 5 с половиной часов: то есть, когда в Петербурге полдень, в Петровском 5 с половиной часов пополудни. Теперь ты достаточно осведомлена, чтобы, когда ты пожелаешь, мысленно следить за нами".
А в другом письме к сесте она писала: "Сергей себя чувствует хорошо, много занимается детьми, которых он очень любит до обожания. Они обе (речь идёт о дочерях - Александре и Елизавете - авт.) определённо его предпочитают мне. И это доставляет мне удовольствие... Мне казалось, что я совсем забыла итальянский язык, а на днях мне попалась маленькая итальянская книжка, которую я прочла от начала и до конца без помощи словаря. Я была этим очень удивлена и одновременно, как ты догадываешься, горда. Я очень хотела бы научить моих маленьких французскому и английскому языкам, но Сашенька не хочет до сих пор иначе говорить, как по-русски".
От сестры приходили посылки с книгами, пользовавшимися успехом у петербургской публики, такими, как "История Шотландии" В. Скотта, "История Христофора Колумба", "Юрий Милославский" М.Н. Загоскина, "Борис Годунов" Пушкина, мемуары Б. Констана. В письме к сестре Зинаиде Екатерина Ивановна писала: "...Романы, которые ты мне обещаешь, доставят мне очень большое удовольствие, и раз ты согласна заняться моей библиотекой, то мне придётся попросить, если ты сможешь их найти, компактные издания Мора и Байрона, также то, что появляется нового в смысле книг по медицине на немецком языке... Не могу тебе сказать, насколько моё здоровье улучшилось с тех пор, как моя душа спокойна и довольна. Я не только чувствую себя в два раза сильней, но толстею, и больше не чувствую, есть ли у меня нервы или нет. До моего соединения с Сергеем они были в большом беспорядке... Это лишнее доказательство тому, сколь духовная сторона действует на физическую".
Так проходили недели, месяцы, годы. Постепенно пустел Петровский острог - уезжали те, чей каторжный срок подходил к концу. В 1839 г. срок окончился и для Трубецкого. И 29 июля 1839 г. ровно через 13 лет после того, как Екатерина Ивановна покинула родной дом в Петербурге, Трубецкие отправились к месту своего поселения в Оёк.
Накануне отъезда из Петровского Каташа написала сестре:
"Дорогая Зинаида, вот альбом, который, я думаю, будет тебе интересен. Он содержит различные воспоминания о первых годах нашей жизни в изгнании. Если ты найдёшь, что он плохо сделан, я прошу тебя быть снисходительной: виды, цветы и даже переплёт, всё сделано нашими товарищами по изгнанию. Изображения на переплёте представляют - одно - внешний вид большой Читинской тюрьмы, а другое - дом Александры здесь, в Петровском. Что касается рисунков, я везде дала объяснения. Пусть эти различные виды не печалят тебя, дорогой друг. Глядя на них, скажи себе, что если все эти места были свидетелями наших трудных времён, они видели также много хороших моментов. Завтра мы уезжаем из Петровска с воспоминанием обо всём, что нам послал Бог за все эти тринадцать лет, с полной признательностью за доброту Божью и утешительной мыслью, что всюду, где мы будем, Бог тоже будет там, чтобы защищать и утешать нас... Петровский 26 сего месяца 1839".
Метки: декабристы трубецкая екатерина женщина в истории |
Великие женщины России: Екатерина Ивановна Трубецкая (III) |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

М.И. Песков. Портрет И.Б. Цейдлера. 1854 г.
ПРОТИВОСТОЯНИЕ
6 октября 1826 г. декабристов отправили с заводов дальше, в Нерчинск. Сперва их доставили в Иркутск, а оттуда уже должны были везти через Байкал в Нерчинск. Иркутский гражданский губернатор И.Б. Цейдлер, зная, как иркутяне относились к декабристам и к Екатерине Ивановне, распорядился привезти декабристов в Иркутск ночью. Этим, по его расчётам, устранялась возможность для Трубецкой увидеться и проститься с мужем. Но Екатерину Ивановну всё же известили о готовящейся отправке. Она, вскочив с постели, поспешила на гауптвахту, потом в полицию, где узнала, что повозки с отправляемыми находятся во дворе казачьих казарм. Когда она добежала до казарм, то увидела уже выезжавшие из ворот повозки и, буквально рискуя быть раздавленной, кинулась перед лошадью. Увидев это, Трубецкой соскочил с повозки, заключил жену в объятья, и с ним Екатерина Ивановна проехала одну станцию, затем вернулась в Иркутск.
И тут, после отправки первой партии декабристов за Байкал, между княгиней Трубецкой и губернатором Цейдлером разворачивается драма, в результате которой Екатерина Ивановна своей стойкостью и благородной решимостью сумела опрокинуть все правительственные намерения воспрепятствовать женщинам ехать в Сибирь.
Официально правительство не могло запретить жёнам следовать к своим мужьям.
Факты, когда жена отправлялась к ссыльному мужу, встречались в русской истории и в XVII, и в XVIII столетиях. Это само собой разумелось: развод в те времена законом не поощрялся. Но чаще жёны разделяли судьбу ссыльного мужа не по законной обязанности, а по настоящей любви (такова была судьба дочери петровского полководца Бориса Шереметева Натальи Долгорукой, воспетой поэтами, и, в частности, К.Ф. Рылеевым).
Однако в случае с жёнами декабристов правительство старалось всеми мерами помешать женщинам отправиться в Сибирь: ведь расчёт властей состоял в том, что о декабристах в далёкой Сибири скоро забудут, и они будут обречены на политическую смерть. Первым шагом в этом направлении было разрешение жёнам осуждённых развода с "мужьями-преступниками". Некоторые воспользовались этим правом. Затем был создан особый комитет, на который возложена была обязанность определить для женщин, пожелавших поехать к мужьям, специальные условия. В комитет вошёл генерал-губернатор Восточной Сибири А.С. Лавинский, и ему было поручено разработать для местных властей предписание, как психологически воздействовать - встречаться и разговаривать с женщинами в соответствии с правительственными целями. Предписание получило одобрение Николая I, но обнародовано не было и содержалось втайне. Лавинский предписывал убеждать жён не следовать к мужьям, ибо так они сохранят свои имущественные и сословные права. В противном же случае они их потеряют и сразу перейдут вместе с мужем на положение ссыльнокаторжных, а дети, родившиеся в Сибири, будут записаны в казённые крестьяне. В случае, если эти уговоры не подействуют, следовало прибегнуть к устрашению.
Можно сказать, что эта инструкция была в точности исполнена, вернее сказать, апробирована иркутским губернатором Цейдлером по отношению к Екатерине Ивановне Трубецкой. Именно апробирована, потому что не дала желаемого результата и не применялась уже по отношению к другим.
Как было уже сказано, Екатерина Ивановна, проводив мужа до ближайшей к Иркутску станции, вернулась, чтобы тут же отправиться за ним, и просила губернатора дать ей лошадей. Цейдлер убедил её остаться до зимы: он уверил её, что путешествие через Байкал опасно, что осенние ветры по целым месяцам носят суда по озеру, что там невозможно бывает пристать к берегу и есть риск замёрзнуть.
Но надежды Цейдлера, что Трубецкая переменит своё решение не оправдывались: она по-прежнему была полна решимости немедленно ехать. С наступлением зимы губернатор продолжал, не скупясь на чёрные краски, рисовать перед Екатериной Ивановной мрачные перспективы, угрожал ей потерей всех прав; потом, под предлогом болезни, он несколько дней просто не принимал её.
Работая над поэмой "Княгиня Трубецкая", Н.А. Некрасов пользовался многими достоверными источниками и знал о предписании Лавинского. Драматическую сцену запугивания Трубецкой губернатором он изобразил так:
Но хорошо ль известно Вам
Что ожидает вас?
Пять тысяч каторжников там
Озлоблены судьбой,
Заводят драки по ночам,
Убийства и разбой.
*****
Но вы не будете там жить:
Тот климат вас убъёт.
Я вас обязан убедить -
Не ездите вперёд...
И вот в январе 1827 г., спустя три месяца после приезда в Иркутск, Трубецкая пишет Цейдлеру письмо, настолько полное достоинства, ума и сознания своей правоты, что его невозможно ни привести полностью:
"Заметив, что Ваше превосходительство все старания употребляет на то, чтобы отвратить меня от моего намерения, нужным считаю письменно изложить Вам причины, препятствующие мне согласиться с Вашим мнением.
Со времени отправления моего в Нерчинские рудники я прожила здесь три месяца в ожидании покрытия моря. Чувство любви к другу заставляет меня с величайшим нетерпением желать соединения с ним. Но я стараюсь хладнокровно рассмотреть своё положение. Оставляя мужа, с которым я прожила пять лет столь счастливо, возвратиться в Россию и жить там в кругу семейства во всяком внешнем удовольствии, но с убитой душой, или, из любви к нему, отказавшись от всех благ мира, с чистой и спокойной совестью добровольно передать себя новому унижению, бедности и всем неисчислимым трудностям горестного его положения, в надежде, что, разделяя все его страдания, могу иногда любовью своею хотя немного скорби его облегчить? Строго испытав себя, я удостоверилась, что силы мои душевные и телесные никак не позволили мне избрать первое, а ко второму сердце сильно влечёт меня".
После этого письма Цейдлер окончательно понял, что княгиня непреклонна, что бороться с ней бесполезно. Он дал ей подорожную на выезд в Нерчинск, лошадей, и 20 января Трубецкая уехала.
Спустя несколько часов после отъезда Трубецкой в Иркутск приехала Мария Волконская. Цейдлер уже более доброжелательно с ней разговаривал, хотя ещё пытался и её удерживать, но это продолжалось всего 10 дней, а А.Г. Муравьёву практически уже не удерживал. Поистине, княгиня Трубецкая своей твёрдостью, благородной волей проложила дорогу в Сибирь остальным жёнам.
СИБИРСКИЕ БУДНИ "АНГЕЛОВ-ХРАНИТЕЛЕЙ"
В Большой Нерчинский завод Трубецкая приехала 30 января 1827 г. Узнав, что Трубецкой и Волконский находятся в Благодатском руднике, 6 февраля Екатерина Ивановна направилась туда, а через два дня в Благодатск прибыла и Волконская.
...Благодатский рудник находился в 12 километрах от Большого завода и представлял собой деревню, состоящую из одной улицы. Он был окружён горами, изрытыми раскопами для добывания свинца и серебра. У подножия одной из гор располагалась тюрьма, в которой содержались декабристы С.П. Трубецкой, С.Г. Волконский, Е.П. Оболенский, А.З. Муравьёв, А.И. Якубович, В.Л. Давыдов и братья А.И. и П.И. Борисовы. Женщины сняли комнату в крестьянской избе недалеко от шахты, где работали их мужья. Волконская вспоминала, что изба была до того тесна, что когда она ложилась "на полу на своём матрасе, голова касалась стены, а ноги упирались в дверь. Печь дымила и её нельзя было топить, когда на дворе бывало ветрено; окна были без стёкол, их заменяла слюда".
Жизнь в Благодатске была особенно трудной - быт был не налажен, постоянно ощущалась нехватка денег. Привыкшая к изысканной кухне в родительском доме, Екатерина Ивановна вынуждена была ограничить свою пищу: "суп и каша - вот наш обеденный стол, - писала Волконская, - ужин отменили", его заменял кусок чёрного хлеба, запивавшийся квасом, а собственноручно приготовленный обед посылали узникам. Е.П. Оболенский писал, как в казарму приносили "импровизированные блюда, в которых теоретические знания кулинарного искусства обеих княгинь соседствовали с совершенным неведением применения теории к практике. Но мы были в восторге, и всё казалось нам таким вкусным, что едва ли недопечённый руками княгини Трубецкой хлеб не показался бы нам вкуснее лучшего произведения первого петербургского булочника".
Обе дамы с истинным аристократизмом переносили все трудности: "Мы с Каташей всегда одевались опрятно, - вспоминала М.Н. Волконская, - так как не следует никогда ни падать духом, ни распускаться, тем более в этом крае, где благодаря нашей одежде нас узнавали издали и подходили к нам с почтением". С мужьями разрешалось видеться два раза в неделю, а в остальные дни "нашим любимым препровождением времени было сидеть на камне против окон тюрьмы и громко разговаривать". Уже в Благодатске началась благородная деятельность женщин по осуществлению связи ссыльных с их родными.
Осенью 1826 г. Николаем I были утверждены правила переписки "государственных преступников", по которым им запрещалось "пересылать на почту письма", а также "получать с почты письма без ведома" каторжной администрации. Кроме того, была учреждена секретная почтовая экспедиция для наблюдения за соблюдением этого предписания.
Из воспоминаний Волконской: "...приезд наш принёс много пользы заключённым. Не имея разрешения писать, они были лишены известий о своих, а равно и без всякой денежной помощи. Мы за них писали, и с той поры они стали получать письма и посылки". Письма эти, кроме своей главной задачи - связи с родными, имели ещё и общественное значение как точные документы о жизни декабристов в Сибири. Трубецкая писала от имени более десяти человек.
В сентябре 1827 г. заключённых перевели в Читу. Здесь жизнь, как отмечала Волконская, стала сноснее. Женщины (к тому времени приехали А.Г. Муравьёва, А.В. Ентальцева и Е.П. Нарышкина, вскоре П.Е. Анненкова, затем Н.Д. Фонвизина и А.И. Давыдова) поселились вблизи тюрьмы. Трубецкая жила вместе с Волконской и Ентальцевой в одной комнате в доме дъякона. Волконская отмечала неприхотливость Каташи, умение довольствоваться немногим, "хотя <она> выросла в петербургском великолепном доме, где ходила по мраморным плитам эпохи Нерона", отмечает её тонкий и острый ум, характер мягкий и приятный.
Так как свидания с мужьями разрешались только два раза в неделю (женатым разрешалось приходить в дома, где жили их жёны), то женщины часто подходили к тюремной ограде, через отверстия которой можно было общаться. Но однажды солдат накричал на них, а Екатерину Ивановну ударил кулаком. Это заставило их обратиться с жалобой в тюремную администрацию, и там вынуждены были смягчить строгости. После этого случая Каташа приносила складной стул и устраивала демонстративные приёмы: садилась перед щелью в заборе, а внутри тюремного двора собирался кружок из желающих поговорить, и каждый ждал своей очереди для беседы. А побеседовать важно было с каждым, чтоб потом описать в письме всё услышанное. Иногда узники передавали дамам черновики писем, те их переписывали по форме: "Ваш сын, брат, муж просит меня передать вам следующее...", и дальше следовало всё письмо, как будто бы от имени заключённого.
Метки: декабристы трубецкая екатерина |
Великие женщины России: Екатерина Ивановна Трубецкая (II). |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
"КАЖЕТСЯ, ЕСТЬ НАДЕЖДА, ЧТО БУДЕМ ВМЕСТЕ..."
Положение Трубецкого во время следствия было особенно сложным вследствие того, что среди судей были его вчерашние друзья, знакомые, которые ещё недавно считали за честь бывать в его доме. Кроме того, членами Верховного уголовного суда были и родственники, в частности, С.С. Кушников, женатый на кузине Екатерины Ивановны Е.П. Бекетовой.
Как считают исследователи, то, что такая крупная фигура тайного общества - С.П. Трубецкой избежал казни, в значительной мере объясняется нежеланием и опасением правительства признать во главе заговора представителя одной из знатнейших русских фамилий. Отношение императора Николая I к Трубецкому определялось ещё и тем, что дом Лавалей, как блестящий очаг культуры Петербурга, был хорошо известен в дипломатических кругах, ведь в их доме бывали европейские дипломаты, писатели и художники не только России, но и европейских стран. А автрийский посол Л. Лебцельтерн был, как и Трубецкой, зятем Лавалей, мужем их второй дочери Зинаиды. К тому же у Лавалей, как уже отмечалось выше, были широкие связи с представителями высшего света во Франции. Всё это вынуждало Николая I показать себя в отношении Трубецкого "милосердным монархом". На первом же допросе Николай велел князю написать жене: "Я жив и здоров буду", и таким образом дал обещание сохранить Трубецкому жизнь. Однако истинное понимание роли Трубецкого в тайном обществе, сознание, что он знал намного больше рядовых участников заговора, приковывало к нему пристальное внимание и самого императора, и членов Следственного комитета. Князя допрашивали с особым пристрастием.
С самого первого дня заключения Сергею Петровичу была разрешена ежедневная переписка с женой. Эти письма доставлялись императору через князя А.Н. Голицына открытыми. Они раскрывали Николаю состояние декабриста и позволяли оказывать на него необходимое давление. Когда ответы Трубецкого казались неудовлетворительными, его лишали права переписки с женой, так как из прочитанных императором писем было видно, насколько важна для обоих эта переписка. Она давала им силы жить. Вот выдержки из некоторых писем:
"Я жив и здоров, друг мой несчастный, я тебя погубил, но не с злым намерением. Не ропщи на меня, ангел мой, ты одна привязываешь меня к жизни..."
"Я вижу, друг мой милый, что хотя мы и в разлуке, но занятия у нас одинаковые, ты молишься Богу и перечитываешь мои письма, а я также молюсь Богу и перечитываю по нескольку раз в день все твои письма. Ты знаешь, как они меня утешить могут..."
За время заключения Трубецкой получил от жены 201 письмо и сам написал 193.
Во время пребывания мужа в Петропавловской крепости Екатерина Ивановна держалась очень стойко, выдержанно и всячески избегала с кем бы то ни было разговоров об участниках заговора, многих из которых знала лично и принимала у себя дома в Петербурге и Киеве. Но лучше всего о её настроении в этот период дают представление письма. Почти в каждом из них она просила мужа об одном - не отчаиваться.
Более всего Екатерину Ивановну страшила мысль - сохранят ли её мужу жизнь. Под влиянием этих мыслей она писала 22 июня: "...Если же, мой милый ангел, не суждено мне быть с тобою, то я роптать не буду... Но силы мои не в состоянии снести этого удара. Я не переживу одной надежды, которая меня до сих пор поддерживала, только твёрдо верю, что Бог по благости своей приберёт меня отсюда. Он не оставит меня на земле, где всё мне чуждо, кроме тебя, где я никого, ничего не любила равно тебе, где мне одно было дорого - твоё спокойствие, твоё благополучие. Я жизнь стала любить, собственно, с того времени, как счастье с тобой узнала. Теперь ужасна мне мысль расстаться с тем светом, где ты ещё находишься, но если нам суждено быть в разлуке и после конца дела, то, друг мой, кому же я нужна в мире сем? И может ли у меня тогда быть другая молитва перед Творцом, как о том, чтоб он положил конец нестерпимому страданию?".
А 13 июля, когда стало известно, что Трубецкой приговорён к пожизненной каторге, она написала: "Из писем мне казалось, что ты не представляешь того, что ждёт тебя, и много меня мучила невозможность ясное понятие тебе дать того, что я воображала... Я всё теперь желаю одно - чувствовать благодарность Богу и государю за то, что жизнь твоя мне дарована; всё можно терпеть с тобою, всё сносно, всё легко, когда ты жив, и я имею в виду счастье разделить участь твою, а когда вспомню, что ты мог лишиться жизни, душа замирает, себя не чувствую. Кажется, есть надежда, что будем вместе".
В своих записках С.П. Трубецкой, вспоминая об этих днях, писал о том, что многое в письмах жены ему тогда было "темно", что она страшилась и готовилась к самому тяжёлому, ибо знала, что многие требовали его казни. Действительно, известно, что за смертную казнь Трубецкому высказались почти все члены суда, за исключением двоих, отказавшихся "от суждения за родством", и двоих неявившихся - М.М. Сперанского и Н.С. Мордвинова. В записках Трубецкой писал, что "Николай Павлович не согласился на неё <казнь>. Может быть, он хотел сдержать то, что заставил меня именем своим написать к жене моей, что я буду жив".
В письме от 18 июля, в ожидании предстоящей отправки в Сибирь Трубецкой писал жене: "Истинно, сей беспредельной любви твоей ко мне я обязан сохранением до сих пор, и она же меня сохранит на будущее время".
ОТЪЕЗД В СИБИРЬ
В ночь с 23 на 24 июля Трубецкой был отправлен из Петропавловской крепости в Сибирь. В тот же день княгиня Трубецкая в последний раз перешагнула порог родного дома на Английской набережной, прошла между знакомыми ей с детства львами, и по сей день восседающими у подъезда этого великолепного здания. Она ехала вместе с матерью Александрой Григорьевной Лаваль в Москву. В эти дни весь двор находился в Москве в связи с коронацией Николая I, и Екатерина Ивановна надеялась на содействие императрицы, расположенной к её матери. Необходимо было получить формальное разрешение на отъезд, так как официального разрешения следовать за мужем у неё ещё не было. В Москве находился и отец Иван Степанович Лаваль. Он должен был присутствовать на коронации в качестве церемониймейстера двора.
Остановились они у кузины Зинаиды Волконской в её всей Москве известном доме на Тверской. Зинаида принимала с большим участием и тётку Александру Григорьевну, и кузину Каташу. Впоследствии, в письмах из Сибири Каташа очень тепло вспоминала эти дни. Спустя 15 лет она писала сестре, что "сохранила о кузине самое нежное, самое постоянное воспоминание, и всё, что её касается, живо интересует и трогает меня".
27 июля царское разрешение было получено, и Екатерина Трубецкая, первая из жён декабристов, отправилась в Сибирь.
На всём пути следования в Сибирь её сопровождал библиотекарь и секретарь графа Лаваля Карл Август Воше. Разгром восстания 14 декабря всего в нескольких десятках метров от дома, где он жил, потряс свободолюбивого Воше. Он очень сострадал и Екатерине Ивановне, и её родителям и без малейшего сомнения вызвался сопровождать её в Сибирь. Его не смутила перспектива сибирских морозов, хотя он был хрупок, плохо переносил петербургский климат и почти не говорил по-русски.
Ехали днём и ночью. В то время на дорогах Сибири случалось всякое: раз издали заметили бегущих следом разбойников. Княгиня не растерялась и крикнула ямщику: "Пошёл, пошёл вперёд, не останавливайся!", и тот, не рассуждая, слепо повиновался её властному голосу. Разбойники отстали.
В Иркутске ей удалось узнать, что Сергей Трубецкой находится на Николаевском винокуренном заводе в 70-ти верстах от города. Воше смог тайно проникнуть на завод и, увидев Трубецкого, сказал: "Князь, я вам привёз княгиню, она в Иркутске".
На следующий день они смогли увидеться.

Сергей Петрович Трубецкой. Акварель Н.А. Бестужева. 1828 г. Местонахождение оригинала неизвестно. Публикуется по фототипии.
Весть о приезде Трубецкой в Иркутск быстро распространилась по всей округе. Благодаря своей приветливости, умению вести доброжелательный разговор, ей удалось расположить к себе многих чинов города. Через этих людей Екатерине Ивановне посчастливилось наладить связь не только с мужем, но и с сыльными декабристами, находящимися на других заводах в окрестностях Иркутска. Так, ей удалось передать Е.П. Оболенскому 500 р., а между деньгами вложить записку, что она может через своего сопровождающего переслать известия родным в Россию о нём и о других сосланных.
Воше, ехавший назад, оказался первым тайным курьером декабристов. Таким образом, заслуга в установлении нелегальной связи с изгнанниками также принадлежала Екатерине Ивановне Трубецкой. Вскоре по возвращении в Петербург Воше был выслан на родину. Он навсегда сохранил самые лучшие воспоминания о России, о семье Лавалей. Он писал: "Есть воспоминания, которые никакая человеческая сила не может изгладить, - они в Сибири".
Метки: декабристы женщина в истории трубецкая екатерина |
Великие женщины России: Екатерина Ивановна Трубецкая (I). |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Существует немало женских имён, оставивших значительный след в отечественной истории. Одно из них - Екатерина Ивановна Трубецкая, княгиня, жена декабриста.
Поступок женщин, уехавших за своими осуждёнными мужьями в далёкую и в те годы малоизвестную Сибирь, первой из которых была Екатерина Трубецкая, вызывал восхищение и преклонение современников: "Спасибо женщинам, они дадут несколько прекрасных строк нашей истории", - писал поэт и друг многих декабристов П.А. Вяземский.
Трубецкая прожила в Сибири 28 лет и умерла буквально за год до амнистии, позволившей оставшимся в живых декабристам и их семьям вернуться в европейскую Россию.
Героическая жизнь Екатерины Трубецкой воспета поэтами трёх стран - Альфредом де Виньи во Франции в его поэме "Ванда", Юлиушем Словацким в Польше - в произведении "Ангелли" и в России - Н.А. Некрасовым в его знаменитых "Русских женщинах".
ДОМ НА АНГЛИЙСКОЙ НАБЕРЕЖНОЙ
По материнской линии Екатерина Трубецкая происходила из семьи богатейших горнопромышленников Мясниковых-Твердышевых.
О богатствах этой семьи ходили легенды. Рассказывали, что первые деньги на разработку уральских рудников дал братьям Твердышевым и их зятю (мужу их сестры) Ивану Мясникову сам император Пётр I, которому понравилась их сметливость и расторопность. Молодые люди взялись за дело и в короткое время преуспели и разбогатели. Дочка Ивана Мясникова - Екатерина, в замужестве Козицкая, - приходилась бабушкой нашей героине. И имя своё Екатерина Ивановна получила в её честь.
У Е.И. Козицкой было две дочери: Александра и Анна Григорьевны. Обе они получили прекрасное по тем временам образование и обе составили удачные партии. Анна Григорьевна вышла замуж за русского посланника в Турине и Дрездене князя А.М. Белосельского-Белозерского, став приёмной матерью его дочери от первого брака Зинаиде, вошедшей в историю, как "царица муз и красоты", блистательная хозяйка московского салона княгиня Зинаида Александровна Волконская. Александра Григорьевна, будущая мать Е.И. Трубецкой, стала в 1799 г. женой французского эмигранта на русской службе Жана-Франсуа Лаваля.
Благодаря богатству жены Лаваль сравнительно быстро сумел достичь высокого положения. Он занимал видные посты в Министерстве народного просвещения, затем в коллегии иностранных дел, являлся редактором газеты "Journal de S.Petersburg", имел чин действительного тайного советника и высокие придворные звания. Заботясь о продвижении мужа по служебной лестнице, Александра Григорьевна вместе с тем старалась и об его обрусении. Она часто звала его не Жаном, а Ванечкой, а при посторонних - Иваном Степановичем.
Жене Иван Степанович был обязан и получением графского титула. Находясь в Лондоне, в 1814 г. Лавали узнали, что эмигрировавший во время революции Людовик XVIII возвращается во Францию и нуждается в деньгах. Предприимчивая Александра Григорьевна передала ему 300 тыс. франков, за что король пожаловал Лавалю графский титул, а с 1817 г. высочайшим указом Лавалю было разрешено носить этот титул и в России.
Жили Лавали в Петербурге на Английской набережной в особняке, построенном специально для них известным французским архитектором Тома де Томоном. Этот дом - одно из красивейших зданий города; он быстро стал известен всему петербургскому обществу. Лавали устраивали здесь (а летом - на своей даче на Аптекарском острове) блестящие приёмы, балы, обеды на 300-400 человек, детские праздники. На таких торжествах бывали члены царской фамилии, дипломаты, художники, музыканты, литераторы, в том числе А.С. Пушкин, П.А. Вяземский, В.А. Жуковский. Обсуждались литературные новинки, велись беседы на различные общественно-политические темы. На одном из вечеров Н.М. Карамзин читал главы из ещё неопубликованной "Истории государства Российского".
Дом Лавалей славился своей ценнейшей коллекцией произведений искусства - картинами, гравюрами, античной скульптурой, обширной библиотекой по истории, философии и искусству. Интерьеры дома украшали этрусские вазы, в одной из комнат был мозаичный пол, привезённый из Рима, где он когда-то украшал дворец императора Нерона.
В этом доме Иван Степанович и Александра Григорьевна прожили всю жизнь, здесь родились и воспитывались их дети - четыре дочери и сын. Стены дома видели и радость, и горе семьи. Из этого дома 25 июля 1826 г. Екатерина Ивановна, жена декабриста, уехала в Москву, а затем навсегда - в Сибирь.
Дом Лавалей сохранился и доныне. Теперь он входит в комплекс зданий Конституционного суда России.
Екатерина Ивановна Лаваль родилась 27 ноября 1800 г. Она росла и воспитывалась в обстановке не просто материального достатка, но в настоящей роскоши и атмосфере утончённой культуры. Мать зорко следила за воспитанием детей, старалась, чтобы они всегда были заняты полезным делом и не предавались праздности. Екатерина Ивановна, как и её сёстры, говорила и писала на французском, английском, итальянском и немецком языках, хорошо знала европейскую литературу. А вот русский язык, как это было принято в то время, она употребляла только в общении с прислугой.
В семье её звали Каташей. По свидетельству её сестры Зинаиды (в замужестве Лебцельтерн), оставившей воспоминания, Каташа была очень добра, отзывчива и жизнерадостна. Чаще всего именно она становилась инициатором и душой всех затеваемых в семье Лавалей развлечений и забав.
Внешностью она не блистала, но декабрист А.Е. Розен вспоминал о ней: "Екатерина Ивановна Трубецкая была некрасива лицом, не стройна, среднего росту, но, когда заговорит, так что твоя краса и глаза, - просто обворожит спокойным приятным голосом и плавною, умною и доброю речью, так всё слушал бы её. Голос и речь были отпечатком доброго сердца и очень образованного ума от разборчивого чтения, от путешествий и пребывания в чужих краях, от сближения со знаменитостями дипломатии".

Екатерина Ивановна Лаваль. Портрет работы Сесиль Моудет. 1820 г.
Действительно, Лавали часто и подолгу жили за границей, и в 1819 г. в Париже Каташа познакомилась со своим будущим мужем князем Сергеем Петровичем Трубецким.
Он происходил из старинного рода, получил хорошее домашнее образование, посещал лекции в Московском университете, принимал участие в наполеоновских войнах: участвовал во всех основных сражениях Отечественной войны 1812 года - при Бородине, Тарутине и Малоярославце. Служил старшим адъютантом Главного штаба, а в 1821 г. ему был присвоен чин полковника. Ко времени знакомства с Каташей тридцатилетний С.П. Трубецкой, человек со вполне сложившимся мировоззрением, уже несколько лет был одним из деятельных членов политического тайного общества.
По свидетельству Зинаиды Лебцельтерн, умная, начитанная Каташа произвела на Сергея Петровича (тоже далеко не красавца) очень приятное впечатление: "Молодые люди много беседовали и постепенно привязались друг к другу". В мае 1821 г. в Париже состоялась их свадьба.
По возвращении в Россию молодожёны поселились в доме родителей Каташи, на первом этаже правого крыла особняка на Английской набережной. В обширном кабинете Трубецкого, выходившем окнами на Неву, происходили собрания тайного общества, на которых обсуждались важнейшие организационные и тактические вопросы.
Такие собрания продолжались и в Киеве, куда князь Трубецкой был переведён по службе в 1825 г. на должность дежурного штаб-офицера 4-го Пехотного корпуса.
Зинаида Лебцельтерн вспоминала, что Екатерина Ивановна сама рассказывала ей об этих собраниях, на которых друзья мужа много говорили и спорили в её присутствии, обсуждали планы, выбирали руководителей восстания, составляли проекты конституции.
Однажды Екатерина Ивановна была так напугана услышанным, что, не выдержав, подошла к Сергею Муравьёву-Апостолу, схватила его за руку и, отозвав в сторону, сказала: "Ради Бога, подумайте, что вы делаете! Вы и нас всех погубите, и свои головы положите на эшафот!". Муравьёв-Апостол постарался успокоить её и сказал: "Неужели вы думаете, что мы не делаем всё, что нужно, чтобы обеспечить успех наших замыслов? К тому же речь идёт о совершенно неопределённом времени, не бойтесь же".
Таким образом, в отличие от многих других жён декабристов, Екатерина Ивановна знала о существовании тайного общества и об участии в нём её мужа. И его арест, и всё, что за ним последовало, не было для неё такой неожиданностью, как для других женщин.
Но 14 декабря разделило её жизнь, как, впрочем, и жизнь других жён, на "до" и "после".
Метки: декабристы женщина в истории трубецкая екатерина |
В. Хачиков. "Благородный рыцарь". |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Кавказских рыцарей краса,
Пустыни просвещенный житель,
Ты не одним врагам гроза -
Самой судьбы ты повелитель...
Эти строки поэт С. Нечаев посвятил своему другу А. Якубовичу, человеку яркой и трагической судьбы, бывшему довольно заметной фигурой в российской истории.
12 ноября 1817 года на Волковом поле под Петербургом состоялась дуэль между кавалергардским офицером В. Шереметевым и камер-юнкером А. Завадовским. Их секунданты - А. Грибоедов и А. Якубович - тоже собирались драться между собой, видимо, не поладив при подготовке основной дуэли. Но произошла трагедия - смертельно раненный Шереметев умер на следующий день. Поединок секундантов был отложен.
С участниками этой истории поступили по-разному. Завадовского, принадлежавшего к влиятельным придворным кругам, любимца Александра I, спасая от наказания, отпустили путешествовать за границу. Секундантов же, любовью монарха не отмеченных, отправили в вояж другого рода: чиновник министерства иностранных дел Грибоедов выехал с дипломатической миссией в Персию, а корнет лейб-гвардии уланского полка Якубович был переведен тем же чином в Нижегородский драгунский полк, воевавший на Кавказе.
Оказавшись неподалеку друг от друга, противники все же сошлись на поединке, который состоялся год спустя в Грузии. Грибоедов выстрелил поверх головы Якубовича, а тот, задетый подобным великодушием, постарался сделать свой выстрел не смертельным, но чувствительным для противника - прострелил ему руку, что для Грибоедова-музыканта могло стать трагедией. К счастью, рана оказалась неопасной. Но Грибоедов не простил Якубовичу этого коварства и впоследствии отомстил ему довольно оригинальным способом.
Вспомним сцену на балу в комедии "Горе от ума", где гости судачат о безумии Чацкого. Загорецкий предлагает свою версию:
- В горах был ранен в лоб, сошел с ума от раны.
На что глухая графиня-бабушка, недослышав, возмущенно реагирует:
- Что? К фармазонам в клоб? Пошел он в басурманы!
Очень похоже, что в этих строчках зашифрована судьба Якубовича, который, воюя на Кавказе, действительно был ранен в голову, умудрившись остаться при этом в живых. А поскольку благополучный исход подобных ранений весьма редок, тогдашние читатели комедии должны были сразу же понять, кого на самом деле имеет в виду автор, говоря: "сошел с ума от раны".
Свой скрытый смысл, думается, есть и у фразы "К фармазонам в клоб". Известно, что различные общества, создаваемые будущими декабристами, ассоциировались у тогдашней публики с франк-масонскими ("фармазонскими") ложами и клубами ("клобами", по тогдашнему произнесению), а порою и в самом деле имели с ними связь. Стало быть, в слова графини-бабушки Грибоедов вложил намек на интерес Якубовича к подобным организациям, снабдив этот факт изрядной долей иронии по отношению к своему противнику.
Между тем Якубович и в самом деле был связан с декабристами. Правда, первоначально это были только чисто дружеские отношения с писателем А. Бестужевым-Марлинским, начавшиеся еще до высылки Якубовича на Кавказ. Но к тому времени, когда тот весной 1825 года приехал в Петербург для лечения своей раны, Бестужев уже был одним из вождей Северного общества и ввел в него своего друга. Все годы своего изгнания опальный лейб-улан продолжал ненавидеть Александра I за перевод из гвардии на Кавказ - приказ о переводе он носил у сердца, лелея планы мести императору вплоть до его убийства.
Декабристы, используя подобный настрой Якубовича, поручили ему возглавить боевой отряд, который в день восстания должен был захватить Зимний дворец и арестовать царскую семью. Если бы эта акция удалась, восставшие имели бы куда больше шансов на успех. А победи они, неизвестно, как бы пошла дальше русская история...
Якубович был человеком отчаянной храбрости, прославившись ею даже среди бывалых кавказцев, которых этим качеством удивить трудно. В бою он не щадил себя, и ранение в голову было не единственной отметиной на его теле - у него были повреждены пальцы правой руки, прострелены плечо и нога. Так что вовсе не страх заставил его отказаться от ответственного поручения - просто ноша оказалась не по силам ему… Бестужев был до предела возмущен поступком друга и долго не мог простить ему предательства. Даже перед следственной комиссией он не сумел скрыть своих чувств и презрительно назвал Якубовича "хвастуном".
Лишь четыре года спустя, оказавшись на Кавказе, где еще была свежа память о храбрости и благородстве Александра Ивановича, Бестужев стал оттаивать и через своих братьев, оставшихся в Сибири, затеял с ним переписку, главной темой которой был, конечно, Кавказ, сыгравший чрезвычайно важную роль в жизни обоих.
За шесть с лишним лет пребывания в этой далекой южной стране опальный офицер хорошо узнал ее. Он объездил Закавказье и Закубанье, Дагестан, Кабарду, Карачай, забираясь в самые глухие горные ущелья, где порой и дороги-то не было. Историк Кавказской войны В. Потто приводит в своей книге эпизод, когда отряд под командованием Якубовича подошел к скале, преграждавшей путь. После долгих поисков была найдена узкая лазейка, в которой Александр Иванович, человек крупный и довольно тучный, застрял. Подчиненные "схватили его за ноги, и потащили волоком; на нем изодрали сюртук, оборвали все пуговицы, но все-таки протащили". Это место в верховьях Баксана так и осталось в памяти кавказских воинов, как "Дыра Якубовича" - о ней говорит в своих воспоминаниях даже генерал Ермолов.
Еще одно документальное свидетельство о пребывании Александра Ивановича в наших краях - запись в Ведомости посетителей Горячих Вод в сезон 1821 года: "4 июля. Якубович Александр Иванович, Нижегородского драгунского полка штабс- капитан. Из Тифлиса. Виду не представил. Остановился в доме полковника Толмачева". К сожалению, дом этот не сохранился, сейчас на этом месте построен театр оперетты. Бывал Якубович в Кисловодске, Ставрополе, ряде казачьих станиц, расположенных в пределах Ставропольского края.
Газета "Северная пчела" в ноябре 1825 года поместила статью "Отрывки о Кавказе (из походных записок)", подписанную "А.Я.". Автор, сразу же узнанный читателями, рассказывает о быте, обычаях, военном искусстве карачаевцев и абазехов (абазин), о которых отзывается с большим уважением и теплом. В российской печати это сочинение было одним из первых на кавказскую тему - Лермонтов и Марлинский стали осваивать ее позже, пять- десять лет спустя, а Пушкин к тому времени успел написать лишь одну поэму "Кавказский пленник". Но южная страна уже тревожила его воображение, и, прочитав "Отрывки о Кавказе" в Михайловской ссылке, Александр Сергеевич сразу же запросил А. Бестужева: "Кто написал о горцах в "Пчеле"? Вот поэзия! Не Якубович ли, герой моего воображения? Когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с ним разбойничал на Кавказе… в нем много в самом деле романтизма…".
"Героем моего воображения" Пушкин назвал Якубовича не зря. Задумывая после поездки на Кавказ "Роман на Кавказских Водах", который, к сожалению, так и не был написан, он сделал офицера-изгнанника одним из главных персонажей, обыгрывая его любовь к приключениям, необычайным романтическим ситуациям и т. д. Даже подлинная фамилия Якубовича была указана в набросках первого варианта.
Любопытно проследить за связями Якубовича с М. Лермонтовым. Известно, что они никогда не встречались лично, да и не могли встретиться ввиду обстоятельств их жизни. Михаил Юрьевич никогда не упоминал имени Якубовича в своих сочинениях и письмах. Тем не менее можно быть твердо уверенным, что он не мог не знать о личности и судьбе этого незаурядного человека. Начать с того, что Лермонтов во многом повторил его жизненный путь. Будущий поэт учился в том же Московском университетском благородном пансионе, который будущий декабрист в свое время окончил с отличием - его имя было выбито золотыми буквами на мраморной доске, висевшей в актовом зале. Позже в Петербурге у лейб-гусара Лермонтова было много друзей среди лейб-уланских офицеров, хорошо помнивших своего однополчанина- кутилу, забияку, бреттера. Как и Якубович, Лермонтов был сослан на Кавказ и служил там в том же самом Нижегородском драгунском полку.
Но самое главное состоит в том, что их кавказские интересы и пристрастия совпадали. Интересно в этом отношении письмо Якубовича с сибирской каторги к А. Бестужеву, переведенному солдатом на Кавказ, которое может служить своеобразным комментарием к юношеской поэме Лермонтова "Измаил-бей". Не зная, естественно, что такая поэма уже создана, ссыльный декабрист, предлагая своему другу темы для сочинений, упоминает и историю кабардинских князей Измаил-бея Атажукина и Росламбека Мисостова, ставших лермонтовскими героями. Лермонтов, разумеется, тоже не знал об этом письме, но многое из того, что Якубович советовал описать Марлинскому, он позднее собирался включить в большое эпическое полотно, которое задумал незадолго до своей гибели.
Письмо Александра Ивановича передал Александру Бестужеву его брат Николай, тоже находившийся в ссылке. От себя он добавил: "Якубович, если его послушаться и писать обо всем, что он припоминает, не кончит и до страшного суда романтических реляций о Кавказе, которыми он дышит пополам с атмосферным воздухом вместо кислорода и азота". В другом письме Николай сообщает брату: "Якубович велел сказать, что ему снится и видится Кавказ и ежели он живой выйдет на поселение, то хочет туда проситься".
Увы, этому не суждено было сбыться. Здоровье Александра Ивановича, подорванное сибирской ссылкой, резко ухудшилось и в 1845 году он скончался, оставшись в памяти современников благородным и преданным рыцарем Кавказа.
Метки: декабристы якубович |
А.А. Попов. "Участвовал в умысле на цареубийство". |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

На столе нижегородского гражданского губернатора Крюкова лежало дело по наблюдению за майором в отставке, помещиком села Ореховец Ардатовского уезда князем Федором Петровичем Шаховским. Перелистывая его, он задержался на копии доноса ардатовских помещиков министру внутренних дел от 2 марта 1823 года, в котором они возмущались Шаховским и обвиняли его во вредных нововведениях.
"Князь Шаховской, - писали они, - наполнен вольнодумством и в разных случаях позволяет себе делать суждения, совсем неприличные и не могущие быть терпимыми правительством".
Содержание доноса министр довел до сведения Александра I, и за либеральным помещиком был установлен негласный надзор.
После 14 декабря 1825 года наблюдение за Шаховским усилилось. Вскрывалась вся его корреспонденция. В конце дела подшито было донесение пристава, сообщавшего, что "поднадзорный принес присягу на верность Николаю I в церкви своего села". За два года князь не проявлял признаков вольнодумства. Вел себя тихо, скромно. Казалось бы, все Хорошо. И вдруг это письмо! Губернатор повертел в руках конверт со сломанной сургучной печатью, еще раз пробежал глазами текст. Поручик лейб-гвардии гусарского полка Слепцов извещал своего шурина князя Федора, что следственный комитет полностью осведомлен о нем и разыскивает его в калужских поместьях (Шаховской управлял ими по доверенности сестры). Губернатор принял решение: немедля донести военному министру о проживании Шаховского во вверенной ему губернии, а самого князя на всякий случай распорядился вызвать в Нижний Новгород - так будет вернее!
В ночь на 1 марта 1826 года квартальный надзиратель Попов передал распоряжение губернатора Шаховскому, Князь приказал слуге Лариону упаковать в чемоданы два фрака, два сюртука, белье, распрощался с беременной женой и шестилетним сыном и направился на собственной тройке в Нижний.
О том, как далее развивались события, скупо рассказывает он сам в записной книжке, обнаруженной спустя сто лет при инвентаризации вещей, оставленных Шаховским в Енисейске.
Небольшая книжка в кожаном желтом переплете с изящной бронзовой застежкой исписана прекрасным бисерным почерком, чернилами и карандашом.
"1 марта взят под арест в Ореховце.
2 марта прибыл в Нижний".
Принимая Шаховского, губернатор дал понять, что в Петербурге о нем многое известно и что, очевидно, на него вот-вот последует требование. Шаховской подал Крюкову обдуманное и уже заготовленное в дороге заявление:
"Ваше превосходительство, милостивейший государь! Исполнение воли правительства составляет общую обязанность верноподданных. Желая ускорить оправдание мое перед лицом государя императора, покорнейше прошу Ваше превосходительство отправить меня в Санкт-Петербург..."
Через день с тем же квартальным надзирателем губернатор направил его в столицу.
"4 марта отправлен в Петербург.
9 марта приехал в Петербург в 8 часов пополудни и поступил в Главный штаб под арест".
Петропавловская крепость к тому времени оказалась переполненной, и арестованных доставляли на гауптвахту Главного штаба. Преимущественно здесь содержались люди, или мало причастные, или совсем непричастные к событиям 14 декабря. Условия заключения при Главном штабе были несравненно лучше, чем в крепости: арестованные могли общаться между собой.
Пакет губернатора, врученный дежурному офицеру, перешел к дежурному генералу, а от него к начальнику Главного штаба.
14 марта следственный комитет заслушал сообщение начальника Главного штаба о доставке Шаховского и о "высочайшей воле", чтобы его допросили в комитете.
Но комитет особенно, не торопился допрашивать Шаховского: он уже располагал достаточными материалами о тайных обществах. Шаховской не представлял собой источник сведений, наоборот - его нужно было обвинить.
На гауптвахте Шаховской встретился с давнишними знакомыми - А. С. Грибоедовым, полковником Р. В. Любимовым, капитаном Н. Д.Сенявиным, отставным полковником А. Н. Раевским, лейтенантом 8-го флотского экипажа Д. И. Завалишиным и другими.
В записной книжке помечено:
"12 марта. Приведен ко мне Сенявин.
19 марта. Словесный допрос Левашовым.
29 марта. Перешли на новую квартиру (переведен в другое помещение. - авт.).
3 апреля. Вопросные пункты от Комитета".
Ответы на них должны были дать общее представление о подследственном - когда и где родился, кто родители, какое получил образование, где и когда проходил службу, и - самое главное - они должны были, по убеждению следователей, раскрыть участие обвиняемого в государственном преступлении.
Особый интерес комитета сосредоточился на московском совещании членов Союза спасения у Александра Муравьева в 1817 году, где впервые встал вопрос о цареубийстве и Шаховской поддержал эту мысль.
Он понимал, что первые показания очень важны. Поэтому надо четко продумать всю систему защиты, чтобы не запутать ни себя, ни других.
Где родился? Четким почерком он написал: родился 2 марта 1796 года в селе Заостровье Холмского уезда Псковской губернии.
Федор Шаховской считал себя прямым потомком Рюриковичей - князей Ярославских по отцу и Черниговских по матери. Отец его, Петр Иванович, полковник Преображенского полка, впоследствии перешел на гражданскую службу и дослужился до чина тайного советника.
В Заостровье на попечении тетушки да приезжавшей из Петербурга на лето матушки Анны Федоровны с сестрицами Катей и Поленькой и прошло детство князя Федора. Он всегда с теплым чувством вспоминал гувернеров, под руководством которых овладел латинским, французским, английским и немецким языками.
Когда ему исполнилось пятнадцать лет, Петр Иванович, занимавший в 1812-1816 годах пост псковского губернатора, определил сына в один из московских пансионов. После начала Отечественной войны шестнадцатилетний юноша, охваченный общим патриотическим порывом, приехал к отцу в Псков с намерением поступить в армию. Отца Федор не застал: тот разъезжал по губернии, занимаясь организацией народного ополчения.
Старый губернаторский дом находился неподалеку от Покровской башни, на берегу реки Великой. На половине Анны Федоровны часто заседал дамский комитет, занимавшийся сбором пожертвований на военные нужды. На этих заседаниях не раз присутствовал и Федор. Вернувшись, Петр Иванович не сразу согласился на поступление сына в армию, решил раньше присмотреться к нему. Он поручил Федору организовать размещение прибывающих в Псков раненых в здании губернского правления. (Это здание, бывшее тогда двухэтажным, хорошо известно псковичам: теперь здесь находятся обком КПСС и облисполком.) Убедившись, что князь Федор далеко не мальчик, а дельный, рассудительный юноша, Петр Иванович дал ему рекомендательные письма и разрешил отправиться в Петербург, где он был определен в резервную команду лейб-гвардии Семеновского полка, действовавшего против войск Наполеона.
Юный князь Шаховской участвовал в заграничном походе русских войск. За храбрость и мужество он был произведен в подпоручики.
Наблюдения, сделанные за границей, может и не всегда осознанные, помогли ему еще острее почувствовать российское неустройство: крепостнические порядки, унижение личности, закостенелость нравов.
Вернувшись в Петербург, Федор Шаховской вступил в офицерскую артель Семеновского полка. Как отмечал декабрист И. Д. Якушкин, также служивший в этом полку, пятнадцать - двадцать офицеров "сложились, чтобы иметь возможность обедать каждый день вместе; обедали же не одни вкладчики в артель, но и все те, которым по обязанности службы приходилось проводить целый день в полку. После обеда одни играли в шахматы, другие читали громко иностранные газеты и следили за происшествиями в Европе...".
Семеновская артель, вскоре запрещенная Александром I, была предшественницей будущей декабристской организации.
Подобная артель существовала и среди офицеров Генерального штаба.
В свободные от службы часы Шаховской вместе со своими друзьями посещал лекции известных профессоров, историков и экономистов К. Ф. Германа, А. И. Куницына, К. А. Арсеньева. Все это содействовало расширению умственного горизонта Шаховского, обогащало его знания, особенно в области исторических наУК.
Ответы на волновавшие его вопросы он пытался найти у масонов. Масонские ложи привлекали своей гуманистической направленностью, в них вступала прогрессивно мыслящая молодежь со свободолюбивыми и опасными для правительства настроениями. Шаховской сначала состоял в ложе "Соединенных друзей", членами которой являлись П. И. Пестель, П. Я. Чаадаев, А. С. Грибоедов, а затем в ложе "Трех добродетелей", но вскоре разочаровался в масонстве.
"В 1815 году, - как показывал на следствии Шаховской, - я узнал от Матвея Муравьева (М. И. Муравьева-Апостола. - авт.) о намерении некоторых лиц составить общество".
Такое общество - Союз спасения - возникло в начале 1816 года. Инициаторами его создания были участники двух офицерских артелей - Семеновского полка и Генерального штаба - А. Н. Муравьев, Н. М. Муравьев, С. П. Трубецкой, братья М. И. и С. И. Муравьевы-Апостолы и И. Д. Якушкин. Вскоре к ним присоединились П. И. Пестель, Ф. П. Шаховской и другие.
Для разработки устава Союза спасения была избрана комиссия в составе И. А. Долгорукова, С. П. Трубецкого, П. И. Пестеля и Ф. П. Шаховского, который являлся секретарем комиссии.
В январе 1818 года подпоручик Шаховской подал рапорт о переводе его из Петербурга в 38-й Егерский полк, находившийся в Москве. Связано это было с намечавшейся женитьбой Шаховского. Просьба его была удовлетворена. В Москве он получил возможность прослушать курс лекций по политическим и дипломатическим наукам при Московском университете.
Отдавая дань Москве - героическому городу, пострадавшему в войне 1812 года и спасшему Россию, Александр 1 переводит туда на время свой двор. Вместе с двором в Москву двинулась и гвардия, в которой служили многие члены Союза спасения.
Москва стала местом создания второй декабристской организации - Союза благоденствия, пришедшей на смену Союзу спасения. Этот новый союз имел управы (отделения) во многих городах России. В Москве учреждались две управы. Одну возглавлял Федор Шаховской, другую - Александр Муравьев.
Члены Союза благоденствия организовывали и литературные общества. Такая попытка была предпринята Шаховским, однако созданное им литературное общество скоро распалось.
Шаховской совместно с Михаилом Фонвизиным попытался превратить московский журнал "Общество громкого смеха" в более серьезное издание, поставив перед ним ряд задач общественного характера. Но и эта затея потерпела неудачу.
В ноябре 1818 года Федор Петрович Шаховской женился на Наталье Дмитриевне Щербатовой, внучке известного историка князя Михаила Михайловича Щербатова. На следующий год он был назначен адъютантом к командиру первой гвардейской пехотной дивизии генералу Паскевичу и переехал с женой в Петербург.
Шаховской поселился на территории Семеновского полка, в одном из офицерских флигелей на Рузовской улице, рядом с домом, где жил Иван Дмитриевич Щербатов, брат его жены. К Шаховскому по вечерам часто приходили Сергей Муравьев-Апостол, Михаил Бестужев-Рюмин, Чаадаев, Вадковский. Сам Федор Петрович неоднократно бывал у Никиты Муравьева на набережной Фонтанки, 25, где собирались члены Союза благоденствия.
В связи с "семеновским бунтом" в 1820 году Иван Щербатов за одобрительный отзыв о поведении нижних чинов был разжалован в солдаты и сослан. На квартире же Шаховского произвели обыск и, не обнаружив компрометирующих бумаг, взяли у него и жены подписку в том, что "по делу Семеновского полка... они никакой переписки не имели".
После самороспуска Союза благоденствия в 1821 году Шаховской постепенно отходит от дел тайного общества. Причиной тому была необходимость устроить свои материальные дела. Замужество двух сестер исчерпало финансовые возможности вышедшего в отставку отца, который все более залезал в долги. Рассчитывать на его помощь уже не приходилось. Следовательно, Федору Шаховскому нужно было самому заняться хозяйством в имениях, полученных в приданое за женой.
Выйдя в отставку, Шаховской с семьей переехал в село Ореховец Ардатовского уезда Нижегородской губернии. В деревне он близко познакомился с жизнью крестьян и поставил перед собой цель улучшить их благосостояние.
"По приезде в деревню,- отмечает он в своих показаниях,- нашли мы крестьян в великой бедности и, желая облегчить их... положили значительный капитал, обратив часть оного на усовершенствование их хлебопашества и хозяйственных заведений".
Шаховской осуществил целую систему новых, усовершенствованных способов ведения сельского хозяйства: была ликвидирована чересполосица, и крестьяне получили лучшую землю; для обработки барской земли стали привлекаться наемные рабочие, применялись плуги, сеялки; резко сокращалась барщина, вводилось многополье, культивировалось травосеяние, овощеводство. Вскоре доходы крестьян и помещика увеличились. Эти нововведения и были причиной доноса на Шаховского соседей.
Хотя Шаховской и отошел от дел тайного общества, он стремился осуществить программу Союза благоденствия, в которой говорилось, что каждый его член должен обдумать условия освобождения крестьян в России и изложить это в специальной записке царю.
Именно к этому периоду относится черновик записки Шаховского императору Александру I. Объективно анализируя русскую экономическую действительность - тяжелое положение крестьян, задавленных налогами, повинностями и т. д., - Шаховской высказывается за отмену "рабства" крестьян и замену подушной подати подоходным налогом.
Вся записка проникнута духом патриотизма, человечного отношения к крепостным. Неизвестно, была ли она передана царю.
В деревне же Шаховским написана работа о методах повышения производительности водяных мельниц.
Отдавшись хозяйственным заботам, Шаховской все более отходил от тайного общества. По свидетельству допрошенных следственным комитетом, он "никакого фактического участия в жизни общества не принимал".
Шаховской много занимался самообразованием, причем интересы его были очень широки. В Ореховце он собрал замечательную библиотеку из книг по юриспруденции, философии, педагогике, политике, политической экономии, статистике, естествознанию, математике, военным наукам, изящным искусствам, истории, географии.
В каталоге библиотеки, составленном Шаховским в 1824 году, значится 1026 названий на русском, французском, английском, немецком, итальянском и латинском языках.
Среди книг были сочинения Монтескье, Жан-Жака Руссо, госпожи де Сталь, Гольбаха, Адама Смита, а также Байрона, Шиллера, Гете. Шаховской внимательно следил за всеми течениями общественной мысли, за современными журналами.
В его записной книжке есть такие пометки: "Выписать через книгопродавца Грефа (на французском языке) "Энциклопедический журнал", "Универсальный ежегодник", "Разговорный словарь", "Памятная записка о острове Св. Елены", "Наполеон в ссылке", "История живописи и музыки", "Алфавит египетских иероглифов", через английских квакеров выписать астрономию Клерка".
При аресте Шаховского в Петербурге в описи отобранных у него вещей значатся книга Роберта Оуэна "О воспитании в Нью-Ланарке", сочинения Пушкина, басни Крылова, книга об уголовных наказаниях.
В семейной жизни он был бесконечно счастлив: красивая, умная, образованная жена и шестилетний обожаемый Митя. И вдруг он здесь, и эти вопросные пункты...
Нужна хорошо продуманная система защиты, или следует придерживаться правила, высказанного полковником Любимовым: "Знать не знаю и ведать не ведаю", то есть начисто все отрицать.
Шаховской пошел по среднему пути - между утверждением и отрицанием. Да, он знаком, да, он встречался, но он упорно подчеркивал свое неведение о целях общества и не припомнит совещания у Александра Муравьева.
12 апреля состоялись очные ставки с Михаилом Фонвизиным, Никитой Муравьевым, а 25-го - с Александром и Матвеем Муравьевыми. Шаховской держался хладнокровно и не позволял следователям себя сбить. Его поведение было стойким, полным достоинства. Это внешнее спокойствие обходилось ему дорого, и 6 мая он был отправлен в военный госпиталь.
В записной книжке значится:
"7 мая затребовали в Комитет для подписания протокола опросов в связи с перенесением дела в Верховный уголовный суд. Смотритель госпиталя известил, что я назначен к отправлению в крепость, при этом не имею дозволения писать домашним.
15 мая выписан из госпиталя и поступил в Невский равелин".
Петропавловская крепость... Как сообщить жене? Это подавляло, угнетало. Поддерживало лишь ожидание суда, предстоящая возможность защищаться.
По ночам, когда не было сна, он мысленно произносил свои защитительные речи, вступая в споры с судьями. Но вступить в эти споры ему так и не пришлось.
11 июля Шаховской пометил в записной книжке: "Верховный уголовный суд, прибыв в дом г. коменданта Санкт-Петербургской крепости, в заседании объявил мне свой приговор".
Приговор гласил: "При допросе он сознавался только в том, что принят в Союз благоденствия и знал одну явную цель оного - просвещение и благотворительность... Напротив сего, как показаниями других, так и очными ставками, он уличался в том, что участвовал в учреждении Союза благоденствия и знал настоящую цель оного - введение представительного правления и что был на совещании (в 1817 году), когда Якушкин вызвался на цареубийство, предлагал, чтобы для сего воспользоваться временем, когда Семеновский полк будет в карауле, и только то и говорил, что он сам готов посягнуть на жизнь государя. После чего Сергей Муравьев не иначе называл его, Шаховского, как тигр".
Следственный комитет и Верховный суд не приняли во внимание показания свидетелей, например Фонвизина, который сказал, что "он не может утверждать, был ли князь Шаховской на совещании", или Никиты Муравьева, который показал, что "Шаховской был на совещании, но что он опровергал сие предложение и оставил собрание". Сергей Муравьев-Апостол решительно отрицал, что он давал такое прозвище "тигр", и тем не менее Шаховского обвинили как участника совещания, где высказан был "умысел на цареубийство".
Князь был осужден по восьмому разряду и приговорен к лишению чинов, дворянства и пожизненной ссылке. Указом от 20 августа 1826 года по случаю коронации пожизненная ссылка была заменена двадцатилетней.
Ссылка в Сибирь
Отправка осужденных производилась с соблюдением глубокой секретности. Никто из них не знал, куда его везут, где будет место его назначения.
На случай бегства "злоумышленников" были составлены их приметы: "Федор Шаховской - лет 30, рост 2 аршина, 872 вершков, волосы на голове и бровях светло-русые, глаза темно-голубые, лицом бел и худощав, нос прямой, подбородок выдается вперед, на верхней губе с левой стороны небольшая бородавка".
Шаховской так описывает отправку в ссылку: "27 июля г. комендант отдал меня фельдъегерю Гендригу для доставления в место назначения, и мы отправились в 10 часов вечера. Участь моя и место ссылки мне не были объявлены. Мы выехали в Шлиссельбургскую заставу, проехали крепость и далее по дороге к Архангельску.
28 июля. Сомнение мое кончилось: с Старой Ладоги повернули на Ярославскую дорогу, того же дня проехали Тихвин.
29 июля. Прибыли в г. Устюжну... Видел Ушакова, который дал мне 100 рублей.
19 августа. Прибыли в г. Красноярск, где я был представлен губернатору.
20 августа. С енисейским частным приставом Усовым отправлен в Туруханск, по предварительному назначению высшего начальства.
22 августа. Прибыли в Енисейск и того же дня отправились по реке Енисею.
7 сентября. Прибыли в Туруханск". Это был заштатный городок Енисейской губернии, расположенный на обмелевшей протоке Енисея, среди болот. На пригорке сгрудилось около трех десятков жилых строений, в которых проживало без малого сто человек.
Шаховского томили тяжелые переживания. Связано это было с рядом грустных обстоятельств - смертью в 1825 году матери и последовавшей за ней кончиной отца. Мучила неизвестность о состоянии жены, сына. Об этом свидетельствует отрывок из затребованной у него записки об имущественном положении:
"Жену свою оставил я в селе Ореховце в тяжелой беременности с мучительными припадками - с нею сын наш Дмитрий шести лет. Если бог укрепил силы и сохранил дни ее, то в половине сего месяца должна разрешиться от бремени. Но если ужасное, несчастье постигнет меня, и последняя отрада исчезнет в душе моей с ее жизнью, то одно и последнее желание мое будет знать, что сын мой останется на руках ее семейства, вроде отца ее. В продолжение пребывания моего в С.-Петербурге сперва получал я письма от нее через дежурство Главного штаба, потом через Комитет. О переведении меня в крепость я не решился ее уведомить, а последние две недели я уже ни одного письма от нее не получил, после того, которым я от 14 июля уведомил ее об нашей участи и просил, чтоб она, как можно скорее, распорядилась взять имение мое в опеку, по малолетству нашего сына, к которому оно переходит, с тем, чтобы она была опекуншей, а отец ее, примерной и строгой честности и горячей любви своей к внуку, не откажется быть его попечителем. Сие положение, горестное и сомнительное, усиливается расстоянием 6000 верст, отделяющих меня от родины и осиротелого моего семейства".
В Туруханске Шаховской прожил недолго, но вся его деятельность свидетельствует о стремлении принести пользу местному населению. Своими ценными агрономическими опытами по акклиматизации овощных культур, начатыми в Туруханске и продолженными в Енисейске, куда его потом перевели, он способствовал развитию сельского хозяйства края.
В деле "О государственных преступниках, находящихся на водворении в Туруханске" имеются ежемесячные донесения сотника Сапожникова о поведении "злоумышленника":
"Имею честь донести, что насчет нравственности Шаховского наружного распутства не замечено, что он от жителей как Туруханска, равно и от живущих от Туруханска вверх по Енисею приобрел особое расположение через ссужение их деньгами, обещанием улучшить их состояние через разведение картофеля и прочих огородных овощей, провозвещая им дешевизну хлеба и прочих вещей в крестьянском быту необходимых".
В следующем донесении сообщается, что "преступник располагает иметь в Туруханске домоводство и скотоводство, разведение картофеля и прочих овощей". Здесь же содержится любопытный ответ енисейского губернатора: "Ежели он разводит картофель и другие разные овощи, которых прежде в Туруханске не было, и будет их раздавать и продавать жителям, то сие не может принести никакого вреда кроме пользы".
Шаховской, располагавший присланными женой пособиями по медицине и фармакологии, занимался в Туруханске лечением местных жителей - тунгусов, которые с благодарностью отзывались о ссыльном лекаре. Тот же сотник Сапожников в донесении от 1 апреля 1827 года писал: "Занятием имеет чтение книг, составляет из оных лекарства, коими пользует одержимых болезненными припадками".
Когда начальник Енисейского округа, посетивший Туруханск, заболел, то "преступник" оказался настолько сведущ, что вылечил его. Тем не менее дальнейшее врачевание Шаховскому было запрещено.
В ссылке Федор Петрович усиленно занимался педагогикой. Будучи широко образованным человеком, он хорошо знал труды Песталоцци, Оуэна и других. Здесь он написал "Наставление о воспитании детей и о методах обучения их грамоте", а также завершил краткую грамматику русского языка, работу над которой начал еще в каземате Петропавловской крепости.
В письме к жене от 26 апреля 1827 года Шаховской сообщает: "Посылаю тебе вступление к наукам, написанное мною как введение к дальнейшим занятиям моим для облегчения воспитания детей наших, а также некоторые определения, взятые у Оуэна, которые я старался сделать сколько можно легкими". И далее рекомендует "легкий способ весьма скоро научиться писать и читать".
Свои педагогические идеи он осуществлял на практике, обучая детей бедных родителей.
Сотник Сапожников доносил 2 апреля 1827 года: "...принял на себя обязанности обучения грамоте малолетних детей здешних жителей". Однако вскоре высшее начальство признало обучение Шаховским детей нежелательным и запретило ему это занятие.
Говоря о разносторонних интересах Шаховского, нельзя не упомянуть об увлечении его переводами и стихотворными опытами. Часть этих литературных опытов носит общее заглавие "Пастораль".
В документах фонда Шаховского, хранящихся в Москве в Центральном государственном архиве Октябрьской революции, имеются "Черновые записи о Туруханском крае", составленные Шаховским в первый год ссылки. В них описываются природные условия, богатства этого края, занятия жителей, пути сообщения и т. д. Отмечая положительный характер связи коренного населения с русскими поселенцами-крестьянами, он подчеркивает угнетение тунгусов. Шаховской резко противопоставляет две группы: русские купцы-эксплуататоры и честные труженики, которых беззастенчиво обманывают и обирают. В записках приводятся интересные данные о прошлом края. Например, Шаховской отмечает, что в 1820 году в Игарке был всего один дом, в котором жил крестьянин, имевший коров, - для этих мест явление редкое. В Дудинке обитали два жителя, имелись два казенных хлебных магазина. "Хлеб отсюда отправляется за тундру для русских, его возят на санях. Верстах в 4-х от Дудинки четыре дома. От Дудинки вниз уже лесов не видно. Начинается тундра".
Хотя записки Федора Петровича не могут считаться научным трудом, их историческое и краеведческой значение велико. Это была первая работа, посвященная Енисейской губернии.
Интересы Шаховского простирались и на ботанику, и на минералогию. Просьба к жене: "Пришли мне также сочинения Севергина по минералогии". Любопытна его переписка с директором петербургского Ботанического сада Фишером. Фишер, узнав о его исследованиях, обратился к Бенкендорфу за разрешением доставить Шаховскому три ботанические книги, небольшое собрание сухих трав и микроскоп. Ill отделение отнеслось к этой просьбе с подозрением.
В это время жизнь Шаховского омрачило еще одно обстоятельство. В январе 1827 года, желая прийти на помощь жителям Туруханска, пострадавшим от неурожая, Шаховской дал им из полученных от жены денег 300 рублей на уплату недоимок по повинностям. Когда сведения об этом дошли до III отделения, там этот факт вызвал беспокойство. Бенкендорф приказал: "Губернатору предписывается позаботиться о перемене места жительства Шаховского и надлежит назначить город, который он сочтет необходимым в данном случае, но с тем, чтобы Шаховской от этого ничего не выиграл".
10 августа 1827 года, помечает Шаховской в своем дневнике, прибыл урядник Нифонтьев и объявил ему высочайшее повеление о переводе в Енисейск.
Как большую утрату пережил он расставание с больным товарищем Н. С. Бобрищевым-Пушкиным, отбывавшим вместе с ним ссылку, с которым он некогда вел откровенные беседы.
В Енисейске Шаховской поселился у бедных, но добрых людей. Жители города хорошо относились к бывшему князю. В письмах к жене Шаховской неоднократно подчеркивал это, и особенно душевное отношение купца Хорошева (через него шла переписка с Натальей Дмитриевной), городничего, который "имеет доброе сердце и кроткий и веселый нрав". Письмо от 26 сентября 1827 года Шаховской заканчивает словами: "Енисейск доставляет мне полную возможность писать тебе всякую неделю". Но вдруг в интенсивной переписке произошел перерыв. Ill отделение дозналось, что переписка с женой осуществлялась "через посредство купца Хорошева, которого приказчик проживает в Москве". Было предписано: "Письма принимать не иначе как из рук местного начальства".
Это болезненно сказалось на самочувствии Шаховского. Острее стало чувство одиночества, разлуки с семьей. Наталья Дмитриевна после родов, с грудным ребенком, естественно, не могла поехать в Сибирь, да и сам Шаховской категорически был против этой поездки, тем более что Николай I не разрешал брать с собой детей. Жена могла только окружить его любимыми вещами.
Судя по описи вещей, которые остались в Енисейске, он ни в чем не нуждался. Масса книг, гитара, готовальня, ящик с красками свидетельствуют о том, чем он пытался заполнить свое время.
Ссыльные, подобные Шаховскому, жившие на положении одиночек, среди малочисленного, неграмотного, угнетенного коренного населения, были лишены той дружеской поддержки, которая существовала среди узников читинских и петрозаводских казематов. И для Шаховского - человека необыкновенно одаренного, тонкого, тоскующего в своем бессилии, страдающего от разлуки с женой, детьми - это стало настоящей драмой. Тоска, одиночество находят отражение в каждом его письме:
"Вот еще письмо от тебя, нежный друг мой! Благодарю тебя, что ты так часто пишешь; отрада получить весть о тебе и милых детках, это составляет прелестнейшее утешение в жизни моей. Все посылки твои, особенно книги, тем приятнее для меня, что я попечению нежной и сердечной супруги, моей обязан развитию способностей моих и познаниям, которые распространяют круг деятельности и наблюдательной жизни, уносят меня в мир, где душа черпает ясность и вдохновение в созерцании природы, искусств, открытий и явлений".
К этим словам остается лишь добавить, что Шаховского - человека, измученного жестокой судьбой, с его характером, способностями, заблуждениями, - некому было понять и дружески поддержать. В его письме от 15 апреля проявляется какая-то болезненно-религиозная восторженность. Последнее письмо, от 23 апреля, свидетельствует о полном расстройстве его душевного равновесия.
Трагическая развязка
В июне 1828 года енисейский губернатор сообщил Бенкендорфу о сумасшествии Шаховского. Подробности о начале болезни сохранились в письме декабриста Сергея Кривцова от 24 июля 1828 года, адресованном А. Г. Муравьевой, с которой переписывалась жена Шаховского:
"Проезжая через Енисейск, я нашел бедного Шаховского... худого, с тусклым, блуждающим взглядом, что слишком красноречиво говорит о том состоянии, в котором пребывает его бедный разум..."
Гражданский губернатор Степанов, благосклонно относившийся к Шаховскому, поместил больного в городскую больницу. Жена Шаховского, узнав от Муравьевой о болезни мужа, немедленно обратилась с просьбой разрешить ей поездку в Енисейск, а получив отказ, возбудила ходатайство о переводе Шаховского в одно из отдаленных от столицы имений, под присмотр местного начальства. В частности, она имела в виду Заостровье Псковской губернии.
Только 4 января 1829 года Бенкендорф доложил о ходатайстве Шаховской императору, и тот не дал согласия. Высочайшее повеление гласило: "Отправить для содержания в острог Суздальского монастыря на том положении, как содержатся в оном прочие арестанты".
Тюрьма вместо лечения душевнобольного человека, к тому же поселенца, а не арестанта! И как милость - "с разрешением жене жить близ монастыря и иметь попечение о муже".
Тот же самый фельдъегерь Гендриг, который отвозил Шаховского в Енисейск, помчался вновь в Восточную Сибирь.
Владимирский губернатор Корута был уведомлен о воле государя. И он строго предупреждает архимандрита Парфения о необходимости строжайшего контроля за государственным преступником, но, зная Суздальскую тюрьму как вторую "русскую Бастилию", предписывает поместить Шаховского в приличную комнату. Настоятель затребовал для охраны трех рядовых и одного унтер-офицера. Однако усердие святого отца-тюремщика показалось чрезмерным, ему было выделено только два солдата и унтер-офицер.
При отъезде из Енисейска фельдъегерь получил для "злоумышленника" много теплого дорожного платья: фуфайки, рукавицы, две меховые шубы, "сакуй олений" и т. д., а привез Шаховского в монастырь обмороженным, о чем было составлено даже медицинское свидетельство. В свидетельстве говорилось, что Шаховской прибыл в весьма печальном состоянии: "Оказались на нем ознобленными нос, ухо, три пальца левой ноги и мизинцы на обеих руках, причем на мизинце левой руки не оказалось ногтя".
По ходатайству жены, опять-таки с разрешения самого царя, к арестанту Шаховскому были допущены лекарь и старый слуга князя - Ларион, которому дозволялось ухаживать за ним, но выходить из монастыря запрещалось.
Сохранилось последнее письмо Натальи Дмитриевны из Москвы от 18 апреля 1829 года:
"Друг мой! В конце прошлой недели узнала о твоем прибытии в Суздаль. Мы опять скоро увидимся.
Ты прижмешь к сердцу детей. Дурная дорога и разлитые реки препятствуют мне исполнить немедля необходимое желание моего сердца - тебя увидеть. На той неделе при первой возможности отправлюсь к тебе, другу моему, возблагодарим всевышнего...
Дети, слава богу, здоровы, Митенька начинает хорошо писать, а Ваня так мил, что и пересказать не сумею.
Посылаю к тебе Лариона, который при тебе останется, и с ним немного белья и прочих безделок".
Шаховская забрала старшего сына Дмитрия из пансиона и переехала во Владимир, но развязка была близка.
Парфений доносил: "Государственный преступник Шаховской в течение марта месяца находится в помешательстве ума, сопряженном с дерзостью и упрямством"; "6 мая государственный преступник находится в сильном помешательстве и не принимает пищи".
24 мая 1829 года он сообщил губернатору о смерти Федора Петровича Шаховского. Прошение Натальи Дмитриевны о разрешении перевезти прах мужа в Донской монастырь или в Нижегородскую губернию было отклонено.
"Похоронить в монастыре, там, где хоронят арестантов", - Николай I не переставал мстить даже мертвым.
Так печально закончилась жизнь этого замечательного человека, стремившегося быть полезным народу.
В память о декабристе Шаховском одна из улиц города Суздаля названа его именем.
Метки: декабристы шаховской |
Георгий Чернов. "Декабрист М.М. Спиридов" |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
В это морозное январское утро 1855 года чиновник особых поручений ровно в 10 часов вошел в кабинет владимирского губернатора Владимира Егоровича Анненкова и почтительно остановился у его письменного стола.
- Ну, что там у вас? - вместо приветствия спросил губернатор. Чиновник, открыв папку, подал бумагу с отношением III Отделения собственной его величества канцелярии, подписанную самим шефом жандармов и начальником III Отделения графом А. Ф. Орловым. Не задерживаясь на препроводительной, губернатор с нетерпением прочитал содержание депеши:
"Господину Военному Министру. Енисейский гражданский губернатор доносит, что находящийся в Красноярском округе на поселении государственный преступник М. Спиридов 21 прошедшего декабря от продолжительной болезни умер. Всеподданнейше доводя о сем до сведения Государя Императора, я считаю долгом уведомить о том Ваше Сиятельство. Генерал-адъютант граф Орлов". - Спиридов, Спиридов... это кто же такой?- спросил губернатор.
- Бывший помещик из Нагорья Переславского уезда, - ответил чиновник.
- Не из декабристов ли он?
- Так точно.
- Кто-нибудь из Спиридовых сейчас живет в Нагорье?
- Племянник. Ведь Михаил Михайлович был младшим и своей семьи не имел. Его сестра, кажется, в замужестве княгиня Шаховская, Нагорье оставила давно.
- Ну что ж, поставьте об этом печальном событии в известность предводителя Переславского дворянства.
Если двигаться от Переславль-Залесского на северо-запад, то километрах в двадцати от него дорога, идущая через сплошные леса и болотные топи, приведет в большое русское село. Стоит оно на возвышенности и зовется Нагорьем. История его уходит в седую древность. И может, долго не быть бы ему знаменитым, если бы не помог случай. В середине ХVIII века оно вместе с другими селами - Преображенским, Воскресенским и деревнями, всего 16 селений, в которых числилось 1451 мужская душа, - перешло как дар Екатерины II адмиралу Григорию Андреевичу Спиридову за разгром турецкого флота в Чесменском бою во время первой турецкой войны.
Дворянский род Спиридовых давнишний, служивый, он уже встречается в документах XVI века. Спиридоны были стряпчими, воеводами, рейторами. Во времена Петра I выдвигается Андрей Алексеевич Спиридов (родился около 1680 г.), ставший в чине майора комендантом города Выборга. У него было три сына, пошедшие по военной линии: старший Василий - лейтенант, рано погибший (утонул в 1720 г.), младший Алексей - пехотный генерал-поручик, но самым знаменитым стал средний сын - адмирал Григорий Андреевич (родился 18 января 1718 г.). Он окончил морское училище, был участником многих морских походов и экспедиций, главным командиром Кронштадта, а в турецкую войну командовал передовым отрядом Средиземноморской эскадры.
Получив вотчину и орден Андрея Первозванного, герой Чесмена в 1774 году вышел в отставку и уехал в Нагорье, построил каменную церковь и роскошный деревянный дом, в котором прожил до своей смерти (8 апреля 1790 г.), похоронен в специальном склепе церкви.
Его сын, Матвей Григорьевич (1751 - 1829), женатый на дочери известного историка ХVIII века князя Михаила Михайловича Щербатова Ирине Михайловне (1757 - 1827), - камергер, сенатор и кавалер, ратными подвигами себя не прославил, а был известен как историк и писатель. Им исследована генеология дворянских родов, имевшая тогда огромное значение. В 1803 году он составил "Родословный словарь", а в 1805 году издал книгу "Сокращенное описание служб благородных дворян", а затем - "Краткий опыт исторического известия о российском дворянстве". В области генеологии М. Спиридов был крупным специалистом.
Получив в наследство Нагорье, он переехал в него из Петербурга и жил там до конца дней своих. Похоронен с женою в бывшем Сольбинском монастыре Переславского уезда, недалеко от Нагорья. У них было пятеро сыновей и одна дочь, но самым известным оказался младший - Михаил Матвеевич, будущий декабрист. В "Послужном списке", составленном для Следственного Комитета, с его слов записано: "Из дворян Владимирской губернии".
Место рождения Михаила Спиридова пока не установлено. Краевед из Переславль-Залесского Михаил Иванович Смирнов в своем докладе "Памяти декабриста Свиридова", прочитанном в 1925 году на заседании Переславль-Залесского а научно-просветительного общества (Пезантроб), утверждает, что М. М. Спиридов родился в Нагорье, подтвердить же это весьма трудно, так как "Старинный дом Спиридовых в Нагорье давно сгорел со всем родовым архивом, портретами и вещами, так что бывшие здесь письменные материалы, относящиеся к нему, погибли безвозвратно".
Молодой Спиридов в Нагорье постоянно не жил, но родители привозили его сюда на лето, на зимние праздники. Детство прошло в Москве в доме отца. Начало же его сознательной жизни связано с Владимирским краем. Когда для России настал год тяжелых испытаний, 16-летний Михаил Спиридов, не колеблясь, вступает на военную службу во второй полк Владимирского ополчения, которым командовал его дядя Григорий Григорьевич Спиридов. Можно допустить, что в Нагорье Михаил приезжал и во время своих отпусков в период службы в армии.
Недавно члены краеведческого кружка Нагорновской средней школы пригласили меня приехать к ним, посмотреть на красивейшие места, на то, что уцелело от старинных имений в Нагорье, в соседнем Елпатьеве, бывшем владении знаменитых Нарышкиных, родственников Петра I, куда, как пишут ребята, приезжал Дюма-старший. Они сообщают, что в Нагорье "есть памятник флотоводцу Спиридову, церковь, когда-то очень красивая", а теперь основательно запущенная, в ней помещается мастерская, что сохранилась часть старого парка, а флигель совсем недавно, в 1944 году, сгорел. Уцелевшие хозяйственные постройки "используются торговой сетью".
Ребята с большой тревогой сетуют, что на их глазах погибнет последнее, что могло бы быть памятью о славных делах их предков и служить воспитанию грядущих поколений.
Михаил Матвеевич Спиридов родился в 1796 году. Он впитал в себя все хорошее как от деда, так и от отца. От первого к нему перешла любовь к военной службе, отвага н героизм, от второго - ум исследователя, любовь к книгам, интерес к новейшей истории.
Воспитание Миша получил в семье. Его домашним образованием руководила мать, при- надлежащая к числу образованных и знатных женщин того времени.
М. М. Спиридов знал французский и немецкий языки, увлекался историей и географией, хорошо рисовал.
Дом богатого, знатного барина на Яузском бульваре в Москве, тьма слуг, гувернанты, воспитатели-учителя: немцы, французы и единицы - русские. Он не кончил никакого учебного заведения и даже лекций не слушал "никаких и никогда". Спиридов сам писал, что получил достаточное, правда, одностороннее воспитание в доме своих родителей.
Главными его воспитателями были француз Л-Грана и поляк Фенитина. Математике он учился у Григориуса, а русской словесности - у Добровольского и Голетекова, истории - у немца Шрена и у живущего в Москве француза, фамилии которого он не запомнил. Кроме того, для присмотра за ним был еще немец Гашон и другие немцы к французы, фамилий которых он также не помнил.
Военная служба для Спиридова складывалась весьма благоприятно и сулила хорошую военную карьеру. Начав ее совсем еще юным, он довольно быстро продвигался по служебной лестнице. 26 августа 1812 года Спиридов зачисляется урядником во второй полк Владимирского ополчения, совершает с ним поход до Москвы, очищая ее окрестности от французских мародеров, преследуя отступающего противника. Но царское правительство ополчение в Европу не пустило, полк остался в Москве. 7 февраля 1813 года Спиридов переводится в лейб-гвардии Гренадерский полк, где 17 мая производится в прапорщики. С гренадерами прошел всю Европу, участвовал в генеральных сражениях при Люценее, Дрездене, Кульме, Лейпциге, под стенами Парижа, а 19 марта 1814 года вступил во Французскую столицу. В боях проявил храбрость, отличился и был награжден орденами Анны 4 класса и Св. Владимира.
В конце лета 1814 года - снова поход, но уже обратный, в Россию, пешком через Францию, Германию, до Любека. Здесь полк погрузился на корабли и прибыл в Кронштадт, переправился в Царское Село и пешком дошел до Петербурга, а 13 сентября торжественным маршем прошел по его улицам.
Заграничный поход оставил большой след в душе молодого офицера. Еще нельзя говорить, что его взгляды сложились и обрели определенную систему, для этого он был еще слишком молод. Но впечатлений, идей, мыслей он вез много. После они принесут ему большую пользу.
В ответах Следственному комитету он писал, что с 1814 года занимался военным искусством и науками, "впоследствии приобщил к сим занятиям чтение политических и новейших философских книг".
Из следственных материалов известно, что Спиридовым было написано много различных сочинений, записок, сделано немало переводов, выписок из книг, к сожалению, до нас из того, что он писал, дошло немногое.
Обстоятельства розыска бумаг, сочинений и библиотеки Спиридова увлекательны и драматичны. Когда о них стало известно Следственному комитету, то военный министр А. И. Татищев поручил командующему первой армией графу Санену обыскать квартиру Спиридова в местечке Красилове и изъять сочинения. Санен поручил выполнить эту операцию через командующего 3-м корпусом командиру Пензенского пехотного полка подполковнику Павлу Ивановичу Савастьянову. Прибыв на место, Савастьянов обнаружил книги, принадлежащие Спиридону, и составил на них реестр, который был приложен к рапорту генерала Рота военному министру. В нем значились книги как военного, так и философско-политического характера.
С бумагами дело оказалось сложнее. Их не обнаружили. Спиридов был взят 25 января. Недели за три до этого при помощи своего слуги Григория Максимова все бумаги он уложил в деревянным ящик, обвязал соломой и зарыл под яслями конюшни дома в Красилове. Дня за три до ареста бумаги вынимались, были просмотрены Спиридовым и снова зарыты, посторонних при этом, кроме Максимова, не было. Когда полиция увозила Спиридова, то он передал другому своему слуге Павлу Ивановичу приказание Григорию Максимову - бумаги сжечь, что тот и сделал на 5 или 6 день после ареста Спиридова. Поэтому содержание их неизвестно, сохранились только их названия в делах комитета, записанные со слов Спиридова.
В январе 1816 года Спиридов получает очередное звание подпоручика и переводится в Саратовский пехотный полк, а через год он уже поручик и назначается старшим адъютантом к командиру 6 пехотного корпуса генералу Сабанееву. 7 апреля 1819 года он производится в штабс-капитаны и в том же году возвращается в свой полк. Здесь он командует первой гренадерской ротой, а в 1823 году производится в капитаны и 25 августа переводится в Пензенский полк с одновременным производством в майоры. В это время Спиридову шел 29 год.
Пензенский полк входил в 8-ю пехотную дивизию 1-й армии и расквартировывался в районе городов Житомира, Новгород-Волынского, Старо-Константинова. Летом 1825 года вместе с полком он прибыл на смотр в лагерь под Лещинами. Офицеры жили в крестьянских домах и имели возможность видеть жизнь крепостных крестьян, убеждаться и гаком они положении находились.
На следствие Спиридон показывал:
"Служа большей частью в армии, квартируя в домах у самих крестьян, признаюсь, входя в подробный разбор их положения, видя обращение с ними их господ, часто я ужасался, виноват, причину сему находил в принадлежности их (крепостной). В Малороссии видел в одной и той же деревне казенного жителя, изобилующего во всем, а господского - томящегося в бедности. Потом, сделав переход в Житомирскую губернию, более был приведен в скорбь общею бедностью поселян. Видел там, что плодородная губерния отдает дань одним владельцам, видел неусыпную деятельность хлебопашца, плоды которой служили обогащению их панов, видел неисчислимые богатства на токах, а у поселян к окончанию года недоставало ни зерном, ни печеньем, - не только для продажи, ни даже и для пропитания: повсеместная дешевизность далеко чтоб нужна им в пользу, ибо непременное принуждение покупать всего необходимого в домоводстве в кормчах, у евреев, ввергает их в бедную нищету. Сознаюсь, сердце мое содрогнулось, жалея их".
Это прекрасное описание тягостей крестьянского права, как замечает академик М. В. Нечкина, "превосходит по яркости многие подобные описания у декабристов других обществ". В нем чувствуется славянская постановка вопроса. Ведь все славяне "единогласно стояли за освобождение крестьян".
Вот это непосредственное общение с крестьянами и явилось для Спиридова самым главным в выборе дальнейшего его пути, определения взглядов и отношения к существующим порядкам в стране. Человек прогрессивный, близко принимавший людское горе, видевший его бесправие, он не мог стоять в стороне, быть равнодушным к судьбам людей, замученных крепостным правом. Спиридов, как и многие декабристы, хорошо понимал солдат, он был к ним внимателен и не отделял от народа. Бесправие солдат, бесчеловечное к ним отношение многих офицеров, двадцатипятилетняя служба не могла не возмущать его.
В своих письменных показаниях Следственному комитету 10 февраля 1826 года Спиридон довольно подробно останавливается, на порядках в 1-й гренадерской роте. Он везде и всегда был с солдатами вместе, в походах шел пешком, хотя мог воспользоваться конем, учил терпеливо, все объясняя, особенно то, что солдату пригодится в бою: рассыпному строю, стрельбе в цель; требовал скорости на поводах, проводил ночные тревоги. Сам следил за подгонкой обмундирования, за упущения в обмундировании никогда солдат не наказывал. На учении, крепостных работах поощрял лучших, прибавлял дополнительные дни к отдыху, отличившимся выдавал дополнительную порцию водки, позволял солдатам подработать у окрестного населения, следил за приготовлением пищи. Всегда отмечал усердие солдат, был с ними прост, никогда не употреблял строгости за мелкие нарушения, но строго взыскивал и наказывал "за убийство, пьянство, воровство". Наказание палками в роте было ограничено - всего до нескольких ударов. Да и то объяснял солдатам, что наказывает не он, а этого требует государь. Среди товарищей часто говорил: "Варваром никогда не буду". Спиридов особо подчеркивал, что стремился завоевать любовь солдат, и они его уважали. Когда Спиридова арестовали, то многие плакали.
В общество Спиридов вошел с твердыми взглядами и вполне сформировавшимися убеждениями и сыграл видную роль в соединении общества Соединенных Славян с Южным.
Следственный комитет относит М. М. Спиридова к обществу Соединенных Славян, хотя сам Спиридов эту принадлежность всячески отрицал. В своих показаниях он писал: "В сие общество я никогда не вступал и не знал о его существовании... В Южное Общество я был принят 1825 года в первых числах сентября месяца подполковником Муравьевым и подпоручиком Бестужевым".
И все же это утверждение Спиридова вызывает серьезные сомнения. Если формально он не числится в списках общества Соединенных Славян, то очень близким к нему несомненно был. Спиридов - участник почти всех объединительных собраний общества Соединенных Славян и Южного Общества, он избран доверенным от у Славян, выработал правила для членов соединительного общества, включает себя и отмечает, других членов из Славян по требованию Бестужева в состав "обреченного отряда", делает замечания на "Государственный завет", он знает многих членов общества Соединенных Славян, пользуется их поддержкой и уважением.
По обстоятельствам, не зависящим от Спиридова н других Славян, им не пришлось участвовать в восстании Черниговского полка, хотя определенные шаги к этому были сделаны. Славяне о восстании полка узнали слишком поздно и практически помочь ему не могли. Михаил Матвеевич Спиридов был осужден по первому разряду, то есть наиболее строгому. "Умышлял на цареубийство", вызывался сам, дал клятву на образе совершить "оное" и назначил к тому других, участвовал в управлении Славянским обществом, старался о распространении его, принимал членов и вынуждал низших чинов. Так сформулировал ему приговор в "Росписи государственным преступником" Верховный уголовный суд. Спиридова приговорили к каторжным работам "вечно". Николаем этот приговор был смягчен до 20 лет.
Академик М. В. Нечкина писала о Спиридове, что он был заслуженным боевым офицером, участником Отечественной войны 1812 года. Среди юных офицеров-революционеров был самым боевым.
В Кексгольмскую крепость - одну из самых глухих и отдаленных на северо-западе России Спиридов был привезен в кандалах 21 декабря 1826 года и заключен в Круглую башню, называемую еще Пугачевской. В ней с 1775 года томилась жена и трое детей "крестьянского" царя Емельяна Ивановича Пугачева.
Декабрист Иван Иванович Горбачевский, один из основателей Общества Соединенных Славян, заключенный в этой же страшной тюрьме, холодной, тесной, грязной, в своем письме М. А. Бестужеву в 1861 году писал, что он застал еще томящихся в Круглой башне "двух престарелых дочерей Е. И. Пугачева". В своих "Записках" и "Письмах" он с большой теплотой и подробностью рассказывал о своих товарищах, их поведении на допросах, содержании в Кексгольмской крепости, мыслях и опорах, которые возникали между декабристами в камерах и на прогулках. Они анализировали причины неудач восстания, их по-прежнему волновало будущее России, ее переустройство.
Они жили теми же мыслями, которые привели их в тайные общества.
Кроме М. М. Спиридова и И. И. Горбачевского в этой крепости находились А.П. Барятинский, Ф. Ф. Вадковокий, А. В. Поджио, В. К. Кюхельбекер. Башня не была приспособлена для заключения такого числа людей, поэтому в ней наделали клеток-одиночек. Деревянные перегородки не мешали вести споры и разговоры, как бы ни пыталась препятствовать этому тюремная охрана.
Через 4 месяца 21 апреля 1827 года Спиридова из одной страшной тюрьмы переводят в другую, еще более страшную - Шлиссельбургскую.
Когда за ним захлопнулись ворота Кексгольма, и крытая кибитка с жандармами справа и слева потащилась по весенней распутице, он вздохнул свободно. Подумалось: теперь длинный путь в Сибирь, и хотя он таит много неизвестного, но все же это не мрачная тюрьма без света и солнца, свежего воздуха. Но вдруг кибитка повернула в сторону Петербурга, остановилась на берегу Невы, против Шлиссельбургской крепости. Сердце упало: не сюда ли? Предчувствие не обмануло, подошел с острова тюремный ялик, в него пересадили Спиридова. И cнова на все лето он оказался наглухо замурованным в камере-одиночке крепости. Потянулись долгие, однообразные, полные неизвестности дни. И только в ноябре вновь открылись тяжелые крепостные ворота и жандармы помчали его в Сибирь, на каторжные работы. 20 декабря 1827 года Спиридов прибыл в Читу и был заключен в переполненный Читинский острог. Но как бы ни давил тяжелый труд в Нерчинских рудниках, все же Спиридов был в кругу своих товарищей, единомышленников и включился в общий ритм тюремной жизни. Он скоро нашел общий язык со своими товарищами и стал для них близким другом. В "каторжной академии" читал курс средневековой истории, которую знал отлично. Когда появились книги, он начал заниматься переводом с французского, помогая своим друзьям изучать этот язык.
Спиридов получает право на поселение - "вечное", в Сибири, местом которого определен Красноярск. Хоть в этом ему повезло. Это был большой торговый город, стоящий на главном сибирском тракте. В нем уже имелась гимназия, народное училище, а значит была и интеллигенции, учителя, чиновники разных управлений, предприимчивое кулачество. Поселиться в Красноярске ему помогли его братья, служившие в Сибири. (Александр Андреевич, действительный статский советник, начальник Сибирского таможенного округа; Андрей - коллежский асессор).
В Красноярск Спиридов прибыл вместе с В. Л. Давыдовым, тоже отбывшим длительный срок каторги, в июле 1839 года. Они скоро вошли в местное общество, для них были гостеприимно открыты двери во всех передовых домах хлебосольных красноярцев. Многим семьям города было лестно познакомиться с лучшими представителями русского общества. В городе знали, что Давыдов один из владельцев знаменитого каменского имения на Украине, родственник Н. Н. Раевского, друг А. С. Пушкина. В имении бывали почти все декабристы Южного общества, а с ними и Пушкин.
В Красноярске Спиридов завел хорошо подобранную и лучшую в городе библиотеку, по существу ставшую публичной. Красноярцев привлекал умный и обходительный Спиридов, сразу по приезде ушедший в науки и изучение сельского хозяйства Сибири. И если Василия Давыдова красноярцы, прозвали властителем дум, то Михаила Спиридова, с виду тихого, немногословного, обладающего огромными знаниями и настойчивого в своих действиях - "заступником и другом крестьян". Сам Спиридов признавался в кругу друзей, что эта "вторая честь, оказанная простыми людьми". Первая, как мы помним, была оценка, данная ему солдатами. Привлеченные к суду солдаты его роты Анойченко и Юрашев назвали его борцом за их дело.
- Мы за таких командиров готовы лечь,- говорили они накануне восстания. На поселении Спиридон занялся сельским хозяйством, "чтобы не только своими руками добывать пропитание, но и личным примером и опытом содействовать развитию крестьянских хозяйств".
Сразу же по прибытии в Красноярск Спиридов обратился с просьбой к Енисейскому гражданскому губернатору Копылову об отводе ему "узаконенного" количества земли в Золодеевской волости, недалеко от города.
"Енисейская казенная палата, по предложению губернатора, выслушав докладную записку хозяйственного отделения палаты 6 ноября 1841 года предписала губернскому землемеру Шабанову отмежевать в будущем лете государственному преступнику Михаилу Спиридову, поселенному в г. Красноярске, на основании повеления, изъявленного в палате в предписании бывшего департамента государственного имущества от 31 мая 1835 года 15-десятинную порцию на пустопорожней земле в Золодеевской волости, предложив поручение это внести в полевые занятия, имеющие производиться в 1842 году". А окончательное отмежевание земли, проведенное младшим землемером Чикуновым, произошло только летом 1843 года в даче деревни Мининой Золодеевской волости Красноярского округа в количестве 15 десятин 750 кв. саженей, из них только 11 - удобной.
Немного позже Спиридон приобрел небольшой, так полюбившийся ему хуторок Дрокино около Красноголовой сопки на берегу речки Качи, куда он переселился в 1848 году.
Голубые мундиры шли за Спиридовым, как и за другими декабристами, всю жизнь. И об этом изменении в его судьбе сочли необходимым довести до сведения Владимирского губернатора.
Он 8 июля 1848 года получил письмо, в котором извещался: Граф Орлов сообщает, что Спиридову разрешается переселиться из Красноярска в деревню Догинку (правильно - Дрокино) и чтобы за ним было учреждено строгое наблюдение".
С помощью Василия Львовича Давыдова строит жилой дом и хозяйственные постройки. Давыдов не очень одобрял эти увлечения Спиридова, полагая, что его "хозяйственный зуд" скоро пройдет. Но на деле он, видимо, плохо знал Спиридова, который все больше и больше увлекался сельским хозяйством. Спиридов писал И. И. Пущину: "...Я понемногу хозяйствую, понемногу завожусь, да все плохо, трудно по нашему стесненному положению. Завел кузницу тележную, а зимой заведу шорную. Хлебопашество мое идет, можно сказать, кое-как по великому недостатку работников, которые все уходят на золотые прииски".
О результатах своего труда Спиридон писал генерал-губернатору, что, отобрав несколько десятин дикой, запущенной, можно сказать, брошенной земли, такой земли, что "иные крестьяне - удивлялись моей смелости, другие утверждали, что мой труд, старания, издержки, хлопоты будут напрасны, что такая земля без своей разработки не может ничего производить, что посеянные семена не взойдут, или при всходах будут задавлены сорными травами. Но, вопреки всем этим заключениям, все посеянное взошло, выспело и в свое время убрано". Он выписывает агрономические журналы, схемы и чертежи различных сельскохозяйственных орудий, книги по ботанике, полеводству, огородничеству. Местным кузнецам давал заказ на изготовление сельскохозяйственных орудий, конструировал машины, увлекая этим и крестьян. Нужно было много денег, а их всегда не хватало, тогда Спиридон затеял сельскохозяйственный кредитный банк и создал его. На помощь пришел Давыдов, он ссужал банк своими средствами. Давыдов и Спиридов прекрасно понимали, что только за счет крестьянского труда, без денег, передовой агротехники, крупного перспективного хозяйства не создашь, и вкладывал в свою мечту все свои капиталы, умение и знания. Bcкope Спиридон устроил не очень большое, но образцовое хозяйство, ставшее настоящей школой для крестьян. К нему издалека приезжали земледельцы, наблюдали, изучали, восхищались, охали от удивления, видя его результаты, но на путь Спиридова не становились. Его удивляла, даже злила эта незаинтересованность крестьян в организованном хозяйстве. Но вскоре он понял, что идет это не от крестьян, а от правительства. Оказывается, чем доходнее хозяйство, тем больше налоги, это и сдерживало инициативу вольных землепашцев. В феврале 1845 года в Красноярске проездом остановился Вильгельм Карлович Кюхельбекер, союзник по Кексгольмской крепости. Он очень хотел повидать Спиридова, но в городе его не было.
- Где он?
- Как обычно, уехал в свое глупое Дрокино, - съязвил Василий Львович. И рассказал подробно о хозяйстве Спиридова.
- Теперь у него сорок десятин земли, двадцать лошадей, несколько коров. Братья Борисовы из Минусинска прислали десять голов овец новой породы.
- Значит, Михаил Матвеевич делает успехи?
- Не очень, - Давыдов покачал головой,- предприниматель в финансовом затруднении. Но как бы Давыдов ни потешался над увлечением своего друга, но сам разделял их, активно помогал Спиридону.
- Коготок увяз - всей птичке пропасть,- часто поговаривал он. Он тоже стал выписывать русские и зарубежные газеты и журналы по вопросам сельского хозяйства, увлекся их чтением, приобретал новые сорта семян.
Хозяйство их все росло и скоро о необычном дрокинском хуторе стало далеко известно за пределами Красноярского уезда. Все больше сюда приезжает крестьян посмотреть на интересное хозяйство, необычные для Сибири орудия.
Спиридов давал пояснения:
- Вот здесь неупотребляемые, но необходимые для разрыхления и углаживания пашен орудия, а здесь машины для переработки урожая.
Он снабжал крестьян картофелем выведенного им сорта, пользующегося большой популярностью и получившего название "спиридовки". Этот сорт был в Сибири известен еще в начале нашего века. Со своего большого огорода он снабжал овощами и картофелем всю колонию декабристов, раздавал семена и картофель всем желающим, особенно крестьянам. Используя богатые знания по математике, механике, он много времени тратил на конструирование новых сельскохозяйственных орудий и достиг в этом больших успехов.
Некий Н. Г-к в своей статье "Из воспоминаний о декабристах" писал: "Ко всем живущим в городе (Красноярске) декабристам приезжал каждое воскресенье Спиридов, живший в д. Дрокиной своим домом. Летом Ф. (Фонвизиным) он привозил огурцы, салат и проч. зелень. Ездил он обыкновенно в одноколке, без кучера". (Н. Г-кий "Из воспоминаний о декабристах". "Енисей", 1901, 24 октября).
В июле 1854 года И. Д. Якушкин, получив разрешение на выезд из Ялуторовска в Иркутск для лечения вместе со своим старшим сыном Вячеславом Ивановичем, служившим чиновником особых поручений при генерал-губернаторе Восточной Сибири Н. Н. Муравьеве, заехал в Красноярск. Иван Дмитриевич писал младшему сыну Евгению: "Не доезжая 14 верст Красноярска, живет в казачьей станице Спиридов. К нему мы заехали. Что за великолепный человек, этот Спиридов, он года на два меня моложе и не только сохранил свое здоровье, но красавец для своих лет. Обстоятельства его были бы самые безотрадные для всякого другого. У него много близких родных и очень богатых, в том числе кн. Шаховская и кн. Щербатова, ему двоюродные сестры, и он не только не получает ни от кого ни копейки, но никто к нему и не пишет, кроме родной его сестры, которая по временам извещает его о себе, но не присылает ему ничего вещественного. Михаил Матвеевич, мало того, что он ожесточен затруднениями своего положения, но чистосердечно смеется над ними, говоря, что все это вздор. Он пускался по необходимости в разные предприятия, которые ему не удались, и первый над ними издевается. Теперь некоторые золотопромышленники поручают ему закупку хлеба, и он пока этим кой-как существует". (Декабристы на поселении. Из архива Якушкиных. М., изд. Сабашникова 1926, стр. 117 - 118).
В том же году, в августе, Якушкин писал в Ялуторовск И. И. Пущину: "Мы заезжали в Дрокино к Спиридову, про это нечего мне распространяться. Он молодец во всех отношениях. Теперь он занимается закупкой хлеба по поручению некоторых золотоприискателей и покупает в теперешнее время пуд ржаной муки по 15 копеек серебром, давая теперь задатки, с тем, чтобы мука поставлялась в свое время. Все эти дни Мих(аил) Матв(еевич) живет с нами".
Это письмо конкретизирует характер хлебных операций Спиридова. Как видно, он находился в большой зависимости от продавцов муки и золотопромышленников; они часто не выполняли своих обязательств. Муку следовало доставлять в назначенные ими места. Ее сначала отправляли водным путем - баржи с хлебом иногда гибли то из-за капризов реки, то по вине нанятых сплавщиков, - а затем везли санным путем до приисков. На этих операциях Михаил Матвеевич часто нес большие убытки.
Краевед Михаил Иванович Смирнов из Переславль-Залесского в своем докладе "Памяти декабриста Спиридова", прочитанном на заседании научно-просветительного общества в 1925 году, сообщил, что в Дрокиной в те годы еще жили два старика, помнившие декабриста Спиридова. Один из них Михаил Дмитриевич Нашивочкин вспоминал: "Спиридов занимался сельским хозяйством, которое достигло по посеву до 40 десятин, у него были в большом количестве рабочие батраки, лошадей было 20, также и другой скот рогатый. Занимаясь хозяйством, сеял пшеницу, рожь, посконь, гречиху, лен, коноплю и т. д. Хлеб в большом количестве отправлял в тайгу на золотые прииски на своих лошадях. К крестьянам относился хорошо. Все давал. Всякую нужду крестьян он удовлетворял: кому нужен хлеб на посев, на еду и на другие целя, всем с охотой ссужал. В общении с крестьянством был всегда внимателен и добр. Ссужал крестьян также и деньгами. За все время его жизни ему из России присылали деньги в большом количестве, как будто от сестры. И перед смертью своей он получил из Петербурга 12000 руб. В личной жизни непосредственно в хозяйстве не работал, но поднимался рано, а вел свое хозяйство с помощью приказчика, которого имел одного. Жил один, имел прислугу и стряпку. О себе ничего не рассказывал".
Другой крестьянин Вульф вспоминал, что рабочих у Спиридова было 5 человек, хлеб отправлял на золотые прииски с кем-то в компании. Сам он жил без выезда и никуда, кроме хозяйства, не выходил, итак и на собрания, на сборища". Он же говорил, что Спиридон всегда участвовал в работе хозяйственной, выезжал на пашню.
По рассказам тех же крестьян, Спиридов в деревне Дрокиной имел большой дом 4 сажени в длину, 3 в ширину, "расположенный в длину улицы с обширным двором, с надворными постройками и флигелем. Внутренний вид - как крестьянский дом, выбеленный, с залом, кухней, спальней и прихожей. Прислуга жила отдельно. В комнатах стояла хорошая мебель и было много цветов. На зиму Спиридон уезжал в Красноярск, где имел устроенную квартиру.
После смерти Спиридова его дом в Дрокиной продали какому-то городскому жителю под заимку, а затем он перешел обществу под канцелярию станичного начальника. Его заимка в деревне Дрокиной (12 верст от Красноярска) еще долго звалась Спиридовской.
Кроме занятий хозяйством, встречей со своими друзьями Давыдовым и Митьковым - Спиридов ведет оживленную переписку с бывшими союзниками. Сохранились четыре его письма к Ивану Ивановичу Пущину, все они написаны в Красноярске. В письме от 30 декабря 1839 года он писал:
"Поздравляю тебя, любезный Пущин, с прошедшим праздником и наступающим Новым годом. Ты знаешь, как я ценю твою продолжительную приязнь. Мы почти 12 лет провели вместе, и эти почти 12 лет мы жили товарищеской жизнью; конечно, по доброму и благородному твоему сердцу, ты не захочешь прекратить сношение со мною.
Что сказать тебе о себе? Я живу в Красноярске по-прежнему, на той же квартире, устроил теплицу и жду с нетерпением весны, чтобы заняться хорошенько огородом. - Время провожу то дома, то у Дав(ыдовых) и М(итьковых), то у некоторых знакомых, и правду сказать, я им очень благодарен за прием и ласки, а в особенности всему почтеннейшему семейству Ивашевых. Ты не можешь себе представить, сколь уважительно это семейство. Ты с ним знаком, но не имел случая так коротко узнать его, как я.- Ф. А. необыкновенной доброты, радушен, приветлив, словом, это русский гостеприимный человек"... (Доклады "Пезантроб", 1925, стр. 13).
Далее Спиридов рассказывает о достоинствах супруг Ивашевых, их дочерей, сына Владимира и высказывает истинное сожаление, что семейство Ивашевых "оставляет Красноярск, но я рад для них, желая им от всей души всего счастья и во всем успеха, им лучше и выгоднее быть в Великой России, чем в Сибири". Ивашевы выехали из Красноярска в январе 1840 года, Спиридов просит Пущина принять их и оказать всяческое содействие, когда они по пути в Россию прибудут в Ялуторовск, где в то время Пущин жил.
Осенью 1854 года Спиридов переехал в Красноярск на лечение и поселился в семье Василия Львовича Давыдова. Его жена, Александра Ивановна - женщина удивительная, добрая, чуткая, окружила одинокого Спиридова материнским вниманием и заботами. Все старалась рассеять его мрачные мысли и облегчить страдания. Материальные дела резко ухудшались, поиск средств на содержание хутора принудил его идти на ненадежные предприятия, вроде хлеботорговли. Здоровье пошатнулось, и хутор требовал все больше внимания и сил, а их уже не было. И все же он продолжал заниматься делами.
Иван Дмитриевич Якушкин пытался как-то повлиять на княгиню Шаховскую, написал ей письмо о тяжелом положении ее брата, но из ответного ее письма можно подумать, что она не получила моего листка к ней",- замечает Якушкин.
Но и заботы и тревоги Спиридова оказались бесперспективными. Хоть он и храбрился и пытался быть веселым, но болезнь сделала свое разрушительное дело. 21 декабря того же 1854 года М. М. Спиридов умер.
В. Л. Давыдов писал И. И. Пущину: "С разбитым сердцем берусь я за перо, чтобы вам написать, мой дорогой И. И. Три дня тому назад я имел несчастье потерять настоящего друга, которого вся моя семья всем сердцем любила и умела ценить так же, как и я. Наш превосходный Спиридов умер по возвращении из поездки по уезду, которую он предпринял по случаю своих дел. Несмотря на то, что он был довольно тяжело болен, он строжайшим образом запретил нас извещать об этом. не желая вас беспокоить.
Не знаю, какая роковая случайность заставила его близких следовать этому запрещению, и я, к несчастью, слишком поздно узнал об опасности, в какой он находился, и то случайно.
Я поспешил в Дрокино и нашел его уже в очень плохом состоянии. Я поскорее вернулся в город, чтобы послать к нему доктора; при нем до тех пор был только фельдшер, очень хороший, правда, и очень добрый человек, но с самого начала нужен был доктор, тогда, может быть бы, сохранил бы его". Согласно завещанию, его похоронили на сельском кладбище села Арейского (Емельяново) близ Красноярска. После рассказывали, что приезжал какой-то родственник, положил на могилу плиту и поставил оградку.
Метки: декабристы спиридов |
Ю. Павлов. "Связной восставшего полка". |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

"О декабристах - горы книжек - от площади Сенатской до сторожевых острожных вышек, - как горечь канувших годов", - этими словами начинается одно из "декабристских" стихотворений известного советского поэта Алексея Маркова.
Действительно, за сто с лишним лет, с тех пор как было снято запрещение на упоминание о дне 14 декабря 1825 года и связанных с ним событий, написаны тысячи книг, исследований, монографий. Только библиографические указатели составляют три солидных тома. Но если биографиям некоторых из декабристов посвящены целые книги, то описание жизни и деятельности других умещается в несколько десятков строк.
Среди последних - герой нашего очерка Александр Евтихьевич Мозалевский, прапорщик Черниговского пехотного полка, активный участник восстания декабристов, окончивший свой жизненный путь в селе Устьянское Енисейской губернии, на территории нынешнего Красноярского края.
Подготавливая материал для очерка, пришлось столкнуться с такими фактами, когда люди, интересующиеся отечественной историей, в частности периодом пребывания декабристов в Красноярском крае, знают о А. Е. Мозалевском непростительно мало. Иногда его путают с другим декабристом - Н. О. Мозгалевским. Еще в начале века известный историк и декабристовед Б.Л. Модзалевский писал: "Имена этих двух лиц, вследствие созвучия их фамилий, постоянно смешиваются, - даже самими декабристами, а между тем судьба их, одинаково печальная, во многом различна". К сожалению, биографии их, намеченные отдельными штрихами Б. Модзалевским, долгое время не привлекали внимания декабристоведов. Теперь о жизни Николая Осиповича Мозгалевского мы знаем достаточно подробно благодаря замечательной книге "Память" недавно ушедшего от нас В. А. Чивилихина. Настоящий очерк является попыткой воссоздать биографию А. Е. Мозалевского по отдельным, дошедшим до нас, историческим фактам, воспоминаниям и документальным свидетельствам.
Александр Евтихьевич Мозалевский родился в 1803 г. в семье коллежского регистратора Е. И. Мозалевского - обнищавшего помещика села Ольшанцы Фатежского уезда Курской губернии. Пока не удалось установить дня и месяца рождения будущего декабриста, узнать, чем была заполнена его жизнь до 18 лет: где он учился, кто были его учителя. Обычно эти данные мы находим в формулярных списках следственных дел декабристов. "Дело" же Мозалевского оказалось навсегда утраченным.
В 18 лет Александра Мозалевского зачисляют прапорщиком в Черниговский пехотный полк. Не пройдет и года, как командиром батальона, где служит молодой прапорщик, станет подполковник Сергей Муравьев-Апостол - один из основателей Союза Спасения и Союза Благоденствия, видный деятель Южного общества декабристов. Общение с этим выдающимся человеком, с солдатами, ранее служившими в знаменитом своим выступлением против произвола царских крепостников Семеновском полку, заронили в душу Мозалевского добрые семена мятежного духа и свободомыслия.
20 мая 1824 года Мозалевскому присваивают очередной чин - прапорщика. Чуть больше полутора лет остается до событий декабря 1825г.- января 1826 г., всколыхнувших до основания самодержавие, которые круто повернут жизнь как Мозалевского, так и многих его товарищей. Пока также остается загадкой, почему А. Мозалевский, безоговорочно принявший сторону восставших товарищей, не был вовлечен в члены тайного общества.
Узнав о поражении выступления гвардейских полков в Петербурге и предстоящих арестах на юге, 26 декабря 1825 г. офицеры-члены Южного общества - во главе с Сергеем Муравьевым-Апостолом подняли восстание Черниговского полка.
А. Мозалевский находился по болезни в полковом штабе в городе Василькове, когда 30 декабря восставший полк вошел в город.
К восстанию декабристов Мозалевского привлекли члены бывшего Общества соединенных славян, составившие костяк руководства восставших, - М. Щепилло, А. Кузьмнн, И. Сухинов, В. Соловьев. Они прислали к нему Д. Грохольского, разжалованного за дерзость из штабс-капитанов в рядовые, с просьбой присоединиться к восставшим. "Почему я и пришел к ним, - пояснит потом Мозалевский". И в дальнейшем ходе восстания славяне все время поддерживают с ним связь и сообщают ему о всех важнейших решениях.
Когда все роты восставшего полка собрались на площади Василькова, Муравьев-Апостол приказал Сухинову и Мозалевскому идти на квартиру командира полка Гебеля и принести знамена и полковой ящик с деньгами.
Здесь проявились высокие моральные и нравственные качества Мозалевского. Когда он увидел, что разъяренные солдаты пытаются мародерствовать в квартире ненавистного им крепостника-полковника, Мозалевский решительно, с угрозой применения оружия, присек эти безобразия.
Возвратясь со знаменами, Мозалевский получил от Муравьева-Апостола приказ во что бы то ни стало отыскать скрывавшегося полкового адъютанта Павлова, отобрать у него полковой архив, печать и немедленно арестовать. Однако найти адъютанта не удалось. Он спрятался в постели между перинами у жены городничего. Эта неудача дорого обошлась: адъютант тайно выбрался из города и предупредил о восстании Черниговского полка киевское начальство...
Узнав от фельдфебеля Шутова, что командир 9-й дивизии генерал Трухановский должен прибыть в Васильково для подавления мятежа, С. Муравьв-Апостол приказал Мозалевскому арестовать его и привести тотчас к нему. Заступив в ночь на 31 декабря в караул на Богуславскую заставу, Мозалевский вместо Трухановского встретил там жандармского поручика. Когда его пытались арестовать, жандарм схватился за пистолеты. Но смелые действия Мозалевского пресекли его сопротивление. Вскоре Мозалевским был арестован и отвезен на главную гауптвахту второй прибывший жандармский офицер.
А между тем полк готовился к походу, чтобы выступить на Киев, расположенный в 38 верстах от Василькова, и попытаться привлечь на свою сторону другие воинские части. В 10 часов утра 31 декабря Мозалевский был срочно вызван к Муравьеву-Апостолу. "Едва Мозалевскнй успел войти в комнату (Горбачевский И. Записки. Письма), как С. Муравьев взял его за руку, повел в кабинет и запер за собой дверь. Потом сказал ему, что он должен ехать в Киев с письмами к тамошним членам тайного общества: "Вы должны спешить в город; постарайтесь как можно скорее кончить порученное вам дело и немедленно возвратиться ко мне. Будьте осторожны, старайтесь всеми средствами скрыть ваш приезд как от киевских жителей, так и от тамошнего местного начальства".
Мозалевский должен был вручить три письма, одно - майору Курского полка Крупенникову, распространить в народе несколько списков "Политического катехизиса" (воззвания восставших к солдатам).
С большими трудностями добравшись до предместий Киева, Мозалевский оставил здесь сопровождавших его унтер-офицера Николаева и солдат. Он вручил им по экземпляру "Катехизиса", приказал разойтись в разные стороны, чтобы раздавать списки встречным людям или оставить их в наиболее людных местах. Сам же Мозалевский в полночь 31 декабря прибыл в Киев. В городе было тихо, казалось, еще никто не знал о бурных событиях, происходивших совсем неподалеку.
Известно, что Мозалевскому удалось вручить два письма, оставшиеся без ответа, на которые надеялся Муравьев-Апостол. Кто были эти адресаты, так и не удалось установить, кроме того, что один из них был генералом. Третье письмо осталось у Мозалевского.
Как выяснилось потом на следствии, никакого майора Крупенникова, которому написал письмо Муравьев-Апостол по рекомендации поручика Кузьмина, в Курском полку, не существовало. Служил там поручик с такой же фамилией, но Мозалевскому увидеть его не удалось.
События, между тем, стремительно развивались. В Киев пришло известие, что в город движется во всеоружии "взбунтовавшийся" Черниговский полк.
"Всюду били тревогу. Шел второй час ночи. Испуганные выбегали яз домов, торопились или бежали, не зная куда и зачем. Темнота, вопли жителей, крики солдат, барабанный бой и звук оружия увеличивали ужас всей ночи" - писал в своих "записках" И. Горбачевский.
В сложившейся обстановке Мозалевский решает срочно покинуть город, чтобы предупредить Муравьева-Апостола. Но толпы народа, марширующие солдаты то и дело преграждали путь его повозке.
Очевидно, несмотря на совет Муравьева-Апостола "переодеться в партикулярное платье", Мозалевский так и остался в форме офицера Черниговского полка. Поэтому, наткнувшись на первый же взвод жандармов, был арестован и отправлен на главную гауптвахту 4-го корпуса.
На первом же допросе у командира корпуса генерала Щербатова Мозалевский убедился, что отрицать свое участие в восстании бесполезно. Рядом находились майор Черниговского полка Трухин, задержанный, а потом отпущенный мятежниками, два жандармских офицера, которых арестовал Мозалевский на заставе, и объявившийся полковой адъютант Павлов. Все они с изрядной долей пристрастия показывали на Мозалевского...
Не дождавшись известий от своего связного, С. Муравьев-Апостол не решился продолжать движение на Киев. Пришлось менять маршрут и не однажды.
В нашу задачу не входит давать подробное описание хода восстания. На эту тему написано достаточно много. Напомним только, что 3 января 1826 г. в деревне Ковалевка полк был встречен верными правительству конными и артиллерийскими войсками и рассеян кавалерией и картечью.
Погиб поручик Михаил Щепилло, ранены Сергей Муравьев-Апостол, поручик Анастасий Кузьмин. Последний застрелился на ночлеге в корчме, находясь под арестом. Видя поражение восстания, покончил с собой юный Ипполит Муравьев-Апостол - брат командира восставших.
После разгрома восстания, его руководители - С. Муравьев-Апостол, М. Бестужев-Рюмин - под усиленным конвоем были доставлены в Петербург, заключены в Петропавловскую крепость, а впоследствии казнены вместе с Пестелем, Рылеевым и Каховским.
2 января 1826 г. схваченный в Киеве А. Мозалевский был препровожден в главную квартиру (штаб) 1-й армии в Могилеве. Затем туда доставили В. Соловьева, А. Быстрицкого, взятых с оружием в руках, а позднее и И. Сухинова, сумевшего совершить побег, добраться до Кишинева, где он снова был арестован.
Полгода тянулось следствие, и все это время А. Мозалевский и его товарищи содержались поодиночке в тесных кельях иезуитского монастыря, закованными в ручные и ножные кандалы.
По сентенции военного суда черниговцы "за бунт и измену" подлежали "по силе законов и приговора суда смертной казни - четвертованием". В таком виде доклад военного суда был передан на утверждение Аудиторского департамента, по представлению которого на конфирмацию императора четвертование было заменено расстрелом.
12 июля 1826 г. Николай I собственноручно наложил на докладе военного суда резолюцию, ставшую окончательным приговором Сухиyову, Мозалевскому, Соловьеву и Быстрицкому: "... по лишению (их) чинов и дворянства и переломлении шпаги над головой перед полком поставить в Васильково при собрании команд из полков 9-й дивизии под виселицу и потом отправить в каторжные работы вечно". 23 июля 1826 г. в городе Остроге в присутствии вновь сформированного Черниговского полка Соловьеву, Быстрицкому, Сухинову и Мозалевскому поочередно зачитали сентенцию с высочайшей резолюцией. Когда Сухинов услышал последние слова приговора, то воскликнул:
- И в Сибири есть солнце!
Тут же на площади Сухинова, Соловьева и Мозалевского вновь заковали в кандалы, предварительно снятые перед сентенцией, и отправили в Житомир, чтобы через месяц уже в Василькове пройти позорный обряд политической казни, придуманной Николаем I.
23 августа, на другой день после прибытия декабристов в Васильков, их вывели на площадь, на которой уже выстроились Тамбовский пехотный полк и сводный батальон из всех рот 9-й дивизии.
На площади стояла огромная виселица. Киевские, полтавские, черниговские помещики съехались в Васильков со своими семьями, чтобы поглазеть, как будут вешать бунтовщиков.
При вторичном прочтении приговора каждого из декабристов палач обвел вокруг виселицы и оставил на некоторое время под ней. По окончании церемонии все трое были доставлены в городскую тюрьму, а затем переправлены в Киев.
5 сентября 1826 г. к Сухинову, Мозалевскому и Соловьеву вновь присоединили Быстринкого и с партией уголовников-арестантов отправили пешком, закованными в ручные и ножные кандалы по этапу в Москву.
"Не станем описывать трудностей сей дороги, никакое перо не может изобразить оных, и, может быть, самое пламенное и самое мрачное воображение не в состоянии представить себе страданий, испытанных нашими изгнанниками, - пишет И. Горбачевский. - Без одежды, без денег, оставленные на произвол судьбы, преданные самовластию каждого командира инвалидной команды, они испытывали все физические и нравственные мучения. Днем они подвергались всем переменам осенней погоды и не имели средств защитить себя от холода и дождя; ночью - смрадная и тесная тюрьма вместо отдыха была для них новым истязанием".
Не мудрено, что прибыли в Москву, в совершенно разбитом состоянии. Всех пришлось сразу поместить в тюремный госпиталь. Особенно плох был Быстрицкий.
Но это стало только началом их длинного, невероятно долгого и тяжелейшего пути. Декабристы еще не совсем поправились, как их снова заковали в кандалы. 1 января 1827 г., оставив в тюрьме мечущегося в горячке Быстрицкого, Сухинов, Мозалевский и Соловьев пешком отправились с партией уголовников в Сибирь.
Начав путь из Москвы в лютые морозы, преодолев непролазную грязь российских дорог в долгую весеннюю распутицу, в разгар летней жары добрались декабристы ... до Тобольска.
В архивах сохранились донесения сенатора князя Е. А. Куракина, которые он посылал в III жандармское отделение, будучи в это время с ревизией в сибирских городах. Вот что сообщал сенатор 4 июня 1827 г.:
"...Получив донесение о прибытии в Тобольск двадцатой партии арестантов, в числе которых находились трое государственных преступников - бывшие офицеры Черниговского полка, - и отправился секретно в тюрьму... Для этого была приготовлена отдельная комната и приняты все меры предосторожности для того, чтобы арестанты, которые должны были быть вводимы туда ко мне, не будучи об этом предупреждены, не имели возможности, выходя оттуда, сообщать друг другу о результатах встречи со мной... Они все трое очень горевали по тому поводу, что с более виновными было поступлено сравнительно менее строго; их вывезли на почтовых и приготовили к каторжным работам на срок, тогда как они шли пешком в цепях в течение девяти месяцев, будучи смешанными с убийцами и разбойниками... и имея в перспективе таким же образом еще 4300 верст, а также, что они осуждены на пожизненные каторжные работы... Все трое в общем удручены своим положением. Последнее очень естественно, так как положение это ужасно."
Далее, давая краткую характеристику каждому из трех черниговцев, сенатор доносит:
"...Мозалевский, бывший прапорщик, совсем еще молодой человек лет двадцати; природа, по-видимому, не дала ему большой чувствительности, он из числа тех, которые переносят свою участь с совершенным безразличием; чтобы более в этом удостовериться, я, узнав из допроса, который я ему сделал, что родители его еще живы и что он их единственное дитя, спросил его, не чувствует ли он, при воспоминании о своих, престарелых родителях угрызения совести или страха?.. Он ответил мне с глубоким вздохом: "Да, я, должно быть, их убил." Но я не заметил в нем ни уныния... ни раскаяния..."
Но когда декабристы в ответ на вопрос Куракина: "не может ли быть им чем полезен?" - попросили, чтобы он приказал - или поскорее их отправить к месту назначения, или снять с рук и ног обременяющие их железа, князь, "ужасавшийся" их бедственным положением, ответил: что "в сем отношении не может им ни в чем помочь и не имеет прав удовлетворить их просьбам"
Единственным радостным мгновением на всем их многострадальном пути были мимолетные встречи с двумя партиями обогнавших их декабристов, да двухчасовое свидание с Е. П. Нарышкиной, следующей за мужем в Читинский острог. Елизавета Петровна специально осталась на ночлег, когда увидела пришедших декабристов. Она добилась свидания с ними в остроге, как могла утешила и ободрила их, снабдив небольшой суммой на дальнейшую дорогу. Только 12 февраля 1828 года вконец измученные, оборванные черниговцы пришли в Читу. Здесь их оставили на дневку, чтобы потом отправить дальше - в Нерчинские рудники. Весть о прибытии соратников по борьбе моментально донеслась до декабристов, находящихся в Читинской тюрьме. Вместе с женами они сделали все возможное, чтобы обогреть товарищей, поддержать их морально и материально.
Мария Николаевна Волконская вспоминала: "...муж велел мне к ним пойти, оказать им помощь, постараться успокоить Сухинина (Волконская ошибочно называет Сухинова Сухининым), который был очень возбужден, и внушить ему терпение. Острог, где остановились каторжные, наладился за деревней в трех верстах от моего помещения. Я разбудила Каташу (Е. И. Трубецкая) и Ентальцеву на заре, и мы отправились, конечно пешком, в страшный холод; сделав большой крюк, чтобы избежать часовых, мы дошли до острога... Было еще довольно темно, Сухинин был в таком возбужденном состоянии, что надо поднять каторжных в Нерчинске, вернуться в Читу и освободить государственных преступников... Я ушла, грустная и встревоженная. К несчастью, мои опасения сбылись".
Женщины снабдили товарищей разной одеждой, деньгами, передали слова поддержки и солидарности их сподвижников, томящихся за высоким частоколом Читинской тюрьмы. 16 марта 1828 г. Мозалевский, Соловьев и Сухинов прибыли, наконец, в Большой Нерчинский завод, пробыв в пути 1 год 6 месяцев и 11 дней, пройдя пешком в кандалах свыше 6400 верст...
Сразу же, как только наши декабристы были определены в каторжные работы в Зерентуйский рудник, Сухинов стал искать контакты с каторжно-ссыльными с целью организации коллективного побега и возможного освобождения товарищей из Читинской тюрьмы. Заговор был раскрыт из-за предательства одного из участников, человека мелкого и подлого.
И хотя Мозалевский и Соловьев не принимали участия в планах Сухинова и даже отговаривали его от этого намерения, они не миновали ареста вместе с участниками заговора.
Вызванные на допрос, они не только отрицали свое участие в заговоре, но и старались выгородить своего товарища.
В одном из документов "Дела об открытии в Зерентуйском руднике Нерчинских заводов намерений ссыльно-каторжных к побегу..." хранящегося в Центральном военно-историческом архиве, говорится: "Живущие вообще с Сухиновым товарищи его ссыльные Александр Мозалевский и Вениамин Соловьев показали, что они не слыхали ни от кого вызову к учинению побега или какому-либо злостному намерению, равно и за Сухиновым ничего особенного, относящегося к какому-либо злоумышлению или подозрительной связи с другими ссыльными, они совершенно не замечали".
Однако царские следователи хорошо знали свое дело. Решением военно-полевой комиссии, утвержденной комендантом Нерчинских рудников, И. Сухинов и пятеро активных заговорщиков были приговорены к расстрелу. Сухинов накануне расстрела покончил с собой.
Было доказано, что Мозалевский и Соловьев не имеют отношения к заговору, а поэтому не подлежат наказанию. "Но, дабы они между собой не могли впредь иметь соглашения и свидания, разослать для определения в работы в разные рудники, усугубя местному начальству за их поступками внимательный присмотр".
Мозалевского сослали в Култумский рудник, Соловьева в печально известный Лютуй.
Вскоре после распоряжения коменданта Лепарского их в феврале 1830 г. перевели в Читинскую тюрьму, где к этому времени находились остальные декабристы, осужденные на каторгу.
Перенесенные вместе лишения навсегда соединили в крепкой дружбе Мозалевского и Соловьева. С этой поры друзья не разлучались ровно десять лет до момента окончания каторги уже в Петровском заводе, куда всех читинских узников перевели осенью 1830 г. Даже их камеры были рядом, Мозалевский томился в 18-й, Соловьев в 19-й.
Путь, пройденный через всю Россию, нерчинская каторга не прошли для Мозалевского бесследно.
В Петровской тюрьме у Мозалевского начинают появляться первые признаки тяжелого заболевания.
От родственников не поступает ни писем, ни денег. Но заботы соузника доктора Ф. Вольфа, помощь дружной декабристской артели поддерживают здоровье, моральный дух и материальное положение Мозалевского.
Как будет не хватать ему их участия потом, когда декабристы разъедутся на поселение а разные уголки Сибири, когда уедет самый близкий друг В. Соловьев.
После сокращения, по указу 1835 г., срока каторги до 13 лет, Мозалевский должен был выехать на поселение в с. Рождественское Канского округа Енисейской губернии, но болезнь его настолько обострилась, что его, по высочайшему повелению оставляют в Петровском заводе, но практически без всякой медицинской помощи, без средств к существованию.
"Мозалевский лежит без ног и без рук, отчаянно болен... и, к несчастью, доктора нет", - сообщает из Петровска И. Горбачевский в письме Е. Оболенскому. "Вы не поверите, почтеннейший Иван Иванович, - пишет Мозалевский ссыльному Пушицу в мае 1840 г., - как мне тяжело приниматься за перо - в таком расстройстве души и тела, в каком я нахожусь теперь. В феврале нынешнего года заболел опять, и так, что ворочали на простынях; в апреле поехал было на воды, но после первых же ванн показалось кровотечение горлом и разболелась жестоко грудь и правый бок. Должен был почти бежать с вод, чтобы не умереть!.. средств никаких... на поселение до сих пор еще не выпустили, содержание будет или нет -неизвестно... Что же делать? Умереть без всякой надежды на пособие? Умереть там, где провел столько горьких лет? Это ужасно.. Я надеюсь, что Ваше дружеское участие не оставит меня без помощи. Начало чахотки с ее последствиями, недостаточные средства, душевная скорбь и безнадежность в будущем... вот что есть и каково мое нынешнее положение... Всякий знак Вашего внимания, всякое пособие будет принято с благодарностью..."
И. И. Пушиц и по его просьбе Е. П. Оболенский приходят на помощь товарищу, высылают ему деньги.
Воспрянувший было Мозалевский благодарит Пушица за его помощь и письмо:
"...Благодарю Вас душевно за добрую память обо мне и за то душевное участие, которое Вы во мне принимаете. Верю, верю, Иван Иванович, что вы не забываете прошедшего и что с тем же добрым расположением следите за каждым из нас, ваших десятилетних товарищей...
Что же сказать Вам о себе? Болезнь моя меня не покидает и еще недавно свалила не на шутку. Решаюсь остаться здесь, если средства позволют, небольшим хозяйством..."
Мозалевский покупает избу, лошадей и пробует брать подряд на заводе по перевозке изделий. Но дела идут из рук вон плохо, мизерного годового пособия, выделяемого правительством на содержание государственных преступников, не хватает, чтобы свести концы с концами.
В 1842 г. Мозалевский обратился к иркутскому начальству с просьбой "дозволить занять место поверенного в заводе". На что иркутский генерал-губернатор Рупорт в письме от 24 ноября 1842 г. на имя управляющего Петровским заводом ответил: "Вследствие просьбы государственного преступника Александра Мозалевского, находящегося на поселении в Петровском заводе, о дозволении занять ему место поверенного в здешнем заводе, я входил по этому обстоятельству с представлением к г. Генерал-Губернатору Восточной Сибири, на что Его Высокопревосходительство в предложении ко мне... отозвался: хотя как не уважительны причины, по которым государственный преступник Александр Мозалевский просит дозволения занять место поверенного в Петровском заводе, но он не может от себя дать ему на это разрешение потому, что государю императору не угодно, чтобы государственные преступники поступали в услугу к частным лицам и тем более по откупам..."
Не помогло и обращение Мозалевского к шефу Бенкендорфу с просьбой брать "наем у частных лиц". Резолюция Бенкендорфа на ссыльного была короткой и бездушной: "Оставить без ответа". К сожалению, нужда и прогрессирующая болезнь надломили моральный дух декабриста. Он попадает под влияние кабатчиков, сторонится бывшего союзника и товарища по борьбе Горбачевского. В то же время Мозалевский пытается вырваться из заколдованного круга, периодически прося начальство о переводе в Енисейскую губернию к старому другу В. Соловьеву. Последнее воспоминание И. Горбачевского о товарище по каторге и ссылке содержится в его письме к Д. И. Завалишину от 19 июля 1850 г.: "Мозалевский просился к Соловьеву и его перевели из Петровского завода. Послезавтра едет туда - дали ему прогоны и кормовые по 90 коп. асс. в день, не знаю, правда ли это, но он мне сегодня об этом говорил - ссылаясь на казака, который его препровождает". 21 июня 1850 г. Мозалевский выехал в село Устьянское, расположенное в 50 верстах от Канска.
Однако здоровье Мозалевского было окончательно подорвано. Соловьев встречает друга больным и совершенно разбитым после дороги. С каждым днем слабеют силы ссыльного декабриста. Соловьев отвозит его в больницу, но медицинская помощь уже была бессильной. 7 июня 1851 г. Александр Мозалевский скончался в Канской городской больнице. Факт и причина смерти зарегистрированы в метрической книге Канского Спасского собора за 1851 г. под № 40. "По отношению больницы 9 июня за № 173" Мозалевский погребен "на отведенном кладбище". Пока не удалось с документальной точностью установить место погребения ссыльного декабриста. Из поколения в поколение передается рассказ о том, что В. Соловьев перевез тело товарища в с. Устьянское и похоронил на окраине сельского кладбища.
Метки: декабристы модзалевский |
Последний декабрист: "В солдатской портупее - через Кавказское окно". |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Виктор КРАВЧЕНКО
Время пребывания декабристов на Кавказе растянулось на полвека. Первым, еще до восстания 14 декабря, осенью 1821 г. здесь побывал В. Кюхельбекер. В дальнейшем, до 1840 г., сюда каждый год переводили "государственных преступников". Все они добросовестно проходили службу в Отдельном Кавказском Корпусе. К концу 40-х гг., т.е. спустя 20 лет после восстания, декабристы, получив офицерский чин, вышли в отставку и выехали в родные края. Но в 1848 г. судьба перебросила из Сибири на Кавказ 47-летнего А.Н. Сутгофа. Так он оказался последним декабристом, переведенным рядовым в Отдельный Кавказский Корпус.
Сутгоф был одним из тех, кто сыграл достаточно видную роль в восстании 14 декабря в Петербурге.
Родился Александр Сутгоф в 1801 г. в Киеве. Отец его происходил из старинной шведской семьи, а мать, Анастасия Васильевна, была малороссиянка. Первоначальное образование Сутгоф получил в пансионе Московского университета, но курс наук не закончил, т.к. в 1812 г. был переведен в Киев, где служил его отец в чине генерал-майора. 16-летним юношей Александр поступил на службу юнкером в егерский полк. В 1823 г. переведен поручиком в лейб-гвардии гренадерский полк, где к 1825 г. командовал ротой. Члены тайного Северного общества давно обратили внимание на гренадерский полк. Один из активнейших членов общества П. Каховский постоянно держал связь с офицерами А. Сутгофом, Н. Пановым, А. Кожевниковым, М. Глебовым.
А. Сутгоф принимал активное участие в разработке плана восстания. Он присутствовал на совещании 12 декабря у Оболенского, где были представители разных полков, выразивших согласие "действовать к общей цели". В день 14 декабря Сутгоф поднял свою роту, привел ее в боевой порядок и повел через лед по Неве на Сенатскую площадь, тем самым выполнив возложенное на него поручение. Увидев гренадеров, Каховский воскликнул: "Каков мой Сутгоф!" После поражения восстания Сутгоф был осужден по 1 разряду и приговорен к каторжным работам на 20 лет. До лета 1827 г. он содержался в Свартгольмской крепости (Финляндия), а затем отправлен в Сибирь, откуда 25 августа комендант Нерчинских рудников генерал-майор С. Лепарский доносил начальнику Главного штаба графу И. Дибику: "Сутгоф и другие приняты в мое ведение и употреблены в работу". В 1835 г. срок каторги снизили до 13 лет, а четыре года спустя Сутгоф был определен на поселение в Введенскую слободу близ Иркутска и тогда же женился на дочери горного штаб-лекаря Анне Федосеевне Янчуковской.
Несмотря на жизненные трудности, постепенно наладился быт. В ежемесячном донесении ир-кутского гражданского губернатора в Петербург о поведении ссыльных в марте 1844 г. о Сутгофе говорилось, что он "...занимается чтением книг и домашним хозяйством, ведет себя похвально, в образе мыслей скромен". Но вот в 1848 г. по хлопотам родных его отправляют на военную службу на Кавказ.
Свой путь Александр Николаевич описывал так: "...От Ялуторовска до Казани мы ехали долго и скучно, от Казани до Ставрополя еще дольше и скучнее, особенно от Дубовки до Новочеркасска лошади были так дурны, что две станции мы тащились на быках, а в одной из маленьких речек завязли и просидели 9 часов. В Ставрополе мне объявили, что в Тифлис мне незачем ехать, что главнокомандующий назначил мне полк и что я должен в него прямо отправиться. Пробывши там четыре дня (в Ставрополе. - В.К.), мы с женой поехали в разные стороны, она в Москву к сестре моей, а я в Большую Кабарду в укрепление Нальчик, штаб-квартиру Кубанского егерского полка. Эта дорога мне показалась очень скучна, я поехал совершенно один и на двухстах пятидесяти верстах я должен был четыре раза ночевать и ежедневно терпел голод...
Жена возвратилась ко мне в декабре месяце... В январе я был в Владикавказе и некоторых ущельях, которые мне очень понравились, потом в конце февраля я ездил по Кубани до Прочного Окопа. Всего более тревожит жену мою летний поход. Завтра я выступаю с нашим батальоном в Темир-Хан-Шуру. Месяц мы будем в дороге, пока дойдем до Дагестана, а там поступлю в отряд к князю Аргутинскому-Долгорукову и будем воевать. У нас теперь день очень жаркий, что же будет летом и особенно в Дагестане, где, говорят, нестерпимо в низких местах и страшно холодно в нагорных...".
Началась походная жизнь, полная тревог и ожиданий. Кубанский егерский полк принимал участие в боевых действиях с горцами, осаде аулов, прокладке просек и дорог, расчистке завалов.
В ноябре 1849 года начальник канцелярии Военного министерства генерал-майор, барон П. А. Вревский докладывал: "Возвращая... список государственных преступников по делу 14 декабря 1825 года, имею честь уведомить, что в настоящее время из лиц, поименованных в этом списке, состоит в военной службе только Александр Сутгоф".
* * *
Через год, в ноябре 1850-го, рядовой А. Сутгоф был произведен в унтер-офицеры со старшинством. Весной 1853 года его мать, Анастасия Сутгоф, обратилась с прошением к Николаю I о производстве сына в офицеры. На что последовал иезуитский ответ державного мстителя: "...для унтер-офицера Сутгофа сделано все, что признавалось возможным, и дальнейшее его производство будет зависеть от того отличия, с коим он будет продолжать службу".
Один из современников сказал очень мудро: "в пятьдесят лет трудно в солдатской портупее пролезать в офицеры через кавказское окно". В полной мере это относилось к Александру Николаевичу. Прапорщиком он стал в ноябре 1854 года. На его прошение дозволить во время отпуска повидать своих родных в Москве ему приходит отказ. В июне 1856 г. в письме к М. Нарышкину Сутгоф жаловался: "... Матушка так стара, что бог знает, удастся ли мне ее увидеть... служить я охотно готов, но во фронте, несмотря на мою страсть к этого рода службе, я теперь не могу по совершенно расстроенному здоровью и потому что в 55 лет прапорщик в отряде за молодежью не угоняется. Осенью я писал к Александру Михайловичу, просил его похлопотать о месте мне в Пятигорске, получил довольно удовлетворительный ответ, но после того все замолкло, не знаю что делать, просить место за Кавказом не по моим доходам..."
Манифестом от 26 августа 1856 года по случаю коронации Александра II Сутгофу было дано право свободного избрания места жительства. В связи с этим он перешел в резерв армии, переехал в Москву и некоторое время заведовал фехтовальной школой. В это время многие декабристы стали наезжать в Москву, и Александр Николаевич постоянно общался с ними. Имя его встречается в переписке И. Пущина, М. Муравьева-Апостола, Г. Батенькова.
Весной 1857 года И. Якушкин писал в Сибирь И. Пущину: "...Сутгоф молодцом и в своем мундире смотрит совершенно лейб-гренадером, только руки поражены у него параличом и пальцы почти не служат".
По состоянию здоровья Александру Николаевичу был необходим теплый климат, и он возвращается на Юг. Посетители Кисловодска сезона 1859 года могли видеть высокого, седого, статного подпоручика, смотрителя минеральных вод. В курортном музее Пятигорска долгие годы хранилась копия автографа Сутгофа на колонне Эоловой арфы. Следующий курортный сезон декабрист встречал уже в Грузии, где одновременно занимал должность управляющего Боржомским казенным имением и дворцом великого князя Михаила Николаевича. Впоследствии в связи с ухудшением здоровья он освобождается от занимаемых им должностей и назначается смотрителем дворца. Многие годы дворец, занимая возвышенное пространство над Курой, выделялся среди других боржомских построек своим старинным передним фасадом, с многочисленными окнами, с частыми на них переплетами. Здесь Сутгофу последовательно присваивают звания поручика, штабс-капитана и наконец в декабре 1870 года - капитана.
Отец известной русской писательницы Елены Ган, Андрей Михайлович Фадеев, будучи в 60-х годах в Тифлисе членом совета главного управления Закавказского края, оставил о Сутгофе подробные воспоминания: "В Боржоми, куда я выехал 20 июня (1861 года. - В.К.), судьба привела меня свидеться с давнишним знакомым, которого я знал еще ребенком в моей молодости, теперь начальником Боржомских вод, старым подпоручиком Александром Николаевичем Сутгофом, человеком в некотором отношении весьма любопытным. Без малого за пятьдесят лет перед тем, в 1813 г., я познакомился в Киеве с семейством отца его, генерала Сутгофа. Молодой Сутгоф был тогда прелестным 12-летним мальчиком, хорошо учившимся и много обещавшим. К сожалению, надежды на будущность его не сбылись по причине постигшего его несчастия...
... Только с воцарением Александра Николаевича он был произведен в офицеры. Князь Барятинский (Александр Иванович - с декабря 1857 года главнокомандующий Кавказской армии. - В. К.) по представительству о нем московских бояр и знатных родственников, а также узнав его лично, принял его под свое покровительство. Оставив Сутгофа числиться офицером военной службы, по преклонности лет и недугам князь прикомандировал его к управлению минеральными водами, сначала Кисловодскими, а потом Боржомскими. В этой должности добрый, благородный старик нашел наконец успокоение от житейских треволнений. Мы с ним виделись по нескольку раз в день, он часто приходил ко мне обедать и вечера проводил со мною. По его образованности и большой опытности, приобретенной несчастиями, его беседы всегда были для меня занимательны".
В одном из последних дошедших до нас писем от 20 октября 1866 г. из Боржоми Александр Николаевич жаловался на скуку, отсутствие книг и журналов, дороговизну продуктов:
"Мне Боржом крепко начал надоедать и потом я живу, но осенью, когда начинаются дожди, я всегда простуживаюсь, и кашель и насморк меня до весны не покидают". Лишь посещение Тифлиса да редкие поездки в Москву к сестре и племянникам вносили разнообразие.
* * *
Заболев воспалением легких, 14 августа 1872 года А.Н. Сутгоф скончался и был похоронен в ограде Боржомской церкви. 25 лет назад автор пытался отыскать могилу декабриста, но, увы, время оказалось безжалостным: на месте старого кладбища построен санаторий. Впрочем, память о последнем из служивших на Кавказе декабристов останется с нами, а судьба его послужит примером мужества новым поколениям: неизменно, даже в ссылке, оставаться верным сыном Отчизны.
Метки: декабристы сутгоф |
О.И. Киянская. «Человек, заслуживающий доверия». |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Биография Сергея Трубецкого заслуживает того, чтобы сказать о ней несколько слов.
М.Н. Покровский называл Трубецкого «северным Пестелем по занимаемому им в заговоре положению». Но лидер Южного общества Павел Пестель много лет единолично руководил тайной организацией; свое право на главенствующую роль в заговоре он подтверждал и «Русской правдой» — проектом законов, которые следовало принять после победы революции. Пестель планомерно разрабатывал конкретный план захвата власти, и эта его деятельность была известна многим членам тайных обществ. Наконец, большинство заговорщиков признавали за южным лидером превосходство в уме и необходимых политику познаниях.
Заслуги Трубецкого перед тайным обществом были намного скромнее. Тем не менее переписка и следственные дела арестованных заговорщиков, а также мемуары современников свидетельствуют: авторитет князя в глазах его товарищей был очень высок. Один из самых искушенных в политике заговорщиков, подполковник Гавриил Батеньков, утверждал: «Обращая всё внимание на Трубецкого, я полагал, что прочие составляют не важное звено и сами собою без решения и подкрепления из других мест ничего делать не могут, а может быть, и не знают истинного состояния дела». А искренне презиравший Трубецкого мемуарист Николай Греч признавал, что князь «вошел в славу и почет у наших либералов».
Собственно, исключительность Трубецкого среди заговорщиков во многом определялась его служебным положением. Конечно, ни Рылеев, ни его сторонники никогда не поднимались до таких карьерных высот.
Пока Трубецкой был за границей (1819—1821), в России произошла «семеновская история». Даже те офицеры-семеновцы, которых в момент беспорядков не было в Петербурге, были серьезно понижены в служебном статусе. К примеру, штабс-капитан Семеновского полка Матвей Муравьев-Апостол служил на Украине адъютантом малороссийского генерал-губернатора Николая Репнина, к беспорядкам в столице никакого отношения не имел и ничего о них не знал, тем не менее спустя год без всяких объяснений был переведен с чином майора в армейский Полтавский полк. Ему не оставалось ничего другого, как подать в отставку. Те же, кто в момент восстания находился «при полку налицо», были лишены права не только на отставку, но и на отпуск.
Однако правительственные репрессии не коснулись Трубецкого. Он тоже был переведен — но в лейб-гвардии Преображенский полк, считавшийся таким же «коренным», как и Семеновский. Из-за границы он вернулся в сентябре 1821 года, а через четыре месяца получил чин полковника. При этом он сохранил и полученную в 1819 году должность старшего адъютанта Главного штаба.
Пожалуй, самая яркая страница служебной биографии Трубецкого — его деятельность в последний перед арестом год. В декабре 1824-го он был назначен дежурным штаб-офицером 4-го пехотного корпуса со штабом в Киеве, а в феврале 1825-го приступил к исполнению новых обязанностей. Корпус, в котором он служил, входил в состав 1-й армии. Командовал ею генерал от инфантерии граф Фабиан фон Остен-Сакен, начальником армейского штаба был генерал-лейтенант барон Карл фон Толь. Главная квартира армии располагалась в Могилеве.
Перейти на службу в 4-й корпус Трубецкому предложил генерал от инфантерии Алексей Щербатов, с которым тот познакомился за границей. «Когда князь Щербатов, будучи назначен корпусным командиром, предложил мне ехать с ним, то я с одной стороны доволен был, что удалюсь от общества, с другой хотел и показать членам, что я имею в виду пользу общества и что там я могу ближе наблюдать и за Пестелем», — сообщал Трубецкой следователям. Свидетельству этому вряд ли стоит полностью доверять, поскольку на следствии борьба с Пестелем стала для Трубецкого одной из главных линий самозащиты. «Удаляться» же от общества князь и вовсе не собирался, и события декабря 1825 года — явное тому подтверждение.
Окончательное же решение о назначении Трубецкого в Киев принял император Александр I.
* * *
До Щербатова 4-м пехотным корпусом 1-й армии командовал знаменитый герой Отечественной войны 1812 года, генерал от кавалерии Николай Раевский. Время, когда он, прославленный на полях сражений, вдохновлял своей деятельностью поэтов и художников, давно прошло. В Киеве генералу было решительно нечем заняться. О том, как проводил время корпусный командир, читаем в воспоминаниях Филиппа Вигеля; «Тут прославился он только тем, что всех насильно магнетизировал и сжег обширный, в старинном вкусе, Елисаветою Петровной построенный, деревянный дворец, в коем помещались прежде наместники». А польский помещик Кржишковский в доносе на генерала сообщал: «Публика занялась в тишине соблазнительным магнетизмом и около года была совершенно заблуждена или не смела не верить ясновидящим и прочая, а более всего, что занимается магнетизмом заслуженный и первый человек в городе».
В Киевской губернии не было генерал-губернатора и, таким образом, командир корпуса оказывался высшим должностным лицом. Раевского вовсе не интересовали его обязанности — но еще меньше они интересовали его подчиненных по гражданской части: гражданского губернатора Ивана Ковалева и обер-полицмейстера Федора Дурова. В губернаторской канцелярии процветало взяточничество. В 1827 году было обнаружено, например, что секретарь Ковалева Павел Жандр, действуя в основном с помощью «откатов», в несколько лет присвоил себе 41 150 рублей (для сравнения: годовое жалованье армейского капитана составляло 720 рублей). При этом, конечно, и сам Ковалев в убытке не оставался.
Уровень преступности в городе был очень высоким. Одним из самых распространенных преступлений было корчемство — незаконная торговля спиртными напитками, прежде всего водкой. Монополия на производство таких напитков принадлежала государству, частные лица откупали у него право на торговлю ими. Система откупов порождала желание торговать водкой, не платя за это казне. Корчемство вызывало к жизни целые преступные сообщества, занимавшиеся незаконным производством водки, ее оптовой закупкой, ввозом в город и последующей перепродажей в розницу.
Кроме того, в 1820-х годах в Киеве обреталось множество всяких подозрительных личностей. Особая их концентрация наблюдалась на знаменитых ежегодных январских «контрактах» — торгах, на которых заключались подряды на поставки для армии. В это время в город съезжались владельцы окрестных имений, шла активная игра в запрещенные законом азартные игры, возлияния часто бывали неумеренными, помещики и офицеры ссорились и дуэлировали, а иногда устраивали банальные драки. Ситуация в городе очень беспокоила императора.
С 1823 года за картежниками была установлена слежка, ни к чему, однако, не приведшая. Полицмейстер Дуров, сам игрок, рапортовал, что помещики «приезжали сюда по своим делам домашних расчетов в контрактовое время» и играли в карты «вечерами в своих квартирах, к коим временами съезжались знакомцы и также занимались в разные игры, но значительной или весьма азартной игры, а также историй вздорных чрез оную не случалось во всё время».
В Киеве активно действовали и масоны, не прекратившие свои собрания после императорского указа (1822) о запрещении масонских лож и тайных обществ. В Петербург постоянно шли доносы: «…существовавшая в Киеве масонская ложа не уничтожена, но переехала только из города в предместье Куреневку». Но местная администрация, проводившая по этому поводу следствие, ложу не обнаружила. «С того времени как последовало предписание о закрытии существовавшей здесь ложи, она тогда же прекратилась, и могущие быть общества уничтожились, особенных же тайных сборищ по предмету сему здесь в городе и в отдаленностях окрестных, принадлежащих к городу по его пространству, никаких совершенно не имеется», — отчитался Дуров губернатору.
Особенную тревогу высших должностных лиц империи вызывали жившие в Киеве и его окрестностях поляки: их априорно считали виновными в антироссийских настроениях. Ковалеву и Дурову было поручено следить и за ними. Однако и эта слежка ни к чему не привела. «Суждений вольных я не заметил, кои были предметом моего наблюдения», — рапортовал Дуров. Ковалев докладывал императору, что польские помещики «ведут себя скромно и осторожно, стараются даже показывать вид особенной к правительству преданности».
В Киеве начала 1820-х годов можно было обнаружить не только корчемников, масонов, азартных игроков и неблагонадежных поляков. Город был излюбленным местом встреч членов тайного антиправительственного заговора. На киевских «контрактах» проходили «съезды» руководителей Южного общества во главе с Пестелем. Кроме того, в 30 верстах от Киева, в уездном городе Василькове, был расквартирован полковой штаб Черниговского пехотного полка — это был центр Васильковской управы Южного общества, возглавляемой подполковником Сергеем Муравьевым-Апостолом, командиром батальона Черниговского полка.
Документы свидетельствуют: Сергей Муравьев-Апостол был ярким харизматичным лидером, умевшим очаровывать людей и силой собственного властного обаяния вести их за собой. Причем сам он хорошо знал эту свою способность и, без сомнения, причислял себя к «энергичным вождям», чья «железная воля» — залог победы революции. Муравьев, человек безусловной личной храбрости и заговорщической дерзости, соблюдать элементарные правила конспирации никак не желал. Васильковская управа — самое решительное из всех отделений Южного общества — занималась активной вербовкой сторонников и пропагандой идей военной революции и цареубийства. При этом Муравьев мог вести опасные разговоры, не опасаясь преследования местных властей: проведя кампанию 1814 года «при генерале от кавалерии Раевском», участвуя вместе с ним в боях за Париж, он был своим человеком в киевском доме генерала. Кроме того, Муравьев-Апостол тоже был не чужд увлечения магнетизмом.
В марте 1823 года киевскому безвластию пришел конец: на должность генерал-полицмейстера 1-й армии был назначен генерал от инфантерии Федор Эртель. Первым заданием, которое он получил, было задание разобраться с ситуацией в Киеве.
Имя генерала Эртеля, начинавшего военную карьеру в гатчинских войсках цесаревича Павла, в конце XVIII — начале XIX века служившего московским, а затем петербургским обер-полицмейстером, а в 1812—1815 годах являвшегося генерал-полицмейстером всех действующих армий, наводило на современников ужас. Согласно Вигелю, «сама природа» создала Эртеля начальником полиции: «…он был весь составлен из капральской точности и полицейских хитростей. Когда, бывало, попадешь на Эртеля, то трудно от него отвязаться… Все знали… что он часто делал тайные донесения о состоянии умов… всякий мог опасаться сделаться предметом обвинения неотразимого, часто ложного, всегда незаконного, и хотя нельзя было указать ни на один пример человека, чрез него пострадавшего, но ужас невидимой гибели, который вокруг себя распространяют такого рода люди, самым неприязненным образом располагал к нему жителей Москвы». И даже те немногие современники, которые приветствовали полицейскую деятельность генерала, видя в ней точное исполнение «воли монарха» и служебных обязанностей, признавали: Эртель любил действовать тайно, «невидимо» и жестоко. В Москве у него была целая шпионская сеть, состоявшая из «знатных и почтенных московских дам», получавших за свою работу крупные суммы.
Сам Эртель в автобиографической записке сообщал, что был послан в Киев «1-е) для следствия о корчемниках, убивших трех и ранивших шесть человек; 2-е) для открытия масонской ложи с членами; 3-е) для отыскания азартных игроков». Его действия по наведению порядка в городе и прекращению «криминального разврата» были активными и успешными.
Искореняя корчемство, Эртель привлек платных агентов — нижних чинов из 3-го и 4-го пехотных корпусов. Вскоре последовали результаты: по делам о корчемстве были арестованы около ста человек: в основном солдат и мещан. Под суд попали 11 офицеров — начальников военных подразделений, чьи солдаты активно занимались незаконной торговлей водкой.
Эртель регулярно присылал в Петербург списки «подозреваемых в азартных картежных играх, которые здесь в Киеве живут только временно, а по большей части по большим ярмонкам во всей разъезжают России»; в них попал, кстати, и родной брат киевского полицмейстера. По ходу следствия о картежниках было решено у лиц, «в списке поименованных… отобрать… подписки, коими обязать их иметь постоянно и безотлучно свое пребывание в местах, какие себе изберут, и что ни в какие игры играть не будут, затем, поручив их надзору местных полиций, отнять у них право выезжать по чьему бы то ни было поручительству».
Наибольший интерес генерал-полицмейстера вызвала слежка за масонами. Основываясь на тайных розысках, он выяснил, что, «коль скоро воспоследовал указ 1822 года августа 1-го о закрытии тайных обществ, тотчас киевские ложи прекратили свое существование», однако от закрытых лож «можно сказать, пошли другие отрасли масонов». Секретная деятельность масонов, согласно собранным Эртелем сведениям, заключалась в том, что они магнетизировали друг друга, давали друг другу деньги в долг, ели на Масленицу 1824 года «масонские блины», а за год до этого тайно собирались «каждое воскресенье по полудни в пять часов» и гуляли во фруктовом саду «до поздней ночи».
Конечно же деятельность киевских масонов никакой опасности для государства не представляла. Однако Эртель всеми силами стремился доказать, что на самом деле они занимаются «подстреканием революции». Руководил же «подстрекателями», по его мнению, генерал Раевский. «Отставной из артиллерии генерал-майор Бегичев тотчас по уничтожении масонов прибег к отрасли масонского заговора, то есть… открыл магнетизм, которому последовал и г. генерал Раевский со всем усердием, даже многих особ в Киеве сам магнетизировал», — сообщал он в марте 1824 года в штаб 1-й армии.
Ведя полицейскую и разведывательную деятельность, регулярно докладывая о ее результатах руководству 1-й армии и лично императору, Эртель постоянно выносил частные определения в адрес местных военных и гражданских властей: «Военная полиция не имеет никаких чиновников, а на тамошнюю гражданскую полицию нельзя положиться, чтобы ожидать желаемого успеха»; «происшествия (связанные с корчемством. — О. К.) …суть следы послабления местного гражданского начальства»; «обыватели, не имея примеров наказанности, полагали простительным, а воинские чины, видя частое их упражнение и будучи ими же получаемы, не вменяли себе в преступление кормчество. Но отлучка их по ночам на 5 верст за город означает слабость употребленного за ними надзора ближайших начальников». Соглашаясь с мнением Эртеля о ненадежности киевской администрации, армейское начальство командировало в его распоряжение целый штат следователей и полицейских.
Расследование Эртеля закончилось для Раевского увольнением в ноябре 1824 года в отпуск «для поправления здоровья», но всем было понятно, что к обязанностям корпусного командира он больше не вернется. «Известно, что государь Александр Павлович, не жалуя Раевского, отнял у него командование корпусом, высказав, что не приходится корпусному командиру знакомиться с магнетизмом», — констатировал хорошо знавший генерала Матвей Муравьев-Апостол. Вскоре на место скомпрометировавшего себя магнетизера был назначен Алексей Щербатов.
Но даже приезд Эртеля и отставка Раевского не смогли заставить Сергея Муравьева-Апостола быть осторожнее. И он сам, и его сподвижники по-прежнему часто бывали в Киеве и вели там громкие и опасные разговоры — гласно и, в общем, никого не опасаясь. Почти открыто Васильковская управа проводила переговоры с Польским патриотическим обществом о совместном революционном перевороте. На «контрактах» 1824 года, уже при Эртеле, Муравьев и его друг, подпоручик Полтавского пехотного полка Михаил Бестужев-Рюмин, молодой и горячий заговорщик, обсуждали с поляками животрепещущую тему: следует «уничтожить вражду, которая существует между двумя нациями, считая, что в просвещенный век, в который мы живем, интересы всех народов одни и те же и что закоренелая ненависть присуща только варварским временам». А для этого необходимо было заключить русско-польский революционный союз, в котором поляки обязывались подчиняться русским заговорщикам и признать после победы революции республиканское правление. Взамен им были обещаны независимость и даже территориальные уступки — они могли «рассчитывать на Гродненскую губернию, часть Виленской, Минской и Волынской».
Между тем под подозрение Эртеля попали люди, входившие в ближайшее окружение Муравьева-Апостола. Руководитель Васильковской управы тесно общался с «подозрительным» поляком, масоном и магнетизером графом Александром Хоткевичем — именно от него южные заговорщики узнали о существовании Польского патриотического общества.
В списке масонов, пересланном Эртелем в Петербург, оказались два бывших адъютанта Раевского, участники Союза благоденствия Алексей Капнист и Петр Муханов. Первый был близким родственником Муравьева, а второй — его светским приятелем. Кроме того, в списки Эртеля попал руководитель Кишиневской управы заговорщиков Михаил Орлов. Сам Муравьев-Апостол, бывший командир роты Семеновского полка и участник «истории», регулярно входил в списки «подозрительных» офицеров 1-й армии; за ним предписывалось иметь особый бдительный надзор.
Исследователей, изучающих деятельность генерал-полицмейстера, ставит в тупик простой вопрос: как могло случиться, что полицейский с огромным опытом, ловя картежников, поляков и масонов, всё же не сумел разглядеть у себя под носом военный заговор с цареубийственными намерениями? В 1823—1824 годах у Эртеля был неплохой шанс вмешаться в ход истории, предотвратить и Сенатскую площадь, и восстание Черниговского полка. Однако факт остается фактом: следствие о «тайном обществе» так и ограничилось поисками масонов и магнетизеров. Ни в одном известном на сегодняшний день донесении генерал-полицмейстера фамилия Сергея Муравьева-Апостола не упоминается.
О причинах этой роковой ошибки можно только гадать. Но гадать следует в совершенно определенном направлении.
* * *
В первых числах апреля 1824 года в Петербурге появился польский помещик и масон, член Польского патриотического общества и киевский губернский предводитель дворянства (маршал) граф Густав Олизар, друг Сергея Муравьева-Апостола, известный вольнолюбивыми взглядами и нескрываемой ненавистью к крепостному праву. Кроме того, поляк был весьма близок к семейству генерала Раевского, в 1823 году сватался к его дочери Марии, но получил отказ — по «конфессиональным» и «национальным» соображениям. Отказ этот он переживал весьма болезненно, и Муравьев был одним из его «утешителей». Эртель установил за Олизаром усиленную слежку, не без оснований подозревая его в антиправительственной деятельности.
Когда поляк собрался в столицу, генерал Толь известил Дибича: «Легко быть может, что цель поездок графа Олизара есть та, чтоб посредством тайных связей или членов своих, в различных управлениях в С[анкт-]Петербурге находиться могущих, выведать о последствиях поездки генерала Эртеля». Нужно было прежде всего выявить круг его общения. В столице Олизар пробыл около месяца — и всё время за ним велась слежка, которую, по просьбе Дибича и Потапова, курировал столичный обер-полицмейстер генерал-лейтенант Иван Гладков. В итоге граф был без объяснения причин выслан обратно в Киев.
Но за месяц граф успел подробно рассказать столичным друзьям о ситуации в Киеве — собственно, сделал то, о чем Толь и предупреждал Дибича. Слухи о миссии Эртеля мгновенно проникли в среду петербургских и московских конспираторов и посеяли среди них панику. Всем стало ясно: опытный сыщик очень скоро обнаружит реальный, а не мифический масонский заговор и первой «явной» жертвой вполне может стать Сергей Муравьев-Апостол.
«Вскоре по первом приезде генерала Эртеля разнесся слух, что он имеет тайное повеление разведать о заведенном на юге обществе, к которому принадлежал будто бы и подполковник Муравьев — все меры, принятые г. Эртелем, то свидетельствовали», — показывал на допросе Муханов. Другой заговорщик, Петр Свистунов, услышав, что Эртель послан в Киев «для надзора над поляками», «заключил, что должны быть сношения между поляками и Обществом юга».
У жившего в 1824 году в столице брата Сергея Муравьева-Апостола полученное от Олизара известие вызвало настоящую истерику. На следствии Матвей Муравьев показывал: узнав, что «генерал от инфантерии Эртель в Киев приехал и что никто не знает, зачем он туда послан», он решил, что его брата арестовали, тем более что уже несколько недель не получал от него писем.
Для спасения брата Матвей Муравьев-Апостол задумал немедленно убить императора. Своими опасениями и планами он поделился с Пестелем — весной 1824 года тот жил в Петербурге и участвовал в «объединительных совещаниях», неудачной попытке договориться о совместной деятельности со столичной тайной организацией. «Я видел Пестеля и сказал ему, что, верно, Южное общество захвачено и что надобно бы здесь начать действия, чтобы спасти их. Пестель мне сказал, что я хорошо понимаю дела», — показывал Матвей на следствии. «Я с ним соглашался, что ежели брат его захвачен, то, конечно, нечего уже ожидать», — подтверждал Пестель.
Вскоре Матвей Муравьев-Апостол получил письмо от брата, и вопрос о немедленном цареубийстве и восстании был снят с повестки дня. Однако спустя несколько месяцев, в октябре, он опять предупреждал Пестеля и других об осторожности: «…в Киеве живет генерал Эртель нарочито, чтоб узнавать о существующем тайном обществе, кое уже подозреваемо правительством». Пестель же, вернувшись на юг, осенью 1824 года отстранил Сергея Муравьева от переговоров с Польским патриотическим обществом — за нарушение правил конспирации (с ведома и согласия руководителя Васильковской управы было написано письмо полякам с просьбой в случае начала русской революции устранить цесаревича Константина Павловича).
Скорее всего, Трубецкой еще с 1823 года, будучи старшим адъютантом Главного штаба, знал об откомандировании Эртеля в Киев. Однако рассказы Олизара сделали эту информацию актуальной. В показаниях князя содержится любопытное свидетельство о встрече с поляком: «Г[осподин] Олизар приезжал сюда, кажется, в 1823 году; я встретился с ним и меня познакомили… Он мне сделал визит. Между тем, осведомился я также, что он здесь в подозрении, потому что слишком вольно говорит, я дал ему о сем сведение, прося, чтобы меня ему не называли, но посоветовали бы ему быть осторожным. Тем сношения мои с ним и ограничились».
Показания эти примечательны. Во-первых, Трубецкой имел доступ к секретной информации о слежке за Олизаром. Во-вторых, называя дату встречи, князь откровенно лгал: Олизар приехал в разгар петербургских «объединительных совещаний», последствием его столичного вояжа был «цареубийственный» план Матвея Муравьева-Апостола, поддержанный Пестелем. Участник всех этих событий, Трубецкой не мог просто так «забыть» год приезда опасного поляка. С полной уверенностью можно утверждать, что, давая показания, Трубецкой не желал, чтобы в сознании следователей визит Олизара в столицу увязывался с его отъездом в Киев.
Между тем решение князя поехать в Киев было, скорее всего, результатом этой встречи и последовавших за ней событий. Принимая должность в штабе Щербатова, Трубецкой не мог не понимать: авантюрная поездка поляка вполне могла обернуться катастрофой лично для него. Но деятельность Эртеля угрожала не только Сергею Муравьеву, давнему близкому другу и однополчанину Трубецкого, — она несла в себе смертельную угрозу тайному обществу. Служба в Киеве давала князю шанс спасти заговор — дело всей его жизни.
Очевидно, именно поэтому Трубецкой проявил немалую настойчивость, добиваясь для себя должности дежурного штаб-офицера.
* * *
Обязанности Трубецкого на новой должности были, так сказать, военно-полицейскими: он должен был инспектировать входившие в корпус воинские подразделения, наблюдать за личным составом корпуса. Дежурный штаб-офицер мог «за упущение должности» арестовывать обер-офицеров, а нижних чинов «за малые преступления» просто наказывать без суда. Он был обязан «наблюдать за охранением благоустройства и истреблением бродяжничества, непозволительных сходбищ, игр, распутства и малейшего ропота против начальства». Дежурному штаб-офицеру подчинялся обер-гевальдигер, главный полицейский чин корпуса.
Более того, есть все основания полагать, что, не случись восстания 14 декабря, Трубецкого ожидало скорое повышение по службе. Начальник Главного штаба корпуса, генерал-майор Афанасий Красовский, был болен и мечтал об отставке, а на его место прочили князя. Когда в июне 1825 года Красовский уехал из Киева лечиться, то спокойно передал дела дежурному штаб-офицеру, с которым у него сложились доверительные отношения.
Таким образом, в 1825 году в руках Трубецкого сконцентрировалась немалая власть, прежде всего полицейская, причем не только над войсками 4-го корпуса, но и над городом. Принимая назначение в Киев, Трубецкой не потерял должность старшего адъютанта Главного штаба, а потому был практически независим и от киевских властей, и от Щербатова, и мог сообщать обо всём напрямую в Петербург, императору. Полномочия Трубецкого во многом сомкнулись с полномочиями Эртеля.
В начале своей деятельности в Киеве генерал-полицмейстер сетовал, что ни среди киевских полицейских, ни в 4-м корпусе нет «надежного чиновника», который мог бы помочь ему проводить следствие. Очевидно, что в 1825 году такой «чиновник» нашелся — и им оказался князь Трубецкой. Как видно, например, из дел по корчемству, дежурный штаб-офицер активно помогал Эртелю в расследовании. Генерал-майор Михаил Орлов, к 1825 году отошедший от заговора, показывал на следствии, что по приезде в Киев Трубецкой стал часто посещать его. «Я, привыкший к пытке и к обороне, думал, что он тоже станет меня склонять к вступлению в Общество, но он ничего не говорил, кроме о общих предметах, и сие меня немало удивило», — писал Орлов. Можно предположить, что Трубецкой, знавший об охлаждении генерала к «общему делу», приходил к нему вовсе не для того, чтобы «склонить» его к возвращению в заговор. Орлов, зять Раевского, как уже говорилось выше, подозревался Эртелем в масонской деятельности—и уже поэтому был достоин внимания дежурного штаб-офицера.
Трубецкой конечно же сделал всё, чтобы спасти от разгрома антиправительственный заговор; правда, о том, что именно он предпринимал, исследователи, наверное, уже никогда не узнают. Но в одном из «оправдательных» рапортов, написанном в конце декабря 1825 года, командир корпуса Щербатов утверждал: «Все сведения, полученные мною как от начальника корпусного штаба генерал-майора Красовского… так и от здешнего губернатора Ковалева, удостоверили меня, что как в войске, так и в городе не замечено никаких собраний, ни разговоров, сумнению подлежащих».
Восьмого апреля 1825 года 58-летний Эртельумер. Смерть его была загадочной: чувствуя лихорадку, он, тем не менее, отправился в штаб 1-й армии и скончался по приезде в Могилев. Вне зависимости оттого, была ли эта смерть естественной или насильственной, она была на руку Трубецкому (кстати, в его киевской квартире при обыске была найдена банка с мышьяком).
Следственные дела, которые Эртель не успел довести до конца, после его смерти перешли в руки дежурного штаб-офицера 4-го корпуса. Так, с июня 1825 года Трубецкой фактически руководил разбирательством по корчемству, давал предписания соответствующей военно-судной комиссии, получал из нее копии допросов арестованных и т. п. Расследование же дел «неблагонадежных» картежников, поляков и масонов, которое прямо входило в обязанность дежурного штаб-офицера, странным образом вообще остановилось.
Заговорщики же после смерти Эртеля могли действовать, никого не опасаясь.
* * *
Узнав о скором приезде Трубецкого в Киев, Сергей Муравьев-Апостол был весьма обрадован предстоящей встречей с другом. Он надеялся, что князь договорится, наконец, с южными заговорщиками о совместных действиях. В феврале 1825 года Муравьев рекомендовал своего друга участнику заговора полковнику Василию Тизенгаузену: «Я уверен, что он Вам понравится своим характером и мыслями». Тизенгаузен не был убежденным революционером, постоянно сомневался в правильности собственных действий — и Муравьев был убежден, что знакомство с Трубецким сделает полковника более решительным.
Как свидетельствует частная переписка руководителя Васильковской управы, Трубецкой поначалу не оправдал его ожиданий. В письме брату Матвею Сергей Муравьев сетовал, что князем овладела «петербургская бесстрастность и осторожность», и просил брата приехать в Киев, «дабы заставить действовать Трубецкого над 4-м корпусом». Своими сомнениями относительно Трубецкого Муравьев-Апостол поделился с некоторыми соратниками — в частности с молодым и рвущимся «в дело» прапорщиком Федором Вадковским. И Вадковский советовал одному из вступивших в общество офицеров «не открываться Трубецкому, который своим равнодушием может вредно повлиять на его пылкое молодое сердце».
Однако после смерти Эртеля Трубецкой преобразился. Уже в апреле 1825 года в его киевской квартире Сергей Муравьев-Апостол принял в общество штабс-капитана гвардейского Генерального штаба, приятеля Рылеева Александра Корниловича. В июле Муравьев сообщил брату: князь не только «искренне присоединяется к Югу, но и обещает присоединить к нему весь Север — дело, которое он действительно исполнит и на которое можно рассчитывать, если он обещает». Руководитель Васильковской управы приписывал эту перемену влиянию подпоручика Бестужева-Рюмина. Однако представляется, что одного лишь мнения юного подпоручика было явно недостаточно, чтобы маститый заговорщик переменил свой образ действия.
С лета 1825 года квартира Трубецкого стала местом постоянных встреч заговорщиков. Михаил Орлов показывал на следствии, что «у Трубецкого вскоре поселились почти без выходу Сергей и Матвей Муравьевы с Бестужевым». Его показания подтверждал и сам Трубецкой: «9-я дивизия начала ходить в караул в Киев, я стал часто видеться с Муравьевым и Бестужевым»; «Муравьев и Бестужев, приезжая в Киев, останавливались у меня».
Командир Киевского драгунского полка подполковник Максим Гротенгельм показывал, что, зайдя однажды к Трубецкому, застал в его квартире не только Сергея Муравьева-Апостола, но и других видных деятелей Васильковской управы. При этом Муравьев открыто рассуждал о том, «какое правление лучшее, и что конституциональное есть по нынешним временам превосходнейшее, замечая притом, что все вообще состояния в России теперешним положением своим недовольны».
Разговоры о всеобщем недовольстве, будущей конституции и возможной революции зазвучали на квартире дежурного штаб-офицера столь громко, что их испугалась жена князя Екатерина Трубецкая. Согласно воспоминаниям ее сестры Зинаиды Лебцельтерн, княгиня отозвала в сторону Сергея Муравьева-Апостола и сказала ему: «Ради бога, подумайте, что вы делаете, вы и нас всех погубите, и свои головы положите на эшафот», — на что руководитель Васильковской управы ответил: «Неужели вы думаете, княгиня, что мы не делаем всё, что нужно, чтобы обеспечить успех наших замыслов? К тому же речь идет о совершенно неопределенном времени, не бойтесь же».
В ноябре 1825 года Трубецкой оказался в столице, приехав в краткосрочный отпуск. Причина этого отпуска была частная, семейная: его шурин, корнет лейб-гвардии Конного полка Владимир Лаваль, проигравшись в карты, покончил жизнь самоубийством. Собственно, целью поездки князя в столицу было свидание с убитыми горем родителями жены. Однако в Петербурге Трубецкой услышал о смерти Александра I — и решил дождаться развязки событий.
* * *
Сергей Муравьев-Апостол был уверен: Трубецкой — «человек, заслуживающий доверия». Эту уверенность разделяли с руководителем Васильковской управы не только участники заговора; того же мнения были высшие должностные лица империи, включая императора Александра I. Трубецкой, как следует из документов, обладал редким даром входить в доверие к окружавшим его людям, делать их своими союзниками. Однако и в заговоре, и на службе князь был самостоятельной фигурой, доверяя по преимуществу только самому себе. Опытный и осторожный политик, князь сорвал масштабную полицейскую операцию по выявлению тайного общества в Киеве — и тем сделал возможными и восстание на Сенатской площади, и восстание Черниговского полка.
Метки: декабристы трубецкой |
Виктор Кравченко. "Славный товарищ и храбрый солдат" |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Гений А.С. Пушкина - вечен, а мир поэзии - безмерен. Дважды он был на Кавказе. Вторая поездка в 1829 г. была связана с творческими планами: показать главного героя "Евгения Онегина" среди декабристов. Для этого ему было необходимо увидеться с разжалованными, многих из которых он знал до восстания 14 декабря. О своих замыслах Пушкин оставил такие строки:
"Желал я душу освежить,
Бывалой жизнию пожить,
В забвеньи сладком близ друзей
Минувшей юности моей…".
К этой плеяде, несомненно, относился и Михаил Иванович Пущин, родной брат его лицейского друга Ивана Пущина. Кстати, Александр Сергеевич характеризовал его как "славного товарища и храброго солдата". Сегодня о нем пойдет речь.
Он появился на свет в ноябре 1800 г. в Петербурге на набережной Мойки в доме деда Петра Ивановича Пущина адмирала, имевшего орден Андрея Первозванного - высший орден империи. Отец, Иван Петрович, был генерал-адъютант флота, сенатор. Мать, А.М. Рябинина, принадлежала к богатой московской семье. У Михаила Пущина было пять братьев и шесть сестер.
Двенадцати лет мальчика отдали в кадетский корпус, откуда он был выпущен прапорщиком в 1-й саперный батальон в декабре 1816 г. Через год Пущин - подпоручик. Еще два года спустя - поручик конно-пионерного эскадрона. Произведен в штабс-капитаны 26.12.1822 г. Будучи кадетом М. Пущин вместе с лицейскими друзьями А. Пушкина А. Дельвигом, В. Вольховским, В. Кюхельбекером и старшим братом Иваном состоял в "Священной артели" - ранней преддекабристской организации, насчитывающей всего пятнадцать членов. Позднее познакомился со многими будущими декабристами. В 1824 г. в чине капитана командовал эскадроном, в котором служил член "Северного общества" М. Назимов (впоследствии они взяли в жены родных сестер Подкользиных). Сам Михаил Иванович в тайном обществе не состоял, но знал о существовании и за два дня до 14 декабря, сблизившись с К. Рылеевым, начал посещать его собрания. На следующий день после восстания был арестован и содержался на гауптвахте в Петропавловской крепости. За время допросов М. Пущин не выдал никого из участников сходки у Рылеева. Документы следствия, хранящиеся в Госархиве Российской Федерации, подтверждают это.
Летом 1826 г. вынесен приговор: "Гвардии капитан Пущин за то, что знал о имеющем быть мятеже и не донес, лишается чинов, дворянского достоинства и записывается в рядовые до выслуги". Дальнейшее Михаил Иванович описывал так: "У крыльца ожидали нас две перекладные тройки, на одну сел Окулов (Николай Павлович - лейтенант гвардейского экипажа, декабрист. - Прим. автора.) с жандармом, на другую - я с фельдъегерем, и мы по выезде из Шлиссельбургской заставы уже на рассвете помчались в неизвестную нам сторону".
Ею оказалась Енисейская губерния. В Красноярском гарнизонном батальоне Пущин прослужил четыре месяца, откуда его перевели в Отдельный Кавказский корпус. В Тифлис он прибыл с П. Коновницыным. Декабристов представили командующему корпусом графу И. Паскевичу, который приказал отвести обоих к Ермолову и сказать, что "желает их назначения в 8-й пионерный батальон".
"Он не заставил нас дожидаться, - пишет Пущин. - Тотчас позвал нас в кабинет, где он с Раевским и Суворовым (внук А.В. Суворова, декабрист. - Прим. автора.) сидели без жилета и галстука в одной рубашке. Раевский, с которым я познакомился в 1821 г. в Могилеве, бросился меня обнять; Суворов просил его познакомить с нами, и знакомство наше, тут начавшееся, обратилось в душевную дружбу во все время пребывания Александра Аркадьевича Суворова на Кавказе. Тогда и Ермолов, вставая, сказал: "Позвольте же и мне вас обнять, поздравить с благополучным возвращением из Сибири…". Час этот, проведенный у Ермолова, поднял меня в собственных глазах моих, и, выходя от него, я уже с некоторою гордостью смотрел на свою солдатскую шинель".
Михаил Пущин активно участвовал в русско-персидской и русско-турецкой войнах. Зачисленный рядовым в 8-й пионерный (саперный) батальон, он, по существу, исполнял обязанности корпусного инженера, руководил осадными работами и лично осуществлял инженерную разведку подступов к турецким укреплениям, участвовал вместе с сосланными декабристами в самых рискованных операциях. После одного из сражений И. Паскевич, указывая на Пущина, сказал: "…Я хотел бы произвести в полковники, но не могу". По указанию Николая I даже корпусный командир не имел права на производство разжалованных декабристов хотя бы в унтер-офицеры…
И все-таки в ноябре 1827 г. Пущин "был произведен в унтер-офицеры с приказанием не употреблять его выше его звания". Однако Паскевич нередко использовал военные знания не только Пущина, но и других декабристов. В марте 1828 г. Михаила Ивановича произвели "за отличие в прапорщики". Осенью в сражении за Ахалцых Пущина тяжело ранило в грудь навылет. Сам он так описывал свое ранение: "… Почувствовал сильный удар в спину, взглянул на грудь и, увидев из нее вытекающую кровь, зажал рукой рану и пошел на… перевязочный пункт и упал, но не лишился ни чувства, ни памяти".
Он остался жив. Четыре месяца продолжалось лечение. Храброго офицера дважды представляли к высшей награде. Командир гренадерской бригады генерал-майор Н.Н. Муравьев (один из основателей "Священной артели") отмечал в своих "Записках": "За отличие, оказанное Пущиным под Карсом, я представил его к Георгиевскому кресту… Но старании сии имели мало успеха…".
Командующий Паскевич ходатайствовал о награждении Пущина за штурм Ахалцыха орденом Св. Георгия 4-й степени, рекомендуя его в самых лестных выражениях. Высочайшего соизволения на эту награду также не последовало. Вместо ордена храбрых ему был дан чин поручика и орден Св. Анны 4-й степени с надписью "За храбрость".
Несмотря на ранение, Пущин "делал кампанию 1829 г. и только по занятии Арзерума получил согласие главнокомандующего на отъезд из армии для пользования Кавказскими минеральными водами". В июне произошла его встреча с Пушкиным, приехавшим в действующую армию из Петербурга. В "Путешествии в Арзрум" мы читаем упоминание об этой встрече: "Здесь увидел я и Михаила Пущина, раненного в прошлом году. Он любим и уважаем как славный товарищ и храбрый солдат".
Жарким августом М. Пущин и Р. Дорохов отправились из Тифлиса на Кавказские минеральные воды для лечения ран. Во Владикавказе их догнал А. Пушкин, и до Пятигорска они ехали вместе. "Время здесь провожу очень приятно, - писал М. Пущин брату Ивану Ивановичу в Читинский острог из Кисловодска. -Лицейский твой товарищ… приехал ко мне на воды, - мы вместе пьем по нескольку стаканов кислой воды и по две ванны принимаем в день, - разумеется, часто о тебе вспоминаем, - он любит тебя по-старому и надеется, что и ты сохраняешь к нему то же чувство".
Проводив Пушкина в Россию, М. Пущин до ноября оставался в Кисловодске, а на зиму переехал жить в Георгиевск. Весной 1830 г., получив из Петербурга разрешение на бессрочный отпуск до излечения раны, Пущин покинул Георгиевск и через Ставрополь, Новочеркасск отправился в Москву к родственникам, а затем в Псков к сестре.
О пребывании Пущина в Москве исправно докладывали А.Х. Бенкендорфу: "…Приехал из Тифлиса в Москву в том же июне (30) месяце, пользовался здешними искусственными водами, жил у дяди своего Рябинина на даче г. Кушникова очень скромно, съезжая к родственнику своему Набокову, который женат на его сестре".
В феврале 1831 г. Пущин - герой Кавказа! - уволен со службы под строжайший надзор полиции с запрещением въезда в Петербург. Через псковского гражданского губернатора А. Пещурова, состоявшего в дружеских отношениях с генерал-лейтенантом И. А. Набоковым, Пущин поступил в советники губернского правления. Летом 1832 г. определен чиновником особых поручений, с переименованием позже в коллежского секретаря. В дальнейшем служил попечителем псковских богоугодных заведений. Оставив гражданскую службу, в феврале 1835 г. поселился в имении отца в селе Паричи Бобруйского уезда Минской губернии.
Только в 40-е годы по ходатайству генерал-адъютанта, князя А.А. Суворова Пущину был разрешен въезд в Петербург с унизительным условием являться в III отделение для определения срока пребывания. И лишь в день коронования императора 26 августа 1856 г. коллежский секретарь Михаил Пущин освобожден от всех ограничений. С женой Марией Яковлевной он выезжает за границу на лечение. В апреле 1857 г. супруги вместе с двоюродным братом Михаила Ивановича - Михаилом Рябининым поселяются в местечке Кларан на берегу Женевского озера, где в пансионе Катерера произошло их знакомство с Л. Толстым. В мае Лев Николаевич пишет в Тулу Т. Ергольской: "…Я уже сообщал вам, дорогая тетенька, о том замечательном русском обществе, с которым я провел эти два месяца на берегу Женевского озера… Просто на подбор превосходные люди все. 1). Пущин - старик 56 лет, бывший, разжалован за 14 число, служивший солдатом на Кавказе; самый откровенный, добрый и всегда одинаково веселый и молодой сердцем человек в мире… 2) его жена - вся доброта и самопожертвование… потом Рябинин,.. который живет только для своих друзей и самый веселый товарищ. Эти три лица так любят друг друга, что не разберешь, кто чей муж и чей брат. С ними я жил в одном доме и проводил целые дни". Михаил Пущин и Лев Толстой часто совершали вдвоем пешие прогулки по окрестностям и водные - по озеру.
В другом письме писатель отмечает: "Проводил милейших Пущиных. Я их душевно люблю. Марья Яковлевна готовность добра бесконечная".
Из Кларана Пущины переехали на баварский курорт Киссинген, где лицейский товарищ его брата Ивана Пущина князь А.М. Горчаков представил Михаила Ивановича императору Александру II, приехавшему на отдых. После личного объяснения указом Сенату 27.7.1857 г. "во внимание к отличной выслуге и безукоризненному поведению" Пущину возвращен прежний чин гвардии капитана. Спустя 30 лет он получил и долгожданный Георгиевский крест.
Из Дрездена супруги Пущины вместе с А.Н. Толстым в конце июля вернулись в Петербург, где произошла долгожданная встреча с братом, вернувшимся наконец из Сибири. В августе Иван Пущин писал декабристу М.И. Муравьеву-Апостолу: "…Прикатил наконец ко мне из-за границы брат Михайло с женой. С ним не видался с Никольской куртины (с 1826 г. - Прим. автора.), после приговора, а она для меня новое знакомство. Не нужно говорить, как это свидание было отрадно, - брат совершенно тот же, только седой, а с ней как будто были вместе. Нам, двум женатым братьям, теперь очень ловко вместе".
Следует добавить, что М. Пущин принимал участие в подготовке крестьянской реформы 1861 г. в качестве члена Московского губернского комитета. Впоследствии дослужился до действительного статского советника, в мае 1865 г. "переименован" в генерал-майоры и назначен комендантом Бобруйской крепости. А четыре года спустя М.И. Пущин скончался, на десять лет пережив своего брата Ивана Ивановича.
Метки: декабристы пущин |
Виктор Кравченко. "Друзья называли его Борода" |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
В тринадцать лет от роду он уже воевал с Наполеоном. В 1825 г. подозревался в причастности к декабрьским событиям на Сенатской площади. А спустя еще тринадцать лет стал губернатором в Ставрополе.
В истории Ставрополя есть еще немало малоизученных, а порой и неизвестных страниц. Работая в библиотеках и архивах, просматривая документы, подшивки старых газет и журналов, иногда обнаруживаешь удивительные публикации, непосредственно относящиеся и к истории нашего края.
В статье «Очерки моих воспоминаний», опубликованной в журнале «Русская старина» за 1906 г., некая Неведомская-Динар пишет: «Родилась я в Петербурге. Отец мой был декабрист. (Вот так сразу! – Прим. автора). В первый год женитьбы его заключили в Петропавловскую крепость. Как ему удалось быть освобожденным, нам не было известно, тогда, в николаевское время, все держалось в тайне, и разоблачение такого рода наводило страх. Мать моя была урожденная Львова, семейство, известное своею многочисленностью и своим музыкальным дарованием, сестра Алексея Федоровича Львова, знаменитого скрипача, композитора народного гимна и многих церковных и светских сочинений. У моей матери был чудный, единственный в своем роде голос, контральто, который восхищал всех; она воспитывалась в музыкальном семействе у своего отца, Федора Петровича, директора дворцовой певческой капеллы. Она давала мне первоначальные уроки музыки; я помню себя на Кавказе в Ставрополе, где мой отец был губернатором, мне тогда было семь лет, и я играла Крамеровы этюды наизусть, мать моя много там пела и иногда предлагала послушать свою дочурку. Я была еще так мала, что нос трогал клавиши рояля, но это не мешало с восторгом петь мамины романсы.
Воспитывали нас очень строго; мать моя, несмотря на свое официальное положение, с раннего утра занималась нами... На праздниках приучала нас думать о бедных, неимущих, старых, больных. Елки не для нас готовились, а мы сами их украшали для бедных города и детей приюта - в этом все было наше удовольствие и счастие... Из Ставрополя отец мой был назначен губернатором в Вильну...».
Надежда Алексеевна Неведомская-Динар (ее сценический псевдоним) была дочерью Алексея Васильевича Семенова.
Первые мои поиски формулярного списка в госархиве Ставропольского края не дали результата. Зато документы московского архива ответили на многие вопросы.
Москвич А. В. Семенов, ровесник Пушкина, родился в 1799 году, воспитывался в Московском университетском пансионе. Алексею было всего тринадцать лет, когда началась Отечественная война, но он поступает на военную службу прапорщиком 1-го казачьего полка в Калужское ополчение. Делает это 2 сентября, в день вступления Наполеона в Москву. Юный защитник Отчизны участвовал в боевых действиях Отечественной войны и заграничных походах. В его формуляре есть запись: «...в сражении против французов в Смоленской губернии при местечке Хмары: 15 и 16-го числа октября 1812 года, с 12 августа и по 21 число декабря 1813 года во время блокады и осады г. Данцига как в ночных неприятельских вылазках с действием, так и при блокировании города, будучи при производстве траншейных работ находился».
Именно там в 1813-1814 гг. были закреплены дружеские связи будущих членов «Священной артели». Друг А. С. Пушкина – Иван Пущин вспоминал: «Еще в лицейском мундире я был частым гостем артели, которую тогда составляли Муравьевы (Александр и Михайло), Бурцов, Павел Калошин и Семенов (Пущиным названа лишь часть ее членов. – Прим. авт.). Постоянные наши беседы о предметах общественных, о зле существующего у нас порядка вещей и о возможности изменения, желаемого многими в тайне, необыкновенно сблизили меня с этим мыслящим кружком; я сдружился с ним, почти жил в нем...».
Артель, возникшая сначала как средство улучшения материального положения среди гвардейских и армейских офицеров, превратилась в «мыслящий кружок», явилась ранней преддекабристской организацией, а может быть, и первой тайной декабристской, т.к. имела политический характер и конспиративные черты. Члены «Священной артели» были настроены республикански, многие положения, разработанные ими, вводились затем в уставы тайных обществ «Союза Спасения» и «Союза Благоденствия», т.е. они возникли не на голом месте, их подготовили в какой-то мере и те, кто ранее был в артели.
Список членов Коренной управы образованного в 1819 г. «Союза Благоденствия» (по работам академика М. Н. Нечкиной) насчитывал 29 фамилий. Среди них особенно знакомые нам Граббе и Семенов. Оба они принимали самое активное участие в деятельности тайного общества. Спустя почти двадцать лет судьба свела их на Кавказе, в Ставрополе.
В 1826 г., отвечая на вопросы следствия, А. Семенов писал: «...Долго находился я в военной службе, которую продолжал двенадцать лет, с 1815 г. служил в лейб-гвардии Егерском полку, из коего по болезни уволен в отставку 1824 г. декабря 28-го...» (капитаном. – Прим. автора). Он упорно отрицал свое участие в совещаниях общества: «В 1825 г. пробыл я в Москве не более полутора месяца и ни в каких совещаниях не бывал, о намерениях Северного общества на 14 декабря не знал, да и знать не мог... Жил большей частью в деревне под Москвою в Калужской губернии. 15 сентября прибыл в Петербург насчет службы и женитьбы... Знаком был с Рылеевым, у коего ночевал однажды во время его болезни, с Оболенским и Пущиным (Иваном и Михаилом. – Прим. авт.). Но никогда от них ничего не слышал, могущее подать мне... малейшее подозрение о их намерении...».
Вот как вспоминал об этом же периоде И. Пущин: «Прошлого года возвратился я из Петербурга в Москву в феврале месяце (1825 г. – Прим. авт.) в бытность там в отпуску Евгения Оболенского. С ним начали рассуждать о средствах действовать для общества в Москве... Тогда он сказал мне, что надобно собрать тех общих знакомых, которые, по наблюдениям нашим, принадлежали к обществу... Тут назначил он день, в который приехали к нему двоюродный брат его Сергей Николаевич Кашкин, свиты отставной подрядчик Алексей Алексеевич Тучков, титулярный советник Иван Николаевич Горсткин, Бородинского полка полковник Михаил Михайлович Нарышкин, отставной капитан Алексей Васильевич Семенов, титулярный советник Калошин и я. Таким образом, соединившись, составили управу, в которой я поименованными членами избран председателем для сношения с Петербургом».
То же самое подтверждает и декабрист С. Кашкин: «В 1825 г. приезжал в Москву князь Оболенский, который пригласил меня на совещание общества. Здесь нашел я Пущина, Алексея Тучкова, полковника Михаила Нарышкина, Павла Калошина, Алексея Семенова...».
Рассуждали, кстати, о возможности ввести в России конституцию, правда, оговаривали, «что общество не имеет средств к произведению оного». Безусловно, роль московской организации, ее членов была не такой активной, как в Петербурге, но организационная и практическая работа велась. Таким образом, показания А. Семенова об отсутствии его в 1825 г. в Москве являются... не совсем верными.
К. Рылеев, отвечая на допросе Высочайше Утвержденному Комитету, сказал: «Надворный советник Алексей Семенов к тайному обществу принадлежал, но о намерении общества произвести 14 декабря известные неустройства не знал... никто ему о том не сообщал, а равно и на совещаниях у меня, ни у Оболенского он ни разу не был».
Разумеется, А. Семенова арестовали. Находясь под арестом на главной гауптвахте, он сообщил родственникам, что ему назначена очная ставка с Оболенским и Пущиным и «тут должна участь его решиться».
Шурин Семенова Алексей Федорович Львов вспоминал: «Пущин, лишь вошел, спросил Семенова, здорова ли его жена, и тотчас объявил, что все им сказанное на его счет было вымышленно, и отречение свое подписал. Благородный поступок несчастного Пущина спас Алексея Васильевича. Дней через несколько вечером мы были с Дарьей Федоровной (Семеновой. – Прим. авт.) у ее друга, как прибегает плац-майор с объявлением, что он свободен...». Именно ли ответы Пущина принесли Семенову освобождение – сказать трудно. Ведь даже дочь Надежда Алексеевна на склоне лет не назвала причину оправдательного приговора.
Об обществе знал и принадлежал, но не донес. Только за одно это император Николай I расправился со многими декабристами. Известны слова А. Раевского в ответ на обвинения Николая I в том, что Раевский изменил присяге, не донеся о тайном обществе:
«Государь! Честь дороже присяги, нарушив первую, человек не может существовать, тогда как без второй он может обойтись еще!».
Семенов не донес, потому что был человеком чести. Приговор гласил: «...4-го числа сего июня освобождены по высочайшему повелению из-под ареста содержавшиеся по делу о злоумышленном обществе нижеследующие лица: ...коллежский асессор Грибоедов, ...служащий в Департаменте внешней торговли надворный советник Семенов...» и другие.
Прошли годы. После кончины А. Вельяминова весной 1838 г. в Ставрополе командующим войсками Кавказской линии и Черномории, начальником Кавказской области стал генерал Павел Христофорович Граббе. Напомню, что из-за своей причастности к «Союзу Благоденствия» он был привлечен к следствию по делу декабристов в 1826 г. и просидел четыре месяца в крепости. Гражданским губернатором Кавказской области назначили действительного статского советника А.В. Семенова. Здесь, в Ставрополе, он прослужил два года: 1838-1839. На Кавказе в то время служило еще немало ссыльных декабристов. Оба высших начальника, конечно, знали многих: М. Нарышкина, А. Розена, М. Назимова, В. Голицына и др. И оба делали все возможное, чтобы облегчить их судьбу. Деятельность П. Граббе и А. Семенова на Кавказе была достаточно активной как в военной, так и в общественной жизни. К примеру, А. Семенову принадлежала мысль об издании «Ставропольских губернских ведомостей». 26 октября 1839 г. он представил ходатайство П. Граббе. Тот, в свою очередь, отнесся одобрительно и поддержал его со своей стороны перед Главнокомандующим в Грузии генерал-адъютантом Головиным. Однако из-за отсутствия средств вопрос был отложен.
Покинув Ставрополь, А. Семенов, как уже было сказано выше, служил губернатором в Вильне и в Минске. С 1850 г. – сенатором в Москве, а затем в Петербурге. И до конца своих дней, занимая высокие должности, Алексей Васильевич сохранял дружбу с декабристами – друзьями своей молодости. Недаром Иван Пущин, вернувшийся из сибирской ссылки, в феврале 1858 г. писал жене Наталье Дмитриевне: «Ужели я никогда не говорил тебе о Семенове-бороде (таково было у нас во время оно прозвище Алексею Васильевичу, которого ты встретила у старого полкового командира, твоего дядюшки)? Когда-нибудь миллион смешного тебе передам о бороде».
(Она могла и не знать, т.к. вышла замуж за Пущина в 1857 г., после смерти первого мужа, декабриста М.А. Фонвизина. – Прим. автора.).
Скончался А.В. Семенов в сентябре 1864 г.
Так в результате поисков приоткрылась судьба еще одного человека, связанного с нашим краем. К сожалению, пока не удалось нигде обнаружить хоть какого-нибудь портрета А. Семенова. Но поиск продолжается...
Метки: декабристы |
В. Кравченко. "Сердцем и душою на жизнь и на смерть". |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

В преддверии 190-летия восстания декабристов мы хотим рассказать о жизненном пути Сергея Ивановича Кривцова. В конце безрадостной кавказской ссылки судьба подарила ему романтическую встречу с "русской Жорж Санд" - Еленой Андреевной Ган, жизнь которой была короткой, но яркой. Декабристы, являвшиеся, несомненно, передовым отрядом мыслящего русского дворянства, вовлекали в свой круг лучших людей того времени. И это продолжалось почти все XIX столетие, пока живы были сами участники знаменитых событий декабря 1825 года. Человеческие отношения этого круга и легли в основу предлагаемого читателям очерка.
I. Он всюду был любим
С. Кривцов родился в июне 1802 г. в родовом имении Тимофеевском Болховского уезда Орловской губернии в семье небогатых дворян, где было восемь детей. После ранней смерти отца образованием двух младших братьев, Сергея и Павла, занялся старший - Николай. Он сумел устроить их за казенный счет в Швейцарию в пансион педагога и агронома Фелленберга, ученика знаменитого Песталоцци.
В конце мая 1811 г. Сергей и Павел выехали из отцовского имения в Петербург, куда прибыли 9 июня, именно в тот день, когда Александр Пушкин стал выпускником Царскосельского лицея.
В это же время Петербург и императорский двор были поглощены важным событием - бракосочетанием великого князя Николая Павловича с дочерью прусского короля Шарлоттой (нареченной в крещении Александрой Федоровной). 1 июля состоялось бракосочетание, на котором среди зрителей находились Сергей и Павел Кривцовы. Здесь же, на балконе, в толпе придворных был их брат Николай: в качестве камергера он присутствовал на всех церемониях. Можно предположить, что где-то рядом был и Пушкин со своими лицейскими друзьями. 28 июня Николай Кривцов записал в своем дневнике: "Накануне провел вечер у Тургеневых, где был молодой Пушкин". Это была их первая встреча, которая вылилась в продолжительную дружбу. Николаю Кривцову посвящены и юношеские стихотворения Пушкина "Кривцову" и "Когда сожмешь ты снова руку".
В сентябре младшие братья выехали в Швейцарию. Сергей два года проучился в Гофвильском пансионе, недалеко от Берна, где кроме наук обучали стрельбе, музыке, верховой езде, фехтованию, гимнастике. Он писал матушке Вере Ивановне в Тимофеевское: "Теперь я учусь только по-немецки, потому что здесь все науки преподаются на немецком языке".
В одно время с Кривцовым в пансионе учились два внука А. Суворова - Александр и Константин. Мальчики были дружны между собой. Спустя несколько лет Сергей Кривцов в Петербурге принимал старшего Суворова - Александра в члены "тайного общества". На допросах после ареста Кривцов остался верен юношеской дружбе, не назвав имени Александра Аркадьевича. А ведь, как отмечал И. Пущин в своих "Записках": "Впоследствии Суворов мне сказал, что показание Кривцова могло бы его погубить...".
Все время учебы братьев в Гофвиле старший Николай служил в посольстве в Англии и следил за братьями с истинно отеческим попечением. Для продолжения обучения С. Кривцов в январе 1820 г. отправился в Париж, где около года слушал лекции в университете, посещал театры, салоны, благодаря связям брата бывал в самом избранном обществе. По возвращении в Петербург он стал юнкером в лейб-гвардии конной артиллерии. В мае 1825 года Кривцов - подпоручик. Его друзьями стали Федор Вадковский, брат жены Николая Кривцова, двоюродный брат Вадковского Захар Чернышев и Никита Муравьев, женившийся на сестре Захара. Родственные связи и определили его судьбу...
25 октября он уезжает в трехмесячный отпуск к матери и уже там узнает о событиях 14 декабря. Арестовали его в Воронеже, когда он гостил у брата Николая - губернатора. "В феврале привезли С. Кривцова и посадили в камеру против моей; мы тотчас же начали перепеваться, т.е. разговаривать по-французски. Через несколько дней, в один вечер, его повели к допросу", - вспоминал декабрист Михаил Пущин.
Находясь в крепости, Сергей Иванович начал писать стихи. Наивные, порой сентиментальные, они отражали искренность личных переживаний, состояние души, говорили о том, что чувствовал и о чем думал в те тяжелые дни декабрист: "На измену дружбы", "Послание графу Чернышеву", "Похвала трубке", "День заключенья", "За труды платить трудами"...
Он был осужден по седьмому разряду, приговорен к году каторги и дальнейшему поселению в Сибири.
В ночь с 10 на 11 января 1827 года С. Кривцова вместе с В. Лихаревым, В. Тизенгаузеном и В. Толстым повезли из Петербурга в далекий путь. Отбыв каторгу в Читинском остроге, он был переведен на поселение сначала в Туруханск, а затем в Минусинск. Все свободное время, помимо работ по хозяйству, Кривцов отдавал самообразованию, чтению книг, переводам. Относился к этому со всей серьезностью. В его библиотеке были сочинения Адама Смита, Лакруа, Масильона Гете, Мюллера, Карамзина, Батюшкова, капитальные издания по истории, политике, философии, географии. В 1828 г. из Туруханска он просил родных прислать сочинения Пушкина, Жуковского, Державина. Потребность к чтению сохранилась у него на всю жизнь. Выйдя в отставку и проживая в Тимофеевском, Сергей Иванович неизменно выписывал "Du journal des Debats" и "Московские ведомости", любил читать многотомные сочинения, преимущественно исторического содержания, всегда в подлиннике.
В сентябре 1831 г. Кривцова известили о "высочайшей милости" - переводе на Кавказ рядовым в 44-й егерский полк, где для него спустя десять лет снова началась военная жизнь. Служба проходила на Черноморском побережье: Сухуми, Гагра, Бомборы (вблизи Гудаут), изредка наезжал в Тифлис. Места эти "славились" тогда сырым губительным климатом, ужасной смертностью, страшной малярией и другими болезнями. Сергей Иванович болел несколько раз, а потом всю жизнь страдал астмой. В эти годы Кривцов выучил грузинский язык, занимался переводами грузинских авторов. В августе 1834 г. его определяют в Ставрополь, где стояла 20-я артиллерийская батарея. Здесь же жила племянница София (дочь сестры Варвары. - Прим. автора), она была замужем за М. Бибиковым, адъютантом генерала А. Вельяминова, и в их доме С. Кривцов всегда находил приют вплоть до своей отставки весной 1839 года.
Три последующих года, с весны до осени, прошли в многочисленных военных экспедициях, сражениях и стычках, где он подвергался ежедневным опасностям. В письме к братьям в Сибирь в декабре 1835 г. писатель-декабрист А. Бестужев-Марлинский отмечал: "В отряде со мной был Кривцов. Под ним убита лошадь картечью, ибо у горцев есть артиллерия". В другом письме А. Бестужев-Марлинский упоминает и декабриста В. Голицына: "Валериан Михайлович и Сергей Иванович кланяются вам, кто их помнит или знает". За кампанию 1835 г. Кривцов был произведен в унтер-офицеры.
Сослуживец Сергея Ивановича офицер И. Фондер-Ховен тепло отзывался о нем: "Высокий ростом, плечистый, с черными кудрявыми волосами... Умный в разговоре, приятный в обществе и храбрый в деле, он невольно обращал на себя внимание... В делах я имел случай несколько раз прикрывать егерями его два горных единорога, которыми он командовал и с коими он всегда был впереди, а так как опасности, труды и лишения похода сближают людей, то я с ним скоро сошелся и всегда находил отраду в приятной с ним беседе".
Как отмечалось в приказе, 26 августа 1837 г. Кривцов проявил храбрость и мужество в бою, "производя меткие выстрелы картечью из одного легкого орудия". К этому времени он уже получил солдатского Георгия и ждал производства в офицеры. В октябре 1837 г. в Ставрополе Сергей Иванович познакомился с М. Лермонтовым. Факт известный. В Лермонтовской энциклопедии сказано, что Михаил Юрьевич, находясь в первой ссылке, по пути из Тамани в Тифлис задержался в Ставрополе, где на квартире Н. Сатина и познакомился с декабристом. Им было о чем поговорить. Оба храбрые офицеры, служили на Кавказе, оба в юности воспитывались в Московском университетском пансионе.
Летняя экспедиция 1837 г. стала для Кривцова последней. Отныне он поселился оседло, преимущественно в Ставрополе, хлопотал об отставке, танцевал на балах, намеревался купить имение брата Павла Ивановича, о чем свидетельствует письмо, сохранившееся в Ставропольском крайгосархиве.
Здесь, однако, уважаемый читатель, мы прервем на время свое повествование о нашем герое, чтобы рассказать об удивительной женщине, знакомство с которой осталось в памяти Сергея Ивановича на всю жизнь.
II. Русская Жорж Санд
11 января 1814 г. близ села Ржищево Киевской губернии родилась Елена Андреевна Ган, будущая писательница-романистка, вошедшая в историю литературы, по "образному выражению И. С. Тургенева, как русская Жорж Санд". Она выросла в прогрессивной дворянской семье, где разностороннему образованию, серьезному воспитанию, начитанности придавалось первостепенное значение. Мать ее, Елена Павловна Фадеева (урожденная Долгорукая), была одаренной и эрудированной женщиной, от которой много унаследовала дочь. Елена Ган рано почувствовала интерес к поэзии, литературе, музыке, стремление к творчеству.
В 1830 г. семья Фадеевых жила в Екатеринославе, где их отец Андрей Михайлович был управляющим конторой иностранных поселенцев. Старшей дочери Елене в тот год исполнилось 16 лет. Она считалась самой хорошенькой девушкой в городе. Спустя годы дочь ее, Вера Петровна, вспоминала: "Прелестно очерченные губы, темные брови, каштановые волосы, слегка орлиный, с маленькой горбинкой нос. Но особенно красивы были ее живые карие глаза, необычайная подвижность тонких черт лица и добрая улыбка. Вся фигура дышала жизнью, красотой...". Многие обращали на нее внимание, но она вышла замуж за капитана конной артиллерии Петра Алексеевича Гана, человека на четырнадцать лет старше, от природы веселого, умного и образованного, потомка германских рыцарей, сына генерала. Впоследствии оказалось, что они не сошлись характерами, но этого нельзя было предвидеть. Через год появился первенец - Елена (впоследствии известная писательница Блаватская). Затем рождается сын Александр, который умер младенцем. В эти годы Елена Ган часто переезжает с батареей мужа с одного места на другое. В 1834 г. в Одессе, будучи в гостях у своих родных, она родила вторую дочь, Веру (в замужестве - Желиховская). Семейные хлопоты отнимали много времени, но она упорно занималась чтением книг, изучением языков, начала писать повесть.
Поворотным моментом в ее творческой жизни явилось пребывание в Петербурге, куда мужа перевели на службу в 1836 году. Там у Елены Андреевны завязываются литературные знакомства. Она посещает театры, музеи, выставки картин. На одной из них произошла ее встреча с Пушкиным: "Я вдруг наткнулась на человека, который показался мне очень знакомым... Иван Алексеевич (брат мужа. - Прим. авт.) в то же время сжал мне руку, указывая на него глазами, и при втором взгляде сердце у меня забилось... Я узнала Пушкина!.. Я воображала его черным брюнетом, а его волосы не темнее моих, длинные, взъерошенные. Маленький ростом, с заросшим лицом, он был бы некрасив, если бы не глаза. Глаза - блестят, как угли, и в беспрерывном движении. Я, разумеется, забыла картины, чтоб смотреть на него. И он, кажется, это заметил; несколько раз взглядывал на меня, улыбался... Видно, на лице моем изображались мои восторженные чувства!".
Благодаря знакомству с редактором журнала "Библиотека для чтения" О. И. Сенковским, обратившим внимание на ее талант, весной 1837-го выходит ее первая повесть "Идеал" под псевдонимом Зинаиды Р-вой.
А в мае 1837 г. Елена Андреевна вместе с двумя маленькими дочерьми, сестрой Екатериной и отцом покинула Петербург и отправилась в Астрахань, где Андрей Михайлович в то время служил главным попечителем кочующих народов. В Астрахани к ним присоединилась мать, и они всем большим семейством двинулись в Пятигорск на лечение. В своих воспоминаниях А. Фадеев живописно описал первую нелегкую поездку на воды: "Проехав сто двадцать верст по почтовому Кизлярскому тракту, мы своротили с него направо, в калмыцкие степи, где нам пришлось продолжать наше странствие преимущественно на верблюдах, выставленных заранее калмыками для нашего проезда, и испытывать большой недостаток в воде. Верблюдов запрягали в экипажи, как лошадей.
Степь представляла собою сплошную, необозримую массу песка.., и против силы ветра с песком почти невозможно было устоять на ногах. Изредка зеленели или, вернее сказать, рыжели тощие кустики полуиссохшей полыни, и иногда попадались неглубокие колодцы с водой, такой горькой и противной на вкус, что даже верблюды отказывались ее пить. Далее по пути стала проявляться растительность, трава, которая понемногу своею зеленью заменила желтизну песка. Мы ночевали одну ночь в соляной заставе, другую в степи, а третью в калмыцком кочевье, где калмыки приняли нас очень радушно... На четвертый день мы доехали до берегов Кумы, где нашли хороший отдых со всеми удобствами у известного шелковода, кавказского помещика Реброва, в деревне его Владимировке... От Реброва мы отправились через русские деревни по Куме, в Пятигорск, куда и прибыли 16 июня. Устроив мое семейство для пребывания на водах, я отправился 23 июня в Ставрополь, для исполнения поручений по части государственных имуществ". Пробыв на водах до сентября, Елена Андреевна затем возвратилась к мужу, квартировавшему в Курской губернии.
На следующий год Елена Ган с матерью и детьми снова поехали из Астрахани на второй курс лечения. Приближаясь к Пятигорску, они увидели уже знакомую "...фантастическую громаду скал, разбросанных в самом оживленном порядке. Лесистые или торчащие голыми зубцами, они жмутся, теснятся... к величавому Бештау, который, возвышаясь, гордо рисуется на синеве небес или, скрываясь порой в туманах, выказывает вершину свою над облаками". Так описала Е. Ган великолепные окрестности в своей повести "Медальон". Две поездки на Кавказские минеральные воды оставили в ее памяти самые светлые и неизгладимые впечатления. Весной 1839 года Е. Ган писала О. Сенковскому в Петербург: "...посылаю вам новую повесть, которую я начала еще летом на Кавказе, но по болезням моим и детей моих не могла кончить по сию пору... Об одном прошу, - вы не прогневаетесь на меня за это? - если можно, не вычеркните в первом отделении дорассветной прогулки на вершину Машука и грозы под Кисловодском, - это такие приятные минуты для меня, что я желала бы перечитать их в печати".
К лету 1838 года на Кавказских минеральных водах собралась компания близких друзей по несчастью 14 декабря: Александр Одоевский, Николай Цебриков, еще раньше зимой из Грузии приехал Андрей Розен с женой Анной Васильевной, из Ставрополя - Сергей Кривцов и Валериан Голицын, из Прочного Окопа - Михаил Нарышкин с женой Елизаветой Петровной.
Произошло их знакомство с Еленой Ган. Обычные для этого круга совместные прогулки, кавалькады и пикники, балы и концерты, а главное - литературные интересы особенно сблизили Сергея Ивановича и Елену Андреевну и положили начало их последующей переписке.
Время донесло до нас всего лишь несколько писем, первое из которых сегодня публикуется впервые. Оно написано Кривцовым в сентябре, сразу после отъезда Елены Андреевны:
"Так как общество, в котором я живу, давно уже перестало интересовать меня, то чувства любви и благодарности, словом все чувства, которые связывают человека с его ближним, сосредоточились или вернее уснули, в глубине моего сердца; равнодушный к окружающим меня, я холодно проходил через жизнь, неустанно силясь призрачной деятельностью насытить внутреннее пламя, пожиравшее меня. Часто думая развлечься, я посещал наши шумные собрания, но, увы! Возвращался домой грустнее прежнего, принужденный смех, искажавший на минуту мое лицо, только проводил на нем новую борозду для новой слезы. Самое одиночество уже потеряло для меня всякую прелесть; человек создан для общества, и горе тому, кто удален от него, но в тысячу раз несчастнее тот, кто одинок среди окружающей его толпы, тогда-то одиночество становится нестерпимо ужасно. Таково было мое положение, когда простое любопытство, вызванное вашей литературной репутацией, побудило меня искать чести быть вам представленным.
Буду честен до конца: к этому меня обязывают ваши достоинства и глубокое уважение, которое я питаю к вам. Скажу вам прямо, что до знакомства с вами я отчасти разделял общее мнение об ученых женщинах писательницах или веl-esprits. Велико было мое удивление, когда я увидел вас! Неизъяснимая прелесть, которой дышит вся ваша личность, наэлектризовала меня и вывела из того нравственного усыпления, в которое я так давно был погружен, божественное пламя вашего взора, усмиряемое нежной чувствительностью и тонкой чуткостью вашей прекрасной души, подвижность вашего лица, отражающего малейшие ощущения, - все выдает в вас женщину, это совершеннейшее существо, венец творения. В писании сказано: Бог создал мужчину и почил; если это правда, то он почил для того, чтобы с новыми силами приступить к созданию женщины. Таково было первое впечатление, которое вы произвели на меня; наши дальнейшие отношения только усилили то уважение или, лучше сказать, благоговение, которое я питаю к вам; и знаете ли? Странным образом, самые ваши недостатки вас красят, только рельефнее оттеняя ваши неоценимые достоинства; без них вы, может быть, были бы ангелом, но перестали бы быть самой собою и много потеряли бы.
Не подозревая, что вы имели сильное влияние на меня, вы омолодили мою душу, вы воскресили во мне любовь к прекрасному; вы пробудили во мне гордость, почтив меня своим расположением. Да, я горжусь участием, которое вы приняли во мне; я знаю, я обязан им исключительно вашей доброте; потому что моя единственная заслуга - та, что я сумел вас разгадать; чувство благоговейного уважения, которое я питаю к вам, явилось только естественным последствием, потому что, узнав вас, невозможно не предаться вам сердцем и душою, на жизнь и смерть".
III. Я вам пишу...
В ответе, присланном из села Каменского (вблизи Екатеринослава), Елена Ган мягко предостерегает Сергея Ивановича от опасности разочарования иллюзий, созданных воображением, ибо первые впечатления бывают порой обманчивы:
"Я не сумею выразить, как я благодарна вам за этот знак памяти и доброты. Если бы после всех утех Кавказа, где счет дням велся по удовольствиям, после родственных ласк и общения с приятным кругом людей вас обрекли на одиночество в какой-нибудь африканской пустыне, только тогда вы могли бы понять мое нынешнее состояние и радость, которое дало мне ваше письмо. Я была почти счастлива на Кавказе, особенно в Кисловодске; каждый день августа начертан золотыми письменами в книге моего бытия. Ваше письмо воскресило для меня чудесные дни, прожитые мною на Кавказе, и перенесло меня на несколько часов из моих болот под ваше прекрасное небо, в очаровательную природу Кисловодска...
Я не узнаю себя в портрете, который вы нарисовали с меня, его краски слишком ярки, и мне невольно вспомнилась фраза, которую вы часто повторяли: всего лучше пишешь, когда пером водит холодный ум; да и по изысканности деталей этот портрет показался мне мало похожим на набросок, сделанный по первому впечатлению... Прошу вас, если я имела счастие оставить в вас приятное воспоминание, сохраните его, не восторгайтесь мною в такой степени... Вы судили обо мне, может быть, по тому, какою видели меня на Кавказе, и вы рассчитываете найти в моих письмах ту же веселость, живость и оригинальность, которые делали для вас привлекательным мое общество? В таком случае вы ошибаетесь: это не был мой обычный нрав. Вырвавшись из одиночества и скуки Каменского, я - как птица, внезапно выпущенная на свободу, очутилась среди кавказского общества, совершенно ошеломленная светом, шумом и тысячью соблазнительных вещей, которые окружили меня, суля давно недоступное мне наслаждение... Видя его, я бросилась очертя голову в водоворот света. В этом-то состоянии опьянения вы увидели меня и, может быть, составили себе представление обо мне. Но хотя природа дала мне характер веселый до сумасбродства, время и обстоятельства сделали его иным - серьезным, молчаливым, подчас даже угрюмым".
Зная о том, что, выйдя в отставку, Сергей Иванович будет проживать в Болховском уезде Орловской губернии, Елена Ган сообщает ему о возможной встрече с ним:
"Я уже давно получила ваше первое письмо от 3 января, а третьего дня получила и второе и спешу исправить мою, впрочем, совершенно невольную, вину, т.к. я не сдержала своего обещания отвечать вам аккуратно... Воспоминание, крупица дружбы - вот все, чего я смею желать от вас; мне вовсе не улыбается быть издали предметом удивления и показаться вблизи всего только доброй армейской капитаншей. Говорю вблизи, потому что надеюсь когда-нибудь увидеться с вами в Болхове. 6-я батарея получила приказ идти туда после лагерей, в августе, и по всем вероятиям мы проведем там три года... Поклонитесь от меня Кавказу и его прекрасной весне. Сегодня у нас 4-е марта, а снег лежит по колено и морозы крещенские.
До свидания. Helene".
В свои двадцать пять лет Елена Ган, как женщина, много пережила, перестрадала, передумала, и вполне объяснимо то сочувствие и понимание Сергея Ивановича, которое он выказывал ей в своих письмах, сам испытавший все тяготы и лишения походной, ссыльной жизни.
В середине апреля было удовлетворено прошение С. Кривцова об отставке, однако Ставрополь он покинул в начале июня. Сюда же Елена Ган адресует очередное письмо: "Я еду в Одессу, где думаю пробыть до июля, оттуда отправлюсь прямо в Умань, где встречусь с мужем, и мы вместе двинемся в Орловскую губернию. Я еду в Одессу одна с детьми... мое здоровье так расстроено, что здешние врачи советуют мне обратиться к одесским, - вот что заставляет меня оставить мужа и Каменское...
Боже мой! Опять перемена в моей жизни, опять новые места, новые люди, опять я в толпе, которая меня не знает, судит и рядит по-своему, - долго ль мне еще скитаться по свету! Знаете ли, Сергей Иванович, мне часто приходит желание поговорить с вами; ваш холодный, равнодушный взгляд на все беды исцелял меня, ободрял... ваше равнодушие и веселая беззаботность внушает отраду... Пишите мне в Одессу, ваши письма придут мне прямо в руки, я буду вести и там такой уединенный образ жизни; шумный город не изменил моих дум, я всегда везде все та же; если когда-нибудь увидимся, вы убедитесь в том. Прощайте, желаю вам много веселиться. На водах вспомните ли вы меня?".
Сергей Иванович вернулся в родное Тимофеевское. Прошло лето. Однако встретиться им больше было не суждено. Елена Андреевна писала 25 сентября 1839 года: "Скоро пять месяцев, как я получила ваше последнее письмо, и если не сейчас отвечала на него, то верьте, что виной тому не нерадение с моей стороны, - наша переписка слишком дорога мне; Я провела почти все лето в путешествиях добровольных и невольных, как то поход, и в приятной надежде видеть вас лично в Болхове... Вместо Болхова нас осудили жить в Годяче, дрянном городке Полтавской губернии.
Итак, вы достигли цели ваших желаний, вы дома с родными. Поздравляю, от всей искренности души поздравляю с желанием, да благоприятствуют вам пенаты всех ваших лесов, полей и вод.
Что же летом, вы посетили Крым? Мою вторую родину? Пишите, как нашли южный берег, Судак? Или ваши предположения ограничились одним намерением, как и мои? Я тоже из Одессы не раз порывалась через море, в Крым - там пароход идет всего 18 часов, но дети и невозможность пуститься в путь одной остановили меня... Опишите же мне ваше житье-бытье, ваши занятия; разъезжаете ли вы, смиренно осматривая полевые работы, или истинно-русским помещиком, с нагайкой в руках, рыскаете за зайцами? Или еще a la Онегин, с кием в руках бродите по залам, перелистывая все книги... Правда ли, что К. Валериан Г. (князь Голицын, декабрист. - Прим. авт.) вышел в отставку и поселился в деревне - где? Расскажите мне в вашем письме нечто об наших кавказских знакомых. Это такое приятное воспоминание, что даже имя глухого Засса производит во мне сладкое чувство...
Adieu, monsiur Krivzoff, soyez heureux
Adieu. Helene".
Трудно сказать, как долго продолжалась их переписка. Но, конечно, это не был "почтовый роман", это было искреннее общение родственных душ.
В начале 1840 г. Елена Ган с детьми едет к родным в Саратов, где отец ее был гражданским губернатором. Там у нее появился сын - Леонид (служил в Ставрополе присяжным поверенным до самой кончины в 1885 году. - (Прим. авт.). Из Саратова снова в Малороссию, к мужу. Чахотка - болезнь того века - давно подтачивала ее силы. Врачи советуют море, юг. "Ранней весной 1842 г. мы переехали в Одессу, ради здоровья матери моей, - вспоминала В.Желиховская. - Перед кончиной она еще была порадована свиданием с отцом и матерью, в конце мая они приехали в Одессу, а 24 июня 1842 г. она умерла на руках своей матери". Было ей всего 28 лет!
Спустя год вышло полное собрание ее сочинений. В феврале 1844 г. в "Одесском Вестнике" появились "Воспоминания о Е.А. Ган": "Ее необычайно проницательный и меткий взгляд на вещи показывал, до какой высокой степени эта изумительная женщина обладала даром постигать человеческое сердце".
Послесловие
Сергей Иванович до последних своих дней жил в родном селе Тимофеевском. Всюду он был любим - и в Сибири, и на Кавказе, и в Орловской губернии. В 1856 г. ему было возвращено потомственное дворянство и право жить в столицах, а в 1861-м собрание предводителей дворянства губернии выбрало С.И. Кривцова в члены губернского по крестьянским делам присутствия.
После преждевременной смерти младшего брата Павла, Сергей Иванович взял на себя заботу о племянниках, которые называли его oncle Serge и очень любили. Он отвечал им тем же.
Женился Сергей Иванович поздно - в 55 лет, взяв в жены дочь орловского губернатора - Анну Валерьяновну Сафонович. Детей у них не было. Почти тогда же племянница Кривцова Ольга Павловна в Москве вышла замуж за Николая Михайловича Орлова, отец которого - декабрист М. Орлов, а мать Екатерина Николаевна, сестра известной Марии Раевской, последовавшей за мужем-декабристом С. Волконским в Сибирь.
У Орловых было две дочери: Елизавета и Елена Николаевна (в замужестве Котляревская). Упоминание о них здесь не случайно. Дело в том, что после смерти Сергея Ивановича в 1864 году все деревенское имущество было перевезено в Москву. В конце девятнадцатого века сестры Орловы купили дом в Никольском переулке на Арбате, где долго жили со своей матерью Ольгой Павловной, сохраняя семейный архив Орловых, Кривцовых, Раевских. Их близким соседом по дому оказался писатель М.О. Гершензон, который в 1914 году написал книгу "Декабрист Кривцов и его братья". Таким образом до наших дней дошли и воспоминания о Елене Андреевне Ган, и переписка ее с Сергеем Ивановичем Кривцовым. В их письмах нет ничего "политического". Но в каждой строчке дышит сама эпоха, родившая замечательную плеяду первых русских революционеров-романтиков.
Метки: декабристы |
Декабрист Николай Загорецкий после сибирской ссылки воевал в Отдельном Кавказском корпусе |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

В начавшемся 2015 году в российской истории несомненно будет особо отмечена дата – 190 лет восстания декабристов на Сенатской площади в Петербурге. С именами многих из участников тех событий связана и история Ставрополья, поскольку в наших краях они проходили службу, сосланные на Кавказ рядовыми солдатами. Кто-то погиб в сражениях с непокорными горцами, кто-то смог ценой неимоверных тягот вновь обрести офицерский чин и в конце концов вернуться к родным. Известный ставропольский писатель-краевед Виктор Кравченко многие годы исследует судьбы декабристов, а сейчас работает над завершающей книгой трилогии о пребывании декабристов на Кавказе. Открывая серию публикаций, посвященных этим славным сынам Отечества, мы предлагаем вашему вниманию главу из новой книги В. Кравченко, в ней рассказывается о Николае Загорецком, после сибирской ссылки воевавшем в Отдельном Кавказском корпусе.
В те времена Нальчикская слобода представляла собой солдатские казармы, хозяйственные постройки и неровный ряд приземистых домиков, плотно примыкавших друг к другу. Чуть поодаль, на пригорке, несколько деревьев затеняли бревенчатую церквушку. Поселение опоясывал земляной вал, вдоль которого одиноко прохаживался часовой, здесь же бродили козы да в пыли возились собаки. За валом бежала речка, скрытая низовым кустарником, а дальше поднимался уступами к ближайшим горам густой лес. На площадке возле казарм стояла покосившаяся оплетенная вьюнком беседка, в которой полулежа отдыхал немолодой унтер-офицер Загорецкий, держа на коленях потрепанный томик в дешевом переплете. Знойное закатное солнце жарко припекало, освещая его смуглое, рябоватое лицо с седыми подстриженными усами.
Николай Александрович перелистнул страничку, захлопнул книжку, прикрыл глаза… Память вновь возвращала в московское лето 1812 года, когда он, 16-летний, записался в ополчение портупей-юнкером. Затем была учеба в московском заведении для колонновожатых и первое офицерское звание – прапорщик. Службу проходил во 2-й армии, был награжден орденами Св. Анны 4-й и 3-й степени, произведен в поручики. А в 1825 году Загорецкий стал членом Южного общества…
…Его и других членов общества выдал капитан Вятского пехотного полка Майборода. В доносе было 46 фамилий, в том числе П. Пестеля, полкового командира. После продолжительных четырех допросов, наконец уличенный, на очной ставке Загорецкий сознался, что принадлежал к обществу и знал цель – введение республиканского правления с упразднением престола.
Решением Верховного суда Загорецкого осудили по VII разряду к году каторжных работ с лишением дворянства. В январе 1827-го отправили из Петропавловской крепости в Сибирь. По отбытии срока в Читинском остроге в апреле 1828 года он был обращен на поселение в слободу Витим, а оттуда переведен в село Буреть Иркутской губернии.
На Кавказе тем временем шла война с турками. В рядах Отдельного Кавказского корпуса храбро сражались многие сосланные сюда декабристы, рассчитывая получить отставку и возвратиться в родные места. Загорецкий подал прошение на имя Николая I: «Удостойте, Ваше Императорское Величество, дозволить мне вступить под победоносные знамена Ваши в действующую армию, доколе суровость климата и душевная скорбь еще не лишили меня сил, солдату необходимых».
Быстрого высочайшего соизволения не последовало. И лишь зимой 1838 года Загорецкого все-таки переводят на Кавказ, вначале в Апшеронский пехотный полк, затем в Навагинский. Постоянное место жительства ему определили в станице Прочный Окоп, в 60 верстах от Ставрополя, на правом берегу Кубани. Там уже проживали декабристы К. Игельстром, А. Вегелин, М. Назимов, М. Нарышкин с супругой Елизаветой Петровной.
Летом рядовой Загорецкий участвует в составе Апшеронского полка в десанте на восточном берегу Черного моря. Следующий, 1839 год начался с подготовки к очередной экспедиции генерал-лейтенанта Н. Раевского. В приказе по главному отряду, отданном в Тамани 26 апреля, Раевский отмечал: «Вверенный мне отряд по Высочайшей воле должен быть перевезен Черноморским флотом для занятия Субаши и постройки там форта. Долина, где мы делаем высадку, покрыта вековым дремучим лесом, густо перевита плющом и диким виноградом. Местность пересечена несколькими оврагами. Между речками Субаши и Шахе возвышается гора, крутая и лесистая, но которая, господствуя над всеми окрестностями, должна быть занята для безопасности при строении форта».
Об одном из эпизодов десантной операции вспоминал декабрист Н. Лорер: «На правом нашем фланге трещала еще страшная пальба и беспокоила меня за Нарышкина, который там находился. Я пошел по направлению выстрелов и дорогой встречал многих раненых… Попавшийся мне знакомый офицер указал мне, где отыскать Нарышкина, которого я и нашел наконец с Загорецким у дерева. Последний заряжал ружье Нарышкину, а у Михаила Михайловича, сделавшего более 70 выстрелов, усы и все лицо были черны от пороху и дыму…».
В донесении от 7 июля говорилось: «3-й батальон Тенгинского полка в полном порядке быстро взошел на высоту и расположился на ней. Прежде всех взбежала пара стрелков, состоявшая из государственных преступников, рядовых Одоевского и Загорецкого. Они вдвоем бросились в кучу деревьев, где засело десяток черкес, сии последние, сделав на них залп, убежали…» (орфография оригинала. – В.К.).
В этот же день генерал-лейтенант Раевский докладывал командующему корпусом о выполнении задания. Сразу же начались работы по возведению форта Лазаревского.
А 15 августа в походной палатке форта Субаши (сегодня Лазаревский район города Сочи) в день Успения Пресвятой Богородицы на руках Загорецкого скончался поэт-декабрист А.И. Одоевский, автор поэтического ответа декабристов Пушкину на его знаменитое «Во глубине сибирских руд», друг Лермонтова.
Летом 1840 года Николай Александрович также воевал за Кубанью. Все эти годы декабристы вели между собою оживленную переписку. В их письмах самой животрепещущей темой было производство в офицеры и выход в отставку. Не забывали они и товарищей, оставшихся на поселении в Сибири. М. Назимов так писал 21 декабря А. Бригену в Курган: «Однажды после ночного перехода на привале говорят, что нарочный с Линии привез почту в отряд. Спешу узнать, нет ли ко мне писем, не получу ли какой радости в тот день. Это было 8-е ноября. Вместо писем попадается мне в руки приказ, в котором прочитал производство Николая Ивановича Лорера в прапорщики, Нарышкина и Черкасова в юнкера, Загорецкого и Лихарева в унтер-офицеры. Можете себе представить, как эта новость была для меня приятна».
Экспедицию 1841 года уже унтер-офицер Загорецкий провел в Северном Дагестане, а весной 1842 года его перевели в укрепление Нальчик.
…Негромко ударил колокол. Июньский день заканчивался, и небо засветилось бледной вечерней желтизной. Николай Александрович поднялся и прошел в дом. Зажег лампу. Комната с выбеленными мелом стенами, простой мебелью солдатской работы при свете казалась уютнее. Придвинулся к столу и начал писать Нарышкину в Прочный Окоп: «Пользуюсь случаем писать к вам, почтеннейший мой Михаил Михайлович, несколько слов… Жизнь нальчикская так тосклива, так скучна, так однообразна, что, кроме прогулок верст в 10 поутру и вечером, несколько болтовни с Алексеем Ивановичем (Черкасов – декабрист. – Прим. авт.) и с князем Голицыным, ровно ничего не делаю, чтения ни у кого никакого нет, я было обрадовался, когда приехал Голицын к нам, в надежде, что у него, вероятно, найду каких-нибудь книг, не тут-то было, ровнешенько ничего!.. Часто, очень часто вспоминаю наш Прочный Окоп. Посетителей на курс (на Кавказские Минеральные Воды. – Прим. авт.) прибыло, говорят очень мало, иначе и быть не может, кто захочет теперь ехать на Кавказ, ежели им же столько удобств и выгод ехать за границу. Военный министр был в отряде на третий день после этого дела и, рассказывают, был очень любезен с Павлом Христофоровичем (Граббе. – Прим. авт.)... К нам, кажется, он не будет, да и что ему смотреть полуобвалившуюся крепостцу, с полсотни скверных хижин солдатских – вот все, что составляет Нальчик, прибыть же к нам надо проехать вброд семь бешеных речек и не раз подвергаться величайшим опасностям, чтобы сею жизнью рисковать по-пустому…».
Николай Александрович дописал последнюю строчку, откинулся на стуле. Пламя в лампе слегка подрагивало и потрескивало. Посмотрел в окно. На дальних горных вершинах затухал венчик уходящего дня. В долине сумерки легли плотной синевой. В казармах погасили огни, и слобода погрузилась в сон…
* * *
Р.S. «Русский инвалид» от 20 июня 1843 года напечатал: «Его Императорское Величество… соизволил отдать следующие приказы: производятся за отличие в делах против горцев. Навагинского пехотного полка подпрапорщик Нарышкин и унтер-офицер Загорецкий в прапорщики – оба со старшинством с 31-го августа 1842 года».
По этому поводу Елизавета Петровна Нарышкина писала из Прочного Окопа А. Бригену в Курган: «Загорецкий удостоен, он только что переправился в Таганрог, где стоят резервные Кавказские полки, чтобы провести там фронтовые учения, и после этого он наденет свои погоны».
В марте 1845 года прапорщик Загорецкий был уволен от военной службы и выехал в имение сестры Ольги в деревню Сумино Звенигородского уезда Московской губернии под надзор полиции. В 1847 году поступил на службу в Тульскую палату государственных имуществ и 19 лет являлся уполномоченным по размежеванию земель в Одоевском и Ефремовском уездах Тульской губернии. Затем поселился в Москве, в доме Н.Ф. Бахметева, своего товарища по училищу колонновожатых. Любопытное совпадение: Бахметев был женат на Варваре Лопухиной, той самой, которую с юности любил М.Ю. Лермонтов и любовь к которой, как известно, сохранил до конца своих дней.
Н.А. Загорецкий скончался в 1885 году и похоронен на Ваганьковском кладбище.
Виктор Кравченко.
Метки: декабристы загорецкий николай |






