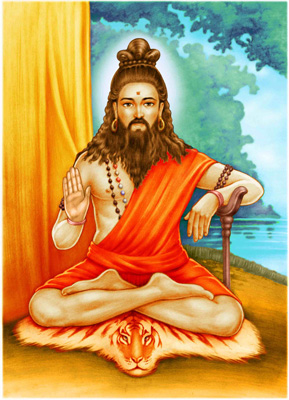Нешёлковый путь - LiveJournal.com
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://nandzed.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://nandzed.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://nandzed.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу http://nandzed.livejournal.com/data/rss/, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Гималаи. Дно древнего моря (это привет одному собирателю из Питера:)) |


Окаменелости бывших некогда моллюсков
http://www.indostan.ru/blog/1_0.html
Смеялся долго, прочтя заметку одного путешественника:
Сюда приезжают странные люди. И даже те люди, которые не кажутся странными (а очень даже цивильными), все равно оказываются странными. Вчера мне рассказали про одного немца, который приехал сюда и весь с виду был цивильный, культурный и приличный. А через три дня он вышел из номера голый, в одних гималайских шерстяных носках, волоча за собой одеяло, весь вымазанный в собственном говне.
|
|
Два впечатленья |
Я познакомился с поэтом Пушкиным. Рожа ничего не обещающая. Он читал у Вяземского свою трагедию "Борис Годунов".
А. Я. БУЛГАКОВ (московский почт-директор) - К. Я. БУЛГАКОВУ, 5 окт.1826 г. Рус. Арх., 1901, П, 405.
(Чтение Пушкиным "Годунова" в Москве, у Веневитиновых, 12 октября 1826 г., днем. В 12 час. приехал Пушкин). Какое действие произвело на всех нас это чтение - передать невозможно. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которых все мы знали наизусть. Учителем нашим был Мерзляков. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то время. Это был распев, завещанный французскою декламацией. Наконец, надо себе представить самую фигуру Пушкина. Ожиданный нами величавый жрец высокого искусства - это был среднего роста, почти низенький человечек, вертлявый, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми, быстрыми глазами, с тихим, приятным голосом, в черном сюртуке, в черном жилете, застегнутом наглухо, небрежно повязанном галстухе. Вместо высокопарного языка богов мы услышали простую ясную, обыкновенную и, между тем, - поэтическую, увлекательную речь!
Первые явления выслушали тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорьем всех ошеломила... А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков "да ниспошлет Господь покой его душе, страдающей и бурной", мы просто все как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. Кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет. То молчанье, то взрыв восклицаний, напр., при стихах самозванца: "Тень Грозного меня усыновила". Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. Эвон, эвое, дайте чаши!.. Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь. Ему было приятно наше волнение. Он начал нам, поддавая жару, читать песни о Стеньке Разине, как он выплывал ночью на Волге на востроносой своей лодке, предисловие к "Руслану и Людмиле": "У лукоморья дуб зеленый"...
Потом Пушкин начал рассказывать о плане Дмитрия Самозванца, о палаче, который шутит с чернью, стоя у плахи на Красной площади в ожидании Шуйского, о Марине Мнишек с самозванцем, сцену, которую написал он, гуляя верхом, и потом позабыл вполовину, о чем глубоко сожалел. О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь. Не помню, как мы разошлись, как докончили день, как улеглись спать. Да едва кто и спал из нас в эту ночь. Так был потрясен весь наш организм.
М. П. ПОГОДИН. Рус. Арх., 1865, стр. 97
А. Я. БУЛГАКОВ (московский почт-директор) - К. Я. БУЛГАКОВУ, 5 окт.1826 г. Рус. Арх., 1901, П, 405.
(Чтение Пушкиным "Годунова" в Москве, у Веневитиновых, 12 октября 1826 г., днем. В 12 час. приехал Пушкин). Какое действие произвело на всех нас это чтение - передать невозможно. Мы собрались слушать Пушкина, воспитанные на стихах Ломоносова, Державина, Хераскова, Озерова, которых все мы знали наизусть. Учителем нашим был Мерзляков. Надо припомнить и образ чтения стихов, господствовавший в то время. Это был распев, завещанный французскою декламацией. Наконец, надо себе представить самую фигуру Пушкина. Ожиданный нами величавый жрец высокого искусства - это был среднего роста, почти низенький человечек, вертлявый, с длинными, несколько курчавыми по концам волосами, без всяких притязаний, с живыми, быстрыми глазами, с тихим, приятным голосом, в черном сюртуке, в черном жилете, застегнутом наглухо, небрежно повязанном галстухе. Вместо высокопарного языка богов мы услышали простую ясную, обыкновенную и, между тем, - поэтическую, увлекательную речь!
Первые явления выслушали тихо и спокойно или, лучше сказать, в каком-то недоумении. Но чем дальше, тем ощущения усиливались. Сцена летописателя с Григорьем всех ошеломила... А когда Пушкин дошел до рассказа Пимена о посещении Кириллова монастыря Иоанном Грозным, о молитве иноков "да ниспошлет Господь покой его душе, страдающей и бурной", мы просто все как будто обеспамятели. Кого бросало в жар, кого в озноб. Волосы поднимались дыбом. Не стало сил воздерживаться. Кто вдруг вскочит с места, кто вскрикнет. То молчанье, то взрыв восклицаний, напр., при стихах самозванца: "Тень Грозного меня усыновила". Кончилось чтение. Мы смотрели друг на друга долго и потом бросились к Пушкину. Начались объятия, поднялся шум, раздался смех, полились слезы, поздравления. Эвон, эвое, дайте чаши!.. Явилось шампанское, и Пушкин одушевился, видя такое свое действие на избранную молодежь. Ему было приятно наше волнение. Он начал нам, поддавая жару, читать песни о Стеньке Разине, как он выплывал ночью на Волге на востроносой своей лодке, предисловие к "Руслану и Людмиле": "У лукоморья дуб зеленый"...
Потом Пушкин начал рассказывать о плане Дмитрия Самозванца, о палаче, который шутит с чернью, стоя у плахи на Красной площади в ожидании Шуйского, о Марине Мнишек с самозванцем, сцену, которую написал он, гуляя верхом, и потом позабыл вполовину, о чем глубоко сожалел. О, какое удивительное то было утро, оставившее следы на всю жизнь. Не помню, как мы разошлись, как докончили день, как улеглись спать. Да едва кто и спал из нас в эту ночь. Так был потрясен весь наш организм.
М. П. ПОГОДИН. Рус. Арх., 1865, стр. 97
|
Метки: Россия наблюдения литература поэзия Пушкин история |
Соучастие Европы в уничтожении евреев |
К массовым убийствам привели два фактора: стремление немцев сделать Европу юденфрай (чистой, или свободной, от евреев) и отказ остального мира спасти их, когда это еще можно было сделать. Поскольку решение избавить Европу от евреев было окончательным и бесповоротным, отказ мира принять более-менее существенное число евреев автоматически привел к смертному приговору последним. Немцы все снова и снова показывали миру, что ничто не остановит их в стремлении избавить Европу от всех евреев. Кульминацией этого процесса стал общенациональный погром 9–10 ноября 1938 года, вошедший в историю под названием Хрустальная ночь. Мир же не только отказался впустить жертв, но постоянно ужесточал иммиграционную политику, в чем особенно «отличились» США и Великобритания. Эти страны четко дали понять, что их не интересует судьба миллионов евреев. После этого окончательное истребление со всей его чудовищной эффективностью было лишь делом техники.
Уильям Р. Перл Заговор Холокоста
http://www.pseudology.org/evrei/holocaust_conspiracy.pdf
Уильям Р. Перл Заговор Холокоста
http://www.pseudology.org/evrei/holocaust_conspiracy.pdf
|
|
"Ощутив давление одной из сторон..." |
Оригинал взят у  ptitsarukh в "Ощутив давление одной из сторон"
ptitsarukh в "Ощутив давление одной из сторон"
Итак, Адельхайда Тальявини объявила о своём уходе с поста спецпредставителя ОБСЕ по Украине - "ощутив давление одной из сторон".
Я как-то здесь уже писал, что такое бабушка Тальявини. Это та самая пожилая дама, после доклада которой в 2008 году российская операция по принуждению к миру вторгшейся в Южную Осетию грузинской армии была признана адекватной и правомерной. И никаких последствий для России в плане санкций и прочего не имела. Вся трескотня о "российской агрессии против миролюбивой Грузии" так и осталась на страницах газетёнок разной степени желтизны. При этом Тальявини - кто угодно, только не "друг России". Она вообще никому не друг, она последовательно занимает позицию стороннего наблюдателя, оценивающего происходящее беспристрастно - как, собственно, оно и должно быть. Но, увы, бывает не всегда даже в миссиях ОБСЕ.
Другое дело, что в наше беспокойное время спрос на объективные оценки как-то резко упал. И да, подумайте сами, как сильно бабушку Тальявини с 2008 года любит натовское руководство и лично нынешний глава Одесской областной администрации.
"Ощутив давление одной из сторон". Вы можете себе представить "сторону", способную "надавить" на Железную Хайди, которая когда-то ещё Рейгана с Горбачёвым толмачила? Сейчас таких в принципе уже не делают, спроса нет. Старая гвардия дипломатии времён холодной войны, наши Лавров и Чуров - это уже последний извод той легендарной генерации. И вот Тальявини ощутила давление. Давление настолько сильное, что исключило для неё возможность далее исполнять свои обязанности тем образом, который представлялся ей единственно возможным: беспристрастно, опираясь только на факты. И этой стороной уж точно не могли быть ЛДНР, у которых - при всём уважении - силёнок не хватит давить на спецпредставителя ОБСЕ. И не Россия, которая мало того что декларативно отказывается от статуса участника конфликта, так ещё и всячески заинтересована в реализации Минских соглашений. Кто там у нас остался, а?
 ptitsarukh в "Ощутив давление одной из сторон"
ptitsarukh в "Ощутив давление одной из сторон"
Итак, Адельхайда Тальявини объявила о своём уходе с поста спецпредставителя ОБСЕ по Украине - "ощутив давление одной из сторон".
Я как-то здесь уже писал, что такое бабушка Тальявини. Это та самая пожилая дама, после доклада которой в 2008 году российская операция по принуждению к миру вторгшейся в Южную Осетию грузинской армии была признана адекватной и правомерной. И никаких последствий для России в плане санкций и прочего не имела. Вся трескотня о "российской агрессии против миролюбивой Грузии" так и осталась на страницах газетёнок разной степени желтизны. При этом Тальявини - кто угодно, только не "друг России". Она вообще никому не друг, она последовательно занимает позицию стороннего наблюдателя, оценивающего происходящее беспристрастно - как, собственно, оно и должно быть. Но, увы, бывает не всегда даже в миссиях ОБСЕ.
Другое дело, что в наше беспокойное время спрос на объективные оценки как-то резко упал. И да, подумайте сами, как сильно бабушку Тальявини с 2008 года любит натовское руководство и лично нынешний глава Одесской областной администрации.
"Ощутив давление одной из сторон". Вы можете себе представить "сторону", способную "надавить" на Железную Хайди, которая когда-то ещё Рейгана с Горбачёвым толмачила? Сейчас таких в принципе уже не делают, спроса нет. Старая гвардия дипломатии времён холодной войны, наши Лавров и Чуров - это уже последний извод той легендарной генерации. И вот Тальявини ощутила давление. Давление настолько сильное, что исключило для неё возможность далее исполнять свои обязанности тем образом, который представлялся ей единственно возможным: беспристрастно, опираясь только на факты. И этой стороной уж точно не могли быть ЛДНР, у которых - при всём уважении - силёнок не хватит давить на спецпредставителя ОБСЕ. И не Россия, которая мало того что декларативно отказывается от статуса участника конфликта, так ещё и всячески заинтересована в реализации Минских соглашений. Кто там у нас остался, а?
|
Метки: заговор конфликт Россия Америка Запад война |
Понравилось: 1 пользователю
Типы ведийского знания: видья, джняна, праджня... |
Мне кажется, буддистам, свободно оперирующим этими словами - джняна, праджня, видья, виджняна, стоит немного разбираться в их этимологии и историческом контексте их появления.
В ранний ведийский период, в частности в "Ригведе", для обозначения таких понятий, как "знание", "познание", чаще всего употреблялись производные от корня vid (vidya, veda, vedya, vedin). Знание, о котором говорилось с использованием таких слов, - это прежде всего знание богов. В гимне, обращенном к Агни, этот бог характеризуется как обладатель такого особого знания:
Его спрашивайте. Он движется. Он ведает (sa veda).
К нему обращаются, как к знатоку. Только к нему обращаются.
С ним бывают связаны указания, с ним - поиски.
Это его спрашивают. Сам он не расспрашивает (о том),
Что схватил, мудрый, своим собственным умом.
Он не забывает ни первого, ни последующего слова.
С его силой духа сообразуется тот, кто не безумен.
(Перевод Т. Я. Елизаренковой) [Ригведа, 1989, с. 183].
Из дальнейшего текста гимна становится ясно, что основное содержание этого знания - ведийский ритуал и все, что с ним связано. Во многих гимнах "Ригведы" знание как veda тесно связано с понятием dhi, dhisana, т. е. с "видением", "вдохновением", "высшим пониманием", которое охватывает слагателей гимнов - святых риши. Dhi уже в ранних текстах выступает синонимом prajna, но, что удивительно, даже в "Абхидхармакоше"(в 41-й карике), созданной в V в., т. е. спустя по крайней мере полтора тысячелетия, dhi также используется в качестве эквивалента prajna. Dhi,
как ясно из текста "Ригведы", ни в коем случае не является каким-то логическим рассудочным знанием. Это - "видения", образы, навеянные галюцинногенным воздействием сомы. Только в результате последующего осмысления пропетого гимна появляется какое-то суждение. Поэтому dhi и стало именоваться праджней, т. е. "пред-знаиием".
Prajna и abhijna обозначают (особенно в ранних текстах) то, что предшествует обычному человеческому знанию, что является его сакральной причиной и условием. С точки зрения исторической психологии, эти понятия отражают, по-видимому, тот период в развитии человеческой психики, который характеризовался отсутствием рефлексии и соответствовал так называемой "бикамеральной" фазе развития сознания (см. работы американского психолога Джулиана Джайнса). "Бикамеральный разум" не способен правильно идентифицировать все сигналы, сообщаемые одним полушарием другому (поскольку они действовали относительно независимо друг от друга), в результате эти сигналы воспринимались как "голоса" или "видения", проникающие извне и приписываемые богам или духам. Становление
самосознания происходит позже (в индийской культуре это соответствует, по-видимому, периоду создания упанишад и маркируется появлением понятия атман), и в это же время появляется представление о знании, как ведущей и главной психической способности человека.
Джняна в "Ригведе" означает как сакральное знание, так и обыденное, но чаще встречается в нейтральном значении "знания вообще". В частности, существовало такое устойчивое ригведийское клише, как purve pitarah padajnah (букв.: "прежние отцы, знающие след"; см.: I, 62, 2с; III, 55, 2Ь). Возможен перевод "знающие путь", причем под путем в данном случае имелся в виду не лунный "путь предков", как можно было бы ожидать, а солнечный "путь святых риши", знающих веды и обряд.
Знание обряда постепенно осознается как наиболее его существенная часть, как "умственное действие", обеспечивающее успех всем прочим ритуальным действиям. Собственно, брахман в ведийском ритуале - это такой жрец, который молча присутствует при совершении жертвоприношения и осознает символическое значение каждой детали обряда во время его совершения. Согласно традиционной этимологии "жертвоприношение" (yajna) истолковывается как производное от выражения уо jnata ("тот, кто знает"). Во многих упанишадах жертва знанием объявляется высшей жертвой. Основная
цель поучений упанишад как раз и заключается в осознании того, что только такая жертва и является единственно подлинной и способна привести к достижению высшего результата. Но специфика этого вида знания заключается в том, что здесь, как уточняет В. С. Семенцов, "важен не результат тех или иных ментальных операций (как в любом
типе мышления), но сам факт работы мысли (т. е. внимания) в некий строго определенный момент внутри ритуальной процедуры" [Семенцов, 1981, с. 35]. Русское слово co-знание как раз наиболее точно передает смысл умственного усилия, обозначаемого в данном случае термином джняна. В упанишадах джняна, ранее обозначавшее частное, обыденное знание, превращается в виджняну - способность к различительному познанию, в отличие от целостного знания праджни, абхиджни.
Виджняна появляется в текстах, пришедших на смену гимнической поэзии и характеризуемых наличием обширных по объему и сложных по структуре классификаций, поначалу ритуального, а затем и философского характера.
В "Брихадараньяка-упанишаде" виджняна обозначает познание, "из которого состоит Атман", и в сходных контекстах заменяется на синонимичное (в данном случае) - праджняна (Брихадараньяка, II, 4, 12 и IV, 5, 13),Таким образом, виджняна соответствует здесь и сакральному знанию (точнее, знанию сакральных текстов), но в то же время она является такого рода познанием, в котором уже выделяются субъект и объект (Брихадараньяка, П, 4, 14).
Любопытно, что в градации индивидуальных и космических феноменов, содержащейся в поучении Санаткумары, которое он дал Нараде (седьмая часть "Чхандогья-упанишады"), виджняна ставится выше дхьяны, хотя в общем списке оказывается где-то посередине. Если внимательнее приглядеться к этому списку, то оказывается, что первая его часть, заканчивающаяся на виджняне, полностью посвящена описанию человеческой психики, в то время как вторая включает и более древние идеологемы, связывающие проявления индивидуальной психической жизни с космогоническими процессами и ритуальной практикой.
В упанишадах и последующей философской литературе можно отметить наличие двух тенденций в интерпретации термина виджняна. Согласно одной из них, виджняна резко отличается от интуитивно-созерцательного целостного знания праджни и дхи (дхьяны, дхишаны) как различительное знание. В этом смысле она толкуется в текстах как основа эпистемологии (различие знания и незнания), логического знания (различие причины и следствия) и высшего этического знания (как различения добра и зла).
Согласно другой тенденции, виджняна есть выражение наибольшей полноты знания в его нераздельном единстве интуитивных и дискурсивных форм. В этом смысле виджняна есть чистое безобъектное и бессубъектное сознание, которое в таком случае превращается, по существу, в возможность сознания и ничем не отличается от "пред-знания" праджни. Действительно, во многих текстах оба понятия употребляются как синонимичные. Но отмечаются и случаи, когда виджняна рассматривается как более общий и высший вид знания, чем праджня. Обе эти тенденции интерпретации значения слова виджняна хорошо прослеживаются в буддийских текстах.
В "Шветашватара-упанишаде" (VI, 16) встречается понятие ksetrajna - "сознающее начало" (букв.: "поле сознания"), которое, согласно традиционному толкованию, является синонимом vijnanatma ("распознающий Атман"). Можно предположить, что ksetrajna могло послужить той понятийной основой, которая в дальнейшем трансформировалась в буддийское понятие alaya-vijnana. Непосредственным же предшественником alaya-vijnana в буддизме было, как полагает А. Баро, разработанное в старейшей секте Махищасака понятие samsarakotinistha-skandha ("скандха бесчисленных пребываний в сансаре") [Bareau, 1955, р. 240].
Алая-виджняна - "восьмое сознание" виджнянавадинов, явилось результатом достаточно долгого концептуального развития категории виджняна. Уже в упанишадах (3-я часть "Каушитаки") отчетливо прослеживается мысль о связи модальностей восприятия с сознанием. Еще более очевидна эта связь для "распознающего сознания", поскольку само "распознавание" предполагает различение модальностей. В раннем буддизме число основных видов виджнян, классифицируемых по объектам различения, достигало восьмидесяти девяти, а со всеми подразделениями доходило до ста девяносто трех.
У сарвастивадинов речь идет прежде всего о модальностях сознания (а не разных сознаниях), поскольку оно является единичной дхармой и в каждый момент существует только одно сознание (виджняна). Сарвастивадины выделяют следующие основные модальности сознания: чакшур-виджняна, шротра-виджняна, гхрана-виджняна, джива-виджняна, кая-виджняна (т. e. "зрительное сознание", "слуховое сознание"...). К пяти основным модальностям восприятия добавляется "ментальное сознание" (мано-виджняна), которое не связано с модальностями чувственного переживания. Сознание, рассматриваемое в качестве "опоры" для последующего момента, выполняет ту же функцию, что и пять
индрий, и называется просто manas ("сознание", "разум"). В определенном смысле понятия читта, виджняна и манас можно рассматривать как тождественные. Как считает Васубандху, "Сознание, разум и распознавание - одно и то же" (citam mano’tha vijnanam ekartham) [Васубандху, 1990, с. 224].
У виджнянавадинов manas выделяется в качестве "седьмого сознания" как совокупность шести виджнян в смысле сознания предыдущего момента, но также и как рефлексия, направленная на "восьмое сознание" - алая-виджняну, усматривающая в нем наличие "собственного Я".
В понятии алая-виджняна, разработанном виджнянавадинами, получило развитие представление о сознании как центральном элементе, связывающем как объективные, так и субъективные аспекты действительности. Как легко можно было убедиться, это представление, являющееся одним из центральных в Сарвастиваде, обосновывалось уже в упанишадах. Поскольку виджняна является единственным элементом, обеспечивающим непрерывную связь отдельных существований (именно вокруг сознания начинают группироваться все остальные дхармы), то логично предположить, что оно является в своем изначально "чистом состоянии" той основой, которая подвергается "загрязнениям" своим содержанием, ошибочно воспринимаемым как субъективность. Сознание-основа несет в себе потенциальную возожность как наличия континуума субъективностей в виде семян (биджа), так и их просветления до состояния "безобъектного неразличающего знания" (nirvikalpa-jnana). Префикс vi- в санскрите придает отглагольным именам значение
распределения, разделения (например: vikalpa - "различие, выбор, сомнение, колебание, заблуждение, в будд. - мыслительная конструкция"), а также усиливает значение. В буддийских текстах, особенно виджнянавадинских, в слове "виджняна" используются оба значения vi-, как разделительное, так и усилительное.
Vijnana - это и "различительное знание", и "высшее знание". Соответственно, в философии виджнянавадинов повышается статус джняны - "чистого потенциального бессубъектного и безобъектного знания", что проявляется в списке десяти парамит, принятом в виджнянаваде, где джняна стоит выше праджни.
В очень короткой "Мандукья-упанишаде", состоящей всего из двенадцати частей и посвященной толкованию звука "АУМ", "праджня" упоминается в двух из них:
"Когда уснувший не имеет никакого желания, не видит никакого сна, - это глубокий сон. [Находящаяся в] состоянии глубокого сна, ставшая единой, пронизанная лишь познанием, состоящая из блаженства, вкушающая блаженство, чье лицо - мысль, праджня - вот третья стопа" (5).
"Состояние глубокого сна, праджня - звук м, третья часть из измерения или поглощения. Поистине, кто знает это, измеряет все сущее и поглощает [его в себе]" (11).
(Перевод А. Я. Сыркина) [Упанишады, 2, 1992, с. 201-202].
"Измеряет все сущее и поглощает его в себе" - возможно, потому что "pra-jna" - букв.: "знание, заполняющее все пространство". В комментариях на эту упанишаду праджня ассоциируется с "будущим временем", "глубоким сном", "чистым познанием" и "блаженством". И в буддизме праджня, напротив, - "пробуждение", но и "блаженство", и "чистое познание", точнее - "интуиция".
А.Донец
|
Метки: знание хинду буддизм Веды язык история речь праджня |
Сегодня закладывается основа победы. Смотрите, с чем боретесь. Доброго дня вам!)) |

Главная комбинация
Земля-огонь - "Сжигание". Приносит страдание. В этот период создаются условия для военных действий, нанесения поражения врагам, раздоров, скандалов.
Большая комбинация
21 "Нектар". Приносит гибель врагов.

Особая комбинация
Сегодня нет особых комбинаций.
Лунное созвездие
(20) Имеет великий элемент "земля". В этот день хорошо давать наставления по учению, слушать их, строить дом на новом месте, становиться друзьями на основе клятвы, кроить одежду, возводить объекты поклонения, исполнять обряд невесты, похоронный обряд по усопшему совершать перекочевку, обшивать дом. Воспрещается выносить вещи из дома на сторону, отправляться в дорогу.
День недели
Воскресенье - день Солнца. Проявляет свою силу днем, на убывающей Луне и если Солнце находится в созвездии Льва.
Благоприятно: возводить на трон, строить дворец, заниматься государственными делами, встречаться с высокопоставленными людьми, делать огненные подношения, изготовлять лекарственные составы, делать омовение, посвящение, становиться монахом, сажать деревья, изготовлять оружие, устанавливать очаг, водружать знамя, сеять зерновые, делать ритуал отбрасывания препятствий, родить сына, скакать на лошади, усмирять лошадей и коров, делать ритуал притягивания процветания, устраивать праздники и представления, давать имя Царю, строить дамбу, плотину, изготовлять предметы из золота, кости, дерева или кожи, посещать горный монастырь, ходить в лес, воскуривать благовония, устраивать молебен, обращаться с просьбой к божествам, подавать прошение, делать поклоны и простирания, получать наставления, дарить людям счастье и совершать добродетельные поступки. В этот период создаются условия для воровства и грабежа.
Неблагоприятно: давать клятву, проводить поминки, похороны, выносить тело, освобождать преступников из тюрьмы, говорить грубые слова, заключать мирные соглашения, ставить диагноз, делать кровопускание или прижигание, строить храм, закладывать фундамент, стричь волосы и ногти, шить и надевать новую одежду, играть свадьбу, начинать семейную жизнь, строить городскую стену, подавлять вампиров, пахать поле, копать пруд, колодец или арык, делить землю, сажать цветы, делать ритуал освящения, переезжать на новое место, усмирять быка, устраивать кладовую, расставаться с вещами, ссориться, ругаться или осуждать, отправляться в дорогу, особенно в южном, северном или промежуточном направлении сторон света.
Лунный день
Двадцатый
Этот день хорош для исполнения всех мирских дел, кроме отправления в дорогу.
Животный признак дня
"КРОЛИК"
Благоприятно: работа с домашним скотом, похороны, обращаться с прошением, возводить на трон.
Неблагоприятно: вести военные действия, изготовлять оружие, строить дом, играть свадьбу, копать землю, переносить камни, выкапывать пруд, арык, родник или колодец, праздники, представления, ритуал притягивания процветания, поминки, делить землю, усмирять быка или лошадь, воздвигать стену, дамбу или плотину, кричать, шуметь и устрашать, прилагать усилия в южном направлении, в остальных направлениях - нейтрально.
Парка дня
"КИН"
Благоприятно: обращаться с просьбой к божествам, вставать на путь Учения, ритуал отбрасывания и подавления врагов, усмирять лошадь или быка, обзаводиться семьей, закладывать фундамент дома.
Неблагоприятно: покупать, продавать, продолжительные религиозные песнопения.
Мева дня
"ДВОЙКА ЧЕРНАЯ"
Благоприятно: подношение демонам, "Мамо" (злым женским духам) и Владыке смерти, заниматься магией, подавлять врагов и отбрасывать препятствия.
Неблагоприятно: кричать, плакать, стонать, давать имя, обращаться с просьбой к божествам, проводить свадьбу.
Местоположение Ла
у мужчин: на правом плече и лопатке
у женщин: на левом плече и лопатке
у животных: плечи
Местонахождение Ла нельзя травмировать или подвергать хирургическому воздействию, прижиганию, кровопусканию и т.п.
Защитники Учения
Сегодня "Защитники Учения" движутся с востока на запад. При выполнении любых гневных ритуалов или действий опираться на энергию "Защитников" и следовать по направлению их движения, а подношения делать повернувшись к ним лицом.
Наги
Сегодня "Наги" остаются в своих обителях.
Восемь классов
Сегодня "Восемь классов" появляются на северо-востоке и движутся на юго-запад. Во время выполнения гневных ритуалов нежелательно встречаться с живыми существами "Восьми классов" лицом к лицу.
Дракон
Сегодня в полдень "Дракон" движется с юго-востока на северо-запад. При выполнении гневных или насильственных действий нельзя встречаться лицом к лицу с "Драконом".
Черная демоница Земли
Сегодня в полночь в наш мир в поисках жертвы проникает "Черная демоница земли" - сестра "Дракона". В это время нельзя совершать ни похоронные, ни свадебные ритуалы, нельзя осуществлять чрезмерно жестокие действия - иначе, будешь охвачен гневом, вставшей из-под земли "Черной демоницы". В особенности, необходимо отбросить все действия, связанные с огнем, дымом или углем.
|
|
Что такое привезти помощь на Донбасс |
Пишет  littlehirosima
littlehirosima
Обнаружила, что мошенничество и паразитизм на волонтерстве Донбасса процветает. Развелось масса "фондов" и людей, наживающихся на горе. О чем это я?
Я, Галя Созанчук и другие волонтеры, добровольцы, кто сам собирает - постоянно ездят на Донбасс. Тратят не просто свое время, усилия, нервы. Сейчас попробую хоть отдаленно рассказать, что это такое - поехать помочь. Потом сволочи клепают сайты, вешают свои реквизиты и отчитываются за сборы ТВОИМИ же отчетами. А люди им шлют деньги. У них сотни перепостов и лайков. И все в карман подонкам, мимо Луганска и Донецка. Сложно передать, что такое каждая поездка. О многом не пишу, оставляя за бортом большую часть. Выдаю лишь сухой остаток.
А знаете, что такое, например, пройти границу с 3,5 тоннами еды, лекарств и вещей?
Бывает по полутора суток не можем проехать - стоим у границы. В жутком немом ожидании, что тебя не пропустят. А ведь ты собирал деньги со всей России, да уже и мира. Люди ждут твоих отчетов, люди доверились. Сколько людей ждет твоей помощи.
Ты бегаешь с граммотами, благодарственными письмами, трясешь детскими кашами и памперсами на границе перед лицами таможенников. Ходишь хвостом за начальниками смены, умоляешь его. Рассказываешь про бомбоубежища, подвалы, они тебе только: "не имеем право"
Рыдаешь, захлебываясь в соплях, когда некоторые из них говорят, что ты везешь на продажу - мол, воруешь гумманитарную помощь. А ты уже две ночи не спал. Вот совсем не спал. Руки трясутся. А ведь до самой поездки - неделя мандража - заказ машины, еды, закупка детского питания, координация людей, сбор помощи, погрузка. Каждый день привозят вещи, лекарства. Ты это собираешь. С каждым разговориваешь, объясняешь как проехать. Сумасшедшая логистика. В последний день выясняется, что нужно срочно купить холодильник и отвезти лекарство за 20 000 рублей для неродившегося младенца, и доставить препарат в целости, и иначе у малыша не раскроются легкие.
Многие волонтеры тонны грузов, вручную перетаскивают через границу. Многотонные машины разгружают и на легковушках через границу. Туда и обратно, туда и обратно.
И каждый раз, давишь харизмой, слезами, чем угодно. Нервы, истерики, просьбы, уговоры, заламывание рук, угрозы, повышение голоса.
Очереди, беспрерывные очереди на границе. Всем надо объяснять - ты гумманитарку везешь.
Дорога занимает по двое-трое суток. Спишь по дороге. Машина грузовая, кресла не откидываются. В полусогнутом состоянии похож на зомби. Кофе и энергетики. А после поездок, шея отваливается. Пережила уже две сильнейшие аварии. Рассказывать не буду - пусть останется со мной.
А еще машины по дороге ломаются, и, конечно же, по ночам и в самой дали от населенных пунктов. А еще нельзя глушить машину - иначе холодильник остынет, и лекарство испортится - тогда ребенку не помочь.
Но это действительно мелочи.
Сейчас тихо, но ведь мы ездили и тогда, когда в полях били грады. И куда они бьют - в ночи не понять. Это зона боевых действий.
Мы ездили ночью - в комендантский час, без разрешений, с московскими номерами. По дороге - где дыры в асфальтах от снарядов и не видно ничего, когда дно машины от перегруза проседало настолько, что на кочках искры высекало. Когда едешь, и слышешь грохот от снарядов.
Но и это не так тяжело и страшно.
Самое тяжелое - это развоз. Из одного дома в другой, каждому. Тебе пишут в личку перед этим - срочно помогите этой семье! Они голодают! Ты с ними связываешься, едешь с 20 килограмовой сумкой еды и хозтоваров. А тебе открывает неприятная тетка и барским тоном говорит - оставьте здесь. Ты ей - "нам для отчета нужна фотография тебя, нас и еды, пусти в дом", а она - "нет, оставляйте здесь". Ну то есть просто на порог не пускает.
Тебя словно говном полили. Ты разворачиваешься, и хочешь уйти, а в ответ, тебе поток грязи и обещание нажаловаться.
Меня вообще не воспринимают ни за кого. Так, девочка, которой поручили привезти еду за зарплату. Слишком вид смешной и молодой. Я не бог везть какой гордяк, но знаете, после нескольких суток отсутствия сна, когда тебе говорят: "я на вас пожалуюсь начальству/фонду/руководству, у вас будут проблемы", хочется плюнуть в лицо. Но ты лишь отвечаешь: "я сама все собирала, так что мне и жалуйтесь". А некоторые не верят.
Их не много, но они есть. И очень много забирают сил. Просто пожирают тебя.
Как псих, мотаешься по домам, не всех дома застаешь, фотографируешь, записываешь видео, истории. Ведешь учет.
Находишь людей в других местах. Узнаешь что надо, записываешь, составляешь графики.
Приезжаешь поспать и падаешь. Потому что из тебя выкачали все соки. Ты мертвый. Но тебе утром надо в больницу успеть к Сергею Куценко, надо решить проблему с его больницей, а еще передать иглы и тест-полоски в диабетический центр. И все расфасовать по сумкам, разложить. Забыла - еще на рынок бегом - купить молока, курицы, масла и разложить в пакеты для раздачи. Заскочить к Вике домой, и два часа ее маме доказывать, что если не госпитализировать дочку, то она умрет.
И вот ложишься спать, и слышишь приходы. Где-то приходят снаряды. Из другой комнаты Женя лишь:
- Далеко, спи. В подвал не надо.
И спишь, не переживаешь. Потому что далеко.
Далеко - это километрах в десяти.
Выжат, как лимон. потому что помимо физической нагрузки, на тебя вешается десятки историй. Многие люди очень благодарны. А некоторые ноют и ноют, вытягивают из тебя все жилы.
Приезжаешь домой в Москву. Опустошенный. Начинаешь писать. Пишешь отчеты, заливаешь фотографии. Пишешь, пишешь. Заново проживаешь истории этих людей, только теперь ты их осознаешь, потому что там не до этого было. Бегом, бегом. А потом приходят упыри в комментариях, и тебя поучают жизни. Рассказывают, что ты дурак.
Ты летишь в Москву из Луганска на машине, как бешенный, потому что утренник в садике, и ты должен успеть. Нельзя опоздать.
- Мамочка, ты же придешь? Пожалуйста..
А еще у тебя дома мама, которая не хочет никуда отпускать и каждый раз требует:
- Обещай, что в последний раз.
И ведь знает, что поеду еще. Но каждый раз с надеждой спрашивает. Не спит и вся на нервах.
Недельный отходняк от сумасшедшего ритма.
Параллельно пары или экзамены у студентов.
У меня как-то были занятия сразу после приезда. Мы опоздали, и вышло так, что из-за поездок несколько раз пары отменялись. Пришлось, сразу после 4 часов сна в машине, ехать - читать лекции.
А потом заново отчеты, репортажи, эмоции. Ответы на письма. Убеждать многих, что ты не обманщик, не липовый фонд. Высылать реквизиты. Списываться.
Поверьте, это только отдаленное, что могу рассказать.
Не жалуюсь. Это мой выбор, мое решение. Как и моих коллег-волонтеров.
Но потом раз, и видишь, что какие-то мудаки воруют твои отчеты и фотографии. Размещают их, и собирают деньги. Уже столько раз видела гуляющие по сети свои и фотографии других волонтеров.
Не могу даже передать, что испытываю. Пустота.
С этого дня на все отчеты с Донбасса ставлю вотермарки, хотя всегда этого не понимала. Понимаю - не гарантия.
Одно радует - ваши письма поддержки и желание помочь.
Ваше неравнодушие. Оно помогает осознать, что не все люди сволочи.

Обнаружила, что мошенничество и паразитизм на волонтерстве Донбасса процветает. Развелось масса "фондов" и людей, наживающихся на горе. О чем это я?
Я, Галя Созанчук и другие волонтеры, добровольцы, кто сам собирает - постоянно ездят на Донбасс. Тратят не просто свое время, усилия, нервы. Сейчас попробую хоть отдаленно рассказать, что это такое - поехать помочь. Потом сволочи клепают сайты, вешают свои реквизиты и отчитываются за сборы ТВОИМИ же отчетами. А люди им шлют деньги. У них сотни перепостов и лайков. И все в карман подонкам, мимо Луганска и Донецка. Сложно передать, что такое каждая поездка. О многом не пишу, оставляя за бортом большую часть. Выдаю лишь сухой остаток.
А знаете, что такое, например, пройти границу с 3,5 тоннами еды, лекарств и вещей?
Бывает по полутора суток не можем проехать - стоим у границы. В жутком немом ожидании, что тебя не пропустят. А ведь ты собирал деньги со всей России, да уже и мира. Люди ждут твоих отчетов, люди доверились. Сколько людей ждет твоей помощи.
Ты бегаешь с граммотами, благодарственными письмами, трясешь детскими кашами и памперсами на границе перед лицами таможенников. Ходишь хвостом за начальниками смены, умоляешь его. Рассказываешь про бомбоубежища, подвалы, они тебе только: "не имеем право"
Рыдаешь, захлебываясь в соплях, когда некоторые из них говорят, что ты везешь на продажу - мол, воруешь гумманитарную помощь. А ты уже две ночи не спал. Вот совсем не спал. Руки трясутся. А ведь до самой поездки - неделя мандража - заказ машины, еды, закупка детского питания, координация людей, сбор помощи, погрузка. Каждый день привозят вещи, лекарства. Ты это собираешь. С каждым разговориваешь, объясняешь как проехать. Сумасшедшая логистика. В последний день выясняется, что нужно срочно купить холодильник и отвезти лекарство за 20 000 рублей для неродившегося младенца, и доставить препарат в целости, и иначе у малыша не раскроются легкие.
Многие волонтеры тонны грузов, вручную перетаскивают через границу. Многотонные машины разгружают и на легковушках через границу. Туда и обратно, туда и обратно.
И каждый раз, давишь харизмой, слезами, чем угодно. Нервы, истерики, просьбы, уговоры, заламывание рук, угрозы, повышение голоса.
Очереди, беспрерывные очереди на границе. Всем надо объяснять - ты гумманитарку везешь.
Дорога занимает по двое-трое суток. Спишь по дороге. Машина грузовая, кресла не откидываются. В полусогнутом состоянии похож на зомби. Кофе и энергетики. А после поездок, шея отваливается. Пережила уже две сильнейшие аварии. Рассказывать не буду - пусть останется со мной.
А еще машины по дороге ломаются, и, конечно же, по ночам и в самой дали от населенных пунктов. А еще нельзя глушить машину - иначе холодильник остынет, и лекарство испортится - тогда ребенку не помочь.
Но это действительно мелочи.
Сейчас тихо, но ведь мы ездили и тогда, когда в полях били грады. И куда они бьют - в ночи не понять. Это зона боевых действий.
Мы ездили ночью - в комендантский час, без разрешений, с московскими номерами. По дороге - где дыры в асфальтах от снарядов и не видно ничего, когда дно машины от перегруза проседало настолько, что на кочках искры высекало. Когда едешь, и слышешь грохот от снарядов.
Но и это не так тяжело и страшно.
Самое тяжелое - это развоз. Из одного дома в другой, каждому. Тебе пишут в личку перед этим - срочно помогите этой семье! Они голодают! Ты с ними связываешься, едешь с 20 килограмовой сумкой еды и хозтоваров. А тебе открывает неприятная тетка и барским тоном говорит - оставьте здесь. Ты ей - "нам для отчета нужна фотография тебя, нас и еды, пусти в дом", а она - "нет, оставляйте здесь". Ну то есть просто на порог не пускает.
Тебя словно говном полили. Ты разворачиваешься, и хочешь уйти, а в ответ, тебе поток грязи и обещание нажаловаться.
Меня вообще не воспринимают ни за кого. Так, девочка, которой поручили привезти еду за зарплату. Слишком вид смешной и молодой. Я не бог везть какой гордяк, но знаете, после нескольких суток отсутствия сна, когда тебе говорят: "я на вас пожалуюсь начальству/фонду/руководству, у вас будут проблемы", хочется плюнуть в лицо. Но ты лишь отвечаешь: "я сама все собирала, так что мне и жалуйтесь". А некоторые не верят.
Их не много, но они есть. И очень много забирают сил. Просто пожирают тебя.
Как псих, мотаешься по домам, не всех дома застаешь, фотографируешь, записываешь видео, истории. Ведешь учет.
Находишь людей в других местах. Узнаешь что надо, записываешь, составляешь графики.
Приезжаешь поспать и падаешь. Потому что из тебя выкачали все соки. Ты мертвый. Но тебе утром надо в больницу успеть к Сергею Куценко, надо решить проблему с его больницей, а еще передать иглы и тест-полоски в диабетический центр. И все расфасовать по сумкам, разложить. Забыла - еще на рынок бегом - купить молока, курицы, масла и разложить в пакеты для раздачи. Заскочить к Вике домой, и два часа ее маме доказывать, что если не госпитализировать дочку, то она умрет.
И вот ложишься спать, и слышишь приходы. Где-то приходят снаряды. Из другой комнаты Женя лишь:
- Далеко, спи. В подвал не надо.
И спишь, не переживаешь. Потому что далеко.
Далеко - это километрах в десяти.
Выжат, как лимон. потому что помимо физической нагрузки, на тебя вешается десятки историй. Многие люди очень благодарны. А некоторые ноют и ноют, вытягивают из тебя все жилы.
Приезжаешь домой в Москву. Опустошенный. Начинаешь писать. Пишешь отчеты, заливаешь фотографии. Пишешь, пишешь. Заново проживаешь истории этих людей, только теперь ты их осознаешь, потому что там не до этого было. Бегом, бегом. А потом приходят упыри в комментариях, и тебя поучают жизни. Рассказывают, что ты дурак.
Ты летишь в Москву из Луганска на машине, как бешенный, потому что утренник в садике, и ты должен успеть. Нельзя опоздать.
- Мамочка, ты же придешь? Пожалуйста..
А еще у тебя дома мама, которая не хочет никуда отпускать и каждый раз требует:
- Обещай, что в последний раз.
И ведь знает, что поеду еще. Но каждый раз с надеждой спрашивает. Не спит и вся на нервах.
Недельный отходняк от сумасшедшего ритма.
Параллельно пары или экзамены у студентов.
У меня как-то были занятия сразу после приезда. Мы опоздали, и вышло так, что из-за поездок несколько раз пары отменялись. Пришлось, сразу после 4 часов сна в машине, ехать - читать лекции.
А потом заново отчеты, репортажи, эмоции. Ответы на письма. Убеждать многих, что ты не обманщик, не липовый фонд. Высылать реквизиты. Списываться.
Поверьте, это только отдаленное, что могу рассказать.
Не жалуюсь. Это мой выбор, мое решение. Как и моих коллег-волонтеров.
Но потом раз, и видишь, что какие-то мудаки воруют твои отчеты и фотографии. Размещают их, и собирают деньги. Уже столько раз видела гуляющие по сети свои и фотографии других волонтеров.
Не могу даже передать, что испытываю. Пустота.
С этого дня на все отчеты с Донбасса ставлю вотермарки, хотя всегда этого не понимала. Понимаю - не гарантия.
Одно радует - ваши письма поддержки и желание помочь.
Ваше неравнодушие. Оно помогает осознать, что не все люди сволочи.

|
|
Серчем (подношение чая) Ваджрайогини |

Серчем Ваджрайогини - это хороший способ:
1. Чтобы создать глубокую связь с божеством и его практикой.
2. Для обретения благих заслуг, достаточных, чтобы выполнить кьерим и дзогрим её практики.
3. Чтобы выполнять её священные 11 йог после посвящения.
4. Чтобы создать причины для получения её методов практики в полноте.
5. Чтобы быть защищённым Ваджрайогини в этой жизни и чтобы встретиться с её практикой в будущих жизнях.
6. Создать причины для вхождения в её чистую землю Кхечара после смерти.
7. Создать причины, чтобы принести эти священные учения тем, кто духовно созрел.
8. Создать заслуги для долгой жизни наших учителей, родителей, близких и самих себя.
9. Чтобы быть успешным в выполнении ретрита по практике Ваджрайогини.
10. Чтобы получить сиддхи.
11. Чтобы Ваджрайогини благословила окружающую местность, людей, божеств, сверхъестественных видимых и невидимых существ земли, животных. Хорошо делать этот ритуал для благословения нового офиса, дома, участка земли.
12. Чтобы просить у Ваджрайогини защиты, если мы получаем вред и несчастливые знаки от бесформенных существ, и чтобы она пресекла любые нарушения.
13. Для успеха нашей работы, воплощения идей и успеха предприятий.
14. Благословить ветры, тигле, каналы своего тела для того, чтобы приготовить путь для высших достижений.
15. Просить благословения Йогинь в 24 священных мест, что охраняют святые места Ваджрайогини на этой земле и в наших телах.
16. Чтобы наши занятия всегда встречали благоприятные знамения и предзнаменования. Чтобы иметь твердую преданность учителю, практике и человеческой этике. Чтобы всегда было легко привлечь добродетель. Чтобы земля, правительство и народ были в мире и гармонии.
Предметы, необходимые для ритуала:
Если вы уполномочены в высшей Йога-тантре, то вы используете метод внутреннего подношения для освящения чая перед тем, как предложить его Ваджрайогини. Если нет, тогда троекратного ОМ Ах ХУМ должно быть достаточно, чтобы освятить этот напиток. Этот ритуал подношения чая Ваджрайогини могут делать как те, кто имеет посвящение в методы Ваджрайогини, так и те, кто не имеет. Вы можете использовать любые виды чая - травяные, черные, зеленые чаи и др. Или вы можете использовать безалкогольные напитки, соки и т. д. То, что слово "чай" есть в названии практики не обязательно означает, что вы должны использовать фактически только чай.
Как делается ритуал:
1. Прибежище и зарождение мысли бодхи.
2. Созерцание 4-х Безмерных.
3. 8 строф преобразования мысли.
4. Текст подношения.
5. Вы можете подливать чай в сосуд для подношения с каждой строкой, когда вы читаете “я предлагаю”, а можете налить чай/жидкость в последней строке ”я предлагаю”, наполняя сосуд до краёв. Или просто заполните чаем сосуд до краев с самого начала и читайте текст подношения. В любом случае это приемлемо.
6. После окончания, простой посвящение заслуг в меру своих знаний - это хорошо. Если вы инициированы в тантру Ваджрайогини, тогда вы можете декламировать стих для восходящих в чистую землю Кхечари, а затем посвящать заслуги.
7. Вы можете сделать эту священную практику кратко и легко в любом месте и в любое время.
8. Вы можете читать ритуал на родном языке.
Я разместил этот текст серчема Ваджрайогини для тех, у кого есть большая заслуга интересоваться этим божеством и кто хочет приобщиться к её практике, но не получил ещё посвящения. Это шанс, чтобы создавать связь с божеством буквально ежедневно.
ОМ АХ ХУМ
Вы визуализируете себя как Ваджрайогини в её мандале или её - в небе перед собой, если не имеете посвящения. Её окружает всеохватывающее собрание гуру-божеств.
В сосуде прекрасной формы, наполненном эссенциями
драгоценных небесных веществ,
этот обширный напиток, прекрасный на вкус,
красновато-желтого цвета, с запахом камфоры,
Я предлагаю Собранию Трёх Корней
и линии преемственности гуру.
Пожалуйста, благословите мои Трое Врат!
Предлагаю этот серчем собранию мощных матерей-йогинь.
Пожалуйста, отведите меня в чистую землю Кхечари!
Я предлагаю этот серчем собранию мирных и гневных божеств.
Пожалуйста, даруйте все высшие и общие (мирские - прим.) сиддхи!
Я предлагаю этот серчем объектам Прибежища -
Трём редким и возвышенным Драгоценностям.
Пожалуйста, защитите меня от страшных врагов
сансары и нирваны.
Я предлагаю этот серчем Собранию дакини и защитников Дхармы.
Прошу проявить все виды активностей
Для достижения всех наших целей!
Я предлагаю этот серчем Собранию Сангхи,
братьям и сестрам, всем существам шести лок.
Пожалуйста, усмирите страдания в моей голове,
Которые есть плод простых видимостей!
Проявлясь как йидам в пустоте
И наслаждаясь едой со вкусом нектара,
Мой ум вступает в сферу великого блаженства и пустоты.
Э МА ХО! Как в высшей степени удачлив я!
Э МА ХО! Как удивительно!
Колофон: Этот текст подношения серчема Ваджрайогини был написан Нгулчу Дхармабхадрой.
САРВА МАНГАЛАМ!
|
Метки: ритуалы Ваджрайогини ваджраяна |
Пушкин. Язык и материал |
Пушкин – только язык. В прозе у него не было своей темы. Он не знал жизни, у него не было настоящего материала. У Лермонтова этот материал был: служба в действующей кавказской армии, да еще рядовым, он этот материал знал с самого низу, с самой земли, самый настоящий. И вообще: главное – материал плюс талант. Есть материал, знаешь его, любишь – делай из него, что хочешь: реализм, фантастику, кубизм, что угодно. Нет материала – все будет неживое, надуманное, высосанное из пальца, пустой идеализм, а вернее – ничего, пустота.
Опять же о материале. Бывали анекдотические случаи. Бабель, например, чувствовал в себе могучую литературную силу, а материала нет. И пошел за материалом в конницу Буденного. «Конармия», конечно, его лучшая книга. Одесскую блатную жизнь он тоже хорошо знал, и эти рассказы хороши. Вот две его темы.
А Пушкин был в тупике: язык могучий, а материала для него нет, то есть своего, выстраданного, кровного, изнутри.
Так называемые гении – это пожиратели всего вокруг себя, великие пожиратели. Это особая природная потребность, активность ощущений: читать, слышать, видеть, осязать всё интересное, что попадается в сферу притяжения, абсолютно всё. Гигантский насос. И преображение всего этого материала в своих формах. Гигантские трансформаторы. Колоссальность знания. У художника – знания художественного, образного. Эта потребность пожирать всё яркое, всё интересное вокруг себя и трансформировать – непреднамеренна, органична. Такого уж выродка создала природа. Или такого Человека. Иначе он просто жить не может. Ему надо постоянно что-то поглощать. Это гигантская топка. Пушкин съел весь ХVIII и XIX век, всех своих современников и предшественников, и создал свою вселенную, в которой всё им поглощенное существует в усиленном и трансформированном виде. Уж лучше читать такого пожирателя-гиганта, чем всю мелочь, им поглощенную.
"Прогулки с Соснорой"
Опять же о материале. Бывали анекдотические случаи. Бабель, например, чувствовал в себе могучую литературную силу, а материала нет. И пошел за материалом в конницу Буденного. «Конармия», конечно, его лучшая книга. Одесскую блатную жизнь он тоже хорошо знал, и эти рассказы хороши. Вот две его темы.
А Пушкин был в тупике: язык могучий, а материала для него нет, то есть своего, выстраданного, кровного, изнутри.
Так называемые гении – это пожиратели всего вокруг себя, великие пожиратели. Это особая природная потребность, активность ощущений: читать, слышать, видеть, осязать всё интересное, что попадается в сферу притяжения, абсолютно всё. Гигантский насос. И преображение всего этого материала в своих формах. Гигантские трансформаторы. Колоссальность знания. У художника – знания художественного, образного. Эта потребность пожирать всё яркое, всё интересное вокруг себя и трансформировать – непреднамеренна, органична. Такого уж выродка создала природа. Или такого Человека. Иначе он просто жить не может. Ему надо постоянно что-то поглощать. Это гигантская топка. Пушкин съел весь ХVIII и XIX век, всех своих современников и предшественников, и создал свою вселенную, в которой всё им поглощенное существует в усиленном и трансформированном виде. Уж лучше читать такого пожирателя-гиганта, чем всю мелочь, им поглощенную.
"Прогулки с Соснорой"
|
|
О ведическом контексте биджи Манджушри Дхи |
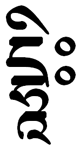
Важнейшее буддийское понятие дхъяна имеет непосредственную связь с ригведийским dhi (мысль, представление, взгляд; понятие; интуиция, познание, разум; знание, искусство, молитва; представлять себе, размышлять). Дхи (видение), которым одаряли боги слагателей ведийских гимнов - риши, служило для них источником вдохновения. Этот термин является ключевым для понимания механизма «диалога» людей и богов в ведийском ритуале.
Согласно широко распространенной точке зрения, традиционное обозначение ведийского канона шрути («слышанное») истолковывается как божественное «откровение», услышанное и затем воспроизведенное певцом во время совершения ритуала. Но, как подчеркивает В. С. Семенцов, такое понимание слова шрути в контексте ведийской культуры основано на недоразумении. Дело в том, что в «Ригведе» «боги вообще ничего не говорят людям, субъектом глагола «слышать» (шру) в Ригведе оказывается божество, а не человек» [Семенцов, 1981, с. 16].
Для того чтобы получить ответ от богов, следовало обратиться к так называемому «чикитвас», что означает одновременно «умный» и «видящий». Сферу божественного можно было увидеть особым «умственным взором», а затем уже «увиденное» истолковать на обычном языке. Вот для обозначения такого «умственного видения» и применялись термины: дхи, дхьяна, дхишана. Для овладения подобными способностями требовались особые данные и специальная подготовка. Очевидно, «умственное видение» и нормальное зрение находились в некотором антагонизме. Хорошо видящим все подробности житейского быта, «привязанным своим зрением к ним», не дано проникать за границы этих видимых форм. В то же время внимание сосредоточенных на поиске высших истин обычно отвлекается от подробностей окружающей суеты. Оказывается, что обычные органы чувств несут «привязывающую к земле» информацию, и потому «вредоносную» для тех, кто стремится в небесные сферы. Контроль за органами чувств приобретал очень важное значение в психофизической подготовке совершенствующего, что в полной мере перешло из ведийской культуры в буддийскую дхьяну [Конзе, 1993, с. 47-55]).
Но дхи, дхьяна в «Ригведе» - не просто «посылаемые богами сообщения». Это также, что важно отметить, активный способ воздействия в божественной «бесформенной» сфере, с помощью этой способности, «силы» можно не только что-то «увидеть», но и «создать». В «Гимне к Рибху» «Ригведы» говорится о «прозорливцах, что создали легкоходную неопрокидывающуюся колесницу с помощью видения, (исходящего) из сердца (manasas pari dhyaya» (4, 36, 2). Интересно отметить, что Саяна, наиболее авторитетный комментатор «Ригведы» в ведантистской традиции, в одном из толкований слова dhisa («вдохновение») фактически приравнивает значения терминов dhisana и prajna [Елизаренкова, 1989, с. 654].
И, наконец, вспомним, что дхи, дхишана, дхьяна оказываются едва ли не главным средством для достижения солнечного «пути богов». В этом они противопоставляются другим, более обычным средствам, которые приводят на лунный «путь предков».
А.Донец
|
|
Июнь - месяц словесного грохота, обмана и роста температуры отношений |
16 июня - новолуние в Близнецах, знаке информации, общения, переговоров, перемещений, на звезде Альхека, символизирующей рог Тельца. Телец прет напролом, он может быть весьма агрессивным. Как говорится, "носорог плохо видит, но при его весе это не его проблема". Это полнолуние в соединении с Марсом, агрессивной, активной планетой. Марс - воин и работник, наступает более активное, более конфликтное и бескомпромиссное время. Алголь в мае разбудил страсти, а Альхека высвободит их. В общем, это откровенно "военное" сочетание, так что со второй половины июня внешне- и внутриполитическая температура в мире будет расти. Будут не только открытые военные действия, но активизируются и идеологические противостояния. Такое услышим! Война компроматов, вбросы, слухи, угрозы, обвинения, поигрывание "идеологическими мускулами". Панические или агрессивные настроения. Множество переговоров на повышенных тонах. Июнь напомнит яркие вспышки за полосой тумана. Будут продолжены информационные игры, будут ловить кошек в темных комнатах, будут сотрясения воздуха и хлопанья окон Овертона.
Однако более серьезные открытые очаги напряжения, как и новые колебания курсов валют, будут в ИЮЛЕ (напряженные аспекты Марс-Плутон и Марс-Уран, снова сработает главная пружина событий последних лет - квадратура Уран-Плутон), будут обострения во многих сферах, и в военной, и в финансовой, и в идеологической. Еще раз: ИЮНЬ - больше слов, хотя и очень горячих. А в ИЮЛЕ - больше дел, хотя не обо всех узнаем сразу.
С 19 мая по 12 июня Меркурий ретрограден, он движется назад, в это время можно разгребать старые завалы, редактировать документы и статьи, анализировать, медитировать о прошлом и ностальгировать. Возвращаются старые знакомые, старые дела, время подчищать хвосты и отдавать долги. Что-то серьезное начинать в этот период не стоит - скорее всего, выйдет не то, либо вообще все заглохнет.
С 12 июня Меркурий как бы пойдет в светлое будущее, вперед, но на самом деле - к напряженному взаимодействию с планетой иллюзий - Нептуном, что и произойдет 23 июня. До 23 июня все в тумане, много лжи сверху, непонятно, что деется на самом деле. Ну и мы знаем, кто водится в тихом омуте. Лишь в последнюю декаду июня что-то прояснится. До 23 июня заключать важные договора и заполнять важные документы, делать хирургические операции без необходимости, покупать что-то крупное, особенно связанное с информацией, компьютерами, точностью, не рекомендуется. Хотя покупают все равно. В этот период возможны проблемы с испытанием новых устройств (не рекомендуется!), с навигацией, с работой точной техники, с вниманием, с пониманием. Помните, что в каждом споре, как гласит народная мудрость, один лопух, а другой - нехороший человек, редиска. Вероятно возвращение прежних ситуаций, людей, а новые вряд ли задержатся надолго. Начало обучения, работы - под большим сомнением. Сдача экзаменов может быть затруднена, результаты анализов - перепутаны. Чего только мы не услышим и не увидим! Но верить всему не стоит. Будет много мошенничества. Проверяйте свои финансовые дела, свои счета в банке, свои денежки на различных картах, просто на телефонах, не верьте паническим призывам о помощи, приходящим с неизвестных номеров. Скорее всего, это обман. Ну и очередные МММ могут появиться. В общем, будет Большая Деза. И многие будут окучены.
А идеалистам будет хотеться начать что-то БОЛЬШОЕ. Не поддавайтесь! Только после 23 июня.
Попадание под власть обмана и иллюзий может особенно коснуться некоторых людей, а каких -- можно определить астрологически. Цена ошибки может быть велика (например, у биржевых игроков или доверчивых людей). Воздержавшись от несвоевременных действий, Вы сбережете время, деньги и нервы.
Основная задача - сохранить вменяемость. Не верьте слухам, провокациям, мошенничеству, красивому обману, завлекательным сказкам, фантастическим перспективам. Можете фантазировать сами сколько угодно, рассказывайте детям увлекательные истории, устраивайте театр, снимайте кино, езжайте в интересные места, молитесь, медитируйте. Помогите обездоленным и несчастным (адресно!). Но всегда будьте собой, будьте собранным, энергичным, трезво смотрите на вещи, отвергайте манипуляции, не слушайте разных дудочников-крысоловов.
Сказанное особенно касается тех, у кого что-то важное (светила, МС, Асцендент, Меркурий, ось финансовых домов - астролог это видит сразу же!) - находится в первых 10 градусах мутабельных знаков (Близнецы-Дева-Стрелец-Рыбы).
Зато с 23 июня Меркурий, свободный от напряжений, будет делать только хорошие аспекты, можно будет и покупать, что хочешь, и экзамены сдавать, и знакомиться, особенно в конце месяца, когда два благодетеля - Венера и Юпитер - будут двигаться к яркому и праздничному соединению 1 июля во Льве. Великолепный день! Радость, счастье, любовь и прибыль у бутиков, ресторанов, стадионов и концертных залов, кинотеатров. День Большого Шоу. Посмотрим, какое оно будет. Дай-то Бог!
Однако более серьезные открытые очаги напряжения, как и новые колебания курсов валют, будут в ИЮЛЕ (напряженные аспекты Марс-Плутон и Марс-Уран, снова сработает главная пружина событий последних лет - квадратура Уран-Плутон), будут обострения во многих сферах, и в военной, и в финансовой, и в идеологической. Еще раз: ИЮНЬ - больше слов, хотя и очень горячих. А в ИЮЛЕ - больше дел, хотя не обо всех узнаем сразу.
С 19 мая по 12 июня Меркурий ретрограден, он движется назад, в это время можно разгребать старые завалы, редактировать документы и статьи, анализировать, медитировать о прошлом и ностальгировать. Возвращаются старые знакомые, старые дела, время подчищать хвосты и отдавать долги. Что-то серьезное начинать в этот период не стоит - скорее всего, выйдет не то, либо вообще все заглохнет.
С 12 июня Меркурий как бы пойдет в светлое будущее, вперед, но на самом деле - к напряженному взаимодействию с планетой иллюзий - Нептуном, что и произойдет 23 июня. До 23 июня все в тумане, много лжи сверху, непонятно, что деется на самом деле. Ну и мы знаем, кто водится в тихом омуте. Лишь в последнюю декаду июня что-то прояснится. До 23 июня заключать важные договора и заполнять важные документы, делать хирургические операции без необходимости, покупать что-то крупное, особенно связанное с информацией, компьютерами, точностью, не рекомендуется. Хотя покупают все равно. В этот период возможны проблемы с испытанием новых устройств (не рекомендуется!), с навигацией, с работой точной техники, с вниманием, с пониманием. Помните, что в каждом споре, как гласит народная мудрость, один лопух, а другой - нехороший человек, редиска. Вероятно возвращение прежних ситуаций, людей, а новые вряд ли задержатся надолго. Начало обучения, работы - под большим сомнением. Сдача экзаменов может быть затруднена, результаты анализов - перепутаны. Чего только мы не услышим и не увидим! Но верить всему не стоит. Будет много мошенничества. Проверяйте свои финансовые дела, свои счета в банке, свои денежки на различных картах, просто на телефонах, не верьте паническим призывам о помощи, приходящим с неизвестных номеров. Скорее всего, это обман. Ну и очередные МММ могут появиться. В общем, будет Большая Деза. И многие будут окучены.
А идеалистам будет хотеться начать что-то БОЛЬШОЕ. Не поддавайтесь! Только после 23 июня.
Попадание под власть обмана и иллюзий может особенно коснуться некоторых людей, а каких -- можно определить астрологически. Цена ошибки может быть велика (например, у биржевых игроков или доверчивых людей). Воздержавшись от несвоевременных действий, Вы сбережете время, деньги и нервы.
Основная задача - сохранить вменяемость. Не верьте слухам, провокациям, мошенничеству, красивому обману, завлекательным сказкам, фантастическим перспективам. Можете фантазировать сами сколько угодно, рассказывайте детям увлекательные истории, устраивайте театр, снимайте кино, езжайте в интересные места, молитесь, медитируйте. Помогите обездоленным и несчастным (адресно!). Но всегда будьте собой, будьте собранным, энергичным, трезво смотрите на вещи, отвергайте манипуляции, не слушайте разных дудочников-крысоловов.
Сказанное особенно касается тех, у кого что-то важное (светила, МС, Асцендент, Меркурий, ось финансовых домов - астролог это видит сразу же!) - находится в первых 10 градусах мутабельных знаков (Близнецы-Дева-Стрелец-Рыбы).
Зато с 23 июня Меркурий, свободный от напряжений, будет делать только хорошие аспекты, можно будет и покупать, что хочешь, и экзамены сдавать, и знакомиться, особенно в конце месяца, когда два благодетеля - Венера и Юпитер - будут двигаться к яркому и праздничному соединению 1 июля во Льве. Великолепный день! Радость, счастье, любовь и прибыль у бутиков, ресторанов, стадионов и концертных залов, кинотеатров. День Большого Шоу. Посмотрим, какое оно будет. Дай-то Бог!
|
|
Поклонение ступам в контексте истории ведийских народов |

Обратим внимание на термин шарира, который в буддийских текстах обычно используется в значениях "безжизненное тело", "мощи", чаще всего "мощи Будды". После паринирваны Будды его тело было кремировано, а прах разделен между магадхским раджей Аджаташатру и семью представителями разных племен, заявивших свои права на то, чтобы останки Сиддхартхи Гаутамы покоились на их территории. В отношении к мощам Будды в ранний период распространения буддизма, безусловно, имело значение его кшатрийское происхождение. Захоронения вождей практически везде служили источником как сакральной силы, так и (благодаря этому) самым важным "подтверждением" легитимности власти. Момент "освящения" власти царя, благодаря сохранению на его территории святых мощей великого подвижника, несомненно, присутствует в "Маха париниббана сутте", описавшей события, последовавшие после паринирваны Будды. В ланкийской "Махавамсе", "Записках о буддийских странах" Фа Сяня, других буддийских хрониках можно найти много упоминаний о возложении царем на свою голову мощей Будды. Очевидно, первоначально культ мощей Будды был не более, чем одним из обрядов в общей системе культа предков и использовался царями для подтверждения своих притязаний на обладание определенной территорией. Именно так можно интерпретировать строительство Ашокой, а вследза ним и другим царями, многочисленных ступ.
Учение Будды не было связано узкими рамками каких-то локальных традиций, поэтому почитание его мощей могло приобрести универсальный характер. Первым это понял и использовал в своих целях Ашока. Если первые восемь ступ были построены в местах, связанных с наиболее важными событиями в жизни Учителя, и носили мемориальный характер, то создание "84 тысяч" ступ Ашоки определялось полностью целями его политики дхарма-виджаи - "завоевания с помощью дхармы".
Строительство ступ (с точки зрения центрального правительства) способствовало решению двух задач: распространению влияния царской власти и расширению территории государства, а также распространению влияния буддизма как универсальной государственной идеологии. Вместе с тем в почитании ступ, чайтий не было ничего специфически буддийского. Этот обычай был весьма распространен в древней Индии, и множество поклоняющихся мощам святого садху наверняка не знали, да и не интересовались, что же он конкретно совершил. Такое положение шло вразрез с духом и смыслом самого буддийского учения и не могло не беспокоить его последователей. Не случайно Махадева, основатель Чайтики, одной из 18 школ раннего буддизма, первым провозгласивший культ ступы и культ мощей Учителя, был объявлен еретиком как Стхавиравадинами, так и Махасангхиками. Последователи Махадевы первыми стали поклоняться Будде
и Бодхисаттвам, разработали учение о заслуге (пунье), которая может приобретаться в результате сделанного дара и способна быть передана другим существам.
Отголоски скептицизма в отношении культа поклонения ступе и противопоставление ему заслуги подлинного овладения сутью Учения Будды особенно часто встречаются в праджняпарамитских сутрах. В ранней Махаяне, прежде всего в Праджняпарамите, разрабатываются понятия рупа-шарира и дхарма-шарира, и если под первым разумелись телесные останки, мощи, то под вторым понимались тексты книг, причем имелись в виду не любые канонические тексты, а как считает Мялль, именно свод праджняпарамитских сутр.
В Праджняпарамите приобретению заслуг с помощью даров, приносимых ступе, противопоставляется заслуга, приобретаемая переписыванием книг (т. е. Праджняпарамиты). Строительству ступ и их почитанию, т. е. почитанию рупа-шариры, противопоставляется переписывание текстов Праджняпарамиты, т. е. почитание дхарма-шариры. Заслуга переписывания Праджняпарамиты приравнивается к заслуге приближения к тем, "кто обладает десятью силами, к духовным руководителям". В число "десяти сил Будды" входит и vikurvanabala, или "сила трансформации", которая объединяет понятия "тело Дхармы" и "тело формы".
Тем, кто разрабатывал учение Праджняпарамиты, и их последователям - мадхьямикам, удалось объединить в одной концепции два принципиально различных механизма приобщения к традиционной сакральности: 1) через соблюдение обрядов почитания предков и 2) обретение особого сакрального знания - праджни, которое в определенной степени обесценивает все обряды, но в то же время и заменяет их. Эта концепция известна как концепция трех тел Будды, хотя изначально тел было только два, а впоследствии их стало четыре.
Дж. Туччи полагает, что в нагарджуновом тексте "Чатух-става", объединяющем четыре гимна Будде, как раз и излагается концепция четырех тел Будды, хотя Нагарджуна дает каждому из них имя, "отличающееся от обычных" [Tucci, 1932, р. 311]. Гимны, вошедшие в "Чатух-става", носят следующие названия: "Локатита-става" (Гимн Ушедшему из мира), [Умершему для мира], "Наираупамья-става" (Гимн Несравненному), "Ачинтья-става" (Гимн Непостижимому) и "Парамартха-става" (Гимн Высшей Истине). Очевидно, рупа-кае здесь соответствует тело, названное Нагарджуной локатита, а дхармакае - парамартха.
Если предположение Туччи верно, то напрашивается параллель между двумя телами Будды и двумя истинами: самврити-сатьи (которая определяется как лока-вьявахара, т. е. "относящееся к условному, относительному, принятому в мире") и парамартха-сатьи, занимающих очень важную место среди главных доктрин Мадхьямики, в учении Нагарджуны, в частности.
Помимо четырех уже упомянутых гимнов, Нагарджуне приписывается авторство еще трех: "Читта-ваджра-става", "Стутьятита-става" и "Дхармадхату-става". В последнем гимне дхармадхату отождествляется с татхагата-дхату, что также равносильно татхагата-гарбхе. Если учесть, что слово "дхату" изначально означало "мощи", а татхагата-дхату-гарбха в третьей главе "Аштасахасрики" употребляется в значении ступа, то становится ясна "укорененность" философии Махаяны, причем не только Мадхьямики, но и Виджнянавады, в древних слоях символики ведийской и доведийской обрядности. Знаменательно, что гимны Нагарджуны предназначались для ежедневного трехразового чтения перед ступой.
Во многих ведийских текстах смысл исполнения ритуала заключался в отождествлении жертвы со всем миром и с самим собой, с основными психофизиологическими функциями. В буддизме дхармы-элементы также отождествляются прежде всего с психофизиологическими функциями, причем их способность к связыванию в некое единое целое является причиной вовлеченности в круговорот бытия, а осознание их истинной сути - путем выхода за его пределы. Так же, как в "Брихадараньяке", осознание подлинной сути жертвоприношения (= Дхарме) приводило на "путь богов".
"Герменевтика буддизма" (коллектив авторов)
|
Метки: ступа буддизм воззрение история |
Самый древний в мире флаг |
Взято у  sajjadi
sajjadi
На территории был Ирана был обнаружен, предположительно, самый древний из физически сохранившихся штандартов/флагов.
Но прежде стоит упомянуть об одном из первых флагов Ирана – пусть и не дошедшем до наших дней. Это так называемое «Кавиево знамя» («Дирафши Кавияни»). О его происхождении мы можем судить лишь по легендам – позднее их искусно отобразил Фирдоуси в «Шахнаме».
По версии «Шахнаме» в те далекие годы иранскими землями правил узурпатор и тиран Заххак. Миф говорит о том, что сам Иблис поцеловал Заххака в оба плеча – и оттуда выросли две змеи. Чтобы удовлетворить их голод, Заххак ежедневно призывал к себе двух юношей – сыновей своих подданных – и скармливал их змеям.
Храбрец и силач, кузнец Каве, как и другие иранцы, долго терпел тирана, которому пожертвовал множество своих сыновей. Но, в конце концов, не выдержал и поднял восстание. Знаменем восставших стал кожаный фартук кузнеца, который он прикрепил к древку копья. Именно с помощью Каве на трон Ирана в итоге взошел законный правитель страны – Ферейдун.

В дальнейшем Кавиево знамя было украшено звездой, драгоценными камнями и лентами. Достоверно известно, что оно служило официальным флагом Ирана при вполне реальных династиях Аршакидов (250 г. до н. э. – 224 г. н. э.) и Сасанидов (224 - 651 гг.). Великолепное и очень дорогое знамя было утрачено в годы арабского завоевания.
А в семидесятых годах ученые начали раскопки в окрестностях города Шехдад, неподалеку от Кермана (юго-восточный Иран). Посреди раскаленной пустыни Даште-Лут был обнаружен целый древний город, существовавший в этих местах в начале III тысячелетия до н. э. Поначалу его назвали «городом лилипутов»: высота стен, длина улиц и т. п., по мнению археологов, говорили о том, что средний рост населявших город людей был значительно меньше привычного нам. Было обнаружено мумифицированное тело, предположительно 17-летнего юноши, ростом 25 см. Впрочем, позднее данная гипотеза была опровергнута: новые исследования показали, что стены разрушились и опустились, а улицы сузились в результате воздействия стихий за прошедшие тысячелетия. Найденное тело принадлежало младенцу. Однако версия о «городе лилипутов» остается популярной и поныне – ведь люди всегда жаждут необычного.
Еще одна тайна города: некогда жители покинули его все разом, предварительно спрятав ценности в домах и приняв меры, чтобы защитить здания от ветров и ливней. Вероятно, они рассчитывали вернуться обратно. Существует гипотеза о том, что покинуть город их вынудила длительная засуха, из-за чего скот пришлось уводить далеко отсюда, да и самим искать новые источники воды. Однако и по завершении засухи жители города назад не вернулись...

Именно там, в окрестностях Шехдада, в 1971 г., и был найден металлический штандарт – вероятно, древнейший на Земле. Металлическая пластина (толщиной 2 мм) вставлена в раму из металла (толщиной 4,5 мм) и с помощью двух подвижных металлических крюков удерживается на метровом стержне, увенчанном фигуркой орла. Размер самого флага: 22 х 24 см. Пластина покрыта искусной резьбой. В центре восседает богиня дождя, за ее спиной стоит женщина. Справа, чуть ниже изображены еще три женщины и сад в виде прямоугольника с двумя пальмами. Слева, также чуть ниже – еще одна пальма. Фигуры женщин от богини отделяет узор в виде цветка с несколькими лепестками – символ солнца. Нижнюю часть пластины украшают фигуры двух львов, между которыми изображена корова с длинными рогами. Все рисунки окружены витым орнаментом – он представляет собой воды реки.

 sajjadi
sajjadi На территории был Ирана был обнаружен, предположительно, самый древний из физически сохранившихся штандартов/флагов.
Но прежде стоит упомянуть об одном из первых флагов Ирана – пусть и не дошедшем до наших дней. Это так называемое «Кавиево знамя» («Дирафши Кавияни»). О его происхождении мы можем судить лишь по легендам – позднее их искусно отобразил Фирдоуси в «Шахнаме».
По версии «Шахнаме» в те далекие годы иранскими землями правил узурпатор и тиран Заххак. Миф говорит о том, что сам Иблис поцеловал Заххака в оба плеча – и оттуда выросли две змеи. Чтобы удовлетворить их голод, Заххак ежедневно призывал к себе двух юношей – сыновей своих подданных – и скармливал их змеям.
Храбрец и силач, кузнец Каве, как и другие иранцы, долго терпел тирана, которому пожертвовал множество своих сыновей. Но, в конце концов, не выдержал и поднял восстание. Знаменем восставших стал кожаный фартук кузнеца, который он прикрепил к древку копья. Именно с помощью Каве на трон Ирана в итоге взошел законный правитель страны – Ферейдун.

В дальнейшем Кавиево знамя было украшено звездой, драгоценными камнями и лентами. Достоверно известно, что оно служило официальным флагом Ирана при вполне реальных династиях Аршакидов (250 г. до н. э. – 224 г. н. э.) и Сасанидов (224 - 651 гг.). Великолепное и очень дорогое знамя было утрачено в годы арабского завоевания.
А в семидесятых годах ученые начали раскопки в окрестностях города Шехдад, неподалеку от Кермана (юго-восточный Иран). Посреди раскаленной пустыни Даште-Лут был обнаружен целый древний город, существовавший в этих местах в начале III тысячелетия до н. э. Поначалу его назвали «городом лилипутов»: высота стен, длина улиц и т. п., по мнению археологов, говорили о том, что средний рост населявших город людей был значительно меньше привычного нам. Было обнаружено мумифицированное тело, предположительно 17-летнего юноши, ростом 25 см. Впрочем, позднее данная гипотеза была опровергнута: новые исследования показали, что стены разрушились и опустились, а улицы сузились в результате воздействия стихий за прошедшие тысячелетия. Найденное тело принадлежало младенцу. Однако версия о «городе лилипутов» остается популярной и поныне – ведь люди всегда жаждут необычного.
Еще одна тайна города: некогда жители покинули его все разом, предварительно спрятав ценности в домах и приняв меры, чтобы защитить здания от ветров и ливней. Вероятно, они рассчитывали вернуться обратно. Существует гипотеза о том, что покинуть город их вынудила длительная засуха, из-за чего скот пришлось уводить далеко отсюда, да и самим искать новые источники воды. Однако и по завершении засухи жители города назад не вернулись...

Именно там, в окрестностях Шехдада, в 1971 г., и был найден металлический штандарт – вероятно, древнейший на Земле. Металлическая пластина (толщиной 2 мм) вставлена в раму из металла (толщиной 4,5 мм) и с помощью двух подвижных металлических крюков удерживается на метровом стержне, увенчанном фигуркой орла. Размер самого флага: 22 х 24 см. Пластина покрыта искусной резьбой. В центре восседает богиня дождя, за ее спиной стоит женщина. Справа, чуть ниже изображены еще три женщины и сад в виде прямоугольника с двумя пальмами. Слева, также чуть ниже – еще одна пальма. Фигуры женщин от богини отделяет узор в виде цветка с несколькими лепестками – символ солнца. Нижнюю часть пластины украшают фигуры двух львов, между которыми изображена корова с длинными рогами. Все рисунки окружены витым орнаментом – он представляет собой воды реки.

|
|
На ДР поэта... |
"Писать свои Memoires заманчиво и приятно, - так судит Пушкин, пишущий мемуары. - Никого так не любишь, никого так не знаешь, как самого себя. Предмет неистощимый. Но трудно. Не лгать - можно; быть искренним - невозможность физическая. Перо иногда остановится, как с разбега перед пропастью - на том, что посторонний прочел бы равнодушно".
Неистощимость предмета - основа всё новым интересам, любопытству и некой усталости (при говореньи многих почти одновременно). Вот диалектика для взглядов на Пушкина и собственное пониманье.
Заканчивая письмо, Пушкин говорит: "Презирать - braver - суд людей не трудно; презирать суд собственный невозможно". И Вересаев говорит: "...презрение к суду людей, по мысли Пушкина, не совмещалось с высшим взглядом на жизненный путь и на свое предназначение".
И в то же время иногда просто давит весь пафос речи Достоевского и речи Блока. Усталость. Как будто стало не хватать не слов о Пушкине, а самого его. Вдруг солнце времени встало прямо над головой его, и Пушкин не отбрасывает тени. Ни на кого. И это воспринимается как неучастье в нас)).
Неистощимость предмета - основа всё новым интересам, любопытству и некой усталости (при говореньи многих почти одновременно). Вот диалектика для взглядов на Пушкина и собственное пониманье.
Заканчивая письмо, Пушкин говорит: "Презирать - braver - суд людей не трудно; презирать суд собственный невозможно". И Вересаев говорит: "...презрение к суду людей, по мысли Пушкина, не совмещалось с высшим взглядом на жизненный путь и на свое предназначение".
И в то же время иногда просто давит весь пафос речи Достоевского и речи Блока. Усталость. Как будто стало не хватать не слов о Пушкине, а самого его. Вдруг солнце времени встало прямо над головой его, и Пушкин не отбрасывает тени. Ни на кого. И это воспринимается как неучастье в нас)).
|
|
ТРАКТАТ О СЕРДЦЕ, ЗВУКЕ И ЗНАКЕ |

Знак неизъясним до конца, так как не самосущен, взаимопроявлен со всем остальным и в этом смысле является частью всего. За знаком стоят пять элементов. Во всех Пяти Великих Элементах есть шумы и звуки. Элементы - это сущность звуков, а шумы - их применение. Например, тело существа бардо подобно ветру. Хочешь управлять этим - нужно владеть звуком и шумом Ветра. Они взаимны. Научись узнавать в окружающем внутренний звук и, не прерываясь в узнавании, доходить до звучания знака Дхармакайи. Причины всегда идут вперед явлений, но всегда стоят за ними.
В соответствии с “Махавайрочана-сутрой”, установлены следующие цвета для пяти Великих Элементов: первый — желтый для земли, второй — белый для воды, третий — красный для огня, четвертый — черный для ветра, пятый — синий для неба. Названия цветов Пяти Великих Элементов — проявления. Если окончание проявления погружает сознание в сон, это именуется “цветом”. Сказанное в “Махавайрочана-сутре”: “Сердце не сине, не желто, не красно, не бело, не ало, не фиолетово, не очищено - как вода, а также не ясно”, — подразумевает, что сознание не есть проявление. Оно не имеет отношения к проявлениям, формам, выражениям. Сердце нельзя узнать путём создания карм. Но истинный путь узнавания своего сердца всё равно сопровождается созданием карм. Но не навсегда.
Пробуждение сердца при вхождении в мудрость за пределами всего никак не соотносится с потерей и обретением первоэлементов и их последствиями - стабилизацией или разрушением объектов.
Пробуждённое сердце беспредельно, а в беспредельном невозможен избыток. И потому пробуждённое сердце не имеет разделения ни с чем - ни с первоэлементами, ни с объектами, ни с их ранее предрасположенными зёрнами. И ложь не избыток, придя из безначальности. Это просто возможность.
У объектов есть рамки присущности. Это разделение есть основа формы знака. Его сущность, звук, и проявление, шум, не отделены от сердца, но оно не соотнесено ни с чем. То есть для сердца всё доступно без малейшего изъятья, сердце - недоступно для любых видов усилий извне. Именно поэтому мудрые, постигнув сущность причины и следствия, не отбрасывают и не принимают их и могут совершать деяния ради любого мира.
Принося пользу себе, живя сами для других, они полностью удовлетворены. По этой причине сказано:“просветляют”.
Формы внешних и внутренних объектов подчинены звуку, а звук взаимен со своим шумом. Взаимность эта различна для рассмотрения движения от звука к шуму и снаружи - внутрь, от шума к звуку. Здесь нет одинаковых полномочий, иначе мир не смог бы существовать ни как внутренне-внешнее, ни существовать вообще. Несимметричность путей - принцип проявления, его ритмичность - основа круговорота и в то же время опора для возможности самообмана (как будто мир симметричен) и погружения в сон. Если бы сон о состоянии мира был истиной, мир не смог бы существовать. Он не двинулся бы ни на миг. Поэтому всё изначально пробуждено, что можно понять по движению. Поэтому речь идёт о пробуждении сердца.
Поэтому в каждой пылинке любого мира присутствует Будда. Это не образ-уловка, это так, потому что мир пробуждён, поскольку неостановим. Тайна присутствия Будд находится в сердце, ни с чем не соотнесённом, но имеющим доступ к изнанке вещей, с той стороны, где каждая вещь раскрыта, поскольку в основе - движение, звук. И потому, когда соберутся причины второго и первого ряда, пробуждение сердца возможно с криком лебедя, ворона, селезня и мандаринки. С ароматом цветов, изгибом деревьев или касанием ветра.
Дхармакайя открыта, и любая произведённость одновременно есть путь к постиженью Истока. Это и есть Всеведенье Будд, а, поскольку есть Равностность Будд, всё доступно для пробуждённого сердца.
САРВА МАНГАЛАМ!
|
Метки: сердце бодхичитта мыслить мировоззрение буддизм махабхуты наблюдение мироздание тантра дхармата ваджраяна |
День молодости и силы! Доброе утро!)) |
Главная комбинация
Земля-вода - "Юность". Порождает радость. Благоприятно наряжаться, надевать новую одежду, украшения, устраивать танцы, игры, развлечения, праздники, отмечать важные события, вступать в новую должность.
Большая комбинация
24 "Взбешённый тигр". Приносит молодость, здоровье и Cилу.

Особая комбинация
"Безупречный день": Благоприятны действия, направленные на умиротворение, развитие и проявление силы, гневные действия неблагоприятны.
"Сжигающая комбинация": Нельзя делать кровопускания и прижигания.
"Двойная комбинация": Благоприятны действия, направленные на умиротворение, развитие и проявление силы, гневные действия неблагоприятны.
Лунное созвездие
(19) Имеет великий элемент "вода". В этот день хорошо исполнять обряды для долголетия и умножения достатка, становиться друзьями на основе клятвы, торговать, отправляться в дорогу. Отказывайтесь от вынесения из дома вещей, исполнения похоронного обряда по усопшему, привода невестки в дом.
День недели
Суббота - день Сатурна. Проявляет свою силу ночью, на убывающей Луне и если Сатурн находится в созвездии Водолея или Козерога.
Благоприятно: выполнять ритуал продления жизни и притягивания процветания, устанавливать очаг, брать скот и имущество, вести военные действия, строить крепость, работать в поле, сажать цветы и деревья, выполнять работу связанную с металлом, выкапывать пруд или колодец, делить землю, подавлять вампиров, водружать знамя, давать имя замку или местности, ходить к женщине, изготовлять оружие, откармливать пса, заниматься астрологией, сеять. В этот период создаются условия для захвата дома и сокровищницы, воровства, грабежа и совершения "черных" дел.
Неблагоприятно: становиться монахом, делать ритуал освящения, нарушать закон, совершать безнравственные поступки, собирать совет и проводить совещания, шить и надевать новую одежду, заниматься ремеслами, стричь ногти и волосы, мыться, делать кровопускание и прижигание, изготовлять лекарственные составы, заниматься торговлей, делать ритуал отбрасывания препятствий, пахать, жениться, отдавать скот или имущество, садиться в тюрьму, выполнять похоронные ритуалы, переезжать на новое место, играть в азартные игры, строить храм, устанавливать опоры для Тела, Речи и Ума Будды, продавать дом или землю, скакать на лошади, устраивать праздники и представления, заключать мирное соглашение, обращаться с просьбой к божествам, надевать украшения, захватывать трон, оказывать почести Царю и делать подношения, заниматься государственными делами, выносить приговор, ссориться с врагом, нанимать рабочих или прислугу, совершать действия направленные на дальнейшее развитие, отправляться в дорогу, особенно в восточном, западном или промежуточном направлении сторон света.
Лунный день
Девятнадцатый
Хорошо в этот день находиться в дороге, читать книги по дхарме. В этот день нехорошо принимать невестку в дом, совершать похоронный обряд по усопшему, продавать скот.
Животный признак дня
"ТИГР"
Благоприятно: ритуал освещения, огненное подношение, ритуал притягивания процветания, огненный ритуал "Хом", строить дом, башню, устанавливать купол, вести военные действия, устрашать, наносить поражение врагу, изготавливать оружие, подавлять врагов, возводить на трон, прилагать усилия в восточном и западном направлении, на север - средне.
Парка дня
"КХАМ"
Благоприятно: делать подношение "Нагам" и божествам, вызывать дождь или град, изготовлять железные изделия, ритуал отбрасывания препятствий.
Неблагоприятно: переплывать через большую воду, переходить вброд реку, копать пруд или арык, ловить рыбу, давать клятву или обещание, идти в наступление, усмирять "Савдаков" (духов-хозяев местности) и "Ненов".
Мева дня
"ЕДИНИЦА БЕЛАЯ"
Благоприятно: омовение, подношение, обращение с просьбой к богам и Нагам.
Неблагоприятно: впервые ставить младенца на ноги или выносить его из дома.
Местоположение Ла
у мужчин: на правом предплечье
у женщин: на левом предплечье
у животных: в затылке
Местонахождение Ла нельзя травмировать или подвергать хирургическому воздействию, прижиганию, кровопусканию и т.п.
Защитники Учения
Сегодня "Защитники Учения" движутся с северо-запада на юго-восток. При выполнении любых гневных ритуалов или действий опираться на энергию "Защитников" и следовать по направлению их движения, а подношения делать повернувшись к ним лицом.
Наги
Сегодня "Наги" выходят из своих мест обитания (родников, озер, деревьев, долин и т.п.) в наш мир. Это время благоприятно для подношения "Нагам", ритуалов вызывания дождя и других мирных ритуалов, связанных с "Нагами".
Восемь классов
Сегодня "Восемь классов" появляются на востоке и движутся на запад. Во время выполнения гневных ритуалов нежелательно встречаться с живыми существами "Восьми классов" лицом к лицу.
Дракон
Сегодня до полудня "Дракон" движется с юга на север. При выполнении гневных или насильственных действий нельзя встречаться лицом к лицу с "Драконом".
Черная демоница Земли
Сегодня в поздние сумерки в наш мир в поисках жертвы проникает "Черная демоница земли" - сестра "Дракона". В это время нельзя совершать ни похоронные, ни свадебные ритуалы, нельзя осуществлять чрезмерно жестокие действия - иначе, будешь охвачен гневом, вставшей из-под земли "Черной демоницы". В особенности, необходимо отбросить все действия, связанные с огнем, дымом или углем.
|
|
Изучая "Драгоценные качества Праджняпарамиты"... |

Бодхисаттва, который осуществлял Праджняпарамиту
Во время служения Учителю в прошлой жизни, не сомневается в Наставниках.
Он, едва услышав голос Учителя, снова будет относиться к нему, как к Учителю.
Он легко постигнет покой Просветления.
Но не уверовавший в Праджняпарамиту Победителей,
Услышав о ней, отбросит ее; он малоумный.
Отбросив, он, лишенный спасения, отправится в ад Авичи.
Чистоту всякой формы следует знать как чистоту плода;
Чистота плода и формы становится чистым всеведением, так говорится;
Чистота всеведения, плода и формы,
Подобно элементу пространства, нераздельны.
Этот мир связан именем и формой,
Он вертится, подобно колесу ветряной мельницы.
Постигнув вращенье мира, будто силки для диких животных,
Мудрые скитаются, подобно птицам в небе.
Йогин, следующий высшей Праджняпарамите,
Не видит ни увеличения формы, ни уменьшения.
Дхарму и адхарму он видит как Дхармадхату,
Он не достигает Нирваны, он пребывает в Праджне.
Тот, кто следует этому, не думает ни об учениях Будды,
Ни о пути к силе и особым способностям,
И он не думает о Просветлении и покое.
Он, не думающий, непоколебимо следует Праджне.
САРВА МАНГАЛАМ!
|
|
Выстрел в небо)) |
Иронический характер наших формулировок по отношению к духовным путям выдаёт следы нашей обиды)). Нас недооценили. Наше развитие лишь послужило большей замкнутости. Дело даже не всегда в том, что есть сейчас. Следы обиды дают себя знать и через тысячу лет. Обозлённость - другая сторона ожиданий. Но нам никто не должен за то, что мы такие или иные. Ещё глубже в причинах - мы считаем себя ценными для мира. Нам даже может быть трудно признать, что мы так думаем, как не придёт в голову персонажам кино, что они всё своё время бегают, любят и убивают на белом экране. Но именно самоощущение себя как в чём-то ценного смертельно сужает нашу жизнь. Мы сослепу не подозреваем, что вся наша ценность - как затычка в плотине. И мы как ковш в бочке - всегда плавает, окружённый вином, но вкуса его не знает.
|
|
Эржбета вдохновенно разразилась про гуру |
Вот, скажем, гуру. Гуру у человека всегда один. Это лиц у него может быть много, скажем, сотня, как у Марпы-переводчика, или всего одно, но это, в общем, не имеет особенного значения. Учитель - это человек, у него есть какое-то мнение, он принадлежит к какой-то определённой вере или школе. Гуру - это космос, он глубоко запределен каким бы то ни было школам. Это невыразимое чудо, которое нам предстаёт в образе людей. Или, скажем, книг. Или вовсе неодушевлённых предметов. Просто нам удобнее иметь дело с человеком. Поэтому мы в основном видим его в образе человека.
Раньше у меня вызывало большое недоумение, когда в комментариях пишут, что в бардо явится гуру и позовёт тебя твоим тайным именем, по которому ты его распознаешь. Я думаю: как же он явится, если он, к примеру, ещё не умер? И как он упомнит все тайные имена, которые раздал за годы работы, и часть из которых вообще не видел? Теперь я понимаю, что является не человек, является тайна, просто мы её видим в том образе, к которому привыкли. Человеку не обязательно помнить или даже знать имя; тайна его знает.
Учитель может лажать, может не врубаться, гуру не ошибается никогда. Если учитель ошибся, значит он должен был ошибиться; или так не надо было, и тогда его ошибку исправит какое-то другое проявление тайны. Так мы приходим к тому, что доверяем и учительским ошибкам тоже. Мы чтим учителей не как самого царя, а как посланцев царя. Писец мог ошибиться, гонец мог потерять половину послания, но мы в любом случае чтим их обоих ради царя, который стоит за ними и лица которого мы не видим.
Это об учительской скромности. Если иногда нам удаётся творить чудеса, то в этом нет нашей заслуги. Это значит, что человеку удобно было увидеть невыразимое чудо именно в нашем образе, и оно пришло для него через нас. Лучшее, что мы можем делать в этой ситуации - не мешать происходящему и помнить о том, что мы только форма, созданная смотрящим, для чего-то, что гораздо больше нас. Можно назвать себя чьим-то учителем, но как называть себя чьим-то гуру?
Тайне не нужен ритуал, она приходит легко и беспрепятственно, это нам нужен ритуал, если мы не можем поверить в чудо, происходящее без ритуала. Тайна знает нас лучше, чем мы сами себя знаем, и поэтому она никогда не ждёт от нас невозможного. Так мы приходим к тому, чтобы доверять себе, своим ошибкам, своим неудачам. К тому, что если мы не сумели чего-то, значит и должны были не суметь.
Человек может умереть, уехать в другую страну, с человеком можно поссориться, тайна всегда остаётся рядом. Это что-то более близкое нам, чем вода и воздух. Это что-то, о чём даже не знаешь, как говорить. Это что-то, что невозможно не узнать, когда видишь это воочию. Когда у тебя есть это, ты можешь приходить и уходить куда захочешь и когда захочешь, продолжая непрерывно пребывать в тайне. Когда у тебя нет этого, ты играешь в это и выдумываешь это, но выдумываешь ограниченным и тесным. Тайна не может быть тесной, потому что она само пространство. Как ты можешь сковать себя космосом?
 kata_rasen
kata_rasen
Раньше у меня вызывало большое недоумение, когда в комментариях пишут, что в бардо явится гуру и позовёт тебя твоим тайным именем, по которому ты его распознаешь. Я думаю: как же он явится, если он, к примеру, ещё не умер? И как он упомнит все тайные имена, которые раздал за годы работы, и часть из которых вообще не видел? Теперь я понимаю, что является не человек, является тайна, просто мы её видим в том образе, к которому привыкли. Человеку не обязательно помнить или даже знать имя; тайна его знает.
Учитель может лажать, может не врубаться, гуру не ошибается никогда. Если учитель ошибся, значит он должен был ошибиться; или так не надо было, и тогда его ошибку исправит какое-то другое проявление тайны. Так мы приходим к тому, что доверяем и учительским ошибкам тоже. Мы чтим учителей не как самого царя, а как посланцев царя. Писец мог ошибиться, гонец мог потерять половину послания, но мы в любом случае чтим их обоих ради царя, который стоит за ними и лица которого мы не видим.
Это об учительской скромности. Если иногда нам удаётся творить чудеса, то в этом нет нашей заслуги. Это значит, что человеку удобно было увидеть невыразимое чудо именно в нашем образе, и оно пришло для него через нас. Лучшее, что мы можем делать в этой ситуации - не мешать происходящему и помнить о том, что мы только форма, созданная смотрящим, для чего-то, что гораздо больше нас. Можно назвать себя чьим-то учителем, но как называть себя чьим-то гуру?
Тайне не нужен ритуал, она приходит легко и беспрепятственно, это нам нужен ритуал, если мы не можем поверить в чудо, происходящее без ритуала. Тайна знает нас лучше, чем мы сами себя знаем, и поэтому она никогда не ждёт от нас невозможного. Так мы приходим к тому, чтобы доверять себе, своим ошибкам, своим неудачам. К тому, что если мы не сумели чего-то, значит и должны были не суметь.
Человек может умереть, уехать в другую страну, с человеком можно поссориться, тайна всегда остаётся рядом. Это что-то более близкое нам, чем вода и воздух. Это что-то, о чём даже не знаешь, как говорить. Это что-то, что невозможно не узнать, когда видишь это воочию. Когда у тебя есть это, ты можешь приходить и уходить куда захочешь и когда захочешь, продолжая непрерывно пребывать в тайне. Когда у тебя нет этого, ты играешь в это и выдумываешь это, но выдумываешь ограниченным и тесным. Тайна не может быть тесной, потому что она само пространство. Как ты можешь сковать себя космосом?
 kata_rasen
kata_rasen
|
|
О роли английского воспитания. Из истории одного переворота в Тибете |

Тринадцатый Далай-лама умер 17 декабря 1933 года после очень непродолжительной болезни. Эта смерть была такой непредвиденной, что вызвала страшное потрясение в Лхасе и по всей стране. Больше того, его смерть сопровождалась некоторыми дурными знаками. Атмосфера мрачного предчувствия и предвестия нависла над городом. Ходили слухи, что мертвый далай-лама чудесным образом воскрес на несколько часов; потом стали говорить, что дроньер ченпо (великий камердинер) совершил самоубийство, проглотив растолченное в порошок стекло, так как чувствовал себя ответственным за то, что не предвидел болезни Далай-ламы. Между тем, пока люди прятались в домах или собирались в храмах на молитву, среди нескольких человек, которым принадлежали совместные бразды правления, началась ожесточенная борьба за верховную власть. Одна партия, состоящая из группы монахов при поддержке некоторых мирян, советовала кашагу (правительству - прим.) назначить премьер-министром Кумпхел-ла, который несколько лет был любимцем покойного далай-ламы. Кумпхел-ла, молодой монах двадцати восьми лет, имел много последователей среди монахов младшего поколения и был известен как человек открытый, честный, хотя и вспыльчивый.
Однако этому плану сильно противилась вторая партия, чьего вождя, мирянина, звали Лунгшар. Дордже Цегьял Лунгшар, родившийся в 1880 году, отправился в Англию в 1913 году вместе с тремя тибетскими мальчиками, которым Чарльз Белл хотел дать западное образование. После его возвращения в Тибет он сделал блестящую карьеру, а в 1925 году сменил Царонга Дзасу в качестве главнокомандующего. Лунгшар первым из всех попытался осудить Кумпхел-ла на смерть за отравление далай-ламы. Ему не удалось доказать обвинение, но удалось отправить того в ссылку и посадить в тюрьму нескольких его сторонников.
Теоретически власть находилась в руках молодого регента, тулку монастыря Ретинг, и кашага, но Лунгшару удалось очень скоро занять главенствующее положение. Будучи умным человеком, который кое-что знал о западном мире, прожив год в Англии, он, вероятно, имел слишком революционные на монашеский вкус идеи и вскоре нажил много врагов. Его усилия в основном были направлены на укрепление цонгду, и он полагался на поддержку настоятелей трех великих монастырей Сера, Депунг и Галден, что позволило бы ему справиться с религиозной партией. Возможно, он представлял себе, что цонгду может стать своего рода парламентом; как бы то ни было, он попытался использовать его как инструмент против совета министров. Члены совета под руководством пожилого шапе Тимона, естественно, стали его смертельными врагами.
Очень скоро по Лхасе поползли слухи, что Лунгшар хочет установить какую-то совершенно незаконную форму власти и даже что он хочет свергнуть власть лам и сделаться царем Тибета или основать республику. Каковы были его настоящие цели, неизвестно. Может быть, он хотел ввести олигархическое правление, осуществляемое через главные фигуры Национального собрания, пока он будет тянуть ниточки за сценой. Если бы это ему удалось, он остался бы верен древним восточным обычаям и, может быть, этим бы и удовлетворился. Ясно одно, что он был тибетским националистом (что в каком-то смысле было новшеством). Он неоднократно показывал это твердостью своей позиции в отношении Чан Кайши и Китая.
Несколько месяцев в начале 1934 года казалось, что Лунгшар быстро идет в гору. Он постоянно старался укрепить цонгду за счет кашага. Но, может быть, он переоценил свое влияние в Национальном собрании, и 10 мая 1934 года, когда он представил серию предложений по укреплению позицию своих сторонников, цонгду сначала поддержал, а потом отверг их. Шапе Тимон увидел, что настал благоприятный момент, и организовал контратаку. От имени совета министров он пригласил Лунгшара в Поталу для беседы. Лунгшар отправился в Поталу с небольшой вооруженной охраной, но был тут же арестован и обвинен в попытке свергнуть правительство и установить большевистский режим.
В этот момент истории мы внезапно возвращаемся из XX века в Средневековье. В потасовке, пытаясь разоружить Лунгшара, с него сорвали сапог, и оттуда на землю полетело несколько листков бумаги. Лунгшар на миг вырвался на свободу, схватил один листок и проглотил его, но противники успели подобрать остальные. На листках были написаны имена шапе Тимона и других членов правительства. Это была черная магия. По мнению тибетцев, попирать ногами имя врага – это один из самых отвратительных, но эффективных способов причинить ему вред. Открытие стало роковым для Лунгшара; все его сторонники покинули его, услышав об этом. Шапе Тимон и совет начал репрессии. Последовало множество арестов, и Лунгшара приговорили к страшному наказанию; ему выкололи глаза и бросили в темную, сырую тюрьму в подвале Поталы. Несмотря на жуткие условия, крепкое здоровье позволило ему продержаться несколько лет. Его выпустили в 1938 году, но вскоре после этого он умер.
Самое трагическое в истории то, что человек, рисковавший жизнью ради модернизации Тибета, в конечном итоге погубил себя из-за архаичной веры в черную магию. Странные и сложные противоречия возникают в уме человека, разрывающегося между двумя цивилизациями. Мы часто думаем, что изменить взгляды человека на жизнь так же просто, как дать ему велосипед вместо осла, но трудно сделать более грубую ошибку. Можно ввозить мощные машины и выигрывать гонки, как принц Бира, открывать неизвестные бациллы, как Китасато, новые атомные секреты, как Юкава, или новые свойства света, как Раман, принадлежа к миру, совершенно не похожему на наш. Изменение фундаментального мировоззрения человека означает изменение внутреннего мира, которое личными корнями уходит в раннее детство, а общественными корнями – на тысячи лет в прошлое. Традиция в самом широком смысле – это гигантская, тайная и непреодолимая сила; она окрашивает, хотя мы редко это сознаем, все наши мысли, чувства, приязни и неприязни, и все наши решения и поступки. Личность, вырванная из духовной почвы цивилизации, в которой она родилась, очень похож на человека, потерпевшего кораблекрушение. Из того малого, что мы знаем о Лунгшаре, можно сказать, что он был трагическим примером одного из тех миллионов человек, которые были частично, но не целиком вырваны из своей почвы и не смогли пустить новые корни.
В результате этих перипетий, как часто бывает в таких случаях, власть получило осторожное, бесцветное правительство, которое год за годом сохраняло тщательное равновесие между китайским и британским влиянием. В последнее время на политической сцене не появлялось никаких значительных фигур. Молодой регент Тхубтен Джампел Йеше Гьялцен (родившийся в 1911 году), тулку монастыря Ретинг, несколько лет имел значительное влияние в прогрессивном смысле. Но он сталкивался с постоянной и упрямой оппозицией старших поколений и настоятелей нескольких великих монастырей. На него оказывали такое сильное давление, что в конце концов он был вынужден уйти в отставку. Его сменил пожилой реакционер Такта Ринпоче. В 1947 году был раскрыт заговор против нового регента, и вскоре настоятель Ретинга умер при невыясненных обстоятельствах. После этого Тибет разделился на партии сторонников и правителей Ретинга, и последовало настоящее кровопролитие. Монахи монастыря Сера, верные памяти настоятеля Ретинга, хотели идти походом на Лхасу. Правительству пришлось взять монастырь в настоящую осаду, чтобы восстановить порядок. Сера обстреляли из пулеметов и в конце концов подвергли артиллерийскому обстрелу.
Фоско Марайни
|
|