-Метки
sol invictus Деметра Зодиак агатодемон алконост алфей амон анджети анубис апис аполлон артемида атаргатис афина ахелой ба баст бес бог большая медведица бримо бык велес венок оправдания виктория гарпократ геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герма гермес герои гигиея гор горгона греция двуглавый орёл дедал дельфиний дионис египет жезл жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар кадуцей кастор кербер керы лабиринт лабранды лабрис лары латона лев лето маат маахес мелькарт менады меркурий метемпсихоз мистерии митра мозаика наос немесида ника нумерология нумизматика оргии орфей орфики осирис офоис пан пасха персей персефона посох поэтика пруденция птах ра рим русалки сатир серапис сет сехмет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневековая астрономия тирс титаны тифон туту уннефер упуаут фиала фивы фракия хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс христианство черная мадонна эвмениды эгида эпагомены эридан этимология этруски юпитер
-Поиск по дневнику
-Постоянные читатели
Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider Абап Амари_Тиа_Айя Геркен Добра_Желаю ЖрицаАтлантиды И_2017900 Ириния Лана_77 Мелнир Нателла_Климанова Ноэли Рельгона Соккар Эллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый
-Статистика
ПАЛЕТКА НАРМЕРА |
А.И. Кудрявец
ПАЛЕТКА НАРМЕРА

Палетка Нармера, ок. 3000г. до н.э. Каирский музей.
Палетка Нармера важна тем, что в среде египтологов считается свидетельством объединения двух царств, когда Верхний Египет, якобы, покорил Нижний. Вот что о ней пишут:
Рассмотрим ее поближе, чтобы удостовериться в правоте ученых.
Наверху аверса и реверса изображен серех (srḫ) — геральдический знак с видом дворца фараона, в этот знак обычно вписывается хорово имя, и в данном случае оно выглядит так:
Читается как Нар-мер (Nr-mr), где Nr — «сом», mr — «свирепый».
Вверху, с обеих сторон, изображены головы с рогами. Считается, что это — богиня Бат, которая позже, несколько изменив образ, превратилась в Хатхор. В этом плане представляет интерес прообраз обеих. Голова, с загнутыми во внутрь рогами, явно позаимствована у африканского буйвола:


У Хатхор другие рога: сначала они как бы охватывают шар, а потом расходятся в стороны. Поиски прообраза привели к африканской породе коров ватусси:


Теперь перейдем к реверсу (изображение слева), представляющему наибольший интерес. В центре композиции расположен Нармер, в правой руке у него булава, которой он замахнулся, чтобы убить пленника, удерживаемого за волосы. Сзади фараона стоит слуга, держащий фараоновы сандалии. Все говорит о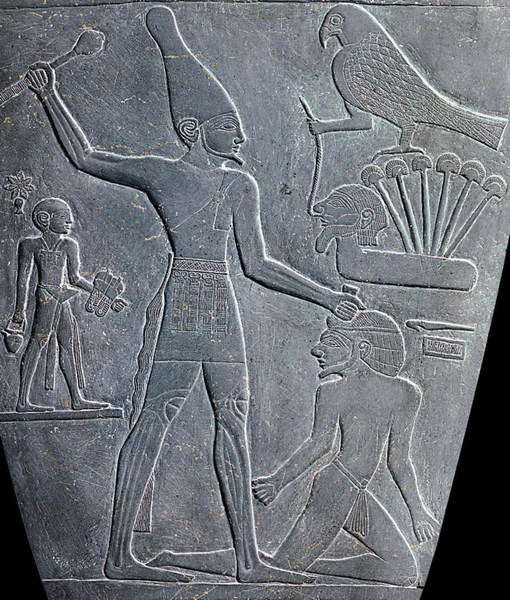 сакральном ритуале, совершаемом фараоном без обуви. Отметим ещё то обстоятельство, что фараон надел белую корону хеджет (ḥḏt), означающую обретение им статуса бога Осириса, который, согласно «Книге мертвых», играет главную роль в центральном акте эсхатологических представлений египтян, т.е. вершит суд, носящий название «Суд Осириса». На этом суде следующим символом обозначалось присутствие судьбы подсудимого — Шаи (записано иероглифами):
сакральном ритуале, совершаемом фараоном без обуви. Отметим ещё то обстоятельство, что фараон надел белую корону хеджет (ḥḏt), означающую обретение им статуса бога Осириса, который, согласно «Книге мертвых», играет главную роль в центральном акте эсхатологических представлений египтян, т.е. вершит суд, носящий название «Суд Осириса». На этом суде следующим символом обозначалось присутствие судьбы подсудимого — Шаи (записано иероглифами):
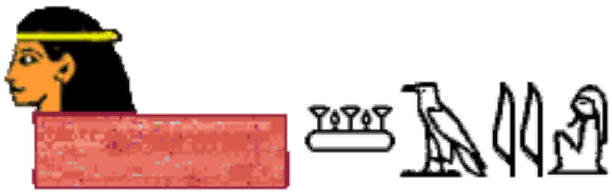
Нетрудно догадаться, что голова Шаи — это голова подсудимого. То же самое мы видим на палетке Нармера перед фараоном. Причем сама символика Шаи использует написание иероглифа M8 (по Гардинеру): , читается «ша».
, читается «ша».
А что же делает бог Хор, изображенный в виде сокола с крюком? Он рвёт ноздри Шаи, предопределяя таким образом незавидную участь пленника в загробном мире. Ведь, согласно представлениям египтян, через ноздри люди вдыхают жизнь. Именно этим объясняется уничтожение носов не только у древних статуй, но и у изображений людей — их таким образом лишали вечной жизни и возможности посещать земной мир в виде коварных духов. Мы выяснили, что центральная тема реверса — это суд Осириса, который вершит фараон Нармер, убивая не только самого пленника, но и наказывая его посмертную судьбу, представленную в образе Шаи.
Возникает вопрос о провинности пленника. Ответ дает надпись из двух иероглифов за его головой, обозначающих водоем, а также багор. Последний — это орудие рыболовов, используемое для поимки сомов. Но ведь имя «Нармер» и означает сома, из чего следует, что сом был тотемом фараона, поэтому за поимку сомов следовала смертная казнь.
В нижнем регистре изображены двое бегущих мужчин, со страхом оглядывающихся в сторону, откуда идет фараон. Очевидно, что это — ловцы сомов, устрашённые приближением фараона, для которого сом —священное животное.
Далее рассмотрим верхний регистр аверса. Слева мы видим фараона, за которым следует слуга, несущий царские сандалии. Это снова говорит о ритуале, совершаемом без обуви. Фараон идентифицирован своим именем (напротив лица) и теперь на нем красная корона дешрет (dšrt), дающая статус земного правителя. Перед фараоном идёт сановник по имени Чет, далее четыре человека несут штандарты номов, на которые, судя по всему, и распространялась власть фараона. Вся процессия направляется к 10 обезглавленным телам. Для их идентификации резчик изобразил сверху большую лодку, над которой летит Хор, держащий в лапах багор. То есть очевидно, что в данной сцене отражена участь 10 рыбаков, находившихся в лодке и занимавшихся ловлей сомов. Присутствие непонятных символов рядом с лодкой в виде какой-то створки и птицы не мешает общему восприятию: аверс, как и реверс, иллюстрирует неотвратимость наказания за ловлю священных сомов в виде казни провинившихся.

В среднем регистре аверса две львицы с длинными шеями образуют круглое углубление для растирания красок. Необычный художественный приём, видимо, следует более раннему канону, но никакой смысловой нагрузки не несёт.
Нижний регистр снова посвящен карам, постигшим врагов фараона: он их попрал, приняв образ быка (свидетельством этому является, изображенный на палетке, атрибут фараона — бычий хвост, прикрепленный сзади к набедренной повязке), а также разрушил стены их домов.
Сделанный нами анализ палетки Нармера в корне противоречит надуманным утверждениям о якобы ее свидетельстве в пользу захвата царем Верхнего Египта территории Нижнего. В действительности она всего лишь предупреждает о наказании за непочтительное отношение к сомам и, в особенности, за их ловлю баграми. Источником заблуждения служит неверная интерпретация корон египетского фараона хеджет и дешрет,¹ а также ошибочное представление о Верхнем и Нижнем Египте.
_______________________________
[1] Кудрявец А.В. Символическое значение египетских царских корон дешрет и хеджет.
_______________________________
ПАЛЕТКА НАРМЕРА

Палетка Нармера, ок. 3000г. до н.э. Каирский музей.
Палетка Нармера важна тем, что в среде египтологов считается свидетельством объединения двух царств, когда Верхний Египет, якобы, покорил Нижний. Вот что о ней пишут:
Палетка Нармера — алевролитовая пластина культового назначения, которая использовалась для ритуального растирания красок. Датируется концом IV тыс. до н. э. На обеих сторонах палетки имеются рельефные изображения фараона Нармера. Палетка Нармера исполнена в виде победной стелы и повествует о триумфальной победе Верхнего Египта над Нижним. Это подарок царя Первой или Нулевой династии Иераконпольскому храму, который увековечивал его победу над мятежными ливийскими номами в Западной дельте Нила.
Рассмотрим ее поближе, чтобы удостовериться в правоте ученых.

Наверху аверса и реверса изображен серех (srḫ) — геральдический знак с видом дворца фараона, в этот знак обычно вписывается хорово имя, и в данном случае оно выглядит так:
Читается как Нар-мер (Nr-mr), где Nr — «сом», mr — «свирепый».
Вверху, с обеих сторон, изображены головы с рогами. Считается, что это — богиня Бат, которая позже, несколько изменив образ, превратилась в Хатхор. В этом плане представляет интерес прообраз обеих. Голова, с загнутыми во внутрь рогами, явно позаимствована у африканского буйвола:


У Хатхор другие рога: сначала они как бы охватывают шар, а потом расходятся в стороны. Поиски прообраза привели к африканской породе коров ватусси:


Теперь перейдем к реверсу (изображение слева), представляющему наибольший интерес. В центре композиции расположен Нармер, в правой руке у него булава, которой он замахнулся, чтобы убить пленника, удерживаемого за волосы. Сзади фараона стоит слуга, держащий фараоновы сандалии. Все говорит о
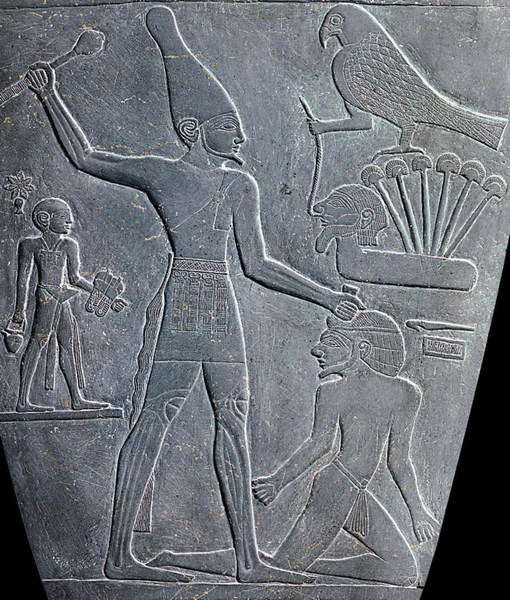 сакральном ритуале, совершаемом фараоном без обуви. Отметим ещё то обстоятельство, что фараон надел белую корону хеджет (ḥḏt), означающую обретение им статуса бога Осириса, который, согласно «Книге мертвых», играет главную роль в центральном акте эсхатологических представлений египтян, т.е. вершит суд, носящий название «Суд Осириса». На этом суде следующим символом обозначалось присутствие судьбы подсудимого — Шаи (записано иероглифами):
сакральном ритуале, совершаемом фараоном без обуви. Отметим ещё то обстоятельство, что фараон надел белую корону хеджет (ḥḏt), означающую обретение им статуса бога Осириса, который, согласно «Книге мертвых», играет главную роль в центральном акте эсхатологических представлений египтян, т.е. вершит суд, носящий название «Суд Осириса». На этом суде следующим символом обозначалось присутствие судьбы подсудимого — Шаи (записано иероглифами):Нетрудно догадаться, что голова Шаи — это голова подсудимого. То же самое мы видим на палетке Нармера перед фараоном. Причем сама символика Шаи использует написание иероглифа M8 (по Гардинеру):
А что же делает бог Хор, изображенный в виде сокола с крюком? Он рвёт ноздри Шаи, предопределяя таким образом незавидную участь пленника в загробном мире. Ведь, согласно представлениям египтян, через ноздри люди вдыхают жизнь. Именно этим объясняется уничтожение носов не только у древних статуй, но и у изображений людей — их таким образом лишали вечной жизни и возможности посещать земной мир в виде коварных духов. Мы выяснили, что центральная тема реверса — это суд Осириса, который вершит фараон Нармер, убивая не только самого пленника, но и наказывая его посмертную судьбу, представленную в образе Шаи.
Возникает вопрос о провинности пленника. Ответ дает надпись из двух иероглифов за его головой, обозначающих водоем, а также багор. Последний — это орудие рыболовов, используемое для поимки сомов. Но ведь имя «Нармер» и означает сома, из чего следует, что сом был тотемом фараона, поэтому за поимку сомов следовала смертная казнь.
В нижнем регистре изображены двое бегущих мужчин, со страхом оглядывающихся в сторону, откуда идет фараон. Очевидно, что это — ловцы сомов, устрашённые приближением фараона, для которого сом —священное животное.
Далее рассмотрим верхний регистр аверса. Слева мы видим фараона, за которым следует слуга, несущий царские сандалии. Это снова говорит о ритуале, совершаемом без обуви. Фараон идентифицирован своим именем (напротив лица) и теперь на нем красная корона дешрет (dšrt), дающая статус земного правителя. Перед фараоном идёт сановник по имени Чет, далее четыре человека несут штандарты номов, на которые, судя по всему, и распространялась власть фараона. Вся процессия направляется к 10 обезглавленным телам. Для их идентификации резчик изобразил сверху большую лодку, над которой летит Хор, держащий в лапах багор. То есть очевидно, что в данной сцене отражена участь 10 рыбаков, находившихся в лодке и занимавшихся ловлей сомов. Присутствие непонятных символов рядом с лодкой в виде какой-то створки и птицы не мешает общему восприятию: аверс, как и реверс, иллюстрирует неотвратимость наказания за ловлю священных сомов в виде казни провинившихся.

В среднем регистре аверса две львицы с длинными шеями образуют круглое углубление для растирания красок. Необычный художественный приём, видимо, следует более раннему канону, но никакой смысловой нагрузки не несёт.
Нижний регистр снова посвящен карам, постигшим врагов фараона: он их попрал, приняв образ быка (свидетельством этому является, изображенный на палетке, атрибут фараона — бычий хвост, прикрепленный сзади к набедренной повязке), а также разрушил стены их домов.
Сделанный нами анализ палетки Нармера в корне противоречит надуманным утверждениям о якобы ее свидетельстве в пользу захвата царем Верхнего Египта территории Нижнего. В действительности она всего лишь предупреждает о наказании за непочтительное отношение к сомам и, в особенности, за их ловлю баграми. Источником заблуждения служит неверная интерпретация корон египетского фараона хеджет и дешрет,¹ а также ошибочное представление о Верхнем и Нижнем Египте.
_______________________________
[1] Кудрявец А.В. Символическое значение египетских царских корон дешрет и хеджет.
_______________________________
|
Метки: Египет |
ИСИДА В ЭПОХУ СИНКРЕТИЗМА |
А.А. Захаров
МОЛИТВЫ К ИСИДЕ
Известнейшая из всех богов египетского пантеона особенно в эпоху Нового Царства, богиня Исида рано стала знакома классическому миру. Если мы оставим в стороне предположение французского эпиграфиста П.Фукара (Paul-François Foucart) о возможном переносе ее культа из долины Нила на Крит, и затем в Элевсин, в доисторическое время, предположение, которое во всяком случае является весьма спорным, то древнейшим документально засвидетельствованным указанием о постройке в честь ее храма в Греции является афинская надпись 331/2г. до н.э. (J.G.11.168 = Ditt Syll2 551). В ней говорится, что «народ (афинский) постановил дать китийским¹ купцам право владения участком земли, на котором они построят святилище Афродите, подобным образом и египтяне построят святилище Исиды». Известность египетской богини обусловливалась тем, что уже для самих египтян позднейшего времени образ Исиды, как божества неба, отступил на задний план: на первое место и в ней, и в присоединенном к ней, как брат и супруг, Осирисе, выдвинулись черты героев-цивилизаторов, облагодетельствовавших мир дарами культуры. Эта стадия мифа нашла свое выражение у греческих писателей, Плутарха и Диодора, из сочинений которых мы и узнаем, что рассказывали египтяне о своих самых популярных богах, так как в египетских текстах до сих пор не встретилось связного изложения легенды о божественных брате и сестре.
__________________________________
[1] Κίτιον τό Китий, один из девяти главных городов Кипра Thuc., Plut.
Греки называли ее «тысячеликой» (πολυπρόσωπα, θεά με χίλια πρόσωπα) и «многоименной» (πολυώνυμα) и это вполне справедливо. Бругш (Heinrich Karl Brugsch) собрал длинный список эпитетов и имен, под которыми почитали ее жители нильской долины: «Великая; Та, которая была сначала; Царица всех богов; Правое око Ра; Открывающая день Нового года; Владычица небес; Великая на небе; Сияющая как золото; Царица земли; Могущественнейшая между могущественнейшими; Царица полудня; Госпожа теплоты; Божественная мать Гора; Создательница зеленого посева; Дарующая всем людям жизнь; Госпожа хлеба; Госпожа пива; Госпожа блаженства и радости; Госпожа любви; Учительница магии; Та, чей сын есть господин земли; Та, чей супруг есть господин глубины» — вот важнейшие из эпитетов, прилагавшихся египтянами к своей богине, и переданные ими народам классического мира.
В романе Апулея «Превращения» (Metamorphoses), его главный герой Люций, обращенный волшебницей в осла, изнемогая под бременем бедствий, обращается к Исиде с молитвой, в которой отождествляет египетскую богиню с рядом божеств греко-римского пантеона.
__________________________________
[2] Ἐλευσίς (-ῖνος) ἡ Элевсин, город к сев.-зап. от Афин, главный центр культа Деметры и Персефоны. HH., Pind., Her.
[3] Πάφος ἡ Пафос, город на юго-зап. побережье Кипра с известным храмом Афродиты Пафии (Ἀφροδίτη Παφίη) Hom., HH.
Такое разнообразие функций естественно повлекло к тому, что поклонниками египетской богини в греко-римском мире явились самые разнородные классы общества. Напрасно римские магистраты не раз разрушали храмы Исиды в Риме (в 59, 53, 50, 48 до н.э., при Тиберии), самая повторность этих разрушений показывает чрезвычайную живучесть культа и то, что он отвечал каким-то влечениям римского общества, а таковыми было недовольство как прежними, безлично действующими божественными силами исконной римской религии, так и художественно прекрасными богами греческого Олимпа. Египетский культ обещал загробное блаженство, и на это обещание массами стремились люди того времени, преимущественно женщины, которые готовы были на что угодно, лишь бы заслужить милость богини. Ювенал так описывает одну из ее поклонниц, которая:
Расцвета своего культ Исиды и связанных с нею египетских божеств Осириса, и особенно Сераписа, достигает в начале III в. н.э., позднее начинается возвышение сирийских Ваалов и персидского Митры, а еще позднее христианство начинает свою борьбу против всех языческих культов, борьбу, которая вызвала у автора «Сивиллиных оракулов» такие горькие жалобы на упадок древнего благочестия:
__________________________________
[4] Ἀχέρων (-οντος) ὁ Ахеронт, болотистое место возле Мемфиса, на западном берегу Нила.
Умершая, как отдельная богиня, Исида многие подробности своего культа и обрядов передала христианству. Уже довольно давно отметили сходство между стилем тех мест вышеназванного романа Апулея, в которых описывается культ Исиды, и стилем отцов церкви: «речи составляют ткань странно перемешанных метафор из абстрактных существительных и обременены эпитетами; жрецы составляют «священное воинство»; Рим — святой город» и т.д. Что терминология иудейских и христианских писаний совпадает по настроению и отдельным выражениям с вышеприведенными молитвами к Исиде вполне понятно, если припомним, как много взято было из иудейства в христианство, с одной стороны, а в культ синкретистических божеств — с другой. Но влияние культа Исиды сказалось и в ритуале: троекратные в продолжение дня службы в Исейонах (Ἰσεῖον) напоминают христианские богослужения. Можно отметить большое сходство между исиастическим и христианским духовенством или между отшельниками Серапеума в Мемфисе и христианскими монахами — посвящение, обеты, тонзуру (tonsura, стрижка) у духовенства, посты, покаяние мы находим в обоих культах. Культ Исиды уже знал белую одежду жрецов, святую воду, фимиам и возжение светильников. Систр доныне употребляется при религиозных обрядах в Абиссинии. Приношения (ex voto) Исиде напоминают такие же приношения Мадоннам в католических церквах. Внутренность храма Исиды в Филе до сих пор имеет следы гвоздей, при помощи которых прикрепляли одежду на каждую фигуру Исиды, подобно тому как многие изображения Мадонны имеют такие же demirobes, прикрепляющиеся к стене. В эфиопской литературе мы встречаем прямое отождествление Девы Марии и Исиды. Так в эфиопской апокрифической легенде пророка Иеремии мы читаем: «Пророк Иеримия сделал следующее указание египетским жрецам: «Ваши божества поколеблются и все дело рук человеческих сокрушится, когда в Египет придет Дева со своим Младенцем, сыном Божиим». Поэтому они почитают Деву, которая родила, помещают ее сына в ясли и распростираются перед ним». Привычкой к культу Исиды, может быть, объясняется и особое рвение древне-египетской церкви в деле установления почитания Божией Матери, так как в коптских календарях каждое двадцать первое число полагаются праздники Богоматери. В католических странах многие эпитеты Исиды были перенесены на Деву Марию.
Связь между культом Девы Марии и богини Исиды можно проследить и в заимствовании христианством у древних египтян изображений богини, сидящей и кормящей младенца, хотя, отметим мимоходом, аналогичное изображение мы встречаем еще в Индии. Это Деваки, кормящая Кришну, восьмую аватару Вишну. В Западной Европе мы находим несколько аутентичных изображений Исиды с младенцем, считающихся за образа Богородицы. Таково изображение в церкви св. Урсулы в Кельне; в Швейцарии, в Энзидельне (Einsiedeln), в бенедиктинском аббатстве изображение Исиды из черного дерева почитается как чудотворный образ Богоматери, подобное же изображение есть в кафедральном соборе в Пюи (Puy) и в Альтэттинге (Alt-Oettingen) возле Зальцбурга.
Некоторые исследователи думают найти следы культа Исиды и сказаний о ней в житиях иных христианских святых; так Узенер доказывает, что св. Пелагия является перенесением в христианство Афродиты Пелагии (Πελάγια, «морская»), к которой примыкает Ἶσις Πελάγια. Л.Конради отмечает черты легенды об Исиде и Осирисе в житиях св. Онуфрия, св. Екатерины и св. Павла Фиваидского, а Сэнтив видит в культе Исиды основу сказаний о св. Женевьеве.
Возможно, что можно было бы указать еще более точек соприкосновения между культом Исиды и Девы Марии, если бы до нас дошли богослужебные книги античных религий эпохи синкретизма, но христианство так старательно уничтожало их, что мы не имеем ни одного «служебника» того времени. Отрывок астрологического сочинения, изданный Дитерихом, как литургия Митры, едва ли является таковой по заключению лучшего знатока митраизма Фр. Кюмона. К религиозной литературе синкретизма относятся два посвящения Исиде, в которых богиня в первом лице излагает свою сущность и перечисляет свои функции, подобно тому, как делает она в романе Апулея. Мы приведем одну из этих надписей, написанную гекзаметром (J.G., XII, fasc. V, pars I, № 379):
__________________________________
[5] Βούβαστις, -ιος ἡ Бубастис, город на юго-востоке дельты Нила (у Пелусийского рукава Нильской дельты) Her.
Этот памятник нельзя, конечно, назвать молитвой или воззванием к богине, но он интересен как текст, доказывающий знакомство греков с разными сторонами деятельности египетской богини.
Самое обстоятельное и интересное обращение к Исиде мы имеем в недавно изданном папирусе из Оксиринха (Oxyr. Pap. № 1380), которого перевод мы и даем, так как он на русском языке не был еще опубликован.
Текст памятника дошел до нас не в целом виде; не хватает начала и конца, есть пробелы и в середине; по характеру письма документ следует отнести ко II в., эпохе Траяна или Адриана. Сохранившийся отрывок распадается на две части; первая часть (строки 1-119) содержит список имен и титулов Исиды, вполне оправдывающий ее прозвище «многоименная». Сначала перечисляются прозвища богини в городах и номах Египта, причем список содержит лишь упоминания местностей Дельты. Гренфель и Хэнт, издавшие папирус, думают, что перечисление городов Верхнего Египта было в утраченном начале памятника. Затем идет такое же перечисление прозвищ Исиды и отождествление ее с разными божествами в других частях света. Вторая часть (строки 119-142) начинается с перечисления ряда эпиклес, с 142 строки до конца идет прозаический гимн в честь богини в различных аспектах ее божественной мощи.
Текст, по мнению издателей, по-видимому, базируется на египетских документах, подобных тем, из которых Бругш собрал список египетских прозвищ Исиды.
ПАПИРУС ИЗ ОКСИРИНХА
I столбец.
[Призываю тебя … в Афродито]поле Оне[… в] доме Гефеста […]хмевнис; [в …]офис Бубастис […] называемую; в Летополе Великом единую (μίαν), […]иос; в Афродитополе Просопитском начальницу флота (στολαρχείδα), многоόбразную (πολύμορφον) Афродиту; в Дельте подательницу радости (χαριτοδώτειραν); в Каламисе кроткую (ἠπίαν); в Керене нежнолюбящую (φιλόστοργον); в Никии бессмертия подательницу (ἀθάνατον δότειραν); в Иерасе […]афроихис; в Момем[фисе прави]тельницу (ἄνασσαν); в Псохимисе приводящую к пристани (ὁρμίστριαν); в Милоне правительницу; в Ке[…]кулемисе […]тин; в Гермополе прекрасновидную (καλλίμορφον), священную (ἱεράν); в Навкратисе безотчую (ἀπάτειραν), радостную (εὐφροσύνην), спасительницу (σώτειραν), всемогущую (παντοκράτειραν), величайшую (μεγίστην); в Нитине Гинекополитском Афродиту; в Пефриме Исиду правительницу, Гестию госпожу всей страны;
II столбец.
В Эс[…]н, Геру божественную […]; в Буто искусную счетчицу (λογιστικήν), в Тонисе любящую (ἀγάπην) […] времени и […]; в Саитском номе победительницу (νικήτηριαν) Афину, нимфу; в Нибео […]; в Кене Радостную; в Саисе Геру, правительницу совершенную; в И[сейоне Иси]ду; в Себенните рассудительную (ἐπίνοιαν), повелительницу (δυνάστιν), Геру святую; в Гермополе Афродиту, царственную благочестивую (βασίλεισσαν ἁγείαν); в Диосполе Малом правительницу; в Бубасте всевышнюю (ἄνω); в Гелиополе Афродиту; в Атрибе Мать справедливую (Μαῖαν ὀρθωσίαν), в Иере Фтемфтутийской лотосоносную (λωτοφόρον); в Теухии благочестивую госпожу; среди Буколов Майю (Μαῖαν); в Ксоисе всевышнюю (ἄνω), возвещающую (χρησμῳδόν); в Катабатме Провидицу (πρόνοιαν); в Апее Разумную (φρόνησιν); в Левко-Акте Афродиту Мухис (Μοῦχιν) Эсеремфис (Ἐσερέμφιν); в Фрагурополе […]фис; в Хоатине победительницу (νεικήτριαν);
III столбец.
в […] искусную в писаниях (γραμματεικήν) […; в Кино]поле Бусиритском Праксидику (Πραξιδίκην, «вершительницу справедливости»); в Бусириде благую Тюхе (τύχην ἀγαθήν); в Гермополе Мендесийском предводительницу (ἡγεμονία); в Фарбете прекрасновидную (καλλίμορφον); В Исидии Сетроитском мужезащитницу (ἀνδρασώτειραν); в Леонтополе благую змею (ἀσπίδα ἀγαθήν); в Танисе прелестновидную (χαρειτόμορφον); в Схедии рассудительную (ἐπίνοιαν); в Гераклее владычицу морскую (πελάγους κυρείαν); в Канобе, в честь которой […] был основан; в М[…]енестии величайшем коршуновидную (γυπόμορφον) Афродиту; в Тапосире Тавестис, Геру подательницу (δώτειραν); на острове Несос быстропобедную (ταχυνίκην); в Певкестиде кормчую (κυβερνήτιν);
IV столбец.
в Мелаиде многоόбразную; в Менуфе воинственную; в Метилитском номе Кору; в Харикее Афину; в Плинтине Гестию; в Пелусии приводящую к пристани (ὁρμίστριαν); в Касийской области Тахнипсис (Ταχνῆψιν); в Гекрегмате Исиду спасительницу (σώζουσαν); в Аравии великую божественную (μεγάλην θεόν); на Несосе дающую победу на священных играх (ἱερωνικοτελοῦσαν); в Ликии Лето; в Мирах Ликийских заботливую освободительницу (κεδνήν ἐλευθερίαν); в Книде отражающую нападения (ἄφεσιν ἐφόδων), указующую (εὑρέτριαν); в Кирене Исиду; на Крите Диктинну (Δίκτυννα — «Охотящаяся с сетями», эпитет Артемиды); в Халкедоне Фемиду; в Риме воительницу (στρατίαν); на Кикладских островах три естества имеющую Артемиду (τριφυήν Ἄρτεμειν); на Патме молодую (νέα) […]; на Пафосе непорочную, божественную, кроткую (ἁγνήν, δία, ἤπια); на Хиосе шествующую (στίχουσαν); на Саламине взирающую (κατόπτιν); на Кипре всещедрую (πανάφθονον); в Халкидике благочестивую (ἁγίαν); в Пиерии зрелую (ὡραίαν); в Азии почитаемую на перекрестках (τριοδεῖτιν); в Петре спасительницу (σώτειραν); в Гипсиле величайшую (μεγίστην);
V столбец.
в Риноколурах всевидящую (παντόπτιν); в Дорах дружелюбную (φιλίαν); в Стратоновой башне Элладу добрую (Ἑλλάδα ἀγαθήν); в Асколоне сильнейшую (κρατίστην); в Синопе многоименную (πολυώνυμον); в Рафии госпожу (δυνάστιν); в Триполе справедливую (ὀρθωσίαν); в Газе преисполненную (εὐπλέαν); в Дельфах доблестнейшую (ἀρίστην), прекраснейшую (καλλίστην); в Бамбике Атаргатис (Αταργάτει); во Фракии и на Делосе многоименную; у амазонок воинственную; у индийцев Майю; у фессалийцев луну (σελήνην); у персов Латину (Λατείνην); у магов⁶ Кору, Тапсеусис (Θαψεῦσιν); в Сузах Нанию (Νανίαν); в Сирофиникии богиню (θεός); в Самофракии волоокую (ταυρῶπις); в Пергаме владычицу (δεσπότις); в Понте пречистую (ἀμίαντος); в Италии божественную любовь (ἀγάπην θεῶν); на Самосе священную (ἱεράν); в Гелеспонте дарующую таинства (μύστειν); в Минде божественную (δίαν); в Вифинии Елену (Ἑλένην); на Тенеде солнца имя⁷ (ἡλίου ὄνομα); в Карии Гекату; в Троаде и Диндиме Т[…]вию, Палентру (Παλέντραν), неприступную (ἀβείβαστον) Исиду; в Берите Майю;⁸ в Сидоне Астарту;
__________________________________
[6] Μάγοι οἱ маги (одно из шести племен, из которых образовался мидийский народ) Her.
[7] Возможно имеется в виду эпитет Аполлона — Феб, и равнозначный ему эпитет Артемиды — Феба.
Φοῖβος ὁ Феб, «Лучезарный» (эпитет Аполлона) Hom., Aesch.
Φοίβη ἡ Феба, «сияющая, сверкающая», эпитет Артемиды.
[8] В тексте стоит имя Μεαν, в пояснительной ссылке дается, якобы, равнозначное имя Μαῖαν. Сочетание αι дает звук [e], и в зависимости от ударения имя Μαῖα читается либо Майя, либо Мея.
Μαῖα, ион. Μαίη ἡ Мея или Майя (дочь Атланта и Плейоны, старшая из Плейад, родившая от Зевса Гермеса) Hes., Aesch., Soph.
μαῖα ἡ
1) (ласковое обращение к старым женщинам) мать, матушка Hom., Arph.
2) мать, мама (ἰὼ μ. γαῖα! Aesch. — о, мать-земля!)
3) мамка, кормилица Hom., Eur.
VI столбец.
в Птолемаиде разумную (φρονίμην); в Сузах при Эритрейском море Саркунис (Σαρκοῦνιν); ту, которая самая первая толкует в пятнадцати постановлениях; властительница вселенной; смотрительницу и руководительницу; морских и речных устьев госпожу; искусную в писаниях и счете; рассудительную; ту, которая и Нил по всей стране ведет; чей териоморфный образ прекрасней других богов; имеющую в Лете (Λήθη)⁹ радостный лик; руководительницу муз; многоокую; на Олимпе пригожую богиню; прекраснейшую и нежно любящую; в собраниях исполненную легкости; в празднествах кружащуюся; проводящую прекрасные дни в изобилии; […] божественного Гарпократа;¹⁰ среди богов — вседержительницу, гнушающуюся ненависти; истинную яшму дуновения и жизни диадему; ту, из которой образы и существа всех богов имени твоего
__________________________________
[9] Λήθη, дор. Λάθᾱ ἡ Лета (дочь Эриды, богиня забвения Hes.).
[10] Ἁρποκράτης ὁ младенец Гор (егип. Ḥr-pȝ-ẖrd), сын Исиды.
VII столбец.
имеющую преклоняются. Госпожа Исида, величайшая из богов, прежде зовомая Ио, Сотис. Ты господствуешь над воздушными явлениями и запредельным. Ты изобретаешь и […] ткать. Ты, чтобы здоровые женщины с мужчинами сожительствовали, желаешь. Все старейшины в […] воскуряют фимиам. Все молодые […] в Гераклеополе обращаются к тебе, дабы обустроить страну. Взирают на тебя согласно клятве призванные, из которых […] согласно достоинству 365 сопоставленных дней. Нежна и миролюбива милость твоих двух повелений. Солнце с восхода до заката ты двигаешь и все боги радуются. При восхождении светил неустанно поклоняются тебе туземцы, и все священные животные и святилище Осириса радостными становятся, всякий раз как произносится имя твое. […] демоны послушными тебе делаются.
VIII-XII столбец.
(приводим лишь связные фразы, опуская все испорченные места).
Гибель даешь ты, кому хочешь, погибших же возвеличиваешь и все очищаешь; всякий день для радости ты предназначила […]. Ты всего влажного, и сухого, и холодного, из чего все состоит, открывательницей всего являешься; ты брата своего одна вывела снова на свет, руководя прекрасно и, как следует, совершив погребение; […]. Предводительница диадем; увеличения и упадка и […] госпожа […] Исейоны во всех городах на вечные времена ты поставила, и всем законы и год совершенный передала […]. Ты сына своего Гора-Аполлона повсюду господином новым всего мира и […] на вечное время поставила. Ты женщинам равную силу с мужчинами сделала […]. Всего ты госпожа во веки […]. Ты над ветрами, и громами, и молниями, и снегами власть имеешь; ты госпожа войны и начальствования, легко губишь верными советами; ты великого Осириса бессмертным соделала, и всей стране […] передала религиозные обряды […]. Ты и света, и пламени госпожа […]».
_______________________________
_____
Мы не станем сейчас входить в разбор намеков на разные мифы, связанные с Исидой в этом тексте, тем более, что многие из них нам плохо известны или даже совершенно незнакомы, но нам хотелось бы обратить внимание на самую внешнюю форму данного текста. Несомненно он был составлен жрецами для употребления при богослужении, и до известной степени правы те, кто видит в нем прототип акафиста; во всяком случае он является одним из памятников, указывающих на то, как египетские божества и верования причудливо сплетались в эпоху синкретизма с верованиями народов классического мира и подготовляли почву для гностицизма, с одной стороны, христианства — с другой.
The Oxyrhynchus papyri
_______________________________
МОЛИТВЫ К ИСИДЕ
Известнейшая из всех богов египетского пантеона особенно в эпоху Нового Царства, богиня Исида рано стала знакома классическому миру. Если мы оставим в стороне предположение французского эпиграфиста П.Фукара (Paul-François Foucart) о возможном переносе ее культа из долины Нила на Крит, и затем в Элевсин, в доисторическое время, предположение, которое во всяком случае является весьма спорным, то древнейшим документально засвидетельствованным указанием о постройке в честь ее храма в Греции является афинская надпись 331/2г. до н.э. (J.G.11.168 = Ditt Syll2 551). В ней говорится, что «народ (афинский) постановил дать китийским¹ купцам право владения участком земли, на котором они построят святилище Афродите, подобным образом и египтяне построят святилище Исиды». Известность египетской богини обусловливалась тем, что уже для самих египтян позднейшего времени образ Исиды, как божества неба, отступил на задний план: на первое место и в ней, и в присоединенном к ней, как брат и супруг, Осирисе, выдвинулись черты героев-цивилизаторов, облагодетельствовавших мир дарами культуры. Эта стадия мифа нашла свое выражение у греческих писателей, Плутарха и Диодора, из сочинений которых мы и узнаем, что рассказывали египтяне о своих самых популярных богах, так как в египетских текстах до сих пор не встретилось связного изложения легенды о божественных брате и сестре.
__________________________________
[1] Κίτιον τό Китий, один из девяти главных городов Кипра Thuc., Plut.
Греки называли ее «тысячеликой» (πολυπρόσωπα, θεά με χίλια πρόσωπα) и «многоименной» (πολυώνυμα) и это вполне справедливо. Бругш (Heinrich Karl Brugsch) собрал длинный список эпитетов и имен, под которыми почитали ее жители нильской долины: «Великая; Та, которая была сначала; Царица всех богов; Правое око Ра; Открывающая день Нового года; Владычица небес; Великая на небе; Сияющая как золото; Царица земли; Могущественнейшая между могущественнейшими; Царица полудня; Госпожа теплоты; Божественная мать Гора; Создательница зеленого посева; Дарующая всем людям жизнь; Госпожа хлеба; Госпожа пива; Госпожа блаженства и радости; Госпожа любви; Учительница магии; Та, чей сын есть господин земли; Та, чей супруг есть господин глубины» — вот важнейшие из эпитетов, прилагавшихся египтянами к своей богине, и переданные ими народам классического мира.
В романе Апулея «Превращения» (Metamorphoses), его главный герой Люций, обращенный волшебницей в осла, изнемогая под бременем бедствий, обращается к Исиде с молитвой, в которой отождествляет египетскую богиню с рядом божеств греко-римского пантеона.
«2. Владычица небес, будь ты Церерою, благодатною матерью злаков, что, вновь дочь обретя, на радостях упразднила желуди — дикий древний корм, — нежную, приятную пищу людям указав, ныне в Элевсинской земле ты обитаешь;² будь ты Венерою небесною, что рождением Амура в самом начале веков два различных пола соединила и, вечным плодородием человеческий род умножая, ныне на Пафосе священном,³ морем омываемом, почет получаешь; будь сестрою Феба, что с благодетельной помощью приходишь во время родов и, столько племен взрастившая, ныне в преславном эфесском святилище чтишься; будь Прозерпиною, ночными завываниями ужас наводящею, что триликим образом своим натиск злых духов смиряешь и над подземными темницами властвуешь, по различным рощам бродишь, разные поклонения принимая. О, Прозерпина, женственным сиянием своим каждый дом освещающая, влажными лучами питающая веселые посевы и, когда скрывается солнце, неверный свет свой нам проливающая; как бы ты ни именовалась, каким бы обрядом, в каком бы обличии ни надлежало чтить тебя…
<…>
25. О, святейшая, человеческого рода избавительница вечная, смертных постоянная заступница, что являешь себя несчастным в бедах нежной матерью! Ни день, ни ночь одна, ни даже минута краткая не протекает, твоих благодеяний лишенная: на море и на суше ты людям покровительствуешь, в жизненных бурях простираешь десницу спасительную, которой рока нерасторжимую пряжу распускаешь, ярость Судьбы смиряешь, зловещее светил течение укрощаешь. Чтут тебя вышние боги, и боги теней подземных поклоняются тебе; ты круг мира вращаешь, зажигаешь Солнце, управляешь Вселенной, попираешь Тартар. На зов твой откликаются звезды, ты чередования времен источник, радость небожителей, госпожа стихий. Мановением твоим огонь разгорается, тучи сгущаются, всходят посевы, подымаются всходы. Силы твоей страшатся птицы, в небе летающие, звери, в горах блуждающие, змеи, в земле скрывающиеся, чудовища, по волнам плывущие».
(Луций Апулей. Метаморфозы XI).
__________________________________
[2] Ἐλευσίς (-ῖνος) ἡ Элевсин, город к сев.-зап. от Афин, главный центр культа Деметры и Персефоны. HH., Pind., Her.
[3] Πάφος ἡ Пафос, город на юго-зап. побережье Кипра с известным храмом Афродиты Пафии (Ἀφροδίτη Παφίη) Hom., HH.
Такое разнообразие функций естественно повлекло к тому, что поклонниками египетской богини в греко-римском мире явились самые разнородные классы общества. Напрасно римские магистраты не раз разрушали храмы Исиды в Риме (в 59, 53, 50, 48 до н.э., при Тиберии), самая повторность этих разрушений показывает чрезвычайную живучесть культа и то, что он отвечал каким-то влечениям римского общества, а таковыми было недовольство как прежними, безлично действующими божественными силами исконной римской религии, так и художественно прекрасными богами греческого Олимпа. Египетский культ обещал загробное блаженство, и на это обещание массами стремились люди того времени, преимущественно женщины, которые готовы были на что угодно, лишь бы заслужить милость богини. Ювенал так описывает одну из ее поклонниц, которая:
«В реку замерзшую сходит, разбивши кору ледяную,
Трижды зимой по утрам погружается в Тибр коченея,
С благоговеньем спеша окунуться до самой макушки.
После ж, нагая, дрожа, на коленах, точащихся кровью,
Царское поле она проползает во славу богини,
Только ей Ио вели — и она устремится охотно
В дальний Египта предел, в раскаленное солнцем Мерое
За освященной водой, окропить чтоб святыню Исиды».
Расцвета своего культ Исиды и связанных с нею египетских божеств Осириса, и особенно Сераписа, достигает в начале III в. н.э., позднее начинается возвышение сирийских Ваалов и персидского Митры, а еще позднее христианство начинает свою борьбу против всех языческих культов, борьбу, которая вызвала у автора «Сивиллиных оракулов» такие горькие жалобы на упадок древнего благочестия:
«Трижды печальна стоишь ты над Нилом, богиня Исида,
Возле песков Ахеронта,⁴ одна, исступленно терзаясь:
Самая память уже о тебе на земле исчезает.
Также страдать будешь ты, возлежащий на камнях, Серапис,
И несказанные беды падут на злосчастный Египет,
Скорбь и рыданья рождая у всех, тебя чтивших с любовью».
__________________________________
[4] Ἀχέρων (-οντος) ὁ Ахеронт, болотистое место возле Мемфиса, на западном берегу Нила.
Умершая, как отдельная богиня, Исида многие подробности своего культа и обрядов передала христианству. Уже довольно давно отметили сходство между стилем тех мест вышеназванного романа Апулея, в которых описывается культ Исиды, и стилем отцов церкви: «речи составляют ткань странно перемешанных метафор из абстрактных существительных и обременены эпитетами; жрецы составляют «священное воинство»; Рим — святой город» и т.д. Что терминология иудейских и христианских писаний совпадает по настроению и отдельным выражениям с вышеприведенными молитвами к Исиде вполне понятно, если припомним, как много взято было из иудейства в христианство, с одной стороны, а в культ синкретистических божеств — с другой. Но влияние культа Исиды сказалось и в ритуале: троекратные в продолжение дня службы в Исейонах (Ἰσεῖον) напоминают христианские богослужения. Можно отметить большое сходство между исиастическим и христианским духовенством или между отшельниками Серапеума в Мемфисе и христианскими монахами — посвящение, обеты, тонзуру (tonsura, стрижка) у духовенства, посты, покаяние мы находим в обоих культах. Культ Исиды уже знал белую одежду жрецов, святую воду, фимиам и возжение светильников. Систр доныне употребляется при религиозных обрядах в Абиссинии. Приношения (ex voto) Исиде напоминают такие же приношения Мадоннам в католических церквах. Внутренность храма Исиды в Филе до сих пор имеет следы гвоздей, при помощи которых прикрепляли одежду на каждую фигуру Исиды, подобно тому как многие изображения Мадонны имеют такие же demirobes, прикрепляющиеся к стене. В эфиопской литературе мы встречаем прямое отождествление Девы Марии и Исиды. Так в эфиопской апокрифической легенде пророка Иеремии мы читаем: «Пророк Иеримия сделал следующее указание египетским жрецам: «Ваши божества поколеблются и все дело рук человеческих сокрушится, когда в Египет придет Дева со своим Младенцем, сыном Божиим». Поэтому они почитают Деву, которая родила, помещают ее сына в ясли и распростираются перед ним». Привычкой к культу Исиды, может быть, объясняется и особое рвение древне-египетской церкви в деле установления почитания Божией Матери, так как в коптских календарях каждое двадцать первое число полагаются праздники Богоматери. В католических странах многие эпитеты Исиды были перенесены на Деву Марию.
Связь между культом Девы Марии и богини Исиды можно проследить и в заимствовании христианством у древних египтян изображений богини, сидящей и кормящей младенца, хотя, отметим мимоходом, аналогичное изображение мы встречаем еще в Индии. Это Деваки, кормящая Кришну, восьмую аватару Вишну. В Западной Европе мы находим несколько аутентичных изображений Исиды с младенцем, считающихся за образа Богородицы. Таково изображение в церкви св. Урсулы в Кельне; в Швейцарии, в Энзидельне (Einsiedeln), в бенедиктинском аббатстве изображение Исиды из черного дерева почитается как чудотворный образ Богоматери, подобное же изображение есть в кафедральном соборе в Пюи (Puy) и в Альтэттинге (Alt-Oettingen) возле Зальцбурга.
Некоторые исследователи думают найти следы культа Исиды и сказаний о ней в житиях иных христианских святых; так Узенер доказывает, что св. Пелагия является перенесением в христианство Афродиты Пелагии (Πελάγια, «морская»), к которой примыкает Ἶσις Πελάγια. Л.Конради отмечает черты легенды об Исиде и Осирисе в житиях св. Онуфрия, св. Екатерины и св. Павла Фиваидского, а Сэнтив видит в культе Исиды основу сказаний о св. Женевьеве.
Возможно, что можно было бы указать еще более точек соприкосновения между культом Исиды и Девы Марии, если бы до нас дошли богослужебные книги античных религий эпохи синкретизма, но христианство так старательно уничтожало их, что мы не имеем ни одного «служебника» того времени. Отрывок астрологического сочинения, изданный Дитерихом, как литургия Митры, едва ли является таковой по заключению лучшего знатока митраизма Фр. Кюмона. К религиозной литературе синкретизма относятся два посвящения Исиде, в которых богиня в первом лице излагает свою сущность и перечисляет свои функции, подобно тому, как делает она в романе Апулея. Мы приведем одну из этих надписей, написанную гекзаметром (J.G., XII, fasc. V, pars I, № 379):
Нильской долины царица, одетая в льняную столу,
Ты, чьей заботой зерно в борозде прозябает обильно,
Чей охраняющий взор обращен на Бубаст систроносный,⁵
И на веселый Мемфис на равнине, снопами обильной.
Там, где старинных царей благочестия памятник вечный,
Камень священный гласит о тебе преклоненным с мольбою:
«Мощная скиптром Исида, я правлю с высот златотронных,
Солнца лучом огневым озаряя кормилицу землю;
Мудрых скрижалей Гермеса я символы смертным открыла
И начертала резцом письмена сокровенные тайны, —
В трепет ввергавшее дух недоступно-священное слово.
Общие смертных пути я в уме глубочайшем соткала,
Кроноса старшая дочь и царя Осириса супруга,
Страстным желаньям кого ложесна я родные разверзла,
В пышные кудри цветы и лозу винограда вплетая.
Я учреждаю закон и храню повеления неба,
Те, что ни дерзость людей, ни забвенье седое не сгубят…
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Звезд направляя пути и оплот городов созидая,
Горний держу я Олимп и увлажненно-черную землю.
Мною, Исидой, светил создана вековая дорога,
Светлого месяца ход, чередой озаряющий небо.
Огненных солнца коней я направила в круг неизменный
Мерным движением делить дня и ночи текучее время.
Первой средь смертных людей проплыла я пучинное море.
Мужа с женой сопрягла и, десятой луны появленьем
Зрелый приветствуя плод, размноженья порядок свершила.
Мной правосудье царит и почтенье к родителям в детях.
Я беззаконной любви усмирила свирепые страсти…
Правлю над пашнями я и рождаю пшеницу в колосьях,
Людям забыть повелев об убийством рождаемой пище,
Даже зверей недостойной, живущих средь дебрей пустынных.
Солнца сотронница я и несусь на его колеснице,
Вечно готова свершить, что глубоким умом созерцаю,
В трепете клонятся ниц пред кивком моим царственным боги,
И неизбежной судьбы разрешать я всесильна оковы…
__________________________________
[5] Βούβαστις, -ιος ἡ Бубастис, город на юго-востоке дельты Нила (у Пелусийского рукава Нильской дельты) Her.
Этот памятник нельзя, конечно, назвать молитвой или воззванием к богине, но он интересен как текст, доказывающий знакомство греков с разными сторонами деятельности египетской богини.
Самое обстоятельное и интересное обращение к Исиде мы имеем в недавно изданном папирусе из Оксиринха (Oxyr. Pap. № 1380), которого перевод мы и даем, так как он на русском языке не был еще опубликован.
Текст памятника дошел до нас не в целом виде; не хватает начала и конца, есть пробелы и в середине; по характеру письма документ следует отнести ко II в., эпохе Траяна или Адриана. Сохранившийся отрывок распадается на две части; первая часть (строки 1-119) содержит список имен и титулов Исиды, вполне оправдывающий ее прозвище «многоименная». Сначала перечисляются прозвища богини в городах и номах Египта, причем список содержит лишь упоминания местностей Дельты. Гренфель и Хэнт, издавшие папирус, думают, что перечисление городов Верхнего Египта было в утраченном начале памятника. Затем идет такое же перечисление прозвищ Исиды и отождествление ее с разными божествами в других частях света. Вторая часть (строки 119-142) начинается с перечисления ряда эпиклес, с 142 строки до конца идет прозаический гимн в честь богини в различных аспектах ее божественной мощи.
Текст, по мнению издателей, по-видимому, базируется на египетских документах, подобных тем, из которых Бругш собрал список египетских прозвищ Исиды.
ПАПИРУС ИЗ ОКСИРИНХА
I столбец.
[Призываю тебя … в Афродито]поле Оне[… в] доме Гефеста […]хмевнис; [в …]офис Бубастис […] называемую; в Летополе Великом единую (μίαν), […]иос; в Афродитополе Просопитском начальницу флота (στολαρχείδα), многоόбразную (πολύμορφον) Афродиту; в Дельте подательницу радости (χαριτοδώτειραν); в Каламисе кроткую (ἠπίαν); в Керене нежнолюбящую (φιλόστοργον); в Никии бессмертия подательницу (ἀθάνατον δότειραν); в Иерасе […]афроихис; в Момем[фисе прави]тельницу (ἄνασσαν); в Псохимисе приводящую к пристани (ὁρμίστριαν); в Милоне правительницу; в Ке[…]кулемисе […]тин; в Гермополе прекрасновидную (καλλίμορφον), священную (ἱεράν); в Навкратисе безотчую (ἀπάτειραν), радостную (εὐφροσύνην), спасительницу (σώτειραν), всемогущую (παντοκράτειραν), величайшую (μεγίστην); в Нитине Гинекополитском Афродиту; в Пефриме Исиду правительницу, Гестию госпожу всей страны;
II столбец.
В Эс[…]н, Геру божественную […]; в Буто искусную счетчицу (λογιστικήν), в Тонисе любящую (ἀγάπην) […] времени и […]; в Саитском номе победительницу (νικήτηριαν) Афину, нимфу; в Нибео […]; в Кене Радостную; в Саисе Геру, правительницу совершенную; в И[сейоне Иси]ду; в Себенните рассудительную (ἐπίνοιαν), повелительницу (δυνάστιν), Геру святую; в Гермополе Афродиту, царственную благочестивую (βασίλεισσαν ἁγείαν); в Диосполе Малом правительницу; в Бубасте всевышнюю (ἄνω); в Гелиополе Афродиту; в Атрибе Мать справедливую (Μαῖαν ὀρθωσίαν), в Иере Фтемфтутийской лотосоносную (λωτοφόρον); в Теухии благочестивую госпожу; среди Буколов Майю (Μαῖαν); в Ксоисе всевышнюю (ἄνω), возвещающую (χρησμῳδόν); в Катабатме Провидицу (πρόνοιαν); в Апее Разумную (φρόνησιν); в Левко-Акте Афродиту Мухис (Μοῦχιν) Эсеремфис (Ἐσερέμφιν); в Фрагурополе […]фис; в Хоатине победительницу (νεικήτριαν);
III столбец.
в […] искусную в писаниях (γραμματεικήν) […; в Кино]поле Бусиритском Праксидику (Πραξιδίκην, «вершительницу справедливости»); в Бусириде благую Тюхе (τύχην ἀγαθήν); в Гермополе Мендесийском предводительницу (ἡγεμονία); в Фарбете прекрасновидную (καλλίμορφον); В Исидии Сетроитском мужезащитницу (ἀνδρασώτειραν); в Леонтополе благую змею (ἀσπίδα ἀγαθήν); в Танисе прелестновидную (χαρειτόμορφον); в Схедии рассудительную (ἐπίνοιαν); в Гераклее владычицу морскую (πελάγους κυρείαν); в Канобе, в честь которой […] был основан; в М[…]енестии величайшем коршуновидную (γυπόμορφον) Афродиту; в Тапосире Тавестис, Геру подательницу (δώτειραν); на острове Несос быстропобедную (ταχυνίκην); в Певкестиде кормчую (κυβερνήτιν);
IV столбец.
в Мелаиде многоόбразную; в Менуфе воинственную; в Метилитском номе Кору; в Харикее Афину; в Плинтине Гестию; в Пелусии приводящую к пристани (ὁρμίστριαν); в Касийской области Тахнипсис (Ταχνῆψιν); в Гекрегмате Исиду спасительницу (σώζουσαν); в Аравии великую божественную (μεγάλην θεόν); на Несосе дающую победу на священных играх (ἱερωνικοτελοῦσαν); в Ликии Лето; в Мирах Ликийских заботливую освободительницу (κεδνήν ἐλευθερίαν); в Книде отражающую нападения (ἄφεσιν ἐφόδων), указующую (εὑρέτριαν); в Кирене Исиду; на Крите Диктинну (Δίκτυννα — «Охотящаяся с сетями», эпитет Артемиды); в Халкедоне Фемиду; в Риме воительницу (στρατίαν); на Кикладских островах три естества имеющую Артемиду (τριφυήν Ἄρτεμειν); на Патме молодую (νέα) […]; на Пафосе непорочную, божественную, кроткую (ἁγνήν, δία, ἤπια); на Хиосе шествующую (στίχουσαν); на Саламине взирающую (κατόπτιν); на Кипре всещедрую (πανάφθονον); в Халкидике благочестивую (ἁγίαν); в Пиерии зрелую (ὡραίαν); в Азии почитаемую на перекрестках (τριοδεῖτιν); в Петре спасительницу (σώτειραν); в Гипсиле величайшую (μεγίστην);
V столбец.
в Риноколурах всевидящую (παντόπτιν); в Дорах дружелюбную (φιλίαν); в Стратоновой башне Элладу добрую (Ἑλλάδα ἀγαθήν); в Асколоне сильнейшую (κρατίστην); в Синопе многоименную (πολυώνυμον); в Рафии госпожу (δυνάστιν); в Триполе справедливую (ὀρθωσίαν); в Газе преисполненную (εὐπλέαν); в Дельфах доблестнейшую (ἀρίστην), прекраснейшую (καλλίστην); в Бамбике Атаргатис (Αταργάτει); во Фракии и на Делосе многоименную; у амазонок воинственную; у индийцев Майю; у фессалийцев луну (σελήνην); у персов Латину (Λατείνην); у магов⁶ Кору, Тапсеусис (Θαψεῦσιν); в Сузах Нанию (Νανίαν); в Сирофиникии богиню (θεός); в Самофракии волоокую (ταυρῶπις); в Пергаме владычицу (δεσπότις); в Понте пречистую (ἀμίαντος); в Италии божественную любовь (ἀγάπην θεῶν); на Самосе священную (ἱεράν); в Гелеспонте дарующую таинства (μύστειν); в Минде божественную (δίαν); в Вифинии Елену (Ἑλένην); на Тенеде солнца имя⁷ (ἡλίου ὄνομα); в Карии Гекату; в Троаде и Диндиме Т[…]вию, Палентру (Παλέντραν), неприступную (ἀβείβαστον) Исиду; в Берите Майю;⁸ в Сидоне Астарту;
__________________________________
[6] Μάγοι οἱ маги (одно из шести племен, из которых образовался мидийский народ) Her.
[7] Возможно имеется в виду эпитет Аполлона — Феб, и равнозначный ему эпитет Артемиды — Феба.
Φοῖβος ὁ Феб, «Лучезарный» (эпитет Аполлона) Hom., Aesch.
Φοίβη ἡ Феба, «сияющая, сверкающая», эпитет Артемиды.
[8] В тексте стоит имя Μεαν, в пояснительной ссылке дается, якобы, равнозначное имя Μαῖαν. Сочетание αι дает звук [e], и в зависимости от ударения имя Μαῖα читается либо Майя, либо Мея.
Μαῖα, ион. Μαίη ἡ Мея или Майя (дочь Атланта и Плейоны, старшая из Плейад, родившая от Зевса Гермеса) Hes., Aesch., Soph.
μαῖα ἡ
1) (ласковое обращение к старым женщинам) мать, матушка Hom., Arph.
2) мать, мама (ἰὼ μ. γαῖα! Aesch. — о, мать-земля!)
3) мамка, кормилица Hom., Eur.
VI столбец.
в Птолемаиде разумную (φρονίμην); в Сузах при Эритрейском море Саркунис (Σαρκοῦνιν); ту, которая самая первая толкует в пятнадцати постановлениях; властительница вселенной; смотрительницу и руководительницу; морских и речных устьев госпожу; искусную в писаниях и счете; рассудительную; ту, которая и Нил по всей стране ведет; чей териоморфный образ прекрасней других богов; имеющую в Лете (Λήθη)⁹ радостный лик; руководительницу муз; многоокую; на Олимпе пригожую богиню; прекраснейшую и нежно любящую; в собраниях исполненную легкости; в празднествах кружащуюся; проводящую прекрасные дни в изобилии; […] божественного Гарпократа;¹⁰ среди богов — вседержительницу, гнушающуюся ненависти; истинную яшму дуновения и жизни диадему; ту, из которой образы и существа всех богов имени твоего
__________________________________
[9] Λήθη, дор. Λάθᾱ ἡ Лета (дочь Эриды, богиня забвения Hes.).
[10] Ἁρποκράτης ὁ младенец Гор (егип. Ḥr-pȝ-ẖrd), сын Исиды.
VII столбец.
имеющую преклоняются. Госпожа Исида, величайшая из богов, прежде зовомая Ио, Сотис. Ты господствуешь над воздушными явлениями и запредельным. Ты изобретаешь и […] ткать. Ты, чтобы здоровые женщины с мужчинами сожительствовали, желаешь. Все старейшины в […] воскуряют фимиам. Все молодые […] в Гераклеополе обращаются к тебе, дабы обустроить страну. Взирают на тебя согласно клятве призванные, из которых […] согласно достоинству 365 сопоставленных дней. Нежна и миролюбива милость твоих двух повелений. Солнце с восхода до заката ты двигаешь и все боги радуются. При восхождении светил неустанно поклоняются тебе туземцы, и все священные животные и святилище Осириса радостными становятся, всякий раз как произносится имя твое. […] демоны послушными тебе делаются.
VIII-XII столбец.
(приводим лишь связные фразы, опуская все испорченные места).
Гибель даешь ты, кому хочешь, погибших же возвеличиваешь и все очищаешь; всякий день для радости ты предназначила […]. Ты всего влажного, и сухого, и холодного, из чего все состоит, открывательницей всего являешься; ты брата своего одна вывела снова на свет, руководя прекрасно и, как следует, совершив погребение; […]. Предводительница диадем; увеличения и упадка и […] госпожа […] Исейоны во всех городах на вечные времена ты поставила, и всем законы и год совершенный передала […]. Ты сына своего Гора-Аполлона повсюду господином новым всего мира и […] на вечное время поставила. Ты женщинам равную силу с мужчинами сделала […]. Всего ты госпожа во веки […]. Ты над ветрами, и громами, и молниями, и снегами власть имеешь; ты госпожа войны и начальствования, легко губишь верными советами; ты великого Осириса бессмертным соделала, и всей стране […] передала религиозные обряды […]. Ты и света, и пламени госпожа […]».
_____
Мы не станем сейчас входить в разбор намеков на разные мифы, связанные с Исидой в этом тексте, тем более, что многие из них нам плохо известны или даже совершенно незнакомы, но нам хотелось бы обратить внимание на самую внешнюю форму данного текста. Несомненно он был составлен жрецами для употребления при богослужении, и до известной степени правы те, кто видит в нем прототип акафиста; во всяком случае он является одним из памятников, указывающих на то, как египетские божества и верования причудливо сплетались в эпоху синкретизма с верованиями народов классического мира и подготовляли почву для гностицизма, с одной стороны, христианства — с другой.
The Oxyrhynchus papyri
_______________________________
|
Метки: Изида Греция Рим |
ВОСКРЕСЕНИЕ, ЕГИПЕТСКАЯ ТРАДИЦИЯ |
А.Б. Зубов
РЕЛИГИЯ ЕГИПТА
Погребальный обряд, который совершался в Египте, воспроизводил смерть и воскрешение Осириса. Человек и его тело были образами Первообраза (т.е. Осириса, который первым претерпел смерть от своего брата Сета и воскресение в жизнь вечную).¹ То есть человек воспринимался как Осирис, его тело воспринималось как тело Осириса. Смерть сама по себе не требовала ритуала, она — противоестественная естественность, которая происходит с каждым человеком, независимо от того, верующий он или неверующий, посвященный или непосвященный. Смерть просто констатируется.
А вот воскресение, воскрешение умершего в загробной жизни, воспроизводилось в ритуале. Начинался ритуал с «обретения» тела умершего. В целом ряде Текстов пирамид Исида и Нефтида отыскивают тело Осириса. На самом деле они отыскивают тело умершего — не физически, но мистериально. Обряд плачей по умершему и отсутствовавшему Осирису, а потом его обретение — это был важный элемент ритуала (Тексты пирамид: § 584, 1008, 1256, 2144). Потом обретенное тело оплакивалось (Книга мертвых 19,11 и 20,5). После чего тело омывалось и восстанавливалось (разрубленное тело Осириса сочленялось и мумифицировалось). Этот обряд зафиксирован в параграфе 1981 Текстов пирамид. То, что было с Осирисом, должно было произойти и с Тети, Неферкара, Меренра, Ани. Потому что все они были посвящены в мистериальные таинства, они знали, что произошло с Осирисом и они одно с Осирисом. Если Осирис жив, то и Пепи жив, если Осирис предвечен, то и Пепи предвечен.
[1] Хентиаменти (ḫntj-jmntjw) — «Первый среди западных», т.е. владыка дуата (царства мертвых). Главенство Осириса в дуате связано с тем, что он первым прошел Небесный джаджат (ḏȝḏȝt, священный суд девятерицы богов). И будучи первым, получившим оправдание, он получил право судить души усопших на посмертном суде. «Тот, кто первым прошел [посмертный суд], получает право судить других» [P.125.7].
[2] (ḏd mdw jn nbt-ḥwt) jj.n(.j) pẖr.n(.j) ḥȝ sn jsjr nswt nb tȝwj nb-ḫprw-rˁ s.mn.n.j n.k dp/tp.k ḥr nḥbt.k dmd n.k jnpw ḳsw.k snb.f ḥˁw.k dr.f ḏwt nb rwj.f jhȝ.k nn ḏˁmw.k (Piankoff, Chapelles, pl. III)
Для древнего египтянина верование в жизнь вечную было не сомнительным знанием, не каким-то скучным догматом, это было сутью жизни. В одном из Текстов Пирамид говорится: «О Унас, ты не приходишь мертвым, ты приходишь живым». Что такое прийти в вечность мертвым? Это значит прийти в вечность вне Бога и обрести ту вечность, которая есть «тьма внешняя, где плач и скрежет зубов». «Воссядь на престоле Осириса. Скипетр в деснице твоей. Да повелеваешь ты живыми. Лотосо-бутонный скипетр твой,³ в деснице твоей. Да повелеваешь ты теми, сиденья которых сокрыты (т.е. обитатели инобытия, духи)».
______________________________
[3] Символика голубого лотоса (sšn, сешен) является наиболее заметной отличительной чертой религиозной традиции Древнего Египта, пронизывая искусство храмов и гробниц на протяжении более 3000 лет. В этих изображениях цветок и его аромат ассоциируются с любовью, возрождением и дыханием духовной жизни.
В следующей строке речения говорится: «Руки твои — Атум, плечи твои — Атум, чрево твое — Атум, спина твоя — Атум, задние части твои — Атум, ноги твои — Атум, лик твой — Анубис». То есть здесь утверждается не только полносоставное и абсолютно телесное обожение, но одновременно здесь обыгрывается еще одна мысль, Атум это tm — полнота. И этим утверждается, что сам умерший он целостен, он не распался, «он не познал тления», он не стал зловонным распадающимся трупом, он целостен. И речь в этом тексте конечно же говорит о воскресении, а не о сохранении, потому что он «пришел живым и целостным» — это знаки того, что человеку суждена вечность в Боге, что он прожил жизнь в соответствии с Богом и достиг вечной жизни в Боге. Он и Бог-Творец (Атум) — одно. И завершается это речение словами: «Сколь прекрасным стало твое бытие. О Унас, воскрес ты среди братьев твоих богов. Свершилось. Свершилось».
Подобных речений много в Текстах Пирамид. Например: «О Пепи, ты пришел чтобы познать жизнь, ты не пришел чтобы познать смерть». Познать — это принять в себя, стать одним целым с объектом познания. «Ты пришел чтобы воскреснуть во главе всех воскресших, чтобы обрести могущество над всеми живыми. Будь мощным, имеющий мощь. Будь сильным, имеющий силу».
В Древнем Египте верили, что человек вечен, что человек от Бога изшел и к Богу возвращается, что он был до сотворения мира. «Мать Пепи тяжела была им (беременна им), тем кто пребывал во чреве Нунет (мать вечности). Вылеплен был Пепи отцом своим Атумом до того как возбытийствовала Нут, до того как возбытийствовал Геб, до того как возбытийствовали люди (то есть он был вылеплен Атумом до того как появились люди, он был божественной энергией), до того как рождены были боги, до того как возбытийствовала смерть». И это очень важно, потому что тот кто был до смерти будет и после смерти. Т.е., Пепи, в качестве божественного замысла о нем, — вечен. Он возвращается туда откуда вышел.
В Египте человек после смерти в ином мире всегда становится царем. Когда человека почитают как умершего с ним всегда связана царская титулатура, царская эмблематика, и в могилу умершего кладутся изображения царского венца, скипетра, как знаки его царского достоинства. Не случайно в Египте умерший объявляется Атумом, Гебом, Осирисом. То есть речь идет не о том, что после смерти жалкий человек теряет свою свободу, а речь идет о том, что он приобретает абсолютную божественную царскую качественность, он и есть бог в полноте сил. Но это не значит, что он есть еще один бог, а он и есть Бог-Творец. Вся египетская эсхатология пронизана одной этой важной мыслью — «ты здесь свободно действующий член Бога, который может от него и отпасть, там — сам Бог-Творец, ты многоипостасен, но ты и есть Осирис».
Последнее речение Книги Мертвых говорит: «О отец мой Осирис, соделай со мной то, что отец твой Ра соделал с тобой. Да прибуду я долго на земле, да прочно будет утвержден престол мой, да прибудет в добром здравии наследник мой, да сохранится долго гробница моя, и слуги эти мои на земле. Ибо я — сын твой, о отец мой Ра. Соделай так дабы был я жив, невредим и здрав (категории царского титула). Утвержден Гор на престоле своем, и потому пришло для меня время стяжать удел блаженных». На престоле утвержден сын, наследник, а Осирис, умерший стяжал удел блаженных. Умерший объединяет в себе всю полноту мира. Чтобы охарактеризовать человека египтяне использовали категорию истечения из тела Бога, говоря что человек это слезы Бога,⁴ например.
______________________________
[4] Относительно людей, рожденных их слез бога, имеет место игра слов. Люди по-египетски — rmṯ («ремеч»), поздняя форма — rmt («ремет»), а слезы — rmjt («ремит»). Хотя, первых богов Шу и Тефнут демиург Атум творит тоже посредством «истечений», совокупляясь со своей рукой. Он изверг семя себе в рот, оплодотворив сам себя, и вскоре выплюнул изо рта Шу, бога ветра и воздуха, и изрыгнул Тефнут, богиню мирового порядка.
Если человек выходя из Бога является его истечением, то каков же обратный путь, когда человек входит в Бога? Это путь совершенно естественный. Как мы делаем вне нас находящиеся вещи частью нашей силы? Мы их поглощаем (вбираем в себя).
Как же умерший восстанавливает свою божественную целокупность, которую он при жизни не имел? Для этого он «ест» весь мир, но не в буквальном смысле слова, это конечно же метафора. Этот принцип воспроизводится в знаменитом гимне, который присутствует в 273 и 274 речениях Текстов пирамид, называемом «Каннибальским гимном». Каннибальским — потому что, когда его прочли ученые, они решили, что речь идет о каком-то древнем, людоедском обряде, древнем обряде каннибализма. Борис Александрович Тураев, наш замечательный русский востоковед, автор двухтомной истории Древнего Востока и специальных книг по религии древнего Египта, назвал этот гимн крайне грубым и примитивным. Однако в этом гимне, отрывок которого приведен ниже, содержится очень глубокая идея.
Дальше в гимне подробно говорится о том, кого он ест на завтрак, кого на обед, кого на ужин. Вот это, разумеется, смущает, но на самом деле здесь речь идет совершенно о другом. Не случайно Тети вместе с Тем, Чье имя сокрыто, с Творцом мира — с Осирисом и с Атумом-Ра. Он стоит спиной к Гебу, повернувшись лицом к Инобытию, к вечности.⁵ Более того, он будет вершить суд. Он будет вершить суд тогда, когда будут убиты наидревнейшие (smsw, семсу) — по всей видимости, это отпавшие и воюющие против Бога духи.
Поглощаемые Единым Богом люди и духи уже перестают быть независимыми, волящими существами — они становятся одно с Творцом.⁶ В этом смысл каннибальского гимна и в этом смысл его употребления в заупокойной традиции. То есть Тети, как и Бог-Творец, вновь поглощает все энергии и становится их обладателем. Он уже не одно, а Бог — другое, а он и Бог — одно, и все остальные боги вместе с ним.
______________________________
[5] Быть обращенным спиной к кому-либо означает быть под его защитой, опекой, точно также как иметь кого-либо стоящим за спиной.
[6] Иногда дуат, в представлении египтян, описывается как пространство заключенное внутри тела Осириса. И вход в дуат, в этом случае, описывается как огромные уста спящего Осириса. Солнечный бог размыкает эти уста и в своей ночной ладье входит внутрь этого тела, где находится предвечная тьма, освещая ту или иную область, по мере прохождения всех 12-ти ночных залов дуата. Отсюда берут истоки средневековые представления о том как души усопших попадают в ад, входя в пасть дьявола. Видимо, эти же аллюзии лежат и в основе развития «Каннибальского гимна».
В Текстах ковчегов, в речениях 132 и 136, также присутствует аналогичный «каннибальскому» гимн, где провозглашается тождественность умершего Богу-Творцу в Его эсхатологическом образе Судьи и Поглотителя сотворенного Им.
В целом ряде речений, которые принадлежат IX-X Гераклеопольской династии, например, в речениях, записанных на ковчеге Месхети из Асьюта, которые называются «речениями для воссоединения с семьей в Инобытии», описываются жуткие образы этого пожрания богов и людей. А ведь у этого речения такая мирная цель — воссоединение с семьей в Инобытии. Потому что воссоединение с семьей происходит не так, как в этом мире. Нет, воссоединение с семьей происходит в единстве Бога. И его семья вместе с ним тоже. То есть воссоединение с семьей — это воссоединение в такое единство, какое здесь и не снилось или только в какие-то отдельные моменты переживается, может, только во время соединения полов, в абсолютном экстазе.
Но для простых людей эпохи Первого Переходного периода самое главное не вот это соединение с Богом, самое главное — соединение с близкими. Но мистериально, ритуально эта мечта воплощается в этом же образе, если угодно, «каннибальского» гимна.
Тексты ковчегов Сенени, Херихеба, Хенуи из Саккара, уже упоминавшегося Хатиа Месхети из Асьюта, все они, собственно говоря, об этом. У Месхети из Асьюта это речение завершается так: «Я есть Атум, сотворивший этих великих. Я есть тот, кто сотворил Шу и создал Тефнут. Я есть тот, кто разделил их единство еще в Нуне» (CT 132).
Понятно, что как Творец поглощает в себя все силы, все энергии мира, также поглощает их Тети в «Каннибальском гимне» и Хатиа Месхети в этом гимне Текстов ковчегов. Таким образом достигается то, что греческий богослов назвал бы омоусийностью⁷ с Творцом: Месхети становится единосущен Творцу. Та формула, которую христиане употребляют в отношении Иисуса, и после многих споров эта формула вошла в жизнь на Первом вселенском Никейском соборе в 325 году, этот же принцип для египтянина был принципом для каждого человека: каждый человек становится омоусиен Творцу.
______________________________
[7] ὁμοούσιος — омоусийный, единосущный (от ὁμός — «один, в равной степени, общий»; οὐσία — «сущность»).
Мы воспринимаем себя как кого-то отдельного, каждый из нас сам по себе. Но египтянин понимал, что он личность, он задуман в Боге, он вошел в этот мир в соответствии с волей Бога, и он этот мир возвращает Богу уже преображенным своей единой с Богом волей. И этот возвращенный Богу мир и есть его тело. Его тело это и его физическое тело, которым он действует, и все то по отношению к чему он действует и орудует. Всю силу свою, все дело свое на земле он возвращает Богу. А тот кто делал не Божье на земле, тот не может ничего Богу возвратить, и поэтому такие дела сгорят, и этот человек спасется, но из огня.
Этот образ человека как преобразователя мира своими энергиями находит свое отражение в идее царского земного венца. В Египте царь венчался двумя коронами, белой (небесной) и красной (земной). Именно красная корона (dšrt, дешрет) является образом владычества человека над землей. И это владычество человек достигает если служит Богу и возвращает этот мир Богу. Об этом хорошо сказано в речении Книги Мертвых: «Правда является из-за плеч Осириса. Красный венец сияет на дискосе. Поглощено око, и тот кто искал его приведен. Ведомо мне сие, ибо был я посвящен в таинства эти. Никогда я не говорил этого людям и не повторял этого богам, пришел я по повелению Ра дабы явилась правда из-за плеч Осириса, дабы воздвигнут был красный венец на дискосе, дабы умиротворилось око для того кому принадлежит оно. Пришел я с властью, ибо то что ведомо мне никогда не говорил я людям, никогда не повторял я сказанное мною».
_______________________________
_________
Тексты Пирамид. Пирамида Униса. Передняя комната. Восточный фронтон.
(Каннибальский гимн 273-274)
273 (§393a-403b)
Небо пасмурное, звезды гаснут, небесное пространство трясется, кости Горизонтов дрожат, gnmw молчат, когда они видят Униса. bȝ появляется как бог, питающийся своими отцами, питающийся своими матерями. Унис — это владыка поучения. Его мать не знает его имени. Почтение Униса — на небе. Его сила — в Ахет (ȝḫt, горизонт). Как Атум, его отец, родивший его. Хотя он (Атум) родил его, он (Унис) сильнее его. kȝw-сила Униса — вокруг него. Его ḥmwst (судьба) — под его ногами. Его боги — на его голове. Его Уреи — на его волосах. Змея-проводник Униса — на его лбу — та, которая видит bȝ, Урей изрыгающий пламя. Сила Униса защищает его. Унис — это бык неба в своем сердце, питающийся формой любого бога: тех, которые едят свои внутренности, тех которые вернулись с острова огня со своими телами, полными магии. Унис — это оснащенный, соединяющий свои ȝḫw. Унис появляется как этот Великий, владыка «находящихся в месте руки». Он сидит, спина же его [направлена] к Гебу. Это Унис, тот, кто судит с «Тем, чье имя сокрыто» в этот день убийства старших [богов]. Унис — это владыка жертв, стягивающий веревку, делающий свою пищу сам. Унис — это тот, кто ест людей, тот, кто питается богами, владыка гонцов, отправляющих сообщения. Это «Хватающий [за] волосы, находящийся в kḥȝw», тот, кто ловит их арканом для Униса. Это змей «Поднимающий голову», тот, кто сторожит их для него, тот, кто сдерживает их для него. «Находящийся на Ивах», тот, кто связывает их для него. Хонсу,⁸ убийца богов, тот, кто сворачивает их шеи для Униса. Он вытаскивает для него то, что в их телах. Это поручение, тот, кого он посылает для сдерживания. Это Šsmw,⁹ тот, кто убивает их для Униса, тот, кто готовит из них еду в его печах для [приготовления] ужина.
274 (§403c-414c)
Унис — это тот, кто ест их магию, тот, кто проглатывает их ȝḫw.¹⁰ Их большие — для его завтрака. Их средние — для его ужина. Их маленькие — для его ночной еды. Их старики и старухи — ему на [благовонное] каждение. Великие с северного неба, помещающие для него огонь к котлам, которые под ними, с сильными руками их старших (в качестве топлива?). Унису служат обитатели неба. Печки украшены для него ногами их жен. Он обошел два полных неба. Ему служат два берега, Унис — это «Великая Власть», [Унис —] самый властный. Унис — это самое святое изображение Великого. Тот, кого он находит на своем пути, он ест его сырым. Защита Униса впереди всех должностей, которые есть в Ахет. Унис — это самый старший бог. Ему служат тысячи. Ему жертвуют сотни. Sȝḥ,¹¹¹ отец богов, дал ему грамоту, как «Великой Власти». Унис повторил появление в небе. Он коронован Белой короной как «Владыка Ахет». Он посчитал позвонки позвоночника. Он завладел сердцами (ḥȝtjw)¹² богов. Он съел Красную корону. Он проглотил Зеленую (Wȝḏt).¹³ Унис питается легкими мудрецов. Он доволен как «питающийся их сердцами (jbw)¹⁴ и магией». Унис испытывает отвращение когда он слизывает рвотные массы находящиеся в Красной короне. Унис доволен, когда их магия в его теле. Не отнимут привилегий Униса у него. Он проглотил sjȝ¹⁵ каждого бога. Вечное повторение — это длина жизни Униса. Вечное единообразие — это его предел, в этой его привилегии «Если он хочет — он делает, если он не хочет — он не делает», которая в пределах Ахет навечно. Вот их bȝ¹⁶ в теле Униса, их ȝḫw с Унисом, его пища от богов, приготовленная из их костей. Вот их bȝ с Унисом, их тени [отняты] от тех, кому они принадлежат. Унис — это тот, кто появляется, появляется, кто сокрыт, сокрыт. Тот кто творит зло — не имеет власти для уничтожения места сердца [гробницы] Униса среди живущих в этой земле во веки веков.
275 (§415a-416c)
Унис пришел к вам, о Соколы. Ваши дворы закрыты от Униса. Его одежда на его спине, сделанная из кожи бабуина. Унис открывает дверь. Унис принес к границам Ахет. Он сбросил его одежду на землю там. Унис становиться Великим, находящимся в Крокодилополисе.¹⁷
______________________________
[8] Ḫnsw — Хонсу («Странник»), в египетской мифологии, бог луны, времени и его измерения, сын Амона и богини неба Мут.
[9] Šsmw — Шезму, бог пресса для выжимки масла или вина. Шезму был известен как истребитель преступников, с отвращением кладущий их головы под винный пресс, и великий защитник добродетели.
[10] ȝḫ (мн. ч. ȝḫw) — просветленный дух.
[11] Sȝḥ — Сах, созвездие Ориона, отождествляемое с Осирисом.
[12] ḥȝtjw — анатомические сердца.
[13] Wȝḏt, Wȝḏjt («Зеленая») — Уаджит, богиня покровительница Нижнего Египта.
[14] jbw — духовные сердца.
[15] sjȝ — магическая сила творения.
[16] bȝ — душа ба.
[17] Κροκοδειλόπολις (Κροκοδείλων πόλις) — греческое название древнеегипетского города Шедит (Šdjt), расположенного на берегу Меридова озера в Файюмском оазисе. Культовый центр Себека — бога почитавшегося в образе крокодила.
_______________________________
РЕЛИГИЯ ЕГИПТА
Погребальный обряд, который совершался в Египте, воспроизводил смерть и воскрешение Осириса. Человек и его тело были образами Первообраза (т.е. Осириса, который первым претерпел смерть от своего брата Сета и воскресение в жизнь вечную).¹ То есть человек воспринимался как Осирис, его тело воспринималось как тело Осириса. Смерть сама по себе не требовала ритуала, она — противоестественная естественность, которая происходит с каждым человеком, независимо от того, верующий он или неверующий, посвященный или непосвященный. Смерть просто констатируется.
А вот воскресение, воскрешение умершего в загробной жизни, воспроизводилось в ритуале. Начинался ритуал с «обретения» тела умершего. В целом ряде Текстов пирамид Исида и Нефтида отыскивают тело Осириса. На самом деле они отыскивают тело умершего — не физически, но мистериально. Обряд плачей по умершему и отсутствовавшему Осирису, а потом его обретение — это был важный элемент ритуала (Тексты пирамид: § 584, 1008, 1256, 2144). Потом обретенное тело оплакивалось (Книга мертвых 19,11 и 20,5). После чего тело омывалось и восстанавливалось (разрубленное тело Осириса сочленялось и мумифицировалось). Этот обряд зафиксирован в параграфе 1981 Текстов пирамид. То, что было с Осирисом, должно было произойти и с Тети, Неферкара, Меренра, Ани. Потому что все они были посвящены в мистериальные таинства, они знали, что произошло с Осирисом и они одно с Осирисом. Если Осирис жив, то и Пепи жив, если Осирис предвечен, то и Пепи предвечен.
[Нефтида:]______________________________
«Пришла я, обошла я вокруг брата-Осириса, царя-владыки Обеих Земель Небхепрура. Установила я тебе голову твою на шею твою. Собрал тебе Анубис кости твои. Оздоровил он тело твое. Удалил он дурное (т.е. разложение) все. Отринул он скорбь твою. Не погибнешь ты («нет гибели твоей»)».²
[1] Хентиаменти (ḫntj-jmntjw) — «Первый среди западных», т.е. владыка дуата (царства мертвых). Главенство Осириса в дуате связано с тем, что он первым прошел Небесный джаджат (ḏȝḏȝt, священный суд девятерицы богов). И будучи первым, получившим оправдание, он получил право судить души усопших на посмертном суде. «Тот, кто первым прошел [посмертный суд], получает право судить других» [P.125.7].
[2] (ḏd mdw jn nbt-ḥwt) jj.n(.j) pẖr.n(.j) ḥȝ sn jsjr nswt nb tȝwj nb-ḫprw-rˁ s.mn.n.j n.k dp/tp.k ḥr nḥbt.k dmd n.k jnpw ḳsw.k snb.f ḥˁw.k dr.f ḏwt nb rwj.f jhȝ.k nn ḏˁmw.k (Piankoff, Chapelles, pl. III)
Для древнего египтянина верование в жизнь вечную было не сомнительным знанием, не каким-то скучным догматом, это было сутью жизни. В одном из Текстов Пирамид говорится: «О Унас, ты не приходишь мертвым, ты приходишь живым». Что такое прийти в вечность мертвым? Это значит прийти в вечность вне Бога и обрести ту вечность, которая есть «тьма внешняя, где плач и скрежет зубов». «Воссядь на престоле Осириса. Скипетр в деснице твоей. Да повелеваешь ты живыми. Лотосо-бутонный скипетр твой,³ в деснице твоей. Да повелеваешь ты теми, сиденья которых сокрыты (т.е. обитатели инобытия, духи)».
______________________________
[3] Символика голубого лотоса (sšn, сешен) является наиболее заметной отличительной чертой религиозной традиции Древнего Египта, пронизывая искусство храмов и гробниц на протяжении более 3000 лет. В этих изображениях цветок и его аромат ассоциируются с любовью, возрождением и дыханием духовной жизни.
В следующей строке речения говорится: «Руки твои — Атум, плечи твои — Атум, чрево твое — Атум, спина твоя — Атум, задние части твои — Атум, ноги твои — Атум, лик твой — Анубис». То есть здесь утверждается не только полносоставное и абсолютно телесное обожение, но одновременно здесь обыгрывается еще одна мысль, Атум это tm — полнота. И этим утверждается, что сам умерший он целостен, он не распался, «он не познал тления», он не стал зловонным распадающимся трупом, он целостен. И речь в этом тексте конечно же говорит о воскресении, а не о сохранении, потому что он «пришел живым и целостным» — это знаки того, что человеку суждена вечность в Боге, что он прожил жизнь в соответствии с Богом и достиг вечной жизни в Боге. Он и Бог-Творец (Атум) — одно. И завершается это речение словами: «Сколь прекрасным стало твое бытие. О Унас, воскрес ты среди братьев твоих богов. Свершилось. Свершилось».
Подобных речений много в Текстах Пирамид. Например: «О Пепи, ты пришел чтобы познать жизнь, ты не пришел чтобы познать смерть». Познать — это принять в себя, стать одним целым с объектом познания. «Ты пришел чтобы воскреснуть во главе всех воскресших, чтобы обрести могущество над всеми живыми. Будь мощным, имеющий мощь. Будь сильным, имеющий силу».
В Древнем Египте верили, что человек вечен, что человек от Бога изшел и к Богу возвращается, что он был до сотворения мира. «Мать Пепи тяжела была им (беременна им), тем кто пребывал во чреве Нунет (мать вечности). Вылеплен был Пепи отцом своим Атумом до того как возбытийствовала Нут, до того как возбытийствовал Геб, до того как возбытийствовали люди (то есть он был вылеплен Атумом до того как появились люди, он был божественной энергией), до того как рождены были боги, до того как возбытийствовала смерть». И это очень важно, потому что тот кто был до смерти будет и после смерти. Т.е., Пепи, в качестве божественного замысла о нем, — вечен. Он возвращается туда откуда вышел.
В Египте человек после смерти в ином мире всегда становится царем. Когда человека почитают как умершего с ним всегда связана царская титулатура, царская эмблематика, и в могилу умершего кладутся изображения царского венца, скипетра, как знаки его царского достоинства. Не случайно в Египте умерший объявляется Атумом, Гебом, Осирисом. То есть речь идет не о том, что после смерти жалкий человек теряет свою свободу, а речь идет о том, что он приобретает абсолютную божественную царскую качественность, он и есть бог в полноте сил. Но это не значит, что он есть еще один бог, а он и есть Бог-Творец. Вся египетская эсхатология пронизана одной этой важной мыслью — «ты здесь свободно действующий член Бога, который может от него и отпасть, там — сам Бог-Творец, ты многоипостасен, но ты и есть Осирис».
Последнее речение Книги Мертвых говорит: «О отец мой Осирис, соделай со мной то, что отец твой Ра соделал с тобой. Да прибуду я долго на земле, да прочно будет утвержден престол мой, да прибудет в добром здравии наследник мой, да сохранится долго гробница моя, и слуги эти мои на земле. Ибо я — сын твой, о отец мой Ра. Соделай так дабы был я жив, невредим и здрав (категории царского титула). Утвержден Гор на престоле своем, и потому пришло для меня время стяжать удел блаженных». На престоле утвержден сын, наследник, а Осирис, умерший стяжал удел блаженных. Умерший объединяет в себе всю полноту мира. Чтобы охарактеризовать человека египтяне использовали категорию истечения из тела Бога, говоря что человек это слезы Бога,⁴ например.
______________________________
[4] Относительно людей, рожденных их слез бога, имеет место игра слов. Люди по-египетски — rmṯ («ремеч»), поздняя форма — rmt («ремет»), а слезы — rmjt («ремит»). Хотя, первых богов Шу и Тефнут демиург Атум творит тоже посредством «истечений», совокупляясь со своей рукой. Он изверг семя себе в рот, оплодотворив сам себя, и вскоре выплюнул изо рта Шу, бога ветра и воздуха, и изрыгнул Тефнут, богиню мирового порядка.
Если человек выходя из Бога является его истечением, то каков же обратный путь, когда человек входит в Бога? Это путь совершенно естественный. Как мы делаем вне нас находящиеся вещи частью нашей силы? Мы их поглощаем (вбираем в себя).
Как же умерший восстанавливает свою божественную целокупность, которую он при жизни не имел? Для этого он «ест» весь мир, но не в буквальном смысле слова, это конечно же метафора. Этот принцип воспроизводится в знаменитом гимне, который присутствует в 273 и 274 речениях Текстов пирамид, называемом «Каннибальским гимном». Каннибальским — потому что, когда его прочли ученые, они решили, что речь идет о каком-то древнем, людоедском обряде, древнем обряде каннибализма. Борис Александрович Тураев, наш замечательный русский востоковед, автор двухтомной истории Древнего Востока и специальных книг по религии древнего Египта, назвал этот гимн крайне грубым и примитивным. Однако в этом гимне, отрывок которого приведен ниже, содержится очень глубокая идея.
«Всем владеет Тети — воскресшие пребывают в нем.
Восстает Тети как Единственный Великий,
Обладающий помощниками.
Восседает он спиною к Гебу,
Ибо Тети этот вместе с Тем, чье имя сокрыто,
Будет вершить суд в день убиения наидревнейших.
Тети — владыка приношений, затягивающий аркан,
Сам готовящий пищу себе.
Тети пожирает людей и поглощает богов.
Ему повинуются привратники, он рассылает посланников своих».
(Тексты пирамид, § 398-400)
Дальше в гимне подробно говорится о том, кого он ест на завтрак, кого на обед, кого на ужин. Вот это, разумеется, смущает, но на самом деле здесь речь идет совершенно о другом. Не случайно Тети вместе с Тем, Чье имя сокрыто, с Творцом мира — с Осирисом и с Атумом-Ра. Он стоит спиной к Гебу, повернувшись лицом к Инобытию, к вечности.⁵ Более того, он будет вершить суд. Он будет вершить суд тогда, когда будут убиты наидревнейшие (smsw, семсу) — по всей видимости, это отпавшие и воюющие против Бога духи.
Поглощаемые Единым Богом люди и духи уже перестают быть независимыми, волящими существами — они становятся одно с Творцом.⁶ В этом смысл каннибальского гимна и в этом смысл его употребления в заупокойной традиции. То есть Тети, как и Бог-Творец, вновь поглощает все энергии и становится их обладателем. Он уже не одно, а Бог — другое, а он и Бог — одно, и все остальные боги вместе с ним.
______________________________
[5] Быть обращенным спиной к кому-либо означает быть под его защитой, опекой, точно также как иметь кого-либо стоящим за спиной.
[6] Иногда дуат, в представлении египтян, описывается как пространство заключенное внутри тела Осириса. И вход в дуат, в этом случае, описывается как огромные уста спящего Осириса. Солнечный бог размыкает эти уста и в своей ночной ладье входит внутрь этого тела, где находится предвечная тьма, освещая ту или иную область, по мере прохождения всех 12-ти ночных залов дуата. Отсюда берут истоки средневековые представления о том как души усопших попадают в ад, входя в пасть дьявола. Видимо, эти же аллюзии лежат и в основе развития «Каннибальского гимна».
В Текстах ковчегов, в речениях 132 и 136, также присутствует аналогичный «каннибальскому» гимн, где провозглашается тождественность умершего Богу-Творцу в Его эсхатологическом образе Судьи и Поглотителя сотворенного Им.
В целом ряде речений, которые принадлежат IX-X Гераклеопольской династии, например, в речениях, записанных на ковчеге Месхети из Асьюта, которые называются «речениями для воссоединения с семьей в Инобытии», описываются жуткие образы этого пожрания богов и людей. А ведь у этого речения такая мирная цель — воссоединение с семьей в Инобытии. Потому что воссоединение с семьей происходит не так, как в этом мире. Нет, воссоединение с семьей происходит в единстве Бога. И его семья вместе с ним тоже. То есть воссоединение с семьей — это воссоединение в такое единство, какое здесь и не снилось или только в какие-то отдельные моменты переживается, может, только во время соединения полов, в абсолютном экстазе.
Но для простых людей эпохи Первого Переходного периода самое главное не вот это соединение с Богом, самое главное — соединение с близкими. Но мистериально, ритуально эта мечта воплощается в этом же образе, если угодно, «каннибальского» гимна.
Тексты ковчегов Сенени, Херихеба, Хенуи из Саккара, уже упоминавшегося Хатиа Месхети из Асьюта, все они, собственно говоря, об этом. У Месхети из Асьюта это речение завершается так: «Я есть Атум, сотворивший этих великих. Я есть тот, кто сотворил Шу и создал Тефнут. Я есть тот, кто разделил их единство еще в Нуне» (CT 132).
Понятно, что как Творец поглощает в себя все силы, все энергии мира, также поглощает их Тети в «Каннибальском гимне» и Хатиа Месхети в этом гимне Текстов ковчегов. Таким образом достигается то, что греческий богослов назвал бы омоусийностью⁷ с Творцом: Месхети становится единосущен Творцу. Та формула, которую христиане употребляют в отношении Иисуса, и после многих споров эта формула вошла в жизнь на Первом вселенском Никейском соборе в 325 году, этот же принцип для египтянина был принципом для каждого человека: каждый человек становится омоусиен Творцу.
______________________________
[7] ὁμοούσιος — омоусийный, единосущный (от ὁμός — «один, в равной степени, общий»; οὐσία — «сущность»).
Мы воспринимаем себя как кого-то отдельного, каждый из нас сам по себе. Но египтянин понимал, что он личность, он задуман в Боге, он вошел в этот мир в соответствии с волей Бога, и он этот мир возвращает Богу уже преображенным своей единой с Богом волей. И этот возвращенный Богу мир и есть его тело. Его тело это и его физическое тело, которым он действует, и все то по отношению к чему он действует и орудует. Всю силу свою, все дело свое на земле он возвращает Богу. А тот кто делал не Божье на земле, тот не может ничего Богу возвратить, и поэтому такие дела сгорят, и этот человек спасется, но из огня.
Этот образ человека как преобразователя мира своими энергиями находит свое отражение в идее царского земного венца. В Египте царь венчался двумя коронами, белой (небесной) и красной (земной). Именно красная корона (dšrt, дешрет) является образом владычества человека над землей. И это владычество человек достигает если служит Богу и возвращает этот мир Богу. Об этом хорошо сказано в речении Книги Мертвых: «Правда является из-за плеч Осириса. Красный венец сияет на дискосе. Поглощено око, и тот кто искал его приведен. Ведомо мне сие, ибо был я посвящен в таинства эти. Никогда я не говорил этого людям и не повторял этого богам, пришел я по повелению Ра дабы явилась правда из-за плеч Осириса, дабы воздвигнут был красный венец на дискосе, дабы умиротворилось око для того кому принадлежит оно. Пришел я с властью, ибо то что ведомо мне никогда не говорил я людям, никогда не повторял я сказанное мною».
_________
Тексты Пирамид. Пирамида Униса. Передняя комната. Восточный фронтон.
(Каннибальский гимн 273-274)
273 (§393a-403b)
Небо пасмурное, звезды гаснут, небесное пространство трясется, кости Горизонтов дрожат, gnmw молчат, когда они видят Униса. bȝ появляется как бог, питающийся своими отцами, питающийся своими матерями. Унис — это владыка поучения. Его мать не знает его имени. Почтение Униса — на небе. Его сила — в Ахет (ȝḫt, горизонт). Как Атум, его отец, родивший его. Хотя он (Атум) родил его, он (Унис) сильнее его. kȝw-сила Униса — вокруг него. Его ḥmwst (судьба) — под его ногами. Его боги — на его голове. Его Уреи — на его волосах. Змея-проводник Униса — на его лбу — та, которая видит bȝ, Урей изрыгающий пламя. Сила Униса защищает его. Унис — это бык неба в своем сердце, питающийся формой любого бога: тех, которые едят свои внутренности, тех которые вернулись с острова огня со своими телами, полными магии. Унис — это оснащенный, соединяющий свои ȝḫw. Унис появляется как этот Великий, владыка «находящихся в месте руки». Он сидит, спина же его [направлена] к Гебу. Это Унис, тот, кто судит с «Тем, чье имя сокрыто» в этот день убийства старших [богов]. Унис — это владыка жертв, стягивающий веревку, делающий свою пищу сам. Унис — это тот, кто ест людей, тот, кто питается богами, владыка гонцов, отправляющих сообщения. Это «Хватающий [за] волосы, находящийся в kḥȝw», тот, кто ловит их арканом для Униса. Это змей «Поднимающий голову», тот, кто сторожит их для него, тот, кто сдерживает их для него. «Находящийся на Ивах», тот, кто связывает их для него. Хонсу,⁸ убийца богов, тот, кто сворачивает их шеи для Униса. Он вытаскивает для него то, что в их телах. Это поручение, тот, кого он посылает для сдерживания. Это Šsmw,⁹ тот, кто убивает их для Униса, тот, кто готовит из них еду в его печах для [приготовления] ужина.
274 (§403c-414c)
Унис — это тот, кто ест их магию, тот, кто проглатывает их ȝḫw.¹⁰ Их большие — для его завтрака. Их средние — для его ужина. Их маленькие — для его ночной еды. Их старики и старухи — ему на [благовонное] каждение. Великие с северного неба, помещающие для него огонь к котлам, которые под ними, с сильными руками их старших (в качестве топлива?). Унису служат обитатели неба. Печки украшены для него ногами их жен. Он обошел два полных неба. Ему служат два берега, Унис — это «Великая Власть», [Унис —] самый властный. Унис — это самое святое изображение Великого. Тот, кого он находит на своем пути, он ест его сырым. Защита Униса впереди всех должностей, которые есть в Ахет. Унис — это самый старший бог. Ему служат тысячи. Ему жертвуют сотни. Sȝḥ,¹¹¹ отец богов, дал ему грамоту, как «Великой Власти». Унис повторил появление в небе. Он коронован Белой короной как «Владыка Ахет». Он посчитал позвонки позвоночника. Он завладел сердцами (ḥȝtjw)¹² богов. Он съел Красную корону. Он проглотил Зеленую (Wȝḏt).¹³ Унис питается легкими мудрецов. Он доволен как «питающийся их сердцами (jbw)¹⁴ и магией». Унис испытывает отвращение когда он слизывает рвотные массы находящиеся в Красной короне. Унис доволен, когда их магия в его теле. Не отнимут привилегий Униса у него. Он проглотил sjȝ¹⁵ каждого бога. Вечное повторение — это длина жизни Униса. Вечное единообразие — это его предел, в этой его привилегии «Если он хочет — он делает, если он не хочет — он не делает», которая в пределах Ахет навечно. Вот их bȝ¹⁶ в теле Униса, их ȝḫw с Унисом, его пища от богов, приготовленная из их костей. Вот их bȝ с Унисом, их тени [отняты] от тех, кому они принадлежат. Унис — это тот, кто появляется, появляется, кто сокрыт, сокрыт. Тот кто творит зло — не имеет власти для уничтожения места сердца [гробницы] Униса среди живущих в этой земле во веки веков.
275 (§415a-416c)
Унис пришел к вам, о Соколы. Ваши дворы закрыты от Униса. Его одежда на его спине, сделанная из кожи бабуина. Унис открывает дверь. Унис принес к границам Ахет. Он сбросил его одежду на землю там. Унис становиться Великим, находящимся в Крокодилополисе.¹⁷
______________________________
[8] Ḫnsw — Хонсу («Странник»), в египетской мифологии, бог луны, времени и его измерения, сын Амона и богини неба Мут.
[9] Šsmw — Шезму, бог пресса для выжимки масла или вина. Шезму был известен как истребитель преступников, с отвращением кладущий их головы под винный пресс, и великий защитник добродетели.
[10] ȝḫ (мн. ч. ȝḫw) — просветленный дух.
[11] Sȝḥ — Сах, созвездие Ориона, отождествляемое с Осирисом.
[12] ḥȝtjw — анатомические сердца.
[13] Wȝḏt, Wȝḏjt («Зеленая») — Уаджит, богиня покровительница Нижнего Египта.
[14] jbw — духовные сердца.
[15] sjȝ — магическая сила творения.
[16] bȝ — душа ба.
[17] Κροκοδειλόπολις (Κροκοδείλων πόλις) — греческое название древнеегипетского города Шедит (Šdjt), расположенного на берегу Меридова озера в Файюмском оазисе. Культовый центр Себека — бога почитавшегося в образе крокодила.
_______________________________
|
Метки: Осирис Египет Мистерии |
КУЛЬТ ИМПЕРАТОРА |
С.И. Качан
БОГ ХОР И РИМСКИЙ ИМПЕРАТОР
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются культовые действия в честь римского императора, отраженные в папирусе P..Giss.3. Согласно этому документу в образе правящего монарха в долине реки Нил проявляются черты богов Хора, Аполлона и Юпитера, которые отожествлены между собой и выступают в качестве психопомпа (ψυχοπομπός), ведущего покойного императора в небо. Ка-тюхе живущего и покойного правителей тесно связаны между собой и находят свои египетские и греко-римские параллели и, в этой связи, становится фактором легитимизации власти правящего монарха. Культовые действия в P..Giss.3 тесно связаны с традиционным египетским «Праздником пустынной долины».
* * *
В Египте земной правитель мыслился как земное воплощение бога Хора. Это представление существовало на всем протяжении египетской истории и имело продолжение в греко-римское время. В частности, с завоеванием долины реки Нил Римской державой император в культовом почитании занял место Птолемеев, или, по крайней мере, стал восприниматься местной знатью в качестве египетского фараона, постепенно входя в эту роль. Но с приходом греков, а позднее римлян, в долину реки Нил и внедрением греко-римских религиозных представлений в традиционную египетскую систему верований, произошли изменения в восприятии образа Хора. В связи с этим, в данной статье рассматриваются следующие проблемы: образы каких божеств отождествлялись с богом Хором и какие культовые формы в честь римского императора возникали в рамках данной контаминации, основанной на греко-римских и египетских религиозных представлениях. Так как император помещался автохтонной знатью в местные культовые действия, то, в этой связи, будет рассмотрено, в какой традиционный египетский праздник мог быть инкорпорирован образ римского правителя, связанный с отождествлением императора с Хором и богами греко-римского пантеона.
Для более глубокого изучения синкретических преобразований, которые произошли с образом Хора, а, значит, и императора, автор данного исследования изучил греческий текст из папируса P..Giss.3, созданный в Аполлонополисе Гектакомии (в египетской хоре) в 117г. и принадлежавший стратегу данного нома — Аполлонию. Текст повествует о появлении бога Аполлона-Феба, который возносит на небо в колеснице, запряженной четырьмя белыми лошадьми, покойного императора Траяна. Бог провозглашает нового правителя Адриана, чье восшествие на престол сопровождается драматическими представлениями (эти действия были организованы Аполлонием, за что жители Гектакомии благодарят стратега). Текст папируса показывает, что в образе солнечного бога представлен сам император Адриан: римский правитель назван в тексте владыкой (ἄνακτα)¹ — термином, который был связан с образом Аполлона. Смешение образа римского правителя с чертами бога Аполлона хорошо известно и представлено многочисленными примерами [14. P. 382, 383. Fig. 33, 34]. К тому же, образ бога, восходящего на колесницу с тем, чтобы унести на небо покойного императора, известен со времен Августа, где божеством-психопомпом представлен Юпитер,² который наделил императора-сына своими чертами. Необходимо отметить, что действия, представленные в P..Giss.3, перекликаются с данными литературных источников, были связаны с обожествлением и триумфом покойного императора, легитимацией власти Адриана и были явной апелляцией к апофеозу императора Августа. Таким образом, в тексте папируса P..Giss.3 в образе живущего императора соединились черты Аполлона, солнечного бога, и верховного бога римлян — Юпитера.
______________________________
[1] ἀνάκτωρ (-ορος) ὁ властелин, повелитель Aesch., Eur.
[2] Овидий. Метаморфозы IX, 271:
«И всемогущий отец в колеснице четверкой восхитил
Сына среди облаков и вместил меж лучистых созвездий».
Образы покойного и живущего императора в P..Giss.3 имели свои египетские параллели. Аполлон в Египте отождествлялся с богом Хором, который, согласно египетским религиозным представлениям выступал богом-психопомпом, уводящего на небо своего покойного отца Осириса [Pyr. 390]. Желая попасть на небо, покойный царь должен был переплыть через реку (или озеро) с помощью парома, который именовался «Оком Хора». И поэтому царь может заявить: «Я — в объятиях Ока Хора»… [Pyr. 599]. Покойный царь мыслился в качестве Осириса, цель которого переродиться в загробном мире [Pyr. 155dff], «путешествовать по небу, подобно Ра» [Pyr. 130d], «выйти в небо среди вечных звезд» [Pyr. 1123a], куда царя помещал Хор.
Таким образом, в образе живущего императора, с одной стороны, воплощались черты Аполлона-Юпитера, с другой — бога Хора. Правящий монарх выступал как психопомп, который уводит на небо умершего римского владыку, выступавшего в образе Осириса.
Для более глубокого понимания образа живого и мертвого императоров необходимо обратиться к одной из части P..Giss.3, в которой читаем: ὧι πάντα δοῦλα δι' ἀρετὴν καὶ πατρὸς τύχην θεοῦ (…«которому [т.е. Адриану] все [рабски] подчиняется из-за доблести и гения-тюхе [его] божественного отца»…). Данный отрывок говорит о тесной связи τύχη живого и мертвого правителя. Этот термин имел свою латинскую параллель (genius), а также сопоставлялся с египетским духом-двойником Ка. Согласно концепции Я. Ассмана «Ка является легитимизирущим династическим принципом, который передавался от отца к сыну». Дух Ка был связующим звеном между покойным отцом-Осирисом и его живым сыном-Хором [Pyr.356]. Взаимосвязь ἀρετή и τύχη³ имело свою египетскую параллель, в которой схожесть имени и духа-Ка бога-отца и бога-сына становится фактором легитимизации власти последнего, а, значит, и царя, который был земным воплощением бога-сына. Как показывают последние исследования, правящий император стремился обеспечить культ умершему правителю, что имело политическое значение и было фактором легитимизации власти императора, почитание которого, наряду с его гением, фокусировалось на отце государя, числившегося среди богов. Это дает основание видеть в тексте P..Giss.3 явное желание указать легитимный характер власти живого монарха, а религиозные представления, на которых основываются представления о законности власти, имеют свои египетские и римские параллели.
______________________________
[3] τύχη, дор. τύχᾱ ἡ судьба, участь.
ἀρετή ἡ
1) доблесть, храбрость, мужество;
2) превосходные качества, отличные свойства, сила, мощь;
3) крепость, бодрость, сила, острота;
4) плодородие или пригодность (γῆς Her., Thuc., Plat.; πεδίων Polyb.);
5) красота, великолепие, благородство, величие;
6) pl. славные деяния, подвиги;
7) высокое мастерство, умение, искусство;
8) слава, честь;
9) заслуга (εἴς τινα Thuc. и περί τινα Xen.);
10) нравственное совершенство, добродетель.
На востоке империи образ римского правителя был инкорпорирован в местные религиозно-культовые практики. В Римском Египте прослеживалась подобная тенденция. Возможно, что культовые действия, которые представлены в P..Giss.3, были связаны с идеей коронации живущего монарха и императорскими мистериями. Но автор данного исследования полагает, что культовые действия из папируса P..Giss.3 были связаны с «Праздником пустынной долины», который существовал в римское время и отмечался в египетских храмах. Данный праздник отмечался, как минимум, со времени XI династии в честь верховного солнечного бога Аммона, отождествляемого в римский период с Юпитером (Зевсом), и сопровождался чествованием покойного правителя, а также тесно был связан с культом Хатхор. Присутствие в образе императора черт Юпитера, сочетающихся с солярным Хором, и почитания покойного римского правителя, а также наличие ритуальных возлияний и других культовых действий, которые традиционно были связаны с богиней Хатхор, позволяют связать драматические действия в P..Giss.3 с вышеобозначенным праздником.⁴
______________________________
[4] «Праздник Долины длился десять дней. Фараон выходил из дворца в парадном одеянии в сопровождении слуг. Перед тем как войти в храм, он надевал роскошную набедренную повязку и один из самых богатых головных уборов, который состоял из солнечного диска, перьев, уреев, рогов быка и рогов барана. Он приглашал Амона посетить храмы левого берега (на котором находился некрополь). Главное его место отдохновения — гипостильный зал Рамессеума. Там к царю богов явятся боги-покровители мертвых. Например, жрецы, окруженные служителями с зонтами и опахалами, приносили на носилках статую обожествленного фараона Аменхотепа I из его храма. Священная ладья ожидала его на соседнем канале, чтобы переправить к праздничной ладье Амона. Когда оба бога встречались, совершались церемонии во славу всех бесчисленных мертвецов, покоившихся в недрах Западных гор.» (Пьер Монтэ. Египет Рамсесов, VII)
ИМПЕРАТОР В ОБРАЗЕ ХОРА
Проблема воздействия греко-римских идей в поклонении правителю на почитание императора в долине реки Нил представляет большой интерес, так как со времен Нового Царства в Египте охотно принимали иностранные «культурные заимствования», которые становились частью царской идеологии в культе монарха. Египетские жрецы в римское время не только сохраняли традиционные черты в почитании правителя, но и принимали элементы культа императора, характерные для других провинций Римской империи. При этом жрецы правителя находились в постоянном взаимодействии с центральной римской администрацией в формировании императорского культа как «коммуникативного феномена». Эти процессы должны были оказать воздействие и на почитание императора в образе Хора в частных религиозных ассоциациях. Исходя из этого, следует обратить внимание на следующие основные проблемы: черты каких божеств греко-римского пантеона включал в себя образ Хора в sacra privata (частные священнодействия) в Римском Египте; какие египетские и греко-римские элементы почитания императора обнаруживаются в поклонении правителю, выступающему в образе Хора, в частных религиозных ассоциациях; какие выделяются в Египте особенности в почитании Genius Augusti,⁵ которые связаны с идеей передачи власти от отца-Осириса к сыну-Хору, и как пропагандировался победоносный образ императора в качестве земного воплощения Хора.
______________________________
[5] genius, -i m гений, дух-хранитель, сопутствовавший человеку от колыбели до могилы и различным образом влиявший на него в продолжение всей его жизни.
В храме Дендеры римского периода представлено изображение, где император в образе египетского фараона пронзает Сета, в образе крокодила, копьем. Он стоит перед Хором Бехдетским. В сцене A бог Хор назван Ḥr Bḥdty nṯr ˁȝ nb pt nb Msn kȝ nḫt pri m Ἰst nb mˁbȝ sḫr ḫfty.w ḫn.t ḥr stp-sȝ n ḫfty.w — «Хор Бехдетский, бог великий, господин небес, господин Месена; сильный бык, исходящий из Исиды; господин копья, поражающий врагов места отдыха (гробница), защищающий от врагов». При этом Хор Бехдетский говорит римскому правителю: di.(tw)=k pḥ.ty mi zȝ Ἰst ḫfty.w.=k sḫr ẖr tb.ty=(k) — «даруется тебе сила подобно сыну Исиды, враги твои низвергнуты под сандалии (твои)».
В схожей иконографии на храмовой сцене римского времени в Дендере изображен бог Хор, сын Исиды и Осириса, который вонзает свое копье в крокодила. Он стоит перед восседающим на троне Осирисом, возле которого Исида и Нефтида. Сзади Хора стоит император (картуши с его именем пусты). Возле фигуры Хора сопутствующая надпись гласит: Ḥr zȝ Ἰst zȝ Wsir iwˁt mnḫ pri m Ἰst nḏ it.f sḫr rs.t (n) ḫn.t sȝ n ḫfty.w=f — «Хор, сын Исиды, сын Осириса, наследник превосходный, выходящий из Исиды, защищающий отца своего, низвергающий врагов места отдыха, защита против врагов своих».
Иконография сокологолового бога, пронзающего крокодила, находит параллель в изображении Хора в римской броне, восседающего на коне и протыкающего копьем крокодила (терракотовая статуэтка из Луврского музея. Инв. № X5130). Образ Хора-всадника, переплетающийся с представлениями о противостоянии с Сетом, обнаруживается в античных литературных источниках (Plut. De Iside et Osiride)⁶ и связан с идеями безопасности, разлива Нила и плодородия (PDM XIV. 1219-1227). Эти идеи тесно переплетаются с иконографией Хора, в которой соединялись образы сокологолового бога и императора: Хор, носящий римскую броню, изображен как правитель — с короной царя Верхнего и Нижнего Египта, иконографические черты которого связаны с образом Александра Македонского, служившим примером для римских императоров. Изображение победы императора-Хора над крокодилом уходит корнями в сказание о торжестве сокологолового бога, отомстившего Сету, узурпатору египетского престола, за своего убитого отца Осириса. Повержение крокодила-Сета было тесно связано с идеей торжества Маат (mȝˁ.t) — справедливого порядка вещей, противоположного хаосу — Исефет (isf.t). Традиционно поддержка оптимального соотношения Маат и Исефет было делом сакрального правителя — царя Верхнего и Нижнего Египта. Император, который побеждал врага-крокодила (Сета) и мыслился как земное воплощение Хора, способствовал торжеству Маат, стабильности и устойчивым урожаям.
Инв. № X5130). Образ Хора-всадника, переплетающийся с представлениями о противостоянии с Сетом, обнаруживается в античных литературных источниках (Plut. De Iside et Osiride)⁶ и связан с идеями безопасности, разлива Нила и плодородия (PDM XIV. 1219-1227). Эти идеи тесно переплетаются с иконографией Хора, в которой соединялись образы сокологолового бога и императора: Хор, носящий римскую броню, изображен как правитель — с короной царя Верхнего и Нижнего Египта, иконографические черты которого связаны с образом Александра Македонского, служившим примером для римских императоров. Изображение победы императора-Хора над крокодилом уходит корнями в сказание о торжестве сокологолового бога, отомстившего Сету, узурпатору египетского престола, за своего убитого отца Осириса. Повержение крокодила-Сета было тесно связано с идеей торжества Маат (mȝˁ.t) — справедливого порядка вещей, противоположного хаосу — Исефет (isf.t). Традиционно поддержка оптимального соотношения Маат и Исефет было делом сакрального правителя — царя Верхнего и Нижнего Египта. Император, который побеждал врага-крокодила (Сета) и мыслился как земное воплощение Хора, способствовал торжеству Маат, стабильности и устойчивым урожаям.
______________________________
[6] «Потом, как гласит предание, Осирис, явившись Гору из царства мертвых, тренировал и упражнял его для боя, а затем спросил, что он считает самым прекрасным на свете. Когда тот ответил: отомстить за отца и мать, которым причинили зло, — снова спросил, какое животное кажется ему самым полезным для того, кто идет на битву. Услышав в ответ от Гора «конь», он удивился и стал допытываться, почему конь, а не лев. Тогда Гор сказал, что лев нужен тем, кто нуждается в защите, а конь нужен, чтобы отрезать и уничтожить бегущего врага. Услышав это, Осирис обрадовался, ибо Гор был совсем готов для борьбы» (Пер. Н.Н. Трухиной).
Идея победы правителя над врагами и связанные с этим представлением образы плодородия были сильны в римское время. Так, в папирусе (P. Oxy XXXVI. 2782), датирумом 217г., Марк Аврелий Аполлон просит жрицу Исиды-Деметры принести жертвы «ради господ наших, императоров и их победы и подъема Нила и приумножения плодов и мягкого климата» (ὑπὲρ τῶν κυρίων ἡμῶν αὐτοκρατόρων καὶ νίκης αὐτῶν καὶ Νείλου ἀναβάσεως καὶ καρπῶν αὐξήσεως καὶ ἀέρων εὐκρασίας).
Представление о победе императора переплеталось с образом Исиды, богини плодородия, и Хора, победоносного воина. Согласно тексту греческого папируса из Охсиринха (P. Oxy. XII. 1449), 213-217гг., жрецы храма богини Неотеры, местной версии Афродиты-Хатхор, контаминированной с Исидой, почитали, наряду с местными божествами, бога Аполлона-Хора, образы которого были связан с победами императора: «от лица … жрецов Зевса и Геры, и Атаргатиды, и Коры, и Диониса, и Аполлона, и Неотеры, и богов, чтимых в этом же храме, и изваяний владыки Августа на пирах, и победы, прославляющей его» (παρὰ … ἱερέων Διὸς καὶ Ἥρας καὶ Ἀταργάτιδος καὶ Κόρης καὶ Διονύσου καὶ Ἀπόλλωνος καὶ Νεωτέρας καὶ τῶν συννάων θεῶν καὶ κωμαστῶν προτομῶν τοῦ κυρίου Σεβαστοῦ καὶ νίκης αὐτοῦ προαγούσης).
Представления о победе императора контаминировалось с образом венка: ὁ πρύτανις εἶπεν ὁ ἐπείκτης χρυσοῦ στεφάνου καὶ νίκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐρηλιανοῦ Σεβαστοῦ Ἰουλιοῦ… — «пританей приказал, чтобы эпиктет (для) золотого венка и победы владыки нашего, Аврелиана Августа Юлия (сделал)»… (P. Oxy. 12. 1413). В правление Клавдия по случаю победы императора над британцами (ἐπὶ τῇ κατὰ Βρεταννῶν νείκῃ) сообщество атлетов в Египте изготовило золотой венок (χρυσοῦν στέφανον) в качестве подарка римскому правителю, символизирующего лояльность этого σύνοδος (сообщества) к владыке Римской империи (σύμβολον περιέχοντα τῆς ὑμετέρας πρός με εὐσεβείας — символ, содержащий (в себе) ваше почтение ко мне [т.е. к Клавдию]) (P. Lond. III. 1178. 12).
Необходимо отметить, что венок был атрибутом Аполлона-Хора, который выступал в качестве воина, совершающего завоевательный поход (Diod. I. 17. 3). Согласно египетским религиозным представлениям, образ Хора тесно переплетался с «венком оправдания» (mȝḥ n mȝˁ-ḫrw), который был отличительным знаком Осириса и оправданного покойного (WB II. P. 31), передавался Хором своему отцу Осирису и являлся символом триумфа над смертью, победы Осириса над врагами. Одновременно венок, которым венчали головы императоров-победителей, был атрибутом богини Ники-Виктории, образ которой сопровождал победы римских правителей. Богиня получала эпитеты, связывающие ее с триумфом императора над побежденным народом и присутствующие в посвятительных надписях и на монетах, например, VICTORIA GERMANICA, VICTORIA BRITANNICA. Таким образом, венок, являвшийся символом победоносного бога Хора, становился атрибутом императора, который уподоблялся сокологоловому божеству, выступал как воин, одерживающий победу над врагами. При этом победоносный образ римского правителя был связан с богиней Викторией.
Победы императоров сопровождались в Римском Египте выпуском монет, на которых присутствовал образ Харпократа (Ḥr-pȝ-ẖrd, Хор-ребенок). На александрийских монетах времени правления Траяна, выпущенных в 109/110 и 112/113 гг., изображен бог Харпократ в короне Нижнего Египта, рядом с которым представлена ваза с длинным носиком, повернутым влево. Похожая ваза, над которой возвышается урей, изображена на монетах времени Августа. Образы, помещенные на этих монетах, были связаны с победами императоров над парфянами, царство которых располагалось в Азии. Азиатский регион традиционно воспринимался египтянами как место, откуда исходила опасность для Египта от проживавших там народов («Сетовых людей»). Следовательно, победа над парфянами воспринималась как торжество силы императора-фараона, являвшегося земным воплощением Хора, над богом Сетом и его людьми. Итак, переплетение образов римского правителя и Харпората на александрийских монетах пропагандировало победоносный образ императора, понимаемый в категориях борьбы Сета и Хора, которому уподоблялся владыка Рима.
Идея непобедимости императоров отражалась в греческой титулатуре владык Рима II-III вв. в Египте — ἀήττητος и ἀνίκητος (лат. invictus).⁷ В I в. данные эпитеты римских правителей встречались также и в неофициальной императорской титулатуре (P. Rein. Il. 95; P. Oxy XLII. 3020; P..Giss.24..3). Появление этих титулов в греческих папирусах связано с инициативой писцов (γραμματεύς), которые, формируя «неофициальную» титулатуру императоров, проявляли лояльность по отношению к римскому правителю и связывали эти титулы с военными победами правителя над врагами, пришедшими с Востока (Аврелиан, например, получил титул ἀήττητος после победы над Зенобией), а также образом правителя-военачальника, который заботится о своих воинах. Греческая титулатура императоров, в которой отражалась идея непобедимости римских правителей, сочеталась с победоносными эпитетами, которые владыки Рима поучали в результате триумфа над побежденными народами. Например, Веспасиан получил титул IUDAICUS после подавления иудейского восстания в 71г. Траян носил эпитеты DACIUS, PARTHICUS, дарованные императору после триумфа над гето-даками и парфянами. Необходимо отметить, что победоносные титулы могли переходить к римскому правителю от предыдущего императора. Так, Адриан был носителем эпитетов DACIUS, PARTHICUS, связанных с победами Траяна, а также титулов GERMANICUS и OPTIMUS MAXIMUS, которые были дарованы Адриану Сенатом, а их передача по наследству новому правителю мыслилась как пропаганда официального усыновления Адриана предыдущим императором.
______________________________
[7] ἀήττητος (от ἡττάω — поражать, побеждать) — неодолимый, непобедимый.
ἀνίκητος (ἀ-νίκητος), дор. ἀνίκᾱτος — непобежденный, непобедимый, неодолимый Hes., Pind., Soph., Eur., Plut.
invictus, -a, -um — непобедимый, неодолимый, несокрушимый, непоколебимый, непреклонный.
Идея непобедимости императора отражается в Хоровом имени римских правителей, в котором заложено представление о владыке Рима как защитнике и воине Египта:
В условиях, когда император фактически отсутствовал в долине реки Нил, египетские жрецы подчеркнули в Хоровом имени правителя отдаленность владыки Рима от Египта, но сохранили представление о нем как защитнике долины Нила в образе Хора.
Итак, идея непобедимости императора, которая связывала римского правителя с образом Хора, отражалась в греческой и египетской титулатуре правителя и сочеталась с представлениями о военных победах императора. Борьба правителя с внешними врагами понималась в Египте как противоборство Хора и Сета. Следует отметить, что образы борьбы этих двух божеств были инкорпорированы в представления о переходе власти от отца к сыну в долине реки Нил, а смерть правителя понималась как кризис, связанный с действиями Сета и его приспешников. Покойный правитель рассматривался как персонификация Осириса, а живой — как воплощение Хора, который занимает трон как законный сын Осириса.
Для более глубокого понимания метаморфоз, которые произошли в римское время с образом Хора (а, значит, и правителя) и идей передачи власти от отца к сыну под влиянием религиозных представлений Греции и Рима, необходимо обратиться к анализу греческого текста на папирусе P..Giss.3 (этот текст отражает sacra privatа в почитании римского правителя). Данный документ принадлежал стратегу Аполлонию и был создан в номе Аполлонополис (Гептакомия) в 117г. во время вступления императора Адриана на престол. Текст повествует о появлении бога Аполлона-Феба, который возносит на небо покойного императора Траяна. Бог провозглашает нового правителя Адриана, чье восшествие на престол сопровождается драматическими представлениями (эти действия были организованы Аполлонием, за что жители Гептакомии благодарят стратега). В тексте читаем:
Г.Дандас считает, что сюжет из P..Giss.3 тесно связан с идеями коронации правителя, уходящими корнями в текст «Рамессейского драматического папируса». Согласно этому документу, коронационные действия земной монарх должен был выполнять, путешествуя по городам Египта, демонстрируя свою легитимность. Драматические представления, отраженные в P..Giss.3, были обязательны для исполнения по всему Египту, длились они десять дней (P. Oxy. 3781), сопровождались жертвоприношениями, агонами, возлияниями, дарением венков и были проявлением частных культовых действий, выполняемых в честь императора.
Образ бога, управляющего квадригой и поднимающегося в небо, в папирусном тексте находит параллели в иконографии императоров. На медальоне II в. представлен Аполлон, управляющий четверкой лошадей. В иконографии божества обнаруживаются черты императора Коммода, что было формой Imitatio deorum в пропаганде образа римского правителя.
Аналогичное изображение присутствует на ауреусе Септимия Севера, где бог Аполлон, обладающий чертами императора, вздымается на колеснице в небо. Император Нерон изображался в образе возничего, управляющего квадригой, среди небесных звезд (Dio Cass. LXII (LXIII). 6. 2). Он, после победы на Пифийских играх, въезжал в Рим как триумфатор — на колеснице, запряженной белыми конями, а подданные именовали его Аполлоном. В себастионе Афродисиады представлен император Октавиан Август, в образе Аполлона (фигуру правителя коронует богиня Рома). Со схожими иконографическими чертами (Аполлона или Юпитера) император изображен в броне и со шлемом на пергамских монетах времени Адриана, на которых статуя римского правителя помещена в храм в честь богини Ромы и Августа. Такие же Аполлоновы черты были перенесены на Нерона, который в качестве триумфатора изображался на рельефах и камеях, выступая как «Новый Август».
Бог Аполлон играл важную роль в процессе обожествления: именно он через оракул, согласно гимну поэта Аристида, объявил покойного императора Адриана божеством. Использование образа Аполлона в процессе апофеоза как Траяна, так и самого Адриана было связано с посвящением императора в Элевсинские мистерии, элементы которых, связанные с почитанием богов плодородия — Коры, Деметры, Диониса, были заимствованы в Египте еще при Птолемеях (Tac. Hist. IV. 83) и инкорпорированы в императорские мистерии в долине реки Нил. Так, согласно тексту греческого папируса конца II века (P. Ant. I. 18), в Египте римский император почитался, наряду с Корой и Деметрой, как «победоносный царь» (νεικηφόρους βασιλέας) — эпитет, который обнаруживает параллель в культовых именах царей из династии Птолемеев и имеет связь с образом бога Хора, отождествляемого с Аполлоном. Необходимо отметить, что со времени правления Адриана императоры почитались в Элевсине наряду с Корой и Деметрой, при этом элевсинские мистерии тесно были связаны с поклонением Зевсу Всегреческому (Πανέλληνες), с которым отождествлялся верховный бог римлян — Юпитер и Адриан как «Новый Зевс».
Образ бога, восходящего на колесницу с тем, чтобы вознести на небо покойного императора, известен со времен Августа, где божеством-психопомпом представлен Юпитер:
В Риме Юпитер рассматривался как победитель, с которым полководцы, одетые в пурпурные одежды,
отождествлялись в момент триумфа, въезжая в столицу на колеснице, запряженной четверкой коней. Черты Юпитера-триумфатора впоследствии были перенесены на императоров. Так, одной из характеристик прижизненного обожествления Юлия Цезаря стало его уподобление верховному богу римлян: статуи диктатора возились на колеснице (Dio Cass. XLIV. 4.4), а его самого должны были именовать Юпитер-Юлий (Dio Cass. XLIV. 6.4). Также Нерон при жизни изображался не только в образе Аполлона, но и Юпитера-Зевса с солярными чертами, что символизировало господство римского правителя над миром и характеризовало его как гаранта Золотого Века. Появление солярных монет при Нероне объясняется тем, что Сенат предложил прижизненный культ императору, в иконографии которого появилась лучистая корона — атрибут, являвшийся частью образа правителей-divi, начиная с Августа. Солярные черты в иконографии Нерона были представлены в александрийских монетах с легендой ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΕΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ, что характеризовало императора как «Нового Августа» и его наследника, переносило на живущего владыку Рима божественные черты и было формой Interpretatio Augusti образа римского правителя. Лучистая корона на голове покойного императора вызывала в памяти поэтический topos, согласно которому почивший правитель с небес заботится о благополучии земного мира.
Образ почившего правителя воплощения Юпитера-триумфатора был использован для изображения покойного Траяна в P..Giss.3 и обнаруживает параллель в литературных источниках: прах покойного Траяна был помещен на колесницу для того, чтобы он мог получить триумф после смерти (SHA. Hadr. 6.3; Epit. de Caes. 13. 11). Апофеоз Траяна в Риме сопровождался выпуском монет, на которых покойный император изображен восседающим на колеснице-квадриге (легенда — DIVO TRAIANO PARTHICO). Адриан также выпустил монеты с изображением орла — священной птицы Юпитера — со скипетром в лапах (легенда — PROVIDENTIA DEORUM). Эта легенда в сопоставлении с образом орла означала участие божественного выбора в воцарении Адриана и единение Divus Traianus с Юпитером, который выступал отцом живущего императора: сам Юпитер выбирает Адриана правителем. При этом император выступал «заместителем» верховного бога на земле, чья власть соответствовала небесному владычеству верховного бога (Hor. Carm. III. 5. 1).
Данная идея находит подтверждение в представлениях о римском правителе как земном воплощении Юпитера, которые использовались в прижизненных культах Августа и Нерона. Одновременно почивший император в P..Giss.3 включал в себя черты Юпитера-триумфатора, что является формой Imitatio Augusti и легитимизировало власть Адриана, которого Траян в образе Юпитера выбирает своим наследником.
Текст греческого папируса P..Giss.3 был создан в Египте и должен находить параллели в обожествлении правителя после смерти, соответствующие религиозным представлениям жителей долины Нила и переплетающиеся с образами Юпитера и Аполлона. При восхождении царя на небеса (в качестве Осириса), согласно египетским религиозным представлениям, проводником (Pyr. 390) и защитником (Pyr. 599) покойного правителя становится Хор.
Идея превращения усопших царей в звезды сохранилась в Римском Египте и находила параллель в религиозных представлениях Рима. Души императоров после апофеоза рассматривались как воплощение звезд, что сопровождалось выпуском соответствующих монет, в которых правители-divi изображались рядом с небесными светилами. Необходимо отметить, Хор, Исида и Осирис составляли триаду, в которой Хор-царь был наследником своих божественных родителей. Это представление продолжало существовать в греко-римское время. В храме Дендеры Адриан, отождествленный c Хором Сематауи (Ḥr-smȝ-tȝ.wy — Хор, объединяющий Обе Земли), прямо называется «возлюбленным сыном» (zȝ mri) богини Хатхор, которая контаминируется с Исидой. Итак, император Адриан мыслился как сын Исиды и Осириса в образе Хора, а Траян — как воплощение Осириса, при этом участие римского правителя как психопомпа, уподобленного Хору-Аполлону, в P..Giss.3 обнаруживает египетские корни.
Отождествление Осириса-покойного правителя и Хора-правящего монарха, уходящее корнями в «Тексты пирамид», находит параллель в египетских храмах римского времени. В одной из сцен храма Дендеры император подает в качестве дара божественной чете Исиды и Осириса букет из лотосов. Изображение сопровождается надписью:
В другой сцене император выступает как даритель лотоса Хору Сематауи. Сцена сопровождается надписью:
Сам Хор Сематауи носит титул: Ḥr-smȝ-tȝ.wy nb Ḫȝ-di nṯr ˁȝ ḥri-ib Niw.t sfy psḏ m nḫb — «Хор Сематауи, господин Ха-ди, великий бог, находящийся в Дендере, ребенок, светящийся в лотосе».
Осирис через образ ребенка, выходящего из лотоса, в храме Дендеры отождествлялся с Хором Сематауи и одновременно уподоблялся Ра-Атуму, появившемуся в начале времен из вод Первобытного океана (Nwn), из цветка лотоса (wn.=f ir.wy.=f m-ẖnw nḫb… ii=f m Nwn — «открывает он (Атум) два глаза внутри лотоса … (когда) выходит из Нуна»). Осирис в позднее и греко-римское времена выступал в образе бога-ребенка, появление на свет которого интерпретировалось как перерождение после смерти. Одновременно Осирис выступал, как видно в тексте храма Дендеры, в качестве воплощения воды: он вместе с Исидой-Сотис в образе возрождающегося Нила (во время половодья) становился гарантом плодородия.
Отождествление Осириса с Хором переплеталось с параллельным представлением — контаминацией земного правителя с богом Ра (Pyr. 887). Богосыновство земного царя было интегральной частью царской титулатуры, и «Тексты пирамид», провозглашая правителя сыном бога Ра, всячески демонстрировали его отождествление с богами, которое зашло настолько далеко, что стало возможным изображать царя как «самого Ра». Данное представление сохранилось в римское время. Так, император Август изображался частными лицами в образе Зевса-Амона, который контаминировался с Ра, а победоносный Хор включал в себя черты бога Амона. Солярный характер образа императоров в Римском Египте находит свои параллели в папирусных документах долины реки Нил, в которых образы солнечных божеств Гелиоса-Ра и Хора объединяются и демонстрируют вселенский характер (PGM I. 145). Отождествление солярных образов Ра и Хора в императоре выражалось в Хоровом имени римского правителя, в котором владыка Рима именуется Хор-Ра. В Фиваиде римского времени устраивались праздники в честь Гелиоса-Хармахиса (Ἡλίωι Ἁρμάχει),¹³ которому император уподоблялся. Согласно греческому тексту, высеченному на стеле из Бусириса (OGIS II.666), дар разлива Нила (τὰς τοῦ Νείλου δωρεὰς ἐπαυξομένας) и другие благодеяния (εὐεγεσίας) были связаны с деятельностью префекта Бальбилла, которого послал Нерон в знак оказания поддержки (εὐεγέτησεν) Египту. Благодеяния префекта и императора связывались с образом бога Хармахиса, сделавшего их деяния известными (δηλοῦσαν τὴν πρὸς αὐτοὺς εὐεγεσίαν) и отождествленного с Гелиосом, в образе которого в Риме изображался Нерон, установивший в свою честь монументальную статую с солярными чертами. Итак, солярный образ императора сопровождался его отождествлением с Хором и Ра. Солнечные черты в римском правителе позволяли сопоставить его с одной из ипостасей Хора — Харпократом.
______________________________
[13] Ἁρμάχες — Хор в горизонте (егип. Ḥr-m-ȝḫt) — эпитет утреннего восходящего (возрождающегося) солнца.
В римское время Харпократ, изображавшийся в образе младенца, выступал как молодой Гелиос. К нему взывали о помощи, беря с собой амулеты с его изображениями. Для греков он был Аполлоном, для римлян — непобедимое солнце (Sol Invictus). Император, будучи земным воплощением бога Хора-Гелиоса на земле, сам выступает в качестве непобедимого солнца. Так, существует изображение Каракаллы на круглой камее в образе Гелиоса, вокруг головы которого выгравированы солнечные лучи. Это изображение находит свою параллель в иконографических чертах бога Хора, который предстает в римской военной униформе с короной Верхнего и Нижнего Египта на голове, излучающей солнечный свет.
Известна статуя Каракаллы, который представлен в традиционном образе египетского царя: стоящая фигура императора, на голове у которого трехчастный головной убор — немес (nms), он носит набедренную повязку (šndyt, шендит), правая нога выдвинута вперед (египетский музей, Каир. Инв. 702). В схожих иконографических традициях выполнена карнакская статуя императора Октавиана Августа (Египетский музей, Каир. Инв. № 701) в образе фараона, скульптурные изображения (τούς Καίσαρος ἀνδριάντας) которого были широко распространены в Египте (Strab. XVII. 1. 54). Правитель носит трехчастный головной убор с уреем — немес, из-под которого выступают волосы (эта же деталь обнаруживается в статуе Каракаллы) — иконографическая черта, являвшаяся традицией римского времени в изображении императоров в Египте.
Необходимо отметить, что Октавиан Август выбрал солярного Аполлона, контаминированного в Египте с Хором, в качестве бога-патрона своей политики, которому в благодарность за победу при Акции построил храм на Палантине, а рядом с ним свой дом.
В образе фараона изображался Домициан, скульптурное изображение которого в виде гранитной головы с короной царя Верхнего и Нижнего Египта (Египетский музей, Флоренция. Инв. № 8650) было изготовлено на острове Филе. Иконографические черты данной скульптуры перекликаются со статуей Домициана из Беневента и с пропагандой солярного образа императора, который выступал в тесной связи с богом Амоном, отождествляемым в Египте с Хором.
Императорские статуи, изображавшие римских правителей в образе традиционных египетских фараонов, перекликаются с культовыми скульптурными соколиными изображениями царей долины реки Нил Древнего и Нового царств. Правители Египта представлены в традиционной иконографии египетских монархов, за их головами изображены соколы, защищающие царя, либо голову правителя покрывает головной плат, имитирующий соколиное оперенье. Данные статуи демонстрируют уподобление царя богу Хору, показывая божественную и человеческую природу в образе правителя. Одновременно в Римском Египте существовали изображения Хора, которые включали иконографические черты императора. Так, в Британском музее представлена терракотовая статуэтка Хора, восседающего на троне, в римской броне и императорском одеянии (Инв. № EA 51100). Данное изображение демонстрирует властный характер образа Хора, который уподобляется земному правителю.
Итак, в римское время идея единения божественных черт отца и сына продолжали существовать в Египте. Осирис, покойный правитель, и Хор, небесный прототип живущего монарха, отождествлялись. Живущие правители Рима, помимо Хорова образа, вбирали черты Ра-Гелиоса, что отразилось в папирусных документах и официальной титулатуре римских императоров. Отождествление бога-отца и бога-сына уходило своими корнями в «Тексты пирамид» и проявилось в тексте P..Giss.3, где покойный и живущий императоры включали в себя черты Юпитера-триумфатора. Одновременно правящий император рассматривался как воплощение непобедимого солнца (Хора-Харпоката-Ра-Гелиоса), что позволяло изображать римского правителя в традиционном образе египетского фараона — земной инкарнации бога Хора.
Образы живого и мертвого императоров, отождествленные между собой, имеют более глубокую природу. Для выяснения этих особенностей необходимо обратиться к одной из части P..Giss.3, в которой читаем: ὧι πάντα δοῦλα δι' ἀρετὴν καὶ πατρὸς τύχην θεοῦ — …«которому (т.е. Адриану) все (рабски) подчиняется из-за доблести и гения-тюхе (его) божественного отца». Данный отрывок папирусного текста говорит о тесной связи τύχη живого и мертвого правителя и имеет египетскую параллель, которая обнаруживается в храмах греко-римской эпохи:
В данном тексте божественное дитя объявляется наследником своего отца, а схожесть духа Ка и имени божеств обеспечивает могущество и эффективность богу-ребенку и находит свою параллель в других храмах Египта, в частности, в Дендере и Арманте. Если сопоставить храмовый и папирусный тексты, видно, что Ка имеет соответствие с греческим термином τύχη. Идея идентичности Ка правителей — отца и сына — уходит своими корнями в «Тексты пирамид». Согласно концепции Я. Ассмана, Ка является легитимизирующим династическим принципом, который передавался от отца к сыну. Дух Ка был связующим звеном между покойным отцом Осирисом и его живым сыном Хором (Pyr. 356). Необходимо отметить, что латинским эквивалентом τύχη-Ка выступало понятие genius.¹⁵ Почитание гения покойного правителя, ставшего государственным богом, на римской почве было тесно связано с поклонением живому императору, имело политическое значение и было фактором легитимизации власти монарха.
______________________________
[15] Латинское слово genius, видимо, заимствовано у греков (θεός γένους — божество рода).
γένος, -εος, ион. -ευς τό
1) рождение, происхождение (γένει πολίτης Dem. — природный гражданин, т.е. коренной);
2) род, семья (οἱ ἐν γένει Soph. — родные, родственники);
3) отпрыск, потомок или потомство;
4) род, племя.
Поклонение гениям живого и покойного императоров на государственном уровне оформилось при Клавдии, который присоединил свой культ к поклонению своим покойным предшественникам — Августу и Ливии, но во времена Траяна, Адриана и Антонина Пия государственный культ Genius Augusti исчезает, и поклонение императорскому гению совершалось частными лицами. Почитание гения императора в Италии сопровождалось проведением трапезы, возлияниями и курением фимиама, а сам genius римского правителя мог отождествляться с богами, например, с Аполлоном, либо сопоставляться с Юпитером (Plin. Pan. 52. 6).
Схожие культовые действия и представления обнаруживаются и в тексте P..Giss.3. Таким образом, отождествление τύχη-Ка живого и покойного правителя в тексте P..Giss.3 указывает на стремление Адриана продемонстрировать легитимный характер власти правящего императора, а религиозные представления, на которых основываются идеи о законности власти, имеют свои египетские и римские параллели. Согласно тексту P..Giss.3, τύχη императора Адриана сочеталось с его ἀρετή — совокупностью доблестей, добродетелей, нравственных характеристик (латинский эквивалент virtus — мужество, доблесть), которым должен обладать справедливый, угодный богам правитель. В Риме в период правления Августа эти virtutes (положительные качества) были выбиты на золотом щите — virtus, clementia, iustitia, pietas — понятия, которые должны соответствовать «Золотому веку», который приносит римский император.
Итак, образ Хора в римское время включал в себя черты Аполлона и Юпитера в частных религиозных ассоциациях. Одновременно Хор перенимал черты Амона, который контаминировался с Юпитером и Зевсом. Отождествление этих богов с Хором повлияло на образ психопомпа в P..Giss.3, черты которого переносились на императора Адриана. Почивший монарх, который традиционно рассматривался в Египте как Осирис, включал в себя черты Юпитера. Идея о боге, возносящего покойного правителя на небо, была призвана легитимизировать власть римского правителя и имела греко-римские и египетские корни, а также было проявлением Imitatio Augusti. Единение черт правителя-отца и правителя-сына в P..Giss.3 уходит корнями в египетские верования и находит свое подтверждение в храмах Египта римского времени, где происходило отождествление Осириса и Хора. Римский император, соединяя в себе черты Хора-Аполлона и Юпитера-Амона-Ра, проявлял себя как Sol invictus, солярный образ которого пропагандировался в Египте и имел римские параллели. Победоносные черты образа римского правителя в Египте отражались в греческой и египетской титулатуре императора, александрийских монетах и почитались частными религиозными ассоциациями. Одновременно образ императора, переплетающийся с идеей победы над врагами, был связан плодородием. Борьба с врагами воспринималась в Римском Египте в категориях противоборства между Хором и Сетом. Объединение египетских и греко-римских черт в образе правящего императора становится новой формой интерпретации традиционных представлений о правителе, передачи власти от покойного императора-Осириса к земному правителю-Хору Эти идеи отражались в почитании τύχη-Ка (genius) живого и почившего правителей. Взаимосвязь Genius Augusti правящего и покойного правителей находила египетские и греко-римские параллели, была призвана легитимизировать властные полномочия правящего владыки. Переплетение духа-гения правителя с его доблестями в P..Giss.3 пропагандировало образ императора как справедливого правителя, несущего Pax Romana. Данное представление соответствовало традиционной функции владыки Египта, поддерживающего Маат и выступающего как земное воплощение бога Хора.
_______________________________
БОГ ХОР И РИМСКИЙ ИМПЕРАТОР
АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются культовые действия в честь римского императора, отраженные в папирусе P..Giss.3. Согласно этому документу в образе правящего монарха в долине реки Нил проявляются черты богов Хора, Аполлона и Юпитера, которые отожествлены между собой и выступают в качестве психопомпа (ψυχοπομπός), ведущего покойного императора в небо. Ка-тюхе живущего и покойного правителей тесно связаны между собой и находят свои египетские и греко-римские параллели и, в этой связи, становится фактором легитимизации власти правящего монарха. Культовые действия в P..Giss.3 тесно связаны с традиционным египетским «Праздником пустынной долины».
В Египте земной правитель мыслился как земное воплощение бога Хора. Это представление существовало на всем протяжении египетской истории и имело продолжение в греко-римское время. В частности, с завоеванием долины реки Нил Римской державой император в культовом почитании занял место Птолемеев, или, по крайней мере, стал восприниматься местной знатью в качестве египетского фараона, постепенно входя в эту роль. Но с приходом греков, а позднее римлян, в долину реки Нил и внедрением греко-римских религиозных представлений в традиционную египетскую систему верований, произошли изменения в восприятии образа Хора. В связи с этим, в данной статье рассматриваются следующие проблемы: образы каких божеств отождествлялись с богом Хором и какие культовые формы в честь римского императора возникали в рамках данной контаминации, основанной на греко-римских и египетских религиозных представлениях. Так как император помещался автохтонной знатью в местные культовые действия, то, в этой связи, будет рассмотрено, в какой традиционный египетский праздник мог быть инкорпорирован образ римского правителя, связанный с отождествлением императора с Хором и богами греко-римского пантеона.
Для более глубокого изучения синкретических преобразований, которые произошли с образом Хора, а, значит, и императора, автор данного исследования изучил греческий текст из папируса P..Giss.3, созданный в Аполлонополисе Гектакомии (в египетской хоре) в 117г. и принадлежавший стратегу данного нома — Аполлонию. Текст повествует о появлении бога Аполлона-Феба, который возносит на небо в колеснице, запряженной четырьмя белыми лошадьми, покойного императора Траяна. Бог провозглашает нового правителя Адриана, чье восшествие на престол сопровождается драматическими представлениями (эти действия были организованы Аполлонием, за что жители Гектакомии благодарят стратега). Текст папируса показывает, что в образе солнечного бога представлен сам император Адриан: римский правитель назван в тексте владыкой (ἄνακτα)¹ — термином, который был связан с образом Аполлона. Смешение образа римского правителя с чертами бога Аполлона хорошо известно и представлено многочисленными примерами [14. P. 382, 383. Fig. 33, 34]. К тому же, образ бога, восходящего на колесницу с тем, чтобы унести на небо покойного императора, известен со времен Августа, где божеством-психопомпом представлен Юпитер,² который наделил императора-сына своими чертами. Необходимо отметить, что действия, представленные в P..Giss.3, перекликаются с данными литературных источников, были связаны с обожествлением и триумфом покойного императора, легитимацией власти Адриана и были явной апелляцией к апофеозу императора Августа. Таким образом, в тексте папируса P..Giss.3 в образе живущего императора соединились черты Аполлона, солнечного бога, и верховного бога римлян — Юпитера.
______________________________
[1] ἀνάκτωρ (-ορος) ὁ властелин, повелитель Aesch., Eur.
[2] Овидий. Метаморфозы IX, 271:
«И всемогущий отец в колеснице четверкой восхитил
Сына среди облаков и вместил меж лучистых созвездий».
Образы покойного и живущего императора в P..Giss.3 имели свои египетские параллели. Аполлон в Египте отождествлялся с богом Хором, который, согласно египетским религиозным представлениям выступал богом-психопомпом, уводящего на небо своего покойного отца Осириса [Pyr. 390]. Желая попасть на небо, покойный царь должен был переплыть через реку (или озеро) с помощью парома, который именовался «Оком Хора». И поэтому царь может заявить: «Я — в объятиях Ока Хора»… [Pyr. 599]. Покойный царь мыслился в качестве Осириса, цель которого переродиться в загробном мире [Pyr. 155dff], «путешествовать по небу, подобно Ра» [Pyr. 130d], «выйти в небо среди вечных звезд» [Pyr. 1123a], куда царя помещал Хор.
Таким образом, в образе живущего императора, с одной стороны, воплощались черты Аполлона-Юпитера, с другой — бога Хора. Правящий монарх выступал как психопомп, который уводит на небо умершего римского владыку, выступавшего в образе Осириса.
Для более глубокого понимания образа живого и мертвого императоров необходимо обратиться к одной из части P..Giss.3, в которой читаем: ὧι πάντα δοῦλα δι' ἀρετὴν καὶ πατρὸς τύχην θεοῦ (…«которому [т.е. Адриану] все [рабски] подчиняется из-за доблести и гения-тюхе [его] божественного отца»…). Данный отрывок говорит о тесной связи τύχη живого и мертвого правителя. Этот термин имел свою латинскую параллель (genius), а также сопоставлялся с египетским духом-двойником Ка. Согласно концепции Я. Ассмана «Ка является легитимизирущим династическим принципом, который передавался от отца к сыну». Дух Ка был связующим звеном между покойным отцом-Осирисом и его живым сыном-Хором [Pyr.356]. Взаимосвязь ἀρετή и τύχη³ имело свою египетскую параллель, в которой схожесть имени и духа-Ка бога-отца и бога-сына становится фактором легитимизации власти последнего, а, значит, и царя, который был земным воплощением бога-сына. Как показывают последние исследования, правящий император стремился обеспечить культ умершему правителю, что имело политическое значение и было фактором легитимизации власти императора, почитание которого, наряду с его гением, фокусировалось на отце государя, числившегося среди богов. Это дает основание видеть в тексте P..Giss.3 явное желание указать легитимный характер власти живого монарха, а религиозные представления, на которых основываются представления о законности власти, имеют свои египетские и римские параллели.
______________________________
[3] τύχη, дор. τύχᾱ ἡ судьба, участь.
ἀρετή ἡ
1) доблесть, храбрость, мужество;
2) превосходные качества, отличные свойства, сила, мощь;
3) крепость, бодрость, сила, острота;
4) плодородие или пригодность (γῆς Her., Thuc., Plat.; πεδίων Polyb.);
5) красота, великолепие, благородство, величие;
6) pl. славные деяния, подвиги;
7) высокое мастерство, умение, искусство;
8) слава, честь;
9) заслуга (εἴς τινα Thuc. и περί τινα Xen.);
10) нравственное совершенство, добродетель.
На востоке империи образ римского правителя был инкорпорирован в местные религиозно-культовые практики. В Римском Египте прослеживалась подобная тенденция. Возможно, что культовые действия, которые представлены в P..Giss.3, были связаны с идеей коронации живущего монарха и императорскими мистериями. Но автор данного исследования полагает, что культовые действия из папируса P..Giss.3 были связаны с «Праздником пустынной долины», который существовал в римское время и отмечался в египетских храмах. Данный праздник отмечался, как минимум, со времени XI династии в честь верховного солнечного бога Аммона, отождествляемого в римский период с Юпитером (Зевсом), и сопровождался чествованием покойного правителя, а также тесно был связан с культом Хатхор. Присутствие в образе императора черт Юпитера, сочетающихся с солярным Хором, и почитания покойного римского правителя, а также наличие ритуальных возлияний и других культовых действий, которые традиционно были связаны с богиней Хатхор, позволяют связать драматические действия в P..Giss.3 с вышеобозначенным праздником.⁴
______________________________
[4] «Праздник Долины длился десять дней. Фараон выходил из дворца в парадном одеянии в сопровождении слуг. Перед тем как войти в храм, он надевал роскошную набедренную повязку и один из самых богатых головных уборов, который состоял из солнечного диска, перьев, уреев, рогов быка и рогов барана. Он приглашал Амона посетить храмы левого берега (на котором находился некрополь). Главное его место отдохновения — гипостильный зал Рамессеума. Там к царю богов явятся боги-покровители мертвых. Например, жрецы, окруженные служителями с зонтами и опахалами, приносили на носилках статую обожествленного фараона Аменхотепа I из его храма. Священная ладья ожидала его на соседнем канале, чтобы переправить к праздничной ладье Амона. Когда оба бога встречались, совершались церемонии во славу всех бесчисленных мертвецов, покоившихся в недрах Западных гор.» (Пьер Монтэ. Египет Рамсесов, VII)
ИМПЕРАТОР В ОБРАЗЕ ХОРА
Проблема воздействия греко-римских идей в поклонении правителю на почитание императора в долине реки Нил представляет большой интерес, так как со времен Нового Царства в Египте охотно принимали иностранные «культурные заимствования», которые становились частью царской идеологии в культе монарха. Египетские жрецы в римское время не только сохраняли традиционные черты в почитании правителя, но и принимали элементы культа императора, характерные для других провинций Римской империи. При этом жрецы правителя находились в постоянном взаимодействии с центральной римской администрацией в формировании императорского культа как «коммуникативного феномена». Эти процессы должны были оказать воздействие и на почитание императора в образе Хора в частных религиозных ассоциациях. Исходя из этого, следует обратить внимание на следующие основные проблемы: черты каких божеств греко-римского пантеона включал в себя образ Хора в sacra privata (частные священнодействия) в Римском Египте; какие египетские и греко-римские элементы почитания императора обнаруживаются в поклонении правителю, выступающему в образе Хора, в частных религиозных ассоциациях; какие выделяются в Египте особенности в почитании Genius Augusti,⁵ которые связаны с идеей передачи власти от отца-Осириса к сыну-Хору, и как пропагандировался победоносный образ императора в качестве земного воплощения Хора.
______________________________
[5] genius, -i m гений, дух-хранитель, сопутствовавший человеку от колыбели до могилы и различным образом влиявший на него в продолжение всей его жизни.
В храме Дендеры римского периода представлено изображение, где император в образе египетского фараона пронзает Сета, в образе крокодила, копьем. Он стоит перед Хором Бехдетским. В сцене A бог Хор назван Ḥr Bḥdty nṯr ˁȝ nb pt nb Msn kȝ nḫt pri m Ἰst nb mˁbȝ sḫr ḫfty.w ḫn.t ḥr stp-sȝ n ḫfty.w — «Хор Бехдетский, бог великий, господин небес, господин Месена; сильный бык, исходящий из Исиды; господин копья, поражающий врагов места отдыха (гробница), защищающий от врагов». При этом Хор Бехдетский говорит римскому правителю: di.(tw)=k pḥ.ty mi zȝ Ἰst ḫfty.w.=k sḫr ẖr tb.ty=(k) — «даруется тебе сила подобно сыну Исиды, враги твои низвергнуты под сандалии (твои)».
В схожей иконографии на храмовой сцене римского времени в Дендере изображен бог Хор, сын Исиды и Осириса, который вонзает свое копье в крокодила. Он стоит перед восседающим на троне Осирисом, возле которого Исида и Нефтида. Сзади Хора стоит император (картуши с его именем пусты). Возле фигуры Хора сопутствующая надпись гласит: Ḥr zȝ Ἰst zȝ Wsir iwˁt mnḫ pri m Ἰst nḏ it.f sḫr rs.t (n) ḫn.t sȝ n ḫfty.w=f — «Хор, сын Исиды, сын Осириса, наследник превосходный, выходящий из Исиды, защищающий отца своего, низвергающий врагов места отдыха, защита против врагов своих».
Иконография сокологолового бога, пронзающего крокодила, находит параллель в изображении Хора в римской броне, восседающего на коне и протыкающего копьем крокодила (терракотовая статуэтка из Луврского музея.
 Инв. № X5130). Образ Хора-всадника, переплетающийся с представлениями о противостоянии с Сетом, обнаруживается в античных литературных источниках (Plut. De Iside et Osiride)⁶ и связан с идеями безопасности, разлива Нила и плодородия (PDM XIV. 1219-1227). Эти идеи тесно переплетаются с иконографией Хора, в которой соединялись образы сокологолового бога и императора: Хор, носящий римскую броню, изображен как правитель — с короной царя Верхнего и Нижнего Египта, иконографические черты которого связаны с образом Александра Македонского, служившим примером для римских императоров. Изображение победы императора-Хора над крокодилом уходит корнями в сказание о торжестве сокологолового бога, отомстившего Сету, узурпатору египетского престола, за своего убитого отца Осириса. Повержение крокодила-Сета было тесно связано с идеей торжества Маат (mȝˁ.t) — справедливого порядка вещей, противоположного хаосу — Исефет (isf.t). Традиционно поддержка оптимального соотношения Маат и Исефет было делом сакрального правителя — царя Верхнего и Нижнего Египта. Император, который побеждал врага-крокодила (Сета) и мыслился как земное воплощение Хора, способствовал торжеству Маат, стабильности и устойчивым урожаям.
Инв. № X5130). Образ Хора-всадника, переплетающийся с представлениями о противостоянии с Сетом, обнаруживается в античных литературных источниках (Plut. De Iside et Osiride)⁶ и связан с идеями безопасности, разлива Нила и плодородия (PDM XIV. 1219-1227). Эти идеи тесно переплетаются с иконографией Хора, в которой соединялись образы сокологолового бога и императора: Хор, носящий римскую броню, изображен как правитель — с короной царя Верхнего и Нижнего Египта, иконографические черты которого связаны с образом Александра Македонского, служившим примером для римских императоров. Изображение победы императора-Хора над крокодилом уходит корнями в сказание о торжестве сокологолового бога, отомстившего Сету, узурпатору египетского престола, за своего убитого отца Осириса. Повержение крокодила-Сета было тесно связано с идеей торжества Маат (mȝˁ.t) — справедливого порядка вещей, противоположного хаосу — Исефет (isf.t). Традиционно поддержка оптимального соотношения Маат и Исефет было делом сакрального правителя — царя Верхнего и Нижнего Египта. Император, который побеждал врага-крокодила (Сета) и мыслился как земное воплощение Хора, способствовал торжеству Маат, стабильности и устойчивым урожаям.______________________________
[6] «Потом, как гласит предание, Осирис, явившись Гору из царства мертвых, тренировал и упражнял его для боя, а затем спросил, что он считает самым прекрасным на свете. Когда тот ответил: отомстить за отца и мать, которым причинили зло, — снова спросил, какое животное кажется ему самым полезным для того, кто идет на битву. Услышав в ответ от Гора «конь», он удивился и стал допытываться, почему конь, а не лев. Тогда Гор сказал, что лев нужен тем, кто нуждается в защите, а конь нужен, чтобы отрезать и уничтожить бегущего врага. Услышав это, Осирис обрадовался, ибо Гор был совсем готов для борьбы» (Пер. Н.Н. Трухиной).
Идея победы правителя над врагами и связанные с этим представлением образы плодородия были сильны в римское время. Так, в папирусе (P. Oxy XXXVI. 2782), датирумом 217г., Марк Аврелий Аполлон просит жрицу Исиды-Деметры принести жертвы «ради господ наших, императоров и их победы и подъема Нила и приумножения плодов и мягкого климата» (ὑπὲρ τῶν κυρίων ἡμῶν αὐτοκρατόρων καὶ νίκης αὐτῶν καὶ Νείλου ἀναβάσεως καὶ καρπῶν αὐξήσεως καὶ ἀέρων εὐκρασίας).
Представление о победе императора переплеталось с образом Исиды, богини плодородия, и Хора, победоносного воина. Согласно тексту греческого папируса из Охсиринха (P. Oxy. XII. 1449), 213-217гг., жрецы храма богини Неотеры, местной версии Афродиты-Хатхор, контаминированной с Исидой, почитали, наряду с местными божествами, бога Аполлона-Хора, образы которого были связан с победами императора: «от лица … жрецов Зевса и Геры, и Атаргатиды, и Коры, и Диониса, и Аполлона, и Неотеры, и богов, чтимых в этом же храме, и изваяний владыки Августа на пирах, и победы, прославляющей его» (παρὰ … ἱερέων Διὸς καὶ Ἥρας καὶ Ἀταργάτιδος καὶ Κόρης καὶ Διονύσου καὶ Ἀπόλλωνος καὶ Νεωτέρας καὶ τῶν συννάων θεῶν καὶ κωμαστῶν προτομῶν τοῦ κυρίου Σεβαστοῦ καὶ νίκης αὐτοῦ προαγούσης).
Представления о победе императора контаминировалось с образом венка: ὁ πρύτανις εἶπεν ὁ ἐπείκτης χρυσοῦ στεφάνου καὶ νίκης τοῦ κυρίου ἡμῶν Αὐρηλιανοῦ Σεβαστοῦ Ἰουλιοῦ… — «пританей приказал, чтобы эпиктет (для) золотого венка и победы владыки нашего, Аврелиана Августа Юлия (сделал)»… (P. Oxy. 12. 1413). В правление Клавдия по случаю победы императора над британцами (ἐπὶ τῇ κατὰ Βρεταννῶν νείκῃ) сообщество атлетов в Египте изготовило золотой венок (χρυσοῦν στέφανον) в качестве подарка римскому правителю, символизирующего лояльность этого σύνοδος (сообщества) к владыке Римской империи (σύμβολον περιέχοντα τῆς ὑμετέρας πρός με εὐσεβείας — символ, содержащий (в себе) ваше почтение ко мне [т.е. к Клавдию]) (P. Lond. III. 1178. 12).
Необходимо отметить, что венок был атрибутом Аполлона-Хора, который выступал в качестве воина, совершающего завоевательный поход (Diod. I. 17. 3). Согласно египетским религиозным представлениям, образ Хора тесно переплетался с «венком оправдания» (mȝḥ n mȝˁ-ḫrw), который был отличительным знаком Осириса и оправданного покойного (WB II. P. 31), передавался Хором своему отцу Осирису и являлся символом триумфа над смертью, победы Осириса над врагами. Одновременно венок, которым венчали головы императоров-победителей, был атрибутом богини Ники-Виктории, образ которой сопровождал победы римских правителей. Богиня получала эпитеты, связывающие ее с триумфом императора над побежденным народом и присутствующие в посвятительных надписях и на монетах, например, VICTORIA GERMANICA, VICTORIA BRITANNICA. Таким образом, венок, являвшийся символом победоносного бога Хора, становился атрибутом императора, который уподоблялся сокологоловому божеству, выступал как воин, одерживающий победу над врагами. При этом победоносный образ римского правителя был связан с богиней Викторией.
Победы императоров сопровождались в Римском Египте выпуском монет, на которых присутствовал образ Харпократа (Ḥr-pȝ-ẖrd, Хор-ребенок). На александрийских монетах времени правления Траяна, выпущенных в 109/110 и 112/113 гг., изображен бог Харпократ в короне Нижнего Египта, рядом с которым представлена ваза с длинным носиком, повернутым влево. Похожая ваза, над которой возвышается урей, изображена на монетах времени Августа. Образы, помещенные на этих монетах, были связаны с победами императоров над парфянами, царство которых располагалось в Азии. Азиатский регион традиционно воспринимался египтянами как место, откуда исходила опасность для Египта от проживавших там народов («Сетовых людей»). Следовательно, победа над парфянами воспринималась как торжество силы императора-фараона, являвшегося земным воплощением Хора, над богом Сетом и его людьми. Итак, переплетение образов римского правителя и Харпората на александрийских монетах пропагандировало победоносный образ императора, понимаемый в категориях борьбы Сета и Хора, которому уподоблялся владыка Рима.
Идея непобедимости императоров отражалась в греческой титулатуре владык Рима II-III вв. в Египте — ἀήττητος и ἀνίκητος (лат. invictus).⁷ В I в. данные эпитеты римских правителей встречались также и в неофициальной императорской титулатуре (P. Rein. Il. 95; P. Oxy XLII. 3020; P..Giss.24..3). Появление этих титулов в греческих папирусах связано с инициативой писцов (γραμματεύς), которые, формируя «неофициальную» титулатуру императоров, проявляли лояльность по отношению к римскому правителю и связывали эти титулы с военными победами правителя над врагами, пришедшими с Востока (Аврелиан, например, получил титул ἀήττητος после победы над Зенобией), а также образом правителя-военачальника, который заботится о своих воинах. Греческая титулатура императоров, в которой отражалась идея непобедимости римских правителей, сочеталась с победоносными эпитетами, которые владыки Рима поучали в результате триумфа над побежденными народами. Например, Веспасиан получил титул IUDAICUS после подавления иудейского восстания в 71г. Траян носил эпитеты DACIUS, PARTHICUS, дарованные императору после триумфа над гето-даками и парфянами. Необходимо отметить, что победоносные титулы могли переходить к римскому правителю от предыдущего императора. Так, Адриан был носителем эпитетов DACIUS, PARTHICUS, связанных с победами Траяна, а также титулов GERMANICUS и OPTIMUS MAXIMUS, которые были дарованы Адриану Сенатом, а их передача по наследству новому правителю мыслилась как пропаганда официального усыновления Адриана предыдущим императором.
______________________________
[7] ἀήττητος (от ἡττάω — поражать, побеждать) — неодолимый, непобедимый.
ἀνίκητος (ἀ-νίκητος), дор. ἀνίκᾱτος — непобежденный, непобедимый, неодолимый Hes., Pind., Soph., Eur., Plut.
invictus, -a, -um — непобедимый, неодолимый, несокрушимый, непоколебимый, непреклонный.
Идея непобедимости императора отражается в Хоровом имени римских правителей, в котором заложено представление о владыке Рима как защитнике и воине Египта:
«Да живет Хор-Ра, мощный дланью, великий мощью, прекрасный юноша, сладостный любовью, владыка владык, избранный Птахом-Нуном, отцом богов … стена из бронзы, (защищающая) Обе Земли (Египет) … совершил он жертвы для богов и защитил всех божественных животных … (он) — римлянин, возлюбленный всеми богами Египта» (храм Калабши).⁸
___________________________
[8] ˁnḫ Ḥr-Rˁ ṯmȝ-ˁ wr pḥ.ty ḥwnw nfr bnr mrw.t ḥḳȝ ḥḳȝ.w stp.n Ptḥ Nwn it nṯr.w… sbty n biȝ hȝ tȝ.wy… ir.n=f ḥtp.w-nṯr n nṯr.w ḫwi.n=f ˁw.t nb.t nṯri.t… Hrmys mri nṯr.w nb.w Bȝḳ.t
«Да живет Хор-Ра, мощный дланью, побеждающий иностранные земли, великий мощью, защищающий Египет … когда вступает он в Египет, войска (его) в радости, боги и богини в качестве защиты его, которая охватывает силу его подобно Ра … (он) — стена из бронзы вокруг Египта, создал он весьма великую резиденцию (свою) в Риме» (храм Опет).⁹
___________________________
[9] ˁnḫ Ḥr-Rˁ ṯmȝ-ˁ ḥwy ḫȝs.wt wr pḥ.ty nḫt Bȝḳ.t… ˁḳ=f Tȝ-mry hri.w mnfy.wt m ḥˁˁ.t nṯr.w nṯr.wt m sȝ=f iṯ m sḫm=f mi Rˁ… sbty n biȝ hȝ Bȝḳ.t ir.n=f ḫnw ˁȝ wr r Hrm
В условиях, когда император фактически отсутствовал в долине реки Нил, египетские жрецы подчеркнули в Хоровом имени правителя отдаленность владыки Рима от Египта, но сохранили представление о нем как защитнике долины Нила в образе Хора.
Итак, идея непобедимости императора, которая связывала римского правителя с образом Хора, отражалась в греческой и египетской титулатуре правителя и сочеталась с представлениями о военных победах императора. Борьба правителя с внешними врагами понималась в Египте как противоборство Хора и Сета. Следует отметить, что образы борьбы этих двух божеств были инкорпорированы в представления о переходе власти от отца к сыну в долине реки Нил, а смерть правителя понималась как кризис, связанный с действиями Сета и его приспешников. Покойный правитель рассматривался как персонификация Осириса, а живой — как воплощение Хора, который занимает трон как законный сын Осириса.
Для более глубокого понимания метаморфоз, которые произошли в римское время с образом Хора (а, значит, и правителя) и идей передачи власти от отца к сыну под влиянием религиозных представлений Греции и Рима, необходимо обратиться к анализу греческого текста на папирусе P..Giss.3 (этот текст отражает sacra privatа в почитании римского правителя). Данный документ принадлежал стратегу Аполлонию и был создан в номе Аполлонополис (Гептакомия) в 117г. во время вступления императора Адриана на престол. Текст повествует о появлении бога Аполлона-Феба, который возносит на небо покойного императора Траяна. Бог провозглашает нового правителя Адриана, чье восшествие на престол сопровождается драматическими представлениями (эти действия были организованы Аполлонием, за что жители Гептакомии благодарят стратега). В тексте читаем:
Аполлон-Феб:
На колеснице (с запряженными) белыми лошадьми прибываю я к тебе, о народ, чтобы с Траяном вместе вскоре вознестись (на небо) (я вовсе не неизвестный бог, Феб), провозглашая нового владыку — Адриана, которому все (рабски) подчиняется из-за доблести и гения-тюхе (его) божественного отца.
Демос:
Итак, мы радуемся, сжигая в домашнем очаге то, что (должно) быть принесено в жертву, мы посвятили (свои) души веселью и опьянению (вином) из фонтана и притираниям в гимнасиях. Все из этого — хорегия стратега для благочестивого и глубоко чтимого повелителя (нашего) и для нас…¹⁰
___________________________
[10] Φοῖβος:
Ἅρματι λευκοπώλωι ἄρτι Τραϊνωι συνανατέλλας ἥκω σοι, ὦ Δῆμε, οὐκ ἄγνωστος Φοῖβος θεὸς ἄνακτα καινὸν Ἁδριανος ἀγγέλων, ὧι πάντα δοῦλα δι' ἀρετὴν καὶ πατρὸς τύχην θεοῦ.
Δῆμος:
Χαίροντες τοιγαροῦν θύοντες τὰς ἑστίας ἀνάπτωμεν, γέλωσι καὶ μέθαις ταῖς ἀπὸ κρήνης τὰς ψυχὰς ἀνέντες γυμνασίων τε ἀλείμμασι. ὧν πάντων χορηγὸν τὸ πρὸς τὸν κύριον εὐσεβὲς τοῦ στρατηγοῦ καὶ φιλότιμον τε τὸ πρὸς ἡμᾶς…
Г.Дандас считает, что сюжет из P..Giss.3 тесно связан с идеями коронации правителя, уходящими корнями в текст «Рамессейского драматического папируса». Согласно этому документу, коронационные действия земной монарх должен был выполнять, путешествуя по городам Египта, демонстрируя свою легитимность. Драматические представления, отраженные в P..Giss.3, были обязательны для исполнения по всему Египту, длились они десять дней (P. Oxy. 3781), сопровождались жертвоприношениями, агонами, возлияниями, дарением венков и были проявлением частных культовых действий, выполняемых в честь императора.
Образ бога, управляющего квадригой и поднимающегося в небо, в папирусном тексте находит параллели в иконографии императоров. На медальоне II в. представлен Аполлон, управляющий четверкой лошадей. В иконографии божества обнаруживаются черты императора Коммода, что было формой Imitatio deorum в пропаганде образа римского правителя.
Аналогичное изображение присутствует на ауреусе Септимия Севера, где бог Аполлон, обладающий чертами императора, вздымается на колеснице в небо. Император Нерон изображался в образе возничего, управляющего квадригой, среди небесных звезд (Dio Cass. LXII (LXIII). 6. 2). Он, после победы на Пифийских играх, въезжал в Рим как триумфатор — на колеснице, запряженной белыми конями, а подданные именовали его Аполлоном. В себастионе Афродисиады представлен император Октавиан Август, в образе Аполлона (фигуру правителя коронует богиня Рома). Со схожими иконографическими чертами (Аполлона или Юпитера) император изображен в броне и со шлемом на пергамских монетах времени Адриана, на которых статуя римского правителя помещена в храм в честь богини Ромы и Августа. Такие же Аполлоновы черты были перенесены на Нерона, который в качестве триумфатора изображался на рельефах и камеях, выступая как «Новый Август».
Бог Аполлон играл важную роль в процессе обожествления: именно он через оракул, согласно гимну поэта Аристида, объявил покойного императора Адриана божеством. Использование образа Аполлона в процессе апофеоза как Траяна, так и самого Адриана было связано с посвящением императора в Элевсинские мистерии, элементы которых, связанные с почитанием богов плодородия — Коры, Деметры, Диониса, были заимствованы в Египте еще при Птолемеях (Tac. Hist. IV. 83) и инкорпорированы в императорские мистерии в долине реки Нил. Так, согласно тексту греческого папируса конца II века (P. Ant. I. 18), в Египте римский император почитался, наряду с Корой и Деметрой, как «победоносный царь» (νεικηφόρους βασιλέας) — эпитет, который обнаруживает параллель в культовых именах царей из династии Птолемеев и имеет связь с образом бога Хора, отождествляемого с Аполлоном. Необходимо отметить, что со времени правления Адриана императоры почитались в Элевсине наряду с Корой и Деметрой, при этом элевсинские мистерии тесно были связаны с поклонением Зевсу Всегреческому (Πανέλληνες), с которым отождествлялся верховный бог римлян — Юпитер и Адриан как «Новый Зевс».
Образ бога, восходящего на колесницу с тем, чтобы вознести на небо покойного императора, известен со времен Августа, где божеством-психопомпом представлен Юпитер:
«Черты Юпитера в нем сохранились.
(…)
И всемогущий отец в колеснице четверкой восхитил
Сына среди облаков и вместил меж лучистых созвездий».
(Ovid. Met. IX. 265).
В Риме Юпитер рассматривался как победитель, с которым полководцы, одетые в пурпурные одежды,
отождествлялись в момент триумфа, въезжая в столицу на колеснице, запряженной четверкой коней. Черты Юпитера-триумфатора впоследствии были перенесены на императоров. Так, одной из характеристик прижизненного обожествления Юлия Цезаря стало его уподобление верховному богу римлян: статуи диктатора возились на колеснице (Dio Cass. XLIV. 4.4), а его самого должны были именовать Юпитер-Юлий (Dio Cass. XLIV. 6.4). Также Нерон при жизни изображался не только в образе Аполлона, но и Юпитера-Зевса с солярными чертами, что символизировало господство римского правителя над миром и характеризовало его как гаранта Золотого Века. Появление солярных монет при Нероне объясняется тем, что Сенат предложил прижизненный культ императору, в иконографии которого появилась лучистая корона — атрибут, являвшийся частью образа правителей-divi, начиная с Августа. Солярные черты в иконографии Нерона были представлены в александрийских монетах с легендой ΠΡΟΝΟΙΑ ΝΕΟΥ ΣΕΒΑΣΤΟΥ, что характеризовало императора как «Нового Августа» и его наследника, переносило на живущего владыку Рима божественные черты и было формой Interpretatio Augusti образа римского правителя. Лучистая корона на голове покойного императора вызывала в памяти поэтический topos, согласно которому почивший правитель с небес заботится о благополучии земного мира.
Образ почившего правителя воплощения Юпитера-триумфатора был использован для изображения покойного Траяна в P..Giss.3 и обнаруживает параллель в литературных источниках: прах покойного Траяна был помещен на колесницу для того, чтобы он мог получить триумф после смерти (SHA. Hadr. 6.3; Epit. de Caes. 13. 11). Апофеоз Траяна в Риме сопровождался выпуском монет, на которых покойный император изображен восседающим на колеснице-квадриге (легенда — DIVO TRAIANO PARTHICO). Адриан также выпустил монеты с изображением орла — священной птицы Юпитера — со скипетром в лапах (легенда — PROVIDENTIA DEORUM). Эта легенда в сопоставлении с образом орла означала участие божественного выбора в воцарении Адриана и единение Divus Traianus с Юпитером, который выступал отцом живущего императора: сам Юпитер выбирает Адриана правителем. При этом император выступал «заместителем» верховного бога на земле, чья власть соответствовала небесному владычеству верховного бога (Hor. Carm. III. 5. 1).
Данная идея находит подтверждение в представлениях о римском правителе как земном воплощении Юпитера, которые использовались в прижизненных культах Августа и Нерона. Одновременно почивший император в P..Giss.3 включал в себя черты Юпитера-триумфатора, что является формой Imitatio Augusti и легитимизировало власть Адриана, которого Траян в образе Юпитера выбирает своим наследником.
Текст греческого папируса P..Giss.3 был создан в Египте и должен находить параллели в обожествлении правителя после смерти, соответствующие религиозным представлениям жителей долины Нила и переплетающиеся с образами Юпитера и Аполлона. При восхождении царя на небеса (в качестве Осириса), согласно египетским религиозным представлениям, проводником (Pyr. 390) и защитником (Pyr. 599) покойного правителя становится Хор.
Идея превращения усопших царей в звезды сохранилась в Римском Египте и находила параллель в религиозных представлениях Рима. Души императоров после апофеоза рассматривались как воплощение звезд, что сопровождалось выпуском соответствующих монет, в которых правители-divi изображались рядом с небесными светилами. Необходимо отметить, Хор, Исида и Осирис составляли триаду, в которой Хор-царь был наследником своих божественных родителей. Это представление продолжало существовать в греко-римское время. В храме Дендеры Адриан, отождествленный c Хором Сематауи (Ḥr-smȝ-tȝ.wy — Хор, объединяющий Обе Земли), прямо называется «возлюбленным сыном» (zȝ mri) богини Хатхор, которая контаминируется с Исидой. Итак, император Адриан мыслился как сын Исиды и Осириса в образе Хора, а Траян — как воплощение Осириса, при этом участие римского правителя как психопомпа, уподобленного Хору-Аполлону, в P..Giss.3 обнаруживает египетские корни.
Отождествление Осириса-покойного правителя и Хора-правящего монарха, уходящее корнями в «Тексты пирамид», находит параллель в египетских храмах римского времени. В одной из сцен храма Дендеры император подает в качестве дара божественной чете Исиды и Осириса букет из лотосов. Изображение сопровождается надписью:
…«дается вам истечение, исходящее от властелина почтенного, бога, ребенка — сердце его c вами».¹¹
___________________________
[11] di.tw n.(tn) rḏw pri m rpˁ šps nṯr rnp ib=f (ẖr)=tn
В другой сцене император выступает как даритель лотоса Хору Сематауи. Сцена сопровождается надписью:
…«даю я тебе цветок, который появился в начале (времен), благородный лотос, господин великого моря, выходящего для тебя».¹²
___________________________
[12] di=(i) n=k ḫnb ḫp m-ḥȝt sšn šps ḥḳȝ šˁȝ pri n=k
Сам Хор Сематауи носит титул: Ḥr-smȝ-tȝ.wy nb Ḫȝ-di nṯr ˁȝ ḥri-ib Niw.t sfy psḏ m nḫb — «Хор Сематауи, господин Ха-ди, великий бог, находящийся в Дендере, ребенок, светящийся в лотосе».
Осирис через образ ребенка, выходящего из лотоса, в храме Дендеры отождествлялся с Хором Сематауи и одновременно уподоблялся Ра-Атуму, появившемуся в начале времен из вод Первобытного океана (Nwn), из цветка лотоса (wn.=f ir.wy.=f m-ẖnw nḫb… ii=f m Nwn — «открывает он (Атум) два глаза внутри лотоса … (когда) выходит из Нуна»). Осирис в позднее и греко-римское времена выступал в образе бога-ребенка, появление на свет которого интерпретировалось как перерождение после смерти. Одновременно Осирис выступал, как видно в тексте храма Дендеры, в качестве воплощения воды: он вместе с Исидой-Сотис в образе возрождающегося Нила (во время половодья) становился гарантом плодородия.
Отождествление Осириса с Хором переплеталось с параллельным представлением — контаминацией земного правителя с богом Ра (Pyr. 887). Богосыновство земного царя было интегральной частью царской титулатуры, и «Тексты пирамид», провозглашая правителя сыном бога Ра, всячески демонстрировали его отождествление с богами, которое зашло настолько далеко, что стало возможным изображать царя как «самого Ра». Данное представление сохранилось в римское время. Так, император Август изображался частными лицами в образе Зевса-Амона, который контаминировался с Ра, а победоносный Хор включал в себя черты бога Амона. Солярный характер образа императоров в Римском Египте находит свои параллели в папирусных документах долины реки Нил, в которых образы солнечных божеств Гелиоса-Ра и Хора объединяются и демонстрируют вселенский характер (PGM I. 145). Отождествление солярных образов Ра и Хора в императоре выражалось в Хоровом имени римского правителя, в котором владыка Рима именуется Хор-Ра. В Фиваиде римского времени устраивались праздники в честь Гелиоса-Хармахиса (Ἡλίωι Ἁρμάχει),¹³ которому император уподоблялся. Согласно греческому тексту, высеченному на стеле из Бусириса (OGIS II.666), дар разлива Нила (τὰς τοῦ Νείλου δωρεὰς ἐπαυξομένας) и другие благодеяния (εὐεγεσίας) были связаны с деятельностью префекта Бальбилла, которого послал Нерон в знак оказания поддержки (εὐεγέτησεν) Египту. Благодеяния префекта и императора связывались с образом бога Хармахиса, сделавшего их деяния известными (δηλοῦσαν τὴν πρὸς αὐτοὺς εὐεγεσίαν) и отождествленного с Гелиосом, в образе которого в Риме изображался Нерон, установивший в свою честь монументальную статую с солярными чертами. Итак, солярный образ императора сопровождался его отождествлением с Хором и Ра. Солнечные черты в римском правителе позволяли сопоставить его с одной из ипостасей Хора — Харпократом.
______________________________
[13] Ἁρμάχες — Хор в горизонте (егип. Ḥr-m-ȝḫt) — эпитет утреннего восходящего (возрождающегося) солнца.
В римское время Харпократ, изображавшийся в образе младенца, выступал как молодой Гелиос. К нему взывали о помощи, беря с собой амулеты с его изображениями. Для греков он был Аполлоном, для римлян — непобедимое солнце (Sol Invictus). Император, будучи земным воплощением бога Хора-Гелиоса на земле, сам выступает в качестве непобедимого солнца. Так, существует изображение Каракаллы на круглой камее в образе Гелиоса, вокруг головы которого выгравированы солнечные лучи. Это изображение находит свою параллель в иконографических чертах бога Хора, который предстает в римской военной униформе с короной Верхнего и Нижнего Египта на голове, излучающей солнечный свет.
Известна статуя Каракаллы, который представлен в традиционном образе египетского царя: стоящая фигура императора, на голове у которого трехчастный головной убор — немес (nms), он носит набедренную повязку (šndyt, шендит), правая нога выдвинута вперед (египетский музей, Каир. Инв. 702). В схожих иконографических традициях выполнена карнакская статуя императора Октавиана Августа (Египетский музей, Каир. Инв. № 701) в образе фараона, скульптурные изображения (τούς Καίσαρος ἀνδριάντας) которого были широко распространены в Египте (Strab. XVII. 1. 54). Правитель носит трехчастный головной убор с уреем — немес, из-под которого выступают волосы (эта же деталь обнаруживается в статуе Каракаллы) — иконографическая черта, являвшаяся традицией римского времени в изображении императоров в Египте.
Необходимо отметить, что Октавиан Август выбрал солярного Аполлона, контаминированного в Египте с Хором, в качестве бога-патрона своей политики, которому в благодарность за победу при Акции построил храм на Палантине, а рядом с ним свой дом.
В образе фараона изображался Домициан, скульптурное изображение которого в виде гранитной головы с короной царя Верхнего и Нижнего Египта (Египетский музей, Флоренция. Инв. № 8650) было изготовлено на острове Филе. Иконографические черты данной скульптуры перекликаются со статуей Домициана из Беневента и с пропагандой солярного образа императора, который выступал в тесной связи с богом Амоном, отождествляемым в Египте с Хором.
Императорские статуи, изображавшие римских правителей в образе традиционных египетских фараонов, перекликаются с культовыми скульптурными соколиными изображениями царей долины реки Нил Древнего и Нового царств. Правители Египта представлены в традиционной иконографии египетских монархов, за их головами изображены соколы, защищающие царя, либо голову правителя покрывает головной плат, имитирующий соколиное оперенье. Данные статуи демонстрируют уподобление царя богу Хору, показывая божественную и человеческую природу в образе правителя. Одновременно в Римском Египте существовали изображения Хора, которые включали иконографические черты императора. Так, в Британском музее представлена терракотовая статуэтка Хора, восседающего на троне, в римской броне и императорском одеянии (Инв. № EA 51100). Данное изображение демонстрирует властный характер образа Хора, который уподобляется земному правителю.
Итак, в римское время идея единения божественных черт отца и сына продолжали существовать в Египте. Осирис, покойный правитель, и Хор, небесный прототип живущего монарха, отождествлялись. Живущие правители Рима, помимо Хорова образа, вбирали черты Ра-Гелиоса, что отразилось в папирусных документах и официальной титулатуре римских императоров. Отождествление бога-отца и бога-сына уходило своими корнями в «Тексты пирамид» и проявилось в тексте P..Giss.3, где покойный и живущий императоры включали в себя черты Юпитера-триумфатора. Одновременно правящий император рассматривался как воплощение непобедимого солнца (Хора-Харпоката-Ра-Гелиоса), что позволяло изображать римского правителя в традиционном образе египетского фараона — земной инкарнации бога Хора.
Образы живого и мертвого императоров, отождествленные между собой, имеют более глубокую природу. Для выяснения этих особенностей необходимо обратиться к одной из части P..Giss.3, в которой читаем: ὧι πάντα δοῦλα δι' ἀρετὴν καὶ πατρὸς τύχην θεοῦ — …«которому (т.е. Адриану) все (рабски) подчиняется из-за доблести и гения-тюхе (его) божественного отца». Данный отрывок папирусного текста говорит о тесной связи τύχη живого и мертвого правителя и имеет египетскую параллель, которая обнаруживается в храмах греко-римской эпохи:
«Идет Хароэрис-Шу … Создал он своего наследника, чтобы был Па-неб-тауи-ребенок, мужчина, образ (его) подобен отцу в его имени и его Ка, которые могущественны, (и это) подобно рождению Ра».¹⁴
___________________________
[14] jj.jn Ḥr-wr-Šw… wtt.n=f jwˁw.f r Pȝ-nb-tȝ.wy hr ṯȝy twt mi itf=f m kȝ=f rn=f n nḫt m-mj(tt) ms Rˁ
В данном тексте божественное дитя объявляется наследником своего отца, а схожесть духа Ка и имени божеств обеспечивает могущество и эффективность богу-ребенку и находит свою параллель в других храмах Египта, в частности, в Дендере и Арманте. Если сопоставить храмовый и папирусный тексты, видно, что Ка имеет соответствие с греческим термином τύχη. Идея идентичности Ка правителей — отца и сына — уходит своими корнями в «Тексты пирамид». Согласно концепции Я. Ассмана, Ка является легитимизирующим династическим принципом, который передавался от отца к сыну. Дух Ка был связующим звеном между покойным отцом Осирисом и его живым сыном Хором (Pyr. 356). Необходимо отметить, что латинским эквивалентом τύχη-Ка выступало понятие genius.¹⁵ Почитание гения покойного правителя, ставшего государственным богом, на римской почве было тесно связано с поклонением живому императору, имело политическое значение и было фактором легитимизации власти монарха.
______________________________
[15] Латинское слово genius, видимо, заимствовано у греков (θεός γένους — божество рода).
γένος, -εος, ион. -ευς τό
1) рождение, происхождение (γένει πολίτης Dem. — природный гражданин, т.е. коренной);
2) род, семья (οἱ ἐν γένει Soph. — родные, родственники);
3) отпрыск, потомок или потомство;
4) род, племя.
Поклонение гениям живого и покойного императоров на государственном уровне оформилось при Клавдии, который присоединил свой культ к поклонению своим покойным предшественникам — Августу и Ливии, но во времена Траяна, Адриана и Антонина Пия государственный культ Genius Augusti исчезает, и поклонение императорскому гению совершалось частными лицами. Почитание гения императора в Италии сопровождалось проведением трапезы, возлияниями и курением фимиама, а сам genius римского правителя мог отождествляться с богами, например, с Аполлоном, либо сопоставляться с Юпитером (Plin. Pan. 52. 6).
Схожие культовые действия и представления обнаруживаются и в тексте P..Giss.3. Таким образом, отождествление τύχη-Ка живого и покойного правителя в тексте P..Giss.3 указывает на стремление Адриана продемонстрировать легитимный характер власти правящего императора, а религиозные представления, на которых основываются идеи о законности власти, имеют свои египетские и римские параллели. Согласно тексту P..Giss.3, τύχη императора Адриана сочеталось с его ἀρετή — совокупностью доблестей, добродетелей, нравственных характеристик (латинский эквивалент virtus — мужество, доблесть), которым должен обладать справедливый, угодный богам правитель. В Риме в период правления Августа эти virtutes (положительные качества) были выбиты на золотом щите — virtus, clementia, iustitia, pietas — понятия, которые должны соответствовать «Золотому веку», который приносит римский император.
Итак, образ Хора в римское время включал в себя черты Аполлона и Юпитера в частных религиозных ассоциациях. Одновременно Хор перенимал черты Амона, который контаминировался с Юпитером и Зевсом. Отождествление этих богов с Хором повлияло на образ психопомпа в P..Giss.3, черты которого переносились на императора Адриана. Почивший монарх, который традиционно рассматривался в Египте как Осирис, включал в себя черты Юпитера. Идея о боге, возносящего покойного правителя на небо, была призвана легитимизировать власть римского правителя и имела греко-римские и египетские корни, а также было проявлением Imitatio Augusti. Единение черт правителя-отца и правителя-сына в P..Giss.3 уходит корнями в египетские верования и находит свое подтверждение в храмах Египта римского времени, где происходило отождествление Осириса и Хора. Римский император, соединяя в себе черты Хора-Аполлона и Юпитера-Амона-Ра, проявлял себя как Sol invictus, солярный образ которого пропагандировался в Египте и имел римские параллели. Победоносные черты образа римского правителя в Египте отражались в греческой и египетской титулатуре императора, александрийских монетах и почитались частными религиозными ассоциациями. Одновременно образ императора, переплетающийся с идеей победы над врагами, был связан плодородием. Борьба с врагами воспринималась в Римском Египте в категориях противоборства между Хором и Сетом. Объединение египетских и греко-римских черт в образе правящего императора становится новой формой интерпретации традиционных представлений о правителе, передачи власти от покойного императора-Осириса к земному правителю-Хору Эти идеи отражались в почитании τύχη-Ка (genius) живого и почившего правителей. Взаимосвязь Genius Augusti правящего и покойного правителей находила египетские и греко-римские параллели, была призвана легитимизировать властные полномочия правящего владыки. Переплетение духа-гения правителя с его доблестями в P..Giss.3 пропагандировало образ императора как справедливого правителя, несущего Pax Romana. Данное представление соответствовало традиционной функции владыки Египта, поддерживающего Маат и выступающего как земное воплощение бога Хора.
_______________________________
|
Метки: Гор Аполлон Юпитер Рим Египет |
НУМЕНЫ |
И.Ю. Волкова
К ВОПРОСУ О РИМСКИХ НУМЕНАХ
Вера в нуменов (numina)¹ — одно из интереснейших, но мало освещенных в научной литературе явлений древнеримской религии. Как явление вера в нуменов упоминалась в работах отечественных и зарубежных авторов, исследовавших древнейшие истоки римской религии. Впервые эта проблема была поднята немецким ученым Г. Виссовой еще в 1912г., когда она высказала ряд идей о причинах и этапах формирования этого явления, не предложив, однако, окончательных выводов касательно его природы. Позже Г. Вагенворд и ряд других исследователей соотнесли веру в нуменов с верой в т.н. «мана»² — сверхъестественную энергию, якобы присутствовавшую в местах и людях, к которым применялся термин sacer — «священный». На глубокую древность формирования представлений о нумене указывали К. Латте, П. Бойансе. В отечественной науке А. Немировский предложил рассматривать нумены в качестве основы для формирования образов низших божеств в древнеримской религии, а Г. Кнабе связывал их с верой в руководство богами римской civitas³ на основании «законов» pax deorum.⁴ Однако общее мнение в отношении этой проблемы в науке так и не сформировалось и, к сожалению, на сегодняшний день специальных крупных исследований по этой теме нет.
_______________________________
[1] нумен — (в римской мифологии) божественная сила, определяющая судьбу человека.
numen, -inis
1) кивком головы выраженный знак, мановение, воля, повеление;
2) божья сила, божья власть, божеское могущество;
3) божество;
4) Императорское Величество.
[2] mana — термин, принятый в современной науке для обозначения сверхъестественной энергии в объектах материального мира в верованиях древних народов. Видимо, mana — это производное от manus — «властная рука [бога]» (in manu situm esse — находиться в чьей-либо власти).
[3] civitas, -atis f гражданская община, общество, город (преимущ. Рим), государство.
[4] Pax deorum — комплекс представлений древних римлян о поддержании мира с богами.
В диссертации автора данной статьи «Религиозное обоснование власти и политического лидерства в Риме (царский и республиканский периоды)» этот феномен был рассмотрен в рамках темы о роли традиционных римских религиозных верований в складывании представлений о сакральности военной и политической власти в римской civitas эпохи царей и Республики. Тогда же было высказано предположение, что вера в нуменов была одной из древнейших базовых составляющих культа власти в Риме, т.к. создание ореола священности вокруг персон верховных правителей, будь то древние цари или республиканские консулы, общающиеся с богами и руководимые их волей, основывалось на почитании их в качестве божественных «нуменов». В дальнейшем эта вера сыграла свою роль и в становлении римского императорского культа.
Итак, что же такое римский нумен? Древнеримской религии известно множество нуменов — божеств (гениев),⁵ ответственных, по римским поверьям, за отдельные события человеческой жизни и природы. По мере того, как возникали новые обстоятельства, более или мене значимые для общественной или частной жизни в civitas, возникали культы все новых и новых нуменов. В связи с этим в современной науке появилось мнение, что нумены — это своеобразные «божества момента».
_______________________________
[5] genius, -i m гений, дух-хранитель, сопутствовавший человеку от колыбели до могилы и различным образом влиявший на него в продолжение всей его жизни. Гений желает продления веселой, но умеренной жизни охраняемого человека. У каждого семейства, общества, города, государства, у каждой страны, местности, театра, бани и т. п. был свой гений. Со смертью человека прекращалось существование и его гения.
Такое представление о них сложилось на основе свидетельств источников, хотя и довольно поздних. Именно так объясняет природу нуменов христианский автор IV в. н.э. Арнобий в своем труде «Против язычников». Арнобий полагал, что римляне придумывали себе нового бога по каждому случаю. В этом он видел одну из главных характерных черт древней римской религии и явное доказательство неразумности язычников. Этих богов он и называл numina. К ним он относил Луперку (Luperca), считавшуюся прообразом волчицы, выкормившей Ромула и Рема; Престану (Prestana), чье имя было связано с некоторыми событиями легенды о Ромуле, в которых обнаружилось его превосходство в метании копья; Панду (Panda) или Пантику (Pantica), учреждение культа которой было связано с памятью о взятии Титом Тацием Капитолийского холма благодаря открытию (pandere) ворот, и множество других.
Ставить под сомнение выводы Арнобия, жившего около тысячи лет спустя после основания этих культов и триста с лишним лет после зарождения христианского учения, не имеет смысла. В его время многочисленные нумены вполне могли почитаться как самостоятельные божества, т.к. истоки этой древней традиции уже давно были позабыты, и на фоне все более укрепляющегося христианства эта вера воспринималась как опасное для христиан суеверие, отыскивать корни которого вовсе не было целью работы Арнобия. Поэтому при всем уважении к Арнобию и принимая во внимание его мнение, мы имеем право усомниться только в том, что за столь долгий исторический период в вере в нуменов ничего не менялось.
Углубимся в историю, поближе ко времени зарождения представлений о нуменах, тем более что подобные культы возникали не только в глубокой древности. Так, Aius Locutius, священный голос, предвестивший галльское нашествие, почитался римлянами на Новой улице в Риме, где он когда-то был услышан. Действием некоего божества римляне объясняли и отступление Ганнибала от Рима. Этот нумен почитался как Rediculus или Tutunus Rediculus. В том месте, где якобы, началось отступление вражеских войск, ему был сооружен алтарь.
Хотя в некоторых сакральных надписях нумены кажутся не абстрактными, а определенными субъектами, еще Г. Кнабе обратил внимание на то, что «нумен» в римском понимании был не богом как таковым, а указывал лишь на факт проявления воли божества, т.е. был «явленной эманацией божественной силы». По его мнению, слово numen могло иметь связь со словом nuo («кивать, давать знаки») и указывало на божественный акт, смысл которого состоял в попытке подсказать людям правильное действие, конечной целью которого было поддержание благополучия civitas. Г. Кнабе также указал на то, что обозначаемое этим словом религиозное верование является очень древним по своему происхождению, хотя сам термин появился в римской литературе только во II в. до н.э., сначала у Акция, а затем и в «Латинском языке» Варрона. Но термины, собственно говоря, всегда появляются позже явлений, ими обозначаемых: когда наступает пора теоретически эти явления осмыслить. Такой благоприятный исторический момент настал к концу прошлой эры, когда римляне, активно знакомившиеся с трудами греческих философов, перенимали их манеру интеллектуального анализа религии, в том числе и собственного традиционного культа.
Писатели, более ранние, чем Арнобий, определяли сущность нуменов не так категорично, как он. У них «нумен» то обозначает само божество, то является абстрактным выражением божественного величия, могущества, или собственно воли бога, или просто функции божества. У Сервия, автора известных комментариев к произведениям Вергилия, один бог имеет много numina [Aen., I, 666]. Сервий (Servius Honoratus, Maurus) жил в IV в. до н.э., но, в отличие от Арнобия, он целенаправленно и без предвзятостей изучал языческое наследие, видя в нем кладезь всевозможной мудрости. Цицерон же в I в. до н.э. дал такое определение нуменам: «Бессмертные боги защищают свои храмы и дома Города, присутствуя среди них в виде своего нумена и в виде той поддержки, что они этим храмам и домам оказывают» [Cicero, Marcus Tullius. Collected works, Cat. II, 29].
Следуя приведенным определениям и примерам, можно предположить, что нумен представлялся божественной силой более сложной по своей природе, чем просто «божеством момента», вдруг возникшим ниоткуда. Это божественная сила, от века пребывавшая в templum — священном, по римским понятиям, пространстве, где божественное и человеческое соприкасалось друг с другом ради общих интересов, подчиняясь единым для богов и людей законам «божественного миропорядка» (pax deorum), но время от времени проявлявшаяся в материальном мире, воплощаясь в тот или иной материальный объект с целью защиты общей для богов и людей civitas. При этом было неважно, воплотилась ли эта сила в скрип двери в хижине гражданина или в молнию, ударившую в крышу храма. Частное и общественное было неразделимо в традиционных представлениях римлян о священности civitas. Мыслилась ли эта сила единой или поделенной между персонифицированными богами, представление о ней допускало, что воплощений одного и того же божества могло быть столько, сколько ему нужно для выполнения своей роли. Тогда получают объяснение слова Сервия о множестве нуменов одного бога.
Истоки подобных верований нужно искать в том историческом периоде, когда божественное начало еще не приобрело антропоморфных очертаний в сознании людей. Божественному духу поклонялись в рощах, пещерах, у ручьев и т.п. местах, а его проявления видели в поведении животных, безотчетных чувствах людей, в житейских событиях, что характерно для многих древних обществ. Но дальнейшее развитие первобытных представлений о сакральном предполагает своего рода «разделение труда» в божественных сферах, появление антропоморфных образов богов с определенными обязанностями и полномочиями и установление между ними событийных связей, что является сутью мифов, основой появления мифологии как таковой. Однако на римской почве мифология не сложилась. Даже если попытаться обнаружить ее зачатки в, вероятно, некогда существовавших сказаниях о Янусе и Сатурне, т.е. наиболее древних персонифицированных божествах, в которых проглядывают образы древнейших культурных героев, отсутствие сложившейся исконно римской мифологии приходится признать как факт.
На определенном историческом этапе в Риме все же появляются «человекоподобные» боги. Но их образы обращают на себя внимание некоторой своей искусственностью — это явно плод культурного вмешательства извне. Первые антропоморфные изображения получают те боги, в чьи функции входит покровительство государственной власти. Это соотносится к VI в. до н.э., когда в Риме особенно заметным становится активное политическое присутствие этрусков. Древнейшие собственно римские божества пенаты⁶ тоже приобретают «человеческий облик», но в этом заметно их отождествление с греческими Диоскурами. В качестве примера этому может послужить и посвященная им надпись, относящаяся к тому же VI в. до н.э., найденная к в Лавинии.
_______________________________
[6] penates, -ium m. пенаты, боги-покровители римских семей (minores, familiares, privati), а также государства (majores, publici).
Те же римские божества, которые не находят себе более-менее подходящих отражений в пантеонах соседних народов, антропоморфного выражения не получают. Например, древняя Веста так и не стала антропоморфным божеством, а всегда ассоциировалась только с огнем очага. Хотя в храме Весты в Риме и имелось некое скульптурное изображение — Палладий, почитавшееся как символ римского могущества, но связь его собственно с Вестой не ясна. К тому же надо учесть, что Палладий, по легенде, был привезен Энеем и, получается, не имел местного римского происхождения.
С течением времени ситуация не менялась. Даже в I в. до н.э. представления Цицерона о человекоподобном виде богов выглядели умозрительными и расплывчатыми, при этом явно навеянными духом эллинистической философии: «Итак, если человеческая фигура превосходит по форме все живые существа, а бог — живое одушевленное существо, то, конечно, его облик прекраснее всех. И так как известно, что боги в высшей степени блаженны, а блаженным может быть только тот, кто добродетелен, а добродетель не может быть без разума, а разум может быть только у человека, то должно признать, что боги имеют человеческий образ. Однако этот образ не есть тело, но как бы тело, и не имеет крови, но как бы кровь» [Цицерон, Марк Туллий. Философские трактаты. О природе богов, I, 48].
Но даже если говорить о персонифицированных, на первый взгляд, богах, то у римлян так и не сложилось четких представлений об их функциях. Так, Марс — бог войны являлся таковым только в связи с его обязанностями охранять Город. Помимо этого, он отвечал за поддержание плодородия общинной земли и репродуктивной способности населения. Римская Венера также не была изначально только богиней любви. Эта функция была ей приписана довольно поздно по аналогии с греческой Афродитой. Изначально она имела довольно определенное отношение к военной деятельности (см. о культах Суллы и Цезаря). Многочисленные функции имели римские Юнона, Веста и даже Юпитер. Последний вовсе не был прямой копией греческого Зевса-громовержца. Римляне наделили его множеством «полномочий», часто дублирующих «полномочия» других божеств. Например, главные благодарственные жертвы в честь победы над врагом римский полководец приносил не Марсу, а именно Юпитеру.
«Размытость» обязанностей и полномочий была характерна для всего римского пантеона, из-за чего у пунктуальных и богобоязненных римлян (сочетание крайне неудачное с житейской точки зрения) часто и возникали трудности в исполнении культовых действий. Причем иногда эти трудности приобретали угрожающий в общественном понимании характер. Так, например, крайне опасной ситуацией признавались случаи т.н. продигий — знамений, свидетельствующих о божественном гневе из-за нарушения pax deorum. К продигиям⁷ относились разного рода природные катастрофы. Разъяснение таких знамений представлялось делом «государственной» важности, т.к. признавалось, что пристальное внимание богов было обращено, прежде всего, на общину в целом. За знамениями должны были следовать общественные жертвоприношения, искупительные церемонии и тому подобные мероприятия, бесчисленными упоминаниями о которых наполнены источники по римской истории. И если божество, пославшее знамение, устанавливалось неправильно, то искупительные жертвы, по римским представлениям, направлялись не по адресу. Результат такой ошибки виделся катастрофическим.
И вот тут спасительной оказывается практика установления культов нуменам. Под ними, видимо, и скрывались случаи, когда римские жрецы не смогли определить исходное божество, пославшее знак своим согражданам. Так как проигнорировать в культовом смысле проявление божественной силы было невозможно, оно почиталось под эпитетом (со временем воспринимавшемся уже как «собственное имя» нумена), отражающим суть произошедшего, без упоминания «божественного лица», которому этот эпитет был предназначен.
Случаев таких было немало, как и неясностей с божественными волеизъявлениями. Хорошо иллюстрирует ситуацию сообщение Авла Геллия о том, что в случае землетрясения искупительная жертва приносилась «или богу, или богине» (sive mas, sive femina), поскольку не было точно известно, какое именно божество трясет землю, и такое обращение позволяло избежать ошибки. В таком же ключе было сформулировано и обращение к римскому Гению, имевшееся на щите в храме на Капитолии. Также неопределенно звучит фраза, обращенная к Юпитеру: «Юпитер Всеблагой Величайший, или как ты хочешь, чтобы тебя называли».⁸
Если же божество точно определялось, то факт божественного воплощения отражался в учреждении культа, в названии которого фигурировал не только эпитет, но и имя самого бога. Так, Светоний упоминает о событии 22г. до н.э, произошедшем в Испании, когда молния ударила перед носилками Октавиана Августа, что было понято как продигия, вследствие чего был основан храм Юпитеру Громовержцу.⁹
_______________________________
[7] prodigium, -i n чудесное явление, дурное знамение;
[8] Juppiter Optimus Maximus, sive quo alio nomine te appelare volueris [Servius Honoratus, Maurus. Grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii, Aen. II, 35].
[9] Храм Юпитера Громовержца (Aedes Iovis Tonantis) упоминается и у Плиния Старшего [Плиний Старший. Естественная история. Об искусстве, кн. XXXIV, 10, 78].
Предположительно, вера в нуменов вытекала из довольно прочно утвердившегося в народном сознании убеждения в существовании некоего изначально единого божественного начала. В дальнейшем, по тем или иным причинам, оно так и не получило в полной мере разделения на персонифицированные и, тем более, антропоморфные объекты, взаимоотношения которых могли бы приобрести мифологическое оформление. Даже имея в своем пантеоне определенное количество персонифицированных богов, римляне пытались и их объединить в коллегии. Причем имена некоторых членов этих «божественных коллегий» считались неизвестными по той причине, что они представляли собой священную тайну — вполне исчерпывающее объяснение для никогда не существовавшего знания. Результатом такого мировоззрения стало появление сакрального почитания нуменов, явившихся удобными и понятными для религиозного сознания относительно персонифицированными объектами культа. Дальнейшая консервация религиозных воззрений стала отражением присущей римскому обществу глубокой веры в связь религиозного культа с безопасностью civitas, где любое новшество, уход от веры отцов могли восприниматься как угроза существованию всей общины. Ведь начиная с I в. до н.э. так называемое «разложение нравов» считалось угрозой обществу именно в связи с нежеланием отдельных представителей общины уважать религиозное право и религиозные традиции государства.
Обращает на себя внимание, что все перечисленные выше примеры культов нуменов были связаны с государственной сферой. Могли ли они быть каким-либо образом связанными с деятельностью политических и военных лидеров римской общины?
Следы первобытного тотемизма и фетишизма можно найти в римских источниках, передающих отголоски древнейших сказаний о происхождении людей от неких природных сущностей. Так, у римлян существовал культ дуба. Венки из дуба были атрибутами царей Альбы-Лонги, которые при этом носили прозвище Сильвии, т.е. «лесовики». Такие же венки носили и древние цари Рима. Еще Д. Фрезер указывал на то, что дуб в римских поверьях связан с Юпитером как покровителем царской власти, и цари Альбы и Рима воплощали не просто дух дуба, но, прежде всего, дух Юпитера. Ливий сообщает, что до Нумы культом Юпитера ведали именно цари. Но интересно, что, по легенде, царь Латин после смерти стал почитаться в горном лесу как Юпитер Латиарис (Iuppiter Latiaris). Простое прижизненное служение Юпитеру причины такого названия культа не объясняет. Однако если предположить, что царь Латин считался при жизни воплощением Юпитера, т.е. его нуменом, то понятно, почему возник такой культ. Он был учрежден не собственно царю Латину, а в память о «факте» воплощения в нем силы Юпитера, т.е. главным адресатом здесь являлся Юпитер.
Именно такого характера видятся культы и некоторых других персонажей римской истории. Так культа был удостоен Эней — предок Ромула и основатель нового государства в Лации, «силой своей не уступающего соседям» [Тит Ливий. История Рима от основания города I, 2]. После свершения многих славных дел он погиб в сражении и был похоронен над р. Нумиком (в Лации), близ Ардеи. По рассказу Ливия, Энея обожествили под именем Юпитера Индигета (Iuppiter Indiges — Юпитера родоначальника),¹⁰ а Дионисий [Римские древности I, LXIV], упоминает существовавший еще в его время посвященный Энею древний героон.¹¹
Даже если предположить, что легенда об Энее могла появиться довольно поздно и не без греческого влияния, сам сюжет об Энее явно хранит в себе некие древние сказания. В 1960-70-х гг. в ходе раскопок на территории древнего Лавиния была обнаружена стела¹² конца IV - начала III вв. до н.э. с посвящением «Лару Энею». Чуть позже в этом же месте обнаружили и героон IV в. до н.э. При этом культ лица, погребенного в герооне, был более древним, хотя и приобрел большую значимость только в IV в. до н.э., судя по масштабам перестройки, которую удалось установить. Древнейшая же часть этого памятника могла относиться к концу VII - началу VI вв. до н.э.
_______________________________
[10] indiges, -etis
I природный, туземный, отечественный;
II m отечественный герой, об Энее и его потомках, предках римлян, которые после своей смерти были почитаемы, как боги-хранители государства.
[11] ἡρῷον, ион. ἡρώϊον τό античное святилище, посвященное герою. Обычно воздвигалось на предполагаемой могиле или месте гибели данного героя, или у его кенотафа. Обязательным элементом места культа была роща.
[12] στήλη, дор. στάλᾱ ἡ каменная плита, устанавливаемая в качестве погребального или памятного монумента.
Эти приблизительные сроки отсылают нас к временам «этрусского» Рима и началу его постепенного превращения в государство. Не пришла ли легенда об Энее в Рим от этрусков? На этрусский след указывает вероятный государственный характер этого культа. Известно, что понтифики и консулы эпохи Республики ежегодно приносили жертвы богам-прародителям в Лавинии. Возвращаясь к свидетельствам Ливия и Дионисия, все это могло иметь отношение к культу Энея, приобретшим с течением времени государственное значение.
Свой культ получил и Ромул — основатель и первый царь Рима. Ливий сообщает, что рассказывали, будто Ромул вовсе не умер, а был унесен вихрем при большом скоплении народа [Тит Ливий. История Рима от основания города I, 16 (1)]. После исчезновения Ромула все собравшиеся, «будто пораженные страхом сиротства, хранили скорбное молчание. Потом сперва немногие, а за ними все разом возглашают хвалу Ромулу, богу, богом рожденному, царю и отцу города Рима, молят его о мире, о том, чтобы благой и милостивый, всегда хранил он свое потомство». Некий Прокул Юлий позже утверждал, что якобы встретил Ромула, сошедшего с небес и возвестившего о великой судьбе Рима, которому предстоит стать главой всего мира.
Учитывая последнее происшествие, легенда могла и не иметь отношение к периоду архаики. Но фактом является то, что в довольно древние времена Ромул, отец-основатель Города, был отождествлен с Квирином, богом, возможно, сабинского происхождения. Квирин-Ромул был одним из наиболее чтимых в Риме богов. Его культ часто объединяли с культами других древних италийских божеств: Януса, Марса, Юпитера, — хотя были и места индивидуального почитания Ромула — «хижина Ромула» и «гробница Ромула» (на месте древних комиций).¹³
_______________________________
[13] comitium, -i n место народных собраний в Древнем Риме.
Имелись и другие герои римских легенд, удостоенные культа. Это Танаквиль, супруга Тарквиния Древнего — первого этрусского царя Рима, известная также под именем Гайи Цецилии. Ее статуя с прялкой и шерстью имелась в римском храме бога Санка. Она считалась изобретательницей ткачества особого вида туник. Нужно вспомнить и Акку Ларенцию — приемную мать Ромула и Рема [Авл Геллий. Аттические ночи VII, 7]. Легендарные Горации и Куриации также были отмечены сакральным почитанием. У Дионисия [Дионисий Галикарнасский. Римские древности V] есть упоминание о неком святилище в роще Героя Горация и о культе Януса Куриация и Юноны Сестринской, на алтарях которых ежегодно совершались жертвоприношения. Нужно отметить, что в перечисленных выше случаях поклонения памяти героев так или иначе упоминалось какое-либо божество, следовательно эти культы нельзя назвать прямым обожествлением.
У Геродиана, историка III в. н.э., есть интересное упоминание о том, что в древности имелся обычай объявлять умершего царя богом после сожжения его тела [Hist., IV, 2]. Но прямое обожествление царей вызывает сомнение, ведь Геродиан — автор довольно поздний для описываемого исторического периода. Однако здесь явно слышится отголосок древней веры в близость носителей верховной власти к божественным силам. Безусловно, на него наслаивается не менее древняя римская традиция обожествления мертвых предков, но, по сути, она не связана с верой в нуменов, хотя это наслоение явно прослеживается и в учреждении упомянутого выше культа Энея как Юпитера Индигета. Культ предков в Древнем Риме — это еще одно очень интересное и неоднозначное для понимания явление древней религиозной культуры, но оно выходит за рамки нашей темы. Кроме того, связь руководителей civitas с нуменами богов, прежде всего, Юпитера, прослеживается не только в сюжетах об учреждении посмертных культов. Это указывает на необходимость отделять культ правителей от культа предков при рассмотрении данной темы.
Так, в Риме был обычай, по которому военный предводитель, царь (rex), посвящал богам добычу, захваченную на войне. Еще Ромул якобы посвятил свою первую spolia opima¹⁴ Юпитеру Феретрию (Jupiter Feretrius),¹⁵ почитавшемуся на Капитолии в виде священного дуба. А.Немировский предположил, что spolia opima, как и обычай поединка между предводителями войск, отражают веру в то, что в схватке побеждает не человек, а вселившаяся в него или руководящая им божественная сила. В таком случае акт посвящения вражеских доспехов божеству означал их передачу тому, кто являлся настоящим победителем и имел на них законное право. Победивший же полководец мыслился всего лишь объектом (временного или постоянного) воплощения божества («нуменом»).
_______________________________
[14] spolia opima — («богатая добыча») вооружение, снятое с убитого вражеского военачальника или царя.
[15] Feretrius ī m. («Податель добычи» или «Несущий победу») эпитет Юпитера, которому полководец-триумфатор приносил в дар на носилках лучшую часть добычи (spolia opima) L., Prp.
Но при этом правитель не терял своей индивидуальности. Будучи ключевой фигурой в отношениях между людьми и богами и в поддержании pax deorum, он нес персональную ответственность перед богами как за общину (государство), так и за свое собственное поведение. Если правитель по какой-либо причине становился неугодным богам, то можно предположить, что по древним верованиям он не мог рассчитывать и на воплощение в нем божественных сил, а значит, его нахождение у власти могло привести к бедствиям для всей общины. Он становился не только не нужным, но и опасным. В этом случае его персона должна была быть центральной в сакральных обрядах искупления божественного гнева. Коптев А. обращает внимание на то, что действительно, смерть римских царей во многом напоминала жертвоприношение [Об «этрусской династии» архаического Рима, с. 69], как, например, в легенде о Тулле Гостилии [Тит Ливий. История Рима от основания города I, 31]. При этом посмертного культа удостаивались только те из них, кто в противоправных и неприличествующих их статусу действиях замечен не был и которые до конца своих дней считались носителями божественной энергии.
Сказанное выше дает основание считать, что в Риме действующие представители верховной власти представлялись проводниками божественной энергии и воли, и почитались в качестве божественных нуменов. На особый священный статус правителя — военного руководителя и его приоритет в общении с богами не повлияло даже появление жреческих коллегий при царе Нуме, указывавшее на укрепление жречества. Этот приоритет, проистекающий из веры в правителя, как божественного нумена, сохранялся и в республиканский период. Хотя здесь «статус» нумена мог быть только временным, что определялось характером республиканских магистратур; и эта временность не допускала в дальнейшем учреждения посмертного культа. Эта вера сохранялась и в эпоху императоров, которые, кроме того, как известно, вернули себе право на постоянное, пожизненное исполнение правящих функций. Возможно, с этим и было связано возрождение не только прижизненного, но и посмертного императорского культа, который во многом основывался на традиционных римских верованиях. Об устойчивости традиции говорит имеющееся сведение, что в 13г. н.э. император Тиберий освятил алтарь Numina Augusti. В названии этого культа уже сквозят веяния новой эпохи, и прочтение его может быть спорным, но то, что в нем отражена традиция, — безусловно.
В более удаленные времена, трансформировавшись в соответствии с новыми политическими и идеологическими реалиями, рассмотренные древние представления проявились в христианском признании правителя «помазанником Божьим».
Такая жизнеспособность верования могла объясняться тем, что традиционное посмертное и прижизненное, временное или постоянное культовое почитание правителей в Риме не означало их прямого обожествления. Целью культа было выражение благодарности божественным силам за проявленную заботу о римской общине, при этом объектом культа являлось само божество. Отсюда частые совместные культы «обожествленного» лица и собственно бога.
Последнее интересным образом прослеживается даже в италийских сказаниях об учреждении местного культа Геркулеса (Hercules). По легенде, переданной Ливием, первый алтарь в честь Геркулеса воздвиг сам Геркулес, и он сам же принес на нем первую жертву [Тит Ливий. История Рима от основания города I, 7]. Принести жертву самому себе кажется поступком довольно странным. Но если предположить, что изначально по легенде Геркулес соорудил алтарь и принес жертву некоему божеству, нуменом которого он мог себя считать по местным поверьям и, впоследствии, вместе с ним почитаться, то в этом случае это событие уже не выглядит таким сомнительным. Однако подробности могли стереться со временем из народной памяти, учитывая наслоение греческой традиции, по которой Геракл был обожествлен непосредственно. Впрочем, у Страбона есть упоминание, что первый культ Геракла в Италии был учрежден все же легендарным Эвандром, но при жизни Геракла [Страбон. География V, гл. III, 3], что говорит, по крайней мере, что Геракл не поклонялся самому себе.
Образ Геракла (Геркулеса) в Италии — это еще одна необъятная тема для изучения, особенно если принять во внимание неоднозначную роль данного персонажа в дальнейшем развитии религиозных идей античного общества. Здесь уместно вспомнить старую статью Л. Ельницкого, название которой говорит само за себя: «Геракл и миф о Христе» [с. 452].
Итак, из всего вышесказанного можно предположить, что в римском сознании на протяжении многих веков упорно сохранялась и культивировалась очень древняя по своему происхождению вера в единое или коллективное божественное начало, что в определенной мере тормозило процесс складывания представлений о персонифицированных и антропоморфных богах. Все это стало причиной возникновения веры в нуменов, природа которых допускала существование высшего непостижимого божественного начала, имевшего свое выражение во множестве близких и понятных объектах повседневного культа. Признавалось, что в виде нуменов боги, как неотъемлемая часть мироздания, являли себя в материальном мире людей. Практика учреждения культа нумену — воплощению божества — с упоминанием только события или явления, т.к. объект культа не всегда получалось определить, была довольно частой и постепенно становилась привычной.
Вера в нуменов в большей степени проявлялась в сфере событий, связанных с благополучием римской civitas. Безусловная вера в ее сакральность привела к убеждению о возможности божественного воплощения в людях, связанных с ее управлением, что создало культ власти, проявившийся в сакральном почитании персон правителей-нуменов — охранителей и спасителей своей общины. Так в человеческой истории воплотилась история божественных деяний, и мифология как таковая оказалась излишней.
Нельзя отрицать, что эпитеты богов в наиболее древних культах их нуменов могли со временем становиться самостоятельными божествами. Так, Г. Виссова обращал внимание на то, что Liber, вполне самостоятельное божество уже во времена Республики, изначально олицетворял особую функцию Юпитера, ставшую отдельным божеством [Wissowa G. Religion und Kultus der Römer, с. 138], т.е., возможно, изначально был нуменом Юпитера. Определение нуменам, данное Арнобием в IV в. н.э., отразило судьбу именно этого направления развития веры. Но Арнобий противостоял приверженцам язычества, которое очень отдаленно напоминало религиозные представления, бытовавшие в Риме на рубеже эр, не говоря уж о более древних временах.
Изначально же в вере в нуменов было заложено убеждение (и на рубеже эр оно еще имело место) в возможность существования единой божественной силы, не имеющей материальной антропоморфной персонификации, но руководящей миром и способной воплощаться во множестве нуменов, которым мог стать и человек, с целью спасения и охранения этого мира. Не есть ли это повод с большим вниманием посмотреть на сложившиеся в современном представлении основы и принципы язычества древних европейцев? Во всяком случае, новизна монотеистических учений для древних европейских обществ и видение в их появлении только результат восточных культурных заимствований начинают вызывать сомнение. В древних индоевропейских культурах имелась своя, вполне осязаемая, почва для их прорастания.
_______________________________
К ВОПРОСУ О РИМСКИХ НУМЕНАХ
Вера в нуменов (numina)¹ — одно из интереснейших, но мало освещенных в научной литературе явлений древнеримской религии. Как явление вера в нуменов упоминалась в работах отечественных и зарубежных авторов, исследовавших древнейшие истоки римской религии. Впервые эта проблема была поднята немецким ученым Г. Виссовой еще в 1912г., когда она высказала ряд идей о причинах и этапах формирования этого явления, не предложив, однако, окончательных выводов касательно его природы. Позже Г. Вагенворд и ряд других исследователей соотнесли веру в нуменов с верой в т.н. «мана»² — сверхъестественную энергию, якобы присутствовавшую в местах и людях, к которым применялся термин sacer — «священный». На глубокую древность формирования представлений о нумене указывали К. Латте, П. Бойансе. В отечественной науке А. Немировский предложил рассматривать нумены в качестве основы для формирования образов низших божеств в древнеримской религии, а Г. Кнабе связывал их с верой в руководство богами римской civitas³ на основании «законов» pax deorum.⁴ Однако общее мнение в отношении этой проблемы в науке так и не сформировалось и, к сожалению, на сегодняшний день специальных крупных исследований по этой теме нет.
_______________________________
[1] нумен — (в римской мифологии) божественная сила, определяющая судьбу человека.
numen, -inis
1) кивком головы выраженный знак, мановение, воля, повеление;
2) божья сила, божья власть, божеское могущество;
3) божество;
4) Императорское Величество.
[2] mana — термин, принятый в современной науке для обозначения сверхъестественной энергии в объектах материального мира в верованиях древних народов. Видимо, mana — это производное от manus — «властная рука [бога]» (in manu situm esse — находиться в чьей-либо власти).
[3] civitas, -atis f гражданская община, общество, город (преимущ. Рим), государство.
[4] Pax deorum — комплекс представлений древних римлян о поддержании мира с богами.
В диссертации автора данной статьи «Религиозное обоснование власти и политического лидерства в Риме (царский и республиканский периоды)» этот феномен был рассмотрен в рамках темы о роли традиционных римских религиозных верований в складывании представлений о сакральности военной и политической власти в римской civitas эпохи царей и Республики. Тогда же было высказано предположение, что вера в нуменов была одной из древнейших базовых составляющих культа власти в Риме, т.к. создание ореола священности вокруг персон верховных правителей, будь то древние цари или республиканские консулы, общающиеся с богами и руководимые их волей, основывалось на почитании их в качестве божественных «нуменов». В дальнейшем эта вера сыграла свою роль и в становлении римского императорского культа.
Итак, что же такое римский нумен? Древнеримской религии известно множество нуменов — божеств (гениев),⁵ ответственных, по римским поверьям, за отдельные события человеческой жизни и природы. По мере того, как возникали новые обстоятельства, более или мене значимые для общественной или частной жизни в civitas, возникали культы все новых и новых нуменов. В связи с этим в современной науке появилось мнение, что нумены — это своеобразные «божества момента».
_______________________________
[5] genius, -i m гений, дух-хранитель, сопутствовавший человеку от колыбели до могилы и различным образом влиявший на него в продолжение всей его жизни. Гений желает продления веселой, но умеренной жизни охраняемого человека. У каждого семейства, общества, города, государства, у каждой страны, местности, театра, бани и т. п. был свой гений. Со смертью человека прекращалось существование и его гения.
Такое представление о них сложилось на основе свидетельств источников, хотя и довольно поздних. Именно так объясняет природу нуменов христианский автор IV в. н.э. Арнобий в своем труде «Против язычников». Арнобий полагал, что римляне придумывали себе нового бога по каждому случаю. В этом он видел одну из главных характерных черт древней римской религии и явное доказательство неразумности язычников. Этих богов он и называл numina. К ним он относил Луперку (Luperca), считавшуюся прообразом волчицы, выкормившей Ромула и Рема; Престану (Prestana), чье имя было связано с некоторыми событиями легенды о Ромуле, в которых обнаружилось его превосходство в метании копья; Панду (Panda) или Пантику (Pantica), учреждение культа которой было связано с памятью о взятии Титом Тацием Капитолийского холма благодаря открытию (pandere) ворот, и множество других.
Ставить под сомнение выводы Арнобия, жившего около тысячи лет спустя после основания этих культов и триста с лишним лет после зарождения христианского учения, не имеет смысла. В его время многочисленные нумены вполне могли почитаться как самостоятельные божества, т.к. истоки этой древней традиции уже давно были позабыты, и на фоне все более укрепляющегося христианства эта вера воспринималась как опасное для христиан суеверие, отыскивать корни которого вовсе не было целью работы Арнобия. Поэтому при всем уважении к Арнобию и принимая во внимание его мнение, мы имеем право усомниться только в том, что за столь долгий исторический период в вере в нуменов ничего не менялось.
Углубимся в историю, поближе ко времени зарождения представлений о нуменах, тем более что подобные культы возникали не только в глубокой древности. Так, Aius Locutius, священный голос, предвестивший галльское нашествие, почитался римлянами на Новой улице в Риме, где он когда-то был услышан. Действием некоего божества римляне объясняли и отступление Ганнибала от Рима. Этот нумен почитался как Rediculus или Tutunus Rediculus. В том месте, где якобы, началось отступление вражеских войск, ему был сооружен алтарь.
Хотя в некоторых сакральных надписях нумены кажутся не абстрактными, а определенными субъектами, еще Г. Кнабе обратил внимание на то, что «нумен» в римском понимании был не богом как таковым, а указывал лишь на факт проявления воли божества, т.е. был «явленной эманацией божественной силы». По его мнению, слово numen могло иметь связь со словом nuo («кивать, давать знаки») и указывало на божественный акт, смысл которого состоял в попытке подсказать людям правильное действие, конечной целью которого было поддержание благополучия civitas. Г. Кнабе также указал на то, что обозначаемое этим словом религиозное верование является очень древним по своему происхождению, хотя сам термин появился в римской литературе только во II в. до н.э., сначала у Акция, а затем и в «Латинском языке» Варрона. Но термины, собственно говоря, всегда появляются позже явлений, ими обозначаемых: когда наступает пора теоретически эти явления осмыслить. Такой благоприятный исторический момент настал к концу прошлой эры, когда римляне, активно знакомившиеся с трудами греческих философов, перенимали их манеру интеллектуального анализа религии, в том числе и собственного традиционного культа.
Писатели, более ранние, чем Арнобий, определяли сущность нуменов не так категорично, как он. У них «нумен» то обозначает само божество, то является абстрактным выражением божественного величия, могущества, или собственно воли бога, или просто функции божества. У Сервия, автора известных комментариев к произведениям Вергилия, один бог имеет много numina [Aen., I, 666]. Сервий (Servius Honoratus, Maurus) жил в IV в. до н.э., но, в отличие от Арнобия, он целенаправленно и без предвзятостей изучал языческое наследие, видя в нем кладезь всевозможной мудрости. Цицерон же в I в. до н.э. дал такое определение нуменам: «Бессмертные боги защищают свои храмы и дома Города, присутствуя среди них в виде своего нумена и в виде той поддержки, что они этим храмам и домам оказывают» [Cicero, Marcus Tullius. Collected works, Cat. II, 29].
Следуя приведенным определениям и примерам, можно предположить, что нумен представлялся божественной силой более сложной по своей природе, чем просто «божеством момента», вдруг возникшим ниоткуда. Это божественная сила, от века пребывавшая в templum — священном, по римским понятиям, пространстве, где божественное и человеческое соприкасалось друг с другом ради общих интересов, подчиняясь единым для богов и людей законам «божественного миропорядка» (pax deorum), но время от времени проявлявшаяся в материальном мире, воплощаясь в тот или иной материальный объект с целью защиты общей для богов и людей civitas. При этом было неважно, воплотилась ли эта сила в скрип двери в хижине гражданина или в молнию, ударившую в крышу храма. Частное и общественное было неразделимо в традиционных представлениях римлян о священности civitas. Мыслилась ли эта сила единой или поделенной между персонифицированными богами, представление о ней допускало, что воплощений одного и того же божества могло быть столько, сколько ему нужно для выполнения своей роли. Тогда получают объяснение слова Сервия о множестве нуменов одного бога.
Истоки подобных верований нужно искать в том историческом периоде, когда божественное начало еще не приобрело антропоморфных очертаний в сознании людей. Божественному духу поклонялись в рощах, пещерах, у ручьев и т.п. местах, а его проявления видели в поведении животных, безотчетных чувствах людей, в житейских событиях, что характерно для многих древних обществ. Но дальнейшее развитие первобытных представлений о сакральном предполагает своего рода «разделение труда» в божественных сферах, появление антропоморфных образов богов с определенными обязанностями и полномочиями и установление между ними событийных связей, что является сутью мифов, основой появления мифологии как таковой. Однако на римской почве мифология не сложилась. Даже если попытаться обнаружить ее зачатки в, вероятно, некогда существовавших сказаниях о Янусе и Сатурне, т.е. наиболее древних персонифицированных божествах, в которых проглядывают образы древнейших культурных героев, отсутствие сложившейся исконно римской мифологии приходится признать как факт.
На определенном историческом этапе в Риме все же появляются «человекоподобные» боги. Но их образы обращают на себя внимание некоторой своей искусственностью — это явно плод культурного вмешательства извне. Первые антропоморфные изображения получают те боги, в чьи функции входит покровительство государственной власти. Это соотносится к VI в. до н.э., когда в Риме особенно заметным становится активное политическое присутствие этрусков. Древнейшие собственно римские божества пенаты⁶ тоже приобретают «человеческий облик», но в этом заметно их отождествление с греческими Диоскурами. В качестве примера этому может послужить и посвященная им надпись, относящаяся к тому же VI в. до н.э., найденная к в Лавинии.
_______________________________
[6] penates, -ium m. пенаты, боги-покровители римских семей (minores, familiares, privati), а также государства (majores, publici).
Те же римские божества, которые не находят себе более-менее подходящих отражений в пантеонах соседних народов, антропоморфного выражения не получают. Например, древняя Веста так и не стала антропоморфным божеством, а всегда ассоциировалась только с огнем очага. Хотя в храме Весты в Риме и имелось некое скульптурное изображение — Палладий, почитавшееся как символ римского могущества, но связь его собственно с Вестой не ясна. К тому же надо учесть, что Палладий, по легенде, был привезен Энеем и, получается, не имел местного римского происхождения.
С течением времени ситуация не менялась. Даже в I в. до н.э. представления Цицерона о человекоподобном виде богов выглядели умозрительными и расплывчатыми, при этом явно навеянными духом эллинистической философии: «Итак, если человеческая фигура превосходит по форме все живые существа, а бог — живое одушевленное существо, то, конечно, его облик прекраснее всех. И так как известно, что боги в высшей степени блаженны, а блаженным может быть только тот, кто добродетелен, а добродетель не может быть без разума, а разум может быть только у человека, то должно признать, что боги имеют человеческий образ. Однако этот образ не есть тело, но как бы тело, и не имеет крови, но как бы кровь» [Цицерон, Марк Туллий. Философские трактаты. О природе богов, I, 48].
Но даже если говорить о персонифицированных, на первый взгляд, богах, то у римлян так и не сложилось четких представлений об их функциях. Так, Марс — бог войны являлся таковым только в связи с его обязанностями охранять Город. Помимо этого, он отвечал за поддержание плодородия общинной земли и репродуктивной способности населения. Римская Венера также не была изначально только богиней любви. Эта функция была ей приписана довольно поздно по аналогии с греческой Афродитой. Изначально она имела довольно определенное отношение к военной деятельности (см. о культах Суллы и Цезаря). Многочисленные функции имели римские Юнона, Веста и даже Юпитер. Последний вовсе не был прямой копией греческого Зевса-громовержца. Римляне наделили его множеством «полномочий», часто дублирующих «полномочия» других божеств. Например, главные благодарственные жертвы в честь победы над врагом римский полководец приносил не Марсу, а именно Юпитеру.
«Размытость» обязанностей и полномочий была характерна для всего римского пантеона, из-за чего у пунктуальных и богобоязненных римлян (сочетание крайне неудачное с житейской точки зрения) часто и возникали трудности в исполнении культовых действий. Причем иногда эти трудности приобретали угрожающий в общественном понимании характер. Так, например, крайне опасной ситуацией признавались случаи т.н. продигий — знамений, свидетельствующих о божественном гневе из-за нарушения pax deorum. К продигиям⁷ относились разного рода природные катастрофы. Разъяснение таких знамений представлялось делом «государственной» важности, т.к. признавалось, что пристальное внимание богов было обращено, прежде всего, на общину в целом. За знамениями должны были следовать общественные жертвоприношения, искупительные церемонии и тому подобные мероприятия, бесчисленными упоминаниями о которых наполнены источники по римской истории. И если божество, пославшее знамение, устанавливалось неправильно, то искупительные жертвы, по римским представлениям, направлялись не по адресу. Результат такой ошибки виделся катастрофическим.
И вот тут спасительной оказывается практика установления культов нуменам. Под ними, видимо, и скрывались случаи, когда римские жрецы не смогли определить исходное божество, пославшее знак своим согражданам. Так как проигнорировать в культовом смысле проявление божественной силы было невозможно, оно почиталось под эпитетом (со временем воспринимавшемся уже как «собственное имя» нумена), отражающим суть произошедшего, без упоминания «божественного лица», которому этот эпитет был предназначен.
Случаев таких было немало, как и неясностей с божественными волеизъявлениями. Хорошо иллюстрирует ситуацию сообщение Авла Геллия о том, что в случае землетрясения искупительная жертва приносилась «или богу, или богине» (sive mas, sive femina), поскольку не было точно известно, какое именно божество трясет землю, и такое обращение позволяло избежать ошибки. В таком же ключе было сформулировано и обращение к римскому Гению, имевшееся на щите в храме на Капитолии. Также неопределенно звучит фраза, обращенная к Юпитеру: «Юпитер Всеблагой Величайший, или как ты хочешь, чтобы тебя называли».⁸
Если же божество точно определялось, то факт божественного воплощения отражался в учреждении культа, в названии которого фигурировал не только эпитет, но и имя самого бога. Так, Светоний упоминает о событии 22г. до н.э, произошедшем в Испании, когда молния ударила перед носилками Октавиана Августа, что было понято как продигия, вследствие чего был основан храм Юпитеру Громовержцу.⁹
_______________________________
[7] prodigium, -i n чудесное явление, дурное знамение;
[8] Juppiter Optimus Maximus, sive quo alio nomine te appelare volueris [Servius Honoratus, Maurus. Grammatici qui feruntur in Vergilii carmina commentarii, Aen. II, 35].
[9] Храм Юпитера Громовержца (Aedes Iovis Tonantis) упоминается и у Плиния Старшего [Плиний Старший. Естественная история. Об искусстве, кн. XXXIV, 10, 78].
Предположительно, вера в нуменов вытекала из довольно прочно утвердившегося в народном сознании убеждения в существовании некоего изначально единого божественного начала. В дальнейшем, по тем или иным причинам, оно так и не получило в полной мере разделения на персонифицированные и, тем более, антропоморфные объекты, взаимоотношения которых могли бы приобрести мифологическое оформление. Даже имея в своем пантеоне определенное количество персонифицированных богов, римляне пытались и их объединить в коллегии. Причем имена некоторых членов этих «божественных коллегий» считались неизвестными по той причине, что они представляли собой священную тайну — вполне исчерпывающее объяснение для никогда не существовавшего знания. Результатом такого мировоззрения стало появление сакрального почитания нуменов, явившихся удобными и понятными для религиозного сознания относительно персонифицированными объектами культа. Дальнейшая консервация религиозных воззрений стала отражением присущей римскому обществу глубокой веры в связь религиозного культа с безопасностью civitas, где любое новшество, уход от веры отцов могли восприниматься как угроза существованию всей общины. Ведь начиная с I в. до н.э. так называемое «разложение нравов» считалось угрозой обществу именно в связи с нежеланием отдельных представителей общины уважать религиозное право и религиозные традиции государства.
Обращает на себя внимание, что все перечисленные выше примеры культов нуменов были связаны с государственной сферой. Могли ли они быть каким-либо образом связанными с деятельностью политических и военных лидеров римской общины?
Следы первобытного тотемизма и фетишизма можно найти в римских источниках, передающих отголоски древнейших сказаний о происхождении людей от неких природных сущностей. Так, у римлян существовал культ дуба. Венки из дуба были атрибутами царей Альбы-Лонги, которые при этом носили прозвище Сильвии, т.е. «лесовики». Такие же венки носили и древние цари Рима. Еще Д. Фрезер указывал на то, что дуб в римских поверьях связан с Юпитером как покровителем царской власти, и цари Альбы и Рима воплощали не просто дух дуба, но, прежде всего, дух Юпитера. Ливий сообщает, что до Нумы культом Юпитера ведали именно цари. Но интересно, что, по легенде, царь Латин после смерти стал почитаться в горном лесу как Юпитер Латиарис (Iuppiter Latiaris). Простое прижизненное служение Юпитеру причины такого названия культа не объясняет. Однако если предположить, что царь Латин считался при жизни воплощением Юпитера, т.е. его нуменом, то понятно, почему возник такой культ. Он был учрежден не собственно царю Латину, а в память о «факте» воплощения в нем силы Юпитера, т.е. главным адресатом здесь являлся Юпитер.
Именно такого характера видятся культы и некоторых других персонажей римской истории. Так культа был удостоен Эней — предок Ромула и основатель нового государства в Лации, «силой своей не уступающего соседям» [Тит Ливий. История Рима от основания города I, 2]. После свершения многих славных дел он погиб в сражении и был похоронен над р. Нумиком (в Лации), близ Ардеи. По рассказу Ливия, Энея обожествили под именем Юпитера Индигета (Iuppiter Indiges — Юпитера родоначальника),¹⁰ а Дионисий [Римские древности I, LXIV], упоминает существовавший еще в его время посвященный Энею древний героон.¹¹
Даже если предположить, что легенда об Энее могла появиться довольно поздно и не без греческого влияния, сам сюжет об Энее явно хранит в себе некие древние сказания. В 1960-70-х гг. в ходе раскопок на территории древнего Лавиния была обнаружена стела¹² конца IV - начала III вв. до н.э. с посвящением «Лару Энею». Чуть позже в этом же месте обнаружили и героон IV в. до н.э. При этом культ лица, погребенного в герооне, был более древним, хотя и приобрел большую значимость только в IV в. до н.э., судя по масштабам перестройки, которую удалось установить. Древнейшая же часть этого памятника могла относиться к концу VII - началу VI вв. до н.э.
_______________________________
[10] indiges, -etis
I природный, туземный, отечественный;
II m отечественный герой, об Энее и его потомках, предках римлян, которые после своей смерти были почитаемы, как боги-хранители государства.
[11] ἡρῷον, ион. ἡρώϊον τό античное святилище, посвященное герою. Обычно воздвигалось на предполагаемой могиле или месте гибели данного героя, или у его кенотафа. Обязательным элементом места культа была роща.
[12] στήλη, дор. στάλᾱ ἡ каменная плита, устанавливаемая в качестве погребального или памятного монумента.
Эти приблизительные сроки отсылают нас к временам «этрусского» Рима и началу его постепенного превращения в государство. Не пришла ли легенда об Энее в Рим от этрусков? На этрусский след указывает вероятный государственный характер этого культа. Известно, что понтифики и консулы эпохи Республики ежегодно приносили жертвы богам-прародителям в Лавинии. Возвращаясь к свидетельствам Ливия и Дионисия, все это могло иметь отношение к культу Энея, приобретшим с течением времени государственное значение.
Свой культ получил и Ромул — основатель и первый царь Рима. Ливий сообщает, что рассказывали, будто Ромул вовсе не умер, а был унесен вихрем при большом скоплении народа [Тит Ливий. История Рима от основания города I, 16 (1)]. После исчезновения Ромула все собравшиеся, «будто пораженные страхом сиротства, хранили скорбное молчание. Потом сперва немногие, а за ними все разом возглашают хвалу Ромулу, богу, богом рожденному, царю и отцу города Рима, молят его о мире, о том, чтобы благой и милостивый, всегда хранил он свое потомство». Некий Прокул Юлий позже утверждал, что якобы встретил Ромула, сошедшего с небес и возвестившего о великой судьбе Рима, которому предстоит стать главой всего мира.
Учитывая последнее происшествие, легенда могла и не иметь отношение к периоду архаики. Но фактом является то, что в довольно древние времена Ромул, отец-основатель Города, был отождествлен с Квирином, богом, возможно, сабинского происхождения. Квирин-Ромул был одним из наиболее чтимых в Риме богов. Его культ часто объединяли с культами других древних италийских божеств: Януса, Марса, Юпитера, — хотя были и места индивидуального почитания Ромула — «хижина Ромула» и «гробница Ромула» (на месте древних комиций).¹³
_______________________________
[13] comitium, -i n место народных собраний в Древнем Риме.
Имелись и другие герои римских легенд, удостоенные культа. Это Танаквиль, супруга Тарквиния Древнего — первого этрусского царя Рима, известная также под именем Гайи Цецилии. Ее статуя с прялкой и шерстью имелась в римском храме бога Санка. Она считалась изобретательницей ткачества особого вида туник. Нужно вспомнить и Акку Ларенцию — приемную мать Ромула и Рема [Авл Геллий. Аттические ночи VII, 7]. Легендарные Горации и Куриации также были отмечены сакральным почитанием. У Дионисия [Дионисий Галикарнасский. Римские древности V] есть упоминание о неком святилище в роще Героя Горация и о культе Януса Куриация и Юноны Сестринской, на алтарях которых ежегодно совершались жертвоприношения. Нужно отметить, что в перечисленных выше случаях поклонения памяти героев так или иначе упоминалось какое-либо божество, следовательно эти культы нельзя назвать прямым обожествлением.
У Геродиана, историка III в. н.э., есть интересное упоминание о том, что в древности имелся обычай объявлять умершего царя богом после сожжения его тела [Hist., IV, 2]. Но прямое обожествление царей вызывает сомнение, ведь Геродиан — автор довольно поздний для описываемого исторического периода. Однако здесь явно слышится отголосок древней веры в близость носителей верховной власти к божественным силам. Безусловно, на него наслаивается не менее древняя римская традиция обожествления мертвых предков, но, по сути, она не связана с верой в нуменов, хотя это наслоение явно прослеживается и в учреждении упомянутого выше культа Энея как Юпитера Индигета. Культ предков в Древнем Риме — это еще одно очень интересное и неоднозначное для понимания явление древней религиозной культуры, но оно выходит за рамки нашей темы. Кроме того, связь руководителей civitas с нуменами богов, прежде всего, Юпитера, прослеживается не только в сюжетах об учреждении посмертных культов. Это указывает на необходимость отделять культ правителей от культа предков при рассмотрении данной темы.
Так, в Риме был обычай, по которому военный предводитель, царь (rex), посвящал богам добычу, захваченную на войне. Еще Ромул якобы посвятил свою первую spolia opima¹⁴ Юпитеру Феретрию (Jupiter Feretrius),¹⁵ почитавшемуся на Капитолии в виде священного дуба. А.Немировский предположил, что spolia opima, как и обычай поединка между предводителями войск, отражают веру в то, что в схватке побеждает не человек, а вселившаяся в него или руководящая им божественная сила. В таком случае акт посвящения вражеских доспехов божеству означал их передачу тому, кто являлся настоящим победителем и имел на них законное право. Победивший же полководец мыслился всего лишь объектом (временного или постоянного) воплощения божества («нуменом»).
_______________________________
[14] spolia opima — («богатая добыча») вооружение, снятое с убитого вражеского военачальника или царя.
[15] Feretrius ī m. («Податель добычи» или «Несущий победу») эпитет Юпитера, которому полководец-триумфатор приносил в дар на носилках лучшую часть добычи (spolia opima) L., Prp.
Но при этом правитель не терял своей индивидуальности. Будучи ключевой фигурой в отношениях между людьми и богами и в поддержании pax deorum, он нес персональную ответственность перед богами как за общину (государство), так и за свое собственное поведение. Если правитель по какой-либо причине становился неугодным богам, то можно предположить, что по древним верованиям он не мог рассчитывать и на воплощение в нем божественных сил, а значит, его нахождение у власти могло привести к бедствиям для всей общины. Он становился не только не нужным, но и опасным. В этом случае его персона должна была быть центральной в сакральных обрядах искупления божественного гнева. Коптев А. обращает внимание на то, что действительно, смерть римских царей во многом напоминала жертвоприношение [Об «этрусской династии» архаического Рима, с. 69], как, например, в легенде о Тулле Гостилии [Тит Ливий. История Рима от основания города I, 31]. При этом посмертного культа удостаивались только те из них, кто в противоправных и неприличествующих их статусу действиях замечен не был и которые до конца своих дней считались носителями божественной энергии.
Сказанное выше дает основание считать, что в Риме действующие представители верховной власти представлялись проводниками божественной энергии и воли, и почитались в качестве божественных нуменов. На особый священный статус правителя — военного руководителя и его приоритет в общении с богами не повлияло даже появление жреческих коллегий при царе Нуме, указывавшее на укрепление жречества. Этот приоритет, проистекающий из веры в правителя, как божественного нумена, сохранялся и в республиканский период. Хотя здесь «статус» нумена мог быть только временным, что определялось характером республиканских магистратур; и эта временность не допускала в дальнейшем учреждения посмертного культа. Эта вера сохранялась и в эпоху императоров, которые, кроме того, как известно, вернули себе право на постоянное, пожизненное исполнение правящих функций. Возможно, с этим и было связано возрождение не только прижизненного, но и посмертного императорского культа, который во многом основывался на традиционных римских верованиях. Об устойчивости традиции говорит имеющееся сведение, что в 13г. н.э. император Тиберий освятил алтарь Numina Augusti. В названии этого культа уже сквозят веяния новой эпохи, и прочтение его может быть спорным, но то, что в нем отражена традиция, — безусловно.
В более удаленные времена, трансформировавшись в соответствии с новыми политическими и идеологическими реалиями, рассмотренные древние представления проявились в христианском признании правителя «помазанником Божьим».
Такая жизнеспособность верования могла объясняться тем, что традиционное посмертное и прижизненное, временное или постоянное культовое почитание правителей в Риме не означало их прямого обожествления. Целью культа было выражение благодарности божественным силам за проявленную заботу о римской общине, при этом объектом культа являлось само божество. Отсюда частые совместные культы «обожествленного» лица и собственно бога.
Последнее интересным образом прослеживается даже в италийских сказаниях об учреждении местного культа Геркулеса (Hercules). По легенде, переданной Ливием, первый алтарь в честь Геркулеса воздвиг сам Геркулес, и он сам же принес на нем первую жертву [Тит Ливий. История Рима от основания города I, 7]. Принести жертву самому себе кажется поступком довольно странным. Но если предположить, что изначально по легенде Геркулес соорудил алтарь и принес жертву некоему божеству, нуменом которого он мог себя считать по местным поверьям и, впоследствии, вместе с ним почитаться, то в этом случае это событие уже не выглядит таким сомнительным. Однако подробности могли стереться со временем из народной памяти, учитывая наслоение греческой традиции, по которой Геракл был обожествлен непосредственно. Впрочем, у Страбона есть упоминание, что первый культ Геракла в Италии был учрежден все же легендарным Эвандром, но при жизни Геракла [Страбон. География V, гл. III, 3], что говорит, по крайней мере, что Геракл не поклонялся самому себе.
Образ Геракла (Геркулеса) в Италии — это еще одна необъятная тема для изучения, особенно если принять во внимание неоднозначную роль данного персонажа в дальнейшем развитии религиозных идей античного общества. Здесь уместно вспомнить старую статью Л. Ельницкого, название которой говорит само за себя: «Геракл и миф о Христе» [с. 452].
Итак, из всего вышесказанного можно предположить, что в римском сознании на протяжении многих веков упорно сохранялась и культивировалась очень древняя по своему происхождению вера в единое или коллективное божественное начало, что в определенной мере тормозило процесс складывания представлений о персонифицированных и антропоморфных богах. Все это стало причиной возникновения веры в нуменов, природа которых допускала существование высшего непостижимого божественного начала, имевшего свое выражение во множестве близких и понятных объектах повседневного культа. Признавалось, что в виде нуменов боги, как неотъемлемая часть мироздания, являли себя в материальном мире людей. Практика учреждения культа нумену — воплощению божества — с упоминанием только события или явления, т.к. объект культа не всегда получалось определить, была довольно частой и постепенно становилась привычной.
Вера в нуменов в большей степени проявлялась в сфере событий, связанных с благополучием римской civitas. Безусловная вера в ее сакральность привела к убеждению о возможности божественного воплощения в людях, связанных с ее управлением, что создало культ власти, проявившийся в сакральном почитании персон правителей-нуменов — охранителей и спасителей своей общины. Так в человеческой истории воплотилась история божественных деяний, и мифология как таковая оказалась излишней.
Нельзя отрицать, что эпитеты богов в наиболее древних культах их нуменов могли со временем становиться самостоятельными божествами. Так, Г. Виссова обращал внимание на то, что Liber, вполне самостоятельное божество уже во времена Республики, изначально олицетворял особую функцию Юпитера, ставшую отдельным божеством [Wissowa G. Religion und Kultus der Römer, с. 138], т.е., возможно, изначально был нуменом Юпитера. Определение нуменам, данное Арнобием в IV в. н.э., отразило судьбу именно этого направления развития веры. Но Арнобий противостоял приверженцам язычества, которое очень отдаленно напоминало религиозные представления, бытовавшие в Риме на рубеже эр, не говоря уж о более древних временах.
Изначально же в вере в нуменов было заложено убеждение (и на рубеже эр оно еще имело место) в возможность существования единой божественной силы, не имеющей материальной антропоморфной персонификации, но руководящей миром и способной воплощаться во множестве нуменов, которым мог стать и человек, с целью спасения и охранения этого мира. Не есть ли это повод с большим вниманием посмотреть на сложившиеся в современном представлении основы и принципы язычества древних европейцев? Во всяком случае, новизна монотеистических учений для древних европейских обществ и видение в их появлении только результат восточных культурных заимствований начинают вызывать сомнение. В древних индоевропейских культурах имелась своя, вполне осязаемая, почва для их прорастания.
_______________________________
|
Метки: Юпитер Рим |
ДОДОНСКИЙ ОРАКУЛ |
Золотникова Ольга Альбертовна
СВЯТИЛИЩЕ И ОРАКУЛ В ДОДОНЕ ПО ДАННЫМ АНТИЧНЫХ И ВИЗАНТИЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ
Святилище в Додоне,¹ вызывавшее интерес своей полусказочной необычностью, упоминалось античными (древнегреческими, эллинистическими, римскими) и византийскими авторами в произведениях различного содержания, начиная с Гомера. В целом, информация относительно Додоны, содержащаяся в античной и византийской литературе, достаточно объемна, но в то же время крайне разнородна и противоречива. Кроме того, в святилище был найден значительный документальный материал, датируемый с конца VI по III-II вв. до н.э., — тысячи надписей на свинцовых пластинках с вопросами к божествам Додоны и несколькими «ответами». Использование всех располагаемых по святилищу сведений суммарно, без учета времени их возникновения, может привести к неверным выводам о характере и формах культа в Додоне в различные периоды его функционирования и, в целом, создает картину некой статичности религиозной концепции, определявшей деятельность святилища.
Поэтому кажется необходимым систематизировать имеющиеся в нашем распоряжении сведения источников, представив их в хронологическом порядке и в соответствии с такими основными темами, как происхождение культа в Додоне, почитавшиеся в святилище божества, организация святилища как оракула, жречество.
__________________________________
[1] Δωδώνη ἡ Додона, город в Эпире (северо-западная область Греции, между Акарнанией, Этолией, Фессалией и Македонией) Hom., Aesch., Her., Xen., Arst., Plut.
1. Возникновение святилища
Самые ранние из известных упоминаний святилища в Додоне датируются VIII веком до н.э. и содержатся в поэмах Гомера, при этом вставка сюжета о святилище в так называемую «Молитву Ахиллеса» в «Илиаде» указывает на то, что ко времени сложения поэмы святилище в Додоне уже не только функционировало, но и было достаточно известным.
Обращение Ахиллеса к Зевсу с эпитетами «Додонский Пеласгический» (Ζεῦ ἄνα Δωδωναῖε Πελασγικὲ) всегда, начиная с античности, рассматривалось как четкое указание на догреческое происхождение культа в Додоне и его изначальную связь с пеласгами, населявшими, согласно традиции, Грецию до прихода греков. Так, в первой половине IV в. до н.э. историк Эфор, опираясь на гомеровские строки, писал (в передаче Страбона), что «оракул в Додоне был основан пеласгами, которые являются самым древним народом из господствовавших в Элладе» (Страбон, География, VII.7.10).
Представления греков об их мифическом прошлом, сформировавшиеся в период архаики, уверенно связывали святилище и оракул Зевса в Додоне с отдаленными мифологическими временами; соответствующие мифы обыгрывались в произведениях греческих трагиков V в. до н.э. Так, Эсхил упомянул «пророческое место Феспротского Зевса в Додоне» в связи с мифом об Ио, дочери первого мифического царя Аргоса Инаха (Эсхил, Прометей прикованный, 658, 830).
Оракул Зевса в Додоне был включен в миф о трагической гибели Геракла, обработанный Софоклом.
Еврипид описал, как после «Троянской войны» в додонское святилище Зевса направлялся злополучный сын Агамемнона Орест (Еврипид, Андромаха, 885). Геродот изложил предание, распространявшееся в первой половине V в. до н.э. додонскими жрицами, согласно которому черная голубица, прилетевшая из Египта от оракула Амона, села на ветке дуба в Додоне и произнесла человеческим голосом повеление устроить в этом месте прорицалище Зевса (Геродот, История, 11.55.1-3). «Египетское происхождение», видимо, должно было подкрепить авторитет додонского оракула в соперничестве с дельфийским, но всерьез не воспринималось даже в древности. К III веку до н.э. различные местные истории о происхождении необычного оракула в Додоне были объединены в официальную легенду, переданную Проксеном Эпиротским, о том, как когда-то в Эпире некий пастух Мардил украл у соседа овцу и тот обратился к богам с вопросом, кто это сделал; тогда додонский дуб впервые заговорил и назвал имя вора; Мардил в гневе собрался срубить дуб топором, но высунувшаяся из дупла голубица велела ему не этого не делать; Мардил в страхе бросил свой топор, который якобы оставался лежать на том же самом месте и в римское время (Philostratus Lemnius, Eikones, I. Dodone) По другой версии, этот топор был брошен легендарным дровосеком Геллом, а дуб с тех пор стал почитаться как священное прорицающее дерево (Proxenus Epirotes, Epeirotika, fr.2). Попытка объективно установить происхождение святилища в Додоне была сделана в период Августа Страбоном: географ рассмотрел различные локальные версии об основании святилища, отверг утверждение Кинея Фессалийского о возникновении святилища и самой Додоны благодаря фессалийцам, якобы переселившимся в Эпир из одноименного города в Фессалии, и поддержал мнение Эфора об изначальной связи святилища с пеласгами (Страбон, География, VII.7.10). Ко времени Плутарха (46-120гг.) основание святилища в Додоне было «надежно» привязано ко «времени Девкалиона», т.е. было помещено в мифологический период «потопа» и возрождения цивилизации после него:
В византийское время эта версия комментировалась таким образом, будто Девкалион после потопа оказался в Эпире и вопросил дуб — прорицавший и до катаклизма — что ему теперь делать. Согласно ответу, данному ему через голубицу, Девкалион заселил это место оставшимися после потопа и дал ему имя «Додона» в честь Зевса и Додоны, одной из Океанид (Etymologicon Magnum, 293.2-11. Δωδωναῖος).
2. Божества, почитавшиеся в святилище
В обеих гомеровских поэмах святилище Додоны прямо и определенно связывается с Зевсом: в «Илиаде» Ахиллес в своей знаменитой молитве, обращенной к Зевсу, призвал его как «Зевса-Господина Додонского Пеласгического», «правителя Додоны, в которой зима сурова» (Гомер. Илиада XVI, 233); в «Одиссее» Додона была упомянута как место, где Зевс дает божественные советы и отвечает на вопросы людей, находящихся в затруднительном положении (Гомер. Одиссея XIV, 327). Следует обратить внимание на включение повествовательного элемента в «Молитву Ахиллеса», в которой сразу после обращения к Зевсу следует детальное описание необычного образа жизни его жрецов (Гомер. Илиада XVI, 234); это делает «Молитву Ахиллеса» по стилю близкой к гимнам, особенно ранним, и дает возможность предполагать, что Додона как святилище Зевса воспевалась в гимнах, видимо северо-греческого происхождения, еще до Гомера, который заимствовал что-то из тех несохранившихся сочинений для своих поэм. Поскольку Гомер не упомянул никаких других божеств в связи с Додоной, обычно считается, что культ Зевса был единственным в Додоне в начале первого тысячелетия до н.э.
Связь Додоны с Зевсом в первые века исторического времени была отмечена и в произведении «Каталог Женщин» (примерно VII в. до н.э.), автор которого, возможно Гесиод, упомянул, что «Зевс полюбил Додону и [решил, что] там должно находиться [его] прорицалище, чтимое людьми» (Гесиод. Каталог Женщин 97. 5).
Надписи на найденных в Додоне пластинках, приходящиеся на период с конца VI в. до н.э. по III-II вв. до н.э., документально подтверждают, что все это время Зевс являлся главным божеством додонского святилища. В связи с этим, можно отметить одну из самых ранних надписей, датируемую поздним VI веком до н.э., содержащую вопрос или просьбу к Зевсу, имя которого написано в Звательном падеже Ζεῦ. Благодаря надписям известны местные эпитеты Зевса, которые прилагались к нему в Додоне во второй половине первого тысячелетия до н.э.:
Δωδωναῖος с фессалийской формой Δουδουναῖος — «Додонский» (в продолжение традиции, отраженной у Гомера).
Νᾶος / Ναῖος (обе формы засвидетельствованы с конца V в. до н.э.) — ключевой эпитет, прилагавшийся к Зевсу в обращениях вопрошавших оракул и в посвящениях; упоминается также античными и византийскими авторами:
Данный эпитет интерпретировался по-разному в античное и византийское время и продолжает вызывать дискуссии до сих пор, однако, более короткая и, видимо, исходная форма Νᾶος, как кажется, представляет собой простое прилагательное, сохранившееся в составном прилагательном ἀέναος (ἀέ-ναος) «вечно-текущий» (от глагола νάω «течь»); поэтому можно предложить толкование данного эпитета как «Текущий» с аллюзией к водному потоку.²
__________________________________
[2] νάω (только praes. и impf. νᾶον, эп. ναῖον) — течь, струиться (κρῆναι νάουσι Hom.; ὄφρ΄ ἂν ὕδωρ τε νάῃ Plat.).
Не менее убедительной выглядит перевод эпитета Νᾶος как просто «Храмовый» (ναός), т.е. тот, которому принадлежит данный храм. Эта версия отчасти перекликается с попыткой вывести имя Ναῖος (как «сущий») из слова ναίω («жить, населять, обитать»). Здесь можно вспомнить стихи-пророчества приписываемые пелиадам, первым пророчицам жившим при храме, начинающиеся словами: «Зевс был, Зевс есть, Зевс будет. О Зевс величайший!» (Paus. X. 12:5).
С другой стороны, слово ναός созвучно с ναῦς («судно, корабль»). Возможно отсюда и форма написания эпитета Ναῖος, близкая к νάϊος («корабельный, морской»).
ναός, атт. тж. νεώς, эп.-ион. νηός, эол. ναῦος ὁ {ναίω}
1) жилище (богов), храм (θεῶν Pind.; δαιμόνων Plat.);
2) (= σηκός) святилище храма (τοῦ ἱροῦ νηός Her.)
3) ящик в виде храма для изображений богов (τὸ ἄγαλμα ἐν νηῷ μικρῷ Her.)
νήϊος, дор. νάϊος 3 и 2
1) пригодный для судостроения, корабельный;
2) судовой, корабельный;
3) мореходный, морской (ἄνδρες νήϊοι Aesch. — моряки)
Χαμοναῖος — «связанный с землей» (χαμά — «земля», «поверхность земли»); ср. эпитет Деметры Χαμύνη³ в Олимпии (Павсаний. Описание Эллады VI, 21:1).
Πατρώιος — «Отчий» (т.е. бог отцов, почитающийся из поколения в поколение).
Ἄλκιμος — «Храбрый», «Отважный» (больше известен как эпитет Геракла).
Кроме того, в одной из надписей середины V в. до н.э., предположительно, читается эпитет Μιλίχιος, что могло бы свидетельствовать о почитании Зевса в Додоне в классический период в его хтонической ипостаси как Милихий (Μειλίχιος).⁴
__________________________________
[3] Χαμύνη {арх. locat. к χαμά земля} ἡ Хамина («Почиющая в земле»), эпитет Деметры в Элиде (cр. эпитет Деметры Χθονία).
χθονία (sc. θεά) подземная Eur. = Δημήτηρ;
χθόνιαι θεαί Her. = Δημήτηρ и Περσεφόνη
[4] Не совсем понятно каким образом эпитет μειλίχιος («милостивый») автор приводит в соответствие с «хтоничностью» Зевса. Ниже приведён орфический гимн демону Зевсу Милихию. Слово «демон» (δαίμων) в Древней Греции не несло в себе негативной коннотации и имело значение «бог» или «дух».
Демона я, предводителя, страх наводящего, кличу,
Дия Милихия, демона — жизни дарителя смертным,
Зевса великого, всепородителя, многоскитальца,
Мстителя зла, всецаря, дарящего щедро богатством!
Всякий дом, куда он ни вступит, цветет изобильем,
И от него же дома несчастливцев хиреют и чахнут.
Счастья и горя ключи у тебя ведь, блаженный, хранятся.
Ныне, святой, отгони далеко многостонные скорби,
Все, что ни есть на земле несущего в жизнь разрушенье!
Нам уготовь для сладостной жизни благую кончину!
(Орфический гимн LXXIII, Демону Зевсу Милихию)
δαίμων (-ονος) ὁ и ἡ
1) бог, богиня (δώματ΄ ἐς Διὸς μετὰ δαίμονας ἄλλους Hom.);
2) божество (преимущ. низшего порядка) — дух, гений, демон (δαίμονες ἐπιχθόνιοι, φύλακες θνητῶν ἀνθρώπων Hes.; θεοὴ καὴ οἱ ἑπόμενοι θεοῖς δαίμονες Plat.; ἐκ μὲν ἡρώων εἰς δαίμονας, ἐκ δὲ δαιμόνων εἰς θεοὺς ἀναφέρεσθαι Plut.);
3) божественное определение, роковая случайность (δαίμονος τύχη Pind., τύχη δαιμόνων Eur., δ. καὴ τύχη Aeschin., Dem. и τύχη καὴ δαίμονες Plat.);
4) злой рок, несчастье (δαίμονος αἶσα κακή Hom. — злой рок);
5) душа умершего.
μειλίχιος
1) приготовленный на меду, медовый (τὰ ποτά Soph.);
2) кроткий, ласковый, приветливый (ἔπεα Hom.);
3) милостивый, милосердный (Ζεύς Plut.);
4) умилостивительный (ἱερά Plut.)
Взаимодополняемые сведения из произведений античных авторов и надписей на пластинках указывают на то, что в додонском святилище Зевс объединялся с группой женских божеств. Судя по надписям, богиня Диона выступает с V в. до н.э. как основной партнер Зевса в даче оракулов. Еврипид охарактеризовал Диону, прорицавшую в Додоне в конце V в. до н.э., как «имеющую такое же имя, что и Зевс» (Еврипид. Архелай, фрагм. 228а. 21-22). В позднейшей традиции это определение использовалось для трактовки имени Дионы как образованного от имени Зевса (Etymologicon Magnum, 280. 41-42), но возможно, что Еврипид знал, что к Дионе мог прилагаться эпитет Νάϊα⁵ — женская форма основного эпитета Зевса Νάιος. Диона могла вопрошаться в Додоне и как самостоятельное божество, без Зевса. Согласно информации, которой располагал Страбон на рубеже старой и новой эры, Диона не сразу, но постепенно стала почитаться совместно с Зевсом в его храме (Страбон. География VII. 7:12).
__________________________________
[5] Эпиклеса Νάϊα так же соотносится с водой.
Ναϊάς, ион. Νηϊάς (-άδος), тж. Ναΐς и Νηΐς (-ΐδος) ἡ наяда (водяная нимфа) Pind., Eur.
Богиня Фемида, воплощавшая древние традиционные уставы и неписанные законы, также присутствовала в Додоне: ее могли запрашивать как в триаде с Зевсом и Дионой, так и в паре с Зевсом без Дионы.
Павсаний, автор II в. н.э., привел фрагмент религиозного гимна, который пелся в Додоне и считался в его время древним:
Примечательно, что похожая фраза была прочитана в вопросе, адресованном Зевсу и датируемом концом V - началом IV вв. до н.э.: некто «спрашивает бога о плодах, которые земля рождает» (περὶ τῶν καρπῶν ὧν ἡ γῆ φύει). Выбор слов для составления данного вопроса, как кажется, был попыткой воспроизвести фразу из гимна, цитируемого Павсанием. Следовательно, к V веку до н.э. этот гимн уже был сложен и имел влияние на поклонявшихся додонским божествам. Это в свою очередь означает, что богиня Мать-Земля почиталась в додонском святилище в паре с Зевсом в период ранее V века до н.э. и, видимо, позднее. Следует также отметить, что богиня Мать (Μήτηρ), под которой могла подразумеваться Мать-Земля или Деметра, упомянута в вопросе раннего IV в. до н.э. вместе с Наосом (Νᾶος), т.е. Зевсом.
Вопросы, обращенные к Деметре и Афродите, указывают на то, что обе эти богини почитались в Додоне во второй половине первого тысячелетия до н.э. как самостоятельные божества, однако их культовое отношение к Зевсу не конкретизируется. Присутствие Афродиты, видимо, было следствием усиления роли Дионы, которая по некоторым мифам считалась ее матерью от Зевса (Гомер. Илиада V, 370-374, 416-417).
В середине V в. до н.э. мифограф Ферекид Афинский в своем сочинении Historiarum привел мифологическую традицию, вероятно архаическую, согласно которой с Додоной связывались Дождевые Нимфы — Гиады (Ὑάδες).⁶ Миф о Гиадах как о сестрах, образовавших одноименное созвездие, существовал уже в эпоху Гомера и Гесиода (Гомер. Илиада XVIII, 486; Гесиод. Труды и дни, 615). Ферекид в изложении мифа о Гиадах применил к ним обозначение «Додонские Нимфы» — Δωδωνιάδες νύμφαι (или Δωδωνίδες — «Додониды») и упомянул, что они взрастили Диониса, который, следовательно, тоже оказывался связанным с додонским святилищем в период, ставший сферой мифа к V веку до н.э. Современный английский исследователь раннего греческого мифотворчества Роберт Фаулер (Robert Fowler), на основании того, что какие-либо упоминания мифа о связи Гиад с Додоной до Ферекида не известны, допускает, что этот сюжет мог быть выдуман афинским мифографом. Кроме того, Фаулер утверждает, что какая-либо роль Диониса в Додоне неизвестна. Возражая английскому классицисту, можно привести как аргумент тот факт, что у Афин традиционно были хорошие отношения с додонским оракулом, доказательством чему служит, например, почитание Зевса Наоса (Ναῖος) в Афинах, включая Акрополь [IG 1124707 — надпись с посвящением Зевсу Наосy (Ναῖος), найденная у Парфенона]; поэтому афиняне могли знать во многих специфичных подробностях местную мифологическую традицию и культ того удаленного святилища. Также следует подчеркнуть то обстоятельство, что последующие мифографы, среди которых можно выделить писателя IV в. до н.э. Асклепиада, автора труда об использовании мифов в драматических сочинениях Tragodoumena, и латинского поэта Гигина (64 до н.э. - 17 н.э.), не считали должным опровергнуть Ферекида и передавали миф о Гиадах и Додоне в соответствии с его [мифа] изложением Ферекидом. Гигин, кроме того, уточнил, что Додонских нимф, которые причислены к божествам и «называются Гиадами среди созвездий», некоторые «зовут Найадами», т.е. нимфами источников (Гигин, Мифы, 182). Заслуживает внимания то, что в некоторых версиях мифа о Гиадах и Додоне, к додонским Дождевым Нимфам причисляется Диона, что может быть отзвуком ее присутствия в святилище Додоны уже в архаический период, но изначально лишь на правах младшего женского божества-нимфы. Кроме того, традиция дала одной из Гиад имя Фиона (Θυώνη), которое также известно как альтернативное имя Семелы,⁷ матери Диониса, и подразумевало оргиастически-менадическую природу носительницы: возможно, что додонские Дождевые Нимфы представлялись кем-то вроде менад. Надписи на пластинках дают некоторые основания считать, что во второй половине первого тысячелетия до н.э. нимфы связывались с Додоной не только через миф, но и через культ: одна из надписей, датируемая концом V в. до н.э., содержит вопрос о надлежащем времени года для совершения жертвоприношения Нимфе, а в другой, относящейся к середине IV в. до н.э., предположительно, читаются слова «[νύ]μφια» и «[ὕ]δατο[ς]»,⁸ т.е. спрашивается что-то о нимфах и воде.
__________________________________
[6] Ὑάδες (-ων) αἱ Гиады (семизвездие в созвездии Тельца, с восхождением которого начинался период дождей) Hom., Hes., Eur.
[7] Θυώνη, дор. Θυώνα ἡ {θύω} Тиона, «Неистовая» (имя Семелы после ее обожествления) HH., Pind.
[8] ὕδωρ, ὕδατος τό
1) вода (ὕδατα Καφίσια Pind. — воды Кефиса);
2) дождевая вода, дождь (τὰ ἐκ Διὸς ὕδατα Plat.)
Мифологическая традиция о связи с Додоной Дождевых Нимф Гиад позволяет предполагать присутствие в додонском святилище, в первой половине первого тысячелетия до н.э. и ранее, бога Диониса в его ипостаси Ὕης («Дождящий»).⁹
Термин φιλοργιαστικόν (написанный ошибочно как φολοριαστικόν) — «любящий оргии», читаемый в одной из надписей первой половины V в. до н.э., может указывать на то, что в додонском святилище в позднеархаическое - раннеклассическое время имели место дионисийские оргии.¹⁰ Дионис упоминается как один из богов, которым должно быть совершено жертвоприношение, в надписи IV в. до н.э., содержащей предполагаемый божественный ответ, что может быть дополнительным свидетельством связи Диониса со святилищем Додоны.
__________________________________
[9] «Ὕης. Эпитет Диониса (…), потому что совершаем жертвоприношения ему в то время, когда этот бог дождит»… (FGrHist, 1. Clitodemi Fragmenta, fr. 21)
Ὕης или Ὑῆς (-ου) ὁ приносящий дождь (эпитет Вакха и Сабазия) Arph., Plut.
[10] ὄργια τά
1) культ. оргии, тайные обряды, мистерии (ὄ. θεαῖν Arph. — мистерии в честь обеих богинь, т.е. Деметры и Персефоны; ὄ. τῆς Ἀφροδίτης Arph. — оргии в честь Афродиты);
2) священнодействие или жертвоприношение (ὀργίων μαντεύματα Soph. — пророчества жертвоприношений);
3) празднество, праздник (Μουσῶν Arph.)
В надписях на пластинках были также прочитаны вопросы, адресованные конкретно Аполлону и Гераклу, что указывает на почитание их в додонском святилище в классический период как самостоятельных божеств.
В IV в. до н.э. Эфор в своем труде «История» привел относительно Додоны интригующую информацию, согласно которой Зевс Додонский был теснейшим образом связан с речным богом Ахелоем: по утверждению историка, Зевс, «давая оракулы, прибегает к силе всей воды реки Ахелой» и «обычно прибавляет к каждому своему ответу повеление совершать жертвоприношения богу Ахелою, призываемому его особыми именами» (FGrHist, 1, Ephori Fragmenta, fr.27). Следует заметить, что предполагаемые ответы додонского оракула, прочитанные в надписях, не содержат фраз, которые совпадали бы с ритуальными формулами, упоминаемыми Эфором. Тем не менее, информация о культовой связи Зевса Додонского с богом Ахелоем, который по своей сути был могущественным хтонически-оргиастическим богом пресной воды, оплодотворяющим богиню Мать-Землю, важна для установления эволюции религиозной концепции додонского святилища.
3. Священное пространство: природные условия и организация
Судя по тем деталям, которые содержатся в произведениях античных авторов, святилище, находившееся у восточного подножия горы Томарос (Страбон. География VII, 7:11), изначально помещалось в дубовой роще и фокусировалось на одном из дубов, вероятно, самом высоком.¹¹ Считалось, что этот дуб обладал «мудростью»¹² и являлся деревом «вещим», объявлявшим божественные решения, советы и предсказания.
Согласно Эсхилу, в дубовой роще Додоны все деревья были говорящими.
Устойчивость представления о «говорящем дубе» Додоны находит подтверждение в диалоге Платона «Федр» (первая половина IV в. до н.э.). Согласно афинскому философу, этот дуб на самом деле произносил слова — особенные «слова дуба», и именно с ним связано начало прорицаний вообще.
Платон уточнил, что прорицания додонского дуба начались в то далекое время, когда Додона была населена простыми [т.е. примитивными] людьми, для которых было естественным слышать и понимать «слова дуба». Следует отметить, что, несмотря на существующие мнения, в произведениях античных авторов не уточняется, чем были на самом деле «слова» додонского дуба — шелестом его листьев или воркованием голубей, сидевших на его ветвях.
__________________________________
[11] δρῦς ὑψίκομος — «высоковершинный дуб» (Гомер. Одиссея ХIV, 328);
…«святилище Зевса под дубом, росшим» в Феспротии (Геродот. История II. 56:2);
[12] σοφία τοῦ δένδρου — «мудрость дерева» (Philostratus Lemnius, Eikones, I. Dodone)
Священный дуб упоминается в надписях в контексте прорицаний через послание божественных знаков вопрошавшим (ср. вопросы конца V - IV вв. до н.э., прочитанные на пластинках: «не появился ли знак на дубе?» или «есть ли знак на дубе?». К сожалению, детали такого способа прорицания в Додоне не известны. Страбон предположил, что в качестве божественных знаков анализировались перелеты трех особых голубей с ветки на ветку священного дуба.
В расплывчатых воспоминаниях о додонском святилище, сохранившихся к позднему византийскому времени, представлялось, что дуб «шевелился» (ἐκινεῖτο)¹⁴ перед входящими в святилище за оракулом.
В течение IV-III вв. до н.э. святилище Додоны пережило несколько архитектурных фаз, результатом чего были практически полная вырубка дубовой рощи и сохранение лишь священного дуба, вокруг которого был выстроен так называемый «Священный Дом» Зевса. Согласно римскому писателю Филострату Лемнийскому (191г. - III в.), священный дуб продолжал произносить прорицания и в эпоху империи. В конце IV в. н.э. по приказу императора Феодосия додонский дуб был срублен, и его корни были выкорчеваны. Однако «прорицалище из дуба» в Додоне¹⁵ и «звучащий дуб» Додоны¹⁶ продолжали описываться и комментироваться в византийской литературе.
__________________________________
[13] «Вначале были мужчины-предсказатели; быть может, на это и указывает поэт [Гомер], так как он называет их ὑποφῆται («толкователи»), в числе которых могли быть и предсказатели. Впоследствии же, когда Зевсу присоединили сопрестольницей в храме Диону, то предсказательницами были поставлены три старухи». (Страбон. География VII, 12)
«Из мужчин, которые пророчествовали, были, как говорят, следующие: Эвкл с Кипра, афинянин Мусей, сын Антифема, и Лик, сын Пандиона; из беотийцев указывают на Бакиса, который вдохновлялся силою нимф. Пророчества всех их, кроме Лика, я сам читал». (Павсаний Х, 12:5)
[14] Видимо, имеет место опять двойное толкование слова ἐκκινέω: «качать» (ветвями) и «произносить» (пророчества).
ἐκκινέω (ἐκ-κῑνέω)
1) досл. поднимать, перен. вспугивать, гнать, преследовать;
2) возбуждать, волновать, раздражать;
3) усиливать, растравлять;
4) произносить, высказывать
[15] τό μαντεῖον ἐκ τῆς δρυός [Стефан Византийский, Этника. Δωδώνη]
[16] ἡ δρῦς ἠχοῦσα [Suda. Lexicon. Δωδώνη]
Начиная с I в. до н.э., некоторые латинские авторы сообщали, что в Додоне находился источник с необычной водой (Лукреций. О природе вещей VI. 879-889; Помпоний Мела. Хорография II. 43; Плиний. Естественная история II. 106; Сервий. Комментарии к «Энеиде» Вергилия III. 466). Вода этого источника была холодной, как лед, но при этом могла зажигать поднесенные к ней факелы; вода якобы не текла все время, поэтому источник пересыхал к полудню и наполнялся заново к полуночи, это дало воде источника обозначение «отдыхающая» (ἀναπαυόμενον ὕδωρ, Etymologicon Magnum. 98. 22). Решающей в интерпретации роли этого источника в додонском святилище стала фраза Плиния «…in dodone Iovis fons…» (Плиний. Естественная история II. 106), которая была понята и переведена как «в Додоне есть источник Зевса». Опираясь на нее, комментатор «Энеиды» Сервий, который писал уже после уничтожения додонского дуба по приказу Феодосия, даже создал впечатляющую словесную картину величественного дерева, прямо из-под корней которого бьет источник воды. Через журчание этой воды, якобы, и объявлялась воля богов (Сервий. Комментарии к «Энеиде» Вергилия III. 466). В комментариях Сервия исследователи усмотрели индоевропейскую схему организации пророческого места, заключив, что корни «мудрого» додонского дуба питались водой «источника мудрости». Необходимо, однако, подчеркнуть, что «волшебный источник» Додоны не упоминается ни одним из греческих авторов, включая историка Геродота и географа Страбона; не упоминается он и римским писателем Филостратом Лемнийским, который, судя по его детальнейшему описанию ядра святилища, мог посетить Додону и лично увидеть организацию оракула. Поэтому кажется более правильным переводить вышеупомянутую фразу Плиния как «в Додоне Зевса [т.е. «в Зевсовой Додоне»] есть источник», который мог в действительности находиться где-то на обширной территории святилища, но не конкретно у корней священного дуба, и использоваться в каком-либо ритуале с возжиганием факелов, но не в прорицаниях.
4. Жречество
Согласно античным авторам, святилище и оракул Додоны обслуживали жрецы и жрицы.
Гомер упомянул только жрецов Ἐλλοί или Σελλοί (Геллии / Селлии), которые «не мыли ног» и «спали на земле»; они были «интерпретаторами» (ὑποφῆται) Зевса (Гомер. Илиада XVI. 234), т.е. переводчиками «слов дуба» на человеческий язык. Софокл определил додонское святилище как «рощу горных Селлиев, спящих на земле» (Софокл. Трахинянки, 1166). Со времен Гомера, додонские Селлии (Геллии) считались пеласгами, которые не оставили свой обычай спать на земле даже в эллинистическое время.
В надписях, прочитанных на пластинках, обозначение Ἐλλοί / Σελλοί не содержится, однако в контексте V-IV вв. до н.э. встречаются такие термины, как μάντις — «прорицатель по вдохновению», ἱερομνήμων — «помнящий священные правила или ответы», θυοσκόος — «гадатель по характеру жертвоприношения», προθύτας — «совершающий жертвоприношения». В позднеримское время, как писал Филострат Лемнийский, в святилище было шесть жрецов, каждый из которых выполнял свою конкретную культовую функцию. И в III в. н.э. они продолжали вести традиционно простой (примитивный) образ жизни, описанный Гомером, довольствуясь тем, что «они радуют Зевса» (Philostratus Lemnius. Eikones, I. Dodone).
Додонские жрицы-пророчицы, известные как «Голубицы» — Пелии (Πέλειαι или Πελειάδες), упоминаются античными авторами только с середины V в. до н.э. В классическое время они являлись, главным образом, «голосом», который озвучивал дуб, т.е. произносили на человеческом языке «слова дуба», «услышанные» и «понятые» жрецами Селлиями.
В византийское время об их роли помнили таким образом, что в Лексиконе Суды оракул Додоны был определен как «прорицалище женщин-пророчиц», которые «озвучивали» Зевса, говорившего через дуб (Suda. Lexicon. Δωδώνη).
Согласно Геродоту, изначально в святилище была только одна жрица; первые три, носившие символические имена — Промения «провидящая», Тимарета «чтимая за свои достоинства» и Никандра «побеждающая мужей», в середине V в. до н.э. входили в местную легендарную традицию (Геродот. История II. 55:3). Софокл упомянул двух жриц, обслуживавших священный дуб (Софокл. Трахинянки, 171-172). В эллинистическое время, видимо, было три жрицы, судя по изображению на монетах эпиротов трех голубей, символизировавших жриц-Голубиц, в связи с додонским дубом.
Описания додонских жриц-Пелий Платоном и Павсанием достаточно ясно указывают на то, что те пророчествовали в состоянии экстаза, или «исступления» (μανία), будучи как бы овладеваемы богом.
По описанию додонских жриц Филостратом Лемнийским, в III в. н.э. те выглядели «строго и величественно» и, как казалось, выдыхали «аромат воскурений и возлияний» (Philostratus Lemnius. Eikones, I. Dodone). Возможно, оргиастический элемент был удален из культового поведения жриц в результате установления римского контроля над святилищем. Явно неверную информацию о пророческом поведении додонских жриц-Пелий привел в V в. н.э. Сервий, который описал (скорее, выдумал), как старая женщина Пелия (anus Pelias) прорицала в Додоне по журчанию воды источника, якобы вытекавшего из-под корней дуба (Сервий. Комментарии к «Энеиде» Вергилия III. 466).
Присутствие жриц-Голубиц в Додоне должно рассматриваться в свете религиозной семантики голубя, который с микенского времени, вследствие минойского влияния, символизировал для греков женское божество плодородия. Также следует учитывать то, что оргиастический элемент не был характерен для классических эллинских культов Зевса. В местной легенде, сложенной к V веку до н.э. и рассказанной Геродоту (Геродот. История II. 55:1), просматривается то обстоятельство, что священный дуб и Голубицы сосуществовали в Додоне с достаточно давнего времени, но изначально представляли две различные культовые концепции. Страбон был уверен, что женщины-пророчицы стали обслуживать оракул после Гомера (Страбон. География VII. 7:12). Вероятно, «привязка» оргиастических жриц-Голубиц, более соответствовавших кругу древней богини плодородия, к Зевсу и священному дубу, традиционно обслуживавшемуся жрецами, отразила объединение двух культов, которое произошло между VIII и V вв. до н.э.
Обозначение Πέλειαι не встречается в прочитанных на пластинках надписях. Упоминаются, однако, иерофантида (ἱεροφάντιδα), жрица, связанная с мистическим знанием, божественная сивилла (σίβυλλα θεία) и амфиполос (ἀμφίπολος), букв. «служанка», некой богини, возможно, Дионы, учитывая то, что πρόπολος Διώνης («служанка Дионы») в Додоне действовала в (несохранившейся) трагедии Еврипида «Архелай» (Еврипид. Архелай, фрагм. 228а. 20). У Еврипида «служанка Дионы» прорицала от имени этой богини, однако из источников не ясно, являлась ли прополос / амфиполос одной из Голубиц-Пелий. Как представляется, жрицы-Голубицы образовывали особую категорию додонских пророчиц и были отличны от прополос / амфиполос и других жриц, упоминаемых в надписях.
Заключение
Предложенная систематизация сведений по Додоне, содержащихся в источниках, дает возможность через хронологическую последовательность появления этих сведений проследить изменения форм культа и эволюцию религиозной концепции святилища.
На основе информации письменных источников можно с определенной долей уверенности заключить, что возникновение святилища в Додоне было связано с религиозными традициями догреческого этнического элемента, в которых просматриваются черты почитания бога грозы в дубовом лесу особой группой жрецов, способных контактировать с божеством через его священное дерево — дуб.
К концу доисторического времени или в течение так называемых «Темных Веков» главным богом Додоны стал греческий Зевс, который в период архаики был отождествлен с богом реки, видимо, почитавшимся в Додоне до него. Со святилищем на какой-то ранней фазе его существования также были связаны Дионис в его ипостаси «Дождящий» и Дождевые Нимфы.
Богиня Мать-Земля имела большое значение в культе Додоны в историческое время и как хтоническое божество могла почитаться в Додоне с доисторического периода. Можно утверждать, что в конце архаического периода Зевс и Мать-Земля образовывали в святилище божественную пару, которая в течение классического периода была видоизменена, и место Матери-Земли заняла богиня Диона.
Центральным объектом культа в Додоне с самого начала и до последнего дня существования святилища был «мудрый», «говорящий» дуб, который обслуживали жрецы, соблюдавшие древние традиции. То, каким образом додонский дуб «говорил», в античных источниках не уточняется.
Жрицы-Голубицы, вероятно, изначально обслуживали культ Матери-Земли и не имели отношения к прорицающему дубу; их вовлечение в дачу оракулов священным дубом, видимо, произошло до начала классического времени и должно рассматриваться как следствие соединения культов бога священного дуба и богини Матери-Земли.
Наконец, на территории святилища находился источник с необычной водой, который не имел отношения к прорицающему дубу, но мог использоваться в каких-то ритуалах, предполагавших возжигание факелов.
_______________________________
СВЯТИЛИЩЕ И ОРАКУЛ В ДОДОНЕ ПО ДАННЫМ АНТИЧНЫХ И ВИЗАНТИЙСКИХ ИСТОЧНИКОВ
Святилище в Додоне,¹ вызывавшее интерес своей полусказочной необычностью, упоминалось античными (древнегреческими, эллинистическими, римскими) и византийскими авторами в произведениях различного содержания, начиная с Гомера. В целом, информация относительно Додоны, содержащаяся в античной и византийской литературе, достаточно объемна, но в то же время крайне разнородна и противоречива. Кроме того, в святилище был найден значительный документальный материал, датируемый с конца VI по III-II вв. до н.э., — тысячи надписей на свинцовых пластинках с вопросами к божествам Додоны и несколькими «ответами». Использование всех располагаемых по святилищу сведений суммарно, без учета времени их возникновения, может привести к неверным выводам о характере и формах культа в Додоне в различные периоды его функционирования и, в целом, создает картину некой статичности религиозной концепции, определявшей деятельность святилища.
Поэтому кажется необходимым систематизировать имеющиеся в нашем распоряжении сведения источников, представив их в хронологическом порядке и в соответствии с такими основными темами, как происхождение культа в Додоне, почитавшиеся в святилище божества, организация святилища как оракула, жречество.
__________________________________
[1] Δωδώνη ἡ Додона, город в Эпире (северо-западная область Греции, между Акарнанией, Этолией, Фессалией и Македонией) Hom., Aesch., Her., Xen., Arst., Plut.
1. Возникновение святилища
Самые ранние из известных упоминаний святилища в Додоне датируются VIII веком до н.э. и содержатся в поэмах Гомера, при этом вставка сюжета о святилище в так называемую «Молитву Ахиллеса» в «Илиаде» указывает на то, что ко времени сложения поэмы святилище в Додоне уже не только функционировало, но и было достаточно известным.
Зевс Пелазгийский, Додонский, далеко живущий владыка
Хладной Додоны, где селлы, пророки твои, обитают,
Кои не моют ног и спят на земле обнаженной!
Прежде уже ты, о Зевс, на мою преклонился молитву;
Много почтивши меня, покарал ты ужасно данаев.
Ныне еще, громовержец, сие мне исполни желанье!
(Гомер. Илиада XVI, 233)
Обращение Ахиллеса к Зевсу с эпитетами «Додонский Пеласгический» (Ζεῦ ἄνα Δωδωναῖε Πελασγικὲ) всегда, начиная с античности, рассматривалось как четкое указание на догреческое происхождение культа в Додоне и его изначальную связь с пеласгами, населявшими, согласно традиции, Грецию до прихода греков. Так, в первой половине IV в. до н.э. историк Эфор, опираясь на гомеровские строки, писал (в передаче Страбона), что «оракул в Додоне был основан пеласгами, которые являются самым древним народом из господствовавших в Элладе» (Страбон, География, VII.7.10).
Представления греков об их мифическом прошлом, сформировавшиеся в период архаики, уверенно связывали святилище и оракул Зевса в Додоне с отдаленными мифологическими временами; соответствующие мифы обыгрывались в произведениях греческих трагиков V в. до н.э. Так, Эсхил упомянул «пророческое место Феспротского Зевса в Додоне» в связи с мифом об Ио, дочери первого мифического царя Аргоса Инаха (Эсхил, Прометей прикованный, 658, 830).
…когда ты вышла на Молосскую
Равнину и к высотам у Додоны, где
Феспрота Зевса дом стоит пророческий
И вещие, о, диво, те дубы растут…
(Эсхил, Прометей прикованный, 830)
Оракул Зевса в Додоне был включен в миф о трагической гибели Геракла, обработанный Софоклом.
Когда Геракл, мой господин, из дома
Ушел в последний раз, он мне оставил
Старинную дощечку с завещаньем.
Он никогда, куда б ни шел на подвиг,
Мне до сих пор о нем не говорил.
На сей же раз, как будто на смерть шел,
Определил мне часть мою и сколько
Земли отцовской детям завещает.
Сказал, что если год и четверть года
Отсутствовать он будет на чужбине,
То в этот срок иль жизнь скончает там,
Или, избегнув смерти, дней остаток
В ненарушимом мире проживет.
Так он раскрыл божественный глагол
Об окончанье подвигов Геракла.
Ему об этом провещал в Додоне
Старинный дуб устами голубиц.
Пророчество сбывается теперь,
Как надлежало сбыться, в должный срок.
(Софокл, Трахинянки, 164)
Еврипид описал, как после «Троянской войны» в додонское святилище Зевса направлялся злополучный сын Агамемнона Орест (Еврипид, Андромаха, 885). Геродот изложил предание, распространявшееся в первой половине V в. до н.э. додонскими жрицами, согласно которому черная голубица, прилетевшая из Египта от оракула Амона, села на ветке дуба в Додоне и произнесла человеческим голосом повеление устроить в этом месте прорицалище Зевса (Геродот, История, 11.55.1-3). «Египетское происхождение», видимо, должно было подкрепить авторитет додонского оракула в соперничестве с дельфийским, но всерьез не воспринималось даже в древности. К III веку до н.э. различные местные истории о происхождении необычного оракула в Додоне были объединены в официальную легенду, переданную Проксеном Эпиротским, о том, как когда-то в Эпире некий пастух Мардил украл у соседа овцу и тот обратился к богам с вопросом, кто это сделал; тогда додонский дуб впервые заговорил и назвал имя вора; Мардил в гневе собрался срубить дуб топором, но высунувшаяся из дупла голубица велела ему не этого не делать; Мардил в страхе бросил свой топор, который якобы оставался лежать на том же самом месте и в римское время (Philostratus Lemnius, Eikones, I. Dodone) По другой версии, этот топор был брошен легендарным дровосеком Геллом, а дуб с тех пор стал почитаться как священное прорицающее дерево (Proxenus Epirotes, Epeirotika, fr.2). Попытка объективно установить происхождение святилища в Додоне была сделана в период Августа Страбоном: географ рассмотрел различные локальные версии об основании святилища, отверг утверждение Кинея Фессалийского о возникновении святилища и самой Додоны благодаря фессалийцам, якобы переселившимся в Эпир из одноименного города в Фессалии, и поддержал мнение Эфора об изначальной связи святилища с пеласгами (Страбон, География, VII.7.10). Ко времени Плутарха (46-120гг.) основание святилища в Додоне было «надежно» привязано ко «времени Девкалиона», т.е. было помещено в мифологический период «потопа» и возрождения цивилизации после него:
«После потопа (…) среди молоссов поселились Девкалион и Пирра, основавшие святилище в Додоне.»
(Плутарх, Пирр, 1)
В византийское время эта версия комментировалась таким образом, будто Девкалион после потопа оказался в Эпире и вопросил дуб — прорицавший и до катаклизма — что ему теперь делать. Согласно ответу, данному ему через голубицу, Девкалион заселил это место оставшимися после потопа и дал ему имя «Додона» в честь Зевса и Додоны, одной из Океанид (Etymologicon Magnum, 293.2-11. Δωδωναῖος).
2. Божества, почитавшиеся в святилище
В обеих гомеровских поэмах святилище Додоны прямо и определенно связывается с Зевсом: в «Илиаде» Ахиллес в своей знаменитой молитве, обращенной к Зевсу, призвал его как «Зевса-Господина Додонского Пеласгического», «правителя Додоны, в которой зима сурова» (Гомер. Илиада XVI, 233); в «Одиссее» Додона была упомянута как место, где Зевс дает божественные советы и отвечает на вопросы людей, находящихся в затруднительном положении (Гомер. Одиссея XIV, 327). Следует обратить внимание на включение повествовательного элемента в «Молитву Ахиллеса», в которой сразу после обращения к Зевсу следует детальное описание необычного образа жизни его жрецов (Гомер. Илиада XVI, 234); это делает «Молитву Ахиллеса» по стилю близкой к гимнам, особенно ранним, и дает возможность предполагать, что Додона как святилище Зевса воспевалась в гимнах, видимо северо-греческого происхождения, еще до Гомера, который заимствовал что-то из тех несохранившихся сочинений для своих поэм. Поскольку Гомер не упомянул никаких других божеств в связи с Додоной, обычно считается, что культ Зевса был единственным в Додоне в начале первого тысячелетия до н.э.
Связь Додоны с Зевсом в первые века исторического времени была отмечена и в произведении «Каталог Женщин» (примерно VII в. до н.э.), автор которого, возможно Гесиод, упомянул, что «Зевс полюбил Додону и [решил, что] там должно находиться [его] прорицалище, чтимое людьми» (Гесиод. Каталог Женщин 97. 5).
Надписи на найденных в Додоне пластинках, приходящиеся на период с конца VI в. до н.э. по III-II вв. до н.э., документально подтверждают, что все это время Зевс являлся главным божеством додонского святилища. В связи с этим, можно отметить одну из самых ранних надписей, датируемую поздним VI веком до н.э., содержащую вопрос или просьбу к Зевсу, имя которого написано в Звательном падеже Ζεῦ. Благодаря надписям известны местные эпитеты Зевса, которые прилагались к нему в Додоне во второй половине первого тысячелетия до н.э.:
Δωδωναῖος с фессалийской формой Δουδουναῖος — «Додонский» (в продолжение традиции, отраженной у Гомера).
Νᾶος / Ναῖος (обе формы засвидетельствованы с конца V в. до н.э.) — ключевой эпитет, прилагавшийся к Зевсу в обращениях вопрошавших оракул и в посвящениях; упоминается также античными и византийскими авторами:
«Оракулы из Додоны [ок. 347 до н.э.].
…служитель Зевса объявляет: (…) послать в [Додону] для жертвоприношения Зевсу Наосу (Ναῖος)»…
(Демосфен. XXI. Против Мидия о пощечине, 53)
…«Додонского [Зевса] называли и Νάιος»…
(Стефан Византийский [VI в.], Этника. Δωδώνη)
Данный эпитет интерпретировался по-разному в античное и византийское время и продолжает вызывать дискуссии до сих пор, однако, более короткая и, видимо, исходная форма Νᾶος, как кажется, представляет собой простое прилагательное, сохранившееся в составном прилагательном ἀέναος (ἀέ-ναος) «вечно-текущий» (от глагола νάω «течь»); поэтому можно предложить толкование данного эпитета как «Текущий» с аллюзией к водному потоку.²
__________________________________
[2] νάω (только praes. и impf. νᾶον, эп. ναῖον) — течь, струиться (κρῆναι νάουσι Hom.; ὄφρ΄ ἂν ὕδωρ τε νάῃ Plat.).
Не менее убедительной выглядит перевод эпитета Νᾶος как просто «Храмовый» (ναός), т.е. тот, которому принадлежит данный храм. Эта версия отчасти перекликается с попыткой вывести имя Ναῖος (как «сущий») из слова ναίω («жить, населять, обитать»). Здесь можно вспомнить стихи-пророчества приписываемые пелиадам, первым пророчицам жившим при храме, начинающиеся словами: «Зевс был, Зевс есть, Зевс будет. О Зевс величайший!» (Paus. X. 12:5).
С другой стороны, слово ναός созвучно с ναῦς («судно, корабль»). Возможно отсюда и форма написания эпитета Ναῖος, близкая к νάϊος («корабельный, морской»).
ναός, атт. тж. νεώς, эп.-ион. νηός, эол. ναῦος ὁ {ναίω}
1) жилище (богов), храм (θεῶν Pind.; δαιμόνων Plat.);
2) (= σηκός) святилище храма (τοῦ ἱροῦ νηός Her.)
3) ящик в виде храма для изображений богов (τὸ ἄγαλμα ἐν νηῷ μικρῷ Her.)
νήϊος, дор. νάϊος 3 и 2
1) пригодный для судостроения, корабельный;
2) судовой, корабельный;
3) мореходный, морской (ἄνδρες νήϊοι Aesch. — моряки)
Χαμοναῖος — «связанный с землей» (χαμά — «земля», «поверхность земли»); ср. эпитет Деметры Χαμύνη³ в Олимпии (Павсаний. Описание Эллады VI, 21:1).
Πατρώιος — «Отчий» (т.е. бог отцов, почитающийся из поколения в поколение).
Ἄλκιμος — «Храбрый», «Отважный» (больше известен как эпитет Геракла).
Кроме того, в одной из надписей середины V в. до н.э., предположительно, читается эпитет Μιλίχιος, что могло бы свидетельствовать о почитании Зевса в Додоне в классический период в его хтонической ипостаси как Милихий (Μειλίχιος).⁴
__________________________________
[3] Χαμύνη {арх. locat. к χαμά земля} ἡ Хамина («Почиющая в земле»), эпитет Деметры в Элиде (cр. эпитет Деметры Χθονία).
χθονία (sc. θεά) подземная Eur. = Δημήτηρ;
χθόνιαι θεαί Her. = Δημήτηρ и Περσεφόνη
[4] Не совсем понятно каким образом эпитет μειλίχιος («милостивый») автор приводит в соответствие с «хтоничностью» Зевса. Ниже приведён орфический гимн демону Зевсу Милихию. Слово «демон» (δαίμων) в Древней Греции не несло в себе негативной коннотации и имело значение «бог» или «дух».
Демона я, предводителя, страх наводящего, кличу,
Дия Милихия, демона — жизни дарителя смертным,
Зевса великого, всепородителя, многоскитальца,
Мстителя зла, всецаря, дарящего щедро богатством!
Всякий дом, куда он ни вступит, цветет изобильем,
И от него же дома несчастливцев хиреют и чахнут.
Счастья и горя ключи у тебя ведь, блаженный, хранятся.
Ныне, святой, отгони далеко многостонные скорби,
Все, что ни есть на земле несущего в жизнь разрушенье!
Нам уготовь для сладостной жизни благую кончину!
(Орфический гимн LXXIII, Демону Зевсу Милихию)
δαίμων (-ονος) ὁ и ἡ
1) бог, богиня (δώματ΄ ἐς Διὸς μετὰ δαίμονας ἄλλους Hom.);
2) божество (преимущ. низшего порядка) — дух, гений, демон (δαίμονες ἐπιχθόνιοι, φύλακες θνητῶν ἀνθρώπων Hes.; θεοὴ καὴ οἱ ἑπόμενοι θεοῖς δαίμονες Plat.; ἐκ μὲν ἡρώων εἰς δαίμονας, ἐκ δὲ δαιμόνων εἰς θεοὺς ἀναφέρεσθαι Plut.);
3) божественное определение, роковая случайность (δαίμονος τύχη Pind., τύχη δαιμόνων Eur., δ. καὴ τύχη Aeschin., Dem. и τύχη καὴ δαίμονες Plat.);
4) злой рок, несчастье (δαίμονος αἶσα κακή Hom. — злой рок);
5) душа умершего.
μειλίχιος
1) приготовленный на меду, медовый (τὰ ποτά Soph.);
2) кроткий, ласковый, приветливый (ἔπεα Hom.);
3) милостивый, милосердный (Ζεύς Plut.);
4) умилостивительный (ἱερά Plut.)
Взаимодополняемые сведения из произведений античных авторов и надписей на пластинках указывают на то, что в додонском святилище Зевс объединялся с группой женских божеств. Судя по надписям, богиня Диона выступает с V в. до н.э. как основной партнер Зевса в даче оракулов. Еврипид охарактеризовал Диону, прорицавшую в Додоне в конце V в. до н.э., как «имеющую такое же имя, что и Зевс» (Еврипид. Архелай, фрагм. 228а. 21-22). В позднейшей традиции это определение использовалось для трактовки имени Дионы как образованного от имени Зевса (Etymologicon Magnum, 280. 41-42), но возможно, что Еврипид знал, что к Дионе мог прилагаться эпитет Νάϊα⁵ — женская форма основного эпитета Зевса Νάιος. Диона могла вопрошаться в Додоне и как самостоятельное божество, без Зевса. Согласно информации, которой располагал Страбон на рубеже старой и новой эры, Диона не сразу, но постепенно стала почитаться совместно с Зевсом в его храме (Страбон. География VII. 7:12).
__________________________________
[5] Эпиклеса Νάϊα так же соотносится с водой.
Ναϊάς, ион. Νηϊάς (-άδος), тж. Ναΐς и Νηΐς (-ΐδος) ἡ наяда (водяная нимфа) Pind., Eur.
Богиня Фемида, воплощавшая древние традиционные уставы и неписанные законы, также присутствовала в Додоне: ее могли запрашивать как в триаде с Зевсом и Дионой, так и в паре с Зевсом без Дионы.
Павсаний, автор II в. н.э., привел фрагмент религиозного гимна, который пелся в Додоне и считался в его время древним:
«Зевс был, Зевс есть, Зевс будет. О, великий Зевс! Земля посылает [нам из своих недр] плоды (Γᾶ καρπούς ἀνίει), поэтому воспевайте Мать-Землю!»
(Павсаний. Описание Эллады X. 12:5).
Примечательно, что похожая фраза была прочитана в вопросе, адресованном Зевсу и датируемом концом V - началом IV вв. до н.э.: некто «спрашивает бога о плодах, которые земля рождает» (περὶ τῶν καρπῶν ὧν ἡ γῆ φύει). Выбор слов для составления данного вопроса, как кажется, был попыткой воспроизвести фразу из гимна, цитируемого Павсанием. Следовательно, к V веку до н.э. этот гимн уже был сложен и имел влияние на поклонявшихся додонским божествам. Это в свою очередь означает, что богиня Мать-Земля почиталась в додонском святилище в паре с Зевсом в период ранее V века до н.э. и, видимо, позднее. Следует также отметить, что богиня Мать (Μήτηρ), под которой могла подразумеваться Мать-Земля или Деметра, упомянута в вопросе раннего IV в. до н.э. вместе с Наосом (Νᾶος), т.е. Зевсом.
Вопросы, обращенные к Деметре и Афродите, указывают на то, что обе эти богини почитались в Додоне во второй половине первого тысячелетия до н.э. как самостоятельные божества, однако их культовое отношение к Зевсу не конкретизируется. Присутствие Афродиты, видимо, было следствием усиления роли Дионы, которая по некоторым мифам считалась ее матерью от Зевса (Гомер. Илиада V, 370-374, 416-417).
«Киприда стенящая пала к коленам Дионы,
Матери милой, и матерь в объятия дочь заключила»…
ἣ δ᾽ ἐν γούνασι πῖπτε Διώνης δῖ᾽ Ἀφροδίτη
μητρὸς ἑῆς: ἣ δ᾽ ἀγκὰς ἐλάζετο θυγατέρα ἥν…
(Гомер. Илиада V, 370)
В середине V в. до н.э. мифограф Ферекид Афинский в своем сочинении Historiarum привел мифологическую традицию, вероятно архаическую, согласно которой с Додоной связывались Дождевые Нимфы — Гиады (Ὑάδες).⁶ Миф о Гиадах как о сестрах, образовавших одноименное созвездие, существовал уже в эпоху Гомера и Гесиода (Гомер. Илиада XVIII, 486; Гесиод. Труды и дни, 615). Ферекид в изложении мифа о Гиадах применил к ним обозначение «Додонские Нимфы» — Δωδωνιάδες νύμφαι (или Δωδωνίδες — «Додониды») и упомянул, что они взрастили Диониса, который, следовательно, тоже оказывался связанным с додонским святилищем в период, ставший сферой мифа к V веку до н.э. Современный английский исследователь раннего греческого мифотворчества Роберт Фаулер (Robert Fowler), на основании того, что какие-либо упоминания мифа о связи Гиад с Додоной до Ферекида не известны, допускает, что этот сюжет мог быть выдуман афинским мифографом. Кроме того, Фаулер утверждает, что какая-либо роль Диониса в Додоне неизвестна. Возражая английскому классицисту, можно привести как аргумент тот факт, что у Афин традиционно были хорошие отношения с додонским оракулом, доказательством чему служит, например, почитание Зевса Наоса (Ναῖος) в Афинах, включая Акрополь [IG 1124707 — надпись с посвящением Зевсу Наосy (Ναῖος), найденная у Парфенона]; поэтому афиняне могли знать во многих специфичных подробностях местную мифологическую традицию и культ того удаленного святилища. Также следует подчеркнуть то обстоятельство, что последующие мифографы, среди которых можно выделить писателя IV в. до н.э. Асклепиада, автора труда об использовании мифов в драматических сочинениях Tragodoumena, и латинского поэта Гигина (64 до н.э. - 17 н.э.), не считали должным опровергнуть Ферекида и передавали миф о Гиадах и Додоне в соответствии с его [мифа] изложением Ферекидом. Гигин, кроме того, уточнил, что Додонских нимф, которые причислены к божествам и «называются Гиадами среди созвездий», некоторые «зовут Найадами», т.е. нимфами источников (Гигин, Мифы, 182). Заслуживает внимания то, что в некоторых версиях мифа о Гиадах и Додоне, к додонским Дождевым Нимфам причисляется Диона, что может быть отзвуком ее присутствия в святилище Додоны уже в архаический период, но изначально лишь на правах младшего женского божества-нимфы. Кроме того, традиция дала одной из Гиад имя Фиона (Θυώνη), которое также известно как альтернативное имя Семелы,⁷ матери Диониса, и подразумевало оргиастически-менадическую природу носительницы: возможно, что додонские Дождевые Нимфы представлялись кем-то вроде менад. Надписи на пластинках дают некоторые основания считать, что во второй половине первого тысячелетия до н.э. нимфы связывались с Додоной не только через миф, но и через культ: одна из надписей, датируемая концом V в. до н.э., содержит вопрос о надлежащем времени года для совершения жертвоприношения Нимфе, а в другой, относящейся к середине IV в. до н.э., предположительно, читаются слова «[νύ]μφια» и «[ὕ]δατο[ς]»,⁸ т.е. спрашивается что-то о нимфах и воде.
__________________________________
[6] Ὑάδες (-ων) αἱ Гиады (семизвездие в созвездии Тельца, с восхождением которого начинался период дождей) Hom., Hes., Eur.
[7] Θυώνη, дор. Θυώνα ἡ {θύω} Тиона, «Неистовая» (имя Семелы после ее обожествления) HH., Pind.
[8] ὕδωρ, ὕδατος τό
1) вода (ὕδατα Καφίσια Pind. — воды Кефиса);
2) дождевая вода, дождь (τὰ ἐκ Διὸς ὕδατα Plat.)
Мифологическая традиция о связи с Додоной Дождевых Нимф Гиад позволяет предполагать присутствие в додонском святилище, в первой половине первого тысячелетия до н.э. и ранее, бога Диониса в его ипостаси Ὕης («Дождящий»).⁹
Термин φιλοργιαστικόν (написанный ошибочно как φολοριαστικόν) — «любящий оргии», читаемый в одной из надписей первой половины V в. до н.э., может указывать на то, что в додонском святилище в позднеархаическое - раннеклассическое время имели место дионисийские оргии.¹⁰ Дионис упоминается как один из богов, которым должно быть совершено жертвоприношение, в надписи IV в. до н.э., содержащей предполагаемый божественный ответ, что может быть дополнительным свидетельством связи Диониса со святилищем Додоны.
__________________________________
[9] «Ὕης. Эпитет Диониса (…), потому что совершаем жертвоприношения ему в то время, когда этот бог дождит»… (FGrHist, 1. Clitodemi Fragmenta, fr. 21)
Ὕης или Ὑῆς (-ου) ὁ приносящий дождь (эпитет Вакха и Сабазия) Arph., Plut.
[10] ὄργια τά
1) культ. оргии, тайные обряды, мистерии (ὄ. θεαῖν Arph. — мистерии в честь обеих богинь, т.е. Деметры и Персефоны; ὄ. τῆς Ἀφροδίτης Arph. — оргии в честь Афродиты);
2) священнодействие или жертвоприношение (ὀργίων μαντεύματα Soph. — пророчества жертвоприношений);
3) празднество, праздник (Μουσῶν Arph.)
В надписях на пластинках были также прочитаны вопросы, адресованные конкретно Аполлону и Гераклу, что указывает на почитание их в додонском святилище в классический период как самостоятельных божеств.
В IV в. до н.э. Эфор в своем труде «История» привел относительно Додоны интригующую информацию, согласно которой Зевс Додонский был теснейшим образом связан с речным богом Ахелоем: по утверждению историка, Зевс, «давая оракулы, прибегает к силе всей воды реки Ахелой» и «обычно прибавляет к каждому своему ответу повеление совершать жертвоприношения богу Ахелою, призываемому его особыми именами» (FGrHist, 1, Ephori Fragmenta, fr.27). Следует заметить, что предполагаемые ответы додонского оракула, прочитанные в надписях, не содержат фраз, которые совпадали бы с ритуальными формулами, упоминаемыми Эфором. Тем не менее, информация о культовой связи Зевса Додонского с богом Ахелоем, который по своей сути был могущественным хтонически-оргиастическим богом пресной воды, оплодотворяющим богиню Мать-Землю, важна для установления эволюции религиозной концепции додонского святилища.
3. Священное пространство: природные условия и организация
Судя по тем деталям, которые содержатся в произведениях античных авторов, святилище, находившееся у восточного подножия горы Томарос (Страбон. География VII, 7:11), изначально помещалось в дубовой роще и фокусировалось на одном из дубов, вероятно, самом высоком.¹¹ Считалось, что этот дуб обладал «мудростью»¹² и являлся деревом «вещим», объявлявшим божественные решения, советы и предсказания.
«У горцев селлов, спящих на земле,
Я записал слова, что провещал мне
Глаголющий листвою Зевсов дуб».
(Софокл. Трахинянки, 1172)
«Про Одиссея [Федон] сказал, что сам он в Додону поехал,
Чтоб из священного дуба услышать вещание Зевса»…
(Гомер. Одиссея XIV, 327)
Согласно Эсхилу, в дубовой роще Додоны все деревья были говорящими.
«На крутояре там Додона высится
И дом Феспрота-Зевса прорицальческий.
Там говорящие дубы чудесные
Тебя открыто, без загадок славили»…
(Эсхил. Прометей прикованный, 830)
Устойчивость представления о «говорящем дубе» Додоны находит подтверждение в диалоге Платона «Федр» (первая половина IV в. до н.э.). Согласно афинскому философу, этот дуб на самом деле произносил слова — особенные «слова дуба», и именно с ним связано начало прорицаний вообще.
…«слова дуба, который находится в святилище Зевса Додонского, являются [для людей] самыми первыми пророчествами».
(Платон. Федр, 275b).
Платон уточнил, что прорицания додонского дуба начались в то далекое время, когда Додона была населена простыми [т.е. примитивными] людьми, для которых было естественным слышать и понимать «слова дуба». Следует отметить, что, несмотря на существующие мнения, в произведениях античных авторов не уточняется, чем были на самом деле «слова» додонского дуба — шелестом его листьев или воркованием голубей, сидевших на его ветвях.
__________________________________
[11] δρῦς ὑψίκομος — «высоковершинный дуб» (Гомер. Одиссея ХIV, 328);
…«святилище Зевса под дубом, росшим» в Феспротии (Геродот. История II. 56:2);
[12] σοφία τοῦ δένδρου — «мудрость дерева» (Philostratus Lemnius, Eikones, I. Dodone)
Священный дуб упоминается в надписях в контексте прорицаний через послание божественных знаков вопрошавшим (ср. вопросы конца V - IV вв. до н.э., прочитанные на пластинках: «не появился ли знак на дубе?» или «есть ли знак на дубе?». К сожалению, детали такого способа прорицания в Додоне не известны. Страбон предположил, что в качестве божественных знаков анализировались перелеты трех особых голубей с ветки на ветку священного дуба.
«Предсказания давались оракулом не словами, а известными знаками, подобно тому как это делал оракул Аммона в Ливии. Это были, быть может, какие-нибудь особенности в полете 3 голубей, наблюдая которые, жрицы давали предсказания. Рассказывают, впрочем, что на языке молоссов и феспротов старухи называются πέλειαι, а старики — πέλειοι («голуби»). Быть может, пресловутые пелиады (Πελειάδες) вовсе не птицы, а три старухи, жившие при храме».¹³
(Страбон. География VII (фрагменты) 1a)
В расплывчатых воспоминаниях о додонском святилище, сохранившихся к позднему византийскому времени, представлялось, что дуб «шевелился» (ἐκινεῖτο)¹⁴ перед входящими в святилище за оракулом.
В течение IV-III вв. до н.э. святилище Додоны пережило несколько архитектурных фаз, результатом чего были практически полная вырубка дубовой рощи и сохранение лишь священного дуба, вокруг которого был выстроен так называемый «Священный Дом» Зевса. Согласно римскому писателю Филострату Лемнийскому (191г. - III в.), священный дуб продолжал произносить прорицания и в эпоху империи. В конце IV в. н.э. по приказу императора Феодосия додонский дуб был срублен, и его корни были выкорчеваны. Однако «прорицалище из дуба» в Додоне¹⁵ и «звучащий дуб» Додоны¹⁶ продолжали описываться и комментироваться в византийской литературе.
__________________________________
[13] «Вначале были мужчины-предсказатели; быть может, на это и указывает поэт [Гомер], так как он называет их ὑποφῆται («толкователи»), в числе которых могли быть и предсказатели. Впоследствии же, когда Зевсу присоединили сопрестольницей в храме Диону, то предсказательницами были поставлены три старухи». (Страбон. География VII, 12)
«Из мужчин, которые пророчествовали, были, как говорят, следующие: Эвкл с Кипра, афинянин Мусей, сын Антифема, и Лик, сын Пандиона; из беотийцев указывают на Бакиса, который вдохновлялся силою нимф. Пророчества всех их, кроме Лика, я сам читал». (Павсаний Х, 12:5)
[14] Видимо, имеет место опять двойное толкование слова ἐκκινέω: «качать» (ветвями) и «произносить» (пророчества).
ἐκκινέω (ἐκ-κῑνέω)
1) досл. поднимать, перен. вспугивать, гнать, преследовать;
2) возбуждать, волновать, раздражать;
3) усиливать, растравлять;
4) произносить, высказывать
[15] τό μαντεῖον ἐκ τῆς δρυός [Стефан Византийский, Этника. Δωδώνη]
[16] ἡ δρῦς ἠχοῦσα [Suda. Lexicon. Δωδώνη]
Начиная с I в. до н.э., некоторые латинские авторы сообщали, что в Додоне находился источник с необычной водой (Лукреций. О природе вещей VI. 879-889; Помпоний Мела. Хорография II. 43; Плиний. Естественная история II. 106; Сервий. Комментарии к «Энеиде» Вергилия III. 466). Вода этого источника была холодной, как лед, но при этом могла зажигать поднесенные к ней факелы; вода якобы не текла все время, поэтому источник пересыхал к полудню и наполнялся заново к полуночи, это дало воде источника обозначение «отдыхающая» (ἀναπαυόμενον ὕδωρ, Etymologicon Magnum. 98. 22). Решающей в интерпретации роли этого источника в додонском святилище стала фраза Плиния «…in dodone Iovis fons…» (Плиний. Естественная история II. 106), которая была понята и переведена как «в Додоне есть источник Зевса». Опираясь на нее, комментатор «Энеиды» Сервий, который писал уже после уничтожения додонского дуба по приказу Феодосия, даже создал впечатляющую словесную картину величественного дерева, прямо из-под корней которого бьет источник воды. Через журчание этой воды, якобы, и объявлялась воля богов (Сервий. Комментарии к «Энеиде» Вергилия III. 466). В комментариях Сервия исследователи усмотрели индоевропейскую схему организации пророческого места, заключив, что корни «мудрого» додонского дуба питались водой «источника мудрости». Необходимо, однако, подчеркнуть, что «волшебный источник» Додоны не упоминается ни одним из греческих авторов, включая историка Геродота и географа Страбона; не упоминается он и римским писателем Филостратом Лемнийским, который, судя по его детальнейшему описанию ядра святилища, мог посетить Додону и лично увидеть организацию оракула. Поэтому кажется более правильным переводить вышеупомянутую фразу Плиния как «в Додоне Зевса [т.е. «в Зевсовой Додоне»] есть источник», который мог в действительности находиться где-то на обширной территории святилища, но не конкретно у корней священного дуба, и использоваться в каком-либо ритуале с возжиганием факелов, но не в прорицаниях.
4. Жречество
Согласно античным авторам, святилище и оракул Додоны обслуживали жрецы и жрицы.
Гомер упомянул только жрецов Ἐλλοί или Σελλοί (Геллии / Селлии), которые «не мыли ног» и «спали на земле»; они были «интерпретаторами» (ὑποφῆται) Зевса (Гомер. Илиада XVI. 234), т.е. переводчиками «слов дуба» на человеческий язык. Софокл определил додонское святилище как «рощу горных Селлиев, спящих на земле» (Софокл. Трахинянки, 1166). Со времен Гомера, додонские Селлии (Геллии) считались пеласгами, которые не оставили свой обычай спать на земле даже в эллинистическое время.
___________________________ …«пеласги в Додоне
Первыми дар принимают, из дальнего посланный края, —
Слуги глаголющей меди, что спят на земле обнаженной».
(Каллимах. К Делосу, 284-286)
В надписях, прочитанных на пластинках, обозначение Ἐλλοί / Σελλοί не содержится, однако в контексте V-IV вв. до н.э. встречаются такие термины, как μάντις — «прорицатель по вдохновению», ἱερομνήμων — «помнящий священные правила или ответы», θυοσκόος — «гадатель по характеру жертвоприношения», προθύτας — «совершающий жертвоприношения». В позднеримское время, как писал Филострат Лемнийский, в святилище было шесть жрецов, каждый из которых выполнял свою конкретную культовую функцию. И в III в. н.э. они продолжали вести традиционно простой (примитивный) образ жизни, описанный Гомером, довольствуясь тем, что «они радуют Зевса» (Philostratus Lemnius. Eikones, I. Dodone).
Додонские жрицы-пророчицы, известные как «Голубицы» — Пелии (Πέλειαι или Πελειάδες), упоминаются античными авторами только с середины V в. до н.э. В классическое время они являлись, главным образом, «голосом», который озвучивал дуб, т.е. произносили на человеческом языке «слова дуба», «услышанные» и «понятые» жрецами Селлиями.
…«у святых оснований Додоны, рядом со священным дубом женщины доносят мысли Зевса до тех из Эллады, кто желает их знать».
(Еврипид. Меланиппа-узница, фрагм. 494. 15-17)
…«старый дуб произнес это [пророчество] через двух Голубиц».
(Софокл. Трахинянки, 171-172)
В византийское время об их роли помнили таким образом, что в Лексиконе Суды оракул Додоны был определен как «прорицалище женщин-пророчиц», которые «озвучивали» Зевса, говорившего через дуб (Suda. Lexicon. Δωδώνη).
Согласно Геродоту, изначально в святилище была только одна жрица; первые три, носившие символические имена — Промения «провидящая», Тимарета «чтимая за свои достоинства» и Никандра «побеждающая мужей», в середине V в. до н.э. входили в местную легендарную традицию (Геродот. История II. 55:3). Софокл упомянул двух жриц, обслуживавших священный дуб (Софокл. Трахинянки, 171-172). В эллинистическое время, видимо, было три жрицы, судя по изображению на монетах эпиротов трех голубей, символизировавших жриц-Голубиц, в связи с додонским дубом.
Описания додонских жриц-Пелий Платоном и Павсанием достаточно ясно указывают на то, что те пророчествовали в состоянии экстаза, или «исступления» (μανία), будучи как бы овладеваемы богом.
«Прорицательница в Дельфах и жрицы в Додоне в состоянии неистовства сделали много хорошего для Эллады — и отдельным лицам и всему народу, а будучи в здравом рассудке, — мало или вовсе ничего».
(Платон. Федр, 244b)
«Голубицы у додонян делали предсказания по вдохновению от бога».
(Павсаний. Описание Эллады X. 12:10).
По описанию додонских жриц Филостратом Лемнийским, в III в. н.э. те выглядели «строго и величественно» и, как казалось, выдыхали «аромат воскурений и возлияний» (Philostratus Lemnius. Eikones, I. Dodone). Возможно, оргиастический элемент был удален из культового поведения жриц в результате установления римского контроля над святилищем. Явно неверную информацию о пророческом поведении додонских жриц-Пелий привел в V в. н.э. Сервий, который описал (скорее, выдумал), как старая женщина Пелия (anus Pelias) прорицала в Додоне по журчанию воды источника, якобы вытекавшего из-под корней дуба (Сервий. Комментарии к «Энеиде» Вергилия III. 466).
Присутствие жриц-Голубиц в Додоне должно рассматриваться в свете религиозной семантики голубя, который с микенского времени, вследствие минойского влияния, символизировал для греков женское божество плодородия. Также следует учитывать то, что оргиастический элемент не был характерен для классических эллинских культов Зевса. В местной легенде, сложенной к V веку до н.э. и рассказанной Геродоту (Геродот. История II. 55:1), просматривается то обстоятельство, что священный дуб и Голубицы сосуществовали в Додоне с достаточно давнего времени, но изначально представляли две различные культовые концепции. Страбон был уверен, что женщины-пророчицы стали обслуживать оракул после Гомера (Страбон. География VII. 7:12). Вероятно, «привязка» оргиастических жриц-Голубиц, более соответствовавших кругу древней богини плодородия, к Зевсу и священному дубу, традиционно обслуживавшемуся жрецами, отразила объединение двух культов, которое произошло между VIII и V вв. до н.э.
Обозначение Πέλειαι не встречается в прочитанных на пластинках надписях. Упоминаются, однако, иерофантида (ἱεροφάντιδα), жрица, связанная с мистическим знанием, божественная сивилла (σίβυλλα θεία) и амфиполос (ἀμφίπολος), букв. «служанка», некой богини, возможно, Дионы, учитывая то, что πρόπολος Διώνης («служанка Дионы») в Додоне действовала в (несохранившейся) трагедии Еврипида «Архелай» (Еврипид. Архелай, фрагм. 228а. 20). У Еврипида «служанка Дионы» прорицала от имени этой богини, однако из источников не ясно, являлась ли прополос / амфиполос одной из Голубиц-Пелий. Как представляется, жрицы-Голубицы образовывали особую категорию додонских пророчиц и были отличны от прополос / амфиполос и других жриц, упоминаемых в надписях.
Заключение
Предложенная систематизация сведений по Додоне, содержащихся в источниках, дает возможность через хронологическую последовательность появления этих сведений проследить изменения форм культа и эволюцию религиозной концепции святилища.
На основе информации письменных источников можно с определенной долей уверенности заключить, что возникновение святилища в Додоне было связано с религиозными традициями догреческого этнического элемента, в которых просматриваются черты почитания бога грозы в дубовом лесу особой группой жрецов, способных контактировать с божеством через его священное дерево — дуб.
К концу доисторического времени или в течение так называемых «Темных Веков» главным богом Додоны стал греческий Зевс, который в период архаики был отождествлен с богом реки, видимо, почитавшимся в Додоне до него. Со святилищем на какой-то ранней фазе его существования также были связаны Дионис в его ипостаси «Дождящий» и Дождевые Нимфы.
Богиня Мать-Земля имела большое значение в культе Додоны в историческое время и как хтоническое божество могла почитаться в Додоне с доисторического периода. Можно утверждать, что в конце архаического периода Зевс и Мать-Земля образовывали в святилище божественную пару, которая в течение классического периода была видоизменена, и место Матери-Земли заняла богиня Диона.
Центральным объектом культа в Додоне с самого начала и до последнего дня существования святилища был «мудрый», «говорящий» дуб, который обслуживали жрецы, соблюдавшие древние традиции. То, каким образом додонский дуб «говорил», в античных источниках не уточняется.
Жрицы-Голубицы, вероятно, изначально обслуживали культ Матери-Земли и не имели отношения к прорицающему дубу; их вовлечение в дачу оракулов священным дубом, видимо, произошло до начала классического времени и должно рассматриваться как следствие соединения культов бога священного дуба и богини Матери-Земли.
Наконец, на территории святилища находился источник с необычной водой, который не имел отношения к прорицающему дубу, но мог использоваться в каких-то ритуалах, предполагавших возжигание факелов.
_______________________________
|
Метки: Зевс Греция |
СЕЧЕТ И СЕЧЕТИУ |
Сафронов Александр Владимирович
ВКЛЮЧАЛО ЛИ В СЕБЯ ЕГИПЕТСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕЧЕТ ЭГЕИДУ?
В древнеегипетских текстах с эпохи Старого царства и до греко-римского времени включительно, упоминается топоним «Сечет» (Sṯ.t), который принято обобщенно переводить термином «Азия». Первоначально это название действительно использовалось только для обозначения соседних с Египтом сиро-палестинских территорий.¹ С середины же II тыс. до н.э. и в I тыс. до н.э. из-за расширения географического кругозора египтян, оно стало употребляться для маркирования более широких географических пространств Передней Азии.² Не могли ли тогда египтяне в эпоху Нового Царства (XVI-XI вв. до н.э.), когда страна на Ниле становится активным участником международной политики на Переднем Востоке и в Восточном Средиземноморье, включать в обобщенный термин Сечет («Азия») также и регионы Эгеиды?
Несмотря на то, что для обозначения островов Средиземноморья в иероглифических текстах, по крайней мере, с эпохи Старого Царства использовался термин Ḥȝ.w-nb.wt,³ есть подозрение, что в эпоху Нового царства египтяне стали включать в понятие Сечет Крит, Южную Грецию и Эгеиду⁴ вообще. На чем же основывается наша гипотеза?
________________________________
[1] Самое раннее упоминание этого термина фиксируется уже в правление второго фараона V династии Сахура. В Вади Хариг на Синае имеется скальная надпись этого правителя, в которой фараон упоминается как «покоритель Сечет» (dȝ Sṯ.t) (Giveon 1978: 76; Edel 1978: 77).
[2] Ср. использование термина Сечет во второй половине IV в. до н.э. как обозначение державы Ахеменидов вообще: (Ladynin 2002:6-10).
[3] Этот термин появляется уже во время IV династии, в надписи к рельефу с именами Хуфу, и, вероятно, происходящему из храма этого фараона в Гизе (Goedkke 2002: 125-127). Первоначально он обобщенно обозначал жителей островов Средиземноморья и Эгеиды (Vercoutter 1956: 15). В египетских же текстах греко-римского времени этот термин использовался для обозначения греков (Gardiner 2007: 572).
[4] Αἰγηΐς (-ΐδος) ἡ Эгеида (прибрежные земли и острова, расположенные в бассейне Эгейского моря).
На одном из пяти постаментов статуй, найденных в 1964г. в заупокойном храме Аменхотепа III (1402-1364 до н.э.) в Ком эль-Хетан, содержится список, в котором перечисляются города и страны Эгеиды и юга Балканского полуострова. В надписях на постаменте имеется любопытная приписка (рис. 1):
Под припиской стоят топонимы Kft.w и Tny — Кефтиу и Танайу, которые принято отождествлять с Критом и греками-данайцами. Далее перечислены названия городов и топонимов Эгеиды, из которых более или менее уверенно идентифицировать можно лишь половину — Кносс, Микены, Киферу, Фест, Кидонию. Любопытно отметить, что за исключением упоминаемого в надписи топонима, который, возможно, звучит как Wj-rj-ya и может быть сопоставлен с именем Илиона-Трои (Edel, Görg, 2005: 184-187), собственно передне-азиатских топонимов в надписях на постаменте статуи не содержится. Следовательно, судя по этой приписке, районы акватории Эгейского моря, Южной Греции и, возможно, запада Малой Азии, по крайней мере, с XV-XIV вв. до н.э. относились египтянами к крайним северным пределам Сечет-Азии.

1. Фрагмент постамента статуи в заупокойном храме Аменхотепа III в Ком эль-Хетан.
Этот вывод подтверждают еще два примера из иероглифических текстов эпохи XVIII-XIX династий. Первый происходит из гробницы сановника Пуиэмра (егип. Pw-jm-Rˁ) времени Хатшепсут и Тутмоса III. На ее западной стене имеется изображение приношения дани представителями чужеземных народов, которые совокупно названы «вождями нагорий северных пределов Сечет» (Davies 1922, Pl. 1, 36). Приписка к изображению гласит:
Этим «вождям нагорий пределов Сечет» явно соответствуют изображения четырех человеческих фигур в нижнем регистре сцены, перед которыми расположена следующая подпись: «Вожди нагорий, пришедшие с дарами» (wr.w ḫȝs.wt jj.w m ḥtp.w) (рис. 2). Среди двух явных фигур жителей Азии и, возможно, одной ливийца (Davies 1922: 90-92) особое внимание привлекает безбородая мужская фигура с коричневым цветом кожи и длинными распущенными волосами, которые доходят до середины спины (Davies 1922, Pl. 1; Matic 2014: 278, fig. 2). Нам не известны подобные изображения для жителей Азии, нубийцев или ливийцев. Однако если мы обратимся к египетским представлениям обителей Эгеиды времени XVIII династии, то сразу обнаружим, что именно так египтяне передавали облик критян и жителей островов Средиземноморья и Эгеиды (Vercoutter 1956: Pl. 5-11). Собственно, этот факт отмечал и сам издатель гробницы Пуиэмра (Davies 1922: 91). Поскольку фигура «критянина» входит в число «вождей нагорий пределов Сечет», это еще более усиливает впечатление, что под этим термином в эпоху Нового Царства могли подразумеваться не только регионы Сирии и Палестины, но и области Эгеиды. Следует также отметить, что если в четвертой фигуре издатель гробницы правильно распознал ливийца, то термин Сечет в гробнице Pw-jm-Rˁ вообще может относиться ко всем землям к северу, западу и востоку от Египта.

2. Сцена приношения даров вождями северных пределов Сечет.
Западная стена гробницы Пуиэмра в фиванском некрополе.
Второй пример происходит из Луксорского храма Амона-Ра и относится ко времени Рамсеса II (1290-1224 до н.э.). Фрагмент надписи на постаменте гранитной колоны гласит:
Как уже говорилось выше, термин ḥȝ.w-nb.wt еще с эпохи Старого Царства маркировал обитателей акватории Средиземного и Эгейского морей, а в птолемеевскую эпоху вообще употреблялся по отношению к грекам (Goediсke 2002: 134-135). Таким образом, данная надпись правления Рамсеса II связывает воедино топонимы Хау-небут и Сечет и показывает, что регионы Эгеиды могли причисляться к крайним географическим границам региона по крайней мере, с эпохи ХVIII-ХIХ династий.
Подытоживая результаты нашего исследования, можно сказать, что в текстах эпохи ХVIII-ХIХ династий нам удалось обнаружить, по крайней мере, три явных примера, которые показывают, что регионы Эгеиды могли маркироваться египтянами термином Сечет, который до этого обычно употреблялся для обозначения азиатских территорий.
Полученный вывод представляет большой интерес для эпохи переселений «народов моря» конца XIII - нач. XII вв. до н.э., среди которых, безусловно, были представители Эгеиды. В Элефантинской стеле основателя XX династии Сетнахта (1200-1198 до н.э.) рассказывается о его приходе к власти и упоминается о попытках противников фараона опереться на неких наемников, чтобы помешать его воцарению. Последние обозначены в тексте как «силачи» (nḫt.w) из Сечетиу. В тексте говорится:
Обычно эти Сечетиу трактуются как азиаты, поскольку Sṯ.tjw являются нисбой от рассматриваемого выше обозначения Азии Sṯ.t. Однако учитывая полученный выше вывод об инкорпорировании в эпоху Нового Царства в топоним Сечет регионов Эгеиды, заманчиво предположить, что и «эгейцы» могли участвовать в смутных событиях в Египте.
Можно ли найти гипотезе о присутствии «народов моря» и участии их в смутных событиях, предшествовавших и сопутствующих приходу к власти XX династии, другие подтверждения? Как кажется, да. Ранее автор данной статьи показал, некоторые рельефы и надписи из заупокойного храма Рамсеса III в Мединет Абу, а также текст папируса Louvre 3136 свидетельствуют о том, что представители «народов моря» могли служить в Египте наемниками еще до их крупномасштабных вторжений на 5-й и 8-й год Рамсеса III (1193 и 1190 до н.э.). Этот вывод подтверждается сведениями недавно опубликованной иератической стелой MAA 1939.552, происходящей из западной Амары в северном Судане. В ее тексте упоминается о нападении племен «народов моря», филистимлян, и, видимо, текер (Popko 2016: 224) в 3-й год правления одного из первых фараонов XX династии. Если последний — Рамсес III, как аргументированно полагал издатель стелы Л.Попко (Popko 2016: 229-230), то мы имеем дело с самым ранним упоминанием «народов моря» при XX династии. Тогда эти данные подтверждают наше предположение, что «народы моря» присутствовали в Египте еще до их крупномасштабного вторжения в 1193 и 1190 до н.э. и вполне могли участвовать в смутных событиях при переходе от XIX к XX династии. Следовательно, под обозначением Сечетиу Элефантинской стелы могли скрываться не только жители Азии, но и наемники из числа «народов моря», происходивших, в том числе, из Эгеиды и западной Анатолии.
В этой связи крайне любопытными представляются сведения греческой эпической традиции о судьбах ахейских героев, которых после Троянской войны судьба забрасывает в Египет. Согласно Гомеру, возвратившийся неузнанным на Итаку Одиссей предстает перед свинопасом Эвмеем и рассказывает ему свою вымышленную историю, которую условно можно назвать историей «псевдокритянина». Согласно ей, последний являлся уроженцем Крита. Он участвовал в походе на Трою, а после ее падения со своей дружиной отправился в Египет в грабительский набег, однако потерпел неудачу и попал в почетный плен к фараону. После этого «псевдокритянин», которого египтяне щедро одарили богатствами, провел в Египте семь лет (Hom. Od. XIV.230-287). Кроме того, у ряда греческих авторов упоминается о прибытии Менелая после падения Трои в поисках Елены в Египет. Там он, как и «псевдокритянин», накопил богатства, однако после совершил злодеяние, принеся в жертву египетских детей, и бежал в Ливию⁵ (Hdt. I. 118-119; Apollod. Ерit. VI.29). Поскольку Гомер явно знал о странствованиях Менелая по Кипру, Финикии, Египту и Ливии, а также о пребывании Елены в Египте (Hom. IV, 83-85; Hdt. I. 116), это предание, как и рассказ «псевдокритянина», должно было широко бытовать в песнях Троянского цикла ко времени не позднее VIII в. до н.э. В таком случае, сообщения традиции о присутствии греков в Египте после падения Трои едва ли можно объяснить как поздними этиологическими построениями, так и результатом контактов греков со страной на Ниле в I тыс. до н.э., поскольку регулярные связи между Эгеидой и Египтом начались многими десятилетиями позднее. В таком случае, перед нами, вероятно, сохранившиеся в героических песнях реминисценции о реальных набегах греков на Египет, которые должны относиться к эпохе миграций «народов моря». Также нетрудно заметить, что Кипр, Финикия, Египет и Ливия, куда традиция помещает странствующих Менелая и «псевдокритянина», — это те регионы, по которым прошли «народы моря» в конце XIII — первой половине XII вв. до н.э. При этом примечательно, что у Гомера Менелай был в Египте во время царствования царя Полиба и его жены Алкандры (Hom. Od. IV, 125-130). В «Египтике» же Манефона⁶ египетский царь Полиб прямо сопоставлен с последней правительницей XIX династии Таусерт, причем с ее правлением синхронизируется падение Трои (Waddel 2004: 148-152). В то же время нам известно, что именно Таусерт боролась с Сетнахтом за власть в Египте около 1200г. до н.э. Поскольку в тексте Элефантинской стелы Сетнахта в качестве его противников называются силачи Сечетиу, в число которых могли входить представители «народов моря», присутствующие в Египте еще до их крупномасштабных вторжений при Рамсесе III, любопытно выдвинуть гипотезу, что в традиции о «псевдокритянине» и Менелае, собирающих богатства в Египте, следует видеть реминисценции о реальном присутствии воинов эгейских регионов в стране на Ниле как наемников в смутное время конца XIII — начала XII вв. до н.э.
________________________________
[5] В качестве своих информаторов в данном случае Геродот прямо называет египетских жрецов (Hdt. I. 118-119).
[6] Αἰγυπτιακά — история Древнего Египта в трёх книгах, написанная древнеегипетским историком и жрецом из города Себеннита в египетской Дельте, который жил во времена правления в Египте эллинистической династии Птолемеев, в конце IV — первой половине III вв. до н.э. Название «Египтика» означает в переводе «египетские», при этом имеются в виду «египетские события», «египетские дела».
_______________________________
ВКЛЮЧАЛО ЛИ В СЕБЯ ЕГИПЕТСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ СЕЧЕТ ЭГЕИДУ?
В древнеегипетских текстах с эпохи Старого царства и до греко-римского времени включительно, упоминается топоним «Сечет» (Sṯ.t), который принято обобщенно переводить термином «Азия». Первоначально это название действительно использовалось только для обозначения соседних с Египтом сиро-палестинских территорий.¹ С середины же II тыс. до н.э. и в I тыс. до н.э. из-за расширения географического кругозора египтян, оно стало употребляться для маркирования более широких географических пространств Передней Азии.² Не могли ли тогда египтяне в эпоху Нового Царства (XVI-XI вв. до н.э.), когда страна на Ниле становится активным участником международной политики на Переднем Востоке и в Восточном Средиземноморье, включать в обобщенный термин Сечет («Азия») также и регионы Эгеиды?
| Sṯ.t, топоним, который первоначально использовался египтянами для обозначения соседних азиатских территорий в Сирии и Палестине. |
Несмотря на то, что для обозначения островов Средиземноморья в иероглифических текстах, по крайней мере, с эпохи Старого Царства использовался термин Ḥȝ.w-nb.wt,³ есть подозрение, что в эпоху Нового царства египтяне стали включать в понятие Сечет Крит, Южную Грецию и Эгеиду⁴ вообще. На чем же основывается наша гипотеза?
________________________________
[1] Самое раннее упоминание этого термина фиксируется уже в правление второго фараона V династии Сахура. В Вади Хариг на Синае имеется скальная надпись этого правителя, в которой фараон упоминается как «покоритель Сечет» (dȝ Sṯ.t) (Giveon 1978: 76; Edel 1978: 77).
[2] Ср. использование термина Сечет во второй половине IV в. до н.э. как обозначение державы Ахеменидов вообще: (Ladynin 2002:6-10).
[3] Этот термин появляется уже во время IV династии, в надписи к рельефу с именами Хуфу, и, вероятно, происходящему из храма этого фараона в Гизе (Goedkke 2002: 125-127). Первоначально он обобщенно обозначал жителей островов Средиземноморья и Эгеиды (Vercoutter 1956: 15). В египетских же текстах греко-римского времени этот термин использовался для обозначения греков (Gardiner 2007: 572).
[4] Αἰγηΐς (-ΐδος) ἡ Эгеида (прибрежные земли и острова, расположенные в бассейне Эгейского моря).
На одном из пяти постаментов статуй, найденных в 1964г. в заупокойном храме Аменхотепа III (1402-1364 до н.э.) в Ком эль-Хетан, содержится список, в котором перечисляются города и страны Эгеиды и юга Балканского полуострова. В надписях на постаменте имеется любопытная приписка (рис. 1):
tȝ.w nb(.w) štȝ.w n(.j)w pḥ.w n(.j)w Sṯ.t
«Все страны сокрытые северных пределов Сечет».
(Edel, Görg, 2005: Tf. 13)
Под припиской стоят топонимы Kft.w и Tny — Кефтиу и Танайу, которые принято отождествлять с Критом и греками-данайцами. Далее перечислены названия городов и топонимов Эгеиды, из которых более или менее уверенно идентифицировать можно лишь половину — Кносс, Микены, Киферу, Фест, Кидонию. Любопытно отметить, что за исключением упоминаемого в надписи топонима, который, возможно, звучит как Wj-rj-ya и может быть сопоставлен с именем Илиона-Трои (Edel, Görg, 2005: 184-187), собственно передне-азиатских топонимов в надписях на постаменте статуи не содержится. Следовательно, судя по этой приписке, районы акватории Эгейского моря, Южной Греции и, возможно, запада Малой Азии, по крайней мере, с XV-XIV вв. до н.э. относились египтянами к крайним северным пределам Сечет-Азии.

1. Фрагмент постамента статуи в заупокойном храме Аменхотепа III в Ком эль-Хетан.
Этот вывод подтверждают еще два примера из иероглифических текстов эпохи XVIII-XIX династий. Первый происходит из гробницы сановника Пуиэмра (егип. Pw-jm-Rˁ) времени Хатшепсут и Тутмоса III. На ее западной стене имеется изображение приношения дани представителями чужеземных народов, которые совокупно названы «вождями нагорий северных пределов Сечет» (Davies 1922, Pl. 1, 36). Приписка к изображению гласит:
wr.w ḫȝs.wt n(.j)w pḥ.w Sṯ.t ḏd=sn m rdj jȝ.w wr.wy nȝ r bȝ.w nṯr ˁȝ.wy ḥpr.w nb n nḥḥ wr bȝ.w=f ḫt ḫȝs.wt nb(.w.t)
Вожди нагорий северных пределов Сечет говорят, вознося хвалу: «О, эта <мощь> (фараона) более велика, чем мощь бога! О, как величественны образы владыки вечности! Велика слава его по всем нагорьям!»
(Davies 1922, Pl. 36)
Этим «вождям нагорий пределов Сечет» явно соответствуют изображения четырех человеческих фигур в нижнем регистре сцены, перед которыми расположена следующая подпись: «Вожди нагорий, пришедшие с дарами» (wr.w ḫȝs.wt jj.w m ḥtp.w) (рис. 2). Среди двух явных фигур жителей Азии и, возможно, одной ливийца (Davies 1922: 90-92) особое внимание привлекает безбородая мужская фигура с коричневым цветом кожи и длинными распущенными волосами, которые доходят до середины спины (Davies 1922, Pl. 1; Matic 2014: 278, fig. 2). Нам не известны подобные изображения для жителей Азии, нубийцев или ливийцев. Однако если мы обратимся к египетским представлениям обителей Эгеиды времени XVIII династии, то сразу обнаружим, что именно так египтяне передавали облик критян и жителей островов Средиземноморья и Эгеиды (Vercoutter 1956: Pl. 5-11). Собственно, этот факт отмечал и сам издатель гробницы Пуиэмра (Davies 1922: 91). Поскольку фигура «критянина» входит в число «вождей нагорий пределов Сечет», это еще более усиливает впечатление, что под этим термином в эпоху Нового Царства могли подразумеваться не только регионы Сирии и Палестины, но и области Эгеиды. Следует также отметить, что если в четвертой фигуре издатель гробницы правильно распознал ливийца, то термин Сечет в гробнице Pw-jm-Rˁ вообще может относиться ко всем землям к северу, западу и востоку от Египта.

2. Сцена приношения даров вождями северных пределов Сечет.
Западная стена гробницы Пуиэмра в фиванском некрополе.
Второй пример происходит из Луксорского храма Амона-Ра и относится ко времени Рамсеса II (1290-1224 до н.э.). Фрагмент надписи на постаменте гранитной колоны гласит:
tȝ.w nb.w štȝ.w tȝ.w nb.w Fnḫ.w ḥȝ.w-nb.wt nb.(w)t n(.j)w pḥ.w Sṯ.t r rd.wy nṯr pn nfr
«Все земли сокрытые, все земли Фенху, все Хау-небут северных пределов Сечет к ногам бога этого младшего (т.е. фараона)».
(DZA 29.834.890)
Как уже говорилось выше, термин ḥȝ.w-nb.wt еще с эпохи Старого Царства маркировал обитателей акватории Средиземного и Эгейского морей, а в птолемеевскую эпоху вообще употреблялся по отношению к грекам (Goediсke 2002: 134-135). Таким образом, данная надпись правления Рамсеса II связывает воедино топонимы Хау-небут и Сечет и показывает, что регионы Эгеиды могли причисляться к крайним географическим границам региона по крайней мере, с эпохи ХVIII-ХIХ династий.
Подытоживая результаты нашего исследования, можно сказать, что в текстах эпохи ХVIII-ХIХ династий нам удалось обнаружить, по крайней мере, три явных примера, которые показывают, что регионы Эгеиды могли маркироваться египтянами термином Сечет, который до этого обычно употреблялся для обозначения азиатских территорий.
Полученный вывод представляет большой интерес для эпохи переселений «народов моря» конца XIII - нач. XII вв. до н.э., среди которых, безусловно, были представители Эгеиды. В Элефантинской стеле основателя XX династии Сетнахта (1200-1198 до н.э.) рассказывается о его приходе к власти и упоминается о попытках противников фараона опереться на неких наемников, чтобы помешать его воцарению. Последние обозначены в тексте как «силачи» (nḫt.w) из Сечетиу. В тексте говорится:
[9] [ḫr ḫrw.]w ẖr-ḥȝ.t=f nḥm.n snḏ=f jb=sn wtḥ=sn r […]
[10] [mj ḫp.w.t] šf.w bjk ḥr-sȝ=sn jw wȝḥ=sn ḥd nbw [bjȝ]
[11] [ḥbsw] tȝ mrj jw rdj.n=sn n nn Sṯ.tjw r wḫȝ n=w nḫt.w
[12] … sḥ.w=w whj.jw šˁr.w=w wsf(.w)
[9] [пали враги] перед ним (Сетнахтом), его ужас объял их сердце, бежали они в […]
[10] [подобно птахам и] птицам малым, когда сокол — позади них. Оставили они серебро, золото, [медь]
[11] [ткани] Египта, которые они положили для этих Сечетиу, чтобы искать себе силачей […]
[12] … Их планы не имели успеха, их угроза отменилась.
Обычно эти Сечетиу трактуются как азиаты, поскольку Sṯ.tjw являются нисбой от рассматриваемого выше обозначения Азии Sṯ.t. Однако учитывая полученный выше вывод об инкорпорировании в эпоху Нового Царства в топоним Сечет регионов Эгеиды, заманчиво предположить, что и «эгейцы» могли участвовать в смутных событиях в Египте.
Можно ли найти гипотезе о присутствии «народов моря» и участии их в смутных событиях, предшествовавших и сопутствующих приходу к власти XX династии, другие подтверждения? Как кажется, да. Ранее автор данной статьи показал, некоторые рельефы и надписи из заупокойного храма Рамсеса III в Мединет Абу, а также текст папируса Louvre 3136 свидетельствуют о том, что представители «народов моря» могли служить в Египте наемниками еще до их крупномасштабных вторжений на 5-й и 8-й год Рамсеса III (1193 и 1190 до н.э.). Этот вывод подтверждается сведениями недавно опубликованной иератической стелой MAA 1939.552, происходящей из западной Амары в северном Судане. В ее тексте упоминается о нападении племен «народов моря», филистимлян, и, видимо, текер (Popko 2016: 224) в 3-й год правления одного из первых фараонов XX династии. Если последний — Рамсес III, как аргументированно полагал издатель стелы Л.Попко (Popko 2016: 229-230), то мы имеем дело с самым ранним упоминанием «народов моря» при XX династии. Тогда эти данные подтверждают наше предположение, что «народы моря» присутствовали в Египте еще до их крупномасштабного вторжения в 1193 и 1190 до н.э. и вполне могли участвовать в смутных событиях при переходе от XIX к XX династии. Следовательно, под обозначением Сечетиу Элефантинской стелы могли скрываться не только жители Азии, но и наемники из числа «народов моря», происходивших, в том числе, из Эгеиды и западной Анатолии.
В этой связи крайне любопытными представляются сведения греческой эпической традиции о судьбах ахейских героев, которых после Троянской войны судьба забрасывает в Египет. Согласно Гомеру, возвратившийся неузнанным на Итаку Одиссей предстает перед свинопасом Эвмеем и рассказывает ему свою вымышленную историю, которую условно можно назвать историей «псевдокритянина». Согласно ей, последний являлся уроженцем Крита. Он участвовал в походе на Трою, а после ее падения со своей дружиной отправился в Египет в грабительский набег, однако потерпел неудачу и попал в почетный плен к фараону. После этого «псевдокритянин», которого египтяне щедро одарили богатствами, провел в Египте семь лет (Hom. Od. XIV.230-287). Кроме того, у ряда греческих авторов упоминается о прибытии Менелая после падения Трои в поисках Елены в Египет. Там он, как и «псевдокритянин», накопил богатства, однако после совершил злодеяние, принеся в жертву египетских детей, и бежал в Ливию⁵ (Hdt. I. 118-119; Apollod. Ерit. VI.29). Поскольку Гомер явно знал о странствованиях Менелая по Кипру, Финикии, Египту и Ливии, а также о пребывании Елены в Египте (Hom. IV, 83-85; Hdt. I. 116), это предание, как и рассказ «псевдокритянина», должно было широко бытовать в песнях Троянского цикла ко времени не позднее VIII в. до н.э. В таком случае, сообщения традиции о присутствии греков в Египте после падения Трои едва ли можно объяснить как поздними этиологическими построениями, так и результатом контактов греков со страной на Ниле в I тыс. до н.э., поскольку регулярные связи между Эгеидой и Египтом начались многими десятилетиями позднее. В таком случае, перед нами, вероятно, сохранившиеся в героических песнях реминисценции о реальных набегах греков на Египет, которые должны относиться к эпохе миграций «народов моря». Также нетрудно заметить, что Кипр, Финикия, Египет и Ливия, куда традиция помещает странствующих Менелая и «псевдокритянина», — это те регионы, по которым прошли «народы моря» в конце XIII — первой половине XII вв. до н.э. При этом примечательно, что у Гомера Менелай был в Египте во время царствования царя Полиба и его жены Алкандры (Hom. Od. IV, 125-130). В «Египтике» же Манефона⁶ египетский царь Полиб прямо сопоставлен с последней правительницей XIX династии Таусерт, причем с ее правлением синхронизируется падение Трои (Waddel 2004: 148-152). В то же время нам известно, что именно Таусерт боролась с Сетнахтом за власть в Египте около 1200г. до н.э. Поскольку в тексте Элефантинской стелы Сетнахта в качестве его противников называются силачи Сечетиу, в число которых могли входить представители «народов моря», присутствующие в Египте еще до их крупномасштабных вторжений при Рамсесе III, любопытно выдвинуть гипотезу, что в традиции о «псевдокритянине» и Менелае, собирающих богатства в Египте, следует видеть реминисценции о реальном присутствии воинов эгейских регионов в стране на Ниле как наемников в смутное время конца XIII — начала XII вв. до н.э.
________________________________
[5] В качестве своих информаторов в данном случае Геродот прямо называет египетских жрецов (Hdt. I. 118-119).
[6] Αἰγυπτιακά — история Древнего Египта в трёх книгах, написанная древнеегипетским историком и жрецом из города Себеннита в египетской Дельте, который жил во времена правления в Египте эллинистической династии Птолемеев, в конце IV — первой половине III вв. до н.э. Название «Египтика» означает в переводе «египетские», при этом имеются в виду «египетские события», «египетские дела».
_______________________________
|
Метки: Египет народы моря |
ДИОНИС МЕДОВЫЙ |
Карл Кереньи
ДИОНИС. ПРООБРАЗ НЕИССЯКАЕМОЙ ЖИЗНИ
(фрагмент первой части книги)
2.2. Изготовление медового напитка во время предутреннего появления Сириуса
Мед служил человеку пищей начиная с эпохи палеолита. Темно-красная наскальная живопись из пещеры Аранья в Бикорпе (Испания) изображает предшественников наших «охотников за медом»: чтобы обчистить улья, они влезали на высокие деревья. Проследив различные способы добычи меда в разные времена и у разных народов — из самих цветов, от диких пчел или посредством пчеловодства, — мы получили бы особую хронологию. Но везде обнаруживается нечто общее, архетипическое и биологически обоснованное: помимо пищи, ζωή¹ ищет сладости и узнает себя в ней как бы возросшей. Изготовление из меда опьяняющего напитка способствовало еще большему ее усилению. Однако здесь уместнее говорить скорее об эйфории, чем об опьянении. Ведь трудно установить, где в данном случае начинается опьянение и как его можно распознать в качестве особого состояния, отдельного от возрастающей эйфории. Пчелы были первым источником того, что позднее стала приносить людям виноградная лоза.
_____________________________
[1] Кереньи, через всю книгу, красной нитью проводит противопоставление понятий ζωή и βίος — соответственно «жизни вечной» и «жизни преходящей», т.е. жизни бессмертного духа и человеческой жизни.
Эта последовательность отражена и в греческой мифологии. Дионис получил свое место в генеалогии богов после Кроноса и Зевса. Согласно учению орфиков, вино относилось к последним дарам Диониса. Как известно, орфики оказывали предпочтение архаическим версиям сказаний о богах. Среди них сохранилась и легенда о жестоком коварстве Зевса, который застал своего отца Кроноса врасплох и оскопил его, пока тот был опьянен медом диких пчел. Орфический поэт уже не владел полноценным знанием архаической действительности, иначе он заставил бы Кроноса сначала изобрести медовый напиток и только потом дать им себя опоить. Тем не менее мед сам по себе обладал мифологическим значением, ведь он был напитком Золотого века и пищей богов. Овидию, у которого мы читаем, что «мед … тоже был Вакхом открыт» (Овидий. Фасты. III. 736), не удалось провести четких границ между различными стадиями истории человеческого питания, что обнаруживается в произведениях орфиков, а еще ранее — в греческом культе.
В греческом языке «быть опьяненным» и «приводить в опьянение» первоначально означали слова μεθύειν и μεθύσκειν. Слово οἰνοῦν («опаивать вином»), образованное от οἶνος («вино»), — позднейшего происхождения и встречается реже. Не только в ряде индогерманских языков, но и во всей совокупности индогерманской и финно-угорской языковых семей мед передается оттенками слова methy (mesi, metinen в финском, méz в венгерском языках). Немецкое Met и английское mead, с точными соответствиями в скандинавских языках, означают «медовое пиво». В греческом языке слово μεθύ сохранило смысл опьяняющего напитка вообще, даже если речь шла о пиве, изготавливавшемся у египтян. Если нам известно, что в древности больше всего хвалили медовый напиток из Фригии, это означает, что там достаточно поздно познакомились с культурой возделывания винограда — позднее, чем в Греции, в которой, в свою очередь, ни одна из областей не могла похвастаться изготовлением первосортной «медовой воды» (ὑδρόμελι).
Тем не менее в греческом культе за напитком из меда долго сохранялось преимущество. Эта культурно-историческая последовательность отражена и в «Одиссее», где возлияния мертвым предписывается совершать в следующем порядке: «первое смесью медвяной (μελίκρατον), другое вином блaговонным» (Гомер. Одиссея. Х. 519). Слово μελίκρατον означало не только смесь из меда и молока (μελίκρατα γάλακτος), но, как свидетельствуют Гипократ и Аристотель (Гиппократ. Афоризмы. V. 41; Аристотель. Метафизика. 1092b), еще и напиток, позднее названный ὑδρόμελι («медовая вода»). Аристотель все еще борется с выродившимся в суеверие, однако несомненно имевшим религиозное происхождение воззрением, что этот напиток, смешанный в пропорции 3:3, обладает целебными свойствами. Он будет, якобы, тем полезнее, чем больше в нем содержится воды. В рецепте, который приводится Плинием, помимо священного числа «три», речь идет также об определенных сроках изготовления напитка. «Небесная вода» — как Плиний называет дождь — отстаивалась в течение пяти лет, а затем смешивалась с медом. Этот срок соответствовал пятилетнему циклу больших греческих празднеств (πενταετηρίς), в рамках которого устраивались и Олимпийские игры. Вряд ли данному пятилетнему сроку можно найти другое объяснение, кроме традиционного культового цикла, который, вероятно, начиная уже с микенской эпохи лежал в основе греческого праздничного календаря.
«Более сведущие, — продолжает Плиний, — сразу же выпаривают третью часть воды, вместо нее добавляют треть старого меда и на сорок дней выставляют смесь на солнце в пору предутреннего восхода Сириуса (canis ortu in sole habent»). Лишь в одном пункте автор недостаточно точен и последователен. Смесь не могла находиться на солнце в сильную жару, она бы попросту испарилась. Плиний не называет разновидности сосуда, в котором изготавливался напиток: для него, надо думать, это было чем-то само собой разумеющимся. Подходящим сосудом мог служить только аскос — бурдюк из звериной шкуры с завязывающимся горлом. Такой сосуд был водонепроницаем, однако пропускал воздух, и жидкость в нем легко могла забродить. Плиний добавляет, что на десятый день, после того как жидкость в сосуде начинала изливаться (diffusa), другие люди крепко его закупоривали (obturant). Ученому римлянину было неизвестно, как этот процесс соотносился с пятилетним циклом греческих празднеств и с событиями, происходившими на небе. Изготовление медового напитка имело в его глазах сугубо практическое, а отнюдь не культовое значение. И все же о связи этого обычая с определенным световым периодом в пору самой сильной жары он говорит как об устойчивой традиции. Очевидно, что в определенный момент брожение должно было достигнуть своей высшей точки. Тем самым полагалось начало новому году Сириуса (canis ortus).
2.3. Пробуждение пчел
В эпоху поздней античности с этим некогда столь значительным периодом был связан один удивительный рецепт, в котором следует видеть не что иное, как еще один способ мифологизации медового напитка. Отождествление меда с Зевсовой кровью служило приспособлению медовых культов к мифологии греческого бога неба с ее мифом о сияющем Зевсе. Однако естественный процесс, о котором здесь идет речь, совершенно непосредственно и без всякого приспособления стал поводом для возникновения мифа о ζωή — жизни, которая в брожении, и даже в разложении, обнаруживает свою неиссякаемость. Между брожением и разложением было установлено родство. Притязание этого мифа на истинность было столь велико, что он лег в основу практического руководства по применению особого рецепта.
Основателем этого обычая считался Аристей,² характеризующийся как «фигура греческой религиозной истории, о которой нам известно только из фрагментарных и в значительной степени разрозненных преданий, которые тем не менее обнаруживают былое величие этого древнейшего божества, принадлежавшего к первоначальной стадии развития греческой религии». Место этого божества в истории культуры определяется его отношением к меду. Аристей научил людей плести ульи и считался изобретателем смеси из меда и вина. Это свидетельствует о его принадлежности к тому слою средиземноморской культуры, который характеризуется уже не охотой за дикими пчелами, а пчеловодством и, наряду с этим, возделыванием винограда. Согласно традиции острова Кеос, Аристей находился в двоякой связи с интересующим нас временем года. С одной стороны, он распорядился, чтобы предутренний восход Сириуса приветствовали «с оружием в руках» и в его ознаменование приносили жертву. С другой стороны, он выпустил «этесии»³ — пассатные ветра, смягчавшие опасное влияние вредоносного светила. В рамках позднейшей, олимпийской, религии эта жертва причиталась также 3евсу Икмею (Ἰκμαῖος)⁴ — божеству влаги, насылавшему ветра. Однако олимпийской религии предшествовал культ Аристея, который, после того как боги умертвили его пчел, смог оживить их с помощью удивительного рецепта.
_____________________________
[2] Ἀρισταῖος ὁ Аристей (сын Аполлона и Кирены, божество полей, садов и стад) Hes., Pind.
[3] ἐτήσιος — ежегодный (θυσίαι Thuc.; βορέαι Arst.; καρποί Plut.).
[4] Ἰκμαῖος (-ου) ὁ {ἰκμάς} эпитет Зевса, под которым Аристей воздвиг для него алтарь на острове Кеос.
ἰκμάς (-άδος) ἡ
1) влага, влажность;
2) сок (ἰκμὰς Βάκχου Anth. — вино).
Варрон и Колумелла, писатели хорошо осведомленные о земледелии и пчеловодстве, не пожелали обсуждать правдоподобность этого рецепта — потому, очевидно, что тем самым они подвергли бы миф сомнению. Варрон ссылается на эпиграмму греческого поэта Архелая и на одну старую поэму под названием Βουγονία («Рождение из быка»), Колумелла — на Демокрита и на карфагенянина Магона. Кроме того, он упоминает Вергилия, который в четвертой книге «Георгик» также повествует об этом мифическом обычае. Согласно Колумелле, Демокрит, Магон и Вергилий сходились в том, что в качестве времени проведения этого обычая все они указывали на предутренний восход Сириуса. Это было время, когда не только готовился медовый напиток, но и рождались пчелы. для этой цели нужно было пожертвовать, как минимум, одного быка. Из сочинения Кассиана Басса (одного из позднейших авторов, касавшихся этой темы) следует, что в закрытый сосуд должна была превратиться туша самого быка. Помимо связи с праздничным календарем, в этом обычае присутствует и определенная космическая ориентация, что выдает его происхождение из древнего ритуала.
Согласно Вергилию, Аристей принес в жертву четырех быков и четырех телиц. Через девять дней, в течение которых туши животных оставались нетронутыми, он увидел, что в их загнивших утробах завелись пчелы. Число четыре, бесспорно, имеет здесь космическое значение. Оно соответствует четырем сторонам света; в том же смысле появляется оно и у Кассиана Басса. Согласно указаниям этого автора, составляющим, между прочим, первое описание древнесредиземноморского кубовидного дома, сначала требовалось возвести особую постройку в форме куба, с одним входом и тремя окнами, расположенными по четырем сторонам света. В этой постройке дубиной умерщвляли тридцатимесячного быка, причем не проливалось ни капли его крови, хотя все внутренности оказывались раздробленными. Естественные отверстия в туше закупоривались, и она превращалась в сосуд для брожения. Согласно Кассиану Бассу, по истечении четырех недель и десяти дней, то есть примерно через сорок дней, как и при традиционном изготовлении медового напитка — в помещении гроздьями кишели пчелы. От быка оставались только рога, кости и шкура. Этот обычай, служивший подготовкой к большому празднеству в ознаменование предутреннего восхода Сириуса — древнему празднеству Нового года, — был возвышен до мифа о ζωή, пробуждающей пчел из мертвой плоти.
2.4. Рождение Ориона
С описанным обычаем перекликается один из вариантов легенды о рождении Ориона — не только созвездия, известного нам под этим именем, но и древнего мифического персонажа, который далеко не сразу получил место среди образов греческой мифологии. К тому времени года, которое для греков начиналось с предутреннего восхода Сириуса, великан-охотник Орион уже несколько месяцев был виден на небосводе. Сириус служил ему псом. С Критом Орион связан в другом варианте истории своего рождения, а также в одной из версий своего восхождения на небо. Здесь мы снова сталкиваемся с игрой слов — приемом, который часто использовался позднейшими мифографами при толковании старых мифов. И снова у нас нет причин полагать, что эти легенды создавались задним числом, только чтобы обосновать игру слов. Скорее всего, дело обстояло как раз наоборот. Критская история рождения Ориона объяснялась созвучием между словами Ὠαρίων (как может звучать имя «Орион»)⁵ и ὀαριστής («собеседник»): у Гомера Минос назван «собеседником великого Зевса» (Гомер. Одиссея. XIX. 179). Орион был сыном Посейдона и Эвриалы — одной из дочерей Миноса, которая в соответствии со своим именем считалась богиней «широкого моря» (εὐρεῖα ἅλς). Таким образом, Орион восходил на небо прямо из моря, как и подобает созвездию. Другая связь Ориона с Критом, представление о которой сформировалось еще в древности, заключалась в том, что смерть охотника от укуса скорпиона и его восхождение на небо последовали именно на Крите. Связь охотника со скорпионом также является древней зодиакальной легендой, возникшей на основе очевидного астрономического наблюдения: при появлении на небе созвездия Скорпион, созвездие Ориона начинает заходить за горизонт. Этот миф отражен уже в сцене, украшающей чернофигурную вазу работы художника Никосфена. На вазе изображена охота на зайца — традиционное занятие Ориона, а под ловчей сетью, среди двух змей, притаился гигантский скорпион.
Согласно второму варианту легенды о рождении Ориона, он появился на свет от семени богов, собранного в бурдюке из бычьей шкуры. Здесь мы также имеем дело с игрой слов, которой и объясняется, как божественное семя попало в бурдюк. Эта легенда связана с местечком Гирия (Ὑρία), недалеко от Танагры в Беотии, и с местным героем Гириеем. Старик Гирией был бездетен, но однажды боги, завернувшие к нему в дом на ночлег, пообещали ему сына, который должен был родиться из воловьей шкуры. Они напустили в нее своего семени: здесь-то и перекликаются слова οὐρεῖν и Ὠρίων. Однако первоначально роль жизнетворной субстанции, наполнявшей кожаный бурдюк, играл мед. Название «Гирия» имеет отношение как к разведению пчел, так и к Криту: по свидетельству Гесихия, словом ὕρον критяне обозначали рой пчел или пчелиный улей. Следовательно, Гирия (Ὑρία) значит «место, где разводят пчел». Это название встречается часто. Согласно Геродоту, еще одна Гирия, называвшаяся также Урия (Ὑρία), была основана критянами в Апулии.⁶ Таким образом, хотя место рождения Ориона и полагалось за пределами Крита, оно сохраняло с ним связь через название, благодаря критскому значению которого эта легенда только и становится понятной.
_____________________________
[5] Ὠαρίων (-ωνος) ὁ Pind. = Ὠρίων
Ὠρίων (-ωνος) ὁ Орион
1) миф. беотийский гигант-зверолов, похищенный влюбленной в него Эос, а затем застреленный Артемидой Hom.
2) созвездие, восход которого после летнего солнцестояния возвещал наступление полосы гроз и ливней Hom., Hes., Arst.
[6] Ὑρία, ион. Ὑρίη ἡ Гирия
1) город в Беотии Hom.
2) город в Япигии, основанный критянами Her.
Итак, мы имеем дело с тремя группами преданий: с предписаниями по изготовлению опьяняющего медового напитка в пору предутреннего восхода Сириуса, с рецептом пробуждения пчел из превращенной в бурдюк бычьей туши и с легендой о рождении Ориона в «сосуде» из воловьей шкуры. Из этих удивительных преданий можно сделать один общий вывод: все они объясняются изготовлением из меда культового напитка в связи с предутренним восходом Сириуса — событием, которое во многих странах средиземноморского региона принималось за начало нового года. Помимо Египта и ведущих греческих центров, к этим странам принадлежал и минойский Крит. Подобным ритуалом объясняется и свидетельство о том, что в определенную ночь в одной из критской пещер был виден свет и что тогда же начинал изливаться медовый напиток. Возможно, эта ночь приходилась как раз на канун нового года, а свет мог исходить от освещавших пещеру мистериальных факелов. В приводимых нами греческих источниках не упоминается о связи этого ритyала с какой-то определенной пещерой. Вероятно, он был распространен на довольно обширной территории. Путеводной нитью, указывающей на соответствующие пещерные церемонии, нам служит тот факт, что некоторые места назывались Κώρυκος или носили названия, производные от этого слова. Согласно Гесихию, слово κώρυκος обозначало кожаный мешок, использовавшийся в качестве бурдюка (ἀσκός).⁷
2.5. Мифология кожаного мешка
Согласно легенде, охотники за медом увидели в пещере «Зевсовы пеленки».⁸ В наказание за нарушение священного запрета доспехи их раскололись. Рассказ о том, что в пещере сохранились пеленки, соответствует воззрениям греческой мифологии. Известно, что греки украшали священные фигуры и предметы узкими лентами-тениями (ταινία), тогда как в минойское время знаками особой святости служили широкие ленты связывавшиеся узлами. Подобные реквизиты, свидетельствовавшие о неприкосновенности места, и могли быть истолкованы как «пеленки». Однако они являлись только внешними атрибутами. В греческой мифологии часто упоминается о предмете, к которому ленты, вероятно, принадлежали: это был λῖκνον — корзина в форме веялки для зерна, служившая колыбелью не только для божественных, но и для смертных младенцев. Согласно одному из гомеровских гимнов, в килленийской пещере лежал запеленутый младенец Гермес. Каллимах в своем гимне к Зевсу соединил различные критские традиции: богиня Адрастея кладет маленького Зевса в золотой ликнон, И младенца кормит ее коза, а потом вместо молока он получает мед. Третий пример относится к Дионису. Вдохновенные жрицы «пробуждали» Диониса Ликнита (то есть «лежащего в ликноне») в пещере на горе Парнас, высоко над Дельфами (Плутарх. Об Исиде и Осирисе, ХХХV. 365). Пробуждение свершалось в ходе тайной церемонии: лишь упоминание Диониса в качестве «ликнита» свидетельствует о том, что он был положен в ликнон. Последний, в свою очередь, находился в пещере, о которой было известно, что «в определенное время от нее исходит желтое зарево», — очевидно от факелов, зажигавшихся во время ночного празднества в честь Диониса. Об этом празднестве повествуется и в одном из дельфийских гимнов. Однако название пещеры не содержит и намека на слово λῖκνον и на обозначаемый им предмет, который, согласно греческим воззрениям, служил превосходным вместилищем для божественного младенца. Пещера называлась Κωρύκιον ἄντρον — «Пещера кожаного мешка», и была не только в Греции, но и за ее пределами известнейшим из мест, название которых происходило от слова κώρυκος, обозначавшего тот самый кожаный бурдюк для изготовления медового напитка, о котором шла речь в связи с рождением Зевса в одной из критских пещер.
_____________________________
[7] Hesychius. S. v. Κώρυκος: θυλάκιον, ἔστι δὲ δερμάτινον ἀγγεῖον ἄσκοι — Κώρυκος: мешочек; кожаный сосуд, похожий на ἀσκός (кожаный мешок, используемый обычно как сосуд для питья).
[8] Antoninus Liberalis. Ор. cit. XIX. 2: τὰ τοῦ Διὸς εἶδον σπάργανα — они увидели пеленки Зевса.
Название Корикос (Κώρυκος) носил и мыс, которым на западе оканчивалось северное побережье Крита. До него можно было добраться из Кидонии — города с засвидетельствованным дионисийским культом. Кидония находилась в особой связи с Теосом (Τέος) — дионисийским городом в Малой Азии, где, по уверению его жителей, происходили регулярные вакхические чудеса: в определенное время прямо из почвы начинал бить источник с вином превосходного вкуса. Неподалеку от Теоса вздымалась высокая гора, также под названием Корикос.⁹ О вышеупомянутом мысе нам больше ничего не известно, так же как и о гавани с тем же названием, находившейся в Ликии, рядом с городом и горой Олимп. Более обширными сведениями мы располагаем о киликийском Корикосе — горе, городе и пещере. Как античные географы, так и путешественники Нового времени дивились двум большим пещерам, расположенным поблизости от турецкого портового города Коргоса. Они напоминают кратерообразные расщелины, подобно Поццо ди Сантулла — знаменитому «роднику Италии» в Коллепардо в Герникских горах. Римский географ Помпоний Мела (I в. н.э.) сообщает о дионисийском характере одной из этих расщелин: посетитель, оказавшийся во внутреннем гроте, мог услышать звуки цимбал (вакхического инструмента), доносившиеся от невидимой божественной процессии. В связи с другой, еще более глухой расщелиной во времена Мелы рассказывали легенду о кожаном мешке, который был якобы спрятан туда Тифоном, соперником Зевса. Едва ли это различие между пещерами было существенным для данного мифа, который имел хождение далеко за пределами коргосских пещер. Его мотивы прослеживаются даже за морем, в Сирии, свидетельствуя о периоде, когда на обоих побережьях были распространены одни и те же божества и мифы. Древнейшие вариации мифологической темы, к которой принадлежит сюжет с кожаным мешком, можно обнаружить и у хеттов, а «Великая Киликия» в начале I тыс. до н.э. играла, возможно, ведущую роль на территории бывшего Хеттского царства.¹⁰
_____________________________
[9] У Тита Ливия она называется Корик Пелорский (Тит Ливий. XXXVII. 12. 10).
[10] Позднее название Киликии сохранилось только за узкой полосой прибрежной территории. (Garstang J. The Hittite Empire. L., 1939. Р. 167).
На киликийском побережье Малой Азии и на склонах горы Касий поблизости от Угарита,¹¹ древняя культура которого была открыта в результате раскопок в сирийском Рас-Шамра, разыгрывалась, согласно греческим источникам, борьба между драконом Тифоном (Τυφῶν) и Зевсом. У хеттов, в свою очередь, бытовал миф, в котором змееподобное чудовище Иллуянка противостояло богу грозы. В сохранившихся крайне фрагментарно хеттских вариантах этого мифа о кожаном мешке ничего прямо не говорится; здесь речь идет о частях, которые были отняты от тела побежденного бога грозы, спрятаны, а затем снова ему возвращены. Иллуянка похитил у бога грозы сердце и глаза. Однако борьба, в которой чудовище одержало верх, отнюдь не требует использования кожаного мешка, так же как и священный ритуал консервации и пробуждения, в котором кожаный сосуд мог фигурировать в качестве вместилища, не подразумевает мифологической борьбы. Это противоборство — отдельный сюжет, который в Киликии и Сирии (как, возможно, и у хеттов) был связан с другой, еще более священной темой. В позднейшей версии хеттского мифа бросается в глаза, что похищенные у бога грозы сердце и глаза были возвращены ему лишь во втором поколении, благодаря браку сына бога грозы с дочерью Иллуянки. Миф буквально гласит: «Бог грозы наказывает своему сыну: "Когда ты пойдешь в дом своей жены, требуй у них [мое] сердце и [мои] глаза". Когда он пошел туда и потребовал сердце, ему отдали его. Затем он потребовал и глаза. Когда его облик снова стал таким же, как прежде, он отправился к морю, чтобы вступить в битву». Теперь бог грозы побеждает дракона. Однако из хеттского текста — случайно или из-за умысла рассказчика — нам не удается узнать, где Иллуянка вместе с дочерью спрятали похищенные органы. Иначе дело обстоит в переданной греческими источниками киликийской версии этого мифа, где место ближневосточного бога грозы и неба занимает Зевс. Согласно данной версии, сначала Зевс стал метать в дракона перуны, а сойдясь ближе, ударил его кривым мечом, который в этой стране традиционно считался оружием богов.
Однако на горе Касий битва приняла другой оборот. Дракон вырвал у Зевса меч и перерезал ему сухожилия (νεῦρα) на руках и ногах. «Подняв его на плечи, он перенес его затем через море в Киликию и, дойдя до Корикийской пещеры (Κωρύκιον ἄντρον), запер его в ней. Там же он спрятал и сухожилия, завернув их в шкуру медведя». Значит, дракон не только «перерезал» Зевсу сухожилия, как об этом рассказывает греческий автор! Он отделил от тела побежденного бога нечто такое, что потом было сохранено в медвежьей шкуре, то есть в кожаном мешке. Слово νεῦρον в греческом языке, так же как и nervus в латыни, обозначало в том числе и мужской половой член,¹² а множественное число (νευροί) здесь только скрывает подразумеваемое. Тот факт, что мешок был сделан из медвежьей шкуры, не просто является редкой архаической чертой, но отчасти обнаруживает истинное назначение сосуда. Повсюду, где обитает медведь, — а Малая Азия, пока там росли густые леса, входила в ареал его обитания, который позже сместился на Кавказ, — людям известно о его теснейшей связи с медом. Именно медведь по преимуществу считается «зверем, поедающим мед». Так, в славянских языках его называют словом, производным от слова «мед».¹³ В венгерском оно принимает форму medve и имеет единственное значение «медведь».
_____________________________
[11] Угарит — древний город-государство в Северной Финикии, населенный ханаанитами (семитами). Известен с нач. II тыс. до н.э.
[12] «По Орфею (Орфика. frg. 154), Ночь, внушая Зевсу хитрость, с которой был связан мед, говорит: «Когда же увидишь его под ветвистым дубом, от дел жужжащих пчел опьяневшего, свяжи его». Так и случилось с Кроносом. Связанный, он подвергся оскоплению, как и Уран. Теолог объясняет иносказательно, что божественные существа через наслаждение сковываются и низводятся медом в мир становления и что, обессиленные наслаждением, они теряют семя. Урана, пожелавшего брачного соединения и для того сошедшего к Гее, оскопляет Кронос. Это наслаждение брачным союзом объединяется для них со сладостью меда, с помощью которого хитростью был оскоплен и Кронос.» (Порфирий. О пещере нимф 16)
Не вдаваясь в детали и в попытки Порфирия объяснить смысл оскопления Кроноса, а ранее Урана, отметим тенденцию лишения верховной власти божества через оскопление. Тифон, вступая в противоборство с Зевсом, тоже покушается на верховную власть. И лишение Зевса сухожилий несколько выбивается из этого ряда, опирающегося, надо полагать на определенную традицию. Поскольку слово νεῦρα можно перевести не только как «сухожилие», но и как «фаллос», то очевидной становится позднейшая коррекция деталей мифа, связанных с потерей (хоть и временной) жизненной силы и власти, которая в архаической традиции происходила через оскопление.
[13] Медведь — это производное от μέδω + ἕδος («охраняющий территорию»). Этимология слова медведь подробно разобрана в теме Комоедицы.
В киликийской версии рассматриваемого мифа Зевс и его «сухожилия» охраняются драконицей Дельфиной. Гермес и Эгипан (Αἰγίπαν, «козлоногий Пан») выкрадывают их и возвращают Зевсу, который приобретает былую силу и побеждает чудовище. В связи с Дельфами сохранилось и предание о том, что один из отпрысков дельфийского дракона (который в данной ситуации называется Пифоном) носил имя Αἶξ¹⁴ (Плутарх. Греческие вопросы. ХII. 295), что указывает на присутствие в семействе Пифона существа, подобного упомянутому Эгипану. Но дельфийское чудовище называлось еще и Тифоном, причем в легендах оно встречается как в мужском, так и в женском обличии. Так, драконица Дельфина была во вражде с Аполлоном. В дельфийском поединке с драконом бог ни разу не терпит поражения. В Дельфах из всех богов временное бессилие могло приписываться лишь Дионису: его могилу показывали во внутреннем святилище храма, рядом с «Золотым Аполлоном».¹⁵ Здесь покоились его останки. «Чистые» (ὅσιοι) в определенное время приносили в святилище тайную жертву, а в пещере жрицы-фиады пытались пробудить Диониса-Ликнита (Λικνίτης). Итак, обнаруживается связь между мотивом мифологической борьбы и таинственным событием в Корикийской пещере, победой одного бога и пробуждением другого. Можно обратить внимание на то, что у дельфийского дракона, как и у хеттского чудовища, были отпрыски. Нет сомнений, что первоначально речь шла об одном и том же противоборстве. Событие, происходившее в Корикийской пещере, доказывало, что божество лишь временно утратило силу, в действительности оставаясь непобежденным. В Дельфах, как и в других центрах своего культа, Дионис занял место более древнего образа неиссякаемой жизни (ζωή), который в определенном смысле уже и 6ыл Дионисом — однако не под знаком вина, а под знаком меда. Примечательно, что в гомеровском гимне к Гермесу повествуется о трех древних прорицательницах, от которых Аполлон научился искусству предсказания, так, будто они были пчелами (Гомеровские гимны. К Гермесу, 552), а сама Пифия, прорицательница в храме Аполлона, именуется «дельфийской пчелой» (Пиндар. Пифийские оды. IV. 60).
_____________________________
[14] αἶξ, αιγός ἡ (эп. dat. pl. αἴγεσιν) коза (редко ὁ αἴξ козел) Hom., Arst., Plut.
[15] Золотая статуя Аполлона стояла в святая святых храма (Павсаний. Х. 24. 5). Считалось, что могила Диониса представляет собой βάθρον своего рода порог или ступень перед треножником.
Итак, следует допустить, что к северу от Крита — на территории, простиравшейся от Сирии и Киликии вплоть до Дельф, — и прежде всего на самом Крите существовали культовые пещеры, где к определенному празднеству в кожаном мешке или бурдюке готовился опьяняющий напиток из меда. На основании данных, сообщаемых об изготовлении медового напитка Плинием, а также на основании мифологического рецепта пробуждения пчел мы можем заключить, что речь идет о празднестве нового года, которое отмечалось с наступлением предутреннего восхода Сириуса и которому предшествовал подготовительный период продолжительностью примерно в сорок дней. Относительная хронология культуры говорит в пользу того, что эта традиция уже существовала, прежде чем на Крите, в Греции и в Малой Азии начали возделывать виноград. Нельзя исключить, что на Крите она возникла раньше, чем в других странах, учитывая географическое положение острова и его древние связи с Египтом. Однако из Нижнего Египта, с которым на Крите уже очень рано было установлено сообщение, можно вывести лишь астрономическую подоплеку этого празднества, а отнюдь не то обстоятельство, что его ареной были пещеры. Вопрос о том, имел ли этот астрономический период аналогичное значение в культах Сирии и Малой Азии, пока следует оставить открытым. Представляется, однако, вероятным что взаимосвязь двух рассмотренных тем — поединка с драконом и ритуала, в котором немаловажную роль играл кожаный мешок, — зародилась в Передней Азии и что эта расширенная «мифология кожаного мешка» достигла Дельф с Востока. Это не исключает того, что сам ритуал пришел в Дельфы с Крита: еще в гомеровском гимне к Аполлону сохранилось свидетельство о критских жрецах, принимавших участие в дельфийском культе. Но и ритуал, в свою очередь, мог попасть на Крит из прилегающих регионов — быть может, еще в III тыс. до н.э., до начала среднеминойского периода, когда на Крите сложилась развитая дворцовая культура.
Итак, мы провели своего рода серию археологических разысканий. Там, где мы обнаружили следы Диониса, они не принадлежали к самому глубокому мифологическому слою. Таинство жизни, символизируемое медом и его брожением, обладало собственными религиозными формами, которые впоследствии перешли в религию Диониса, однако на какое-то время были переняты также религией Зевса. Различие заключается в том, что разделительная линия между религией Зевса и этой древнейшей религией более отчетлива и в большей степени затрагивает сущность божества, чем линия, отделяющая религию Диониса от древнейших мифов и культов неиссякаемой жизни (ζωή). В последнем случае нередко можно установить лишь временную последовательность. Когда мы говорим: «еще в третьем» или «уже во втором тысячелетии до н.э.», мы имеем в виду лишь относительную хронологию. Заметнее всего эта относительность проявляется в том, что уже критская дворцовая культура была связана с возделыванием винограда. Своего рода символическое преломление истории религии и культуры нашло выражение в том факте, что во время раскопок в старом Фестском дворце среди прочего были найдены и виноградные косточки — семя vitis vinifera Mediterranea.
_______________________________
ДИОНИС. ПРООБРАЗ НЕИССЯКАЕМОЙ ЖИЗНИ
(фрагмент первой части книги)
2.2. Изготовление медового напитка во время предутреннего появления Сириуса
Мед служил человеку пищей начиная с эпохи палеолита. Темно-красная наскальная живопись из пещеры Аранья в Бикорпе (Испания) изображает предшественников наших «охотников за медом»: чтобы обчистить улья, они влезали на высокие деревья. Проследив различные способы добычи меда в разные времена и у разных народов — из самих цветов, от диких пчел или посредством пчеловодства, — мы получили бы особую хронологию. Но везде обнаруживается нечто общее, архетипическое и биологически обоснованное: помимо пищи, ζωή¹ ищет сладости и узнает себя в ней как бы возросшей. Изготовление из меда опьяняющего напитка способствовало еще большему ее усилению. Однако здесь уместнее говорить скорее об эйфории, чем об опьянении. Ведь трудно установить, где в данном случае начинается опьянение и как его можно распознать в качестве особого состояния, отдельного от возрастающей эйфории. Пчелы были первым источником того, что позднее стала приносить людям виноградная лоза.
_____________________________
[1] Кереньи, через всю книгу, красной нитью проводит противопоставление понятий ζωή и βίος — соответственно «жизни вечной» и «жизни преходящей», т.е. жизни бессмертного духа и человеческой жизни.
Эта последовательность отражена и в греческой мифологии. Дионис получил свое место в генеалогии богов после Кроноса и Зевса. Согласно учению орфиков, вино относилось к последним дарам Диониса. Как известно, орфики оказывали предпочтение архаическим версиям сказаний о богах. Среди них сохранилась и легенда о жестоком коварстве Зевса, который застал своего отца Кроноса врасплох и оскопил его, пока тот был опьянен медом диких пчел. Орфический поэт уже не владел полноценным знанием архаической действительности, иначе он заставил бы Кроноса сначала изобрести медовый напиток и только потом дать им себя опоить. Тем не менее мед сам по себе обладал мифологическим значением, ведь он был напитком Золотого века и пищей богов. Овидию, у которого мы читаем, что «мед … тоже был Вакхом открыт» (Овидий. Фасты. III. 736), не удалось провести четких границ между различными стадиями истории человеческого питания, что обнаруживается в произведениях орфиков, а еще ранее — в греческом культе.
В греческом языке «быть опьяненным» и «приводить в опьянение» первоначально означали слова μεθύειν и μεθύσκειν. Слово οἰνοῦν («опаивать вином»), образованное от οἶνος («вино»), — позднейшего происхождения и встречается реже. Не только в ряде индогерманских языков, но и во всей совокупности индогерманской и финно-угорской языковых семей мед передается оттенками слова methy (mesi, metinen в финском, méz в венгерском языках). Немецкое Met и английское mead, с точными соответствиями в скандинавских языках, означают «медовое пиво». В греческом языке слово μεθύ сохранило смысл опьяняющего напитка вообще, даже если речь шла о пиве, изготавливавшемся у египтян. Если нам известно, что в древности больше всего хвалили медовый напиток из Фригии, это означает, что там достаточно поздно познакомились с культурой возделывания винограда — позднее, чем в Греции, в которой, в свою очередь, ни одна из областей не могла похвастаться изготовлением первосортной «медовой воды» (ὑδρόμελι).
Тем не менее в греческом культе за напитком из меда долго сохранялось преимущество. Эта культурно-историческая последовательность отражена и в «Одиссее», где возлияния мертвым предписывается совершать в следующем порядке: «первое смесью медвяной (μελίκρατον), другое вином блaговонным» (Гомер. Одиссея. Х. 519). Слово μελίκρατον означало не только смесь из меда и молока (μελίκρατα γάλακτος), но, как свидетельствуют Гипократ и Аристотель (Гиппократ. Афоризмы. V. 41; Аристотель. Метафизика. 1092b), еще и напиток, позднее названный ὑδρόμελι («медовая вода»). Аристотель все еще борется с выродившимся в суеверие, однако несомненно имевшим религиозное происхождение воззрением, что этот напиток, смешанный в пропорции 3:3, обладает целебными свойствами. Он будет, якобы, тем полезнее, чем больше в нем содержится воды. В рецепте, который приводится Плинием, помимо священного числа «три», речь идет также об определенных сроках изготовления напитка. «Небесная вода» — как Плиний называет дождь — отстаивалась в течение пяти лет, а затем смешивалась с медом. Этот срок соответствовал пятилетнему циклу больших греческих празднеств (πενταετηρίς), в рамках которого устраивались и Олимпийские игры. Вряд ли данному пятилетнему сроку можно найти другое объяснение, кроме традиционного культового цикла, который, вероятно, начиная уже с микенской эпохи лежал в основе греческого праздничного календаря.
«Более сведущие, — продолжает Плиний, — сразу же выпаривают третью часть воды, вместо нее добавляют треть старого меда и на сорок дней выставляют смесь на солнце в пору предутреннего восхода Сириуса (canis ortu in sole habent»). Лишь в одном пункте автор недостаточно точен и последователен. Смесь не могла находиться на солнце в сильную жару, она бы попросту испарилась. Плиний не называет разновидности сосуда, в котором изготавливался напиток: для него, надо думать, это было чем-то само собой разумеющимся. Подходящим сосудом мог служить только аскос — бурдюк из звериной шкуры с завязывающимся горлом. Такой сосуд был водонепроницаем, однако пропускал воздух, и жидкость в нем легко могла забродить. Плиний добавляет, что на десятый день, после того как жидкость в сосуде начинала изливаться (diffusa), другие люди крепко его закупоривали (obturant). Ученому римлянину было неизвестно, как этот процесс соотносился с пятилетним циклом греческих празднеств и с событиями, происходившими на небе. Изготовление медового напитка имело в его глазах сугубо практическое, а отнюдь не культовое значение. И все же о связи этого обычая с определенным световым периодом в пору самой сильной жары он говорит как об устойчивой традиции. Очевидно, что в определенный момент брожение должно было достигнуть своей высшей точки. Тем самым полагалось начало новому году Сириуса (canis ortus).
2.3. Пробуждение пчел
В эпоху поздней античности с этим некогда столь значительным периодом был связан один удивительный рецепт, в котором следует видеть не что иное, как еще один способ мифологизации медового напитка. Отождествление меда с Зевсовой кровью служило приспособлению медовых культов к мифологии греческого бога неба с ее мифом о сияющем Зевсе. Однако естественный процесс, о котором здесь идет речь, совершенно непосредственно и без всякого приспособления стал поводом для возникновения мифа о ζωή — жизни, которая в брожении, и даже в разложении, обнаруживает свою неиссякаемость. Между брожением и разложением было установлено родство. Притязание этого мифа на истинность было столь велико, что он лег в основу практического руководства по применению особого рецепта.
Основателем этого обычая считался Аристей,² характеризующийся как «фигура греческой религиозной истории, о которой нам известно только из фрагментарных и в значительной степени разрозненных преданий, которые тем не менее обнаруживают былое величие этого древнейшего божества, принадлежавшего к первоначальной стадии развития греческой религии». Место этого божества в истории культуры определяется его отношением к меду. Аристей научил людей плести ульи и считался изобретателем смеси из меда и вина. Это свидетельствует о его принадлежности к тому слою средиземноморской культуры, который характеризуется уже не охотой за дикими пчелами, а пчеловодством и, наряду с этим, возделыванием винограда. Согласно традиции острова Кеос, Аристей находился в двоякой связи с интересующим нас временем года. С одной стороны, он распорядился, чтобы предутренний восход Сириуса приветствовали «с оружием в руках» и в его ознаменование приносили жертву. С другой стороны, он выпустил «этесии»³ — пассатные ветра, смягчавшие опасное влияние вредоносного светила. В рамках позднейшей, олимпийской, религии эта жертва причиталась также 3евсу Икмею (Ἰκμαῖος)⁴ — божеству влаги, насылавшему ветра. Однако олимпийской религии предшествовал культ Аристея, который, после того как боги умертвили его пчел, смог оживить их с помощью удивительного рецепта.
_____________________________
[2] Ἀρισταῖος ὁ Аристей (сын Аполлона и Кирены, божество полей, садов и стад) Hes., Pind.
[3] ἐτήσιος — ежегодный (θυσίαι Thuc.; βορέαι Arst.; καρποί Plut.).
[4] Ἰκμαῖος (-ου) ὁ {ἰκμάς} эпитет Зевса, под которым Аристей воздвиг для него алтарь на острове Кеос.
ἰκμάς (-άδος) ἡ
1) влага, влажность;
2) сок (ἰκμὰς Βάκχου Anth. — вино).
Варрон и Колумелла, писатели хорошо осведомленные о земледелии и пчеловодстве, не пожелали обсуждать правдоподобность этого рецепта — потому, очевидно, что тем самым они подвергли бы миф сомнению. Варрон ссылается на эпиграмму греческого поэта Архелая и на одну старую поэму под названием Βουγονία («Рождение из быка»), Колумелла — на Демокрита и на карфагенянина Магона. Кроме того, он упоминает Вергилия, который в четвертой книге «Георгик» также повествует об этом мифическом обычае. Согласно Колумелле, Демокрит, Магон и Вергилий сходились в том, что в качестве времени проведения этого обычая все они указывали на предутренний восход Сириуса. Это было время, когда не только готовился медовый напиток, но и рождались пчелы. для этой цели нужно было пожертвовать, как минимум, одного быка. Из сочинения Кассиана Басса (одного из позднейших авторов, касавшихся этой темы) следует, что в закрытый сосуд должна была превратиться туша самого быка. Помимо связи с праздничным календарем, в этом обычае присутствует и определенная космическая ориентация, что выдает его происхождение из древнего ритуала.
Согласно Вергилию, Аристей принес в жертву четырех быков и четырех телиц. Через девять дней, в течение которых туши животных оставались нетронутыми, он увидел, что в их загнивших утробах завелись пчелы. Число четыре, бесспорно, имеет здесь космическое значение. Оно соответствует четырем сторонам света; в том же смысле появляется оно и у Кассиана Басса. Согласно указаниям этого автора, составляющим, между прочим, первое описание древнесредиземноморского кубовидного дома, сначала требовалось возвести особую постройку в форме куба, с одним входом и тремя окнами, расположенными по четырем сторонам света. В этой постройке дубиной умерщвляли тридцатимесячного быка, причем не проливалось ни капли его крови, хотя все внутренности оказывались раздробленными. Естественные отверстия в туше закупоривались, и она превращалась в сосуд для брожения. Согласно Кассиану Бассу, по истечении четырех недель и десяти дней, то есть примерно через сорок дней, как и при традиционном изготовлении медового напитка — в помещении гроздьями кишели пчелы. От быка оставались только рога, кости и шкура. Этот обычай, служивший подготовкой к большому празднеству в ознаменование предутреннего восхода Сириуса — древнему празднеству Нового года, — был возвышен до мифа о ζωή, пробуждающей пчел из мертвой плоти.
2.4. Рождение Ориона
С описанным обычаем перекликается один из вариантов легенды о рождении Ориона — не только созвездия, известного нам под этим именем, но и древнего мифического персонажа, который далеко не сразу получил место среди образов греческой мифологии. К тому времени года, которое для греков начиналось с предутреннего восхода Сириуса, великан-охотник Орион уже несколько месяцев был виден на небосводе. Сириус служил ему псом. С Критом Орион связан в другом варианте истории своего рождения, а также в одной из версий своего восхождения на небо. Здесь мы снова сталкиваемся с игрой слов — приемом, который часто использовался позднейшими мифографами при толковании старых мифов. И снова у нас нет причин полагать, что эти легенды создавались задним числом, только чтобы обосновать игру слов. Скорее всего, дело обстояло как раз наоборот. Критская история рождения Ориона объяснялась созвучием между словами Ὠαρίων (как может звучать имя «Орион»)⁵ и ὀαριστής («собеседник»): у Гомера Минос назван «собеседником великого Зевса» (Гомер. Одиссея. XIX. 179). Орион был сыном Посейдона и Эвриалы — одной из дочерей Миноса, которая в соответствии со своим именем считалась богиней «широкого моря» (εὐρεῖα ἅλς). Таким образом, Орион восходил на небо прямо из моря, как и подобает созвездию. Другая связь Ориона с Критом, представление о которой сформировалось еще в древности, заключалась в том, что смерть охотника от укуса скорпиона и его восхождение на небо последовали именно на Крите. Связь охотника со скорпионом также является древней зодиакальной легендой, возникшей на основе очевидного астрономического наблюдения: при появлении на небе созвездия Скорпион, созвездие Ориона начинает заходить за горизонт. Этот миф отражен уже в сцене, украшающей чернофигурную вазу работы художника Никосфена. На вазе изображена охота на зайца — традиционное занятие Ориона, а под ловчей сетью, среди двух змей, притаился гигантский скорпион.
Согласно второму варианту легенды о рождении Ориона, он появился на свет от семени богов, собранного в бурдюке из бычьей шкуры. Здесь мы также имеем дело с игрой слов, которой и объясняется, как божественное семя попало в бурдюк. Эта легенда связана с местечком Гирия (Ὑρία), недалеко от Танагры в Беотии, и с местным героем Гириеем. Старик Гирией был бездетен, но однажды боги, завернувшие к нему в дом на ночлег, пообещали ему сына, который должен был родиться из воловьей шкуры. Они напустили в нее своего семени: здесь-то и перекликаются слова οὐρεῖν и Ὠρίων. Однако первоначально роль жизнетворной субстанции, наполнявшей кожаный бурдюк, играл мед. Название «Гирия» имеет отношение как к разведению пчел, так и к Криту: по свидетельству Гесихия, словом ὕρον критяне обозначали рой пчел или пчелиный улей. Следовательно, Гирия (Ὑρία) значит «место, где разводят пчел». Это название встречается часто. Согласно Геродоту, еще одна Гирия, называвшаяся также Урия (Ὑρία), была основана критянами в Апулии.⁶ Таким образом, хотя место рождения Ориона и полагалось за пределами Крита, оно сохраняло с ним связь через название, благодаря критскому значению которого эта легенда только и становится понятной.
_____________________________
[5] Ὠαρίων (-ωνος) ὁ Pind. = Ὠρίων
Ὠρίων (-ωνος) ὁ Орион
1) миф. беотийский гигант-зверолов, похищенный влюбленной в него Эос, а затем застреленный Артемидой Hom.
2) созвездие, восход которого после летнего солнцестояния возвещал наступление полосы гроз и ливней Hom., Hes., Arst.
[6] Ὑρία, ион. Ὑρίη ἡ Гирия
1) город в Беотии Hom.
2) город в Япигии, основанный критянами Her.
Итак, мы имеем дело с тремя группами преданий: с предписаниями по изготовлению опьяняющего медового напитка в пору предутреннего восхода Сириуса, с рецептом пробуждения пчел из превращенной в бурдюк бычьей туши и с легендой о рождении Ориона в «сосуде» из воловьей шкуры. Из этих удивительных преданий можно сделать один общий вывод: все они объясняются изготовлением из меда культового напитка в связи с предутренним восходом Сириуса — событием, которое во многих странах средиземноморского региона принималось за начало нового года. Помимо Египта и ведущих греческих центров, к этим странам принадлежал и минойский Крит. Подобным ритуалом объясняется и свидетельство о том, что в определенную ночь в одной из критской пещер был виден свет и что тогда же начинал изливаться медовый напиток. Возможно, эта ночь приходилась как раз на канун нового года, а свет мог исходить от освещавших пещеру мистериальных факелов. В приводимых нами греческих источниках не упоминается о связи этого ритyала с какой-то определенной пещерой. Вероятно, он был распространен на довольно обширной территории. Путеводной нитью, указывающей на соответствующие пещерные церемонии, нам служит тот факт, что некоторые места назывались Κώρυκος или носили названия, производные от этого слова. Согласно Гесихию, слово κώρυκος обозначало кожаный мешок, использовавшийся в качестве бурдюка (ἀσκός).⁷
2.5. Мифология кожаного мешка
Согласно легенде, охотники за медом увидели в пещере «Зевсовы пеленки».⁸ В наказание за нарушение священного запрета доспехи их раскололись. Рассказ о том, что в пещере сохранились пеленки, соответствует воззрениям греческой мифологии. Известно, что греки украшали священные фигуры и предметы узкими лентами-тениями (ταινία), тогда как в минойское время знаками особой святости служили широкие ленты связывавшиеся узлами. Подобные реквизиты, свидетельствовавшие о неприкосновенности места, и могли быть истолкованы как «пеленки». Однако они являлись только внешними атрибутами. В греческой мифологии часто упоминается о предмете, к которому ленты, вероятно, принадлежали: это был λῖκνον — корзина в форме веялки для зерна, служившая колыбелью не только для божественных, но и для смертных младенцев. Согласно одному из гомеровских гимнов, в килленийской пещере лежал запеленутый младенец Гермес. Каллимах в своем гимне к Зевсу соединил различные критские традиции: богиня Адрастея кладет маленького Зевса в золотой ликнон, И младенца кормит ее коза, а потом вместо молока он получает мед. Третий пример относится к Дионису. Вдохновенные жрицы «пробуждали» Диониса Ликнита (то есть «лежащего в ликноне») в пещере на горе Парнас, высоко над Дельфами (Плутарх. Об Исиде и Осирисе, ХХХV. 365). Пробуждение свершалось в ходе тайной церемонии: лишь упоминание Диониса в качестве «ликнита» свидетельствует о том, что он был положен в ликнон. Последний, в свою очередь, находился в пещере, о которой было известно, что «в определенное время от нее исходит желтое зарево», — очевидно от факелов, зажигавшихся во время ночного празднества в честь Диониса. Об этом празднестве повествуется и в одном из дельфийских гимнов. Однако название пещеры не содержит и намека на слово λῖκνον и на обозначаемый им предмет, который, согласно греческим воззрениям, служил превосходным вместилищем для божественного младенца. Пещера называлась Κωρύκιον ἄντρον — «Пещера кожаного мешка», и была не только в Греции, но и за ее пределами известнейшим из мест, название которых происходило от слова κώρυκος, обозначавшего тот самый кожаный бурдюк для изготовления медового напитка, о котором шла речь в связи с рождением Зевса в одной из критских пещер.
_____________________________
[7] Hesychius. S. v. Κώρυκος: θυλάκιον, ἔστι δὲ δερμάτινον ἀγγεῖον ἄσκοι — Κώρυκος: мешочек; кожаный сосуд, похожий на ἀσκός (кожаный мешок, используемый обычно как сосуд для питья).
[8] Antoninus Liberalis. Ор. cit. XIX. 2: τὰ τοῦ Διὸς εἶδον σπάργανα — они увидели пеленки Зевса.
Название Корикос (Κώρυκος) носил и мыс, которым на западе оканчивалось северное побережье Крита. До него можно было добраться из Кидонии — города с засвидетельствованным дионисийским культом. Кидония находилась в особой связи с Теосом (Τέος) — дионисийским городом в Малой Азии, где, по уверению его жителей, происходили регулярные вакхические чудеса: в определенное время прямо из почвы начинал бить источник с вином превосходного вкуса. Неподалеку от Теоса вздымалась высокая гора, также под названием Корикос.⁹ О вышеупомянутом мысе нам больше ничего не известно, так же как и о гавани с тем же названием, находившейся в Ликии, рядом с городом и горой Олимп. Более обширными сведениями мы располагаем о киликийском Корикосе — горе, городе и пещере. Как античные географы, так и путешественники Нового времени дивились двум большим пещерам, расположенным поблизости от турецкого портового города Коргоса. Они напоминают кратерообразные расщелины, подобно Поццо ди Сантулла — знаменитому «роднику Италии» в Коллепардо в Герникских горах. Римский географ Помпоний Мела (I в. н.э.) сообщает о дионисийском характере одной из этих расщелин: посетитель, оказавшийся во внутреннем гроте, мог услышать звуки цимбал (вакхического инструмента), доносившиеся от невидимой божественной процессии. В связи с другой, еще более глухой расщелиной во времена Мелы рассказывали легенду о кожаном мешке, который был якобы спрятан туда Тифоном, соперником Зевса. Едва ли это различие между пещерами было существенным для данного мифа, который имел хождение далеко за пределами коргосских пещер. Его мотивы прослеживаются даже за морем, в Сирии, свидетельствуя о периоде, когда на обоих побережьях были распространены одни и те же божества и мифы. Древнейшие вариации мифологической темы, к которой принадлежит сюжет с кожаным мешком, можно обнаружить и у хеттов, а «Великая Киликия» в начале I тыс. до н.э. играла, возможно, ведущую роль на территории бывшего Хеттского царства.¹⁰
_____________________________
[9] У Тита Ливия она называется Корик Пелорский (Тит Ливий. XXXVII. 12. 10).
[10] Позднее название Киликии сохранилось только за узкой полосой прибрежной территории. (Garstang J. The Hittite Empire. L., 1939. Р. 167).
На киликийском побережье Малой Азии и на склонах горы Касий поблизости от Угарита,¹¹ древняя культура которого была открыта в результате раскопок в сирийском Рас-Шамра, разыгрывалась, согласно греческим источникам, борьба между драконом Тифоном (Τυφῶν) и Зевсом. У хеттов, в свою очередь, бытовал миф, в котором змееподобное чудовище Иллуянка противостояло богу грозы. В сохранившихся крайне фрагментарно хеттских вариантах этого мифа о кожаном мешке ничего прямо не говорится; здесь речь идет о частях, которые были отняты от тела побежденного бога грозы, спрятаны, а затем снова ему возвращены. Иллуянка похитил у бога грозы сердце и глаза. Однако борьба, в которой чудовище одержало верх, отнюдь не требует использования кожаного мешка, так же как и священный ритуал консервации и пробуждения, в котором кожаный сосуд мог фигурировать в качестве вместилища, не подразумевает мифологической борьбы. Это противоборство — отдельный сюжет, который в Киликии и Сирии (как, возможно, и у хеттов) был связан с другой, еще более священной темой. В позднейшей версии хеттского мифа бросается в глаза, что похищенные у бога грозы сердце и глаза были возвращены ему лишь во втором поколении, благодаря браку сына бога грозы с дочерью Иллуянки. Миф буквально гласит: «Бог грозы наказывает своему сыну: "Когда ты пойдешь в дом своей жены, требуй у них [мое] сердце и [мои] глаза". Когда он пошел туда и потребовал сердце, ему отдали его. Затем он потребовал и глаза. Когда его облик снова стал таким же, как прежде, он отправился к морю, чтобы вступить в битву». Теперь бог грозы побеждает дракона. Однако из хеттского текста — случайно или из-за умысла рассказчика — нам не удается узнать, где Иллуянка вместе с дочерью спрятали похищенные органы. Иначе дело обстоит в переданной греческими источниками киликийской версии этого мифа, где место ближневосточного бога грозы и неба занимает Зевс. Согласно данной версии, сначала Зевс стал метать в дракона перуны, а сойдясь ближе, ударил его кривым мечом, который в этой стране традиционно считался оружием богов.
Однако на горе Касий битва приняла другой оборот. Дракон вырвал у Зевса меч и перерезал ему сухожилия (νεῦρα) на руках и ногах. «Подняв его на плечи, он перенес его затем через море в Киликию и, дойдя до Корикийской пещеры (Κωρύκιον ἄντρον), запер его в ней. Там же он спрятал и сухожилия, завернув их в шкуру медведя». Значит, дракон не только «перерезал» Зевсу сухожилия, как об этом рассказывает греческий автор! Он отделил от тела побежденного бога нечто такое, что потом было сохранено в медвежьей шкуре, то есть в кожаном мешке. Слово νεῦρον в греческом языке, так же как и nervus в латыни, обозначало в том числе и мужской половой член,¹² а множественное число (νευροί) здесь только скрывает подразумеваемое. Тот факт, что мешок был сделан из медвежьей шкуры, не просто является редкой архаической чертой, но отчасти обнаруживает истинное назначение сосуда. Повсюду, где обитает медведь, — а Малая Азия, пока там росли густые леса, входила в ареал его обитания, который позже сместился на Кавказ, — людям известно о его теснейшей связи с медом. Именно медведь по преимуществу считается «зверем, поедающим мед». Так, в славянских языках его называют словом, производным от слова «мед».¹³ В венгерском оно принимает форму medve и имеет единственное значение «медведь».
_____________________________
[11] Угарит — древний город-государство в Северной Финикии, населенный ханаанитами (семитами). Известен с нач. II тыс. до н.э.
[12] «По Орфею (Орфика. frg. 154), Ночь, внушая Зевсу хитрость, с которой был связан мед, говорит: «Когда же увидишь его под ветвистым дубом, от дел жужжащих пчел опьяневшего, свяжи его». Так и случилось с Кроносом. Связанный, он подвергся оскоплению, как и Уран. Теолог объясняет иносказательно, что божественные существа через наслаждение сковываются и низводятся медом в мир становления и что, обессиленные наслаждением, они теряют семя. Урана, пожелавшего брачного соединения и для того сошедшего к Гее, оскопляет Кронос. Это наслаждение брачным союзом объединяется для них со сладостью меда, с помощью которого хитростью был оскоплен и Кронос.» (Порфирий. О пещере нимф 16)
Не вдаваясь в детали и в попытки Порфирия объяснить смысл оскопления Кроноса, а ранее Урана, отметим тенденцию лишения верховной власти божества через оскопление. Тифон, вступая в противоборство с Зевсом, тоже покушается на верховную власть. И лишение Зевса сухожилий несколько выбивается из этого ряда, опирающегося, надо полагать на определенную традицию. Поскольку слово νεῦρα можно перевести не только как «сухожилие», но и как «фаллос», то очевидной становится позднейшая коррекция деталей мифа, связанных с потерей (хоть и временной) жизненной силы и власти, которая в архаической традиции происходила через оскопление.
[13] Медведь — это производное от μέδω + ἕδος («охраняющий территорию»). Этимология слова медведь подробно разобрана в теме Комоедицы.
В киликийской версии рассматриваемого мифа Зевс и его «сухожилия» охраняются драконицей Дельфиной. Гермес и Эгипан (Αἰγίπαν, «козлоногий Пан») выкрадывают их и возвращают Зевсу, который приобретает былую силу и побеждает чудовище. В связи с Дельфами сохранилось и предание о том, что один из отпрысков дельфийского дракона (который в данной ситуации называется Пифоном) носил имя Αἶξ¹⁴ (Плутарх. Греческие вопросы. ХII. 295), что указывает на присутствие в семействе Пифона существа, подобного упомянутому Эгипану. Но дельфийское чудовище называлось еще и Тифоном, причем в легендах оно встречается как в мужском, так и в женском обличии. Так, драконица Дельфина была во вражде с Аполлоном. В дельфийском поединке с драконом бог ни разу не терпит поражения. В Дельфах из всех богов временное бессилие могло приписываться лишь Дионису: его могилу показывали во внутреннем святилище храма, рядом с «Золотым Аполлоном».¹⁵ Здесь покоились его останки. «Чистые» (ὅσιοι) в определенное время приносили в святилище тайную жертву, а в пещере жрицы-фиады пытались пробудить Диониса-Ликнита (Λικνίτης). Итак, обнаруживается связь между мотивом мифологической борьбы и таинственным событием в Корикийской пещере, победой одного бога и пробуждением другого. Можно обратить внимание на то, что у дельфийского дракона, как и у хеттского чудовища, были отпрыски. Нет сомнений, что первоначально речь шла об одном и том же противоборстве. Событие, происходившее в Корикийской пещере, доказывало, что божество лишь временно утратило силу, в действительности оставаясь непобежденным. В Дельфах, как и в других центрах своего культа, Дионис занял место более древнего образа неиссякаемой жизни (ζωή), который в определенном смысле уже и 6ыл Дионисом — однако не под знаком вина, а под знаком меда. Примечательно, что в гомеровском гимне к Гермесу повествуется о трех древних прорицательницах, от которых Аполлон научился искусству предсказания, так, будто они были пчелами (Гомеровские гимны. К Гермесу, 552), а сама Пифия, прорицательница в храме Аполлона, именуется «дельфийской пчелой» (Пиндар. Пифийские оды. IV. 60).
_____________________________
[14] αἶξ, αιγός ἡ (эп. dat. pl. αἴγεσιν) коза (редко ὁ αἴξ козел) Hom., Arst., Plut.
[15] Золотая статуя Аполлона стояла в святая святых храма (Павсаний. Х. 24. 5). Считалось, что могила Диониса представляет собой βάθρον своего рода порог или ступень перед треножником.
Итак, следует допустить, что к северу от Крита — на территории, простиравшейся от Сирии и Киликии вплоть до Дельф, — и прежде всего на самом Крите существовали культовые пещеры, где к определенному празднеству в кожаном мешке или бурдюке готовился опьяняющий напиток из меда. На основании данных, сообщаемых об изготовлении медового напитка Плинием, а также на основании мифологического рецепта пробуждения пчел мы можем заключить, что речь идет о празднестве нового года, которое отмечалось с наступлением предутреннего восхода Сириуса и которому предшествовал подготовительный период продолжительностью примерно в сорок дней. Относительная хронология культуры говорит в пользу того, что эта традиция уже существовала, прежде чем на Крите, в Греции и в Малой Азии начали возделывать виноград. Нельзя исключить, что на Крите она возникла раньше, чем в других странах, учитывая географическое положение острова и его древние связи с Египтом. Однако из Нижнего Египта, с которым на Крите уже очень рано было установлено сообщение, можно вывести лишь астрономическую подоплеку этого празднества, а отнюдь не то обстоятельство, что его ареной были пещеры. Вопрос о том, имел ли этот астрономический период аналогичное значение в культах Сирии и Малой Азии, пока следует оставить открытым. Представляется, однако, вероятным что взаимосвязь двух рассмотренных тем — поединка с драконом и ритуала, в котором немаловажную роль играл кожаный мешок, — зародилась в Передней Азии и что эта расширенная «мифология кожаного мешка» достигла Дельф с Востока. Это не исключает того, что сам ритуал пришел в Дельфы с Крита: еще в гомеровском гимне к Аполлону сохранилось свидетельство о критских жрецах, принимавших участие в дельфийском культе. Но и ритуал, в свою очередь, мог попасть на Крит из прилегающих регионов — быть может, еще в III тыс. до н.э., до начала среднеминойского периода, когда на Крите сложилась развитая дворцовая культура.
Итак, мы провели своего рода серию археологических разысканий. Там, где мы обнаружили следы Диониса, они не принадлежали к самому глубокому мифологическому слою. Таинство жизни, символизируемое медом и его брожением, обладало собственными религиозными формами, которые впоследствии перешли в религию Диониса, однако на какое-то время были переняты также религией Зевса. Различие заключается в том, что разделительная линия между религией Зевса и этой древнейшей религией более отчетлива и в большей степени затрагивает сущность божества, чем линия, отделяющая религию Диониса от древнейших мифов и культов неиссякаемой жизни (ζωή). В последнем случае нередко можно установить лишь временную последовательность. Когда мы говорим: «еще в третьем» или «уже во втором тысячелетии до н.э.», мы имеем в виду лишь относительную хронологию. Заметнее всего эта относительность проявляется в том, что уже критская дворцовая культура была связана с возделыванием винограда. Своего рода символическое преломление истории религии и культуры нашло выражение в том факте, что во время раскопок в старом Фестском дворце среди прочего были найдены и виноградные косточки — семя vitis vinifera Mediterranea.
_______________________________
|
Метки: Дионис Греция Сириус Гелиакический восход Сириуса |
Понравилось: 1 пользователю
ИАКХ |
Карл Кереньи
ДИОНИС. ПРОБРАЗ НЕИССЯКАЕМОЙ ЖИЗНИ
ЧАСТЬ I
З. З. Иакар и Иакх
После того как в Египте предутренний восход Сириуса отмечал наступление нового года, постепенный подъем воды в Ниле указывал на приближение более благоприятного сезона.¹ Вместе с тем это был период ужасной жары: в высшей степени амбивалентное время! Так же дело обстояло на Крите и в Греции (с той лишь разницей, что там не было разливов Нила). Жара была нестерпимой, поэтому звезда, с появлением которой она начиналась, считалась сулящей несчастье. Однако время это было таинственным образом благоприятным. По-гречески оно называлось ὀπώρα — это слово нелегко перевести, поскольку помимо определенного сезона оно обозначало еще и созревавшие тогда же плоды.² Гомер называет Сириус «псом Ориона» (κύων Ὠρίωνος). В качестве альфы Большого пса (α Canis Majoris) Сириус принадлежал великому охотнику, чья гигантская фигура уже несколько месяцев царила на небосклоне, оставаясь там до тех пор, пока его не настигал Скорпион (созвездие). Вся амбивалентность этой звезды выражена в сравнении из двадцать второй песни «Илиады». Здесь описывается появление Ахилла.
Ὀπώρα, символом которой, согласно Гомеру, был Сириус (ἀστήρ ὀπωρινός) переходила в осень как раз тогда, когда Сириус в первый раз появлялся на небе в вечерних сумерках. Длительность этого сезона составляла около пятидесяти дней, начиная со второй половины июля и до середины сентября, когда положение Ориона посреди неба и предутренний восход Арктура, согласно Гесиоду, служили знаком того, что пора начинать сбор винограда. В «Законах» Платона говорится о двух дарах этого времени: во-первых, о плодах, предназначенных для хранения, и, во-вторых, о чем-то более возвышенном — дионисийской радости, которую сохранить не так-то просто.³ Дионисийским, или даже самим Дионисом, является, согласно Пиндару, «чистый свет высокого лета».⁴ Художник VI века начертал на чернофигурной вазе рядом с Дионисом-младенцем, только что появившимся на свет из бедра Зевса: Διὸς φῶς — «свет Зевса». Этот свет первоначально был светом лучей Сириуса и даром, сокрытым в зеленеющих лозах, — даром амбивалентной звезды.
________________________________
[1] Год в Египте делился на три сезона. Начинался год с половодья. Сезон разлива Нила назывался ахет (ȝḫt). Когда вода отступала, освобождая залитые земли, начинался с/х сезон перет (prt, «всходы»). Год заканчивался сезоном сбора урожая шему (šmw, «засуха»).
[2] ὀπώρα, ион. ὀπώρη ἡ
1) конец лета или ранняя осень (третье из семи времен года греч. календаря — между θέρος и φθινόπωρον, т.е. конец июля, август и начало сентября, от восхождения Сириуса до восхождения Арктура);
ex.: ἀστήρ (Σείριος), ὅς ῥά τ' ὀπώρης εἶσιν Hom. — звезда Сириус, которая восходит поздним летом.
2) время сбора плодов (ἐπ' ὀκτὼ μῆνας Κυρηναίους ὀ. ἐπέχει Her.);
3) возмужалость, расцвет юности Pind., Aesch.
4) плоды Soph., Plat. (ὀ. Βακχίας ἀπ' ἀμπέλου Soph. — виноград).
[3] τὴν παιδιὰν Διονυσίαδα ἀθησαύριστον Plat. — непригодная для запаса дионисова забава (т.е. непригодный для долгого хранения виноград).
[4] Пиндар, fr. 140 Bowra:
Представляется, что еще до того, как с юга в Грецию пришел Дионис, там довольствовались собственным мифом о легендарном царе — изобретателе виноделия. Однако подлинным дарителем лозы и здесь выступал Сириус. Уже в те времена виноградная лоза имела свой миф о происхождении, которым, на основании смены созвездий на небе, она была обязана псу Ориона. Родиной этого мифа были Этолия, расположенная на западе греческого полуострова, и граничившая с ней страна западных локров — отдаленные от Крита гористые местности. Ионийский логограф Гекатей Милетский переделал этот миф в генеалогическое сказание. Согласно последнему, дикий охотник (это качество нашло выражение в его созвучном Ориону имени Оресфей — «человек с гор»),⁵ сын прародителя людей Девкалиона, пришел в Этолию в поисках царства. Его собака родила кусок дерева. Он закопал его в землю, решив, что это был выкидыш. Вскоре выяснилось, что рождена была первая виноградная лоза — дар небесного Пса, собаки Ориона, облик которого можно угадать в «диком охотнике». После этого события охотник назвал своего сына Фитием (Φυτιύς, «Сеятель»).⁶ Сыном Фития, в свою очередь, был Ойней (Οἰνεύς), получивший свое имя от слова οἴνη (виноградная лоза»). Согласно другой версии этого мифа, содержащей уже явные заимствования из дионисийского культа, в Ойнеевом стаде был козел, который часто пропадал из стада и возвращался обратно сытым. У царя служил пастух с именем, похожим на имя охотника из древнего сказания.⁷ Этот пастух выяснил, что козел питался от виноградной лозы, полной спелых гроздьев, и царь Ойней, таким образом, стал первым человеком, научившимся делать из плодов винограда вино. Тем не менее все сказания свидетельствуют о том, что и здесь дело не обошлось без вмешательства Диониса! Когда бог удостоил визитом царя, а точнее его супругу царицу Алфею — подобно тому, как он ежегодно являлся в Афины к супруге носителя царского имени (ἄρχων βασιλεύς), — Ойней почтительно удалился и был вознагражден за это даром виноделия (Гигин. Мифы. 129). В той простейшей и, вероятно, первоначальной форме, в которой этот миф сохранился у локров, речь шла не о каком-то особенном культурном герое по имени Ойней, а лишь об охотнике Оресфее и его собаке. Из рожденного ею корня проросли не просто лозы, но и — в облике побегов (ὄζοι) — первые люди этого племени, озольские локры (Павсании. Х. 38. 1).
________________________________
[5] Имя Ὀρεσθεύς не может быть прочитано как «человек с гор». Допустимы варианты: «обитающий в горах», либо «божество горы» (ὄρεος θεός).
ὦρος (-εος) τό дор. Theocr. = ὄρος
ὄρος, ион. οὖρος (-εος) τό гора, возвышенность Hom., Xen., Plat.
Ὀρεσθεύς — царь озольских локров (Οζολίας Λοκρίδας) в Этолии, сын Девкалиона и Пирры, отец Фития.
Ὠρίων (-ωνος) ὁ Орион, миф. беотийский охотник, похищенный влюбленной в него Эос, а затем застреленный Артемидой Hom.
ὀρεστιάς (-άδος) adj. f живущая в горах, горная (Νύμφαι Hom.).
[6] φιτύω — сажать, сеять, перен. производить на свет, рождать (γένος νέον Aesch.; τέκνα Soph.; παῖδα Plat.).
φυτεύω тж. med. сажать, насаждать.
Φυτία ἡ Фития (город в Этолии) Thuc.
[7] Согласно одним источникам, он носил имя «Ориста» (Первый Ватиканский мифограф. 1. 87), согласно другим — имя «Стафил», образованное от σταφυλή — «виноградная гроздь». (Servius. Commentarii in Vergilii Georgica. II. 1)
Лишь постепенно этот миф превратился в чисто дионисийское священное предание. Вполне возможно, что имя Оресфей и обыкновенный охотник были подставлены на место Ориона только Гекатеем или незадолго до него. По своему происхождению Орион принадлежал еще к эпохе пчеловодства (о чем свидетельствует его рождение из кожаного мешка), и его связь с виноделием была далеко не столь однозначной, как в случае с Дионисом. На острове Хиос у царя Ойнопиона (который сначала, видимо, был таким же легендарным героем — изобретателем виноделия, как и Ойней, и только потом превратился в сына Диониса) Орион вел себя как существо доисторического времени, не знакомое с вином, за что и поплатился. В наказание за распутство, вызванное опьянением, он был ослеплен Ойнопионом (Οἰνοπίων).⁸ Мы помним, что Аристей, принадлежавший, в отличие от Ориона, к следующему культурно-историческому слою — между медом и вином, приказал на острове Кеос встречать утренний восход Сириуса танцем в вооружении. Однако вместе с тем он сделал все, чтобы смягчить вредоносное влияние звезды, распространявшееся с появлением на небосклоне Большого Пса. За морем, в Египте, в связи с этим тоже происходило нечто особенное, а на минойском Крите, по-видимому, были свои охранительные ритуалы.
________________________________
[8] Οἰνοπίων (-ωνος) ὁ Энопион (сын Вакха или Радаманта, миф. царь Хиоса) Plut., Luc.
οἴνη, дор. οἴνα ἡ 1) виноградная лоза Hes.; 2) вино Anth.
πιών (-οῦσα, -όν) part. aor. 2 к πίνω
πίνω — пить, выпивать
В Кноссе нам встречается имя i-wа-kо, которое по-гречески может читаться как Ἰακός, Ἰαχός или даже Ἴακχος, а в Кноссе и Пилосе часто принимает форму i-wa-ka. Возможно, что с этим именем связано на первый взгляд совершенно чужеродное для греческого языка слово Ἰακάρ — одно из названий Сириуса.⁹ В качестве пояснения к этим двум именам — Ἰακάρ и Ἴακχος — можно привести одну египетскую историю. При царе Сениесе жил якобы благочестивый и мудрый египтянин, которого звали Iachen или Iachim. Возможно, этот человек был священной фигypой. О нем рассказывалось, что при помощи огня ему удалось смягчить огненную силу восходящего в предутренних сумерках Сириуса и тем самым остановить разразившиеся было эпидемии. После его смерти у его гробницы было построено святилище, а жрецы, совершив соответствующие жертвенные ритуалы, брали с его алтаря огонь, пытаясь достичь аналогичного результата. Очевидно, в Египте имел место обряд обнесения огня, направленный на то, чтобы отвратить вредоносную силу звезды.
________________________________
[9] Ἰακάρ ὁ κύων ἀστήρ (Hesychius. S.v.) — Иакар, звезда-собака.
Благодаря Дионису этот огонь превращался в «чистый свет высокого лета». В качестве сына бога неба его принимали за «свет Зевса». Греческое прилагательное Ἰαχρός, встречающееся только в «Лексиконе» Гесихия, согласно последнему означает «того, кто осенен ясным светом Зевса».¹⁰ Конкретным воплощением этого света был факел, влагавшийся в руку священной фигуры — двойника Диониса. Его имя, образованное от того же корня, что и два вышеприведенных минойских имени,¹¹ приобрело свою окончательную форму Ἴακχος не иначе как через эмфатический возглас (ἴακχος),¹² вместе с которым оно выкрикивалось участниками дионисийской процессии. Об одном только обожествлении возгласа не может быть и речи. Ведь у греческого Иакха были две характерные особенности: его не только призывали громким и многократно повторяющимся возгласом, он был еще и факелоносцем. В фигуре Иакха сохранилась связь Диониса с огнем и светом. «Дионисийское оружие — это огонь», — говорит Лукиан (Лукиан. Вакх. III). Вакханки были способны нести огонь у себя на голове (Еврипид. Вакханки, 757). В Софокловой «Антигоне» хор взывает для исцеления пораженных недугом Фив к Дионису — «водителю огненных звезд» (Софокл. Антигона, 1146). Точно так же он мог бы взывать и к настоящей звезде, сверкающей на небе. Однако хор славит Диониса как «Иакха, подателя благ» (ταμίαν Ἴακχον) — то есть как подателя дионисийских даров, расточаемых им ежегодно.
________________________________
[10] εὐδιεινός (Hesychius. S.v. Ἰαχρόν).
εὐδιεινός 2
1) спокойный, тихий, ясный (γαλήνη Plat.);
2) мягкий, теплый (ζέφυρος Arst.);
3) укрытый от ветра, подветренный (τόποι Arst.);
4) предвещающий ясную погоду (σημεῖον Arst.).
[11] Своей фонетической формой они отличаются от гомеровского ἰαχή, ἰάχω, позднее также ἰαχέω, первоначально еще и с υ- в первом слоге.
ἰαχή, иногда ἰακχή, дор. ἰαχά ἡ
1) крик, шум (θεσπεσίῃ ἰαχῇ Hom. — с ужасным криком);
2) вопль, плач (πολύδακρυς Aesch.);
3) возглас ликования, радостный крик (παμφώνων ὑμεναίων Pind.).
ἰάχω (aor. iter. ἰάχεσκον, pf. ἴαχα)
1) кричать (Ἀργεῖοι μέγα ἴαχον Hom.);
2) восклицать, провозглашать (τινί Anth.);
3) объявлять, возвещать (ἰ. λογίων ὁδόν τινι Arph. — объявить кому-л. смысл прорицаний);
4) петь (ἀοιδήν HH.);
5) воспевать (Ἀπόλλω Arph.)
6) звенеть, гудеть (περὴ ἴαχε πέτρη Hom. — загудели окрестные скалы);
7) шуметь, бушевать (ἀμφὴ κῦμα στείρῃ ἴαχε Hom. — вокруг киля бурлило море; ἴαχε πῦρ Hom. — огонь забушевал);
8) трещать, шипеть.
ἰαχέω, иногда ἰακχέω
1) (тж. ἰ. φωνῇ HH.) поднимать голос, кричать;
2) запевать, петь (ὕμνον Aesch.; αἴλινον, μέλος Eur.; ἀοιδάν Arph.);
3) причитать, оплакивать (νέκυν ὀλόμενον Eur. — v. l. ἀχέω).
[12] ἴακχος ὁ
1) крик, вопль, оплакивание (νεκρῶν Eur.);
2) гимн в честь Иакха (ὁ μυστικὸς ἴ. Her.)
ἰακχή Aesch., Eur. = ἰαχή
ἰακχέω Soph., Eur. = ἰαχέω
Этот аспект Диониса восходит к его минойскому прошлому, когда он еще находился в связи с пламенеющим началом года Сириуса. В Афинах к концу сезона ὀπώρα устраивалась особая процессия, участники которой несли статую Иакха-факелоносца. Эта процессия являлась преддверием к Большим Элевсинским мистериям, во время которых, уже в период сбора винограда, в подземном царстве рождался божественный младенец. Аристофан в «Лягушках» называет Иакха «ночных хороводов пламеносцем».
Комедиограф вывел дионисийскую процессию на сцену в качестве шествия блаженных на Елисейских полях. К I в. до н.э. относится сообщение о том, что мистерии, свидетелями которых в Элевсине могли стать только посвященные, в Кноссе были открыты для всех желающих. Даже в Афинах процессия со статуей Иакха и призывающими Иакха возгласами не могла удерживаться в полном секрете. Между табличками с минойскими именами и упомянутым сообщением о соответствующих ритуалах в Кноссе пролегло более тысячелетия. Не меньший период отделяет и появление в Кноссе священного имени pa-ja-wo (греч. Παιάων)¹³ от того времени, когда в Дельфах и по всей Греции стал раздаваться возглас Παιάν. Однако в последнем случае мы располагаем гораздо большим числом свидетельств начиная уже с Гомepa.
________________________________
[13] παιάων (-ονος) ὁ дор. = παιάν
παιάν (-ᾶνος), эп. παιήων (-ονος), дор. παίαων (-ονος), атт. παιών (-ῶνος) ὁ пэан — хоровой гимн, благодарственный, победный, военный, умилостивительный или скорбный, преимущ. в честь Аполлона, реже Артемиды и других (παιᾶνα ποιεῖσθαι Xen. — петь пэан);
Παιάν (-ᾶνος), эп. Παιήων (-ονος), атт. Παιών (-ῶνος) ὁ
1) Пэан (бог-целитель, после Гомера отождествлялся преимущ. с Аполлоном, реже с Асклепием и др.);
ex.: Παιήονος γενέθλη Hom. — сыны Пэана, т.е. врачи.
2) целитель, избавитель (Θάνατος Π. Eur.).
ЧАСТЬ II
1.3. Пути прибытия Диониса в Аттику
Икарионский миф отмечен в высшей степени древними чертами, и неверно было бы предполагать, что только Эратосфен связал его с прибытием Диониса как культурного героя, научившего людей виноградарству и виноделию. Этот культурный герой изначально уже мог носить имя Икарий.
Гористый остров Икарос (Ἴκαρος), или Икария (Ἰκαρία), в Икарийском море (так называлась часть Эгейского моря, омывавшая побережье малоазийской страны Карии) считался одним из мест рождения Диониса (HH. XXXIV. К Дионису). Отчетливо прослеживается связь острова с богом виноделия: главный город Икароса назывался Ойноя (Οἰνόη, «винный город»), а вино всегда оставалось основным из производимых там продуктов. Существовала легенда о приключениях Диониса на море, когда он попал в плен к тирренским морским пиратам. Таким образом, воспоминание о прибытии Диониса морем продолжало еще жить в период возникновения гомеровских гимнов. По одной из версий, похищение произошло, когда Дионис держал путь с острова Икарос на остров Наксос. Тем самым утверждался приоритет Икароса как дионисийского острова перед Наксосом. Нет ничего необычного и смелого в предположении, что культурный герой, принесший с собой виноделие, пришел с острова Икарос и основал в Аттике Икарион еще до того, как страна была полностью эллинизирована.
В пользу догреческого происхождения этого слова говорят колебания в фонетическом ряду: Ἴκαρος, Ἰκάριος, Ἰκαρία, Ἴκαριον. Особенно подверженной колебаниям представляется первая гласная; вторая может быть как краткой, так и долгой. Название острова записывалось также как Ἔκαρος и Ἔκκαρος, а в икарионских надписях в Аттике первая гласная иногда даже опускается: вслед за Дионисом регулярно упоминается некто Карий или даже Кар, получавший приношения для дионисийского культа. В V в. до н.э., когда появились эти надписи, таким именем могли называть только некоего «карийца», однако, раз он упоминается после Диониса, им не мог быть «Зевс Карий», то есть карийский Зевс. Скорее всего, это был герой дема, который наряду с гомеровским по форме именем Икарий (у Гомера так звали отца Пенелопы) сохранил и свое старое, более привычное имя, свидетельствовавшее о его иноземном происхождении.
Согласно прежним рассуждениям о Сириусе и о связи Диониса с этой звездой, аналогичная связь в случае с Икарием уже не кажется очередной выдумкой, измышлением эллинистического поэта; она тоже должна быть довольно древней. В мифе, переработанном Эратосфеном, Сириус появляется в образе собаки Майры, имя которой означает «сверкающая» — весьма подходящий эпитет для этой звезды.¹⁴ Собака находит мертвое тело Икария, вернее сказать, то место, где он уже давно лежал, погребенный убийцами. У Эратосфена вся история приобретает исключительно трагическую окраску и разрешается не совсем обычно: все трое — отец, дочь и собака — превращаются в созвездия. Дочь убитого героя звали Эригона, и в истории она играет значительную роль. Трагедия началась с того момента, когда Икарий стал распределять дарованное ему Дионисом вино. Он возил наполненные вином меха на повозке, запряженной волами, по гористым районам Аттики, население которых тогда состояло из диких пастухов. Те, напившись допьяна, решили, что их отравили (видимо, это измененное толкование, сначала речь шла только о легком опьянении), и убили Икария. Протрезвев, они решили скрыть мертвое тело: в позднейших фрагментах об этом рассказывается по-разному, но в первоначальной версии труп был закопан в землю. Сопровождаемая Майрой, Эригона в полном отчаянии скиталась, разыскивая своего отца. Формально миф об Эригоне повторял миф о поиске Осириса Исидой. Однако едва ли этот образ был создан лишь творческой фантазией александрийского поэта: ведь Эригону исстари называли «Алетида» (скиталица). Обе они — дочь, блуждающая в поисках отца, и собака, нашедшая его тело, — с давних пор принадлежали друг другу.
________________________________
[14] Согласно Гесихию слово μαῖρα происходит от глагола μαρμαίρειν (сверкать), в свою очередь происходящего от μαιριῆν (τὸ κακῶς ἔχειν) — «страдать», слово, якобы, тарентского диалекта (Hesychius. S.v. Μαῖρα).
μαρμαίρω (только praes.) — блистать, сверкать, гореть как жар (χαλκῷ, σὺν ἔντεσι Hom.; ἄστροισι Aesch.);
μαῖρα, ион. μαίρη ἡ звезда Сириус Anth.
В первоначальном мифе эта история использовалась с целью пояснения происхождения винодельческой культуры: на месте, где был похоронен Икарий, выросла виноградная лоза, которая со временем превратилась в дерево (Гигин. Астрономия. II. 4). В другом архаическом мифе виноградная лоза была даже порождением собаки-Сириуса. А согласно древнейшему мифу икарийцы познакомились с вином следующим образом: они убили явившегося к ним чужестранца, не признав в нем бога вина. Однако убитый являл собой прототип дионисийской жертвы и умирал только мнимой смертью. Эригона была его спутницей, то есть первой дионисийской женщиной. Из его трупа проросла первая виноградная лоза,¹⁵ которая в некотором смысле была подарком собаки, при помощи которой Эригона нашла отца.
________________________________
[15] Сравн. с «проросшим Осирисом» — фигурками, изображающими Осириса, наполненными илом, вперемешку с зерном. Проросшие зерна свидетельствовали о воскрешении бога. Гробница Осириса так же изображалась обильно поросшая зеленью, либо рядом с ней растет дерево, на котором сидит душа Осириса в виде феникса. Иногда дерево прорастает через гробницу, обвив ее своими ветвями и корнями. Как и Дионису, Осирису посвящали виноградную лозу и плющ. Плутарх в трактате «Об Исиде и Осирисе» пишет: «эллины посвящают Дионису плющ, а у египтян, по слухам, он называется хеносирис (χενόσιρις), и это имя, как говорят, означает "побег Осириса"».
Миф нельзя отделять от ритуала, один есть выражение другого: слово, претворенное в действие, и действие, претворенное в слово. В данном случае это был ритуал, который дарители виноградной лозы и вина, кем бы они ни были и откуда бы они изначально ни происходили, передавали будущим виноградарям той или иной области. В ритуале место бога занимало животное; в Икарионе это был козел. Следовательно, есть основание утверждать, что здесь в зародыше уже существовала трагедия. Разбросанные повсюду зеленые виноградники и благочестивость опьяненных вином людей между тем обеспечивали трагическому мифу благополучный исход.
Нет ничего невероятного в предположении, что бог вина, прибывший извне, претерпел раздвоение на две фигуры: на бога и героя, на Диониса и Икария. Такая реконструкция мифологического процесса позволяет выяснить все детали, нашедшие отражение в традиции. У ранних интерпретаторов этого мифа, еще до Эратосфена, хуже всего обстояло дело с мифической спутницей бога — Эригоной (Ἠριγόνη), которая была не кем иным, как Ариадной из Икариона и Афин. В соответствии со своим именем («рожденная на рассвете»)¹⁶ она, очевидно, была воплощением Великой Богини из Браврона (Βραυρών), которая под именем Артемиды являлась богиней луны. В первой фазе своего воплощения она восходит на рассвете, почти или совсем не видимая, однако встречаемая с не меньшим почтением. Поэтому в генеалогии героев, послужившей богатым материалом для античной трагедии, Эригона стала сводной сестрой Ифигении (Ἰφιγένεια), которая также была ипостасью Артемиды, дочерью Клитемнестры и Агамемнона. Согласно одной из поздних трагедий, Эригона, аналогично героине, почитаемой девушками в Бравроне, была даже возвышена Артемидой до положения ее жрицы в Аттике (Гигин. Мифы. 122). Именно богиня из Браврона в одной из своих ипостасей при появлении Диониса сразу выступила на его стороне. Она была вовлечена в его миф, предполагавший участие женского божества; таковой являлась роль страдающей и счастливой Ариадны.¹⁷ Подходящей для этого стала ипостась «Алетиды», поскольку под «скиталицей» В архаическом мифе понималась богиня луны.
________________________________
[16] Ἠριγόνη ~ ἦρι (ἔαρ, «утро») + γονή («рождение»).
[17] Ἀριάδνη, дор. Ἀριάδνα ἡ Ариадна, дочь Миноса и Пасифаи, покинутая Тесеем на Наксосе; впоследствии жена Вакха Hom., Hes., Theocr., Plut.
_______________________________
ДИОНИС. ПРОБРАЗ НЕИССЯКАЕМОЙ ЖИЗНИ
ЧАСТЬ I
З. З. Иакар и Иакх
После того как в Египте предутренний восход Сириуса отмечал наступление нового года, постепенный подъем воды в Ниле указывал на приближение более благоприятного сезона.¹ Вместе с тем это был период ужасной жары: в высшей степени амбивалентное время! Так же дело обстояло на Крите и в Греции (с той лишь разницей, что там не было разливов Нила). Жара была нестерпимой, поэтому звезда, с появлением которой она начиналась, считалась сулящей несчастье. Однако время это было таинственным образом благоприятным. По-гречески оно называлось ὀπώρα — это слово нелегко перевести, поскольку помимо определенного сезона оно обозначало еще и созревавшие тогда же плоды.² Гомер называет Сириус «псом Ориона» (κύων Ὠρίωνος). В качестве альфы Большого пса (α Canis Majoris) Сириус принадлежал великому охотнику, чья гигантская фигура уже несколько месяцев царила на небосклоне, оставаясь там до тех пор, пока его не настигал Скорпион (созвездие). Вся амбивалентность этой звезды выражена в сравнении из двадцать второй песни «Илиады». Здесь описывается появление Ахилла.
__________…словно звезда окруженного блеском;
Словно звезда, что под осень с лучами огниcтыми всходит
И, между звезд неисчетных горящая в сумраках ночи
(Псом Ориона ее называют сыны человеков),
Всех светозарнее блещет, но знаменьем грозным бывает;
Злые она огневицы наносит смертным несчастным…
Ὀπώρα, символом которой, согласно Гомеру, был Сириус (ἀστήρ ὀπωρινός) переходила в осень как раз тогда, когда Сириус в первый раз появлялся на небе в вечерних сумерках. Длительность этого сезона составляла около пятидесяти дней, начиная со второй половины июля и до середины сентября, когда положение Ориона посреди неба и предутренний восход Арктура, согласно Гесиоду, служили знаком того, что пора начинать сбор винограда. В «Законах» Платона говорится о двух дарах этого времени: во-первых, о плодах, предназначенных для хранения, и, во-вторых, о чем-то более возвышенном — дионисийской радости, которую сохранить не так-то просто.³ Дионисийским, или даже самим Дионисом, является, согласно Пиндару, «чистый свет высокого лета».⁴ Художник VI века начертал на чернофигурной вазе рядом с Дионисом-младенцем, только что появившимся на свет из бедра Зевса: Διὸς φῶς — «свет Зевса». Этот свет первоначально был светом лучей Сириуса и даром, сокрытым в зеленеющих лозах, — даром амбивалентной звезды.
________________________________
[1] Год в Египте делился на три сезона. Начинался год с половодья. Сезон разлива Нила назывался ахет (ȝḫt). Когда вода отступала, освобождая залитые земли, начинался с/х сезон перет (prt, «всходы»). Год заканчивался сезоном сбора урожая шему (šmw, «засуха»).
[2] ὀπώρα, ион. ὀπώρη ἡ
1) конец лета или ранняя осень (третье из семи времен года греч. календаря — между θέρος и φθινόπωρον, т.е. конец июля, август и начало сентября, от восхождения Сириуса до восхождения Арктура);
ex.: ἀστήρ (Σείριος), ὅς ῥά τ' ὀπώρης εἶσιν Hom. — звезда Сириус, которая восходит поздним летом.
2) время сбора плодов (ἐπ' ὀκτὼ μῆνας Κυρηναίους ὀ. ἐπέχει Her.);
3) возмужалость, расцвет юности Pind., Aesch.
4) плоды Soph., Plat. (ὀ. Βακχίας ἀπ' ἀμπέλου Soph. — виноград).
[3] τὴν παιδιὰν Διονυσίαδα ἀθησαύριστον Plat. — непригодная для запаса дионисова забава (т.е. непригодный для долгого хранения виноград).
[4] Пиндар, fr. 140 Bowra:
Да умножит древесную поросльПоследнюю строчку можно интерпретировать двояко: ἁγνὸν φέγγος ὀπώρας может относиться как к Дионису — тогда «чистым светом высокого лета» будет сам бог, — так и к δενδρέων νομὸν — садам, которые Дионис должен заставить расти, источая «чистый свет позднего лета». В обоих случаях, непосредственно или опосредствованно, свет исходит от него.
Добрый Дионис,
Чистый светоч позднего лета…
Представляется, что еще до того, как с юга в Грецию пришел Дионис, там довольствовались собственным мифом о легендарном царе — изобретателе виноделия. Однако подлинным дарителем лозы и здесь выступал Сириус. Уже в те времена виноградная лоза имела свой миф о происхождении, которым, на основании смены созвездий на небе, она была обязана псу Ориона. Родиной этого мифа были Этолия, расположенная на западе греческого полуострова, и граничившая с ней страна западных локров — отдаленные от Крита гористые местности. Ионийский логограф Гекатей Милетский переделал этот миф в генеалогическое сказание. Согласно последнему, дикий охотник (это качество нашло выражение в его созвучном Ориону имени Оресфей — «человек с гор»),⁵ сын прародителя людей Девкалиона, пришел в Этолию в поисках царства. Его собака родила кусок дерева. Он закопал его в землю, решив, что это был выкидыш. Вскоре выяснилось, что рождена была первая виноградная лоза — дар небесного Пса, собаки Ориона, облик которого можно угадать в «диком охотнике». После этого события охотник назвал своего сына Фитием (Φυτιύς, «Сеятель»).⁶ Сыном Фития, в свою очередь, был Ойней (Οἰνεύς), получивший свое имя от слова οἴνη (виноградная лоза»). Согласно другой версии этого мифа, содержащей уже явные заимствования из дионисийского культа, в Ойнеевом стаде был козел, который часто пропадал из стада и возвращался обратно сытым. У царя служил пастух с именем, похожим на имя охотника из древнего сказания.⁷ Этот пастух выяснил, что козел питался от виноградной лозы, полной спелых гроздьев, и царь Ойней, таким образом, стал первым человеком, научившимся делать из плодов винограда вино. Тем не менее все сказания свидетельствуют о том, что и здесь дело не обошлось без вмешательства Диониса! Когда бог удостоил визитом царя, а точнее его супругу царицу Алфею — подобно тому, как он ежегодно являлся в Афины к супруге носителя царского имени (ἄρχων βασιλεύς), — Ойней почтительно удалился и был вознагражден за это даром виноделия (Гигин. Мифы. 129). В той простейшей и, вероятно, первоначальной форме, в которой этот миф сохранился у локров, речь шла не о каком-то особенном культурном герое по имени Ойней, а лишь об охотнике Оресфее и его собаке. Из рожденного ею корня проросли не просто лозы, но и — в облике побегов (ὄζοι) — первые люди этого племени, озольские локры (Павсании. Х. 38. 1).
________________________________
[5] Имя Ὀρεσθεύς не может быть прочитано как «человек с гор». Допустимы варианты: «обитающий в горах», либо «божество горы» (ὄρεος θεός).
ὦρος (-εος) τό дор. Theocr. = ὄρος
ὄρος, ион. οὖρος (-εος) τό гора, возвышенность Hom., Xen., Plat.
Ὀρεσθεύς — царь озольских локров (Οζολίας Λοκρίδας) в Этолии, сын Девкалиона и Пирры, отец Фития.
Ὠρίων (-ωνος) ὁ Орион, миф. беотийский охотник, похищенный влюбленной в него Эос, а затем застреленный Артемидой Hom.
ὀρεστιάς (-άδος) adj. f живущая в горах, горная (Νύμφαι Hom.).
[6] φιτύω — сажать, сеять, перен. производить на свет, рождать (γένος νέον Aesch.; τέκνα Soph.; παῖδα Plat.).
φυτεύω тж. med. сажать, насаждать.
Φυτία ἡ Фития (город в Этолии) Thuc.
[7] Согласно одним источникам, он носил имя «Ориста» (Первый Ватиканский мифограф. 1. 87), согласно другим — имя «Стафил», образованное от σταφυλή — «виноградная гроздь». (Servius. Commentarii in Vergilii Georgica. II. 1)
Лишь постепенно этот миф превратился в чисто дионисийское священное предание. Вполне возможно, что имя Оресфей и обыкновенный охотник были подставлены на место Ориона только Гекатеем или незадолго до него. По своему происхождению Орион принадлежал еще к эпохе пчеловодства (о чем свидетельствует его рождение из кожаного мешка), и его связь с виноделием была далеко не столь однозначной, как в случае с Дионисом. На острове Хиос у царя Ойнопиона (который сначала, видимо, был таким же легендарным героем — изобретателем виноделия, как и Ойней, и только потом превратился в сына Диониса) Орион вел себя как существо доисторического времени, не знакомое с вином, за что и поплатился. В наказание за распутство, вызванное опьянением, он был ослеплен Ойнопионом (Οἰνοπίων).⁸ Мы помним, что Аристей, принадлежавший, в отличие от Ориона, к следующему культурно-историческому слою — между медом и вином, приказал на острове Кеос встречать утренний восход Сириуса танцем в вооружении. Однако вместе с тем он сделал все, чтобы смягчить вредоносное влияние звезды, распространявшееся с появлением на небосклоне Большого Пса. За морем, в Египте, в связи с этим тоже происходило нечто особенное, а на минойском Крите, по-видимому, были свои охранительные ритуалы.
________________________________
[8] Οἰνοπίων (-ωνος) ὁ Энопион (сын Вакха или Радаманта, миф. царь Хиоса) Plut., Luc.
οἴνη, дор. οἴνα ἡ 1) виноградная лоза Hes.; 2) вино Anth.
πιών (-οῦσα, -όν) part. aor. 2 к πίνω
πίνω — пить, выпивать
В Кноссе нам встречается имя i-wа-kо, которое по-гречески может читаться как Ἰακός, Ἰαχός или даже Ἴακχος, а в Кноссе и Пилосе часто принимает форму i-wa-ka. Возможно, что с этим именем связано на первый взгляд совершенно чужеродное для греческого языка слово Ἰακάρ — одно из названий Сириуса.⁹ В качестве пояснения к этим двум именам — Ἰακάρ и Ἴακχος — можно привести одну египетскую историю. При царе Сениесе жил якобы благочестивый и мудрый египтянин, которого звали Iachen или Iachim. Возможно, этот человек был священной фигypой. О нем рассказывалось, что при помощи огня ему удалось смягчить огненную силу восходящего в предутренних сумерках Сириуса и тем самым остановить разразившиеся было эпидемии. После его смерти у его гробницы было построено святилище, а жрецы, совершив соответствующие жертвенные ритуалы, брали с его алтаря огонь, пытаясь достичь аналогичного результата. Очевидно, в Египте имел место обряд обнесения огня, направленный на то, чтобы отвратить вредоносную силу звезды.
________________________________
[9] Ἰακάρ ὁ κύων ἀστήρ (Hesychius. S.v.) — Иакар, звезда-собака.
Благодаря Дионису этот огонь превращался в «чистый свет высокого лета». В качестве сына бога неба его принимали за «свет Зевса». Греческое прилагательное Ἰαχρός, встречающееся только в «Лексиконе» Гесихия, согласно последнему означает «того, кто осенен ясным светом Зевса».¹⁰ Конкретным воплощением этого света был факел, влагавшийся в руку священной фигуры — двойника Диониса. Его имя, образованное от того же корня, что и два вышеприведенных минойских имени,¹¹ приобрело свою окончательную форму Ἴακχος не иначе как через эмфатический возглас (ἴακχος),¹² вместе с которым оно выкрикивалось участниками дионисийской процессии. Об одном только обожествлении возгласа не может быть и речи. Ведь у греческого Иакха были две характерные особенности: его не только призывали громким и многократно повторяющимся возгласом, он был еще и факелоносцем. В фигуре Иакха сохранилась связь Диониса с огнем и светом. «Дионисийское оружие — это огонь», — говорит Лукиан (Лукиан. Вакх. III). Вакханки были способны нести огонь у себя на голове (Еврипид. Вакханки, 757). В Софокловой «Антигоне» хор взывает для исцеления пораженных недугом Фив к Дионису — «водителю огненных звезд» (Софокл. Антигона, 1146). Точно так же он мог бы взывать и к настоящей звезде, сверкающей на небе. Однако хор славит Диониса как «Иакха, подателя благ» (ταμίαν Ἴακχον) — то есть как подателя дионисийских даров, расточаемых им ежегодно.
________________________________
[10] εὐδιεινός (Hesychius. S.v. Ἰαχρόν).
εὐδιεινός 2
1) спокойный, тихий, ясный (γαλήνη Plat.);
2) мягкий, теплый (ζέφυρος Arst.);
3) укрытый от ветра, подветренный (τόποι Arst.);
4) предвещающий ясную погоду (σημεῖον Arst.).
[11] Своей фонетической формой они отличаются от гомеровского ἰαχή, ἰάχω, позднее также ἰαχέω, первоначально еще и с υ- в первом слоге.
ἰαχή, иногда ἰακχή, дор. ἰαχά ἡ
1) крик, шум (θεσπεσίῃ ἰαχῇ Hom. — с ужасным криком);
2) вопль, плач (πολύδακρυς Aesch.);
3) возглас ликования, радостный крик (παμφώνων ὑμεναίων Pind.).
ἰάχω (aor. iter. ἰάχεσκον, pf. ἴαχα)
1) кричать (Ἀργεῖοι μέγα ἴαχον Hom.);
2) восклицать, провозглашать (τινί Anth.);
3) объявлять, возвещать (ἰ. λογίων ὁδόν τινι Arph. — объявить кому-л. смысл прорицаний);
4) петь (ἀοιδήν HH.);
5) воспевать (Ἀπόλλω Arph.)
6) звенеть, гудеть (περὴ ἴαχε πέτρη Hom. — загудели окрестные скалы);
7) шуметь, бушевать (ἀμφὴ κῦμα στείρῃ ἴαχε Hom. — вокруг киля бурлило море; ἴαχε πῦρ Hom. — огонь забушевал);
8) трещать, шипеть.
ἰαχέω, иногда ἰακχέω
1) (тж. ἰ. φωνῇ HH.) поднимать голос, кричать;
2) запевать, петь (ὕμνον Aesch.; αἴλινον, μέλος Eur.; ἀοιδάν Arph.);
3) причитать, оплакивать (νέκυν ὀλόμενον Eur. — v. l. ἀχέω).
[12] ἴακχος ὁ
1) крик, вопль, оплакивание (νεκρῶν Eur.);
2) гимн в честь Иакха (ὁ μυστικὸς ἴ. Her.)
ἰακχή Aesch., Eur. = ἰαχή
ἰακχέω Soph., Eur. = ἰαχέω
Этот аспект Диониса восходит к его минойскому прошлому, когда он еще находился в связи с пламенеющим началом года Сириуса. В Афинах к концу сезона ὀπώρα устраивалась особая процессия, участники которой несли статую Иакха-факелоносца. Эта процессия являлась преддверием к Большим Элевсинским мистериям, во время которых, уже в период сбора винограда, в подземном царстве рождался божественный младенец. Аристофан в «Лягушках» называет Иакха «ночных хороводов пламеносцем».
Раздуй свет искряных смол, подымай ввысь знойный витень!
Иакх, о Иакх,
Ты ночных хороводов пламеносец.
Комедиограф вывел дионисийскую процессию на сцену в качестве шествия блаженных на Елисейских полях. К I в. до н.э. относится сообщение о том, что мистерии, свидетелями которых в Элевсине могли стать только посвященные, в Кноссе были открыты для всех желающих. Даже в Афинах процессия со статуей Иакха и призывающими Иакха возгласами не могла удерживаться в полном секрете. Между табличками с минойскими именами и упомянутым сообщением о соответствующих ритуалах в Кноссе пролегло более тысячелетия. Не меньший период отделяет и появление в Кноссе священного имени pa-ja-wo (греч. Παιάων)¹³ от того времени, когда в Дельфах и по всей Греции стал раздаваться возглас Παιάν. Однако в последнем случае мы располагаем гораздо большим числом свидетельств начиная уже с Гомepa.
________________________________
[13] παιάων (-ονος) ὁ дор. = παιάν
παιάν (-ᾶνος), эп. παιήων (-ονος), дор. παίαων (-ονος), атт. παιών (-ῶνος) ὁ пэан — хоровой гимн, благодарственный, победный, военный, умилостивительный или скорбный, преимущ. в честь Аполлона, реже Артемиды и других (παιᾶνα ποιεῖσθαι Xen. — петь пэан);
Παιάν (-ᾶνος), эп. Παιήων (-ονος), атт. Παιών (-ῶνος) ὁ
1) Пэан (бог-целитель, после Гомера отождествлялся преимущ. с Аполлоном, реже с Асклепием и др.);
ex.: Παιήονος γενέθλη Hom. — сыны Пэана, т.е. врачи.
2) целитель, избавитель (Θάνατος Π. Eur.).
ЧАСТЬ II
1.3. Пути прибытия Диониса в Аттику
Икарионский миф отмечен в высшей степени древними чертами, и неверно было бы предполагать, что только Эратосфен связал его с прибытием Диониса как культурного героя, научившего людей виноградарству и виноделию. Этот культурный герой изначально уже мог носить имя Икарий.
Гористый остров Икарос (Ἴκαρος), или Икария (Ἰκαρία), в Икарийском море (так называлась часть Эгейского моря, омывавшая побережье малоазийской страны Карии) считался одним из мест рождения Диониса (HH. XXXIV. К Дионису). Отчетливо прослеживается связь острова с богом виноделия: главный город Икароса назывался Ойноя (Οἰνόη, «винный город»), а вино всегда оставалось основным из производимых там продуктов. Существовала легенда о приключениях Диониса на море, когда он попал в плен к тирренским морским пиратам. Таким образом, воспоминание о прибытии Диониса морем продолжало еще жить в период возникновения гомеровских гимнов. По одной из версий, похищение произошло, когда Дионис держал путь с острова Икарос на остров Наксос. Тем самым утверждался приоритет Икароса как дионисийского острова перед Наксосом. Нет ничего необычного и смелого в предположении, что культурный герой, принесший с собой виноделие, пришел с острова Икарос и основал в Аттике Икарион еще до того, как страна была полностью эллинизирована.
В пользу догреческого происхождения этого слова говорят колебания в фонетическом ряду: Ἴκαρος, Ἰκάριος, Ἰκαρία, Ἴκαριον. Особенно подверженной колебаниям представляется первая гласная; вторая может быть как краткой, так и долгой. Название острова записывалось также как Ἔκαρος и Ἔκκαρος, а в икарионских надписях в Аттике первая гласная иногда даже опускается: вслед за Дионисом регулярно упоминается некто Карий или даже Кар, получавший приношения для дионисийского культа. В V в. до н.э., когда появились эти надписи, таким именем могли называть только некоего «карийца», однако, раз он упоминается после Диониса, им не мог быть «Зевс Карий», то есть карийский Зевс. Скорее всего, это был герой дема, который наряду с гомеровским по форме именем Икарий (у Гомера так звали отца Пенелопы) сохранил и свое старое, более привычное имя, свидетельствовавшее о его иноземном происхождении.
Согласно прежним рассуждениям о Сириусе и о связи Диониса с этой звездой, аналогичная связь в случае с Икарием уже не кажется очередной выдумкой, измышлением эллинистического поэта; она тоже должна быть довольно древней. В мифе, переработанном Эратосфеном, Сириус появляется в образе собаки Майры, имя которой означает «сверкающая» — весьма подходящий эпитет для этой звезды.¹⁴ Собака находит мертвое тело Икария, вернее сказать, то место, где он уже давно лежал, погребенный убийцами. У Эратосфена вся история приобретает исключительно трагическую окраску и разрешается не совсем обычно: все трое — отец, дочь и собака — превращаются в созвездия. Дочь убитого героя звали Эригона, и в истории она играет значительную роль. Трагедия началась с того момента, когда Икарий стал распределять дарованное ему Дионисом вино. Он возил наполненные вином меха на повозке, запряженной волами, по гористым районам Аттики, население которых тогда состояло из диких пастухов. Те, напившись допьяна, решили, что их отравили (видимо, это измененное толкование, сначала речь шла только о легком опьянении), и убили Икария. Протрезвев, они решили скрыть мертвое тело: в позднейших фрагментах об этом рассказывается по-разному, но в первоначальной версии труп был закопан в землю. Сопровождаемая Майрой, Эригона в полном отчаянии скиталась, разыскивая своего отца. Формально миф об Эригоне повторял миф о поиске Осириса Исидой. Однако едва ли этот образ был создан лишь творческой фантазией александрийского поэта: ведь Эригону исстари называли «Алетида» (скиталица). Обе они — дочь, блуждающая в поисках отца, и собака, нашедшая его тело, — с давних пор принадлежали друг другу.
________________________________
[14] Согласно Гесихию слово μαῖρα происходит от глагола μαρμαίρειν (сверкать), в свою очередь происходящего от μαιριῆν (τὸ κακῶς ἔχειν) — «страдать», слово, якобы, тарентского диалекта (Hesychius. S.v. Μαῖρα).
μαρμαίρω (только praes.) — блистать, сверкать, гореть как жар (χαλκῷ, σὺν ἔντεσι Hom.; ἄστροισι Aesch.);
μαῖρα, ион. μαίρη ἡ звезда Сириус Anth.
В первоначальном мифе эта история использовалась с целью пояснения происхождения винодельческой культуры: на месте, где был похоронен Икарий, выросла виноградная лоза, которая со временем превратилась в дерево (Гигин. Астрономия. II. 4). В другом архаическом мифе виноградная лоза была даже порождением собаки-Сириуса. А согласно древнейшему мифу икарийцы познакомились с вином следующим образом: они убили явившегося к ним чужестранца, не признав в нем бога вина. Однако убитый являл собой прототип дионисийской жертвы и умирал только мнимой смертью. Эригона была его спутницей, то есть первой дионисийской женщиной. Из его трупа проросла первая виноградная лоза,¹⁵ которая в некотором смысле была подарком собаки, при помощи которой Эригона нашла отца.
________________________________
[15] Сравн. с «проросшим Осирисом» — фигурками, изображающими Осириса, наполненными илом, вперемешку с зерном. Проросшие зерна свидетельствовали о воскрешении бога. Гробница Осириса так же изображалась обильно поросшая зеленью, либо рядом с ней растет дерево, на котором сидит душа Осириса в виде феникса. Иногда дерево прорастает через гробницу, обвив ее своими ветвями и корнями. Как и Дионису, Осирису посвящали виноградную лозу и плющ. Плутарх в трактате «Об Исиде и Осирисе» пишет: «эллины посвящают Дионису плющ, а у египтян, по слухам, он называется хеносирис (χενόσιρις), и это имя, как говорят, означает "побег Осириса"».
Миф нельзя отделять от ритуала, один есть выражение другого: слово, претворенное в действие, и действие, претворенное в слово. В данном случае это был ритуал, который дарители виноградной лозы и вина, кем бы они ни были и откуда бы они изначально ни происходили, передавали будущим виноградарям той или иной области. В ритуале место бога занимало животное; в Икарионе это был козел. Следовательно, есть основание утверждать, что здесь в зародыше уже существовала трагедия. Разбросанные повсюду зеленые виноградники и благочестивость опьяненных вином людей между тем обеспечивали трагическому мифу благополучный исход.
Нет ничего невероятного в предположении, что бог вина, прибывший извне, претерпел раздвоение на две фигуры: на бога и героя, на Диониса и Икария. Такая реконструкция мифологического процесса позволяет выяснить все детали, нашедшие отражение в традиции. У ранних интерпретаторов этого мифа, еще до Эратосфена, хуже всего обстояло дело с мифической спутницей бога — Эригоной (Ἠριγόνη), которая была не кем иным, как Ариадной из Икариона и Афин. В соответствии со своим именем («рожденная на рассвете»)¹⁶ она, очевидно, была воплощением Великой Богини из Браврона (Βραυρών), которая под именем Артемиды являлась богиней луны. В первой фазе своего воплощения она восходит на рассвете, почти или совсем не видимая, однако встречаемая с не меньшим почтением. Поэтому в генеалогии героев, послужившей богатым материалом для античной трагедии, Эригона стала сводной сестрой Ифигении (Ἰφιγένεια), которая также была ипостасью Артемиды, дочерью Клитемнестры и Агамемнона. Согласно одной из поздних трагедий, Эригона, аналогично героине, почитаемой девушками в Бравроне, была даже возвышена Артемидой до положения ее жрицы в Аттике (Гигин. Мифы. 122). Именно богиня из Браврона в одной из своих ипостасей при появлении Диониса сразу выступила на его стороне. Она была вовлечена в его миф, предполагавший участие женского божества; таковой являлась роль страдающей и счастливой Ариадны.¹⁷ Подходящей для этого стала ипостась «Алетиды», поскольку под «скиталицей» В архаическом мифе понималась богиня луны.
________________________________
[16] Ἠριγόνη ~ ἦρι (ἔαρ, «утро») + γονή («рождение»).
[17] Ἀριάδνη, дор. Ἀριάδνα ἡ Ариадна, дочь Миноса и Пасифаи, покинутая Тесеем на Наксосе; впоследствии жена Вакха Hom., Hes., Theocr., Plut.
_______________________________
|
Метки: Дионис Иакх Греция Гелиакический восход Сириуса |
ЗАГРЕЙ, МИНОЙСКОЕ НАСЛЕДИЕ |
Карл Кереньи
ДИОНИС. ПРООБРАЗ НЕИССЯКАЕМОЙ ЖИЗНИ
(фрагмент первой части книги)
История любви Зевса к Семеле представляет собой полностью гуманизированную версию зачатия Диониса. Более древней версией был миф об обольщении Персефоны ее собственным отцом. Вплоть до поздней античности этот миф пересказывался в дидактической поэзии орфиков, однако историк Диодор Сицилийский (I в. до н.э.) отчетливо свидетельствует о его критском происхождении. Колебания между Персефоной и Деметрой, сохранившиеся у Диодора, соответствуют неустойчивой иконографии киосских монет, на которых в связи с лабиринтом иногда появляется голова Персефоны, напоминающая Деметру. Здесь мы имеем дело с так называемой орфической историей рождения бога, известной нам как история рождения Загрея. От фиванского мифа о рождении Диониса эта история отличается уже фигурой матери. Если критский Дионис обычно характеризуется своим отношением к Ариадне, то здесь имеет место не менее характерное для него отношение к Персефоне, богине подземного царства. Это было бы очевидно как при отсутствии свидетельства Диодора, так и в том случае, если бы данный факт не получил подкрепления в содержании и стиле самого мифа.
Согласно критским историографам, которым следует Диодор, Дионис был прежде всего богом вина и родился на Крите в качестве сына Зевса и Персефоны. Диодор добавляет, что речь идет о том божестве, которое, согласно традиции орфических мистерий, было растерзано титанами. Из другого места следует, что критские авторы испытывали колебания относительно того, кого следует называть матерью Диониса — Персефону или Деметру. Сам миф мы находим в качестве выдержки из утраченной орфической теогонии у христианского апологета Афинагора. Об обольщении Персефоны ее отцом, явившимся к ней в облике змея, упоминает в «Метаморфозах» и Овидий, перечисляя список любовных приключений Зевса, который, среди прочего, «Деоиду¹ блестящей змеей обманул» (Овидий. Метаморфозы, VI. 114). В этих словах содержатся два из трех древнейших элементов первоначального мифа. Это кровосмешение и змея — два абсолютно архаических элемента. Део² — Деметра как богиня мистерий — заняла место третьего элемента, который можно назвать только относительно архаическим, архаическим в рамках греческой религиозной истории. Два других мотива являются архаическими везде и во все времена, вне зависимости от того или иного контекста.
__________________________________
[1] Δηωίδα ὁ Деоида, дочь богини Део (Δηώ — мистическое имя Деметры), т.е. Персефона.
[2] Δηώ (-οῦς) ἡ Део, т.е. Деметра HH., Soph., Eur., Arph., Anth.
В греческой мифологии Деметра считалась одной из супруг Зевса, вместе с которой он породил Персефону. Однако не существует ни одной мифологемы, ни одной связанной с культом легенды об их свадьбе. Первоначально Деметра находилась в брачной связи с Посейдоном, чему посвящена даже соответствующая мифологема (Павсаний. VIII. 25. 5), но отнюдь не с Зевсом. В последнем случае она занимала место Реи, причем в обоих качествах великой минойской богини, — сначала как мать, затем как супруга. Эта трансформация, сама по себе исторически вполне допустимая, была зафиксирована орфической теологией:
Афинагор, который с особым пристрастием описывает кровосмесительные связи древних богов, наряду с абсолютно архаическими элементами сохраняет и то, что является лишь относительно архаичным, а именно связь между Реей и Персефоной как матерью и дочерью. Он исключает из этой генеалогии Деметру как дочь Реи и (в качестве супруги Зевса) мать Персефоны; следы этого первоначального соотношения сохранились в значимых греческих источниках — в гомеровском гимне к Деметре (HH. V. К Деметре, 469) и у Еврипида (Еврипид. Елена. 1307). У Афинагора мы читаем следующее:
От орфического автора, следуя которому (однако определенно огрубляя способ выражения) апологет пересказывает миф, происходят две включенные в текст ученые заметки, относящиеся соответственно к Геркулесову узлу и двум переплетенным змеям на жезле Гермеса. Знания этого автора свидетельствуют о том, что он работал с уже готовым материалом. Менее известное он пытается сделать наглядным посредством более известного, объясняя форму сочетания Зевса и Реи с помощью «Геркулесова узла», который, очевидно, был знаком его читателям по гимнастическим упражнениям в палестре, и с помощью жезла Гермеса. Этим примером он обнаруживает характерное для орфиков пристрастие к архаическому — пристрастие, которому мы обязаны и рассказом о медовом напитке, ставшем причиной оскопления Кроноса. Источник того в высшей степени архаического материала, из которого исходил орфический автор, не вызывает сомнений: это минойский Крит.
Таким образом, к Криту нас выводят три сохранившихся в традиции факта: культ Реи, характерная роль змеи в религии минойской эпохи и отчетливое свидетельство о том, что миф о зачатии и рождении Диониса Персефоной разыгрывался именно на Крите. После всего вышесказанного сделанный вывод не вызывает сомнений. Неопределенность, имеющая место в связи с именами богов, только повышает степень очевидности. Едва ли супруг Реи в минойскую эпоху мог зваться Зевсом, а ее сын — носить имя, содержащее элемент Διο-. Имена здесь ничего не решают: в более поздний период минойской религиозной истории они могли появиться на месте других, неизвестных нам имен. Даже в Олимпии Зевс занял место, прежде принадлежавшее змееподобному божеству.³ В греческую эпоху критяне говорили о собственном Зевсе, особо подчеркивая критскую мифологему о его рождении и наделяя Зевса прозвищем Κρητογενής, «рожденный на Крите». Под этим они подразумевали божество, рожденное в критском ландшафте, к которому принадлежала и пещера. Если мы опустим греческие имена «Зевс» и «Дионис», перед нами останется великое анонимное змееподобное божество, которое, как гласит позднейшее свидетельство Гимерия (Ἱμέριος),⁴ в критских пещерах устроило себе свадьбу.
__________________________________
[3] «У самой подошвы горы, где начинается Кроний, с северной стороны [от Альтиса], между сокровищницами и горой, находится храм Илитии (Εἰλείθυια), в котором воздается поклонение Сосиполю (Σωσίπολις, «спаситель города»), природному покровителю элейцев.
<…>
Говорят, когда аркадяне вторглись с войском в Элиду и элейцы выступили против них, к элейским военачальникам пришла женщина, с новорожденным ребенком у груди, и сказала, что этого ребенка родила она, но в силу сновидения она отдает его элейцам как их будущего союзника. Поверив словам этой женщины, начальники положили перед войском нагого ребенка. Аркадяне стали наступать, и тогда вдруг ребенок обратился в змея (δρακών). Аркадяне пришли в смятение от такого зрелища и обратились в бегство; элейцы насели на них, одержали блистательную победу и дали этому богу имя Сосиполь. Там, где после битвы, по их мнению, змей исчез, уйдя в землю, там они поставили храм.» (Павсаний. VI. 20. 2-3).
[4] Гимерий (З15-З86 н.э.) — греческий оратор, представитель поздней греческой софистики, учитель риторики в Афинах.
Менее архаичным, чем история со змеем-обольстителем, является общеизвестный миф о похищении Персефоны. Аид, Плутон или «подземный Зевс» — это были только псевдонимы похитителя. По сути дела, здесь тоже идет речь о великом анонимном божестве. К той версии мифа, где ареной похищения была Сицилия, Нонн в своем эпосе присовокупил описание змеиной свадьбы (Нонн. Деяния Диониса. VI. 120-165). Деметра вместе со своей юной дочерью покидает Крит и прячет Персефону в пещере неподалеку от источника Киана. Туда в облике змея к ней является Зевс:
Эсхил свидетельствует о противоречивой природе Загрея: последний отождествлялся то с «подземным Зевсом»,⁵ то с его сыном, также обитавшим в подземном мире. Как и другие имена, имя Загрей («ловец живой дичи») было псевдонимом, за которым скрывался один из великих богов, возможно, даже величайшее божество всех времен. Это божество посещает свою дочь, спрятанную в пещере, и та рожает ему его самого в качестве его собственного сына. Оплодотворяя свою мать (или дочь), сын (или супруг) порождает мистического младенца, который, в свою очередь, тоже обольстит свою мать. Для таких переплетений как нельзя более подходит облик змеи. Это ничем не прикрытая форма ζωή (вечной жизни), в которой она является до предела редуцированной по отношению к самой себе. Эту форму для первозачатия от своего собственного сына принимает Великая Богиня-мать Рея. Однако в большей степени облик змеи соответствует мужскому партнеру — сыну и одновременно супругу, который проходит сквозь поколения матерей и дочерей — все поколения живых существ, — обнаруживая непрерывность, подобную непрерывности ζωή. Даже если в ходе религиозных ритуалов змей разрывали на куски, змея в своем родовом единстве оставалась неприкосновенной и свидетельствовала о неиссякаемости жизни в ее, так сказать, низшей форме.
__________________________________
[5] χθόνιος подземный (Ζεὺς χ. Hes. = Ἅιδης);
καταχθόνιος (κατα-χθόνιος)
1) подземный (Ζεὺς κ. Hom. = Ἀΐδης)
2) преисподний (πᾶν γόνυ ἐπουρανίων καὴ ἐπιγείων καὴ καταχθονίων NT.)
Итак, мы раскрыли первый акт некой мистической драмы — акт, который хоть и относится к минойскому Криту, но характеризуется более древним стилем, чем культура дворцов. Младенец, рождение которого стало кульминацией этого акта, был рогатым: действительно, во втором акте этой драмы преобладает облик быка или полубыка-получеловека. Ритуальная форма этого акта — разрывание на части быка или другого жертвенного животного с рогами (чаше всего козла) — становится формой дионисийского жертвоприношения. Последнее можно реконструировать вплоть до отдельных деталей, демонстрирующих неиссякаемость жизни в самом уничтожении. Не исключено, что подобные церемонии устраивались и на минойском Крите. Два существенных момента оправдывают это допущение. Во-первых, тот невероятный факт, что на повторявшихся каждые два года дионисийских празднествах быка разрывали на части, засвидетельствован в качестве специфически критского жертвенного ритуала. Во-вторых, изображения быков и коров наряду с тремя уже рассмотренными элементами — женщиной, змеей и рогом для питья с изображенной на нем головой быка — доминируют в критском искусстве. Утверждалось, что бык не может выступать на Крите в образе «бога-быка», поскольку на большинстве изображений животное слишком пассивно, чтобы считаться воплощением божества. Один из авторов пишет:
Но ведь именно это происходило во время великой дионисийской жертвы, когда жертвенное животное выступало в роли страдающего божества, заживо раздираемого на куски.
Рождение ребенка-быка, которому предстояло разделить участь жертвенного животного, было усвоено греческой мифологией героев и вошло в уже слишком человеческую легенду о дочери критского царя и ее матери. Эту двойственность матери и дочери, в которой дочь представляла собой лишь отъединенную половину и новое, более юное воплощение матери, в греческой мифологии образовывали также Гера и Геба и — в совершенно особом смысле — «две богини» Элевсина. Там они назывались Деметра и Кора, или — с учетом тайного имени дочери — Деметра и Персефона; изначально же они, несомненно, носили имена Рея и Персефона.
Свадьба змей была вытеснена любовью к быку. Бык этот отличался редкостной красотой, однако это было животное, а отнюдь не перевоплощение божества, в качестве которого Зевс обольстил Европу! Идентичность ζωή в низшей и высшей сферах животного мира — соответственно в змее и быке — была зафиксирована и в некоем более таинственном мифе. Содержание этого мифа, в свою очередь, конкретизировалось в мистической формуле, которая, вероятно, возглашалась посвященными в соответствующие мистерии и служила своего рода паролем и исповеданием веры (σύμβολον). На основе христианских текстов, из которых она нам известна, ее можно приписать как дионисийским мистериям, так и мистериям Сабазия. Даже в последнем случае она могла бы иметь критское происхождение, а в Грецию попасть обходным путем через Малую Азию. Однако от первоначального критского дионисийского мифа эта формула отличается тем, что в ней имеет место круговорот: зачатие происходит попеременно в формах змеи и быка. По крайней мере, именно так понимали этот σύμβολον христианские толкователи и латинские переводчики:
По-гречески эта фраза звучала следующим образом:
Ее можно понимать либо как латинскую версию, либо иначе, что отнюдь не является тавтологией:
По сравнению с мифами, в которых змей и бык порождают друг друга или один только змей порождает быка, любовная связь Пасифаи с быком, от которой был рожден Минотавр — получеловек-полубык, является уже в значительной степени «гуманизированной». В более древнем мифе Минотавр был одновременно тельцом и звездой. Если он обитал в лабиринте, то, значит, он обитал рядом с «владычицей лабиринта» — своей матерью, царицей подземного мира, — пусть и в подземном мире, но там, откуда был выход наружу.
Звездой, утренний восход которой знаменовал собой наступление нового года (в тесной связи с медом, вином и светом), на минойском Крите был Сириус. При этом бросается в глаза известная двойственность, или параллельность, явлений. На небе появлялась звезда, а из пещеры пробивался свет. Празднество света в пещере было мистериальным действом. В Кноссе, на предназначенной специально для этого площадке для плясок, устраивалась открытая для публики танцевальная процессия, участники которой проделывали путь к «владычице лабиринта» и обратно. Сама владычица находилась в центре настоящего лабиринта, то есть подземного царства; там она рождала своего таинственного сына, тем самым даруя надежду на возвращение к свету. Критское происхождение элевсинских, самофракийских и фракийских (орфических) мистерий в древности усматривали в том, что все, содержавшееся в этих мистериях в тайне, еще в греческое время было доступно в Кноссе для всех желающих. В дошедшем до нас элевсинском предании обнаруживается двоякое соответствие критским ритуалам: во-первых, в провозвестии о рождении таинственного сына у владычицы подземного мира; во-вторых, в том факте, что в поисках высшей инициации посвященные шествовали по пути к матери этого ребенка. Черты сходства с мистериями Великой Богини-матери на острове Самофракия еще недостаточно изучены, однако ввиду вышеизложенного вряд ли можно сомневаться в том, что значительная часть, а возможно, и ядро всего того, что приписывалось мифическому певцу Орфею, было минойского происхождения.⁶
__________________________________
[6] М.-П. Нильссон подходит близко к истине, замечая: «Возможно, в том, что касается орфиков, Крит имел еще большее значение, хотя доказательства этого были уничтожены временем» (Nilsson М.-Р. The Minoan-Mycenaean Religion. 2. ed. Lund, 1950. Р. 581). Доказательства появятся, если не исходить, как это делает Нильссон, из ложного убеждения в том, что орфизм был «спекулятивной религией, созданной, по крайней мере в своих существенных положениях, религиозным гением, который сочетал и трансформировал различные элементы с гениальной независимостью и с уверенностью». Как раз в пользу этого нет никаких доказательств. Напротив, сквозь все эпохи прослеживается неразрывная взаимосвязь культуры, что становится особенно явным благодаря тщательным исследованиям проф. Д. Леви в районе Феста.
«Рожденный на Крите Зевс» и «критский Дионис» не принадлежали к греческим божествам. Они не были отделены друг от друга теми границами, которые очерчивали для греков «Бога» или некое божество в его неизменном облике, — они вообще не существовали по отдельности. Характеризуя их, мы можем воспользоваться выражением, которое Льюис Ричард Фарнелл, известный историк греческой религии, применил к божественному существу, называвшемуся в Олимпии Сосиполидом (Σωσίπολις, «спасающий или охраняющий город») и являвшемуся в облике ребенка или змеи: «Зевс-Дионис Критский». Зевс-Дионис — критский предшественник обоих греческих божеств — самовоспроизводился, меняя форму, по мере прохождения сквозь каждую из фаз своего мифа, сменяющих друг друга, подобно актам театральной драмы.
__________________________________
________________
КОММЕНТАРИИ
Кереньи рассматривает годовой цикл в качестве заимствованного минойцами у египтян. Странно тогда, почему ему не пришла в голову мысль, что и религиозная мистерия годового цикла должна уходить своими корнями туда же. Египетская мистерия, связанная с Осирическим культом, представляет из себя драматическую историю смены одного солярного бога (Осириса) другим (Гор). Эта мифологема переносилась и на обожествляемых фараонов. Царь Египта представлял собой наместника Осириса на земле, т.е. Гора. По смерти фараон сам становился Осирисом, а его место занимал его сын и наследник, который становился Гором.
Кереньи исходит из того, что наиболее древний образ (условного) Критского Диониса — змей, на смену которому пришла иконография быка, которая, в свою очередь, сменилась антропоморфным обликом божества. Но эта теория никак не доказывается той аргументацией, которую он грамотно (но тенденциозно) выстраивает в своей книге. То что Дионис на Крите фиксируется в образе змея, не означает, что в древности это был его единственный образ.
В.Солкин, описывая Хатхор, замечает, что богиня принимает четыре основных образа, так называемые хеперу (ḫprw): женщина, змея, корова, львица. Каждое проявление характеризует состояние богини: женщина — «Золотая Хатхор», богиня любви и мать, дарующая жизнь; змея — охранительница; корова — кормилица, подательница «молока жизни»; львица — богиня карающая всякого, кто нарушает порядок, установленный Ра. В собрании Лувра хранится удивительное изображение богини во всех ее обликах одновременно: как коровы (Хатхор, Нут), змеи (Уаджит), женщины (Хатхор, Мут, Небет Хетепет) и львицы (Сехмет).
Разные образы принимали и мужские божества. Зафиксированы образы Гора (помимо сокола), как волка, гиппопотама, крокодила, того же змея. Иконография Сета еще более разнообразна.
Точно так же и Критский Дионис мог принимать разные образы. Невозможно достоверно отследить как далеко в глубь веков у ходит формула «бык рождает змея, змей рождает быка». Образы и быка, и змея весьма архаичны и вполне могли существовать параллельно. В греческой мифологии и змея, и бык относились преимущественно к образам гениев. Образ змея зафиксировался за гением местности, образ быка отводился гениям рек. Хотя, с учетом того, что города строились по берегам рек (или водоемов), часто гений реки был одновременно и гением города. К тому же гении рек в греческих мифах легко меняют образ как, например, бог реки Ахелой:
В трех образах (антропоморфный, змеиный и образ быка с бородатой человеческой головой) предстает и бог реки Алфей. Змеиный образ охранителя места заимствован, видимо, из Египта, где богиней охранительницей Нижнего Египта была Уаджит, часто изображаемая в виде кобры в боевой стойке. Но одновременно можно видеть и антропоморфные древнеегипетские изображения богини.
Образ «небесной коровы» (Нут, Хатхор) или быка (Ра, Апис) был в Египте не менее популярен. Эпитеты, связанные с мощью быка (kȝ nḫt — «побеждающий бык») носили не только боги, но и цари. Но и здесь образ быка (или коровы) никак не мешает наличию антропоморфной иконографии. Кстати, не исключено, что бычий образ греческих гениев рек списан с египетского Аписа. С разливом Нила был связан один из главных праздников года посвященных Апису. Поскольку наполнение пересохшего Нила обильными водами отождествлялось с воскрешением Осириса, то и Апис (как воплощение Осириса) также имел непосредственное отношение к половодью. Ему приносились обильные дары, дабы воды было достаточно для богатых урожаев, но не слишком много, чтобы от наводнения не было ущерба.
В.Иванов отождествляет хтонический образ змея с «зимним» Дионисом, а образ быка, соответственно, с «летним» (возможно, изначально, это были два разных божества). Это могло бы объяснить смысл растерзания змей и быков (козлов). С окончанием времени хтонического Диониса (когда ночь длиннее дня), нужно готовиться к возрождению Диониса «летнего» (образ которого — бык). Но «бык» не может возродиться, пока его место занимает «змей». С этой целью и происходит обряд разрывания змей, как образа «зимнего» бога. Через полгода мистерия повторится, с той разницей, что растерзан будет Дионис в образе быка (или козла).
_______________________________
ДИОНИС. ПРООБРАЗ НЕИССЯКАЕМОЙ ЖИЗНИ
(фрагмент первой части книги)
История любви Зевса к Семеле представляет собой полностью гуманизированную версию зачатия Диониса. Более древней версией был миф об обольщении Персефоны ее собственным отцом. Вплоть до поздней античности этот миф пересказывался в дидактической поэзии орфиков, однако историк Диодор Сицилийский (I в. до н.э.) отчетливо свидетельствует о его критском происхождении. Колебания между Персефоной и Деметрой, сохранившиеся у Диодора, соответствуют неустойчивой иконографии киосских монет, на которых в связи с лабиринтом иногда появляется голова Персефоны, напоминающая Деметру. Здесь мы имеем дело с так называемой орфической историей рождения бога, известной нам как история рождения Загрея. От фиванского мифа о рождении Диониса эта история отличается уже фигурой матери. Если критский Дионис обычно характеризуется своим отношением к Ариадне, то здесь имеет место не менее характерное для него отношение к Персефоне, богине подземного царства. Это было бы очевидно как при отсутствии свидетельства Диодора, так и в том случае, если бы данный факт не получил подкрепления в содержании и стиле самого мифа.
Согласно критским историографам, которым следует Диодор, Дионис был прежде всего богом вина и родился на Крите в качестве сына Зевса и Персефоны. Диодор добавляет, что речь идет о том божестве, которое, согласно традиции орфических мистерий, было растерзано титанами. Из другого места следует, что критские авторы испытывали колебания относительно того, кого следует называть матерью Диониса — Персефону или Деметру. Сам миф мы находим в качестве выдержки из утраченной орфической теогонии у христианского апологета Афинагора. Об обольщении Персефоны ее отцом, явившимся к ней в облике змея, упоминает в «Метаморфозах» и Овидий, перечисляя список любовных приключений Зевса, который, среди прочего, «Деоиду¹ блестящей змеей обманул» (Овидий. Метаморфозы, VI. 114). В этих словах содержатся два из трех древнейших элементов первоначального мифа. Это кровосмешение и змея — два абсолютно архаических элемента. Део² — Деметра как богиня мистерий — заняла место третьего элемента, который можно назвать только относительно архаическим, архаическим в рамках греческой религиозной истории. Два других мотива являются архаическими везде и во все времена, вне зависимости от того или иного контекста.
__________________________________
[1] Δηωίδα ὁ Деоида, дочь богини Део (Δηώ — мистическое имя Деметры), т.е. Персефона.
[2] Δηώ (-οῦς) ἡ Део, т.е. Деметра HH., Soph., Eur., Arph., Anth.
В греческой мифологии Деметра считалась одной из супруг Зевса, вместе с которой он породил Персефону. Однако не существует ни одной мифологемы, ни одной связанной с культом легенды об их свадьбе. Первоначально Деметра находилась в брачной связи с Посейдоном, чему посвящена даже соответствующая мифологема (Павсаний. VIII. 25. 5), но отнюдь не с Зевсом. В последнем случае она занимала место Реи, причем в обоих качествах великой минойской богини, — сначала как мать, затем как супруга. Эта трансформация, сама по себе исторически вполне допустимая, была зафиксирована орфической теологией:
Та, что прежде Реей была, став матерью Зевса,
Превратилась в Деметру…
(Orpheus, fr. 145 Кеrn.)
Афинагор, который с особым пристрастием описывает кровосмесительные связи древних богов, наряду с абсолютно архаическими элементами сохраняет и то, что является лишь относительно архаичным, а именно связь между Реей и Персефоной как матерью и дочерью. Он исключает из этой генеалогии Деметру как дочь Реи и (в качестве супруги Зевса) мать Персефоны; следы этого первоначального соотношения сохранились в значимых греческих источниках — в гомеровском гимне к Деметре (HH. V. К Деметре, 469) и у Еврипида (Еврипид. Елена. 1307). У Афинагора мы читаем следующее:
«Зевс преследовал мать свою Рею за то, что она отказалась вступить с ним в брак; когда же она обернулась змеей, он превратился в змея и совокупился с ней, связав ее так называемым Геркулесовым узлом. Символом такого совокупления служит жезл Гермеса. Потом он совершил кровосмешение с дочерью своей Персефоною (т.е. дочерью Зевса и Реи) и, овладев ею в образе змея, имел от нее сына Диониса».
(Афинагор. Прошение о христианах. 20)
От орфического автора, следуя которому (однако определенно огрубляя способ выражения) апологет пересказывает миф, происходят две включенные в текст ученые заметки, относящиеся соответственно к Геркулесову узлу и двум переплетенным змеям на жезле Гермеса. Знания этого автора свидетельствуют о том, что он работал с уже готовым материалом. Менее известное он пытается сделать наглядным посредством более известного, объясняя форму сочетания Зевса и Реи с помощью «Геркулесова узла», который, очевидно, был знаком его читателям по гимнастическим упражнениям в палестре, и с помощью жезла Гермеса. Этим примером он обнаруживает характерное для орфиков пристрастие к архаическому — пристрастие, которому мы обязаны и рассказом о медовом напитке, ставшем причиной оскопления Кроноса. Источник того в высшей степени архаического материала, из которого исходил орфический автор, не вызывает сомнений: это минойский Крит.
Таким образом, к Криту нас выводят три сохранившихся в традиции факта: культ Реи, характерная роль змеи в религии минойской эпохи и отчетливое свидетельство о том, что миф о зачатии и рождении Диониса Персефоной разыгрывался именно на Крите. После всего вышесказанного сделанный вывод не вызывает сомнений. Неопределенность, имеющая место в связи с именами богов, только повышает степень очевидности. Едва ли супруг Реи в минойскую эпоху мог зваться Зевсом, а ее сын — носить имя, содержащее элемент Διο-. Имена здесь ничего не решают: в более поздний период минойской религиозной истории они могли появиться на месте других, неизвестных нам имен. Даже в Олимпии Зевс занял место, прежде принадлежавшее змееподобному божеству.³ В греческую эпоху критяне говорили о собственном Зевсе, особо подчеркивая критскую мифологему о его рождении и наделяя Зевса прозвищем Κρητογενής, «рожденный на Крите». Под этим они подразумевали божество, рожденное в критском ландшафте, к которому принадлежала и пещера. Если мы опустим греческие имена «Зевс» и «Дионис», перед нами останется великое анонимное змееподобное божество, которое, как гласит позднейшее свидетельство Гимерия (Ἱμέριος),⁴ в критских пещерах устроило себе свадьбу.
__________________________________
[3] «У самой подошвы горы, где начинается Кроний, с северной стороны [от Альтиса], между сокровищницами и горой, находится храм Илитии (Εἰλείθυια), в котором воздается поклонение Сосиполю (Σωσίπολις, «спаситель города»), природному покровителю элейцев.
<…>
Говорят, когда аркадяне вторглись с войском в Элиду и элейцы выступили против них, к элейским военачальникам пришла женщина, с новорожденным ребенком у груди, и сказала, что этого ребенка родила она, но в силу сновидения она отдает его элейцам как их будущего союзника. Поверив словам этой женщины, начальники положили перед войском нагого ребенка. Аркадяне стали наступать, и тогда вдруг ребенок обратился в змея (δρακών). Аркадяне пришли в смятение от такого зрелища и обратились в бегство; элейцы насели на них, одержали блистательную победу и дали этому богу имя Сосиполь. Там, где после битвы, по их мнению, змей исчез, уйдя в землю, там они поставили храм.» (Павсаний. VI. 20. 2-3).
[4] Гимерий (З15-З86 н.э.) — греческий оратор, представитель поздней греческой софистики, учитель риторики в Афинах.
Менее архаичным, чем история со змеем-обольстителем, является общеизвестный миф о похищении Персефоны. Аид, Плутон или «подземный Зевс» — это были только псевдонимы похитителя. По сути дела, здесь тоже идет речь о великом анонимном божестве. К той версии мифа, где ареной похищения была Сицилия, Нонн в своем эпосе присовокупил описание змеиной свадьбы (Нонн. Деяния Диониса. VI. 120-165). Деметра вместе со своей юной дочерью покидает Крит и прячет Персефону в пещере неподалеку от источника Киана. Туда в облике змея к ней является Зевс:
…от жарких змеиных объятий небесного змея
Плодное семя раздуло чрево Персефонеи:
Так Загрей и родился, отпрыск рогатый…
Эсхил свидетельствует о противоречивой природе Загрея: последний отождествлялся то с «подземным Зевсом»,⁵ то с его сыном, также обитавшим в подземном мире. Как и другие имена, имя Загрей («ловец живой дичи») было псевдонимом, за которым скрывался один из великих богов, возможно, даже величайшее божество всех времен. Это божество посещает свою дочь, спрятанную в пещере, и та рожает ему его самого в качестве его собственного сына. Оплодотворяя свою мать (или дочь), сын (или супруг) порождает мистического младенца, который, в свою очередь, тоже обольстит свою мать. Для таких переплетений как нельзя более подходит облик змеи. Это ничем не прикрытая форма ζωή (вечной жизни), в которой она является до предела редуцированной по отношению к самой себе. Эту форму для первозачатия от своего собственного сына принимает Великая Богиня-мать Рея. Однако в большей степени облик змеи соответствует мужскому партнеру — сыну и одновременно супругу, который проходит сквозь поколения матерей и дочерей — все поколения живых существ, — обнаруживая непрерывность, подобную непрерывности ζωή. Даже если в ходе религиозных ритуалов змей разрывали на куски, змея в своем родовом единстве оставалась неприкосновенной и свидетельствовала о неиссякаемости жизни в ее, так сказать, низшей форме.
__________________________________
[5] χθόνιος подземный (Ζεὺς χ. Hes. = Ἅιδης);
καταχθόνιος (κατα-χθόνιος)
1) подземный (Ζεὺς κ. Hom. = Ἀΐδης)
2) преисподний (πᾶν γόνυ ἐπουρανίων καὴ ἐπιγείων καὴ καταχθονίων NT.)
Итак, мы раскрыли первый акт некой мистической драмы — акт, который хоть и относится к минойскому Криту, но характеризуется более древним стилем, чем культура дворцов. Младенец, рождение которого стало кульминацией этого акта, был рогатым: действительно, во втором акте этой драмы преобладает облик быка или полубыка-получеловека. Ритуальная форма этого акта — разрывание на части быка или другого жертвенного животного с рогами (чаше всего козла) — становится формой дионисийского жертвоприношения. Последнее можно реконструировать вплоть до отдельных деталей, демонстрирующих неиссякаемость жизни в самом уничтожении. Не исключено, что подобные церемонии устраивались и на минойском Крите. Два существенных момента оправдывают это допущение. Во-первых, тот невероятный факт, что на повторявшихся каждые два года дионисийских празднествах быка разрывали на части, засвидетельствован в качестве специфически критского жертвенного ритуала. Во-вторых, изображения быков и коров наряду с тремя уже рассмотренными элементами — женщиной, змеей и рогом для питья с изображенной на нем головой быка — доминируют в критском искусстве. Утверждалось, что бык не может выступать на Крите в образе «бога-быка», поскольку на большинстве изображений животное слишком пассивно, чтобы считаться воплощением божества. Один из авторов пишет:
«Среди печатей, представляющих для нас первостепенный интерес, немало принадлежит к лучшим в своем роде образцам. На них изображается бык в его мирном существовании — шествующий, пасущийся или покоящийся; перед лицом смертельной опасности — спасающийся от хищных зверей, атакованный или разрываемый на части; и, наконец, издыхающий в смертельных муках».
(Matz F. Minoischer Stiergott. Кretika Chronika)
Но ведь именно это происходило во время великой дионисийской жертвы, когда жертвенное животное выступало в роли страдающего божества, заживо раздираемого на куски.
Рождение ребенка-быка, которому предстояло разделить участь жертвенного животного, было усвоено греческой мифологией героев и вошло в уже слишком человеческую легенду о дочери критского царя и ее матери. Эту двойственность матери и дочери, в которой дочь представляла собой лишь отъединенную половину и новое, более юное воплощение матери, в греческой мифологии образовывали также Гера и Геба и — в совершенно особом смысле — «две богини» Элевсина. Там они назывались Деметра и Кора, или — с учетом тайного имени дочери — Деметра и Персефона; изначально же они, несомненно, носили имена Рея и Персефона.
Свадьба змей была вытеснена любовью к быку. Бык этот отличался редкостной красотой, однако это было животное, а отнюдь не перевоплощение божества, в качестве которого Зевс обольстил Европу! Идентичность ζωή в низшей и высшей сферах животного мира — соответственно в змее и быке — была зафиксирована и в некоем более таинственном мифе. Содержание этого мифа, в свою очередь, конкретизировалось в мистической формуле, которая, вероятно, возглашалась посвященными в соответствующие мистерии и служила своего рода паролем и исповеданием веры (σύμβολον). На основе христианских текстов, из которых она нам известна, ее можно приписать как дионисийским мистериям, так и мистериям Сабазия. Даже в последнем случае она могла бы иметь критское происхождение, а в Грецию попасть обходным путем через Малую Азию. Однако от первоначального критского дионисийского мифа эта формула отличается тем, что в ней имеет место круговорот: зачатие происходит попеременно в формах змеи и быка. По крайней мере, именно так понимали этот σύμβολον христианские толкователи и латинские переводчики:
Taurus draconem genuit еt taurum draco.
Бык — змея родитель, а змей — родитель быка.
По-гречески эта фраза звучала следующим образом:
Ταῦρος δράκοντος καὶ πατήρ ταύρου δρακών.
Ее можно понимать либо как латинскую версию, либо иначе, что отнюдь не является тавтологией:
Бык — порождение змея, а змей — родитель быка.
По сравнению с мифами, в которых змей и бык порождают друг друга или один только змей порождает быка, любовная связь Пасифаи с быком, от которой был рожден Минотавр — получеловек-полубык, является уже в значительной степени «гуманизированной». В более древнем мифе Минотавр был одновременно тельцом и звездой. Если он обитал в лабиринте, то, значит, он обитал рядом с «владычицей лабиринта» — своей матерью, царицей подземного мира, — пусть и в подземном мире, но там, откуда был выход наружу.
Звездой, утренний восход которой знаменовал собой наступление нового года (в тесной связи с медом, вином и светом), на минойском Крите был Сириус. При этом бросается в глаза известная двойственность, или параллельность, явлений. На небе появлялась звезда, а из пещеры пробивался свет. Празднество света в пещере было мистериальным действом. В Кноссе, на предназначенной специально для этого площадке для плясок, устраивалась открытая для публики танцевальная процессия, участники которой проделывали путь к «владычице лабиринта» и обратно. Сама владычица находилась в центре настоящего лабиринта, то есть подземного царства; там она рождала своего таинственного сына, тем самым даруя надежду на возвращение к свету. Критское происхождение элевсинских, самофракийских и фракийских (орфических) мистерий в древности усматривали в том, что все, содержавшееся в этих мистериях в тайне, еще в греческое время было доступно в Кноссе для всех желающих. В дошедшем до нас элевсинском предании обнаруживается двоякое соответствие критским ритуалам: во-первых, в провозвестии о рождении таинственного сына у владычицы подземного мира; во-вторых, в том факте, что в поисках высшей инициации посвященные шествовали по пути к матери этого ребенка. Черты сходства с мистериями Великой Богини-матери на острове Самофракия еще недостаточно изучены, однако ввиду вышеизложенного вряд ли можно сомневаться в том, что значительная часть, а возможно, и ядро всего того, что приписывалось мифическому певцу Орфею, было минойского происхождения.⁶
__________________________________
[6] М.-П. Нильссон подходит близко к истине, замечая: «Возможно, в том, что касается орфиков, Крит имел еще большее значение, хотя доказательства этого были уничтожены временем» (Nilsson М.-Р. The Minoan-Mycenaean Religion. 2. ed. Lund, 1950. Р. 581). Доказательства появятся, если не исходить, как это делает Нильссон, из ложного убеждения в том, что орфизм был «спекулятивной религией, созданной, по крайней мере в своих существенных положениях, религиозным гением, который сочетал и трансформировал различные элементы с гениальной независимостью и с уверенностью». Как раз в пользу этого нет никаких доказательств. Напротив, сквозь все эпохи прослеживается неразрывная взаимосвязь культуры, что становится особенно явным благодаря тщательным исследованиям проф. Д. Леви в районе Феста.
«Рожденный на Крите Зевс» и «критский Дионис» не принадлежали к греческим божествам. Они не были отделены друг от друга теми границами, которые очерчивали для греков «Бога» или некое божество в его неизменном облике, — они вообще не существовали по отдельности. Характеризуя их, мы можем воспользоваться выражением, которое Льюис Ричард Фарнелл, известный историк греческой религии, применил к божественному существу, называвшемуся в Олимпии Сосиполидом (Σωσίπολις, «спасающий или охраняющий город») и являвшемуся в облике ребенка или змеи: «Зевс-Дионис Критский». Зевс-Дионис — критский предшественник обоих греческих божеств — самовоспроизводился, меняя форму, по мере прохождения сквозь каждую из фаз своего мифа, сменяющих друг друга, подобно актам театральной драмы.
________________
КОММЕНТАРИИ
Кереньи рассматривает годовой цикл в качестве заимствованного минойцами у египтян. Странно тогда, почему ему не пришла в голову мысль, что и религиозная мистерия годового цикла должна уходить своими корнями туда же. Египетская мистерия, связанная с Осирическим культом, представляет из себя драматическую историю смены одного солярного бога (Осириса) другим (Гор). Эта мифологема переносилась и на обожествляемых фараонов. Царь Египта представлял собой наместника Осириса на земле, т.е. Гора. По смерти фараон сам становился Осирисом, а его место занимал его сын и наследник, который становился Гором.
Кереньи исходит из того, что наиболее древний образ (условного) Критского Диониса — змей, на смену которому пришла иконография быка, которая, в свою очередь, сменилась антропоморфным обликом божества. Но эта теория никак не доказывается той аргументацией, которую он грамотно (но тенденциозно) выстраивает в своей книге. То что Дионис на Крите фиксируется в образе змея, не означает, что в древности это был его единственный образ.
В.Солкин, описывая Хатхор, замечает, что богиня принимает четыре основных образа, так называемые хеперу (ḫprw): женщина, змея, корова, львица. Каждое проявление характеризует состояние богини: женщина — «Золотая Хатхор», богиня любви и мать, дарующая жизнь; змея — охранительница; корова — кормилица, подательница «молока жизни»; львица — богиня карающая всякого, кто нарушает порядок, установленный Ра. В собрании Лувра хранится удивительное изображение богини во всех ее обликах одновременно: как коровы (Хатхор, Нут), змеи (Уаджит), женщины (Хатхор, Мут, Небет Хетепет) и львицы (Сехмет).
Разные образы принимали и мужские божества. Зафиксированы образы Гора (помимо сокола), как волка, гиппопотама, крокодила, того же змея. Иконография Сета еще более разнообразна.
Точно так же и Критский Дионис мог принимать разные образы. Невозможно достоверно отследить как далеко в глубь веков у ходит формула «бык рождает змея, змей рождает быка». Образы и быка, и змея весьма архаичны и вполне могли существовать параллельно. В греческой мифологии и змея, и бык относились преимущественно к образам гениев. Образ змея зафиксировался за гением местности, образ быка отводился гениям рек. Хотя, с учетом того, что города строились по берегам рек (или водоемов), часто гений реки был одновременно и гением города. К тому же гении рек в греческих мифах легко меняют образ как, например, бог реки Ахелой:
Тельцом вбегал он, змеем приползал
Чешуйчатым, показывался мужем
Быкоголовым. С бороды косматой
Текли обильно струи ключевые.
(Софокл «Трахинянки» 11-14)
В трех образах (антропоморфный, змеиный и образ быка с бородатой человеческой головой) предстает и бог реки Алфей. Змеиный образ охранителя места заимствован, видимо, из Египта, где богиней охранительницей Нижнего Египта была Уаджит, часто изображаемая в виде кобры в боевой стойке. Но одновременно можно видеть и антропоморфные древнеегипетские изображения богини.
Образ «небесной коровы» (Нут, Хатхор) или быка (Ра, Апис) был в Египте не менее популярен. Эпитеты, связанные с мощью быка (kȝ nḫt — «побеждающий бык») носили не только боги, но и цари. Но и здесь образ быка (или коровы) никак не мешает наличию антропоморфной иконографии. Кстати, не исключено, что бычий образ греческих гениев рек списан с египетского Аписа. С разливом Нила был связан один из главных праздников года посвященных Апису. Поскольку наполнение пересохшего Нила обильными водами отождествлялось с воскрешением Осириса, то и Апис (как воплощение Осириса) также имел непосредственное отношение к половодью. Ему приносились обильные дары, дабы воды было достаточно для богатых урожаев, но не слишком много, чтобы от наводнения не было ущерба.
В.Иванов отождествляет хтонический образ змея с «зимним» Дионисом, а образ быка, соответственно, с «летним» (возможно, изначально, это были два разных божества). Это могло бы объяснить смысл растерзания змей и быков (козлов). С окончанием времени хтонического Диониса (когда ночь длиннее дня), нужно готовиться к возрождению Диониса «летнего» (образ которого — бык). Но «бык» не может возродиться, пока его место занимает «змей». С этой целью и происходит обряд разрывания змей, как образа «зимнего» бога. Через полгода мистерия повторится, с той разницей, что растерзан будет Дионис в образе быка (или козла).
_______________________________
|
Метки: Загрей Дионис Зевс Бык Греция Мистерии |






