-Метки
Арбат Дежурство алиса ария болезнь встречи выставки гитис день рождения дк зодчие дождь золотая маска интернет кино концерты маска plus маска плюс музеи мультфильмы оловянные солдатики осознанные сновидения парк победы подарки прогулки рецензии ролевые игры сессия словески сны собаки современник спектакли стихи театр театр моссовета театр на покровке театр на юго-западе театр современник театр эрмитаж театры фестивали фестиваль золотая маска фильмы фотографии фэнтези чай школа шоппинг экзамены эрмитаж
-Музыка
- Тэм Гринхилл - Ещё раз о нищих и безумцах
- Слушали: 2341 Комментарии: 1
- Лора Провансаль - Гимн Элберет
- Слушали: 2828 Комментарии: 1
- Эпидемия - Романс о слезе
- Слушали: 2723 Комментарии: 2
- Светлана Сурганова - Весна
- Слушали: 9360 Комментарии: 2
- Янка Дягилева - Нюркина песня
- Слушали: 1382 Комментарии: 0
-Подписка по e-mail
-Поиск по дневнику
-Рубрики
- О времени о жизни о себе (1521)
- Мысли (106)
- Стёб (78)
- Стихи (68)
- Депрессняк (29)
- Бесконечное приключение (25)
- Статьи (18)
- Проза (9)
- Филиал цитатника: не_моё творчество (7)
- Тесты (2)
- Песни (2)
-Фотоальбом

- Мать сыра Природа
- 15:57 20.03.2011
- Фотографий: 92

- Приколы
- 15:54 20.03.2011
- Фотографий: 36

- Моя собака и другие звери
- 15:49 20.03.2011
- Фотографий: 138
-Интересы
-Постоянные читатели
-_Вершитель BarSya DartWeider Weidel Чертополошенка Adanedell Adept665 Alarun BuffoG Buggy Crying_in_the_night Curious_Joe DemonSDA Eldaneuro FechTovalchica HeDoM_AzurA Kross Lora_Natalia Oskol Paradoxish Rayerven S_ivanov Scaldir Stimerium Stormblest Strellock en101 fatamor kondar presviteros svetovid train_in_my_vein xSync zapletatell БЫЛЬ Бель_Вульф Великий_Скиф Влюбленный_Вампир До_Вандейкер Задумчивый_Jack Кай_Лешер Лёна_из_Найлисса Лик_и_Химер Мертвый_ветер ПАБ Русский_Донбасс СЕДЬМОЕ_НЕБО Тёмный_Волк Тареич Тигра_2006
-Сообщества
-Статистика
Записи с меткой спектакли
(и еще 6424 записям на сайте сопоставлена такая метка)
Другие метки пользователя ↓
Арбат Дежурство алиса ария болезнь встречи выставки гитис день рождения дк зодчие дождь золотая маска интернет кино концерты маска plus маска плюс музеи мультфильмы оловянные солдатики осознанные сновидения парк победы подарки практика прогулки рецензии ролевые игры сессия словески сны современник спектакли стихи театр театр моссовета театр на покровке театр на юго-западе театр современник театр эрмитаж театры фестивали фестиваль золотая маска фильмы фотографии фэнтези чай школа шоппинг экзамены эрмитаж
Посмотрела "Ревизора" на Юго-западе |
Дневник |
Дни и ночи каникул продолжают течь до неприличия быстро, вот и сегодня в который уж раз я коротала время с музыкой от пробуждения до вечера, который неизменно обещал мне театр, и в который уж раз обламывалась в своём намерении выйти пораньше и пройтись от дома до метро пешком, ибо после обеда к бабушке приезжала скорая и я едва не опоздала с выходом. Повезло с автобусом, быстро подошедшим к остановке, дабы доставить меня до метро, на котором я в третий и в последний за каникулы раз отправилась до Юго-западной. Дошла до театра я, тем не менее, впритык, но успела до первого звонка купить программку; на сей раз моё место было не с краю пятого, по традиции текущего учебного года, ряда, а в середине шестого, по традиции учебного года прошлого. Предстояли два с половиной часа в полумраке уютной галёрки, антракт с шоколадкой и, конечно же, кое-какие впечатления.
Как и в случае с недавней «Женитьбой», сегодняшнего «Ревизора» на Юго-западе поневоле сравниваешь с «Ревизором» на Покровке, которого я в своё время волею замены посмотрела ажник дважды. Приходится признать, что на удачные режиссёрские находки в интерпретации хрестоматийного гоголевского сюжета Арцибашев оказался щедрее Беляковича: в случае с первым мне чаще доводилось смеяться, тогда как сегодня смеялись только присутствовавшие в зале дети среднего школьного возраста, очевидно, не читавшие самого произведения, так чтобы все шутки классика, мною памятные наизусть, звучали для них в новинку. Впрочем, актёрского обаяния не занимать ни той, ни другой постановке, и Хлестаков-Булдаков с Хлестаковым-Леушиным вполне стоят друг друга, очаровывая с первого взгляда пластикой, мимикой и интонациями. Но если первый был действительно простодушным вралём, по пьяни несущим хвастливую околесицу, то второй кажется талантливым актёром, намеренно эпатирующим публику убедительным исполнением возложенной на него роли. Так же кардинально разнятся и городничие: Сухинин с Покровки представил по-своему мудрого и благородного провинциального служаку старой закалки, не подозревавшего подвоха и растоптанного оным, а Афанасьев с Юго – хитрого и расчётливого чиновника нового времени (под стать его вчерашнему персонажу – бандиту Петру), который единственный сразу раскусил самозванца и, не стремясь развеять иллюзии окружающих, с интересом наблюдает за происходящим, подыгрывает, ждёт неизбежного разоблачения. Остальные герои и там, и там по достоинствам и недостаткам примерно равны, и там, и там радуют жизнеутверждающие музыкальные мотивы (сегодня даже «Боже, царя храни» исполнили), и там, и там не провисает энергичный экшн, и там, и там нашлось место если не лирическим, то хотя бы минорно-трогательным ноткам (на Юго островками уюта среди коррупционного разгула неожиданно стали Добчинский и Бобчинский). В общем и целом, хоть «Ревизор» и не вошёл для меня в число образцовых спектаклей Юго-запада, нельзя не похвалить в очередной раз ту лёгкость и живость, которую приобретают, казалось бы, заезженные программные комедии в руках мастеров, официальной критикой упоминаемые редко и с пренебрежительными характеристиками вроде «периферии», «обочины», «подвала» столичного театрального мира. Вывод: Гоголя, и не только его, смотрим в первую очередь на Юго-западе и на Покровке, господа.
После спектакля, что логично, мне оставалось только дотопать обратно до метро, доехать до родной Молодёги, откуда меня до дома подбросил папа, и настрочить сию рецензию практически без лишних проволочек. И, под занавес, апдейт: новостная лента ой как давно не приносила настолько отрадной информации, как сегодня: каникулы из-за всеобщей паники по поводу свинячьего гриппа (по пятнадцати человек в масках насчитываю каждый день, шутки ли?) продлевают ещё на недельку, чем я и намереваюсь воспользоваться как настоящий маньяк – немедленно отправляюсь составлять «список покупок» по театральным репертуарам на ноябрь. Конечно, к настоящему времени на многие спектакли уже наверняка успели раскупить дешёвые билеты, так что вряд ли мне удастся забить каждый день, как в случае с неделей ещё не окончившейся, но есть ведь ещё кино, выставки и прочие культурные мероприятия, кишащие заразными людьми. Посему – радоваться вам тут или плакать, спорный вопрос, конечно, – ежедневность моих кратких отчётов продлевается ещё на недельку тоже. Ура, товарищи, ура. Феникс цуко щаслев, хотя какой русский человек халяве не порадуется?.. *это был риторический вопрос, и вообще я уже начинаю внаглую флудить и посему лучше затыкаюсь*

Как и в случае с недавней «Женитьбой», сегодняшнего «Ревизора» на Юго-западе поневоле сравниваешь с «Ревизором» на Покровке, которого я в своё время волею замены посмотрела ажник дважды. Приходится признать, что на удачные режиссёрские находки в интерпретации хрестоматийного гоголевского сюжета Арцибашев оказался щедрее Беляковича: в случае с первым мне чаще доводилось смеяться, тогда как сегодня смеялись только присутствовавшие в зале дети среднего школьного возраста, очевидно, не читавшие самого произведения, так чтобы все шутки классика, мною памятные наизусть, звучали для них в новинку. Впрочем, актёрского обаяния не занимать ни той, ни другой постановке, и Хлестаков-Булдаков с Хлестаковым-Леушиным вполне стоят друг друга, очаровывая с первого взгляда пластикой, мимикой и интонациями. Но если первый был действительно простодушным вралём, по пьяни несущим хвастливую околесицу, то второй кажется талантливым актёром, намеренно эпатирующим публику убедительным исполнением возложенной на него роли. Так же кардинально разнятся и городничие: Сухинин с Покровки представил по-своему мудрого и благородного провинциального служаку старой закалки, не подозревавшего подвоха и растоптанного оным, а Афанасьев с Юго – хитрого и расчётливого чиновника нового времени (под стать его вчерашнему персонажу – бандиту Петру), который единственный сразу раскусил самозванца и, не стремясь развеять иллюзии окружающих, с интересом наблюдает за происходящим, подыгрывает, ждёт неизбежного разоблачения. Остальные герои и там, и там по достоинствам и недостаткам примерно равны, и там, и там радуют жизнеутверждающие музыкальные мотивы (сегодня даже «Боже, царя храни» исполнили), и там, и там не провисает энергичный экшн, и там, и там нашлось место если не лирическим, то хотя бы минорно-трогательным ноткам (на Юго островками уюта среди коррупционного разгула неожиданно стали Добчинский и Бобчинский). В общем и целом, хоть «Ревизор» и не вошёл для меня в число образцовых спектаклей Юго-запада, нельзя не похвалить в очередной раз ту лёгкость и живость, которую приобретают, казалось бы, заезженные программные комедии в руках мастеров, официальной критикой упоминаемые редко и с пренебрежительными характеристиками вроде «периферии», «обочины», «подвала» столичного театрального мира. Вывод: Гоголя, и не только его, смотрим в первую очередь на Юго-западе и на Покровке, господа.
После спектакля, что логично, мне оставалось только дотопать обратно до метро, доехать до родной Молодёги, откуда меня до дома подбросил папа, и настрочить сию рецензию практически без лишних проволочек. И, под занавес, апдейт: новостная лента ой как давно не приносила настолько отрадной информации, как сегодня: каникулы из-за всеобщей паники по поводу свинячьего гриппа (по пятнадцати человек в масках насчитываю каждый день, шутки ли?) продлевают ещё на недельку, чем я и намереваюсь воспользоваться как настоящий маньяк – немедленно отправляюсь составлять «список покупок» по театральным репертуарам на ноябрь. Конечно, к настоящему времени на многие спектакли уже наверняка успели раскупить дешёвые билеты, так что вряд ли мне удастся забить каждый день, как в случае с неделей ещё не окончившейся, но есть ведь ещё кино, выставки и прочие культурные мероприятия, кишащие заразными людьми. Посему – радоваться вам тут или плакать, спорный вопрос, конечно, – ежедневность моих кратких отчётов продлевается ещё на недельку тоже. Ура, товарищи, ура. Феникс цуко щаслев, хотя какой русский человек халяве не порадуется?.. *это был риторический вопрос, и вообще я уже начинаю внаглую флудить и посему лучше затыкаюсь*

Метки: театр театры театр на юго-западе спектакли ревизор рецензии |
Посмотрела "Вечер с бабуином" |
Дневник |
Минувшая ночь по традиции закончилась под самый рассвет, но раньше предыдущей, поэтому спала я потом не до обеда, хоть и тоже в лучших традициях совы. Слегка пёрло весь день и прёт до сих пор – видимо, такой образ жизни всё-таки немного действует на нервы; впрочем, внешне это никак не проявлялось, я по-прежнему страдала ерундой, не выключая музыки ни на секунду, регулярно хватаясь за блокнот и неторопливо попивая изумительный ромашковый чай с корицей. А после обеда меня снова понесло с торбой за плечами в промозглую действительность, где старый снег уже почти везде стаял, а нового ещё не нападало, по давешнему маршруту – не опять, а снова – на маршрутке до метро и на метро до старого доброго Юго. Завалившись в любимый театр, я по традиции приобрела программку, изучила её в холле, с первым звонком заняла своё место с краю пятого ряда и дождалась, пока многочисленных желающих не рассадят по всем возможным горизонтальным поверхностям. Впереди было не много не мало, а почти три часа сплошного удовольствия с антрактом – а по продолжительным спектаклям и шоколадкам в антрактах я уже успела соскучиться.
Летом прошлого года на Юго-западе состоялась премьера по современной и, как современным и полагается, злободневной пьесе Макса Кантора под названием «Вечер с бабуином». Социально-политическая тема для Беляковича не то чтобы в новинку, – вспоминается и «Калигула», и, отчасти, притчевый «Дракон», - но тем не менее приятно было видеть, что сей блестящий режиссёр справился с канторовской разоблачительной антиутопией на отлично. Сюжет замечателен в своей прозрачности и простоте: богатый бандит с императорским именем Пётр (Афанасьев) страдает манией величия, фетишизмом на антиквариат и дефицитом общения и поэтому устраивает добровольно-принудительную игру в «очко» с «крышуемой» им творческой интеллигенцией в подлинных костюмах XVIII века и жутковато бледном, с пятнами румянца, гриме. Всё «по понятиям»: раз денег нет – на кон ставятся человеческие жизни, но закончится всё, конечно же, неожиданно – недаром так настойчиво хозяин предлагает гостям «импровизировать». Однако дело не в изящной ситуации: в аристократически-блатном кругу ведутся разговоры о – ни много ни мало – становлении новой цивилизации, воплощением которой, по примеру Людовика XIV («Государство – это я!»), искренне считает себя Пётр, вдохновенно культивирующий «общественное благо» по принципу «чёрные бегают, а белые играют в шахматы». Этот теневой диктатор и его поклонники с трогательной убеждённостью ставят себя выше «аборигенов», которые «должны по жизни» спонсировать строительство бандитократии (что есть ничто иное, как демократия, подлинная сущность которой в пьесе раскрывается чертовски живописно) по причинам неспособности к сопротивлению пресловутому праву сильного. И, казалось бы, логика на их стороне: ведь, действительно, именно бандиты определяют ход истории, устанавливая свою власть над готовой подчиняться человеческой массой… Но автор наглядно демонстрирует, что настоящие варвары – это сами поборники философии «все равны, но некоторые равнее» (это я уже Оруэлла зацитировала, если кто не в курсе), а отнюдь не «аборигены»: риторика во славу гипотетического бабуина, первым сожравшего более слабого сородича и тем самым положившего начало эволюции человека разумного, заканчивается вполне реальным ритуальным пожиранием деликатесов из плоти «лоха» и прочими, менее фантастичными, но не менее страшными унижениями. Этот гротескный пасквиль можно было испортить напрочь нагнетанием мрачной обстановки, ненужными параллелями с узнаваемыми лицами эпохи девяностых-двухтысячных, дешёвым морализаторством и Бог знает чем ещё, но у Беляковича получилась отменная трагикомедия, удерживающая должное напряжение и вовремя разбавляющая его аппетитным чёрным юмором, эстетично оформленная и радующая потрясающе эмоциональной актёрской игрой. Для меня эта история явилась очередным подтверждением одной из моих любимых теорий – о заведомой деструктивности прогресса, неизбежно ведущего человечество к самоубийству, и косвенно – ещё одной, о тождественности специфизма шовинизму; об этом я могу писать многими страницами, но сейчас о другом. Для других эта история может стать качественным и доходчивым пинком под то самое место, которое более других достойно стать символом потребленческого (чтобы не сказать непечатнее) общества – а такие пинки нужны всегда, посему и советую читающим сию строку «Бабуина» если не посмотреть, то хотя бы прочитать: вдруг появится на языке привкус человечины?..
Спектакль закончился, довольная и слегка всё-таки загруженная я отстояла очередь в гардероб, попрощалась с Юго ненадолго – до завтра, точнее, уже до сегодня – и потопала обратно до метро, доехала до родной Молодёги и пешком вдоль дорог добралась до дома. Пост, как видите, занял у меня вкупе со всеми побочными отвлекающими моментами столько же времени, сколько иногда занимает вся моя ночная посиделка за монитором в целом, но сегодня бдение ещё продолжится, а с вами прощаюсь до следующей рецензии)

Летом прошлого года на Юго-западе состоялась премьера по современной и, как современным и полагается, злободневной пьесе Макса Кантора под названием «Вечер с бабуином». Социально-политическая тема для Беляковича не то чтобы в новинку, – вспоминается и «Калигула», и, отчасти, притчевый «Дракон», - но тем не менее приятно было видеть, что сей блестящий режиссёр справился с канторовской разоблачительной антиутопией на отлично. Сюжет замечателен в своей прозрачности и простоте: богатый бандит с императорским именем Пётр (Афанасьев) страдает манией величия, фетишизмом на антиквариат и дефицитом общения и поэтому устраивает добровольно-принудительную игру в «очко» с «крышуемой» им творческой интеллигенцией в подлинных костюмах XVIII века и жутковато бледном, с пятнами румянца, гриме. Всё «по понятиям»: раз денег нет – на кон ставятся человеческие жизни, но закончится всё, конечно же, неожиданно – недаром так настойчиво хозяин предлагает гостям «импровизировать». Однако дело не в изящной ситуации: в аристократически-блатном кругу ведутся разговоры о – ни много ни мало – становлении новой цивилизации, воплощением которой, по примеру Людовика XIV («Государство – это я!»), искренне считает себя Пётр, вдохновенно культивирующий «общественное благо» по принципу «чёрные бегают, а белые играют в шахматы». Этот теневой диктатор и его поклонники с трогательной убеждённостью ставят себя выше «аборигенов», которые «должны по жизни» спонсировать строительство бандитократии (что есть ничто иное, как демократия, подлинная сущность которой в пьесе раскрывается чертовски живописно) по причинам неспособности к сопротивлению пресловутому праву сильного. И, казалось бы, логика на их стороне: ведь, действительно, именно бандиты определяют ход истории, устанавливая свою власть над готовой подчиняться человеческой массой… Но автор наглядно демонстрирует, что настоящие варвары – это сами поборники философии «все равны, но некоторые равнее» (это я уже Оруэлла зацитировала, если кто не в курсе), а отнюдь не «аборигены»: риторика во славу гипотетического бабуина, первым сожравшего более слабого сородича и тем самым положившего начало эволюции человека разумного, заканчивается вполне реальным ритуальным пожиранием деликатесов из плоти «лоха» и прочими, менее фантастичными, но не менее страшными унижениями. Этот гротескный пасквиль можно было испортить напрочь нагнетанием мрачной обстановки, ненужными параллелями с узнаваемыми лицами эпохи девяностых-двухтысячных, дешёвым морализаторством и Бог знает чем ещё, но у Беляковича получилась отменная трагикомедия, удерживающая должное напряжение и вовремя разбавляющая его аппетитным чёрным юмором, эстетично оформленная и радующая потрясающе эмоциональной актёрской игрой. Для меня эта история явилась очередным подтверждением одной из моих любимых теорий – о заведомой деструктивности прогресса, неизбежно ведущего человечество к самоубийству, и косвенно – ещё одной, о тождественности специфизма шовинизму; об этом я могу писать многими страницами, но сейчас о другом. Для других эта история может стать качественным и доходчивым пинком под то самое место, которое более других достойно стать символом потребленческого (чтобы не сказать непечатнее) общества – а такие пинки нужны всегда, посему и советую читающим сию строку «Бабуина» если не посмотреть, то хотя бы прочитать: вдруг появится на языке привкус человечины?..
Спектакль закончился, довольная и слегка всё-таки загруженная я отстояла очередь в гардероб, попрощалась с Юго ненадолго – до завтра, точнее, уже до сегодня – и потопала обратно до метро, доехала до родной Молодёги и пешком вдоль дорог добралась до дома. Пост, как видите, занял у меня вкупе со всеми побочными отвлекающими моментами столько же времени, сколько иногда занимает вся моя ночная посиделка за монитором в целом, но сегодня бдение ещё продолжится, а с вами прощаюсь до следующей рецензии)

Метки: театр театры театр на юго-западе спектакли вечер с бабуином рецензии |
Посмотрела "Парашютиста" |
Дневник |
Вы когда-нибудь видели вокруг луны – на порядочном от неё расстоянии краями – золотого кольца? Я увидела его сегодня ночью, в очередной раз подняв глаза от монитора в окно, за которым луна, ещё круглая и пульсирующе-яркая, медленно спускалась с зенита на уровень моего этажа. Это кольцо было объёмным, светлее и прозрачнее по краям, темнее и плотнее в середине, внутри него луна плавала в центре молочно-белёсого круга собственного света, а само оно не светилось, и вокруг него было обычное тёмное небо с облаками посветлей. Оно явно не имело отношения к луне, не было ею порождено, а существовало само себе и представляло из себя одно из самых красивых зрелищ, когда-либо виденных мною во сне и наяву, так что больше оторвать от него глаз не представлялось никакой возможности, а мурашки то и дело пробегали по всему телу. Однако постепенно под луной скопилось большое густо-чернильное пятно, шевелящееся и видоизменяющееся, и начало снизу наплывать на кольцо и пожирать его. Закрыв его, оно окружило луну и стало медленно сжимать хватку, и луна всё блёкла и блёкла, пока в пять утра не исчезла вовсе за пятном, которое затянуло уже всё обозримое небо сплошной беспроглядной темнотой. Я легла спать, немедленно отрубилась и проснулась только к полудню, вполне выспавшись, остаток дня до обеда скоротала за всякой ерундой и при этом умудрилась закопаться и не осуществить первоначального замысла выйти пораньше и прогуляться до метро пешком. Доехав до метро, я отправилась до Юго-западной – открывать в любимом театре трёхдневный марафон очередным спектаклем под названием «Парашютист»; прибыла, как обычно, не поздно и не рано, приобрела программку, посидела в её компании в коридоре, с первым звонком вошла в зал и со своего крайнего места в пятом ряду принялась наблюдать за заполнением зала. И вот свободных кресел и ступенек не осталось, и всего на полтора часа долгожданное действо началось.
Каким обычно бывает последнее желание перед Смертью? Закурить, выпить, поцеловать жену… а парашютист Лацис (Санников) попросил у своей Смерти (Борисова) жизнь, и та машинально оставила его на белом свете «на халяву». Но ошибку нужно исправлять, и Смерть выходит на охоту за сорвавшейся добычей – ничего личного, просто чтобы на работе уважали. Однако Смерть – не мифический монстр, а всего лишь женщина, и именно за развитием её чувств к жизнелюбивому «клиенту» следит зритель замечательной чернушной комедии Селина. Будет отменно смешно, будет по-настоящему грустно, а главное – будет чертовски красиво: все спектакли Юго-запада эстетичны до максимума, но использование театра теней и заимствование кинематографических выразительных средств в этой яркой зарисовке получились настолько удачными режиссёрскими находками, что хочется любоваться снова и снова. С кажущейся поразительной лёгкостью, всего лишь с помощью массовки, редко выходящей из-за подсвеченных экранов, да ширм и вентиляторов создаётся атмосфера то свободного падения в воздушном пространстве, то погружённого в сумерки города, то залитого солнцем морского побережья – и неистребимого циничного оптимизма заодно. Радующее слух музыкальное оформление, как всегда безупречная актёрская игра (в трио к вышеупомянутым – Горбунов-Матошин, ещё один харизматичный персонаж замечательного актёра, да поразительно точные и обаятельные «народные типажи»), энергичный экшн без провисания – тоже из числа бесчисленных достоинств этой короткой, но столь приятной по смыслу и интересной по оформлению постановки. Хочется ещё. Смотреть – обязательно: качественный юмор и актуальная житейская философия редко сочетаются в такой аппетитной пропорции.
По окончании спектакля я неторопливо пошагала обратно к метро, доехала до родной Молодёги, машинально дошла почти до самой остановки, забыв, что изначально собиралась опять-таки пройтись до дома пешком, и опять-таки забила, приехав на маршрутке. Теперь у меня впереди очередная ночь, полностью или частично посвящённая дуракавалянию, у вас – завтрашняя свежая рецензия, засим не вижу смысла долее никого задерживать)

Каким обычно бывает последнее желание перед Смертью? Закурить, выпить, поцеловать жену… а парашютист Лацис (Санников) попросил у своей Смерти (Борисова) жизнь, и та машинально оставила его на белом свете «на халяву». Но ошибку нужно исправлять, и Смерть выходит на охоту за сорвавшейся добычей – ничего личного, просто чтобы на работе уважали. Однако Смерть – не мифический монстр, а всего лишь женщина, и именно за развитием её чувств к жизнелюбивому «клиенту» следит зритель замечательной чернушной комедии Селина. Будет отменно смешно, будет по-настоящему грустно, а главное – будет чертовски красиво: все спектакли Юго-запада эстетичны до максимума, но использование театра теней и заимствование кинематографических выразительных средств в этой яркой зарисовке получились настолько удачными режиссёрскими находками, что хочется любоваться снова и снова. С кажущейся поразительной лёгкостью, всего лишь с помощью массовки, редко выходящей из-за подсвеченных экранов, да ширм и вентиляторов создаётся атмосфера то свободного падения в воздушном пространстве, то погружённого в сумерки города, то залитого солнцем морского побережья – и неистребимого циничного оптимизма заодно. Радующее слух музыкальное оформление, как всегда безупречная актёрская игра (в трио к вышеупомянутым – Горбунов-Матошин, ещё один харизматичный персонаж замечательного актёра, да поразительно точные и обаятельные «народные типажи»), энергичный экшн без провисания – тоже из числа бесчисленных достоинств этой короткой, но столь приятной по смыслу и интересной по оформлению постановки. Хочется ещё. Смотреть – обязательно: качественный юмор и актуальная житейская философия редко сочетаются в такой аппетитной пропорции.
По окончании спектакля я неторопливо пошагала обратно к метро, доехала до родной Молодёги, машинально дошла почти до самой остановки, забыв, что изначально собиралась опять-таки пройтись до дома пешком, и опять-таки забила, приехав на маршрутке. Теперь у меня впереди очередная ночь, полностью или частично посвящённая дуракавалянию, у вас – завтрашняя свежая рецензия, засим не вижу смысла долее никого задерживать)

Метки: театр театры театр на юго-западе спектакли парашютист рецензии луна |
Посмотрела "Зелёную птичку" |
Дневник |

В минувшую ночь я преспокойно прободрствовала до половины пятого утра без всяких желаний на поспать, хоть и утром, то бишь уже практически днём, мне и стоило немалых усилий воли поднять с кровати уже давно проснувшуюся себя. Конечно же, я ничего не написала – загад не бывает богат – хотя много всего переслушала и перечитала в попытках приманить вдохновение. Первая половина дня тоже прошла под музыку и без особых общественно полезных свершений, а после обеда по традиционной схеме я собралась, нацепила таки безвкусную стерильную повязку (бандана давеча, как выяснилось, слегка покрасила мне нос и после этого во время стирки ещё долго исходила чёрной краской, так что лучше её своим дыханием не домучивать) и пошагала к автобусной остановке, откуда на маршрутке добралась до метро. На сей раз путь лежал до Чеховской, где я поднялась на поверхность на бульваре, дотопала до поворота на Тверскую и встала перед выбором направления – влево или вправо, по этой стороне дороги или по противоположной мне полагалось идти в театр Юного зрителя, я не помнила напрочь. Ничтоже сумняшеся я избрала самый близкий путь – тупо завернуть за угол и двинуться вперёд и вперёд, надеясь, что где-то там меня ждёт заветный Мамоновский переулок, но десятки метров проходили, а переулка всё не было. Тогда в меня закрались сомнения, я начала спрашивать дорогу и, к счастью, нарвалась на тётку, пославшую меня в противоположном направлении. Вернувшись к перекрёстку, я спустилась в подземный переход, согласно своему излюбленному методу ориентирования в пространстве пошла по нему до конца, а именно – до другого выхода из метро, и вспомнила наконец, в какую сторону оттуда надо идти дальше. Выйдя на нужную сторону Тверской, я благополучно дошла до искомого Мамоновского, вовремя прибыла во МТЮЗ и, продемонстрировав на входе свой билет куда-то высоко и далеко, получила предложение обратиться к администратору и обменять его на пригласительный на место в партер по причине плохой заполненности зала. Возблагодарив эпидемию гриппа, всё-таки заставившую, видимо, некоторую часть населения отказаться от культурной жизни (да и количество людей в масках вокруг возрастает в геометрической прогрессии день ото дня, так что это уже напоминает всенародный флэшмоб), я так и поступила – мне выписали пригласительный, и я прошла в холл, провонявший туалетом и шумный от обилия приведённых на спектакль групп детей. Купив программку и обозрев сувениры, я поднялась на второй этаж, помаячила немного там и после первого же звонка заняла своё новообретённое место где-то ряду в восьмом, вскоре передвинулась поближе к серёдке, а там и вовсе, видя, что в заполненном преимущественно детьми зале полно свободных мест, устроилась в середине третьего ряда и там осталась.
Без всякого на то умысла с моей стороны я за короткий срок осуществила своё первое знакомство с двумя театрами – сначала Сатириконом, а сегодня МТЮЗом – спектаклями по Карло Гоцци: «Синим чудовищем» и «Зелёной птичкой» соответственно. Сравнения напрашиваются сами собой – и странное дело: «Чудовище», от комедии дель арте отошедшее в цирковые степи, умудрилось сохранить дух венецианского карнавала, а «Птичка» со всеми полагающимися масками и обильно пересыпанная псевдоитальянской речью показалась внепространственной и вневременной. И это скорее плохо, нежели хорошо – с гротескной вычурностью костюмов резко контрастируют пустота вместо декораций, безыскусность реквизита, отсутствие спецэффектов, обидная банальность светового и музыкального оформления. Вторая странность – «Чудовище» было во многих эпизодах отменно забавным, однако сохранило весь наличествующий в произведении смысл, тогда как «Птичка» на удачные шутки поскупилась, а всю философию, лирику и драматизм упростила до пафоса и морализаторства. Быть может, дело в актёрской игре – чувствуется мастерство актёров к перевоплощению, но чрезмерно детский настрой постановки вынуждает их переигрывать, превращая живых персонажей в типизированных клоунов с новогодней ёлки. Вызывают недоумение и попытки пропеть отдельные части текста, особенно финальная песня под фанеру, и выбор женщины, а не мужчины на роль короля – Зелёной птички, влюблённого в одну из главных героинь, Барбарину (вряд ли это обуславливается тем, что в конечном итоге из них получилась вполне эстетично смотрящаяся пара), и – при общей детскости – промельк нижепоясного юмора, и мозолящие взгляд слуги просцениума в чёрном. Но спасибо на том, что заскучать не пришлось – я увидела лёгкую, обречённую на всеобщий хэппи-энд сказку для аудитории младшего школьного возраста, не провисающую в сюжете, но и не вызывающую ярких эмоций и впечатлений (несколько примиряет с этим только не по-гоцциевски трогательный, семейственно-уютный финал со всеобщим снятием масок – человеческие лица, как-никак, симпатичнее будут). Советую как приятное зрелище для разового просмотра в целях отдыха от более серьёзных вещей.
Спектакль закончился спустя примерно два с половиной часа, порадовав меня антрактом, в котором я смогла наконец съесть шоколадку. По его окончании я дотопала обратно до перехода, вошла из него на территорию Рейха и, добравшись до Чеховской, поехала до родной Молодёги, откуда папа снова доставил меня домой. И вот – пост в рамках совмещения приятного с полезным дописан, остальное приятное остаётся на ночь, следующее полезное можете ждать уже завтра примерно в то же время, после моего очередного каникульного визита в театр. Доброй ночи всем)
Метки: театр театры театр юного зрителя московский театр юного зрителя тюз мтюз спектакли рецензии зеленая птичка зелёная птичка |
Посмотрела "Женитьбу" на Юго-западе |
Дневник |
Давеча меня начало вырубать ещё до полуночи, посему я уползла спать сразу же, как только дописала рецензию, не задерживаясь долее ни на минуту. Выспавшись, я первую половину сегодняшнего дня скоротала с музыкой, чужими и собственными стихами, флудом и прочими разновидностями блаженного безделья, пока не заметила по окончании обеда, что пора уже снаряжаться в путь-дорогу. Бандана продолжила выполнять функции стерильной маски – мама только радуется, что она мне идёт, а меня радует, как в общественных местах люди громко обсуждают меня при мне, словно повязка закрывает мне не только рот и нос, но и уши. На маршрутке добравшись до метро, а на метро – до Юго-западной, я первым делом направилась к тому самому киоску, где с лета искушал меня один из выпусков журнала «Автолегенды СССР» с моделью чёрной Чайки – теперь у меня была часть подаренной мне на др суммы, и я, не запомнив цену, сунула тысячу, взяла сдачу и заграбастала под мышку заветную упаковку и пошагала под снегопадом к театру. На ЮЗ уже было многолюдно, и не успела я купить программку и помыть руки в надежде на антракт с возможностью съесть шоколадку, как в зал начали пускать, и я устроилась на ставшем привычным месте на краю пятого ряда, успев напугать какую-то девушку, поинтересовавшуюся, не грипп ли часом у меня; я ответила отрицательно, хотя был соблазн сказать «да» и остаться на ряду в одиночестве. Но вот многочисленные зрители расселись, и без всяких антрактов началась «Женитьба» - та самая, гоголевская, но и в не меньшей степени Юго-западная.
Главная «замануха» спектакля – конечно же, то, что актрис в нём нет, одни актёры: возводя здесь в абсолют общеизвестную Юго-западную «брутальность» и иронизируя над ней, режиссёр обе женские роли, сваху и непосредственно невесту, отдал мужчинам. Но отнюдь не на этой хохме строится юмор комедии – переигрывать и скатываться в вульгарность они не собираются и потому смотрятся настолько естественно и органично, словно именно так всё должно было быть. Смеёшься не над этим, смеёшься над всеми козырями труппы – пластикой и жестами, мимикой и интонациями, так что нет никакой необходимости переиначивать оригинальный гоголевский текст – каждый эпизод и каждая реплика по-настоящему смешны вне зависимости от того, сколько раз ты их уже читал и слышал. Получилось фонтанирующее удачными находками и пестрящее чертовски симпатичными персонажами весёлое и праздничное зрелище под узнаваемые мотивы, не стремящееся, в отличие от «Женитьбы», некогда виденной мною на Покровке, к хронологическому национальному колориту, лирике и философии. Это просто комедия – зато, что сейчас редкость, комедия качественная, по-настоящему заряжающая позитивными эмоциями. Да и ради одного только дуэта Матошин (Кочкарёв) – Леушин (Подколесин) стоит её смотреть – эта парочка, как всегда, великолепно сочетается, дополняя и оттеняя друг друга. Всё хорошо – только, во-первых, мало и хочется ещё, а во-вторых – хвалить всегда сложнее, чем ругать, так что сами лучше всё увидите.

После спектакля, несмотря на то, что поржала я как следует, роскошные крупные снежинки, плавно опускающиеся откуда-то с начавшей убывать луны (Самхейн выпал в этом году на полнолуние – гражданки девственницы, если таковые присутствуют, не пытался ли кто вызвать Дикую Охоту?), снова настроили меня на лирический лад. Подремав в метро, я доехала до родной Молодёги, пополнила запасы продовольствия (услышали боги мои молитвы – в Трамплине пакеты теперь платные, может, люди больше не будут набирать их по нескольку штук без особой надобности), и там меня встретил папа и довёз до дома. Дома я распаковала свою покупку - первый материальный (в смысле, что спектакли не считаются) мой подарок себе на др; Чайка оказалась без подставки, с крутящимися колёсами, как обычная машинка, но главное, что красивая. Сейчас, с грехом пополам добив коротенький маловразумительный пост ввиду отвлекающих факторов, я собираюсь провести эту ночь более продуктивно, нежели предыдущую – для этого у меня есть Наше радио и много мандаринов – так что завтра утром, возможно, выложу законченный стих. А даже если и нет – вечером aka ночью вас снова будет ждать рецензия)

Главная «замануха» спектакля – конечно же, то, что актрис в нём нет, одни актёры: возводя здесь в абсолют общеизвестную Юго-западную «брутальность» и иронизируя над ней, режиссёр обе женские роли, сваху и непосредственно невесту, отдал мужчинам. Но отнюдь не на этой хохме строится юмор комедии – переигрывать и скатываться в вульгарность они не собираются и потому смотрятся настолько естественно и органично, словно именно так всё должно было быть. Смеёшься не над этим, смеёшься над всеми козырями труппы – пластикой и жестами, мимикой и интонациями, так что нет никакой необходимости переиначивать оригинальный гоголевский текст – каждый эпизод и каждая реплика по-настоящему смешны вне зависимости от того, сколько раз ты их уже читал и слышал. Получилось фонтанирующее удачными находками и пестрящее чертовски симпатичными персонажами весёлое и праздничное зрелище под узнаваемые мотивы, не стремящееся, в отличие от «Женитьбы», некогда виденной мною на Покровке, к хронологическому национальному колориту, лирике и философии. Это просто комедия – зато, что сейчас редкость, комедия качественная, по-настоящему заряжающая позитивными эмоциями. Да и ради одного только дуэта Матошин (Кочкарёв) – Леушин (Подколесин) стоит её смотреть – эта парочка, как всегда, великолепно сочетается, дополняя и оттеняя друг друга. Всё хорошо – только, во-первых, мало и хочется ещё, а во-вторых – хвалить всегда сложнее, чем ругать, так что сами лучше всё увидите.

После спектакля, несмотря на то, что поржала я как следует, роскошные крупные снежинки, плавно опускающиеся откуда-то с начавшей убывать луны (Самхейн выпал в этом году на полнолуние – гражданки девственницы, если таковые присутствуют, не пытался ли кто вызвать Дикую Охоту?), снова настроили меня на лирический лад. Подремав в метро, я доехала до родной Молодёги, пополнила запасы продовольствия (услышали боги мои молитвы – в Трамплине пакеты теперь платные, может, люди больше не будут набирать их по нескольку штук без особой надобности), и там меня встретил папа и довёз до дома. Дома я распаковала свою покупку - первый материальный (в смысле, что спектакли не считаются) мой подарок себе на др; Чайка оказалась без подставки, с крутящимися колёсами, как обычная машинка, но главное, что красивая. Сейчас, с грехом пополам добив коротенький маловразумительный пост ввиду отвлекающих факторов, я собираюсь провести эту ночь более продуктивно, нежели предыдущую – для этого у меня есть Наше радио и много мандаринов – так что завтра утром, возможно, выложу законченный стих. А даже если и нет – вечером aka ночью вас снова будет ждать рецензия)

Метки: рецензии театры театр спектакли женитьба театр на юго-западе машинки миниатюры чайка |
Посмотрела "Федру" |
Дневник |
В ночь на понедельник я уползла спать только в районе половины пятого, поскольку будильник был заведён на достаточно гуманное время – в школу я ехала исключительно на последнюю третью-четвёртую пару, писать школьную олимпиаду по литературе. Когда я нашла кабинет, мероприятие уже было в самом разгаре; мне выдали распечатки с заданием, тетрадка на сей раз была у меня с собой, и я включилась в работу. Задание просило проанализировать поэтический или прозаический кусок, но дан нам был только последний в лице рассказа Шукшина, по которому я накатала короткое злое эссе – вряд ли то, что от меня требовалось, но на большее меня не хватило. Вечером того же дня я вычитала на сайте Юго-запада – «сегодня началась продажа билетов». Обычно они пишут «завтра», а на сей раз я была застигнута врасплох, ехать за билетами маме пришлось во вторник, и на декабрь был куплен только один билет – на Самоубийцу, а на Встречу с песней ничего дешёвого уже не оставалось. Во вторник в лицее с прошедшим др меня поздравила Асёна, подарив как «человеку с твёрдой религиозной и гражданской позицией» (спорное определение, конечно) весьма неожиданную книжку – составленный Улицкой сборник историй о волонтёрах, помогающих больным детям – преимущественно священниках, ибо корни описываемого волонтёрства находятся в небезызвестной добровольческой группе о. Меня (вечером книжка, как опиум для народа, была конфискована роднёй, надеюсь снова когда-нибудь её увидеть, ибо интересно ж). До конца лицейских пар мы с Асей не досидели – у неё спонтанно возникло желание пробить последнюю пару социологии, я охотно присоединилась (мы вроде за весь текущий учебный год ещё ни разу прежде социологию не пробивали), и сначала стаскались в монастырскую трапезную забрать мои сапоги в пакете, которые я там забыла во время обеденного перерыва, а потом минут на 15 дали кругаля по окрестностям. Среда не была ничем особо примечательна, не считая того, что в ночь на четверг я вырубила комп только в пафосное время 3.33, зато начала писать новый стих (да, тот, что про Маленького принца, временно отложен). Ночь на пятницу порадовала первым снегом – сначала я любовалась луной, которая изредка просвечивала среди быстро несущихся облаков, как будто тлела в клубящемся дыму, то разгораясь ярче, то постепенно затухая. И вдруг, в очередной раз подняв глаза на окно, я увидела колышущийся белый покров, накрывший улицу внизу и оседающий белизной на траве и листьях, почти полностью уже голых деревьях, асфальте, автомобилях. Облака остановились, и луна сияла золотой монетой точно напротив окна, и лишь изредка мимо неё проносились какие-то чёрные лоскутья. С переменной густотой снег шёл, пока я не ушла спать примерно на час раньше, чем прошлой ночью; вчера в школу я сходила только на алгебру и школьную олимпиаду по инглишу, о которой нас заранее не предупреждали, а французского не было по причине сокращённого дня – последнего перед каникулами. Изначально я хотела пятничным вечером сходить в кино, но никаких подходящих сеансов в подходящие кинотеатры на подходящие фильмы афиша мне не предложила, и я забила и профлудила почти до четырёх утра сегодняшнего дня в своё удовольствие. Снег же порошил и вчера днём, и сегодня, подтаивая в промежутках, причём сегодня он уже был по-зимнему крупным, густым и красивым, и очень приятно под него было слушать Наше, писать черновики и пытаться жонглировать яблоками. После обеда пора было вскоре уходить; мама настояла на повязке против гриппа, и я, дабы не напяливать скучную медицинскую, вспомнила, что у меня с прошлого дня рождения лежит подаренная Денисом чёрная бандана в красные значки анархии и белые надписи, гласящие, что она, родимая, – мать порядка. Эта бандана, ещё ни разу прежде не надетая, то бишь практически стерильная, и закрыла моё лицо по самую середину переносицы, а оказавшиеся в карманах извлечённого из шкафа пальто пролежавшие там с прошлого же сезона старые беспальцовки с дырищей во всю левую ладонь да верный алисовский шарф дополнили образ существа, собирающегося не в театр, а на несанкционированный митинг (вы думаете, я в театре бандану сняла? А вот и нет, не для того завязывала – сняла только, вернувшись домой). Пугая некоторых встречных, я отправилась на маршрутке до метро, а на метро до Арбатской, откуда пошагала по бульварам до театра имени Пушкина; дошагала рано и минут десять изображала почётный караул перед входом в забитый людьми предбанник с кассой, пока в театр не начали пускать. Мимо какого-то деда, громко проворчавшего мне в спину, что «больные должны сидеть дома», я влилась в холл с потоком народа, приобрела программку и свежий номер журнала «Театрал», забила на своё место где-то в ложе не то бельэтажа, не то балкона (читай – в жопе мира) и устроилась поближе ко входу в партер. Начал заполняться он медленно, однако же верно – спектакль задерживали уже минут на десять, а народ всё тянулся и тянулся, и при моих попытках занять свободное местечко в пределах первых шести рядов меня сгоняли раз пять, пока, наконец, я не оказалась где-то чуть дальше запланированного и с самого края у стены, однако всё равно достаточно близко, чтобы бинокль не был нужен. Смотреть же и слышать из почти битком забившегося кашляющего зала предстояло премьеру, сделанную совместно с французским театром Le Phenix в рамках Чеховского международного театрального фестиваля.
Убедиться, что в античной мифологии есть множество трагедий не хуже шекспировских, можно, лишь прочитав незаконченную трилогию Цветаевой, в частности – поставленную в Пушкинке и сыгранную сегодня «Федру». Традиционные элементы – наследственные проклятия, интриги мстительных богов, запретная любовь – облечены в чёткие рваные ритмы, в псевдоустаревшие вычурные эпитеты. Хотелось, после символистской «Царицы Тамары», увидеть на сцене антураж или Древней Греции, или Серебряного века, а лучше – и того и другого, а вместо этого, в лучших традициях современного европейского театра, я получила груду досок да неизбежный видеозадник. Сложный текст молодёжью читается натужной скороговоркой, не порадовала даже исполнительница главной роли – де-юре французская актриса Татьяна Степанченко, частенько переигрывавшая, казавшаяся то чрезмерно вульгарной, то слишком экзальтированной. У её партнёра-Ипполита, Алексея Франдетти, наблюдалась другая крайность – обидная, при приятной внешности, скованность и деревянность. Зато неожиданно приятно было видеть «ветеранов» - кормилицу-Веру Алентову, Тезея-Андрея Заводюка и Слугу-Андрея Терехина: декламируют мастерски, играют с душой, задавая эмоциональный тон всему спектаклю и напрочь затмевая всех остальных живой и искренней подачей персонажей. Но сильного отклика спектакль не находит всё равно – слушать и иногда смотреть приятно, однако сочувствия ни к Федре, полюбившей своего пасынка и отвергнутого им, ни к Ипполиту, предводителю охотников Артемиды и гордому женоненавистнику, павшему жертвой клеветы, не возникает, и сочувствием к героям второстепенным это не искупается. Неужели и вправду цветаевская пьеса, согласно её собственным заверениям, создана не для сцены – со всеми своими длинными монологами, минимумом событий, неразвивающимися характерами?.. Хочется верить, что нет – ведь такие притчи, как «Царь Эдип» и «Антигона», вполне сценичны. Поэтому – смотрим, что уже есть, и надеемся на то, что ещё будет сделано на поприще освоения русским театром наследия поэтического символизма.
После спектакля я тем же маршрутом дотопала обратно до метро; на подступах к Арбату было уже вполне заметно, что народ праздновал и празднует Хэллоуин. А ныне, уже добравшись на метро и маршрутке до дома и закончив пост при всех отвлекающих факторах, я поздравляю всех с этим симпатичным праздником – Самайном aka днём Всех Святых и тороплюсь уползти баиньки, ибо хочется. На этом можно считать осенние каникулы торжественно открытыми – теперь до самого их конца у меня будет театр каждый Божий вечер, плюс про кино забывать не следует, посему прощаюсь до завтра)

Убедиться, что в античной мифологии есть множество трагедий не хуже шекспировских, можно, лишь прочитав незаконченную трилогию Цветаевой, в частности – поставленную в Пушкинке и сыгранную сегодня «Федру». Традиционные элементы – наследственные проклятия, интриги мстительных богов, запретная любовь – облечены в чёткие рваные ритмы, в псевдоустаревшие вычурные эпитеты. Хотелось, после символистской «Царицы Тамары», увидеть на сцене антураж или Древней Греции, или Серебряного века, а лучше – и того и другого, а вместо этого, в лучших традициях современного европейского театра, я получила груду досок да неизбежный видеозадник. Сложный текст молодёжью читается натужной скороговоркой, не порадовала даже исполнительница главной роли – де-юре французская актриса Татьяна Степанченко, частенько переигрывавшая, казавшаяся то чрезмерно вульгарной, то слишком экзальтированной. У её партнёра-Ипполита, Алексея Франдетти, наблюдалась другая крайность – обидная, при приятной внешности, скованность и деревянность. Зато неожиданно приятно было видеть «ветеранов» - кормилицу-Веру Алентову, Тезея-Андрея Заводюка и Слугу-Андрея Терехина: декламируют мастерски, играют с душой, задавая эмоциональный тон всему спектаклю и напрочь затмевая всех остальных живой и искренней подачей персонажей. Но сильного отклика спектакль не находит всё равно – слушать и иногда смотреть приятно, однако сочувствия ни к Федре, полюбившей своего пасынка и отвергнутого им, ни к Ипполиту, предводителю охотников Артемиды и гордому женоненавистнику, павшему жертвой клеветы, не возникает, и сочувствием к героям второстепенным это не искупается. Неужели и вправду цветаевская пьеса, согласно её собственным заверениям, создана не для сцены – со всеми своими длинными монологами, минимумом событий, неразвивающимися характерами?.. Хочется верить, что нет – ведь такие притчи, как «Царь Эдип» и «Антигона», вполне сценичны. Поэтому – смотрим, что уже есть, и надеемся на то, что ещё будет сделано на поприще освоения русским театром наследия поэтического символизма.
После спектакля я тем же маршрутом дотопала обратно до метро; на подступах к Арбату было уже вполне заметно, что народ праздновал и празднует Хэллоуин. А ныне, уже добравшись на метро и маршрутке до дома и закончив пост при всех отвлекающих факторах, я поздравляю всех с этим симпатичным праздником – Самайном aka днём Всех Святых и тороплюсь уползти баиньки, ибо хочется. На этом можно считать осенние каникулы торжественно открытыми – теперь до самого их конца у меня будет театр каждый Божий вечер, плюс про кино забывать не следует, посему прощаюсь до завтра)

Метки: театр театры театр пушкина театр имени пушкина спектакли рецензии федра театр le phenix театр феникс снег |
Посмотрела "Синее Чудовище" |
Дневник |
Вчерашнее моё бдение перед монитором преспокойно продолжалось до половины шестого утра, причём без каких бы то ни было общественно полезных занятий и даже практически без музыки, ибо только под финал я, чтобы не заснуть, врубила Танкяна в ушах. Проснулась я вроде не поздно, но вставать было адски влом, казалось – так бы и провалялась до самого вечера, так что выпинала я себя из-под одеяла уже в районе полудня. Пострадав ерундой под Наше, снова так и не заставив себя осуществить ничего нужного, после обеда я начала постепенно собираться в путь-дорогу – и тут надо рассказать предысторию этого третьего подарка на мой прошедший день рождения, поскольку на сей раз я решила не колоться до последнего. А заключается она в том, что как-то раз на минувшей неделе мне позвонила Маруся и предложила в воскресенье, то бишь сегодня, сходить с ней нахаляву в театр – слышно её было крайне плохо, и мне показалось, что на Красавицу и Чудовище. Я подумала, что, скорее всего, мне не разрешат пойти, потому что в понедельник мне в школу, однако в честь праздника мне разрешили; позже выяснилось, что я не расслышала и что поход ожидается не на вышеупомянутый небезызвестный мюзикл, а в Сатирикон на Синее Чудовище, и что моей маме тоже крайне приспичило присоединиться – не потому, что ей так хотелось посмотреть спектакль, а скорее потому, что она не могла не взять пример с остальных родительниц, которые были на предыдущем нашем с Марусей культпоходе со своими дочерьми. Маниакальное желание соответствовать общественному порядку вещей стоило ей заказанного по телефону билету на спектакль аж за 500 рублей – меня чуть жаба не придушила, хоть деньги и не мои, да и от маминой компании я по возможности никогда не откажусь; ещё позже выяснилось, что прежней компании не будет, а будут только собственно Маруся и мы, но было уже поздно пить боржоми. Поскольку нам с Марусей надо было получать пригласительные, а моей маме – выкупать билет за час до спектакля, решено было встретиться в половине шестого, а поскольку в Сатириконе прежде была только я, руководствоваться я собиралась тем же добираловом, что и тогда. Конечно же, мы с мамой немного закопались дома, долго поджидали маршрутку на остановке и в итоге опоздали к месту встречи, платформе станции Рижской, минут на 7-10, и Маруся уже пребывала там на одной из не сразу заметных скамеечек. При встрече мне было возвращено Метро 2034 в подклеенном виде, ибо у Маруси, видимо, и так разваливавшаяся книжка попыталась развалиться окончательно, и была вручена классная «открытка» - мой «потрет» в качестве героя Саус Парка, составленный на специальном сайте и распечатанный: жизнерадостное существо с каштановыми волосами, красной футболке в чёрный горошек (принтер сделал её розовой), висящими на шее ожерельем с какими-то клыками и фотоаппаратом, в шипастых браслетах и с бутылкой в одной лапе, а другая лапа изображала букву V. К «открытке» прилагался подарок – в небольшой сумочке покоились потрясающе ароматные деревянные чётки, замечательный деревянный браслет и деревянная же заколка для волос с лакированным цветочком, временно неактуальная, равно как и хвост у моего сауспарковского альтер эго, ввиду моей новой короткой стрижки, о которой Маруся не была осведомлена. Подхватив всё это богатство, я потащила своих спутников на поверхность, где благополучно сориентировалась на местности и дотопала до подземного перехода, перешла по нему на противоположную сторону дороги и добралась до автобусной остановки, выуживая из кошелька бумажку с выписанными номерами нужного общественного транспорта. Подходящих маршруток или автобусов поблизости не оказалось, зато на нас вышло ещё несколько человек, держащих путь в Сатирикон; эти славные люди и выступили инициаторами того, что мы бросились к первому подъехавшему троллейбусу, выяснили, что он, хоть и не значится в моём списке, следует до кинотеатра Гавана, и уселись в него. По приезду я снова, что удивительно, вспомнила маршрут, и мы, обогнав других явно направляющихся в театр, по какой-то там по счёту улице Марьиной рощи дошли до памятной стройки, коридор сбоку от которой был сегодня, осенним вечером, особенно антуражен своей темнотой и который вывел нас к Сатирикону. В театр ещё не пускали, но первым делом нам нужна была администрация, и тут уже свои телефонные переговоры припомнила моя мама и повела нас за угол, по направлению к Малой сцене, пока мы не обнаружили вход в кассу, где попутно располагалось окошко администрации, к которому тянулась длинная очередь. Выяснилось, что нам с Марусей как раз туда, а моей маме – дальше, и мы временно расстались; очередь подошла быстро, Маруся сунула в окошко своё рекомендательное письмо в виде нескольких слов на клочке бумаги, и нам выписали пригласительный на двоих без мест, а стоило нам снова выйти на свет Божий, как моя мама как раз вырулила из-за угла со своим билетом. Можно было заявляться в театр, сдавать манатки в гардероб, покупать аж за 70 рублей программку и по разным углам – мама в районе буфета, мы с Марусей напротив входа в зал – ещё добрые полчаса дожидаться первого звонка. В болтовне о том – о сём время пролетело незаметно, звонок прозвучал неожиданно, и когда мы с Марусей с потоком публики вошли в зал, приставные стулья сбоку от рядов по одну сторону прохода, предназначенные для приглашённых вроде нас, были уже все заняты, и я предложила устроиться с краю шестого ряда, отрекомендованного мне Марусей как самый незанимаемый. Со вторым звонком я ничтоже сумняшеся подбила Марусю на попытку перемещения поближе к сцене и к серёдке, мы устроились ряду в четвёртом, нас согнали, мы пересели опять, это повторилось ещё раза два, и наконец свободные места остались только с дальнего от сцены края седьмого ряда – но и оттуда сцена была видна замечательно.
Казалось бы, пьеса XVIII века, написанная Карло Гоцци, автором «Травиаты», для представлений дель арте на венецианских карнавалах должна быть проста и предсказуема, как лубочная картинка. Но в Сатириконе из гротескной истории с «экзотическими» китайцами, грузинами и неграми, с проклятиями, перевоплощениями и подвигами выжали все возможные средства выразительности, превратив сцену в цирковую арену, а актёрскую игру – в торжество пантомимы, акробатики и клоунады. Предельная эмоциональность исполнения ролей заставляет пафос реплик не резать слух, а способствовать созданию то ироничной, то лирической, то драматичной атмосферы, а неожиданные режиссёрские находки делают юмор по-настоящему смешным – и вот перед нами уже подлинная трагикомедия-фарс, красивая легенда, а не поучительная сказка об образцовых любви и верности, преодолевающих любые испытания судьбы. Финальный штрих в антураж тайны, опасности и страсти вносит оформление – яркие костюмы, громкий фонящий шквал звука, режущие глаз вспышки света, клубы сценического дыма, отсветы от бликующей поверхности воды и, конечно же, впечатляющие спецэффекты – чего стоит одно только оглушительное появление огромной многоголовой гидры с мордами-камерами на подвижных шеях, от которого подпрыгнуло пол-зала, и пиротехника с фейерверками и конфетти под занавес! Одно удовольствие наблюдать за актёрами, которых всё это щедрое шоу не затмевает, а только подчёркивает: самоотдача, искренность, энергичность – всё при них. Потрясающе пластичен Синее чудовище – Таэр (Ломкин), предельно пронзительна Дардане (Спивак), заглядение – харизматичнейший дед Панталоне (Осипов), в чьём невербальном пересказе все события приобретают чертовски аппетитный пикантный привкус. Вывод: сюжет недостаточно серьёзен, чтобы цеплять сильно и надолго, зато качественное, эстетичное зрелище оставляет исключительно приятное и позитивное ощущение праздника – а праздник, особенно со смыслом, в нашей жизни необходим. Ещё чуть-чуть

Казалось бы, пьеса XVIII века, написанная Карло Гоцци, автором «Травиаты», для представлений дель арте на венецианских карнавалах должна быть проста и предсказуема, как лубочная картинка. Но в Сатириконе из гротескной истории с «экзотическими» китайцами, грузинами и неграми, с проклятиями, перевоплощениями и подвигами выжали все возможные средства выразительности, превратив сцену в цирковую арену, а актёрскую игру – в торжество пантомимы, акробатики и клоунады. Предельная эмоциональность исполнения ролей заставляет пафос реплик не резать слух, а способствовать созданию то ироничной, то лирической, то драматичной атмосферы, а неожиданные режиссёрские находки делают юмор по-настоящему смешным – и вот перед нами уже подлинная трагикомедия-фарс, красивая легенда, а не поучительная сказка об образцовых любви и верности, преодолевающих любые испытания судьбы. Финальный штрих в антураж тайны, опасности и страсти вносит оформление – яркие костюмы, громкий фонящий шквал звука, режущие глаз вспышки света, клубы сценического дыма, отсветы от бликующей поверхности воды и, конечно же, впечатляющие спецэффекты – чего стоит одно только оглушительное появление огромной многоголовой гидры с мордами-камерами на подвижных шеях, от которого подпрыгнуло пол-зала, и пиротехника с фейерверками и конфетти под занавес! Одно удовольствие наблюдать за актёрами, которых всё это щедрое шоу не затмевает, а только подчёркивает: самоотдача, искренность, энергичность – всё при них. Потрясающе пластичен Синее чудовище – Таэр (Ломкин), предельно пронзительна Дардане (Спивак), заглядение – харизматичнейший дед Панталоне (Осипов), в чьём невербальном пересказе все события приобретают чертовски аппетитный пикантный привкус. Вывод: сюжет недостаточно серьёзен, чтобы цеплять сильно и надолго, зато качественное, эстетичное зрелище оставляет исключительно приятное и позитивное ощущение праздника – а праздник, особенно со смыслом, в нашей жизни необходим. Ещё чуть-чуть

Метки: рецензии день рождения театры театр сатирикон встречи спектакли синее чудовище театр сатирикон театр "сатирикон" |
Посмотрела "Царицу Тамару" |
Дневник |
Непривычно было выходить из театра не в тёмный вечер, а в пасмурный день, и не было смысла ехать домой – дорога до дома и от дома заняла бы всё свободное время между двумя визитами в театр, я не успела бы дома даже поесть. Впрочем, если бы я реально хотела есть, я бы лучше побаловала себя посещением Авокадо, до которого было ближе, чем до дома, но я была сыта пищей духовной и не стала рисковать – в конце концов, в ресторане никогда не знаешь, как скоро тебя обслужат, и есть опасность слишком задержаться и опоздать. Посему я решила, что такая отличная погода – перманентно моросящий дождик, то ослабевающий до еле заметной водяной пыли, то чуть усиливающийся, – скорее располагает к прогулке, нежели к сидению в помещении, и отказала себе даже в изначальных планах на заход в какую-нибудь кофейню – я вне графика пила кофе не далее чем вчера, и делать это так часто уже попахивало бы злоупотреблением. В итоге от Юго-западной я доехала до Библиотеки, там поднялась на поверхность, дошла до Арбатской и оттуда неспешно двинулась по Арбату до Смоленки, затем обратно, стараясь поймать как можно больше кайфа от осенней атмосферы, но это убило ещё не всё оставшееся время, и я переместилась на Поварскую и то же самое проделала и с ней. Затем я озадачилась вопросом, как проникнуть непосредственно в театр дирекции проекта «Открытая сцена» при ЦДА – прежде я была только в офисе администрации, когда непосредственно и выкупала свой пригласительный. Под аркой, куда указывала стрелочка, был обнаружен план местности, по которому нихрена не было понятно, и я углубилась во двор самостоятельно; в полумраке вырисовался огороженный забором, заросший деревьями, полускрытый плющом и залитый дождём уголок, при приближении оказавшийся жутковатым местом хранения нескольких посеревших и выщербленных от сырости и времени бюстов девушек и юношей – видимо, каких-нибудь пионеров-героев. Пройдя мимо этого уголка по узкой дорожке, засыпанной палыми листьями, я обнаружила только скромную дверь музея американского искусства, впервые при этом узнав о его существовании, и отправилась в другую сторону – вокруг дома, но туда, откуда выходила, не пришла, ибо упёрлась в тупик, где был служебный вход, а обычного входа не было. Я вернулась обратно, на Поварскую, убедилась, что попутчиков мне не светит, что я начинаю замерзать на усилившемся ветру и всё-таки хотеть есть, и снова пошагала в арку – вторично изучать план… естественно, вход оказался в арке прямо напротив этого плана, за спиной того, кто на этот план смотрел, а относился план, видимо, к служебному входу. С некоторыми сомнениями открыв дверь, я спустилась по скрипучей деревянной лестнице в маленькую прихожую, справа от которой какие-то парни развешивали какие-то фотографии, окончательно поняла, что действительно пришла по адресу, предъявила пригласительный, приобрела программку и свежий выпуск газеты ДА (Дом Актёра) и прошла в холл слева от прихожей. Там я немного почитала, а когда открыли буфет, переместилась туда поедать собственные шоколадку и фруктовый микс, благодаря предвкушению оттаяла от погодной меланхолии и за пять минут до теоретического начала спектакля выползла обратно в холл, прогуляться мимо собравшейся публики и ещё немного посидеть с газеткой; там мною были узнаны форумчанки germiona и Ivanna, как выяснилось позже (хотя я в этом и не сомневалась), меня они узнали тоже, но вопреки моим ожиданиям, ко мне не стали подкрадываться сзади и 17 раз тягать за ухи, а мне тоже не хотелось встревать в беседу – я вообще не мастак навязываться со знакомством. Но вот прозвенел первый и последний звонок в лице колокольчика в руке администраторши, и немногочисленный народ потянулся в зал, где было всего четыре коротких ряда деревянных лавочек; моё место было во втором ряду, но заполнился этот крошечный партер настолько неравномерно, что вскоре я переместилась на первый рядышком с, надо полагать, мамой Иванны. Так я уже второй день рождения подряд оказалась на первом ряду на скамейке – только в прошлый раз это был спектакль «Скамейка» на Покровке, а теперь это был действительно предмет мебели. Мой второй и последний на сегодня подарок, «Царица Тамара», начался.
Этой небольшой, на час с небольшим, постановке отлично подходит её определение – «театральная фантазия». Лермонтовская царица Тамара, лермонтовский же Демон и гумилёвский Юный маг встретились в одной вневременной и внепространственной притче о выборе между вечным покоем и вечной молодостью, обречённой на бесконечный поиск истины и красоты – двумя сторонами одной романтической медали. Условны декорации, словно составленные из обломков световых инсталляций, но отблески свечей, плавающих в чаше с водой, и каллиграфические тени, уходящие в перспективу, создают удивительную языческо-мистическую атмосферу. Свободные костюмы только подчёркивают прекрасную пластичность всех актёров, и, конечно же, особенное удовольствие доставило смотреть на мудрого и печального Демона-Матошина, ради которого, собственно, я и пришла на Открытую сцену (надеюсь, он не слишком возгордится, если прочитает^^) – даже несколько нелепый грим его ничуть не испортил. Не отстают и гордая Тамара-Чернявская, и влюблённый Поэт-Подлесный, и загадочный Паж-Прохоров. Под высоким потолком староарбатского дома, расписанным в стиле модерн, создающим потрясающую вибрирующую в воздухе акустику не хуже сводов храма, звучит то завораживающий голос Горного духа – Стародубцева, то приятная музыка, то всезаполняющий шум дождя и грома, от которого начинает казаться, будто и впрямь запахло озоновой свежестью. Декламируются мои любимые стихи вышеупомянутых поэтов с такой очаровательной лёгкостью, что не остаётся никаких сомнений в том, что человеку гораздо естественней разговаривать стихами, нежели прозой. Сюжетная сторона становится уже совершенно неважна – голая лирика, голая эстетика и ничего более, даже слова афористичны настолько, что перестают выражать эмоции и превращаются в такие же художественные средства выразительности, как свет и музыка. Я не могу сказать о том, чтобы эта чувственная и грустная сказка сильно меня зацепила, но её определённо чертовски приятно смотреть – особенно, пожалуй, таким поклонникам символизма Серебряного века вроде меня, не хватает только репродукций Врубеля в качестве задника для полного счастья. И ещё одна лично моя ассоциация – с фраевской «тоской о несбывшемся»… В общем, смотреть стоит – как качественную, с душой сделанную и вдохновляющую вещь.
После спектакля пришлось возвращаться в мокрую и холодную реальность, топать по небольшому отрезку Поварской до Арбатской, ехать до родной Молодёги и влезать в тёплый и прокуренный салон – папа отвёз меня домой и там подбросил мне в заветный конвертик ещё порядочное количество деревянных. А стало быть, можно будет при следующем визите на Юго-запад не отказать себе в оставшемся в тамошнем киоске прессы номере журнала о советских автомобилях, к которому прилагается ещё летом мне приглянувшаяся моделька чёрной Чайки. А сейчас я – не верится, но закончила пост, хоть и отвлекаюсь на всё подряд всё больше и больше по мере написания. Завтра – да-да, я псих, можете не напоминать мне об этом лишний раз – у меня снова театр, посему до завтрашней рецензии и прощаюсь.)

Этой небольшой, на час с небольшим, постановке отлично подходит её определение – «театральная фантазия». Лермонтовская царица Тамара, лермонтовский же Демон и гумилёвский Юный маг встретились в одной вневременной и внепространственной притче о выборе между вечным покоем и вечной молодостью, обречённой на бесконечный поиск истины и красоты – двумя сторонами одной романтической медали. Условны декорации, словно составленные из обломков световых инсталляций, но отблески свечей, плавающих в чаше с водой, и каллиграфические тени, уходящие в перспективу, создают удивительную языческо-мистическую атмосферу. Свободные костюмы только подчёркивают прекрасную пластичность всех актёров, и, конечно же, особенное удовольствие доставило смотреть на мудрого и печального Демона-Матошина, ради которого, собственно, я и пришла на Открытую сцену (надеюсь, он не слишком возгордится, если прочитает^^) – даже несколько нелепый грим его ничуть не испортил. Не отстают и гордая Тамара-Чернявская, и влюблённый Поэт-Подлесный, и загадочный Паж-Прохоров. Под высоким потолком староарбатского дома, расписанным в стиле модерн, создающим потрясающую вибрирующую в воздухе акустику не хуже сводов храма, звучит то завораживающий голос Горного духа – Стародубцева, то приятная музыка, то всезаполняющий шум дождя и грома, от которого начинает казаться, будто и впрямь запахло озоновой свежестью. Декламируются мои любимые стихи вышеупомянутых поэтов с такой очаровательной лёгкостью, что не остаётся никаких сомнений в том, что человеку гораздо естественней разговаривать стихами, нежели прозой. Сюжетная сторона становится уже совершенно неважна – голая лирика, голая эстетика и ничего более, даже слова афористичны настолько, что перестают выражать эмоции и превращаются в такие же художественные средства выразительности, как свет и музыка. Я не могу сказать о том, чтобы эта чувственная и грустная сказка сильно меня зацепила, но её определённо чертовски приятно смотреть – особенно, пожалуй, таким поклонникам символизма Серебряного века вроде меня, не хватает только репродукций Врубеля в качестве задника для полного счастья. И ещё одна лично моя ассоциация – с фраевской «тоской о несбывшемся»… В общем, смотреть стоит – как качественную, с душой сделанную и вдохновляющую вещь.
После спектакля пришлось возвращаться в мокрую и холодную реальность, топать по небольшому отрезку Поварской до Арбатской, ехать до родной Молодёги и влезать в тёплый и прокуренный салон – папа отвёз меня домой и там подбросил мне в заветный конвертик ещё порядочное количество деревянных. А стало быть, можно будет при следующем визите на Юго-запад не отказать себе в оставшемся в тамошнем киоске прессы номере журнала о советских автомобилях, к которому прилагается ещё летом мне приглянувшаяся моделька чёрной Чайки. А сейчас я – не верится, но закончила пост, хоть и отвлекаюсь на всё подряд всё больше и больше по мере написания. Завтра – да-да, я псих, можете не напоминать мне об этом лишний раз – у меня снова театр, посему до завтрашней рецензии и прощаюсь.)

Посмотрела "Собак" |
Дневник |
Давеча пораньше уползя спать, я рано утром инстинктивно проснулась с привычным чувством необходимости и нежелания одновременно тащиться в школу, потом вспомнила, что у меня типа праздник, и ещё пару часов проспала и пару провалялась. Встав в районе девяти-десяти, я тем самым разбудила маму, коя и вручила мне на 17-летие конверт с деньгами и декоративную куклу на верёвочке вроде из тех, которые любят продавать в театрах – пёстрого арлекина с протянутой между руками снизкой бусин (мама уверяла, что это прыгалки, мне же больше нравится думать, что это кандалы). Существо симпатичное, хоть и не заставившее меня отказаться от мысли всё-таки купить когда-нибудь такого же Пьеро и сделать из него свой персональный театральный оберег (в которые я не верю, но люблю из эстетических соображений); сумма достаточная, чтобы удовлетворить свою давнюю ломку по Loveless и купить сие аниме в лицензии, вот только попробуй его найди без необходимости заказывать в Интернете (но я найду – только для этого надо будет взять под мышку Ушастую и рвануть в Аниме-рай). Пострадав ерундой, я после завтрака вышла на свет Божий, запихав в торбу сменку и забив оставшееся свободное место едой, да и отправилась на маршрутке до метро (быстро подъехав, она спасла меня от возможности опоздать, ибо дома я закопалась), а на метро – до родной Юго-западной. Впервые я топала в театр на дневной, на два часа, спектакль, теоретически – детский, ну да под предлогом празднования дня рождения мне ещё и не такое можно, притопала пораньше, с облегчением увидела, что я не единственный человек старше 12 лет, пришедший в это время в театр, купила программку и засела в буфете её изучать. С первым звонком я снялась с места и переместилась в зал, на своё уютное местечко с краю (а относительно сцены – вполне в середине) пятого ряда, перейдя в стадию нетерпеливого ожидания заполнения зала и начала своего первого на сегодняшний день подарка.
Явно не для детей написал когда-то Сергиенко повесть «До свидания, овраг!», в которой явственно прослеживается аналогия с горьковской пьесой «На дне», вот только вместо людей – бездомные собаки с разными характерами, по разным причинам оказавшиеся в стае, нашедшей прибежище в овраге. Но эти собаки тоже будут до последнего верить в человеческую справедливость, в «собачью дверцу», за которой – собачий рай (это уже напомнило «Дверь в лето» Чижа и аниме Wolf’s Rain), в клинику, где могут вернуть утерянный голос и сделать новую деревянную лапу, в то, что сбудется молитва Луне в день Великой песни, произнесённая щенком, и в прочие чудеса, и эти чудеса тоже не сбудутся. Они тоже будут вспоминать прошлое, декламировать стихи, ссориться и влюбляться, и неизбежное безжалостное крушение их надежд тоже будет пронзительным до предательской щекотки за глазными яблоками – ничуть не меньше, чем у Горького. Адаптация всей этой трагедии под юного зрителя выразилась на Юго-западе исключительно в увеличении количества шуток, в остальном же нервы публики жалеть никто не собирается – вздрагиваешь при неожиданном крике немой Жужу под звуки беспечного диско 80-х, напряжённо следишь за метанием героев под огнями фар живодёрской облавы… Непонятно, почему такой взрослый спектакль идёт на детское время – может быть, чтобы напомнить подрастающему поколению о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. Но дети скучают, зато родители сопят носами, прослезившись – а значит, постановка попала в цель, пусть даже и не в намеченную. Иначе и быть не могло – любой спектакль Юго-запада срежиссирован, сыгран и оформлен шедеврально, и для меня он сегодня стал долгожданной встречей с давно не виденными актёрами, обычно мелькающими на второстепенных ролях, а в «Собаках» оказавшихся на переднем плане и во всей красе продемонстрировавших свои талант и мастерство (не считая Дымонт, невероятно трогательной в роли Жужу, и Задохина, по которому я особенно соскучилась, потрясающе сыгравшего харизматичного вожака Чёрного). Спектакль не длится и двух часов, но поводов к размышлениям даёт на многие дни вперёд – так что настоятельно всем рекомендую не стесняться детского времени и сходить на «Собак», которые более чем стоят внимания.
На этом я заканчиваю пост, но не отчёт о сегодняшнем дне – насколько некоторые могут помнить, сегодня визитов в театр у меня было два, а стало быть – подождите ещё немного, и вторая рецензия подоспеет за первой.)
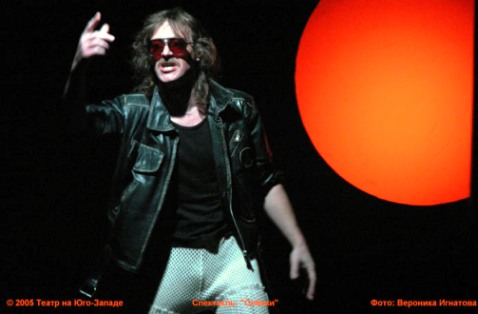
Явно не для детей написал когда-то Сергиенко повесть «До свидания, овраг!», в которой явственно прослеживается аналогия с горьковской пьесой «На дне», вот только вместо людей – бездомные собаки с разными характерами, по разным причинам оказавшиеся в стае, нашедшей прибежище в овраге. Но эти собаки тоже будут до последнего верить в человеческую справедливость, в «собачью дверцу», за которой – собачий рай (это уже напомнило «Дверь в лето» Чижа и аниме Wolf’s Rain), в клинику, где могут вернуть утерянный голос и сделать новую деревянную лапу, в то, что сбудется молитва Луне в день Великой песни, произнесённая щенком, и в прочие чудеса, и эти чудеса тоже не сбудутся. Они тоже будут вспоминать прошлое, декламировать стихи, ссориться и влюбляться, и неизбежное безжалостное крушение их надежд тоже будет пронзительным до предательской щекотки за глазными яблоками – ничуть не меньше, чем у Горького. Адаптация всей этой трагедии под юного зрителя выразилась на Юго-западе исключительно в увеличении количества шуток, в остальном же нервы публики жалеть никто не собирается – вздрагиваешь при неожиданном крике немой Жужу под звуки беспечного диско 80-х, напряжённо следишь за метанием героев под огнями фар живодёрской облавы… Непонятно, почему такой взрослый спектакль идёт на детское время – может быть, чтобы напомнить подрастающему поколению о том, что мы в ответе за тех, кого приручили. Но дети скучают, зато родители сопят носами, прослезившись – а значит, постановка попала в цель, пусть даже и не в намеченную. Иначе и быть не могло – любой спектакль Юго-запада срежиссирован, сыгран и оформлен шедеврально, и для меня он сегодня стал долгожданной встречей с давно не виденными актёрами, обычно мелькающими на второстепенных ролях, а в «Собаках» оказавшихся на переднем плане и во всей красе продемонстрировавших свои талант и мастерство (не считая Дымонт, невероятно трогательной в роли Жужу, и Задохина, по которому я особенно соскучилась, потрясающе сыгравшего харизматичного вожака Чёрного). Спектакль не длится и двух часов, но поводов к размышлениям даёт на многие дни вперёд – так что настоятельно всем рекомендую не стесняться детского времени и сходить на «Собак», которые более чем стоят внимания.
На этом я заканчиваю пост, но не отчёт о сегодняшнем дне – насколько некоторые могут помнить, сегодня визитов в театр у меня было два, а стало быть – подождите ещё немного, и вторая рецензия подоспеет за первой.)
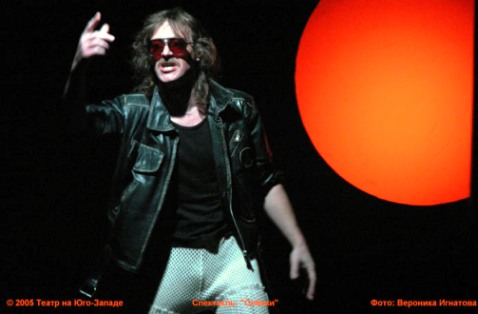
Метки: театр театры театр на юго-западе спектакли собаки до свидания овраг рецензии день рождения |
Посмотрела "Гамлета" на Юго-западе |
Дневник |

Сегодня на ОБЖ нас было изначально всего полдюжины идиотов, пришедших писать контрольную – то бишь частично списывать с тетрадей, частично сочинять. Затем я и на физике писала контрольную, которую пропустила в прошлую субботу, то бишь, конечно же, списывала с тетради, умудрившись не спалиться. А вот зарубежную литературу я прогуляла на вполне законных основаниях – отправилась в компании ещё нескольких однокашников писать школьную олимпиаду по истории, которая официально проходила в среду, но для нашего класса её перенесли по причине нашей непредупреждённости и отсутствия Асёны, которая, впрочем, отсутствовала и сегодня. Нас разместили по свободным местам среди десятиклассников, у которых шёл обычный урок и которые писали какую-то работу, раздали распечатки и особо не палили, посему я могла свободно пользоваться предусмотрительно захваченной тетрадью – вот только помогла она мне мало: 90% вопросов было на советское время со всеми сопутствующими датами, именами и аббревиатурами, на которые у меня склероз, а мы всё это ещё не проходили. Осилив то, что знала, затем то, что могла сделать методом научного тыка, и, наконец, то, о чём только смутно догадывалась и надеялась на голую интуицию, я дошла до тем для сочинения и вскоре издала нервный смешок: в ряду цитат из известных историков, философов и писателей последней стояла цитата с копирайтом «А.Д. Медведев». После привычных глазу знакомых фамилий я даже не сразу поняла, что это – наш дражайший президент, а когда поняла – возмутилась цинизму, с которым его фактически приравняли к людям, оставивших заметный след в науке и культуре. Если бы я стала писать сочинение, я выбрала бы именно эту цитату и накатала бы такое диссидентское эссе, что вряд ли получила бы за него хоть балл, но я не стала – и не потому, что этот «хоть балл» ничего бы не стоил, а потому, что ничего не стоили бы и все максимальные 35, ведь я справилась с настолько малой частью заданий, что в любом случае оказалась бы в пролёте. Посему я не стала зря переводить время и бумагу и, сдав распечатку, ушла в середине второго урока, приехала домой, пообедала, пострадала ерундой, да и решила выйти из дому пораньше, прогуляться пешком до метро. Сказано-сделано, вот только вышла я всё-таки слишком рано, и в итоге – слишком рано дошла до метро, слишком рано доехала до Юго-западной, слишком рано дошла до театра – он даже ещё не был открыт, и я вместе с остальными ранними пташками столпилась в холле и притулилась читать книжку в уголке. Ждать пришлось минут двадцать, но вот, наконец, в театр впустили, я избавилась от куртки, купила программку, и ноги сами привели меня в буфет в надежде, что хоть там меня наконец смогут запалить форумчане, но этого, забегая вперёд, так и не произошло. Присутствие в буфете надо было оправдывать, и, хоть есть там и было нечего, я благополучно вспомнила со своей закончившейся завязкой с кофе и приобрела чашечку без сахара, устроившись за столиком и наслаждаясь запахом. На вкус Юго-западный кофе оказался крепким, очень крепким, его горечь даже требовала закуски – пришлось открывать свою неизменную захваченную с собой шоколадку и употреблять её маленькими кусочками; как выяснилось, кофе и шоколад великолепно подчёркивали вкус друг друга, а полумрак прокуренного подвального помещения создавал атмосферу, весьма способствующую кайфу. Ко второму звонку я, под конец уже не растягивая удовольствие и делая большие глотки, расправилась со своей чашкой, обеспечившей меня именно тем кофеиновым ритмом сердцебиения, с которым особенно хорошо смотрятся такие великие пьесы, как «Гамлет» - а я пришла смотреть именно её постановку со своего традиционного места в середине последнего, шестого, ряда.
Под зловещие ритмы, напоминающие восточные, по сцене двигаются люди в белых одеяниях, напоминающих самурайские (даже финальная схватка Гамлета и Лаэрта - ни дать ни взять "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" вместо дуэли на шпагах). На них – чёрные пернатые накидки, и движения их – тоже птичьи, как у воронов, словно слетевшихся выклёвывать друг другу, вопреки пословице, глаза да каркать, как в небезызвестном стихотворении: «Nevermore!». А ещё они были похожи чем-то на шахматные фигуры – вот только и чёрные, и белые одновременно. С первых минут я начала сравнивать этот спектакль с «Гамлетом» ЦАТРы: да, заезженные музыкальные темы здесь – хуже, чем величественный Шостакович там, зато Юго-западные освещение и декорации, соединённые сегодня в одно целое, а именно – в висячие псевдоколонны, снизу испускающие свет – оказались способными выдержать конкуренцию. Самым ярким персонажем сегодняшней постановки показался мне… призрак отца Гамлета (Сергеев): по-настоящему страшный, не дух без тела, но тело без души, бледный зомби с мускулистым торсом и чернеющими провалами глазниц. В нём ничего не осталось от покойного короля – это нечисть, одной ногой стоящая в преисподней, с мучительными усилиями передвигающаяся по земле, и её посредством чревовещает злой демон, толкающий Гамлета на грех мести, демон, которым и сам принц стал бы одержим, если бы не Офелия – единственная, кто самоотверженно бросился спасать его из инфернального морока. Эту Офелию, потрясающе многогранную, подлинно любящую, играла, конечно же, Дымонт – и от сцены её помешательства, в которой не было ни одного цветка, мурашки пробегают по коже: настолько веришь в живость героини. Не менее ярок и неоднозначен и Клавдий в исполнении Матошина – ещё один харизматичный подонок среди его ролей, правящий миром, имеющим крайне мало общего с земными реалиями, и понимающий и принимающий свою обречённость – гордую обречённость дерзкого хищника, не могущего отказаться от «добычи» - любимой (в чём не возникает сомнений) королевы, а значит, не могущего по-настоящему раскаяться. Режиссёр позволил ему услышать слова Гамлета, замышляющего убить его в более удобный, нежели молитва, момент – услышать и заговорщицки приложить палец к губам, чтобы затем ждать этого момента с не меньшим нетерпением, чем сам мститель, а дождавшись, подставить грудь отравленному клинку и беззвучно уйти вслед за Гертрудой, освободившись от грязи своего положения (что-то в этом есть от Калигулы!). Что до самого Гамлета, сыгранного Леушиным, то ЦАТРовский Гамлет Лазарева нравится мне всё же больше: Леушинскому принцу Датскому не занимать обаятельной ироничности, однако не хватает того пронзительного трагизма, который всегда отличал всех его персонажей, вне зависимости от их значимости – будь то Калигула или Дэвид, Меркуцио или Оберон, Воланд или Тригорин. Он по-прежнему приковывает взгляд брутально-изящными пластикой и интонациями, но всё же теряется на фоне вышеописанных – хоть и эпизод, в котором он даёт рекомендации по игре не героям-актёрам, а окружающим его актёрам-героям, – однозначно удачная сюжетная находка, чётко высвечивающая вопиющее лицемерие, на котором строилось шаткое равновесие эльсинорского двора. Будь моя воля, я бы поменяла Леушина и Матошина в этом спектакле местами, жаль только, что последний Гамлета (в смысле персонажа) не любит. Но, в любом случае, со сцены звучит бессмертный шекспировский текст в моём любимом переводе Пастернака, который непроизвольно шепчешь, опережая актёров, во время знакомых наизусть монологов, на сцене выкладываются с абсолютной самоотдачей актёры непревзойдённого таланта и мастерства – а что ещё нужно для счастья? Правильно – только оказаться в эти слишком быстро пролетающие два с половиной часа в зрительном зале, что я настоятельно всем рекомендую.
После спектакля я с немало меня напрягающей болью в желудке (вроде бы не должно быть от кофе или от доеденной в антракте шоколадки) доползла до метро, доехала до родной Молодёги, сползала в магазин за полным набором отечественной постной продукции (по сравнению с предыдущей вылазкой – минус йогурт, плюс сырный крем на бутерброды) и была подвезена оттуда до дома папой. Теперь прощаюсь, господа хорошие, до завтра скорее всего)
Метки: рецензии театры театр гамлет спектакли театр на юго-западе |
Посмотрела "Карнавальную шутку" |
Дневник |
Да, сегодня я пробила школу и мне даже не стыдно, я выспалась до одиннадцати, успела пострадать ерундой и после обеда вывалилась на улицу – хотела пораньше, но закопалась, и получилось попозже. Спас положение, близкое к опозданию, быстро подошедший автобус, и вскоре я уже ехала сначала до Арбатской сидя и с книжкой, а потом по красной ветке в едущей на матч в Лужники толпе; толпа вывалилась раньше, а я доехала до Юго-западной и бодрым шагом направилась к любимому театру. Прибыла впритык, когда сдала куртку и купила программку, уже открыли зал, и я в числе первых взгромоздилась на своё уютное местечко в районе края пятого ряда и немного почитала до третьего звонка, когда зал по традиции заполнился до отказа. Смотрели сегодня «Карнавальную шутку» по пьесе Гольдони «Трактирщица».
Когда долго посещаешь один театр, неизбежно приходишь к тому, что пишешь про большинство спектаклей одно и то же – как бы ни разнился сюжет, все особенности театра остаются на месте, и отрадно видеть, что в таких театрах, как Юго-западный, особенности эти являются плюсами. И плюсы эти можно объединить в три равноценно жирных – режиссура, актёрская работа и оформление. Первый плюс сегодня стоит благодарить за то, что старая комедия с сюжетом «Укрощение строптивой наоборот», повествующем о «перевоспитании» женоненавистника после встречи со столь же свободолюбивой и рациональной женщиной, как и он сам, превратилась в не менее современную и, что главное, не менее трагичную историю, чем, например, «Ромео и Джульетта». Второй плюс отвечал за то, чтобы нарочито типические, изъезженные шаблонные персонажи превратились в живых людей, ярких и характерных, способных вызвать сочувствие, и за то, чтобы эти люди притягивали взгляд талантом и мастерством пластики, жестов, мимики, интонаций и импровизаций. Тут я, конечно, говорю в первую очередь о потрясающей триаде Леушин-Матошин-Дымонт, взаимодействие которых на сцене обеспечивает любому спектаклю настолько сочный, жирный колорит, такую уникальную и незабываемую самобытность, что не остаётся сомнений в том, что в их лице труппа Беляковича располагает подлинным сокровищем. Все они, в какой бы ни были роли, – играют с полной самоотдачей, заставляют верить своим героям, привлекательны и трогательны. Третий плюс обеспечил неизменному отсутствию декораций (не считая кабаньей головы со светящимися глазами и вращающимися рогами) превращение в антураж карнавала посредством тончайшей игры светотени, весьма удачных костюмов и замечательной итальянской музыки 80-х, под которую так и тянуло пуститься в пляс вместе с актёрами. Столько превращений сразу не может быть совпадением, но главное волшебство – в абсолютном взаимопроникновении, без каких бы то ни было границ, качественного смешного юмора и цепляющего драматизма, грубоватого гротеска и нежнейшей искренности. За такими чудесами – ну, и за потрясающей атмосферой романтичного праздника – и стоит всем сходить на «Шутку», уверена – никто не останется разочарованным.
Спектакль шёл без антракта, и меня снова так и не отловил никто из форумчан. Когда я по его окончании снова спустилась в подземку, по удручённым лицам попадающихся навстречу людей, сворачивающих флаги, снимающих шарфы и стирающих с щёк нарисованные триколоры, я сразу поняла, что наши продули, что, конечно, есть немного грустно. Зато когда я приехала на родную Молодёгу и отправилась в Трамплин за едой, мною была случайно замечена расположившаяся почему-то в отделе молочных продуктов новая полочка постной жрачки, и там я тут же нахватала соевой продукции фирмы БИС – шоколадное масло (проверено – очень вкусно), тофу «по-русски» с морской капустой, сметанный крем и вишнёвый десерт (проверено – не очень вкусно, но съедобно), там ещё осталась сырная паста, и всё по вегану. Да, это, конечно, не швейцарское Alpro, но когда я ещё окажусь в Метро, так что пока кушаю отечественные ГМО, господа (ну, это если верить Гринпису, который по непонятным мне причинам ГМО не любит). Завтра, может быть, удастся выбраться на Запрещённую реальность, а сейчас прощаюсь)

Когда долго посещаешь один театр, неизбежно приходишь к тому, что пишешь про большинство спектаклей одно и то же – как бы ни разнился сюжет, все особенности театра остаются на месте, и отрадно видеть, что в таких театрах, как Юго-западный, особенности эти являются плюсами. И плюсы эти можно объединить в три равноценно жирных – режиссура, актёрская работа и оформление. Первый плюс сегодня стоит благодарить за то, что старая комедия с сюжетом «Укрощение строптивой наоборот», повествующем о «перевоспитании» женоненавистника после встречи со столь же свободолюбивой и рациональной женщиной, как и он сам, превратилась в не менее современную и, что главное, не менее трагичную историю, чем, например, «Ромео и Джульетта». Второй плюс отвечал за то, чтобы нарочито типические, изъезженные шаблонные персонажи превратились в живых людей, ярких и характерных, способных вызвать сочувствие, и за то, чтобы эти люди притягивали взгляд талантом и мастерством пластики, жестов, мимики, интонаций и импровизаций. Тут я, конечно, говорю в первую очередь о потрясающей триаде Леушин-Матошин-Дымонт, взаимодействие которых на сцене обеспечивает любому спектаклю настолько сочный, жирный колорит, такую уникальную и незабываемую самобытность, что не остаётся сомнений в том, что в их лице труппа Беляковича располагает подлинным сокровищем. Все они, в какой бы ни были роли, – играют с полной самоотдачей, заставляют верить своим героям, привлекательны и трогательны. Третий плюс обеспечил неизменному отсутствию декораций (не считая кабаньей головы со светящимися глазами и вращающимися рогами) превращение в антураж карнавала посредством тончайшей игры светотени, весьма удачных костюмов и замечательной итальянской музыки 80-х, под которую так и тянуло пуститься в пляс вместе с актёрами. Столько превращений сразу не может быть совпадением, но главное волшебство – в абсолютном взаимопроникновении, без каких бы то ни было границ, качественного смешного юмора и цепляющего драматизма, грубоватого гротеска и нежнейшей искренности. За такими чудесами – ну, и за потрясающей атмосферой романтичного праздника – и стоит всем сходить на «Шутку», уверена – никто не останется разочарованным.
Спектакль шёл без антракта, и меня снова так и не отловил никто из форумчан. Когда я по его окончании снова спустилась в подземку, по удручённым лицам попадающихся навстречу людей, сворачивающих флаги, снимающих шарфы и стирающих с щёк нарисованные триколоры, я сразу поняла, что наши продули, что, конечно, есть немного грустно. Зато когда я приехала на родную Молодёгу и отправилась в Трамплин за едой, мною была случайно замечена расположившаяся почему-то в отделе молочных продуктов новая полочка постной жрачки, и там я тут же нахватала соевой продукции фирмы БИС – шоколадное масло (проверено – очень вкусно), тофу «по-русски» с морской капустой, сметанный крем и вишнёвый десерт (проверено – не очень вкусно, но съедобно), там ещё осталась сырная паста, и всё по вегану. Да, это, конечно, не швейцарское Alpro, но когда я ещё окажусь в Метро, так что пока кушаю отечественные ГМО, господа (ну, это если верить Гринпису, который по непонятным мне причинам ГМО не любит). Завтра, может быть, удастся выбраться на Запрещённую реальность, а сейчас прощаюсь)

Метки: театр театры театр на юго-западе спектакли карнавальная шутка трактирщица рецензии |
Посмотрела "Майн Кампф. Фарс" |
Дневник |

Сегодня в школу, традиционно минуя первый урок физры, таки пришлось сходить, а после школы едва успеть пострадать ерундой – ждал театр у Никитских ворот. Вывалившись под еле ощутимую морось, в худо-бедно просвечиваемую автомобильными фарами серость, я дождалась автобуса, добралась до метро, доехала до Арбатской и пошагала по Никитскому бульвару. Перед театром я оказалась раненько и посему позволила себе описать крюк и зайти в книжный напротив, а там после неспешного кружения по остальным залам зарулить в отдел детской литературы – посмотреть, не появилось ли там новой взрослой манги. Однако выяснилось, что со времени моего последнего визита владельцы магазина включили мозги и стенд с мангой и комиксами убрали в принципе, заменив его стендом литературы на английском языке – что, конечно, для меня только минус, ибо больше таких ассортиментов манги у меня в шаговой доступности нету. Когда я вернулась к театру, на вход в маленькой прихожей выстроилась очередь, в которой до меня дошло обрывками фраз, что «Незабудки», на которые я шла, сегодня утром отменили из-за болезни актрисы на главной роли, и их заменили на другой спектакль – «Майн Кампф. Фарс». Это была, пожалуй, едва ли не единственная вещь из всего репертуара Никитских, меня не интересовавшая, но и увидеть нечто неожиданное я никогда не прочь – посему я сдала куртку в гардероб, получила на руки халявную программку и поднялась на второй этаж. Ознакомившись с узким коридором и небольшим буфетом, пестрящими зеркалами, – как-никак, прежде я ни разу не бывала непосредственно в здании театра, посмотренные мною летом «Песни нашего двора» проходили во внутреннем дворике под открытым небом, – я немного почитала на подоконнике и после звонка зашла в маленький зал. И даже не маленький, а очень маленький – даже меньше, чем на Юго и на Покровке, таких маленьких залов я ещё не видела, так что мой законный восьмой ряд был предпоследним, но, хоть оттуда вполне неплохо было видно и слышно, я, пользуясь тем, что немало людей сдало билеты, вскоре отправилась поближе к сцене. Сперва я обосновалась во втором ряду, но оттуда меня согнали, и своё окончательное прибежище я нашла в середине не то четвёртого, не то пятого, в общем – недалеко от собственной персоной Марка Розовского, активно участвовавшего в рассаживании по свободным местам зрителей с билетами без места и по стульям на ступенях – своих молодых питомцев, называвших его «дядюшкой Марком» и работавших закадровым смехом и немного суфлёрами. Толкнув небольшую речь в оправдание замены, Розовский остался в зале смотреть спектакль, о котором я сейчас постараюсь написать повразумительней.
Я всегда предвзято отношусь к постановкам, вытаскивающим на сцену такие крупномасштабные исторические фигуры, как Гитлер, Сталин, Наполеон. Пьесы Джорджа Табори, по которой был поставлен сегодняшний спектакль, я не читала и посему первое действие, всецело комическое, смотрела с недоумением, готовым в любой момент перерасти в праведное возмущение. Ведь ситуация и впрямь вырисовалась абсурдная: в венскую ночлежку в подвале под скотобойней, где проживают два еврея, – выживший из ума старик, возомнивший себя не много не мало, а Господом Богом, и прожжённый альтруист, продающий Библию и Камасутру и пишущий книжку под названием «Моя борьба», - заявляется молодой провинциал Гитлер, экзальтированный художник, страдающий словесным поносом и вполне физиологическим запором. Наблюдая за его злоключениями под бодрые еврейские напевы, поневоле задаёшься вопросом, зачем выставлять в качестве клоуна главное пугало человеческой цивилизации, тем самым придавая ему оттенок безобидной симпатичности. Но второе действие, трагическое, благополучно уничтожает это обманчивое впечатление самым безжалостным образом – методом кровавого расчленения резиновой куриной тушки юным нацистом в кожаном переднике и с весьма полезным для общества афоризмом – «Тот, кто жарит ручных птиц, потом будет сжигать людей». Не менее красноречивы и образы фрау Смерть, перебивающейся с немецкого на русский, и её переводчика-эсесовца, я уж молчу про самого Гитлера, исполнитель роли которого, Александр Лукаш, вполне похож на своего героя, не считая роста – фюрер был коротышкой. Да, мораль спектакля не нова и кристально ясна, не нужно много времени, чтобы разгадать все его аллегории, однако он порадовал меня тем, чего мне так не хватало в Шарикове из «Собачьего сердца» театра Станиславского – постепенным и убедительным процессом превращения ничтожного существа, тупого и жалкого, в страшную разрушительную силу, уверенную в своей правоте. Сначала позабавить хохмами (хоть смешно было только местами, и некоторые скабрезности были несколько неуместны) и расслабить сантиментами, затем получше дать по мозгам – беспроигрышный метод, не цепляющий, но способствующий выработке той или иной дозы адреналина. Да и актёры стараются от души, делая своих анекдотических персонажей (даже без употребления этих существительных несложно было бы понять с первых же минут, что перед нами – типический еврей и типический же немец) как можно более человечными, а стало быть – смотреть можно, не испытывая жалости к потраченным деньгам и времени. А для кого-то, может статься, и нужно – чтобы в очередной раз задуматься о корнях зла, неблагодарности и несправедливости.
После спектакля зрители прошествовали на выход мимо прощающегося со всеми Розовского, покинула театр и я, решив, что по мере финансовых возможностей (у Никитских – театр недешёвый) можно будет вернуться и на Незабудки и/или ещё на что-нибудь. Под полной луной, белой и ослепительно яркой, как софит с пятнами пыли, и окружённой бледно-голубым ореолом, я пошагала обратно по Никитскому до Арбатской, добралась до дома и теперь прощаюсь, скорее всего, до завтра, не загадывая наперёд, но надеясь, что удастся осуществить запланированную культурную программу)
Метки: театр театры театр у никитских ворот театр марка розовского театр п/р марка розовского спектакли майн кампф. фарс майн кампф фарс mein kampf. фарс mein kampf фарс рецензии |
Посмотрела "Укрощение строптивой" |
Дневник |

Вот он и наступил – глобальный влом писать об учебных буднях, мало отличающихся друг от друга. Вторник порадовал тем, что историчка подозрительно добродушно встретила нас после нашего предыдущего прогула и даже отклонила извинения некоторых из прогулявших как нечто не стоящее повышенного внимания, и тем, что не было последней пары социологии. В тот же день мы с Асёной, когда отправились в обеденную перемену за пирожками в монастырскую трапезную, заметили бегущих белых кроликов, нарисованных через шаблон на стенах и асфальте; нам стало интересно, куда они ведут, мы последовали за ними и пришли к воротам шоу-рума Joki, куда мне надо бы заглянуть за новым веганским значком на смену посеянному летом вегетарианскому, но с пирожком в лапе я решила туда не переться. В четверг после лицея мы с Настей пешочком дотопали до книжного на Лубянке Библио-Глобуса, где она с энтузиазмом затарилась учебниками по отечественной истории, зарубежной истории и праву, а я поискала книжечку по алгебре, но, естественно, безуспешно. Но круче всего было вчера: после алгебры нас согнали на третий этаж, к нам пришли Маруся, Макс и фотограф, и последний по очереди сфотографировал нас для портрета на дембельский альбом – я распустила гриву и со свисающими космами, в мешковатой кофте и болтающимся молотом Тора получилась весьма хиппово. Мы немного повыбирали фотки – какой из трёх-четырёх вариантов оставить – и пошли фотографироваться всем классом на пороге школы, пока Маруся не сбежала; затем все, кроме меня, ибо мне было и так тепло, сбегали за куртками, и нас повели на фотосессию на Цветной бульвар. Там мы стояли на бордюре фонтана, а Валя с Машей даже сбегали к его центру и все промокли, висли на церетелевских клоунах, рассаживались и разлёживались по лавочкам в разнообразных эффектных положениях, валялись на траве газонов, вытаптывали цветы на клумбах, подпрыгивали в центре аллеи, извращались на тему лысины Макса и бюста Полины, и так далее, и тому подобное. Было весело – достаточно весело, чтобы после этого (инглиш был за это время полностью пробит) было бы кощунственным идти на французский и портить такой настрой, поэтому мы всей группой за исключением Аси и Лины пробили и французский тоже. Что касается будней неучебных – писать ночами мне стало влом, поэтому одну свободную (когда папа дома и я сплю в своей комнате) ночь минувшей недели я читала, другую – слушала Наше, но не до утра, конечно, а стараясь всё-таки высыпаться. Погода радует дождями, хоть и редко удаётся под дождём пробежаться от метро до дома – чаще он заряжает после того, как я оказываюсь дома, или ночью, что особенно приятно слышать. Не то из-за похода с однокашниками в Кофе Хаус, где я, впрочем, ничего не пила, не то из-за осеннего (в хорошем смысле этого слова) настроения я давеча покончила со своей завязкой и выпила немного кофе, но уже не по-наркомански, в качестве заменителя успокоительного, а по-эстетски, в качестве красивой, вкусной и ароматной вещи, особенно если корицы сыпануть (я ж теперь как вег камру не могу пить) да вафлями закусывать, окуная их в мёд (хочется сварганить кофейное сообщество – наверное, вскорости так и поступлю). Однако после этого кофе и, может, отчасти из-за того, что я узнала о появлении репертуара на ноябрь на сайте Юго-запада и незамедлительно выписала шесть спектаклей, благословляя человека, придумавшего в ноябре каникулы, меня вечером так пёрло, что я едва смогла успокоиться. Потом снился всякий бред, в частности – мы с Асей шли по Арбату от Смоленки и, остановившись у какого-то массивного тёмного памятника прямо посреди улицы, увидели среди других зевак никого иного, а Льва Николаича Толстого, седовласого и бородатого, только больно уж низенького ростом, почти как мы сами; потом мы встретили Марусю и направились в какую-то галерею, которая тоже была прямо на Арбате (отголосок нашего с девчонками обсуждения вторичного похода на Солянку – экспозиция уже сменилась). Ещё снился какой-то новый ночной клуб на выходе из станции Пушкинская, в здании закрытого казино Шангрила, снилось, что у меня фиалка расцвела на окне, чего за ней в реале уже давно не наблюдалось… а сегодняшним утром я снова пошла в школу, в то время как моя мама съездила на Юго купить билеты на выписанные мною спектакли. По возвращении я успела только пообедать, немного пострадать ерундой и встретить маму с билетами, после чего собралась и поторопилась снова на свет Божий – как и всегда по субботам, меня ждал театр, но на сей раз – не просто театр, а всё тот же Юго-запад, где я три месяца не была и успела, конечно же, неслабо соскучиться. Добралась я вовремя, купила программку, прочитала, не успела схватиться за книжку (Тихий Дон наконец-то был добит и сменился не менее любимым Доктором Живаго), как прозвенел первый звонок, и я пробралась на своё место с краю пятого ряда – ввиду того, что он был коротким, относительно остального зала место это было почти что посередине, и видно и слышно оттуда было едва ли не лучше, чем с моего обычного порта приписки в центре шестого ряда, под потолком. Открывала же я свой новый Юго-западный сезон премьерой прошлогоднего декабря, ещё одной шекспировской вещью в тамошнем репертуаре – «Укрощением строптивой».
Шекспир написал комедию, которая могла рассмешить его современников. Белякович создал сценическую версию, которая качественно смешит современного зрителя. И все довольны: не искажаются сюжет и смысл, в большинстве эпизодов вполне органично звучит шекспировский текст, в шутках нет пошлости, в персонажах – нарочитой карикатурности. Каждый элемент спектакля, что неизменно на Юго-западе, продуман до мелочей с отменным вкусом, так что действие ни на секунду не даёт отвлечься, подумать о чём-то постороннем и уж тем более заскучать. Помимо замечательного юмора – большой редкости на театральной сцене – в «Укрощении» можно лицезреть и все прочие отличительные черты театра Беляковича: филигранные «живые» актёрские работы, неожиданные режиссёрские находки и импровизации, удачно подобранную музыку, симпатичные танцы и песни, создающие нужную атмосферу свет и минимум декораций. Бесспорный гвоздь программы – Грумио (Анищенко), первое место на конкурсе трансвеститов. В итоге хрестоматийная шовинистическая история о медленном и мучительном достижении семейного счастья методами дрессировки превратилась в позитивное красочное шоу, очередной маленький праздник от труппы Юго-запада с аппетитным вкраплением трогательных и житейски-мудрых моментов. Всем желающим как следует отдохнуть и запастись хорошим настроением – рекомендуется однозначно.
В антракте я помаячила в коридоре, ибо меня собиралась отловить форумчанка Heline и напоить кофейным ликёром домашнего приготовления, однако этого так и не случилось. Посему после спектакля я дотопала обратно до метро, доехала до Молодёги и там на платформе встретила бывших однокашников - Руслана и Сашу, уже студентов, и Аню, ушедшую в этом году в экстернат - мелочь, а приятно. У метро меня уже ждал папа, довёз меня до дома. Планы на завтра у меня уже в общих чертах определены, засим до завтра, скорее всего, и прощаюсь)
Метки: школа рецензии театры сны театр спектакли укрощение строптивой театр на юго-западе |
Посмотрела "Три года" (типа вчерашний пост) |
Дневник |
Сегодняшнее утро уже пахнуло морозцем – в ожидании маршрутки на остановке пробивающая, как всегда, первый урок физры я выдыхала пар. После краткого учебного дня Асёна сообщила мне о своём намерении стаскаться наконец в некий магазин «Сретение» за полочкой для икон, и я увязалась вместе с ней; поскольку я понятия не имела прежде об этом местечке, сусанила Ася – переулками мы как-то вышли на Сретенку, двинулись по прямой, пока не наткнулись на искомый магазин, оказавшийся целым православным супермаркетом, если эти два слова вообще могут стоять рядом в одном контексте. По залам бродили мужчины в рясах различных возрастов, туристы с переводчиками и без в поисках сувениров, богатые сограждане, могущие себе позволить, например, антиквариат или икону с брюликами от компании «Респект» (она правда так называется!), побродили и мы, попялившись на ассортимент, аки на музейные экспонаты, но полочек не нашли. Раза три подряд пройдя все отделы, Ася решилась наконец спросить и полочках в отделе всяческой утвари, её послали в самый первый зал, но там были только книги, благовония и прочая, и пришлось снова кого-то отлавливать и спрашивать, пока нас не пустили в отдельную комнатку за прилавком, где этих полочек самых разных размеров, расцветок и дизайнов было предостаточно. Ася выбрала себе подходящую и встала в очередь в кассу, но и я с пустыми руками уходить не собиралась – успела приглядеть весьма мною уважаемые, но крайне редко встречаемые трёхмерные открытки (на библейскую, естественно, тематику, соответственно заведению) всего по 100 рублей, выбрать наиболее лаконичную и тоже встать в очередь. С приобретениями покинувшие «Сретение» мы пошагали по Сретенке дальше, до Лубянки, где и разъехались по домам; дома после сего небольшого моциона я успела только наскоро пообедать и немного пострадать ерундой, прежде чем снова выйти на свет Божий и снова отправиться к метро – предстояло первое знакомство со Студией театрального искусства под руководством Женовача. Давеча карта Яндекса продемонстрировала мне маршрут от Таганской, показавшийся мне весьма путаным и неблизким, и, позвонив сегодня в театр, я слово в слово записала описанное мне добиралово на бумажке и решила следовать ему неукоснительно – а в нём значилось, что идти от Марксистской ближе, пришлось с двумя пересадками ехать до этой станции, и только уже поднявшись там на поверхность, я вспомнила, что проходила мимо неё по дороге к Покровскому монастырю по Таганке. Далее я пошагала по Товарищескому переулку до книжного, прошла насквозь два проходных двора напротив оного перпендикулярно Солженицынской и оказалась на улице Станиславского, откуда по указателю попала во двор СТИ. Там было весьма уютно – с трёх сторон высится старое краснокирпичное здание, напоминающее мою школу, с четвёртой – какой-то забор, по центру – деревянная платформа со скамейками, из которой растут берёзы; в самом здании – удлинённый холл, вместо нескольких столиков буфета – один общий большой стол под фотографиями на стенах, создавалось приятное ощущение, словно пришёл к кому-то в гости, к тому же ещё и программки раздавались нахаляву. Эту славную, в олдскульном стиле выполненную программку я просмотрела довольно быстро и до первого звонка успела выспаться – его дали только в семь, когда пора бы уже было начинаться спектаклю; народ повалил в средних размеров зал, своими чёрнокирпичными сводами напомнивший мне почему-то об Эльсиноре, и я сперва заняла своё законное место с краю 16-го (не последнего, вопреки ожиданиям) ряда, а со вторым звонком, хоть публика и набилась весьма плотно, отыскала себе свободное местечко в районе края шестого ряда (был ещё край первого, но уж больно близко, а с шестого смотреть и слушать – в самый раз), там уселась и осталась.
Премьерный спектакль – чеховские «Три года», а на сцене – несколько ярусов кроватей, как в ночлежке, которую хотел открыть в Москве главный герой: постарался Боровский, художник и любимого мною Эрмитажа тоже. Атмосфера впору горьковскому «дну», только для богатых, от чего суть не меняется: нищ ли ты или владеешь миллионами, ты всегда неудовлетворён своей жизнью, сбывшиеся мечты не приносят тебе счастья, и ты вновь и вновь стремишься к чему-то далёкому, светлому и недосягаемому. На этих, тем самым весьма символических, кроватях в течение всего первого действия герои пьесы, как и полагается, спят, а когда не спят – пытаются усыпить зрителя художественным чтением растянутых монологов и диалогов, и у них это почти удаётся: у меня, по крайней мере, отчаянно слипались глаза, взгляд отказывался фокусироваться, и фигуры на сцене в нём двоились и расплывались. Однако второе действие меня разбудило, оказавшись энергичнее, острее, эмоциональнее, заиграв истинно чеховскими переходами от смешного к грустному, от безнадёжности к надежде, от неверия к вере, от нелюбви – к любви. Два основных камертона спектакля – очень созерцательного, требующего напряжённого вслушивания в непростой, посверкивающий афоризмами текст повести и осознания, осмысления услышанного – это очень естественная и непосредственная Юлечка (Калашникова) и, конечно, сам Лаптев (Вертков). Вертков только что предстал перед зрителем в роли Громова в фильме «Палата №6», и его Лаптев на него очень похож: такой же затравленный и слабый, но рефлектирующий и страдающий философ, лишний элемент общества, так же в отчаянном бессилии сжимающий металлические прутья своей персональной клетки, более внутренней, нежели внешней. Да, хождение по мукам «случайного семейства» - неоптимистичный, как и все у Чехова, сюжет, а может, и самый неоптимистичный, ибо, как наиболее автобиографичный, он напоминает старую незажившую рану, в которую тебе предлагают вложить палец, дабы убедиться, как апостол Фома, в её подлинности. Впечатления от подобного эксперимента далеки от приятных, зато интересны и, главное, полезны – не позволяют душе лениться; да и эстетическая сторона не подкачала: лаконичность декораций, чёткость и выразительность световых контрастов, одинаковые белые больничные сорочки (ещё одна сильная ассоциация с «Палатой»), музыка, составленная из скрипов пружин под ногами да редкой «закадровой» мелодии. В общем и целом, постановка сильно не цепляет, ибо, будучи достаточно мрачной, не добрала градуса пронзительности и надрыва (всё-таки сложно играть чеховских героев среднего возраста вчерашним студентам Женовача), но однозначно вызывает сочувствие и рекомендована к просмотру всем любителям настоящей классики.
По окончании спектакля я возвращалась на Таганку тем же маршрутом, за мной увязалась только одна женщина, остальные потянулись вдоль дорог в обход дворов. На Марксистскую я, конечно, больше не пошла, а дошла до Таганской и благополучно доехала до родной Молодёги с одной пересадкой на Куйской, и оттуда меня до дома подбросил папа. Дома ждали форумы и ужин, я покончила с ними – именно в таком порядке – уже только к третьему часу, сползала почистить зубы, сделала вид, что легла спать, и в приступе вдохновения родила пару куплетов. Затем сей пост писался почти до шести утра – кабы следующий день не был выходным, можно было бы уже не ложиться и сразу ехать в школу, однако впереди воскресенье, а значит – прощаюсь ненадолго)

Премьерный спектакль – чеховские «Три года», а на сцене – несколько ярусов кроватей, как в ночлежке, которую хотел открыть в Москве главный герой: постарался Боровский, художник и любимого мною Эрмитажа тоже. Атмосфера впору горьковскому «дну», только для богатых, от чего суть не меняется: нищ ли ты или владеешь миллионами, ты всегда неудовлетворён своей жизнью, сбывшиеся мечты не приносят тебе счастья, и ты вновь и вновь стремишься к чему-то далёкому, светлому и недосягаемому. На этих, тем самым весьма символических, кроватях в течение всего первого действия герои пьесы, как и полагается, спят, а когда не спят – пытаются усыпить зрителя художественным чтением растянутых монологов и диалогов, и у них это почти удаётся: у меня, по крайней мере, отчаянно слипались глаза, взгляд отказывался фокусироваться, и фигуры на сцене в нём двоились и расплывались. Однако второе действие меня разбудило, оказавшись энергичнее, острее, эмоциональнее, заиграв истинно чеховскими переходами от смешного к грустному, от безнадёжности к надежде, от неверия к вере, от нелюбви – к любви. Два основных камертона спектакля – очень созерцательного, требующего напряжённого вслушивания в непростой, посверкивающий афоризмами текст повести и осознания, осмысления услышанного – это очень естественная и непосредственная Юлечка (Калашникова) и, конечно, сам Лаптев (Вертков). Вертков только что предстал перед зрителем в роли Громова в фильме «Палата №6», и его Лаптев на него очень похож: такой же затравленный и слабый, но рефлектирующий и страдающий философ, лишний элемент общества, так же в отчаянном бессилии сжимающий металлические прутья своей персональной клетки, более внутренней, нежели внешней. Да, хождение по мукам «случайного семейства» - неоптимистичный, как и все у Чехова, сюжет, а может, и самый неоптимистичный, ибо, как наиболее автобиографичный, он напоминает старую незажившую рану, в которую тебе предлагают вложить палец, дабы убедиться, как апостол Фома, в её подлинности. Впечатления от подобного эксперимента далеки от приятных, зато интересны и, главное, полезны – не позволяют душе лениться; да и эстетическая сторона не подкачала: лаконичность декораций, чёткость и выразительность световых контрастов, одинаковые белые больничные сорочки (ещё одна сильная ассоциация с «Палатой»), музыка, составленная из скрипов пружин под ногами да редкой «закадровой» мелодии. В общем и целом, постановка сильно не цепляет, ибо, будучи достаточно мрачной, не добрала градуса пронзительности и надрыва (всё-таки сложно играть чеховских героев среднего возраста вчерашним студентам Женовача), но однозначно вызывает сочувствие и рекомендована к просмотру всем любителям настоящей классики.
По окончании спектакля я возвращалась на Таганку тем же маршрутом, за мной увязалась только одна женщина, остальные потянулись вдоль дорог в обход дворов. На Марксистскую я, конечно, больше не пошла, а дошла до Таганской и благополучно доехала до родной Молодёги с одной пересадкой на Куйской, и оттуда меня до дома подбросил папа. Дома ждали форумы и ужин, я покончила с ними – именно в таком порядке – уже только к третьему часу, сползала почистить зубы, сделала вид, что легла спать, и в приступе вдохновения родила пару куплетов. Затем сей пост писался почти до шести утра – кабы следующий день не был выходным, можно было бы уже не ложиться и сразу ехать в школу, однако впереди воскресенье, а значит – прощаюсь ненадолго)

Метки: рецензии театры театр спектакли три года сти студия театрального искусства |
Посмотрела "Недосягаемую" |
Дневник |

Минувшей ночью я уползла спать только где-то между тремя и четырьмя часами, уладив все дела интернетные, послушав Наше и родив пару куплетов. Как результат, поутру я не без труда отодрала себя от кровати, чуть было не опоздав на второй урок (первый, физру, я по определению пробивала, к тому же его ещё и не было) – ОБЖ (субботнее расписание осталось таким же, как и в прошлом году). ОБЖшник пугал нас ДТП и эскалаторами, часто употребляя слово «фарш» (ну, то, что на автомобилях люди разбиваются в лепёшки, я в курсе, но чтобы человека в эскалаторе перемололо – это явно из разряда больных фантазий), затем была физика, после неё – ИОК с новой преподшей (видимо, предыдущую благодаря помешательству на почве Матрицы наконец-то отправили в психушку). Она только что вернулась с выгула десятого Г по Цветному и устроила нам, к вящей нашей радости, один урок вместо пары, рассказав нам о Булгакове – начав с кое-каких фактов биографии, продолжив историей народного культа «нехорошей квартиры» и закончив наибредовейшим разбором персонажей и сюжета «Собачьего сердца», согласно которому профессор Преображенский и доктор Борменталь оказались Лениным и Троцким, Шариков – Сталиным, Даша – Дзержинским, Зиночка – Каменевым, а чучело совы (!) – Крупской. Также сегодня к нам в гости заходили покинувшие нас в этом учебном году Макс (отсидел ОБЖ и частично физику, затем физичка его прогнала) и Саша (появилась после окончания уроков, но мы с Асей пропустили сие событие, поспешив прочь из родной школы и разбредшись по домам). Дома я пообедала, пострадала ерундой и пораньше вышла из дому, добралась до Арбатской и оттуда пошагала по Никитскому бульвару, зайдя по дороге в книжный в надежде найти зловредную книжку по алгебре; не найдя, я, как и в прошлый раз, пошуровала в полках с мангой в отделе детской литературы и нашла вышедший по весне этого года однотомник «Сны эпохи Тайсё» в трёх рассказах (жанр – квайдан aka мистика, сёнен-ай и яой, нет, Ушастая, почитать не дам, а то окончательно извращенкой станешь), полистала, убедилась, что хочу и что завтра, получив наконец свой денежный подарок на минувший день знаний, куплю помимо всего прочего, а также погыгыкала, что манга с рейтингом 18+ соседствует с книжками для дошколят. С Никитского я перешла на Тверской и дотопала до театра имени Пушкина, который сегодня открывала для себя; оказалась я там как раз вовремя, с людским потоком влилась внутрь, за 100 рублей приобрела программку с прилагающимся свежим выпуском Театрала, почитала в нём, какие премьеры ожидаются на начавшийся сезон, чуть не захлебнулась слюнями и с первым звонком вошла в партер и направилась к передним рядам, а отнюдь не на бельэтаж, куда у меня был билет на последний ряд за те же самые 100 рублей. Сперва я устроилась с краю третьего ряда, но после второго звонка меня согнали, и пришлось переместиться поближе, в серёдку второго ряда, где я и осталась; оттуда хорошо было видно и слышно, и, несмотря на насморк, я смогла оценить спектакль – «Недосягаемую» по пьесе Моэма, уже второй его пьесе на моей театральной памяти.
Комедийные стереотипы, как доказала практика, настолько живучи, что постановки, ими переполненные, имеют место быть едва ли не на каждой второй сцене – «Недосягаемая» не стала счастливым исключением, встав в один ряд с Утомлённой счастьем и Верной женой (коя также по Моэму): все три спектакля на удивление похожи друг на друга. Первое – аляповатые декорации, составленные, казалось бы, из всего нашедшегося дома у работников театра ненужного барахла, должные изображать роскошь, но вместо этого режущие глаза своей убогостью. Второе – классический набор плоских и шаблонных персонажей-богачей: пожилая «мадама» (так сегодня оговорилась исполнительница роли горничной), выставленная в качестве женщины среднего возраста, её седовласый любовник с 10-летним стажем и молодой поклонник, в искренность чувств которого (если это только не геронтофилия) невозможно поверить чисто физически; имеется и муж главной героини, связанный с ней, конечно же, исключительно формальными отношениями. Третье – банальный и предсказуемый сюжет: наша несвежая «красавица», меняющая безвкуснейшие наряды в каждом акте, узнаёт из газеты о смерти благоверного и торопится обзавестись новым супругом, пока возраст не достиг отметки «Я стою я ресторана, замуж поздно, сдохнуть рано»; не то что романтики, но и просто любви или хотя бы дружбы вы в этом сюжете не увидите – только прагматичный расчёт, как бы и на ёлку влезть, и задницу не ободрать. Четвёртое – полное отсутствие какой бы то ни было морали (в Верной жене хотя бы была вполне полезная житейская мудрость), а следовательно – и смысла, если только не считать таковым низвержение классических семейных ценностей и пиетета в отношении того, чем хорошее дело не назовут, и воспевание с максимальными удобствами организованного «левака». В качестве «приятных дополнений» к этому винегрету – жалкие попытки танцевать, «оригинальное» музыкальное оформление в лице марша Мендельсона, не самая удачная актёрская игра: частое переигрывание второстепенных персонажей и, что наиболее удручающе, явное непопадание в роль главной героини – у вполне мною уважаемой Веры Алентовой (Москва слезам не верит и др.) вместо светской дамы получилась несуразная простушка, словно пытающаяся безуспешно прикидываться предметом восхищения кавалеров и зависти товарок. Форма подачи блюда – растянувшиеся на два с половиной часа два акта, первый скучен и утомителен настолько, что глаза слипаются сами собой и со сном бороться невероятно сложно (недаром публика заметно поредела после антракта), второй, что свойственно комедиям, несколько живее и энергичнее и смотрится проще. Юмор, однако же, представлен лишь несколькими худо-бедно смешными моментами, моэмовский драматизм борьбы с одиночеством и за право на свободу и счастье уничтожен ещё в зародыше, посему я не вижу решительно никаких причин смотреть сей водевиль, получившийся из кастрированной классики жанра – лишённой чувств, национального колорита, подобающих антуража и атмосферы.
По окончании спектакля я двинулась по бульвару до Тверской, с пересадкой добралась до дома, там же позволила себе отвлекаться вовсю и, как следствие, закончить сей пост в половине четвёртого. Завтра, то бишь уже сегодня, в идеале следует, помимо шоппинга, посмотреть и Девятку, и Рыбку Поньо, а лучше – и то и другое, плюс – сделать уроки и всё то, что должна была сейчас сделать в инете, но так и не сделала. Как бы ни сложились и не повернулись планы, прощаюсь я, скорее всего, ненадолго)
Метки: школа рецензии театры театр спектакли недосягаемая театр пушкина театр имени пушкина |
Посмотрела "Как поссорились..." |
Дневник |
Когда я давеча, хоть это и казалось поначалу маловероятным, и запинала себя наконец спать, я после рассказов о планах на выпускной вернувшейся с собрания мамы всю ночь во сне срочно искала себе выпускное платье, при том что вообще-то не собираюсь (спойлер, да) появляться в платье когда бы то ни было в жизни. В какой-то палатке, куда я отстояла очередь, осталось только какое-то страшненькое убожество, и продавщица посоветовала мне обратиться в театр Луны (не иначе как сыграл свою роль тот фактор, что я была приятно удивлена набравшимися за пару дней 21-му плюсу на Афише за рецензию на Рубиновый вторник); театр оказался поблизости, и там меня действительно провели в отдел реквизита, больше похожий на музей, и предоставили право выбора – я быстро остановилась на бело-красном платье и с ним под мышкой поспешила на выпускной. Далее сон прервался, вернувшись к сюжету уже тогда, когда я скучала за большим столом в компании своих однокашников – жрать было решительно нечего, и я не чаяла дождаться, когда наконец начнётся дискотека или ещё что-нибудь в этом роде, но так и не дождалась – проснулась рано поутру и решила вставать, чтобы побольше успеть. Для тех же целей я даже составила план на день, но успела выполнить только два с половиной пункта из семи, а именно – пострадать ерундой, полить комнатные растения и частично сделать русский; после обеда я пораньше вышла из дому, дождалась на остановке автобуса, добралась до метро, на подземке доехала до Арбатской и направилась в храм Афанасия и Кирилла на Сивцевом вражье, где крестили моего покойного деда (завтра у него день рождения). Я там давненько не была, но дорогу припомнила – первый переулок с Арбата, далее по Афанасьевскому переулку мимо нескончаемых строек новых элитных домов на месте старых, и уже издалека слышен резонирующий между фасадами колокольный звон – когда я вошла, уже шла служба, но я не могла себе позволить задерживаться надолго и, выйдя, поторопилась обратно. Путь лежал к театру Маяковского, где я тоже не появлялась давненько, хоть и не настолько – на премьеру, на «Как поссорились…»; у меня был сторублёвый билет аж на балкон второго яруса, так что уже на входе мне посоветовали занять свободное место пониже и поближе, и я, купив программку, поднялась на этаж партера и этим ограничилась. Там я пропалила прилавок с сувенирнёй и соблазнилась на небольшого фарфорового кошака рублей за 90 с лишком – конечно же, приобрела: видимо, что-то у меня в последнее время переклинило, раз стало переть от кошек, да к тому же он каваен – белый, мордастый, с розовым носом и хитрым взглядом голубых глаз. С этим кошаком в кулаке я и вошла в зал с первым звонком и скромно устроилась на откидушке ряда этак седьмого, а со вторым переместилась в серёдку третьего ряда, где и осталась – свободные места при этом были и в первом, и во втором ряду, просто избалованной мне они казались слишком близкими от высокой сцены, а законопослушные граждане, которых я решительно в таких случаях не понимаю, продолжали при этом сидеть где-то далеко на галёрках и по бокам бельэтажа и балкона, откуда ничего невозможно было разглядеть. Мне же видно и слышно было, как всегда, отлично (за такую-то цену – так и вообще идеально), только иногда мешали слишком громко переговаривающиеся соседи.
Занавес открывается, и на сцене – типичная деревенская пастораль: плетёная хата-коммуналка завалена богатым урожаем, на заднем плане бегают детишки, на переднем – мелководный водоём плещется (та самая миргородская лужа, видать), а обитатели этой хаты – небезызвестные достойные и почётные жители Миргорода Иван Иванович и Иван Никифорович – ходят друг к другу в гости в белых сорочках. Но вот их нежная дружба в переносном и прямом смысле даёт трещину (она проходит по полу и задней стене) из-за пустяков, и, вопреки доблестным попыткам окружающих примирить враждующие стороны, бракоразводный процесс, то бишь, простите, тяжба затягивается на десять долгих лет. Обо всём этом мы с младых ногтей знаем по хрестоматийному произведению Гоголя, но не таков Арцибашев, чтобы просто прочитать текст в зал, не сдобрив это ни одной из своих фирменных изюминок: как всегда, он исполняет сатирическую комедию в миноре, а зрителю не даёт заскучать при помощи украинских песен и танцев колоритной массовки. Желающие посмеяться будут разочарованы: в этом спектакле главные герои – не гротескные карикатурные воплощения глупости, зависти и упрямства, а несчастные люди, не ожидавшие, что минутная размолвка даст толчок стремительно развивающейся череде событий, которую они уже не в силах будут остановить; оба очевидно сожалеют о разрыве и пытаются исправить, но только усугубляют его, и протянуть друг другу руки им суждено уже только на поклоне. Приятно было видеть адекватные декорации и слышать хорошую лирическую музыку Грига и Шумана, но особенно было приятно наблюдать за замечательными актёрами, исполнявшими свои роли с отменным мастерством, искренностью и предельной самоотдачей, что вообще свойственно питомцем Арцибашева – особенно за трогательным Иваном Никифоровичем (Филиппов) и не менее трогательным городничим (Чулков, вызвавший ностальгию по Покровке), да и повезло в роли Ивана Ивановича увидеть Костолевского. И ещё одна особенность: снова в арцибашевской интерпретации классика смотрится современно и актуально, оставаясь при этом именно классикой, а не превращаясь в нечто другое; поэтому – смотреть можно и нужно, можно и нужно задумываться о своём бытовом поведении, угадывать поразительно точные недоговорённые арцибашевские метафоры: вот сама по себе со скрипом отворилась дверь, тёмная фигура мерещится за ней… «Старуха с косой», - понимает публика.
Кончился спектакль, я вышла в тёплый вечер, дошла до метро, поехала домой; воодушевлённый рёв «Рос-си-я!» на некоторых станциях дали мне понять раньше Интернета, что наши победили Лихтенштейн. От метро добиралась на маршрутке, ныне снова собираюсь спать лечь насколько это возможно пораньше и встать пораньше – День города культурно праздновать, да и о делах насущных не забывать при этом. Посему прощаюсь, следите за новостями)

Занавес открывается, и на сцене – типичная деревенская пастораль: плетёная хата-коммуналка завалена богатым урожаем, на заднем плане бегают детишки, на переднем – мелководный водоём плещется (та самая миргородская лужа, видать), а обитатели этой хаты – небезызвестные достойные и почётные жители Миргорода Иван Иванович и Иван Никифорович – ходят друг к другу в гости в белых сорочках. Но вот их нежная дружба в переносном и прямом смысле даёт трещину (она проходит по полу и задней стене) из-за пустяков, и, вопреки доблестным попыткам окружающих примирить враждующие стороны, бракоразводный процесс, то бишь, простите, тяжба затягивается на десять долгих лет. Обо всём этом мы с младых ногтей знаем по хрестоматийному произведению Гоголя, но не таков Арцибашев, чтобы просто прочитать текст в зал, не сдобрив это ни одной из своих фирменных изюминок: как всегда, он исполняет сатирическую комедию в миноре, а зрителю не даёт заскучать при помощи украинских песен и танцев колоритной массовки. Желающие посмеяться будут разочарованы: в этом спектакле главные герои – не гротескные карикатурные воплощения глупости, зависти и упрямства, а несчастные люди, не ожидавшие, что минутная размолвка даст толчок стремительно развивающейся череде событий, которую они уже не в силах будут остановить; оба очевидно сожалеют о разрыве и пытаются исправить, но только усугубляют его, и протянуть друг другу руки им суждено уже только на поклоне. Приятно было видеть адекватные декорации и слышать хорошую лирическую музыку Грига и Шумана, но особенно было приятно наблюдать за замечательными актёрами, исполнявшими свои роли с отменным мастерством, искренностью и предельной самоотдачей, что вообще свойственно питомцем Арцибашева – особенно за трогательным Иваном Никифоровичем (Филиппов) и не менее трогательным городничим (Чулков, вызвавший ностальгию по Покровке), да и повезло в роли Ивана Ивановича увидеть Костолевского. И ещё одна особенность: снова в арцибашевской интерпретации классика смотрится современно и актуально, оставаясь при этом именно классикой, а не превращаясь в нечто другое; поэтому – смотреть можно и нужно, можно и нужно задумываться о своём бытовом поведении, угадывать поразительно точные недоговорённые арцибашевские метафоры: вот сама по себе со скрипом отворилась дверь, тёмная фигура мерещится за ней… «Старуха с косой», - понимает публика.
Кончился спектакль, я вышла в тёплый вечер, дошла до метро, поехала домой; воодушевлённый рёв «Рос-си-я!» на некоторых станциях дали мне понять раньше Интернета, что наши победили Лихтенштейн. От метро добиралась на маршрутке, ныне снова собираюсь спать лечь насколько это возможно пораньше и встать пораньше – День города культурно праздновать, да и о делах насущных не забывать при этом. Посему прощаюсь, следите за новостями)

Метки: театр театры театр маяковского театр имени маяковского спектакли рецензии как поссорились... как поссорились сны |
Посмотрела "Капниста туда и обратно" |
Дневник |

Давеча пораньше отправившись высыпаться, я сегодня поутру поднялась по возвращении папы с работы; он приволок мне новую мобилу ввиду издыхания батарейки в старой, что, конечно, мило с его стороны, вот только бесполезно, ибо для меня найти взаимопонимание с тонюсенькой навороченной игрушкой – то же самое, что встать на каблуки или закачать любимую музыку в айпод. Так что придётся этого зверя покуда отдать маме, а мне до нахождения новой батарейки для своего старичка (а сейчас это уже практически антиквариат) попользоваться её телефоном, который хоть чем-то похож на мой; потом покупка, скорее всего, пополнит папину коллекцию мобильников, жаль, что наушники от неё не подходят к моему плееру. Но вернёмся к нашим баранам, то бишь ко мне – а я с утреца пострадала ерундой, пообедала, да и вышла из дому вечерком, дождалась автобуса, добралась на нём до метро, доехала на подземке до Чеховской, дотопала неспеша до сада Эрмитаж. Там я по традиции скоротала немного времени, побаловав зрительные и тактильные рецепторы осмотром не меняющегося ассортимента палаток с хэндмейдом и затем снова переступила порог театра Эрмитаж, купила программку, уселась читать журнал. С первым звонком собравшаяся публика повалила в тот же зал, где я смотрела Ким-танго, и поскольку ряды снова располагались буквой П вокруг сцены, мой теоретически 12-й ряд оказался практически третьим от сцены и вполне тем самым меня устраивал, но, заметив, что со вторым звонком люди с пригласительными начали садиться на приставные стулья в проходах, переместилась на такой стул своего ряда, чтобы головы впередисидящих не мешали обзору. После третьего звонка почти двухчасовое действо началось, и теперь мой долг – от бытовухи переключиться на впечатления от увиденного и услышанного, а именно - "Капниста туда и обратно" (нет, Бильбо Бэггинс тут ни при чём).
Лирика Юлия Кима всё-таки прочно прижилась в театре Эрмитаж: премьера минувшей весны – снова воплощение на сцене его озорных и гротескных четверостиший. Но не только его: в пересказанный бардом исторический анекдот о том, как император Павел I за время просмотра постановки пьесы Василия Капниста «Ябеда» отдал приказы его сначала сослать и заковать, а затем вернуть и наградить, органично входит в отрывках сама эта постановка, и получается «театр в театре». Нравоучительная комедия пера драматурга XVIII века, в которой чиновники-взяточники («ябедничество» в те времена и обозначало не стукачество, а коррупцию) наказаны честным воякой с говорящей фамилией Прямиков, превратилась в пародию на сентиментальный классицизм со всеми присущими сему жанру шаблонами, а стихи Капниста – в бойкие песни под живой оркестр, и в итоге мы имеем яркий, весёлый мюзикл, не ограничившийся, однако же, вызывающей только смех сатирой, но ещё и наделённый трогательной ноткой – непоколебимой наивной верой Капниста в справедливость царя. Опять актёры поют, танцуют, вдохновенно потрошат подушки, но их герои при этом – не карикатурные типажи, а живые, интересные люди, вызывающие сочувствие: и старательные до переигрывания исполнители ролей в «капнистовой пиесе», и сам драматург, натерпевшийся страху за короткую дорогу «за Урал», и, конечно же, персонажи двух моих самых любимых (а просто любимые они у меня уже все) актёров Эрмитажа – благородный «резонёр» (то бишь дворянин в лучшем смысле этого слова) Правдин, привет Фонвизину (прирождённый интеллигент Романов), и взрывоопасный Павел I (прирождённый невротик Кулаков). Привет, кстати, не единственный: с лёгкой руки режиссёра «Ябеда» пополнилась парочкой заимствований из «Горя от ума» (конечно же, такой плагиат не был бы возможен ввиду того, что Грибоедов творил позже, нежели Капнист), а в страшном сне Капниста появился парящий под потолком его современник, поэт Тредиаковский, с бранью изгоняющий конкурента по цеху с Олимпа. Да и «рекламный ролик» Ким-танго вставлен посреди действия: как-никак, на программке гордо значится, что спектакль – «в пространстве Давида Боровского», том же самом, в котором играется и вышеуказанное юбилейное шоу, добавили только трансформацию балкона в императорскую ложу Александрийского театра. Итог – аппетитное содержание, аппетитная форма, симпатичный юмор и актуальный смысл (как-никак, из исторических реалий мы знаем, что пьесу Капниста запретили всё равно – вот и задумывайся в который уж раз о взаимоотношениях власть имущих с «вольнодумным» искусством), вывод – «Капниста» смотреть можно и нужно, как качественно и со вкусом сделанную вещь.
После спектакля под продолжительные аплодисменты на сцену поднялся сам Юлий Ким, весь спектакль просидевший в первом ряду и тихо подпевавший всем актёрам; выходили из зала с оглядкой на замершего посреди сцены в позе небезызвестного памятника Павлу I Кулакова, видимо, дожидавшегося, пока зал не покинет последний зритель. Эти два факта тоже внесли свой вклад в оставшиеся от просмотра приятные впечатления, и немного грустно оттого, что ни в сентябре, ни в октябре меня не будет в Эрмитаже; покинув сад (туда-то я всегда смогу вернуться, как захочу), я дошла до Чеховской, доехала до родной Молодёги, и оттуда до дома подвёз меня папа. Завтра – во что упорно не верится, видимо, потому, что уж очень не хочется верить, – последний день лета, и хочется провести его там, где я была и незадолго до начала прошлого учебного года, а именно – в московском Покровском монастыре, ставшем всё-таки, следует признать, особым для меня местом. А покуда прощаюсь, постараюсь пораньше лечь спать, чтобы пораньше встать, всем доброй ночи)
Метки: театр театры театр эрмитаж эрмитаж спектакли капнист туда и обратно рецензии |
Посмотрела "Безразмерное Ким-танго" |
Дневник |
Давеча меня хватило на бдение только где-то до половины пятого утра или около того, после чего я уползла спать и даже не услышала, как через пару часов на работу ушёл папа, а ещё через пару ушли в поликлинику бабушка с мамой. Я услышала только, когда уже было светло, как ко мне желает зайти собак, впустила его, убедившись, что он не отстанет, не добившись своего, и мы с ним ещё немного поспали часов до одиннадцати с гаком – как раз вскоре после этого мама с бабушкой вернулись. Не успела я и глазом моргнуть, как время перевалило за полдень, и планы сходить на Миссию Дарвина пришлось отложить на завтрашний свободный от театра день; пострадав ерундой, доскачав мангу (и нифига от этого легче не стало, даже наоборот)), пообедав, в конце концов, я неспешно покинула дом родной и направилась к автобусной остановке, где дождалась кругового автобуса, так же неспешно доставившего меня к метро. Доехав до Чеховской, я дошла по звенящему колоколами Успенскому переулку до сада Эрмитаж, снова с удовольствием и не без искушения (благо цены там кусаются, а то бы накупила уже кучу кавайных безделушек) покопалась в ассортименте палаток с хэндмейдом, посмотрела, как кто-то кормил пшеном голубей в голубятне, да и вошла в театр Эрмитаж. Заявилась рано, даже удивилась немноголюдию и тишине, купила программку, дочитала захваченные с собою для досуга в метро комиксы, с первым звонком вошла в зал, сориентировалась не сразу – зал был уже другой, партер окружал высоко поднятую сцену буквой П, моё законное место оказалось как раз там, где у этой буквы ножка, во втором ряду. И всё бы хорошо, кабы головы не мешали, посему со вторым звонком я пересела в первый ряд туда, где у этой буквы поперечная перекладина – пусть с краю, зато видно лучше, слышно отлично, в общем, заплаченные мною сто рублей более чем стоит, ну да обо всём по порядку.
«Безразмерное Ким-танго» - это в первую очередь капустник для любителей «Эрмитажа», и одно из самых приятных чувств при просмотре оного – чувство узнавания уже знакомых по ролям в тамошних спектаклях актёров. Актёры к тому же замечательно танцуют танго (обожаю танго!^^) и замечательно поют – как-никак, ставился капустник ажную дюжину лет назад не абы для чего, а по уважительной причине: по случаю 10-летия театра. Сюжета в неожиданно оказавшемся в постоянном репертуаре шоу нет – есть только 52 (сама я не считала, верю на слово релизам) куплета замечательного барда Юлия Кима, проиллюстрированные при помощи всей труппы «Эрмитажа» (жаль, что не все потом вышли на поклон), живого оркестра, детей, собак и безобидной пиротехники, плюс кому-то что-то наливали, судя по тому, что помногу – вряд ли водку. На сцене беззаботно смешивались национальные культуры, карикатурные типажи и небезызвестные исторические персонажи, действие перекатывалось от смешного к грустному и обратно, однако в итоге многочисленные фрагменты сего действа к целостности как-то не приходят, а всё разваливаются на осколки калейдоскопа, и по нескольку раз кажется: ну вот, конец, – а это ещё не конец. Второй минус – слишком уж многократно повторяющийся припев: после двадцать лохматого раза хочется обратиться к исполнителям со словами из оного – хрестоматийными «Не надо! Я умоляю вас – не надо!», потому что такое повторение в конце концов начинает вызывать в зале смешки и сбивает нужное настроение. В целом получился аппетитный, вполне эстетичный коллаж, на котором приятно отдохнуть душой и глазами при условии наличия лёгкого характера, чувства юмора и гибкого вкуса – зрители, не обладавшие данными качествами, так и не углядели смысла за вольным потоком режиссёрской импровизации и массово линяли со спектакля, шедшего без антракта около часа сорока. Мне же «Ким-танго» понравилось: всё-таки качественно сделанный праздник, пусть и в жанре дуракаваляния, – нужная в нашей сложной жизни вещь, и ритмы танго будут звучать в голове несмотря ни на что ещё наверняка очень долго.
После спектакля я миновала вечерний сад Эрмитаж и дотопала обратно до Чеховской, доехала до Молодёги, узрела ждущую на остановке маршрутку, взгромоздилась… и была дома за время в два раза большее, чем если бы пошла пешком, но уж больно было влом. Дома, ввиду затишья на форумах, нашла себе новую отвлекуху – по чужим дневникам (не из числа френдов и читателей, не бойтесь) анонимно лазить, так что небольшая рецензия снова писалась в большие сроки, хоть и спешить мне особо некуда. Прощаюсь до новых новостей, ибо вопреки неумолимому приближению осени новости ещё обязательно будут!)

Романов (на фоте в Ким-танго с Ахеджаковой) - всё-таки человечище. Не дед, а харизма ходячая^^
«Безразмерное Ким-танго» - это в первую очередь капустник для любителей «Эрмитажа», и одно из самых приятных чувств при просмотре оного – чувство узнавания уже знакомых по ролям в тамошних спектаклях актёров. Актёры к тому же замечательно танцуют танго (обожаю танго!^^) и замечательно поют – как-никак, ставился капустник ажную дюжину лет назад не абы для чего, а по уважительной причине: по случаю 10-летия театра. Сюжета в неожиданно оказавшемся в постоянном репертуаре шоу нет – есть только 52 (сама я не считала, верю на слово релизам) куплета замечательного барда Юлия Кима, проиллюстрированные при помощи всей труппы «Эрмитажа» (жаль, что не все потом вышли на поклон), живого оркестра, детей, собак и безобидной пиротехники, плюс кому-то что-то наливали, судя по тому, что помногу – вряд ли водку. На сцене беззаботно смешивались национальные культуры, карикатурные типажи и небезызвестные исторические персонажи, действие перекатывалось от смешного к грустному и обратно, однако в итоге многочисленные фрагменты сего действа к целостности как-то не приходят, а всё разваливаются на осколки калейдоскопа, и по нескольку раз кажется: ну вот, конец, – а это ещё не конец. Второй минус – слишком уж многократно повторяющийся припев: после двадцать лохматого раза хочется обратиться к исполнителям со словами из оного – хрестоматийными «Не надо! Я умоляю вас – не надо!», потому что такое повторение в конце концов начинает вызывать в зале смешки и сбивает нужное настроение. В целом получился аппетитный, вполне эстетичный коллаж, на котором приятно отдохнуть душой и глазами при условии наличия лёгкого характера, чувства юмора и гибкого вкуса – зрители, не обладавшие данными качествами, так и не углядели смысла за вольным потоком режиссёрской импровизации и массово линяли со спектакля, шедшего без антракта около часа сорока. Мне же «Ким-танго» понравилось: всё-таки качественно сделанный праздник, пусть и в жанре дуракаваляния, – нужная в нашей сложной жизни вещь, и ритмы танго будут звучать в голове несмотря ни на что ещё наверняка очень долго.
После спектакля я миновала вечерний сад Эрмитаж и дотопала обратно до Чеховской, доехала до Молодёги, узрела ждущую на остановке маршрутку, взгромоздилась… и была дома за время в два раза большее, чем если бы пошла пешком, но уж больно было влом. Дома, ввиду затишья на форумах, нашла себе новую отвлекуху – по чужим дневникам (не из числа френдов и читателей, не бойтесь) анонимно лазить, так что небольшая рецензия снова писалась в большие сроки, хоть и спешить мне особо некуда. Прощаюсь до новых новостей, ибо вопреки неумолимому приближению осени новости ещё обязательно будут!)

Романов (на фоте в Ким-танго с Ахеджаковой) - всё-таки человечище. Не дед, а харизма ходячая^^
Метки: рецензии театры театр эрмитаж спектакли театр эрмитаж безразмерное ким-танго |
Посмотрела "Верную жену" |
Дневник |
Успев с давешнего вечера-ночи до сегодняшнего утра выспаться перед папиным приходом с работы, я с утреца пострадала ерундой и пораньше выскочила из дому, ибо надо было успеть до пяти вечера выкупить свой подарок себе любимой на собственное др, которое состоится, если кто ещё не в курсе, 24 октября (впрочем, запоминать эту дату вовсе не обязательно – в этом году я праздник закатывать не собираюсь). Дождавшись на холодном ветру автобуса, я доехала до метро, а на метро – до Арбатской, а когда вышла, психически неустойчивая погода конца лета (при том что я пока упорно не могу поверить в это словосочетание – «конец лета») уже сменилась на если не жару, то по крайней мере неслабое такое тепло. Проклиная напяленную поверх рубахи джинсу, я поспешила по Поварской согласно указанному адресу, покуда вскоре не наткнулась на искомый офис, то бишь на подъезд, где по моему разумению он должен был находиться; дважды нажатая на домофоне нужная циферка ни к чему не привела – сколько я ни дёргала дверь, она не открывалась, но когда я перед тем, как вознамерилась уходить несолоно хлебавши, потянула за неё в последний раз, она подалась. Я оказалась в типичном подъезде фешенебельного староарбатского дома, бабушка-консьержка указала мне нужный подъезд, и по лабиринтам коридоров я нашла наконец ещё одну дверь, ту, за которой меня должны были теоретически ждать, но не ждали, а попросили подождать меня и позвали ту тётеньку, с которой я по телефону и договаривалась. Тетёнька выписала мне от руки по чистому бланку пригласительный, влетевший мне в 400 кровных деревянных (ну а что поделать – таки др только раз в году, чем не повод), и я с чистой совестью вышла обратно на свет Божий за добрые полтора часа до начала того спектакля, на который ходила сегодня – это время надо было как-то убить, и ничего лучше того, чтобы пройтись туда и обратно по Арбату до Смоленки, я не придумала. И почему-то эта прогулка чертовски меня порадовала – так бывает иногда, когда идёшь по Арбату, никуда не торопясь, и смотришь на всё словно в первый раз в жизни: я послушала разношёрстных музыкантов, полюбовалась на картины, покаваилась на котят, на которых сейчас почему-то особо многочисленный урожай – на каждом шагу отдают в добрые руки очаровательных полосатых, белых, чёрных, цветных существ, которых так хочется всех взять к себе. На одном из книжных лотков я углядела Калевалу 85-го года выпуска – и пусть, что в прозаическом пересказе от издательства «Детская литература»: в стихах она у меня и так есть, а эта книжка подкупила роскошными графическими иллюстрациями, поэтому я не пожалела на неё ста рублей и даже получила в подарок от продавцов никчёмную детскую книжонку габаритами со школьный атлас для уроков географии – «В поисках Индии» 92-го года выпуска (она, оказывается, была издана к 500-летию открытия Америки, а я в этот год родилась). Уничтожив почти целый час этим неспешным моционом по Арбату, я доехала до Курской и, поскольку время ещё оставалось, решила для окончательного закаваивания заглянуть в тот анимешный магазинчик, где Ушастая себе уши покупала; в приступе топографического кретинизма я немного пометалась в поисках этого магазинчика по торговым рядам Курского вокзала, пока наконец не обнаружила, что он закрыт, так что пришлось удовольствоваться содержимым витрины, обращённой в коридор. Для возмещения морального ущерба я зарулила в соседний магазинчик с прессой и разорилась ещё и на свежие комиксы, которые подорожали ещё на добрую дюжину рублей (скоро, чую, сто рублей будет один журнальчик стоить >< ) – нельзя мне всё-таки деньги в руки давать: тут же стремлюсь их потратить до победного конца оных. С торбой, пополнившейся в итоге на две книжки и два журнала (я ещё свежий ТаймАут таки прикупила ещё с утра), я потопала, также неспеша, по Земляному валу до театра Гоголя, куда пришла, как обычно, за полчаса, как, собственно, и вчера, купила программку, почитала до первого звонка и со звонком вошла в зал. Хоть амфитеатр и был закрыт, партер сегодня заполнился плотнее обычного, но я, несмотря на то, что неоднократно пришлось двигаться, уступая людям их законные места, таки осталась в итоге в районе середины то ли второго, то ли третьего ряда, в общем – как всегда, в самой удобной для лицезрения спектакля зоне.
При первом взгляде на сцену, меблировка которой опять смотрелся тем более убого, чем более он старался походить на роскошные интерьеры, я безошибочно догадалась: очередной ромком из жизни богачей. И даже угадала, что в главной роли опять будет выступать дама, мягко говоря, пожилая, только на сей раз её воздыхатель был не таким же седым, как она, а худо-бедно молодым, так что при такой разнице в возрасте его бурная страсть выглядела нездоровой геронтофилией и тем самым вызывала усмешки. Сюжет спектакля предсказуем и элементов сказочности не лишён: Констанс не любит своего мужа, он не любит её, он изменяет ей с её лучшей подругой, она вместо того, чтобы устраивать сцены, поступает мудрее – собственными силами не даёт возникнуть скандалу, когда адюльтер раскрывается мужем этой самой подруги. И так бы эта банальщина и осталась поучительной басней о том, что брачный долг и репутация в свете превыше всего, но не таков Сомерсет Моэм, написавший пьесу «Верная жена», по которой и был поставлен сей спектакль: обманутая супруга отплачивает своему благоверному той же монетой, для чего складываются самые благоприятные условия – и откуда ни возьмись появляется поклонник из времён далёкой молодости, не растерявший за годы своего большого и чистого чувства, и знакомая бизнесвумен предлагает выгодное сотрудничество в непыльной сфере дизайна. Второй фактор нужен потому, что по Моэму – «Свобода – это материальная независимость», так что в итоге всё это «Укрощение строптивой» наоборот, хоть и тоже с неизбежным хэппи-эндом, оказывается скорее историей о деньгах, нежели историей о любви; да, прагматично и не шибко романтично, зато в обращённых к залу экспрессивных душеспасительных монологах можно услышать вполне логичные и отнюдь не бесполезные выводы относительно непростой бытовой и личной жизни. Но не только возможностью набраться житейского опыта (всё равно актуальны эти ситуации только для тех, кому за 45, вторая половинка обрыдла, из-за детей развестись нельзя, а бес к ребру уже подбирается) «Верная жена» выигрывает на фоне многочисленных комедий подобного толка: помимо смысла в ней есть ещё и немного юмора, то бишь местами можно посмеяться – во многом благодаря талантливой актёрской игре, в чём второй плюс постановки. Все играли искренне, создав не карикатурные плоские шаблоны, а живых и чувствующих людей, и особенно порадовала в конце концов исполнительница главной роли Анна Гуляренко – при всём при том, что было бы гораздо логичней отдать эту роль более молодой актрисе, она изобразила весьма симпатичную старушку (пусть иногда и переигрывая в первые симптомы приближающегося маразма), да к тому же по-настоящему плакала, что в комедиях – большая редкость. За минусами в лице некоторой затянутости первого действия в сравнении с более энергичным вторым, режущего слух звукового (язык не поворачивается назвать его музыкальным) сопровождения и прочих незначительных мелочей получаем вещь вполне сносную и годящуюся ввиду этого к просмотру с целью небездумного релакса.
Таким не самым плохим образом со мной и попрощался театр Гоголя – больше нога моя не ступит на его порог как минимум до начала ноября, ибо мои субботы уже забиты театром на два месяца вперёд. После почти трёхчасового (не утомившего, впрочем) просмотра я дотопала обратно до Курской, доехала до родной Молодёги, закупилась едой, и папа подвёз меня до дома, где я теперь качаю себе на ночь мангу Loveless – да, настолько сильной уже стала ломка по этому аниме, начавшаяся ещё в начале прошлого учебного года (непременно выклянчу себе лицензионку, пересматривать с инета больше совсем не хочется). С вами же прощаюсь до завтрашней рецензии, а может, и не одной, ибо нехреново было бы завтра с утра перед театром посмотреть Миссию Дарвина, пока она в кинотеатрах не прошла. Следите за новостями)

При первом взгляде на сцену, меблировка которой опять смотрелся тем более убого, чем более он старался походить на роскошные интерьеры, я безошибочно догадалась: очередной ромком из жизни богачей. И даже угадала, что в главной роли опять будет выступать дама, мягко говоря, пожилая, только на сей раз её воздыхатель был не таким же седым, как она, а худо-бедно молодым, так что при такой разнице в возрасте его бурная страсть выглядела нездоровой геронтофилией и тем самым вызывала усмешки. Сюжет спектакля предсказуем и элементов сказочности не лишён: Констанс не любит своего мужа, он не любит её, он изменяет ей с её лучшей подругой, она вместо того, чтобы устраивать сцены, поступает мудрее – собственными силами не даёт возникнуть скандалу, когда адюльтер раскрывается мужем этой самой подруги. И так бы эта банальщина и осталась поучительной басней о том, что брачный долг и репутация в свете превыше всего, но не таков Сомерсет Моэм, написавший пьесу «Верная жена», по которой и был поставлен сей спектакль: обманутая супруга отплачивает своему благоверному той же монетой, для чего складываются самые благоприятные условия – и откуда ни возьмись появляется поклонник из времён далёкой молодости, не растерявший за годы своего большого и чистого чувства, и знакомая бизнесвумен предлагает выгодное сотрудничество в непыльной сфере дизайна. Второй фактор нужен потому, что по Моэму – «Свобода – это материальная независимость», так что в итоге всё это «Укрощение строптивой» наоборот, хоть и тоже с неизбежным хэппи-эндом, оказывается скорее историей о деньгах, нежели историей о любви; да, прагматично и не шибко романтично, зато в обращённых к залу экспрессивных душеспасительных монологах можно услышать вполне логичные и отнюдь не бесполезные выводы относительно непростой бытовой и личной жизни. Но не только возможностью набраться житейского опыта (всё равно актуальны эти ситуации только для тех, кому за 45, вторая половинка обрыдла, из-за детей развестись нельзя, а бес к ребру уже подбирается) «Верная жена» выигрывает на фоне многочисленных комедий подобного толка: помимо смысла в ней есть ещё и немного юмора, то бишь местами можно посмеяться – во многом благодаря талантливой актёрской игре, в чём второй плюс постановки. Все играли искренне, создав не карикатурные плоские шаблоны, а живых и чувствующих людей, и особенно порадовала в конце концов исполнительница главной роли Анна Гуляренко – при всём при том, что было бы гораздо логичней отдать эту роль более молодой актрисе, она изобразила весьма симпатичную старушку (пусть иногда и переигрывая в первые симптомы приближающегося маразма), да к тому же по-настоящему плакала, что в комедиях – большая редкость. За минусами в лице некоторой затянутости первого действия в сравнении с более энергичным вторым, режущего слух звукового (язык не поворачивается назвать его музыкальным) сопровождения и прочих незначительных мелочей получаем вещь вполне сносную и годящуюся ввиду этого к просмотру с целью небездумного релакса.
Таким не самым плохим образом со мной и попрощался театр Гоголя – больше нога моя не ступит на его порог как минимум до начала ноября, ибо мои субботы уже забиты театром на два месяца вперёд. После почти трёхчасового (не утомившего, впрочем) просмотра я дотопала обратно до Курской, доехала до родной Молодёги, закупилась едой, и папа подвёз меня до дома, где я теперь качаю себе на ночь мангу Loveless – да, настолько сильной уже стала ломка по этому аниме, начавшаяся ещё в начале прошлого учебного года (непременно выклянчу себе лицензионку, пересматривать с инета больше совсем не хочется). С вами же прощаюсь до завтрашней рецензии, а может, и не одной, ибо нехреново было бы завтра с утра перед театром посмотреть Миссию Дарвина, пока она в кинотеатрах не прошла. Следите за новостями)

Метки: театр театры театр гоголя театр имени гоголя спектакли верная жена рецензии |
Посмотрела "Ночь перед Рождеством" |
Дневник |
Когда я давеча благополучно отошла ко сну снова далеко заполночь, снилась сначала книжка Шевчука, которую я видела в книжном на Никитском бульваре, – будто я опять её с прилавка беру и смотрю, – а потом персонажи Тихого Дона, собравшиеся со мной вместе в какой-то тесной общаге вповалку, прости Господи (видимо, это мне знак не раскатывать губу на свежие книжки, пока старые недоперечитаны). Проснувшись поутру, я по традиции пострадала ерундой, слушая Наше и любуясь пасмурной погодой, щедрой на ливни и просто дожди, а после обеда, немного переждав один из первых, пошагала по своему ежедневному маршруту до автобусной остановки, откуда доехала до метро. Подземка снова привезла меня на Курскую, где я с удовольствием вышла под бодрый прохладный дождичок и двинулась по Земляному валу до – несложно догадаться – театра Гоголя, преданно составляющего мне компанию под конец августа. Купив программку, я до первого звонка тупо полистала дочитанный ещё в метро ТаймАут (а уже новый вышел – надо либо завязывать, либо читать по ночам, а то совсем за книжку хвататься будет некогда), а после того, как первый звонок дали аж дважды, вошла в зал; амфитеатр на сей раз был там открыт, и я подумала было, что народу следует ожидать больше обычного, но нет: зал остался полупуст, а по непонятным мне мотивам некоторые зрители остались на последних рядах амфитеатра, не пересаживаясь на свободные места в передних рядах партера. Я же, не будучи лохом, сразу же устроилась в серёдке ряда эдак третьего, а когда меня оттуда согнали, переместилась в середку второго ряда, да так там и осталась, и то потому, что с первого ряда неудобно было бы смотреть на близко расположенную высокую сцену, а со второго – в самый раз.
Свою «Ночь перед Рождеством» театр Гоголя поставил к юбилею великого писателя и к юбилею присвоения себе его имени заодно, так что вполне понятно желание режиссёра устроить на сцене праздник: актёры на сцене пляшут, поют под фанеру и пылят на передние ряды большим белым или звёздным полотнищем. Праздник, как известно, – штука весёлая и приятная, но от праздника, поставленного по Гоголю, ожидаешь яркого национального колорита, что логично подразумевает народные песни, танцы и костюмы, а создатели спектакля вместо этого озвучили его песнями Елены Исаевой, чересчур отдающими современной эстрадой. Песни ещё и повторяют по нескольку раз, словно ждут от зрителя, что он в конце концов выучит незамысловатые тексты и начнёт подпевать, но самым забавным моментом зрелища была пафосная песня запорожцев, одетых в одинаковые зелёные кафтаны стрелецкого покроя, а усы и чубы надевающих только для визита к государыне: в этой песне трогательно звучит о том, что им «с Россией по пути» и «другой не надо доли», а я решительно не могу вспомнить ни одной исторической эпохи, когда бы вольная Сечь дружила с русским государством. Помимо творческой самодеятельности, театр Гоголя не пожалел материала на аляповатые костюмы, сценического дыма на бесхитростные спецэффекты, сопровождающиеся бьющей по мозгам громкой озвучкой, а на декорации – симпатичных кукол варьирующихся размеров, очаровательных домиков с зажигающимися окошками и живописного задника для изображения Петербурга. Такое обрамление вполне позволяло бы причислить эту постановку к детским спектаклям, которым самое место на новогодней ёлке, если бы не больно уж явное изображение того, ради чего, собственно, мужики валом валили к «несравненной» Солохе (дети в зале, впрочем, всё благополучно поняли и жизнерадостно смеялись). Мне же оставалось смеяться только над нелепостями, ибо юмора как такового, равно как и той озорной чертовщинки, коей так обаятелен Гоголь, спектакль был лишён напрочь; но, несмотря на этот смех, мне всё равно было скучновато – до оскомины знакомый сюжет быстро пролетел в промежутках между музыкальными номерами, нарочито карикатурным персонажам сочувствовать чисто физически было нереально, равно как и удивляться спускающейся на месяце из-под потолка влюблённой парочке или мигающим на черевичках лампочкам вместо алмазов. Поскольку наибольшая часть растянувшегося на два с половиной часа действия была отведена под массовое мельтешение, оценивать работу актёров, хоть все они и безусловно старались, очень сложно, но тамошнего Чёрта (Алексей Сафонов) всё-таки отмечу – уж больно энергично он прыгал и кривлялся, создав единственный яркий, убедительный и запоминающийся образ из всего многообразия оных. В общем, хоть ничего возмутительного во всём этом капустнике и нет, я по-прежнему с особой строгостью оцениваю постановки классики, ибо она подразумевает перенесение на сцену не только текста, но и смысла, а сегодняшняя «Ночь» - всё-таки не Гоголь, а «по мотивам Гоголя», поэтому – только один балл и взрослой, серьёзной аудитории не рекомендуется.
Досмотрев спектакль, я поспешила, чтобы замёрзнуть не успеть, обратно по Земляному валу до Курской, доехала до родной Молодёги, в том же темпе вдоль дорог дотопала до дома. Завтра мне опять предстоит поход в театр, а вам – рецензия, посему после сегодняшнего короткого поста прощаюсь не далее чем на сутки до следующего)

Картинко слэшное Оо
Свою «Ночь перед Рождеством» театр Гоголя поставил к юбилею великого писателя и к юбилею присвоения себе его имени заодно, так что вполне понятно желание режиссёра устроить на сцене праздник: актёры на сцене пляшут, поют под фанеру и пылят на передние ряды большим белым или звёздным полотнищем. Праздник, как известно, – штука весёлая и приятная, но от праздника, поставленного по Гоголю, ожидаешь яркого национального колорита, что логично подразумевает народные песни, танцы и костюмы, а создатели спектакля вместо этого озвучили его песнями Елены Исаевой, чересчур отдающими современной эстрадой. Песни ещё и повторяют по нескольку раз, словно ждут от зрителя, что он в конце концов выучит незамысловатые тексты и начнёт подпевать, но самым забавным моментом зрелища была пафосная песня запорожцев, одетых в одинаковые зелёные кафтаны стрелецкого покроя, а усы и чубы надевающих только для визита к государыне: в этой песне трогательно звучит о том, что им «с Россией по пути» и «другой не надо доли», а я решительно не могу вспомнить ни одной исторической эпохи, когда бы вольная Сечь дружила с русским государством. Помимо творческой самодеятельности, театр Гоголя не пожалел материала на аляповатые костюмы, сценического дыма на бесхитростные спецэффекты, сопровождающиеся бьющей по мозгам громкой озвучкой, а на декорации – симпатичных кукол варьирующихся размеров, очаровательных домиков с зажигающимися окошками и живописного задника для изображения Петербурга. Такое обрамление вполне позволяло бы причислить эту постановку к детским спектаклям, которым самое место на новогодней ёлке, если бы не больно уж явное изображение того, ради чего, собственно, мужики валом валили к «несравненной» Солохе (дети в зале, впрочем, всё благополучно поняли и жизнерадостно смеялись). Мне же оставалось смеяться только над нелепостями, ибо юмора как такового, равно как и той озорной чертовщинки, коей так обаятелен Гоголь, спектакль был лишён напрочь; но, несмотря на этот смех, мне всё равно было скучновато – до оскомины знакомый сюжет быстро пролетел в промежутках между музыкальными номерами, нарочито карикатурным персонажам сочувствовать чисто физически было нереально, равно как и удивляться спускающейся на месяце из-под потолка влюблённой парочке или мигающим на черевичках лампочкам вместо алмазов. Поскольку наибольшая часть растянувшегося на два с половиной часа действия была отведена под массовое мельтешение, оценивать работу актёров, хоть все они и безусловно старались, очень сложно, но тамошнего Чёрта (Алексей Сафонов) всё-таки отмечу – уж больно энергично он прыгал и кривлялся, создав единственный яркий, убедительный и запоминающийся образ из всего многообразия оных. В общем, хоть ничего возмутительного во всём этом капустнике и нет, я по-прежнему с особой строгостью оцениваю постановки классики, ибо она подразумевает перенесение на сцену не только текста, но и смысла, а сегодняшняя «Ночь» - всё-таки не Гоголь, а «по мотивам Гоголя», поэтому – только один балл и взрослой, серьёзной аудитории не рекомендуется.
Досмотрев спектакль, я поспешила, чтобы замёрзнуть не успеть, обратно по Земляному валу до Курской, доехала до родной Молодёги, в том же темпе вдоль дорог дотопала до дома. Завтра мне опять предстоит поход в театр, а вам – рецензия, посему после сегодняшнего короткого поста прощаюсь не далее чем на сутки до следующего)

Метки: рецензии театры театр спектакли ночь перед рождеством театр имени гоголя театр гоголя |









