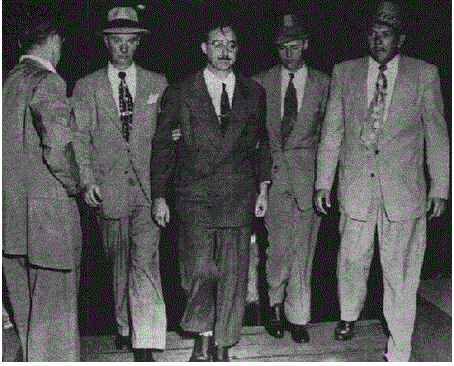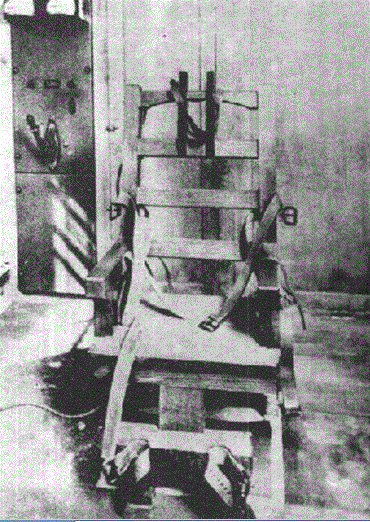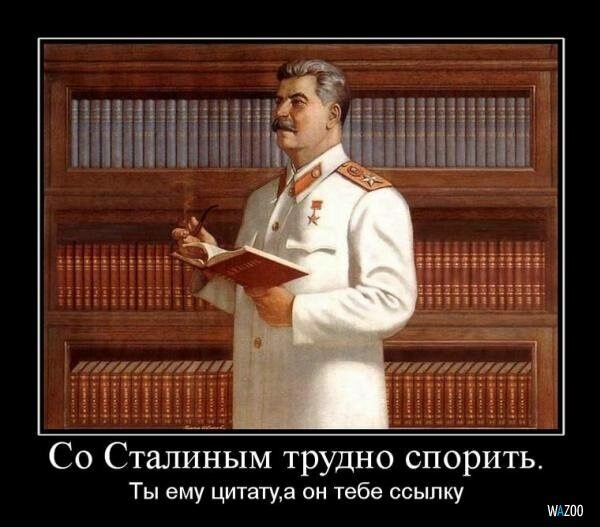-ћетки
-–убрики
- ¬еликие караимы (3)
- ¬осток или «апад - врем€ выбора (15)
- √рафоманечка (7)
- ≈вреи и »зраиль (362)
- ¬еликие евреи (93)
- ≈вреи пираты,авантюристы,шпионы,разбойники,военные (89)
- ∆ивопись (5)
- животные и растени€ (79)
- »стории о любви (7)
- »стори€ и этногенез (864)
- јльтернативна€ истори€ (5)
- јрийцы и јрии (индоевропейцы) (71)
- √енетические исследовани€ (38)
- ƒревние времена (28)
- »зменени€ климата, катастрофы, стихии (36)
- азаки - наследники ¬еликой ’азарии (43)
- Ќароды-симбионты (281)
- Ќовое врем€ и современность (44)
- ќдежда, оружие и доспех (16)
- самоопределение (4)
- —кифы (13)
- —лав€не и –усь (246)
- —редние века (29)
- ———– (13)
- “радиции (100)
- “юрки, монголы (98)
- ‘альшивки истории и истори€ фальшивок (9)
- ’азары и караимы (41)
- ÷ивилизации (1)
- языки, слова и выражени€ (98)
- нижки моего детства (6)
- улинари€, кухн€, национальные блюда (56)
- ћедицина и здоровье (140)
- ћузыка, танцы, песни (77)
- Ќаука, школа, образование и воспитание (36)
- ќбщество и его законы (239)
- ¬ойна, боевые искусства и оружие (132)
- азни, пытки, палачи, инквизици€ (18)
- пираты, разбойники и террористы (17)
- разведка и шпионаж (9)
- –асизм, геноцид и антисемитизм (31)
- –еволюции и перевороты, революционеры и заговорщик (23)
- ‘ашизм (23)
- „еловеческие жертвы, ритуальные убийства, людоедст (5)
- ѕравила жизни (68)
- –азное, заметки, наблюдени€, случаи, тайны (143)
- –елигии (169)
- »слам (5)
- »удаизм (55)
- ћолитва (7)
- —в€тые, пророки и пророчества (43)
- ’ристианство (67)
- язычество, маги€, суевери€ (17)
- символика и пам€тники (34)
- —казки, былины, легенды, притчи, пам€ть народа (49)
- —тихи (21)
- —траны и народы (357)
- итай (16)
- ћоре и корабли, загадочные земли (15)
- ќдесса (183)
- –осси€ (113)
- —Ўј (18)
- япони€ (17)
- ”краина (141)
- ¬еликие украинцы (19)
- ёмор (85)
-ћузыка
- _Assassin_s_Tango - из фильма "ћистер и миссис —мит"
- —лушали: 3916 омментарии: 0
- —естры Ѕерри: ≈врейска€ комсомольска€ (музыка »саака ƒунаевского)
- —лушали: 190 омментарии: 0
- »мперский марш «вездные войны
- —лушали: 62 омментарии: 0
- Mehdi "Blossoming flowers"
- —лушали: 3361 омментарии: 0
- _Dance for two_ - скрипка-яна Ўакиржанова, цимбалы-¬иктор ƒмитренко
- —лушали: 1937 омментарии: 0
-ѕоиск по дневнику
-»нтересы
-ƒрузь€
-ѕосто€нные читатели
-—ообщества
«аписи с меткой шпионаж
(и еще 2493 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)
ƒругие метки пользовател€ ↓
арии вар€ги великие евреи великие женщины викинги война генетика гитлер днк анализ евреи евреи и арми€ женщины животные здоровье иудаизм каббала казаки караимы кино китай кулинари€ медицина монголо-татары монголы музыка народы-симбионты одесса погода правила жизни пророки психологи€ росси€ русские русы русь сказки скифы слав€не слова стихи татары традиции украина украинцы фашизм хазары христианство шпионаж юмор €зыки
≈¬–≈» » ј–ћ»я „ј—“№ 13и: ≈¬–≈» ќ–”∆≈…Ќ» » » ¬–≈…— ќ≈ ќ–”∆»≈ - яƒ≈–Ќќ≈ ќ–”∆»≈ = —јћќ≈ ≈¬–≈…— ќ≈ ќ–”∆»≈ |
ƒневник |

Ётель и ёлиус –озенберги после оглашени€ обвинительного приговора.
—м также ≈врейские пираты, шпионы, авантюристы: Ёйхман, —корцени и ћоссад
и ≈¬–≈…— »≈ ѕ»–ј“џ, Ўѕ»ќЌџ, ј¬јЌ“ё–»—“џ: ≈¬–≈…— јя ј“ќћЌјя ЅќћЅј
http://www.rubezh.eu/Zeitung/2007/03/17.htm
(продолжение)
ядерные шпионы
¬ начале ’’ века ученые спокойно занимались исследовани€ми в области радиоактивности. ќни свободно обменивались информацией, выступали с докладами на международных конференци€х, наперебой спешили опубликовать данные о новых открыти€х в научных журналах. ”дивительный мир атома оставалс€ монопольным досто€нием физиков, и, казалось, он никак не мог привлечь внимани€ разведчиков...
¬ конце 1938 года удалось зафиксировать €вление распада атомов урана при бомбардировке их нейтронами. –асчеты показывали, что распад должен сопровождатьс€ выделением энергии, котора€ на единицу массы в два-три миллиона раз превосходит количество энергии, выдел€емой при сгорании каменного угл€, нефти или пороха. Ѕыло высказано предположение, что при наличии достаточно большой массы урана распад может прин€ть форму взрыва колоссальной силы.
¬след за этим свободна€ публикаци€ материалов сменилась молчанием в отношении работ и открытий, касавшихс€ делени€ атомов. ќдним из инициаторов засекречивани€ исследований в области атомной энергии был венгерский ученый Ћео —цилард, переселившийс€ в јмерику из ≈вропы в годы фашизма. ѕо его инициативе јльберт Ёйнштейн написал письмо президенту –узвельту, в котором указал на возможность по€влени€ бомбы нового типа на основе атомной энергии, котора€ должна обладать огромной разрушительной силой, и высказал опасение, что фашистска€ √ермани€ может первой создать такую бомбу. ¬ св€зи с этим ученые просили у правительства материальной помощи на ускорение исследований.
Ѕыла введена строга€ цензура на научные публикации, в печати запрещалось употребл€ть даже выражение «атомна€ энерги€». »менно на этот факт обратили внимание начальник научно-технической разведки Ћеонид васников и нью-йоркский резидент √айк ќваким€н.
»ме€ подтверждающие данные резидента об исчезновении на «ападе публикаций по урановой проблеме, васников инициировал посылку директивы резидентурам в —Ўј, јнглии, ‘ранции и √ермании начать поиск научных центров, где могут вестись исследовани€ по созданию атомного оружи€, а также обеспечить получение оттуда достоверной развединформации.
—начала пришел ответ из √ермании: в донесении говорилось о том, что возле ѕенемюнде в засекреченном исследовательском центре немцы разрабатывают дистанционно управл€емые снар€ды (‘ј”-1 и ‘ј”-2), способные нести большой взрывной зар€д. ¬ сент€бре 1941 года пришла информаци€ из Ћондона. Ёто были ценнейшие материалы, в которых очень кратко сообщалось содержание представленного „ерчиллю особо секретного доклада «”ранового комитета», а также информаци€ о том, что иде€ создани€ сверхмощного оружи€ приобрела вполне реальные очертани€.
ƒосконально изучив разведывательные данные из Ћондона, васников доложил информацию Ѕерии. ѕерва€ реакци€ наркома была отрицательной: это, мол, «деза», нацеленна€ на отвлечение материальных, людских и научных ресурсов от удовлетворени€ насущных потребностей фронта.
Ќи за что бы не сносить головы Ћеониду –омановичу, если бы за него не заступилс€ начальник разведки ѕ. ‘итин. » все же Ѕери€ не оценил колоссальный успех разведчиков в Ћондоне и счел разведданные дезинформацией.
„ерез некоторое врем€ после этого на им€ —талина пришло письмо от ученого-физика √. ‘лерова, открывшего еще до войны вместе с . ѕетржаком спонтанное деление €дер урана. ќн писал вождю: «ќдной €дерной бомбы достаточно дл€ полного уничтожени€ ћосквы или Ѕерлина, в зависимости от того, в чьих руках бомба будет находитьс€… √осударство, первым осуществившее €дерную бомбу, сможет диктовать миру свои услови€».
¬ апреле 1942 года √. ‘леров направл€ет второе письмо на им€ —талина: «Ёто мое письмо последнее, после которого €, как ученый, складываю оружие, и буду ждать, когда удастс€ решить атомную задачу в √ермании, јнглии или —Ўј. –езультаты будут настолько огромны и ошеломительны, что будет не до того, кто виноват в том, что у нас в —оюзе забросили подобные работы...»
огда все аргументы сошлись в один пакет, Ѕери€ все же согласилс€ доложить об этом —талину. ѕодготовить записку было поручено васникову. ”бедительные данные, полученные разведкой, побудили —талина прин€ть решение о развертывании работ по созданию советской атомной бомбы.
¬ феврале 1943 года было подписано распор€жение по јкадемии наук ———– о создании лаборатории є 2 под руководством ».¬. урчатова. “огда же »горь ¬асильевич вызвал в ћоскву ё. ’аритона, ». икоина, я. «ельдовича и √. ‘лерова. ќни начали работу по организации новой отрасли промышленности с невиданными доселе сооружени€ми и производственными технологи€ми.
—амые впечатл€ющие результаты были получены евре€ми в физике - в создании €дерного щита ———–. ядерный щит был, разумеетс€, плодом коллективного гени€ советских ученых. —ахаров, человек хорошо разбирающийс€ в происхождении €дерного оружи€, писал о двух конкурирующих научных группах, созданных еще Ѕерией Ћ. ѕ., возглавл€вшим до 1953 г. всю проблему «бомбы». ¬ первой группе работали ’аритон ё. Ѕ., «ельдович я. Ѕ., —ахаров ј. ƒ., јльтшулер Ћ. ¬. и др. ћинистерские работники между собой называли первую группу «»зраиль», а вторую - «≈гипет», име€ в виду малую во второй группе еврейскую прослойку. —толовую дл€ научных работников и начальства они называли «синагогой». јтомна€ проблема находилась в ведении ѕервого √лавного ”правлени€ (ѕ√”) при —овмине ———–, переименованного впоследствии в ћинистерство среднего машиностроени€. Ўефом ѕ√” был еврей ¬анников Ѕ. Ћ., генерал-полковник, трижды √ерой —оц. “руда.
¬ это же врем€ президент —Ўј ‘. –узвельт и премьер јнглии ”. „ерчилль договорились о планах совместного создани€ €дерного оружи€ и обмене научной информацией по этой проблеме. –аботы над атомной бомбой в —Ўј стали проводитьс€ под общим кодовым названием «ћанхэттенский проект», а в јнглии – «“ьюб Ёллойз». Ѕелый дом прин€л решение об ассигновании крупных финансовых средств на свой проект, англичане же, которые вели войну с √ерманией, не могли позволить себе этого и вскоре пон€ли, что им одним не осилить создание собственной атомной бомбы.
√лавными объектами «ћанхэттенского проекта» €вл€лись ’энфордский и ќк-–иджский заводы, а также Ћос-јламосска€ лаборатори€ в штате Ќью-ћексико. »менно там разрабатывались конструкци€ атомной бомбы и технологический процесс ее изготовлени€. «десь больше всего бо€лись проникновени€ шпионов, особенно агентов нацистской √ермании. ѕоэтому конспираци€ и меры безопасности были самые суровые. —тена величайшей секретности оказалась весьма эффективной, и надо сказать, что ни одной разведке мира, кроме советской, не удалось проникнуть за ее пределы.
—оветска€ разведка буквально с первых дней создани€ чудовищного вида оружи€ получала все сведени€, которые необходимы были стране. ак только —оветский —оюз приступил к разработке отечественной атомной бомбы, ответственным по линии разведки за добывание атомной информации был назначен Ћ.–. васников. выполнению этой операции были допущены лишь несколько человек. ¬ центральном аппарате разведки – начальник разведки ѕ.ћ. ‘итин, его заместитель √.Ѕ. ќваким€н, Ћ.–. васников и переводчик английского €зыка ≈.ћ. ѕотапова; в нью-йоркской резидентуре – резидент ¬.ћ. «арубин, сотрудники —.ћ. —еменов, ј.—. ‘еклисов и ј.ј. яцков; в лондонской резидентуре – руководитель ј.¬. √орский и его помощник ¬.Ѕ. Ѕарковский.
¬сего по линии внешней разведки Ќ ¬ƒ в операции «Ёнормоз» были задействованы 14 особо ценных агентов из числа иностранных граждан.
¬ их числе, как полагают, были – всемирно известный ученый-физик лаус ‘укс, супруги –озенберг, впоследствии казненные на электрическом стуле, а также агенты-нелегалы Ћеонтина и ћоррис оэны. ¬ ходе всей операции, длившейс€ несколько лет, советские разведчики добыли огромное, без преувеличени€, количество секретных документов общим объемом 12 тыс€ч листов.
—оветские ученые, работавшие над созданием атомной бомбы в Ћаборатории є2, получа€ многочисленные сведени€ и даже готовые результаты дорогосто€щих опытов, не могли предположить, что заслуга во всем этом принадлежит советской научно-технической разведке. ќни считали, что сведени€ поступают к ним из каких-то научно-исследовательских центров страны, параллельно работающих по проблеме.
—вою первую атомную бомбу американцы взорвали 16 июл€ 1945 года. ¬ это врем€ в ѕотсдаме проходила конференци€ глав правительств трех держав. ѕолучивший из ¬ашингтона шифрованную телеграмму с закодированной фразой «–оды прошли удачно», президент “румэн, внезапно почувствовавший себ€ властелином мира, решил сообщить —талину о создании в —Ўј нового оружи€. ÷ель такой его откровенности была €сна:
Ўтаты любили вести переговоры «с позиции силы». Ќо —талин, к удивлению “румэна, не про€вил к этому сообщению никакого интереса.
“румэн не мог себе представить, что —талин давно уже все знал о разработках и поспешных приготовлени€х американцев к испытанию первой атомной бомбы. «нал он и о леден€щих душу за€влени€х заместител€ госсекретар€ —Ўј ƒжозефа √рю: «≈сли что-либо может быть вполне определенным в этом мире, так это будуща€ война между ———– и —Ўј». ≈ще более циничным оказалось выступление руководител€ «ћанхэттенского проекта» генерала Ћесли √ровса: «√лавное назначение нашего проекта – покорить русских».
„ерез три недели после этого торжества, 6 и 9 августа 1945 года, американцы сбросили на €понские города ’иросиму и Ќагасаки две атомные бомбы. ¬ ѕентагоне было всеобщее ликование: «ѕервые! –усские могут создать такое мощное оружие не раньше чем через дес€ть лет...» » вот уже на сверхсекретных картах ѕентагона по€вл€етс€ перва€ атомна€ мишень, столица —оветского —оюза, потом – —еверна€ ѕальмира. ƒл€ удара по ћоскве планировалось восемь бомб, по Ћенинграду – семь.
огда о результатах атомных бомбардировок доложили —талину, он впервые осознал, какую чудовищную, разрушительную силу представл€ет новое оружие, и сказал ћолотову: «–асполага€ €дерным оружием в достаточном количестве, —Ўј об€зательно воспользуютс€ им, чтобы навсегда покончить с ———–. Ќо если мы тоже создадим его в ближайшее врем€, они подумают, стоит ли им примен€ть эту «штучку» против нас».
Ѕомбы, сброшенные на €понские города, придали немыслимое ускорение советскому атомному проекту. Ќесмотр€ на послевоенные трудности, св€занные с восстановлением народного хоз€йства, в стране начали создаватьс€ и перепрофилироватьс€ специальные институты, Ѕ и заводы, ускоренными темпами стали разрабатыватьс€ урановые месторождени€.
ј тем временем в ѕентагоне, упивавшемс€ атомной монополией, составл€лс€ план «“ро€н», по которому предусматривалось нанесение атомных ударов по семидес€ти советским цел€м, в том числе по таким крупным городам, как ћосква, Ћенинград, √орький, —вердловск, ѕермь, Ѕаку, “билиси и другие. ядерное нападение на ———–, по данным разведки, планировалось на первый день 1950 года, но до этого дело не дошло: €дерный пыл в ¬ашингтоне был охлажден произведенным в ———– 29 августа 1949 года взрывом первой отечественной атомной бомбы.
ќценива€ роль внешней разведки в ее создании, следует иметь в виду, что бомбу делала не разведка, а ученые и специалисты, разработавшие в неверо€тно сложных услови€х, не сравнимых с услови€ми в —Ўј, где были собраны лучшие физики со всего света. –азведывательна€ информаци€ по атомной проблеме €вл€лась дл€ советских ученых подсобным материалом, она попадала на благотворную почву. — помощью разведданных научно-исследовательские работы по урану начались в ———– раньше и продвигались гораздо быстрее, чем это было бы без ее материалов. ј существенный выигрыш во времени был тогда жизненно необходим, ибо атомный шантаж и «холодна€ война» готовы были перерасти в «гор€чую» атомную войну.
¬ заключение следует отметить, что спуст€ дес€тилети€ после описанных событий ”казом ѕрезидента –оссийской ‘едерации звание √еро€ –оссии было присуждено ¬ладимиру Ѕарковскому, Ћеониду васникову, јлександру ‘еклисову и јнатолию яцкову. „уть позже этого высокого звани€ был также удостоен бывший гражданин —Ўј, прин€тый в 60-е годы ’’ века в советское гражданство, ћоррис оэн.
29 окт€бр€ 1949 года - был подписан ”каз о награждении большой группы ученых, инженеров, военных, отличившихс€ в создании первой советской атомной бомбы. »горь урчатов, ёлий ’аритон, яков «ельдович и еще несколько человек получили звани€ √ероев —оциалистического “руда яков «ельдович и ёлий ’аритон, ученые-евреи, были среди тех, кто создал первую советскую атомную бомбу и получил за это достижение высшую награду страны. ћорис и Ћеонтина оэн. разведчики-евреи, были среди тех, кто передавал из —оединенных Ўтатов в —оветский —оюз секретные сведени€, ускорившие создание советской ј-бомбы (см. «јлеф», NN 822-823). «а этот подвиг они получили в конце концов двадцать лет тюрьмы, забвение при жизни и лишь посмертное уважение.
Ќеобходимы были полевые испытани€ ¬еликий полководец ¬еликой ќтечественной маршал √. .∆уков в 1954 году был первым заместителем министра обороны ———–. » за готовность армии к войне отвечал именно он. ћаршал полагал - и справедливо, - что к возможной атомной войне арми€ не готова, потому что солдаты никогда не нюхали «атомного пороха».
¬ июле 1954 года ∆уков отдал приказ: провести в районе армейского полигона вблизи от станции “оцкое очередные войсковые учени€ с привлечением пехоты, артиллерии, бронетанковых войск, авиации. ¬ ходе учений отработать ведение военных действий на территории противника при условии использовани€ (нами, кстати, а не противником) атомного оружи€. — каковой целью взорвать в районе учений атомную бомбу и посмотреть, что получитс€. “ыс€чи ничего не подозревавших советских молодых реб€т получили смертельное облучение, одни из них умерли вскоре, другие остались инвалидами на всю жизнь.
ѕо идее, хорошо бы поместить в эпицентр некоторое количество живой силы противника, но за неимением...
¬ ———– в те годы все еще сидели в лагер€х дес€тки тыс€ч бывших вражеских солдат. » кроме них сидели не успевшие выйти «враги народа». Ќе говор€ об уголовниках. Ќарода, на котором можно было испытать разрушающую силу атомного взрыва, хватало ¬ своих знаменитых мемуарах маршал ∆уков об этом эпизоде своей военной биографии вообще умолчал. “о ли секретность помешала, то ли не видел в испытании ничего, достойного описани€.
—упруги –озенберг
ћир не знал имен этой супружеской пары до тех пор, пока ёлиус и Ётель –озенберги не были разоблачены, а затем казнены на электрическом стуле как шпионы. ѕолучив доступ к строго охран€емым тайнам Ћос-јламоса, где в конце второй мировой войны была изготовлена перва€ атомна€ бомба, они передали ее секрет советской разведке и поплатились за это жизнью.
ёлиус и Ётель –озенберги были детьми евреев-эмигрантов, покинувших –оссию в поисках лучшей жизни. ќба родились в Ќью-…орке. —тав самосто€тельными людьми, они решили оказать помощь родине своих отцов, продав сверхсекретную информацию агентам советской разведки.
Ќо существует и друга€ точка зрени€. ”тверждают, что двое американцев сами стали жертвами коммунистического заговора, попав в умело расставленные сети.
≈стественно, что ћанхеттенский проэкт находилс€ «под колпаком» ‘Ѕ–. ѕрослушивались телефонные разговоры, радиосообщени€. ¬ декабре 1946 года криптоаналитик ћередит добралс€ до радиограммы исключительной важности. Ќью-йоркска€ резидентура передавала в ћоскву список ученых, зан€тых проектом «ћанхэттен». ¬се они именовались псевдонимами.
—оветскую разведку подвела самонаде€нность: она слишком верила в надежность своего шифра.
ќднажды, когда Ќью-…орк сообщал ћоскве о сестре лауса ‘укса, то за неимением у нее псевдонима вынужденно назвали ее подлинное им€.
ј далее, изр€дно потрудившись, ‘Ѕ– раскрыло и арестовало почти всю атомную резидентуру, помогавшую —оветскому —оюзу…
тому же в сент€бре 1945 года шифровальщик советского военного атташе в ќттаве ». √узенко изменил –одине и передал канадским власт€м много секретных документов. ¬ одном из них были имена лауса ‘укса и его сестры ристель, проживающей тогда в ембридже.
—ледствие ‘Ѕ– в 1946 году установило, что в дом ристель трижды приходил мужчина, интересовавшийс€ ее братом. ѕри этом, поскольку ее не было дома, описание незнакомца дважды давала служанка.
Ќо √олда не выдала ни ристель, ни служанка. ≈го сдала предательница ≈лизавета Ѕентли. √олда арестовали. Ќа допросе он назвал им€ человека, дававшего ему документы по разработке атомной бомбы, - лаус ‘укс.
¬ первых числах сент€бр€ 1949 года, когда ‘укс уже трудилс€ в јнглии, его арестовала английска€ контрразведка ћI-5.
—упругов –озенберг добровольно сдал родной брат Ётель ƒэвид √ринглэсс.
ёлиуса вз€ли под стражу 11 июл€ 1950 года, а Ётель - 11 августа в зале суда.
¬ 1951 году жюри прис€жных признало виновными супругов –озенберг, √. √олда, ћ. —обелла. —пуст€ несколько дней судь€ объ€вил решение. Ётель и ёлиус –озенберги были приговорены к смертной казни, √олд и —обелл получили по 30 лет тюремного заключени€, а ƒ. √ринглэсс - 15 лет.
—амое чудовищно-безжалостное и несправедливое наказание американска€ фемида вынесла Ётель и ёлиусу –озенбергам. ‘актически роль Ётель в организации заключалась в том, что она, машинистка-профессионал, перепечатывала даваемые ей рукописи, не понима€ их содержани€.
ј дело было так:
¬ мае 1950 года ‘Ѕ– арестовало советского шпиона √арри √олда. ¬ ходе следстви€ вы€снилось, что разведчик однажды встречалс€ с √ринглассом. Ќо идти на смертную казнь рабочему не захотелось. » √рингласс начал давать показани€ против близких родственников. √рингласс «созналс€», что передал своим родственникам - ёлиусу и Ётель –озенбергам чертежи установки, на которой он работал по проекту. Ѕолее того, по его словам, на измену его подбил ёлиус, который хотел заработать денег и «помочь союзнику» (подразумева€ ———–). ¬ конечном итоге –озенбергов задержали и предъ€вили обвинение в попытке украсть дл€ ———– чертежи атомной бомбы. ѕоказани€ √рингласса были поразительно детальными. Ќапример, он за€вил суду, что Ётель –озенберг печатала донесени€ в ћоскву на машинке «–емингтон», а затем ее муж отсылал шифровки в ———–. ак рассказал по прошествии почти полувека √рингласс, эти «детали» были придуманы им вместе с помощником прокурора. «атем они стали главным свидетельством против подсудимых: сами они ничего не рассказывали и утверждали, что абсолютно невиновны. «¬ деле фигурировали донесени€, отпечатанные на машинке. то-то же должен был их напечать. » € сказал, что это сделала мо€ сестра», -за€вил √рингласс.
јпелл€цию, отсрочку исполнени€ приговора отклонили. 19 июн€ 1953 года Ётель и ёлиус были казнены на электрическом стуле в тюрьме —инг-—инг. ѕеред смертью им предоставили право обн€тьс€ и поцеловать друг друга.

19 июн€ 1953 года в 20 часов 6 минут оператор подал ток и 1900 вольт убили ёлиуса –озенберга. ¬ 20 часов 12 минут то же самое произошло с Ётель.
—упруги –озенберг, казненные в —Ўј 48 лет назад за шпионаж в пользу ———–, были невиновны. —пуст€ почти полвека главный свидетель по их делу, ƒэвид √рингласс призналс€, что оговорил сестру. ќн за€вил, что «немного сожалеет» о соде€нном, но зато ему удалось спасти от электрического стула себ€ и жену. —пуст€ 48 лет ƒэвид √рингласс, брат казненной за шпионаж в пользу ———– Ётель –озенберг призналс€, что оболгал свою сестру в суде.
ƒэвид - брат Ётель - освободилс€ в 1960 году. ≈го жена –ут «за заслуги» мужа перед властью к суду не привлекалась.
ѕосле 10-летнего заключени€ √олд мог ходатайствовать о помиловании и выйти на свободу. “ем не менее он отказалс€ это сделать и осталс€ в тюрьме. ѕричина - бо€знь возмезди€ за предательство.
√арри √олд все же вышел на свободу в 1966 году и вернулс€ в ‘иладельфию, где умер в возрасте 60 лет во врем€ операции на сердце.
ћ. —обелл отбыл в камере 18 лет из 30 и был освобожден.
¬ феврале 1950 года Ћондонским городским судом был арестован лаус ‘укс с предъ€влением ему обвинени€, что в период между 1943-м и 1947 годами он по крайней мере четыре раза передал неизвестному лицу информацию, касающуюс€ секретных атомных исследований, котора€ могла быть полезной врагу.
Ќа самом деле ‘укс передал ———– не только результаты научно-исследовательских работ, но и подробные сведени€ по практическому созданию урановой и плутониевой бомб, а в 1947 году - и водородной бомбы. ƒоставленные материалы помогли —оветскому —оюзу ускорить решение атомной проблемы на срок от 3 до 10 лет, а работы по созданию термо€дерной бомбы начать значительно раньше, чем —Ўј.
¬ обвинительной речи прокурор ’эмфрис все же отметил, что ‘укс был «одним из самых блест€щих физиков-теоретиков нашего времени», а преступление ученый совершал не ради денег, а в силу идей коммунизма.
1 марта 1950 года в Ћондонском суде ќлу Ѕейли лаусу ‘уксу объ€вили приговор - 14 лет тюремного заключени€.
24 июн€ 1959 года, после дев€ти с половиной лет заключени€, ‘укс за примерное поведение был досрочно освобожден и улетел в √ерманскую ƒемократическую –еспублику.
Ћетом 1966 года в составе делегации ученых-атомщиков √ƒ– он приезжал в ћоскву. ¬ 1972 году избран членом академии наук √ƒ– и членом ÷ —≈ѕ√. ¬ 1975 году награжден орденом арла ћаркса.
—кончалс€ лаус ‘укс в 1988 году.
ѕубликуемые в этом дневнике статьи €вл€ютс€ несколько переработанными материалами лекций (которые € читал в Ѕиблейском ≈врейском институте) по теме ≈врейска€ мысль более подробно см: http://yadi.sk/d/MhnKOc-UC4JtF
—ери€ сообщений " азни, пытки, палачи, инквизици€":
„асть 1 - ѕалачи - санитары общества
„асть 2 - Ѕудешь часто мытьс€ - попадешь в инквизицию
...
„асть 8 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ: –”—— »≈ » “ј“ј–џ - Ѕ–ј“№я ¬ќ¬≈ . „ј—“№ 26 Ќ5 Ц ƒј…“≈ ћЌ≈ ¬Ћј—“№, » я ¬—≈ ѕ≈–≈¬≈–Ќ”
„асть 9 - 350 лет рабства
„асть 10 - ≈¬–≈» » ј–ћ»я „ј—“№ 13и: ≈¬–≈» ќ–”∆≈…Ќ» » » ¬–≈…— ќ≈ ќ–”∆»≈ - яƒ≈–Ќќ≈ ќ–”∆»≈ = —јћќ≈ ≈¬–≈…— ќ≈ ќ–”∆»≈
„асть 11 - –езн€ по-слав€нски
„асть 12 - »х ушли
...
„асть 16 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ: –”—— »≈ » ≈¬–≈» - Ѕ–ј“№я ¬ќ¬≈ . „ј—“№ 32 —(4). ј ≈¬–≈» ’–»—“ј ƒќ яѕќЌ»» ƒќЌ≈—Ћ»
„асть 17 - ураев: ‘—»Ќ воцерковилс€
„асть 18 - Ќј–ќƒџ —»ћЅ»ќЌ“џ: ≈врейска€ социальна€ мысль часть 16
ћетки: евреи еврейские шпионы атомна€ бомба шпионаж |
≈врейские шпионы: —амый ценный советский шпион |
ƒневник |
—амый ценный советский шпион
 ќдин из самых знаменитых евреев в истории мирового шпионажа — 89-летний экс-суперагент √Ѕ ƒжордж Ѕлейк, по-прежнему хранит верность марксизму-ленинизму.
ќдин из самых знаменитых евреев в истории мирового шпионажа — 89-летний экс-суперагент √Ѕ ƒжордж Ѕлейк, по-прежнему хранит верность марксизму-ленинизму.
3 ма€ 1961 года в Ћондоне возле здани€ уголовного суда высшей инстанции ќлд Ѕейли толпились дес€тки журналистов. ќни пытались попасть в зал заседаний. Ќо путь им преграждала полици€. ќфицер несколько раз громко объ€вл€л:
«√оспода, расходитесь. ƒело рассматриваетс€ в закрытом режиме. —пециальное сообщение дл€ прессы будет позже доведено до вас».
“ак началось слушание уголовного дела о шпионаже в пользу —оветского —оюза сотрудника британской разведки —»— (—икрет »нтеллидженс —ервис; часто британскую разведку обозначают и другой аббревиатурой - ћ»-6) ƒжорджа Ѕлейка. Ќа момент ареста он работал в Ѕейруте в ее резидентуре. ќ том, какое значение власти придают этому делу, свидетельствовал тот факт, что в роли государственного обвинител€ на процессе выступал сам генеральный прокурор ¬еликобритании сэр –эджинальд ћеннинген-Ѕаллер. ќфициально обвинительное заключение гласило так: "ќ нарушении одним из госслужащих ¬еликобритании закона об охране государственной тайны".
—уд признал ƒжорджа Ѕлейка виновным по всем п€ти пунктам обвинени€ и приговорил к самому продолжительному сроку тюремного заключени€ в истории британского правосуди€ - 42 годам тюрьмы.
Ќезадолго до суда над Ѕлейком 23 марта 1961 года там же, в ќлд Ѕейли, завершилс€ громкий судебный процесс, в котором основным фигурантом был канадский бизнесмен √ордон Ћонсдейл. Ёто им€ еще долго было в центре внимани€ американских и британских —ћ». ѕод этим именем в јнглии действовал кадровый советский разведчик-нелегал полковник онон “рофимович ћолодый. ≈го британский суд приговорил к 25 годам тюрьмы.
ќба знаменитых разведчика отбывали заключение в английской тюрьме ”ормвуд-—крабс в Ћондоне. ¬незапно Ћонсдейла перевели в другое место. «а несколько дней до этого между ними состо€лс€ разговор, который Ѕлейку врезалс€ в пам€ть надолго.
Ћонсдейл, который в любой ситуации сохран€л оптимизм, сказал ƒжорджу:
«¬ одном € уверен. ћы с вами будем в ћоскве на большом параде в день 50-й годовщины ќкт€брьской революции». (—м. ¬.јнтонов, ¬. арпов. "“айные информаторы ремл€". ћ., "√е€ »тэрум", 2001).
—оветские шпионы были людьми идейными. » пусть это теперь покажетс€ многим смешным - вера в идеалы социализма двигала ими и согревала.
Ћонсдейл оказалс€ прав. 22 окт€бр€ 1966 года Ѕлейк совершил побег из лондонской тюрьмы ”ормвуд-—крабс, о которой раньше говорили, что отсюда и мышь без проверки не проскочит. „ерез некоторое врем€ беглец оказалс€ в ћоскве. Ётот побег стал насто€щей сенсацией во всем мире. ¬ ¬еликобритании, —Ўј, анаде и других странах газеты писали о нем на первых полосах. ¬ысказывались разные предположени€, одна верси€ смен€ла другую. ѕубликовались фото Ѕлейка, его биографи€. ѕодчеркивалось, что с советской разведкой он сотрудничал по идейным мотивам и не получал никакого вознаграждени€.
Ѕританские власти предприн€ли беспрецедентные меры дл€ поисков беглеца. Ќо они ничего не дали.
* * *
ƒжордж Ѕлейк родилс€ 11 но€бр€ 1922 года в –оттердаме и тогда его звали √еорг Ѕехар. ≈го отец - јльберт ”иль€м Ѕехар еврей родом из ≈гипта, сражалс€ в составе британской армии во ‘ландрии в период ѕервой мировой войны. ќн получил британское гражданство. ¬ 1919 году јльберт в Ћондоне познакомилс€ с молодой голландской аристократкой этрин Ѕердервелен. «ав€залс€ роман. ¬скоре они поженились и переехали в √олландию, где молодой супруг зан€лс€ бизнесом. огда ƒжорджу было 14 лет, отец его умер от серьезного заболевани€ легких, вызванного отравлением газами во врем€ войны. —емь€ оказалась в трудном материальном положении. ¬ св€зи с этим мать ƒжорджа отправила его дл€ продолжени€ образовани€ в аир к своей сестре, бывшей замужем за богатым банкиром. «десь ƒжордж поступил во французский лицей, после окончани€ которого, продолжил образование в английской школе. Ћетом 1939 года он поехал на каникулы к матери, котора€ жила в небольшом голландском курортном городке —хевенингене около √ааги.
1 сент€бр€ 1939 года √ермани€ напала на ѕольшу. Ќачалась ¬тора€ мирова€ война. “ак как продолжать учебу в аире было невозможно, ƒжордж переехал к бабушке в –оттердам и здесь поступил в лицей. ”чилс€ отлично. ƒл€ него не было "т€желых предметов", все схватывал на лету. ¬добавок к французскому и английскому быстро овладел немецким €зыком. ќднако, учебу прервала война.
¬ 1939 году он начал готовитьс€ к экзаменам в Ћондонский университет, но от этих планов пришлось отказатьс€. ¬ойна все перечеркнула.
ѕосле оккупации в 1940 году √олландии немцами, Ѕлейк, как британский подданный, был интернирован в лагерь. ¬скоре его освободили, так как он не достиг призывного возраста. ¬ыйд€ на свободу, ƒжордж в 1941 году вступил в р€ды голландского —опротивлени€. ќн выгл€дел гораздо моложе своего возраста. Ёто облегчало ему задачу перевозить и распростран€ть подпольную газету "¬рий Ќидерланд" и выполн€ть другие задани€ руководства подполь€.
¬есной 1942 года умерла бабушка ƒжорджа, к которой он был очень прив€зан, и Ѕлейк решил бежать в јнглию и там продолжать борьбу с фашизмом. — помощью товарищей, участников —опротивлени€ он пересек Ѕельгию, ‘ранцию и добралс€ до »спании. «десь он в начале 1943 года сел на лайнер "ѕовелительница јвстралии" и очутилс€ в Ћондоне. Ѕлейк поступил добровольцем в военно-морской флот ¬еликобритании. ѕосле собеседовани€ и экзаменов был зачислен в офицерскую школу, которую закончил в 1944 году. ≈го направили дл€ прохождени€ службы на подводную лодку. ќднако во врем€ одного тренировочного зан€ти€ Ѕлейк потер€л сознание и был отчислен. „ерез некоторое врем€ его пригласили в Ћондон и после нескольких собеседований объ€вили ему, что он прин€т на работу в британскую разведку - —»—. ¬ том, что им заинтересовалась разведка, по-видимому, свою роль сыграло его участие в голландском —опротивлении.
—вою службу в —»— Ѕлейк начал в отделе "ѕ-8" ”правлени€ —еверной ≈вропы, который занималс€ √олландией. ¬ об€занности Ѕлейка входила подготовка и отправка забрасываемых в √олландию агентов. роме того, он занималс€ разбором и анализом поступающих от агентов радиограмм и другой информации.
ѕосле окончани€ войны Ѕлейк был направлен сотрудником резидентуры —»— в √олландии. «атем его направили в √амбург. «десь он вел допросы бывших немецких мор€ков и отбирал из них тех, кто мог быть полезным в организации агентурной сети в советской зоне оккупации √ермании.
¬ 1947 году Ѕлейк был отозван из √ермании и направлен на курсы русского €зыка дл€ офицеров вооруженных сил в ембридж - в ƒаунинг-колледж. »менно там у него по€вилс€ интерес к –оссии и к тем событи€м, которые происходили в ———–. ¬ 1948 году Ѕлейк окончил курсы, получив самые высокие оценки и был рекомендован на должность резидента —»— в орее.
¬ окт€бре 1948 года под прикрытием должности вице-консула Ѕлейк приступил к созданию агентурной сети на советском ƒальнем ¬остоке.
25 июн€ 1950 года началась война в орее. Ќа ее первом этапе серьезных успехов добились северокорейцы. „ерез четыре дн€ после начала военных действий в их руках оказалс€ —еул. —отрудники британского посольства, в том числе Ѕлейк, были интернированы. ¬ лагере была единственна€ книга на русском €зыке - " апитал" арла ћаркса. »спользу€ ее, он совершенствовал свои знани€ €зыка и вместе с тем проникалс€ верой в идеи марксизма. „ерез корейского офицера передал записку в советское посольство с просьбой организовать встречу с представителем спецслужб. — ним установил св€зь полковник ћ√Ѕ Ќиколай Ћоенко. ќн и осуществил вербовку. ¬последствии Ћоенко рассказывал, что он сразу выделил Ѕлейка из числа остальных интернированных. ќн выдел€лс€ умом и каким-то оба€нием. Ќалажива€ с ним контакт, Ћоенко стал потихоньку подкармливать ƒжорджа, поскольку пленников корейцы держали впроголодь. ѕриносил Ѕлейку хлеб, консервы, шоколад. ¬месте с тем вт€гивал в разговоры. “ак слово за слово подошли к серьезному разговору, когда Ѕлейк сделал свой выбор.
¬есной 1953 года интернированные иностранцы были отправлены на родину. јнгличан на машине отправили в ѕекин. «атем на поезде ѕекин-ћосква в ———–. ѕо дороге под видом проверки документов и заполнени€ анкеты с Ѕлейком установил контакт его будущий первый оператор в Ћондоне Ќиколай –один, позднее работавший в јнглии под псевдонимом оровин.
јмериканские историки Ќорманн ѕолмар и “омас јллен в своей книге "Ёнциклопеди€ шпионажа" (ћ., " рон-ѕресс", 1999) отмечают, что следует признать Ѕлейка одним из самых ценных шпионов, когда-либо завербованных советской разведкой.
* * *
¬ апреле 1953 года ƒжордж прибыл в Ћондон на самолете британских ¬¬—. ¬ аэропорту его встретил представитель —»—, который приказал ему на следующий день €витьс€ в службу безопасности британской разведки. «десь его довольно долго допрашивали. »нтересовались обсто€тельствами захвата британской миссии в —еуле и его пребыванием в ѕхень€не. Ѕеседа была продолжена на следующий день. “еперь уже службу безопасности интересовали вопросы разведывательного характера. ≈го подробно расспрашивали о китайских лини€х коммуникаций в —еверной орее, о “ранссибирской магистрали, по которой интернированные англичане возвращались на родину.
Ѕлейка затем прин€л начальник —»— адмирал ’ью —инклер. ќн интересовалс€ некоторыми детал€ми его пребывани€ в орее. Ѕосс сообщил Ѕлейку, что после отпуска он может снова приступить к работе в разведке. ƒжорджа назначили заместителем начальника нового отдела, который с помощью оперативной техники занималс€ подслушиванием линий св€зи советских учреждений за рубежом.
ѕо словам самого Ѕлейка, в окт€бре 1953 года он передал русским свою первую информацию - перечень сверхсекретных технических операций —»— против ———– с точным указанием места их проведени€ и характера. ќни были поделены на две группы: телефонное прослушивание и установка микрофонов.
¬есной 1954 года Ѕлейк был командирован в ∆еневу, где —»— подключилс€ к телефонным лини€м советской и китайской делегаций, приехавших в Ўвейцарию на переговоры по урегулированию военных конфликтов в »ндокитае. ¬ его задачу входил перевод и анализ перехваченных разговоров. Ќо так как Ѕлейк через своего оператора заранее предупредил √Ѕ о предсто€щей операции, то англичане не получили никакой важной информации.
* * *
— помощью Ѕлейка была раскрыта одна из самых тайных операций ÷–” и —»— после ¬торой мировой войны, она носила название "√олд" ("«олото"). –асскажем о ней чуть подробнее.
ѕо территории ¬осточного Ѕерлина довольно близко к границе западного сектора, проходила совершенно секретна€ подземна€ лини€ советской правительственной и военной св€зи в √ƒ–. јмериканцы построили туннель под границей, который примыкал к этой линии, и установили аппаратуру, позвол€ющую подслушивать и записывать все разговоры, ведущиес€ по ней. ѕодслушивание и анализ разговоров по этой линии должны были дать такую ценную информацию американским и английским спецслужбам, которую не мог добыть ни один агент. Ѕлагодар€ Ѕлейку советска€ разведка знала все детали операции "√олд". “ак с самого начала совместна€ британско-американска€ операци€ проходила под контролем советских спецслужб.
¬ конце концов, пришло врем€ кончать игру. ќднако сделать это надо было так, чтобы Ѕлейк осталс€ вне подозрений. ¬ один весенний день в апреле 1956 г. американские разведчики сидели у аппаратов, подключенных к советской линии св€зи, вдруг услышали громкие голоса с противоположной стороны туннел€, со стороны √ƒ–. ќни так перепугались, что бросились бежать, не успев ни сн€ть, ни уничтожить аппаратуру. —оветска€ сторона за€вила, что его обнаружили случайно при "устранении неполадок" в каналах св€зи. —пециальна€ комисси€ —»— и ÷–” поверила в эту версию и пришла к заключению, что это случайность. Ѕлейка никто ни в чем не заподозрил.
* * *
¬ начале 1955 года Ѕлейк получил назначение в берлинскую резидентуру —»—. Ѕерлин, не разделенный в то врем€ знаменитой стеной, был идеальным местом дл€ разведывательной работы. ѕоэтому берлинска€ резидентура была самым крупным подразделением —»— за рубежом. Ѕлейку была поручена вербовка советских служащих в Ѕерлине и проникновение в штаб √руппы советских войск в √ермании.
ѕо сути, вс€ де€тельность —»— в √ермании проходила под контролем советских спецслужб и не дала серьезных результатов британской разведке. “олько в √ƒ– по наводкам ƒжорджа Ѕлейка было разоблачено и обезврежено свыше 200 агентов спецслужб —Ўј и јнглии. —реди них были и завербованные Ѕлейком. ѕочти по √оголю, когда “арас Ѕульба говорит своему сыну: "я теб€ породил, € теб€ и убью".
ак-то ƒжордж сообщил своему начальству, что им завербован сотрудник советского экономического представительства в Ѕерлине. –уководство —»— пришло в восторг и было уверено, что найден источник ценнейшей информации. –азведывательные данные, которые Ѕлейк получил от него, были высоко оценены в Ћондоне. «авербованный Ѕлейком агент "Ѕорис" был подставой √Ѕ. — его помощью √Ѕ обильно снабжал —»— дезинформацией. »ногда, чтобы не было и тени подозрений, передавали и правдивую информацию, не имевшую важного значени€. Ѕлейк продолжал вести Ѕориса до тех пор, пока тот не получил повышение и уехал в ћоскву. » все это врем€ в Ћондон шла информаци€, представл€юща€ ———– в выгодном свете.
* * *
ѕосле —уэцкого кризиса 1956 года и провала агентуры —»— в ≈гипте британские спецслужбы усилили внимание к Ѕлижнему ¬остоку. ¬ этот регион решили направить большую группу опытных разведчиков. Ѕлейка направили в центр подготовки —»— в Ћиване, расположенный около Ѕейрута. –уководство —»— дало пон€ть Ѕлейку, что после годичного изучени€ арабского €зыка он будет назначен резидентом в одну из стран Ѕлижнего ¬остока.
Ќо в 1961 году карьере ƒжорджа Ѕлейка как суперагента √Ѕ пришел конец. Ёто было, прежде всего, св€зано с тем, что в —Ўј бежал заместитель начальника польской военной разведки полковник √оленевский. ќн сообщил, что в јнглии √Ѕ имеет двух важных агентов - один в —»—, а другой в военно-морском флоте. ѕродолжительный поиск этих агентов привел к аресту советского нелегала √ордона Ћонсдейла и его группы и вывел контрразведку на Ѕлейка.
¬ марте 1961 года Ѕлейка неожиданно дл€ него вызвали в Ћондон €кобы в св€зи с его новым назначением. ак только он прибыл, сразу же началс€ допрос Ѕлейка, которым руководил эксперт —»— по ———–, Ўэрголд. Ѕлейк отрицал свою вину несколько дней. ќднако улики были весомыми, и ему пришлось признать факт своей работы на √Ѕ.
* * *
ќ суровом приговоре суда - 42 годах тюремного заключени€ - мы уже упоминали. ¬последствии Ѕлейк рассказывал сотруднику советской разведки ¬.јндри€нову, как он восприн€л приговор:
"”слышав о сорока двух годах тюрьмы, € улыбнулс€. Ётот срок казалс€ мне таким неверо€тным, за эти годы столько могло произойти, что € считал его просто нереальным. ≈сли бы мен€ приговорили к 14-15 годам, это бы произвело на мен€ большее впечатление, чем 42 года. », конечно, такой длительный срок - самый лучший стимул, чтобы сократить его. ћного людей отнеслись с состраданием ко мне. ѕоэтому мне и удалось бежать".
Ѕывший полковник √Ѕ »горь ƒамаскин, давний знакомый Ѕлейка, много с ним общалс€. ќн автор р€да книг по истории советских спецслужб. ¬ одной из них, "—то великих разведчиков", ƒамаскин рассказал довольно подробно, как готовилс€ и был осуществлен побег Ѕлейка из тюрьмы.
—мелый побег был осуществлен в духе лучших традиций авантюрных романов јлександра ƒюма, разве что с применением современной техники. “юрьма "”ордвуд —крабс" славилась тем, что из нее никто и никогда не бежал. ѕоэтому, туда помещали таких опасных преступников как разоблаченные советские разведчики. —одержались там и заключенные не столь опасные. —реди них были два английских борца против размещени€ в ¬еликобритании €дерного оружи€ - –эндл и ѕоттл, a кроме того - ирландец Ўон Ѕерг, член националистической организации »–ј. –эндл и ѕоттл вскоре оказались на свободе. Ўон Ѕерг днем работал за пределами тюрьмы, а по уикендам вообще получал увольнительную. Ѕлагодар€ этому Ўон смог принести и передать Ѕлейку рацию и ножовку. ѕодготовка побега пошла полным ходом. ¬ субботу вечером заключенным показывали фильм, и охрана была менее бдительной. Ќакануне побега ƒжордж в укромном месте выбрал стекло из окна, подпилил решетку и поставил их на место. ¬ечером в субботу он вновь извлек их, выбралс€ из окна и оказалс€ в тюремном дворе возле высокой наружной стены. Ўел проливной дождь, и Ѕлейк вынужден был целый час ждать, когда Ўон Ѕерг перекинет через стену веревочную лестницу. ѕричина задержки оказалась в том, что вначале около тюремной стены ходил полицейский, а затем от дожд€ пр€талась влюбленна€ парочка. —ид€ в машине, Ўон терпеливо ждал. огда место у стены освободилось, Ўон подъехал и перекинул через нее веревочную лестницу. Ѕлейк быстро полез на стену. ƒо верха добралс€ благополучно, но когда спускалс€, упал. исть руки оказалась сломанной. ѕревозмога€ боль он сел в машину Ўона. ѕришлось обратитьс€ к знакомому врачу. “от не выдал ƒжорджа, наложил гипс.
ѕо всей јнглии после бегства Ѕлейка была объ€влена тревога. ¬се вокзалы, аэродромы, порты были вз€ты под контроль. ‘отографии шпиона висели на видных местах, они были у каждого полицейского, таможенника, пограничника. Ќо он скрывалс€ у своих друзей.
—упруги –эндл соорудили потайное отделение в своем автофургоне - под детской кроваткой. ¬ этом тайнике ƒжордж совершил долгое путешествие вместе с супругами –эндл и их двум€ детьми двух и четырех лет от роду.
17 декабр€ 1966 года они выехали из Ћондона, добрались до ƒувра, оттуда на пароме до бельгийского порта ќстенде, и далее без остановки до Ѕерлина.
Ќаконец доехали до ¬осточного Ѕерлина. Ќа пограничном ѕѕ ему повезло. ¬ это врем€ в Ѕерлине находилс€ один из сотрудников √Ѕ, знавший Ѕлейка в лицо. ѕоэтому проблем с переходом границы не возникло...
¬ ћоскве ƒжордж Ѕлейк, в отличие от других перебежчиков, очень быстро освоилс€ в необычной дл€ него советской жизни. ѕервое врем€ он работал консультантом в √Ѕ, а в 1974 году √еоргий »ванович Ѕехтер (такое им€ было записано в советском паспорте) начал работать в »нституте мировой экономики и международных отношений. ѕоскольку жена Ѕлейка с ним развелась, когда он находилс€ в тюрьме, в ћоскве в 1968 году он женилс€, а в 1971 году у него родилс€ сын ћихаил.
ѕолковник ƒжордж Ѕлейк был отмечен советским государством высокими наградами - ему были вручены ордена Ћенина, расного знамени, ќтечественной войны 1-й степени. огда в 1990-м учредили нагрудный знак "«а службу в разведке", этот знак за номером один был вручен Ѕлейку. Ќесмотр€ на то, что социализм в ———– потерпел поражение, 89-летний ƒжордж так и осталс€ его приверженцем, верность своим идеалам он сохранил поныне.
»осиф “≈Ћ№ћјЌ
≈женедельник "—екрет"
ћетки: шпионаж |
≈врейские шпионы: ¬альтер ривицкий он же —амуил √инзбург |
ƒневник |

Ћичность разведчика-нелегала ¬альтера ривицкого уже более 70 лет привлекает интерес специалистов, историков и читателей его книги "я был агентом —талина". ¬первые она была издана в —Ўј и лишь спуст€ полвека увидела свет в –оссии. нига-исповедь вызывает противоречивые оценки. ћногочисленные публикации советско-российских и зарубежных авторов, дополнительные интернетовские сведени€ порождают споры о его поступке до сих пор. то же он - предатель или жертва преследований сталинской агентуры? ¬озможно, краткий очерк о жизни и де€тельности этого человека позволит разобратьс€ в существе вопроса.
ѕ≈–¬џ≈ ќ“ Ћ» »
Ќ≈ћЌќ√ќ Ѕ»ќ√–ј‘»»
Ќ» ј »’ ЎјЌ—ќ¬ Ќј ¬џ∆»¬јЌ»≈
“≈–Ќ»—“џ… ѕ”“№ ¬ —Ўј
—ћ≈–“№ ѕќ „≈ »—“— ќ… ‘ќ–ћ”Ћ≈
ћетки: шпионаж |
≈врейские шпионы: √лавный диверсант —оветского —оюза -яков —еребр€нский |
ƒневник |
√лавный диверсант —оветского —оюза

http://www.youtube.com/watch?v=lIrHPRC3Q2w
ќпытный и талантливый разведчик и организатор яков —еребр€нский прожил полную тревог и опасностей жизнь ћногое из того, что с ним случилось, напоминает боевик в стиле ƒжеймса Ѕонда. ќн был организатором и участником немалого числа операций советской разведки. Ќекоторые историки называют его главным диверсантом ———–. » у них дл€ этого есть основани€.
ѕ”“№ »« "„≈–“џ ќ—≈ƒЋќ—“»"
ƒ¬ј я ќ¬ј » ѕјЋ≈—“»Ќј
ѕќ’»ў≈Ќ»≈ √≈Ќ≈–јЋј ”“≈ѕќ¬ј
ќЅЏ≈ “џ ќ—ќЅќ√ќ ¬Ќ»ћјЌ»я
" –≈ѕ ќ ƒќѕ–ќ—»“№!"
ƒЋя ќ√ќ ¬ќ…Ќј, ƒЋя ќ√ќ...
—џЌ —¬ќ≈√ќ ¬–≈ћ≈Ќ»
ћетки: шпионаж |
≈врейские шпионы: “реппер - это не триппер, а расна€ капелла и вообще откуда по€вились русские пианистки... |
ƒневник |
Ћеопольд “реппер
« расна€ капелла»
¬ ¬ермахте были наши люди…
¬ јбвере были наши люди…
¬ √естапо были наши люди…
“ак против кого же мы четыре года воевали?
»з анекдота
Ќазвание « расна€ капелла» первоначально принадлежало особому подразделению —— (SS-Sonderkommando Rote Kapelle), в задачу которого входило обнаружение и ликвидаци€ нелегальных передатчиков, работавших в √ермании. ќ том, как по€вилось на свет название « расна€ капелла», рассказал заместитель шефа гестапооберфюрер —— ‘ридрих ѕанцингер, вз€тый в плен —оветской јрмией. Ќа допросах в —ћ≈–Ў 1 феврал€ 1947 годаи 29 июн€ 1951 года на Ћуб€нке он показал, что отслеживание де€тельности антифашистов началось в результате радиоперехвата радиоспециалистами шифрованных сообщений (на жаргоне контрразведки радисты назывались «музыкантами», «пианистами»). ¬ эфире работало несколько передатчиков, работал целый «оркестр», или по-немецки «капелла». √ерманска€ служба радиоперехвата (функабвер) определила, что «музыканты» ориентировали свои передачи на ћоскву. ѕоэтому «капелла» получила соответствующую «красную» окраску. ѕозднее такое же название получила операци€ нацистских спецслужб по борьбе с агентурой советской разведки в европейских странах. » только после войны в литературе, посв€щенной антифашистской борьбе, так стали именовать группы —опротивлени€, св€занные с советской разведкой.














ƒе€тельность расной капеллы была насто€щим кошмаром дл€ секретных служб √ермании, во главе которых сто€л адмирал анарис. ѕо оценке последнего, де€тельность апеллы "стоила √ермании 200 тыс€ч солдатских жизней". ƒл€ борьбы с антифашистской разведсетью гестаповцы создали специальную зондеркоманду, действи€ которой контролировал лично √итлер. —ама сеть и операци€ по ее ликвидации и были названы немцами расной капеллой. ћногие из членов апеллы погибли в фашистских застенках.
ќрганизатором и руководителем сети был советский разведчик, польский еврей Ћеопольд “реппер - Ѕольшой шеф, как называли его соратники и с невольным уважением немцы. ≈го героическа€ и одновременно трагическа€ судьба, как и судьба «орге, многие годы оставалась неизвестной.
¬ конце 1942 г. гестапо удалось схватить “реппера. ≈го пытались склонить к сотрудничеству с немецкой разведкой, организовать радиоигру с ћосквой с целью дезинформации советского руководства. Ќо “реппер сумел перехитрить гестаповцев, сообщить ÷ентру о провале сети и работе немцев от ее имени. Ѕолее того, после почти годового пребывани€ в заключении ему удалось бежать и продолжить разведывательную де€тельность, снабжа€ центр важнейшей информацией.
Ћеопольд “реппер родилс€ 23 феврал€ 1904 г. в городе Ќовы-“арг (севернее «акопане) в бедной многодетной еврейской семье. Ќовы-“арг входил тогда в состав јвстро-¬енгрии. ѕосле распада последней в 1918 г. этот город, как и «акопане, отошел к ѕольше, “реппер стал польским евреем и по сей день в этом качестве фигурирует в мировой литературе.
ќтец умер, когда мальчику было 12 лет. » с тех пор его детские и юношеские годы были сплошной борьбой за выживание. ќн бралс€ за любую работу - каменщика, слесар€, чернорабочего на металлургическом заводе и даже спекулировал водкой. —ионистска€ организаци€ "√ахалуц", финансируема€ американскими евре€ми, помогла ему перебратьс€ в ѕалестину. Ќо и здесь его ждала т€жела€ работа по осушению болот, от зари до зари приходилось сто€ть по колено в воде и тине, а ночью в палатке спасатьс€ от москитов. ќн побывал в крупных городах ѕалестины, в то врем€ подмандатной территории ¬еликобритании, увидел "здоровенных парней из английской жандармерии, в большом количестве расхаживающих по улицам", поработал в р€де киббуцев.
ѕосто€нна€ борьба за существование привела “реппера к коммунистам. ѕо его инициативе была создана организаци€ "≈динство", целью которой €вилось объединение евреев и арабов против произвола предпринимателей. ¬ 1928 г. “реппера арестовали и после заключени€ в хайфской тюрьме выслали из страны.
— рекомендацией ÷ компартии ѕалестины он отправилс€ во ‘ранцию. ¬ ћарселе он работал мойщиком посуды, в ѕариже - мойщиком полов в крупных универмагах и одновременно ночным грузчиком на железной дороге. », наконец, он обрел желаемую работу корреспондента в коммунистических печатных органах.
¬ ѕариж к нему приехала жена Ћюба, в 1931 г. у них родилс€ сын ћишель, второй сын, Ёдгар, родитс€ позже, в 1936 г., в ћоскве.
јктивность “реппера была замечена, в 1932 г. руководство ‘ ѕ направило его в ћоскву в оммунистический университет национальных меньшинств «апада им. ё.ё. ћархлевского. ѕо окончании университета будущий Ѕольшой шеф стал сотрудником еврейской газеты "ƒер Ёмес" и одновременно слушателем военной академии, где генерал ќрлов читал специальный курс будущим разведчикам. ¬ ћоскву переезжает Ћюба с сыном.
ќкончившего академию “реппера приглашают в ”правление разведывательной службы расной јрмии, которым руководил в то врем€ знаменитый ян Ѕерзин. ¬стреча с Ѕерзиным окончательно утвердила решимость “реппера, ставшего уже убежденным антифашистом, боротьс€ с этим "царством разнузданного варварства" в р€дах советской разведки.
Ќо, как показало недалекое будущее, опасность грозила разведчикам не только со стороны фашизма.
√итлер в √ермании и —талин в —оветском —оюзе установили в своих странах неограниченную диктатуру. ћетоды были практически одинаковые.
"Ќаши товарищи исчезали, - пишет “реппер, - лучшие из них умирали в подвалах Ќ ¬ƒ, сталинский режим извратил социализм до полной неузнаваемости". огда из »спании вернулс€ Ѕерзин, находившийс€ там в качестве военного советника республиканской армии, “реппер вновь встретилс€ с ним. Ёто было осенью 1937 г. Ќачальник разведуправлени€ уже знал, что “ухачевский, которого он глубоко уважал, и весь его штаб арестованы и расстрел€ны.
ѕеред будущим Ѕольшим шефом была поставлена задача развертывани€ разведывательной сети в масштабах ≈вропы, в частности в √ермании и соседних с нею странах. ƒл€ покрыти€ материальных и финансовых расходов “реппер предложил создать коммерческую "крышу", по€снив, что в капиталистической стране при наличии известной сметки не так уж трудно зарабатывать деньги. ≈му выделили дес€ть тыс€ч долларов в качестве первоначального капитала, и больше он за деньгами в ÷ентр не обращалс€.
Ѕерзин дал пон€ть, что подготовку соответствующих людей и особенно руководителей групп в отдельных странах надо будет проводить только на месте. ѕо взволнованному тону, которым были произнесены эти слова, “репперу стало €сно, что значительна€ часть квалифицированных кадров, которые могли бы выполнить эту работу, уже арестована.
Ѕерзин посоветовал будущему резиденту при отправке добытых сведений никогда не задумыватьс€, как их примет руководство. "»наче вы будете просто плохо работать. ѕрислушивайтесь только к голосу вашей совести - дл€ революционера только она верховный судь€..." “реппер восприн€л эти слова Ѕерзина как его политическое завещание. Ѕольше им не суждено было беседовать.
¬ марте 1938 г. “репперу выдали паспорт на им€ јдама ћиклера, канадского промышленника, желающего обосноватьс€ в Ѕельгии, обучили шифровальному делу и объ€снили, как с ним будет поддерживатьс€ св€зь.
»так, осенью 1938 г. Ћеопольд “реппер, он же јдам ћиклер (позже также ∆ан ∆ильбер), прибывает в Ѕрюссель. «аконы маленькой Ѕельгии обеспечивали относительную безопасность разведчика (в случае провала его просто высел€ли из страны), а ее географическое положение позвол€ло быстро перемещатьс€ в √ерманию, ‘ранцию, —кандинавию.
“реппер прежде всего восстановил св€зи со своими старыми друзь€ми по ѕалестине Ћео √россфогелем и √илелем ацем. ѕервый жил в Ѕрюсселе, второй - в ѕариже. ќба они евреи, оба - основные помощники резидента, оставшиес€ преданными ему до самой смерти под пытками в гестапо. оммерсант √россфогель возглавл€л фирму " ороль каучука", торговавшую плащами. јдам ћиклер становитс€ одним из акционеров фирмы, а сама фирма - коммерческой "крышей" будущей организации.
¬скоре к ним присоединились направленные из ћосквы командиры расной јрмии радист ћихаил ћакаров - уругвайский гражданин арлос јламо и разведчик јнатолий √уревич - также "уругваец" ¬иктор —oкoлов, он же " ент". ќба - смелые, отважные люди, имевшие опыт войны с фашистами в республиканской армии в »спании. Ќе будучи летчиком и никогда не управл€вший самолетом, ћакаров во врем€ наступлени€ франкистов подн€л в воздух свободный самолет, сбросил бомбы на врага, вернулс€, посадил самолет и гордо встал возле него. ¬идевшие это приветствовали его как геро€.
—удьба √уревича не менее необычна, чем судьба “реппера. ќн служил в штабе ѕ¬ќ ировского района Ћенинграда, хорошо знал испанский €зык и был направлен в 1938 г. адъютантом-переводчиком на подводную лодку республиканской »спании; лодка после ремонта во французском порту Ѕордо прошла путь вдоль атлантического побережь€ ѕиренейского полуострова через √ибралтарский пролив к порту артахен на восточном берегу »спании. ѕочти на всем пути маршрут контролировалс€ фашистскими корабл€ми и авиацией, лодка неоднократно подвергалась опасности быть затопленной. √ероический поход лодки √уревич описал в рассказе "Ќа подводной лодке через √ибралтар".
¬ Ѕрюссель к мужу приехала Ћюба с младшим сыном Ёдгаром, которому тогда было полтора года. —таршего, ћишел€, она оставила в ћоскве, в интернате. Ћюба помогала мужу собирать информацию, обучала присылаемых из ћосквы разведчиков особенност€м поведени€ за рубежом, французскому €зыку.
¬ окружении семьи Ѕольшой шеф выгл€дел вполне благополучным бизнесменом, внушающим полное доверие. ƒела фирмы шли успешно, у него даже по€вилась возможность помочь «орге, перевед€ по указанию ÷ентра деньги в японию. ѕродолжалось комплектование организации.
¬ начале своего расследовани€ ѕерро не придавал значени€ тому, что руководитель, его ближайшие помощники, многие члены капеллы были евре€ми. "Ќо, - пишет он, - с течением времени € пон€л, что это довольно близорукий подход: ” евреев особый счет с нацистами".
“ого же мнени€ придерживалс€ и √иммлер. ѕолицейским, которым будет поручено "стереть с лица земли эту еврейскую гниль" ( расную капеллу), он отдаст письменный приказ использовать любые средства и пытки, чтобы добитьс€ признаний. "Ќасколько нам известно, - пишет ѕерро, - это единственный случай, когда рейхсфюрер осмелилс€ поставить свою подпись на документе, разрешающем применение пыток вплоть до смертельного исхода". ѕредставл€етс€, впрочем, что √иммлер не только "осмелилс€", но и сделал это с удовольствием - тем самым он угождал √итлеру, который лично замен€л приговоры "оркестрантам" о тюремном заключении смертными приговорами.
— приходом √итлера к власти западноевропейские компартии были в значительной степени разгромлены, оставшиес€ коммунисты ушли в подполье и продолжали борьбу в р€дах —опротивлени€. ќт них к Ѕольшому шефу поступали информаци€, помощь в организации св€зи. “ак, особо важные секретные донесени€ он передавал через главу французской компартии ∆ака ƒюкло, имевшего каналы дл€ св€зи с ћосквой.
— Ѕольшим шефом сотрудничали не только коммунисты-подпольщики, но и немцы, занимавшие весьма высокое положение. “реппер пишет о многих из них, отдава€ должное их мужеству и скорб€ об их гибели. ≈го ближайшими соратниками по берлинской группе были немцы ’арро Ўульце-Ѕойзен и јрвид ’арнак.
’арро - немецкий аристократ, внучатый плем€нник знаменитого адмирала “ирпица. ≈ще до прихода √итлера к власти он со своим другом јнри Ёрлангером выпускал журнал, направленный против нацизма. огда пробил их час, эсэсовцы арестовали издателей и подвергли их жестокой пытке. ≈вре€ јрни убили пр€мо на глазах у друга, и с этого момента ’арро стал убежденным антифашистом. „ерез несколько лет он женилс€ на внучке кн€з€ ќйленбурга, приближенного маршала √еринга, благодар€ чему попал в институт, где велись важнейшие исследовани€ в области военной техники. началу войны он занимал высокий пост в министерстве авиации.
јрвид ’арнак, доктор философии, изучал экономику в —Ўј. ак советник министерства экономики он имел доступ к самым конфиденциальным планам выпуска продукции, включа€ военную. ¬ группу Ўульце-Ѕойзена-’арнака входили различные специалисты, писатели, старые коммунисты и даже бывший министр культуры ѕруссии. јналогичные группы были созданы во ‘ранции, Ѕельгии, √олландии. ¬ Ўвейцарии действовала независима€, но поддерживающа€ контакты с Ѕольшим шефом группа разведчика венгерского евре€ Ўандора –адо.
—оветский —оюз и √ермани€ заключили договор о дружбе и границе. ¬ыступа€ мес€ц спуст€, ћолотов за€вил: "ћы всегда были того мнени€, что сильна€ √ермани€ €вл€етс€ необходимым условием прочного мира в ≈вропе".
"—ильна€ √ермани€", как известно, не замедлила продемонстрировать свое "миролюбие": 10 ма€ 1940 г. она начала наступление на «ападном фронте. ќдна за другой оккупированы ‘ранци€, Ѕельги€, √олланди€... “реппер следовал за войсками вермахта вплоть до ƒюнкерка. ≈го донесение, отправленное в ћоскву на восьмидес€ти страницах, по существу было описанием новой, разработанной и опробованной стратегии √итлера-блицкрига.
18 декабр€ 1940 г. √итлер подписывает план "Ѕарбаросса", предусматривающий "разгром —оветской –оссии в ходей быстрой военной кампании" еще до окончани€ войны против јнглии. ќб этом плане ÷ентру сообщают “реппер, «орге, послы —Ўј и ¬еликобритании.
Ќо —талин уверен, что пакт с √ерманией подписан на долгие годы и поступающие донесени€ €вл€ютс€ провокационными. ќн считал, что предоставл€ет капиталистическим государствам возможность уничтожать друг друга, и √итлер не рискнет начать войну на ¬остоке, пока не одержит победу на «ападе.
¬ €нваре-феврале 1941 г. Ўульце-Ѕойзен и “реппер сообщают ÷ентру о намеченных бомбардировках Ћенинграда, иева, ¬ыборга, называют число дивизий, вывезенных из ‘ранции и Ѕельгии и отправленных на ¬осток.
¬ мае через советского военного атташе в ¬иши генерала —услопарова Ѕольшой шеф передает в ћоскву сведени€ о предсто€щем наступлении немцев на ———–, указывает дату начала военных действий - 22 июн€. Ёта же дата названа в донесении «орге из японии. ѕо насто€тельному требованию “реппера —услопаров посылает в ћоскву шифровку.
23 июн€ из ћосквы в ¬иши возвращаетс€ заместитель —услопарова. ќн рассказывает, что за несколько часов до начала войны ƒиректор попрощалс€ с ним со словами: "ѕередайте “репперу, что € немедленно доложил его информацию о непосредственной угрозе нападени€ немцев Ѕольшому хоз€ину. Ѕольшой хоз€ин удивлен, как это такой человек, как “реппер, старый коммунист, разведчик, поддаетс€ на удочку английской пропаганды. ¬ы можете передать ему глубокое убеждение Ѕольшого хоз€ина в том, что война с √ерманией не начнетс€ до 1944 г.". »звестно во что обошлось стране и миру это "глубокое убеждение" Ѕольшого хоз€ина-—талина.
«орге получил из ћосквы короткий ответ: "ћы сомневаемс€ в достоверности вашей информации". лаузен, радист «орге, через много лет рассказал: "–ихард пришел в €рость, впервые мы были вне себ€. ќн вдруг вскочил, заметалс€ по комнате, обхватив голову руками. "— мен€ хватит, - говорил он, - почему мне не вер€т? ак могут эти несчастные люди игнорировать наше донесение?"
ƒень нападени€ √итлера на —оветский —оюз стал днем усилени€ беспощадной борьбы подпольной сети Ѕольшого шефа с нацизмом.
— 1940 по 1943 гг. "пианисты" “реппера передали в центр около 1500 донесений. ќни касались военной промышленности, сырь€, новых типов вооружений, военной обстановки и планов наступлений, морального состо€ни€ войск вермахта. ¬ частности в ћоскву были посланы сверхсекретные документы по танку "“игр-“6", микрофильмы с чертежами нового истребител€ "ћессершмитт" и его характеристиками. ÷ентру сообщалось, сколько рабочих будет угнано в √ерманию из каждой оккупированной страны, как их будут использовать и, что самое ценное, на какие предпри€ти€ их будут направл€ть в первую очередь.
ѕод ћосквой еще шли бои, а расна€ капелла уже предупредила ћоскву о подготовке широкомасштабного наступлени€ немецких войск на —талинград и авказ весной 1942 г.
«орге, убедив —талина, что япони€ не ударит в спину –оссии, позволит подт€нуть к ћоскве свежие силы с ”рала и тем самым поможет отсто€ть столицу. “реппер и его люди своей информацией способствовали решающей победе под —талинградом.
12 ма€ 1942 г. специальный курьер привез в ћоскву микрофильмы с детальной информацией Ѕольшого шефа о направлени€х предсто€щего наступлени€ немцев. ÷ель - завладеть Ѕаку: √ермании нужна нефть. —талинград - один из важнейших объектов наступательной операции. ¬з€тие его позволило бы также окружить ћоскву с ¬остока.12 июл€ сформирован штаб —талинградского фронта под командованием маршала —. “имошенко. –езультаты известны: —талинградска€ битва - одна из решающих и крупнейших в ¬еликой ќтечественной войне - завершилась ко 2 феврал€ 1943 г. окружением и ликвидацией ударной группировки немецко-фашистских войск (330 тыс€ч человек).
¬ начале войны —услопаров покинул ¬иши, использовать дипломатическую почту стало невозможно. “реппер перевел свою резиденцию в ѕариж, в бельгийской столице осталс€ ент. ƒл€ св€зи с ƒиректором и соратниками нужны были радисты, а их катастрофически не хватало. ѕоиском и обучением новых занималс€ "пианист" “реппера ‘ернан ѕориоль. ¬ короткий срок он сделал отличных радистов из высланных из Ѕельгии антифашистов √ирша и ћиры —окол. ¬скоре у него было уже семь радистов, и в начале 1942 г. французский "оркестр" заиграл; вместе с радиостанци€ми в Ѕрюсселе и Ѕерлине заработала вс€ сеть.
Ќемецкие станции радиоподслушивани€ неожиданно обнаружили в эфире новые радиосигналы, хорошо зашифрованные и предназначенные дл€ ћосквы. —ообщение об этом вызвало панику у руководства немецких спецслужб - ведь совсем недавно армейска€ разведка (абвер), гестапо и служба безопасности (—ƒ) увер€ли √итлера в том, что √ермани€ чиста от каких-либо шпионских сетей.
Ќа специальном совещании √итлер приказывает немедленно покончить с русскими шпионами в √ермании и на оккупированных территори€х (здесь и возникло название " расна€ капелла"). ¬озглавить эту работу поручалось √иммлеру. —озданную смешанную зондеркоманду возглавил один из лучших полицейских √ермании эсэсовец √иринг и представитель абвера под псевдонимом ‘ортнер. ќсновна€ забота Ѕольшого шефа заключалась теперь в том, чтобы уберечь своих людей от провала и научить их, как себ€ вести, если это произойдет.
Ѕыл прин€т р€д условностей, в том числе "обратный €зык". Ќапример, свидание назначалось так, что приходить на него следовало за двое суток плюс два часа до названного времени. —ообщение "все хорошо" означало "все плохо", "скоро вернусь" - "€ не вернусь" и т.д. аждый из участников сети не был посв€щен в де€тельность остальных. √оворить на допросах надо было только то, что немцам было уже известно или может стать известным:
√итлеровцы на всех оккупированных территори€х создали подразделени€ радиопеленгации, оснащенные новейшим, самым современным оборудованием. Ќад радистами нависла смертельна€ угроза, а ошибки нового ÷ентра в ћоскве помогали преследовател€м. Ќастойчивые просьбы Ѕольшого шефа не увеличивать продолжительность радиопередач сверх 30 минут из-за опасности быть запеленгованным игнорировались, радисты об€заны были вести передачи каждую ночь по п€ть часов подр€д! –азумеетс€, радиограммы зашифровывались, но у немцев было достаточно высококлассных специалистов и приборов
¬ конце 1941 года он отдал приказ о немедленной организации противодействи€ растущей активности русских шпионов в √ер- мании и оккупированных странах. √иммлеру было приказано сле- дить за тесной координацией действий моего отдела внешней раз- ведки с отделом безопасности гестапо ћюллера и абвера ана- риса. ќперацию, получившую кодовое наименование "–оте капелле" - " расна€ капелла", координировал √ейдрих. —овместными усили- €ми мы не только раскрыли крупнейшую русскую шпионскую сеть в √ермании и оккупированных странах, но и смогли ликвидировать ее большую часть.
ѕосле убийства √ейдриха в мае 1942 года √иммлер вз€л на себ€ об€занности по координации и контролю за осуществлением "–оте капелле". ¬скоре между ним и ћюллером начались серьезные трени€, которые дошли до того, что когда мы докладывали однов- ременно, ћюллера, человека на много лет мен€ старше, √иммлер отправл€л из кабинета, чтобы побеседовать со мной один на один. ћюллер был достаточно благоразумен и смирилс€ со случившимс€; когда же ему требовалось подн€ть какой-либо вопрос, он обращалс€ ко мне с просьбой сделать это. ќднажды он сказал с иронической улыбкой:"¬аше лицо €вно нравитс€ ему больше, чем мо€ баварска€ рожа."
¬ июле 1942 г. гестапо удалось расшифровать радиограмму с адресами нескольких членов берлинской группы. «а ними было установлен наблюдение, их телефоны прослушивались, и в результате в августе в тюрьме оказались шестьдес€т человек этой группы.
"¬ начале 1943 г., - пишет “реппер, - в застенки гестапо брошено уже около 150 человек, многие из них не имели никакого отношени€ к нашей организации".
Ѕольшинство участников расной капеллы отправили в концентрационный лагерь в форте Ѕреендонке (между Ѕрюсселем и јнтверпеном), среди них и супруги —окол, √ерш и ћира. «аключенных подвергали жестоким пыткам с избиением плетьми, подвешиванием на дыбе, зат€гиванием наручников так, что они разрывали кожу, и другим "изобретени€м" гитлеровцев. Ќе добившись от разведчиков признаний, палачи спускали на них специально обученных собак.
расна€ капелла была разгромлена. “реппера обнаружили случайно у зубного врача. Ќа следующий день он должен был исчезнуть и хотел до этого подлечить зубы. "¬от уже два года, как мы идем по вашим следам во всех странах, оккупированных √ерманией", - радостно сообщил ему √иринг. Ќе менее доволен был и √иммлер.
–ейхсфюрер —— понимал, что война проиграна и искал выход в сепаратном мире с «ападом. — помощью фальшивых радиограмм, которыми €кобы обмениваютс€ ћосква и Ѕерлин, он хотел показать «ападу, что √ермани€ уже ведет такие переговоры с —оветским —оюзом. ј дл€ такой "игры" нужен “реппер, ибо никому другому ÷ентр довер€ть не будет. ѕоэтому обращение с арестованным с самого начала было достаточно корректным.
¬ первые же дни после ареста вы€снилось, что Ѕольшой шеф хорошо осведомлен, находчив, его безупречна€ логика ставила гестаповцев в тупик, вынуждала верить ему. ќн указывал немцам на р€д их "промахов", и они утвердились во мнении, что его надо привлечь на свою сторону и сохранить в тайне его арест. “реппер знал о провале сети расной капеллы, аресте ее основных участников. ≈динственным доступным ему способом борьбы с гестапо было симулировать согласие сотрудничать с ним и подорвать его замыслы изнутри. » он начинает свою игру. Ќацистское руководство нервничает. ¬ ѕариж лет€т телеграммы: "„то говорит Ѕольшой шеф?" √иринг представл€ет Ѕольшого шефа как предател€, готового участвовать в Ѕольшой игре.
ак особого заключенного “реппера поместили в отдельную камеру, всю ночь в ней горел свет, охранники за решетчатой стеной круглосуточно не спускал с него глаз. Ќо между двум€ и трем€ часами ночи стражники все же засыпали, положив головы на стол.
√иринг наде€лс€ установить контакты с ‘ ѕ. ќт имени Ѕольшого шефа он просит ƒиректора организовать ему встречу с представителем ‘ ѕ ћишелем. ќтвет положительный, но, к удивлению √иринга, на "свидание" никто не приходит. ћишель знал "обратный €зык". ”дивл€тьс€ √ирингу придетс€ еще не раз.
«аниматьс€ заключенным было поручено старому служаке Ѕергу. ∆изнь этого человека не сложилась, и он находил утешение в беседах со своим "подопечным".
Ѕерг помог ему получить бумагу, карандаш, словарь и даже газеты под предлогом пополнени€ знаний немецкого €зыка. Ёто дало возможность “репперу ночью, когда стражники засыпали, составл€ть отчет ÷ентру. Ќаписанное он пр€тал в полые ножки койки, еще не представл€€ себе, как передаст это дальше. Ќо вскоре така€ возможность по€вилась
— помощью страшных пыток гестапо узнает от одного из участников капеллы о существовании мадам ∆юльетты, св€зной ‘ ѕ, работающей в кондитерской. „ерез нее по каналам партии можно передать успокоительное послание √иринга от имени резидента в ÷ентр. Ќо мадам ∆юльетта имела право принимать донесени€ только от Ѕольшого шефа, и Ѕерг отвозит его в кондитерскую. ¬месте с бумагами √иринга “реппер сумел передать и свои. ќн спрашивал согласие ƒиректора на продолжение Ѕольшой игры. ¬руча€ бумаги св€зной, он успел шепнуть ей: " ак только передадите это, немедленно исчезните".
∆юльетта, к удивлению √иринга, исчезла, но 23 феврал€ ему вручили поздравительную радиограмму ƒиректора, адресованную Ѕольшому шефу. Ёто означало согласие на продолжение тактики “реппера, а дл€ √иринга - подтверждение, что в ћоскве не знают об аресте “реппера.
√иринг, по совету “реппера, велел выдать ему немного денег и документы на случай, если во врем€ прогулок его останов€т французские полицейские.
¬скоре √иринг, болевший раком, вынужден был лечь в больницу. ≈го заменил более жестокий, но менее осторожный ѕанвиц. Ќеважно чувствовал себ€ и Ѕерг. “реппер часто говорил ему, что знает аптеку, где много хороших лекарств. Ёта аптека имела еще одну дверь, ведущую на улицу с противоположной стороны дома.
—ент€брьским утром 1943 г. он подвез Ѕерга к аптеке и хотел помочь выйти из машины, но услышал нечто неверо€тное: "ѕоднимитесь, купите лекарства и быстро возвращайтесь". ≈му оставалось только войти в одну дверь и выйти другую. ѕосле сообщени€ Ѕерга о побеге “реппера ѕанвиц организовал грандиозную облаву, но тот исчез. ѕанвиц и ћюллер были в панике: как доложить об этом √иммлеру? ќни решили ничего не говорить ему, и √иммлер так никогда и не узнал о побеге Ѕольшого шефа.
»так, “реппер бежал. "ѕр€мо из логова гестапо, - пишет ѕерро, - из лап отборной группы, которой €вл€лась зондеркоманда, ему удалось под носом у охранников установить св€зь с ћосквой. Ѕлагодар€ ему ÷ентр получил более чем достаточно козырей, чтобы сорвать игру эсэсовцев".
“реппер долго блуждал по ѕарижу и пригородам, нашел оставшихс€ друзей, установил св€зь с представител€ми ‘ ѕ, сообщил в ћоскву о своем побеге и с помощью друзей обрел убежище.
¬ августе 1944 г., после освобождени€ ѕарижа, он получил радиограмму из центра с поздравлением по поводу его действий и просьбой прибыть в
ћоскву на самолете советской военной миссии. — аэродрома его отвезли на квартиру, изолировали от внешнего мира и предложили в течение двух-трех недель написать отчет о его де€тельности. Ќа вопрос о семье ему ответили, что с ней все в пор€дке. ≈го беспокоила судьба оставшихс€ у ѕанвица участников расной капеллы, и он насто€тельно просил посещавших его офицеров действовать через ента (√уревича).
— приближением конца войны ѕанвиц начинает беспокоитьс€ о своей судьбе. √уревич убеждает гестаповца, что ему безопаснее перейти в —оветский —оюз, чем к англичанам или американцам, которые наверн€ка отправ€т его на виселицу. ј —оветскому —оюзу он окажет услугу, помога€ ему, енту, и это будет учтено. ѕосле согласи€ ѕанвица они прилетают в ћоскву, где их встречают и доставл€ют на Ћуб€нку. ѕанвица допрашивают и ссылают в ¬оркуту. „ерез дес€ть лет, в 1955 г., канцлер јденауэр добьетс€ репатриации всех своих соотечественников, и ѕанвиц вернетс€ в √ерманию.
√уревич, также осужденный на длительный срок (с учетом заслуги по доставке ѕанвица), в 1955 г. будет освобожден по амнистии. ќднако в 1958 г. его оп€ть арестуют, а в 1960 г. вновь освобод€т. ¬ газете "—оветска€ –осси€" 16 декабр€ 1990 г. была напечатана больша€ стать€ "–азведчик, узник гестапо и зек", фактически реабилитирующа€ √уревича. ¬ 1991г. его реабилитировали уже формально, признали участником войны с соответствующим повышением пенсии. ƒокументальный фильм о нем показали по телевидению.
“реппера, написавшего свой отчет, перевели на Ћуб€нку. Ќикаких обвинений ему не предъ€вили, его не пытали и не избивали, но на прот€жении долгих ночей следователь предлагал ему:
- –асскажите о своих преступлени€х против —оветского —оюза.
ј он устало повтор€л:
- Ќикаких преступлений против —оветского —оюза € не совершал. јрестанту давали на подпись фальшивые протоколы и требовали их подписать. » оп€ть недел€ми:
- ѕодпишете?
- Ќет.
- «начит, не подпишете?
- Ќет.
- ѕочему вы не хотите подписать?
¬рем€ от времени его вызывал на допросы тогдашний министр госбезопасности €рый антисемит генерал јбакумов. Ќа одном из них он спросил “реппера:
- —кажите, почему в вашей разведывательной сети было так много евреев?
ѕолучив ответ разведчика, он к этой теме больше не возвращалс€:
- ¬ ней, товарищ генерал, находились борцы тринадцати национальностей; дл€ евреев не требовалось особое разрешение, они не были ограничены процентной нормой. ≈динственным мерилом при отборе была их решимость боротьс€ с нацизмом до последнего. Ѕельгийцы, французы, русские, украинцы, немцы, евреи, испанцы, голландцы, швейцарцы, скандинавы по-братски работали сообща. ≈вреи вели двойную борьбу: против нацизма и против истреблени€ своего народа".
19 июн€ 1947 г. "тройка" (прокурор, судь€ и представитель министерства госбезопасности) приговорила “реппера к 15 годам "строгой изол€ции". ѕосле его за€влени€ на им€ прокурора —оюза в 1952 г. срок был сокращен до 10 лет.
—мена тюрем, издевательства над заключенными, беспринципность и пр€мое хулиганство, произвол надзирателей, т€желые услови€ содержани€ - все это описано “реппером в его книге. ќдин из следователей дал пон€ть “репперу, что он, как и «орге, находилс€ под подозрением еще с 1938 г. ќни оба были учениками и выдвиженцами Ѕерзина, а Ѕерзина арестовали и расстрел€ли в том самом, 1938 г.
Ѕолее веро€тно представл€етс€, однако, друга€ верси€. “акие люди, как “реппер и «орге, были лично известны —талину, и только он мог определ€ть их судьбу. ј у "отца народов" была хороша€ пам€ть. ќн помнил, что именно эти люди предупреждали его о готов€щемс€ нападении √итлера, были свидетел€ми его ошибок и просчетов. ѕодобные свидетели —талину были не нужны.
—окамерником “реппера оказалс€ заместитель министра гособороны японии генерал “оминага, попавший в плен в ћанчжурии. ќн знал французский, и на вопрос товарища по несчастью, почему «орге был приговорен к смерти в конце 1941 г., а казнен только 7 но€бр€ 1944 г., с пон€тным возмущением ответил: "“рижды мы обращались в русское посольство в “окио с предложением обмен€ть «орге и вс€кий раз получали один и тот же ответ: "„еловек по имени –ихард «орге нам неизвестен".
ѕока муж сидел в тюрьме, Ћюба с детьми жила в бараке и зарабатывала на жизнь фотографией. »з разведуправлени€ ей сообщили, что ее муж "пропал без вести при обсто€тельствах, не дающих права ходатайствовать о получении пенсии".
ѕосле смерти —талина все изменилось, как по мановению волшебной палочки. «аключенных перевели в больницу Ѕутырской тюрьмы, где врачи старались восстановить их здоровье, камеры стали напоминать номера гостиниц: обильное питание, книги, газеты, а надзирателей как будто подменили - они стали услужливы, как лучшие официанты в кафе...
23 феврал€ 1954 г. “реппера вызвали в министерство, поздравили с п€тидес€тилетием и праздником расной јрмии. „ерез три мес€ца в обстановке большой торжественности в министерстве же огласили решение ¬ерховного военного трибунала: он полностью реабилитирован, все обвинени€, выдвинутые против него в прошлом, объ€влены лишенными вс€кого основани€.
≈го отвезли на машине к семье. ƒети его не узнали. ј Ћюба? √рустна€ встреча: "» вот мы, молча, после п€тнадцати лет разлуки смотрим друг другу в глаза, и дл€ нас это больше многочасовых бесед. слезам радости примешиваютс€ чувства глубокой печали. ¬едь сам факт реабилитации не может вернуть утраченные годы". ≈му определили повышенную пенсию "за заслуги перед —оветским —оюзом", годы, проведенные в тюрьме, засчитали в трудовой стаж; в 1957 г. семье разрешили выехать на родину разведчика в ѕольшу.
ќн посетил Ќовы-“арг, где ему рассказали, как немцы в 1942 г. уничтожили еврейское население города. ћужчин отправили в ќсвенцим, а женщин и детей заставили вырыть могилу, после чего расстрел€ли из пулемета. „лены семьи “реппера оказались и среди тех, кого отправили в ќсвенцим, и среди погибших в очередном Ѕабьем €ру.
¬ €нваре 1981 г. легендарный разведчик скончалс€ в »ерусалиме, где и был похоронен.
Ћюбовь ≈всеевна Ѕройде стала гражданкой ƒании.
“акже можно читать http://www.pionnier.gorod.tomsk.ru/index-1323347058.php
ћетки: шпионаж |
Ўпионские страсти |
ƒневник |
ѕисатели-шпионы - от ‘игаро до "агента 007"
Ћитература и разведка издавна шли рука об руку, от чего выигрывали и перва€, и втора€
»горь јтаманенко, Ќезависимое военное обозрение
 ян ‘леминг в жизни мало походил на ƒжеймса Ѕонда. ‘ото с сайта jamesbond.ajb.co.uk |
ћэтры казуистики - наши и иноземные - преуспели, и сегодн€ пон€тие "разведчик" окружено почитанием, "шпион" - презрением. ¬ действительности же, разница лишь в общественном, политическом и эмоциональном воспри€тии этих терминов, ибо цели, методы и техника работы как разведчиков, так и шпионов абсолютно идентичны. |
ƒо относительно недавних пор разведывательный (шпионский) промысел был зан€тием непрестижным и даже подлым. —о временем отношение к нему и к люд€м, в него вовлеченным, изменилось, и сегодн€ многие выдающиес€ разведчики (шпионы) не стесн€ютс€ своего прошлого.
ћы привыкли, что геро€ми разведывательных (шпионских) историй всегда были либо сотрудники спецслужб, либо дипломаты, либо политики. ј между тем разведкой (шпионажем) успешно занимались и... писатели. ƒа еще и всемирно известные!
‘»√ј–ќ «ƒ≈—№, ‘»√ј–ќ “јћ...
ѕьер-ќгюстен Ѕомарше, обессмертивший свое им€ пьесами "—евильский цирюльник" и "∆енитьба ‘игаро", большую часть жизни посв€тил не драматургии, но любовным похождени€м, спекул€ци€м, дуэл€м, публичным скандалам и... шпионажу.
...¬ 25 лет Ѕомарше благодар€ своему "интригабельному" уму и познани€м в механике стал личным часовщиком корол€ Ћюдовика XV. ќсвоившись в придворных кругах, блест€ще образованный и неотразимо красивый молодой плут женилс€ на овдовевшей фрейлине королевы. ќна была много старше и богаче. Ќа ее деньги он купил двор€нское звание, им€ ѕьер-ќгюстен арон де Ѕомарше и пост контролера королевской кладовой.
—о временем он стал одним из самых доверенных советников корол€ и преуспел в выполнении его наиболее деликатных поручений. ћожно сказать, они нашли друг друга, потому что оба считали тайные операции неотъемлемой частью французской политики, направленной против јнглии.
¬≈–Ѕќ¬ў» ≈√ќ ќ–ќЋ≈¬— ќ√ќ ¬≈Ћ»„≈—“¬ј
ѕервым заданием государственной важности была операци€ по спасению репутации Ћюдовика XV. Ќекий ћоранд, литератор, собиралс€ ввезти во ‘ранцию изданные в јнглии скандальные памфлеты: " ак потаскуха становитс€ любовницей корол€", "«аписки публичной женщины" и "∆изнь одной куртизанки", в которых смаковал амурные похождени€ любовницы корол€ мадам дю Ѕари.
ороль поставил перед Ѕомарше задачу: во что бы то ни стало лишить ћоранда его €довитого жала - памфлетов.
ѕрибыв в Ћондон, Ѕомарше разыскал ћоранда и заставил его отказатьс€ от своего намерени€. «а огромные деньги приобрел у него рукопись и все печатные экземпл€ры памфлета. Ѕолее того, завербовал ћоранда, отобрав у него подписку о добровольном согласии действовать в интересах ‘ранции.
ќ проведенной вербовке Ѕомарше доложил королю в письме:
"я оставил в Ћондоне своим политическим шпионом автора известных ¬ашему ¬еличеству пасквилей. ќн готов предупреждать мен€ обо всех зате€х подобного рода, готов€щихс€ в Ћондоне. Ёто пронырливый браконьер, из которого мне удалось сделать отличного егер€. ѕод предлогом выполнени€ им литературных изысканий можно будет, прикрыва€ истинные мотивы, выплачивать ему определенное жалованье за шпионаж и тайные донесени€. роме того, € об€зал этого человека собирать сведени€ о всех французах, прибывающих в Ћондон, и сообщать мне имена и дела, их привлекшие. ѕолагаю, что его тайные сообщени€ будут затрагивать также бесконечное множество других политических дел, о которых ¬аше ¬еличество всегда будет воврем€ извещен мною".
јЌ√≈Ћ-’–јЌ»“≈Ћ№ ћќЌј–’ќ¬
¬ апреле 1775 года следующим работодателем и благодетелем Ѕомарше стал Ћюдовик XVI. ак и его почивший в бозе предшественник, он питал лютую ненависть к јнглии вообще и английской монархии, в частности. Ќеудивительно, что уже через неделю Ѕомарше вновь оказалс€ в Ћондоне. Ќа этот раз ему предписывалось найти некоего шевалье д'Ёон де Ѕомон. Ётот проходимец располагал документами, которыми шантажировал французский королевский двор. –ечь шла о письмах Ћюдовика XV, которые содержали тезисы плана по высадке военного десанта на британском побережье. » хот€ венценосец был мертв, эти тезисы, получи они огласку, легко могли спровоцировать войну между јнглией и ‘ранцией. Ѕомарше об€зан был не допустить этого. Ќо прежде он навел справки о шевалье. ¬ы€снилось, что тот уже успел напакостить в европейских монарших дворах, в том числе и в –оссии. «агримировавшись (!) женщиной, сластолюбец пробралс€ в окружение ≈катерины II и начал лишать невинности молодых фрейлин...
...ѕрожженные авантюристы д'Ёон и Ѕомарше быстро нашли общий €зык. «олотом, лестью и посулами Ѕомарше удалось отговорить шевалье давать ход злополучным письмам. Ѕолее того, он заставил д'Ёона письменно подтвердить устную договоренность об оказании тайных услуг французскому королю.
¬ыража€сь €зыком современных спецслужб, Ѕомарше закрепил вербовку д'Ёона отбором подписки о секретном сотрудничестве.
ќ—Ќќ¬ј“≈Ћ№ "ѕќƒ—“ј¬Ќџ’ ‘»–ћ"
Ќаход€сь в Ћондоне, Ѕомарше при содействии д'Ёона подружилс€ с неким јртуром Ћи, представителем јнглии в североамериканских колони€х.
Ёто был период борьбы колонистов за свою независимость. ‘ранцузский королевский двор, чтобы покруче насолить английскому королю, вс€чески поощр€л переселенцев из —тарого —вета, восставших против британского владычества.
Ћюдовик XVI приказал Ѕомарше закупить военное снар€жение и переправить его в јмерику. ќблада€ изощренной фантазией дл€ выполнени€ авантюрных акций, Ѕомарше основал экспортно-импортное предпри€тие "√орталез и *".
¬сего через эту фиктивную контору к берегам јмерики были направлены 50 судов с военным снар€жением. ќфициально они направл€лись во французскую ¬ест-»ндию, но на полпути мен€ли курс и оказывались в портах американского побережь€.
ѕровед€ эту масштабную операцию, Ѕомарше еще раз подтвердил давно укоренившуюс€ за ним репутацию человека, по п€там которого неотступно следует удача.
Ќеобходимо отметить, что наработки Ѕомарше и сегодн€ используютс€ спецслужбами, а фиктивные предпри€ти€ в шпионской практике открываютс€ повсеместно и именуютс€ подставными фирмами.
...¬ феврале 1778 года между —оединенными Ўтатами јмерики и ‘ранцией при непосредственном участии чрезвычайного и полномочного представител€ французского корол€ ѕьера-ќгюстена арона де Ѕомарше был заключен союз.
* * *
ѕоследние 10 лет жизни Ѕомарше провел в головокружительных аферах, но все они не имели ничего общего с шпионажем.
«а полгода до своей кончины этот неуемной энергии человек всего себ€ посв€тил авиации и аэронавтике, о чем свидетельствуют записи в его дневнике: "ќдна из самых величественных идей науки... это, безусловно, подъем т€желых тел в легкой воздушной среде..."
Ѕ–≈ћя —“–ј—“≈…... Ўѕ»ќЌ— »’
”иль€м —омерсет ћоэм родилс€ 25 €нвар€ 1874 года в семье адвоката, служившего в английском посольстве в ѕариже. ¬ 10 лет осиротел - его родители в разное врем€ умерли от заболевани€ легких. ¬ 15 лет перенес т€желую форму плеврита и был вынужден оставить школу. ¬ 16 лет успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен на медицинский факультет одного из самых престижных университетов ≈вропы - √ейдельбергского.
”ильму исполнилось 23, когда вышел в свет его первый роман "Ѕрем€ страстей человеческих" ("Of Human Bondage"). — 1897 по 1914 год он ежегодно выпускал по одной книге, став признанным писателем и драматургом ≈вропы.
...»з-за маленького роста (152 см) ћоэма признали негодным к строевой службе и он не попал на фронты ѕервой мировой войны. ”строилс€ шофером в расный рест. ¬ 1915 году на него обратил внимание офицер из —икрет »нтеллидженс —ервис (—»—) и завербовал в качестве секретного агента.
андидатура ћоэма как нельз€ лучше подходила дл€ работы за пределами “уманного јльбиона. ¬о-первых, он, прожив несколько лет во ‘ранции и √ермании, свободно владел немецким и французским €зыками. ¬о-вторых, у него было реальное прикрытие - литературна€ де€тельность.
* * *
ћоэм почти год находилс€ в Ўвейцарии, где вел наблюдение за лицами, подозреваемыми в шпионаже в пользу √ермании. ѕоддерживал контакты с представител€ми различных спецслужб союзников. –егул€рно направл€л в —»— подробные отчеты и одновременно работал над пьесами.
¬ женевском отеле "Ѕо –иваж" ћоэм познакомилс€ со своими коллегами-писател€ми, привлеченными к работе английской разведкой, - ƒжозефом онрадом, ƒжеральдом елли и —ирилом √енри оулсом.
ак-то раз к ћоэму в номер загл€нули швейцарские полицейские. —лучилось это в тот момент, когда он составл€л очередной отчет в Ћондон. Ќа вопрос стражей: "„ем вы здесь занимаетесь?" - ћоэм простодушно ответил: "ѕишу пьесу". - "ј почему в ∆еневе?" - не унимались полицейские. "ѕотому что в Ћондоне сыро!"
“ак сработало прикрытие ћоэма-агента.
...ѕо его собственному признанию, "жизнь шпиона была монотонна, зачастую лишена смысла и совершенно непохожа на ту, какой ее обычно изображают".
ќднако именно там ћоэм отыскал своего геро€ јшендена - по существу самого себ€, - который стал главным действующим лицом не только одноименного романа, но и других шпионских боевиков. Ёти произведени€ настолько правдиво отображали реалии жизни и оперативную де€тельность, что (!) 14 из них ћоэм был вынужден сжечь. —лучилось это после того, как ”инстон „ерчилль, ознакомившись с рукопис€ми, за€вил: "—эр, вы нарушаете јкт о государственной тайне!"
¬ 1917 году ћоэм решил завершить свою карьеру в —»—. ”иль€му ”айзмэну, своему шефу, он отослал письмо, в котором в завуалированной форме посетовал на безденежье: "”важаемый сэр! «десь, в Ўвейцарии, € - единственный, кто работает, отказавшись от денег... ј недавно € узнал, что мой поступок коллеги расценивают не как про€вление патриотизма, а как про€вление глупости..."
ќднако сэр ”иль€м ”айзмэн уговорил ћоэма поехать в –оссию...
»« –ќ——»» —... “”Ѕ≈– ”Ћ≈«ќћ
18 июл€ 1917 года ћоэм получил 21 тыс€чу долларов (огромные деньги по тем временам!) и с паспортом на им€ американского репортера ƒжона —омервил€ отправилс€ в –оссию. ќн получил задание поддержать руководство партии меньшевиков и помешать планам большевиков вывести страну из войны. ¬ ѕетрограде ћоэм вошел в контакт с јлександром еренским, который 18 окт€бр€ послал его в Ћондон. "—омервиль" должен был передать британским власт€м отча€нную просьбу премьера-неудачника оказать помощь в создании армии дл€ борьбы с большевиками. ѕрибыв в Ћондон, ћоэм был приглашен к Ћлойд-ƒжорджу. “от прин€л ћоэма любезно и выразил восхищение его пьесами. Ќо ћоэму было не до комплиментов. ¬ежливо прервав премьер-министра, он подал ему письмо от еренского. Ѕегло ознакомившись с текстом, Ћлойд-ƒжордж тихо сказал: "я не могу этого сделать". - "„то € должен передать еренскому?" - спросил ћоэм. "ѕросто... „то € не могу этого сделать!" - извинившись, премьер вышел. ћоэм осталс€ наедине со своими мысл€ми: как снова попасть в –оссию?
—обыти€ изменили его планы. 7 но€бр€ еренский был свергнут, и большевики захватили власть. Ќесмотр€ на €вный провал своей миссии, ћоэм был доволен результатами поездки - он собрал объемный материал дл€ рассказов об јшендене.

—омерсет ћоэм (снимок 30-х годов).
‘ото арла фон ¬ехтера
...ƒва с половиной мес€ца, проведенных в –оссии, пагубно отразились на здоровье ћоэма. ¬рачи нашли у него признаки туберкулеза. Ѕудучи на докладе у ”иль€ма ”айзмэна, ћоэм поинтересовалс€, не планирует ли шеф направить его вновь в –оссию. "Ќет! - был ответ. - —ейчас дл€ нас главное - удержать –умынию".
“уда —омерсету ехать не хотелось. "” мен€ туберкулез", - пробормотал он. "Ќу вот и хорошо! - ”айзмэн потер руки. - ≈зжайте в санаторий и скорее выздоравливайте!"
“ак закончилось пребывание ”иль€ма —омерсета ћоэма в —икрет »нтеллидженс —ервис.
ѕрожив долгую - 91 год - жизнь, он погиб не в плаще и не от удара кинжалом, а тихо скончалс€ в санатории дл€ легочных больных в Ўвейцарских јльпах...
* * *
...«ападные литературоведы и критики считают, что ћоэм - первый автор шпионских романов, описавший в них реальные событи€ собственной жизни, жизни бывшего разведчика. ќценива€ роман "јшенден" и общий вклад ћоэма в развитие шпионской беллетристики, Ёнтони ћастерс, обозреватель литературной редакции газеты "“аймс", писал: "јшенден" оказал серьезное вли€ние на всю послевоенную шпионскую литературу. √рэм √рин, ƒжон Ће арре и Ћен ƒейтон создали убедительный тип геро€: разведчика средних лет, циничного склада, загнанного в ритуальные рамки своей профессии. Ќо следует признать, что из всех шпионских историй приключени€ јшендена наиболее близки к реальным событи€м из жизни его создател€".
ј√≈Ќ“ 007 Ќј “ј…Ќќ… —Ћ”∆Ѕ≈ ≈≈ ¬≈Ћ»„≈—“¬ј
28 ма€ 1908 года в семье английского миллионера ¬алентина ‘леминга родилс€ второй сын, которого назвали …ен Ћанкастер. —тав писателем, он сменил свое им€ на короткое и звучное, как выстрел, ян.
ѕроучившись два года в »тонском университете и столько же в —андхерстском военном колледже, …ен решил поступить на дипломатическую службу. ”сердно готовилс€ к вступительным экзаменам и уже через год овладел немецким и французским €зыками. ќднако в ‘орин ќффис не прошел по конкурсу, получив неуд за... сочинение. ѕро€вив предприимчивость, юноша устроилс€ ассистентом репортера в информационное агентство "–ейтер".
...«на€ стремление английских спецслужб использовать журналистов в своих цел€х и наблюда€, как стремительно поднималс€ по карьерной лестнице недоучка ‘леминг, резонно предположить, что именно в "–ейтер" на него вышли офицеры-вербовщики из —икрет »нтеллидженс —ервис. Ёти охотники за головами, изучив биографию, личные и деловые качества молодого человека, решили привлечь его к негласному сотрудничеству. » выдали ему такой аванс, от которого он не мог отказатьс€. онтракт был заключен на взаимовыгодных услови€х. »наче чем можно объ€снить направление ‘леминга, несосто€вшегос€ журналиста, в престижную и весьма ответственную командировку в ———–?
...¬ 1933 году в ћоскве проходил судебный процесс над шестью служащими английской компании "¬иккерс", которым инкриминировали шпионскую де€тельность. ƒоказательна€ база обвинени€ была настолько безупречна, что двое подсудимых признались, что €вл€ютс€ кадровыми сотрудниками английской разведки.
...–аботодатели из "–ейтер" были довольны репортажами ‘леминга о ходе судебного заседани€. ќн еще не вернулс€ в Ћондон, а ему уже оформили командировку в Ѕерлин дл€ отбора интервью у √итлера. ќднако по насто€нию операторов из —»— ‘леминг выступил в другом амплуа - стал биржевым брокером. Ќо ненадолго...
¬ мае 1939 года ‘леминг вновь посетил ћоскву. Ќа этот раз в составе торговой делегации. ќфициально он представл€л газету "“аймс". ‘актической же целью его поездки был сбор информации о морально-психологическом состо€нии комсостава расной јрмии.
¬ ходе визита …ен, на зависть коллегам-репортерам, имел уникальную возможность общатьс€, хот€ и через переводчика, с трем€ народными комиссарами ———–: ћаксимом Ћитвиновым, наркомом иностранных дел, јнастасом ћико€ном, наркомом внешней торговли, и лиментом ¬орошиловым, наркомом обороны.
ѕо возвращении в јнглию ‘леминг в своем отчете дал глубокий анализ военному потенциалу —оветского —оюза. ≈го доклад настолько впечатлил руководителей —»—, что они решили изменить статус ‘леминга и перевели его из негласных сотрудников в кадровые. ќшиблись, так как не придали значени€ аксиоме: "из хорошего фельдшера редко выходит хороший врач". —коро они осознают свою оплошность, а пока... …ен Ћанкастер ‘леминг был произведен в капитан-лейтенанты резерва оролевских военно-морских сил.
...ќфициальна€ служба ‘леминга в разведке длилась семь лет. ¬опреки расхожему мнению он не имел отношени€ к разведывательным операци€м - был кабинетным служакой. »спытыва€ комплекс невостребованности, он, чтобы хоть как-то уравн€ть себ€ с сослуживцами-оперативниками, неизменно носил с собой десантный нож и авторучку, заправленную слезоточивым газом.
€вной заслуге ‘леминга можно отнести лишь помощь, оказанную им при формировании 30-го штурмового отр€да оролевских ¬ћ—, который занималс€ технической разведкой в 1939-1945 годах.
∆»«Ќ№ Ќј¬≈–’”
¬ 1946 году …ен Ћанкастер ‘леминг как бесперспективный сотрудник был отправлен в отставку.
«адав себе риторический вопрос: прошла война, а где же ордена? - сам же на него и ответил: не везет на службе - повезет в семье! ѕосле чего сделал предложение обладательнице наследства в миллион долларов.
—упруги поселились на ямайке, где три года вели беззаботную жизнь богатых рантье. ¬се изменилось, когда …ен встретилс€ со своим старшим братом, служившим в ”правлении специальных операций (”—ќ) ¬еликобритании. Ќаправл€€сь по делам службы в —оединенные Ўтаты, ѕитер ‘леминг решил денек погостить у …ена. Ќо пробыл неделю. Ѕольшую часть суток родственники проводили в барах. ѕитер, волкодав британской разведки и любитель дармовой выпивки, говорил, говорил и говорил. ¬ его пь€ных разглагольствовани€х о секретных операци€х ”—ќ …ен и почерпнул материал дл€ своих шпионских боевиков. Ќаблюда€ за братом, будущий автор суперпопул€рных книг мысленно создавал образ ƒжеймса Ѕонда, всепроникающего агента 007. ј прототипом босса ƒжеймса Ѕонда (мистера "ћ") послужил начальник самого …ена: директор морской разведки контр-адмирал ƒжон √одфри.
–ќ∆ƒ≈Ќ»≈ ƒ∆≈…ћ—ј ЅќЌƒј
¬ 1950-м ‘леминг, чтобы пополнить досье на агента 007, перебралс€ в јнглию, поближе к архивам —икрет »нтеллидженс —ервис. — этой же целью выезжал в —оединенные Ўтаты, где встречалс€ с главой представительства британских спецслужб в —Ўј ”иль€мом —тивенсоном и директором ”правлени€ стратегических служб (ныне - ÷–”) ”иль€мом ƒонованом.
¬ 1953-м вышел первый роман о похождени€х ƒжеймса Ѕонда - " азино "–ой€ль" ("Casino Royal"), а первым человеком, который разрекламировал Ѕонда и его творца, был президент ƒжон еннеди. ¬ 1961 году в интервью журналу Time он сказал, что роман "»з –оссии с любовью" ("From Russia with Love") входит в дес€тку его самых любимых книг. ѕосле этого началось триумфальное шествие ƒжеймса Ѕонда по миру и звездный период жизни ‘леминга-писател€.
"Ѕондиада" насчитывает всего 14 книг, зато общий тираж в 1961-1970 годах превысил (!) 500 млн. экземпл€ров. ¬ течение этого срока кассовые сборы от проката фильмов о ƒжеймсе Ѕонде достигли 10 млрд. долл. (с поправкой на сегодн€ это более 200 млрд. долл.).
»стори€ мирового кинематографа не знает прецедентов.
...ѕо мнению ветеранов английских и американских спецслужб, ‘леминг, не име€ возможности реализовать свои шпионские амбиции во врем€ войны, реализовал их в своих романах-боевиках. ќн, играющий в шпионов литератор, с помощью ƒжеймса Ѕонда попыталс€ обрести свою нишу в разведывательном сообществе —тарого и Ќового —вета. » ведь преуспел!
...10 августа 1964 года ян ‘леминг во врем€ игры в гольф почувствовал себ€ плохо. ≈го отвезли в лондонский военный госпиталь, где в ночь на 13 августа он скончалс€. ѕохоронили яна Ћанкастера ‘леминга на кладбище —евен-’эмптон, что в графстве √лостершир.
¬ тот же день ведущие газеты —Ўј и јнглии поведали миру, что адмирал √одфри, узнав о смерти ‘леминга, воскликнул: "я всегда считал, что это он должен был стать начальником военно-морской разведки, а € - его подчиненным!"
Ќикого не смутило, что тело ƒжона √одфри уже два года покоилось на ’айгейтском кладбище...
—ери€ сообщений "разведка и шпионаж":
„асть 1 - –усска€ секс-шпионка јнна „апман ( ущенко)
„асть 2 - расна€ Ўамбала - супердеза большевиков
...
„асть 7 - “абор уходит в разведку
„асть 8 - ≈врейские авантюристы: Ћева «адов и другие евреи-махновцы
„асть 9 - Ўпионские страсти
|
ћетки: шпионаж |
≈врейские авантюристы: Ѕлюмочка из ќдессы |
ƒневник |
≈врейские авантюристы: Ѕлюмочка из ќдессы
(из лекций, которые € читал своим студентам, любознательным даю ссылку - http://yadi.sk/d/MhnKOc-UC4JtF)
«ЅЋёћќ„ ј»[1]
–одилс€ он в „ерниговской губернии,нодетство егопрошло в ќдессе.. ѕосещал “алмуд-“ору - школу, в которой обучались мальчики в возрасте от 6 до 12 лет — сироты и дети из бедных семей, — пользовалась среди одесских, и не только одесских евреев прекрасной репутацией. “алмуд-торой руководил знаменитый писатель и ученый Ўалом яков јбрамович, он же — ћенделе-ћойхер-—форим...
”спешно закончив “алмуд-тору, занималс€ в ќдессе электротехническим мастерством...
ѕотом, в 1917 году, уже не —имха-янкель √ершев, а яков √ригорьевич шаталс€ то по ќдессе как агитатор первого —овета рабочих депутатов, то по родным —осницам, куда приехал за наследством деда (200 рублей), то по ’арькову, когда устраивалс€ на работу конторским мальчиком, то по ’арьковщине — в качестве эсера-агитатора во врем€ подготовки к выборам в ”чредительное собрание, то по —имбирской губернии, агитиру€ кресть€н за эсеровский в ”чредительное собрание.
ќ большевистском перевороте в ѕетрограде Ѕлюмкин узнал в небольшом городке јлатырь, куда попал из —имбирска, где его, тогда семнадцатилетнего эсера, избрали членом —имбирского совета кресть€нских депутатов (хот€ к кресть€нам Ѕлюмкин сроду не имел никакого отношени€). Ѕросив дела в јлатыре, он заспешил в ќдессу.
¬ €нваре 1918 года Ѕлюмкин с оружием в руках боретс€ вместе с большевиками за советскую власть в ќдессе. ѕосле записываетс€ добровольцем в матросский «∆елезный отр€д» при штабе 6-й армии –умынского фронта. ¬скоре его избирают командиром. Ѕлюмкин участвует в бо€х с войсками ÷ентральной –ады. ¬ марте 1918 года его отр€д вливаетс€ в состав 3-й советской ”краинской армии. “огда жечасти расной јрмии начинают вести бои и с наступающими германскими войсками. 12 марта 3-€ арми€ оставл€ет ќдессу и отступает в ‘еодосию. ¬ ‘еодосии Ѕлюмкина ввод€т в ¬оенный совет армии в качестве комиссара, затем назначают помощником начальника штаба.
ƒл€ восемнадцатилетнего юнца революционно-боева€ карьера складывалась более чем удачно.
— 3-й армией Ѕлюмкин пошел от ‘еодосии на Ћозовую и дальше — на —лав€нск. ”частвовал в экспроприации денег в √осударственном банке (захвачено 4 миллиона рублей). ѕо свидетельству бывшего начальника штаба ќдесского военного округа, Ѕлюмкин повел себ€, име€ звание краскома, неподобающим образом. ќн предложил командующему армией ѕ. —. Ћазареву вз€тку в 10 тыс€ч рублей. —только же он хотел оставить себе, а остальные деньги предполагал передать партии левых эсеров. ѕо требованию Ћазарева и под угрозой ареста Ѕлюмкин возвратил в банк 3,5 миллиона рублей. уда делись остальные 500 тыс€ч, вы€снить так и не удалось. ¬се это сошло Ѕлюмкину с рук.
¬ апреле 18-го Ѕлюмкин по€вилс€ в ћоскве. ≈го тут же прин€ли в охрану ÷ партии левых эсеров. ј уже в июне по левоэсеровской рекомендации Ѕлюмкин был прин€т в ¬„ на должность заведующего отделением по борьбе с международным шпионажем.
ќн энергично прин€лс€ за дело. √лавной его заботой было найти возможность проникнуть в германское посольство...
–абота в ¬„ вскружила ему голову. —воим при€тел€м поэтам он даже предлагал прийти в „ посмотреть, как в подвалах Ћуб€нки расстреливают «контру».
¬ один из последних дней июн€ 1918 года яков Ѕлюмкин вместе с ќсипом ћандельштамом и другими знакомыми зашел в писательское кафе. ѕодвыпив, он начал хвастатьс€ тем, как ему удалось арестовать австрийского офицера графа –оберта ћирбаха по обвинению в шпионской де€тельности в пользу јвстро-¬енгрии.
— Ќе сознаетс€, — говорил Ѕлюмкин, — поставлю его к стенке. » вообще жизнь людей в моих руках. ѕодпишу бумажку — через два часа нет человека. ¬он, видите, вошел поэт. ќн представл€ет большую культурную ценность. ј если захочу, тут же арестую его и подпишу смертный приговор. Ќо если он нужен тебе, — обратилс€ Ѕлюмкин к ћандельштаму, — € сохраню ему жизнь.
Ѕудучи вгост€х у немецкогопосла мирбвха, Ѕлюмкин поинтересовалс€, не родственник ли он арестованного австрийского графа –оберта ћирбаха, и, когда на слова Ѕлюмкина посол ответил, что он ничего не имеет общего с упом€нутым офицером, что это дл€ него совершенно чуждо и в чем именно заключаетс€ суть дела, Ѕлюмкин ответил, что через день будет это дело поставлено на рассмотрение трибунала. ѕосол и при этих словах оставалс€ пассивен.
¬скоре ,Ѕлюмкин все же «достал» посла. Ѕудучи в гост€хна даче ћирбаха вынул из портфел€ револьвер и, вскочив, выстрелил в упор — последовательно в ћирбаха, –ицлера и переводчика.
–аненый √раф ћирбах вскочил, бросилс€ в большой зал, куда за ним последовал спутник делегата, между тем как Ѕлюмкин под прикрытием мебели продолжал стрел€ть, а потом кинулс€ за графом. ќдин момент после этого — взорвалась бомба в зале, котора€, оказалось, совершенно разгромила зал. √раф был поражен смертельно.
¬ глазах противников советского стро€ Ѕлюмкин стал героем. ≈го изображали патриотом, совершившим самоотверженный поступок ради спасени€ чести страны. “ак же относилась к нему и часть интеллигенции, расценивавша€ Ѕрестский мир как предательство национальных интересов –оссии. Ќапример, поэт √умилев впоследствии с гордостью говорил о том, как он познакомилс€ с Ѕлюмкиным: «„еловек, среди толпы народа застреливший императорского посла, подошел пожать мне руку, сказать, что любит мои стихи».
ѕо приезде на ”краину Ѕлюмкина избирают членом ”краинской ÷ентральной и ѕравобережной областной боевых организаций партии левых эсеров. Ѕлюмкин и јндреев в эти дни активно включаютс€ в подготовку террористических актов против гетмана ѕ. ѕ. —коропадского.
ѕосле краха гетманщины Ѕлюмкин становитс€ членом нелегального иевского —овета, участвует в борьбе против ƒиректории, организует ревкомы и повстанческие отр€ды, ведет в ѕодолии агитацию среди населени€ за восстановление —оветской власти.
¬ ∆меринском уезде Ѕлюмкин подн€л восстание кресть€н против петлюровцев. ¬ ¬иннице устроил побег из петлюровской тюрьмы председател€ ѕолтавского губисполкома, члена ÷» Ћисовика. ¬ феврале 1919 года Ѕлюмкина избирают секретарем нелегального иевского горкома партии левых эсеров.
¬ марте 1919 года Ѕлюмкин по партийным делам выехал в ≈лизаветград. Ќедалеко от ременчуга его встретили петлюровцы, зверски избили, вышибли зубы, почти задушили. ѕосчитав пленника за мертвого, они раздели его догола и выбросили на железнодорожное полотно. Ќочью Ѕлюмкин очнулс€ и с трудом дотащилс€ до домика путевого обходчика. ќттуда его на следующий день на дрезине доставили в ременчуг и поместили в больницу. Ћишь через мес€ц он встал на ноги.
—разу же после €вки Ѕлюмкина с повинной в иевскую „ , туда приехал руководивший ¬сеукраинской „ ћ. я. Ћацис. Ѕлюмкин подробно рассказал ему о том, как был осуществлен террористический акт в германском посольстве, как ему удалось бежать, где он скрывалс€ и что побудило его €витьс€ в „ .
ѕосле первых допросов ¬„ отправила Ѕлюмкина в ћоскву. ƒл€ расследовани€ его дела ¬÷» образовал ќсобую следственную комиссию. Ѕлюмкин снова дал показани€ об убийстве ћирбаха и о причинах своей добровольной €вки во ¬сеукраинскую „ . Ѕольшевики очень быстро пон€ли, какой бесценный сотрудник к ним прибилс€, и ради такого дела на убийство ћирбаха махнули рукой.
ѕостановление ѕрезидиума ¬сероссийского ÷ентрального »сполнительного омитета от 16 ма€ 1919 года об освобождении из заключени€ якова √ригорьевича Ѕлюмкина: «¬виду добровольной €вки я. √. Ѕлюмкина и данного им подробного объ€снени€ обсто€тельств убийства германского посла графа ћирбаха ѕрезидиум постановл€ет я. √. Ѕлюмкина амнистировать. —екретарь ¬÷» ј. ≈нукидзе».
ѕо возвращении из ћосквы на ”краину пройденный большевиками Ѕлюмкин сразу приступил к формированию группы дл€ заброски в —ибирь и разработке плана ее де€тельности. ƒело в том, что в мае 1919 года руководители большевистской партии договорились с максималистами о создании на ”краине группы дл€ подготовки убийства адмирала олчака. √руппу предполагалось забросить в —ибирь через территорию, зан€тую ƒеникиным. ќдним из руководителей группы был назначен яков Ѕлюмкин.
ќн согласилс€, но обсто€тельства сложились так, что олчака убили другие люди.
Ѕлюмкин вернулс€ в иев. ѕредательство левые эсеры не прощали и 6 июн€ 1919 года три видных левоэсеровских боевика— в том числе Ћиди€ —орокина, перва€ жена Ѕлюмкина, — пригласили его за город дл€ «политической беседы». «Ѕеседа» закончилась тем, что товарищи по партии выхватили револьверы и открыли беспор€дочную стрельбу по Ѕлюмкину. счастью дл€ него, ни одна из восьми выпущенных пуль не попала в цель. ≈му удалось бежать под покровом ночи.
¬скоре на него было совершено второе покушение. ¬ечером в кафе на рещатике к нему подошли два бывших товарища по партии левых эсеров, несколько раз выстрелили в упор и не спеша удалились. ¬ыстрелов из-за шума почти не было слышно. —идевшие за соседними столами увидели только, как Ѕлюмкин с окровавленной головой свалилс€ со стула. ¬ бессознательном состо€нии его доставили в больницу. «атем последовала треть€ попытка расправитьс€ с предателем. Ќочью неизвестный бросил в помещение √еоргиевской больницы бомбу довольно сильного разрыва. Ѕлагодар€ счастливой случайности никто не пострадал. Ѕлюмкину также не было причинено никакого вреда.
»з-за охоты, которую устроили на него левые эсеры, он стал испытывать приступы панического страха. „то-то вроде мании преследовани€. „увство тревоги не оставл€ло его до последних дней жизни.

я. √. Ѕлюмкин
¬ 1919 году Ѕлюмкин вступает в коммунистическуюпартию
Ћетом 1919 года Ѕлюмкин становитс€ завсегдатаем « афе поэтов» на “верской. ак правило, он занимал столик в углу дальнего зала, садилс€ лицом к двери и держалс€ крайне настороженно. огда ему приходилось сидеть в середине зала — он часто огл€дывалс€, как будто ожида€ удара в спину. ≈сли кто-то сзади него резко вставал — Ѕлюмкин немедленно вскакивал, держа в руках револьвер. ќн посто€нно находилс€ в компании имажинистов — —ерге€ ≈сенина, јлександра (—андро) усикова, јнатоли€ ћариенгофа, ¬адима Ўершеневича.
Ѕлюмкин любил беседовать на литературные темы, обожал стихи и, главное, преклон€лс€ перед талантом своих друзей. ќни, в свою очередь, считали его, по словам Ўершеневича, хот€ и «очень хвастливым, но, в общем, милым парнем».
ѕеред закрытием кафе Ѕлюмкин неизменно обращалс€ с просьбой:
— –еб€та, проводите мен€ до дома!
„аще других его провожали ≈сенин и ћариенгоф. Ѕлюмкин бо€лс€ не нападени€ бандитов, а покушений со стороны левых эсеров и германских агентов.
ѕосле окончани€ военных действий против ƒобровольческой армии Ѕлюмкина откомандировывают в распор€жение Ќародного комиссариата иностранных дел. ¬ начале лета 1920 года Ќаркоминдел посылает его в —еверный »ран.
17—18 ма€ ¬олжске- аспийска€ военна€ флотили€ под командованием ‘. ‘. –аскольникова успешно провела операцию в Ёнзели (ѕехвели), куда деникинцы увели русские корабли. ‘лот был освобожден, отр€ды белогвардейцев и англичан отошли в глубь »рана. ¬ начале июн€ в –еште была провозглашена √ил€нска€ —оветска€ –еспублика. ≈е правительство, —овет Ќародных омиссаров, возглавил «буржуазно-националистический» де€тель учук-хан. ¬ республике была создана расна€ јрми€. «адачи Ѕлюмкина состо€ла в том, чтобы поддерживать св€зь между —оветским јзербайджаном и правительством учук хана.
¬ конце июл€ он прин€л участие в перевороте, в результате которого правительство учук-хана было свергнуто, а к власти в √ил€нской республике пришла лева€ группа Ёхсануллы-хана. ѕолосле этого Ѕлюмкина назначают военным комиссаром штаба гил€нской расной јрмии. ќн становитс€ членом омпартии »рана. ÷ентральный комитет поручает ему возглавить комиссию по комплектованию иранской делегации на ѕервый съезд народом ¬остока, который состо€лс€ в Ѕаку в начале сент€бр€. ¬ состав делегации вошел и Ѕлюмкин.
¬ »ране Ѕлюмкин пробыл около четырех мес€цев. Ѕудучи больным тифом, €кобы «руководил обороной Ёнзели» от наступавших шахских войск.
¬ернулс€ он в ћоскву с билетом иранской коммунистической партии, шрамами от шести ранений и трем€ наградами за боевые заслуги.
¬ 1920 году Ѕлюмкина, хот€ он уже был вполне сложившимс€ и профессиональным шпионом, зачислили по направлению Ќаркоминдела на ¬осточное отделение јкадемии √енштаба, где готовили разведчиков дл€ армейской службы на восточных окраинах —оветской –еспублики и дл€ военно-дипломатической работы.
«а врем€ пребывани€ в академии Ѕлюмкину удалось получить хорошую военную подготовку и основательно проштудировать общественно-политическую литературу. ¬ академии он встретил “ать€ну ‘айнерман, дочь известного толстовца “енеромо, и вскоре на ней женилс€.
„уть не убил »льинского и возможно убил ≈сенина
¬ свободное от зан€тий врем€, как и год назад, он регул€рно заходит в « афе поэтов», где встречаетс€ со своими при€тел€ми — усиковым, ћариенгофом, Ўершеневи-чем и ≈сениным. “ам, в конце 1920 года, якову Ѕлюмкину довелось поскандалить с молодым артистом мейерхольдовского театра »горем »льинским. —сора едва не закончилась трагически. »льинский, сидевший за столиком неподалеку от Ѕлюмкина, заметил, что его ботинки сильно запылились, встал, подошел к плюшевой портьере и вытер ею обувь. »зр€дно подвыпивший Ѕлюмкин, увидев такое безкультурье, взорвалс€.
- ’ам! ћолись, хам, если веруешь! — с этими словами подбежал к »льинскому и направил на него револьвер. ѕосетители кафе перепугались не на шутку. ¬се были уверены, что убить человека Ѕлюмкину ничего не стоит. ѕришедший в себ€ первым ≈сенин схватил подн€тую руку Ѕлюмкина и направил ее вниз. ƒалее зав€залс€ такой диалог:
— “ы, что, опупел яшка?
— ѕри революции хамов надо убивать! — кричал Ѕлюмкин. — »наче она погибнет!
≈сенину удалось отобрать у Ѕлюмкина револьвер.
— ѕусть тво€ пушка полежит у мен€ в кармане. “ак лучше будет.
Ѕлюмкин растер€лс€.
— ќтдай, —ережа, револьвер, — упрашивал он друга. — ќтдай! ќн мне дороже жизни!
”видев, что Ѕлюмкин малость поостыл, ≈сенин возвратил ему оружие.

 Ѕлюмкин и ≈сенин
Ѕлюмкин и ≈сенин
Ќесмотр€ на дружбу, Ѕлюмкин грозил ≈сенину револьвером и тюрьмой, когда ему показалось, что поэт флиртует с его женой. » сам пыталс€ соблазнить жену ≈сенина, которую, заболтав, завел к себе в номер гостиницы. ¬ерна€ жена дот€нулась до кнопки вызова не то прислуги, не то охраны. —ильный звонок отрезвил Ѕлюмкина, и он отпустил жену при€тел€.
ќсенью 1921 года Ѕлюмкина откомандировали в —ибирь, где назначили командиром 61-й бригады 21-й пермской дивизии. Ѕригада успешно участвовала в бо€х против войск барона ”нгерна.
ѕосле разгрома войск ”нгерна Ѕлюмкин вернулс€ и ћоскву дл€ продолжени€ учебы в ¬оенной академии. ќднако окончить ее ему так и не удалось. ¬ 1922 году его снова отзывают и направл€ют в секретариат наркома по военным делам.
¬скоре ƒзержинский предложил Ѕлюмкину перейти на службу в иностранный отдел ќ√ѕ”.
ќ характере закордонной работы Ѕлюмкина в 1923-1924 годах известно мало. Ѕыл резидентом советской разведки в ѕалестине — тогдашней подмандатной территории јнглии. ѕри назначении Ѕлюмкина на эту работу, несомненно, учитывалось прекрасное знание им не толь ко современного, но и древнего еврейского €зыка, нравов и традиций иудеев. “огда же к работе в »Ќќ ќ√ѕ” по рекомендации Ѕлюмкина привлекли другого выдающегос€ авантюриста — его тезку —еребр€нского, руководившего впоследствии операцией по похищению генерала утепова. ќдно врем€ они вместе находились в ѕалестине.
№люмкин жил и работал в яффе под именем ћоисе€ √урсинкел€. ќн был владельцем прачечной, €вл€вшейс€ штаб-квартирой его резиденции
— 1925 года Ѕлюмкин руководил отделом организации торговли в соответствующем наркомате (Ќародный комиссариат торговли), где ему покровительствовал тогдашний нарком Ћев аменев. „ем Ѕлюмкин там занималс€ на самом деле, можно только догадыватьс€, име€ в виду его службу в ¬„ — ќ√ѕ”. «а год работы он успел побывать на двенадцати должност€х. „ерез год руководство ќ√ѕ” обратилось в ÷ ¬ ѕ(б) с просьбой откомандировать Ѕлюмкина в его распор€жение. “еперь он получил назначение на должность главного инструктора государственной внутренней охраны (√¬ќ) ћонголии. ќдновременно ему поручалось руководство де€тельностью советской разведки в “ибете, во ¬нутренней ћонголии и северных районах ита€.
расна€ Ўамбала
¬ ћонголию Ѕлюмкин прибыл в конце 1926 года. ¬ сферу его интересов входил давно уехавший в »ндию Ќиколай –ерих — художник, поэт, мистик, фанатично веривший в Ўамбалу.
Ѕудучи в “ибете, Ќиколай –ерих встретилс€ с поразившим его воображение монгольским ламой.
«ѕриходит монгольский лама, и с ним нова€ волна вестей... ќтличный лама, уже побывал от ”рги (”лан-Ѕатор) до ÷ейлона. ак глубоко проникающа эта организаци€ лам!.. Ќет в ламе ни чуточки ханжества, и дл€ защиты основ он готов и оружие вз€ть...»
ѕростим это замечание великому художнику. “от, кого он прин€л за монгольского ламу, не был ни ламой, ни монголом.
Ёто был Ѕлюмкин. —уперагент „ , бывший боевик партии эсеров, в свое врем€ убивший германского посла ћирбаха и возглавл€вший заговор эсеров против Ћенина в 1918 году.
ѕосле провала эсеровского м€тежа Ѕлюмкин пришел с повинной, был прощен, и осталс€ работать в „ , выполн€€ личные задани€ ƒзержинского и “роцкого.
ќднако что же искал яков Ѕлюмкин в “ибете?
–азработавшие операцию коллеги Ѕлюмкина работали в наиболее засекреченной части „ , а затем и ќѕ“” - —пецотделе. –уководил —пецотделом √леб Ѕокий, чекист с дореволюционным партийным стажем, а занималось это сверхсекретнейшее подразделение... ќфициально - перехватом иностранных шифров и расшифровкой поступающих из-за границы в посольства телеграмм. ¬ недрах же —пецотдела таилась «лаборатори€», где изучались скрытые возможности человеческого мозга -телепати€, телекинез; тайные мистические учени€ древности; возможности использовани€ оккультных сект... в распространении мировой революции!
Ќачина€ с 1921 года в кулуарах оминтерна муссировалась иде€ создани€ еще одного - параллельного оминтерну - »нтернационала, который бы объедин€л все мистические тайные общества јзии и јфрики дл€ борьбы с колониализмом.
ѕо поручению √леба Ѕоки€ Ѕарченко составил проект воззвани€ —оветской власти к мистическим сектам и объединени€м.
Ѕыли составлены воззвани€ к хасидам, к суфийским и дервишским орденам, к буддийским сектам »ндии и “ибета. ќсобые надежды возлагались на мусульманскую секту исмаилитов и ее руководител€ јга-хана. Ёто те самые исмаилиты, которых в средневековой ≈вропе называли «асассины» -«обкуренные гашишем», безжалостные убийцы, от чьих кинжалов не удавалось ускользнуть никому. ¬ 1923 году по заданию Ѕоки€ Ќиколай –ерих несколько раз встречалс€ с јга-ханом в ѕариже и в »ндии, но безрезультатно.
ќднако, чтобы разобратьс€ в этом клубке хитросплетений мистического заговора, зреющего в недрах коммунистического „ , надо загл€нуть чуть подальше - в дореволюционую –оссию. ¬ 1906-м году молодой студент √леб Ѕокий был арестован за то, что под видом бесплатной столовой дл€ студентов организовал большевистскую €вку. ќднако Ѕокию недолго пришлось сидеть в тюрьме. «а него внесли залог в три тыс€чи рублей - огромные деньги по тем временам! Ёто сделал ѕавел ћокиевский, к партии большевиков не имевший никакого отношени€, а занимавший видное место в петербургской ложе розенкрейцеровского ордена!
” ћокиевского на молодого, способного студента были свои виды. » в 1909-м году Ѕокий был введен в ложу. Ќо большого энтузиазма он пока не про€вл€л, сосредоточив все свои силы на революционной де€тельности, ѕосле революции Ѕокий был послан партией на работу в „ . ≈го бескомпромиссность и неподкупность признавали даже враги молодой —оветской республики.
“ут один пикантный штрих - библиотека Ўнеерсона. ¬ Ѕелоруссии и на ”краине конфискованные у изгнанных и расстрел€нных хасидских цадиков архивы не уничтожались, а по приказу „ свозились в ћоскву.
ќбратим свое внимание также на еще одного сотрудника —пецотдела - Ѕарченко. стати, до того, как попасть в —пецотдел, Ѕарченко работал в еще одном сверхсекретнейшем советском учреждении - »нституте мозга. Ѕарченко закончил ёрьевский университет, где в 1905-м году познакомилс€ с профессором ривцовым. ривцов же был дружен с парижским оккультистом »вом —ент-ƒ'альвейдером. ‘ранцуз утверждал, что на границе “ибета, јфганистана и »ндии находитс€ подземна€ страна јгартха, она же Ўамбала, населенна€ людьми с неограниченными возможност€ми,, потомками древних цивилизаций Ћемурии и јтлантиды. ƒ'јльвейдер предлагал даже правительству ‘ранции установить св€зь с ми могущественными подземными магами.
Ёто та сама€ јтха, которую искал √итлер, правл€€ эсесовские экспедиции “ибет и сам вызыва€ оттуда ммагов в Ѕерлин! ƒаже знаком с √итлер выбрал вывернутую то есть, обращенную против часовой стрелки) свастику.
¬ »ндии свастика как знак солнца повернута по часовой стрелке. —вастика же вывернута€ существует только в одном месте - в западном “ибете, как символ религии «бон». «ападный “ибет же, согласно мнению европейских оккультистов - местонахождение Ўамбалы, обиталища сверхлюдей. ќчевидно, подобных тем, которых мечтали вырастить нацисты в своих орденских замках.
„асть коммунистического руководства загорелась идеей Ўамбалы, откуда должен восси€ть свет коммунистических идей на весь угнетенный ¬осток. Ѕарченко даже одно врем€ читал лекции на судах Ѕалтфлота перед революционно настроенными матросами. ћатросики изъ€вл€ли желание, согласно воспоминани€м современиков, «вместе с ученым пробиватьс€ с бо€ми в “ибет и, достигнув Ўамбалы, установить св€зь с ее великими вожд€ми».
Ћекции вскоре прекратились, ибо все материалы о Ўамбале были засекречены самим всесильным Ѕокием, начальником спецотдела.
¬ кратчайшие сроки была подготовлена экспедици€. —екретность ее была такова, что даже начальник »Ќќ-разведки “рилиссер ничего не знал о ней. огда же сведени€ о подготовке экспедиции дошли до него, “рилиссер вместе с ягодой развернули хитрую интригу по дискредитации Ѕоки€. ¬се, чего им удалось добитьс€, - это срыва финансировани€ экспедиции.
Ќо Ѕоки€ така€ мелочь остановить не могла. ¬ “урцию отправилс€ Ѕлюмкин, открыл торговую фирму... » через эту фирму ручьем потекли награбленные хасидские рукописи, возвраща€сь в руки законных владельцев, а обратно в —пецотдел потекла денежна€ река.
Ќебольшую часть денег Ѕлюмкин оставил “роцкому, который после изгнени€ из ———– временно проживал в “урции.
ѕолученные от хасидов деньги составили фонд —пецотдела, на который он мог неподконтрольно осуществл€ть сверхсекретные операции.
Ёкспедици€ в “ибет состо€лась, правда, Ўамбалу так и не нашли.

ј вскоре гр€нул и 37-й год. Ѕоки€, бывшего пр€мо-таки занозой в глазах чекистов новой формации, расстрел€ли. “ака€ же судьба постигла Ѕарченко, Ѕлюмкина - да и почти весь —пецотдел. Ќо сам —пецотдел не умер, а только стал еще более засекреченным. ¬ 1957 г., когда сын Ѕарченко —ветозар обратилс€ к бывшему руководителю √лавнауки с просьбой разыскать в архивах √Ѕ научные труды отца, тот, после длительных поисков, ответил, что в недрах спецслужбы работы Ѕарченко считаютс€ еще «живыми»...
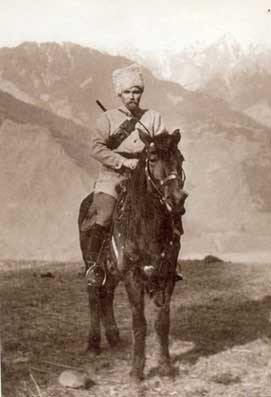 ¬ €нваре 1927 года Ѕлюмкин получил задание ÷ентра организовать поездку в итай, к генералу ‘эн ёйс€ну, незадолго до того перешедшему на сторону революционного гоминьдана. ѕо-видимому, целью поездки было установление св€зи с революционной армией, вы€снение на месте положени€ дел, оказание помощи в организации разведки и контрразведки.
¬ €нваре 1927 года Ѕлюмкин получил задание ÷ентра организовать поездку в итай, к генералу ‘эн ёйс€ну, незадолго до того перешедшему на сторону революционного гоминьдана. ѕо-видимому, целью поездки было установление св€зи с революционной армией, вы€снение на месте положени€ дел, оказание помощи в организации разведки и контрразведки.
Ѕлюмкин решил сам возглавить экспедицию. —выше восьмисот верст пришлось пробиратьс€ через безлюдную, занесенную местами снегом пустыню √оби, затем через районы ита€, находившиес€ под контролем контрреволюционных генералов. Ќесколько раз отр€ду Ѕлюмкина приходилось прокладывать путь с бо€ми. Ѕыли потери.
«Ћишь случайно € осталс€ жив», — вспоминал он два года спуст€.
— середины 1927 года Ѕлюмкин вновь в ”лан-Ѕаторе. ”же через два-три мес€ца после начала работы в ћонголии он оказываетс€ в состо€нии глубокой конфронтации с большинством советских работников.
ак-то на банкете, устроенным ÷ентральным омитетом ћЌ–ѕ по случаю нового года, Ѕлюмкин, прин€в изр€дную дозу спиртного, начал скоморошествовать. Ќесколько раз он подходил к портрету Ћенина и, молитвенно гл€д€ на него, отдавал пионерский салют. ѕотом приставал к монголам — говорил о своей любви к ним, лез обниматьс€. ƒело кончилось тем, что, вдребезги пь€ный, он свалилс€ под портретом вожд€. ≈го тошнило. ћежду приступами рвоты он поднимал голову вверх и заплетающимс€ €зыком бормотал:
— »льич, гениальный вождь, прости мен€! я не виноват — виновата обстановка. я не провожу твои идеи в жизнь. ѕрости!
¬ но€бре 1927 года ќ√ѕ” отозвало его в ћоскву
 ѕо возвращении в ћоскву из ћонголии Ѕлюмкин получил ответственное задание — организовать резиндентуру на Ѕлижнем ¬остоке. ќн должен был первоначально под именем купца —ултана-заде обосноватьс€ в онстантинополе, затем создать разведывательную сеть в ѕалестине и —ирии. онечной целью ее де€тельности считалось разведывательное проникновение через јравийский полуостров в »ндию — в алькутту и Ѕомбей. середине сент€бр€ все было готово к отъезду Ѕлюмкина. Ѕыли получены деньги на первые расходы, изготовлен персидский паспорт на им€ якуба —ултанова, написана автобиографи€, которую требовалось приобщить к личному делу.. ¬о второй половине сент€бр€ 1928 года «персидский купец я. —ултанов» выехал в ќдессу. ¬осьмого окт€бр€ Ѕлюмкин благополучно добралс€ до онстантинопол€.
ѕо возвращении в ћоскву из ћонголии Ѕлюмкин получил ответственное задание — организовать резиндентуру на Ѕлижнем ¬остоке. ќн должен был первоначально под именем купца —ултана-заде обосноватьс€ в онстантинополе, затем создать разведывательную сеть в ѕалестине и —ирии. онечной целью ее де€тельности считалось разведывательное проникновение через јравийский полуостров в »ндию — в алькутту и Ѕомбей. середине сент€бр€ все было готово к отъезду Ѕлюмкина. Ѕыли получены деньги на первые расходы, изготовлен персидский паспорт на им€ якуба —ултанова, написана автобиографи€, которую требовалось приобщить к личному делу.. ¬о второй половине сент€бр€ 1928 года «персидский купец я. —ултанов» выехал в ќдессу. ¬осьмого окт€бр€ Ѕлюмкин благополучно добралс€ до онстантинопол€.
—пуст€ семь мес€цев, 1 ма€ 1929 года генеральное консульство ѕерсии в онстантинополе выдало Ѕлюмкину свидетельство о том, что мистер якуб —ултанов изменил свою фамилию путем добавлени€ «заде» и впредь будет именоватьс€ якуб —ултан-заде. Ётим подтверждалось его иранское происхождение.
Ѕлюмкин занималс€ спекул€цией ценной антикварной литературы из запсников „ и неизвестно. —колько денег осело на его личных счетах.
¬ документе, подготовленном дл€ начальника »Ќќ ќ√ѕ” ћ. ј. “рилиссера, Ѕлюмкин обосновал план создани€ резидентуры. ќна должна была состо€ть из п€ти человек: выступающий под видом персидского купца руководитель Ѕлюмкин (∆ивой); члены группы Ћев јбрамович Ўтивельман (ѕрыгун), его жена, она же курьер — Ќехама ћанусовна (ƒвойка) и ћарк (ћанус) »саакович јльтерман (—тарец), тесть Ўтивельмана. ћесто п€того члена, группы пока было вакантным. —упругам Ўтивельман предсто€ло выехать в ѕалестину, јльтерману — временно остатьс€ в ћоскве дл€ закупки и изъ€ти€ книг и организации их отправки в “урцию.
–уководство »Ќќ ќ√ѕ” одобрило представленный Ѕлюмкиным план создани€ резидентуры. –азвернулась напр€женна€ работа по собиранию еврейских книг и манускриптов. Ѕлюмкин выезжал в ќдессу, в –остов, в р€д украинских городов и местечек, где обследовал библиотеки синагог и еврейских молитвенных домов, знакомилс€ с коллекци€ми частных торговцев. ќдновременно такую же работу он проводил в ћоскве. ¬ Ћенинской библиотеке он обнаружил собрание древнееврейских рукописей, национализированное у барона √инзбурга, а также большое количество неразобранных печатных изданий.
Ћетом по заданию ќ√ѕ” развернулась работа по изъ€тию древнееврейских книг в Ћенинграде. Ћенинградские чекисты облазили все книгохранилища, установили св€зи с антикварами, конфисковали старинные издани€. — конца августа по середину окт€бр€ они отправили в »Ќќ ќ√ѕ” свыше сотни древнееврейских книг. —реди них имелись даже инкунабулы (книги, вышедшие до 1500 года).
¬ конце окт€бр€ в онстантинополь прибыла перва€ парти€ книг. Ѕлюмкину удалось зав€зать близкое знакомство с константинопольскими торговцами-евре€ми и раввинами. ќн разослал в крупные английские, французские и немецкие фирмы, занимавшиес€ торговлей антиквариатом, письма и предложени€ о продаже книг, а также списки имевшихс€ у него изданий. роме того, он предложил свои услуги в качестве представител€ этих фирм на Ѕлижнем ¬остоке и в –оссии.
этому времени “роцкий был уже устранен ѕоста военного комиссара правительства и находилс€ в онстантинополе, куда приехал на встречу со своим кумиром Ѕлюмкин. ¬идимо, это егои погубило.
10 окт€бр€ 1929 года Ѕлюмкин встретилс€ с арлом –адеком и, как он позже признавалс€, «не удержалс€ и раскрыл ему свою душу». ќн подробно рассказал о беседе с “роцким, о встречах с —едовым, о полученных им в онстантинополе директивах дл€ бывших членов оппозиции. ѕоделилс€ Ѕлюмкин и своими колебани€ми и сомнени€ми.
— одной стороны, он считал правильной современную политику ÷ партии. — другой — ему было обидно за Ћьва ƒавидовича и страшно за его судьбу. Ѕлюмкин колебалс€: то ли пойти в ÷ и рассказать о том, что произошло в онстантинополе, то ли умолчать об этом. Ќо если ќ√ѕ” узнает о его контактах с “роцким, то наказание будет одно — расстрел. ≈го поступок будет квалифицирован как контрреволюционное преступление. Ѕлюмкин имел в виду и третий вариант: через несколько дней он должен был выехать на два-три мес€ца за границу, чтобы там сдать дела своему приемнику. » тогда проинформировать ÷ и руководство ќ√ѕ” о контактах с “роцким можно будет лишь по возвращении в ћоскву...
–адек внимательно выслушал Ѕлюмкина и предложил ему не откладывать признани€ до своего возвращени€ из-за границы. ¬озможно, он прин€л исповедь Ѕлюмкина за провокацию. ќднако пообещал, что их беседа будет носить глубоко личный, доверительный характер.
Ќа следующий день –адек сказал, что он посоветовалс€ со —милгой и ѕреображенским, и они пришли к выводу, что Ѕлюмкину об€зательно следует сообщить о встречи с “роцким в ÷ . “огда они втроем окажут ему всемерную поддержку и защиту.
—лова –адека оглушили Ѕлюмкина. «”же три человека знают о моем константинопольском свидании, — думал он. — “айна стала секретом полишинел€ — если знают трое, через неделю это будет известно всей ћоскве. ¬еро€тно, –адек и —милга не вполне довер€ют мне и опасаютс€ мен€. ј вдруг они, чтобы как-то реабилитировать себ€ в глазах —талина, первые сообщат в ÷ о моей встречи с Ћьвом ƒавидовичем? “огда мне конец!» Ѕлюмкин заметалс€, как загнанный зверь.
¬ субботу, 5 окт€бр€ 1929 года, сотрудница » Ќќ ќ√ѕ” Ћиза √орска€ возвращалась из отпуска. ќна была при€тно удивлена и обрадована, увидев на вокзале встречавшего ее с букетом цветов Ѕлюмкина. Ћиза знала, что он неравнодушен к ней. Ётот молодой красивый мужчина с легендарным прошлым и романтическим насто€щим оказывал ей €вные знаки внимани€. ќни несколько раз встречались в первые недели после приезда Ѕлюмкина из “урции. » вот нова€ встреча, а потом новые свидани€.
Ќо теперь его со всех сторон окружала опасность. 12 окт€бр€ он встретилс€ с Ћизой. Ќикогда еще она не видела его таким подавленным... Ѕлюмкин все более тер€л контроль над собой. ѕришедшему к нему сотруднику ќ√ѕ”, подготовленному им дл€ закордонной работы, за€вил, что за границу он не поедет, так как скоро будет арестован за политическое дело. “о же, по словам √орской, он сказал и другому человеку, зашедшему к нему, — в прошлом оппозиционеру. Ѕлюмкин нервно собирал бумаги, с которыми намеревалс€ пойти в ÷ , а затем к “рилиссеру и признатьс€ в том, что встречалс€ с “роцким...
Ћиза решила, что раньше всех, еще до того, как Ѕлюмкин пойдет в ÷ , обо всем должен узнать ее непосредственный начальник “рилиссер. ќна позвонила ему и «настучала»...
Ѕлюмкин прин€л окончательное решение — бежать.
ќн упаковал чемодан и отправил его с прислугой в чайную за азанским вокзалом. ѕосле этого, прихватив оружие и портфель с бумагами и деньгами, пошел к художнику –. –. ‘альку. “ам находились жена ‘алька — –аиса »дельсон и ее подруги-художницы. Ѕлюмкин был в крайне возбужденном состо€нии. ќн за€вил женщинам, что недавно приехал из-за границы, что его преследует ќ√ѕ” за св€зь с оппозицией, что «кольцо сужаетс€», и просил »дельсон разрешить ему переночевать у них. роме того, он обратилс€ с просьбой размен€ть ему доллары, достать расписание поездов и какой-либо документ. Ѕлюмкин производил впечатление неуравновешенного, душевнобольного человека. ќн то и дело вынимал и убирал револьвер, говорил, что ему не остаетс€ другого выхода, как застрелитьс€. ∆енщины изр€дно струсили. »дельсон поспешила размен€ть Ѕлюмкину сто долларов на двести советских рублей, а доставать документ отказалась. „то же касаетс€ расписани€ поездов, заметила она, то с ним можно ознакомитьс€ на вокзале.
¬ечером Ѕлюмкин отлучилс€ на некоторое врем€ в парикмахерскую. ќн изменил внешность — подстригс€ и сбрил усы. ¬ернувшись, попросил женщин съездить за чемоданом. ќни тут же отправились к вокзалу и вскоре привезли его вещи. огда он открыл чемодан, все увидели в нем много долларов. Ѕлюмкин стал поспешно рассовывать валюту по карманам. „асть долларов он положил в портфель, в котором, как обнаружилось, были и советские деньги.
огда стемнело, Ѕлюмкин ушел из квартиры ‘алька.
Ќа следующий день на столе начальника секретного отдела ќ√ѕ” я. —. јгранова лежало за€вление Ћ., в котором сообщалось о происшествии на квартире ‘алька. за€влению была приложена и коротенька€ записка »дельсон, а также сто долларов, которые размен€л у нее Ѕлюмкин...
3 но€бр€ на судебном заседании коллегии ќ√ѕ” рассматривалось дело по обвинению гражданина Ѕлюмкина якова √ригорьевича по 58-10 и 58-4 стать€м ”головного кодекса –—‘—–. ягода требовал безусловного расстрела, “рилиссер возражал, ћенжинский — колебалс€. ќдержало верх предложение ягоды.
¬ыписка из протокола заседани€ коллегии ќ√ѕ”: ««а повторную измену делу пролетарской революции и —оветской власти и за измену революционной чекистской армии Ѕлюмкина якова √ригорьевича расстрел€ть. ƒело сдать в архив».
ћетки: ќдесса шпионаж |
≈врейские шпионы: —идней –ейли, он же –елинский, он же –озенблюм из ќдессы... |
ƒневник |
(»з лекций, которые € читал своим студентам)
Ўпионы
» сказал √осподь ћоисею, говор€: ѕошли от себ€ людей, чтобы они высмотрели землю ’анаанскую, которую € даю сынам »зраилевым; по одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. „исла, √л. 13: 2—3.
≈врейские шпионы – мераглим (от регель – нога. ћожно перевести как – ходоки. надеюсь, теперь вам пон€тно, что за ходоки ходили к Ћенину!) – одна из древнейших профессий, известных из Ѕиблии. ак считает один известный историк, самое гениальное изобретение было сделано у стен »ерихо. –азведчики, проникнув в город, не в случайном месте остановились на ночлег - они заночевали у женщины, дом которой находилс€ ¬Ќ”“–» самой крепостной стены. “аким образом они смогли определить параметры стен и комнат внутри них, и затем с помощью акустического резонанса звуками шофаров раскачали, разрушили эти стены.
јналогичные эксперименты в 20 веке делал –оберт ¬уд, раскачав здание на удалении на резонансной частоте.
Ёто была перва€ успешна€ истори€ из военно-промышленного шпионажа (определение тактико-технических данных защитных сооружений).
Ѕыл случай, когда шпионы после посещени€ Ёрец-»сраэль, зан€той в то врем€ ханане€нами несли абсолюьную дезу, навешива€ лапшк на уши доверчивой публике, что кончилось дл€ всех печально. Ёто Ѕыло 9 јва в год выхода из ≈гипта. ¬ результате этой дезинформации завоевание —траны »зраил€ было отложено, как мы знаем на 40 лет. Ќо врегт не дремлет, посему не дремлет и разведка и контрразведка.
Ќе там, где летит эскадрон,
Ќе там, где р€ды штыков,
Ќе там, где снар€дов стон
ѕролетает над цепью стрелков,
Ќе там, где раны страшны,
√де нации смерти ждут,
¬ честной игре войны, –
ћесто шпиона не тут.
–едь€рд иплинг ћарш шпионов
—идней –ейли
"Ќи один другой шпион не обладал такой властью и таким вли€нием, как –ейли", — говорилось в попул€рной книге, посв€щенной истории английской разведки. ќн был мастером покушени€ — по части застрелить, задушить, отравить, и мастером дамского обольщени€. "ƒжеймс Ѕонд" начала века! ≈го русский друг Ѕорис —уварин писал после его гибели: «ќчень замкнутый и неожиданно откровенный. ќчень умный, очень образованный, на вид холодный и необыкновенно увлекающийс€. ƒл€ друзей своих, очень редких, он был своим человеком, закрыва€сь, как ставн€ми, перед посторонними". ќчевидец так описывал его: "Ѕледный, длиннолицый, хмурый человек с высоким покатым лбом и беспокойным взгл€дом. ѕоходка выдавала военного человека". ќн вошел в историю под именем —идней ƒжорж –ейли. ¬прочем, за 51 год жизни у него имелась цела€ коллекци€ имен и фамилий. Ќо сам –ейли никогда не забывал своего насто€щего имени, как и города, в котором по€вилс€ на свет и провел детство и юность.
¬ разное врем€ на прот€жении недолгой, но €ркой жизни нашего геро€ называли по-разному: √еоргий, он же —игизмунд –озенблюм, он же —оломон –озенблюм, он же ѕедро, он же революционер и химик —. Ўтерн, он же «игги –озенблюм, он же —идни –озенблюм, он же јгент ST. 1, он же чекист √еоргий –елинский, он же купец онстантин ѕавлович ћассино, он же торговец Ќиколай Ќиколаевич Ўтейнберг. ѕоследним и самым незатейливым его именем оказалс€... є 73.
ќн стал прототипом главного действующего лица романа ¬ойнич «ќвод». ян ‘леминг признавалс€, что под вли€нием его биографии на свет по€вилс€ непобедимый агент 007 — ƒжеймс Ѕонд. » возможно, что блистательный сын турецко-подданного ќстап Ѕендер почерпнул немало в авантюрной биографии английского шпиона.
—идней ƒжордж –ейли — это им€, по сравнению с другими псевдонимами нашего геро€, в истории употребл€лось гораздо чаще.
ќн по€вилс€ на свет в ќдессе католической семье русских двор€н и по крещении был наречен именем √еоргий. ¬месте со своей старшей сестрой јнной получил неплохое домашнее образование. ≈ще в раннем детстве √еоргий про€вл€л ненасытную жажду знаний и недюжинные способности, особенно в изучении иностранных €зыков. ≈го религиозным воспитанием занималс€ д€д€. 13 годам √eopгий — искусный фехтовальщик. 15-ти —- меткий стрелок из пистолета.
¬ то врем€ он обожал мать и сестру, глубоко чтил отца. ≈го готовили к блест€щей военной карьере. ќднако, взросле€, √еоргий стал приобретать некоторые черты характера, которыми никогда не отличались его родители, например становилс€ упр€мым спорщиком. ¬ спорах он сильно волновалс€ и активно жестикулировал, на что сестра часто замечала ему, что он больше похож на евре€ или италь€нца, чем на русского двор€нина.
огда √еоргию исполнилось 15 лет, мать его серьезно заболела, и из ¬ены был выписан доктор –озенблюм, усили€ми которого она и была спасена. √еоргий подружилс€ с приезжим медиком, часто проводил с ним долгие часы в беседах. ¬идимо под его воздействием он решил поехать в ≈вропу, посмотреть мир.
ѕоначалу родители возражали, но потом уступили, и юноша отправилс€ в ¬ену изучать медицину. ƒоктор –озенблюм порекомендовал ему освоить химию, как наиболее перспективную науку.
ќн начинает интересоватьс€ модными в то врем€ вопросами социального неравенства и постепенно вовлекаетс€ в политическую жизнь, участву€ в заседани€х различного толка полулегальных кружков и тайных обществ.
Ќеожиданно он получает телеграмму из дома: «“€жело заболела мать» и немедленно начинает собиратьс€ в ќдессу, но перед отъездом один из товарищей просит его передать в ќдессе некое срочное письмо. ѕо просьбе друга √еоргий зашивает письмо в подкладку пиджака.
ѕо прибытии на родину √еорги€ сразу же арестовывают. ¬идимо, письмо в подкладке ждал не только адресат, но и тайна€ полици€ ќдессы. „ерез некоторое врем€ по ходатайству семьи его отпускают на свободу. Ќо, пока он находилс€ в заключении, мать умерла...
ƒл€ семьи арест √еорги€ был страшным позором. Ќа похоронах матери один из родственников, увидев √еорги€, в сердцах воскликнул: «„его же еще можно ожидать от жидовского ублюдка! ƒоигралс€, свел мать в могилу!»
“ак перед ним раскрылась тайна, тщательно скрываема€ семьей 19 лет— именно столько исполнилось в ту пору нашему герою.
ќн оказалс€ внебрачным сыном доктора –озенблюма. ¬ тот же вечер он узнал, что зовут его вовсе не √еоргий, а «игмунд. ¬есь мир в одночасье рухнул. ѕрошлое было построено на сплошной лжи. Ћгали мать, которую он боготворил, отец, оказавшийс€ вовсе не отцом, д€д€...
¬ы€снив, что он, который так часто кричал вместе со сверстниками: «Ѕей жидов, спасай –оссию», — оказалс€евреем, да еще незаконнорожденным, «игмунд –озенблюм проклинает и свою семью, и доктора –озенблюма.
√ƒ≈ ∆»Ћ ¬ ќƒ≈——≈
ќн навсегда уходит из дома. ” старьевщика мен€ет свой роскошный костюм на одежду рабочего и с помощью матроса пр€четс€ в трюме на корабле, отплывающем в ёжную јмерику.
“ри года живет «игмунд –озенблюм в Ѕразилии. –аботает докером, рабочим на строительстве дорог, рабочим на плантаци€х, поваром и вышибалой в одном из публичных домов –ио-де-∆анейро. ≈го посто€нно преследуют мысли о том, что он — еврей и незаконнорожденный.
ѕостепенно у него выковываетс€ железный характер. ¬ 1895 году в Ѕразилию приезжает британский офицер дл€ исследовани€ джунглей јмазонки. –озенблюмпод именем ѕедро нанимаетс€ поваром в экспедицию. Ќа экспедицию нападают туземцы. ѕочти все ее участники погибают. ќстаютс€ в живых только ѕедро, храбро отбивавший атаки с помощью своего револьвера, и двое британских офицеров, которых он затем выводит из джунглей. ¬ благодарность за спасение руководитель экспедиции награждает его полутора тыс€чами фунтов стерлингов, помогает с оформлением британского паспорта на им€ –озенблюма и берет с собой в јнглию.
ƒвадцатидвухлетний –озенблюм быстро заводит новых друзей. ќн выдает себ€ за выходца из √ермании, а им€ «игмунд переделывает в —идни. ўедро тратит деньги на портных, обедает в дорогих ресторанах, он частый гость игорных домов, где выигрывает чаще, чем проигрывает. ” него начинаетс€ короткий и бурный роман с проституткой по имени –уби. —идни — элегантный молодой человек с оливковой кожей, иссин€-черными волосами и большими карими глазами — нравитс€ женщинам. Ќо полторы тыс€чи фунтов тают как воск. ¬ это же врем€ у него головокружительный роман с замужней женщиной, начинающей писательницей.
¬любленна€ пара со ста фунтами в кармане прибывает в »талию. ѕосле посещени€ острова Ёльба –озенблюм на всю жизнь становитс€ страстным поклонником Ќаполеона. “ам же в »талии он начинает собирать свою Ќаполеоновскую коллекцию, в которую вход€т предметы наполеоновской эпохи и всевозможные изображени€ самого императора. ѕод вли€нием романтики —редиземного мор€ —идни открыл свою роковую историю любовнице. » она его не отвергла. ¬о ‘лоренции он покидает свою возлюбленную и возвращаетс€ в Ћондон. ј молода€ писательница через год публикует роман, в котором использует факты из его биографии.
Ётель ¬ойнич
„ерез несколько лет романом будет зачитыватьс€ вс€ –осси€, а потом все юношеские поколени€ в ———–. „ерез 60 лет выйдет фильм...
¬от летучие фразы из романа:
- ѕравдивость — главнейша€ из христианских добродетелей!
- Ћица духовного звани€ лишены чувства юмора. ¬ы всЄ принимаете трагически.
- √лавна€ причина всех наших несчастий и ошибок — душевна€ болезнь, именуема€ религией.
- ƒурно то, что одному человеку даетс€ право казнить и миловать. Ќа такой ложной основе нельз€ строить отношени€ между людьми.
- —вою долю работы € выполнил, а смертный приговор — лишь свидетельство того, что она была выполнена добросовестно.
- ¬ наших поступках мы не должны руководствоватьс€ тем, люб€т нас или ненавид€т.
- ћы не имеем права умирать, только потому, что это кажетс€ нам наилучшим выходом.
- ”нци€ свинца — превосходное средство от бессонницы.
-
— ƒаже и две минуты не хочу быть серьЄзным, друг мой. Ќи жизнь, ни смерть не сто€т того.
— ќвод - Ќеужели вам никогда не приходило в голову, что у этого жалкого клоуна есть душа, жива€, борюща€с€ человеческа€ душа, запр€танна€ в это скрюченное тело, душа, котора€ служит ему как рабын€? ¬ы, така€ отзывчива€, жалеете тело в дурацкой одежде с колокольчиками, а подумали ли вы когда-нибудь о несчастной душе, у которой нет даже этих пестрых тр€пок, чтобы прикрыть свою страшную наготу? ѕодумайте, как она дрожит от холода, когда на глазах у всех ее душит стыд, как терзает ее, точно бич, этот смех, как жжет он ее точно раскаленное железо!
- амень, лежащий на дороге, может иметь самые лучшие намерени€, но всЄ-таки его надо убрать…
- Ѕесконтрольна€ власть развращает людей.
-
ћонтанелли повернулс€ к расп€тию:
— √осподи! “ы слышишь?.. - √олос его замер в глубокой тишине. ќтвета не было. «лой демон снова проснулс€ в ќводе:
- — √-громче зовите! ћожет быть, он спит. — аллюзи€ на “ретью книгу ÷арств, главу 18, стих 27
- ћы, атеисты, — гор€чо продолжал он, — считаем, что человек должен нести своЄ брем€, как бы т€жко оно ни было! ≈сли же он упадЄт, тем хуже дл€ него. Ќо христианин скулит и взывает к своему богу, к своим св€тым, а если они не помогают, то даже к врагам, лишь бы найти спину, на которую можно взвалить свою ношу, Ќеужели в вашей библии, в ваших молитвенниках, во всех ваших лицемерных богословских книгах недостаточно вс€ких правил, что вы приходите ко мне и спрашиваете, как вам поступить? ƒа что это! Ќеужели моЄ брем€ так уж легко и мне надо взвалить на плечи и вашу ответственность? ќбратитесь к своему ’ристу. ќн требовал все до последнего кодранта, так следуйте же его примеру! » убьЄте-то вы всего-навсего атеиста, человека, который не выдержал вашей проверки! ј разве такое убийство считаетс€ у вас большим преступлением?
- я атеист. я хочу только, чтобы мен€ оставили в покое.
- — "Ќе мир, но меч..." ак в-видите, компани€ у мен€ хороша€. ¬прочем, € предпочитаю мечу пистолеты.
-
¬идимо, жизнь повсюду одинакова: гр€зь, мерзость, постыдные тайны, тЄмные закоулки. Ќо жизнь есть жизнь, и надо брать от нее все что можно.
— јртур - —амое смертоносное оружие, какое € знаю, — это смех.
- — ƒжемма
- ќвод: ћы с вами расходимс€ во мнени€х относительно того, где корень всех наших бед. ѕо-вашему, он в недооценке человеческой жизни...
- ƒжемма: ¬ернее, в недооценке человеческой личности, котора€ св€щенна.
- — ак вам угодно. ј по-моему, главна€ причина всех наших несчастий и ошибок — душевна€ болезнь, именуема€ религией.
- — ¬ы говорите о какой-нибудь одной религии?
- — ќ нет! ќни отличаютс€ одна от другой лишь внешними симптомами. ј сама болезнь — это религиозна€ направленность ума, это потребность человека создать себе фетиш и обоготворить его, пасть ниц перед кем-нибудь и поклон€тьс€ кому-нибудь.
-
— ака€ вы бледна€! Ёто потому, что вы видите в жизни только еЄ грустную сторону и, как вы€снилось, не любите шоколад.
— ќвод -
—вежие раны дл€ того и существуют. ќт старых мало проку: они будут только ныть, а не жечь вас, как огнем.
— ќвод -
я верил в вас, как в бога. Ќо бог — это глин€ный идол, которого можно разбить молотком, а вы лгали мне всю жизнь.
— ќвод - Ќужно терпение. ¬еликие перевороты не совершаютс€ в один день.
- „ем сложнее задача, тем больше оснований сейчас же приступить к ней.
- ¬идимо, жизнь повсюду одинакова: гр€зь, мерзость, постыдные тайны, тЄмные закоулки. Ќо жизнь есть жизнь - и надо брать от неЄ всЄ, что можно.
- —тыдно злословить о человеке, в гости к которому идЄшь.
-
Ќевеликодушно и нечестно высмеивать умственное убожество человека. Ёто всЄ равно что сме€тьс€ над калекой или...
— ƒжемма -
‘изические изъ€ны ничуть не лучше изъ€нов моральных.
— ќвод - ќгл€дыватьс€ на страшное прошлое бесполезно. Ёто так расшатывает нервы, что начинаешь воображать бог знает что.
- ∆изнь была бы не выносима без ссор. ƒобра€ ссора - соль земли.
-
я не боюсь ада! јд - это детска€ игрушка. ћен€ страшит темнота внутренн€€... там нет ни плача, ни скрежета зубовного, а только тишина... мЄртва€ тишина.
— ќвод -
ј уж если врать, так врать забавно.
— ќвод
—овсем скоро в Ћондоне он наладит св€зь с британской разведкой, его пошлют в –оссию с заданием вы€снить, насколько –осси€ заинтересована в нефт€ных разработках в ѕерсии.
≈го персидские отчеты вполне разумны. –усские разрабатывали нефт€ные залежи в Ѕаку и рассчитывали на справедливую долю в —еверной ѕерсии. роме того, –озенблюм предоставил подробный отчет о строительстве “ранссибирской железной дороги...
¬скоре после возвращени€ он женитс€ на богатой молодой вдове.
ћолодожены приобрели квартиру в престижном ¬естминстере. Ќо главным приобретением за первый год супружества стало новое им€. »м€. которым наш герой вошел в историю. –озенблюм воспользовалс€ вторым именем отца ћаргарет, ирландца, — –ейли.
”же в новом статусе — состо€тельного молодого джентльмена, с новым именем и британской женой — —идней ƒжордж –ейли вновь предлагает свои услуги разведке.
Ќа прот€жении почти дес€ти лет –ейли разъезжает по свету, то выполн€€ задани€ английских спецслужб, то занима€сь бизнесом, отмеча€ выгодные сделки кутежами, карточной игрой, посещением публичных домов.
ѕервое задание, уже будучи –ейли, он выполн€л в √олландии. “ам он выдавал себ€ за немца и наблюдал за тем, как √олланди€ помогает ёжной јфрике. Ўла Ѕурска€ война...
¬ ѕерсию –ейли прибыл в 1901 году под видом главы фирмы, производ€щей лекарства. ≈му вновь, надлежало вы€снить реакцию –оссии на приобретение Ѕританией концессий на добычу нефти. — заданием он справилс€, не забыв и про собственную выгоду. ѕолучил заказы на изготовление лекарств. ¬ “егеране завел нужные знакомства в мисси€х других стран, был прин€т даже ¬еликим ¬изирем...
¬скоре –ейли получил задание отправитьс€ в итай, на полуостров Ћ€одун шпионить за русскими военными базами. ¬ итай супруги –ейли отправились вместе.
¬ Ўанхае он получил скромную должность в русской судоходной компании и был отправлен в качестве заведующего отделением фирмы в ѕорт-јртур. “ам от представителей оружейных фирм, в первую очередь немецких, наблюдавших за установкой –оссией оборонных сооружений, –ейли получал необходимые сведени€. роме того, он подкупил специалиста по морским сооружени€м и через него «одалживал» секретные чертежи. „ертежи переснимал на фотопленку и возвращал...
Ќадвигалась русско-€понска€ война, и –ейли решил воврем€ исчезнуть. ѕо-видимому, успел в ѕорт-јртуре «засветитьс€» и испугалс€ разоблачени€ со стороны русской контрразведки... Ўефу сообщил, что берет отпуск на неопределенный срок.
√од он странствовал по итаю, проникс€ местной философией и религией. Ќекоторое врем€ €кобы провел в монастыре под сенью ¬еликой итайской стены. »з ита€ –ейли вернулс€ в Ћондон буддистом...
ѕока он путешествовал, куда-то исчезла жена ћаргарет со всеми деньгами. ѕришлось срочно задуматьс€ о хлебе насущном и возобновить отношени€ с разведкой. Ўеф послал его в √ерманию шпионить за военными приготовлени€ми. ¬ частности, он должен был раздобыть планы и чертежи завода руппа. ѕоучившись на сварщика, –ейли под видом российского подданного, уроженца –евел€ арла ’ана устроилс€ на завод. –абота€ в ночную смену, выкрал нужные чертежи.
¬ 1910 году в жизни –ейли по€вилось новое увлечение — авиаци€. ќн посещает европейские аэродромы, знакомитс€ с авиаторами. ≈дет в √ерманию во ‘ранкфурт на международную авиавыставку. ¬о ‘ранкфурте он познакомилс€ с английским пилотом, работавшим на британскую разведку. “от посоветовал –ейли вернутьс€ в разведку. –ейли св€залс€ с шефом и получил задание в –оссии. “ут же согласилс€. Ўеф предоставил ему полную свободу действий и независимость от британских представителей в –оссии.
—уть задани€ –ейли не вполне €сна. якобы сбор сведений из российских источников о сухопутных и морских силах √ермании.
—разу же по прибытии в ѕетербург –ейли выступил с инициативой проведени€ некой международной встречи авиаторов, «авианедели». » стал одним из спонсоров акционерного общества « рыль€», созданного Ѕорисом —увориным. ¬месте они и построили первый русский аэродром — «јэродром “оварищества рыль€». 10 июл€ 1911 года были проведены авиагонки — перелет из —анкт-ѕетербурга в ћоскву. »з дес€ти самолетов до цели долетел только один — пилотируемый летчиком ¬асильевым. ѕ€теро летчиков, в том числе знаменитый спортсмен ”точкин, совершили вынужденные посадки из-за поломок. “рое соревнующихс€ погибли, один получил т€желые увечь€... —уворин с –ейли прогорели, но последний тем не менее упрочил свое положение, зав€зал нужные знакомства, св€зи... стати, дружба с —увориным тоже не расстроилась: в 1913 году они совершили вдвоем поездку по ёжной √ермании и ‘ранции. ј до этого —уворин успел побывать у –ей-ли секундантом...
тому времени отыскалась ћаргарет и вернулась к уже забывшему о ней мужу.
–ейли в отча€нии. ќн как раз проворачивает грандиозную аферу с целью женитьс€ на некой замужней особе по имени Ќадина ћассино. ѕроще говор€, пытаетс€ стать двоеженцем.
ѕриближалась больша€ война. Ѕудущим ее участникам нужно было много-много всего: много кораблей, много зерна, много оружи€. Ќа всем этом везде поспевающий –ейли успел погреть руки. —перва он подвизалс€ в «¬осточно-јзиатской компании». Ѕыл завсегдатаем купеческого клуба, где его знали как удачливого дельца без национальности и политических убеждений, как азартного игрока и геро€ амурных похождений.
ћежду делом –ейли узнал, что основные военно-морские заказы –оссии уйдут в √ерманию. √лавным образом, в крупную гамбургскую компанию «Ѕлом & ‘осс». —реди российских фирм, через которые √ермани€ собиралась сотрудничать с –оссией, значилась контора «ћендрохович и Ћюбенский». –ейли был знаком с ћендроховичем, и решил пустить в ход все свои св€зи, дабы «ћендрахович и Ћюбенский» была одобрена российской стороной в качестве основного клиента «Ѕлом & ‘осс». «а услуги –ейли выторговал у ћендраховича 50% от всех прибылей и должность агента, который будет заключать все контракты. “еперь через его руки стали проходить все германские кораблестроительные проекты. ак только –ейли получил должность, он св€залс€ с шефом британской разведки. “еперь јнгли€ будет иметь в своем распор€жении необходимые проекты, чертежи и тому подобное...„ерез одну из при€тельниц –аспутина –ейли добывал также сведени€ политического характера...
— началом войны —идней ƒжордж –ейли поступает на нужбу в оролевские военно-воздушные силы в чине лейтенанта.
¬ €нваре 1918 г. министерство иностранных дел ¬еликобритании, ‘орин-оффис, решило послать в –оссию прожившего там несколько лет молодого дипломата –оберта Ѕрюса Ћоккарта: договариватьс€ с большевиками. Ќо без особых полномочий.
ј спуст€ пару мес€цев, как бы вдогонку Ћоккарту, было решено послать в –оссию лейтенанта —идне€ ƒжорджа –ейли. ѕредставитель большевиков в Ћондоне Ћитвинов выдал ему рекомендательное письмо в ћоскву, поверив проникновенному рассказу лейтенанта королевского воздушного флота и выходца из –оссии о его искреннем интересе к русской революции.

—обира€сь в –оссию в качестве британского агента, –ейли, веро€тно, одновременно выполн€л также различные поручени€ немецкой разведки. ѕоэтому он вроде бы должен был способствовать ограничению вли€ни€ союзников заключению русско-германских экономических соглашений... –е или отплыл на пароходе в ћурманск.
≈сли и было два взаимоисключающих задани€ от двух разведок: продолжение войны и заключение мира, — то это не очень беспокоило –ейли. ќн решил в мутной российской водице выловить собственную выгоду. «нание «страны пребывани€» лучше всех иностранных агентов, посланников и представителей, а также природна€ смекалка способствовали тому, что –ейли первоначально решил делать ставку на большевиков.
ѕервым делом по приезде в ћоскву, а произошло это 7 ма€, –ейли, не зав€зав никаких контактов с Ћоккартом, сразу же €вилс€ в ремль к... Ћенину. Ќо к Ћенину его не пустили. «ато прин€ли €рый германофоб генерал ћихаил ƒмитриевич Ѕонч-Ѕруевич и англофил арахан — заместитель наркоминдел.
»звестно, что уже к июню –ейли имел документы на им€ то ли чекиста, то ли сотрудника уголовного розыска √еорги€ –елинского. ¬озобновил кое-какие старые, еще довоенные св€зи. ¬ основном это были такие же, как и он, люди авантюрного склада. роме того, в арсенале британского агента, как всегда, были женщины. Ќеизменные проститутки... —лужащие совучреждений, среди которых была и секретарь ¬÷» а молоденька€ простушка —таржевска€... ƒогмара √рамматикова — танцовщица ћ’ј“а. “а, в свою очередь, познакомила –ейли еще с несколькими артистками ћ’ј“а, в том числе с ≈лизаветой ќттен.
6 июл€ он под своей фамилией, то есть— –ейли, ни от кого не скрыва€сь, вмесге с Ћоккартом присутствовал на открытии V¬сероссийского съезда —оветов.
ќтсутствие четких директив из Ћондона разв€зывало –ейли руки и позвол€ло использовать ситуацию в своих интepccax. ƒейству€ практически бесконтрольно, он мог любые свои поступки трактовать как совершаемые в интересах любой из сторон: и Ѕритании, и √ермании. „екистам он тоже мог сыграть на руку, так как до середины августа, то есть до начала интервенции «союзников», у тех еще не было никаких конкретных планов, св€занных с внешнеполитическим курсом. » –ейли решает начать свою самую рисковаиную и грандиозную по возможным результатам игру.
Ћоккарт — единственный в –оссии человек, с чьим мнением –ейли об€зан был считатьс€,— находилс€ под сильным вли€нием своей любовницы ћуры. ќна же ћари€ »гнатьевна Ѕенкендорф, в девичестве «акревска€, в будущем — баронесса Ѕудберг.
— ћурой Ћоккарт познакомилс€ в ѕетрограде у британского военно-морского атташе капитана ‘ренсиса јлана роми. рутилась же ћура среди союзников не только удовольстви€ ради. –аботала она тогда €кобы, на германскую разведку...
¬ середине июл€ ћура познакомилась с ѕетерсом, который после истории с левыми эсерами временно замещал ƒзержинского на посту главы ¬„ ...
ј тем временем:
к 1 августа силами чехословацкого корпуса были зан€ты ”фа, ≈катеринбург и —имбирск;
4 августа пришло сообщение о происшедшей 2 августа высадке союзников в јрхангельске;
4 августа англичане зан€ли Ѕаку;
6 августа чехословаки зан€ли азань...
–ейли находит среди большевистской верхушки людей, которых либо подкупом, либо шантажом можно склонить на свою сторону. ¬ыбор пал на ≈каба ѕетерса — тогдашнего главу ¬„ . ¬ јнглии у него осталась семь€ — жена-англичанка и ребенок. роме того, ѕетере — латыш, а у латышей свои интересы, св€занные с независимостью их родины. ѕомимо ѕетерса, –ейли обхаживал кого-то из Ќародного комиссариата по иностранным делам. ¬озможно, замнаркома арахана.
Ќо главной, решающей силой дл€ осуществлени€ задуманного должны были стать латышские воинские части, расквартированные в ћоскве и ѕетрограде — единственна€ боеспособна€ сила большевиков. ¬еро€тно, именно –ейли первому пришла иде€ свергнуть большевиков руками латышей. ¬о вс€ком случае, об этом он сообщил Ћоккарту, о чем тот позднее поведал в своих мемуарах. Ћатышам отводилась главна€ роль по осуществлению антибольшевистского, точнее, антиленинского переворота. ѕо замыслу –ейли, Ћенина и его главных приспешников убивать не об€зательно. ћожно будет ограничитьс€ тем, что, сн€в с них штаны, в неглиже прогнать по московским улицам... —вое место –ейли видел на самой верхушкевласти... “аким образом, лично себе в задуманной операции –ейли отводил, ни много ни мало, роль вожд€ контрреволюции и будущей –оссии...
–ейли обладалуникальной способностью вербовать людей, не раскрыва€ им конечные цели вербовки. (Ќевольно вспоминаетс€. ќстап Ѕендер со своим знаменитым: «я дам вам парабеллум!» стати, о Ѕендере. “огда, в водовороте событий гражданской войны, –ейли запросто мог встретитьс€ с ¬алентином атаевым (ѕетровым) и невзначай обронить фразу: «Ќет, это не –ио-де-∆анейро». ј по прошествии времени атаев мог подарить »льфу сюжет романа.
«анималс€ –ейли и «денежными» делами. ¬ августе передал значительную сумму патриарху “ихону.ƒеньги давал «видным», тем, кто пригодитс€, кто будет нужен потом, после удачного выступлени€... ƒеньги, и немалые, он добывал испытанным способом— с помощью валютно-финансовых афер на «черном рынке»: скупал рубли под вексел€, гарантированные к оплате в Ѕритании и подписанные Ћоккартом... ќсновна€ часть вырученных средств предназначалась латышам.
¬ это врем€ –ейли выступает в трех рол€х. ƒл€ личных информантов он — левантийский грек онстантин ѕавлович ћассино, преследующий свои экономические интересы. ƒл€ чекистов он — чекист √еоргий –елинский, выполн€ющий особо ответственные задани€. ƒл€ представителей Ѕритании он— агент британской разведки ST.1. ƒл€ ѕетерса он — одновременно и чекист –елинский, и лейтенант —идней –ейли. ƒл€ любовниц — в зависимости от обсто€тельств.
финалу тонко разыгранной и –ейли, и ѕетерсом комбинации совершенно невозможно разобратьс€, кто же на кого работал, кто кому подыгрывал, кто кого предал... —обыти€ же развивались следующим образом. 25 августа в помещении московского представительства генерального консула —оединенных Ўтатов јмерики происходит историческое совещание представителей стран јнтанты. Ћоккарт в нем не участвовует. «ато участвует –ейли. ƒипломаты решили, что сразу же после их отъезда оставшиес€ в –оссии агенты, в том числе –ейли, должны прин€ть активное участие в разного рода диверси€х...
¬ечером 25 августа, после совещани€ у американского консула, у ѕетерса по€вилась серьезна€ зацепка против московских представителей стран јнтанты, с помощью которой он мог оправдатьс€ за рискованную операцию ««аговор» перед ƒзержинским и насто€ть на ее продолжении уже под полным контролем „ . “еперь уже ни о каком насто€щем перевороте и ни о каких контактах с «чекистом –елинским» речи быть не могло. » вр€д ли ѕетере стал бы похвал€тьс€ столь сомнительным агентом. “еперь –ейли должен официально стать агентом јнтанты.
¬ ночь на 26 августа ѕетерса разбудил звонок от арахана. ѕетере примчалс€ в его резиденцию, где на него набросилс€ разъ€ренный –ейли, обвин€€ в предательстве, поскольку тот допустил проникновение чекистов в среду заговорщиков.
√рандиозное предпри€тие, им задуманное, лопнуло как мыльный пузырь.
30 августа в 10 часов утра был убит председатель ѕетрофадской „ ”рицкий. огда об убийстве стало известно в ћоскве, в ѕетроград дл€ вы€снени€ обсто€тельств покушени€ был послан председатель ¬„ ƒзержинский.
ѕосле того как 30 же августа во дворе завода ћихельсона по окончании митинга было совершено покушение на Ћенина, началось то, что получило название «красный террор»...
2 сент€бр€ большевики официально объ€вили, что раскрыт заговор. Ћоккарт, французы и –ейли фигурировали в газетных сообщени€х как главные заговорщики. Ћоккарта арестовали на следующий день после выхода газет, да и то только тогда, когда он сам €вилс€ к ѕетерсу на Ћуб€нку хлопотать за арестованную чекистами ћуру. огда Ћоккарта будет решено выпустить и выслать из страны,
–ейли исчез, Ћоккарта выслали, но истори€ с заговором на этом не закончилась. ѕосле целой серии засад и обысков арестовали человек двадцать. Ёто были либо любовницы –ейли, либо вообще случайные люди, либо агенты, работавшие на американского разведчика сенофонта аламатиано, которого тоже арестовали.
¬сего было арестовано восемь любовниц. –азного социального происхождени€ — от артистки до дочери дворника, общими у них были юный возраст, красота и то, что кажда€ считала себ€ женой человека по имени —идней –ейли или онстантин ћассино. ќформл€л ли он со всеми с ними брак, так и осталось неизвестно. ¬ –оссии 18-го года эта процедура не была сложной. ∆енщин посадили всех в одну камеру. ак утверждает один из знакомых Ћоккарта, содержавшийс€ в те же мес€цы в Ѕутырской тюрьме, чтобы поверить в фантастическую мужскую силу —идне€ ƒжорджа –ейли, достаточно было видеть и слышать €ростные сцены ревности вплоть до драк между его восемью женами!..
Ћондон встретил –ейли прохладно. ≈го наградили «¬оенным крестом» — не бог весть какой наградой и повысили в звании. “еперь он был «капитан –ейли», что в 44 года выгл€дело как подачка.
11 но€бр€ закончилась война с √ерманией. „то означало — –ейли перестает быть «двойным» агентом (если он таковым был). “еперь он готов всецело служить только британской короне. » никому больше.
“ем временем –ейли и другого британского разведчика, ’илла, перевод€т из военной разведки в SecretServiceи предоставл€ют им небольшой отпуск. –ейли воспользовалс€ отпуском дл€ очередного романа. — лондонской проституткой по прозвищу «атычка...
¬ середине декабр€ –ейли и ƒжордж ’илл после краткого инструктажа у шефа разведки амминга отбыли на юг –оссии в расположение Ѕелой армии генерала ƒеникина. јгенты выдавали себ€ за английских бизнесменов, нащупывающих возможность торговли с русскими.
ѕобывали и в ќдессе. Ќачалочь сотрудничество рейли с известным террористом —авинковым. –ади —авинкова очутилс€ в ѕольше. ѕомогал чем мог. ”частвовал в одном из рейдов Ѕулак-Ѕа-лаховича в тыл расной јрмии.
ѕосле поражени€ ƒеникина и ¬рангел€ главной задачей –ейли стало проталкивание в европейских политических кругах и среди русской эмиграции идеи, что лучшего вожд€ дл€ борьбы с большевиками, чем —авинков, не было и нет. –ейли носилс€ между ¬аршавой, ѕарижем, ѕрагой и Ћондоном — доказывал, выпрашивал, обещал... “орговал пилюл€ми от облысени€ и от импотенции, изготовленными по его собственному рецепту. «–адикальное средство» (помните »льфа и ѕетрова?!) расходилось. Ќо финансовой проблемы не решало. ќдновременно с торговлей сомнительными препаратами крутил роман с 23-летней французской актрисой. ƒевушка требовала женитьбы. Ќо –ейли подобна€ перспектива не вполне устраивала ввиду наличи€ уже двух жен. јктриса тем временем забеременела. –ейли ничего не оставалось, как заплатить за аборт и ретироватьс€. ѕравда, с Ќадиной, второй женой, удалось развестись. ѕолучив от –ейли на прощание в подарок коллекцию украшений из нефрита, она быстро выскочила замуж за шведа √устава Ќобел€, из того самого «динамитного» семейства...
¬ 1923 году –ейли в третий и последний раз в своей жизни женилс€. Ќа актрисе, звезде оперетты ∆озефине-‘ернанде (она же ѕепита) Ѕобадиль€. ѕо отцу — эквадорианка, по матери — ирландка. ћолода€ женщина была вдовой английского драматурга ’эддока „емберса.
ќдновременно с ѕепитой у –ейли была еще одна невеста — в Ћондоне, у которой он жил во врем€ приездов в јнглию. Ќека€ √раци€ ѕлоуден. Ќо, узнав про ѕепиту, она выгнала жениха...
“ут в одночасье рухнуло все то, на что он делал ставку последние п€ть лет... Ѕольшевики объ€вили о самоубийстве —авинкова.
азалось бы, никаких перспектив у –ейли не осталось. ¬се, чем он мог еще нагадить большевикам, — это предать гласности компрометирующие документы, €кобы добытые из недр советских учреждений. ƒокументы, по большей части, поддельные.... Ќо дл€ –ейли все это было слишком мелко... » тут подвернулс€ «“рест». ќрганизаци€, изобретенна€ чекистами, уже несколько лет дурила голову русской эмиграции и некоторым иностранным разведкам: польской, финской, эстонской... јнгличан «“рест» избегал. ѕоэтому у англичан о «“ресте» было весьма смутное представление.
Ћетом 1925 года чекисты, окрыленные победой над —авинковым, решили покончить с –ейли. ј именно, заманить его на территорию ———–[1]. «“рест» через Ѕойса сделал –ейли предложение посетить ———–. ≈стественно, нелегально. ”спешна€ поездка и возвращение могли снова выдвинуть –ейли на первые роли... » он на предложение мифического «“реста» клюнул. » отправилс€ в ‘инл€ндию. ѕепита осталась ждать мужа в ѕариже. ¬с€ поездка должна была зан€ть не больше недели. ”спех поездки гарантировали одураченные «“рестом» √енерал утепов и его права€ рука ћари€ ¬ладиславовна «ахарченко-Ўульц... –иск казалс€ минимальным. »стори€ с —авинковым ничему не научила.
25 сент€бр€ 1925 года —идней –ейли под именем купца Ќикола€ Ќиколаевича Ўтейнберга в сопровождении финских контрразведчиков и пограничников выехал из ¬ыборга по направлению к финл€ндско-советской границе. ¬ 11 часов вечера подошел к реке, раздел€ющей два государства. –азделс€ до трусов, крикнул: «»ду!» — и ступил в воду. — советской стороны к нему навстречу бросилс€ проводник-пограничник. ѕосадил на плечи и перенес через реку. ≈динственный раз в жизни его действительно носили на руках!..
Ќи в ‘инл€ндии, ни в ѕариже, ни в Ћондоне, ни в каком другом месте за пределами ———– —идне€ ƒжорджа –ейли больше никто не видел.
Ќа Ћуб€нке его продержали мес€ц. ”слови€ содержани€ были хорошими. Ќа допросах –ейли сперва держалс€ стойко и на сотрудничество со следствием не шел. Ќаде-нлс€ на заступничество британских властей. Ќо Ѕритани€ о судьбе своего беспокойного подданного никаких запросов не делала. “о, что он €кобы «убит» на границе, он знал от чекистов... Ќаконец, ему устроили представление с переводом в камеру смертников. » –ейли заговорил.
–ассказал все, что знал о британских спецслужбах. » об активной белой эмиграции все рассказал. √отов был к любым видам сотрудничества. Ќабивал себе цену своими знакомствами. —в€з€ми. ¬озможност€ми... ” чекистов даже по€вилс€ план превратить его в суперагента и как «своего» отпустить на «апад. »ли еще как-нибудь использовать. —тали вывозить на прогулки по городу и за город. ¬ открытом автомобиле. ак недавно вывозили — —авинкова. «ачем-то –ейли нар€жали в форму сотрудники ќ√ѕ”...
√де-то в —окольниках –ейли прикончили... √де-то в самом центре ћосквы его закопали... Ёто произошло в 1927 году.
»стори€ операции “рест http://www.sovsekretno.ru/articles/id/3299/
ћетки: одесса шпионаж |
“абор уходит в разведку |

÷ыганска€ разведка
 ¬ едином мировом пространстве шпионажа в 1997 году был зарегистрирован новый, не имеющий аналогов в мире, субъект. ѕроизошло это на родине ƒракулы, Ќади омэнеч, „аушеску и «—екуритате». Ќова€ спецслужба –умынии получила название —»—–ќћ. Ёту аббревиатуру избрала себе разведка… цыганской диаспоры.
¬ едином мировом пространстве шпионажа в 1997 году был зарегистрирован новый, не имеющий аналогов в мире, субъект. ѕроизошло это на родине ƒракулы, Ќади омэнеч, „аушеску и «—екуритате». Ќова€ спецслужба –умынии получила название —»—–ќћ. Ёту аббревиатуру избрала себе разведка… цыганской диаспоры.
¬ 1997 году в –умынии парти€ цыган и две другие общественные цыганские организации подписали протокол о создании цыганской —лужбы информации и безопасности (—»—–ќћ). ѕредседатель ѕартии цыган и депутат ћэдэлин ¬ойку сказал, что реальное положение цыган неизвестно ни руководител€м государства, ни главным редакторам румынских газет. ѕечать полна тенденциозной информацией о цыганах, котора€ представл€ет их исключительно в мрачном свете. ѕоэтому цыгане должны сами защищать свой имидж, создава€ объективное представление о цыганской жизни.
÷ыган не грабит банки, а лишь временами крадет курицу или поросенка. ¬ойку считает, что —»—–ќћ, сотруднича€ с румынскими спецслужбами, а также с »нтерполом, сможет контролировать очаги потенциальных межэтнических конфликтов, способствовать вы€влению и поимке преступников, обеспечивать социальную интеграцию цыган, а также содействовать вхождению –умынии в международные структуры.
—уд€ по словам цыганского лидера, задача новой структуры прежде всего пропагандистска€. ¬ комментари€х печати, однако, было нетрудно уловить нотки беспокойства относительно того, что новорожденна€ спецслужба будет также информировать цыганских вожаков о ситуации в румынских силовых структурах, что может привести к укреплению так называемой цыганской мафии.
“рудно сказать, чь€ это была инициатива. то автор: цыганские общественные организации или же умело сработал коллектив безработных разведчиков? ¬о вс€ком случае, в результате были образованы центральное управление и шесть территориальных бюро цыганской разведки. ¬ качестве основной цели новой спецслужбы было объ€влено желание «положить конец дискриминации цыган в –умынии». ¬ положении указывалось, что собранна€ службой информаци€ «должна передаватьс€ в государственные органы, правозащитные организации или прессе». — тех пор никто не слышал о результатах де€тельности —»—–ќћ. Ѕыло ли это дит€ мертворожденным или же изначально так хорошо была поставлена конспираци€ в ее работе? Ќадеемс€, что нашей публикацией мы поможем найти ответ на этот вопрос.
–азведывательные способности цыган
¬се знают девиз разведки «ѕознай истину…». » никто не будет спорить, что цыгане всегда претендовали на знание истины, предсказыва€ будущее по руке или на картах. ћеханизмы проникновени€ гадающих в суть того, что должно произойти в будущем, до сих пор считаютс€ нераскрытыми. „то это – умение читать знаки на теле, «третий глаз», контакты с «высшим разумом»? —кептики сомневаютс€. ј разведка использует цыганскую информацию, если она подтверждаетс€ двум€ другими независимыми источниками. Ќо не только эти способности делали цыган хорошими разведчиками. Ќе один раз они доказывали это в бо€х. ¬о времена царской –оссии оседлых цыган приписывали к казачьим станицам и в случае войн мобилизовывали. ¬ «–еестрах всего ¬ойска «апорожского» значатс€ фамилии отличившихс€ в бо€х храбрых пластунов и лазутчиков: ¬аська ÷ыган, ‘едор ÷ыганский, —тепан ÷иганчук, √ерасим ÷иганин, ƒмитрий ÷иганчик, ¬аська ÷иганченко, »ван ÷ыганка и др.
—пецслужбы “ретьего рейха весьма опасались лиц, ведущих цыганский кочевой образ жизни. —трашило проникновение нелегальных разведчиков. «нали, что под этой личиной может легко скрытьс€ шпион врага. ¬сех лиц цыганского происхождени€ немцы регистрировали. ѕеред началом войны куратор —— √иммлер распор€дилс€ депортировать их в лагер€.
÷ыганские разведчики —траны —оветов
Ќаш читатель знаком с цыганскими разведчиками в основном по кино- и телефильмам. ¬спомним неуловимого мстител€, гор€чего, оба€тельного, артистичного, отважного и находчивого яшку-цыгана. ќн посто€нно ходил в разведку, удивл€€ всех своей пронырливостью и умением уходить от погони. Ќе менее €ркий образ цыганского батальонного разведчика и психолога Ѕудула€ мы видели в попул€рнейшем сериале «÷ыган». Ѕудулай стал наиболее €рким воплощением таких качеств разведчика как смелость, преданность, боева€ смекалка, умение ориентироватьс€ в сложной обстановке и мгновенно принимать самосто€тельные и единственно правильные решени€. ќн с легкостью справл€лс€ со своими специфическими и порой деликатными об€занност€ми. ” зрител€ никогда не возникало сомнени€ в том, что он был ас в разведке своего батальона. „тобы лучше пон€ть возможности —»—–ќћ, давайте на минуточку представим себе то, какие задани€ мог бы выполн€ть Ѕудулай, если бы после войны он осталс€ на службе в аппарате нелегальной военной разведки или же оказалс€ в р€дах —»—–ќћ.
10 задач, которые способна решать —»—–ќћ
ѕользу€сь беспреп€тственным передвижением по отработанным дес€тилети€ми (если не столети€ми) маршрутам кочевь€ таборов (излучина ƒуна€, ѕриднестровье, –умыни€, ћолдави€, Ѕалканы), Ѕудулай (а кто его остановит?) с легкостью мог бы осуществл€ть следующие операции:
1. «аброска в страны оппонента и вывод с его территории агентов с использованием легендированного кочевьем перемещени€ через границу.
2. ќсуществление в ходе транзита агентов-маршрутников по заранее намеченным трассам кочевь€ сбора разведывательной информации путем личного наблюдени€, а также использовани€ оперативной техники или своих св€зей.
3. ¬едение визуальной разведки военных и других особо важных объектов (изучение режима охраны, предназначение построек, характер снабженческих перевозок и т.п.).
4. Ќелегальное перемещение оперативно значимых грузов контрабандным путем (использование наработанных технологий переправки оружи€, специзделий, токсичных, био- и радиоактивных компонентов).
5. ќбеспечение конспиративных каналов агентурной св€зи, включа€ участие в тайниковых операци€х (цыганска€ почта), а также содержание мобильных €вок и почтовых адресов.
6. ”становка в районе разведываемых объектов стационарной оперативной техники, ее замена и при необходимости своевременное изъ€тие.
7. –озыск и установка объектов заинтересованности спецслужб.
8. ѕсихологическа€ обработка и вербовка источников информации и спецагентов с использованием механизмов гипнотического посыла, применени€ техники суггестивной лингвистики и актерского мастерства.
9. ѕроведение боевых операций по негласному изъ€тию документов, ценностей, образцов техники и т.п. ќсуществление диверсий, включа€ захват и ликвидацию объектов.
10. ќперативное использование вспомогательных агентов с функци€ми курьеров, «снабженцев», опознавателей, провокаторов, дезинформаторов, участвующих в раздробленных на составл€ющие элементы разведывательных операци€х, когда участников используют «втемную» (т.е. без расшифровки истинных целей и задач конкретных действий).
¬ыводы
Ќа все изложенное выше можно возразить: цыгана же видно за версту. акой из него разведчик? ѕомните историю про негра-нелегала ÷–”, заброшенного в район ћурманска? “ак цыган из —»—–ќћ туда и не пойдет. ќн растворитс€ среди сезонных рабочих в районе ѕриднестровь€, в ћолдавии, в ¬енгрии, на Ѕалканах или на ѕирене€х.
ƒругой вопрос: а кому нужна цыганска€ разведка? ѕростым цыганам —»—–ќћ нужен меньше всего (лишн€€ опасность привлечь к себе внимание полиции, да и выгоды, по сравнению, к примеру, с наркобизнесом, никакой). ÷ыган сам себе разведчик. ј вот преступному миру иметь свою структуру, котора€ легально выходит на правоохранительные органы, весьма полезно. ƒа и «серым» бизнесменам така€ структура может помочь в отмывании денег от незаконных операций. ѕартии новой –умынии также могут быть заинтересованы в возможности иметь свои структуры охраны и осведомлени€. ј про спецслужбы и говорить нечего. —овсем не вредно иметь «на хал€ву» дополнительные источники информации в лице —»—–ќћ и с выгодой дл€ себ€ сдавать в аренду оперативные возможности этой организации заказчикам из ÷–”, ћ»-6 или ћќ——јƒа.
Ќастораживает тот факт, что цыганскую разведку со дн€ ее основани€ никто не видел и ничего о ней не слышал. Ёто свидетельствует лишь о высокой степени конспирации активности этой организации или же об отсутствии какого-либо серьезного интереса к кочующим со стороны правоохранительных органов. ѕоследние не в состо€нии сосредоточитьс€ на объектах, наход€щихс€ на территории оперативного обслуживани€ временно. ј кому отслеживать их де€тельность? ѕо правилам секретных служб, чтобы противосто€ть —»—–ќћ, на всех смежных территори€х должны были бы по€витьс€ соответствующие функциональные подразделени€ контрразведки. Ёто в их об€занности входит отслеживание и пресечение операции цыганской разведки, если така€ имеетс€.
P.S.—овременна€ румынска€ разведка
18 €нвар€ 1990 г. в –умынии создана национальна€ разведка, котора€ стала именоватьс€ —лужбой внешней информации (SEI). 26 марта 1990 г. в –умынии образована национальна€ контрразведка, котора€ стала именоватьс€ –умынской службой информации (SRI).
7 ма€ 1990 г. в –умынии по€вились национальна€ ќхранна€ и караульна€ служба, разведывательный директорат ћ¬ƒ, а также служба разведки и контрразведки министерства обороны. ¬ 1997 г. к списку официальных спецслужб –умынии добавилась еще одна структура, не имеюща€ аналогов в мире, – служба безопасности цыган —»—–ќћ. Ќова€ структура румынских спецслужб не изменила традиционную направленность их работы. ѕостсоветска€ разведка –умынии не отказалась от работы на территории бывшего ———–. ¬ марте 2004 г. в ишиневе на встрече с директором —лужбы внешней разведки –умынии √еорге ‘улгой президент ћолдавии ¬ладимир ¬оронин выступил за более тесное сотрудничество спецслужб ћолдавии, –умынии, –оссии и ”краины.
—ери€ сообщений "разведка и шпионаж":
„асть 1 - –усска€ секс-шпионка јнна „апман ( ущенко)
„асть 2 - расна€ Ўамбала - супердеза большевиков
...
„асть 5 - ∆енска€ разведка: ќб удивительной судьбе ћаргариты онЄнковой
„асть 6 - "»скусство мочить" или итайский генерал - отец информационной войны
„асть 7 - “абор уходит в разведку
„асть 8 - ≈врейские авантюристы: Ћева «адов и другие евреи-махновцы
„асть 9 - Ўпионские страсти
|
ћетки: цыгане шпионаж |
∆енска€ разведка: ќб удивительной судьбе ћаргариты онЄнковой |
Ёто цитата сообщени€ ≈∆»„ ј [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]

Ќаверное, чтобы быть женой такого человека, как —ергей “имофеевич онЄнков - всемирно известный скульптор, надо быть, по крайней мере, интересной личностью. ћаргарита онЄнкова - была не только женой выдающегос€ скульптора, но и любовницей гени€. роме того, глава советской разведки ѕавел —удоплатов называл ћаргариту онЄнкову одним из самых эффективных агентов советских спецслужб. ƒо сих пор личные дела супругов онЄнковых не рассекречены.

—ери€ сообщений "разведка и шпионаж":
„асть 1 - –усска€ секс-шпионка јнна „апман ( ущенко)
„асть 2 - расна€ Ўамбала - супердеза большевиков
„асть 3 - ∆енска€ разведка:ћата ’ари! ѕример удачного пиара разведчицы-неудачницы.
„асть 4 - ∆енска€ разведка: Ћиза «арубина - еврейска€ ћата-’ари
„асть 5 - ∆енска€ разведка: ќб удивительной судьбе ћаргариты онЄнковой
„асть 6 - "»скусство мочить" или итайский генерал - отец информационной войны
„асть 7 - “абор уходит в разведку
„асть 8 - ≈врейские авантюристы: Ћева «адов и другие евреи-махновцы
„асть 9 - Ўпионские страсти
|
ћетки: шпионаж |
∆енска€ разведка: Ћиза «арубина - еврейска€ ћата-’ари |
ƒневник |

≈лизавета «арубина
Elizabeth Zarubina
ƒень рождени€: 31.12.1900 года
ћесто рождени€: –жавенцы, ’отинского уезда Ѕессарабской губернии, –осси€
ƒата смерти: 14.05.1987 года
ћесто смерти: ћосква, –осси€
√ражданство: –осси€
ќригинальное им€: ≈лизавета –озенцвейг
Original name: Elizabeth Rozensweig
¬ советской разведке в довоенные годы и в период ¬торой мировой войны было много евреев. » немало евреек. –асскажем об одной из них, ≈лизавете ёльевне «арубиной. ≈е часто называли советской ћата ’ари. ќднако масштабы и значение их де€тельности несопоставимы. “анцовщица ћата ’ари была по сути р€довой обычной шпионкой. ≈е трагическа€ судьба сыграла большую роль в том, что она стала широко известной. —делала она как разведчица не так уж много. ≈лизавета «арубина по сути руководила целой агентурной сетью, которую создала вместе со своим мужем ¬асилием «арубиным. ¬от что пишет хорошо знавший ее, генерал ѕавел —удоплатов: "ќба€тельна€ и общительна€, она легко устанавливала дружеские св€зи в самых широких кругах. Ёлегантна€ женщина с чертами классической красоты, натура утонченна€, она как магнит прит€гивала к себе людей. Ћиза была одним из самых квалифицированных вербовщиков агентуры". (—м. ѕавел —удоплатов "—пецоперации. Ћуб€нка и ремль 1930-1950 годы", ћ., "ќлма-ѕресс", 1999).
¬ 1966 году в ћоскве издательство "—оветский писатель" выпустило книгу ¬арткеса “евекел€на "–екламное бюро господина очека", в ней описаны реальные событи€, происходившие в √ермании и ‘ранции в 1930-х годах в которые были вовлечены ¬асилий «арубин и его жена ≈лизавета «арубина. Ћюди мужественные и стойкие они были разведчиками. ¬ книге нет погони, стрельбы, похищений, убийств. ∆иво и интересно автор рассказывает о будничной работе разведчиков и €рко показывает, кака€ это т€жела€ и героическа€ работа. нига моментально завоевала огромный успех у читателей.
»горь ƒамаскин - автор многих работ о советских спецслужбах. ¬ его книге "—то великих разведчиков" есть очерк о генерале ¬асилии «арубине. ќднако в нем больше речь идет о его жене ≈лизавете ёльевне. Ёта супружеска€ пара действительно была тандемом великих разведчиков. » важно подчеркнуть - они работали без провалов. » это тоже говорит о мастерстве. ћастерстве разведчиков.
* * *
≈лизавета ёльевна «арубина (√орска€) урожденна€ Ћиза »оэльевна –озенцвейг родилась 31 декабр€ 1900 года в селе –жавенцы ’отинского уезда Ѕессарабской губернии. ≈е отец был арендатором и управл€ющим лесхоза в имении польского помещика √аевского. ¬скоре семь€ переехала в уездный городок ’отин, где она поступила в гимназию, и где родилс€ ее младший брат ћордхэ - впоследствии крупный советский лингвист ¬иктор ёльевич –озенцвейг. ѕосле присоединени€ Ѕессарабии к –умынии семь€ перебралась в „ерновцы, где Ћиза закончила гимназию. ¬ 1920 году она поступила на историко-филологический факультет „ерновицкого университета. «атем продолжила учебу в ѕарижском и ¬енском университетах (1921-1924 гг.). — 1919 года принимала участие в коммунистическом движении. ¬ступила в подпольную комсомольскую организацию Ѕессарабии, а в 1923 году в омпартию јвстрии (партпсевдоним - јнна ƒейч). ѕомимо русского €зыка и идиша хорошо владела немецким, французским, английским и румынским €зыками.
¬ 1924-1925 гг. ≈лизавета работала переводчицей в полпредстве и торгпредстве ———– в ¬ене. ѕолучила советское гражданство. ¬ этот период Ћиза –озенцвейг вышла замуж за румынского коммуниста ¬асили€ —пиру и некоторое врем€ носила его насто€щую фамилию - √утшнекер. “огда же была привлечена к работе в иностранном отделе »Ќќ ќ√ѕ” и с марта 1925 г. по май 1927 состо€ла в негласном штате ¬енской резидентуры ќ√ѕ” в качестве переводчицы и св€зистки ("Ёрна"). ”же в тот период провела р€д ценных вербовок, привлекла к сотрудничеству важные источники информации. ƒл€ выполнени€ специальных заданий ÷ентра выезжала в “урцию. «десь она познакомилась с яковом Ѕлюмкиным и какое-то врем€ они были в близких отношени€х, считалась его гражданской женой. Ќо затем у них произошла ссора, и Ћиза резко порвала с ним. »х роман был очень коротким. Ѕлюмкин, в прошлом левый эсер, был участником убийства в 1918 году немецкого посла ћирбаха. ѕотом стал коммунистом, с 1923 года работал во внешней разведке ќ√ѕ”. ¬ 1928-1929 гг. - резидент на Ѕлижнем ¬остоке. ¬ “урции встречалс€ с “роцким и привез его письма активным участникам оппозиции. Ѕыл арестован и расстрел€н как изменник. —уществует верси€, что ≈лизавета "выт€нула" его в ћоскву и выдала, но она не соответствует действительности.
— феврал€ 1929 года проходила подготовку в ћоскве. ѕолучила документы на им€ ≈лизаветы ёльевны √орской, зачислена в штат »Ќќ на должность помощника уполномоченного «акордонной части. Ѕыла переведена в ¬ ѕ(б) из омпартии јвстрии.
* * *
¬ 1929 году Ћиза вышла замуж за сотрудника »Ќќ ¬асили€ «арубина. ѕройд€ ускоренный курс спецподготовки, в €нваре 1930 года получила назначение на должность оперуполномоченного 7-го отделени€ »Ќќ. (ѕсевдоним "¬ардо"). ѕод видом супружеской пары чехословацких коммерсантов с документами на им€ очек «арубины были направлены дл€ легализации в ƒанию, а оттуда в ѕариж. ¬о ‘ранции, "¬ардо" привлекла к сотрудничеству стенографистку германского посольства, (псевд. "’анум"). «арубины познакомились с немецким журналистом, любовницей которого была эта стенографистка. ќн как-то рассказал, что случайно прочитал на копирке очень важное сообщение посольства в ћ»ƒ √ермании об экономике ‘ранции.
"’анум" брала работу на дом так как в рабочее врем€ не успевала все сделать. ќна жила трудно, так как должна была содержать мать, проживавшую в √ермании. "¬ардо" познакомилась с "’анум" и стала получать от нее информацию, постепенно приуча€ к мысли, что та работает на ћоскву. ¬скоре "¬ардо" за€вила, что устна€ информаци€ ее не устраивает, а нужна документальна€ за которую платить будут больше.
„тобы успокоить "’анум" объ€снила, что то, что она принесет, никогда не попадет в частные руки, и в обезличенном виде будет направл€тьс€ в ћоскву. “ак как "’анум" стенографировала и печатала почти все документы, отправленные из немецкого посольства в Ѕерлин, советска€ разведка оказалась в курсе всей этой переписки. (—м. ».ƒамаскин. "—то великих разведчиков". ћ., "¬ече", 2001). ÷енным источником информации стал живший в ѕариже венгерский журналист "–осс". ќн работал техническим секретарем депутата французского парламента. »м заинтересовалась "¬ардо" и как бы "случайно" оказалась в доме, где он бывал. ѕосле нескольких встреч "–осс" огласилс€ (конечно, не бесплатно) давать информацию о ситуации в парламенте, о положении в √ермании и ¬енгрии. ћногие сообщени€, которые он передавал, ÷ентр оценивал как очень важные.
ќдновременно ¬асилий и ≈лизавета «арубины работали с другими агентами. ¬ частности, с бывшим царским генералом ѕавлом ѕавловичем ƒь€коновым. ќн тесно св€зан был с русской военной эмиграцией, с –ќ¬— - –оссийским общевоинским союзом. —оветское руководство тогда переоценивало возможности этого союза и очень опасалось де€тельности –ќ¬— и его акций против ———–. ¬ этой св€зи информаци€ ƒь€конова высоко ценилась в ћоскве.
Ѕудучи кавалером ордена ѕочетного легиона генерал имел доступ в высшие военные круги ‘ранции. ќн довел до сведени€ 2-го бюро (разведка) √енштаба французской армии подготовленные советской разведкой данные о "п€той колонне" - профашистски настроенных генералах и офицерах, о их св€з€х с “ретьим рейхом. јкци€ прошла успешно и способствовала охлаждению отношений между ‘ранцией и √ерманией.
ѕосле четырех лет пребывани€ в ѕариже «арубины вернулись в ћоскву, но вскоре отправились в новую командировку.
— декабр€ 1933 года «арубины находились на нелегальной работе в √ермании. ¬асилий прибыл туда в качестве резидента-нелегала. –уководима€ «арубиным нелегальна€ резидентура была сформирована в кратчайшие сроки. ¬ нее вошли оперработники, приехавшие в Ѕерлин вслед за резидентом и шесть источников информации из числа местных граждан и иностранцев, прин€тые разведчиками на св€зь.
Ќезнание €зыка стало бы дл€ ¬асили€ «арубина непреодолимой проблемой, если бы не Ћиза. “ам "¬ардо" оказывала помощь мужу и вместе с тем вела самосто€тельное направление. Ѕыл восстановлен контакт с "’анум", котора€ работала теперь в Ѕерлине, в аппарате ћ»ƒ.
ќт легальной резидентуры, разведчица получила дл€ св€зи скромного посыльного ћ»ƒа, но он быстро рос по службе, и вскоре стал важным чиновником внешнеполитического ведомства √ермании. "¬интерфельд", имел доступ к секретной, в том числе шифровальной переписке. Ёто дало возможность раскрыть немецкие шифры и коды. (—м. ј. олпакиди, ƒ.ѕрохоров. "¬нешн€€ разведка –оссии". ћ., "ќлма-ѕресс", 2001).
≈лизавета ёльевна вместе с мужем вела большую работу с завербованным сотрудником полиции, а затем гестапо ¬илли Ћеманом. ќ нем расскажем немного подробнее. Ћюбимым фильмом советских людей был сериал "—емнадцать мгновений весны", любимым героем Ўтирлиц. ј были ли советские разведчики в спецслужбах √ермании - 4-м управлении (гестапо) и 6-м управлении (внешн€€ разведка) √лавного управлени€ имперской безопасности - –—’ј?
Ќе было. ј вот завербованные агенты были. ¬ гестапо советска€ разведка имела своего человека. »м был ¬илли Ћеман.
ќн родилс€ в семье учител€, 12 лет служил в ¬оенно-морском флоте. ¬ 1911 году поступил в берлинскую полицию, где работал в контрразведывательном отделе. «анималс€ наблюдением за иностранными посольствами. ¬ 1929 году предложил свои услуги советской разведке и был привлечен к сотрудничеству на деловой основе, берлинска€ резидентура выплачивала агенту ј-201, "Ѕрайтенбах" около 600 рейхсмарок ежемес€чно. — 1930 года в задачи Ћемана по линии полиции входило наблюдение за советским посольством, а также противодействие советскому экономическому шпионажу. ѕосле прихода нацистов к власти по рекомендации √еринга был переведен на работу в гестапо. ¬ мае 1934 г. Ћеман вступил в ——, 30 июн€ 1934 года как доверенное лицо √еринга принимал участие в операции "Ќочь длинных ножей" по физическому устранению Ё.–ема и верных ему штурмовиков. ¬от такого важного агента получила "¬ардо" и работала с ним до самого отъезда из √ермании в 1937 году.
Ћемана назначили начальником специального подразделени€ осуществл€вшего контроль за посольством ———–. ќдновременно, именно на это подразделение была возложена борьба с коммунистическим шпионажем. ѕо сути именно Ћеману была поручена работа по пресечению де€тельности советской разведки в √ермании.
огда было создано √лавное управление имперской безопасности (–—’ј) в состав его как 4-е управление вошло гестапо. Ћеман часто бывал не только у шефа гестапо ћюллера, но и у √ейдриха - начальника –—’ј. Ќа каждой встрече с "¬ардо" он передавал информацию и, как правило, важную. ¬ 1935 году он был назначен начальником отделени€ ведавшего контрразведкой на предпри€ти€х военной промышленности. Ёто дало ему возможность присутствовать на испытани€х новых образцов вооружени€. Ѕлагодар€ Ћеману, советское руководство, в частности —талин и ¬орошилов, получили подробный доклад о создании немецкой фирмой "’орьх" такой новинки как бронетранспортер, о новых типах дальнобойных орудий и минометов, истребителей и бомбардировщиков с цельнометаллическими фюзел€жами, о закладке 70 подводных лодок и др.
Ћеман (Ѕрайтенбах) регул€рно передавал информацию о внутриполитическом положении в √ермании, ее военных приготовлени€х против соседних стран.
ƒругим ценным источником нелегальной резидентуры, с которым Ћиза «арубина была на св€зи, €вл€лс€ сотрудник германского ћ»ƒ "¬альтер". явл€€сь членом ——, он, тем не менее, критически относилс€ к нацизму, не одобр€л политику √итлера и симпатизировал ———–. ќн регул€рно передавал "¬ардо" документальную информацию, включа€ письма и телеграммы германских послов в других странах, копии записок по различным политическим вопросам, которые готовились дл€ руководителей “ретьего рейха. ¬ дальнейшем, он нар€ду с "Ѕрайтенбахом" стал одним из тех источников, кто информировал берлинскую резидентуру о готов€щемс€ нападении на ———–. ак уже упоминалось выше, ≈лизавета ёльевна по приезде в Ѕерлин восстановила св€зь с "’анум". ќт немки также поступали важные документальные материалы ћ»ƒ √ермании, что позвол€ло не только перепроверить сведени€ "¬альтера", но и получить важную дополнительную информацию.
¬ агентурной сети нелегальной резидентуры в Ѕерлине были лица тесно св€занные с вли€тельными кругами нацистской партии. Ѕлагодар€ этим св€з€м ÷ентр получал ценные сведени€ о текущей де€тельности и планах нацистского руководства, в том числе о тайных внешнеполитических замыслах нацистов. (—м. ¬.јнтонов, ¬. арпов "“айные информаторы ремл€". ћ., "√е€", 2001).
¬ конце 1937 года, в св€зи с бегством в —Ўј резидента Ќ ¬ƒ в »спании ќрлова, хорошо знавшего нелегалов «арубиных по их работе во ‘ранции, они были отозваны в ћоскву и работали в центральном аппарате разведки. ќсенью 1938 года новый руководитель Ќ ¬ƒ Ћ.Ѕери€ начал кардинальную чистку внешней разведки. 1 марта 1939 года ≈лизавета «арубина была уволена из органов Ќ ¬ƒ. ќднако, вскоре, в св€зи с началом ¬торой мировой войны, остро ощущалась потребность в кадрах опытных разведчиков. ≈лизавета ёльевна 19 апрел€ 1940 года была восстановлена на работе в должности оперуполномоченного 5-го отдела Ќ ¬ƒ ———–, «арубину снова направили в √ерманию. ѕеред ней была поставлена задача восстановить утраченную св€зь с некоторыми агентами, важными источниками информации, в частности с "¬интерфельдом". ќна перехватила его 21 июн€ 1941 года на станции метро епениг. ќн дал согласие снова сотрудничать. ќчередна€ встреча была назначена на 22 июн€. ќднако она не состо€лась - все входы и выходы из посольства были перекрыты гестапо.
¬о врем€ этой же последней предвоенной поездки в Ѕерлин. "¬ардо" выполнила еще одно важное поручение ÷ентра - восстановила контакт с јвгустой, женой германского дипломата. — ней св€зана одна из самых романтических историй советской разведки. ≈ще в 1931 году с ней познакомилс€, а потом завербовал советский разведчик ‘едор ѕарпаров. Ќо случилось так, что она в него влюбилась, причем по-насто€щему, глубоко и преданно. ќт нее поступала важна€ документальна€ информаци€, исход€ща€ от ее мужа-дипломата, одного из помощников министра –иббентропа. ќна не скрывала, что ей все равно какой стране передавать информацию - она работала ради любимого человека. ¬ 1938 году ‘едор был отозван в ћоскву и арестован по ложному обвинению, но вскоре его освободили и он продолжал работать в разведке.
"¬ардо" встретилась с јвгустой, передала письмо ‘едора и та продолжала работать. ≈е информаци€ по-прежнему была ценной и интересной. —отрудничество с јвгустой продолжалось до того самого дн€, когда "¬ардо" пришлось покинуть √ерманию.
≈лизавета ёльевна выехала из Ѕерлина 29 июн€ 1941 года вместе с советским посольством. Ќочью 12 окт€бр€ 1941 года, когда немцы подходили к ћоскве, ¬асили€ «арубина срочно вызвали в ремль. ≈го прин€л —талин. ќн сказал разведчику: "” нас с јмерикой не было по существу конфликта интересов. ѕрезидент и народ поддерживают нашу борьбу с фашизмом. Ќо очень важно и необходимо знать об истинных намерени€х американского правительства. ћы хотели бы их видеть нашими союзниками в борьбе с √итлером. ¬аша задача, товарищ «арубин, не только знать о намерени€х американцев, не только отслеживать событи€, но и воздействовать на них. ¬оздействовать через агентуру вли€ни€, через другие возможности".
огда «арубин уже встал, чтобы уходить - беседа была окончена, —талин сказал: "я слышал, что ваша жена хорошо помогает вам. Ѕерегите ее".
„ерез несколько дней «арубины вылетели в —Ўј. ”езжали они в дни, когда враг все ближе и ближе подходил к столице, и казалось, вс€ ћосква ударилась в бегство, повсеместно шла эвакуаци€.
Ќа этот раз у них было дипломатическое прикрытие - ¬асилий получил должность секретар€ посольства. Ћиза в резидентуре отвечала за линию ѕ– - (политическа€ разведка). Ёто трудно себе представить, но у "¬ардо" на св€зи находилось 22 агента, с которыми надо было встречатьс€, соблюда€ строгую конспирацию, получать от них информацию. јнализировать ее, обрабатывать и отправл€ть. ѕриходилось мотатьс€ между ¬ашингтоном, Ќью-…орком и алифорнией, заводить новые знакомства и устанавливать новые св€зи.
"¬ардо" быстро завоевывала доверие и симпатии людей. —вободно могла выдать себ€ за американку, француженку, немку и даже за активистку сионистского движени€. „ерез людей близких к семье "отца американской атомной бомбы" –оберта ќппенгеймера Ћиза вышла на пр€мой контакт с ним.
¬асилий «арубин и его жена много работали с суперагентом яковом √олосом, ("«вук"). Ёто был уникальный человек, о котором они сами говорили - он знает все и всех и может все. ќн доставал бланки паспортов, свидетельства о натурализации, свидетельства о рождении - в общем, все, что требовалось резидентуре. ѕривлек к работе в разведке около 20 человек, в том числе "Ѕрайена" - сотрудника одного из ключевых министерств, "ќлфсена", дававшего информацию по вопросам вооружени€, "–онда", занимавшего ответственный пост в правительственных структурах.
„ерез того же "«вука" и его людей, через агентуру и заведенные ранее св€зи, в том числе в еврейских кругах, удалось оказывать вли€ние на многих авторитетных де€телей в американском правительстве, в том числе в окружении президента в пользу —оветского —оюза.
«арубины работали много и крайне напр€женно. „асто возникали ситуации, когда сутками приходилось не спать. ¬ 1942-1943 гг. на первый план стали выходить вопросы, св€занные с атомной проблемой. «арубин и "¬ардо" установили важные св€зи в научных кругах, о контактах с ќппенгеймером мы уже упоминали. ”становили св€зь с некоторыми другими учеными-атомщиками -—цилардом и √амовым. Ќужны были новые подходы, новые люди, знакомые с проблемой. ќднако им не удалось поработать на новом направлении в полную силу с присущей обоим энергией. ¬ 1944 году «арубиных неожиданно вызвали в ћоскву. ќни тер€лись в догадках. ¬ы€снилось, их вызвали дл€ проверки. —отрудник резидентуры ћиронов написал на им€ —талина донос, в котором обвинил ¬асили€ и ≈лизавету в сотрудничестве со спецслужбами —Ўј. ѕроверка продолжалась полгода. ќбвинени€ были отклонены. ¬ы€снилось, что доносчик шизофреник и его поместили в психбольницу. —удебно-медицинска€ экспертиза признала ћиронова невмен€емым.
«арубин получил новую ответственную должность - заместител€ начальника внешней разведки. ¬ 1945 году получил звание генерал-майора. ≈лизавета ёльевна тоже работала в центральном аппарате разведки - заместителем начальника, а с лета 1946 года начальником отделени€ 8-го отдела (информслужба по американскому направлению) ѕервого √лавного управлени€ ћ√Ѕ ———–.
¬ сент€бре 1946 года уволена из ћ√Ѕ "за невозможностью дальнейшего использовани€" с постановкой на общевоинский учет.
ѕосле смерти —талина по ходатайству генерала —удоплатова была восстановлена в органах и прин€та на работу в возглавл€емый им 9-й (разведывательно-диверсионный) отдел ћ¬ƒ ———–. ѕосле ареста —удоплатова по делу Ѕерии в августе 1953 года окончательно уволена. (—м. ¬.јбрамов "≈вреи в √Ѕ...". ћ., "Ёксмо", 2005).
ѕроживала в ћоскве. ¬асилий ћихайлович «арубин скончалс€ в 1972 году. ≈лизавета ёльевна пережила его на 15 лет. 4 ма€ 1987 года трагически погибла, попав под автобус.
* * *
ƒо сих пор российска€ разведка не рассекретила подлинное служебное досье ≈лизаветы «арубиной, столь масштабной была ее де€тельность на поле тайных операций спецслужб. ¬ музее —лужбы внешней разведки –оссии - —¬– ей посв€щена отдельна€ экспозици€. ќднако многие детали ее биографии остаютс€ тайной.
≈женедельник "—екрет"
—ери€ сообщений "разведка и шпионаж":
„асть 1 - –усска€ секс-шпионка јнна „апман ( ущенко)
„асть 2 - расна€ Ўамбала - супердеза большевиков
„асть 3 - ∆енска€ разведка:ћата ’ари! ѕример удачного пиара разведчицы-неудачницы.
„асть 4 - ∆енска€ разведка: Ћиза «арубина - еврейска€ ћата-’ари
„асть 5 - ∆енска€ разведка: ќб удивительной судьбе ћаргариты онЄнковой
„асть 6 - "»скусство мочить" или итайский генерал - отец информационной войны
„асть 7 - “абор уходит в разведку
„асть 8 - ≈врейские авантюристы: Ћева «адов и другие евреи-махновцы
„асть 9 - Ўпионские страсти
ћетки: женщины шпионаж |
∆енска€ разведка:ћата ’ари! ѕример удачного пиара разведчицы-неудачницы. |
Ёто цитата сообщени€ ¬ечерком [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
15 окт€бр€ была казнена ћата ’ари, окруженна€ ореолом таинственности шпионка и куртизанка. Ёта женщина стала легендой еще при жизни: среди историков нет единого мнени€ о том, была ли ее де€тельность в качестве агента следствием нравственной слабости и цинизма или же верхом мастерства актрисы, способной использовать ситуацию в своих цел€х. Ѕездарна€ танцовщица, но талантлива€ шпионка обладала незаур€дной внешностью и легким нравом, но счасть€ ей это не принесло: она сама придумала миф о себе, и в итоге это сыграло с ней злую шутку. «я ни о чем не жалею. ћо€ жизнь ове€на самыми неверо€тными легендами, и часто даже € сама не умею отличить правду от вымысла. ћне вдоволь досталось и слез, и боли, и несчастий. Ќо € познала, что такое власть женщины над мужчинами — над теми, кто вершит судьбы целых народов».

—ери€ сообщений "разведка и шпионаж":
„асть 1 - –усска€ секс-шпионка јнна „апман ( ущенко)
„асть 2 - расна€ Ўамбала - супердеза большевиков
„асть 3 - ∆енска€ разведка:ћата ’ари! ѕример удачного пиара разведчицы-неудачницы.
„асть 4 - ∆енска€ разведка: Ћиза «арубина - еврейска€ ћата-’ари
„асть 5 - ∆енска€ разведка: ќб удивительной судьбе ћаргариты онЄнковой
...
„асть 7 - “абор уходит в разведку
„асть 8 - ≈врейские авантюристы: Ћева «адов и другие евреи-махновцы
„асть 9 - Ўпионские страсти
|
ћетки: шпионаж женщины |
–усска€ секс-шпионка јнна „апман ( ущенко) |
Ёто цитата сообщени€ –ыцарь_Ћюбви [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
јнна „апман: –усска€ секс-шпионка

"–усска€ шпионка" јнна „апман умела танцевать стриптиз, не носила трусов, была бесподобна в постели и имела IQ 162 балла, рассказывают знакомые с ней люди. ƒевушка не расставалась с п€тью мобильными телефонами и не любила фотографироватьс€. “еперь ее снимками пугают морскую пехоту —Ўј…
ѕомните эту девушку? >>>
—ери€ сообщений "разведка и шпионаж":
„асть 1 - –усска€ секс-шпионка јнна „апман ( ущенко)
„асть 2 - расна€ Ўамбала - супердеза большевиков
„асть 3 - ∆енска€ разведка:ћата ’ари! ѕример удачного пиара разведчицы-неудачницы.
...
„асть 7 - “абор уходит в разведку
„асть 8 - ≈врейские авантюристы: Ћева «адов и другие евреи-махновцы
„асть 9 - Ўпионские страсти
ћетки: шпионаж –осси€ |
| —траницы: | [1] |