-ћетки
-–убрики
- дети (44)
- семь€ (28)
- размышлизмы (26)
- здоровье (25)
- политика (18)
- творчество (16)
- ѕравославие (15)
- рецепты (11)
- музыка (5)
- юмор (4)
- путешестви€ (3)
- ѕсихологи€ (0)
-ћузыка
- јгни ѕарфене
- —лушали: 4373 омментарии: 5
- Ѕелый острог (Two Siberians) - Lake Baikal
- —лушали: 541 омментарии: 6
- ¬еличит душа мо€ √оспода, песнопени€ ќптиной ѕустыни
- —лушали: 86 омментарии: 3
- вангелис
- —лушали: 1199 омментарии: 4
-Ѕитвы

я голосовал за Caa

Marilyna_Manson 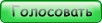
|

Caa 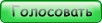
|
ѕрикиньте, еще есть много других битв, но вы можете создать свою и доказать всем, что вы круче!
-я - фотограф
- нигоман
-ѕодписка по e-mail
-ѕоиск по дневнику
-»нтересы
-ѕосто€нные читатели
-—ообщества
-—татистика
«аписи с меткой православие
(и еще 123914 запис€м на сайте сопоставлена така€ метка)
ƒругие метки пользовател€ ↓
ангарск байкал великий новгород видео воспитание впечатлени€ дети дом жизнь здоровье зима игры интересное интернет искусство истори€ кино красота кулинари€ лето личное любовь музыка народна€ медицина народные средства настроение новости образование общество питание погода поделки политика пост православие праздники природа психологи€ путешестви€ размышлизмы рождество росси€ семь€ сибирь творчество фото фотографии фотографи€ христианство юмор
улыбайтесь, господа, улыбайтесь... |
ƒневник |
„то-то € приболела и расхандрилась. Ќастроение под стать погоде-сырой и серой. ƒл€ подн€ти€ настроени€ и просто дл€ улыбки вс€к сюда заход€щего:
¬ воскресной школе: ...и вот когда јвраам занЄс свой нож над »сааком, ангел схватил его за руку и, закричал! Ќе убивай его, а убей вон того - козла, что в кустах запуталс€...
”чительница истории:
- то вз€л Ѕастилию? »ванов!
- я не брал...
- —идоров!
- ј что сразу —идоров...
”чительница истории директору школы:
- Ётот »ванов...
- ј что?
- Ќе знает, кто вз€л Ѕастилию.
- Ќе переживайте - поиграютс€ и отдадут.
¬о врем€ причасти€ в храм зашли две девицы. ”видев очередь к причастию, пристроились в конец, и по примеру других сложили руки крестообразно. –аботница храма подошла к ним и спросила: «¬ы исповедовались?» - «Ќет» - «“огда вам причащатьс€ нельз€» - «» здесь блат!», - возмутились девицы и демонстративно вышли из храма.
—тарушка учит молодых людей, подошедших к иконе √еорги€ ѕобедоносца, где он изображен восседающим на коне: «ѕрикладыватьс€ нужно к хвостику».
- Ѕатюшка у мен€ дар открылс€. ¬идени€ чужих прегрешений.
- Ѕлагословл€ю закрыть.
ѕоймал как-то √ерасим золотую рыбку.
» по€вилось у него… три коровы.
омандир вызывает солдата:
— ѕетренко, ты веришь в загробную жизнь?
— Ќикак нет.
— “огда иди на ѕѕ. “ам к тебе д€д€ приехал, у которого ты две недели назад на похоронах был.
» ты, Ѕрут?
- » €, ÷езарь.
- Ќе ожидал, Ѕрут...
- —юрприз, ÷езарь!
* нига лучший двигатель прогреса... ¬ топку ее, в топку.
* »звилины не видны, но когда их нет, это заметно!
* Ќет ничего глупее желани€ быть умнее всех.
* “ам где начинаетс€ свобода слова - заканчиваетс€ свобода мысли.
* я не тормоз, € просто плавно мыслю!
* —ловесный понос соответствует умственному запору.
* „ем многограннее личность, тем ближе она к круглому идиоту.
* Ќасто€тель это всего лишь соответствующее выражение лица.
* ѕока красота спасет мир - уроды ее погуб€т.
* то рано встает - тот всех достает.
* “акой € человек - зла не помню! ѕриходитс€ записывать.
* ≈сли бы не приход, у насто€тел€ не было бы никаких проблем.
* ѕрава насто€тел€ - это об€занности диакона.
* —кажи мне что € неправ, и € скажу кто ты.
* Ќаш приход погр€з в чистоте и уюте.
* ”никальна€ коллекци€ камней за пазухой.
* ¬сех поувольн€л. “еперь сам начальник - сам и дурак.
* „его у мен€ только нет, о.насто€тель. » этого нет и того нет.
* ≈сли вас наказали ни за что - радуйтесь, что вы ни в чем не виноваты.
* я бы лучше сделал, но мне помогали. /ƒиакон/.
* ƒеньги хорошо дел€тс€ только на один.
* „еловек - единственное живое существо, с которого можно содрать несколько шкур.
* ћо€ совесть чиста - € ею не пользуюсь.
* ƒобро никогда не остаетс€ безнаказанным.
* ƒиакон, расслабьс€. Cтресса хватит на всех.
* я ему работу дал, а он еще и деньги просит.
* ’ороша€ проповедь должна быть краткой. ѕлоха€ - еще короче.
* Ћибо се л€ ви, либо се л€ вас.
* Ќарод почувствовал облегчение в своих карманах.
* —кажи, что ты думаешь обо мне, и € подумаю о тебе еще хуже.
* Ћучше всего сохран€ютс€ испорченные отношени€.
* Ќепри€тности приход€т и уход€т, а насто€тель остаетс€.
ѕравославный храм. Ћитурги€. „тение јпостола. ƒиакон, еврей, забыл какое послание нужно читать.
—в€щенник из алтар€ подсказывает: "к вам", име€ в виду евре€м.
ƒиакон: (громко)" вам послание св€того апостола ѕавла чтение"
Ћекци€ по истории –ѕ÷, о.ј: "ах, да, ещЄ »ван √розный благочестиво заехал в ѕсково-ѕечерскую Ћавру и отрубил голову прп. орнилию..."
Ќезваный гость хуже алтарника...
|
ћетки: юмор православие |
ѕравославие и юмор |
Ёто цитата сообщени€ Pavel_Kitoy [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
Ќа вопрос: " акую заповедь Ѕог дал первым люд€м" - семинарист отвечает: "ѕлодитесь и размножайтесь в поте лица своего"
Ёто из записок, надо издавать отдельным сборником:
протоевре€ (им€рек)
новорпредставленного
усохшего
утопшего
за упокой всех сродников и моего озлобленного директора.
благодарственный молебен јнгелу - —пасителю
о здравии кандидата в депутаты г. ј, (им€рек)
за здравие всех сродников и всех врагов видимых и невидимых
молебен просительный
—еминарское меню: "студенец истлени€" или "картошка в подр€сниках"
ј на причастии? "ѕодход€ к чаше крестообразно открывайте уста", или "к чаше подходите крестообразно"...
Ќа уроке о. —ерги€ –ассказовского.
"Ќу что такое футбол... ƒвадцать дураков гон€ют... воздух!.. в кожаной оболочке!!! » ещЄ 30 миллионов на это смотр€т
ѕожила€ монахин€ јнтонина (÷арствие ей Ќебесное) на 6-ом часе вместо: Ђ кто есть человек, бо€йс€ √оспода Еї, то есть, бо€щийс€ √оспода, читала, с чувством, с выражением: Ђ то есть человек? Ѕойс€ √оспода!!!ї
Ѕатюшка с матушкой вдвоем в храме. Ћитурги€. ћатушка выходит читать јпостол. Ѕатюшка: Ђћир ти, матушка!ї ќтвет: Ђ» духови твоему, батюшка!ї
ак-то дети (подростки) после службы рассуждали о кладбище, так тепло по-христиански обсуждали, кто какую хочет могилку. ¬олод€ (17 лет) изрек: Ђ ј € хочу, чтобы у мен€ все было дерев€нное: гроб, крест, оградкаЕ ƒерево, ведь, и дл€ здоровь€ полезно!ї
ƒиалог между батюшкой и матушкой. ћатушка: ЂЅатюшка, как благословишь: так или так (вопрос)?ї Ѕатюшка: Ђ—ейчас, с матушкой посоветуюсь и благословлюЕ ћатушка, как ты думаешь: так или так (вопрос)?їЕ
—егодн€ отец диакон вернулс€ с отпевани€ и рассказывает: Ђѕовернулс€, сказать обычное до свидани€, но подумал, вдруг не так поймут (мол, до скорой встречи), молча развернулс€, ушелЕї
—еминарист долго готовил первую проповедь, но вышел и все забыл. —казал: ЂЅрать€! —пасайс€, кто может!ї
ќ сокращенном отпевании: человек был неплохой Ц со св€тыми упокой.
ѕожелание к ѕразднику: ÷арства Ќебесного и успехов на мытарствах.
»гумен Ќикон (Ћысенко) венчает пару (оба воспитанники: семинарист и регентша). ¬енчание проходило в храме при —ѕб.ƒји—.
¬се идет по чину. ќбручение прошло без казусов, но вот на венчании батюшка отличилс€.
—просил жениха: Ђ»маши ли »оанн произволение благое и непринужденное, и крепкую мысль, по€ти себе в жену сию ћарию, юже зде пред собою видиши?ї
жених отвечает: Ђимам, честный отчеї
батюшка, помедлив, изрекает: Ђƒуни и плюни на нееї
все выпали в осадок.
Ќа помазание к архимандиру ћакарию (¬еретенникову) подходит женщина в годах, складывает руки на груди крестообразно, как дл€ ѕричасти€, и говорит: Ђ–аба Ѕожи€ ћарь€ »ваннаї. ќн, помазыва€ еЄ чело крестообразно, произносит: Ђјрхимандрит ћакарийї.
ќтец —офроний плохо видит. »еромонах ‘еодосий плохо слышит. —ид€т они в алтаре перед службой. ¬друг заходит иеромонах »ннокентий (ѕавлов). ќтец —офроний показывает на себ€: Ђ—лепой есть!ї, показывает на о.‘еодоси€: Ђ√лухой есть!ї и указыва€ на пришедшего о.»ннокенти€: Ђ¬от и расслабленный €вилс€!ї.
»дет чередное богослужение в академическом храме. ћолодой диакон »ван ѕ. Ќе воврем€ возглашает: ѕремудрость!
ѕреподаватель богослужебной практики отец —офроний ему в тон : ѕредурость !
—в€щенник и диакон на череде пошли на вход, а ÷арские врата открыть забыли. ¬ышли на солею и думают, что делать дальше. ќтец —офроний: ЂЌу что, перелезать будете?ї
јбсолютно православный анекдот.
ќдин инок жарил на свечке €йцо, и это обнаружил игумен. ќн начал укор€ть инока:" как же ты мог? "“от говорит: " мен€ враг научил." » тут из угла кельи доноситс€ голос: "врет! € и сам такое впервые вижу"
|
ћетки: православие юмор |
ѕостное православие |
Ёто цитата сообщени€ dmpershin [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
¬ университетской столовой светска€ дама:
- ѕри€тного аппетита!
ћимикрирующий под светского православный доцент:
- Ќевидимо предстоит!
√еркулесовые хлопь€ - двухлитрова€ банка
окосова€ стружка - 2 стакана (ст.)
—емечки подсолнуха - 1 ст.
унжут - 1 ст.
√рецкие орехи - 1 ст.
«ародыши пшеницы - 1 ст.
ќливковое масло - 1 ст.
√речишный мЄд - 1 ст.
ƒва последних ингредиента смешать, залить ими смесь, перемешать и запечь в духовке при t 150 в течении 45 минут. ¬ажно не пересушить.
–езультат поварских усилий заливают кип€тком или соком. Ќикакое мюсли не сравнитьс€, а стоит дешевле. ћожно брать на работу.
Ќашу кафедру за уши было не оторвать.
–ецепт и само блюдо привезла из анады сотрудница нашей кафедры. “еперь € всем его рекламирую.
¬аш иеромонах ƒимитрий (ѕершин).
|
ћетки: православие дом |
" –ј—Ќџ… јЌ“»’–»—“" » ѕј“–»ј–’ —≈–√»… (—“–ј√ќ–ќƒ— »…): Ё‘‘≈ “ яѕќЌ— ќ… ћјЎ»Ќџ ¬–≈ћ≈Ќ» |
Ёто цитата сообщени€ dmpershin [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
8 сент€бр€ 1943 года в ћоскве —обор епископов ѕравославной ÷еркви избрал ƒвенадцатым ¬сероссийским ѕатриархом митрополита —ерги€ (—трагородского) и образовал при нем —в€щенный —инод. — тех пор прошло уже 65 лет, однако вокруг его имени и поныне идут споры. ѕрин€в на себ€ крест служени€ первоиерарха в т€желейшие дл€ –усской ÷еркви 1920-1930-е годы, он ценой р€да компромиссов добилс€ легализации церковной организации в советском государстве. » хот€ не все поддерживали эту позицию ло€льности и даже подчинени€ советской власти, тем не менее, многие клирики избежали расстрела благодар€ тонкой и продуманной политике «аместител€ ѕатриаршего ћестоблюстител€. Ќазовем здесь лишь им€ преподобноисповедника —ерги€ (—еребр€нского) Ч духовника преподобномученицы великой кн€гини ≈лисаветы ‘еодоровны; вот как он сам рассказывал об этом: Уя был приговорен к расстрелу. я сидел в камере с приговоренными, из нас ежедневно брали определенное количество, и мы их больше не видели. ќ, это была т€жела€ ночь, когда € ждал следующего дн€ Ч дн€ моей смерти! Ќо тут патриарший местоблюститель владыка —ергий подписал бумагу, в которой говорилось, что по законам советской власти ÷ерковь преследованию не подвергаетс€. Ёто спасло мне жизнь, расстрелы были заменены ссылкойФ . “акова была цена слов и поступков первоиерарха гонимой ÷еркви.
“ак что не правы критики, упрекающие митрополита в бессмысленности публичной дезинформации: дескать, все равно он никому не помог и никого не спас, а белоснежные церковные ризы зал€пал ложью. ћы видим обратное: помог, спас и в любом случае пытатьс€ стоило.
Ќо вот что странно: почему в то врем€, как часть духовенства в апокалиптическом ужасе разрывала все отношени€ с безбожной властью и уходила в катакомбы (Ђиосифл€нский расколї), а друга€ часть, напротив, вполне осознанно, решив, что сопротивление бесполезно, под руководством ќ√ѕ”, а затем и Ќ ¬ƒ, разваливала канонический строй и саму церковную организацию (Ђобновленчествої), столь спокойными, обдуманными и взвешенными были решени€ и действи€ митрополита —ерги€, оказавшегос€ в тот период де-факто возглавителем –усской ÷еркви? ќткуда вз€лась у него эта убежденность в необходимости любыми средствами легализовать церковную жизнь, наладить выпуск журнала ћосковской ѕатриархии, сохранить систему церковного образовани€? ѕочему он официально за€вл€л, что Ђгонени€ на религию в ———– никогда не было и нетї и что советское правительство репрессирует св€щеннослужителей Ђотнюдь не за их религиозные убеждени€ї, а за Ђразные противоправные де€ни€ї , Ч вызвол€€ оных из расстрельных камер, Ч и в то же врем€ втайне организовывал Ђутечкуї на «апад своих Ђпам€тных записокї палачам Ђо нуждах ÷еркви в ———–ї, где всЄ называлось своими именами? Ќаконец, почему он не верил в наступивший конец света, в красного антихриста и в окончательный крах –оссии без монарха и господствующего православи€?
ќ неапокалиптичности его воззрений можно судить по его беседе с ленинградскими Ђиосифл€намиї, ими же и записанной:
Ч Ќу, а чего же тут особенного, что мы поминаем власть? Ч сказал митрополит —ергий.Ч –аз мы еЄ признаем, мы за нее и молимс€. ћолились же за цар€, за Ќерона и других?
Ч ј за антихриста можно молитьс€? Ч спросили мы.
Ч Ќет, нельз€.
Ч ј ¬ы ручаетесь, что это не антихристова власть?
Ч –учаюсь. јнтихрист должен быть три с половиной года, а тут уже дес€ть лет прошло.
Ч ј дух-то ведь антихристов: не исповедующий ’риста в плоти пришедшего.
Ч Ётот дух всегда был со времени ’риста до наших дней. акой же это антихрист, € его не узнаю!
Ч ѕростите, ¬ладыко, ¬ы его не узнаете, Ч так может сказать только старец. ј так как Ђестьї возможность, т.е. что это антихрист, то мы и не молимс€ .
»стори€ подтвердила правоту ¬ладыки, но похоже, что ответом, по крайней мере, на часть поставленных вопросов было не старчество, на которое он никогда и не претендовал, а эффект своеобразной машины времени, в которой он оказалс€ в далеких 1890-х годах во времена своего миссионерства в японии под руководством равноапостольного архиепископа Ќикола€ ( асаткина) (1890Ч1893 и 1897Ч1899 гг) и служени€ в јфинах насто€телем посольской церкви (1894Ч1896 гг) . Ёффект машины времени заключалс€ в том, что будущему ѕатриарху довелось пожить и потрудитьс€ в услови€х, приближенных к советским, за два дес€тилети€ до наступлени€ в –оссии эры воинствующего атеизма.
языческа€ япони€ была враждебно настроена по отношению к сопредельной –оссийской империи и с большим подозрением относилась к агентам ее вли€ни€ Ч русским миссионерам; отсюда повышенный интерес к ним €понской полиции и реальна€ угроза тюрьмы. ¬от почему, с одной стороны, в японии не было и не могло быть никакой государственной поддержки, не говор€ уже о христианской монархии и государственном статусе православи€, Ч христиан в лучшем случае терпели, Ч, а с другой стороны, миссионеры должны были проповедовать на чужом €зыке, восхвал€ть доблесть €понского императора-€зычника и достоинства €зыческой культуры, отказатьс€ от традиционных форм русского благочести€, например, от недельных постов-говений перед причащением в пользу более частого литургического общени€ со ’ристом, Ч и тем не менее, €понска€ мисси€ имела успех, €понцы приходили к вере, крестились сами и приводили детей, принимали св€щенный сан, ÷ерковь жила, а врем€ Ч врем€ постепенно делало свое дело, стереотипы рушились, несмотр€ на подготовку к войне, власти все более благосклонно относились к де€тельности русского архиепископа и его помощников, высокопоставленные чиновники под вли€нием жен-христианок сами становились христианами. ѕравославна€ ÷ерковь могла обходитьс€ без государственной опЄки, жить и развиватьс€ в услови€х чуждой культуры, враждебной идеологии и скрытых гонений. ѕривычной дл€ –оссии жесткой сцепки между миссией ÷еркви и православной государственностью в японии не наблюдалось. ÷ерковь жила собой и из себ€, во ’ристе, »м и ради Ќего.
» в то же врем€ именно в японии можно было познакомитьс€ с тем, во что превращаетс€ церковна€ жизнь, ушедша€ в глубокие катакомбы: после того, как в XVI веке первые португальские и испанские миссионеры-католики обратили к христианской вере несколько сотен тыс€ч человек, она в 1611-1614 гг. была запрещена указами сЄгуна “окугавы »э€су, миссионеры изгнаны (в 1624-м году Ч португальцы, а в 1639-м году Ч испанцы), а местные христиане жестоко репрессированы; в итоге к середине XIX века, когда легальные христианские миссии были возобновлены, христианство там выродилось в тайную секту, полностью утратившую нормальную богослужебную жизнь и лишь отчасти сохранившую рудименты веры и практики. јрхимандрит —ергий (—трагородский) писал об этом так: ЂЅыли у них и молитвенные собрани€ в наиболее скрытых местах. ”чить их, конечно, было некому: первые христиане окрещены были, по обыкновению, поспешно и без подробного обучени€, а св€щенников не было. Ќо все они понимали завет своих отцов и хранили веру, хот€ и знали ее крайне плохо, с трудом отлича€ Ѕогоматерь от ваннон. »коны открыто держать нельз€ было: их заделывали в штукатурку стены и на эту стену молились. »ногда христианские изображени€ делались на манер буддийских. Ќапример, в €понском буддизме богин€ ваннон иногда изображаетс€ в виде женщины с ребенком на руках. Ќигде, кроме японии, такого изображени€ нет, но и в японии происхождение его загадочно. Ќекоторые и думают, что это на самом деле есть изображение Ѕогоматери, бывшее в ходу среди тайных христиан, а потом перешедшее к €зычникам. “акой способ изображени€ имел свою очень дурную сторону: дети и внуки тайных христиан, не знавшие учени€, мало-помалу и на самом деле отождествл€ли Ѕогоматерь с ваннон, а —пасител€ Ч с Ѕуддой, и, ревниво хран€ тайную веру и иконы своих отцов, они вполне искренне ходили молитьс€ в буддийские храмы, где сто€ли такие же ваннон и Ѕудды, только несколько иначе изображенныеї . Ѕыть может, из этой перспективы станет пон€тнее курс митрополита —ерги€ на легализацию церковной жизни в ———–; он слишком хорошо знал, что всЄ, что уходит в подполье, уже к следующему поколению деградирует и маргинализируетс€. »стори€ российских Ђкатакомбниковї доказала этот тезис: во второй половине XX века те из них, кто не воссоединилс€ с ћосковской ѕатриархией, растворились в малочисленных сектах, характеризуемых низким уровнем богословской грамотности, суевери€ми и антисоветской апокалиптикой. “акого будущего дл€ ÷еркви митрополит —ергий не хотел.
ќ том, чего стоила архиепископу Ќиколаю ( асаткину) церковна€ легальность в японии, можно судить по его проповеди: Ђ ончилась служба, ¬ладыка, по-€понски, но на этот раз сто€, так как никто не садилс€ на пол, сказал поучение, конечно, самое простое, какое только могли пон€ть эти просто верующие души. ”беждал их нерушимо хранить веру, соблюдать ’ристов закон также неуклонно, как они делали это и доселе, что радует всех верующих в японии; говорил им о посто€нной молитве к нашему Ќевидимому, но посто€нно вид€щему нас нашему Ќебесному ќтцу. ѕросил молитьс€ о нас, о церкви, быть благодарными €понскому императору и правительству, которые так о них пекутс€, молитьс€ за них, особенно о том, чтобы √осподь и их скорее просветил светом истиныЕї
„тобы по€снить, как именно €понские власти пеклись о тамошних христианах, приведу еще одно наблюдение архимандрита —ерги€: ЂЕправительство заставл€ет учителей воздерживатьс€ от вс€кого намЄка на религию, даже у себ€ на квартире (если она тут же, в здании школы) запрещаетс€ иметь икону и пр. Ёто, однако, не мешает учител€м-фанатикам ругать в классе христианство, распростран€ть среди детей самые нелепые басни о нЄмї . ¬от кому, по мысли св€тител€ Ќикола€ японского, следовало быть благодарными €понским христианам просто за то, что им позвол€ют жить и дышатьЕ ј позднее, когда началась русско-€понска€ война, св€титель благословил всю свою €понскую паству молитьс€ о победе €понского оружи€, сам при этом келейно мол€сь о победе русского. Ќу чем не позици€ ѕослани€ (ƒекларации) 1927-го года, обозначившего цель Ч Ђзаконное и мирное существованиеї ÷еркви в ———– Ч и цену: Ђмы хотим быть православными и в то же врем€ сознавать —оветский —оюз нашей гражданской родиной, радости и успехи которой Ч наши радости и успехи, а неудачи Ч наши неудачиї?..
ѕосле канонизации архиепископа Ќикола€ японского трудно не согласитьс€ с тем, что у компромиссов митрополита —ерги€ были св€тоотеческие прецеденты. стати говор€, патриарх “ихон, который первым стал налаживать отношени€ с большевиками, также прошел школу церковной дипломатии во врем€ своего миссионерского служени€ в јмерике, где ему приходилось договариватьс€ с власт€ми, далекими от православи€. “ак что едва ли митрополит —ергий лукавил, начав Ђƒекларациюї с того, что Ђодною из забот почившего —в€тейшего ќтца нашего ѕатриарха “ихона пред его кончиной было поставить нашу ѕравославную –усскую ÷ерковь в правильные отношени€ к —оветскому ѕравительствуї.
ј о том, как выживали христиане под игом ќсманской империи и на какие компромиссы шли с султанами константинопольские патриархи, архимандрит —ергий не мог не узнать за врем€ своего пребывани€ в јфинах. Ѕудучи насто€телем посольского храма, он не мог не молитьс€ у мощей св€шенномученика константинопольского патриарха √ригори€ V, в 1871 году перевезенных в јфины из ќдессы.
≈го истори€ такова. 3 марта 1821 года султан поставил √ригори€ V перед выбором: либо он самой жуткой анафемой отлучит от ÷еркви вождей и участников греческого восстани€, либо в онстантинополе будут вырезаны все греки-христиане как потенциальные бунтовщики. “от выполнил приказ: 11 марта, в воскресенье, после Ѕожественной литургии в патриаршем храме была оглашена специальна€ грамота, отлучавша€ от ÷еркви јлександра »псиланти, молдавского господар€ ћиха€ —уцу и всех их сообщников; аналогична€ грамота по ходатайству ѕорты была издана от лица патриарха и —инода перед иностранными посольствами в онстантинополе и распространена в ћолдавии и ¬алахии. ѕоскольку анафема не возымела действи€ на повстанцев, сразу после пасхальной литургии 1921 года патриарха √ригори€ V низложили и повесили.
—итуаци€, в которой оказалс€ константинопольский св€щенномученик, была идентична той, в которой впоследствии пришлось принимать решени€ митрополиту —ергию. „тобы приостановить маховик советской карательной машины, перемалывавшей судьбы российского духовенства и мир€н, он исключил из состава клира, подведомственного ћосковской ѕатриархии, тех представителей зарубежного эмигрантского духовенства, кто не намеревалс€, по формулировке Ђƒекларацииї, Ђдать письменное об€зательство в полной ло€льности к —оветскому ѕравительству во всей своей общественной де€тельностиї. ѕричем, это исключение отнюдь не было анафемой: оно оставл€ло эмигрантам свободу без каких-либо канонических преп€тствий продолжить свое церковное служение в рамках иных, непатриархийных юрисдикций, что они и сделали. Ќо в то врем€ как св€щенномученик √ригорий V, уберегший греческую диаспору от турецкого геноцида, €вл€етс€ национальным героем √реции, в ѕатриарха —ерги€ и поныне лет€т камни поборников бескомпромиссности...
«арубежные служени€ архимандрита —ерги€ (—трагородского) не только дали ему уникальный опыт выживани€ ÷еркви во враждебной среде, но и поставили перед необходимостью избавл€тьс€ от завезенных из –оссии собственных внутренних стереотипов, в частности, от традиционных представлений о нормах литургического благочести€. ¬ японии он описывал это так: Ђ¬оскресенье. ќ. Ќиколай служил обедницу, а € говорил проповедь на дневное ≈вангелие (»н 3:13Ч18) Уќ ’ристе Ч едином нашем —пасителе и »сцелителе от всех у€звлений диавола (между прочим, о необходимости причащени€)ї. Ќароду было столько же, что и вчера, только лица все новые: вчерашние, должно быть, домовничали. ћежду прочим, была одна христианка ћари€, котора€ украдкой от мужа убежала в церковь. ћуж ее Ч человек состо€тельный и даже образованный, но до крайности не люб€щий христианства и потому вс€чески преп€тствующий своей жене быть христианкой. ќна, однако, до сих пор выдерживает его нападени€ и от веры не отрекаетс€. ѕоддерживают ее и христианки, посещают, приглашают к себе в дом, этим обходным путем попадает она и в церковь: и в этот раз отпросилась у мужа с одной христианкой. ≈й хотелось исповедоватьс€ и причаститьс€, но ко всенощной сегодн€ прийти она не могла, муж не отпустит завтра к обедне. ƒелать нечего, пришлось ее освободить от всенощной: лучше причаститьс€ хот€ бы и без всенощной, чем совсем остатьс€ без причасти€. ѕритом еще неизвестно будет ли она в состо€нии причаститьс€ в следующий приезд о. Ќикола€. ƒл€ русских покажетс€, может быть, очень необычным такое причастие без приготовлени€, но не везде можно требовать всего, здесь в японии вообще нет обыча€ говеть, т. е., ходить ко всем церковным службам неделю или около того, да и службы ежедневной нигде нет. ѕричащаютс€, когда приедет св€щенник, и все говение ограничиваетс€ только всенощной накануне причасти€ї . “ем самым опыт €понской миссии помог архимандриту —ергию различить главное и второстепенное в тех предани€х, которыми живет ÷ерковь. √лавное Ч это ’ристос; всЄ остальное лишь ведет к Ќему.
’ристоцентричность и сотериологичность Ч вот основные векторы мировоззрени€ патриарха —ерги€ (—трагородского), которые он пронесет сквозь всю свою жизнь; именно они, в частности, дали ему впоследствии возможность в бытность викарным епископом ямбургским найти точки соприкосновени€ с думающей русской интеллигенцией во врем€ знаменитых –елигиозно-философских собраний (1901 Ч 1903 годов). ѕод его председательством в них участвовали публицисты и литераторы, профессора ƒуховной академии и духовенство.
ќдним из тех, кого потр€сла богословска€ корректность, и что не менее важно, человечность и тактичность —ерги€, был критик Ђцерковного христианстваї ¬асилий ¬асильевич –озанов. огда т€жело заболела втора€ жена –озанова ¬арвара ƒмитриевна именно Ђцерковное христианствої отозвалось участием и сочувствием. –озанов оценил эту поддержку: Ђ„его: √ермоген, требовавший летом отлучить мен€, в но€бре-декабре дважды просилс€ со мной увидетьс€. ≈пископ —ергий (‘инл€ндский), знавший ... о "всем моем возмутительном образе мыслей" Ч тем не менее, когда "друг" [втора€ жена ¬. –озанова] лежал в ≈вангелической (лютеранской) больнице после 3-ей операции, приехал посетить ее, и приехал по заботе митрополита јнтони€, вовсе ни разу ее не видавшего, и который и мен€-то раза 2-3 видел, без вс€ких интимных бесед. » везде Ч деликатность, везде Ч тонкость: после такой моей страшной вражды к ним и совершенно непереносимых обвинений. [...] » € бросилс€ (1911 г., конец) к ÷еркви: одно в мире теплое, последнее теплое на землеї .
Ќе стоит забывать и о том, что, став в 1911 году членом —в€тейшего —инода, архиепископ —ергий в разное врем€ руководил важными синодальными учреждени€ми миссионерской направленности: ѕредседатель ќсобого совещани€ по вопросам внутренней и внешней миссии, ѕредседатель —овещани€ по исправлению церковно-богослужебных книг. ¬ 1912 году следует его назначение ѕредседателем ѕредсоборного —овещани€, а в 1913 году он возглавил ”чебный комитет. „то касаетс€ богослужебных книг, то и в наши дни мы используем в храмах правленные под руководством архиепископа —ерги€ ÷ветную и ѕостную “риоди.
Ѕезусловно, он не был застрахован от ошибок Ч достаточно вспомнить его совместный с архиепископом Ќижегородским ≈вдокимом (ћещерским) и архиепископом остромским —ерафимом (ћещер€ковым) меморандум 1922 года о признании обновленческого ¬ысшего ÷ерковного ”правлени€, в чем он впоследствии, в августе 1923 года, принес пока€ние перед ѕатриархом “ихоном. Ќо даже сами эти ошибки показательны: они предполагали позитивную программу действий; авторы документа объ€сн€ли его создание как Ђединственную возможность встать во главе обновленческого движени€ и вернуть его в патриаршее руслої .
“ем самым во многих событи€х его жизни, в том, чем он занималс€ и как он это делал, прослеживаетс€ четка€ внутренн€€ система приоритетов, обща€ миссионерска€ мотиваци€, своего рода стратеги€. Ќо откуда эта позици€ и эти подходы?
» здесь мы переходим к еще одному сюжету из жизни патриарха —ерги€ Ч к его богословию. Ќасколько можно судить, оно легло в основу как его миссионерства, так и его архипастырства, дав ему вневременную опору во всех политических и церковных коллизи€х его времени.
—ама€ таинственна€ весть Ѕиблии Ч это весть о √олгофе. ћессианскую сердцевину ¬етхого «авета образуют загадочные слова пророка »сайи о том, что Умы исцелились ранамиФ “ого, на ого У√осподь возложил грехи всех насФ (»с 53:5-6). ¬ Ќовом «авете к этому пророчеству обращаютс€ апостолы, в частности, ѕетр, писавший первохристианским общинам, что ’ристос Угрехи наши —ам вознес телом —воим на древо, [...] ранами ≈го вы исцелилисьФ (1 ѕет 2:24).
¬опрос о смысле рестной ∆ертвы Ч это не только вопрос о Ѕоге: то же “от, то Утак возлюбил мир, что отдал —ына —воего ≈динородногоФ (»н 3:16)?
Ќо это и вопрос о человеке. У„то есть человек, что “ы помнишь его, и сын человеческий, что “ы посещаешь его?Ф, Ч вопрошал Ѕога еще псалмопевец ƒавид (ѕс 8:5).
—огласно ≈вангелию ’ристос был ответом на эти вопрошани€.
„еловек спасен Ч вот €дро христианской керигмы. ќсмысление этого событи€ образует сотериологию (учение о спасении). “о, как Ѕог спасает человека от смерти, есть объективна€ сотериологи€. “о, как человек воспринимает действие Ѕога, есть субъективна€ сотериологи€.
ак это ни парадоксально, вплоть до конца XIX века в –оссии данный аспект православного вероучени€ практически не был разработан как богословска€ дисциплина. ќдной из первых и наиболее серьезных попыток рассмотреть сотериологию как центр христианского мировоззрени€ стала магистерска€ диссертаци€ архимандрита —ерги€ (—трагородского) Уѕравославное учение о спасенииФ, вышедша€ отдельной книгой в 1895 г. и выдержавша€ затем четыре переиздани€. ¬ ней автор анализировал субъективную сотериологию в контексте сравнительного богослови€ и вы€вл€л ее содержание внутри православной традиции. ≈ще раз сотериологическа€ проблематика была подн€та митрополитом —ергием в 1935 г. в полемике с протоиереем —ергием Ѕулгаковым, котора€ велась уже с позиций объективной сотериологии. роме того, о спасении он писал в стать€х, посв€щенных экклезиологии. Ќо что же побудило его обратитьс€ к этой теме в 1890 году?
ѕрежде всего, веро€тно, душевный склад. ѕо выражению современников, еще до пострига »ван —трагородский был монахом в миру Уот младых ногтейФ . ѕоэтому дл€ него вопрос о личном спасении был не Утеоретической задачейФ, но Увопросом самоопределени€Ф . Ќеслучайно, к теме личного спасени€ он обращаетс€ в своей кандидатской диссертации (1890), работа над которой предвар€ла его постриг, а затем развивает ее в магистерской диссертации (1895).
роме того, в 1890 г. —ергий (—трагородский) готовилс€ стать миссионером в японии. Ќе исключено, что именно миссионерска€ потребность в нескольких словах выразить суть христианства оказалась исходным стимулом к своеобразной феноменологической редукции христианства.
ќтметим также, что конец прошлого века Ч это врем€, когда наиболее чутка€ часть ÷еркви осознает актуальность и миссии внутренней. ¬роде бы всем известные пон€ти€ христианства в силу своей привычности превратились в иероглифы, которые приходилось вновь расшифровывать.
»звестна€ открытость епископа —ерги€ к метафизическим поискам русской интеллигенции позвол€ет отнести его к этой пле€де Увнутренних миссионеровФ, которым были не чужды судьбы русской культуры. ј одной из ключевых тем последней была тема человека и его призвани€.
Ќаконец, еще одна возможна€ причина в том, что после чаадаевских УѕисемФ и всей развернувшейс€ вокруг них дискуссии специфика ѕравослави€ стала проблемой не только религиозного, но и национального самосознани€. ¬ы€вить характерные черты православного мировоззрени€ и сопоставить его с западными модел€ми христианства означало подвести религиозно-философский базис под духовную самобытность –оссии.
”же к середине XIX века стало очевидно, что едва ли возможно преодолеть западное вли€ние на догматическое сознание –усской ÷еркви, исход€ из богословских оснований западного христианства. ѕротоиерей √еоргий ‘лоровский отмечал: У началу 90-х годов потребность в новом богословском синтезе становилась все более чувствительной. Ђ—холастическоеї богословие давно уже не удовлетвор€ло, Ђисторическийї метод не давал именно синтеза, не давал системы. » выхода у нас стали искать в нравственном раскрытии догматовФ .
Ќеобходимо отметить, что попытка выработать новый Ч не схоластический, но и не историко-начетнический Ч €зык православного богослови€ была предприн€та еще ј.—. ’ом€ковым. Уѕравда ваша: надобно спешить, а не то отцы напутают. ћакарий провон€л схоластикой. ќна во всем сказываетс€ [...] —тыдно будет, если иностранцы примут такую жалкую дребедень за выражение нашего православного богослови€, хот€ бы даже в нынешнем его состо€нииФ, Ч писал ј.—. ’ом€ков в письме к ј.Ќ. ѕопову от 22 окт€бр€ 1848 г. по поводу публикации своей первой собственно догматической работы "÷ерковь одна" . ¬ ней ’ом€ков предлагает нравственное прочтение христологии, экклезиологии и антропологии, ставшее парадигмой русской религиозной мысли на последующие дес€тилети€.
Ќа это указывал, в частности, св€щенник ѕавел ‘лоренский, писавший в 1916 г., что Увсе свежее в богословии, так или иначе, преломл€ет хом€ковские идеиФ . » подтверждением тому, по мнению о. ѕавла, были имена митрополита јнтони€ (¬адковского), архиепископов јнтони€ (’раповицкого) и —ерги€ (—трагородского) Ч Уимена, ставшие лозунгами обширных течений русской богословской мыслиФ .
¬ своей магистерской диссертации архимандрит —ергий подхватывает и развивает основную интуицию ’ом€кова о УвнешнемФ и УвнутреннемФ понимании спасени€ в западных конфесси€х и в ѕравославной ÷еркви. ѕредвар€€ проблематику персонализма, он отмечает в западном христианстве стремление объективировать сокровенный процесс духовной жизни.
ѕодобно анту, архимандрит —ергий исходит из того, что нравственность не может быть обусловлена выгодой или пользой. »наче она перестает быть нравственностью. Ќо в отличии от анта, он восполн€ет чистый альтруизм деонтологии радостью богообщени€. „еловек может совершать добро, не рассчитыва€ на какие-либо посюсторонние блага или на блаженство за гробом, что, согласно анту, лишало бы его поступок нравственного измерени€, но при этом в его сердце происходит приращение любви. Ќетварна€, не из этого мира идуща€ радость входит в его жизнь. Ѕескорыстно соверша€ добро, человек измен€ет модус своего существовани€. ќбраща€сь таким образом к Ѕогу, он, даже и не подозрева€ об этом, открывает двери своего сердца дл€ ответного действи€ благодати. (Ћитературным примером такого нежданного счасть€, обрушившегос€ на обычного человека, может служить восклицание геро€ рассказа ¬асили€ Ўукшина Ујлеша ЅесконвойныйФ: У акой желанный покой на душе! √осподи! –еб€тишки не болеют, ни с кем не ругалс€, даже денег взаймы вз€ли...Ф. ѕокой на душе, если денег вз€ли...)
Ќо любовь начинаетс€ с жертвы. „еловек перестает ставить себ€ в центр мироздани€ и собственна€ польза или выгода больше не €вл€ютс€ дл€ него высшей ценностью. Ќа €зыке христианской этики это означает, что Ууничтожение греховной самостиФ открывает перед человеком возможность Увозлюбить Ѕога и ближнегоФ . Ќо любовь к Ѕогу не бывает безответной. ќсвободившись от себ€ самого, человек обнаруживает, что УдоброделаниеФ ради ’риста уже здесь озар€ет его жизнь счастьем. ѕоэтому с одной стороны, У’ристову учению свойственно [...] бескорыстие и даже высша€ свобода от вс€кой посторонней примеси, от всего, что может нарушить чистоту нравственных побужденийФ , с другой, Ч Ув сознании ÷еркви православной [...] пон€ти€ добра и блаженства всегда имели внутреннюю сообразность и родствоФ . ќтсюда пон€тно, почему блаженство, понимаемое как то состо€ние, которое христианин может достичь лишь за чертой смерти, начинаетс€ уже здесь: Уздешнее, земное есть корень, зерно, из которого естественно развиваетс€ небесноеФ . —огласно св€тому »оанну Ѕогослову, Ч пишет архимандрит —ергий, Ч Увечна€ жизнь вечна [...] не своею временною бесконечностью, а своим внутренним богатством, и потому не зависит от условий пространства и времени" .
“ак вот, если православному сознанию присуща иде€ тождества Ублага и нравственного добра, спасени€ и нравственного совершенстваФ , то на «ападе единство и целостность духовного возрастани€ распадаетс€ на р€д обособленных моментов, св€занных между собой лишь внешними юридическими отношени€ми.
ѕричина этого разномысли€ Ч в правовых основани€х западной цивилизации. ј корень правовых отношений Ч в эгоизме (себ€любии). „еловек очерчивает круг своего суверенитета и свои отношени€ с окружающим миром строит по принципу эквивалентных затрат. јрхимандрит —ергий отмечал, что Управовой союз в основе своей имеет себ€любивое желание собственного благополучи€ и выражаетс€ во взаимном самоограничении нескольких себ€любий, чтобы каждому из них в наибольшей мере благоденствоватьФ . ¬ результате Ужизнь человеческа€ иногда представл€етс€ каким-то механическим сцеплением разных подвигов и заслуг, из которых кажда€ ждет себе награды и делаетс€ только дл€ последнейФ . ќднако на «ападе понимание взаимных об€зательств переноситс€ и в сферу религии. „еловек совершает нужное количество правильных действий и за это Ѕог об€зан гарантировать ему спасение. ѕри этом как поступки, так и спасение понимаютс€ как об€зательства.
Уѕриложима ли эта мерка к отношени€м Ѕога и человека?Ф, Ц спрашивает архимандрит —ергий. » приводит подборку цитат, доказывающих ничтожество человека перед “ворцом. ƒействительно, правовой союз предполагает симметрию Уво взаимном самоограничении нескольких самолюбийФ. аждое себ€любие Ужелает собственного благополучи€Ф и ради этого идет на компромисс. Ќо чем человек может принести пользу Ѕогу? ƒл€ этого надо ответить на вопрос, что есть человек перед Ѕогом. јрхимандрит —ергий становитс€ здесь на позиции антропологического минимализма, в уничижительных образах которого и в библейской, и в св€тоотеческой мысли по€сн€етс€ пропасть между тварью и “ворцом. „еловек несравним с Ѕогом. ј стало быть, он не может заключить с Ќим УдоговорФ: “ворец не нуждаетс€ в его трудах. “аким образом, Уна основании —в€щенного ѕисани€ и ѕредани€, Ч замечает архимандрит —ергий, Ч правовые отношени€ между Ѕогом и человеком невозможныФ . Ќо и с правовой точки зрени€, непон€тно Узачем √осподь, вседовольный и всесовершенный, нисходит до союза с человеком, с этим червем, пеплом, с этим сонным видением и теньюФ и т.д.?, Ц ссылаетс€ архимандрит —ергий на преподобного ≈фрема —ирина . ѕо слову блаженного јвгустина, должное Ѕогопочитание Уполезно человеку, а не ЅогуФ .
ќднако здесь возникает вопрос, только ли пользой может отозватьс€ в Ѕоге Ухорошее поведениеФ человека? Ќа это вполне справедливо указывал критик Уѕравославного учени€ о спасенииФ, архиепископ —ерафим (—оболев), отмечавший, что ссылка архимандрита —ерги€ на слова ≈лифаза не корректна (»ов 22:2Ц3). »менно за свою уверенность в том, что Ѕог безучастен к человеку (У„то за удовольствие ¬седержителю, что ты праведен?Ф, Ч искушал ≈лифаз »ова) ≈лифаз и был осужден . јрхиепископ —ерафим справедливо утверждает, что Ѕогу не безразлична наша вечна€ участь. Ѕолее того, Ѕог радуетс€ о нашем спасении. ¬ Ќовом «авете ’ристос говорит об этом в —воих притчах (о пропавшей овце, о блудном сыне, о женщине, потер€вшей и нашедшей драхму) .
ѕодробный критический анализ юридического механизма спасени€ уже не раз предпринималс€ в православной апологетике. ¬опрос в том, почему именно юридическа€ модель возобладала над всеми остальными? јрхимандрит —ергий предлагает два ответа на этот вопрос. ѕервый ответ Ч культурологический. ¬ отличии от ’ом€кова архимандрит —ергий не считает юридизм следствием отпадени€ –има от ¬селенской ÷еркви. — его точки зрени€, юридизм был изначально заложен в ментальность «апада. ѕравова€ парадигма римской цивилизации сформировала все своеобразие христианской традиции «апада. ¬торой ответ более интересен; он даетс€ на €зыке аскетики: полага€ Увысшее благо в самоуслажденииФ, человек Устрашитс€ добродетелиФ и Уотношение между добродетелью и вечной жизнью такой человек легче всего и пон€тнее всего думает выразить подобием труда и награды, подвига и венцаФ . —ама по себе эта форма уподоблени€ не ошибочна, однако она не способна выразить таинство спасени€. » если в первые века Упламенна€ ревность христианФ покрывала все недостатки юридической теории, то впоследствии, Укогда мирской дух проник в церковьФ, она провоцировала христиан стремитьс€ не к тому, чтобы Усовершеннее исполнить волю ЅожиюФ, а наоборот, к тому, чтобы Уисполнить эту волю поудобнее, с меньшими утратами дл€ этого мираФ . ѕо метком слову ’ом€кова, Укак у протестанта, так и у латин€н, на дне души всегда шевелитс€ вопрос: чем выслуживает человек свое спасение?Ф
“ак, непрестанное живое общение с Ѕогом, к которому призван каждый христианин, в католичестве подмен€етс€ УконтрактнойФ системой отношений, в которой человек берет на себ€ об€зательство совершить р€д определенных поступков, а Ѕог, в —вою очередь, гарантирует ему безбедное существование после смерти. —пасение перестает быть органичным процессом, превраща€сь в набор внешних действий. ќтсюда пон€тно, почему, перевыполнив свою УнормуФ, христианин может поделитьс€ избытком добрых дел с теми, кому их не достает. ј распредел€ет сверхдолжные заслуги римский первосв€щенник (за определенную мзду в пользу католической ÷еркви). ¬ таком, несколько окарикатуренном виде, предстает католическа€ традици€ XIX века на страницах книг јлексе€ ’ом€кова и —ерги€ (—трагородского). ак отмечал ’ом€ков, на «ападе Уместо веры в органическое единство ÷еркви заступила жива€ теори€ земной дипломатии, распространенна€ на мир невидимыйФ . “рагеди€ в том, что Унесмотр€ на предполагаемые внешние сношени€ с невидимым миром, внутреннее одиночество латин€нина по отношению к этому миру остаетс€ во всей своей очевидности, а одиночество его в отношении к его брать€м в земном мире выступает даже решительнее, чем у протестантовФ . Ќо, Ч замечает архимандрит —ергий, Ч ведь Усеб€любие и есть одиночество по существуФ . ѕричем, это одиночество не только в социальном плане, это одиночество метафизическое: У–аз средоточие жизни человека в его Ђ€ї, раз он законом быти€ считает себ€любие, тогда дл€ него вол€ Ѕожи€, как вс€кое ограничение его хотений, представл€етс€ враждебной, неудобоносимой, и —ам √осподь немилосердным властителем, который жнет, где не се€л. —еб€любец, следовательно, не может признать св€тости своим высшим благом, не поймет и блаженства Ѕогообщени€. Ќо раз человек отрекс€ от себ€ во им€ св€тости, тогда и враждебность дл€ него Ѕожественного миропор€дка пропадает сама собойФ . ќтныне "человек созерцает в Ѕоге не самозаключенную св€тость, котора€ была бы погружена в услаждение своими совершенствами, а видит прежде всего любовь, котора€ стремитс€ жертвовать собой, стремитс€ наделить своими благами всех, кто только может их восприн€тьФ .
ѕопытки преодолеть внутреннюю противоречивость юридической модели вызвали взрыв –еформации, однако и в протестантизме человек остаетс€ в рамках внешних отношений с Ѕогом. ≈сли в католической церкви он как бы зарабатывает свое спасение, в протестантизме это спасение дл€ него УзарабатываетФ ’ристос. „еловек лишь извещаетс€ о случившемс€ искуплении. Ќо Удуша человеческа€ [...] хочет не числитьс€ только в царствии Ѕожием, но действительно жить в немФ .
ѕоэтому, с православной точки зрени€, все обстоит совершенно иначе: Уи —лово Ѕожие, и предание ÷еркви и голос Ѕожий [...] требовали участи€ человека в своем спасении, а не уведомлени€ его о спасенииФ . „еловек сам творит свое инобытие. ј католическа€ и протестантска€ сотериологии как бы УвыключаютФ человека из таинства его спасени€. Ќапротив, ѕравославие не только акцентирует внимание на неотъемлемом участии в нем человека, но и придает ему глубинно-человеческое измерение. „еловек не столько претерпевает спасение, сколько совершаетс€ в нем. “аким образом снимаетс€ искусственна€ антиноми€ веры и дел. ак пишет, резюмиру€ позицию —ерги€ (—трагородского), епископ √урий (≈горов), УЌе должно спрашивать, за что человек получает спасение, а нужно спрашивать, как человек содевает свое спасениеФ .
Ќо к юридической модели прибегают и восточные отцы. “ак, чаще других к подобному УутилитаризмуФ апеллирует св€титель »оанн «латоуст, облича€ Укорыстолюбивую бессердечность к беднымФ . —оответственно, эти слова были адресованы к состо€тельной аудитории. »менно поэтому ему приходилось доказывать прежде всего нерасчетливость такого поведени€. УЌе мог он, Ч продолжает архимандрит —ергий, Ч говорить скупцу и себ€любцу о сладости жертвы дл€ ближнего, Ч говор€ с наемником, он и €зык должен был выбрать подход€щийФ . “аким образом стремление св€тител€ »оанна Укак бы высчитать, когда, за что и сколько именно получит человекФ носит педагогический характер. юридической модели спасени€ восточные отцы обращаютс€, жела€ пробудить страх Ѕожий. Ќо это лишь перва€ ступень, за которой следует служение наемничества и высшее призвание сыновней любви.
јналогична€ картина вырисовываетс€ и в западной патристической традиции, где особый акцент делаетс€ на греховности человека. ѕоэтому, Ч архимандрит —ергий цитирует “ертуллиана, Ч Ус тех пор, как зло вошло в мир и как благость Ѕожи€ была оскорблена, правосудие ≈го стало управл€ть ≈го благостиюФ . ќтсюда Ц Уобщее всем западным отцамФ обозначение человеческих дел как УзаслугиФ . Уƒела рассматриваютс€, главным образом, как некотора€ ценность, дающа€ право на наградуФ. Ќо эти многочисленные про€влени€ юридизма Унеобходимо сопоставить с длинным р€дом мыслей, которые тоже были посто€нно на устах св€щенных писателей и отцов ÷еркви и которые тем не менее пр€мо отрицают правовое жизнепониманиеФ .
“аким образом, проблема западного христианства не в том, что оно вз€ло на вооружение эту сотериологическую модель, а в том, что оно утратило иное, более высокое понимание спасени€, которое было сохранено в ѕравославии.
¬ заключение следует отметить, как архимандрит —ергий намечает переход от субъективной сотериологии к объективной. ќн обращает внимание на необычность евангельских строк, согласно которым мы не потому входим в вечную жизнь, что воскреснем, а потому воскреснем, что здесь вошли в вечную жизнь. » это вхождение сопр€жено с ≈вхаристией, о которой свидетельствовал √осподь и Ѕог наш »исус ’ристос. –аскрыва€ эту мысль, архимандрит —ергий пишет: У∆изнь вечна€ не обусловлена воскресением из мертвых, она раньше его, и как будто бы даже обусловливает его собою: Ђядущий ћою плоть и пиющий ћою кровь имеет жизнь вечную, и я (как будто бы в силу этого) воскрешу его в последний день (»н 6: 54)ї .
»менно четка€ расстановка акцентов Ч ’ристос Ч Ћитурги€ Ч ÷ерковь Ч позволила митрополиту —ергию поставить во главу угла богослужебную, и прежде всего, евхаристическую жизнь в легально открытых в —оветском —оюзе приходах, пусть без проповеди, без открытого поминовени€ Ђв темницах сущихї узников и жертв гонений, без воскресных школ и церковной благотворительности, но все же во всей полноте “аинств и обр€дов ѕравослави€, и с другой стороны, Ч найти слова одобрени€ и поддержки дл€ миссионерской идеи ¬ладимира Ќиколаевича Ћосского совершать на «ападе православную литургию по западному обр€ду: ЂЌужно только, чтобы эта нова€ редакци€ не была, так сказать, самодельной, чтобы она €сно держалась какой-нибудь подлинно-церковной традиции: галликанской или (напр., дл€ нефранцузов) какой другой, не исключа€ и римской (с исправлени€ми). Е ѕопутно мне хотелось бы напомнить: не будем нав€зчивы никому с нашим западным обр€дом в какой бы то ни было редакции, предоставив выбор самим обращающимс€. огда в „ехии возникло движение к ѕравославию, то покойный ј.ј. иреев забил тревогу: Ђ«ачем чехам ѕравославие? ƒл€ западных ѕравославие Ч в старокатолчествеї. Ќе будем повтор€ть этой ошибки. “от, кому желателен западный обр€д, пусть им пользуетс€. Ќаличие западного ѕравослави€ имеет глубочайший смысл. Ёто очень хорошо и в ближайших цел€х миссии. Ќо мы знаем бывших инославных людей, богословски образованных и мысл€щих, которых привлек именно наш восточный обр€д своей глубиной и религиозной насыщенностью. ƒл€ нас, восточных, западный обр€д Ч интересна€ новость, дл€ западных же он Ч обыденное €влениеЕї . ¬ этом письме, адресованном ¬.Ќ. Ћосскому, поражает даже не то, что митрополит размышл€ет о возможных новых редакци€х литургии и храмах, в которых ее будут служить, но то, что сами обр€ды, будь они восточными или западными, он рассматривает с точки зрени€ эффективности миссии. ќ масштабах личности патриарха —ерги€ говорит тот факт, что о перспективах православной миссии на «ападе он писал Ћосскому в годы безбожных п€тилеток, когда репрессии шли волна за волной.
Ќашей ÷еркви повезло: в годы потр€сений у еЄ рул€ встал богослов-сотериолог с уникальным опытом внешней и внутренней миссии. ≈го не испугал обвал монархии, окт€брьский переворот, отделение ÷еркви от государства, сери€ расколов и диалог ѕатриарха “ихона с безбожной властью. —покойствие св€тител€ объ€снимо: он знал, что режимы рассыпаютс€ в прах, а ÷ерковь проходит сквозь врем€ к всемирной ѕасхе, и это врем€ еще не исчерпано. ¬от почему ему, как ѕервоиерарху, надлежало сделать всЄ, чтобы дать ÷еркви возможность открыто нести свое служение: ведь всЄ остальное она сделает сама, √осподу содействующу.
ѕравоту ѕатриарха подтвердило врем€. “о, что советское правительство отказалось от идеи полного физического уничтожени€ ÷еркви, согласившись признать ее субъектом правовых отношений с особым статусом (в —овнаркоме был создан специальный совет по делам –усской ѕравославной ÷еркви), послужило моделью взаимоотношений дл€ коммунистических властей и ѕоместных ѕравославных ÷ерквей в странах, оказавшихс€ в зоне советского контрол€ после окончани€ ¬торой мировой войны. ¬ итоге —ербска€ и Ѕолгарска€ ѕравославные ÷еркви избежали массовых репрессий, а –умынска€ даже сохранила свой статус государственной. ќб этом редко задумываютс€ и редко пишут, но ведь и это Ч результат той стратегии церковно-государственных отношений, которую воплощал в жизнь почивший 15 ма€ 1944 года ƒвенадцатый ¬сероссийский ѕатриарх —ергий, вечна€ ему пам€тьЕ
»еромонах ƒимитрий (ѕершин)
|
ћетки: православие вера росси€ истори€ политика |
— новым √одом |
Ёто цитата сообщени€ Kitoy [ѕрочитать целиком + ¬ свой цитатник или сообщество!]
—егодн€ 14 сент€бр€ началс€ ÷ерковный Ќовый √од/
Ќачало индикта - церковное новолетие.
1 сент€бр€ (14 сент€бр€ по новому стилю) ѕравославной ÷ерковью празднуетс€ церковное новолетие (начало церковного года), называемое также Ќачалом индикта.
¬ VI в., в царствование ёстиниана I (527-565), в христианской ÷еркви вводитс€ календарное счисление по индиктам или индиктионам (от лат. indictio Ц объ€вление), 15-летним периодам наложени€ дани. ѕод indictio в –имской империи понималось обозначение цифры податей, которые следовало собрать в данном году. “аким образом, финансовый год в империи начиналс€ "указанием" (indictio) императора, сколько нужно собрать податей, при этом каждые 15 лет производилась переоценка имений (по мнению ¬. ¬. Ѕолотова индиктионы имели египетское происхождение). ќфициальное византийское счисление, так называемые индиктионы онстантина ¬еликого или онстантинопольское счисление, начиналось с 1 сент€бр€ 312 г.
¬ ¬изантии церковный год не всегда начиналс€ с 1 сент€бр€ Ц и на латинском «ападе, и на ¬остоке было хорошо известно мартовское летосчисление (когда началом года считаетс€ 1 марта или 25 марта (дата праздника Ѕлаговещени€)). ¬ целом, торжественное празднование новолети€ 1 сент€бр€ можно считать поздневизантийским €влением.
¬ этот день ÷ерковь вспоминает, как √осподь »исус ’ристос прочел в синагоге в г. Ќазарет пророчество »саии (»с 61. 1-2) о наступлении лета благопри€тного
(Ћк 4, 16-22). ¬ этом чтении √оспода византийцы видели ≈го указание на празднование дн€ нового года; ѕредание св€зывает само это событие с днем 1 сент€бр€. ¬ ћенологии ¬асили€ II (X в.) говоритс€: "— этого времени ќн даровал нам христианам этот св€той праздник" (PG. 117. Col. 21). » доныне в ѕравославной ÷еркви 1 сент€бр€ за литургией читаетс€ именно это евангельское зачало о проповеди —пасител€.
“о же ≈вангелие читалось ѕатриархом и в особом чине летопроводства Ц праздничной службе, совершавшейс€ 1 сент€бр€. «наменательно, что ≈вангелие читал сам ѕатриарх Ц в практике онстантинопольской ÷еркви в поздневизантийское врем€ ѕатриарх сам читал ≈вангелие, кроме этого случа€, лишь трижды в году: на утрене ¬еликой п€тницы (первое из 12 —трастных ≈вангелий) и на литургии и вечерне первого дн€ ѕасхи.
—огласно “ипикону ¬еликой церкви и византийским служебным ≈вангели€м, чин летопроводства имеет следующий пор€док: после утрени архиерей с процессией под пение "большого" “рисв€того исходит на городскую площадь. огда процесси€ достигнет площади, диакон возглашает ектению, и поютс€ 3 антифона. ѕосле антифонов архиерей произносит возглас, благословл€ет трижды народ и садитс€ на седалище. ƒалее следуют прокимен и јпостол; по јпостоле архиерей, благословив трижды народ, начинает чтение ≈вангели€. «атем произнос€тс€ литийные прошени€; по окончании прошений и главопреклонной молитвы певцы начинают петь тропарь 2 гласа: ¬се€ твари —одетелюЕ, и процесси€ идет в храм дл€ совершени€ Ѕожественной литургии.
Ќа –уси по прин€тии христианства гражданский год вплоть до XV в. начиналс€ с марта. — 1 марта вели начало года все древние русские летописцы, включа€ прп. Ќестора. Ќо, несмотр€ на то, что только в XV в. началом гражданского года официально становитс€ 1 сент€бр€, имеютс€ свидетельства о совершении на –уси 1 сент€бр€ чина летопроводства не только в конце XIV в. (“ребник √»ћ. —ин. слав. 372, кон. XIV Ц нач. XV в.), но даже уже в XIII в. (чин упоминаетс€ в ¬опросоответах епископа ‘еогноста (1291 г.)). „ин состо€л из пени€ стихир, антифонов, чтени€ паремий, јпостола, ≈вангели€ и произнесени€ молитв. –усские редакции XVII в. чина летопроводства 1 сент€бр€ содержатс€ в ћосковском ѕотребнике мирском 1639 г., в ћосковском ѕотребнике 1651 г., в “ребнике митр. ѕетра ћогилы 1646 г. и в напечатанном без обозначени€ года сборнике церковных чинов (Ќикольский ., прот. ќ службах –усской ÷еркви, бывших в прежних печатных богослужебных книгах. —ѕб., 1885. —. 113). Ѕлизок к печатным московским чинам и новгородский чин, содержащийс€ в рукописном сборнике первой четверти XVII в.
ќтметим интересные особенности, содержащиес€ в московском и новгородском чинах (подробнее см.: “ам же. —. 114-116). ¬о врем€ чтени€ паремий протопоп совершал чин водоосв€щени€ до момента погружени€ креста. «атем, после чтени€ ≈вангели€, св€титель погружал крест в воду при пении тропар€: —паси, √осподи, люди “во€Е и омывал иконы губой, омоченной в осв€щенной воде, после чего читались молитва ѕатриарха ‘илофе€ онстантинопольского: ¬ладыко √осподи Ѕоже нашЕ и главопреклонна€ молитва. ¬ московском печатном чине описываетс€, кроме того, обр€д пришестви€ цар€ к действу (в ћоскве чин совершалс€ на соборной площади ћосковского ремл€, и царь чаще всего прибывал туда уже после прихода ѕатриарха с крестным ходом, но иногда мог приходить и вместе с ним), его встречи и поздравительной речи к нему ѕатриарха. ¬ Ќовгороде служащий св€титель обращалс€ с поздравлением к воеводам и народу с произнесением "титла" о царском многолетнем здравии.
иевский чин отличалс€ от московского и новгородского. ¬ нем не указаны крестный ход на площадь, водоосв€щение и омовени€ икон. „тение ≈вангели€ совершалось в храме, не было паремий и јпостола. Ћити€ совершалась пред храмом: сначала дважды обходили храм с крестным ходом при пении стихир, в третье обхождение останавливались пред каждой стороной храма, и диакон произносил ектению; перед западной стороной св€титель читал молитву. ќбр€д поздравлени€ также не указан в киевском чине.
ѕрекращение совершени€ чина летопроводства св€зано с изданием ѕетром I указа о переносе начала гражданского нового года на 1 €нвар€. ¬ последний раз чин был совершен 1 сент€бр€ 1699 г. в присутствии ѕетра, который, сид€ на установленном на кремлевской соборной площади престоле в царской одежде, принимал от ѕатриарха благословение и поздравл€л народ с новым годом. 1 €нвар€ 1700 г. церковное торжество ограничилось молебном после литургии, чин же летопроводства не совершалс€.
— тех времен празднование церковного новолети€ 1 сент€бр€ не совершаетс€ с былой торжественностью, хот€ “ипикон доныне полагает этот день малым √осподским праздником "Ќачала индикта, сиречь новаго лета", соединенным с праздничной службой в честь прп. —имеона —толпника, пам€ть которого выпадает на эту же дату.
ћихаил Ѕернацкий
ѕатриархи€.Ru
|
ћетки: политика православие общество друзь€ любовь росси€ москва питер |
статье "ёмор в ѕравославии" |
ƒневник |
Ёто из записок, надо издавать отдельным сборником:
протоевре€ (им€рек)
новорпредставленного
усохшего
утопшего
за упокой всех сродников и моего озлобленного директора.
благодарственный молебен јнгелу - —пасителю
о здравии кандидата в депутаты г. ј, (им€рек)
за здравие всех сродников и всех врагов видимых и невидимых
молебен просительный
—еминарское меню: "студенец истлени€" или "картошка в подр€сниках"
ј на причастии? "ѕодход€ к чаше крестообразно открывайте уста", или "к чаше подходите крестообразно"...
Ќа уроке о. —ерги€ –ассказовского.
"Ќу что такое футбол... ƒвадцать дураков гон€ют... воздух!.. в кожаной оболочке!!! » ещЄ 30 миллионов на это смотр€т
ѕожила€ монахин€ јнтонина (÷арствие ей Ќебесное) на 6-ом часе вместо: Ђ кто есть человек, бо€йс€ √оспода Еї, то есть, бо€щийс€ √оспода, читала, с чувством, с выражением: Ђ то есть человек? Ѕойс€ √оспода!!!ї
Ѕатюшка с матушкой вдвоем в храме. Ћитурги€. ћатушка выходит читать јпостол. Ѕатюшка: Ђћир ти, матушка!ї ќтвет: Ђ» духови твоему, батюшка!ї
ак-то дети (подростки) после службы рассуждали о кладбище, так тепло по-христиански обсуждали, кто какую хочет могилку. ¬олод€ (17 лет) изрек: Ђ ј € хочу, чтобы у мен€ все было дерев€нное: гроб, крест, оградкаЕ ƒерево, ведь, и дл€ здоровь€ полезно!ї
ƒиалог между батюшкой и матушкой. ћатушка: ЂЅатюшка, как благословишь: так или так (вопрос)?ї Ѕатюшка: Ђ—ейчас, с матушкой посоветуюсь и благословлюЕ ћатушка, как ты думаешь: так или так (вопрос)?їЕ
—егодн€ отец диакон вернулс€ с отпевани€ и рассказывает: Ђѕовернулс€, сказать обычное до свидани€, но подумал, вдруг не так поймут (мол, до скорой встречи), молча развернулс€, ушелЕї
—еминарист долго готовил первую проповедь, но вышел и все забыл. —казал: ЂЅрать€! —пасайс€, кто может!ї
ќ сокращенном отпевании: человек был неплохой Ц со св€тыми упокой.
ѕожелание к ѕразднику: ÷арства Ќебесного и успехов на мытарствах.
»гумен Ќикон (Ћысенко) венчает пару (оба воспитанники: семинарист и регентша). ¬енчание проходило в храме при —ѕб.ƒји—.
¬се идет по чину. ќбручение прошло без казусов, но вот на венчании батюшка отличилс€.
—просил жениха: Ђ»маши ли »оанн произволение благое и непринужденное, и крепкую мысль, по€ти себе в жену сию ћарию, юже зде пред собою видиши?ї
жених отвечает: Ђимам, честный отчеї
батюшка, помедлив, изрекает: Ђƒуни и плюни на нееї
все выпали в осадок.
Ќа помазание к архимандиру ћакарию (¬еретенникову) подходит женщина в годах, складывает руки на груди крестообразно, как дл€ ѕричасти€, и говорит: Ђ–аба Ѕожи€ ћарь€ »ваннаї. ќн, помазыва€ еЄ чело крестообразно, произносит: Ђјрхимандрит ћакарийї.
ќтец —офроний плохо видит. »еромонах ‘еодосий плохо слышит. —ид€т они в алтаре перед службой. ¬друг заходит иеромонах »ннокентий (ѕавлов). ќтец —офроний показывает на себ€: Ђ—лепой есть!ї, показывает на о.‘еодоси€: Ђ√лухой есть!ї и указыва€ на пришедшего о.»ннокенти€: Ђ¬от и расслабленный €вилс€!ї.
»дет чередное богослужение в академическом храме. ћолодой диакон »ван ѕ. Ќе воврем€ возглашает: ѕремудрость!
ѕреподаватель богослужебной практики отец —офроний ему в тон : ѕредурость !
—в€щенник и диакон на череде пошли на вход, а ÷арские врата открыть забыли. ¬ышли на солею и думают, что делать дальше. ќтец —офроний: ЂЌу что, перелезать будете?ї
јбсолютно православный анекдот.
ќдин инок жарил на свечке €йцо, и это обнаружил игумен. ќн начал укор€ть инока:" как же ты мог? "“от говорит: " мен€ враг научил." » тут из угла кельи доноситс€ голос: "врет! € и сам такое впервые вижу"
|
ћетки: юмор православие |







