|
|
Спасся от огня и оказался в плену: приключения весёлого ДионисаЧетверг, 03 Апреля 2025 г. 09:48 (ссылка)
Не секрет, что древние греки любили вино и развлечения. Более того, у подобных увлечений был свой покровитель – бог виноделия Дионис. Румяный и весёлый, он казался людям наиболее родным божеством, поскольку и сам едва ли отличался от смертных. Но пускай видимая простота Диониса вас не вводит в заблуждение – почитали его не меньше, чем Зевса. Диониса и правда можно назвать одним из самых необычных божеств Древней Греции. Всем известно, что у эллинов божества нередко имели вполне человеческие слабости, но этот бог пошёл дальше. Он повелел устраивать празднества, на которых царила полная свобода – от обязательств, общественных принципов и даже морали. Позднее римлян назовут это вакханалиями (Вакх – римский аналог Диониса). Но отчего рождение этого бога сопровождалось трагедией? Как бог оказался в плену у морских разбойников? И почему у "дионисизма" было немало сторонников и противников? Смерть матери и спасение сынаРождению маленького Диониса предшествовала трагическая история. Любвеобильный бог Зевс был очарован красотой юной Семелы, дочери царя Кадма. Девушка ответила взаимностью на чувства Громовержца и вскоре поняла, что ждёт ребёнка. Зевс обещал исполнить любое пожелание возлюбленной, в чём поклялся рекой Стикс – клятву эту не мог нарушить никто, даже верховный бог. Семела же попросила Зевса предстать перед нею в своём истинном облике. Никакие его увещевания не могли переубедить женщину. Громовержец вынужден был покориться. Едва только он принял своё истинное обличье, как дворец Кадма вспыхнул в пламени. Множество молний ударили в стены. Несчастная Семела тоже оказалась в огне. Уже умирая, она родила сына – юного Диониса, которому суждено будет стать почитаемым богом. Гюстав Моро'Юпитер и Семела" Уже в первые мгновения жизни малыша стало ясно, что он обладает необыкновенными способностями. Казалось, Дионис, как и его мать, должен был погибнуть в огне. Но, как гласит легенда, когда пламя уже подбиралось к новорожденному, рядом с малышом выросла виноградная лоза, которая своими листьями закрыла Диониса от огня. В дальнейшем Зевс "выносил" маленького бога в своём бедре. Когда тот окреп, он второй раз появился на свет, теперь уже "рождённый" отцом. Словом, чудеса происходили с Дионисом уже с младенчества. Дионис, сидящий на троне, с Гелиосом, Афродитой и другими богами. Античная фреска из Помпеи Дионис и его свитаСтаршим соратником и помощником Диониса стал бог Гермес. Он передал мальчика на воспитание нимфам. Взрослея рядом с ними в окружении природы, среди лесов и долин, Дионис превратился в великого бога виноделия. Он считался тем божеством, которое способно дарить людям силы и радость. Кроме того, Диониса считали покровителем сил плодородия и урожая. Предания описывают Диониса весьма колоритным персонажем. Вместе со своей свитой из нимф, менад и других полубожеств он отправляется на деревенские праздники и гуляет по лесам. Его спутником считается и бог Пан, в облике которого сочетаются черты человека и козла. Эта весёлая компания танцует и поёт, вызывая улыбки встречных людей, но безобидной её считать не стоит. В легенде об Орфее говорится, что менады прогневались на певца за то, что он воздал почести Аполлону, но не Дионису. Впав в безумие, женщины разорвали Орфея в клочья. Бог-пленникСамому же Дионису довелось побывать не только на празднествах. Одна из легенд о нём рассказывает, что однажды он стал жертвой пиратов. Морские разбойники заметили на берегу красивого юношу и, решив, что такого молодца можно выгодно продать работорговцам, схватили его. Поначалу Дионис, так сказать, "по-хорошему" пытался объяснить разбойникам, что трогать его не надо. Цепи, которыми были скованы его руки и ноги, тут же рассыпались на глазах пиратов. Но те не успокоились. Увидев, что корабль обвивает невесть откуда взявшаяся виноградная лоза, они набросились на Диониса и стали связывать его верёвками. И в этот миг он обратился в огромного медведя (в некоторых мифах говорится, что бог стал львом). Испуганные разбойники начали прыгать за борт. Как гласит предание, в момент прыжка тела их вытягивались и преображались. Когда же они погружались в воду, это были уже не пираты, но прекрасные создания – дельфины. Эти истории – только малая часть легенд о боге виноделия. Культ Диониса постепенно распространился по всей Греции, а спустя время вышел за её пределы. Вот только бог растений, плодородия и вина постепенно превратился в небожителя, поощрявшего безумие и дикие повадки. Сторонники "дионисизма" заявляли, что они открывают людей такими, какие они есть – без прикрас и масок, которые человек носит в обществе. А вот противники этого течения говорили, что культ Диониса порождает лишь необузданность в поведении и желаниях, причиной которым становятся излишества в употреблении вина. Как бы то ни было, но почитали Диониса, действительно, не меньше, чем верховного бога. Может, потому, что это божество по своим интересам и слабостям оказалось наиболее близким к людям.
Спасся от огня и оказался в плену: приключения весёлого ДионисаЧетверг, 03 Апреля 2025 г. 09:48 (ссылка)
"Мифы и легенды Древней Греции" (2016) - 2 сезона, 29 серийСуббота, 26 Января 2025 г. 01:23 (ссылка)
"Мифы и легенды Древней Греции" (2016-2018) - 2 сезона, 29 серий  "Мифы и легенды Древней Греции" (1сезон: 1-10 серии из 20) Жанр: Документальный, история. Выпущено: Франция, ARTE France, Rosebud Productions, Les Monstres. Режиссёр: Сильвен Бержер, Камиль Дельбера, Себастьен Ранкур, Фред Пажес, Александра Вило-Бофилс, Гаетан Шабаноль, Натали Амселлем. Мифы и легенды Древней Греции – величайшее культурное наследие человечества, интерес к которым не ослабевает в современном мире. Греческая мифология складывалась веками, передаваясь из уст в уста, из поколения в поколение и оказала серьёзное влияние на развитие культуры и искусства всего мира, положила начало бесчисленному количеству религиозных представлений о человеке, богах и героях. Она дошла до нас в поэзии Гесиода и Гомера, а также в произведениях греческих драматургов Эсхила, Софокла, Еврипида и других. В древних преданиях отражено представление древних греков об устройстве мира и всех процессах, происходящих в природе и обществе, их миропонимание и мировоззрение. Содержание: "Мифы Древней Греции" (2016) - 1 сезон, 1-10 серии (4:20:56) Источник: 01. Зевс - Завоевание власти. Победив всех врагов, Зевс забрал себе верховную власть и выбрал своей резиденцией небо. Посейдона, старшего брата, он обещал сделать царём морей. Аиду, другому брату, он вручил ключи от подземного царства и дал ему власть над инфернальными силами. Он изгнал всех бывших обитателей неба, или запер их в Тартаре, или отправил на землю - к смертным. Так родился всемогущий бог. Так Зевс выстроил иерархию и организовал Вселенную. Зевс будет править миром, но перед ним стоит непростая задача: поддерживать порядок, но не стать деспотом. 
История и археология: Почему бог вина и наслаждения Дионис занимал самое почётное место в пантеоне язычниковПятница, 12 Января 2024 г. 21:38 (ссылка)
Дионис – бог древних вечеринокПятница, 16 Декабря 2022 г. 11:02 (ссылка)
Этот бог древних вечеринок на самом деле был не так уж весел и простодушен, а наоборот: весьма коварен и непредсказуем. Не верите? Есть среди божественных олимпийцев такие злонамеренные и недобрые личности, которые умело скрывают свою холодную и жестокую натуру под напускной доброжелательностью. Дионис – это бог вина, виноделия, растительности, естественного начала человека и вдохновения. Всем известно, что Дионис – это бог вина, виноделия, растительности, естественного начала человека и вдохновения. Он является одним из самых младших богов на Олимпе, считается одновременно и веселым божеством, и безумным порождением Зевса. Почему так получилось? И почему Дионис – это и весельчак, и безумное порождение Зевса? Откуда взялось такое противоречие? Чем прославился и в чем провинился жизнерадостный Дионис? Рождение Дионис является сыном Зевса и дочери фиванского царя Семелы. Как известно, у громовержца была ревнивая жена Гера, которая, не имея возможности остановить любвеобильность своего супруга, мстила всем своим соперницам. Так получилось и со Семелой. Гера пошла на такую хитрость: она предстала перед царевной в образе смертной женщины и предложила той потребовать доказательств у Зевса, что он действительно бог: "А пусть он предстанет перед тобой во всей своей божественной красе, чтобы ты убедилась, что это настоящий Зевс, а не какой-то там смертный обманщик!" – так уговаривала Гера Семелу. "И чтобы он не вздумал отказаться от исполнения твоей просьбы, пусть поклянется рекой Стикс, что исполнит твое любое ее желание!" – наставляла богиня девушку. Гера так заинтриговала Семелу, что той самой стало интересно, кто ее возлюбленный: Зевс ли или обманщик? На что только не пойдешь ради любви и удовлетворения своего любопытства! Царевна так и сделала при следующем свидании: она потребовала у громовержца, чтобы тот обнял ее так же, как обнимает свою жену Геру. Такие божественные объятия не могло выдержать тело смертной женщины, и Семела умерла у бога на руках. Однако Зевс успел спасти недоношенного младенца и выносил его самостоятельно. После этого он отдал Диониса на воспитание нимфам. Путешествия и приключения Несмотря на то, что ее соперница Семела погибла, мстительная Гера все же не оставляла в покое юного бастарда. Она наслала на него безумие, когда тот отправился путешествовать по миру. Везде, где он проходил, сеялся разврат, массовые умопомешательства, проливались реки крови там, где его не чествовали и не признавали богом. За Дионисом следовала его верная свита, состоявшая из сатиров и менад. Они крушили все на своем пути, вырывали с корнем деревья, пожирали мясо убитых ими животных. Эта процессия была весьма многолюдной, так как к сатирам и вакханкам присоединились толпы людей, поклонявшихся богу виноделия и прославлявших Диониса. Вакханалия. Генрих Ипполитович Семирадский. 1890. И хотя юный бог уже излечился от безумия, греки, восславляя его, устраивали праздники и сумасшедшие оргии, где были как мирные танцы и выпивка, так и поедание сырого мяса и буйства. Тем не менее, заслугой Диониса является изобретение вина. Этот напиток стал почитаемым во многих городах, и без него не обходилось ни одно веселье. Однако нужно отметить, что Диониса признавали и любили далеко не везде. Например, на его родине, в Фивах, случился один интересный случай. Агава, сестра Семелы, распускала неприличные слухи о погибшей, за это он наслал на нее и других женщин безумие, после чего они стали вести образ жизни менад.
Сам Пенфей, который стал царем Фив, тоже не признавал божественного начала в Дионисе. Ой как зря! Когда он отправился истреблять новоиспеченных менад-вакханок, бог внушил им, что перед ними не царь, а дикий зверь. С яростью они бросились на царя и растерзали. А его мать гордо несла голову сына на пике в город, хвастаясь тем, что убила свирепого льва. Однако, когда она осознала, чья голова была при ней вместо львиной, то покинула Фивы и погибла на чужбине. Зато теперь никто не усомнился в том, что Дионис – настоящий бог.
А как вам эта интересная ситуация с царем Мидасом? Однажды Силен, учитель и воспитатель Диониса, пропал. Его долго искали, а нашли его придворные слуги Мидаса. Бог пообещал, что выполнит любое желание царя за возвращение ему старика. Тот, не отличаясь особой сообразительностью, потребовал, чтобы все, к чему бы он ни прикасался, превращалось в золото. Мидас понял свою ошибку тогда, когда и люди, и еда стали золотыми, однако Дионис не выполнил его просьбу вернуть все как было раньше: подарок – есть подарок и обратно не возвращается. Но потом все же сжалился и посоветовал Мидасу искупаться в реке Пактол. Так царь освободился от божьего дара, а река стала золотоносной. А как Дионис поступил с Тесеем? Влюбил в себя Ариадну, дочь царя Миноса, уговорил ее бросить Тесея и стать женой Диониса. А потом, как говорит легенда, бог явился во сне Тесею и сказал, что девушка предназначена ему. Тесей послушался и отступил. Наверное, это был хороший поступок Диониса, потому что впоследствии Зевс в подарок сыну сделал Ариадну бессмертной. А какая жизнь ждала девушку, останься она женой Тесея – царька небольшого в те времена городишка Афины? А тут – муж бог, и она бессмертна и вечно молода. Не забыл Дионис и про свою матушку: спас ее из Аида и возвел ее на Олимп. Заключение Дионис был прекрасным, вечно молодым богом, который научил людей расслабляться, отдыхать и отвлекаться от постоянной работы. Этим он сыграл важную роль в жизни и религии древних греков, за что его почитали во всех греческих городах и за их пределами. Однако характер у этого бога был скверный и недобрый: мог наслать беду и не пожалеть никого, даже своих ближайших родственников. А как его за это корить, если он всегда был под хмельком и навеселе?
Дионис – бог древних вечеринокПятница, 16 Декабря 2022 г. 11:02 (ссылка)

Дионис – бог древних вечеринокПятница, 16 Декабря 2022 г. 11:02 (ссылка)

СВЯЩЕННЫЙ БРАК С БЫКОМВоскресенье, 01 Августа 2021 г. 21:15 (ссылка)
Вячеслав Иванов
Но образ и атрибуты бога-быка суть общие и постоянные черты повсеместно принятой дионисийской символики. В отдельных местах это основное представление порождало своеобразные мифы: в Аргосе Дионис-бог, рожденный коровой (βουγενής), сын Ио. Песнь двуострой секиры — дифирамб, — которой происходило убиение быка в жертву богу секиры, он же вместе и бог-бык, — отожествляется с Дионисом-Дифирамбом быкоубийцей-быком. Энтузиастические жертвоприношения этого рода сохранились, из ранней поры дифирамба, в отдельных поместных обрядах. Сюда относятся критские таврофагии⁹ и тенедосская жертва, сюда же обряд в Кинефе, так описываемый Павсанием: «Самым замечательным в Кинефе является храм Диониса и праздник, совершаемый ими в его честь зимой (т.е. в пору пребывания бога в подземном царстве). Во время этого праздника мужчины, намазавшись маслом, подняв себе на плечи, несут в храм быка (для принесения в жертву), взяв его из стада, а какого — это указывает им сам бог (т.е. выбор быка происходит в состоянии оргиастически-вдохновенном)». Естественно предположить, — в виду признаков более глубокой древности чисто-буколического культа в сравнении с культом орфическим, — что, прежде чем буколы научились от орфиков называть своего бога Загреем, они были просто быкоубийцами (ταυροσφάγος¹⁰): назначение их оргиастических общин состояло в принесении таинственной энтузиастической жертвы, объектом которой был бог-бык, а мистическим субъектом бог-топор, причем оба бога сливались в одно божество, чье изображение мы видим в кносской голове быка с двойной секирой, вырастающей из черепа и опирающейся лезвиями на рога. _______________________________ [8] ταῦρος ὁ (тж. τ. βοῦς Aesch., Soph.) бык Hom. [9] ταυροφάγος (ταυρο-φάγος) — поедающий быков, эпитет Диониса Soph. [10] ταυροσφάγος (ταυρο-σφάγος) — закалывающий быка (ἡμέρᾳ ταυροσφάγῳ Soph. — в день заклания быков). 4. Аттические буфонии и их родовая основа Среди афинских исторических родов мы встречаем, по крайней мере, три рода, стоящих в ближайшем отношении к тотему быка: Бутады (Ἐτεοβουτάδαι, т.е. подлинные, исконные Βουτάδαι), Бузиги (Βουζύγοι) и Фавлониды (Θαυλωνίδαι). Имена первых двух совпадают со священными прозвищами Диониса: «волопас» (βουκόλος, βούτης) и «запрягающий быков» (Βουζύγος). Ликург — наследственное имя в роде Бутадов: характерный признак принадлежности рода к дионисийскому культовому кругу, подтвержденный и усиленный еще тем совпадением, что уже у Гомера Ликург — букол; это показывает наименование его оружия, (βουπλήξ),¹¹ — как букол, по самому имени, и Ликургов брат и двойник — Бут (Βούτης), родоначальник Бутадов. О Фавлонидах известно, что они искони совершали афинский обряд Буфоний (Βουφόνια), т.е. быкоубийства.¹² А именно, из их рода выбирались быкобойцы (βουτύποι), и сам быкоубийца (βουφόνος) был всегда Фавлонид, тогда как другие священнодействия при жертвоприношении были предоставлены двум элевсинским родовым коллегиям (γένη) — Кентриадов и Дэтров, принадлежащими к элевсинскому роду Кериков (Κήρυκες). Первые (Κεντριάδαι) загоняли быка на медный помост рожнами (κέντρα);¹³ вторые (Δαιτροί, синонимически — Μάγειροι, «мясники») рассекали быка на части, после того как быкоубийца нанес ему удар священным топором, который предварительно оттачивали и ритуально передавали из рук в руки члены особой коллегии священнослужителей, при участии избранных девиц, на чьей обязанности лежало приносить нужную при оттачивании топора воду. Рожны или бодила (κέντρα), под коими разумеются пастушеские копья, составляют священную утварь буколических мистерий. Заметим мимоходом, что наше «противу рожна прати», заимствованное из рассказа об обращении Савла в Деяниях апостолов, есть, в конечном счете, цитата из Пиндара или трагиков, которые, в свою очередь, заимствовали образ противящегося священнослужителям быка из обрядовой практики и фразеологии буколов; ибо если даже это уподобление было поговоркой уже в VI веке, тем не менее его отношение к сценам жертвоприношений и священного боя быков было тогда совершенно прозрачно. По распространенности подобных речений, почерпнутых из буколической литургики, можно судить о распространении и влиянии этого культа. Кроме названных наследственных священнослужителей, эпиграфически засвидетельствованы, в качестве участников афинских Буфоний, еще βοῦται, т.е. прямо буколы. Обряд Буфоний совпадает в столь характерных чертах, как преследование быкоубийцы и его бегство к морю, с тенедосским действом, о котором имеем следующее свидетельство: «Тенедосцы Человекорастерзателю-Дионису откармливают тельную корову; когда же она отелится, ухаживают за нею, как за роженицей; а новорожденный приплод приносят в жертву, обув в котурны; и в того, кто нанес ему удар топором, бросают камни всенародно, пока он не добежит до моря». Что священный топор Буфоний был двуострой секирой, каковая изображена на монетах Тенедоса, видно уже из того, что он носит имя «быкоубийца» (βουφόνος), почему и подвергается суду, как таковой: имя же это — не только священное прозвание Диониса, но вместе и наименование дифирамба и двойного топора. _______________________________ [11] βουπλήξ (βου-πλήξ), -πλῆγος ὁ и ἡ 1) остроконечная палка (которой погоняли быков), стрекало Hom., Luc. 2) жертвенный топор Anth. [12] βουφόνια (βου-φόνια) τά праздник заклания быка (в Афинах) Arph. [13] κέντρον τό кентр, стрекало (πρὸς κέντρα λακτίζειν погов. Pind., Soph. etc. — лягать стрекала, т.е. идти против рожна). 5. Островные буфонии и их связь с Критом Аналогичные празднества и обряды встречаются, далее, на острове Кос (где прослеживаются древние человеческие жертвы) в честь Зевса Полиея (Πολιεύς) и Маханея (Μαχανεύς); и имя месяца Буфониона (Βουφονιών) на Делосе и Теносе свидетельствует о том же культе на этих островах. Праздник Διός Βοῦς справлялся и в Милете. В Магнесии на Мэандре Буфониям аналогичны обряды в честь Зевса Сосиполия (Σωσίπολις, «охранитель города»). В дни празднования Зевса Полиея на Косе приносятся и жертвы растительному Дионису Скилиту. Итак, то, что в Афинах является культом древнейших буколов есть общее явление островного круга прадионисийской религии Зевса-быка и двойного топора, развившейся в религию морского и растительного Диониса-Быка-Дифирамба. В самом деле, как объясняется тот факт, что столь отличительно выраженный культ буколический и дионисийский связан не с именем Диониса, а с именем Зевса? Ибо афинские Буфонии суть жертва Зевсу Градовладыке на празднике Диполий,¹⁴ и тому же Зевсу приносятся подобные же жертвы на Косе. Ответ на это, в связи всего нашего исследования о происхождении Дионисовой религии, может быть один: начались Буфонии в ту эпоху, когда божество Диониса в его отдельной от Зевса особенности еще не было установлено или повсеместно вéдомо и принято; как обряд, так и весь союз аттических буколов сохранил печать той ступени в развитии Дионисова культа, когда оргиастическое божество было мыслимо монотеистически, когда еще не знали сына Зевсова и чтили пра-Диониса под именем Зевса. _______________________________ [14] Διπόλεια τά {Διϊπόλεια} Диполии, древний праздник в честь Зевса Градохранителя (Ζεὺς Πολιεύς) Arph. Это объяснение подтверждается характером обряда и этиологией обрядового предания. Полевой магизм и здесь, как в упомянутом обычае зимнего жертвоприношения Дионису в Кинефе, составляет доисторическую подоснову позднейшего культа: земледельчески заклинательную силу имеет чучело жертвенного быка, впряженное в плуг. Обряду приданы формы запечатлевающие этиологический миф: согласно этому мифу, сельская жертва вначале была бескровной, случайно убит был впервые бык-кормилец, и это преступление навлекло на страну кару богов: отсюда — суд над убийцей и его изгнание. Перед нами пример приспособления исконного сельского культа к занесенному с Крита культу бога двойного топора, тотем которого — бык — совпал с местным тотемом пастухов и пахарей. Что бык — бог в зверином образе, очевидно из представления о священнодействии, как о вынужденном святотатстве; это представление типически сопровождает жертвенные богоубийства первобытных религий. Прибавим, что особенное значение придается вкушению от рассеченных частей быка: оно предписано оракулом, как причащение плоти бога. Но, рядом с тотемом бога, мы видим и фетиш его: ибо топор мыслится живым и ответственным за убийство, как мыслило средневековье мечи. И тотем, и фетиш мы находим на Крите; и, — что особенно важно, — отожествление того и другого, раздвоение божества на жертвенную и жреческую ипостась его единой сущности — эти представления не могут быть наследием простого сельского магизма, равно как и представление о воскресении быка через год для новой жертвы, определенно намеченное в мифе, — но свидетельствуют о происхождении церемонии из высокоразвитой оргиастической религии. Что божественные бык и топор — одна живая сущность (idem numen), совершители жертвы, по-видимому, знали; во всяком случае, обряд Буфоний причисляется к афинским мистериям. На религию пра-Диониса указывает и погружение топора в море, по приговору суда, — связь представлений быка, топора и моря. Впрочем, само предание помнит (по Теофрасту), что убийца бежал на Крит. Бузиги, один из вышеназванных буколических родов Аттики, называли в числе своих предков-героев некоего Эпименида, которого, по убедительно высказанному Тепффером мнению, нет оснований различать от критского пророка. Афинянам было понятно, почему «волопасы Загрея» у Эврипида — критяне. К изложенной религиозно-исторической характеристике древнейших буколических родов Аттики нам остается прибавить еще следующее соображение. Недоумение исследователей возбудило Страбоново (VIII, 383) обозначение аттической филы Эгикореев (Αἰγικορεῖς) как священнослужителей (ἱεροποιοί). Нам кажется, что это недоумение разрешается допущением, что речь идет и здесь о буколических родах (так, Бутады принадлежали к филе Эгеида (Αἰγηΐς). В самом деле, та же фила означается в другом месте (у Плутарха), как «пастушеская». Что же удивительного, что пастушеская фила — фила священнослужителей, или жрецов? Мы видели, что древнейший пастушеский культ был представлен в исторических Афинах рядом жреческих родов и составил важную часть общегосударственной религии. На связь названной филы с дионисийским мифом указывал Маас; если мы примем, что ее имя в самом деле происходит от волн (qui caerula verrunt), своеобразное сочетание обряда Буфоний с морем, из-за которого впервые пришел быкоубийца — двойной топор, покажется нам еще более многозначительным. 6. Прадионисийские буколы в Фивах По Виламовицу, Буколион в Афинах — религиозный центр аттического культа Диониса-быка, заимствованного из Фив. Брачный чертог (θάλαμος) Семелы в Кадмейском кремле, описанный у Павсания (IX, 12. 4), был буколион; ибо Эврипид говорит о древесном стволе, упомянутом в этом описании, что Дионисов столп чудесно обвился плющом «в чертогах буколов». Отсюда Виламовиц заключает, что культ Диониса-быка был принесен в Аттику из Беотии, как позднее и культ Диониса-Элевтерия. Но мы видели, что аттические буколы восходят к прадионисийской эпохе. Буфонии не были бы жертвой Зевсу Полиею, если бы бог-бык был изначально беотийским Дионисом. С другой стороны, ничто не препятствует предположить прадионисийское почитание быка в Беотии, под влиянием Крита; и только при этом предположении возможно допустить беотийское опосредствование критского влияния по отношению к Аттике. Культ Элевтерия также обнаруживает общение Беотии с Критом в эпоху образования Дионисовой религии. Город Элевтеры и его эпонимного героя Элевтера (Ἐλευθέρος)¹⁵ мы равно встречаем на аттико-беотийской границе и на Крите. Подобно Икарию, беотийский Элевтер, первоначально самостоятельный местный хтонический демон,¹⁶ становится потом гостеприимцем бога Диониса, наводящего на дочерей его безумие. Герой только впоследствии, он искони объект местного оргиастического культа, deus Liber в оргийном значении «разрешителя душ». Ибо он дает своим поклонникам возможность, надев его звериную маску, подменить свою душу его демоническим присутствием; его сила высвобождает души живых и души умерших и позволяет им временно блуждать в чужих обличиях; он снимает для людей, им одержимых, все запреты, и его вселение очищает от всех недугов и немощей душевных и телесных. Тот же круг религиозных представлений лежит в основе фиванского культа Диониса Лисия (Λύσις, «Освободитель»); этиологический миф знает его, как разрешителя от уз, освободителя от плена при помощи волшебных чар виноградного сока; но служения ему, именуемые мистериями, имели катарсический характер, ознаменованный самим именем бога. Критский Элевтер делается одним из Куретов: героизируя местного демона, естественно было ввести его в круг общего мифа под этой оргиастической маской; ему к лицу кружиться, ударяя мечом в щит, перед сводом пещеры, где коза Амалфея вскармливает будущего эгидоносца. Этому образу буйного юноши-воина отвечает облик элевтерийского бога в черной эгиде (μελάναιγις), т.е. козьей шкуре, с убийственным копьем в руке, от вида которого девы впадают в безумие. Культ Диониса Элевтерия сравнительно поздно принимается Афинами и вызывает необходимость второго весеннего празднования бога — Великих Дионисий.¹⁷ Это самое позднее наслоение Дионисовой религии в Аттике. Культ буколов первоначально критский прадионисийский культ; Дионисовым делается он вследствие сочетания с другим аттическим культом, который узнал Диониса раньше буколов. Этот древнейший аттический культ Диониса начался в Эпакрии.¹⁸ _______________________________ [15] ἐλεύθερος 1) свободный, вольный, независимый; 2) подобающий свободному гражданину, благородный (λόγος Soph.; φρονήματα, ἦθος Plat.); 3) необремененный долгами (χρήματα Dem.); 4) освобожденный, оправданный. [16] δαίμων (-ονος) ὁ и ἡ 1) бог, богиня (δαίμονι ἶσος Hom. — богоравный; σὺν δαίμονι Hom. — с божьей помощью; πρὸς δαίμονα Hom. — против божьей воли); 2) божество (преимущ. низшего порядка) — дух, гений, демон (δαίμονες ἐπιχθόνιοι Hes.). [17] Из Миконской надписи, предписывающей жертвоприношение козленка Бакхею (чтимому, кроме того, на Наксосе, в Эритрах и Илионе) в месяце Бакхионе и угощение жрецов, Протт, отождествляя названный месяц с аттическим Элафеболионом, заключал, что, как Анфестерии, так и Великие Дионисии были приурочены к общеионийскому второму весеннему празднованию Диониса. [18] Ἐπακρία = Διακρία Διακρία ἡ Диакрия (горная область в сев.-вост. Аттике). 7. Дионис в Аттике Герой Эпакрии Икарий — это местный Дионис того периода, когда имя бога еще не найдено, — страстнόй (πάθος) демон, хтонический податель изобилия и, в частности, покровитель винограда. Почитается он оргиастическим культом, человеческими жертвами, исступлением женщин, фаллическими обрядами и изначала мыслится в некоей связи с Артемидой. Потом, подобно Элевтеру, он обращается в героя, гостеприимца Дионисова. Ибо в царствование Пандиона в Афинах, говорит миф, Дионис пришел к Икарию. Это пришествие означает усвоение имени божества и приведение местного оргиастического культа в соподчиненное отношение с рядом других ему подобных. Имя Диониса было заимствовано: откуда? Пандиона, через дочь его Пандиониду, предание связывает с мифом о Терее. Нам кажется важным в этом мифе не фракийское происхождение Терея, но женский оргиазм и локализация последнего в Давлиде, у предгорий Парнаса. Имя Диониса и его религию в собственном смысле принесли женщины-теориды (Θεωρίδαι, паломницы), аттические «лены» (Λῆναι), вошедшие в сношения, для устройства общих радений, с фиадами (Θυάδαι) Киферона и Парнаса. Они принесли весть не о Семелином сыне, но о боге-младенце, таинственно рождающемся из недр земли, лелеемом в колыбели-сите (λῖκνον) пестуньями-менадами. Женский оргиазм на Кифероне и Парнасе существовал с незапамятных времен, — прежде, чем он был приурочен к божеству Диониса. И, конечно, аттические женщины принимали в нем участие прежде усвоения имени Диониса общиной Икария, — раньше царствования Пандиона. Есть историческая правда в легенде о более раннем, чем посещение Икария, приходе Диониса в гости к Семаху, жившему на границах той же Эпакрии, и о посвящении богом дочери Семаховой в менады через передачу ей оргиастической небриды: случилось это еще при Амфиктионе. Столь стародавние были могли припомнить о своих сонмах и радениях аттические паломницы ко святым местам и горам Дионисовым; но собственной эрой Дионисовой религии в Аттике считалось царствование Пандиона, почему в оракуле о праздновании Анфестерий упоминается именно Пандион. Однако, женское служение, как отчетливо помнил миф началось еще раньше, и потому царствование Амфиктиона является как бы конкурирующей эрой аттического дионисийства. Павсаний (I, 3, 6) описывает, как один из древнейших священных, памятников Афин, глиняное изображение гостин у Амфиктиона, на которых в числе божественных гостей царя-гостеприимца присутствует и Дионис, — научивший, по Филохору (Athen. II, 38 С), Амфиктиона разводить вино водой. Сказание об Эрихтонии, гepoe-змие, и о росных нимфах, дочерях Аглавра, лелеявших на скале Акрополя божественного сына Земли и Огня (Гефеста), переданного им в корзине со змеями, которую они не смеют открыть, — это сказание свидетельствует о раннем усвоении Кекроповым городом представлений, родственных оргиям фиад; и эта быль отнесена мифологическим преданием ко временам Амфиктиона. К тем же временам восходит, наконец, и фаллический культ Диониса, чуждый, по-видимому, буколам и связанный в предании с именами Икария и Семаха: Дионис-Ортий (ὀρθός, «прямо стоящий») со своими нимфами получает от Амфиктиона алтарь в святилище Ор. Нимфы характерно отмечают культовый круг, где господствует женский оргиазм. Сельские Дионисии неразрывно сочетаются с древнейшими формами Дионисова почитания в Эпакрии. Итак, вначале — аграрный оргиазм икарийских виноделов (сюда относится асколиазм)¹⁹ и, в тесном с ним сочетании, — оргиазм женский, наследие пеласгической эпохи; потом — общение оргиастических женщин Аттики (Λῆναι)²⁰ с менадами Парнаса и Киферона — и, в результате, рецепция Дионисовой религии в Эпакрии и по другим местам, между прочим в самом городе (ἄστυ),²¹ — в то время как буколы еще развивают старую, прадионисийскую и критскую форму той же религии. Наконец, происходит слияние буколических культов с чисто дионисийскими. _______________________________ [19] ἀσκολιασμός — сельские соревнования, смысл которых: как можно дольше удержаться на бурдюке (ἀσκός), не свалившись с него. Асколиазм должен быть истолкован как веселое завершение горестного обряда, и недаром виноградари, с лицами, вымазанными красным суслом и гущей виноградных выжимок (τρύξ, τρῠγός), получили прозвище: «мазаных демонов» (τρυγοδαίμων), т.е. демонов растительности, те что и составили коррелят пелопоннесским Сатирам, которые в поминальных действах также были, по-видимому, проекцией в миф празднующих сельчан в козьих шкурах. [20] Λῆναι (-ῶν) αἱ лены, т.е. вакханки Anth. [21] ἄστυ, ἄστεως, эп. ἄστεος τό город, преимущ. столичный. 8. Слияние прадионисийского буколического и женского Дионисова культа. Священный брак как символ союза. Союз буколических и вакхических общин отчетливо запечатлелся в обряде Анфестерий, Бракосочетание царицы с Дионисом, как проницательно замечает Курциус, носит характер «соседской свадьбы». Ленеон — святилище виноделов, Буколион — пастухов. Царь принадлежит волопасам, царица — Дионису. С тех пор об Икарии говорят, что убили его виноделы и пастухи вместе, — хотя очевидно, что пастухи вначале вовсе не знали Икария. Буколы не могли сами по себе развить чисто дионисийской религии: мы не находим у них следов исконного женского оргиазма. Попытка доказать существование женских буколических тиасов, будто бы слывших под наименованием «коровьих» (βόες, CIG. 3604,) была неудачна: она основывалась на неверном объяснении простого упоминания о пожертвованных Афине стадах и пастухах в пергамской надписи, удовлетворительно истолкованной Френкелем в смысле, уничтожающем упомянутую конструкцию. Дионис-пастырь (βουκόλος) известен: он пасет диких быков (ποιμήν ἄγραυλον ταῦρον), по словам орфического гимна; по Теокриту, — «в горных долинах сам Вакх загоняет, прекрасный, телицу». Но нигде не встречаем мы коррелята: бог — бык, его служительницы — коровы. Когда Дионис — бык, его служители — пастыри быка; когда он сам пастырь, его паства — «стадо». Невозможным по существу предположенное соотношение между богом и менадами нам не кажется: элейские женщины призывают «достохвального быка», по-видимому, как чаемого супруга. Мималлоны (Μιμαλλόνες) — рогоносицы, как и Ио — корова. На Крите это представление намечено в мифах об оргийном Зевсе-быке. Но у эллинов оно не принялось: женский оргиазм издавна прорыл себе отдельное, широкое русло; его формы настолько сложились, что уже не поддавались чуждым воздействиям, и религия триетерий не знает в своем круге Пасифаи. Показательно, что в трагедии Эврипида, несмотря на культовую связь Семелина чертога в Фивах с буколами, несмотря на богоявление самого Диониса в образе быка, несмотря на растерзание тельцов, вакханки остаются чуждыми буколической символике и неизменно являются охотничьей сворой Артемиды, хтоническими собаками ночных дебрей. Зато все мужское служение Дионису — и дифирамб в частности — всецело покоится на оргиастическом культе быка, древнейшей форме буколической религии. Буколы знали Зевса, как бога-быка энтузиастических жертвоприношений. Менады знали Диониса, как змея и божественного младенца, рождающегося из темных недр земных. Полнота Дионисовой религии — следствие соприкосновения этих двух культов, мужского и женского. Когда буколы Фив, — подобно Кадму и Тиресию в Эврипидовой трагедии, — приняли религию менад, Дионис родился в Фивах от Семелы.²² Наличность трех религиозных фактов обусловила возникновение этого мифа о рождестве Дионисовом: женский оргиазм, осознание Диониса как ипостаси сыновней и оргиастическое представление о боге-отце. Это последнее было отличительно для критской религии волопасов; женские же экстазы и откровение о младенце принесли менады. Неудивительно, что брачный чертог Семелы оказывается в фиванском священном участке буколов. Деревянный столп (στῦλος) бога, упавший в Семелин чертог с молнией, о котором был оракул: «столп фивянам да будет сам бог Дионис многорадный», — быть может, один из критских бетелий (βαίθυλος, сравн. ἔμψυχοι λίθοι),²³ — древнейший фетиш бога, — столп этот чудесно обвивается плющом горных высей. Самый тирс есть как бы вещественный знак союза между буколами и менадами: пастушеское копье, покрытое лесной дикой зеленью. _______________________________ [22] Дельфийский пеан в честь Диониса, написан в последнюю треть IV в. до н.э. неким Филодамом из локрийской Скарфии (О празднике Дионисова рождества в Фивах Stat. Theb. II, 71). [23] βαίθυλος (от семит. bet-el, «дом бога») ὁ священный камень, объект поклонения, символизирующий божество. ἔμψυχος (ἔμ-ψῡχος) {ψυχή} одушевленный, живой Her., Arst., Plut. λίθος (-ου) ὁ камень (ξεστός Hom.; ἐκ λίθων ἐκλάμπει πῦρ Arst.). 9. Брачные чертоги буколов С тех пор, как буколы умножили свои святыни новой и отныне важнейшей — брачным чертогом (θάλαμος), — это были уже поклонники не пра-Диониса, но Диониса. Это событие было общим переломом первобытного буколического культа, от которого остались только разрозненные пережитки, в роде афинских Буфоний. Афинские буколы также получили «брачный чертог»; и, по-видимому, такие чертоги возникли и в других местах. Действительно, в новооткрытых фрагментах (1. 57. 58) Эврипидовой «Гипсипилы», где действие происходит в Немее, мы встречаем то же соединение священных мест: буколиона, названного δώματα μηλοβοσκὰ, — он же царский чертог царя Ликурга — μέλαθρα Λυκούργου — и примыкает к храму Немейского Зевса, чьим жрецом оказывается Ликург (как и афинские Буфонии посвящены Зевсу), — и брачного чертога Дионисова, θάλαμος Βρόμιου,²⁴ где женщины хора, подобно герэрам Афин,²⁵ готовятся вознести Дионису курения и возлиять вино. Ликург, иначе Лик (Λύκος, «волк»), герой Немеи, чей гроб чтим в священной Зевсовой роще, — без сомнения, одна из ипостасей Ликурга-Бута, о котором мы говорили как о родоначальнике Бутадов и герое-архегете буколов: этим объясняется немейский буколион. По Гигину, Гипсипила живет рабыней не у немейского Ликурга, а у фиванского Лика. Как бы то ни было, служительница Диониса попадает к буколам. То же можно утверждать и о Дирке: фиванский миф о погубившей ее Антиопе, неистовой дочери Лика, и об ней, привязанной к рогам быка, разоблачающегося Дионисом, отразил первое общение буколов с менадами в Фивах, борьбу и союз. Антиопа — представительница прадионисийского буколического культа; Дирка — менада Киферона. Отсюда произошел таинственный обряд священного брака. Но его прообраз — брак царицы-менады с Зевсом-Дионисом в Фивах — должен был существенно измениться в Афинах. В Аттике также родился Дионис: это был элевсинский Иакх.²⁶ Отец его был Загрей, Дионис подземного царства, Дионис весенних и навьих Анфестерий. В этой форме священный брак в чертоге Буколиона был поистине национальным аттическим культом, а не беотийским новшеством. Итак, для реформы буколов нужны были орфики; ибо все вышеизложенные особенности аттической рецепции отмечены печатью древнего орфизма. В нижеследующих словах Диодора мы находим как бы формулу этого орфического синкретизма: «Говорят, что от Зевса и Персефоны родился Дионис, некоторыми именуемый Сабазием (орфизм); рождество его справляется в действах, во имя его свершаются ночные и тайные служения (менад). Утверждают, что он первый начал сопрягать волов (βουζύγοι, «бузиги») и тем усовершенствовал земледелие, почему и изображается рогатым (буколический культ)». Неудивительно, что буколический культ отныне пронизан элементами орфическими. Религиозно-исторический процесс, совершившийся в глубокой древности в аттическом деме Флии,²⁷ поскольку он угадывается в своих основных чертах, служит дальнейшим подтверждением добытых результатов. Культ Флии — культ рода Ликомидов, родоначальником которых считался некий Лик (Λύκος), сын Пандиона. Это наводит на мысль, что древнейшие Ликомиды — буколы. С другой стороны, главный культ Флии — культ Земли, именуемой Великой богиней и имеющей при себе, в качестве оргиастического мужского коррелята, некоего дионисоподобного бога низведенного впоследствии в герои под именем Флия (Φλήος, Φλέως, «растительный Дионис»).²⁸ Слияние мужского буколического элемента и женского дионисийского произошло во Флии явно под орфическим влиянием: с тех пор Ликомиды — орфический род, хранящий древнейшие гимны Орфея и правящий орфико-дионисийские действа, а их родоначальник Лик, утративший черты дионисийского антагониста букола-Бута-Ликурга, уже только пророк и основатель религиозной общины. _______________________________ [24] Βρόμιος ὁ Бромий, «Шумный» (эпитет Вакха) Pind., Aesch., Eur., Arph. [25] γεραραί αἱ «старицы» (жрицы Диониса в Афинах) Dem. [26] По Диодору, Дионис родился в Элевтерах (III, 66; IV, 2). [27] Φλυεῖς (-έων) οἱ Флии (дем в филе Κεκροπίς) Isae. [28] φλέω — быть переполненным, изобиловать, быть обильным. φλέως (-ω) ὁ тростник, камыш Arph., Arst. _______________________________
ДИОНИС ЗАГРЕЙВоскресенье, 03 Сентября 2012 г. 01:47 (ссылка)
Вячеслав Иванов Διόνῡσος, эп. ион. Διώνῡσος ὁ Дионис, тж. Βάκχος, Ἴακχος, Βρόμιος (Бромий, т.е. шумный, гудящий, поющий), Εὔιος (Эвий, «благой»), δίγονος (δί-γονος, дважды рождённый) Anth.; διμήτωρ (δι-μήτωρ, имеющий двух матерей Eur., Diod); ὥριος, цветущий; νόμιος, пастушеский, охраняющий стада; κερασφόρους, рогатый; Ἀγριώνιος, дикий, яростный; Ἀνθρωπορραίστης, растерзывающий людей; ὠμηστής, пожирающий сырое мясо; ὠμάδιος, свирепый.¹ Ζαγρεύς — Загрей, эпитет Диониса в образе быка; Многочисленные свидетельства античных писателей, изображения на вазах, рельефы представляют менад  разрывающими животных, например, ланей (διασπᾶν νεβρούς), тельцов, быков. Молодых волчат и козлят, приносимых в горы, они питают молоком своих сосцов (что, не без основания, особенно отмечает миф) и потом растерзывают. Еще во второй половине IV в. н.э., мог воскреснуть в народе стародавний обычай: по словам церковного историка Феодорита,² «огонь горел на идольских жертвенниках, и посвященные в оргии Диониса бегали, одетые в козьи шкуры, и разрывали собак в вакхическом исступлении». разрывающими животных, например, ланей (διασπᾶν νεβρούς), тельцов, быков. Молодых волчат и козлят, приносимых в горы, они питают молоком своих сосцов (что, не без основания, особенно отмечает миф) и потом растерзывают. Еще во второй половине IV в. н.э., мог воскреснуть в народе стародавний обычай: по словам церковного историка Феодорита,² «огонь горел на идольских жертвенниках, и посвященные в оргии Диониса бегали, одетые в козьи шкуры, и разрывали собак в вакхическом исступлении».Козья шкура — дионисийское одеяние (αἰγίς, τραγῆ), наравне с фракийской «бассарой» (откуда — Бассариды или Бассары, фракийские менады), одеждой, по-видимому, из лисьих шкур, от известного Геродоту слова, означающего лисицу.³ Дионисова «небрида» (νεβρίς) — накидка из шкуры лани, а техническое выражение культа νεβρίζειν значит «облекаться в небриду» и «растерзывать ланей». Аналогия обстановки шаманского оргиазма невольно останавливает  внимание: шаманы носят личины, плащи из оленьих и козьих шкур; к плащам прикрепляют жгуты, изображающие змей с раскрытой пастью; в руках держат трости, — подобно тому, как служители Диониса, облеченные в звериные шкуры и часто замаскированные, перепоясывались змеями и вооружались тирсами. внимание: шаманы носят личины, плащи из оленьих и козьих шкур; к плащам прикрепляют жгуты, изображающие змей с раскрытой пастью; в руках держат трости, — подобно тому, как служители Диониса, облеченные в звериные шкуры и часто замаскированные, перепоясывались змеями и вооружались тирсами.Из глубокой древности шло обыкновение — надевать на себя для обрядового действа шкуры разорванных, в жертву богу, животных. Мясо их пожиралось, и притом пожиралось сырьем. За исконность этой формы жертвы ручается ее дикая первобытность. По слову Еврипида, «Вакх, носящий священную небриду, охотится за добычей из крови козьей, за усладой сырого мяса». По Аполлонию Родосскому, вакханки — «фиады, сырьем питающиеся» (ὠµοβόροι).⁴ Климент Александрийский в своих полемиках настаивает на отвратительности этого священного язычникам обычая. ___________________________ [1] Слова ὠμηστής и ὠμάδιος являются производным от ὠμός: ὠμός 1) сырой, невареный (ὠμούς τινας καταφαγεῖν Xen. — съесть кого-л. живьем, перен. жестоко расправиться с кем-л.); 2) дикий, грубый, суровый, жестокий (δεσπότης, φρόνημα, ὀργή Aesch.; δαίμων Soph.; βούλευμα, στάσις Thuc.; ψυχή Plat.); ὠμηστής (ὠμ-ηστής) adj. m, редко f {ὠμός} 1) питающийся сырым мясом (Ὠμηστῇ Διονύσῳ καθιερωθῆναι Plut. — быть заколотым в жертву Дионису Сыроядному); 2) кровожадный (ἀνήρ Hom.). ᾔστωσα aor. к ἀϊστόω ἀϊστόω — уничтожать, истреблять, губить. ὠμάδιος (ὠμ-άδιος) {ὠμός} ἀδίκως — несправедливо, беззаконно Aesch., Her., Lys., Plat. ἄδικον τό тж. pl. беззаконие, насилие Pind., Xen., Plat. [2] Θεοδώρητος ὁ Κύρου — Феодорит Кирский, выдающийся христианский писатель V века, представитель Антиохийской школы богословия. [3] βασσάρα ἡ накидка из лисьей шкуры; βασσάριον τό ливийская лисица Her. [4] ωμοβόρος (ωμο-βόρος) — питающийся сырым мясом. βορός {βιβρώσκω} прожорливый Arph., Arst., Luc. Служительницы Диониса пожирают сырое мясо разрываемых ими животных в подражание своему богу и для приобщения его трапезе, так как раздрание — жертва Дионису, будучи в то же время, как мы увидим, воспроизведением его страстей. Оттого Дионис носит священное наименование Омадий (Ὠµάδιος, Ὠµηστής), от ὠμός — «сырой». Орфические секты сохранили и углубили древний вакхический обычай: их члены, приняв однажды, при посвящении, участие в священной оргии, где разрывались животные и мисты причащались их окровавленному мясу, — воздерживались потом навсегда от употребления мясной пищи. По свидетельству Фирмика Матерна, на острове Крит долго держался связанный с триетерическими празднествами обряд, который названный христианский писатель рисует так: «Они терзают живого быка зубами и разбегаются с нестройными криками и воплями по лесным чащам, делая вид, что бешенствуют в безумии». Это было служение Дионису Таврофагу.⁵ ___________________________ [5] ταυροφάγος (ταυρο-φάγος) — поедающий быков, эпитет Диониса Soph. Раскопки Эванса показали, что миф о Минотавре, «человекобыке», пожиравшем человеческие жертвы в критском Лабиринте, не лишен исторического основания. Стенные фрески Лабиринта, храма или дворца, посвященного «богу двойного топора» (λάβρυς), изображают род боя быков, где жертвами разъяренных животных оказываются отданные им на добычу пленники. Миф о растерзании Дирки, привязанной к дикому быку, позволяет видеть в этом обычае элементы религии дионисического характера. Свидетельство Фирмика скрепляет связь приведенных фактов. Кажется, что дионисические оргии, своего рода оргиастические «бои быков», соединенные первоначально с человеческими жертвами, впоследствии же ограничивавшиеся растерзанием быка, имели древнейшие корни, между прочим, на Крите, где божество, являющееся изначала с чертами Диониса, позднее — с ним отождествленное, почиталось преимущественно в образе быка. Не подлежит сомнению, что дионисийские причащения сырому, живому телу жертвенных животных были повсюду только заменой первоначальных человеческих жертв. Павсаний сообщает, что в Беотии принесение в жертву Дионису козлят заменило периодические жертвенные убиения мальчиков. «Есть тут храм и Диониса Эгобола.⁶ Как-то раз, принося жертву богу, они под влиянием опьянения пришли в такое неистовство, что убили жреца Диониса; убившие тотчас же были поражены моровой язвой и вместе с тем из Дельф к ним пришло веление бога приносить Дионису ежегодно цветущего мальчика; немного лет спустя, по их словам, вместо мальчика бог разрешил приносить им как жертву козу». Еще в эпоху персидских войн, по Плутарху (Themist. 13), были убиты в жертву Дионису — «Пожирателю сырого мяса» — три пленных перса. На Хиосе тому же Дионису (Ὠµηστής) приносился в жертву чрез растерзание человек, по сообщению неоплатоника Порфирия. На Тенедосе, где Дионису был усвоен упомянутый символ двойного топора, приносился в жертву телец; перед жертвоприношением на копыта тельца надевались котурны — высокая обувь, употребительная в трагедиях, и тот, кто нанес топором удар жертве, спасался к морю от предполагаемого преследования мстителей за убийство, — что повторяется и в обряде аттических Буфоний.⁷ Замена человеческой жертвы умерщвлением животного не может быть означена культом с большой прозрачностью. Прибавим, что Дионис, которому приносилась тенедосская жертва, был Дионис — «Разрыватель людей» (Ἀνθρωπορραίστης). ___________________________ [6] αἰγοβόλος (αἰγο-βόλος) adj. m коз поражающий, эпитет Диониса. [7] βουφόνια (βου-φόνια) τά праздник заклания быка (в Афинах) Arph. Миниады мечут жребий, которой из сестер жертвовать Дионису, и вынувшая жребий отдает своего сына; сестры, в исступлении, почувствовав, по словам Плутарха, голод к человеческому мясу, разрывают и пожирают ребенка. С именем Диониса «Человекорастерзателя» должно сопоставить другое, однажды встречающееся, из его многочисленных наименований: Ψυχοδαΐκτης, что значит «убийца, или разрыватель, душ». Нельзя относить этого означения к его силе поражать душу недугом священного безумия (νουσφαλής, νοοπλανής). Нет, слово выражает идею религиозного каннибализма в его чистейшей форме. Боги каннибалов не столько антропофаги, сколько психофаги: они питаются душой, а не плотью жертв. Терзая плоть жертвоприносимых, Дионис растерзывает их душевное тело, их психею. Поистине, дионисизм есть растерзание индивидуума, разлучение Я с собой самим. Мы приходим к твердому выводу: убийственная сторона дионисийского оргиазма есть исконный оргиазм каннибализма. Этот каннибализм в принципе навсегда сохранился в Дионисовой религии, но был ослаблен в применении. Человеческие жертвы никогда не были упразднены окончательно; но пожирание плоти человеческой было отменено. Тем не менее, символика культа искала сделать прозрачным первоначальное значение живьем пожираемой жертвы, как жертвы человеческой. Человеческие жертвоприношения в Дионисовой религии были трех родов: жертвенные убиения детей (как кажется, исключительно мужского пола), мужчин и женщин. Если два первые типа соответствуют младенческому и мужскому аспектам бога, — жертвы женские не столько связываются с муже-женским (ἀρσενόθηλυς) обликом Диониса или его женскими метаморфозами, сколько с представлением о принадлежности богу одержимой им женщины: ибо ему обреченная рассматривается как менада. Если умерщвленные для бога отрок, юноша, муж являют собой его же лики, то женская его жертва есть его Ариадна. Любовь Диониса смертельна. Что Ариадна, ипостась требующей человеческих жертв Артемиды, должна погибнуть, так же требуется логикой мифа, как и заклание Ифигении, представляющей собой другую ипостась той же человекоубийственной богини. Но миф, соединяющий Диониса и Артемиду, как два аспекта, мужской и женский, одной могущественной и страшной божественной силы, обусловливает гибель Ариадны ее соединением в любви с Дионисом. По свидетельству Гомера, Артемида убивает Ариадну своей «тихой» стрелой «по уликам Дионисовым», что значит, по-видимому, что служительница девственной богини навлекла ее месть, быв уличенной в нецеломудренном союзе с богом. Семела, первообраз Менады, погибает от любви отца Дионисова, который представлен мифом уже в аспекте Диониса, ему изначала присущем. Древний, первый Дионис имеет матерью безутешную Персефону. Трагическая Ио является в местном мифе также достойной матерью бога трагедий. Священные детоубийства и взаимные священные убиения исступленных служителей и служительниц Дионисовых взяты мифом из ужасной действительности кровавых экстазов древнейшей, забытой Греции. По отрывочным намекам мы догадываемся, что эти убийственные служения искореняли целые роды вековым самоистреблением. Так, неоплатоник Порфирий упоминает о дионисийском клане Бассаров, которые «в неистовстве человеческих жертв и вкушений жертвенных, исступленно нападая друг на друга, и друг друга пожирая, уничтожили все свое племя». Дионисийская религия принуждена была силой вещей, более всех других религий, искать освобождения, искупления от крайностей своего обрядового каннибализма. И вот, в ней развивается богатая жертвенная символика, которая сводится к одному принципу замены, подстановки животной жертвы наместо жертвы человеческой. В Аркадии жертвоприношение девушек заменяется их бичеванием пред кумиром Диониса, как в Спарте бичевание отроков пред идолом Артемиды замещает их жертвенное умерщвление. Культы обоих родственных божеств равно человекоубийственны, но освобождение исходит, по-видимому, из очищений Дионисовой религии, в лоне которой оно совершилось ранее. Это освободительное начало делается, по мнению Липперта, преимущественным признаком Дионисовой религии в религиозном сознании греков. Если Дионис является освободителем (Λύσιος), разрешителем (Ἐλευθερεύς), — это потому, думает названный ученый, что он вызволил матерей от закона детоубийства. Быть может, Липперт слишком настаивает на этой стороне дионисийской идеи. Во всяком случае, мы имеем в пользу этого положения некоторые указания. Вспомним миссию Эврипила (Εὐρύπυλος), который, открыв Ахаии нового бога, отменил тяготевшие над ней человеческие жертвоприношения Артемиде. По выражению того же исследователя, Дионис стал для эллинов примирительной Пасхой. Мы, конечно, не можем взирать без ужаса на это кровавое прошлое человеческого сердца. Но древнейшие религии, с их каннибализмом и исступлением, были плодотворным лоном религиозной идеи, осветившей мрак мира. Она стоила быть купленной дорогой ценой. Дорогой, — ибо эти древние люди, воспитавшие человечество своим священным восторгом, давшие ему навеки религиозный закал, — страдали. Но они не боялись ни страдания, ни смерти. Они были боговещие, чуткие к Божеству в мире, и они были жизнещедрые, ни себя, ни других не жалевшие в своих боговдохновенных порывах. Они не жалели разбить сосуд своего тесного Я и, только разбивая его, впервые обрели себя на воле, великие души. Жертва была сладостна этим древним исступленным, и недаром блаженной славит Еврипидов хор вакханок дионисийскую мученицу — Дирку: «О дочь Ахелоя, чтимая дева, ты приняла некогда сына Зевсова в струи твои! И ты, о блаженная Дирка, ты отстраняешь мой увенчанный сонм? Зачем ты презираешь, зачем бежишь меня? Подожди, будет тебе мил Бромий, клянусь гроздьями дара Дионисова!». Они любили, эти древние люди, простор мира и простор Бога и всем существом своим доказывали то, что мы, поздние, испытываем только в минуты мысленного созерцания, — что «сладостно крушенье в этом море» (Леопарди). Живым и непосредственным изволением вступали они в мистическое единение с силой, среди вечных богоявлений которой они жили. Ибо не должно думать, что мистицизм — в смысле исканий прямого общения и слияния с божеством — развивается как поздний цвет уже окрепшего религиозного сознания, что он — его утончение и одухотворение. Религиозно-историческое исследование приводит к противоположному взгляду. Употребление огня при жертвоприношении — сравнительно новая богослужебная форма. Огонь уже посредствует между материальной и сверхматериальной сферами. Этот «чистый жрец богов», по индийским и иранским представлениям, — как посредник, как жрец, становясь между человеком и богом, разобщает, разъединяет их. Более древняя форма жертвы состояла в непосредственном кормлении богов. Пища ставилась на местах, ими посещаемых, между прочим, на престолах, где они предполагались сидящими, или — так как кровь была их любимой пищей — жертвенник обмазывался кровью. К этому периоду жертвы относится происхождение обычая «феоксений» (откуда римские «лектистернии») — гостин богов, примеры которых мы встречаем и в Дионисовом культе, — совместных трапез, где боги принимают участие наравне с людьми. Здесь человек входит в ближайшее соприкосновение с божеством; но и эта близость, по-видимому, только ослабленная форма иного культового общения, когда человек искал большего и не столько думал о том, чтобы напитать божество, сколько о том, чтобы самому им напитаться и чрез то усилиться, обожествиться. Тогда человек еще вовсе не жертвовал, — он пожирал бога в его фетише, — животном или в человеке, им исполненном, и так становился до некоторой степени сам богом. Другим средством соединения служил — без сомнения, уже в древнейшие времена — мистический брак, примеры чему мы видели в дионисийской обрядовой символике. Искушение библейского змия: «вы будете как боги», — было некогда символом, исчерпывавшим все содержание религии; «делаться как боги» значило то самое, что впоследствии люди назвали «служением богам». В эту первобытную эпоху они еще далеки были от религиозного отчаяния гомеровского времени, когда имя богов было «бессмертные», а имя людей — «смертные», и непроходимая пропасть разверзлась между обоими родами. Ибо, как говорит позднейший орфик, «боги — улыбка Божества (единого), люди — его слезы».⁸ ________________________ [8] …«боги — улыбка Божества, люди — его слезы» — заимствование из египетской традиции. Ра-Атум возрадовался, увидев вернувшихся Шу и Тефнут, которые нашли его Око, и слезы радости упали из глаз его: «И они (Шу и Тефнут) возвратили мне (Ра-Атуму) Око мое вместе с собой, и потому воссоединился я с членами моими. Я зарыдал над ними и потому люди пришли в существование из слез, что упали из Ока моего». Люди по-египетски — rmṯ («ремеч»), поздняя форма — rmt («ремет»), а слезы — rmjt («ремит»). Поэтому фраза «люди — слезы бога» является игрой слов. В то время как религиозная мысль искала мистического синтеза между божественным и человеческим началами, оргиастические культы, и среди них преимущественно культ Диониса, поддерживали непрерывающуюся живую связь между новой мистикой и доисторической мистикой человека-каннибала, питающегося своим божеством, чтобы им исполниться, пожирающего сырое мясо людей или животных или плоть мертвеца, где он ведал божественное присутствие, — пьющего кровь своих жертв, т.е. их душу, чтобы одушевиться богом, им присущим. Как же мотивируется эта исключительная и единственная из греческих культовых форм? Растерзание совершается «в подражание страстям Дионисовым» (κατὰ μίμησιν τοῦ περὶ Διόνυσον πάθους). По Лактанцию, обряды произошли из воспроизведения божественных деяний, страстей и смерти (ipsi ritus ex rebus gestis vel ex casibus vel ex mortibus nati). Вот объяснение жертвы в историческую эпоху: она символизирует смерть бога, про которого миф повествует, что он был растерзан. Жертва — символ бога и его страстей, по позднейшему представлению. Но древность не знает символа: в ней он еще живая действительность. Было время, когда дионисийская жертва был сам Дионис. По Лактанцию, обряды произошли из воспроизведения божественных деяний, страстей и смерти (ipsi ritus ex rebus gestis vel ex casibus vel ex mortibus nati). Вот объяснение жертвы в историческую эпоху: она символизирует смерть бога, про которого миф повествует, что он был растерзан. Жертва — символ бога и его страстей, по позднейшему представлению. Но древность не знает символа: в ней он еще живая действительность. Было время, когда дионисийская жертва был сам Дионис. Недаром говорится об обрядовом растерзании ланей «растерзывать по слову (или преданию) тайны неизреченной» (διασπᾶν κατὰ ἄρρητον λόγον). В тайне тождества жертвы и бога и состоял, без сомнения, сокровенный, мистический смысл обряда. Ибо относить «предание тайны» к какому-либо мистическому мифу о Дионисовом растерзании нет оснований: миф в его разновидностях был издавна известен и распространен в греческом мире. Предание о растерзании Диониса-Загрея Титанами является в общих чертах установленным уже в VI веке. Загрей, первоначальный Дионис, — сын Зевса и Персефоны, Зевсовой же дочери, от которой он родил его, сам и придав ей образ змеи. Имя «Загрей» — имя хтонического божества, бога Смерти.⁹ ________________________ [9] Дионис приводился в соответствие с Аидом, владыкой подземного царства, через отождествление с египетским Осирисом. Осирис, в египетском представлении, был владыкой преисподней. Развитие образа Осириса (в эллинистический период Египта) — Серапис часто изображался (как и Аид) с трехголовым псом Цербером — охранителем подземного царства. Ζαγρεύς (-εως) ὁ Загрей 1) эпитет Диониса «первого» как сына Зевса и Персефоны, растерзанного Титанами тотчас же после его рождения Anth. 2) эпитет Гадеса Aesch. ζαγρεύς ~ ζα-ἀγρεύς ὁ, «великий ловчий». ἀγρεύς (-έως) ὁ охотник, ловец Pind., Aesch., Eur., Luc., Anth. У Еврипида Загрей — Дионис ночных радений. Еще ребенком он принимает от Зевса господство над миром. Но хаотические сыны Земли — дикие Титаны — хотят его растерзать. Они дарят ребенку символические игрушки — волчок, шар, пирамиду, между прочим зеркало, — чтобы отвлечь его внимание. Они вымазывают лица гипсом, чтобы быть неузнанными. Между тем как отрок любуется на свое отражение в зеркале, они нападают на него. Он ускользает из их рук чрез последовательные превращения, но в образе быка все же делается их добычей. Титаны поглощают растерзанные части бога, только сердце его, спасенное Афиной Палладой, достается Зевсу, который его проглатывает: это — росток будущего Диониса, долженствующего родиться от Семелы. Или же повествуется, что сердце Диониса погребено под горой Парнасом. Месть Зевса испепеляет Титанов. Как ни много первобытных черт обнаруживает этот миф, восходящий в своих элементах несомненно до глубокой древности, он не был общим достоянием дионисийских общин и не влиял значительно на религиозные представления культа вне круга орфической секты. Он был лишь одной из попыток точнее определить уже данное в культе понятие страстей Дионисовых, которое, как должно выясниться из дальнейшего исследования, непосредственно и без всякого мифологического звена связывалось с дионисийской жертвой. Разделению дионисийских торжеств на всенародные празднования и мистические радения соответствовало, в области жертвы, различение жертвы общеритуальной и жертвы мистической. Тогда как первая состояла большей частью в обычном всем культам заклании и сожжении жертвенного животного, — вторая имела целью «подражательное воспроизведение (µίµησις) страстей бога». Ее характеризуют экстаз причастников, растерзание ими живой плоти и вкушение от плоти растерзанной (ὠμοφαγία). Основным религиозным представлением, обусловившим эту исключительно дионисийскую культовую форму, необходимо признать интуицию пресуществления раздираемой жертвы в божественную плоть и душу самого Диониса. При отсутствии органов и форм религиозной догматики, это верование, очевидно, не могло быть закреплено иначе, как путем тайного предания (ἄρρητος λόγος), жившего в устах оргиастических сонмов; но, и как таковое, оно едва ли в силах было отстоять чистоту и непосредственность своего изначального богочувствования от смешения с затемняющей и изглаживающей древний прямой смысл обрядов символикой, за недостатком прочной организации оргий, на подобие элевсинских мистерий. Вот почему нельзя ожидать ясных свидетельств древности о мистической природе жертвенного таинства; но энергия отождествления жертвы и бога в дионисийской символике позволяет судить по могучим пережиткам верования об огромности его исконного значения. С другой стороны, феномен ипостазирования Диониса в разноликих героях-страстотерпцах объясняется единственно фактом обожествления оргиастической жертвы, наглядно вырастающим из глубочайших корней первобытного миросозерцания. Если в других культах, где мистической жертвы в вышеуказанном смысле не было, особенное отношение между божеством и жертвоприносимой тварью — только отголоски эпохи, когда оно чтилось в образе именно этой твари (Гере, например, как жертва и как символ-фетиш, принадлежала коза, Асклепию — змея), то жертва дионисийская до поздних времен сохранила в умах прямое представление о тожестве бога с посвященным ему животным. «Козленок — Дионис» (ἔριφος δ ́Διόνυσος), истолковывает культовый термин Гесихий. «Бог-Бык» феспийской надписи, конечно, также Дионис. Пенфей, охваченный безумием, говорит неузнанному Дионису: «Мне кажется — я вижу два солнца, и ты сам, как бык, идешь пред нами, и на голове твоей рога. Разве ты воистину зверь? Ведь ты обернулся быком». «Явись быком», — умоляют менады. Дионис являет свое присутствие ревом невидимого быка. Женщины в Элиде поют (текст священной песни сохранен Плутархом): «Сниди, сниди во храм твой, герой-Вакх! Сниди с Харитами туром! Буйным туром примчися!» — и припев гласит: «Тур достохвальный, тур достохвальный!». Одна камея представляет быка, несущего на рогах трех дев: это — Дионис, влекущий с собой Харит. Стих Пиндара (Ol. 13, 18), доселе вызывающий недоумение, упоминает о явлении «Харит Дионисовых с гонящим быка (βοηλάτα) дифирамбом»: поэт, которому предносится образ подобный изображению на упомянутой камее, олицетворяет дифирамб-песнь в видении ярого быка, одержимого Дифирамбом Дионисом. Этот бык — вместе эпифания бога и его жертва. По Симониду дифирамб (διθύραμβος) — топор «быкоубийца» (βουφόνος). Изображения Диониса в виде быка были особенно многочисленны в Кизике (ταυρόμορφα ἀγάλματα πολά, по Плутарху) в местностях, где был распространен и культ двойного топора. Что он часто принимает образ быка, известно из многих мифов. Атрибут рогов засвидетельствован и изображениями, и рядом священных эпитетов. На одной статуэтке бога облекает бычья шкура с головой и рогами. На Тенедосе, острове двойного топора, совершались дионисийские обряды: на копыта тельца надевали котурны и так убивали его, после чего убийцу преследовали мнимые мстители до моря. Прибавим, что за коровой, от которой должен был родиться обреченный телец, ухаживали, по тому же свидетельству Элиана, как за женщиной-роженицей. Среди культовых эпитетов Вакха, встречается в Аргосе βουγενής («рожденный коровой»).¹⁰ Дионис был столько же «бык» или «в быке», сколь он был «деревом» или «обитающим в дереве» (ἔνδενδρος). Дельфийский оракул, рассказывает Павсаний, повелел коринфянам чтить одну сосну, поваленную фиадами на Кифероне, за Диониса; они сделали из дерева два идола бога. Подобным же образом Дионису поклонялись в других фетишах, как, например, в столпе (στῦλος) или в древесном стволе (αὐτοφνὲς πρέμνον). Еще нагляднее, быть может, сказывается отожествление бога и жертвы в мифе, ипостазирующем Диониса в священных ликах страдания, поскольку дионисийский миф ясным зеркалом отображает предания древнейшего культа. Нимфы Нисиады, лелеющие Диониса и вдруг воспылавшие голодом к плоти божественного младенца, являют собой, наравне с Титанами, первообраз исступленных детоубийц мифа и исторической действительности. Если дионисийские женщины, на Парнасе, носившие колыбели-кошницы,¹¹ мистически становились самими нимфами-кормилицами бога и действительно «будили младенца в колыбели», то, разрывая козлят, принесенных в корзинах в горы, они же воистину растерзывали Вакха-отрока. Миф о Пенфее, очевидно, — отвлечение из оргиастической символики празднеств на Кифероне Пенфей же — ипостась Диониса: недаром он принимает символический облик быка или льва в видении менад и — герой рассудка, по Еврипиду, — погибает обезумевшим; само имя его выдает «страстотерпца»,¹² и существенное в его мифическом образе, конечно, — его страстнàя участь, закономерно обусловленная, согласно логике дионисийского мифотворчества, богоборством героя-ипостаси. ________________________ [10] Образ быка достался Дионису из египетской традиции в силу отождествления с Осирисом. Почитавшийся в Мемфисе божественный бык Апис, считался живым воплощением Осириса и зачастую отождествлялся с ним под именем Осирис-Апис. [11] λῖκνον τό 1) плетеная колыбель HH. 2) веялка Arst. 3) культ. корзина с первинками плодов (преподносившаяся преимущ. Вакху-Дионису в дни его праздника) Soph., Plut., Anth. [12] Πενθεύς (-έως) ὁ Пенфей (сын Эхиона и Агавы, внук Кадма, миф. царь Фив, растерзанный вакханками за непочтение к Вакху) Aesch., Eur. πένθος (-εος) τό 1) печаль, скорбь, горе; 2) траур; 3) несчастье, бедствие Her., Pind. Мифу о Пенфее аналогичен, также связанный с горой Кифероном, миф об Актеоне, сыне дионисийских родителей, Аристея и Автонои, сестры Агавы. Сходство простирается до того, что оба героя застигаются дионисийскими женщинами как соглядатаи их тайнодействий. Ибо, как Артемида — сопрестольница и подруга Диониса, так и ее женский сонм, будь то сонм нимф, горных охотниц или стан амазонок, во всем подобен Фиасу менад. Впрочем, другая, более древняя версия мифа вовсе не знает об участии Артемиды в растерзании Актеона и приписывает ему иную вину — не пред Артемидой, а пред Семелой, матерью Дионисовой. В одной коринфской сказке-повести тот же Актеон — уже красивый мальчик, растерзанный своими обожателями. Очевидно, что мотив растерзания — вот то постоянное, на чем держится, как на прочной основе, изменчивый миф. Так и Орфея, пророка и ипостась Диониса, должны были растерзать менады; в чем проявилась вина его богоборства против дионисийского начала, творцы мифа не знали, и не нашли пластически-удовлетворительного объяснения его мистической участи. Растерзание (σπαραγµός, διασπασµός) — постоянная печать и знамение дионисийского героя. Уподобление Актеона Дионису подчеркивается у Нонна и его одеждой — пестрой шкурой оленя, — отчего собаки Артемиды, обманутые его видом, разрывают его, как лесного зверя. Вспомним, что менады — собаки в трагедии Еврипида о Пенфее. На знаменитой фреске, изображавшей подземный мир, Полигнот представил Актеона и его мать сидящими на вакхической небриде, с молодым оленем в руках. Наконец, Актеон — охотник, и охотник — Дионис, «сильный ловчий» (Ζαγρεύς). Не даром Нонн включил сказание о нем в свою дионисийскую поэму и сближает Артемиду, виновницу Актеоновой гибели, с Дионисом-охотником. Актеон — местный Дионис месяца Элафеболиона, месяца «оленьего боя» и великих Дионисий. Мы могли бы прибавить: и дионисийского маскарада, — ибо одной из существенных вакхических черт мифа об Актеоне является его переодевание — сам ли набросил он на себя оленью шкуру, или Артемида накинула ее на него, как повествовал Стесихор. Цель, которую преследовали дионисийские женщины, разрывая, под маской жертвы, бога и пожирая плоть жертвенную, была алчба исполниться богом, сделаться «богоодержимыми» (ἔνθεοι). Арнобий говорит, обличая вакханок: «Чтобы показать, что вы полны божеством и могуществом его, вы разрываете окровавленными устами внутренности стенящих козлят». Понятие богоодержимости (κατοχή, ἐνθουσιασμός) было, впрочем, почти уже ослаблением первоначального представления, которое обнаруживается в наименовании всех участников оргии «вакхами» (βάκχοι). Подобным же образом, именуются оргиасты и σάβοι, по имени фракийского или фригийского Диониса-Сабазия. Этот факт свидетельствует об исконном отожествлении бога — уже не с жертвой только, но и со всеми священнодействующими и причастившимися жертве. Сделавшееся пословицей изречение: «много тирсоносцев, да мало вакхов» (πολοὶ μὲν ναρθηκοφόροι, παῦοι δέ τε βάκχοι. Plat.)¹³ — вполне выражает уже углубленную орфиками идею внутреннего слияния с божеством, даруемого благодатью мистического экстаза и недостижимого внешними обрядовыми средствами. ________________________ [13] Слово ναρθηκοφόροι («нартеконосцы») переведено как «тирсоносцы». Растение нартек часто использовалось в качестве жезла (тирса), поэтому слово «нартек» стало эквавалентно «тирсу». ναρθηκοφόρος ὁ нартеконосец, носитель нартекового жезла (об участниках шествий в честь Вакха); νάρθηξ (-ηκος) ὁ 1) бот. нартек, ферула (Ferula communis L., растение из семейства зонтичных, сердцевина которого медленно тлеет, т.е. долго хранит огонь) Hes., Aesch., etc. 2) культ. нартековый жезл (вакхантов) ex. (νάρθηκες ἱεροί Eur.) θύρσος ὁ (в Anth. pl. тж. τὰ θύρσα) тирс, вакхический жезл, увитый плющем и виноградом и увенчанный сосновой шишкой; ex. ὄφεις περιελιττόμενοι τοῖς θύρσοις Plut. — тирс, увитый змеями. Любопытно, что не только сами участники радений носят имя своего бога, но и священные предметы, ими при культе употребляемые. «Вакхом» называли дионисийский венок и дионисийскую ветвь. Приводя стих Ксенофана: «елок частые вакхи (т.е. ветви) обстали (окружили) домы», — схолиаст Аристофана поясняет, что именем Вакха звали не одного Диониса, но и совершающих оргии, и ветви, несомые мистами. «Со-вакхи» (σύµβακχοι) означало — «соучастники в оргиях». Состояние оргиастов, как соучастников страстей бога, именуется у Аппиана и Плутарха «вакхическими страстями». Чтобы исчерпать идею мистического отожествления в культе Диониса, остается указать, наравне с представлениями тождества бога и жертвы и тождества бога с причастниками жертвы, — на отожествление бога и богоубийцы, или жертвы и жреца. Если Дионис — бык (ταῦρος) или козел (τράγος, µελάναιγις), то он же — пожиратель быков и козлоубийца (ταυροφάγος, βουφάγος, αἰγοβόλος, ἐρίφιος). Человек разорванный — Дионис, как жертва Титанов; но и сам Дионис — «разрыватель людей» (ἀνθρωπορραίστης). Жертва, разъятая и сырьем съеденная, — пожранный Титанами Дионис; но и сам он — «сырье снедающий» (ὠμάδιος, ὠμηστής). Вот почему бог-бык вместе бог-пастырь (βουκόλος, βοῦκος) и сопрягатель быков (βουζύγος). Дионис-козел — враг Диониса-винограда. Актеон — охотник и жертва охоты; он — Дионисов аспект; но Дионис сам, или Зевс, как муж Семелы, — пособник Артемидиной травли. Пенфей — враг бога, и его жертва; но он же его ипостась. Ликург — недруг Вакха и жертва менад; и он же только личина бога, ибо растерзан менадами. Орфей — пророк Диониса; но он же противится ему и идет принести жертву Аполлону или Солнцу; разрывая его, менады вновь превращают его в Диониса. Александр, сын Филиппа или, по тайной молве, Зевса и македонской менады, верит, что в нем воплотился Дионис (после него, не один сильный мира провозгласил себя за «нового Диониса»), — и, по одному свидетельству, совершает убийство друга у алтаря Дионисова, в вакхический праздник; если свидетельство и недостоверно, поучительно то, что оно дионисийски стилизовано. Жрец Диониса закалается пред алтарем бога за погибающую здесь же вакханку (т.е. также аспект Диониса), Каллирою. В орхомене жрец с ножом преследует дионисийских женщин. Дирка, полная бога, влачится по Киферону быком оргий — Дионисом; и если мы слышим о ее превращении с быком в источник Диркейский, — это оттого, что более древнее предание говорило о приятии нимфой Диониса в струи свои. И чем глубже стали бы мы вникать в дионисийские мифы, тем более убеждались бы, что на всех их напечатлелась мистическая истина Дионисовой религии: истина раздвоения бога на жертву и палача, на богоборца и трагического победителя, на убиенного и убийцу. Эта мистика оргиастического безумия мало говорит рассудку, как всякая мистика; но ее символизм более, чем логика догмата, делает нам доступной загадочную сущность вечно самоотчуждающегося под чужой маской, вечно разорванного и разлученного с собой самим, вечно страдающего и упоенного страданием «многоликого» и «многоименного» Диониса, бога «страстей». Раскрытая выше идея мистического отожествления сплавляла вакхическую общину в одно хоровое тело Диониса; она одна позволяет внутренне осмыслить сущность «оргии», этого совместного, не нуждавшегося в жреце, священнодействия «вакханок», — как формы культа исключительно дионисийской. Из сущности начала оргийного вытекает исконная схема оргии как священного действа. Ее объединенной множественности свойственна форма кругового строения участников, «киклический хор». Хороводная цепь была как бы магическим проводником экстаза. Хороводная песнь звалась дифирамбом. На круглой орхестре двигался «трагический хор» (χορός τραγικός), хоровод козлов,¹⁴ каким мы застаем его древле в Пелопоннесе. В середине хоровода был видим сам бог в его жертвенном лике, — обреченный участник действа, отчужденный от своего прежнего Я личиной и жертвенными «трагическими» котурнами, которые, как было указано, еще привязывались на Тенедосе к копытам тельца, заменившего прежнюю человеческую жертву. Круговой ток исступления разверзал пред глазами составлявших цепь ослепительные «эпифании», потрясающие явления и знамения божественного присутствия. Они достигали самозабвения богоодержимости, они становились «вакхами»: все личное с корнем исторгнуто было из их преображенного существа. Принесение в жертву Дионису его самого, чрез посредство им же вдохновленных и исполненных, являющих собой его же аспект служителей бога страдающего, составляло мистическое содержание Дионисова культа. Если Титаны, разрывающие бога, чрез пожрание его им исполняются в такой степени, что вмещают в своей мятежной и хаотической душе иную, божественную душу, и люди, возникшие из их пепла, уже рассматриваются, как существа двойственной природы, составленной из противоборствующих начал — титанического, темного, и дионисийского, светлого, — то это преображение богоубийц чрез удвоение их природы — только последнее очищение; но и сама первородная вина, этот «древний грех беззаконных предков» (по слову орфиков), самое исступление их убийственного буйства невозможны без того жреческого безумия, которое отличает всех Дионисоубийц, будут ли то лица исторической действительности, как тот жрец эпохи Плутарха, не воздержавшийся в своем преследовании орхоменских женщин от умерщвления одной из них, или образы мифа, как детоубийственные Миниады и Пройтиды, дочери Ламоса, нападающие с ножами на чужеземцев и рабынь; — или нимфы Нисы, взалкавшие плоти бога, его пестуньи; — преследователь Вакха Ликург, или кормилец и убийца сына, Атамант; — Корес, поднимающий нож на Каллирою, или влюбленные менады, терзающие Орфея; — Агава, несущая на тирсе голову милого сына, или безумная Антиопа, привязывающая, с помощью сыновей своих, менаду Дирку к разъяренному быку. Безумие Титанов прямо не обусловлено в мифе влиянием Диониса; но ведь уже самая близость и видение младенца, глядящегося в зеркале, должны были охватить их дионисийским исступлением: недаром они вымазали лица гипсом (черта, не объясненная прагматизмом мифа,¹⁵ но необходимая в связи вакхического жертвенного маскарада) и бросаются на ребенка, чтобы растерзать его в ярости, тогда как прагматизм мифа требует простого убиения. Но Дионис именно неумертвим, хотя должен быть вечно умерщвляем, — сын Зевса-змия и змеи-Персефоны, подземной владычицы над областью смерти. ________________________ [14] τράγος ὁ козел Hom., Pind., Her. [15] Гипс по-гречески — τίτανος. Греки, падкие на обыгрывание схожих по звучанию слов, не могли пройти мимо такого созвучия: τίτανος ἡ гипс Hes.; известь или мел Arst.; меловая пыль Luc. Τιτᾶνος gen. к Τιτάν Τιτάν (-ᾶνος), ион. Τῑτήν (-ῆνος) ὁ (эп. dat. pl. Τιτήνεσσιν) Титан Τιτᾶνες и Τιτανίδες — дети Урана и Геи: сыновья — Океан, Кей, Крий, Гиперион, Иапет, Крон и дочери — Тея, Рея, Фемида, Мнемосина, Феба и Фетида; свергнув своего отца с престола, они завладели миром, пока сами не были побеждены и низвергнуты в Тартар Зевсом Hom., Hes., Trag. Этимологию слова Τιτάν современная наука не объясняет, считая его заимствованным. По Павсанию, впервые слово Τιτάν ввел в оборот Гомер, у него заимствовал Ономакрит и представил титанов «виновниками страстей Диониса». Конечно, если рассматривать гипсовую (τίτανος) маску как обязательный мистериальный атрибут, заимствованный из-вне (вероятно, Африка или Крит) вместе с культовым ритуалом, то персонажи, напавшие на Диониса, могли получить эпитет (связанный именно с маской): «гипсовые», «вымазанные гипсом». Кроме версии с гипсовой маской, можно рассмотреть созвучие с еще одним порождением Геи (Земли) — великаном Тифоном (Τυφῶν), чье имя производят от τύφω («чадить», «коптить»). Эта версия хороша тем, что, кроме созвучия слов «Тифон» и «Титаны», здесь явно угадывается соответствие противостояний Осирис - Тифон и Дионис - Титаны. И в том и в другом случае, речь идет о попытке незаконно овладеть верховной властью. Τυφῶν (-ῶνος), эп. Τῠφάων (-ονος) ὁ Тифон (гигант, сын Тартара и Геи, побежденный Зевсом Aesch., Plat., Plut.) τυφῶν (-ῶνος) ὁ вихрь, ураган, смерч Arst., Plut. τύφω (pf. pass. τέθυμμαι) 1) дымить; ex.: κηκὴς κἄτυφε (= καὴ ἔτυφε) κἀνέπτυε Soph. — жир (сжигаемых жертв) чадил и шипел; 2) выкуривать; 3) зажигать, воспламенять или сжигать на медленном огне. Титаны были испепелены молниями Зевса, а из этой копоти появились люди, о чем свидетельствует Олимпиодор: «Мы часть Диониса, коль скоро мы состоим из копоти титанов, вкусивших его плоти» (К Федону. 61). Речь идет именно о «копоти», которая прекрасно коррелирует с τύφω («чадить», «дымить»). Глубокомысленный миф как бы предполагает дионисийское тяготение к растерзанию искони потенциально присущим хаотическому и материальному началу, началу титанов-богоборцев. Оно же (прибавим вскользь) — по преимуществу начало женское. В Титанах древняя мать мстит своему мужу, Земля — Небу. И родились они всем в мать: от нее унаследовали свое неистовство. Другими словами, Титаны созданы мифом по образу Менад: мифотворческая мысль продолжила в сынах Земли идею женского мужеубийства. Дионис — жертва, поскольку он мужествен; губитель — поскольку божество его женственно. Титаны, губители в духе и одержании Дионисовом, — только сыны Матери. Итак, древние прообразы двойственной души человека, сына Неба — Урана и Матери-Земли, — как и человеческая душа, по орфическому учению, — дочь Земли и звездного Неба, как и первый Дионис — сын Зевса и Персефоны, как и второй Дионис — сын Зевса и Семелы, одного из символов Земли (какова бы ни была этимология слова: σεµνή, «почтенная мать», или θεµέλη, «твердая земля»)¹⁶ — Титаны суть первый аспект дионисийского начала в непрерывной цепи явлений вечно превращающегося бога — и древней, как «вакхи», нежели древнейший Дионис мифа. ________________________ [16] Поскольку Семела сгорела в огненных лучах славы Зевса, то уместнее искать этимологию имени Семелы не в «твердой земле» (θεµέλη). «Твердая земля» ничего не объясняет. Но, сгоревшая Семела должна обуглиться и «почернеть», либо обратиться в прах и, опять же, стать «черной» (как земля). Т.е., если μέλας — значит «черная», то συμμέλας (συμ-μέλας) — «почерневшая», ставшая полностью «черной». Σεμέλη, дор. Σεμέλα ἡ Семела (дочь Кадма и Гермионы, мать Вакха от Зевса) Pind., Her., Eur. συμμελαίνομαι (συμ-μελαίνομαι) становиться совершенно черным, совершенно чернеть; μέλας — черный; ex. μ. γαῖα Hom. черная земля. συμ- — приставка обозначающая завершенность, полноту действия. Как доказательство, что они убивают Диониса, уже как силы дионисийские, — поучительно отражение орфического мифа в сельском аттическом, об Икарии. Икарий, ипостась Диониса, распространяет по своей стране дар бога — лозу виноградную — и умерщвляется буйными селянами и пастухами гор, своего рода Титанами которые впали в яростное безумие, отведав неведомого им дотоле божественного напитка, т.е. исполнившись душою Дионисовой. Дионисийское начало миф предполагает, как некоторое prius, и им обусловливается появление Диониса-лица. Дальнейшее исследование должно подтвердить этот вывод: Дионис, как религиозная идея оргиазма, как мистический принцип культового исступления и жертвы экстатической, — изначальнее, нежели Дионис как образ мифа. _______________________________
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ. МЕНАДИЧЕСКАЯ ТРАДИЦИЯПонедельник, 09 Сентября 2019 г. 20:01 (ссылка)
Петров Сергей Владимирович «Орион (…) удалился на Крит и предался охоте на зверей вместе с Артемидой и Лето. Рассказывают, будто он грезился истребить всех до единого зверей, обитающих на земле, и Гея, исполнившись гнева, произвела преизрядного скорпиона, уязвленный жалом которого Орион и погиб.» Эратосфену вторит Гигин в своей «Астрономии»: «Орион, будучи страстным охотником, счел в этом занятии себя искуснейшим ловчим и стал похваляться перед Дианой и Латоной, что он способен истребить все живое, что рождается на земле. Поэтому рассерженная Теллус наслала на него скорпиона, который, рассказывают, убил его.» «Истребить все живое»? Какое интересное развитие сюжета. Орион представлен здесь в качестве врага Артемиды, защищающей все живое на земле. Может быть, это как-то могло бы объяснить смысл безумной погони менад за дикими животными? Менады воспроизводят мистерию охоты Диониса? Соотнося Ориона и Диониса, Вячеслав Иванов придерживается именно этой точки зрения. «Жертвенные животные этого культа суть прежде всего и исстари лань и молодой олень, потом — уже лишь на эллинской почве — козел, обреченный Дионису, и коза, посвященная Артемиде, участнице горных оргий наравне с Дионисом. Форма жертвоприношения — растерзание, связанное с омофагией и окруженное охотничьими представлениями — быть может, миметическими обрядами, изображающими охоту. Имя Загрея (Ζαγρεύς) традиционно переводят как «Великий ловчий».¹ К сожалению до нас не дошел сюжет мифологемы, связанной с критским Загреем. Но, судя по имени, тема охоты не могла в ней не присутствовать. Греческая же сюжетная линия представляет собой короткую историю жизни Диониса и его трагическую гибель от рук титанов в первые дни жизни. Когда же он успел стать «Великим охотником»? Простейшая логика наталкивает на мысль, что в мифе наличествует лакуна, образовавшаяся, видимо, после удаления из повествования значительного куска сюжета, в силу каких-то причин. Что же это за причины? ________________________________ [1] Ζαγρεύς (-εως) ὁ Загрей, эпитет Диониса «первого» как сына Зевса и Персефоны, растерзанного Титанами тотчас же после его рождения Anth. ζά — усилит. приставка со знач. очень, весьма, вполне (ζά-θεος — целиком посвященный божеству); ἀγρεύς (-έως) ὁ охотник, ловец Pind., Aesch., Eur., Luc., Anth. Вячеслав Иванов в своей работе «Дионис и прадионисийство» разбирает другие родственные архаические культы поклонения богу-охотнику: «Дикий горный охотник со сворой хтонических собак жил в героических культах, то как безымянный герой, — например, герой горы Пелион, которому в области фессалийских магнетов еще во II в. до н.э. или даже позднее некий Пифодор, сын Протагора, воздвигает по обету эдикулу с рельефом, изображающим юного копьеносца и лань, и с посвящением «Герою» (ἥρως) — то под случайными местными наименованиями, как Кинорт (Κυνόρτου) или Кинн (Κύννης) на аттическом Гимете.» Особый интерес вызывает еще один охотник, который столкнувшись с Артемидой так же пострадал, как и Орион. Это беотийский герой Актеон (Ἀκταίων). Во время охоты на оленя, в сопровождении своры охотничьих псов, Актеон случайно наталкивается на купающуюся богиню. Артемида, в гневе, превращает Актеона в оленя, и того начинают преследовать его собственные псы. Ты видишь злую участь Актеонову. Здесь хвастовство Актеона в охотничьем искусстве перекликается с похвальбой Ориона, как лучшего охотника, лучшего, чем сама Артемида. А вот что пишет В.Иванов по поводу охоты собак Актеона на собственного хозяина: «Бешенство Актеоновых собак — другая форма того же представления о растерзании менадами. Чьи же эти менады — Дионисовы или Артемидины? Миф представляет собак то собственной сворой Актеона, то сворой Артемиды: дело идет об оргиастических сопрестольниках и о жертвенном лике оргиастического бога, умерщвляемого женщинами, его служительницами и жрицами»… В.Иванов рассматривает Актеона в качестве иноименного двойника Диониса, низведенного в мифах до уровня второстепенного героя. Страстной герой (о чем свидетельствует и утвержденное Дельфами почитание его гроба в Орхомене), он был некогда богом страстей, Великим Ловчим, пра-Дионисом Аидом, и блуждал по горным дебрям и каменистым вершинам в оленьей шкуре, ища кровавой добычи. Имена Акусилая, Стесихора, Полигнота ручаются за его первоначально независимое от Артемиды значение: он ипостась Омадия-Загрея, во имя которого растерзывались олени (или люди, изображавшие оленей), чтобы напитать причастников кровью самого бога. Медный кумир Актеона, прикованного к скале в Орхомене (Paus. IX, 38, 5), — то же, что древний идол Эниалия в оковах, виденный Павсанием в Спарте, или Диониса-Омадия в оковах на Хиосе. Эта оговорка — «растерзывались олени (или люди, изображавшие оленей)» — наводит на интересные мысли по поводу охотничьего эпитета Ζαγρεύς. Некоторые дошедшие до нас эпитеты однозначно свидетельствуют о каннибализме древнего культа: Ἀγριώνιος («дикий, яростный»); Ἀνθρωπορραίστης («растерзывающий людей»); ὠμηστής («пожирающий сырое мясо»); ὠμάδιος (от ὠμός — «дикий, жестокий, неумолимый»). Неужели, как обычно, игра слов? Безусловно, эпитет «охотник» (ἀγρεύς) выглядит гораздо приличнее, нежели архаическое прозвище «дикий, яростный», да еще и с усилительной приставкой ζά (ζά + ἀγριύς).² Эта версия прекрасно объясняет такую короткую сюжетную линию, связанную с жизнью Загрея. Миф не принял в себя кровавую архаику Диониса. Остались лишь короткие свидетельства этого неблаговидного прошлого. У Павсания находим, что в Беотии принесение в жертву Дионису козлят заменило человеческие жертвоприношения. «Есть тут храм и Диониса Эгобола (Αἰγοβόλου, «Коз поражающего»). Как-то раз, принося жертву богу, они под влиянием опьянения пришли в такое неистовство, что убили жреца Диониса; убившие тотчас же были поражены моровой язвой и вместе с тем из Дельф к ним пришло веление бога приносить Дионису ежегодно цветущего мальчика; немного лет спустя, по их словам, вместо мальчика бог разрешил приносить им как жертву козу».________________________________ [2] ζά — усилит. приставка со знач. очень, весьма, вполне; ἀγριύς adj. f дикий, жестокий; ἀγρίως досл. дико, перен. яростно, жестоко, сурово Aesch., Arph., Plat., Plut. Павсаний не единственный, кто сообщает о человеческих жертвоприношениях Дионису. Но, в конце концов, многие религиозные культы прошли через это. Однако своеобразие менадического ритуала заключается именно в «технике» принесения жертвы. То, с каким остервенением терзаются жертвенные животные, вызывает недоумение. Оргиазм, измененное состояние сознания, объясняет «каким образом» слабые женщины разрывали сырое мясо на куски, не объясняются только причины этого. Зачем так сложно, и почему с таким ожесточением? Должно же быть какое-то, хотя бы минимально рациональное, объяснение? В научном мире имеет место консенсус по поводу того, что менады охотились на Диониса (в образе козленка), проживая, таким образом, условно, сценарий мифологемы. Т.е., получается, менады, в этой мистерии, выступают в роли титанов, в роли врагов своего божества. И это не просто формальное инсценирование мифологического сюжета, они глубоко оргиастически погружаются в проживаемое ими действо. «В основе второго акта (т.е. гибели Диониса) лежала мистическая жертвенная церемония дионисийских женщин — ведь трапеза была кульминационным пунктом всей драмы, ее подлинной καταστροφή (развязкой), которая вместе с тем оборачивалась благом для всего человечества». Под «благом для всего человечества» Кереньи, видимо, имеет в виду рождение этого самого человечества из копоти титанов. Согласно Ономакриту, Зевс испепелил титанов своими молниями, от испарений сожженных титанов образовалась копоть, а из нее — вещество, из которого были созданы люди. «Наше тело является дионисийским, — добавляет Олимпиодор, — мы представляем собой его [Диониса] часть, ведь мы произошли из копоти, образовавшейся от титанов, которые ели от его плоти». Т.е. Кереньи (рассуждая о «благе для всего человечества») исходит из представления Ономакрита, что, хоть титаны и враги бога, но если бы не они — не было бы и человечества.³ Такой всепоглощающий позитивизм позволителен ученому, философски размышляющему о вопросах бытия, но религиозные менады вряд ли бы оценили глубину подобной философской мысли. ________________________________ [3] В орфической «Книге гимнов», возникшей уже в нашу эрy, содержится молитва к титанам. К ним обращаются, называя их «наших отцов прародители», «исток и начало всего многострадального рода смертных», чем они и были со времен Ономакрита. О Титаны, о чада прекрасные Геи с Ураном, Наших отцов прародители, вы, кто под толщей земною В Тартара доме, во глубях подземных теперь поселились, Вы, о исток и начало всего, что смерти подвластно, — Многострадальных существ, наземных, морских и пернатых, Ибо от вас происходит всё то, что рождается в мире. (Орфические гимны. XXXVII. Титанам) Согласно другому устоявшемуся мнению, менады были одержимы духом Диониса во время своей дикой охоты, и сам Дионис незримо присутствовал среди них. Здесь возникает противоречие: Дионис (в окружении своей свиты) охотится сам на себя? Но именно к этому и склоняется научная мысль (включая, собственно, и Кереньи). «Амбивалентность» — этим термином, как ширмой, прикрывается все, что плохо укладывается в голове. Более убедительно выглядит предположение, что в изначальной версии менада, предавшая Диониса, была одна. Эта версия, кстати, прекрасно коррелируется с предательством Христа Иудой. …«среди дионисийских женщин, служительниц Диониса, всякий раз скрывается противница бога, которая внезапно выдает себя и становится его убийцей! Все люди таковы, поскольку все они созданы из того же вещества, что и первые враги бога»… Нужно оговориться, что, по мнению Кереньи, титаны (как враги Диониса) были введены в оборот Ономакритом, в VI в. до н.э., якобы, для обоснования «концепции мрачного жертвоприношения». Под «мрачным жертвоприношением» подразумевается менадический ритуал разрывания животных. Но ритуал не может опережать «концепцию». Напротив, ритуал воспроизводит сценарий мифологемы. Может ли так статься, что Ономакрит сочинил новую мифологему, которая, вообще никак не сочеталась с древней менадической традицией, а всего лишь отражала его собственное представление о ритуале? Маловероятно. Чтобы не «множить сущности», попробуем не выходить за границы «концепции» Ономакрита; будем исходить из того, что история с титанами не была его абсолютной выдумкой.⁴ Хотя, безусловно, орфики могли развить тему преемственности власти верховных богов. По орфическим представлениям, после трех первых властителей мира — Урана, Кроноса и Зевса — в мир пришел Дионис и занял трон Зевса. Зевс же получил власть, свергнув своего отца — титана Кроноса. Таким образом, убийство Диониса вполне можно рассматривать как попытку титанов (во главе с Кроносом) вернуть незаконно отнятую у них власть.⁵ Это могло бы объяснить ярость титанов по отношению к Дионису. Они не просто убивают нового бога, они разрывают его на части и пожирают. Пожирание Диониса косвенно подтверждает предводительство титанов Кроносом, который, будучи верховным богом, и боясь потерять власть, проглатывал своих детей, рожденных Реей, ибо дано ему было пророчество, что один из сыновей лишит его владычества. Каждого Крон пожирал, лишь к нему попадал на колени________________________________ [4] «В поэзии первый ввел упоминание о титанах Гомер, считая, что они — боги над так называемым Тартаром; эти стихи встречаются в клятве Геры.* От Гомера имя титанов заимствовал Ономакрит и представил титанов виновниками страстей Диониса.» (Павсаний. VIII, 37, 5) [Гера] Руки простерши, клялась и, как он повелел, призывала Всех богов преисподних, Титанами в мире зовомых. (Гомер. Илиада XIV. 278) [5] Важно понимать, что отношение греков к Зевсу было неоднозначное. Эсхил (который жил и творил в одно время с Ономакритом) вкладывает в уста Прометея весьма не лестную характеристику верховному божеству: Зевс один. Упрям и дик, Он Урановых детей Злобно душит. Он уймется, Лишь когда насытит сердце Или кто-то, изловчившись, Власть у него отнимет силой. (Эсхил. Прометей прикованный 162) Далее Эсхил, через монолог Прометея, излагает и вовсе удивительное: Едва успевши на престол родительский Усесться, сразу должности и звания Богам он роздал, строго между ними власть Распределил. А человечьим племенем Несчастным пренебрег он. Истребить людей Хотел он даже, чтобы новый род растить. Никто, кроме меня, тому противиться Не стал. А я посмел. Я племя смертное От гибели в Аиде самовольно спас. (Эсхил. Прометей прикованный 228) По мнению Эсхила Зевс, едва придя к власти, намеревался «истребить людей». Интересно, о каких людях здесь идет речь? Ведь по версии Ономакрита люди были созданы из земли, которая приняла в себя прах испепеленных титанов, пожравших Загрея. Но Загрей родится от Зевса, как от верховного бога. Эсхил же повествует о племени людей, которые существовали уже при отце Зевса — Кроносе. Характеризуя орфизм в целом, чьим ярким представителем является Ономакрит, Кереньи отмечает что «пристрастие к архаическим элементам мифа и культа, и к их письменному закреплению, являлось характерной чертой орфизма. Орфики писали священные книги, связывали друг с другом различные мифы и, таким образом, строили дионисийскую мифологию. Орфики не раскрывали женских культовых тайн. Они использовали скорее метод сокрытия, которое должно было послужить преградой для непосвященных»… (К. Кереньи. Д. II. 2.5) Здесь мы опять упираемся в противоречие: так все же титаны — это архаика или нововведение? Если орфики действительно имели «пристрастие к архаическим элементам мифа и культа», тогда зачем были введены новые персонажи (титаны) в ядро дионисийского мифа (как свидетельствует Павсаний)? И, главное, вместо кого они были введены? И, опять же, что стоит за традицией расчленения Диониса? К тому же, если орфики «не раскрывали женских культовых тайн, а использовали метод их сокрытия», то и к орфическому учению имеет смысл относиться с некоторой долей скепсиса. В любом религиозном учении есть внешняя сторона ритуала и внутреннее сакральное зерно. Попробуем еще раз внимательно посмотреть на суть менадического ритуального действа. Менады приходили в неистовство только во время охоты. Что могло быть причиной их ярости, с которой они разрывали пойманных животных? Подчеркнем, в жертву приносилось не одно, заранее выбранное, животное — растерзанию могло подвергнуться целое стадо. ..................................«Там стада По отношению к кому менады могли испытывать такую нечеловеческую жестокость? Конечно же не к Дионису, а к тому, от кого Загрей пострадал. Убийцы бога должны были понести соразмерное наказание. Сделав подобное допущение, необходимо найти объяснение, каким образом титаны могут быть отождествлены с животными, подвергнутыми растерзанию.⁶ ________________________________ [6] В это предположение прекрасно укладывается свидетельство Феодорита Кирского, христианского писателя V века, по словам которого еще во второй половине IV в. «огонь горел на идольских жертвенниках, и посвященные в оргии Диониса бегали, одетые в козьи шкуры, и разрывали собак в вакхическом исступлении». В отличие от образа козла (или быка), собака никогда не была дионисовым животным. Здесь необходимо сделать лирическое отступление и вспомнить какой смысл вкладывали в жертвоприношение египтяне. Плутарх в трактате «Об Исиде и Осирисе», рассказывая об отношении египтян к Тифону (Сету), повествует следующее: «Египтяне, считая, что Тифон был красным, приносят также в жертву рыжих быков, при этом осмотр они производят так тщательно, что, если попадется хоть один белый или черный волос, они считают животное негодным: правильно отобранная жертва должна быть не любимой богами, но ненавистной им, поскольку она приняла в себя души нечестивых и неправедных людей, переселившиеся в другие тела. Поэтому египтяне призывали на голову жертвы проклятия и, заколов ее, раньше бросали в реку, а теперь отдают чужеземцам»… О том же свидетельствует и Диодор Сицилийский в своем трактате «Историческая библиотека»: «Рыжих быков решено приносить в жертву из-за того, что такого цвета был Тифон, злоумышлявший против Осириса и наказанный Исидой за убийство мужа. Говорят, что в древности и людей, похожих по цвету волос на Тифона, по царскому приказу приносили в жертву перед гробницей Осириса»… Ритуальные практики, направленные на уничтожение Сета, известны еще с эпохи Древнего царства. Впервые такие ритуалы фиксируются в «Текстах пирамид», где включенность Сета в формировавшийся осирический цикл мифов предопределила негативизацию его образа. Посмертное воскрешение царя, отождествлявшегося с Осирисом, предполагало необходимость проведения защитных действий, которые переносились и в ритуальную практику. Одной из главных форм уничтожения, которая будет применяться к Сету в последующих ритуалах — это расчленение его тела: «Осирис-Мерира, принесен тебе убивший тебя (Сет), используй нож его; Осирис Пепи этот, принесен тебе убивший тебя, разрежь три раза». В изречении 580 описывается принесение красного жертвенного быка, которого в данном контексте можно идентифицировать как Сета: «Отец, Осирис Пепи, поразил я для тебя (того), кто поразил тебя в качестве быка; зарезал я для тебя (того), кто резал тебя в качестве быка; убил я для тебя (того), кто убил тебя в качестве быка…; отрезал я голову его, отрезал я хвост его, отрезал я руку его, отрезал я ноги его… Ешь, ешь красного быка для плавания по озеру»… Это обряд жертвоприношения, в результате которого отдельные части тела быка в качестве еды преподносятся различным богам (Pyr. 1546-1549). Однако несомненно, что этот обряд имеет также и магическое значение, в результате которого уничтожается враг Осириса. Итак, изначальный смысл принесения жертвы — уничтожение врага, расчленение его (дабы он не смог возродиться) и кормление бога останками его врага (посредством заместительной магии, через отождествление закланной жертвы с образом врага бога). Возвращаясь к греческим менадам, что мы видим? Тот же принцип. Причем, наиболее приближенный к египетской традиции, ритуал отмечен на Крите, где засвидетельствовано разрывание быка. Впрочем, с учетом того, что в некоторых номах Египта Сет был представлен в виде антилопы (Орикс), то и здесь отождествление титанов с горными козами нельзя назвать серьезным отхождением от первоисточника. Пойманные животные (отождествляемые с титанами) расчленялись, после чего совершалась совместная (с незримо присутствующим богом) трапеза, т.е. жертвоприношение («кормление бога»). Для полноты картины, рассмотрим еще одну цитату: «Более древняя форма жертвы состояла в непосредственном кормлении богов. Пища ставилась на местах, ими посещаемых, между прочим, на престолах, где они предполагались сидящими, или — так как кровь была их любимою пищей — жертвенник обмазывался кровью. К этому периоду жертвы относится происхождение обычая «феоксений» (откуда римские «лектистернии») — гостин богов, примеры которых мы встречаем и в Дионисовом культе, — совместных трапез, где боги принимают участие наравне с людьми. Т.е. В.Иванов тоже не видит ничего странного в том, что люди, разделяя трапезу с богом (во время жертвоприношения) вкушают плоть животного, отождествляемого с богом, которому эту жертву и подносят. Мало того, что происходит мистерия убиения бога, так ему же и преподносится его же закланное тело, в образе жертвенного животного. Когда же возникла эта странная традиция? Еще у Гомера мы не видим ничего подобного. Закланные животные рассматриваются исключительно как пища подносимая богам, никакого другого скрытого подтекста в жертвоприношении мы не видим. Очевидно, что возникновение ритуала «вкушения божественной плоти» произошло как искажение изначального смысла жертвоприношения, заимствованного из осирического культового ритуала, когда богам приносится в жертву божественная плоть Сета — побежденного противника бога Гора (сына Осириса). С поеданием плоти и крови Сета, боги поглощали часть духа, а значит и его божественной силы. Конечно, и люди желали причаститься этой божественной кровью и плотью, чтоб стать «как боги». Сначала трапезу с богами делили немногие избранные из высшей жреческой касты. Но рано или поздно все тайное становится явным. Ритуал вышел за пределы одной религиозной школы и благополучно распространился по миру (но уже в искаженном виде). Сначала через дионисийство (причем менадический ритуал, судя по всему, был максимально приближен к «осирическому канону»). Далее, что называется, везде. Так с чем же связано искажение осирического ритуала? Основная причина кроется в сакральности культа. Глубинный смысл мистерии был понятен только посвященным. Профаны, а уж тем более чужеземцы, могли скопировать исключительно внешнюю сторону ритуала, абсолютно не понимая вкладываемого в него (ритуал) смысла. В выше приведенной цитате: «поразил я для тебя (того), кто поразил тебя в качестве быка; зарезал я для тебя (того), кто резал тебя в качестве быка» — мы видим, как Осирису, в образе быка, приносится в жертву Сет, в образе быка. Человека непосвященного, такая мизансцена (где быку приносится в жертву бык) могла привести в полное недоумение. Между тем, для египтянина не представляло сложности понять, кто такой «бык дуата»⁷ и кто такой «красный бык».⁸ Эпитет «бык» вообще был весьма популярен в Египте и служил олицетворением «силы» и «мощи». Эпитеты, производимые от слова «бык», носили не только боги, но и цари (kȝ mwt.f — «бык своей матери»; kȝ nḫt — «побеждающий бык»). ________________________________ [7] «бык дуата» — эпитет Осириса, который, в египетской традиции, был владыкой загробного мира. «Слава тебе Осирис, сын Нут, двурогий, высоковенечный, увенчанный и оправданный девятерицей»… (Тексты Пирамид). [8] Сет считался богом песчаных бурь и безжизненной пустыни в целом. По этой причине животные рыжей масти (быки, ослы, собаки, жирафы) считались животными Сета и отождествлялись с ним во время жертвоприношений. Развитие культа Вакха, как бога вина, происходит уже в парадигме «амбивалентности» Диониса Загрея (сочетающего в себе одновременно и охотника, и жертву). После того, как виноград стал отождествляться с Дионисом — делом времени было отождествление, выдавленного из винограда сока, и превращенного затем в вино, с Дионисовой кровью. После чего приношение бескровной жертвы, в виде винограда и вина, могло двусмысленно восприниматься также и как приношение Дионису его же плоти и крови. Вместе с жертвенными возлияниями вина, в качестве бескровной жертвы, часто приносили медовые лепёшки, что позднее вошло в традицию «причащения хлебом и вином». Христианство, так много воспринявшее из дионисизма, не обошло стороной и этот ритуал, слишком глубока была традиция. «И когда они ели, Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть Кровь Моя»… Ниже цитата из книги Кереньи (Д. II. 3.3), где он описывает зарождение в Аттике трагедии (как драматургического жанра) на основе жертвоприношения козла. Попытки объяснить противостояние винограда и козла (где козел назван «врагом виноградных лоз) все той же «амбивалентностью» Диониса (где и виноград, и козел представлены его проявлениями) выглядят совершенно абсурдно и могут быть оправданы только абсолютной профанностью изобретателей подобного прочтения Дионисовой мифологемы. Попытки же Кереньи научно обосновать «двойственность» Диониса выглядят откровенно слабо и натянуто. Ему приходится, буквально, из кожи вон вылезать, чтобы совместить несовмещаемое — бога (виноград) и его врага (козла) в единое целое. «Жертвенным животным козел становился в месяце элафеболионе.⁹ Нам известен и смысл принесения в жертву козла, совершавшегося в этом месяце в сельской местности. В марте виноградные лозы стоят еще оголенными, без листьев. Благодаря жертвоприношению, они получат возможность напиться крови своего врага козла, близкородственного им дионисийского существа.________________________________ [9] Ἐλαφηβολιών (-ῶνος) ὁ элафеболион (девятый месяц атт. календаря, соответст. 2-ой половине марта и 1-ой апреля). Thuc., Aeschin., Arst. [10] προσκήνιον (προ-σκήνιον) τό просцений, авансцена (передняя часть сцены, где находились актеры) Polyb., Plut. [11] Слово τραγῳδία буквально переводится как «песнь по поводу козла». τραγῳδία (τρᾰγ-ῳδία) ἡ трагедия Arst. τράγος ὁ козел Hom., Pind., Her. ἀοιδή, дор. ἀοιδά, стяж. ᾠδή ἡ песнь, песня Hom., Hes., Trag. Попытка совместить лозу (как образ Диониса) с его врагом (в образе козла), в единое целое, выглядят тем более абсурдно, что Кереньи сам приводит множество цитат, которые откровенно (и не двусмысленно) противоречат этому отождествлению. «Так случилось, — говорит Марк Теренций Варрон, — что Дионису, первооткрывателю виноградной лозы, приносили в жертву козлов, в точности так, как если бы искупление шло голову за голову». О, как я люблю Диониса, Полезно вспомнить также бассар или бассарид (βασσάροι), название которых переводят как «в одежде из лисьих шкур».¹² Выше уже отмечалось, что Тифону посвящали животных рыжей масти. Лисы, как нельзя лучше, подходят по этому признаку. Кереньи упоминает обряд в Карсеолах, описание которого мы встречаем у Овидия в Фастах. «Ныне в Карсеолах строг вечный запрет на лису; Здесь врагом Диониса (в его растительном образе — образе винограда) Иванов называет и козла, и лису, приводя их в соответствие. Понятно почему Дионис Бассарей (как и его последовательницы бассариды) предстает в накидке из лисьих шкур; в лучших традициях архаической Греции, герой Дионис облачен в шкуры содранные со своего побежденного врага. ________________________________ [12] βασσαρίς (-ίδος) ἡ бассарида Anacr., Anth. = βάκχη (вакханка). βασσάριον τό ливийская лисица Her. βασσάρα ἡ накидка из лисьей шкуры. [13] Cerealia или Cerialia (-ium) n Цереалии, празднество в честь Цереры (12-20 апреля). В трагедии Еврипида «Вакханки», Агава, мать царя Фив Пенфея, введенная Дионисом во временное безумие, вместе с сестрами и другими менадами, разрывает своего сына, которого она считает львом. Нужно отметить, что льва тоже можно считать животным рыжей масти. Конечно, этот выбор мог быть совершенно случайным, но для Греции лев не является животным заурядным. Почему именно лев? Разбросаны останки по скалам Другая важная деталь: Пенфей растерзан вакханками, которых направляет Дионис, и Пенфей является врагом Диониса, его гонителем. Противостояние Дионис - Пенфей подчеркивается значением имени Пенфея (Πενθεύς), которое производится от πένθημα — «горе, скорбь». Дионис же, в противовес «тоске-печали» Пенфея часто выступает «освободителем от забот» с рядом соответствующих эпитетов: Лисий (Λύσιος, «отгоняющий заботы»); Лиэй (Λυαΐος, «Разрешитель», «Освободитель» [от забот]); Эвий (Εὔιος) или Эвеон (Εὐαίων, «блаженный», «ниспосылающий счастье»).¹⁴ ________________________________ [14] λύσιος 1) освобождающий (от проклятия), прощающий (θεοί Plat.); 2) отгоняющий заботы, дающий забвение (Βάκχος Plut.); λυαῖος ὁ освободитель [от забот] (эпитет Вакха-Диониса) Anacr., Plut. εὐαίων (εὐ-αίων), -ωνος adj. 1) счастливый, блаженный; 2) дающий счастье, благодатный (ὕπνος Soph.; πλοῦτος Plut.). Εὔιος ὁ Эвий, т.е. призываемый возгласами εὖα и οὐοῖ (эпитет Вакха) Plut. Сцена противостояния Диониса и Ликурга¹⁵ иносказательно описана в «Бассаридах» Эсхила, где Дионис выступает как бык, а Ликург в образе козла. Никак бык вонзить рад в козла рог?..________________________________ [15] О Ликурге, царе фракийского племени эдонов, наказанном за свою враждебность по отношению к Дионису, писали многие античные авторы начиная с Гомера. В афинской драматургии V века до н.э. завязка сюжета преследования Диониса Ликургом перекликается с сюжетной линией противостояния Пенфея и Диониса в «Вакханках» Еврипида: Дионис появляется во Фракии в юношеском возрасте, в сопровождении вакханок. Царь приказывает поместить его под стражу, но вскоре дворец начинает дрожать, словно от землетрясения, и Дионис легко выходит на свободу. Наказание Ликурга у разных авторов разное. Согласно Псевдо-Аполлодору, юный бог наслал на Ликурга безумие: думая, что вырубает виноградную лозу, тот напал с топором на собственного сына Дрианта, убил его и разрубил тело на куски. Из-за сыноубийства земля перестала приносить урожай, и боги объяснили эдонам, что единственный способ все исправить — убить царя. Ликурга отнесли к горе Пангей, там связали и оставили на растерзание лошадям [Аполлодор, III, 5, 1.]. По другим версиям, Дионис на Родопе бросил его пантерам [Гигин, Мифы, 132]. В древнейших образцах мифов, отражающих суть религиозной парадигмы, мы встречаем противостояние героя внешней враждебной силе. Тема противоборства Добра и Зла проходит красной нитью в любой религиозной традиции. Да и корневая дионисийская мифологема повествует об убиении бога хтоническими силами — титанами, вышедшими из Тартара. В чьих же в головах могла возникнуть мысль о противостоянии Диониса, по-сути, самому себе в менадических мистериях? И как эта еретическая идея смогла овладеть умами, что называется, широких масс, а позднее, стать доминирующей религиозно-философской концепцией (принесения в жертву бога, в качестве добровольной искупительной жертвы)? Как ни странно, ответ на этот вопрос очевиден, ибо лежит на поверхности. Судя по тому, что кончина Орфея повторяет смерть Загрея (он так же растерзан, но растерзан с одним важным интересующим нас отличием — он растерзан менадами), Орфей был не только обожествлен последователями орфического учения, он был максимально приближен к мифологеме Диониса. Вот как описывает Орфея Диодор Сицилийский: …«Слава его была столь велика, что полагали, будто своей игрой он очаровывал даже растения и животных. Нет единой версии, за что менады растерзали Орфея, да это и не существенно. Орфических сект было великое множество, поэтому и мифологемы могут сильно различаться в деталях. Существенным здесь является то, что Орфей растерзан менадами ровно так же, как менады раздирают козлят во время своих безумных мистерий. Причем жертвенный козленок, Орфей и Дионис явно приведены в полное соответствие. А, значит, в соответствие приведены и противостоящие им титаны и менады.¹⁶ Не удивительно, что орфизм воспринимался как сугубо низовой народный культ и осмеивался различными философскими школами. Но по мере распространения орфического учения, элементы, наработанные орфиками использовались и в пифагорейской школе, и в неоплатонизме. Подводя черту, следует заметить, что искажение сути менадической традиции, как под копирку, повторяет путаницу с осирической мистерией (см. выше), только в осирической мистерии путаница произошла с «быками», а в менадической традиции — с «козлами». Невольно напрашивается вопрос: а случайность ли это? ________________________________ [16] Отождествление титанов и менад, возможно, уходит корнями во времена смены матриархальной парадигмы на патриархальную. Фактически, менады (как и титаны) лишились власти, главенства своей религиозной догмы. Иванов же и Кереньи рассматривают появление менад в дионисийской мистерии в силу конвергенции дионисизма с менадической традицией, т.е. с традицией поклонения Артемиде, где менады выступают то в роли охотниц из свиты Артемиды, то в роли псиц из ее охотничьей стаи. Безусловно, удачные наработки других религиозных школ всегда с легкостью адаптировались новыми религиозными течениями. Но, опять же, стая гончих всегда разрывает артемидиных врагов, или обидчиков. Может быть, это имел в виду Кереньи, говоря, что «орфики не раскрывали женских культовых тайн. Они использовали скорее метод их сокрытия»? Тогда возникает другой законный вопрос: орфики перестарались, извратив изначальный смысл мифологемы; или добились своего, сохранив мистериальную тайну своей школы сокрытой от профанов? И напоследок еще об одном. Упоминая спектакли Феспида,¹⁷ которого считают создателем греческой трагедии, Кереньи описывает актеров, покрывающих лицо мелом, для того, чтобы изображать «мертвецов, вышедших из подземного царства», но никак не связывает это с титанами, вымазавшими лица мелом, чтобы не быть узнанными: «То место, которое, в силу давнего свойства своей поэзии, избрал для себя дифирамбический поэт, а именно дионисийское «зияние» мира, занял и Феспид, прирожденный драматург, первый известный нам в истории мировой литературы автор с такого рода дарованием, автор, которого впервые вдохновил дионисийский культ икарионцев. Его τραγῳδία была еще драмой с одним-единственным актером, замаскированной фигурой, занявшей место животного врага бога. Так не от того ли Феспид «воспользовался белым мелом», что буквально воспроизводит из мифа описание титанов с выбеленными лицами? Кереньи это просто игнорирует. Белым мелом измазав лик злоковарный, Титаны________________________________ [17] Θέσπις (-ιδος) ὁ Феспид (родоначальник атт. трагедии, середина VI в. до н.э.) Arph. [18] …«виноградари [на сельских асколиазмах (ἀσκολιασμός)], с лицами, вымазанными красным суслом и гущей виноградных выжимок (τρύξ, τρῠγός), получили прозвище: «мазаных демонов» (τρυγοδαίμων), т.е. демонов растительности, те что и составили коррелят пелопоннесским Сатирам, которые в поминальных действах также были, по-видимому, проекцией в миф празднующих сельчан в козьих шкурах.» — Вяч.Иванов «Дионис и прадионисийство». ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА «ТИТАН» По поводу этимологии слова «титан» (Τιτάν) наука не дает внятного ответа, считая его заимствованным. А.Кудрявец предлагает египетский вариант заимствования — Татенен (древний мемфисский бог земли и ремесел, позднее отождествленный с Птахом). Обратим, однако, внимание на некоторое созвучие слов «титан» (Τιτάν) и «Тифон» (Τυφῶν). Титаны разрывают Диониса ровно так же как Тифон (греческое имя Сета) с сообщниками разрубает на несколько частей тело Осириса. Заметим мимоходом, что именно с Осирисом греки Диониса и отождествляли. «А то, что Осирис и Дионис — одно, кто знает лучше, чем ты, Клея? Так и должно быть: ведь это ты предводительствуешь в Дельфах вдохновенными жрицами, предназначенная отцом и матерью для таинств Осириса. Выше было сделано предположение о том, что титаны, убивая Диониса, могли пойти на это из мести за незаконно отобранную у них власть, и, собственно, претендующие эту власть себе вернуть. Что характерно, тот же мотив (захвата власти Тифоном) лежит в основе осирической мифологемы. На этом сходство греческого и египетского мифов заканчивается. Далее сюжеты развиваются по независимым сценариям. Но с учетом того, что Дионис (как и Осирис) в итоге возрождается, уверенно можно сделать вывод, что мифологема, связанная с Загреем (как и осирическая мифологема), является мистерией годового цикла. Причем, возрождение и Диониса, и Осириса приходится на начало года, совпадающее с летним солнцестоянием. Кроме того, Орион, отождествляемый Кереньи с Дионисом (о чем шла речь выше), тождественен и Осирису, если рассматривать их с астрономической точки зрения. Египтяне созвездие Ориона называли Сах (Sȝḥ). Это созвездие считалось «царем звезд» и олицетворялось Осирисом. Тифон же в этой астрономической мистерии отождествлялся с созвездием Скорпиона. Когда Скорпион поднимается на востоке, Орион скрывается за горизонтом на западе. В Египетской традиции, это астрономическое событие рассматривалось как убийство Тифоном Осириса. Равно как и появление созвездия Ориона (Сах) на востоке мистериально рассматривалось как возрождение Осириса, его триумф над Сетом-Тифоном, который в это время опускается за горизонт на западе (в образе созвездия Скорпион). Еще несколько значимых созвучий к слову Τιτάν (титан): τίτανος («гипс», «мел») — титаны вымазали лицо гипсом, чтобы не быть узнанными; τιταίνω («нестись во весь опор, мчаться») — титанам пришлось потрудиться, чтобы настигнуть Загрея; τίτας («мститель») — титаны были орудием мести Геры, по версии орфиков; либо (в качестве предположения) мать титанов Гея послала своих детей отомстить «Великому охотнику» за его желание перебить всю живность на Земле; либо (опять же, в качестве предположения) это месть Зевсу за незаконно отнятую у Кроноса (а стало быть и у всех титанов) власть; τυτθά («мелко», «на мелкие куски») — титаны разорвали Диониса на части, прежде чем пожрать его; кончилось все тем, что Зевс испепелил титанов (τιτός — «наказанный»), а из копоти — все что от них осталось — потом появились люди. «Копоть», надо отметить, хорошо коррелируется с «чадом» (τῦφος) — первое является следствием второго.¹⁹ ________________________________ [19] Τυφῶν (-ῶνος), эп. Τῠφάων (-ονος) ὁ Тифон, гигант, сын Тартара и Геи, побежденный Зевсом Aesch., Plat., Plut. τυφῶν (-ῶνος) ὁ вихрь, ураган, смерч Arst., Plut. τύφω (pf. pass. τέθυμμαι) 1) дымить κηκὴς κἄτυφε (= καὴ ἔτυφε) κἀνέπτυε Soph. — жир (сжигаемых жертв) чадил и шипел; 2) выкуривать (τῷ καπνῷ τ. ἅπασαν τέν πόλιν Arph. — наполнять весь город дымом); 3) зажигать, воспламенять или сжигать на медленном огне. τυφώνιος 2 тифонов, т.е. суровый, грубый (σκληρία Plut.); τῦφος ὁ 1) дым, чад (τ. ἔμαρψέν τι Anth. — дым унес что-л., что-л. улетело с дымом, т.е. сгорело); 2) гордость, надменность, спесь. τυφόω 1) досл. окутывать дымом, перен. Наполнять; 2) помрачать, сводить с ума. Τιτάν (-ᾶνος), ион. Τῑτήν (-ῆνος) ὁ (эп. dat. pl. Τιτήνεσσιν) Титан (Τιτᾶνες и Τιτανίδες — дети Урана и Геи: сыновья — Океан, Кей, Крий, Гиперион, Иапет, Крон; дочери — Тея, Рея, Фемида, Мнемосина, Феба и Фетида; свергнув своего отца с престола, они завладели миром, пока сами не были побеждены и низвергнуты в Тартар Зевсом) Hom., Hes., Trag. τίτανος ἡ гипс Hes.; известь или мел Arst.; меловая пыль Luc. τιταίνω 1) натягивать, напрягать (τῐταινόμενος Hom. и τῑταίνων Hes. — напрягшись, с напряжением всех сил); 2) протягивать, простирать (τιταινομένω πτερύγεσσιν Hom. — распластав крылья); 3) растягивать, расставлять (τιταίνεσθαι πεδίοιο Hom. — (о коне) мчаться по равнине); 4) тянуть, тащить (ἅρμα, ἄροτρον Hom.); 5) нестись во весь опор, мчаться. τίτας (-αο) ὁ мститель Aesch. τιτός 3 {adj. verb. к τίνω} отмщенный, наказанный (Hom. - v. l. к ἄντιτος). τυτθά adv. мелко, на мелкие куски (κηροῖο τροχὸν διατμῆξαι Hom.). _______________________________
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯВоскресенье, 04 Февраля 2018 г. 21:16 (ссылка)
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ «В Риме были два храма Юноны Соспиты: один на Forum olitonum (Овощная площадь) и другой на Палатине, но это были по сравнению с ланувийским храмом второстепенные святилища. В пещере рощи содержался священный змей (гений места), которому ежегодно весной избранная девушка, входившая в пещеру с завязанными глазами, приносила жертвенную лепешку, при этом — если змей принимал лепешку, то это считалось знаком чистоты девушки и знамением плодородия года. Точно так же в определенный день в году совершали жертвоприношение в Ланувийской роще римские консулы.»   8. Фиала-мезомфал. Краснофигурная аттическая керамика, ок. 430 до н.э. 9. Апулийская краснофигурная фиала-мезомфал, ок. 320-300 до н.э. Нельзя, однако, не отметить попытку, в римской ритуальной практике, обыграть сходство фиалы-мезомфал с солярным символом ☉ (круг с точкой в центре, заимствованный из египетской иероглифики). На иллюстрациях ниже мы видим фиалу (лат. patera), с расходящимися от омфала (лат. umbo) лучами, не только в руках усопшего, но и на стенках саркофага.  Крышка погребальной урны, II в. до н.э. Лувр. Этрусские древности. _______________________  Крышка погребальной урны, III в. до н.э. Лувр. Этрусские древности. _______________________  Саркофаг Ларции Сеянти. Национальный археологический музей, Флоренция. II в. до н.э. _______________________  Саркофаг, III в. до н.э., Лувр. _______________________ На передней стенке грифоны с двух сторон держат солнечный диск мало отличимый от фиалы в руках усопшего. Композиция с грифонами — это каноническая сцена, сохранившаяся в неизменном виде вплоть до Средневековья.  Деталь Скуола Сан-Марко, Венеция, 1260 г. _______________________ ГИГИЕЯ Гигиея (Ὑγιεία), пожалуй единственная из греческих богинь, которая, как правило, изображается со змеей на руках. И чаще всего она эту змею кормит из фиалы. Мне кажется, это неспроста. В свое время я сделал скромное предположение о том, что образ Гигиеи восходит корнями к египетской Уаджит. Уаджит часто изображали в виде урея над иероглифом «плетеная корзина» (nebet), который имеет значение «владычица» [Нижнего Египта]. Похожий иероглиф (shes, heb, обозначающий каменный плоский сосуд), часто взаимозаменяемо использовался с иероглифом «корзина». Иероглиф алебастровой чаши (shes, heb) отличается от иероглифа корзины (nebet) наличием ромба посредине. Возвращаясь к Гигиее, именно эти два (условно говоря) иероглифа (змею и чашу) она постоянно и держит в руках. Да и само имя богини (Ὑγιεία) говорит за себя. Буква ипсилон (Υυ) имеет не однозначное прочтение, в зависимости от обстоятельств, читается и как [ί], и как [ü]. При обычном переходе согласной γ («г») в «дж», имя Ὑγιεία с легкостью превращается в Уджиею, что мало чем отличается от Уаджит. Отсюда вопрос, не была ли Гигиея первой, от которой пошла традиция иконографии богинь кормящих с рук гения местности, в образе змея? Кстати, Уаджит, как всякая богиня из свиты Ра, имела эпитет Око Ра. Вот прекрасное объяснение солярного символизма чаши, как атрибута богини Гигиеи-Уаджит. Хотя неизвестно, насколько был важен солярный символизм чаши для греков. Любой круглый предмет украшался солнечным символом (круг с расходящимися лучами) — бытовая  посуда, щиты, масляные лампы. Это обычная практика и самый простой рисунок. Но одно дело рисунок, и совсем другое — сферический выступ на дне ритуальной чаши. Кудрявец В.К. считает единственным смыслом наличия омфала в центре фиалы — это максимальное сближение формы чаши с греческой буквой Θ (тета), которая, в свою очередь, является заимствованным египетским солярным символом (круг с точкой внутри). Для этого он даже предлагает новый термин: «солнечная фиала». Из слова Атон (егип. Ἰtn, солнечный диск) Кудрявец выводит греческие имена Зевса (через θεόν, θεός) и Афины (в его изложении, женская форма имени Атон). Таким образом «солнечная фиала» в руке Афины, якобы должна демонстрировать ее солярную ипостась. Солкин именует эпитетом Атонет (егип. Ἰtn.t) египетскую богиню Хатхор-Сехмет, что, очевидно, соответствует эпитету Око Ра, который носили многие богини из свиты Ра. посуда, щиты, масляные лампы. Это обычная практика и самый простой рисунок. Но одно дело рисунок, и совсем другое — сферический выступ на дне ритуальной чаши. Кудрявец В.К. считает единственным смыслом наличия омфала в центре фиалы — это максимальное сближение формы чаши с греческой буквой Θ (тета), которая, в свою очередь, является заимствованным египетским солярным символом (круг с точкой внутри). Для этого он даже предлагает новый термин: «солнечная фиала». Из слова Атон (егип. Ἰtn, солнечный диск) Кудрявец выводит греческие имена Зевса (через θεόν, θεός) и Афины (в его изложении, женская форма имени Атон). Таким образом «солнечная фиала» в руке Афины, якобы должна демонстрировать ее солярную ипостась. Солкин именует эпитетом Атонет (егип. Ἰtn.t) египетскую богиню Хатхор-Сехмет, что, очевидно, соответствует эпитету Око Ра, который носили многие богини из свиты Ра. «Единственная в своем роде и полиморфная, «Ее Величество», как ее называют, представляет в совокупности Хатхор и Сехмет, будучи Атумом женского рода; ее светящиеся лики озаряют все стороны света, она проводница солнечной энергии, и даже сам диск светила, определяющийся как существо женского рода (Атонет). Око Ра, она излучает каждое утро свет, пробуждает и с триумфом согревает вселенную.» Этимология имени Афины от египетского эпитета Атонет мной ранее рассматривалась в теме Эгида. Единственное, что смущает во всем этом «солярном символизме» Афины — это полное отсутствие каких бы то ни было свидетельств этой самой солярности. Ее символ — сова, птица ночная. «Сова Минервы вылетает в полночь». А девственность самой богини говорит о ее откровенно лунном аспекте. Вообще традиция отождествления богинь с земным аспектом, в образе богини-матери, и лунным аспектом, в образе девы, уходит в глухую древность Древней Греции. Хотя, отдадим должное, воинственность Сехмет Афина восприняла в полном объеме. Впрочем, не только воинственность. Посмотрим, что еще интересного об Афине повествуют ученые мужи античности. Согласно Плутарху, во время строительства здания Парфенона в Афинах,³ «самый энергичный и самый ревностный из мастеров поскользнулся и упал с высоты. Он был в самом тяжелом состоянии, и врачи считали его положение безнадежным. Перикл упал духом, но богиня [Афина], явившись ему во сне, дала указание, как лечить пострадавшего. Применив это лечение, Перикл быстро и без труда его вылечил. В честь этого излечения он поставил медную статую Афины Гигиеи (Целительницы) на Акрополе возле алтаря, который, как говорят, существовал там уже раньше» (Плутарх. Перикл 13). Ту же самую историю с небольшими вариантами передает и Плиний (Естественная история, XXII, 44). При этом он добавляет, что лекарством служила трава, названная после исцеления в честь богини «парфением». На акрополе было найдено основание статуи Афины Гигиеи работы скульптора Пирра с посвятительной надписью: «Афиняне Афине Целительнице. Сделал Пирр, афинянин». _________________________ [3] Παρθενών (-ῶνος) ὁ Парфенон, храм Афины в афинском Акрополе; название Парфенон является производным от эпитета Афины — Παρθένος — Дева. Небольшой храм, посвященный как Афине Гигиее так и Гигиее, дочери Асклепия, был расположен на юго-востоке центрального здания Пропилей. Изображали Гигиею в виде молодой женщины, кормящей змею Асклепия из чаши. Культ Афины Гигиеи на Акрополе датируется VI в. до н.э. в соответствии с эпиграфической надписью, в то время как культ Гигиеи датируется приблизительно 420 до н.э. Поэтому имеет смысл рассматривать культ Гигиеи как дубликат культа целительницы Афины Гигиеи, тем более, что богиню Гигиею считали дочерью Асклепия и Афины (Павсаний. Описание Эллады I 23, 5). Даже вернее было бы говорить об отделившейся ипостаси Гигиеи (целительницы) от Афины (воительницы). Общие корни Афины и Гигиеи хорошо просматриваются в иконографии богинь кормящих змея из фиалы. Только Гигиея кормит безымянного змея (хотя иногда змея идентифицируют как Гликона), а Афина кормит Эрихтония, но, в обоих случаях, змей представляет из себя гения местности. Еще одна богиня-кормилица змеи — римская Салюс — это абсолютный список с Гигиеи. Сложно говорить о значимости этой богини в доимперский период. Но, в любом случае, ее статус резко поднялся во времена Империи, когда Салюс стала почитаться как охранительница императора. Иконография Салюс полностью копирует Гигиею. Собственно Салюс — это и есть Гигиея, просто, для удобства, имя греческой богини перевели на италийский. ὑγίεια, ὑγεία, редко ὑγιεία, ион. ὑγιείη и ὑγείη (ῠ) ἡ 1) здоровье; ὑ. φρενῶν Aesch. — здравый смысл; ὑγίεαι καὴ εὐεξίαι Plat. — здоровье и благосостояние; 2) исцеление, выздоровление; (πάσης νόσου Men.). salus, -utis f [salvus] 1) здоровье, здоровое состояние; 2) благо, благополучие, благосостояние, благоденствие (civium C); 3) спасение, избавление, сохранение жизни (certare pro salute Sl): saluti esse alicui C служить к чьему-л. спасению; 4) спаситель (Lentulus s. nostrae vitae C); 5) средство к спасению, возможность спасения (nullam salutem reperire C); 6) привет, поклон; 7) ласк. радость (quid agis Pl). Любопытно, что слово salus — мужского рода. Поэтому логичней было бы называть богиню именем Salutis. Возможно, путаница пошла от того, что изображение Салюс на монетах часто сопровождается легендой SALVS AVG (salus Augusti). Но эта легенда переводится как пожелание здоровья императору, и к богине имеет опосредованное отношение.   16. Адриан (117-138). Рим. Сестерций (Æ 31mm, 24.40g). Av: бюст Адриана в лавровом венке; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: Салюс протягивает жертвенную лепешку змею, обвивающему алтарь, в левой руке держит патеру; SALVS AVG / S C 17. Диадумениан (Marcus Opellius Antoninus Diadumenianus; 218), соправитель своего отца Макрина. Никополь на Истре, Нижняя Мезия. Æ 27mm, 217/8г. Av: бюст Диадумениана; K M OΠΠEΛI ANTΩ ΔIAΔOYMENIANOC. Rv: девушка, с завязанными глазами, кормит гения в образе змея; YП CTATI ΛONГINOY NIKOΠOΛITΩN ПPOC ICTPΩ   18. Л.Росций Фабат (L.Roscius Fabatus), легат Цезаря. Денарий-серрат (AR 3.82g), 59 до н.э. Av: голова Юноны Соспиты в козлиной шкуре, слева — патера (фиала-мезомфал); L ROSCI. Rv: девушка, с завязанными глазами, совершающая приношение гению местности в образе змея; слева коринфский шлем; FABATI 19. Трикка (Τρίκκη), Фессалия. Обол (AR 12mm, 0.92g), ок. 440-400 до н.э. Av: конь скачущий влево. Rv: Гигиея, кормящая змею из патеры; TΡIKKAIΩN   20. Элагабал (218-222). Рим. Денарий (AR 22mm, 4.91g). Av: бюст Элагабала в короне; IMP CAES MAVR ANTONINVS AVG. Rv: Салюс кормит из патеры гения в образе змея; SALVS ANTONINI AVG 21. Каракалла (198-217). Рим. Денарий (AR 19mm, 3.61g), 205г. Av: бюст Каракаллы в лавровом венке; ANTONINVS PIVS AVG. Rv: Салюс на троне кормит из патеры гения в образе змея, обвивающего алтарь; PONTIF TR P VIII COS II   22. Марк Аврелий и Люций Вер (соправители с 161г.). Рим. Медальон (Æ 42mm), 161г. Av: бюсты двух императоров, обращенные друг к другу; IMP ANTONINVS AVG COS III IMP VERVS AVG COS II. Rv: Салюс на троне кормит из патеры гения в образе змея, обвивающего алтарь. 23. Марк Аврелий (161-180). Рим. Сестерций (Æ 24.93g), 162/3г. Av: бюст Марка Аврелия; IMP CAES M AVREL ANTONINVS AVG P M. Rv: Салюс, со скипетром в левой руке, кормит из патеры змея, обвивающего алтарь; SALVTI AVGVSTOR TR P XVII / COS III / SC   24. Антонин Пий (138-161). Рим. Денарий (AR 18mm, 3.48g), 148/9г. Av: бюст Антонина Пия в лавровом венке; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XII. Rv: Фортуна, с корабельным рулем в левой руке, кормит из патеры змея, обвивающего алтарь; внизу, рядом с рулем — сфера; COS IIII 25. Каракалла (197-217). Сердика, Фракия. Æ 30mm (18.71g). Av: бюст Каракаллы в лавровом венке; ΑΥΤ Κ Μ ΑΥPΗ ΑΝΤΩΝΙΝΟC. Rv: сидящая Афина в коринфском шлеме кормит из чаши змея Эрихтония, обвивающего оливковое дерево; справа щит, на котором сидит сова; ΟΥΛΠΙΑC CЄΡΔΙΚΗC 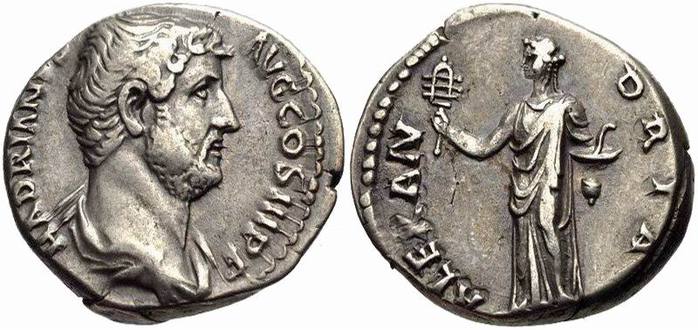  26. Адриан (117-138). Рим. Денарий (AR 17mm, 3.48g), ок. 134-138гг. Av: бюст Адриана; HADRIANVS AVG COS III P P. Rv: Исида в правой руке держит систр, в левой — патеру со змеей; ALEXANDRIA 27. Памфилия. Статер (AR 23mm, 10.64g), ок. 380-340 до н.э. Av: Афина в аттическом шлеме держит на руке крылатую Нику, левой рукой придерживая щит и копье; слева у ног — Эрихтоний. Rv: Аполлон с патерой и скипетром перед алтарем. ЩИТ Если рассматривать форму фиалы-мезомфал как попытку обыграть солярный символизм ритуальной чаши, то было бы не лишним вспомнить еще один интересный атрибут, несущий в себе солярный аспект. Это щит. Щит с фиалой связывает не только круглая, слегка выгнутая форма, у щитов в центре тоже находился выступ-омфал. Италики, к слову сказать, выпуклость в центре щита (равно как и в центре чаши) называли умбон (umbo). Термины «умбон» и «омфал» — равнозначны и в наши дни (и для чаши, и для щита).⁴   28. Марк Аврелий (Marcus Aurelius Antoninus; 161-180). Пергам, Мизия. Магистрат Тиллий Кратипп (strategos A.Tyllios Kratippos). Медальон (Æ 33.49g), ок. 161-165гг. Av: бюст Марка Аврелия в лавровом венке; AYT KAI M AYPH ANTΩNEINOC. Rv: Афина в аттическом шлеме стоит перед священым оливковым деревом, которое обвивает Эрихтоний; справа — щит и копье; EΠI CTPA A TYΛ KPATIΠΠOY ΠEPГAMHNΩN / ΔIC NEOK 29. Клодий Альбин (193-197). Рим. Сестерций (Æ 30mm, 20.14g), ок. 194/5г. Av: бюст Клодия Альбина; D CLOD SEPT ALBIN CAES. Rv: Минерва Примирительница (Minerva Pacifica) в коринфском шлеме, опирается о щит, придерживая копье; в правой руке — оливковая ветвь; MINER PACIF / COS II / S C _________________________ [4] umbo, -onis m выпуклость, выступ в середине щита (служившего в рукопашном бою ударным оружием). ὀμφαλός ὁ острый выступ, шишка (ἀσπίδος — щит Hom.). φιάλη (ᾰ) ἡ 1) сосуд для варки; 2) сосуд для питья, чаша; 3) ковш; 4) погребальный сосуд; 5) поэт. чашеобразный щит; (φιάλη Ἄρεως Arst.). Если рассуждать логически, можно сделать очевидное предположение, если схожие элементы разных девайсов имеют аналогичное название, то мы имеем дело с заимствованием. Омфал в центре чаши не имеет прикладного характера, это чисто символьный элемент. Напротив, омфал щита, часто острый и удлиненный, использовался в ближнем бою для нанесения противнику поражающего удара. О щитах с острым омфалом упоминает еще Гомер. ἐπομφάλιος (ἐπ-ομφάλιος) — находящийся в месте пупа; βαλεῖν σάκος ἐπομφάλιον Hom. — ударить в центральный выступ щита. «Находящийся в месте пупа» — это кривой перевод, но пример из Гомера исправляет трудности перевода: «выступ щита». ὀμφάλιον (ᾰ) τό Отметим все же, что, помимо ударной функции, главное предназначение щита — защита. У небольших и средних размеров щитов ручка, за которую щит держали, находилась в центре. И, таким образом, умбон огибал кулак. Поэтому, в большинстве своем, форма умбона — сферическая. Т.е., возвращаясь к практичности, предназначение умбона-омфала на щите — понятно, ибо он был важным (чтобы не сказать, необходимым) элементом конструкции. Из этого можно допустить теоретическое предположение, что, именно, щит мог послужить примером для подражания, т.е. переноса центрального символьного элемента на конструкцию сакральной чаши, с целью усиления символьной значимости. PS Кстати, италийский термин umbo (умбон), вероятно, имеет греческую этимологию: ὑβός, v. l. ὗβος 3 (ῡ) горбатый Theocr. ὗβος, v. l. ὕβος ὁ выпуклость, горб; (ἐπὴ τῷ νώτῳ, sc. τῶν καμήλων Arst.). κύρτωμα ή κόσμημα στο μέσο τής ασπίδας — «выпуклость как украшение в центре щита». Понятно, что «горбатость» — это выпуклость сзади, а если оно же спереди, то это просто «выпуклость» — греч. ὑβός, лат. umbo.⁵ _________________________ [5] Буква m в слове umbo (умбон) появилась не случайно. Буква β (τό βῆτα — бета, 2-я буква др.-греч. алфавита), в новогреческом стала произноситься как звонкий лабиодентальный (губно-зубной) фрикатив [ν]. И название ее, соответственно, поменялось на «вита». Сегодня звук «b» в греческом встречается только в заимствованиях и передается сочетанием букв μπ, например: Μπαχάμες (Багамы), μπανάνα (банан). Но, чтобы новое правило грамматики вошло в обиход, понадобилось некоторое (довольно продолжительное) время, что хорошо видно на примерах написания слова «суббота» в Египте, в IV в. н.э., которые дает Епифаний Саламинский: Σαμβαθον, Сαμφαθον, Сαμαθον (Epiphanius' Sabitha In Egypt: Σαμβαθον/cαμφαθον/cαμαθον. Mayerson Philip). • Епифаний Саламинский (греч. Ἐπιφάνιος Σαλαμίνιος; ок. 310/20-403) был епископом Саламина (Кипр), в конце IV века. ФРАКИЙСКИЕ ФИАЛЫ Фиала (h 9cm; d 13.7cm), серебро, позолота, начало III в. до н.э. Литье, дополнительное оформление путем пластической деформации, чеканка различными пуансонами. Фонд «Фракия» с музеем «Васил Божков». Инв. № ВБ-Тр-02151.  Это одна из крупных фиал-мезомфал ахеменидского типа с одинаковой высотой тулова и горловины. Тулово покрыто вертикальными мелкими каннелюрами, разделенными между собой позолоченными полосками. Снаружи донце окружено рельефным концентрическим поясом. На месте омфала прикреплена золотая 18-листная розетта, а поверх нее — небольшой 8-листный цветок. С внутренней стороны на омфал прикреплена серебряная с позолотой эмблема с изображением головы сатира в венке из плюща. Под подбородком на шее завязана шкура. Звериные уши повернуты вперед и детально прорисованы. Пластично смоделированные черты лица подчеркивают буйный характер сатира. Поворот головы, складки над бровями, широко раскрытые глаза с обозначенными зрачками и плотно сжатые маленькие губы подчеркивают характер участника торжественного шествия Диониса. Фиала (h 4.5сm; d 11.7сm). Серебро, первая половина ІV в. до н.э. Рогозенский клад. Региональный исторический музей, г.Враца. Инв. № Б 431.  Орнаменты внутри сосуда представлены в негативе, а с внешней стороны переданы объемно. Рельефы выполнены в двух ярусах: первый, около омфала, состоит из изображений плодов миндаля, чередующихся с цветками лотоса. Второй ряд выполнен из восьми женских голов, между которыми выбиты трехлистные пальметты. Головы имеют треугольные лица, сросшиеся над носом брови, тонкие губы, большие миндалевидные глаза, очерченные тонким рельефным контуром. Волосы, завивающиеся в нижней части в спирали, проработаны насечками. Фиала (h 3.5сm; d 25сm), золото, конец ІV в. до н.э. Клад из Панагюриште. Региональный археологический музей. Пловдив. Инв. № 3204.  Чаша имеет широкий горизонтальный край устья и омфал. Омфал изготовлен отдельно и прикреплен в центре дна. Поверхность фиалы покрыта рельефным орнаментом, расположенным в виде нескольких концентрических окружностей. Внутренняя состоит из 12 маленьких розеток, которые прикрывают заклепки, скрепляющие стенки сосуда и омфал. Далее идет ряд из 24 желудей. Следующие три окружности содержат по 24 декоративных элемента в виде человеческих голов. Они пропорционально увеличиваются в размерах и образуют исходящие из центра радиусы. Человеческие головы — это так называемые эфиопы, которых греки считали чернокожими обитателями южного края, окруженного океаном земного диска. Согласно эллинским верованиям, эфиопы первыми стали совершать возлияния в честь богов, заслужив тем самым их покровительство. Поэтому головы эфиопов превратились в символ благоденствия. В святилище Немезиды (IV в. до н.э.) под Рамнунтом, Аттика, статуя богини держит в руке подобную фиалу. Чаша имеет широкий горизонтальный край устья и омфал. Омфал изготовлен отдельно и прикреплен в центре дна. Поверхность фиалы покрыта рельефным орнаментом, расположенным в виде нескольких концентрических окружностей. Внутренняя состоит из 12 маленьких розеток, которые прикрывают заклепки, скрепляющие стенки сосуда и омфал. Далее идет ряд из 24 желудей. Следующие три окружности содержат по 24 декоративных элемента в виде человеческих голов. Они пропорционально увеличиваются в размерах и образуют исходящие из центра радиусы. Человеческие головы — это так называемые эфиопы, которых греки считали чернокожими обитателями южного края, окруженного океаном земного диска. Согласно эллинским верованиям, эфиопы первыми стали совершать возлияния в честь богов, заслужив тем самым их покровительство. Поэтому головы эфиопов превратились в символ благоденствия. В святилище Немезиды (IV в. до н.э.) под Рамнунтом, Аттика, статуя богини держит в руке подобную фиалу.Вся поверхность сосуда между головами покрыта сложным узором из пальметт, выполненных в более низком рельефе. Снаружи, под краем устья, врезаны две надписи, указывающие вес фиалы в двух различных единицах измерения: в драхмах — HPDDDDП I; и в статерах города Лампсак — H. Еще один врезной знак находится с внутренней стороны умбона: М. В 1949г. в ходе земляных работ в местности Мерул неподалеку от города Панагюриште был обнаружен комплект изделий из золота общим весом в 6kg 164g. Девять сосудов представляют собой великолепные образцы искусства мастеров ювелиров раннеэллинистической эпохи: древнегреческие мотивы и стилистические приемы сочетаются в них с фракийскими и ахеменидскими. В научной литературе эти изделия датируются концом IV — началом III в. до н.э. Предположительно сосуды были изготовлены в малоазийском городе Лампсак, либов местной фракийской мастерской и принадлежали прославленному правителю из племени одриссов Севту III (около 330-297 до н.э.). Предание земле изделий из драгоценных металлов и монет входило в обрядовые функции правителя. Зарытые в землю, они становились священным даром, сакрализующим пространство, и одновременно с этим отмечающим основные космогонические обряды рождения нового царя и священного брака с Великой богиней-матерью. В традиции устного фракийского орфизма захоронение дара представляет собой действие-именование Сына Великой богини-матери. Он является одновременно (северным) Солнцем и Огнем, но мыслим и в позиции священного брака, т.е. в момент его обрядовой смерти, в момент нового рождения. Фиала-мезомфал (h 5сm; d 13.5сm), серебро, начало V в. до н.э. Ковка, чеканка отдельных деталей, басма. Фонд «Фракия» с музеем «Васил Божков» Инв. № ВБ-Тр-02230.  Сосуд относится к так называемому ахеменидскому типу — форма полусферическая с вытянутым наружу прямым устьем и невысоким, плоским омфалом. В средней части сосуда расположены двенадцать гладких миндалевидных выпуклостей очень высокого рельефа. Орнаментику нижней части составляют широкие врезанные языки. Они связывают между собой миндалины, тем самым очерчивая дно фиалы. Пространство между миндалинами украшают стилизованные растительные мотивы, которые состоят из заштрихованного овала и цветного бутона и связывают миндалины друг с другом. Сосуд относится к так называемому ахеменидскому типу — форма полусферическая с вытянутым наружу прямым устьем и невысоким, плоским омфалом. В средней части сосуда расположены двенадцать гладких миндалевидных выпуклостей очень высокого рельефа. Орнаментику нижней части составляют широкие врезанные языки. Они связывают между собой миндалины, тем самым очерчивая дно фиалы. Пространство между миндалинами украшают стилизованные растительные мотивы, которые состоят из заштрихованного овала и цветного бутона и связывают миндалины друг с другом. Первые экземпляры фиал ахеменидского типа датированы концом VI в. до н.э. Миндалевидные фиалы обнаружены в кладах и погребениях Фракии. Наиболее ранней из них считается серебряная фиала из захоронения в Мушовице близ Дуванли. Близкие параллели известны среди серебряных фиал из гробницы Икизтепе, Лидия, датированные концом VI — началом V в. до н.э. Фиала (h 4сm; d 18.8сm), серебро, ІV в. до н.э. Региональный исторический музей, г.Враца. Инв. № Б 465.  Сосуд принадлежит к типу фиалы-мезомфал и состоит из среднего по глубине тулова с хорошо выраженным отогнутым наружу краем. Дно с внешней стороны украшено выбитым пояском ов. В центре дна изнутри находится позолоченный умбон в форме полусферы. От него радиально отходят 14 листьев розетты, составленной из больших по размеру языкообразных листов, позолоченных через один и чередующихся с мелкими стреловидными отростками. Во внешнем декоративном ярусе тулова изображены четыре пары грифонов, чередующихся с пальметтами. Грифоны сидят на задних лапах, их головы повернуты назад. Тела изображены пластично, шеи элегантно изогнуты. Грива передана снопами, обрамляющими голову. Крылья обозначены так же, как и грива. Во внешнем ярусе перья переданы рельефными продольными насечками. Сосуд принадлежит к типу фиалы-мезомфал и состоит из среднего по глубине тулова с хорошо выраженным отогнутым наружу краем. Дно с внешней стороны украшено выбитым пояском ов. В центре дна изнутри находится позолоченный умбон в форме полусферы. От него радиально отходят 14 листьев розетты, составленной из больших по размеру языкообразных листов, позолоченных через один и чередующихся с мелкими стреловидными отростками. Во внешнем декоративном ярусе тулова изображены четыре пары грифонов, чередующихся с пальметтами. Грифоны сидят на задних лапах, их головы повернуты назад. Тела изображены пластично, шеи элегантно изогнуты. Грива передана снопами, обрамляющими голову. Крылья обозначены так же, как и грива. Во внешнем ярусе перья переданы рельефными продольными насечками. Тип фиалы, как и растительный орнамент из розетт и пальметт, были широко распространены во фракийском искусстве. Согласно античной мифологии, грифоны были стражами золота, которое выходило из земли, обитателями пограничной зоны между реальным и загробным миром, спутниками богов, в том числе и Аполлона, который в сцене возвращения из Гипербореи часто был представлен верхом на грифоне или же в колеснице, запряженной грифонами. Образ мифического животного, сочетающего мощь льва и орла, несет большую семантическую нагрузку. В нем было закодировано верховное ураническое божество, царь-жрец, гарант божественного бессмертия. Вероятно, это стало причиной частого появления этого образа в декоративных мотивах произведений фракийского искусства. Сервиз Аполлона. Четыре серебряные фиалы (h 3.6сm, d 12.4-14.8сm). Кувшин (17.9сm). Серебро с позолотой, V-ІV в. до н.э. Рогозенский клад. Региональный исторический музей, г.Враца. Инв. № Б 540.  Три другие фиалы — однотипны, имеют широкое устье с отогнутым краем и полусферическое тулово, украшенное ярусом из насечек и радиально расположенными каннелюрами. На умбоне изображена рельефная мужская голова с классическими чертами лица. Иконографический тип ближе всего к изображениям Аполлона. Вероятно, фиала была сделана в царских мастерских Котиса І специально для ритуального сервиза. Кувшин массивный, литой, листовая позолота нанесена до гравировки надписи точечным пуансоном. Серебро высокой пробы (96.8%). Тулово сосуда яйцевидной формы, декорировано двумя рельефными ярусами с овами, расположенными в основании шейки и по плечикам. По краю устья поверх позолоченной ленты выгравировано: ΚΟΤΥΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΠΑΙΣ (Котис, сын Аполлона). Надписью передается доктринальная позиция правителя как сына Солнца, по-древнегречески обозначенного именем Аполлон. Тем не менее самым важным в надписи является обозначение позиции самого царя, которая определена существительным «пайс».⁶ Эта лексема была выбрана вместо «сын» (γιός)⁷ не случайно: ее мистериальный смысл включает не только семантику родства, но и привносит элемент священнодействия. ____________________________ [6] παῖς, παιδός, эп. тж. πάϊς ὁ и ἡ (voc. παῖ — эп. тж. πάϊ; pl.: gen. παίδων, dat. παισί — эп. παίδεοσι) 1) ребенок, дитя, мальчик или девочка; π. παιδός Hom., Plat. — внук; πέτρας ὀρείας π. Eur. — дитя горных скал, т.е. Эхо; ἐκ παιδός Plat. — с детства; ἀμπέλου π. Pind. — дитя виноградной лозы, т.е. вино; παῖδες τᾶς ἀμιάντου Aesch. — дети морской пучины, т.е. морские животные 2) pl. сыны (в описаниях, преимущ. не переводится) οἱ παῖδες Ἀσκληπιοῦ Plat. — сыны Асклепия, т.е. врачи; Λυδῶν παῖδες Her. — лидийцы; οἱ ζωγράφων παῖδες Plat. — живописцы. [7] γιός ὁ сын; ex.: θετός γιός приемный сын. Вероятно, кувшин вместе с четырьмя фиалами представлял собой специальный ритуальный сервиз, который служил для посвящений в орфические мистерии. Возможно, он был подарен одрисским царем Котисом І трибальскому правителю Галесу. В древней Фракии было известно два доктринальных пути бессмертия для царей-жрецов и воинов: один из них можно назвать Аполлоновым (постигнутым способом очищения), другой — Дионисийским (через кровавое жертвоприношение). Обрядовый «сервиз Аполлона» из Рогозенского клада, подаренный одрисским царем Котисом І (383-359 до н.э.) трибальскому правителю, вероятнее всего, и предназначался для совершения возлияний водой и медом. Считалось, что это священные жидкости бога Солнца, Сына Великой богини-матери, в его уранической сущности. Визуализация священного брака Великой богини со своим Сыном укрепляла надежду на то, что божественная энергия этого союза вливается в посвященного и ведет его к бессмертию. ФРАКИЙСКИЙ ОБРЯД Елка Пенкова Фракийское направление одно из древнейших направлений эллинизации балканско-анатолийского региона. Начиная со второй половины ІІ тыс. до н.э. во фракийской среде оформляется и осмысливается идея взаимодействия «земля-небо», которая приобретает характер религиозно-политической доктрины, условно названной профессором А. Фолом «фракийским орфизмом». Культ Диониса во Фракии засвидетельствован множеством исключительных объектов и находок, самыми ранними из которых являются могильники с богатым инвентарем из некрополя близ села Дуванли в районе Пловдива. Основой дионисийства является вера в умирающего и заново рождающегося бога, который в древней Элладе был преимущественно покровителем вегетативного цикла (за исключением некоторых мистериальных празднеств), а во Фракии — символом и воплощением перехода от жизни к загробному миру. Фракийский Дионис — Сын Великой богини-матери, переживающий свое собственное жертвоприношение в образе быка, барана или козла. В своей смерти, через вытекающую из ран и впитывающуюся в почву кровь, Дионис снова соединялся с землей священным браком и давал жизнь своему сыну, правителю социума. Фракийский Дионис — Бог-Солнце, называемый Сабазием, и Бог-Огонь, называемый Загреем — это бог, который обладает верующим в него, очищает и освобождает его, потому что он «бог внутри» верующего. В известном фракийском прорицалище днем Дионис идентифицировался с Солнцем, а ночью — с Огнем. Жрецы распознавали божественную волю по лучам солнца, падающим на алтарь, и по языкам пламени, взвивающимся в темное небо. Бык являлся основным зооморфным проявлением хтонических (Загреево-Дионисийских) ипостасей Сына Великой богини-матери. В орфических гимнах Диониса призывали явиться в образе «трехлетнего быка», обращались к нему как к «огнерожденному» и «быколикому», «двурогому» и т.д. Убиение быка и принесение его в жертву представляло собой символическое соединение дающей жизнь крови с землей. Через этот акт участники обряда сопереживали таинство смерти и священного брака. Одновременно с этим бык являлся и воплощением бога, поэтому во время жертвоприношения плоть животного расчленялась (разрывалась) на куски, и жрецы вкушали ее с кровью, дабы ввести бога в свое тело и поселить его в нем. В этом обряде бог-бык умирал и снова рождался. Литературная обработка обряда впоследствии вывела из сюжета о разорванном на куски и съеденном титанами Загрее орфический антропологический миф. В контактных зонах эллинских полисов в понтийском регионе Дионис чаще всего появляется в погребальном контексте или же в связи с аттическими празднествами, такими как Великие Дионисии, Ленеи и Анфестерии. В вазописи он представлен в сценах открытой для всех оргиастической обрядности, вероятно, подобной той, что описана Геродотом в повествовании о царе скифов Скиле в Ольвии (Herod. ІV, 79-80). Сочетание солярности и хтонизма и наименование двух ипостасей Сына Великой богини-матери — Аполлоновой и Дионисийской — результат так называемой «Дельфийской реформы» VІІІ в. до н.э. (Фол. 1998а; 2002); вплоть до Диодора жреческий род в Дельфах назывался Фракиды (ХVІ 23,3). Эта реформа состояла в эллинизации веры и наречение именами двух ипостасей Сына Великой богини-матери, который в доэллинистический период оставался анонимным. Бог приплыл в Дельфы, то есть на север с юга, в образе дельфина (Hymn. Hom II 315-318). Или, согласно другим версиям, на спине дельфина. В вазописи и в письменных источниках дельфины связаны с Аполлоном и Дионисом. Крылатый дельфин — образ-символ, имеющий большую смысловую нагрузку. Он может передвигаться по морю, которое для эллинов после Гомера окрашено красным — цветом вина, но он также может лететь по воздуху. С помощью дельфинов легче всего попасть из мира мертвых в мир бессмертных. В этом смысле, дельфин — прекрасный символ, сочленяющий морское (потустороннее) пространство и небесное (ураническое). В олимпийской религии Дионис — властелин смерти, бог, который приходит и уходит, его ритуальные возвращения во время праздников случаются раз в два года (Триетериды) или ежегодно (Анфестерии). В Дельфах он властвует в святилище в зимние месяцы, когда Аполлон на колеснице, запряженной лебедями, улетает в страну гипербореев. Его передвижение — связующая нить двух пространств — земного и подземного, где символика Диониса наилучшим образом конструирует свои знаки: «Солнце в загробном мире», «пылающая лоза, дочь черной земли», «питающий огонь Диониса и холодный плющ, его защитник, обвившийся вокруг него при его рождении», «фонтаны плюща с воды цвета вина», «черный цветок», «факел в ночи». В знаменитом фракийском святилище Диониса, о котором впервые упоминает Геродот (VІІ. 111.2), царско-жреческий род бессов⁸ выполнял прорицательские функции. Светоний (Aug. 94, 6) сообщает о гадательной практике, в которой божественную волю распознавали по всполохам огня на алтаре, изливая на него неразбавленное вино. ____________________________ [8] Βέσσοι, Βεσσοί οἱ бессы (племя во Фракии) Polyb., Anth. Аристотель в своем труде «О чудесах, про которые я слышал» (842, 15-24) упоминает подобное (или то же) святилище, в котором во время праздника и жертвоприношения вспыхнувший огонь знаменовал плодородный год. В конце ІV — начале V в. неоплатоник Макробий (Sat. I, 18, 11), рассуждая о дуалистической солярно-хтонической (Аполлоно-Дионисийской) вере фракийцев, ссылается на Александра Полигистора (первая половина І в. до н.э.): «Мы знаем также, что во Фракии Солнце и Либер — одно (божество), которое они, называя его Сабазием, чествуют с великолепной религиозностью… На вершине Зилмисос этому богу воздвигнуто святилище круглой формы, крыша которого в середине открыта небу». https://newparadigma-ru.livejournal.com/53928.html Фракийское золото из Болгарии. Выставка в ГИМ. Москва. 2013г. _______________________________
ЭВОЛЮЦИЯ КУЛЬТА ДИОНИСАВоскресенье, 03 Сентября 2012 г. 01:17 (ссылка)
Вячеслав Иванов «Мὸлнийным вином зажженный, я ль за чашей не горазд Не имея в виду дать полный исторический очерк распространения Дионисовой религии и ее дальнейших судеб в эллинском мире, ограничимся характеристикой нескольких главных этапов этого распространения и нескольких моментов ее влияния, имевших мировое значение. Верная своему происхождению из тризны и почитания душ, религия Диониса должна была примкнуть к уже готовым местным культам сил подземных и растительных. Было указано на сравнительно позднее образование имени Диониса. В ту эпоху, когда вакхическая идея овладевает Элладой, должно было дифференцироваться имя и понятие Дия-Диониса от Дия-Зевса эллинов. Одну из самых ранних ступеней этой дифференциации мы застаем в Беотии. Фивы делаются преимущественно родиной Диониса; там он родится от Зевса и дочери Кадмовой, Семелы. Фивы — центр культа Ареса, как бога смерти, бога человеческих жертвоприношений, — свидетельством тому служит миф о Менекее, заколовшем себя в жертву буйному и воинственному богу на стенах семивратного города и возрастившем из своей пролитой крови гранатовое дерево. Семела,² чье мистическое святилище (ἄβατον) обличает ее хтоническую сущность, — дочь Змееубийцы и Гармонии, дочери Аресовой. Змея, убитая Кадмом, родилась от Ареса, и сам он вместе с женой обращаются в змей. Змея же всегда символ хтонический. Кадм — домовой змий, µένοικος ὄφις, равноименный Менекею: дух, живущий в недрах, древний дух тризн. Но если хтоническая основа культов додионисийских объясняет легкость их сочетания и смешения с Вакховой религией в Беотии, то в той же Беотии эта религия является нам с чертами чисто эллинскими: ее мрачный характер изменяется, просветляется, кровавый элемент смягчен, идея растительного изобилия, зависящего от хтонических сил, и радостный оргиазм вступают в свои права. Дионис чтится в Фивах под своими растительными и оргиастическими символами — в фетишах столпа и плюща. Занесенные из Фригии экстатические флейты оглашают оргии Киферона. Местная керамика выдает нам безудержность оргийного разгула беотийских вакханалий. Дионис встречает на своем пути ряд местных растительных и сельских божеств; он вбирает в себя их numina и nomina.³ Бог Аристей усваивает себе его черты и становится дионисийским героем. Боги Φλές (или Φλεών), и Βρισεύς обращаются в культовые наименования (ἐπικλήσεις) Диониса. Но пришлец сталкивается на своем завоевательном пути и с противником огромной силы. Его имя — Аполлон. Отношения между этими божествами — одна из любопытнейших страниц истории эллинской религии; но они еще недостаточно расследованы. Между тем в этих отношениях пред глазами исследователя развертывается великая культурная борьба, положившая неизгладимую печать на всю греческую жизнь. __________________________ [2] Σεμέλη, дор. Σεμέλα ἡ Семела (дочь Кадма и Гермионы, мать Вакха от Зевса) Pind., Her., Eur. συμμελαίνομαι (συμ-μελαίνομαι) становиться совершенно черным, совершенно чернеть; μέλας — черный; [3] numina et nomina — обличия (божественные проявления) и имена (эпиклесы). В Аполлоновой религии единственно проявилось влияние эллинского жречества. Если бы совокупность исторических причин не воспрепятствовала усилению греческого жречества, вся религия и образованность Греции нашла бы, вероятно, другие пути развития. Греция, наподобие Индии, создала бы великие религиозно-философские учения; она углубила бы свою народную веру, которая осталась нестройным и поэтическим, в своей живой и изменчивой противоречивости, многобожием; слабость жречества, неблагоприятная для развития глубочайших мистических и умозрительных начал, данных в зародыше во фрагментах эллинской «теологии» (θεολογία), — была, напротив, благоприятна расцвету искусства, поэзии и научно-философской мысли. Потенция греческого жречества сказалась в создании религии Аполлоновой. Не даром как бы на знамени этой жреческой религии — на портике дельфийского храма — были начертаны многозначительные в своей гиератической краткости изречения: «(ты) еси» (εἶ, ибо таково естественное истолкование всегда казавшегося загадочным слова) и «Познай самого себя» (мы разумеем: как сущего, — познай в себе Самого, т.е. Атмана индусов), — что прямо обращает нас к «Еси» (asi) и «То ты еси» (tattvamasi) ведической философии, — быть может, общему и международному достоянию сокровенной, эстетической мудрости жрецов и теургов (θεουργός), для которой понятие и слово «бытия» уже само по себе заключало идею божественности, как это сквозит еще в элеатском учении о бытии или в еврейских монотеистических формулах: «Сущий», «Аз есмь», «Я буду, кто буду». Кажется, что развитие аполлонийской религии было существенно обусловлено аристократической оппозицией культовым и культурным захватам народных оргиастических вер, — религии Дионисовой, могущественной пристрастием сельских, земледельческих масс. Бог строя и меры, порядка и гармонии, сдержки и обособления, бог завоевателей и господ, законодателей и повелителей, — бог, прежде всего, мужской религиозной реакции против женского владычества (вспомним оправдание матереубийцы Ореста в Дельфах) и женских, всегда оргийных, культов, — должен был считаться с соперником — разрешителем, освободителем, задушевным богом неудержной скорби и неудержного веселья, варварским богом темных переживаний и неустроенных движений души, — богом мужеубийственных женских сонмов. Соперничество обоих божеств выразилось в стремлении Аполлонова культа усвоить и захватить в свое обладание ряд достояний Диониса. Сюда, прежде всего, может быть отнесено отлучение Артемиды от Диониса и ее сочетание с Аполлоном в образе сестры. Это соединение Артемиды с Аполлоном совершилось в одном из главных древних центров греческой религиозной и культурной жизни, на острове Делосе (с которым мы все лучше знакомимся, благодаря новейшим раскопкам, делающим Франции такую же честь, как и ее раскопки в Дельфах). На Делосе Артемида издавна у себя дома. Это видно уже из гомеровского наименования острова именем Артемиды Ортигии. С другой стороны, критское влияние было могущественно на Делосе. Аполлон и Артемида строят себе там алтарь из рогов: образ внушен, быть может, критским обычаем, установленным результатами новейших раскопок на Крите, — украшать жертвенники рогами, чему параллели находятся в библейских текстах. Тесей, возвращаясь победоносный, с Крита, учреждает на Делосе круговой танец, подражающий блужданию в Лабиринте (предмет изображений на знаменитой архаической вазе «François» во Флоренции): обряд сам провозглашает свое критское происхождение. Религия критская — религия Артемиды и некоего Дионисова первообраза; и священная пляска, конечно, отрасль оргиастических обрядов критского бога двойного топора. На древнейшей дионисийской почве Делоса утверждается религия обособившегося Диониса. Герой Делоса — Аниос (Ἄνιος), его мать — Ройо (Ῥοιώ, гранатовое дерево), т.е. гранатовый плод (Диониса), а дед — Стафилос (Στάφυλος), т.е. Дионисов виноградный грозд (σταφυλή, виноградная гроздь), женатый на Хрисеиде, внучке Дионисовой. Когда Стафилос узнает о беременности дочери, он заключает ее в ковчег [и бросает в воду]: мотив явно дионисийский. Дочери Ания — Ойно, Спермо и Элаис (Οἰνώ, Σπερμώ, Ἐλαΐς, т.е. нимфы вина, хлебного посева и маслины), так называемые Οἰνοτρόφοι или Οἰνοτρόποι, т.е. взрастительницы винограда, или «пресуществительницы» в вино, — триада дионисийских растительных сил, культ которой, в своем переживании, еще сквозит в нашем обряде церковного благословения «пшеницы, вина и елея». Один сын Ания разорван собаками: знакомый нам дионисийский символ. Этот герой Диониса отчужден от него и провозглашен жрецом Аполлона. Трех дочерей своих все же он посвящает Дионису; от этого бога они получают дар своей чудотворной силы и впоследствии испытывают судьбу дионисийских героинь — преследование, бегство и превращение (в белых голубиц, — быть может, не без связи с критским культом голубя).⁴ Так не только Артемида, но и Аниос отняты на Делосе Аполлоном у его соперника-Диониса и принимают черты аполлонийские. __________________________ [4] οἰνάς (-άδος) ἡ 1) виноградная лоза Anth. 2) дикий голубь, вяхирь Arst. Уже «Одиссея» выдает попытку — даже благодать изобилия виноградного приписать Аполлону: она называет вино даром Марона, жреца Аполлонова. Между тем уже фракийская родина Марона указывает на его исконную связь с Дионисом, — как и его местный культ и филиация⁵ от Эванта (Εὐάνθης) и Ойнопиона (Οἰνοπίων), двух ипостасей Вакха. Ряд героев и божеств, низведенных до героев, оспаривается Аполлоном у Диониса. Таков, прежде всего, фракийский Орфей (по одной новой теории — самостоятельный бог минийского племени), являющийся, по свидетельствам самих древних, с двойственным обликом пророка аполлонийского и дионисийского. Наксос весь увит дионисийскими легендами: но его герой, Наксос, оказывается сыном Аполлона. Элевтер (Ἐλευθήρ), герой-эпоним города, принадлежащего богу-Разрешителю,⁶ получает в свою очередь в отцы Аполлона. Праздники дионисийского характера, как аттические Осхофории и Фаргелии и лаконские Карнеи (с их σταφυλοδρόµια⁷), превращаются в прославление Аполлона.⁸ В Амиклах Аполлон овладевает хтоническим Иакинфом (Ὑάκινθος), родственным Дионису-Псилаксу (Ψίλαξ). На Амиклейском троне, отданном Аполлону, над гробом Иакинфа, мы встречаем изображения дионисийских героев: Адраста (Ἄδραστος) и Адмета (Ἄδμητος). Адмет («необоримый», как и Адраст — «неизбежный») — ипостась бога смерти, взятого в его дионисийском, страдальном аспекте бога умирающего и воскресающего. Аполлон, в отмщение за пролитую им кровь змия-Пифона, должен нести под началом Адмета подневольную службу. Аполлонийская идея подвергается опасности быть вобранной и поглощенной идеей Диониса. Но развитие мифа восстановляет первую, и божество Аполлона торжествует. Аполлон изводит из Аида Адмета, как героя смертного, в награду за его доброту к своему божественному пастуху-подневольнику: он упоил Мойр вином (черта, заимствованная из дионисийского круга представлений и верований) и заручился их согласием освободить Адмета от смертной участи, если другой смертный решится умереть в замену его. Адмета заменяет его жена Алкеста, — воспоминание о жертвенном убиении жен на древних тризнах. __________________________ [5] filiation f. развитие чего-л. в преемственной связи, в прямой зависимости. [6] Ἐλευθήρ, (-ῆρος) ὁ Элевтер, город в Беотии; ἐλευθέριος — несущий освобождение, освобождающий, избавляющий (Ζεύς Pind., Her., Thuc., Luc.; σωτέρ καὴ ἐ. θεός Arst.) [7] σταφυλοδρόµια — соревнование в беге, держа в руке фиалу с виноградом. [8] ὀσχοφόρια, ὠσχοφόρια {ὄσχος} τά осхофории (досл. «несение [виноградных] побегов»). Во время афинского празднества Σκίρα, в 7-й день месяца пианепсиона (октябрь-ноябрь), 20 избранных взрослых юношей (по двое от каждого сословия) по очереди бежали из храма Диониса в Лимнах в храм Афины Скирас (Ἀθηνᾶ Σκιράς) на Фалероне, неся в руках виноградные ветви с гроздьями. Каждый из 10 победителей получал в награду чашу, наполненную напитком, составленным из пяти главнейших продуктов года (вина, меда, сыра, муки и оливкового масла — πενταπλόα), и почетное место в следовавшей затем процессии. Праздничное шествие, в котором впереди поющего хора шли два мальчика в женской одежде, начиналось на Осхофории, площади перед храмом Афины, и следовало к храму Диониса, где Фиталиды приносили жертву. Θαργήλια τά Фаргелии (афинский праздник в честь Аполлона и Артемиды в месяце фаргелионе, май-июнь) Dem., Arst. Изначально, это был праздник созревания плодов, для чего 6 фаргелиона приносилась жертва Деметре Хлое. Позднее, Фаргелии приобрели характер очистительного и искупительного праздника для всего города и его жителей. Очищение производилось как 6 фаргелиона, в день рождения Артемиды, так и 7, когда родился Аполлон. Κάρνεα τά Карнеи (празднества в честь Аполлона Карнейского, отмечавшиеся в лакедемонском месяце карнее, август-сентябрь). Торжества начинались 7-го карнея и продолжались в течении девяти дней. Борьба Аполлона за обладание Фивами оставила свой отпечаток на мифах о Ниобе и Ниобидах. Соперничество двух божеств воплощается, в культурной и обрядовой сфере, в антагонизме двух родов музыки — духовой и струнной. Ряд мифов окрашены стремлением прославить кифару и унизить флейту: таков миф о Марсии.⁹ Музы, исконные дионисийские божества, пророческие нимфы текучих вод, отторгаются у Диониса и неразрывно связываются с Аполлоном. Кифароды (κιθαρῳδοί) замалчивают Диониса, и его чары, и славят Феба. Своего высшего напряжения и вместе разрешения борьба достигает в Дельфах. Вакх-пришлец рано завладевает хтоническим оракулом Пифона и пророчествует, как во Фракии, устами своей экстатической Пифии. Но Аполлон отвоевывает дельфийский оракул. Это его победа осуществляется, однако, лишь путем ответной уступки, глубоко изменяющей его собственную природу. Он усваивает себе дар экстатических вдохновений, пророчественный и очистительный. Его божество приобретает от Дионисова божества начала энтузиазма, мантики и катартики. Жрица Аполлона в Аргосе иступляется и исполняется богом чрез выпитие крови (по Павсанию, — ἐξ Ἀπόλλωνος µανῆναι). В Дельфах оба бога празднуют свое примирение, необходимое для духовного равновесия Эллады и для полноты творческого раскрытия идеи обоих. В ряде изображений керамики и пластики мы видим символы союза. Дионис и Аполлон подают друг другу руки при ликовании священного фиаса (θίασος).¹⁰ Они обмениваются своими атрибутами. Дионис, отныне «Тирсоносец-Пеан», «Эвий-Пеан»,¹¹ увенчивается лаврами, Аполлон — плющом; Дионис играет на лире, Аполлон-«флейтист» приближает к устам двойную флейту. Впервые эта последняя признается на пифийских играх, и флейтист-Саккадас реформирует в первой половине VI века старую священную драму, изображающую убиение Пифона. Аполлон убил Пифона, но он должен пострадать и искупить убийство изгнанием и неволей: победный бог разделяет судьбы бога страдающего. Спутники Диониса являются в свою очередь с символом Аполлоновой религии. На одной луврской краснофигурной вазе Силен с лирой и канфаром плывет на дельфине. На другой вазе Сатир учится лирной игре: оргиазм учится строю. Треножник дельфийского храма отдан Аполлоновой Пифии; но под ним чтится священный гроб Диониса. Дельфийский храм разделен: на восточной стороне прославлен изображениями Аполлон, на западной — Дионис. Дельфийский год делится на две части: зимой поется Дионисов дифирамб (διθύραμβος),¹² весну зачинает Аполлонов пеан (παιάν).¹³ Особая коллегия жрецов (ὅσιοι — «святые», в дионисийском смысле) совершает вакхические служения. Миф повествует, что сам Аполлон погребает сердце растерзанного Диониса в Дельфах или на вершине соседнего Парнаса. Две снежные вершины прекрасно-величавой горы поделены между обоими некогда враждовавшими братьями. Дельфийский оракул распространяет по Элладе почитание Диониса. __________________________ [9] Μαρσύας (-ου), ион. Μαρσύης (-ύεω) ὁ Марсий, сатир, спутник Вакха, с которого Аполлон содрал кожу за попытку состязаться с ним в музыкальном искусстве Her., Xen. [10] θίασος ὁ 1) торжественное шествие в честь божества, преимущ. Вакха; ex. θίασοι τρεῖς γυναικείων χορῶν Eur. — три вакхических женских хоровода); 2) группа, сонм, сборище; ex. Μουσῶν Arph.; ἡλίκων Eur. [11] Εὔιος ὁ Эвий, т.е. призываемый возгласами εὖα и οὐοῖ (эпитет Вакха) Plut. Παιάν (-ᾶνος), эп. Παιήων (-ονο)ς, атт. Παιών (-ῶνος) ὁ целитель, избавитель (Пеан, эпитет бога-целителя, после Гомера отождествлялся преимущ. с Аполлоном, реже с Асклепием и др.). [12] διθύραμβος (ῠ) ὁ дифирамб 1) эпитет Вакха Eur. 2) торжественная хоровая песнь в честь богов, преимущ. Вакха Pind., Her., Xen., Plat., Arst., Plut. 3) высокопарная речь, славословие Plat., Arst. [13] παιάν (-ᾶνος), эп. παιήων (-ονος), дор. παίαων (-ονος), атт. παιών (-ῶνος) ὁ пеан, хоровая лирическая песнь, жанр древнегреческой поэзии. Первоначально пеан — это гимн, адресованный Аполлону, позже — и другим богам (Дионису, Гелиосу, Асклепию). Но если Аполлон выходит из борьбы измененным, — очищенным и просветленным является и Дионис. Синтез обоих божеств впервые дает всей греческой идее ее окончательную формулу. Из обеих божественных потенций слагается эллинский пафос эстетического и этического строя. Оба бога дополняют друг друга, как золотое видение аполлонийских чар умиряет экстатическое буйство музыкального хмеля, как охранительная мера и грань спасает человеческое Я в его центробежном самоотчуждении, как правая объективация наших внутренних хаотических волнений целительно и творчески-плодотворно разрешает правое безумие исступившего из своих граней духа. Поистине Дионис-Дифирамб уже не губитель, а исцелитель, Пеан: «владыка, друг плюща, Вакх, Пеан, Аполлон звонколирный», — славит его трагедия. Филодам, поэт IV века, поет: «Когда сын Зевса и Фионы (мистическое и небесное имя Семелы по ее успении) совершил свои странствия на земле, на Олимп взошел он, Пеаном бессмертным нарекли его там плющом венчанные Музы, Аполлон завел песнь — и они пели»… Дионис принят в число небожителей. Миф и художество представляют его соратником богов в их войне с Гигантами. Без Дионисова содействия не совершил бы той могучей реформации, которая до корней преобразила и очеловечила греческое нравственное сознание. Без Аполлона Дионис не обрел бы среди Муз своей любимицы — Музы трагических хоров, Мельпомены.   1. Метапонт, Лукания. Статер (AR 20mm, 7.45g), 430-410 до н.э. Av: рогатая голова Аполлона Карнея (Κάρνειος). Rv: колос; META 2. Митилини, Лесбос. Гекта (EL 10mm, 2.53g), ок. 377-326 до н.э. Av: рогатая голова Аполлона Карнея. Rv: орел в квадратном поле.   3. Родос, Кария. Æ 37mm (20.20g), I в. н.э. Av: голова Диониса в венке из плюща и радиальной короне; Rv: крылатая Ника стоит на проре, с пальмовой ветвью и афластоном; POΔIΩN 4. Родос, Кария. Драхма (Æ 34mm, 24.42g), 31 до н.э. - 60 н.э. Магистрат Дамарат (Δαμάρατος). Av: голова Диониса в венке из плюща и радиальной короне. Rv: крылатая Ника на проре, с пальмовой ветвью и афластоном; POΔIΩN / EПI ΔAMAPATOY Этот культурно-исторический синтез начáл аполлонийского и дионисийского совпал с эпохой тиранов. Ища опереться на демократию, тираны покровительствовали народной религии оргийного Вакха. Периандр Коринфский, в VII в. до н.э., вводит дифирамб (приписанный возродителю хороводов — Ариону,¹⁴ ипостаси Дионисовой) в обряд и обычай; той же династии принадлежит ковчег Кипсела, посвященный Дионису. Клисфен Сикионский «отдает» Дионису трагические хоры, прославлявшие дотоле Адраста: трагедия официально связывается с Дионисовым культом. Позднейшие актеры назывались «ремесленниками Диониса» или, собственно, «круг Диониса» (οἰ περὶ ∆ιόνυσον τεχνῖται): думаем, что это наименование спутников бога можно толковать в смысле хоровой дружины того, кто носил постоянную маску Диониса, — протагониста священной драмы Дионисовых страстей. «Крылатое слово»: οὐδὲν πρὸς ∆ιόνυσον (т.е. «здесь нет ничего, что бы касалось до Диониса»), — формулировавшее критерий «дионисийности», который был обычным в древности при оценке трагедий, — возникло, быть может, в том же Сикионе и запечатлело протест толпы против расширения культового содержания драмы и дифирамба путем перенесения Дионисовых черт на новых героев, возникавших как бы личинами божественного героя трагических «страстей». Особенно важное значение в деле утверждения Дионисовой религии имеет правление Писистрата в Афинах. Писистрат исходит из тех же политических соображений, как и Периандр: он опирается на сельское население и поднимает его религию. Он учреждает «городские Дионисии». Он даже ищет отожествить себя с Дионисом до такой степени, что в одной статуе бога, при нем воздвигнутой, современники узнают его черты. Будучи сам родом из местности, где сельский культ Вакха был прочен, Писистрат в своей внешнеполитической деятельности вступает в соотношения с государственными общинами Дионисова исповедания. В пору своего временного изгнания, проведенного им во Фракии, он, конечно, вполне проникается дионисийской идеей. Предпринятой им переработке гомеровских рапсодий обязаны мы, вероятно, несколькими дионисийскими интерполяциями в тексте Гомера. Преобразуя культы Делоса, Писистрат, по-видимому, и там выдвигает элементы религии Дионисовой; орудием для того служит миф о Тесее, облик которого принимает многие дионисийские черты. Религиозная деятельность Писистрата увенчивается орфической реформой. Эту реформу можно определить как попытку основания дионисийской церкви. Некогда обвиняли деятелей этого движения, особенно теолога при дворе Писистрата — Ономакрита,¹⁵ в сознательных подлогах, которыми они будто бы придали своим собственным измышлениям характер древнейшего авторитета. Мы знаем теперь, что, несмотря на свободу редакции, допущенную орфиками, реформа имела целью закрепить действительно древнее предание. Новая община вступила в союз с культовой общиной Элевсина и путем религиозного синкретизма преобразила элевсинское служение. Она дала ему религиозно-мистическое и гностическое углубление и создала тот загадочный и могущественный фактор эллинской религиозной жизни, который вся древность так высоко оценивала и чтила, а мы тщетно ищем расследовать и уразуметь до конца — в Элевсинских мистериях. __________________________ [14] Ἀρίων ὁ Μηθυμναῖος ὁ Арион из Метимны (о. Лесбос), греч. поэт 2-ой пол. VII в. до н.э. Her., Luc. [15] Ὀνομάκριτος ὁ Ономакрит, афинский поэт и прорицатель времен Писистратидов, редактор сочинений Гомера и Мусея, приблиз. 520-435 до н.э. Согласно Павсанию, был первым орфическим теологом и поэтом. Правда, орфическая церковь имела характер эзотерический, характер секты, лишь наполовину разоблачающей свои тайны и не предъявляющей притязаний господствовать над умами народа иначе как в лице и чрез посредство посвященных. Но она дала внутренний устой Дионисовой религии, и когда эта религия подвергалась опасности понижения и вырождения, спасла глубокие идеи, лежавшие в ее основе. В лоне раннего орфизма окончательно сложилась религиозная концепция страдающего бога, как идея космологическая и этическая вместе, — и выработались учения о бессмертии и участи душ, о нравственном миропорядке, о круге рождений (κύκλος γενέσεως), о теле как гробе души (σῶµα σῆµα), о мистическом очищении, о конечном боготождестве человеческого духа (ἐγένου θεὸς ἐξ ἀνθρώπου — «из человека ты стал богом», — формула орфических таинств). Дионисийская религия, преломленная в Веданте орфиков, глубоко напечатлелась на освободительных прозрениях греческой поэзии и на всей философии Греции. Без этой закваски непонятны миросозерцания Пиндара, Эсхила, Платона. Зависимость древнейших философских систем от творчества религиозного везде прозрачна, но еще не раскрыта, как надлежало бы. В конце гармонического развития эллинской мысли идея вселенского страдания, представление о мире жертвенно страдающем чрез разъединение и разъятие божества, в себе единого, — делается основной идеей как неоплатонизма, так и позднего синкретизма, всех богов отожествившего с Дионисом, поставившего Диониса на высоту Всебога (Παντεός) страдающего, как страдальный аспект мира возникновений и уничтожений. Впрочем, еще Анаксимандр учил об уничтожении индивидуумов, как возмездии, платимом ими за свое обособление и отъединение. Мифы о дионисийских пещерах (βακχικὰ ἄντρα или σπήλαια) показывают, как души упиваются в них чарующими испарениями, чтобы, опьянившись забвением прежней чистоты и единства, ринуться из своей верховной отчизны в юдоль страды земной; кажется, что и Платонова притча о пещере, противополагающая миру ноуменов состояние духа, погруженного в феноменальное, в образе узничества пещерного, — принадлежит к той же семье дионисийских мифов. В области понятий этических, Дионисова религия возрастила идеал героя страдающего, страстотерпца Геракла, — идеал, который, сочетаясь с утонченной моралью века, создает в воображении Платона (Rp. II, 361 D) образ праведника, признанного при жизни за злодея, подвергаемого поруганиям, бичеванию и распятию, этот пророческий образ, совпадающий с вдохновениями младшего Исаии. Дионисийская мистика сделала доступным язычникам и тот своеобразный мессианизм, который мы находим в знаменитой четвертой Эклоге Вергилия, чрез нее ставшего вещим прорицателем и предметом благоговейного страха в глазах мистического средневековья. Нам остается коснуться, в этом беглом обзоре дионисийских влияний, вопроса о связи между Дионисовой религией и христианством, — только коснуться. Ограничимся несколькими указаниями на первоначальные аналогии между возникающим христианством и Дионисовой религией, которые представляются нам как бы упреждениями, воспринятыми новым откровением из древнего религиозного опыта еще в самой колыбели нашего вероучения. В евангельских притчах и повествовании мы встречаем непривычную череду образов и символов, принадлежащих кругу дионисийских представлений. Виноград и виноградник (ἄµπελος ∆ιονύσου); виноградари, убивающие сына хозяина в винограднике, как титанические виноградари в винограднике умерщвляют Вакха, он же непосредственно сын Диев, рожденный из чресл небесного отца; рыба и рыбная ловля (∆ιόνυσος ἰχθύς, — как ἰχθύς [рыба], наравне с Орфеем, — символ Христа; ∆ιόνυσος ἁλιεύς [рыбак]); чудесное насыщение народа хлебами и рыбами; хождение по водам и укрощение бури; полевые лилии и дети, играющие на флейте; облик Сына человеческого, как гостя и хозяина пиршеств и участника веселий, как жениха, окруженного девами, несущими светильники, как пастыря и агнца;¹⁶ мед и смоковница; огонь осоляющий, и семя, не оживающее, пока не умрет; отмена поста для сынов чертога брачного, и обещание нового вина в жизни новой; причащение хлебом и вином на жертвенной вечере (как в вакхических мистериях); вход в Иерусалим на осле (животное Диониса) среди вдохновенных кликов и в окружении пальмовых ветвей; эпифании и очищения; миро и слезы женских молитвенных восторгов; в четвертом Евангелии — претворение воды в вино на свадебном пире, речи о воде живой, о виноградной лозе, о съедении тела и выпитии крови Христа, — все это намечено в прообразах Дионисовой религии, как намечен и сам жертвенный облик Бога и человека вместе, чудесно зачатого земной избранницей небесного Отца (по успении своем взятой на небо), преследуемого и бегством спасенного во младенчестве, распространяющего свое внутреннее царство в охваченных священным восторгом, «обратившихся» (µετάνοια, µετατροπή Евангелия), забывших и презревших искаженную земную действительность душах людей, — странствующего по земле со своим божественно-беззаботным и детски-радостным сонмом, — часто не узнаваемого под новыми ликами своих явлений, окруженного непрерывающимся чудом, удаляющегося незаметным из враждебной толпы, — наконец, плененного врагами, страдающего, убитого, погребенного, женщинами оплаканного, воскресшего, взошедшего на небеса до своего нового молнийного явления. __________________________ [16] Само слово «овен» (ὄῑν, οἰοῖν, οἰῶν) весьма созвучно таким дионисовым атрибутам как вино (οἶνος) или виноградная лоза (οἴνη). А слово βοῦκος (пастух) подозрительно созвучно со славянским словом «Бог», что не противоречит ипостаси Бога, как «пастыря». Быть может, малоазийские и сирийские общины поклонников Вышнего Бога (ὕψιστος θεός), сохранившие в своих верованиях многие черты культа Диониса Сабазия, посредствовали между Галилеей и дионисийской Элладой и заронили среди соседних язычникам арамеев отголоски прозрений и предчувствий, родившихся в лоне чуждого им богопочитания. Быть может, дионисийские идеи и представления и издавна уже отдавались отдаленным эхом в еврейском пророчествовании. Во всяком случае, родство и взаимное тяготение Дионисовой веры, вдруг преображающей в глазах «вакха»-тирсоносца юдоль земную в блаженную Нису, этой огнем крестящей веры, чрез которую человек теряет свою душу, чтобы вновь приобрести ее, — и первоначальной, существенно экстатической стихии христианства — чувствуется, вопреки особенно ожесточенным нападениям христианских апологетов на все, что от Диониса в язычестве: эта вражда именно объясняется — боязнью соперничества. Между тем Дионис был тайным и внутренним союзником Бога галилейских рыбарей против иного опасного соперника — Митры, чей культ являет ряд общих с христианством внешних особенностей и, по-видимому, повлиял на некоторые христианские представления, как в свою очередь дионисийство влияло на маздеизм. Если не случилось то, что, по мнению Ренана, было ближайшей исторической возможностью, — если культ Митры не сделался вселенской религией, — отчасти тому причиной было, быть может, скрытое присутствие в христианстве дионисийских начал, которые делали его непосредственно-понятным и бессознательно близким издавна воспитанной для его приятия Дионисовым откровением души языческой. _______________________________
ЗАГРЕЙЧетверг, 09 Марта 2017 г. 21:27 (ссылка)
С.В. Петров «Этимология имени Διόνυσος, возможно, восходит к образу Зевса Нисейского или «Дия [с горы] Ниса [в Беотии]». Дионис (Διόνυσος) — это изначально Зевс Загрей (Ζαγρεύς — «Дикий», «Зверолов» или «происходящий из [критского] Загроса»).» 1. Эпоним Ζάγρος К сожалению ничего не удалось найти о «критском Загросе». Возможно, уважаемые ученые допустили ошибку в названии критского Закроса (Ζάκρος), спутав его с иранским Загросом (Ζάγρος).¹ Ничего о другом написании критского Закроса — неизвестно. Двусмысленности в этом вопросе добавляет написание иранского Загроса на греческом языке сегодня: Ζάγκρος,² в то время как древнегреческий словарь Дворецкого дает однозначный вариант: Ζάγρος. В конце концов, могло иметь место искажение эпитета Зевса, связанного с местностью (Ζάκρος), на которой располагался культовый центр, как обычно, в силу созвучия. ______________________________ [1] Ζάκρος — место на восточном побережье острова Крит, знаменитое найденным здесь неразграбленным храмовым дворцовым комплексом (Κάτω Ζάκρος) минойской цивилизации. Ζάγρος ὁ Загрос (горная цепь между Ассирией, Арменией и Мидией) Polyb. [2] Τα όρη Ζάγκρος αποτελούν την μεγαλύτερη οροσειρά του Ιράν, Ιράκ και της νοτιοανατολικής Τουρκίας (Горы Загрос составляют большой горный хребет в Иране, Ираке и на юго-востоке Турции). Попытка перевести эпитет Диониса «Загрей» (Ζαγρεύς) как «Зверолов» (или, более распространенное, «великий охотник», от ἀγρεύς — «охотник, ловец») — вызывает недоумение, ибо титаны разорвали Диониса Загрея в младенческом возрасте. У него просто не было времени, чтобы проявить себя в качестве охотника. Зато другие эпитеты Диониса дают однозначное понимание этимологии эпитета Ζαγρεύς: Ἀγριώνιος («дикий, яростный»); Ἀνθρωπορραίστης («растерзывающий людей»); ὠμάδιος (от ὠμός — «грубый, дикий, жестокий, неумолимый»).³ ______________________________ [3] Ζαγρεύς (-εως) ὁ Загрей 1) эпитет Диониса «первого» как сына Зевса и Персефоны, растерзанного Титанами тотчас же после его рождения Anth. 2) эпитет Гадеса Aesch. ζά — усилит. приставка со знач. очень, весьма, вполне; ἄγριος 1) дикий; ex. μητρὸς ἀγρίας ἄπο ποτός Aesch. — вино из дикого винограда; 2) жестокий, свирепый, лютый, злой; ex. δρακαίνης φύσις Eur.); 3) неукротимый, необузданный, грубый; ex. ὀργή Soph.; ἔρωτες Plat.); 4) мучительный, тяжелый; ex. τραύματα Eur.; 5) бурный, ужасный; ex. νύξ Her.; χεῖμα Eur. Ἀγριώνιος (-ου) ὁ Агрионий (эпитет Диониса) Plut. ἄγριον τό дикость. Заметим, что и эта этимология ничего не объясняет, а, скорее наоборот, еще более все запутывает. Мифы не сохранили сведений о Загрее, не только в плане его охотничьих заслуг, ничего не известно и о дикости и кровожадности новорожденного Диониса. Ниже отрывок из «Деяний Диониса», в котором Нонн описывает перевоплощения младенца в различных диких зверей. Предыстория, вкратце, имеет следующий характер. Загрея тайно зачала Персефона от Зевса еще до того, как Гадес унес ее в свое подземное царство. Зевс распорядился, чтобы сыновья Реи — критские куреты (или корибанты) сторожили колыбель с младенцем в пещере на горе Ида, прыгая вокруг него и бряцая оружием, как делали это раньше, прыгая вокруг самого Зевса на горе Дикта. Однако титаны, посланные ревнивой Герой, вымазавшись белым гипсом,⁴ чтобы остаться неузнанными, стали ждать, когда куреты заснут. В полночь они выманили Загрея с помощью детских игрушек: шишки, раковины, золотых яблок, зеркала, бабок (ἀστράγαλοι) и клока шерсти. Загрей не выказал слабости перед набросившимися на него титанами и, чтобы обмануть их, начал менять свой облик. Сначала он превратился в Зевса в накидке из козьих шкур, затем — в Крона, творящего дождь, во льва, коня, рогатого змея, тигра и, наконец, в быка. В этот момент титанам удалось схватить его, разорвать на части и пожрать. «Стал он тогда превращаться, часто меняя свой облик!____________________________ [4] Желание титанов вымазаться гипсом (чтобы остаться неузнанными), видимо, «возникло» по причине созвучия слов Τιτᾶνος (титан) и τίτανος (гипс): Τιτάν (-ᾶνος), ион. Τῑτήν (-ῆνος) ὁ Титан; αἱ Τιτᾶνες и Τιτανίδες — титаны, дети Урана и Геи; τίτανος ἡ гипс Hes.; известь или мел Arst.; меловая пыль Luc. 2. Эпитет Нисейский Возвращаясь к изначальной цитате по поводу этимологии имени Диониса, как «Дия [с горы] Ниса [в Беотии]», Ниса (Νῦσα) была не только в Беотии. Во Фракии был город Ниса и гора Нисейон (Νυσήϊον). К тому же, помимо фракийской и беотийской Нисы, Гомер упоминает и другие города с таким же названием. А Геродот дислоцирует Нису вообще в Эфиопии.⁵ ____________________________ [5] Διός (dat. Διΐ и Δί) gen. к Ζεύς; ex. (Διὸς ἡμέρα — день Зевса, т.е. четверг); Νῦσα, ион. Νύση ἡ Ниса 1) название городов в Беотии, Фракии, Каппадокии и др. Hom. 2) город в Эфиопии Her. Такое обилие городов затрудняет привязку «Дия Нисейского» к изначальному географическому объекту. Впрочем, возможно, дело вообще не в названии горы. Может, изначально речь шла об «островном» (νησαῖος)⁶ Зевсе, например, Критском, где Зевс почитался в образе безбородого юноши — чем не прообраз Диониса? Тем более, что, согласно мифу, Крит — это родина Диониса Загрея. «Этот бог [Дионис], как говорят, родился от Зевса и Персефоны на Крите. <…> В доказательство того, что бог этот родился у них, критяне говорят, что близ Крита в так называемых Близнечных заливах он создал два острова, которые называют в честь его Дионисовыми, чего не сделал больше нигде во всем мире.» (Диодор Сицилийский V. 75:4-5)____________________________ [6] νῆσος, дор. νᾶσος ἡ остров; ex. Κρήτης νῆσος Diod. — Крит; ex. Αἰολίη νῆσος Hom. — Эолов остров; νησαῖος островной; ex. (πόλις, ὄρη Eur.; πορθμός Anth.). В развитие сюжета, в качестве возможного варианта происхождения имени Диониса, памятуя о Зевсе в бычьем обличии, а также об эпитете Зевса «Загрей» («дикий»), можно также, в духе народной этимологии, предложить эпитет «бодливый» (от νύσσω, «колоть, толкать») — Διὸς νύσσος.⁷ ____________________________ [7] νύσσω, атт. νύττω 1) колоть, поражать; 2) ударять, бить; 3) толкать, подталкивать. 3. Древний бог «С ними, богиня колосьев [Деметра], Бромию богу враждебна, В этой цитате интересно то, что Нонн называет Загрея (т.н. «первого» Диониса, сына Зевса и Персефоны) «древним богом Загреем», воплотившимся в Дионисе. Наделять эпитетом «древний бог» младенца, растерзанного, едва родившись на свет, выглядит несколько странно (даже если это сын Зевса). Определенно, чувствуется наличие какой-то лакуны. «Древний бог» выведен из обихода, но поскольку память о нем жива, жизнеописание Загрея сведено к минимуму. Однако сделано это настолько небрежно, что, как уже выше отмечено, само значение имени Загрей («великий охотник») повисает в воздухе, лишний раз подтверждая существование додионисийского древнего культа бога Загрея. Об отождествлении Диониса с более древним критским божеством говорит и Вячеслав Иванов. …«дионисические оргии, своего рода оргиастические «бои быков», соединенные первоначально с человеческими жертвами, впоследствии же ограничивавшиеся растерзанием быка, имели древнейшие корни, между прочим, на Крите, где божество, являющееся изначала с чертами Диониса, позднее — с ним отождествленное, почиталось преимущественно под символом быка.» Вячеслав Иванов сближает Диониса Загрея с персонажами и древнегреческих культов: «По героической ипостаси <…> мы узнаем его как ловчего скитальца по горным вершинам и дебрям, окруженного сворой хтонических собак; как содружника Ночи и вождя исступленных ее служительниц; как душегубца, от которого надлежит ограждаться магическими апотропеями, вроде тех уз, какими были связаны идолы его двойников: в Орхомене — Актеона, в Спарте — Эниалия, на Хиосе — Омадия Диониса».⁸____________________________ [8] Ἀκταίων (-ωνος, -ονος) ὁ Актеон (внук Кадма, охотник, который был превращен Артемидой в оленя и растерзан собственными собаками) Eur. ἀκταίνω — быстро двигать, поднимать (ἀ. βάσιν Aesch. — быстро двигаться); Ἐνυάλιος ὁ {Ἐνυώ} Эниалий, «Воинственный» (эпитет Арея) Hom., Hes., Soph., Eur., Arph. Ὠµάδιος {ὠμός} ὁ Омадий, «Неумолимый». До нас дошло немало свидетельств отождествления Диониса и с Аидом («Ловцом душ») или хтоническим Зевсом (Ζεὺς χθόνιος). Это сближение произошло, видимо, через отождествление Диониса с египетским Осирисом. Хотя по одной из версий, культ Диониса происходит непосредственно от египетских мистерий, связанных с Осирисом. Отсюда и расчленение Загрея титанами, списанное с египетской истории предательства Осириса его братом Сетом, в которой Сет сначала убивает Осириса, а потом расчленяет его тело на четырнадцать частей — мистерия, описывающая убывание луны в течении четырнадцати дней. В течении следующих четырнадцати дней, Исида собирает части тела мужа и мумифицирует его. Фаллос, брошенный в Нил был съеден рыбами. И чтобы Осирис возродился в своей полноте и силе, Исида сделала фаллос из глины, покрыв его золотом. Этот фалос впоследствии был воспринят греками как религиозный фетиш. «B качестве таинственного воспоминания об этих страстях по городам воздвигают фаллосы Дионису; как говорит Гераклит: «Не твори они шествие в честь Диониса и не пой песнь во славу срамного уда, бессрамнейшими были бы их дела. Но тождествен Аид («Срамной»)⁹ с Дионисом, одержимые коим они беснуются и предаются вакхованию», не столько от телесного опьянения, как я думаю, сколько от позорного посвящения в непотребство».____________________________ [9] Ἅιδης (-ου), эп.-ион. Ἀΐδης (-ᾱο и -εο), дор. Ἀΐδας (-ᾱ) = ᾅδης ὁ Гадес, Аид; αἰδοῖον τό тж. pl. половой орган Hom., Hes., Her., Arst. История с Осирисом заканчивается тем, что, возродившись, он передает власть своему сыну Гору. Сам же отправляется в дуат и становится там владыкой подземного царства. Греки потратили не мало усилий, чтобы переформатировать образ Осириса и создать на его основе Сераписа — синкретическое божество в греческом стиле, но с египетской мифологемой. Что характерно, образ Сераписа, с сидящим рядом трехглавым Кербером, малоотличим от иконографии Аида. Вместо постскриптума хотелось бы завершить, упомянутую выше, фаллическую тему следующим интересным наблюдением. Наделение фаллоса свойством сосредоточения божественной жизненной силы (а вместе с тем и власти) имеет весьма древнюю традицию. Следует заметить, что лишение власти Урана его сыном Кроносом, так же как позднее лишение власти Кроноса его сыном Зевсом, происходит именно через оскопление. Что, опять же, отсылает нас к осирической мифологеме, в которой именно фаллос Осириса оказывается не просто отсеченным, но и безвозвратно утерянным (съеденным рыбами). Не помогли и колдовские чары Исиды. Она смогла воскресить мужа лишь на короткое время. После чего, передав верховную власть сыну, Осирис вынужден был покинуть этот мир. Из этой традиции выбивается история с Зевсом, в которой Тифон, покусившись на его верховную власть, вступает с Зевсом в противоборство и одерживает победу. Он опутал Зевса своими ногами, подобными змеиным кольцам, перерезал серпом и вытянул все сухожилия. Затем Тифон бросил Зевса в Корикийскую пещеру в Киликии и поставил драконицу Дельфину охранять его. Зевс находился в заточении, пока Гермес и Эгипан не выкрали у Тифона сухожилия бога и не вернули их громовержцу. Окончанием битвы стала победа Зевса, низвергнувшего Тифона и придавившего его огромной глыбой. На этом месте образовался вулкан Этна, который извергает дым и пламя из жерла вулкана, когда Тифон пытается освободиться из заточения. В этой истории смущают, перерезанные серпом Тифона, сухожилия Зевса, после чего тот лишается сил (а вместе с тем и власти). Очень похоже на переложение старой истории на новый лад.¹⁰ Если же исходить из версии, что Зевс Тифоном был оскоплен, это объясняет мифологему орфиков о том, что на смену Зевсу в мир пришел Дионис Загрей (сын Зевса и Персефоны), в качестве верховного божества. Ведь Зевс был лишен власти Тифоном (через оскопление). И второй Дионис, сын Зевса и Семелы, сменил Загрея, после того, как тот был расчленен титанами на семь частей, а значит, и оскоплен (обезглавлен, лишен фаллоса, рук и ног). ____________________________ [10] Слово νεῦρα можно перевести не только как «сухожилие», но и как «фаллос». νευροκοπέω (νευρο-κοπέω) — подрезать поджилки, перерезкой сухожилий лишать возможности двигаться. В.Г. Борухович ЗЕВС МИНОЙСКИЙ В ахейской традиции, сохраненной эпосом, Кносс и Крит выступают как адекватные понятия, подобно тому как отождествляются в нем Аргос и Эллада, Сидон и Финикия. Именно из Кносса должны были проникнуть в Элладу критские культы. Вообще Крит в греческой традиции выступает в качестве родины главных божеств. По словам Диодора (V. 79), сами критяне утверждали, что «почести, воздаваемые богам, жертвоприношения, учреждение мистерий — все было изобретено критянами, другие народы все это у них позаимствовали». Ахейцы, носители микенской культуры, создали общий с минойцами пантеон, поэтому принято говорить о минойско-микенской религии. Ахейцы, вероятно, поступили так же, как в историческую эпоху поступали греки ионийского племени, которые, сталкиваясь с религиозными представлениями других народов, мгновенно открывали там своих родных богов. Культ верховного солнечного божества Зевса, которому поклонялись древние ахейцы, был отождествлен с верховным критским божеством и быстро приобрел все его черты. В Элладе Крит стал главным культовым местом Зевса. Поэтому в связанных с культом Зевса мифах и обрядах можно пытаться открыть минойские черты, хотя исследователь при этом сталкивается с большими трудностями: как заметил Нильссон, минойская религия представляет собой книгу с иллюстрациями, но без текста. Здесь целесообразно обращаться к таким реликтовым формам культа, минойское происхождение которых либо засвидетельствовано, либо весьма вероятно. Особый цикл греческих мифов уже в древности был назван критским (τὰ κρητικά): он представляет благодатный материал для исследователя. Рассказ «Илиады» о Миносе и Идоменее, царе Крита (XIII. 449) отражает мифологическую реконструкцию, которую Эванс назвал «ахейской легендой». От нее сохранилось очень немного. До нас не дошла поэма о Миносе и Радаманте, приписывавшаяся Эпимениду, и «Критская мифология», приписывавшаяся Динарху. Поэтому для реконструкции критского цикла мифов целесообразно обратиться к сохранившейся мифографической традиции — особенно к началу III книги «Библиотеки» Псевдоаполлодора. Из него ясно видно, что в центре этого цикла находился миф о Миносе и его потомках, царях Крита. Первый царь Крита (Кносса) Минос был сыном Зевса. Божественное происхождение Миноса может служить доводом в пользу того, что царская власть на минойском Крите носила теократический характер. В «Одиссее» Минос — царь Кносса (XIX. 178), тогда как в «Илиаде» он царь всего Крита (XIII. 450). Эпитет Миноса в «Одиссее» — ὀλοόφρων, «замышляющий зло, погибель». Это ясное свидетельство о том, что ахейцы считали критян враждебной силой. Мифологическая традиция, сообщающая о господстве критских царей над морями и близлежащими к Криту островами, упоминает о походах Миноса против Афин и Мегар (Apollod. III.15.8). Платон, бывший знатоком местных аттических мифов, упоминает в «Законах» (IV. 706 B) о тяжелой дани, которую жители Аттики платили Миносу. Это отзвук древней традиции о зависимости Аттики от Крита, — так же, как миф о Тесее и Минотавре рисует нам тяжесть этой зависимости, хотя и в мифологической форме. Продолжительность критского господства в бассейне Эгеиды была велика. Гесиод называет Миноса «царственнейшим из всех смертных царей» (Hes. Frg. 103 Rz.), и это не случайно. Вполне естественно, поэтому, критские обряды и религиозные представления должны были распространиться по всему бассейну Эгейского моря. В традиции Минос выступает не только в качестве царя, но и законодателя: каждый девятый год он становился собеседником Зевса в Диктейской пещере (Paus. III. 2. 4; Dion. Hal. A. R. II. 61; Diod. V. 78. 3; Strabo. XVI. 2. 38), где он получал от Зевса законы, которые потом передавал людям. Форма, в которой мифы рассказывают нам о божественном происхождении Миноса, представляется несколько странной. Зевс, превратившись в быка, похитил финикийскую царевну Европу, которую затем умчал на Крит. Плодом любви Зевса и Европы и стал Минос, и его братья Сарпедон и Радамант. Далее критские мифы повествуют о странной любви, которой жена Миноса, дочь бога Гелиоса Пасифая, воспылала к прекрасному быку, высланному из моря по просьбе Миноса, желавшего таким способом доказать свои права стать царем Крита. Этого быка выслал Посейдон (Apollod. III.1.3), но в более древней редакции этого мифа, сохраненной Лактанцием (Lact. Plac. in Stat. Theb. V. 431), быка выслал Зевс. От этого быка Пасифая родила Минотавра («быка Миноса»), чудовище с телом человека и головой быка. Этот миф нельзя не поставить в связь с теми памятниками минойской культуры, которые были открыты Эвансом в Кноссе. Здесь прежде всего обращают на себя внимание фрески Кносского дворца, изображающие игры молодых девушек с бешено мчащимся быком. В минойских культовых местах постоянно встречается священный символ — «рога посвящения» (стилизованные рога быка). Две пары таких рогов открыты в небольшом святилище в юго-западной части Кносского дворца. Между рогами найдены отверстия, куда вставлялись двойные топоры, «лабрисы». Этот комплекс занимает центральное место в культовых изображениях Минойского Крита: на расписном саркофаге из Агиа Триады мы видим женщин, несущих возлияния на алтари двойного топора. В Палекастро раскопаны остатки дома, относящегося к Позднеминойскому IB периоду (1480-1425 до н.э.). Там в домашнем святилище открыты каменные основания алтарей двойного топора и небольшие «рога посвящения». В частном доме, находившемся ниже юго-восточного угла Кносского дворца, в северо-западном и юго-восточном углах крайней южной комнаты были обнаружены черепа двух больших быков с длинными рогами. Перед ними найдены остатки расписных жертвенников. Как отмечает Кеншерпер, двойной топор и рога посвящения являются наиболее известными, но наименее понятными символами минойской религии. Необыкновенная распространенность этих символов говорит о всеобщем характере этого культа на Крите. В этом культе священное животное — минойский бык — должен был играть главную роль. Странный на наш взгляд миф о любви Пасифаи, жены Миноса, к быку является, вне всякого сомнения, греческим осмыслением минойского обряда, в котором справлялся «священный брак» жены критского царя-жреца с быком (животной ипостасью верховного минойского божества, «Минойского Зевса»). Этим обрядом утверждалось право детей критского царя наследовать царскую власть. Представления, согласно которым царь племени возводит свое происхождение к животному предку, могут быть классифицированы как тотемические. Афины, сохранившие унаследованные от пеласгов (древнего населения Аттики — Her. VIII.4) связи с минойскими культами, соблюдали довольно долго аналогичный обряд. Аристотель в «Афинской политии» (III.5) сообщает, что жена афинского архонта-царя вступала в ритуальный брак с Дионисом в Буколии (храме Диониса, название которого произведено от слова «бык», и сам Дионис чтился иногда в образе быка). Этот обряд восходит к микенским временам, когда афинские цари соблюдали минойский ритуал священного брака жены царя с быком, подтверждавшего их право на царскую власть. Не случайно Критский бык, побежденный Гераклом, появляется затем на территории Аттики (Марафонский бык). Геракл символизирует в этом мифе дорийское завоевание, а Критский бык — минойско-микенское население додорического Крита. На острове Тенедосе — древнейшем культовом центре греков — минойское божество, в образе быка, также почиталось в качестве бога Диониса. В критских мифах Зевс, в образе быка, Минос — царь Крита и сын его Минотавр выступают в неразрывном единстве. Поэтому Бете пришел к вполне логичному выводу, что термин «Минос» является божественным титулом критских царей вообще, «варварским именем божества некоего негреческого народа». Интересно сопоставить этот вывод Бете с титулатурой фараона Египта, о сильном влиянии которого на культуру минойского Крита говорилось ранее. Фараон постоянно назывался «мощный телец» (kȝ-nḫt). На палетке Нармера египетский царь изображен в виде быка, рогами разрушающего вражескую крепость. Культ быка Аписа, явленного бога Осириса, имел общеегипетское значение, а цариц Египта хоронили иногда в саркофаге, имевшем форму коровы (Геродот II. 129). Так в древнем Египте царь и верховное божество оказывались тесно связанными со своей териоморфной ипостасью, быком. Возможно, что в образе Минотавра мы сталкиваемся с явлением перехода териоморфной формы божества в антропоморфную стадию. Сам же образ быка, безусловно, несёт в себе египетское наследование, с поправкой на местные традиции. В отличии от египетской религии, где в образе земли выступает мужской персонаж Геб, а в образе неба — небесная корова Нут, народы, обитающие за пределами Египта, в качестве Земли рассматривали Великую богиню-мать, Небо же олицетворяло божество в образе быка. Уже на ранних изображениях Минотавр предстает как божество определенно космического плана. Нередко он изображается в скрученной полукольцом позе в сочетании с солнечными или звездными знаками, так что можно его воспринимать и как мифический синоним небесного свода, и вместе с тем как некоего стража или хозяина небесного огня, и, наконец, как сам этот огонь — солнце, луна или звезды. Нелишним будет вспомнить, что вторым именем Минотавра было Астерий (Ἀστέριον).¹¹ _____________________________ [11] ἀστέριος 3 звездный (περιωπή Anth.) БУКОЛИОН …«в Афинах, сохранявших, судя по первым строкам «Афинской политии» Аристотеля (III, 5), древние связи с критскими жрецами, жена архонта-царя вступала в ритуальный брак с Дионисом в Буколионе. Буколион был храмом Диониса, пастыря быков, и сам Дионис иногда представлялся греками в образе быка. Ритуал этот мог быть заимствован с Крита. Вернемся к, упомянутому выше Аристотелем, Буколиону (Βουκολίων, Буколий), храму, где Дионису поклонялись в образе быка. Помимо Афин, области с подобным названием были, по крайней мере, еще в Аркадии (на Пелопоннесе) и в дельте Египта.¹² Слово Βουκολίων производят от βουκόλος, в значении «пастырь». Приставка βου- в слове βουκόλος означает «бычий».¹³ Казалось бы, значит, вторая часть слова (-κόλος) должна иметь значение «охранитель», и словарь Дворецкого намекает именно на такое словообразование (βου-κόλος). Подобное словообразование подтверждается и в слове βουκολέω (βου-κολέω).¹⁴ Но проблема в том, что у слова κόλος нет такого (или похожего значения), по крайней мере в Древнегреческом словаре.¹⁵ Вполне возможно, что подобное значение слова κόλος просто не попало в словарь, тем более, что слово βουκολέω переводится (при чем дословно) как «питать, кормить». Это бы прекрасно объясняло и этимологию слова βουκολία (стадо) — «кормящийся крупнорогатый скот».¹⁶ Но, повторюсь, эта прекрасная конструкция зависает в воздухе, в виду отсутствия подтверждения такого значения слова в словаре. _____________________________ [12] Βουκολίων (-ωνος) ἡ город в Аркадии Thuc. [13] βου- {βοῦς} 1) приставка со знач. «бычачий», «коровий», «воловий»; 2) усилит. приставка со знач. «громадный», «огромный» (напр. βουλιμία) βοῦς ἡ бык, вол, корова. [14] βουκόλος (βου-κόλος), дор. βωκόλος (-ου) ὁ погонщик или хранитель крупного рогатого скота, волопас; тж. пастух (вообще) Hom., Plat., Arst., Theocr. βουκολέω (βου-κολέω) 1) пасти ex. (βοῦς Hom.); 2) досл. питать, кормить, перен. чтить; [15] κόλος 1) надломленный, обрубленный; ex. (δόρυ Hom.) 2) тупорогий или безрогий; ex. (τὸ γένος τῶν βοῶν Her.; τράγος Theocr.); 3) прерванный, незаконченный. [16] βουκολία, ион. βουκολίη ἡ стадо крупного рогатого скота HH., Hes., Her. Можно попробовать этимологизировать слово βουκολέω (пасти) через κωλύω, в значении «мешать, препятствовать», т.е. не давать разбредаться стаду. Выглядит несколько натянуто, но тем не менее. Если все же попытаться развить тему кормления скота (основная забота пастуха), то можно обратить внимание на слово κόρος, созвучное со второй частью слова βουκόλος. Одно из значений слова κόρος — «сытость, пресыщение». Приставка βου- объясняет о чьей сытости идет речь, но «бычья сытость» плохо коррелируется со значением слова βουκόλος — «пастух». Попытка придумать значение «питающий, насыщающий быков» (βου + κόρος) приближает нас к нужному результату, но выглядит еще более натянутой, нежели первый вариант. Любопытно, что другое значение слова κόρος — «ребенок, сын» — дает, при том же словообразовании (βου + κόρος), значение «бычий сын» (т.е. теленок), либо, при более богатом воображении и применительно к Дионису, — «сын Зевса в образе быка» (Загрей). В эту же «копилку» хорошо заходит созвучие со словом χολάω,¹⁷ применительно к βουκολέω — «безумствующий бык», что хорошо коррелирует со значением имени Вакха (Βάκχος) — «безрассудный», «одержимый».¹⁸ _____________________________ [17] χολάω 1) быть безумным, сумасбродствовать; ex. (ἄνδρες χολῶντες Arph.) 2) быть в бешенстве, в ярости, гневаться; ex. (Diog.L.; τινι NT.). [18] βακχεῖος, βάκχειος 1) вакхический (βότρυς Soph.; νόμος Eur.; ῥυθμός Xen.; ὄρχησις Plat.); 2) исступленный, неистовый, ликующий (Διόνυσος HH.) Весь этот полет фантазии к этимологии слова βουκόλος («пастух»), конечно, может не иметь никакого отношения, но, повторюсь, проблема в том, что наука не дает этимологического объяснения этого слова (βουκόλος). Ибо, с одной стороны: βουκολέω (βου-κολέω) 1) пасти ex. (βοῦς Hom.); 2) досл. питать, кормить, перен. чтить; βουκόλος (βου-κόλος), дор. βωκόλος (-ου) ὁ погонщик или хранитель крупного рогатого скота, волопас; тж. пастух (вообще) Hom., Plat., Arst. А с другой стороны: κόλος 1) надломленный, обрубленный; ex. (δόρυ Hom.) 2) тупорогий или безрогий; ex. (τὸ γένος τῶν βοῶν Her.; τράγος Theocr.); 3) прерванный, незаконченный. Спрашивается, каким образом слово βουκόλος получило значение «хранитель крупного рогатого скота», если оно однозначно прочитывается как «безрогий бык» (βου-κόλος)? Вопрос, естественно, риторический. _______________________________
САРКОФАГ УВАРОВАЧетверг, 10 Марта 2016 г. 21:11 (ссылка)«Саркофаг Уварова получил название по имени его русского владельца. Сергей Семенович Уваров (1786-1855), президент Российской академии наук (1818-1855) и министр народного просвещения (1833-1849), приобрел его в Риме в 1843 году, за три года до получения графского титула. Памятник был найден в Риме, вероятно, в раскопках конца XVI в. Крышка его утрачена. Мрамор белый с желтоватой патиной. Датируется началом III в. н.э. (ок. 210г.).» После приобретения, Уваров отправил «овальную урну» (он не считал памятник саркофагом) в свое подмосковное имение Поречье под Можайском. Ее поместили в музее — в центре среднего зала на втором этаже дворца. На пьедестале памятника значилось: «Ex aedibus Altempsianis Romae. 1843» («Из Альтемпского дворца в Риме. 1843»). Овальных саркофагов в Риме было значительно меньше, чем прямоугольных, первых десятки — против сотен последних. Вероятно, до первой половины XIX в. о них вообще мало кто знал; сам И.Винкельман не признал саркофага в Альтемпском памятнике, уклончиво назвав его urna ovale и тем самым уведя последующую науку в сторону — ранние отечественные исследователи, при всей глубине и тонкости их анализа, считали «греческий» памятник вместилищем для священной воды в мистериях Диониса. Темами рельефного декора обычно служили греческие мифы «спасительской» направленности — Селена спасает Эндимиона, Геракл совершает подвиги, укрощая смерть в образе чудовищ. Саркофаг Уварова украшает рельеф, посвященный мифу о спасении Дионисом Ариадны. Как известно, Ариадна, дочь критского царя Миноса, спасла от смерти Тесея, сына афинского царя Эгея, прибывшего на Крит с группой афинян в качестве данников, долженствующих быть отданными на съедение Минотавру. Ариадна дала Тесею клубок ниток, с помощью которых он смог выбраться из Лабиринта (метафора потустороннего мира) за обещание увезти ее в Афины и жениться на ней. Но вместо этого Тесей бросил девушку в пути, на о. Наксос, где ее и нашел Дионис — бог вина и винограда, главный греческий умирающий и воскресающий бог. Дионис женился на ней, и они оставили потомков. Композиция четко членится на четыре части четырьмя крупными львиными масками, попарно помещенными на длинных сторонах саркофага. Овальная форма воспроизводит чан-ленос (ληνός),¹ в котором осенью, в августе-сентябре, давили виноград, чтобы его сусло, перебродив, превратилось через несколько месяцев (примерно к январю) в молодое вино. Такие чаны изображаются на римских памятниках как важная ритуальная вещь: в них бог-виноград Дионис Ботрис (Βότρυς)² претерпевал свою жертвенную смерть, чтобы возродиться в новом качестве — бога молодого вина. Молодое вино воспринималось как «новая кровь», благодаря приятию которой воскресает умерший человек. Саркофаг, таким образом, рассматривался как место перехода от смерти к жизни. Руководил ритуалом воскрешения бог, который сам переживал такие страсти — «знал путь». ____________________________ [1] От этого чана Дионис получил ритуальный титул «Леней» (Ληναῖος); ему был посвящен связанный с пробой нового вина зимний праздник — Ленеи (Λήναια), справлявшийся в месяце Гамелионе (Γαμηλιών, январь-февраль) — «Свадебном». ληνός, дор. λᾱνός ἡ 1) виноградное точило Theocr., Diod., NT. 2) чан, корыто HH. [2] βότρυς (-υος) ὁ виноградная кисть, гроздь, виноград (Hom., Arph., Plat., Arst., Plut.) На саркофаге львиные маски, оформляющие символические протоки для вина, имеют устрашающий и вместе с тем трагический вид. Они — как жерла, поглощающие жизнь, но и выпускающие ее наружу. Они символизируют врата, через которые человек покидает земной мир и через которые выходит обновленным в новый жизненный цикл.  За Ариадной сидит козлоногий Пан, протягивающий руку к Дионису; на уступе стоит Эрот с факелом, призывающий Диониса взглянуть; маленький пан пытается приоткрыть покрывало Ариадны, чтобы обнажить ее красоту для бога. Над Паном сидит юноша, держащий древо в левой руке, — персонификация острова Наксос. Дионис стоит в центре сцены, обнимая рядом стоящего сатира; еще один сатир, с гирляндой из фруктов, держит в руке пастушеский (т.н. заячий) посох-педум (pedum), загнутый в верхней части; с его руки свисает небрида (νεβρίς),⁴ постоянный атрибут участников Дионисийских мистерий, — шкура рыси, лани, пантеры, льва или другой «животной жертвы» Дионисовых ритуалов растерзания (διασπασμός). ____________________________ [3] Πανίσκοι οἱ паниски (буквально: маленькие Паны) — то же самое, что сатиры; молодые сельские божки. [4] νεβρίς (-ίδος) ἡ изначально, небрида — только шкура оленя, но далее термин получил расширительный смысл — «накидка из шкуры животного». В правой руке Дионис держит высокий мощный тирс — жезл, украшенный растительными формами, с шишкой пинии на конце. Его голова увенчана венком из виноградных листьев и повязками. Он молод, безбород, на щеки его также спускаются виноградные листья. У ноги Диониса — пантера, его постоянный спутник и атрибут. Эта часть рассказа самодостаточна: Ариадну находят и спасают — она становится супругой Диониса. Также на этой стороне саркофага, под маской льва, показана сцена извлечения сатиром занозы из ноги Пана, популярная уже в эпоху эллинизма. Пан претерпевает мучительную боль, цепляясь левой рукой за уступ скалы, на котором сидит. Но боль смерти пройдет, и начнется новая жизнь. Не случайно под исцеляемым Паном лежит его сиринга — духовой инструмент, музыка которого в античности ассоциировалась со смертью, и стоит знак надежды — маска улыбающегося Старого Силена. За скорбью придет радость, за смертью — новая жизнь.  По левую руку от Диониса показана сцена опьянения Геракла. Геракл, мощнейший герой Эллады, воплощение физической силы, рациональности и выносливости, сражен Дионисовой силой. Опьяненный — переходящий от жизни к смерти и от смерти к возрождению, — он полулежит на скале, потеряв контроль над собой; его удерживает от падения Пан, тогда как рядом стоящий сатир лукаво посмеивается. В Италии Геракл был не просто герой, как у греков, а бог. Он обнажен, он уронил свою палицу и лежит на шкуре побежденного им в первом подвиге Немейского льва. Геракл увенчан широкой повязкой и держит в левой руке еще одну, загадочную, не встречающуюся более на римских памятниках диадему-ленту с тремя «листьями». П.Леонтьев рассматривает эту диадему как «мистический цветок лотоса, обвязанный священной тенией (...) и свидетельствующий, что опьянение Геракла не есть следствие простого пьянства». Лукавый сатир держит на плече новый винный мех — знак присутствия «новой крови», которая уже влилась в побежденного Дионисом Геракла. О том, что совершается метафорическая смерть героя, говорит скорбный лик Старого Силена — воспитателя Диониса, стоящего за его спиной. Кроме Геракла Дионис спасает Ариадну — сидящую на земле женщину, обращенную к зрителю спиной. Увенчанная повязкой, с двумя ниспадающими на спину локонами, она полуприкрыта плащом. Простирая руку к богу, она умоляет его о спасении — и он протягивает ей канфар с вином. Ариадна опирается локтем о скалистый уступ, покрытый шкурой пантеры и увенчанный сверху маской бородатого силена в венке, с двойными коримбами; выражение маски — беспечно-радостное. Слева от Диониса стоит сатир, в венке из плюща, с прижатой к груди сирингой и в плаще, переброшенном через плечо; рядом — Силен с тимпаном в руке. Есть основания думать, что в образах метафорических спасаемых, Ариадны и Геракла, мастер показал чету римлян, для которой был заказан саркофаг.  ____________________________ [5] «До сравнительно недавнего времени у ряда народов Европы сохранялся архаичный обряд — в день летнего солнцестояния (или в середине лета, без строгой приуроченности) сбрасывать с крыши козла. Животное выступало символом солнца, достигшего апогея своего «летнего» пути и нисходящего «в преисподнюю».» (Грацианская) Ариадна оборачивается к Гераклу, движущемуся в другом направлении, не видя ее. Их ноги — его правая и ее левая — скрещиваются, расходясь. Их посмертные пути, мужской и женский, — разные. Именно «разделенность» этих двоих означает их новое «космическое» состояние. Геракл движется в танце, облаченный в львиную шкуру, с мощным тирсом Диониса, в тополевом венке, характерном для Геракла-спасенного, с канфаром вина — это, кроме венка, атрибуты самого бога-спасителя Диониса. Перед ним пляшет менада в длинном хитоне с напуском и в небриде, складки ее одеяния разметаны, она в состоянии экстаза; именно эта фигура выступает границей двух сцен — она вплотную приближается к эпизоду с сатиром, вынимающим занозу из ноги Пана; она стоит рядом с ужасающей львиной маской. Одной рукой танцовщица горизонтально держит тирс, оборачиваясь к Гераклу и соприкасаясь с ним — это его новая, «космическая», пара: с Ариадной они «расходились ногами» — здесь «сходятся руками». По другую сторону алтаря показана еще часть шествия: перед Ариадной движется сатир, играющий на двойной флейте, перепоясанный шкурой. Впереди еще один, обнаженный сатир, поит вином сатира-ребёнка, который тянется к чаше. Между их ногами — корзинка с крышкой, на которой стоит маска улыбающегося бородатого силена.  ____________________________ [6] cista mystica — священная корзина, от греч. μυστικός κίστη, ἱερός κίστη; в цисте держали змей, задействованных в церемониях посвящения в культ Вакха (Диониса). [7] Известное изречение «бык породил змею, змея породила быка» соотносится с греческим представлением, что Дионис Загрей порожден Зевсом в образе змея. В свою очередь, Дионис, принявший облик быка, и в таком виде растерзанный титанами, возрождается опять же в образе змея (символически выползающего из мистической цисты). Говоря иначе, образ змея — хтонический символ «зимнего Диониса», пребывающего в преисподней, бык — символ «Диониса летнего». Далее пляшет сатир в небриде, уникальной чертой которого является наличие гирлянды из виноградных гроздьев, под каждой из которых скрывается маска одного из участников оргии — всего их тринадцать. Его увенчанные венком пышные волосы разметаны — они как языки пламени. Под ногами его — на скалистом уступе — маска улыбающегося Пана. Постоянное присутствие масок в сцене говорит о значимости процесса трансформации — маски скрывают истинный лик инициантов: живые становятся мертвыми, а мертвые вновь оживают, и начинается новый жизненный цикл. Танец жизни — бесконечен. За менадой, бьющей в кимвалы, видна последняя фигура саркофага — сатир со спины, с небридой, с разметанными волосами и с педумом, рядом с львиной маской; он отворачивается от сцены, отделяясь от «мертвой» — спящей Ариадны. Под ногами его еще одна cista mystica,⁸ из которой выползает другая змея — женская; она ползет по земле и «мимо» крышки, тогда как первая, символизирующая «мужское возрождение», поднимается, одолевая «нижний мир» и устремляясь к небу. ____________________________ [8] Наличие двух мистических корзин и двух змей свидетельствует о соотнесении их с двумя погребенными в саркофаге людьми. Женская фигура для ритуала возрождения — вторичная, поздняя, появившаяся в эпоху патриархата когда ритуальные права женщин на продолжение рода официально были отобраны мужчинами. Однако ближайшая к Ариадне cista mystica cо змеей, ползущей горизонтально, говорит, что женщина по-прежнему ассоциировалась с хтонической сферой рождающего низа, а не небес. В целом сцены на саркофаге передают языческую дионисийскую мистерию, но нет ощущения, что ее цель — возврат души в материальный мир, исполненный реальных благ и чувственных страстей. Материальное — только оболочка, из которой освобождается мятежный человеческий дух. Саркофаг был создан в одной из лучших римских мастерских ок. 210 года. Единственной близкой аналогией стилю продолжает оставаться саркофаг из Галереи Уолтерс в Балтиморе c Дионисом и Ариадной. Он был найден в числе десяти саркофагов (все, кроме одного, неукрашенного, с замечательными рельефными сценами; семь хранятся в Балтиморе, два — в Риме) в двухкамерной подземной гробнице на Порта Пиа в Риме; судя по надписям на погребальных алтарях, усыпальница принадлежала одному из знатнейших римских родов, Кальпурниев Пизонов, и заполнялась с начала II по начало III в. Саркофаг относится ко времени правления императора Септимия Севера и, может быть, связан с его судьбой, судя по редкому на таких памятниках одновременному присутствию Диониса и Геракла, ассоциировавшихся с двумя царскими титулами, вошедшими в коронационный ритуал со времен Александра Македонского, — «Новый Геракл» и «Новый Дионис». Высочайшее качество исполнения говорит о дорогостоящей работе, могущей быть заказанной одним из богатейших римских семейств. Но Септимий Север и члены его семьи, если они были заказчиками, не могли им воспользоваться. Тяжело болевший император умер в далекой Британии 4 февраля 211 года, и два его сына, Каракалла и Гета, кремировали тело отца; впоследствии Гета был убит Каракаллой (1 февраля 212 года) и через пять лет сам пал от рук собственных солдат — урну с его прахом отправили для погребения в Сирию его матери Юлии Домне. В том же 217 году окончила дни и бывшая императрица. Известно, что Септимий Север, глубоко увлекавшийся мистикой и символическими формами знания, выстроил на Виа Аппиа семичастный мавзолей Септизоний, ассоциировавшийся с его именем — Септимий (Septimius, «Седьмой»); возможно, в нем предполагался именно этот саркофаг. Погребен же был Север в гробнице Антонинов (Мавзолей Адриана), где были захоронены урны с прахом самого Адриана, Антонина Пия (завершившего строительство усыпальницы после кончины приемного отца), Луция Вера, Марка Аврелия, Коммода и Септимия Севера. Этот впечатляющий ряд позволяет думать, что, возможно, правы ученые, полагающие, что римских императоров еще долго продолжали хоронить по традиционному латинскому обряду кремации и что только в III в. их стали ингумировать, как то подтверждается известным саркофагом императора Бальбина, на котором усопший трижды представлен в портретном облике. Но, может быть, отход от традиции как раз наметил Септимий Север, неординарная личность которого оставила столь оригинальный след в римской культуре. _______________________________
МИТРИДАТ ЕВПАТОР — НОВЫЙ ДИОНИСВторник, 26 Августа 2014 г. 14:31 (ссылка)
С.Ю. Сапрыкин
КАДУЦЕЙСреда, 05 Сентября 2012 г. 20:07 (ссылка)
С.В. Петров …«я, единственный из богов, по ночам не сплю, а должен водить к Плутону души умерших, должен быть проводником покойников и присутствовать на подземном суде. <…> мало того, что я бываю в палестрах, служу глашатаем на народных собраниях, учу ораторов произносить речи, — устраивать дела мертвецов — это тоже моя обязанность.» (Лукиан. Разговоры богов. Гермес и Майя) ἑρμαγέλη (ἑρμ-αγέλη) ἡ стадо Гермеса, т.е. сонм усопших или привидений Anth. Название жезла caduceus римляне, судя по всему, заимствовали у греков: καδδῦσαι эп. part. aor. pl. f к καταδύω (= καταδύνω);  Кроме того, корень καδ- вообще соотносится с потусторонним миром: κᾶδος = κῆδος На латыни слово cado (корневое для словообразования «caduceus») означает «падать, умирать». Заход за горизонт небесных светил описывается производным от cado: sol cadens («заходящее солнце»). Умершие души спускающиеся в Аид также проходят «каденцию», т.е. сошествие, переход из мира живых в мир мертвых. cado, cecidī, casūrus, ere cadūcus, -a, -um [cado] cadus, ī m (греч.) Посредством своего волшебного жезла Гермес не только проникает в царство мертвых, с его же помощью он извлекает души из тел усопших, которые затем и провожает в мир теней. «Эрмий [Ἑρμῆς] тем временем, бог килленийский, мужей умерщвленных, ῥάβδος ἡ палка, трость, посох (ῥάβδῳ κρούειν Xen.); Этимология жезла ῥαβδίον (ῥάβδος), возможно, имеет отношение к слову ῥόπτρον (булава, палица), которое в свою очередь, вероятно, происходит от ῥοπή (вес, значение, важность). По крайней мере происхождение скипетра от булавы — достаточно распространенная версия. Хотя у Гомера встречаем и такое написание «золотого жезла»: χρυσόρραπις (χρῡσό-ρρᾰπις), -ῐδος adj. с золотым жезлом (Ἑρμῆς Hom., HH.); Этимология греческого названия жезла — скипетр (σκῆπτρον) — отсылает нас к пастушьему посоху. σκίπων, σκήπων, σκηπίων ὁ посох, палка, жезл Anth., Polyb.; Гермес был родовым богом Кериков. Керики (Κήρυκες) — жреческий аттический род в Афинах. Керик (Κήρυξ, «глашатай») считался первым глашатаем Элевсинских мистерий, от которого пошел род глашатаев. В обязанности глашатаев (κήρυκες или ιεροκήρυκες) входило провозглашение священного перемирия (ἐκεχειρία) во время праздников, приглашение присутствующих к благоговейному молчанию (εὐφημία) при начале священнодействия, произнесение молитв от лица присутствующих при священнодействии и т.п. По преданию, Керик был сыном бога Гермеса и смертной женщины Герсы (по другой версии — Пандросы). От Гермеса же, как гласит легенда, Керик и получил жезл глашатаев. В свою очередь, роду Кериков жезл обязан своим греческим названием — керикион (греч. κηρύκειον). Хотя, мимоходом, можно также обратить внимание на подозрительное созвучие слова κηρύκειον с одной стороны, со словом κήρ («смерть, гибель»), а с другой стороны со словом κῆρ (κέαρ, «душа»). Сочетание, например, слова κῆρ с ἷξις («прохождение») или ἵκω («овладевать») дает интересное наполнение: κῆρ + ἷξις — «прохождение души»; κῆρ + ἵκω — «овладевать душой». Подобную семантику (и возможную этимологию) мы рассмотрели выше для слова кадуцей. Если же возвращаться к мифологическому происхождению жезла, нужно отметить, что изначально это был пастуший посох (σκῆπτρον). Гермес выменял его у Аполлона, взамен подарив тому лиру из черепахового панциря (χέλυς). Посох имел свойство прекращать споры и мирить врагов. Когда Гермес поместил его между двумя борющимися змеями, те тотчас перестали кусаться и немедленно обвили его в мире между собой. Этот миф объясняет наличие кадуцея в руках посланников как знак мира и защиты, он является их главным атрибутом, и ручательством их неприкосновенности. Римляне Гермеса отождествляли со своим Меркурием, хотя имя Mercurius, вероятно, заимствовано римлянами из греческого языка (Μερκούριους), и изначально обозначало подростковый, юношеский возраст божества. μεῖραξ (-ᾰκος) ὁ отрок, юноша, подросток, но преимущ. ἡ девочка (лет 14-15) Arph., Luc. Первая часть слова Μερκούριους (μεῖραξ) указывает на подростковый возраст, вторая (κοῦρος) — на пол подростка. Дополнительно созвучия со словом μέρος (и производными от него) повлияли на специализацию бога-подростка. Значения корня μερ- («часть», «доля») предполагают аллюзию на предмет торговых дел, а также дел незаконного характера («воровская доля»). μέρος (-εος) τό часть, доля; Созвучие слова κουρήϊος (юный) со словом κύριος (повелитель, попечитель), в итоге закрепило и окончательно оформило функционал Меркурия как «покровителя торговцев». То же значение имя Меркурий имеет и в латинском прочтении («охраняющий товар»). merx (арх. mers), mercis f товар (merces mutare V вести меновую торговлю); Официально Меркурий был принят в число италийских богов в конце V в. до н.э., после трехлетнего голода, когда, одновременно с введением культа Меркурия, были введены культы Сатурна, подателя хлеба, и Цереры. Храм в честь Меркурия был освящен в майские иды 495г. до н.э.; тогда же был упорядочен хлебный вопрос (annona) и учреждено сословие купцов, именовавшихся mercatores или mercuriales. «В майские иды купцы приносили Меркурию и матери его Мае жертвы, стараясь умилостивить божество хитрости и обмана, которыми сопровождалась всякая торговая сделка. Недалеко от Капенских ворот (Porta Capena) был источник, посвященный богу, откуда купцы в этот день черпали воду, погружали в нее лавровую ветвь и кропили себе голову и товары, с соответствующими молитвами, как бы смывая с себя и товаров вину содеянного обмана». Таким образом, созвучие, наделившее Гермеса (выступающего под именем Меркурий) новыми смыслами, дало импульс к развитию его образа в совершенно ином направлении (по сравнению с  изначальным). Теперь Меркурий стал позиционироваться в роли покровителя путешествующим купцам и прочим торговым людям, а также ворам и мошенникам. После такой метаморфозы кадуцей в руках Меркурия потерял всякий смысл и являлся лишь отличительным атрибутом божества. изначальным). Теперь Меркурий стал позиционироваться в роли покровителя путешествующим купцам и прочим торговым людям, а также ворам и мошенникам. После такой метаморфозы кадуцей в руках Меркурия потерял всякий смысл и являлся лишь отличительным атрибутом божества.Сходные с кадуцеем символы были распространены и у других древних народов. В месопотамской традиции сплетенные змеи считались воплощением бога-целителя (возможно, отсюда происходит библейский образ медного змия, исцеляющего змеиные укусы). Две змеи были символом плодородия в малоазийской традиции. Помимо Гермеса, кадуцей является атрибутом египетского Анубиса, от которого, судя по всему, и был заимствован, после отождествления этих  богов в единое синкретическое божество с говорящим именем Германубис (Ἑρμανοῦβις). Также его изображение встречается в руках финикийского Ваала и иногда у Изиды и Иштар. Кадуцей может иметь форму шара, увенчанного рогами, — это финикийский солярный символ. богов в единое синкретическое божество с говорящим именем Германубис (Ἑρμανοῦβις). Также его изображение встречается в руках финикийского Ваала и иногда у Изиды и Иштар. Кадуцей может иметь форму шара, увенчанного рогами, — это финикийский солярный символ. В средневековых астрономических атласах, кадуцей нередко находится в руках зодиакальной Девы. Впрочем, это очевидно объясняется тем, что управителем Девы является Меркурий. Кадуцей схож с другим жезлом — посохом бога медицины и врачевания Асклепия (Ἀσκληπιός, «вскрывающий»). Но жезл Асклепия изображался с одной змеей, в отличие от жезла Гермеса и римского Меркурия (Virga horrida, лат. «ужасный жезл»), сопровождающих души умерших в царство Аида. Посох Асклепия — распространенный медицинский символ. По легенде, древнегреческий бог медицины и врачевания Асклепий, шел, опираясь на посох, во дворец критского царя Миноса, который позвал его воскресить умершего сына. По дороге посох обвила змея и Асклепий убил ее. Следом появилась вторая змея, с травой во рту, при помощи которой она воскресила первую змею. Асклепий нашел эту траву и с ее помощью стал воскрешать мертвых. Здесь возникает законный вопрос: если умершая змея была оживлена, то почему жезл обвивает только одна змея? И которая это змея из двух, та что воскресла или та, что ее оживила? Кадуцей отчасти перекликается и с жезлом Диониса — тирсом (др.-греч. θύρσος). Дионис — бог плодоносящих сил земли, растительности, виноградарства, виноделия. Божество критского, либо восточного (фракийского и лидийско-фригийского) происхождения, распространившееся в Греции сравнительно поздно (конец второго тысячелетия до н.э.), и с большим трудом  утвердившееся там. В Риме Дионис почитался под именем Вакха. Вакх изображался юношей, с венком из листьев и гроздей винограда на голове, с жезлом, увитым плющом, виноградными листьями и увенчанным шишкой пинии или сосновой шишкой (θύρσος κωνοφόρος), которая называлась еще «сердцем Вакха». Иногда тирс украшали, связанными в узел, лентами. утвердившееся там. В Риме Дионис почитался под именем Вакха. Вакх изображался юношей, с венком из листьев и гроздей винограда на голове, с жезлом, увитым плющом, виноградными листьями и увенчанным шишкой пинии или сосновой шишкой (θύρσος κωνοφόρος), которая называлась еще «сердцем Вакха». Иногда тирс украшали, связанными в узел, лентами. С другой стороны, известны изображения Диониса, на которых его голову украшает змеиная корона. Манипулирование змеями составляло часть ритуалов в честь Бахуса, и таким образом змеи стали атрибутом его свиты — сатиров. Побеги плюща и змеи не были символами  взаимозаменяемыми, однако общие корни тирса и кадуцея очевидны. Опять же, Плутарх упоминает тирс, увитый змеями (ὄφεις περιελιττόμενοι τοῖς θύρσοις Plut.). Равно как и изображение кадуцея, увенчанного шишкой и обвитого двумя змеями, — явление весьма распространенное. Валерий Флакк, в описании вакхических мистерий, упоминает змеиную траву офиану (от ὄφις — змея), обвивающую тирс: взаимозаменяемыми, однако общие корни тирса и кадуцея очевидны. Опять же, Плутарх упоминает тирс, увитый змеями (ὄφεις περιελιττόμενοι τοῖς θύρσοις Plut.). Равно как и изображение кадуцея, увенчанного шишкой и обвитого двумя змеями, — явление весьма распространенное. Валерий Флакк, в описании вакхических мистерий, упоминает змеиную траву офиану (от ὄφις — змея), обвивающую тирс:«Вакх погружает в пенистый сок, увитый плющом и змеиной травой офианой, тирс». Впрочем, символизм змей актуален там, где змеи имеют повсеместное распространение. Например в Египте, особенно в болотистой дельте Нила. В Греции же символизм обвивающих жезл змей, легко мог быть ретранслирован на растения, которые, подобно змеям, поднимаются вверх, обвивая деревья. «Эта [бассарида] змею на дуб забрасывает, и вкруг древа Змеиные атрибуты иногда связывают с зимней ипостасью Диониса. В орфическом воззрении, основанном на древнейшем слиянии териоморфических культов, между змеей и быком устанавливается  мистическая связь: бык — солнечная, змей — хтоническая ипостась Диониса. Дионис выступает как бык в мире живых и как змей — в подземном царстве. Или, проще говоря, бык — летняя ипостась Диониса, змей — зимняя. Отсюда, в молениях к Дионису было выражение: «бык породил змею и змея породила быка». мистическая связь: бык — солнечная, змей — хтоническая ипостась Диониса. Дионис выступает как бык в мире живых и как змей — в подземном царстве. Или, проще говоря, бык — летняя ипостась Диониса, змей — зимняя. Отсюда, в молениях к Дионису было выражение: «бык породил змею и змея породила быка».В более поздней италийской традиции, Дионису (Бахусу) отводится только четверть года, когда времена года стали символизироваться четырьмя божествами — Венерой, Церерой, Бахусом и Бореем. В этой традиции Дионис олицетворял осеннее солнце, управляя зодиакальными Весами, Скорпионом и Стрельцом. Жезл тирс ассоциируется преимущественно с Дионисом (Вакхом), но иногда встречается также в Египте и в Малой Азии. Плющ, обвивающий тирс, также воплощал жизненную силу растений и был атрибутом воскресающих богов. В греческой мифологии плющ посвящен Дионису, который коронован плющом, а его чаша является «чашей плюща». Его тирс обвит плющом, а одной из его эмблем является столб, обросший плющом. С плющом связаны многочисленные эпитеты Диониса: κισσοχαίτης, κισσοκόμης — «с локонами вьющимися, как плющ» или «с увитыми плющом волосами», κισσοφόρος — «плющеносный». В афинском деме Ахарны (Ἀχαρναί) почитался Дионис-Плющ (Κισσός). А в Мегаре почитался Дионис «Густолиственный». «Они (жители Ахарны) называют Афину «Конной» и Диониса «Поющим»; того же бога они называют «Плющом» (Κισσός), говоря, что тут впервые появился плющ как растение». «Полиэд построил храм Дионису и воздвиг деревянное изображение, которое в мое время все было закрыто [одеждой], кроме лица; оно одно только и было видно. Рядом с ним стоит Сатир, творение Праксителя, из паросского мрамора. Это изображение Диониса они называют «Отеческим» (Πατρός); другого же Диониса, которого они называют «Густолиственным» (Дасилием, Δασυλλίος), по их рассказам, посвятил Эвхенор, сын Койрана, внук Полиэда.» У египтян плющ — растение Осириса. Плутарх в трактате «Об Исиде и Осирисе» пишет: «эллины посвящают Дионису плющ, а у египтян, по слухам, он называется хеносирис (χενόσιρις), и это имя, как говорят,  означает "побег Осириса"». В семитской мифологии плющ посвящен фригийскому Аттису и означает бессмертие. означает "побег Осириса"». В семитской мифологии плющ посвящен фригийскому Аттису и означает бессмертие.Одним из объяснений наличия шишки в виде навершия на тирсе служит то, что к вину, которое пили во время вакханалий, примешивали забродившую сосновую смолу (κωνῖτις πίσσα) — считалось, что этот коктейль усиливает сексуальные ощущения. Впрочем, сосновая шишка (κῶνος) вообще считалась символом жизни и плодовитости, и являлась также атрибутом и эмблемой Сабазия, Астарты в Вавилоне и Артемиды в Памфилии, а также Митры. Сосна (πεύκη; иногда ель, ἐλάτη) считалась также деревом Зевса (в римской мифологии Юпитера), Кибелы и Аттиса Фригийского. Когда в Египте развился культ Сераписа, сосна стала и его эмблемой. Этимология слова «тирс» (θύρσος, θύρσα) неясна. Диодор Сицилийский («Историческая библиотека»), повествуя об индийском походе Диониса, отмечает, что за ним следовала толпа менад, которые были вооружены копьями, имевшими вид тирсов. Вячеслав Иванов также отмечает фактическое тождество между копьем и тирсом: «Охотничье копье, увитое плющом или хвоей, есть тирс. <…> это священное орудие, оружие и как-бы чудотворная хоругвь вакхов, этот жезл ветвь-копье-светоч, сообщающий тирсоносцу Дионисово вдохновение и силу неодолимую»… (Вячеслав Иванов «Дионис и прадионисийство») В этом плане, слову тирс имеется прекрасное созвучие: θήρατρον τό орудие охоты Xen., Plut.; Можно также рассмотреть некоторое созвучие со словом θύρα («дверь», т.е. граница между внутренним и внешним). θύρα ион. θύρη ἡ (дор. acc. pl. θύρᾰς, эол. acc. pl. θύραις) — дверь, вход; Дионис не был, как Гермес, проводником (ἡγεμόνιος) душ в Аид, но эта функция жезла (помогающего пересекать границы миров) могла быть и утрачена в процессе самостоятельного развития тирса. Здесь уместно вспомнить эпитет Диониса «Меланайгис» (Μελάναιγις, «носящий черную эгиду [козью шкуру]») — эпитет темного Диониса, связанного с духами мертвых. Согласно мифу, рожденному в Элевтерах (Ἐλευθεραί, горная деревушка на границе Аттики и Беотии), культ Диониса Меланайгиса был основан дочерьми Элевтера. «Дочери Элевтера, увидев призрак Диониса в черной козьей шкуре (φάσμα τοῦ Διονύσου ἔχον μελάνην αἰγίδα), отнеслись к нему с презрением; тогда разгневанный бог наслал на них безумие. После этого Элевтер получил оракул, согласно которому для исцеления от безумия нужно было почитать Диониса Меланайгиса (Μελαναιγίδος Διόνυσος)». (Suidae Lexicon. S.v.) Еще больше конкретики несет в себе эпитет Хтоний (χθόνιος, подземный), который носил не только Гермес, но и Дионис. Причем, «Хтоний» — эпитет весьма древний, видимо, доставшийся Дионису по наследству от более ранних («прадионисийских») культов, в силу его отождествления с Аидом, Зевсом Хтонием и рядом других менее значимых локальных богов. В.И. Иванов, опираясь на орфическую традицию, недвусмысленно повествует о Дионисе Загрее, как о «владыке отшедших»: «Орфический синтез жизни и смерти как другой жизни, связанной с первой возвратом душ на лицо земли (палингенесией), укрепляя соответствующее представление о Дионисе, как о вожде по пути вниз и по пути вверх, естественно пользуется Загреем как готовым в народном сознании оргиастическим аспектом Диониса подземного, но дает ему своеобразное оптимистическое и эвфемистическое истолкование: «Неправо люди, в неведении о дарах смерти, мнят, что лют Загрей: это — владыка отшедших, Дионис отрадный. Под страшным ликом того, кто увлекает души в подземный мрак, таится лик благостный; тот, кого боятся, как смертоносного губителя, сам — страдающий бог».» Не исключено также, что слово тирс (θύρσος) этимологически связано с торжественной процессией в честь Диониса — θίασος («тиас»). θίασος — торжественное шествие в честь божества, преимущ. Вакха; Возвращаясь к хтонической этимологии тирса, можно вспомнить другое его название — нартек (νάρθηξ). νάρθηξ «Спутники Диониса на таких шествиях несли его атрибут — тирс из стебля ферулы (скипетр, украшенный плющом и виноградными листьями, увенчанный шишкой пинии) как символ мужского созидающего начала, вдохновения и ораторского искусства». «Другие же думают, что поговорка велит забывать, что говорят и как ведут себя твои сотоварищи за винной чашей: потому-то отеческие заветы и посвящают Дионису забвение и ферулу». Так вот, в связи с выше предложенным предположением об изначальной хтонической этимологии тирса, можно рассмотреть ту же этимологию и для нартека: νέρτερος — подземный, ex.: οἱ νέρτεροι θεοί Soph. боги подземного царства; «наркисс (νάρκισσος, нарцисс) притупляет нервы и вызывает тяжелое оцепенение (νάρκη); поэтому Софокл назвал его «древним увенчанием великих богов», то есть богов подземных (νέρτεροι)». Кроме того слово νάρκα (νάρκη, оцепенение) заставляет вернуться к цитате из Плутарха о том, что «Дионису посвящают забвение и ферулу». Если это сопоставить с тем, что Гермес своим жезлом «смыкает глаза людей и погружает их в сон», то и здесь между жезлами Гермеса и Диониса возникает любопытное пересечение. …«ошибочно называли древние Диониса сыном Забвения (Λήθη) — скорее он отец забвения (Λύσιος)».² (Плутарх «Застольные беседы») И все же рассмотрим «классический» кадуцей, увитый двумя змеями. В том или ином виде кадуцей  присутствовал у митраистов и орфеистов, присутствовал у митраистов и орфеистов, и герметиков, позднее, алхимиков. Но где корни этого символа? и герметиков, позднее, алхимиков. Но где корни этого символа?Кадуцей можно встретить в виде двух змей, обвившихся вокруг жезла, на египетских монументах. Считается, что этот символ греческие поэты и мифотворцы заимствовали у египтян, а у греков кадуцей, в свою очередь, якобы переняли римляне. Любопытно, что греки уже в первых веках нашей эры (а позднее и римляне), в качестве символа и атрибута Гермеса, наряду с  керикионом, часто изображали петуха. Впрочем, петух, как известно, великий предвестник утра и Солнца, т.е. тот же глашатай (κήρυκες). керикионом, часто изображали петуха. Впрочем, петух, как известно, великий предвестник утра и Солнца, т.е. тот же глашатай (κήρυκες).В оккультизме петух считается символом ключа, отворяющего предел между тьмой и светом, добром и злом, жизнью и смертью. Вот как писал об этом один из отцов церкви Амвросий Медиоланский (III в.): «Как приятна ночью песнь петуха. И не только приятна, но и полезна. Всем вселяет надежду в сердце этот крик; больные чувствуют облегчение, уменьшается боль в ранах: с приходом света спадает жар лихорадки». В XIII веке изображения посоха со змеей и поющего петуха украшали титульные листы медицинских сочинений. С 1696 года золотой петух появился на гербе французских врачей. Использование кадуцея, в эпоху Возрождения, в качестве общемедицинской эмблемы списывают на смешение символики жезла Гермеса и посоха Асклепия. Но скорее всего, корни такого использования кадуцея надо искать в истории развития алхимии. На ранней стадии алхимии Гермес был ее покровителем. Алхимики на сосудах с препаратами обычно ставили печать с изображением Гермеса, отсюда термин «герметичность». Под влиянием греческих ученых, и главным образом Аристотеля, алхимия на Востоке развилась в систему примерно к III веку, затем она, значительно обогащенная, распространилась из арабского мира через Испанию по всей Европе. Согласно мнению врача и ботаника Альберта Великого (XIII в.), телесное исцеление с помощью медицинских средств являлось «очищением». Он сравнивал этот процесс с очисткой простых металлов, которые алхимики пытались превратить в драгоценные.  В XVI-XVIII века химия, фармация и медицина были очень тесно связаны, поэтому атрибут Гермеса кадуцей мог стать медико-фармацевтической эмблемой. В античном же мире посох Асклепия и жезл Гермеса несли в себе совершенно разный смысл, и только в XVI веке стали общемедицинскими символами. Канадский историк медицины Ф.Гаррисон указывает, что впервые использовал  кадуцей как медицинский символ Иоганн Фробен, один из крупнейших издателей книг по медицине в XVI веке, в Германии. В качестве своего издательского знака он в 1516г. взял руку, державшую жезл, увенчанный голубем и обвитый двумя змеями. кадуцей как медицинский символ Иоганн Фробен, один из крупнейших издателей книг по медицине в XVI веке, в Германии. В качестве своего издательского знака он в 1516г. взял руку, державшую жезл, увенчанный голубем и обвитый двумя змеями.Одним из первых использовал жезл Гермеса в качестве медицинской эмблемы личный врач короля Англии Генриха VIII сэр Уильям Баттс в 1520г. В 1556г. в Англии, использовать кадуцей, в качестве медицинской эмблемы, предложил президент Королевской коллегии врачей Лондона Д.Кайз, который ввел серебряный жезл президента, увенчанный этой эмблемой. В XVII-XVIII веках многие врачи брали в качестве медицинской эмблемы кадуцей в той или иной модификации. С 60-х годов XIX века жезл Гермеса стал официальной эмблемой службы общественного здравоохранения США. Используется он как символ медицины и в некоторых других странах. Например, в 1970г. исполнилось 100 лет со дня основания медицинской школы Цейлона, гербом которой с самого начала является жезл Гермеса. Впрочем жезл, как медицинский символ, — это достаточно позднее поветрие. С ранних времен жезл (или посох) являлся в первую очередь эмблемой власти и одним из знаков царского достоинства. 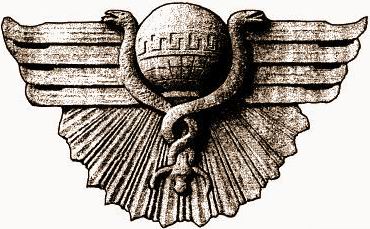 Он венчается несколькими характерными способами: скипетр римского консула — орлом; английских королей — шаром и крестом, или голубем; французских королей — геральдической лилией (fleur-de-lys). Он венчается несколькими характерными способами: скипетр римского консула — орлом; английских королей — шаром и крестом, или голубем; французских королей — геральдической лилией (fleur-de-lys).Типологически предшественниками скипетра были пастуший посох и ритуальные дубины (булавы), символы плодородия, созидательных сил и власти. Античные греки, римляне и германцы в своих обрядах и на церемониях пользовались короткими жезлами-скипетрами, властители же династии Каролингов ввели в обиход длинные скипетры. Пастушеский посох (изогнутый на верхнем конце крюком) — атрибут множества богов (например, всех Добрых Пастырей) и святых, постепенно трансформировался в пастырский (например, епископский) посох. В Египте жезл Хекет (ḥḳt, «крюк») и кнут (nḫḫw) — «посох волопаса» и «бич пастуха» — олицетворяли верховную власть и владычество. Также в Египте был весьма распространен удлиненный скипетр Уас (wȝs), раздвоенный внизу и с навершием в виде головы священного животного Сета. Уас являлся символом не только могущества, но заключал в себе целебные силы. В руках богов он становится скипетром благополучия и символом здоровья и счастья. До Среднего царства, умершему давали с собой в могилу деревянный скипетр Уас, чтобы тот мог применять его для пользования божественными благами. Позднее этим символом украшали фризы на стенах гробниц. Популярным мотивом во все времена было изображение двух скипетров Уас, которые окаймляли по краям поле картины или надписи и своими головами поддерживали идеограмму «небо». Другой тип удлиненного скипетра — Уадж (wȝḏ) — имел вид жезла в виде стебля папируса и символизировал вечную молодость. Жезлы богов выставлялись на всех торжествах и их несли во  время процессий. Во время военных походов царей, взятый с собой жезл Амона должен обеспечить его владельцу защиту бога. Скипетр Уас означал неумолимый (и неукротимый) божественный гнев, уничтожающий врагов Египта, символ могущества фараонов. Один из эпитетов Гора — это «господин жезла, прокладывающий себе путь». Из Нового царства известны многие изображения, на которых жрецы и фараоны держат в своих руках жезлы богов. Таким образом, скипетры-жезлы являются не только атрибутами, но и свидетельствами их божественной власти. время процессий. Во время военных походов царей, взятый с собой жезл Амона должен обеспечить его владельцу защиту бога. Скипетр Уас означал неумолимый (и неукротимый) божественный гнев, уничтожающий врагов Египта, символ могущества фараонов. Один из эпитетов Гора — это «господин жезла, прокладывающий себе путь». Из Нового царства известны многие изображения, на которых жрецы и фараоны держат в своих руках жезлы богов. Таким образом, скипетры-жезлы являются не только атрибутами, но и свидетельствами их божественной власти.В Древнем Египте, Фараоны считали источником своей царской власти и непобедимости в войнах покровительство богинь-защитниц Нижнего и Верхнего Египта — Уаджит (Уто) и  Нехбет (Нехебт), соответственно. Уаджит изображалась в виде кобры (иногда, обвивающей папирусный стебель), хотя более распространенный символ Уаджит — это налобный урей. Нехбет, в египетской мифологии — богиня хранительница царского рода; образ Нехбет — коршун — восходит к Нехбет (Нехебт), соответственно. Уаджит изображалась в виде кобры (иногда, обвивающей папирусный стебель), хотя более распространенный символ Уаджит — это налобный урей. Нехбет, в египетской мифологии — богиня хранительница царского рода; образ Нехбет — коршун — восходит к древнейшему символу неба — распростертые крылья. Иногда коршуна заменяют второй змеей. Два змея (урея), обвивающие солнечный диск, в таком случае изображают Нехбет и Уто, как символ объединения Верхнего (tȝ-šmˁw, «Земля лилии») и Нижнего Египта (tȝ-mḥw, «Земля папируса») в единое государство. древнейшему символу неба — распростертые крылья. Иногда коршуна заменяют второй змеей. Два змея (урея), обвивающие солнечный диск, в таком случае изображают Нехбет и Уто, как символ объединения Верхнего (tȝ-šmˁw, «Земля лилии») и Нижнего Египта (tȝ-mḥw, «Земля папируса») в единое государство.«При V династии солнце изображается не только с двумя крыльями, но и с двумя уреями, как бы соскальзывающими с диска. (…) при XII династии солнечные уреи получают венцы Обеих Земель [Верхнего и Нижнего Египта]. (…) Неудивительно поэтому, что при Тхутмосе I знак солнца с двумя уреями используется как идеограмма для написания титула фараонов: nj-swt-bjt «царь Верхнего и Нижнего Египта». Крылья, правда, в этом случае не изображаются, но они и не нужны. Необходимая двойственность отражена уреями». («Два царя — два солнца» О.Д. Берлев) В «Памятнике мемфисской теологии», когда описывается передача Хору власти над обеими землями Египта, повествуется следующее: «Тогда обвились вокруг чела его две владычицы. Он — Хор, тот, кто является как царь Верхнего и Нижнего Египта, тот, кто объединил Обе земли в номе [Белая] Стена (т.е. в Мемфисе), месте, где Обе земли были объединены». На левой картинке можно видеть богинь Уто и Нехбет, держащих жезлы уадж (wȝḏ, папирус), обвитые змеями в коронах Верхнего и Нижнего Египта. На правой картинке оба этих жезла находятся в руке бога Тота.   Таким образом, резонно предположить, что в более поздний (греко-римский) период оба жезла богинь,  увитые змеями, были совмещены в один, который обвивали две змеи, олицетворяющие Уто и Нехбет. Что, судя по всему, и было сделано. Тем более, что в характеристике обеих богинь не было никаких противоречий, по увитые змеями, были совмещены в один, который обвивали две змеи, олицетворяющие Уто и Нехбет. Что, судя по всему, и было сделано. Тем более, что в характеристике обеих богинь не было никаких противоречий, по сути, они идентичны. И Уаджит, и Нехбет являются покровительницами власти фараона, обе несут в себе охранительную функцию, обе являются дочерьми бога Ра и носят титул «Око Ра». сути, они идентичны. И Уаджит, и Нехбет являются покровительницами власти фараона, обе несут в себе охранительную функцию, обе являются дочерьми бога Ра и носят титул «Око Ра».В начале XX века, близ Александрии были обнаружены катакомбы Ком Аль-Шукафа (Kom el Shoqafa), датируемые I-II веком н.э. В этом трехъярусном некрополе расположены гробницы египетской аристократии. Вся настенная резьба и украшение саркофагов оформлены в смешанном стиле, который включает в себя элементы египетской и греко-римской традиций. Погребальный зал расположен на втором уровне Ком эль Шукафы. Вход в зал традиционно украшают змеи в двойной египетской короне, держащие одновременно и кадуцей, и жезл тирс. Что-то мне подсказывает, что это все те же богини охранительницы Уаджит и Нехбет, но уже с жезлами,  соответствующими традиции нового времени. Над головами змей размещен дополнительный охранный символ — эгида (щит с головой Горгоны). соответствующими традиции нового времени. Над головами змей размещен дополнительный охранный символ — эгида (щит с головой Горгоны).В V-IV веках до н.э. в древнем Риме и Центральной Италии в качестве денег использовался 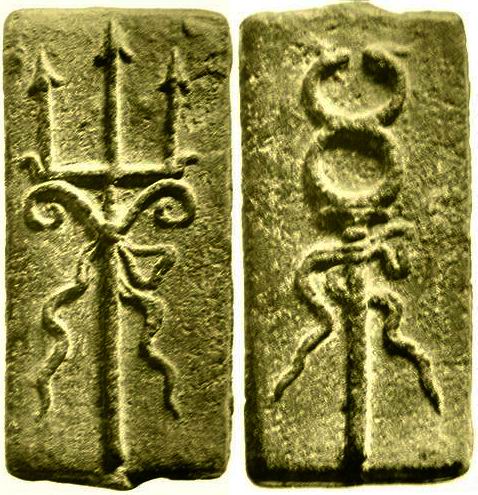 литой кусок бронзы определенного качества и веса, обозначенный штампом, который назывался Aes signatum («имеющий знак»). На одной из таких монет изображен интересный симбиоз кадуцея и тирса. Он имеет вид жезла с двумя змеями, как кадуцей, но при этом его украшают длинные развивающиеся ленты, связанные в узел в виде банта. литой кусок бронзы определенного качества и веса, обозначенный штампом, который назывался Aes signatum («имеющий знак»). На одной из таких монет изображен интересный симбиоз кадуцея и тирса. Он имеет вид жезла с двумя змеями, как кадуцей, но при этом его украшают длинные развивающиеся ленты, связанные в узел в виде банта.Еще один египетский символ, который можно рассмотреть как предтечу жезла Тирс, это Узел Изиды. Он широко использовался как амулет, и представляет из себя несколько видоизмененный Анкх, у которого вместо перекладины — петли банта, опущенные вниз. Узел Изиды, означает бессмертие, что 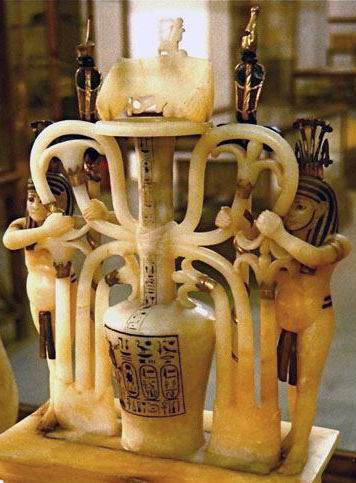 прекрасно коррелирует со значением Анкха, символа вечной жизни. Верхняя петля Узла Изиды (которая, по одной из версий, является символом солнца) могла впоследствии трансформироваться в навершие Тирса, украшенное лентами, связанными в виде банта. прекрасно коррелирует со значением Анкха, символа вечной жизни. Верхняя петля Узла Изиды (которая, по одной из версий, является символом солнца) могла впоследствии трансформироваться в навершие Тирса, украшенное лентами, связанными в виде банта. Однако существует и еще один интересный символ в виде банта-узла. Примером чему может служить алебастровая ваза из гробницы Тутанхамона, выставленная в Каирском музее. Петли узла, на этом экспонате, сплетены из символов Верхнего и Нижнего Египта — лотоса и папируса. Сверху на петлях находятся уреи в коронах Верхнего и Нижнего Египта — богини Нехбет и Уто. По краям — две фигуры Хапи, крепко стягивающие узел. Лигатура в виде связки стеблей лотоса и папируса «Сема-Тауи» (егип. smȝ-tȝwy) означает «объединение двух земель» (Верхнего и Нижнего Египта), часто служит украшением трона Осириса, изображалась на боковых стенках трона египетских фараонов. Таким образом, символ Сема-Тауи также вполне мог повлиять на эволюцию Тирса. ЧАША УВИТАЯ ЗМЕЕЙ И напоследок, в развитие темы Уаджит и Нехбет можно вспомнить еще один интересный символ, не только доживший до наших дней, но и применяемый сегодня как символ здравоохранения. Это змея, обвивающая чашу.  Значение nbt («госпожа») фигурирует в изображениях коршуна (богиня Нехбет) и урея (Уаджит), символизирующих Верхний и Нижний Египет. При этом богини располагаются стоящими над иероглифом nb. С другой стороны, нужно заметить, что слово nbt («nebet») — «госпожа», в египетском языке, имело омоним (nbt) в значении «корзина». Поэтому, нередко можно встретить изображение Нехбет и Уто, стоящими на хорошо рельефно прорисованной корзине, что позволяло опускать женское окончание (-t), потому как в слове «корзина» (nbt) женское окончание уже подразумевается. Со временем, видимо, эта форма изображения богинь на рельефах вошла в обиход, и корзины перестали прорисовываться, т.е. стали более походить на чашу. Очевидно, такой популярный символ как изображение кобры над иероглифом nbt, в значении «госпожа Уаджит», в греческий период не мог не найти своего развития и переиначивания на свой лад вездесущими греками. Преображение Уто, богини охранительницы Нижнего Египта, происходило поэтапно и было растянуто во времени. Древнегреческие 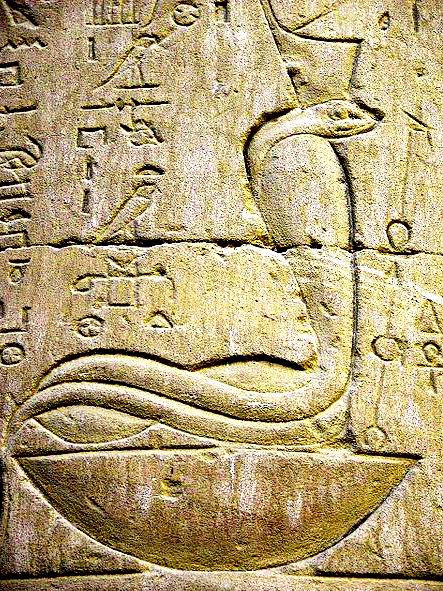 усилия в этом начинании были продолжены в Средние века и закреплены в Новейшей истории. Окончательным усилия в этом начинании были продолжены в Средние века и закреплены в Новейшей истории. Окончательным  же результатом сей метаморфозы является медицинский символ «змея, обвивающая чашу». Попробуем восстановить процесс этого перевоплощения. же результатом сей метаморфозы является медицинский символ «змея, обвивающая чашу». Попробуем восстановить процесс этого перевоплощения.Греки отождествляли Уаджит с Афродитой. Атрибутом Афродиты являлась золотая чаша, наполненная вином, испив из которой, человек получает вечную молодость. Интересное развитие сюжета. Интереса здесь добавляет и то, что имя Афродиты является производным от Уаджит. Этимология имени подробно изложена в статье Афродита. Однако следует заметить, что медицинскую эмблему связывают не с Афродитой, а с совершенно другой богиней — дочерью Асклепия — Гигиеей. Но нас это не должно смущать. «Важнейшей фигурой среди божественных детей Асклепия является его Греческое написание имени Гигиея — Ὑγιεία (первая буква в имени — ипсилон — читается с придыханием — «Хигиея»). Однако, нужно заметить, что буква ипсилон (Υυ) имеет не однозначное прочтение, в зависимости от обстоятельств, читается и как [i], и как [u].³ При обычном переходе согласной γ («г») в «дж», имя Ὑγιεία с легкостью превращается в Уджиею, что мало чем отличается от Уаджит. Это лишний раз показывает заимствование греками египетской богини, только у греков Уаджит разбивается на две ипостаси: богиня любви Афродита и богиня здоровья Гигиея. И, заметим, более древний символ Уаджит — змея (связанная с Гигиеей) — возобладал. ___________________________ [3] Буква ипсилон (Yυ) в древнегреческом языке классической эпохи (V-IV вв. до н.э.) обозначала как долгий, так и краткий гласный звук — огубленное [ί]. Подобный звук есть в современном немецком языке и обозначается латинской буквой u с умлаутом — ü. В русском языке огубленного [ί] нет, и в практике преподавания древнегреческого языка в русскоязычной аудитории букву ипсилон читают примерно так, как читают по-русски букву ю кириллицы. • λύρα [лю́ра] — лира; В аттическом диалекте древнегреческого языка буква ипсилон в начале слова всегда сопровождается густым придыханием.  • ὕμνος [хю́мнос] — гимн, песня. Справедливости ради, нужно отметить, что Нехбет в наши дни тоже не забыта. И иногда встречаются варианты, когда Нехбет, в образе змеи обвивает чашу вместе с Уаджит, как, например, на знаке различия Военно-медицинской академии имени С.М. Кирова. Нарукавный знак — тканевая нашивка в форме круга темно-синего цвета с кантом красного цвета. В центре знака — изображение малой эмблемы (серебряная чаша Гиппократа с серебряным вензелевым изображением имени Павла I, обвитая двумя серебряными змеями, и серебряный факел за ней) на фоне красного прямого равноконечного креста, обрамленногоЭтот знак продолжает традицию военно-медицинской символики царской России. В России эмблема, под названием «Гиппократова чаша», стала основным медицинским символом в XVIII в. На знаке изображался герб Российской империи — двуглавый орел в короне со скипетром и державой. Герб обвит дубовой и лавровой ветвями. Под ним внизу на месте переплетения ветвей расположены позолоченные чаша и, спускающиеся к ней по веткам,  две змеи. две змеи.«Борьба съ чумою» — еще один интересный знак для должностных лиц за борьбу с чумой, темно-бронзовый  для санитаров и нижних чинов и посеребренный для врачей. Утвержден 21 июня 1897г. В народе прослыл «медицинским Георгием», ибо награждались им люди, реально рисковавшие жизнью. для санитаров и нижних чинов и посеребренный для врачей. Утвержден 21 июня 1897г. В народе прослыл «медицинским Георгием», ибо награждались им люди, реально рисковавшие жизнью.Герб поселка Вольгинский Владимирской области. На нем лазоревая чаша увита двумя золотыми змеями. Поселение при этом достаточно молодое: оно было организовано в 1973 году неподалеку от Покровского завода биопрепаратов для производства средств защиты сельскохозяйственных животных от болезней. Именно фармацевтический профиль Покровского завода и подчеркивается в гербе поселения. А синий цвет чаши указывает на ветеринарную направленность научных изысканий и производства препаратов. _______________________________
ЭТИМОЛОГИЯ СЛОВА «БОГ»Вторник, 21 Августа 2012 г. 17:20 (ссылка)
Бог (ст.-слав. богъ; укр. бiг; болг. бог; сербохорв. бо̑г; словенск. bȯg; чешск. bůh; польск. bóg; в.-луж. bóh; н.-луж. bog). Другие словари, в целом, дают то же значение — «дающий, оделяющий господин; доля, счастье, богатство». Настораживает только один нюанс: «в современный русский язык слово «бог» пришло из древнерусского, где «богъ» — заимствование из церковнославянского». Видимо и в славянские языки слово «бог» пришло тоже из церковнославянского. Но церковнославянский язык несет в себе богатое византийское (читай греческое) наследие. Греческий же язык был в свое время языком межнационального общения. И именно из него многие народы заимствовали многие слова и термины. Не в Грецию ли уходят 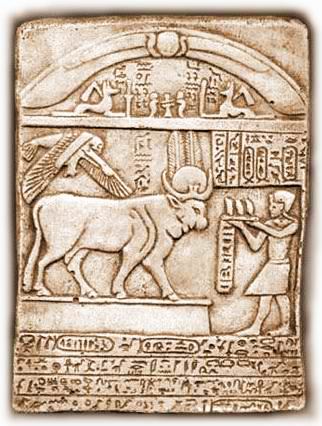 корни пресловутой «индоевропейскости»? Не отрицая возможности заимствования слова «бог» из иранской (или даже из индийской) культуры, рассмотрим еще одну версию происхождения слова «бог» — от слова «бык». корни пресловутой «индоевропейскости»? Не отрицая возможности заимствования слова «бог» из иранской (или даже из индийской) культуры, рассмотрим еще одну версию происхождения слова «бог» — от слова «бык».Истоки происхождения образа бога-быка лежат в далеком прошлом. Он возник в эпоху Тельца, когда, зачастую, образ богов разных культов имел вид быка, либо его атрибуты (бычья голова, рога). Наиболее известные Тельцы: Мардук, Ра, Ваал, Энки («свирепый бык неба и земли»), Лунный бог Син и Солнечный Тешуб, принимающие образ быка. В Египте, помимо богов в образе быка, поклонялись и быкам, что называется, из плоти и крови, но обожествляемым по определенным признакам, дающим право полагать, что этот бык является воплощением бога Ра, Осириса или Птаха. Бык Апис почитался в Мемфисе, Мневис — божественный черный бык Гелиополя, Бухис — божественный бык Фив. Обращает на себя внимание некоторое созвучие имени Бухиса (bḥs, «теленок») со словом «Бог» (особенно с учетом оглушения буквы «г» в слове «Бог»). В Гермонте (Верхний Египет) Бухис почитался как воплощение местного бога войны Монту и при жизни был окружен божественными почестями. После смерти его мумифицировали и захоранивали в саркофаге в особом некрополе Бухеуме, недалеко от Гермонта. Новое олицетворение Бухиса находили среди новорожденных телят по особым приметам. У него должна была быть белая шерсть с черными пятнами и черная голова. Культ быка Бухиса достиг наивысшего расцвета в эллинистический и римский период — при Птолемеях (305-30 до н.э.) и римских императорах династий Юлиев-Клавдиев и Флавиев (27 до н.э. - 96 н.э.). Как видим, оформившийся в эпоху Тельца, образ бога Быка проявляется и в следующую эпоху Овна, и в эпоху Рыб. Нельзя не отметить попыток ввести образ божественного барана, с приходом эпохи Овна. Наиболее популярный образ бога-барана — это конечно же Амон. Символизм Овна переходит и в эпоху Рыб, вспомним, хотя бы, образ закланного агнца, как символ Христа. Однако традиция весьма инертна, она вшита в культуру и религиозные символы настолько прочно, что с трудом поддается вытеснению новыми образами. На языках разных народов слово «бык» весьма созвучно слову «Бог». По-татарски бык — богà, по-крымскотатарски — buğa, по-башкирски — буга (бога), по-казахски — бұқа, по-киргизски — бука. В этой же связи, вспоминается букашка,¹ с говорящим названием «Божья коровка». Любопытно еще одно именование быка на славянских языках — «бугай» (польск. buhaj, также bugaj). Фасмер происхождение этого слова относит к заимствованию из тюркского, от слова «бык» (тур. buɣa, чагат. boɣa, др.-тюрк., уйг. buka). Это ошибочная версия, слово «бугай» заимствовано из др.-греческого языка. Слово βουγαίος встречается и у Гомера (Ил. XIII 824; Од. XVIII 79), и у Плутарха (Αίτια Ελληνικά 36).² ___________________________ [1] Слово букашка, видимо, производное от бұқа — «бычок». Причиной такой этимологии (слова «букашка») очевидно является «тяжеловесный» вид жуков и усики, которые можно рассматривать как «рога». Схожую этимологию имеет и слово «козявочка» (от слова «коза»). [2] Νῦν μὲν μήτ᾽ εἴης, βουγάϊε, μήτε γένοιο… — Лучше б тебе, самохвал, умереть иль совсем не родиться… (Гомер. Одиссея XVIII, 79) Αἶαν ἁμαρτοεπὲς βουγάϊε ποῖον ἔειπες… — Праздные звуки, Аякс! велеречишь, огромностью гордый! (Гомер. Илиада XIII, 824) Несмотря на то, что слово βουγαίος происходит от слова βοῦς («бык»), его перевод и у Гомера, и у Плутарха имеет переносное значение. Плутарх слову βουγαίος дает значение «по-бычьи радостный», в Одиссее то же слово В.В. Вересаева переводит как «самохвал» (т.е. хвастун). В Илиаде, в переводе Н.И. Гнедича, телосложение Аякса просто сравнивается с мощью быка. Дословно βουγαίος имеет значение «земляной бык», т.е. употребляемый для пахоты земли (сравн. с βουκαῖος — пашущий на волах Theocr.). βουγάϊος (βου-γάϊος) ὁ бран. хвастун, бахвал Hom., Plut. βου- <βοῦς> 1) приставка со знач. «бычачий», «коровий», «воловий»; 2) усилит. приставка со знач. «громадный», «огромный» (напр. βουλιμία) γάϊος, дор. = γήϊος 1) сделанный из земли, т.е. глиняный (πλίνθος Xen.); 2) имеющий земную природу, земного происхождения; 3) связанный с землей. Босфор (др.-греч. Βόσπορος, Bosporus) официально переводят как «проход вола», «бычий брод» или «скотий брод», от βῶς — «бык», πόρος — «брод». Хотя гораздо логичней выглядел бы перевод через слово φορός (несущий, споспешествующий). По аналогии с θεόφορος (θεό-φορος), что переводят как «ниспосланный богом», «βόσφορος» (βόσ-φορος) можно перевести и как «ниспосланный быком», т.е. богом в образе быка.³ Называть же пролив «бродом» — по меньшей мере странно, даже если в глубокой древности он был настолько мелким, что его (якобы) можно было перейти вброд. В конце концов, у каждой реки есть место, где ее можно перейти, но не одну реку в честь этого бродом не называют. Впрочем, слово πόρος переводится не только как «брод». У этого слова есть и иные значения, например … «пролив».⁴ Название пролива Βόσπορος (Боспор) греки связывали с «переправой» через него Ио (Ἰώ) — дочери аргосского царя Инаха, которую Зевс превратил в телицу, дабы скрыть от Геры любовную связь с ней. Но Гера раскусила хитрость мужа и наслала на Ио жалящего овода, спасаясь от которого та бросилась в воды пролива и, переплыв его, укрылась от гнева Геры в Египте. Т.е., речь идет, во-первых, о «корове», во-вторых, о «переправе». Название же «бычий брод», в этом случае, просто повисает в воздухе. ___________________________ [3] Существует версия, что Босфор получил свое название благодаря фракийцам, освоившим берега пролива задолго до греков. Название канала, в переводе с фракийского, означает «светлая вода». Греки заимствовали фракийское название пролива, переведя его на греческий как Φωσφόρος — «светоносный». Позднее это название было приведено в соответствие с более понятным утилитарным смыслом — «бычья переправа». Греческий ученый 12 века Джон Цецес (John Tzetzes) сообщает, что в народе, в его времена, пролив также был известен как Просфорион (Προσφόριων). φωσφόρος (φωσ-φόρος) — светоносный, лучезарный, сияющий. πρόσφορος (πρόσ-φορος) — полезный, нужный, необходимый. [4] βοῦς, дор. βῶς, βοός ὁ и ἡ бык (тж. βοῦς ἄρσην и ταῦρος βοῦς Hom.); вол или корова (βοῦς ἄγριος Hom. — тур или буйвол). πόρος 1) место переправы, переправа, перевоз (Ἀλφειοῖο Hom.): Πλούτωνος π. Aesch. = Στύξ; ὁ π. τῆς διαβάσιος Her. место переправы; 2) пролив Hes., Aesch.: π. Ἕλλης Arph. = Ἑλλήσποντος; 3) море (как проход или путь) (Ἰόνιος π. Pind.; Εὔξεινος π. Eur.); 4) поэт. течение: ῥυτοὶ πόροι Aesch. текучая вода. Как бы это не показалось странным, но по-турецки слово «пролив» — boğaz. А Босфорский пролив, соответственно, — İstanbul Boğazı. Конечно, это может быть просто случайным созвучием, ведь этимология слова boğaz — однозначная. Слово boğaz (в значении «пролив») употребляется в переносном смысле, основное значение слова boğaz — «глотка» (в смысле «узкий проход»). И все же, не следует забывать и о значении турецкого слова boğa — «бык», которое, как нарочно, так удивительно созвучно рассматриваемому нами слову boğaz, тем более, что предыдущее (греческое) название пролива связывали именно с быком. boğazı — узкий горный проход, уще́лье; Оставим Босфор. Вспомним такого славянского полумифического героя как Бус Белояр, имя которого транскрибируется на разных языках и как Бус, и как Боз, и как Бож, что созвучно с церковнославянским Бозе, Боже.⁵ А с учетом того, что, по легенде, его распяли в день весеннего равноденствия, да еще и в полнолуние, то кому же как не ему быть Бозе Ярилой (особенно с учетом, что на третий день, после распятия, он воскрес)? ___________________________ [5] Печаль бо яже по Бозе покаяние нераскаянно во спасение соделовает, а мира печаль смерть соделовает (2 Кор. 7:10). В заключение, вспомним и скотьего бога Велеса в образе Быка (одна из ипостасей)… Как не крути, но даже если исходить из версии о близости слов «бог» и «богатый», то опять приходим к крупнорогатой скотине, которая и являлась мерилом и показателем зажиточности.  Поклонение Апису. Фра Филиппо Липпи. БОГИ БЫКИ В ряде мифологий обнаруживаются разнообразные связи быка и соответствующего ему мифологического образа: полное их тождество, бык как земное воплощение бога или как его атрибут. На пространстве от Северной Европы до Индии бык был эмблемой божественного могущества, особенно связанной с богами луны, солнца, неба и ветра. В этом смысле стоит отметить скандинавских богов Тора и Фрейю; греческих Зевса (в римской мифологии Юпитера), Диониса (Бахуса), Посейдона (Нептуна); египетских Ра, Осириса, Пта (в образе священного быка), Сета; месопотамских Ила (с рогами быка) и Ваала; индийских Индру, Адити, Агни, Рудру и Шиву (сидящего на быке по имени Нанди). Рога быка — знак неполной луны, его огромное тело — опора мира в исламской и ведической традициях; его обильное семя подпитывается луной в иранской мифологии; его мычание, топанье ногами и трясение рогами повсеместно связывали с громом и землетрясением, особенно на Крите, родине Минотавра. Обычно бык олицетворяет мужской принцип, солярную возрождающую силу, посвященную всем небесным богам, а также плодовитость, мужская производительная сила, царское происхождение. Рев быка символизирует гром, дождь и плодородие. В египетских мифах «бык неба» — сын Небесной коровы и отец телёнка, которого та рождает. С этими представлениями сравнимы близнечные мифы некоторых африканских народов. Там, где существовали местные культы главного божества в образе быка, при храме держали священного быка как его воплощение. У египтян бык Апис был воплощением Осириса и «второй жизнью и слугой Пта». Также он был посвящен солярному богу Ра, который в образе небесного быка, ежедневно оплодотворял богиню неба Нут. Эпитет Мина Коптосского — «Камутеф» (егип. kȝ-mwt.f, греч. Καμούθης, «Телец своей матери»). Понятие «бык неба» уже в ранний период египетской истории прилагалось и к царю. Представление о небесном теленке сохранилось и в позднем народном веровании, согласно которому царь был вскормлен коровой. В дополнение к идее о быке плодородия, представление о том, что царь был могучим быком, победителем своих врагов, засвидетельствовано уже в самом начале египетской письменности (kȝ wsr — «мощный бык»; kȝ nḫt — «побеждающий бык»). Полярное созвездие Большой Медведицы египтяне называли «Бедром быка» (ногой Сета, в образе быка, которую отсёк Гор и закинул на небо). В Древней Месопотамии верховный бог Бел (Бэл) назывался «Божественным Быком». В шумеро-аккадской мифологии бог Энлиль (акад. Эллиль), устроивший всемирный потоп, зовется «Богом Рога», а его жена Нингаль — «Великой Коровой». Древнегреческий бог Зевс часто выступал в бычьем обличье (например, похищение Европы). Его супруга Гера сохранила зооморфные рудименты не только в наименовании «волоокая»: в архаических мифах она также выступает в образе коровы. Нередко в образе бога-быка выступает и сын Зевса — Дионис, который изображался с бычьими рогами, а иногда и с головой быка. У индусов бык является символом мощи, скорости, плодородия, репродуктивной силы природы. Шива путешествует на быке Нандине, хранителе Запада. Бык также является атрибутом Агни — Быком Мощным. Индра принимает образ в его плодородном аспекте. Бык символизирует также жизненное всеобнимающее дыхание Айдити. Сила, придаваемая сомой, часто приравнивается к силе быка. Рудра соединяется с богиней-коровой. У иранцев бык олицетворяет душу мира, а его производительные силы ассоциируются с Луной и дождевыми благодатными облаками. Бык был первым сотворенным животным и первым животным, убитым Ариманом. Из бычьей души произошли споры всего сотворенного впоследствии. В минойской культуре это Великий Бог. Быка приносили в жертву богу колебателю земли Посейдону: «Быку возрадуется тот, кто Землей потрясает» (Гомер). В разных культурах считалось, что бык вызывает землетрясения, поддевая землю рогами,  и тогда все слышат его рев. В митраизме бык почитался в качестве солярного божества, а жертвоприношение быка было центральной церемонией. и тогда все слышат его рев. В митраизме бык почитался в качестве солярного божества, а жертвоприношение быка было центральной церемонией.В Древнем Риме бык считался атрибутом Юпитера, бога Небес, посвященным Марсу, атрибутом Венеры и Европы, как лунных божеств. Европа, как символ рассвета, была пронесена по Небесам солярным быком. У скандинавов бык — атрибут Тора и посвящен Фрее. У шумеров и семитов небесный бык пахал глубокую борозду по небу. Рамман, Ашшур и Адад ездили на быках и звались быками небесными. Мардук, или Меродах, идентифицируется с Гудибиром, быком света. Солнце, Энлиль, или Энки, — это свирепый бык неба и земли. Лунный бог Син также принимает образ быка. Хеттский бог Солнца Тешуб принимает образ быка и является одним из аспектов Эа, как бога магии, и часто изображается в шумерском искусстве как страж входа. Сирийский и финикийский Бел, солярный бог плодородия почвы и стад, символизировался быком. Аккадский направляющий бык начинал зодиакальный год. Крылатые быки олицетворяют духов-хранителей. Судя по библейским текстам, когда Аврааму было семьдесят пять лет, он покинул родной Харран и поселился в Ханаане (Хевроне). По мнению зарубежных исследователей (Р.Райт и К.Армстронг), именно верховный бог Ханаана, Эль (Илу), являлся богом Авраама, поскольку он открылся ему под именем Эль-Шаддай — «Бог Всесильный». Также встречается имя Эль Элион — «Бог Всевышний», которое Яхве якобы получил, когда ему стали поклоняться как верховному богу евреев. В Книге Исход, Бог, обращаясь к Моисею, говорит, что в начале существования его звали Эль: «Бог сказал Моисею: "Я Господь [Яхве]! Я являлся Аврааму, Исааку и Иакову как Бог Всесильный [Эль Шаддай], но Моего имени "Господь" [יהוה — Яхве] Я им не открыл" (Исх., 6:2,3)». Символом Эля (Илу), как и его сына Баал-Хадада (Балу), был все тот же бык. Баал (Ваал) — один из наиболее часто упоминаемых в Библии богов, был почитаем не только хананеями, но и израильтянами. Он был богом плодородия, повелевал дождем и росой. Многочисленные иноземные жены царя Соломона «переманили его к другим богам… Он поклонялся Астарте, сидонской богине, и Милкому, аммонской скверне, и творил дела, ненавистные Господу… И тогда построил Соломон капище Кемоша, моавской скверны, — на горе, что к востоку от Иерусалима, — а также капище Молоха.» (3Цр, 11:4-7). Изображения божеств на капищах, конечно же, имели образ быка. ЗЕВС АТАБИРИЙ Родос первоначально принадлежал шумерской богине Дам-Кина, но впоследствии перешел во владение Тешуба (Тейшеба хуррито-урартский бог грома). Тешуб соответствует шумеро-аккадскому Ададу, западносемитскому Балу, изображался либо в образе быка, либо антропоморфно, с топором — в одной руке и пучком молний — в другой. Его спутники — быки Хурри («утро») и Шери («вечер»). Когда хеттская империя распалась, Родос был колонизован говорящими по-гречески критянами, которые сохранили культ быка, почитавшийся теперь Атабирием (Ἀταβύριον), по имени горы (Ἀτάβυρις ὄρος), на которой был установлен храм. Впрочем, слова Ἀτάβυρις и ταῦρος (бык) имеют явное созвучие, и не исключено, что, наоборот, гора получила название в честь бога, имеющего образ быка. В дорийскую эпоху Зевс Атабирий ассимилировал родосский культ Тешуба (с которым был во многом тождественен). От древнего храма Зевса Атабирия, который был, по преданию, основан Алтеменом, сохранились развалины. «Поднявшись на гору, которая называлась Атабирий (Ἀτάβυρις ὄρος, высочайшая гора на о-ве Родос), Алтемен стал рассматривать лежащие вокруг острова: он увидел также и Крит и, вспомнив об отцовских богах, соорудил алтарь Зевсу Атабирию». ДИОНИС (Дж. Фрезер. Золотая ветвь ХLIII) Диониса часто изображали в виде быка или хотя бы с его рогами. К нему применяли такие эпитеты, как «рожденный коровой», «бык», «быковидный», «быколикий», «быколобый», «быкорогий», «двурогий», «рогоносец». Во время мистериальных представлений, актеры, изображающие Диониса, представали в  маске быка. В городе Кизике, во Фригии, Диониса часто изображали в статуях и на росписях в виде быка или с бычьими рогами. Имеются изображения рогатого Диониса и среди дошедших до нас античных памятников. На одной статуэтке он представлен одетым в бычью шкуру, голова, рога и копыта которой закинуты назад. На другой — он изображен ребенком с венком из виноградных гроздьев вокруг чела и с головой теленка с прорастающими рогами, приделанной к тыльной части головы. На одной вазе, расписанной красной краской, бог представлен в виде младенца с головой теленка, сидящего на коленях у матери. маске быка. В городе Кизике, во Фригии, Диониса часто изображали в статуях и на росписях в виде быка или с бычьими рогами. Имеются изображения рогатого Диониса и среди дошедших до нас античных памятников. На одной статуэтке он представлен одетым в бычью шкуру, голова, рога и копыта которой закинуты назад. На другой — он изображен ребенком с венком из виноградных гроздьев вокруг чела и с головой теленка с прорастающими рогами, приделанной к тыльной части головы. На одной вазе, расписанной красной краской, бог представлен в виде младенца с головой теленка, сидящего на коленях у матери. Жители Кинеты справляли праздник Диониса зимой. Мужчины, умащенные по такому случаю маслом, выбирали из стада быка и вели его в святилище бога. Считалось, что выбор того или иного быка, служившего, возможно, воплощением бога, диктовал сам Дионис. Быком именовали этого бога и жительницы Элиды. «Приди же сюда, Дионис — говорилось в их песне, — в твой священный приморский храм; вместе с Грациями приди в свой храм, прискачи на бычьих ногах, о благодетельный телец, о благодетельный телец!» В подражание своему богу носили рога и фракийские вакханки. Миф гласил, что титаны разорвали Диониса на части, когда он, скрываясь от них, принял облик быка, поэтому разыгрывая страсти и смерть Диониса, критяне, во время оргиастических мистерий, зубами разрывали на части живого быка. Разрывание на части и пожирание живьем быков и телят было, видимо, типичной чертой дионисийского культа. Если принять во внимание обычай изображать бога в виде быка и вообще придавать ему черты сходства с этим животным, веру в то, что в форме быка он представал перед верующими на священных обрядах, а также предание о том, что он был разорван на части в виде быка, то придется признать, что, разрывая на части и пожирая быка на празднике Диониса, участники культа верили, что убивают бога, едят его плоть и пьют его кровь. Обычай умерщвлять бога в лице животного возник на очень ранней стадии человеческой культуры. С прогрессом мышления звериная ипостась божеств утрачивает свою актуальность, и за ними сохраняются исключительно антропоморфные свойства, которые всегда составляют ядро культа. Когда процесс антропоморфизации завершен или близится к завершению, животные, которые первоначально были самими божествами, продолжают находиться с развившимися из них антропоморфными богами в туманной, трудно постижимой связи. Для объяснения преданных забвению истоков родства между божеством и животным измышляются разного рода предания и мифы, объясняющие причины принесения животных в жертву. К тому времени, когда Дионис утратил свой животный облик и стал антропоморфным божеством, заклание быка в качестве части его культа стало рассматриваться уже не как умерщвление самого бога, но как приносимая ему жертва. А так как считается, что божество должно отведать приносимую ему жертву, то в случае, если жертва представляет собой прошлую ипостась бога, бог ест собственную плоть. Потому-то Диониса, в обличье быка, звали «Пожиратель быков».⁶ ___________________________ [6] Об истоках традиции приношения богу-быку в жертву быка смотри в статье Жертвоприношение. Менадическая традиция. Культ Диониса был весьма распространен в Греции и за ее пределами. Причина притягательности культа была еще и в том, что Дионис — бог, дважды рожденный (Δίγονος), победивший смерть. Бог, возродившийся после страшной гибели от титанов, он символизировал для греков силы вечного обновления и вечной жизни. Вкусив его «плоти и крови», и непосредственно «ощущая» в себе своего бога, они ощущали и эти силы вечного возвращения, вечной жизни. Для участников мистерий, это было прикосновением к вечности, к бессмертию. _______________________________
|
|
|
LiveInternet.Ru |
Ссылки: на главную|почта|знакомства|одноклассники|фото|открытки|тесты|чат О проекте: помощь|контакты|разместить рекламу|версия для pda |