Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://sergeytsvetkov.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??75e8ed00, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
В глаза смотри! |
Александр Рагулин (слева) из советской хоккейной команды выясняет отношения с Филом Эспозито из канадской команды во время игры на центральном стадионе им. Ленина в Москве, 26 сентября 1972.

И хлебало завали!

Хоккей, цитируя Высоцкого:«Кроме мордобития — никаких чудес!»
|
Метки: разное |
Апология Каина |
В защиту Каина нужно сказать, что ранее никто никогда не умирал, так что Каин просто не мог знать, что случится, если он долбанет брата камнем.
(с)етевой адвокат Каина
|
Метки: юмор |
Уравнение Бога и алгоритмы-насильники |
Некоторые из нас давно выросли, но до сих пор задаются вопросом о том, зачем в школьные годы их мучили математикой, впоследствии все равно не пригодившейся. Доктор математических наук Кит Йейтс дает исчерпывающий ответ на эти досужие рассуждения в своей книге «Математика жизни и смерти», доходчиво объясняя, как основные принципы этой науки определяют многие сферы нашей повседневности — от медицины до юриспруденции, — а их неграмотное использование может, например, обречь человека на пожизненное заключение или даже привести к несчастному случаю.
Кит Йейтс. Математика жизни и смерти. Семь математических принципов, формирующих нашу жизнь. М.: Бомбора, 2021. Перевод с английского Александра Соловьёва. Содержание
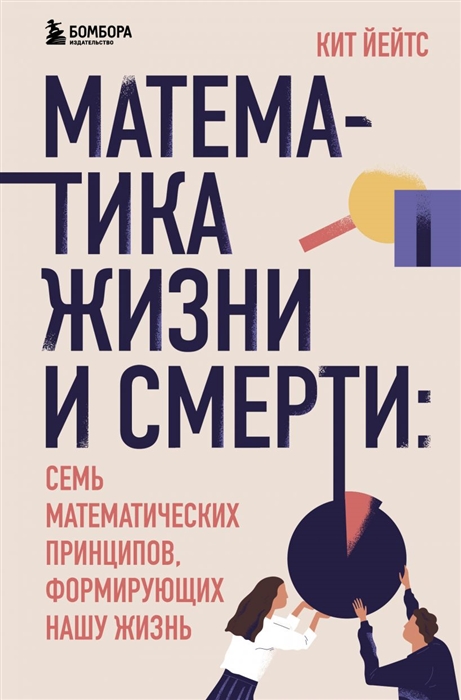
1. Эмбрион развивается по экспоненте. К счастью, недолго
Свой рассказ о том, как сильно математика связана с нашей жизнью, Йейтс не случайно начинает с главы, посвященной экспоненциальному росту, ведь и с началом человеческой жизни он связан напрямую:
«Меня поражало то, как быстро менялись размеры плода от недели к неделе. На четвертой неделе ваш малыш был размером с маковое семя, а к пятой он раздувался до размера кунжутного! Иными словами, за неделю объем плода вырастал примерно в 16 раз. Хотя, возможно, такой быстрый рост вовсе не так уж и удивителен. После оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом на первоначальном этапе развития плода получившаяся зигота проходит последовательные раунды „дробления” — деления клеток; количество клеток в развивающемся эмбрионе быстро растет».
К счастью, со временем рост замедляется — если бы эмбрион продолжал развиваться таким образом на протяжении всех девяти месяцев, постоянно удваивая количество клеток, то в итоге мы получили бы супермладенца, состоящего примерно из 10 253 клеток. Это число трудно осмыслить, поэтому Йейтс прибегает к эффектному сравнению: «Если бы каждый атом во Вселенной сам был бы копией нашей Вселенной, то общее количество атомов во всех этих вселенных было бы примерно эквивалентно количеству клеток супермладенца.
2. Чернобыльская катастрофа на четверть века парализовала продажу овец в Великобритании
Экспоненциальный рост — это история не только про зарождение жизни, но и про смерть и тотальное разрушение, ведь в соответствии с тем же принципом вырабатывается энергия, получаемая в результате расщепления атомных ядер. Говоря об этом, Йейтс вынуждает читателя в очередной раз задуматься, как слабо мы представляем реальные последствия Чернобыльской катастрофы, даже несмотря на то, что она давно уже прочно вошла в массовую культуру.
«В атмосферу было выброшено в сотни раз больше радиоактивных материалов, чем во время бомбардировки Хиросимы, что повлекло за собой широкомасштабные экологические последствия почти для всей Европы. Так, 2 мая 1986 года в горных районах Великобритании прошли необычайно сильные ливни. Капли этого дождя содержали радионуклиды — продукты ядерного распада, поднятые взрывом в атмосферу — стронций-90, цезий-137 и йод-131. В общей сложности около 1% радиации, выброшенной из чернобыльского реактора, выпало на территорию Великобритании. Эти радиоизотопы были поглощены почвой, откуда попали в растущую траву, которую съели овцы, пасшиеся на той земле. Результат — радиоактивное мясо».
Вообще-то, для автора эта история — скорее лирическое отступление, потому что к математике как таковой она имеет малое отношение и больше говорит нам о тематической широте, с которой Йейтс подходит к рассматриваемым сюжетам. Далее он повествует об овцеводе Дэвиде Элвуде, который из-за всего этого был вынужден вызывать государственного инспектора каждый раз, когда хотел продать овец, чтобы тот провел анализ и убедился, что их мясо все еще радиоактивно, а ограничения на продажу придется продлить. Эта волокита продолжалась целых 25 лет, хотя, по замечанию Йейтса (благодаря которому он снова возвращает нас к математическим вопросам), правительство вполне могло не изводить фермеров постоянными анализами, а просто сразу сказать им, когда уровень радиации придет в норму — благодаря феномену экспоненциального распада это вполне можно было просчитать с самого начала.
3. Время, ускоряющееся с возрастом, — не иллюзия
Многие из нас замечали, что чем старше становишься, тем чаще кажется, что время бежит слишком быстро — а, например, сохранившиеся в детских воспоминаниях летние каникулы у бабушки, как кажется с высоты прожитых лет, тянулись целую вечность. Это не заблуждение, а вполне конкретный факт. Эксперимент, проведенный в 1996 году, показал, что молодые и пожилые люди по-разному отсчитывают время в уме: молодежь воспринимает течение времени адекватно, а вот старшее поколение считает секунды гораздо медленнее. Существует два конкурирующих объяснения этому факту. В соответствии с одним из них, с возрастом метаболизм — а следом сердцебиение, дыхание и завязанное на них восприятие времени — замедляется. Согласно альтернативной теории, наше восприятие хода времени зависит от объема новой информации, которую мы получаем извне:
«Этот аргумент можно использовать для объяснения „кинематографического” восприятия событий, разыгрывающихся, словно в замедленной съемке, в моменты, непосредственно предшествующие тем же дорожным авариям. Ситуация для жертвы ДТП в этих сценариях незнакома настолько, что объем новой воспринимаемой информации огромен. Дело может быть в том, что в такой момент замедляется не само время, а наше ретроспективное воспоминание о событиях, так как наш мозг записывает более подробные воспоминания, основываясь на обрабатываемом потоке данных».
4. Принцип Архимеда помогает определить не только процент золота в короне, но и процент жира в человеке
Йейтс неоднократно говорит о том, что некоторые из математических методов, которыми человечество до сих пор активно пользуется, пришли к нам из глубин веков и с тех пор фактически не изменились. В качестве наиболее яркого примера он приводит архимедов метод «вытеснения», который тот, согласно легенде, использовал для определения химического состава короны и который до сих пор применяют для расчета объемов предметов неправильной формы. Автор напоминает, что популярное и упрощенное изложение метода при этом вряд ли близко к реальности — во времена Архимеда не существовало столь тонких измерительных приборов, которые могли бы с нужной точностью зафиксировать объем вытесненной воды:
«Скорее всего, Архимед использовал схожую идею из гидростатики, которая позже станет известна как принцип Архимеда. <...> Этот принцип также тесно связан с таким качеством, как плотность. Объект, плотность которого больше плотности воды, весит больше воды, которую он вытесняет, поэтому выталкивающей силы не хватит для того, чтобы поддерживать его на плаву, противодействуя его весу, — и этот объект утонет. В этих рамках задача Архимеда сводилась к тому, чтобы уравновесить на простых рычажных весах корону на одной чашке и исходную массу чистого золота на другой. На воздухе весы были бы сбалансированы. Однако, если эти весы погрузить в воду, на фальшивую корону выталкивающая сила воздействовала бы сильнее, так что чашка с фальшивой короной всплывала бы выше, чем чаша с золотом».
Впрочем, это все общеизвестные вещи, а между тем автор обещал нам объяснить, каким образом сформулированные в древности принципы работают в наши дни. Ну, например, говорит Йейетс, принцип Архимеда используется при точном подсчете процентного содержания жира в организме. Человека сначала взвешивают на суше, затем на стуле, погруженном в воду. А дальше уже дело техники.
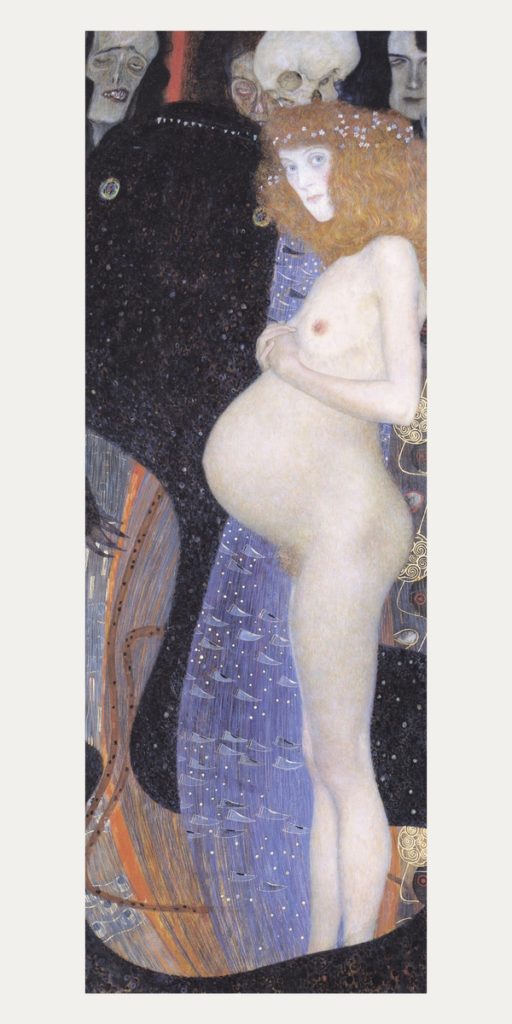
5. С помощью «Уравнения Бога» буквально решается, кому жить, а кому умереть
«Уравнение Бога» — это система расчетов, которая существует в британском здравоохранении. Некоторые препараты (в том числе Spinraza, которая сегодня буквально у всех на слуху) крайне дороги, и для того, чтобы использовать их в системе и выдавать нуждающимся, приходится урезать расходы где-нибудь еще. В Великобритании за принятие таких сложных решений отвечает Национальный институт охраны здоровья и совершенствования медицинской помощи (NICE). Как раз в таких случаях он и пользуется «Уравнением Бога», которое пытается сбалансировать пользу от применения препарата с объемом дополнительных расходов. С расходами все ясно, но как адекватно высчитать и оценить пользу?
«NICE использует общий эталонный показатель, известный как год жизни с поправкой на качество 63, или QALY. При сравнении нового лечения с существующим QALY учитывает не только то, насколько лекарство может продлить жизнь, но и качество жизни, которое оно обеспечивает. <...> Вычислив надежный показатель QALY, новую методику лечения и прежнюю можно будет сравнить по разнице в QALY, которую они предлагают, и разнице в их стоимости. Если показатель QALY уменьшается, то новая методика будет немедленно отклонена. Если показатель QALY увеличивается, а стоимость уменьшается, то для одобрения более эффективной и более дешевой новой процедуры не нужно большого ума. Однако если, как это чаще всего бывает, растут и показатель QALY, и стоимость лечения, NICE приходится делать нелегкий выбор».
В таких случаях вводится коэффициент эффективности дополнительных затрат — отношение роста QALY к росту затрат. В августе 2018 года он был высчитан и для препарата Spinraza — в его случае дополнительные расходы достигли таких астрономических сумм, что превысили установленный организацией порог; «Уравнение Бога» постулировало, что допустить использование Spinraza в Национальной системе здравоохранения невозможно.
К счастью, для конкретной семьи, рассказ о которой Йейтс приводит в качестве примера, все кончилось благополучно — она попала в программу помощи одной из корпораций. Однако сам факт существования уравнения, которое может обернуться (и оборачивается) смертным приговором для множества детей и при этом вполне легитимно используется, заставляет о многом подумать.
6. Люди склонны принимать математические выкладки на веру, и это очень плохо
В 1894 году французская сотрудница разведки под прикрытием нашла записку, автор которой предлагал немцам купить французские военные секреты. В результате разбирательства был арестован капитан Альфред Дрейфус. Эксперт-почерковед усомнился в его виновности, однако французские власти обратились к дилетанту в этой области Альфонсу Бертильону, который вынес свое решение: согласно ему, это именно Дрейфус, намеренно исказивший свой почерк, был автором записки.
«Дело Дрейфуса» вам, скорее всего, известно — оно вызвало широкий общественный резонанс и стало знаковым для всей Европы. Но обычно оно обсуждается в социально-политическом контексте, а Йейтс предлагает взглянуть на другой аспект этой истории. В качестве доказательства своего сомнительного вывода Бертильон представил пример настолько замысловатого, невнятного и запутанного математического анализа, что его попросту никто не понял, и с мнимым экспертом решили на всякий случай не спорить. Чтобы разбить аргументы Бертильона, потребовался целый Анри Пуанкаре, который разобрался в его заключениях и нашел их несостоятельными. Ход мысли обоих героев и вычисления, которыми они руководствовались, подробно разобран в книге и приводить здесь мы его не будем. Для нас куда важнее вывод, к которому приходит Йейтс по итогам этой истории:
«Дело Дрейфуса демонстрирует как силу математически подкрепленных аргументов, так и легкость, с которой ими можно злоупотреблять. <...> Люди склонны принимать математические формулировки на веру, с умным видом соглашаясь с ними и не требуя дальнейших объяснений из почтения к их мудрому автору. Флер тайны, окружающий многие математические выкладки, делает их порой загадочно непонятными и — зачастую незаслуженно — невероятно убедительными».
7. Хуже — только принимать на веру статистику
Книга Йейтса изобилует примерами некорректных расчетов, обернувшихся драматичными или трагическими последствиями просто из-за того, что обывательское отношение к вероятностям часто бывает совершенно оторвано от реальности, а игра словами вместо компетентных математических выкладок может иметь фатальные последствия. Одна такая история имела место в 1990 году, когда житель Манчестера Эндрю Дин был обвинен присяжными в изнасиловании трех женщин и приговорен к шестнадцати годам тюремного заключения.
«В ходе судебного разбирательства адвокат обвинения Говард Бентам представил результаты анализа ДНК из спермы, найденной на одной из жертв. Бентам утверждал, что ДНК из образца крови Дина совпадает с ДНК из образца спермы. Когда он спросил свидетеля-эксперта: „Значит, вероятность того, что это какой-то другой человек, а не Эндрю Дин, составляет один на три миллиона?”, тот ответил утвердительно. А потом добавил: „Я заключил, что сперма принадлежит Эндрю Дину”. Даже судья в своем заключении заявил, что соотношение одного к трем миллионам „выражает почти несомненный факт”».
По замечанию Йейтса, особенность этого случая в том, что для развенчания сомнительного вывода даже не нужно ничего пересчитывать или применять к имеющимся данным какие-то другие математические методы — достаточно просто взглянуть на них под другим углом. Ход рассуждений следующий: на тот момент в Великобритании насчитывалось около 30 миллионов мужчин. «Один на три миллиона» — это соотношение, которое эффектно звучит с точки зрения присяжных, но на деле это значит, что в Великобритании жило еще как минимум девять человек, анализ ДНК которых дал бы подобный результат. Причем «даже если ограничиться семью миллионами мужчин, живущих в пределах часа езды от центра Манчестера, мы все равно сможем ожидать, что по крайней мере еще один мужчина соответствует профилю, что делало шансы на виновность или невиновность Дина равновероятными: один к одному».
К тому же (правда, к математике это уже не особо относится) впоследствии выяснилось, что и анализы были проведены не совсем точно, и шанс совпадения сокращался на несколько порядков. По совокупности этих причин приговор Дину в итоге был отменен.
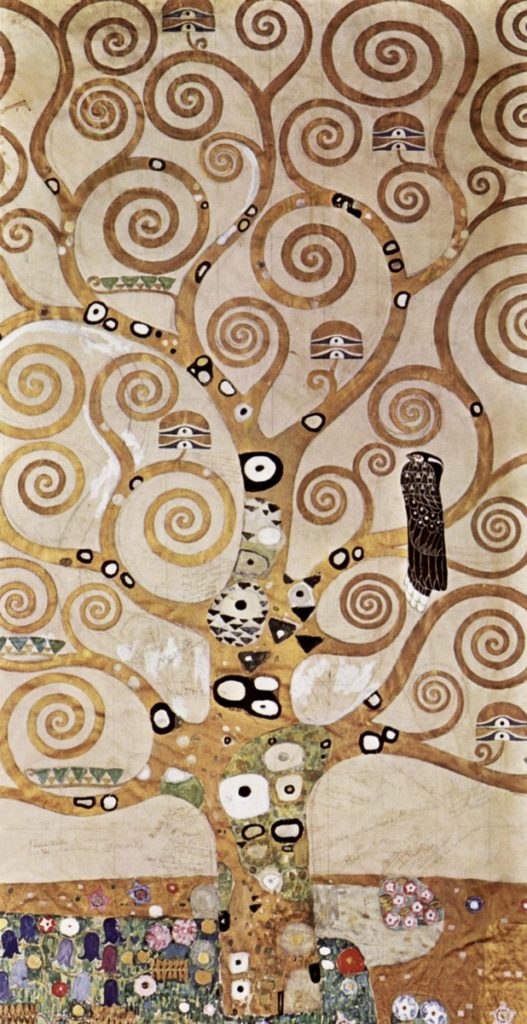
8. У людей в среднем меньше двух ног
Статистика — это один сплошной парадокс. Йейтс посмеивается над ней, отмечая, что при всей точности данных, которыми располагает статистика, она все равно оказывается ближе к искусству, чем к науке. Он иллюстрирует этот тезис, рассказывая про «экологическую ошибку» — так называется поверхностное допущение о том, что обо всей разнообразной популяции можно судить по одному статистическому параметру.
«Как ни удивительно, при средней продолжительности жизни в 78,8 года большинство британских мужчин проживет дольше, чем при общей продолжительности жизни населения 81 год. <...> Это связано со спецификой использования статистических методов для обобщения данных. Небольшое, но значимое количество людей, умирающих молодыми, снижает средний возраст смерти (обычно за общую продолжительность жизни принимают сумму возрастов всех людей на момент смерти каждого, деленную на общее число людей). Как ни странно, эти ранние смерти опускают среднее значение продолжительности жизни намного ниже медианного».
Звучит, возможно, сложновато для восприятия, но на этот случай у автора есть любимая иллюстрация — старая загадка, которая звучит следующим образом: «Каков шанс на то, что у следующего человека, которого вы встретите на улице, ног будет больше, чем в среднем у людей?» Ответ: «Почти наверняка». Обывательское представление заключается в том, что у следующего встречного будет две ноги — а это не «больше», а «как у всех». Но количество одноногих или безногих людей (которых на свете явно больше, чем трехногих) опускает среднее значение ниже двойки. Так что каждый счастливый обладатель двух ног имеет их больше, чем в среднем.
9. Возможно, перейти на двоичную систему было бы безопаснее для всех нас
Математика влияет на нашу жизнь не только в непосредственном отношении, когда речь заходит об области вычислений и законов, на которых основана наша повседневность, но и косвенно: например, в тех случаях, когда ошибки возникают не из-за сложности понимания, а из-за обычного фактического неудобства. Ну вот самый элементарный пример: десятичный разделитель трудно напечатать так, чтобы он оказался на своем месте, он постоянно куда-нибудь убегает и перемещается. Иногда это приводит к фатальным последствиям (если, например, речь идет о дозировке лекарств), а иногда просто к дурацким:
«Так, накануне всеобщих выборов 2010 года в Великобритании Консервативная партия опубликовала документ, привлекающий внимание к разрыву между богатыми и бедными районами Великобритании, образовавшемуся при действующем лейбористском правительстве. В документе утверждалось, что в самых бедных районах страны 54% девочек забеременели в возрасте до 18 лет (по сравнению с 19% в самых богатых районах)».
Леденящие душу показатели. К счастью, в документ попросту вкралась ошибка — в действительности цифры составляли лишь 5,4 и 1,9%. Выпад консерваторов обернулся против них самих: соперники тут же раскритиковали их за неспособность соотнести абстрактные цифры с реальным положением вещей в стране. Йейтс отмечает, что досадные опечатки могут показаться слишком незначительной темой, но указывает, что за ними стоит системная проблема: таковы особенности десятеричной системы счисления и записи. А, скажем, двоичная система, на которой основана вся наша современная компьютерная технология, конечно, посложнее с точки зрения использования в быту, но зато она исключает риски глупых ошибок такого рода.
10. Составленный алгоритмами призыв «насиловать всех» дорого обошелся их создателям
Отдельное внимание Йейтс уделяет разнообразным оптимизирующим алгоритмам: они могут приносить человечеству как вред, так и пользу, но есть среди них и такие, которые раздражают практически всех, — речь идет об алгоритмах, которые используют IT-гиганты и в соответствии с которыми, например, ленты соцсетей часто выглядят совсем не так, как нам хотелось бы. Видимо, для того, чтобы читатель мог ощутить себя хотя бы отчасти отмщенным, автор приводит несколько историй, в которых крупные компании сами становились жертвами работы алгоритмов.
Одна из таких историй связана с популярностью агитационного плаката «Keep calm and carry on», выпущенного в Великобритании в 1939 году и ставшего мемом в начале нулевых. Плакат стал полноценной частью массовой культуры и использовался и переосмыслялся где только можно. В 2010 году его взял в оборот онлайн-мерчандайзер Майкл Фаулер, который стал отпечатывать на футболках плакат с разными вариациями слогана, сконструированными по принципу «Keep calm» + «глагол» + «существительное». Для генерации подобных вариаций он написал специальную программу, которая подбирала слова и проверяла предложение на наличие синтаксических ошибок.
«На пике продаж <...> Фаулер продавал 400 футболок в день с фразами типа „Сохраняйте спокойствие и надирайте задницы” или „Сохраняйте спокойствие и много смейтесь”. Проблема заключалась в том, что он также автоматически выставил на продажу в крупнейшем в мире интернет-магазине несколько футболок с фразами типа „Сохраняйте спокойствие и пните ее” или „Сохраняйте спокойствие и насилуйте всех”».
Когда эти фразы привлекли внимание, разразился скандал: в фейсбуке на Фаулера обрушилась волна ненависти и угроз, и, несмотря на то, что он снял спорные футболки с продажи, эту волну было уже не остановить. Amazon отреагировал на происходящее не сразу, что только подлило масло в огонь: компании объявили бойкот (который в том числе поддержали некоторые представители британской элиты), и в результате она понесла убытки — вряд ли особо ощутимые, но символически весьма значимые.
|
Метки: наука |
Знаменитая нечитаемая книга Генри Торо |
Когда Генри Торо написал «Уолден, или Жизнь в лесу» (1854), ему исполнилось тридцать семь лет.

В основу своей книги Торо положил личный опыт. Он описывал в подробностях, как собственными руками построил в лесу, на берегу озера, небольшой дом, оборудовал его простой деревянной мебелью, сложил очаг, утеплил стены, вскопал огород, посадил бобовые и другие растения, нужные для жизни. Он даже приводит свои бухгалтерские счета. В ценах того времени на все у него ушло 28 долларов и 12 центов. Торо подробно описывает, как прожил в Уолдене два года, как счастливо он провел это время.
Уолденский отшельник утверждал: человеку не нужно много вещей, большинство из того, что нам сопутствует, — лишнее. Человеку не следует поспевать за модой, ему достаточно просто и практично одеваться. Потому что не одежда и не вещи главное в жизни. А что? Сама жизнь в гармонии с природой, умеренность и трудолюбие.
Вот что он писал.
«Богатство человека измеряется числом вещей, от которых ему легко отказаться».
«Добывай пропитание так, чтобы это было не тяжким трудом, а радостью».
«Я ушел в лес, потому что хотел жить разумно, иметь дело лишь с важнейшими факторами жизни и попробовать чему-то у нее научиться, чтобы не оказалось перед смертью, что я вовсе не жил. Я не хотел жить подделками вместо жизни — она слишком драгоценна для этого...»
«Людское общество обычно чересчур доступно. Мы встречаемся слишком часто, не успевая приобрести друг для друга новой ценности. Мы трижды в день сходимся за столом и угощаем друг друга каждый раз все тем же старым заплесневелым сыром — нашей собственной особой».
«Успех обычно приходит к тем, кто слишком занят, чтобы искать его».
«Богаче всего тот человек, чьи радости требуют меньше всего денег»...

Современники Торо приняли книгу прохладно. Роберт Луис Стивенсон назвал побег автора от общества трусостью. Поэт Джон Гринлиф Уиттьер скептически отнёсся к призыву автора «назад — к природе». Отметив, что книга представляет собой прекрасное чтиво, он назвал её весьма вредной и отдающей варварством.
Тем не менее в XX веке книга заняла место в ряду наиболее знаменитых произведений американской литературы, а её автор — в ряду американских классиков и культурных героев страны. В 1922 году Роберт Фрост написал, что в одной книге Торо превзошёл всё, что было в Америке. Автобиографический герой Роберта Пирсига из книги Дзен и Искусство ухода за мотоциклом возил с собой в своем путешествии томик «Уолдена»; он находил, что его «можно читать сотни раз без устали», однако всё же критиковал, говоря, что Торо «разговаривает с другой ситуацией, с другим временем, раскрывая только зло технологии, а не решение его».
В 1964 году книга сыграла значимую роль в Голливудской комедии «What a Way to Go!», как эталон простой жизни. В 2004 году Джон Апдайк высказал мнение, что протест, выраженный автором, настолько пылок, а сам Торо настолько близок к святому отшельнику, что книга рискует стать столь же почитаемой и столь же нечитаемой, как Библия.
|
|
Музыкальная перекличка на грабьнаграбленных инструментах |
Богданов-Бельский «Дети у пианино» (1918).

Чудесным образом перекликается с акварелью Владимирова (1922).

|
Метки: русская революция живопись |
А. Фадеев: Я пишу об этом не потому, что я русский, а потому, что это — правда |
Русских классиков можно безбоязненно давать читать детям: при всей жестокой правдивости в изображении темных сторон жизни, русские классики не скатываются к грубому натурализму, к физиологии, что характерно, к примеру, французскому реализму со времен Золя. Я пишу об этом не потому, что я русский, а потому, что это — правда.
Лучшим поэтом мира был Пушкин. Ни Шекспир, ни Гете, ни Байрон, как они ни велики, не достигали такой предельной искренности, простоты и многообразия чувств и мыслей.
А. Фадеев.
|
Метки: литература цитата |
9 слов в русском языке, которые сменили род |
Многие серьёзно переживают из-за того, что «кофе» в разговорной речи можно использовать как слово не только мужского, но и среднего рода. Даже несмотря на то, что так зафиксировано в словаре. Однако это далеко не единственный пример изменчивости грамматической категории рода в русском языке. Вот ещё девять.

1. Метро
«Hо метро сверкнул перилами дубовыми», — пел Леонид Утёсов в «Песне старого извозчика». А вот что писал Корней Иванович Чуковский в своём дневнике: «Но всё же метро будет построен». А ещё в СССР издавалась газета «Советский Метро».
«Метро» — это усечённый вариант существительного «метрополитен». Последнее — мужского рода, вот и сокращение какое-то время использовалось так же. Однако языковое чутьё подсказывало людям, что оканчивающееся на «о» слово должно быть среднего рода. Так и появился вариант, который в итоге победил. Парадокс: мы боремся за «вкусный кофе», но «глубокий метро» нас озадачивает или смешит.
2. Тень
В 1969 году участникам олимпиады по русскому языку задали задачу, которую составил известный лингвист Андрей Анатольевич Зализняк. Вот её условие: «Одно из слов — „дверь“, „горсть“, „тень“, „лошадь“, „постель“, „кровать“ — изменило в ходе истории свой род. Однако некоторые следы того, что оно было ранее другого рода, в русском языке сохранились. Найдите это слово».
Конечно, ответ очевиден: нужно лишь прочитать подзаголовок выше. Но как решается эта задача?
При образовании уменьшительных существительных род обычно сохраняется: «дверь — дверка», «горсть — горстка», «лошадь — лошадка», «постель — постелька», «кровать — кроватка». Но «тень — тенёк», а не «т'eнька». Когда-то это слово было мужского рода, а сейчас — женского, но «тенёк» хранит память о давних временах.
3. Ботинок
«Бархатные ленточки в косах, кружевная оборка около ног, ботинка парижская», — такую зарисовку находим в книге Гончарова «Фрегат „Паллада“». «Дошёл до того перла создания, который представляет собой современная изящная ботинка», — это уже цитата из «Писем к тётеньке» Салтыкова-Щедрина.
Слово «ботинок» первоначально употреблялось в форме женского рода — «ботинка», потому что такая категория у французского существительного bottine. Ещё в словаре Ушакова (1935–1940 годы) даётся вариант женского рода как редкий, но сейчас он используется только как шуточный.
4. Фильм
«Противоалкогольная фильма» — так называлась заметка, вышедшая в одном из выпусков газеты «Русское слово» в 1913 году. «В Нью-Йорке полным успехом пользуется новая фильма „Страшная ночь“», — писал журнал «Арт-экран» в 1923 году.
В прессе начала ХХ века очень много примеров использования этого слова в форме женского рода, а не привычного нам мужского. Английское film в России стало «фильмой» и какой-то период жило именно в таком виде. Однако со временем утратило «а» и превратилось в существительное мужского рода.
5. Зал
От «залы», которую мы встречаем в литературе и кино, веет духом аристократизма и балов. «Зала наполнялась дамами и мужчинами», — читаем у Пушкина в неоконченной повести «Светский человек». И долгое время в русском языке соседствовали формы женского и мужского рода, но последний победил.
Любопытно, что был ещё и третий вариант — среднего рода. «Сижу один в зало и хочу записать то, что за неимением… да нет, впрочем, даже по небрежности, не внёс в свой журнальчик», — так Бунин формулировал свои мысли в дневнике. «В зало входили, торопливо крестясь, бояре», — описывал сцену Алексей Толстой в романе «Пётр Первый». Уже тогда эта форма находилась за границами литературной нормы и считалась просторечной. Однако встречается она и до сих пор.
6. Госпиталь
«По возвращении его в Россию определён он был в санкт-петербургскую, а потом в московскую госпиталь лекционным», — находим у Новикова в «Опыте исторического словаря о российских писателях». «Пётр при реке Яузе повелел по собственному плану выстроить первую в России военную госпиталь (в том же году оная и была окончена)», — писал Пушкин в работе «История Петра. Подготовительные тексты».
Именно в Петровскую эпоху это слово к нам и пришло. Первоначально оно звучало как «гошпиталь» или «шпиталь» и долгое время употреблялось как существительное женского рода. Однако сейчас «госпиталь» — он, а не она.
7. Тополь
«Лишь хмель литовских берегов, немецкой тополью пленённый…» — и это цитата из Пушкина. Точнее, из его перевода стихотворения Адама Мицкевича.
Существительные, которые оканчиваются на «-оль», в русском языке бывают как мужского рода (например, «уголь» или «алкоголь»), так и женского («фасоль», «опухоль»). Логично, что какие-то слова проживали этап колебания: фонетический облик не мешал тому, чтобы поменять род. Такова была и судьба существительного «тополь».
8. Портфель
«Встретил его в той же меховой куртке, с портфелью», — читаем у Герцена. Такой же вариант находим и у Салтыкова-Щедрина: «…обращаясь к правителю канцелярии, стоящему поодаль с портфелью под мышкой».
И здесь можем сравнить с похожими существительными: «апрель», «отель» — мужского рода; «метель», «модель» — женского. Как и в случае с «тополь», сам внешний вид слова создаёт условия для колебания.
9. Рояль
«Катя стояла, склонясь над роялью с томиком Расина в руках», — писал Андрей Белый в своём первом романе «Серебряный голубь», опубликованном в 1909 году. «В гостиной за роялью сидела Татьяна», — находим в рассказе Чехова «У знакомых».
Когда-то это существительное использовалось как в мужском роде, так и в женском. И снова предпосылки для вариаций создала финальная часть «-ль». Даже сейчас многие ошибаются с названием музыкального инструмента — путают род. На всякий случай напомним: «рояль» — это он.
|
Метки: слова |
Последней жертвой испанской инквизиции был учитель |
Трибунал Священной Инквизиции был создан в сентябре 1480 года. За три с половиной столетия существования, согласно подсчётам историков, инквизиционным преследованиям в Испании и её колониях подверглось от 125 000 до 150 000 человек, из них казнено от 2 000 до 3 000 человек.
К началу XIX века инквизиция находилась на грани исчезновения. 4 декабря 1808 года Наполеон Бонапарт отменил трибуналы инквизиции, а спустя месяц приказал арестовать его активы. Затем, в феврале 1813 года, избранный парламент, заявивший о суверенитете Испании, проголосовал за признание инквизиции несовместимой с конституцией, принятой годом ранее.
В декабре 1813 года уход французов из Испании позволил Фердинанду VII вернуться на престол. Перед этим Фердинанд VII согласился править в соответствии с конституцией 1812 года. Однако 4 мая 1814 г. он объявил все акты парламента недействительными и в июле восстановил полномочия Верховного Трибунала. Когда в 1820 году вспыхнуло восстание, Фердинанд отменил инквизицию. Однако после этого епископы в различных епархиях учредили свою собственную хунту дефе (совет веры), чтобы возродить трибуналы инквизиции. По словам историка Генри Чарльза Ли, хунты на самом деле были более опасными, потому что они не находились под надзором и контролем Верховного совета.

Каэтано Риполь, школьный учитель из Валенсии, во время войны на полуострове служил в испанской армии, попал в плен и был отправлен во Францию. По словам известного испанского историка и католического традиционалиста Марселино Менендеса Пелайо, там он «слушал плохие разговоры и читал худшие книги, от которых он потерял веру».
Риполь стал деистом, который верит, что вселенную сотворило Верховное существо, которое, однако, не вмешивается в законы природы. Деисты также отвергают любые книги, которые содержат божественное откровение, такие как Библия. К сожалению, в Валенсии, куда вернулся Риполь, орудовали два ярых сторонников инквизиции — архиепископ Симон Лопес и бывший инквизитор Мигель Торанцо. Лопес санкционировал Совет веры в Валенсии в 1824 году, назначив Торанцо президентом. Риполь быстро стал мишенью для инквизиции.
Нашлись 13 доносчиков, которые сообщили о деистических прегрешениях Риполя: учитель не верит в Иисуса Христа, в тайну Троицы, в Воплощение Сына Божьего, в пресуществление Святых Даров и в непогрешимость Святой Католической, Апостольской, Римской Церкви. Свидетели также утверждали, что Риполь отказывался водить своих учеников на мессу, не позволял им креститься и требовал, чтобы они при входе в школу говорили «Слава Богу» вместо традиционного воззвания к Деве Марии.
29 сентября 1824 года Торанцо приказал арестовать Риполя и конфисковать его имущество. Риполь провел два года в тюрьме, в течение которых несколько священнослужителей пытались убедить его отказаться от своих убеждений и вернуться в лоно Церкви. Все эти попытки потерпели неудачу. Когда в тюрьме ему дали понять, что его недоверчивость, возможно, будет наказана эшафотом, он пожал плечами с величайшим равнодушием и ответил с невозмутимым спокойствием: «Воля Божья будет исполнена».
30 марта 1826 года Совет веры приговорил Риполя к сожжению на костре «как формального и упрямого еретика».
Поскольку церковным трибуналам не разрешалось приводить в исполнение смертные приговоры, Совет веры 3 июня передал дело в королевский уголовный суд Валенсии, который подтвердил смертный приговор, видоизменив его: учителя-еретика приказано было повесить, но его «сожжение может быть представлено в виде нескольких бочек, разрисованных языками пламени, которые могут быть помещены руками палача под виселицу».
Риполь был повешен 26 июля 1826 года. Ему было 48 лет.
Большинство источников сообщают, что последними словами Риполя были: «Я умер, примирившись с Богом и людьми». Затем он повернулся к палачу и спокойно сказал: «Исполняй свой долг». Впрочем, католические историки пишут о его «сатанинской гордости».
Тело Риполя поместили в «горящую» бочку и бросили в реку. Впоследствии останки его выловили из воды и закопали тут же, на берегу, на неосвященной земле.
Архиепископ Лопес остался доволен усилиями Совета веры. 6 августа он поздравил Торанцо с успешным завершением дела, добавив, что это «послужит предупреждением для одних и повысит преданность других». Однако король Фердинанд VII уведомил суд Валенсии о том, что хунты не имеют официального статуса. Хотя трибуналы продолжали действовать в тени, казнь Риполя стала последним преступлением испанской инквизиции.
15 июля 1834 года вдовствующая королева Мария Кристина объявила инквизицию «окончательно упразднённой».
Мои книги на Литрес
https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/
Звякнуть копеечкой в знак одобрения и поддержки можно через
Сбербанк 4274 3200 2087 4403
ЮMoney (Яндекс) 41001947922532
PayPal s.tsvetkov.history@gmail.com
У этой книги нет недовольных читателей. С удовольствием подпишу Вам экземпляр!
Последняя война Российской империи(описание и заказ)
|
Метки: христианство религия |
Творение |
Шесть дней не покладая рук
Трудился Плотник. На заре
Вставал и под весёлый стук
Он что-то строил во дворе.
Он сваи вбил, срубил помост
И чёрным бархатом покрыл.
Своей рукой он сонмы звёзд
На бархате изобразил.
Все получалось у него.
Соседи в голос, как один,
Превозносили мастерство
И опытность его седин.
… Но вот закончил. Вытер пот.
И Сын взошёл на эшафот.
Из моего поэтического сборника «Жизнь со смертью визави».
|
Метки: стихи |
Два вечных вопроса русского читателя автору |
1. Если ты такой умный, чё такой бедный?
2. Где в Сети скачать вашу книгу бесплатно?
Бесплатно не подскажу, а со скидкой — по ссылке
|
Метки: мои книги |
Опричнина — земля праведных |
С именем Ивана Грозного неразрывно связана политика опричнины. Явление это уникально и не имеет прямых аналогий в истории других стран. Не удивительно, что историки до сих пор не пришли к единому мнению о том, что же такое опричнина и зачем она понадобилась грозному царю.
Я предложу один из возможных ответов на эти вопросы: опричнина была ничем иным, как последней государственной попыткой претворить в жизнь идеал Святой Руси — разумеется, в том виде, в каком его понимал грозный царь Иван Васильевич.
В массовом сознании россиян опричный террор стоит едва ли не в одном ряду со сталинскими репрессиями. Бытует мнение, что Грозный залил кровью чуть ли не всю Россию. Мы с вами попробуем подсчитать, во что обошлась России опричнина и можно ли поставить грозного царя в один ряд с величайшими злодеями мировой истории.
Вы также познакомитесь с сохранившимися биографиями опричников. Подписывайтесь на канал!
Мои книги на Литрес
https://www.litres.ru/sergey-cvetkov/
Звякнуть копеечкой в знак одобрения и поддержки можно через
Сбербанк 4274 3200 2087 4403
ЮMoney(Яндекс) 41001947922532
Спасибо всем тем, кто уже оказал поддержку! Приятного просмотра!
|
Метки: видео Московская Русь Иван Грозный |
Вольтер о христианстве |
Итоги своего многолетнего исследования истории христианства, его возникновения и развития Вольтер изложил в нескольких статьях и памфлетах, в том числе:
«Истории возникновения христианства»;
«Вопросах о чудесах» и
«Инструкции настоятеля монастыря капуцинов в Рагузе монаху Педикюлозо, отправляющемуся в обетованную землю».
Некоторые из этих размышлений представляют особый интерес.
1. Господь заключил Завет с Авраамом, по которому Он отдавал ему всю землю от Нила до Евфрата. Почему этот договор не выполнен?
2. Откуда пришла кавалерия, которую Фараон послал на Красное море для преследования евреев – ведь все животные погибли на шестой и седьмой день от язв, которые наслал на скот Господь?
3. В Библии сказано: «Если заведется пророк, который скажет, что надо идти к другим богам, то убейте его немедленно. Если ваш брат, сын, дочь, жена или друг скажет Вам: пойдем, поклонимся чужестранным богам, то немедленно убейте этого человека». Но Отцы церкви не заметили, что это является прямым обвинением против Иисуса Христа: религия, установленная его приверженцами, разрушила иудейскую религию, следовательно, Иисус заслужил, чтобы его убили собственные отец и мать.
4. Маловеры утверждают, что недостойно Бога если бы он создал религию (иудейскую) для того, чтобы ввести новую (христианскую), а если она лучше первой, то опять-таки недостойно Бога укреплять свою вторую религию мелкими чудесами, после того как Он основал первую на величайших знамениях. Исцеление бесноватых, превращение воды в вино (в христианской религии) – это совсем не то, что казни египетские или Чермное море (ныне Красное), которое расступилось и застыло на месте, или же остановившееся солнце (в иудейской религии).
5. Все Евангелия начинены абсурдными чудесами и были написаны втайне, много лет спустя после событий, христианами, расселенными по греческим городам. Эти книги (Евангелия) были совершенно неизвестны в течение двух веков язычникам, не могли быть опровергнуты римскими историками, не имевшими ни малейшего представления об их существовании. Не было случая, чтобы языческий автор цитировал хоть одно слово из Евангелий.
В течение двух веков римляне ничего не знали о христианской религии и о Евангелиях. Они имели смутное представление о том, что существует какая-то иудейская секта, которую называют галилейской или христианской, или сектой бедных. Имена Иакова, Авраама, Ноя, Адама, Евы так же оставались неизвестны как римскому Сенату, так и греческим писателям вплоть до 300 г. н. э.
6. На Никейском соборе (в 325 г.), на котором были выработаны символы христианской веры, председательствовал император Константин, который принял христианство перед самой смертью. На этом соборе были выбраны истинные Евангелия из 50 существующих к тому времени: «Положили все Евангелия на престол, затем призвали духа святого: апокрифы тут же попадали на пол, а истинные Евангелия остались».
7. В Евангелии от Матфея Мария и Иосиф увели свое дитя (Иисуса) в Египет, а в Евангелии от Луки святая семья осталась в Вифлееме.
8. В Евангелии от Матфея род Иисуса выводится от Давида и Авраама через 41 колено, а в Евангелии от Луки – через 56 колен.
9. В Евангелии от Матфея тысячи Вифлеемских младенцев были зарезаны по приказу царя Ирода, т. к. волхвы сказали ему, что родится Мессия. Вольтер считает это «смехотворным и ужасным». Ироду было 70 лет, он находился на смертном одре и будто бы испугался младенца, который родился в деревянном стойле. «Почему ни Марк, ни Лука, ни Иоанн, и вообще никто более не приводит этой басни».
10. В Евангелии от Матфея Иисус после воскрешения явился ученикам дважды, в Евангелии от Марка – трижды, в Евангелии от Иоанна – четырежды.
11. В Евангелии от Луки Иисус вознесся на небо в Вифании, в Евангелии от Иоанна – в Иерусалиме.
12. Когда Христос вошел в храм, Он изгнал торговцев («которые законным образом находились там, чтобы продавать животных, приносимых в жертву храму»), т. е. нарушил общественный порядок. Кроме этого, Иисус опрокинул столы меновщиков, швырнул их деньги на землю. Невероятно, «чтобы столько людей позволили себя избивать и изгонять одному человеку». Однако, справедливо, что за это Иисус подвергся судебному преследованию, но все же это не было основанием для казни.
13. Как могли иудеи распять Христа, которого сам Бог при крещении Иисуса торжественно объявил своим сыном в их присутствии?
14. Во время распятия Христа, согласно Евангелиям, мрак покрыл всю землю, камни раскалывались, гробы отверзлись, мертвецы выходили оттуда и прогуливались по Иерусалиму. Но, ни один свидетель, ни один писатель, в том числе и Флавий, об этом не пишут. Если бы это произошло, то об этом писали бы все историки от Китая до Греции и Рима.
Более того, в Евангелии от Матфея смерть Иисуса произошла во время полнолуния. Но невозможно, чтобы солнечное затмение (мрак) происходило во время полнолуния. Астрономы Кеплер и Галилей доказали, что солнечного затмения в эти ночи не было.
15. Как понимали христианские проповеди народы, не знавшие иудейского языка?
16. Первые христианские богословы не приводили ни одного текста из четырех канонических Евангелий (от Матфея, от Луки, от Марка и от Иоанна), они цитировали другие Евангелия, считающиеся ныне апокрифическими. Это доказывает, что апокрифические Евангелия были написаны раньше канонических.
Таким образом, Вольтер считал церковное учение ложным. Он отвергал все существовавшие религии, с какими бы то ни было персонифицированными богами (Христом, Аллахом или Буддой).
Главной мишенью сатиры Вольтера были христианство и Католическая церковь, которую он считал врагом прогресса.
Несмотря на это, Вольтер не был атеистом и верил в идею «верховного разума», будучи сторонником «деизма», которого придерживались многие просвещенные умы его времени.
Говсиевич Е.Р. Философоведение (краткий курс). 2011
|
Метки: христианство |
Одно из ранних изображений Рождества |
Волхвы приносят дары.
Катакомбы Святой Присциллы в Риме, Италия

|
Метки: христианство |
Просто факт |
Россия остаётся страной, в которой власть ни разу в истории не сменилась на выборах.
|
Метки: Россия |
Гагарин после встречи с космосом |
Это фотография Юрия Гагарина через несколько часов после приземления. Здесь нет его знаменитой «гагаринской» улыбки. Есть человек, который наконец осознал, что произошло и каким чудом он остался жив.

|
Метки: историческая фотография |
Русь, ruotsi, roths — что общего? |
Будет опубликовано 24 декабря в 10:05
Все попытки отыскать скандинавские корни «руси», опираясь на летописный текст, обречены на неудачу. Мы видели невозможность этнической идентификации «руси» посредством термина «варяги»*. По-сути, единственное четкое этническое определение «руси» содержит выражение: «а словенеск язык и рускыи один…». Таково мнение на этот счет «первого русского норманниста».
* Помимо прочего «историческая ономастика безусловно свидетельствует о том, что русь — более древнее слово, чем варяги…» [Петрухин В. Я. Начало этнокультурной истории Руси IX—XI веков. Смоленск, М., 1995. С. 78]. Научные последствия одного только этого наблюдения четко сформулированы еще Д. И. Иловайским: «Как только отделим Русь от варягов, то вся система норманистов превращается в прах» [Иловайский Д.И. Вторая дополнительная полемика по вопросам варяго-русскому и болгаро-гуннскому. М., 1902].
Вместе с тем эта «русь» — явно чужеродный элемент в восточнославянской среде. Летописец никогда не смешивает ее с восточнославянскими племенами. В самом своем словообразовании термин «русь» обнаруживает сходство с некоторыми другими неславянскими этнонимами — сумь, пермь, чудь и т. п.
В связи с этим не прекращаются покушения привить «русский» росток к скалистым уступам скандинавских фьордов. Ведь, как говаривал Ключевский, в историческом вопросе чем меньше данных, тем разнообразнее возможные решения и тем легче они даются.
В XIX в. одна за другой были высказаны и отброшены как несостоятельные несколько гипотез: происхождение термина «русь» от исторических областей и населенных пунктов — Рослаген, Рустринген и др. Последнее и наиболее весомое слово норманизма по этой проблеме было сказано в 1982 г., в коллективном труде ученых СССР, ГДР, Польши, Дании, Швеции и Финляндии.
От лица советских историков там было заявлено следующее: «Советские лингвисты за последние двадцать лет детально исследовали происхождение этого северного названия… Выводы их едины: название „русь“ возникло в Новгородской земле. Оно зафиксировано здесь богатой топонимикой, отсутствующей на юге: Руса, Порусье, Околорусье в южном Приильменье, Руса на Волхове, Русыня на Луге, Русська на Воложьбе в Приладожье. Эти названия очерчивают первичную территорию „племенного княжения“ словен, дословно подтверждая летописное: „прозвася Руская земля, новогородьци“. По содержанию и форме в языковом отношении „русь“ — название, возникшее в зоне интенсивных контактов славян с носителями „иних языцей“ как результат славяно-финско-скандинавских языковых взаимодействий…
Первичное значение термина, по-видимому, „войско, дружина“, возможна детализация — „команда боевого корабля, гребцы“ или „пешее войско, ополчение“. В этом спектре значений летописному „русь“ ближе всего финское ruotsi и древнеисландское roths, руническое ruth. Бытовавшее на Балтике у разных народов для обозначения „рати, войска“, на Руси это название уже в IX в. жило совершенно самостоятельной жизнью… На ранних этапах образования Древнерусского государства „русь“ стала обозначением раннефеодального восточнославянского „рыцарства“, защищавшего „Русскую землю“… В XI в. „русин“, полноправный член этого слоя, по „Русской Правде“ Ярослава Мудрого, — это „гридин, любо коупчина, любо ябетник, любо мечник“, то есть представитель дружины, купечества, боярско-княжеской администрации…
До определенного времени употребление слова „русь“ в социальном, а не этническом значении не вызывало сомнений. Последние следы этой надплеменной природы военно-дружинной „руси“ зафиксированы в начале XI в. „Русской Правдой“ Ярослава.
…Название этого по происхождению и составу своему прежде всего славянского общественного слоя родилось на славяно-финской языковой почве, но в развитии своем полностью подчинено закономерностям развития восточнославянского общества и Древнерусского государства. В силу этих закономерностей происходило и перерастание уже в IX–X вв. социального значения в этническое: „русь“ становится самоназванием не только для новгородских словен и киевских полян, „прозвавшихся русью“, но и для варяжских послов „хакана росов“, а затем посланцев Олега и Игоря, гордо заявлявшим грекам: „Мы от рода русского“.
Таковы результаты историко-лингвистического анализа проблемы происхождения названия „русь“» [Кирпичников А. Н., Дубов И. В., Лебедев Г. С. Русь и варяги: Русско-скандинавские отношения домонгольского времени//Славяне и скандинавы. М., 1986. С. 202—205].
Вот уж поистине удивительное «исследование»! Не знаю, что именно исследовали целых двадцать лет уважаемые авторы, но совершенно очевидно, что за это время в головах у них все перемешалось. Иначе как могло получиться, что, начав с утверждения об исключительно социальном происхождении термина «русь» и его употреблении в этом значении «до определенного времени», они заключили свое «исследование» выводом о его этническом содержании уже для IX в.? А если все же «закономерность» развития термина «русь» пролегала в направлении от социального значения к этническому, то как совместить это с тем, что «русины» Ярославовой Правды являются нам все еще дружинниками, купцами и членами княжеской администрации? Я уже не говорю о том, что обозначение гребца и пешего воина одним термином — это явно из языка народов Зазеркалья.
Двадцатилетнее «детальное исследование» происхождения «руси», видимо, не оставило авторам времени подумать о некоторых очень простых вещах. В самом деле, какие, оказывается, хитрецы эти шведы! Чтобы ввести позднейших историков в заблуждение, они самым коварным образом именуют себя «гребцами» (roths, «ротс») на востоке, в Новгороде и Киеве (чему, впрочем, нет решительно никаких доказательств), между тем как в Западной Европе рекомендуются совсем не гребцами, а шведами и норвежцами. Но и наши славяне тоже хороши. Как только призвали к себе гребцов, так сразу и сами себя гребцами прозвали (видимо, понравилось очень слово), а бывших гребцов стали называть — назло, что ли? — шведами. Тут у бедных финнов голова кругом пошла: и нарекли они славян, ставших гребцами («ротсами»-«русами»-«русскими») — почему-то «венайя», а шведских гребцов, решивших все же впредь быть не гребцами-«ротсами», а просто шведами, — «руотси». Как тут не согласиться с нашими авторами, что на Руси название скандинавских гребцов действительно «жило совершенно самостоятельной жизнью»?
Вообще эта ссылка на извечное русское своеобразие весьма знаменательна. Без нее вся концепция — плод двадцатилетних трудов — просто рушится, ибо кто же, находясь в здравом уме, поверит в «закономерность» перерастания социального значения термина «русь» в этническое? Закономерность, как известно, — это некая, объективно установленная, постоянно возникающая при определенных условиях связь явлений. Стало быть, нашим отечественным норманнистам известен закон перерастания социального значения каких-либо слов, терминов в этническое? Но филологические наблюдения говорят прямо об обратном. Так, у эстонцев «сакс» (саксонец) означает «господин», у финнов — «купец»; в древнефранцузском языке прилагательное «norois», образованное от слова «норман», значило «гордо, надменно». У полабских древан слово «nemtjinka» («немка») означало госпожу высокого рода, а «nemes» («немец») — молодого господина [Шафарик П.-Й. Славянские древности. 2-е изд. В2-х тт. М., 1848. I, 93, II, 239]. Можем ли мы вывести отсюда закономерность, что когда-то давным-давно саксонцы называли себя в Прибалтике купцами, норманы во Франции — надменными людьми, а немцы в Полабье — молодыми господами? Впрочем, это просто смешно, не более. А в случае с «гребцами» — только вдумайтесь! — речь ведется об усвоении восточными славянами иноземного социального термина в качестве собственного этнического самоназвания! Это все равно, как если бы, скажем, жители завоеванных Людовиком XIV Испанских Нидерландов (Франш-Конте) приняли имя мушкетеров, а свою страну назвали Мушкетерландом.
Виданное ли дело, чтобы страны назывались именем какой-либо социальной группы?! Славянская Болгария заимствовала свое имя от тюркских булгар; галло-романская Галлия стала Францией по имени германского племени франков; французская Нормандия — по местному племенному прозвищу скандинавов; иберо-романская Андалузия получила название от вандалов. Так, может быть, все-таки и Русь не пошла своей, непроторенной дорогой, а, подобно всем прочим странам, прозвалась по племенному имени населивших ее пришельцев — русов? Правда, признав, что у славян все было, как у остальных людей, надо будет навсегда забыть о норманнизме…
Кроме того, встав на точку зрения норманистов, мы должны довести себя до последней степени умопомрачения и признать за истину, что послы Олега и Игоря, гордо заявлявшие грекам: «Мы от рода русского», оказывается имели ввиду: «Мы из рода гребцов», — ведь не могли же сами скандинавские дружинники запутаться в том, какой смысл имеет их собственный термин «ротс» — этнический или социальный. А, может быть, они все-таки имели в виду: «мы из рода пеших воинов, ополченцев»? Или: «мы из рода дружинников»? Поди пойми их, если ты норманнист… Наконец, если шведские «ротсы» водворились у новгородцев и киевлян собственными персонами, то почему славяне должны были заимствовать их прозвище от финнов? Ведь Нестор прямо пишет, что славяне называют шведов — шведами, «свеями», и нет никаких оснований считать, что когда-либо прежде они именовали их «ротсами» и «русами».
Такова стократ своеобразная жизнь скандинавского «rops» на Руси, ссылка на которую на самом деле — всего лишь неловкое прикрытие очевидного абсурда, выдаваемого за результаты неусыпной исследовательской работы.
Еще одна мифологема, узаконенная все тем же «исследованием», — тезис о том, что перелицованный из «ротс-руотси» термин «русь» возник в Новгородской земле и быстро сделался самоназванием новгородских словен («прозвашася русью»). Но в том-то и дело, что, несмотря на все уверения норманнистов о существовании в Приильменье и Приладожье первоначальной «Русской земли», таковой в действительности там никогда не было. О том, насколько далеко она простиралась на север от Киева, дает представление следующий эпизод. Когда великий князь Рюрик Ростилавич слишком зажился в городе Овруче, лежащем на притоке Припяти, речке Уже, неподалеку от Киева, другой князь направил к нему послов сказать: «Зачем ты покинул свою землю (то есть Киевскую область. — С. Ц.)? Ступай в Русь и стереги ее». Современные наблюдения над летописным использованием термина «Русская земля», говорят о том, что «в состав Русской земли не входили Новгород Великий с относящимися к нему городами, княжества Полоцкое, Смоленское, Суздальское (Владимирское), Рязанское, Муромское, Галицкое, Владимиро-Волынское, Овруч, Неринск, Берладь» [ Кучкин В. А. «Русская земля» по летописным данным XI — первой трети XIII в. // Древнейшие государства Восточной Европы. Материалы и исследования. 1992-1993. М., 1995. С. 90, 95—96]. И лучшее тому доказательство — многочисленные свидетельства самих новгородцев (новгородские источники XI—XV вв.), которые, во-первых, всегда называли себя новгородцами, а не русью, а, во-вторых, не забывали при случае противопоставить свою «Новгородскую/Словенскую землю» — «Русской земле». В одной берестяной грамоте (№ 105, 60—90-е гг. XII в.) новгородец пишет в свой город из «Руси». А вот образец этнического самосознания новгородца еще и в 1469 г.: «…князь великий Владимир крестися и вся земли наши крести: Руськую, и нашу Словеньскую, и Мерьскую…» Стало быть, «прозвашася русью» только киевляне-поляне, которые, однако, не соседили с финноязычными племенами и, следовательно, ведать не ведали ни о каком «руотси». Или же норманистам надо возвестить миру еще одни абсурд — будто бы шведы, появившиеся на берегах Днепра, ранее усвоили себе в качестве племенного самоназвания финский этноним «руотси», то есть искаженный в финноязычной среде их собственный социальный термин «ротс».
И потом, так ли уж крепко связана с финским «руотси» упомянутая «русская» топонимика Новгородской земли? Ведь и поныне существуют города Русе и Рущук на болгарском Дунае, река Рус в Нижней Австрии, город Русовце в Чехии, Равва Русска и Руске Ушице в Трансильвании, Рус-Молдвица в Восточной Буковине, речка Русова впадает в Днестр около Ямполя; Константин Багрянородный упоминает на славянских Балканах X в. города Раусий, Росса, Русиан; в Восточнофранкском государстве IX в. источники отмечают целую «русскую» область — Русамарку. Список можно продолжать и продолжать, но я закончу л`Иль-Русом на Корсике. Кажется, нет надобности уточнять, имелось ли в этих регионах «славяно-финско-скандинавское языковое взаимодействие».
Это пресловутое «руотси» вообще оказывает какое-то гипнотическое воздействие на норманистов, под влиянием которого сам ход их мысли порой принимает довольно странное направление. Послушаем, что пишет, например, один уважаемый ученый: «…сколько-нибудь убедительной финно-угорской этимологии слова ruotsi лингвисты предложить так и не смогли. Настораживает и то, что в собственно финно-угорской языковой среде этот термин использовался для наименования представителей различных этносов: шведов, норвежцев, русских и, наконец, самих финнов…». Отметив далее «нерешенность проблемы происхождения интересующего нас этнонима», он заканчивает свои размышления следующим пассажем: «Тем не менее многие исследователи (чаще всего те, для кого лингвистика не является основным занятием, а вопрос о происхождении слова русь имеет не только сугубо научное значение) продолжают искать собственно славянские корни загадочного имени» [Данилевский И. Н. Древняя Русь глазами современников и потомков (IX—XII вв.). Курс лекций. М., 1999. С. 53—54]. Понять логику автора, как мне кажется, можно только так: в то время как сами мы (норманисты) «убедительной финно-угорской этимологии» предложить не можем, находятся наглецы, псевдолингвисты и неучи, которые продолжают искать славянские корни имени «русь». Или еще короче: мы уже ничего не можем, а они, невзирая на то, продолжают — когда-нибудь, полагаю, войдет в русскую историографию как «последняя жалоба норманиста».
Кстати, по поводу этимологии слова «руотси» и его связи с «гребцами» нелишне будет выслушать мнение ученого XIX в. Паррота, специалиста по финским и балтским языкам: «Оно (слово „руотси“ — С. Ц.) означает вообще хребет, ребро… Перенесение этого понятия на береговые утесы или скалы, коими преимущественно изобилует Швеция, делает понятным, почему финны называют Швецию Руотсмаа, а эсты Руотсима, страною скал» [цит. по: Гедеонов С. А. Отрывки из исследований о варяжском вопросе. Записки Императорской Академии Наук: Приложение. Т. I—III. СПб., 1862, N3; 1863, N4.].
Окончание статьи читайте в моём проекте Русское тысячелетие Х—XX.
Данный материал доступен без оформления подписки.
Подписка открывает доступ к архиву. Оформив годовую подписку, вы получаете скидку 20%, есть и другие интересные предложения.
Цикл Русское тысячелетие Х—ХХ обновляется не реже двух раз в неделю, материалы выкладываются в виде подкаста и иллюстрированной текстовой расшифровки.
Подписывайтесь, читайте/слушайте, комментируйте!
Мои книги на Литрес
|
Метки: норманнский вопрос Русское тысячелетие |
«Грабь награбленное» |
Инвентаризация ценностей, принадлежащих князю Юсупову. 1925 год.

Самое ценное в Гохран, остальное на продажу за валюту.
|
Метки: историческая фотография большевизм |
"Переведите меня в 8-й класс..." Письмо не мальчика, но мужа |
Письмо от 16 августа 1911 года ученика седьмого класса Великоустюжской мужской гимназии директору и педагогическому коллективу.
«Ваше Превосходительство и Вы, господа учителя. Пусть я один и только один виноват, что у меня в году по математике были двойки. Пусть в году я был лентяй. Но неужели Вам показалось слабым то наказание, которое я перенес за свою лень! Я не был летом дома, я принужден был заниматься. Что я занимался, об этом говорит тройка по алгебре. Я думал, что мне окажут снисхождение, что меня переведут в 8-ой класс, где я, взяв репетитора, как человек, не лишенный способностей, не только догоню, но даже перегоню по математике товарищей. Я думал так, но судьба мне готовила иное. Я остался. Второй год я сидеть не могу. Я боюсь остаться, я боюсь, что я не выдержу и буду принужден в третью, а быть может, даже и во вторую четверть покинуть гимназию. Второй выход для меня, это опять сделаться экстерном. Но судьбу экстерна смело можно сравнить с судьбой моряка, который после крушения, в маленькой шлюпке, с отчаянием старается победить разбушевавшуюся стихию. Я был более двух лет экстерном. Я боролся. Я близок был уже к отчаянию, когда судьба, казалось, улыбнулась мне, и я поступил к Вам в гимназию. Господи! Но неужели эта улыбка судьбы была ироническая улыбка... Неужели я был на миг счастлив лишь для того, чтобы теперь почувствовать сильней горе. Я не буду говорить о своей жизни, для характеристики которой приведу стихотворение, написанное, когда мне было всего лишь шестнадцать лет. (Автор письма дважды второгодник — С.Ц.)
Эти строчки пишу со слезами в глазах,
И душа так болит, так болит!
Закружиться, погибнуть в житейских волнах —
Мысль настойчиво мне говорит.
Все равно! Ведь тебе уж счастливым не быть.
Ну, судьба, добивай же скорей,
И на свете теперь не хочу больше жить.
Можешь жертву считать ты своей.
С ранних лет никогда ласки я не видал,
Не слыхал никогда утешенья,
И, безмолвно страдая, чего-то я ждал,
Отгоняя минуты сомнения.
И, о Боже, однажды, единственный раз
Меня милыя ручки ласкали.
О, минуты святыя, забыть ли мне вас,
В первый раз вы ведь счастье мне дали.
И я думал, глупец, что конец уж настал,
Что прошла пора слез и страданий.
О, безумец, зачем ты о счастьи мечтал,
Когда создан лишь ты для страданий!..
Ваше Превосходительство и Вы, господа учителя! Если не для меня, то хотя для моих бедных стариков-родителей пожалейте и на каких угодно условиях переведите в 8-ой. Неужели закон Вас будет преследовать за то, что Вы сделали пусть даже несправедливое, но доброе дело».
Цит. по: С. А. Красавцева Из истории Великоустюгской мужской гимназии. Великий Устюг: Краеведческий альманах. Вып. 2. — Вологда: “Легия”, 2000. 384 с.
В нашей школе такое письмо не всякий отличник накатает.
|
Метки: Российская империя это интересно |
Варяги — кто они? |
Вопрос о происхождении термина «варанг/варяг» основательно запутан. К числу наиболее распространенных относятся два заблуждения: что этот термин возник в древней Руси и что он обозначал преимущественно скандинавов. Между тем то и другое неверно.
На Руси слово «варяг» вошло в повседневный обиход не раньше второй половины XI в., то есть позднее, чем в Византии и даже на арабском Востоке. Более того, анализ источников показывает, что первое в средневековой литературе упоминание народа «варанков» и «моря Варанк» («Варяжского моря») принадлежит арабоязычному автору — среднеазиатскому ученому аль-Бируни («Канон об астрономии и звездах», 1030 г.), который почерпнул свои сведения из Византии.
В свою очередь, скандинавские саги недвусмысленно отрицают тождество «варягов» и викингов. Древнерусский термин «варяг» был известен в Скандинавии в форме «вэринг» (vaering). Но слово это пришло в скандинавские языки извне. И более того, вэринги в сагах в большинстве случаев отличаются от норманнов-викингов.
На Руси термин «варанг/варяг», прежде чем приобрести расширительное значение «выходец из заморья», прилагался преимущественно к жителям славянского Поморья. Так, во вводной части «Повести временных лет» варяги «приседят» к морю Варяжскому, в соседстве с ляхами, пруссами и чудью — населением южного берега Балтики. В Никоновской летописи «варяжская русь» Рюрика приходит «из немец». В договоре 1189 г. Новгорода с Готским берегом этими же «немцами» предстают варяги — жители ганзейских городов Балтийского Поморья, то есть бывших славянских земель, колонизованных в XI–XII вв. германскими феодалами. Наконец, Ипатьевская летопись (Ермолаевский список) прямо сообщает в статье под 1305 г., что «Поморие Варязское» находится за «Кгданьском» (польским Гданьском, немецким Данцигом), то есть опять же в бывшем славянском Поморье.
Арабские писатели в своих известиях о народе «варанков» практически слово в слово повторяют русских летописцев. По их представлениям, народ «варанков» жил на южном побережье Балтийского моря, в его славянском регионе. Наконец, византийский хронист Никифор Вриенний во второй четверти XII в. записал, что варанги-«щитоносцы» происходили «из варварской страны вблизи Океана и отличались издревле верностью византийским императорам». Оборот «вблизи Океана» подразумевает именно южный, а не скандинавский берег Балтики.
Однако, несмотря на то, что термин «варанг/варяг» наделялся определенным этническим содержанием, славянского племени с таким названием никогда не существовало. Между тем слово «варяг» бытовало прежде всего в славянской среде Балтийского Поморья и, более того, обладало неким символическим смыслом. В одном месте у Саксона Грамматика можно прочитать о славянском князе Варизине (Warisin, то есть Варязин, Варяг), побежденном датским конунгом Омундом в Ютландии вместе с шестью другими славянскими князьями. Употребление слова «варяг» как имени собственного убедительно свидетельствует о его священном значении у славян.
Прояснить это значение помогает одна филологическая находка графа И. Потоцкого, который в 1795 г. опубликовал в Гамбурге словарь еще сохранявшегося в XVIII в. древанского наречия (древане — славянское племя, на чьей земле возник Гамбург). В нем среди уцелевших древанских слов оказалось слово «варанг» (warang) — «меч» (Гедеонов С. А. Отрывки из исследований о варяжском вопросе. 1862-64. Т. II. С. 159–160. Он же. Варяги и Русь. СПб., 1876. С. 167–169).
Слову «варанг» суждены были долгие приключения.
Византийцы, по-видимому, познакомились с ним достаточно рано, услыхав его из уст поморских славян, поступавших вместе с русами на византийскую службу, или от самих русов. Впрочем, в Константинополе оно не было в ходу, по крайней мере, до конца Х в. («варанги» еще отсутствуют в списке императорских наемников у Константина Багрянородного). Но звучное иностранное слово не осталось незамеченным. На рубеже X—XI вв. константинопольское простонародье сделало его нарицательным, что явствует из слов византийского писателя Иоанна Скилицы о том, что варанги «назывались так на простонародном языке». В пользу этой датировки говорит и употребление слова «варанк» в «Каноне об астрономии и звездах» аль-Бируни (1030 г.).
Отсюда следует, что термин «варанг» для обозначения отряда наемников возник в Византии, а не на Руси и не в Скандинавии. Из сообщений средневековых авторов известно, что славяне и русы почитали меч в качестве священного предмета; в частности, на нем приносились клятвы. Поэтому известие Потоцкого дает право считать, что под варангами греки подразумевали меченосцев, давших клятву верности на мече, иначе говоря, славянских дружинников-телохранителей (отсюда славянское слово «варить» — оберегать, защищать). Чиновники императорской канцелярии лишь узаконили это словечко из местного «арго» в качестве официального термина государственных документов — хрисовулов*, а византийские писатели XII столетия ввели его в «высокую» литературу. Между тем в греческом языке оно ничего не означает и, следовательно, является заимствованием. Буквальное его совпадение с древанским «варанг» доказывает, что на рубеже Х—XI вв. наемные славяне-венды в Византии стали называться по роду их оружия «меченосцами» — «варангами»**. Подтверждением тому служат и сведения средневековых арабских писателей, почерпнутые большей частью от византийцев, о «народе варанк» на южном берегу Балтики.
*Хрисовулы — указы византийских императоров. Варанги упоминаются в хрисовулах 60—80-х гг. XI в., которые освобождали дома, поместья, монастыри, по просьбе их владельцев и настоятелей, от постоя наемных отрядов. Последние перечислены в следующем порядке: хрисовул 1060 г. указывает «варангов, рос, саракинов, франков»; хрисовул 1075 г. — «рос, варангов, кульпингов [древнерусских колбягов], франков, булгар или саракинов»; хрисовул 1088 г. — «рос, варангов, кульпингов, инглингов, франков, немицев, булгар, саракин, алан, обезов, “бессмертных” (отряд византийской гвардии, чей численный состав всегда оставался неизменным — выбывшие из него воины немедленно заменялись другими. — С. Ц.) и всех остальных, греков и чужеплеменников». Примечательно, что, варанги постоянно соседствуют с росами, как выходцы из одного региона.
**Здесь уместно заметить, что характерным оружием викингов и вообще народов Северной Европы был не меч, а секира. Наемников-норманнов византийские писатели называют «секироносцами»; они же именуют кельтов с Британских островов — «секироносными бриттами».
Видимо, потребность в новом термине появилась у греков в связи с необходимостью различать «старых» росов из славянского Поморья от новых — многочисленного корпуса варягов (поморских славян-вагров), согласно летописным известиям, отправленных в 980-х гг. князем Владимиром на византийскую службу.
В дальнейшем слово «варанг» в Византии получило значение «верный» (поромон), «принесший клятву верности» — от обычая поморских славян клясться на мече. В этом значении оно и вошло в византийские хроники. Со второй половины XI в., когда приток поморских славян в Константинополь резко сократился, имя варангов было перенесено на жителей Британских островов, преимущественно кельтов-бриттов. По словам Скилицы, «варанги, по происхождению кельты, служащие по найму у греков».
В свое время В. Г. Васильевский убедительно показал, что норманнское завоевание Англии в 1066 г. должно было вызвать значительную англо-саксонскую эмиграцию. Но островные бритты испытывали еще большие притеснения, так как наряду с национальным угнетением их коснулись еще и религиозные гонения. В 1074 г. папа Григорий VII предал анафеме женатых священников. Это был выпад не столько против греческой церкви, сколько против церкви бритто-ирландской, которая жила по особому уставу, позволявшему, в частности, монахам жить с семьями и передавать кафедры по наследству от отца к сыну. Спустя еще десятилетие, в 1085 г., Григорий VII фактически ликвидировал самостоятельность бритто-ирландской церкви. Поэтому массовая эмиграция в первую очередь коснулась не англо-саксов, а бриттов и других кельтов, продолжавших придерживаться своих верований (см.: Васильевский В. Г. Варяго-русская и варяго-английская дружина в Константинополе XI и XII веков. Труды. СПб., 1908. Т. 1).
Бритты, естественно, вливались в славянский корпус варангов на протяжении многих лет и далеко не сразу получили в нем численное преимущество. Важную роль в «оваряживании» бриттов сыграла их конфессиональная принадлежность. Славянские наемники, как правило, принимали в Константинополе христианство греческого образца. Русы, а потом и варанги имели в византийской столице особую церковь, которая называлась Варяжской Богородицей и была расположена при западном фасаде храма Святой Софии. Найдены свидетельства, что она принадлежала Константинопольскому патриархату.
Преследуемые Римской церковью бритты, поступая в корпус варангов, также молились в этом храме и вообще легко находили общий язык с православием, чему способствовали некоторые общие черты ирландской и греческой Церквей: допущение брака для священников, причащение мирян под двумя видами (вина и хлеба), отрицание чистилища и т. д. Конфессиональная близость бриттов православию привела к тому, что они унаследовали прозвище славян-вендов — «варанги», в значении «верные», ибо никакие другие наемники в Византии не исповедовали греческой веры.
Византийские авторы XII столетия уже позабыли об этнической принадлежности первых, настоящих варангов-меченосцев и сохранили только смутные воспоминания, что они жили в какой-то «варварской стране близ Океана» и что они чем-то родственны «росам», рядом с которыми варанги и продолжали упоминаться в исторических сочинениях и документах. Зато арабские писатели, получившие в XI в. от византийцев сведения о варангах (поморских славянах), закрепили эти знания в качестве устойчивой литературной традиции о «море варанков» и «народе варанков» — «славянах славян», живущих на южном побережье Балтики (такая обработка и передача из поколения в поколение известий, полученных однажды из первоисточника, вообще характерна для арабской географической и исторической литературы об отдаленных землях и народах).
Окончание статьи читайте в моём проекте Русское тысячелетие Х—XX.
Данный материал доступен без оформления подписки.
Подписка открывает доступ к архиву. Оформив годовую подписку, вы получаете скидку 20%, есть и другие интересные предложения.
Цикл Русское тысячелетие Х—ХХ обновляется не реже двух раз в неделю, материалы выкладываются в виде подкаста и иллюстрированной текстовой расшифровки.
Подписывайтесь, читайте/слушайте, комментируйте!
https://sponsr.ru/1000_let_rossia/
Мои книги на Литрес
|
Метки: норманнский вопрос Русское тысячелетие |







