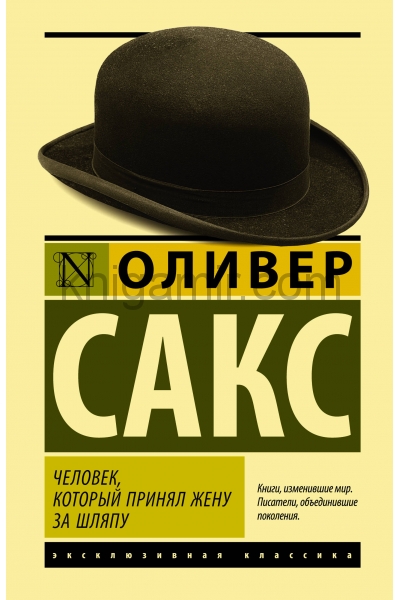-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Постоянные читатели
-Статистика
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://chto-chitat.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??ac108cb0, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
Легкие книги о потере работы и о том, что не все потеряно |
Очень ищу вдохновляющие книги, в которых герои переживают увольнение с работы. Героиню сокращают, она все бросает, уезжает в деревню, или не бросает, или на курорт отправляется. Подойдет любой чиклит, что-то вроде Кинселлы или Мойес. А если что-то отечественное, вообще прекрасно было бы. Мне кажется, подобное уже неоднократно читала, но надо просто пережить момент. Психотерапевтические функции беллетристики сейчас важнее всего.
Да, "Книжный магазинчик счастья" уже прочитала, вот что-то похожее очень нужно!
|
|
Помогите вспомнить бразильскую сказку |
|
|
фантастический рассказ |
В семье появляется рбенок, который давно пропал (умер?), а теперь он выросший, радует родителей. Потом из этой семьи исчезает, зато в другой семье появляется их исчезнувший. Заканчивается рассказгрустно: попав на площадь, где много людей, у каждого есть свое желание, это существо меняется, тает...
Мне казалось, что рассказ называется "Марсианин", но по этому названию попадается не то.
Спасибо
|
Метки: книги |
Человек, который раздал долги |
Раздал и... исчез. Прекратил существовать.
Не могу найти...
|
|
«Остаток дня» Кадзуо Исигуро |
Мне роман тоже очень понравился, с одной стороны, достаточно глубокой философией на самые обыденные темы, с другой, красотой изложения, а с третьей, своей неоднозначностью. Это роман, о котором хочется говорить. Обсудить его очень интересно! Я сейчас накидаю своих мыслей и впечатлений, а если кто-то прочтет и захочет поделиться своими, то буду рада.
Так, временами мне казалось, что это просто пародия. Главный герой как бы не совсем полноценный человек. Все в нем: стремления, мысли, поступки и желания подчинены одной цели — быть самым лучшим дворецким. Но, блин, ведь даже у лучших футболистов, которые зарабатывают свои миллионы, есть семьи. А здесь у человека нет ничего своего. Всю жизнь, как и его отец, еще один великий дворецкий старой школы, он отдал тому, чтобы как можно лучше выполнять свои профессиональные обязанности. Его отец умер на службе, но у него хотя бы была семья, а у нашего главного героя нет ни семьи, ни даже мыслей о личной жизни (а как же секс?). Комната, в которой он живет, похожа на тюремную келью. В свободное от работы время он читает дешевые романы только для того, чтобы улучшить английский, ну, а когда встречается и пьет какао с экономкой, то, опять же, только для того, чтобы поговорить о работе. Словом, он похож на хорошо заведенные часы, методичная жизнь полна труда и всегда неизменно подчиненна одной цели.
"Великие дворецкие тем и велики, что способны сживаться со своим профессиональным лицом, срастаться с ним намертво; их не могут потрясти никакие внешние обстоятельства, сколь бы внезапными, тревожными и досадными ни были эти последние. Для великих дворецких профессиональный облик – то же, что для порядочного джентльмена костюм: он не даст ни бандитам, ни стихиям сорвать его с себя на людях, а разоблачится тогда, и только тогда, когда сам того пожелает, и непременно без свидетелей. В этом, как я говорю, и состоит «достоинство»".
Впрочем, это только один взгляд на роман. А на самом деле его еще можно рассматривать как пособие или, если хотите, руководство к тому, как, чем бы вы не занимались, стать достойным человеком. Но и здесь все идеи спорные, ведь только муравьиная или пчелиная философия нам диктует, что делая максимально хорошо свое дело, мы вносим наш вклад в дело общественное. Сегодняшний индивидуалист скажет, а на фига оно мне?
На что герой возразит:
"Блажен тот, кто нашел свое дело; пусть он не ищет другого блаженства. У него есть дело и цель жизни".
Т. Карлейль
В книге формулируют чуть иначе:
"«Великим», конечно же, может быть лишь такой дворецкий, который, сославшись на долгие годы службы, имеет право сказать, что поставил свои способности на службу великому человеку, а тем самым – и человечеству".
Чем тут же озвучит еще одну очень важную и большую тему романа, которой я сейчас не стану касаться. А закончу тем, чем и заканчивается роман, мне эта мысль больше всех других понравилась:
"Вот что, дружище, послушайте-ка меня. Не скажу, чтобы я все так уж понял, что вы тут говорили, но коли хотите знать мое мнение, так вы кругом ошибаетесь. Ясно? Не оглядывайтесь вы все время на прошлое, от этого вам одно расстройство. Ладно, согласен, вы не так споро управляетесь с делом, как раньше. Но ведь так оно с нами со всеми, правда? Всем нам когда-то приходит срок уходить на покой. Вы на меня посмотрите – никаких забот с того самого дня, как уволился с должности. Согласен, и я и вы – далеко не первой молодости, но нужно глядеть вперед. – Именно тут он, по-моему, и сказал: – Нужно радоваться жизни. Вечер – лучшее время суток. Кончился долгий рабочий день, можно отдыхать и радоваться жизни. Вот как я на это гляжу. Да вы любого спросите – услышите то же самое. Вечер – лучшее время суток".
|
Метки: 20 век английская Исигуро |
"Последние станут первыми" Елена Арифуллина |
Почему каждый раз, когда последних пытаются сделать первыми, улицы покрываются трупами?
А Елена Арифуллина начала выкладывать роман частями на своей страничке Фейсбука. Создав островок стабильности посреди океана глупейшей неопределенности, в котором все мы барахтаемся с начала пандемии. Когда стану вспоминать свою весну 2020, мысленно разнося по колонкам плюсы и минусы карантинного сидения "Последние..." будут в числе первых (простите за невольный каламбур).
То был удивительный опыт. Отчасти возможность ощутить себя читателем диккенсовых времен, ждущим очередного выпуска "Пиквикского клуба". Частью вспомнить раннюю юность с волной счастья, что окатывала, когда в почтовом ящике находился номер одноименного журнала. Золотому правилу: обрывать главу на самом интересном месте, Елена следовала неукоснительно, умело подогревая нетерпение. Такая диккенсиана цифровых времен.
О чем книга? Ну, с одной стороны неожиданно актуальная, об изменившемся в одночасье мире. С другой - ожидаемо утешительная: что могло быть хуже. Но по порядку. Героиня, сорокалетняя бездетная привлекательная Ирина врач-психиатр (да, я тоже подумала: ну вот опять, где элемент неожиданности?). Но каждый пишет, как он дышит, а когда Арифуллина говорит о психиатрии - это речи специалиста. Что до элементов неожиданности, то уверяю, здесь их будет достаточно.
Итак, маленький южный приморский городок. Ирина перебралась сюда совсем недавно, еще не успев обзавестись связями. Да и не нужен был никто, кроме него. Пока он был жив. Возлюбленный героини погиб незадолго до описываемых событий. И теперь она не хочет жить. Зачем? Хотя зачем, более-менее ясно. Чтобы помочь матери Игоря поставить на ноги его сына. Двенадцатилетний мальчишка - все, что осталось в мире от любимого.
Она тянет потихоньку лямку в районной психиатрической клинике, живет в съемном полуподвале с единственным достоинством, символической платой, навещает по выходным несостоявшуюся свекровь с мальчиком в их станице. С каждым днем глубже погружаясь в пучину клинической депрессии, которую с профессиональной отстраненностью диагностирует у себя.
Все изменится в один день. Хотя, сказать, что ничто не предвещало, нельзя. Были-были тревожные звоночки, на которые никто, кроме нее - психиатра, обходящего пациентов на дому - не мог бы обратить внимания. Да и она ведь никак не связала странностей предпоследнего дня. Соединит кусочки пазла после. И первой воссоздаст связную картину происшедшего.
Пересказывать не буду. Скажу лишь, что будет по-настоящему страшно и жутко интересно. И трогательно. И умно. И с потрясающим финалом (не знаю, как вы, а я ценю в книгах правильную завершенность)
|
Метки: постапокалипсис |
Б. Э. Пэрис "Нервный срыв" |
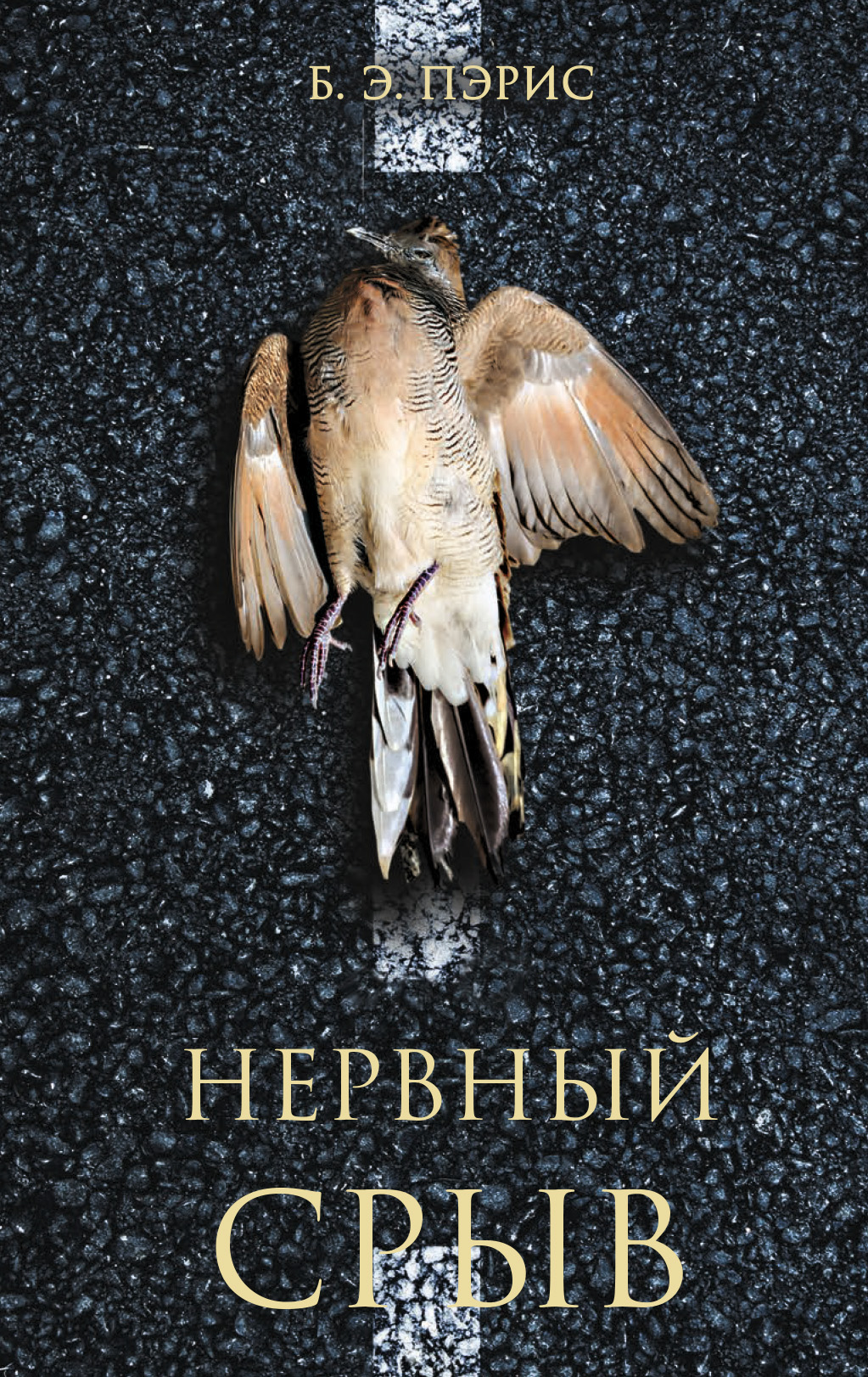
В автомобиле на лесной дороге находят тело убитой женщины. Об этом объявляют в новостях, повергая в шоковое состояние учительницу по имени Кэсс Андерсон. Потому что в ночь убийства она проезжала по этой самой дороге и видела на обочине и машину, и женщину внутри. Еще живую. Кэсс остановилась рядом, однако не дождавшись от женщины никаких сигналов о помощи, поехала дальше. Теперь ее мучает чувство вины, мол, надо было выйти из машины, невзирая на кошмарную грозу, и подойти спросить, что случилось. Глядишь, и спугнула бы убийцу или еще как-нибудь помогла.
Еще хуже становится, когда выясняется, что Кэсс знала убитую: сильный ливень не позволил ей разглядеть в фигуре за рулем женщину, с которой она недавно познакомилась в баре и почти подружилась. Наша героиня в полном раздрае: давящее чувство вины, панический страх из-за гуляющего на свободе убийцы и куча творящихся вокруг странностей: от проблем с памятью до пугающих телефонных звонков.
В романе доминирует психологическая сторона, а интрига заключается в двух вопросах: "кто убийца? " и "у Кэсс ранняя деменция или тут нечто другое? ", хотя по второму пункту варианты не взаимоисключающие. Повествование читается легко, затянутости нет. События не поражают разнообразием, но и не стоят на месте. Убийство и творящиеся странности сильно бьют по психике Кэсс; автор хорошо передает ее эмоциональное состояние: реальна опасность или нет, женщина в нее верит, ее страх и беспомощность ощутимы, что вызывает сочувствие и одновременно порождает напряженность, тревожное ожидание развязки. Суть происходящего триллеролюбителям угадать нетрудно, но кто же преступник? Назовите самый очевидный вариант и не ошибетесь. Однако повороты в конце весьма хороши, а один так и вовсе оказался неожиданным.
Не шедевр психологического триллера, но вполне неплохо.
|
Метки: триллер |
Посоветуйте пожалуйста произведение о НЕ ЛЮБВИ? |
Мы знаем очень много великих произведений о любви, но совершенно не можем назвать сразу, ни одну художественную книгу посвященную «не любви», совершенно не приходит на ум... про «героическую НЕ ЛЮБОВЬ» ))) Хотела бы, проследить за развитием сюжета!)). Обязательное, небольшое условие : авторство-известного, признанного автора...
|
|
Посоветуйте пожалуйста. |
Нужна старшему школьнику, который интересуется историей вооружений.
Знаю, что тут были знатоки.
З.Ы. Авиация тоже приветствуется. Но прежде всего запрос на корабли.
З.Ы.Ы. Ну и да, в разумной ценовой категории. Платить 1 600 000 за огромнотомник истории русской армии вообще я не готова.
|
Метки: энциклопедия поиск книг ВОВ документальная 20 век 21 16-18 века историческая 19 |
Ищу книгу |
Видел первый том, переводной. Хочется все же всю серию посмотреть.
Автор - иностранец.
Идея - используя машину времени люди могут попасть во времена динозавров.
Туда отправляется много колонистов, но ни с кем из них нет связи.
Оказывается - в прошлом существует высокоразвитая цивилизация, которая использует динозавров для своих нужд благодаря развитым ментальным техникам.
Колонистов - выгребают для себя, как рабов. Те, кто имеет зачатки как псионы - их берут в элиту.
Кто вспомнит?
|
|
Минка Кент "Легчайший воздух" |
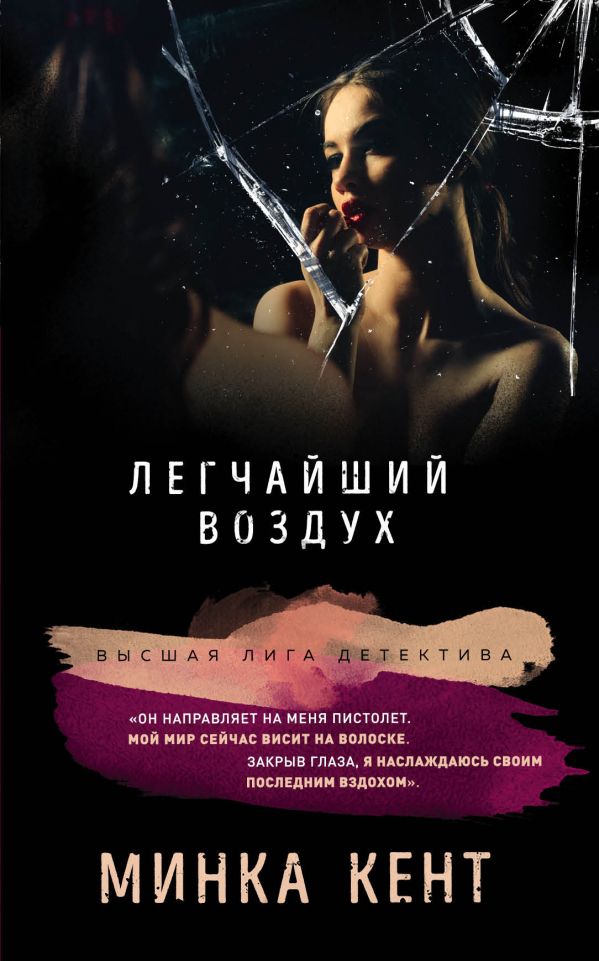
Двадцатидвухлетняя Мередит выходит замуж за Эндрю Прайса - очень обеспеченного, дважды разведенного господина в два раза старше нее. Ее сестра Грир этого брака не одобряет, считая, что Мередит стала "трофейной женой", но сама Мередит уверяет, что Эндрю для нее - любовь всей жизни, как и она для него.
Но однажды Мередит бесследно исчезает. Сбежала? Похищена? Убита?
Грир пытается ее разыскать и с удивлением узнает, что у ее любимой сестренки были свои секреты...
Читается легко, повествование скачет от прошлого, в котором Грир, колючая и замкнутая, морщит нос при виде окружающей Мередит роскоши, к настоящему, где Грир вне себя от беспокойства, ищет сестру, выясняя много любопытного о ее жизни и окружении.
Роман психологичен, но не затянут: жизнь Мередит в замужестве, секреты ее и окружающих, характер Грир, их общее прошлое, расследование исчезновения - все это довольно гармонично переплетается, без экшна, но и без тягомотины. В общем, все хорошо, кроме разгадки - чертовски предсказуемо! Ей-богу, я до упора надеялась на некий хитрый выверт, но не тут-то было - автор остановилась на самом очевидном варианте.
Вроде и неплохо, но разгадка разочаровывает.
|
Метки: триллер детектив |
"Человек, который принял жену за шляпу" Оливер Сакс |
Потеряв ногу или глаз, человек знает об этом; потеряв личность, знать об этом невозможно, поскольку некому осознать потерю.
Бороться за самосохранение в угрожающей ситуации. Об этом книга. Не о неврологических и нейропсихологических отклонениях, как можно подумать. И сами по себе описания клинических случаев здесь не главное. То есть, они ядро книги, ее основное содержание. Оливер Сакс не был писателем в смысле "сочинитель", "автор художественной прозы".
Он врач и популяризатор описательной практики. Герои его книги - пациенты во взаимодействии с болезнью и отчасти с доктором. Инвалиды, с точки зрения социальных стандартов, которые приспосабливаются жить, всякий со своим гандикапом. Ни одного случая полного излечения, хотя иногда удается облегчить симптоматику и помочь адаптироваться к реальности. В некоторых случаях довольно успешно.
Структурно книга поделена на четыре части: Утраты, Избытки, Наития, Мир наивного сознания. Первая, как несложно догадаться, посвящена дефицитам (излюбленное слово неврологов), для которых Фрейд ввел общий термин "агнозия" понятие, включающее особые расстройства распознавания и восприятия: афонию, афемию, афазию, алексию, апраксия, амнезию, атаксию.
Обычный человек в обыденной жизни сталкивается из всего перечисленного, разве что, с амнезией, большей частью в сериалах (ну, или в краткосрочном алкогольном варианте). Да с профессиональной проблемой преподавателей и лекторов афонией (потерей голоса). Более драматичный и глубокий случай афемии - полной утраты возможности говорить, описан в "Жутко громко и запредельно близко" Джонатана Сафрана Фоера. Помните, героя, которого постепенно покидали слова?
Алексия, больше известная как дислексия - неспособность понимать прочитанное, тоже сегодня вошла в круг обыденных понятий, неожиданно обнаружившись у многих талантливых актеров, благо - сегодняшнее развитие техники позволяет воспринимать тексты на слух. С апраксией и атаксией сложнее, это уже скорее клинические симптомы, выражаемые в неспособности совершать целенаправленные действия, отсутствии координации мелкой моторики.
Но описанное в книге, далеко за пределами любых стандартных ситуаций. так титульная глава рассказывает о консерваторском профессоре, полностью утратившем способность ориентироваться, полагаясь на зрение, и удивительным образом скомпенсировавшем это слухом, развитым чувством направления. В то время, как эрудиция и профессионализм позволили ему продолжать преподавательскую деятельность.
Для меня самым жутким и одновременно восхитительным стал случай "Бестелесной Кристи". Удивительное мужество, воля к жизни, целеустремленность у женщины, в одночасье полностью утратившей связь с собственным телом. Все знают ощущение нечувствительности, когда отсидишь ногу. Теперь представьте, что такое происходит со всем телом. То есть, лишаешься возможности ходить, говорить, двигать руками, даже глотать и моргать. Невообразимый ужас. И восхищение женщиной, которая сумела вернуться к подобию прежней жизни, и даже к профессии (она программист). В месте с острой жалостью - героиня до конца довольствовалась таким суррогатом жизни.
"Избытки" посвящены, главным образом, проявлению синдрома Туретта, некоторых форм эпилепсии и нейросифилиса, на определенных этапах внешне выражаемым как гиперактивность. избыточная витальность, эйфорическое чувство довольства жизнью, схожее с действием кокаинсодержащих стимуляторов.
Замкнутые люди резко меняют линию поведения на выражено экстравертную, флиртуют, балагурят, отпускают фривольности выражено сексуального характера, Порой это кажется подселением некоего трикстера или прямой одержимостью. Интересно, что в большинстве случаев, даже переживая после мучительную абстиненцию, пациенты не хотели бы быть окончательно вылеченными.
"Наития", третья часть, повествует о голосах, которые внезапно начинают звучать в сознании пациентов. О давно утраченных воспоминаниях далекого детства, которые сплывают в памяти. О видениях религиозного характера, вроде визионерства Жанны д`Арк, Сведенборга, Даниила Андреева. Жемчужина этой группы историй - грустное и прекрасное "Возвращение в Индию" о смертельно больной девушке, которая, умирая, получила возможность полностью погрузиться в жизнь своей исторической родины.
Финальная часть "Мир наивного сознания" о тех, кого теперь называют особенными, а прежде дебилами. Не приспособленных к школьному обучению, не способных обслуживать себя в быту, но обладающих удивительными талантами, о каких представители условной "нормы" и мечтать не могут. Трогательная история Ребекки, поразительный Ходячий словарь, замечательный Художник аутист Хосе. все это о том, что люди, отличные от нас, не хуже - просто другие.
А с "Близнецами" ощущение, что точно знаю эту историю, нарастало по экспоненте. И да, в основу сценария "Человека дождя" с Дастином Хоффманом положен как раз их случай. в жизни закончившийся куда грустнее. Это чудесная книга, с сильной и правильной философской составляющей и хорошо, что появилась аудиокнига в исполнении Игоря Князева. Прежний вариант Ирины Ерисановой я не смогла бы слушать.
|
Метки: аудиокниги нонфикшн |
Помогите вспомнить произведение |
Начинается сюжет так, что два пацана на какой-то одной из заселенных человечеством планет обнаруживают гнездо хищных крыс, сражаются, один из них получает ожоги..Если бы не обнаружили, то эти крысы бы вырвались сами более сильными и всем было бы плохо..
Так получается, что кто-то из пацанов с семьей должен переселиться на другую планету. Отец его- инженер-энергетик, наводит порядок в энергосистеме города.
Фигурирует какое-то ожерелье.
Если правильно помню, то фамилия гг русская или имеет русское происхождение.
Вот и всё.
Спасибо, если кто знает.
|
Метки: русская фантастика поиск книги фантастика |
читательский дневник. апрель |

1. Карл Циммер «Она смеется, как мать». Очень большая (на тыщу двести страниц!) и очень крутая научно-популярная книга о наследственности — кажется, во всех возможных аспектах. В историческом — как генетика проходила путь от средневековых, зачастую довольно вычурных предположений, до сложной и крайне увлекательной науки; в практическом — эксперименты с выведением и культивацией особо полезных сельскохозяйственных животных и растений; и в самом актуальном для нынешнего дня — расшифровка генома уже принесла человечеству кучу ценнейшей информации и обещает множество открытий впереди. Написана книга хорошо, не слишком сложно, так, что у меня-неспециалиста не возникло никаких трудностей с усвоением текста, но при этом весьма подробно и дельно. И полна любопытных сведений, о которых я по ходу чтения то и дело докладывала товарищам. Например, о деятельности ранних евгеников, одним из методов проверки интеллекта которым служил чемоданный тест: человеку выдавали банки, бутылки, книги и много других предметов и их надо было разместить в чемодане так, чтоб ничего не разбилось и чемодан легко закрылся (кто не справлялся — тех стерилизовали). Или о том, что уровень интеллекта коррелирует с курением таким образом, что чем он выше, тем больше вероятность, что человек бросит курить, а вот с тем, начнет ли, — не коррелирует! Или о том, что у людей с высоким интеллектом (который в исследовании замеряли в детстве, а потом отслеживали на протяжении жизни судьбы участников эксперимента) дольше средняя продолжительность жизни. Долгих вам лет!
2. Даниель Оберг «Вирус». В прошлом месяце я рассказывала про аудиосериалы от Storytel, это — еще один. Хотелось сопроводить карантинное время чем-то условно по теме. О-о-о, поначалу это получилось на все сто! Вирус, пришедший в Стокгольм в этом тексте, оказался куда как мощней и стремительней короны — заражение мгновенно, течение мучительно, смерть скора и практически неизбежна — иммунитет вырабатывается у жалких 5%, остающихся очень одинокими в мире, за пару дней превратившемся в месиво. Поначалу я погружалась в происходящее очень глубоко — не за счет каких-то литературных достоинств, но захваченная саспенсом. Каждый раз как отрывалась от текста, испытывала массу облегчения, что у нас все еще не так уж плохо. Особенно мощно меня захватило одной из ночей, когда шторм за окном гремел ржавой крышей, дополняя, так сказать, реальность. Увы, эффект продлился не вечно. Писателю хорошо удавалась атмосфера, умеренно — характеры героев, но как только в книге появились еще и некие спецслужбы, из текста исчезла выстроенная логика, началась движуха ради движухи, неправдоподобная и постыдная. А тут еще и начитанные фрагменты кончились внезапно. Ну и не жаль.
3. Стивен Кинг «Девочка, которая любила Тома Гордона». Этот Кинг не мистический — ну или почти-почти не мистический. Я такие его книги даже больше люблю. Это повесть о девочке, которая заблудилась в лесу — случайно сошла с туристической тропы, пока мама с братом увлеклись перепалкой и перестали замечать ее присутствие, — и дальше лес закрутил ее, запутал, заставил много дней блуждать по чащобам и болотам, сперва полной надежд на скорое спасение, а после — в истощении, с температурой, в бреду… Трише девять лет, и она вызывает искреннюю симпатию: она деятельна и конструктивна, она очень здраво рассуждает о ситуации, в которую попала, она мастерски эскапирует, когда это необходимо, поэтому компанию в блужданиях ей составляют придуманные друзья — главная трудность в том, чтобы не терять ту грань, за которой фантазии становятся галлюцинациями.
4. Джон Грин «Виноваты звезды». Я сперва посмотрела фильм и лишь месяца три спустя прочла книгу. И то, и другое хорошо, фильм эмоциональнее, книга глубже. Это роман о подростках с онкологией, познакомившихся на группе поддержки и полюбивших друг друга. Но это не глупая романтическая история, в ней много слоев, самый ценный и плотный из которых составляют их рассуждения о смерти — или нет, о все-таки жизни, но жизни со знанием о скором финале, с болью, обреченностью, страхом оказаться осколочной гранатой, которая, взорвавшись, искалечит всех, кто сейчас любим и близок, — и чем больше любим, тем сильнее изранит. Это прекрасные подростки; жизнь без ноги, без глаз, на аппарате ИВЛ отучила их бояться самых сложных тем, стать достаточно циничными для смелых размышлений — но не отобрала способность ярко и искренне чувствовать. И главная ценность книги и переживания, которое она дает, — именно в этой амплитуде.
5. Лоретта Бройнинг «Гормоны счастья». Очень хорошая научно-популярная книга! Я и не ожидала, что она окажется настолько интересна: казалось бы, чего там можно уже не знать об эндорфине-серотонине-окситоцине-кортизоле, когда о них нынче поет едва ли не каждый, а жизненный опыт успел подкинуть достаточно примеров. И все-таки эта книга пересобирает всю эту информацию заново, дополняя, умножая ее, раскладывая по полочкам и сопровождая практикой, и в итоге дает знание и ценное, и свежее. Есть некоторые моменты со сложностью восприятия финальной части — там, где классификация и описание групп гормонов и нейромедиаторов сменяются практическими советами: поначалу этот раздел вызвал у меня чувство протеста — мол, ну хватит меня снова учить заводить полезные привычки и делать зарядку! — но прорвавшись через трудный старт, я обнаружила, что дальше Бройнинг приводит читателя к совершенно новому отношению к жизни — где есть место сознательному выбору счастья, есть личная ответственность, есть механизмы для старта и конкретные техники достижения — и все это вместе взятое идеально соответствует моей личной жизненной философии, которую до этого, признаться, не то чтобы много кто разделял. Отрадно, черт побери! Может, согласиться и на зарядку…
6. Дарья Бобылёва «Забытый человек». До этого я читала у Бобылёвой «Вьюрков» — хороший поселковый ужастик, после него захотелось продолжить знакомство с книгами автора. «Забытый человек» — это сборник рассказов того же жанра, магический реализм, бытовой хоррор. О соседстве людей с жутковатыми креатурами — здесь вечно кто-то стучит в стену или дверь шкафа, скребется ночами, завывает, исчезает и вновь проявляется, и с этим приходится жить. Ну или умирать, потому что не слишком-то эти чудища к людям добры. Показалось самую малость однообразно (ну а чего они всё стучат и стучат в стенку?), но в принципе неплохо.
7. Бенджамин Дэниелс «Следующий! Откровения терапевта о больных и не очень пациентах». Это книга британского семейного врача — личный опыт, байки из практики, рассуждения о медицине в целом и своей личной роли. Очень по душе пришлись его смелость и откровенность — он не пытается выставить себя лучше, нарисовать красивый образ, честно пишет и о врачебных ошибках, и о неуверенности, и о раздражительности, которую очень сложно бывает удержать в себе. А еще — отличное чувство юмора, не без черноты. Оно не то чтобы превращает эту книгу в смешную, но определенно умножает ее достоинства.
8. Ксения Иваненко «Психические расстройства и головы, которые в них обитают». В этой книге свой личный опыт сохранила 25-летняя девушка, прошедшая через ряд психических расстройств с самыми непростыми проявлениями (основной диагноз — рекуррентная депрессия), от селфхарма и суицидальных попыток до галлюцинаций, а затем добровольно отправившаяся на лечение в психиатрическую больницу. Кроме того, книга написана в соавторстве с лечащим врачом Ксении, которая комментирует места, где требуются профессиональные медицинские разъяснения, — классифицируя диагнозы, препараты или течение болезни пациентки. А еще, кроме истории самой Ксении Иваненко, здесь много историй тех, с кем она сблизилась за время, проведенное в лечебнице, и историй читателей ее телеграм-канала. В целом текст получился прекрасный — живой и легкий, безусловно полезный, просветительский и, как результат проделанной работы, — оптимистичный.
9. Джералдин Брукс «Год испытаний». И еще одна книга о чуме в наши квазичумные времена. На этот раз о чуме настоящей, бубонной, образца 1666 года. Когда зараза приходит в небольшую деревню в графстве Дербишир, Англия, с одним замечательным, но, увы, уже обреченным путешественником, бургомистр принимает мужественное решение закрыть город на карантин. Спешно уезжает лишь одна самая богатая семья, остальные горожане решают разделить героическую самоизоляционную долю — всем хочется сбежать от опасности, но они не позволяют себе разнести ее по окрестностям. Ну, и дальше это становится герметичной историей о милосердии, ужасе, смерти и надежде, достаточно суровой и правдоподобной. Что меня больше всего удивило — почему, закрыв город, а значит, имея какое-то понятие о контагиозности, они не подумали запереться в собственных домах? Весь год (год!), что в деревне пирует чума, они продолжают ходить друг к другу то в гости, то на похороны, то в гости, то на похороны.
10. Саша Филиппенко «Бывший сын». 30 мая 1999 года в центре Минска, на Немиге случилась нелепая и чудовищная трагедия: в разгар массового городского праздника начался дождь с градом и люди побежали прятаться в подземный переход — тысячи людей залетали в переход со всех сторон одновременно, не понимая, что крики, раздающиеся из него, — это уже не фестивальные веселые вопли, а крики боли и смерти. Внизу началась массовая давка, и лучше бы было оказаться промокшим, чем раздавленным насмерть, но кто же знал… Главный герой этой книги — юноша, студент, музыкант, который оказался в эпицентре событий — не погиб, но впал в кому и провел в ней десять лет только благодаря упрямству бабушки, все это время не позволявшей отключить его от аппаратов и продолжавшей приходить, сидеть, разговаривать с внуком, водить его (голосом) на иллюзорные прогулки по Минску. Когда он наконец приходит в себя — в стране одновременно многое произошло и ничего не изменилось. По сути, Беларусь — второй главный герой этой книги, через судьбу одного этого мальчика, которому то ли крупно не повезло, то ли наоборот, проступают, просвечивают судьбы страны, и автор много и серьезно рассуждает о происходящем в государстве, — но даже совершенно аполитичному человеку-мне эти аналогии и суждения не кажутся утомительными. Невеселыми — да. Но в целом книга написана так хорошо и глубоко, что ей и не требуется никакого оптимизма.
|
|
Жоэль Диккер "Книга Балтиморов" |
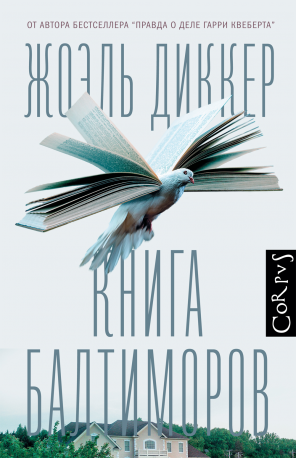
Это семейная сага, так что не ждите ничего вроде "Правды о деле Гарри Квеберта" или "Исчезновения Стефани Мейлер"
Главный герой и рассказчик - писатель Маркус Гольдман, который уже появлялся у Диккера в "Гарри Квеберте". Маркус рассказывает о богатой и успешной ветви семейства Гольдманов из Балтимора. В юности он был очень дружен с балтиморовскими кузенами и живущей неподалеку от них девочкой по имени Александра. Крепкая дружба, счастливые деньки, однако именно в то время создались предпосылки к неким событиям, которые Маркус называет Драмой. Учитывая произнесенное им "они все умерли", получается довольно интригующе.
Параллельно с рассказом о прошлом развивается линия о взрослом Маркусе, неожиданно встретившем Александру после долгих лет разлуки. И снова эта упоминание этой Драмы... да что же там случилось-то?
Написано хорошо: плавно, красочно, психологично, иногда чрезмерно велеречиво, но это в какой-то степени способствует созданию атмосферы. Роман охватывает период с начала девяностых годов по две тысячи двенадцатый - это история семьи Гольдман глазами Маркуса, сперва маленького, затем юного и наконец взрослого. Первая часть рассказывает о детстве и юности главгероев, периоде расцвета Балтиморов и дружбы Маркуса, его кузенов и Александры, своего рода история взросления. Затем на горизонте появляются еще не тучи, но облака, новые жизненные повороты, семейные тайны и просто неизвестные ранее факты, всплывающие на поверхность. Развязка, называемая Маркусом Драмой, действительно... драматична (пардон за тавтологию), и несмотря на то, что неспешность и детальность повествования временами утомляют, с персонажами успеваешь сродниться, и становится обидно, что некоторые из них сделали со своими жизнями и попутно с жизнями друг друга. Занятно, как автор переплел события на манер паутины, показывая, что поступки зачастую имеют совершенно непредсказуемые последствия, рикошетом бьющие по тем, кто рядом.
Неплохой роман о людях и о жизни, увлекает, несмотря на неторопливость.
|
Метки: семейная сага современная проза |
Роже Дорсанвиль. Умереть за Гаити. |
Я прочитала повесть Роже Дорсанвиль «Умереть за Гаити или Судьба святой Эстер и ее сподвижников», опубликованную в журнале «Иностранная литература», 1986 год, в 5 номере. Здесь рассказывается о положении дел на Гаити в 1970 году, когда страной правил диктатор Дювалье. Повесть разделена на несколько глав.
Глава 1. Мария.
Произведение начинается с того, как Мария, настоящее имя Эстер, участница подпольной группы, застрелила двух макутов Бешенного короля, «преодолевая врожденное чувство сострадания». Макуты - это тайная политическая полиция, созданная диктатором Франсуа Дювалье. Убийство произошло в двухстах метрах от дворца, казарм, от всего скопления оружия. Только здесь макуты чувствовали себя в безопасности, вываливаясь безоружными из кафе. Мария стреляла, находясь рядом с Альдо.
Мария перед заданием порвала все связи с семьей, только бы уберечь их от мести макутов. Она стала любовницей Альдо, богатого иностранца, тем самым добившись, чтоб от нее отреклась семья. Подобно всем подпольщикам она не ведала иного страха, кроме страха перед пытками. Она знала, что все они обречены, поэтому отчасти и вызвалась выполнять задание, с которого ей не суждено вернуться. Лучше уж погибнуть под открытым небом, чем «отдать свое тело на растерзание псам в тюремных застенках». Никакая подпольная группа не сможет сохранить жизнеспособность, если не будет постоянно расти. Но их было всего 15. Ни сообщников, ни замены, ни преемников. «Стоило задеть ненароком плечо мужчины, как тот съеживался и трепетал, а если женщины – она готова была крикнуть: «Делайте со мной, что хотите».
Мария выстрелила, отбросила сумку, которая временами была тяжелой, особенно когда в нее укладывали пропагандистскую литературу или оружие, как сегодня. Но после выстрелов « ей показалось абсурдным стрелять в самое себя, она не убьет себя, как обанкротившийся банкир, или продувшийся в прах картежник. Она будет драться до последнего вздоха и уложит еще двух макутов». Но макуты убили автоматными очередями Марию и Альдо. Оба трупа было приказано оставить нетронутыми для всеобщего обозрения. « По радио объявили, что всех учащихся школ надлежит провести мимо этих тел, дабы никому не повадно было идти по стопам агентов международного коммунизма. С полудня – служащие государственных учреждений».
Глава 3. Виктор.
Виктор - родственник Марии, или Эстер. Нагое тело Марии два дня лежало на насыпи, облепленное мухами, не в силах переносить исходящий от него смрад, владельцы ресторанов и кафе оставили свои заведения открытыми, только бы избежать лишних вопросов, преследования макутов, никто не молился об усопшей, не окропил ее святой водой. Семья отправилась к насыпи, чтоб присоединить свои плевки к плевкам других подлецов. Семья отреклась от нее в газетном объявлении,
Глава 2. Альдо.
Альдо владел фирмой по продаже вин, ликеров и сигарет, а также торговал оружием, его торговым партнером было правительство. От каждой проданной партии у него кое-что остается.
Бешеный король отдал приказ узнать, кто такой Альдо, собрать все сведения о нем, настоящее имя, чем занимался. Были схвачены и зажаты в немилосердные тиски сотни бедолаг. Кухарка Альдо скончалась до начала пыток, просто с перепугу. Отдали богу душу шофер и двое служащих из принадлежавшей Альдо фирмы. Они не вынесли пыток водой и электрическим током и маленьких пороховых взрывов в прямой кишке. Потом власти обратились за помощью к ФБР, ЦРУ, и доминиканской жандармерии.
Шумиха, поднятая вокруг Альдо, пошла на помощь семье Марии, о них словно позабыли. «Ее отец, тетки и прочая родня, удивленные тем, что их еще не прихлопнули, закупили место на полосах ежедневных газет и клялись в верности безумному отцу нации. И ни у кого не открылась рвота, в том числе и у «отца нации», привычного к подобным тошнотворным воскурениям. Что же до пяти миллионов сынов и дочерей, то они давно свыклись с подобными изъявлениями к отцу, который почти не показывался на людях».
В этой главе раскрываются некоторые моменты истории страны, например, отношения с соседней Доминиканской республикой, Кубой. В 1937 году по приказу диктатора Доминиканской республики Трухильо были убиты 26 тысяч гаитян, 12 тысяч ранено, а сто тысяч обобраны до нитки и высланы из страны. Интенсивный ввоз гаитянской рабочей силы в Доминиканскую республику, да и на Кубу тоже, была, если угодно, своего рода торговля чернокожими, налаженная американцами. «Межу 1920 и 1933 эмигрировало из страны не меньше 500 тысяч человек. Неконтролируемая рождаемость, эрозия почв, недостаточная ирригация, истребление лесов, а затем воцарилась химия с ее красителями и пришел конец рубке кампешевых деревьев, а тут явились янки со своими законами, они прикрыли наши заводики, а на Кубе и в Доминиканской республике открыли гигантские сахарные комплексы и начали сманивать туда людей с Гаити. По инициативе Кастро пятьсот тысяч гаитян, проживающих на Кубе, объявлены полноправными гражданами Кубы. Пятьсот тысяч бродяг обратились в 500 тысяч полноправных кубинцев, на Гаити гаитянину живется еще хуже, чем у доминиканцев. Буйно помешанный лишил жизни около миллиона человек. А сколько уехало, чтоб стать безродными вшами в США, в Канаде».
Я нашла в этой главе несколько взглядов на причину бедственного положения гаитян. - «Умение закрывать глаза на очевидное – это специфическая особенность гаитян; этакое нежелание ничего понимать. Гаитяне не научились также объединятся в борьбе. Не было у них за границей ни профсоюзов, ни инициативных групп, ни кооперативов, ни газет - ничего, что было бы создано гаитянами для гаитян. А ведь их было тысячи и тысячи за рубежом. Они словно бы уверенней чувствовали себя в доминиканских профсоюзах. Доминиканцы же, наживаясь на них, относились к ним так, как будто те – члены касты неприкасаемых. «Трусы, Навеки проклятый народ, пригодны разве что для ритуальных плясок». Мнение другого человека – «Гаитяне не хотят смотреть правде в глаза, в колдовстве и безумных шаманских плясках ищут убежища от реальной жизни».
Альдо говорит - «Я мог бы поднять вас на революцию, если бы вы оказались способны на нее. Я пытался понять, почему вы проникнуты неистребимым чувством собственного достоинства. Отчего вы так горделиво носите головы? Слуги, лакей, рабы! Вам бы следовало сгорать от стыда и не поднимать глаз от земли, пока вы не подниметесь на восстание. Каждый третий в этой стране – доносчик».
Глава 4. Серж.
Серж - руководитель подпольной группы. Члены группы меняли жилье, собирались под видом танцулек, так как тишина в доме уже возбуждали недоверие власти. Покупали продукты, как обычные люди, молочники приводили коров, чтоб подоить их тут же, во дворе. Мария была ученицей Сержа, он сам послал ее на смерть, «это его доконало, и впредь он решил иметь дело лишь с профессиональными революционерами, но где их взять, профессионалов?» Собирались подпольщики группками, не все 15 сразу, хотя кое-кто и выражал желание встретиться в полном составе. Подпольщики должны быть разбиты на группы по четверо и ни одна четверка не должна знать другую. Власть, благодаря доносчику, раскрыла их место жительства и «Никто из семерых подпольщиков не спасся». В бой вступили базуки с автоматными очередями.
Глава 5. Мишель.
Сцена суда над Мишелем. Тяжело мне было читать эту главу. Мишель хотел всему миру показать подлость режима диктатора на открытом судебном процессе и требовал его. Похоже, мир не особо интересовался событиями в стране. »Перуанское правительство прислало журналистов не слишком деятельных – совершенно аполитичного судебного репортера». Мишель пытался говорить о беззакониях, но все для него быстро закончилось. «В зале наручники сняли, но кандалы оставили, к ним был подсоединен электрогенератор, которым манипулировал человек. Судья сказал – «Мы не были поставлены в известность о том, что он подвержен эпилептическим припадкам. Нет ли здесь врача?» « В этой стране если чего-то не понял, лучше закрой глаза, ибо понимание влечет властную необходимость выбора». Поэтому прокурор даже не поинтересовался, отчего тело обвиняемого только что извивалось в корчах, а теперь он стоит неподвижно, с остолбенелым видом»
Глава 6. Доктор Легро.
Два врача, бывшие друзья, вызванные к Мишелю после пыток, нарушили приказ - оживить тело, чтоб продолжить допрос и умертвили его уколом. Это было с их стороны и актом мужества и милосердия, я поняла.
Я прочитала в этой главе о состоянии медицины в стране. « Медикаменты, получаемые от фонда Форда, Каре целыми ящиками сбывались в частные клиники. Легро делал операцию и отказался прекратить по требованию макута.» Она умрет. Она уже мертва, - рявкнул макут. И выпустив автоматную очередь, он прикончил и женщину, и ребенка в ее чреве. Врача оглушили ударом, надели наручники и привезли в дом макута, где он принял роды» у другой женщины.
«Воспитанный буржуазным обществом, он был настолько глуп, что стыдился своей матери, а это, в сущности, означало стыдиться себя».
Столько хороших людей погибло, но больше всего мне жаль Марию. « Она была родником, легким ветерком, ароматным цветком и зрелым плодом». Гаитяне живут так же плохо, как и жили.
|
|
Поршнев Б. Социальная психология и история. |

Поршнев Б.Ф. Социальная психология и история. Издание второе, дополненное и исправленное. М. Наука 1979г. 232 с. Твердый переплет, обычный формат.
Безусловно, история не может быть безпроблемной и безконфликтной. Споры учёных, сражения разных концепций друг против друга двигают наши знания вперёд, требуют совершенствовать аргументацию, смотреть на привычные, казалось бы, вещи с иной стороны. Жизнь слишком сложна, чтобы выстроить процесс развития человечества в рамках какого-то уравнения, именно поэтому нам вечно необходимо искать и дополнять новые переменные, новые процессы и закономерности, новые способы анализа материала источников, и так далее и так далее.
Конечно, очень многое зависит от личности историка, его мировоззрения и биографии. И часто личностный фактор очень сильно влияет на исследование, особенно если сам учёный не чувствует границ своей субъективности и «Ego». Вспомним, как в старости Лев Гумилёв создаёт довольно странную «Древнюю Русь и Великую Степь», содержащую массу натяжек и сомнительных трактовок, часто данных потому, что так надо автору, либо исследования почтенного индолога Натальи Гусевой, увлёкшейся публицистикой индийского националиста Тилака.
Однако задолго до них советско-российская наука знала и более яркие и противоречивые персонажи. Вот, скажем, колоритная и действительно масштабная фигура Бориса Фёдоровича Поршнева (1905-1972), и найти аналоги этой странной личности очень непросто. «Жак-простак и снежный человек», по словам известного французского историка, «единый политэкономический закон феодализма», международные отношения эпохи Нового времени, французский абсолютизм и крестьянские восстания XVIII века, антропогенез, социогенез, теория классовой борьбы, история социалистической мысли, и, наконец, социальная психология – вот основной (!) круг интересов этого историка… точнее, не историка, а скорее мыслителя. Все, кто учился в МГУ, или просто соприкасался с ним, так или иначе помнят колоритную фигуру Поршнева, в связи с участием в какой-либо дискуссии, либо при соприкосновении в учебно-общественном процессе. В самой Франции, которая и служит основным полем исследовательской деятельности Б. Ф., его хорошо знают, прежде всего по исследованиям народных восстаний XVIII века, показавшим предпосылки Великой Французской Революции. Судя по всему, он производил впечатление красного платка на фоне сдержанной и строгой палитре советской исторической науке.
Предмет нашего сегодняшнего разговора – одна из важных частей творчества Бориса Поршнева, его концепция «социальной психологии», которая наиболее полно отображена в книге «Социальная психология и история» (1966), в своё время вызвавшая фурор в определённых кругах, и для своего времени была довольно смелой. Но прежде чем говорить о самом magnum opus, нам следует рассмотреть, каким же кривым путём историк добрался до своих, весьма своеобразных идей.
Поршнев в детстве был увлекающимся и разносторонним ребёнком, и с ранних лет поставил себе цель – найти общую логику истории, понять глубинную суть исторических явлений. В существующих условиях (1920-е гг.) он мог учится по нескольким специальностям, и основными из них были психология и история, второстепенным – биология. Логика здесь проста – биология – материальная основа жизнедеятельности, история – отображение процесса жизнедеятельности социальной, психология находится на стыке этих двух глобальных сфер, поскольку зависит от обеих. Методологической прослойкой концепции Поршнева навсегда стал марксизм, правда, в его собственной, неповторимой интерпретации.
Интуитивно он принял за базовую основу концепцию «классовой борьбы», и сразу же начал изучение конкретного материала ключевой, по мнению марксистов, эпохи – эпохи окончательного перехода от феодализма к капитализму, XVII веке, увенчанному через столетие Великой Французской революций. Итогом многолетней работы стала книга «Народные восстания во Франции перед Фрондой (1623-1648 гг.)» (1948), получившая Сталинскую премию и широкую известность за рубежом, в том числе и в самой Франции. Горизонтальный срез 25 лет одного из важнейших столетий европейской истории показал большую роль «классовой борьбы», точнее, «народных масс» в борьбе с абсолютизмом и феодализмом, и его решающей роли в дальнейшей модернизации общества. Книга была новаторской, хотя и получила изрядную порцию критики со стороны, скажем, Александры Люблинской, обвинившей автора в слишком широких обобщениях, и подгонки сведений источника под заранее заданную концепцию, иногда откровенно насильной интерпретацией. Впрочем, историку явно было не до досадных мелочей, поскольку именно в широких обобщениях он и видел смысл своей работы.
Утвердившись в своей концепции, Поршнев углубился в прошлое, и начал искать «единый экономический закон феодализма», основанный также на «классовой борьбе». Итогом работы стали монографии «Очерк политической экономии феодализма» (1956) и «Феодализм и народные массы» (1964), в которых он проводит идею о том, что развитие во всех сферах общества было определено «классовой борьбой». Например, усовершенствование сельхозтехники в его интерпретации оборачивалось совершенствованием крестьянского вооружения для будущих схваток с тяжёловооружёнными реакционерами-рыцарями. Само собой, коллеги-медиевисты не одобрили такого, мягко говоря, вольного обращения с историческим материалом, и немедленно «пнули» Бориса Фёдоровича за отход от марксизма и концепции социально-экономической истории, и преувеличении роли «классовой борьбы». Не место здесь говорить о перипетиях этого спора, скажу лишь, что волею обстоятельств Поршнев потерпел поражение, и коллеги приняли его работы без особого интереса. Впрочем, вполне заслуженно.
Основа «ЕЭЗФ» - содержащаяся в III томе «Das Kapital» концепция «феодальной ренты», в которой воплощается феодальная собственность, то есть – постоянно повышающийся уровень внеэкономического принуждения крестьянства, за счёт развития производительных сил. То есть, в основе всё одно находится противостояние классов, просто оно подаётся «под соусом» сталинской политэкономии. Однако теоретическая основа ясна: она лежит не в области, как ни парадоксально это не звучало, социально-экономических отношений, а в области… психологии. Здесь мы подбираемся потихоньку к предмету нашего обсуждения.
Параллельно со своими штудиями, посвящёнными феодальной политэкономии, Поршнев работал в направлении нейробиологии и психологии. Здесь, опять же, не место рассуждать о его концепции перехода от животного к человеку («О начале человеческой истории», 1974), скажу лишь в общих чертах. Историк исходит из идеи резкого революционного скачка, выведшего «вторую сигнальную систему» нервной деятельности на новый уровень, породивший более развитую речевую коммуникацию. Речевая коммуникация сформировала «социальность», увеличение и усложнение социальных контактов друг с другом, и представляющая собой некий, грубо говоря, «коллективный разум». Именно после возникновения этого «коллективного мышления» возникает, по Поршневу, например, «сознательный труд», в отличие от «бессознательного» у животных. Но важно другое: именно этот скачок от палеоантропа к Homo Sapiens породил изначальную социальность, и, следовательно, человек изначально – часть некой общей социально-психологической целостности, как нейрон в мозге, то есть, в базисе – существо абсолютно коллективистское.
В книге «Социальная психология и история» (1966) Поршнев рассуждает о более позднем развитии социальной психологии как человеческой сути, причудливыми сцепками соединяя её с идеей «классовой борьбы». Дело в том, что человек изначально, ещё противопоставляя свою общность популяции «троглодитов», «недолюдей», изначально сформировал в коллективном мышлении базовую дихотомию «мы / они», то есть социально-психологическая общность строилась, прежде всего, на противопоставлении себя иному. Так происходит и в дальнейшем.
Итак, изначально человек – существо исключительно «социальное», и исключительно коллективное. Это снимает одновременно проблему «индивид / общество», поскольку индивида как такового в данной концепции не существует, вернее, он является лишь отображением какой-то стороны социальных связей. Классовое расслоение тоже относится к разряду дихотомии «Мы / Они», и точно также является базовым для любого общества, где присутствует подобный антагонизм. И главная суть перехода классового общества к бесклассовому именно в создании коллективизма, лишённого противопоставлений, и строящегося исключительно на общности «мы». «Мы» скрепляет, в свою очередь то, что Поршнев именует «настроением», некое поле психологического единства, то, что Гумилёв называл «комплиментарностью», противопоставление «приятного / неприятного», «своего / чужого».
Основа коллективизма – коммуникация, основа коммуникации – речь на фонетическом и символическом уровне. Общность сигналов создаёт преемственность между поколениями, различные системы сигналов всё равно взаимовлияют друг на друга путём «заражения» и «внушения». Таким образом, на стыке, на соприкосновении между «мы» и «они», на линии пересечения разных, скажем так, коммуникативных практик, рождается личность, которая внутри своей общности способна воспроизводить представление о другом «мы», в своём роде конструируясь на основе разных социально-психологических практик.
Пункт первый – человек – изначальный коллективист.
Пункт второй – коллектив формируется при помощи объединения на уровне противопоставления «мы / они», в разных вариациях и формах.
Пункт третий – индивид есть сумма детерминант разных сторон социальности, ячейка социально-психологической общности, которая также является носителем дихотомии «мы / они», только на личностном уровне, то есть, точнее, «я / мы».
То есть, в краткой выжимке, эволюция человеческого общества – результат противопоставления одной общности другой. Вот такой вот универсальный, глобальный закон.
Такова общая концепция книги. Нетрудно заметить, почему я столько места уделил вопросу о «классовой борьбе» - эта концепция у Поршнева попыталась найти второе рождение, причём с весьма своеобразной аргументацией, с опорой на междисциплинарность. С другой стороны также несложно увидеть, что концепция Поршнева не является ортодоксально «советско-марксистской», и на фоне теоретических исканий 1960-х смотрится очень свежо и оригинально. Но?
Безусловно, для советской науки в 1960-х гг. это было очень новаторской работой, которая сделала Бориса Поршнева на некоторое время «властителем дум», весьма неортодоксальным и интересным исследователем, идущим наперекор скучным и застывшим учебным схемам. На Западе же «Социальная психология и история» (в 1970-е переведённая на английский и итальянский) стала лишь очередной научно-популярной книгой на широко тиражируемую тему. В ней не было ничего особо нового, и социально-психологическая диалектика не смутила западных учёных. Они не нашли в книге ничего особо нового и интересного.
Что же отпугивает от этой книги сейчас? Прежде всего, её аморфность. Выделить общую схему концепции непросто, нужно приложить немало усилий, чтобы следить за мыслью автора и понять, к чему он ведёт под хитросплетением загадочных фраз и константных утверждений. Во вторых, после чтения многочисленных публикаций западных психологов, социологов и историков «Социальная психология и история» не кажется такой уж впечатляющей, и попытка выделения диалектической доминанты в развитии человечества спорна, хотя и не стоит отбрасывать аргументацию Поршнева так уж огульно. В третьих – Поршнев подходит к своим положениям как константам, и конкретный исторический и социологический материал лишь удобно ложится в рамки его концепции, и вполне уютно себя в ней чувствуют, в силу общей размытости. Найти конкретное описание механизмов описываемых в книге явлений крайне сложно, да их и не представлено. Всё строится исключительно на общей логике… которой можно противопоставить и иную логику. В общем, Поршнев здесь предстаёт скорее философом, пусть даже умным и прозорливым.
Понятно, что такая позиция возникла из-за того, что Поршнев искренне считал, что находится на «переднем краю» науки, и не просто, а науки «марксистской», единственно правильной, научной и верной.
Всё это делает «Социальную психологию и историю» скорее историографическим казусом, чем передовой для современной мысли работой. И тем не менее, для всякого, кто интересуется вопросами и социального единства общества, и психологии, необходимо хотя бы ознакомится с этой книгой, особенно если «интересант» находится в начале пути. Сочинение Поршнева показывает проблему социального с весьма любопытного угла, и порождает ряд полезных вопросов, да и сама общая концепция достойна внимания. В общем, рекомендуется к прочтению, хотя и с некоторой оглядкой.
|
|
"Геном" А. Дж. Риддл |
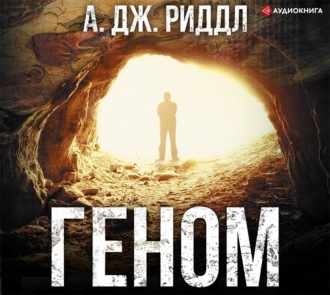
Кривое зеркало
История инфекционных заболеваний всегда сводилась к пассивному реагированию. Впервые мы имеем возможность засечь момент, когда новый патоген проникает в организм первого носителя, и имитировать воздействие вируса, виртуально испытывая методы лечения. Лекарство можно распространять в онлайновом режиме
В недоумение повергает оборванная тема первой книги. Сотни миллионов погибших в муках, мгновенно забыты, жизнь возвращается в прежнее русло. И, как ни печально, это не удивляет - "пусть мертвые хоронят своих мертвецов". Но организация Китеон, виновная в создании и распространении вируса, которая предъявила правительствам Земли ультимативные требования в финале "Пандемии", снова сходит со сцены.
То есть, логично было бы ожидать какого-то развития линии Китеона на планетарном уровне, но нет, все сводится к серии локальных квестов с участием эпидемиолога Пейтон, ее престарелой матери Лин и белокурой бестии Эйвери с одной стороны; австралийских братьев Дезмонда и Коннера под руководством здешнего мефисто Юрия - с другой.
Пожилая леди демонстрирует навыки ведения боя, каким позавидует спецназовец; компьютерщица, шутя, угоняет вертолеты и самолеты; вирусолог рефлексирует. Братья мучительно изживают последствия детской психотравмы и, супя лоб, разгадывают тайны, которые Джаред Даймонд двадцать два года назад раскрыл в "Ружьях, микробах и стали"
Напрасно ждешь вразумительного развития событий. Взамен тебя закармливают конспирологией, родственной любовью в количествах, несовместимых с жизнью, завиральными квазиэволюционными теориями и Алисой Кэрролла. А последнее к чему? Ну, автор подумал, и решил, что каши маслом не испортишь - Алису ведь все любят, почему не вставить ее в книжку про проект "Зеркало"?
В общем, единственное, на мой взгляд, достоинство романа - аудиоверсия, начитанная Игорем Князевым. По крайней мере, в части его исполнения, удовольствие гарантировано.
|
Метки: аудиокниги фантастика |