-Метки
-Рубрики
-Приложения
 ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни
ОткрыткиПерерожденный каталог открыток на все случаи жизни Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст
Онлайн-игра "Большая ферма"Дядя Джордж оставил тебе свою ферму, но, к сожалению, она не в очень хорошем состоянии. Но благодаря твоей деловой хватке и помощи соседей, друзей и родных ты в состоянии превратить захиревшее хозяйст- ТоррНАДО - торрент-трекер для блоговТоррНАДО - торрент-трекер для блогов
 Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо
Я - фотографПлагин для публикации фотографий в дневнике пользователя. Минимальные системные требования: Internet Explorer 6, Fire Fox 1.5, Opera 9.5, Safari 3.1.1 со включенным JavaScript. Возможно это будет рабо СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.
Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить
СтенаСтена: мини-гостевая книга, позволяет посетителям Вашего дневника оставлять Вам сообщения.
Для того, чтобы сообщения появились у Вас в профиле необходимо зайти на свою стену и нажать кнопку "Обновить
-Резюме
- Профессия преподаватель иностранных языков
- Образование Российский Государственный Педагогический Университет им. А.И.Герцена
- Опыт работы немецкий и английский языки
-Цитатник
АБРАКСАС Абраксас (греч. Άβράξας) или (более ранняя форма) Абр...
ФОНТАН НЕПТУН. ВЕНА. АВСТРИЯ. - (0)Фонтан Нептун. Вена. Австрия. В парковом комплексе Шенбрунн находится фонтан Нептун, который п...
Марк Бернес, которого мало знали. - (0)Марк Бернес, которого мало знали... //s004.radikal.ru/i206/1204/35/7a61103ae869.gif Доброе ...
Фотограф Лукс Сергей - (0)Красивейшие фотографии Санкт-Петербурга. Фотограф Лукс Сергей Красивейшие фотографии Санкт-Пет...
Художник Хлебников Валерий. - (0)Деревеньки... Художник Хлебников Валерий http://i1.2photo.ru/medium/e/p/352130.jpg [more= ДАЛЕ...
-Ссылки
-Музыка
- Leichte Klassik
- Слушали: 28 Комментарии: 0
- Leichte Klassik
- Слушали: 5 Комментарии: 0
- Стахан Рахимов, Любимой Женщине.
- Слушали: 12 Комментарии: 0
- В. Шульгин. Грустный Романс
- Слушали: 47 Комментарии: 6
-Фотоальбом

- Пусть усталые люди заходят в мои цветники...
- 11:03 30.08.2011
- Фотографий: 16
-Стена
-
Добавить плеер в свой журнал
© Накукрыскин
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Сообщества
-Статистика
Серия сообщений "Что Хранит Память.":Выбрана рубрика Что Хранит Память..
Часть 1 - Вод Водович и Иван Водович.
Часть 2 - Александр Чашев. Ещё раз о названии Холмогоры и не только...
Часть 3 - Шаньга. Узорпизер.
Часть 4 - Мы - дети Чуди и Славян.
Часть 5 - УлетЕла ЧАица за Синее...
Часть 6 - Про Tатарское Нашествие.
Часть 7 - Лень и Отеть.
Часть 8 - Евг. Рыбаченко. Слово.
Часть 9 - Александр Чашев. Боженьку попросим.
Часть 10 - Святочные Виноградия.
Часть 11 - По следам Артура и Ванды.
Часть 12 - Песенные люди – Чудь Заволочьская – «люди, о которых говориться в сказках» и помОрска говОря – реликты архаической Северной Руси.
Часть 13 - «Золотая Баба» пермяков и Богородица Православного христианства – одно и тоже. Из цикла "Там Русский Дух, там Русью пахнет".
Часть 14 - Часть 28. Почему "Закон судный людям" и Русский Дух несовместимы? Из цикла "Там Русский Дух, там Русью пахнет".
Часть 15 - основатели Спасо-Преображенского монастыря на о. Валаам в Ладожском озере.
Часть 16 - Марк Бернес, которого мало знали.
Часть 17 - Стихи и песни о Мезени
Часть 18 - АБРАКСАС
Другие рубрики в этом дневнике: Что Хранит Память.(1), Творчество В. Шульгина.(2), Словарь Нашего Детства(3), Словарь выражений Поморьской Говори; пословицы и п(4), Поморские Сказки.(0), Толковый Словарь Поморьской Говори(4)
Вод Водович и Иван Водович. |
Дневник |
Что-то ей жажда долИт. Подошла к своёму колодцу. На колодци на крыши два стокана воды. Один стокан выпила – маловато, и второй выпила. Живёт поживат, потом узнала в нутрОбе шо-то нехорошо. Вот и живёт, брюхо ростёт. Потом несколько времени родила двух сыновей. Бабок, нянёк закликала, шобы они не разносили вести.Но потом собрали таким побутом попов. Нельзя носить крестить. ОднОму дала имя Вод Водович, другому Иван Водович, потому шо оны от воды зародились.
Ну вот эти детоцьки ростут не по цясам – по минутам, не по минутам – по секунтам. Выросли больши, даже стали из лука стрелки стрелять.
Подай, говорит, дети, ваш дедка, мой папа узнал и у вас головы соймёт и вас к смерти предаст.
Дала им по белому платку, дала по иконы, дала божье благословенье. Выпустила за ограду, и дети пошли по дороге, роширя ноги.
Шли несколько времени по этой дороги, дорога пошла нАдвое. Одна дорога пошла по синЮ морю, а друга в путь. Ну вот они поменялися платками белыма.
Ежели который платок потемнет, так другому искать брата. Вод Водович пошёл по синю морю, а Иван Водович пошёл по прямой дороге.
Вод Водович шёл по синЮ морю, встретился медведь – Мишка. И говорит Мишка, говорит:
Вод Водович, возьми меня в товарищи.
Эх, Мишенька, Мишенька, я бы взять-то рад, да кормить не могу тебя.
Мишка и говорит:
А что пьёшь, ешь, я хоть крошки, хоть куски, и тем питаюсь.
Ну вот пригласил он Мишку в товарищи. Пошли по дороге.
Идут по синЮ морю на пристань. Рыболовы рыбу ловят на пристани.
Он говорит:
Рыболовы, говорит, продайте рыбы.
Рыболовы дали ему рыбы, он сварил, покушал и Мишку накормил.
А що же, товарищи, перевезли бы меня за синё море.
Они и согласились его везти в карбас. Вот и повезли. Перевезли за синё море, он расчёт им отдал, деньжонок горсь без сцёту. Пошёл сам по дороге, роширя ноги, в путь, куда дорога идёт.
Шёл, забрёл в город, пошёл по за городу, зашёл в дряхлу избушку, живёт старуха. Старуха от молитвы отказалась, странника накормила, напоила и вести стала спрашивать.
Откуль, добрый молодець, идёшь и куда путь дёржишь?
А он и говорит:
Что, бабушка, у вас здесь царь царит, ли король королюет?
Она на ответ дала ему:
Здесь король королюет, да не совсем в радости весёлой. У ёго три доцьки. Перву доцьку просит троеглавой змей в жёны. Все плачут и ревут, на спроводИны пошли, я пойду тоже.
Вод Водович остался у ей в избушки.
Но вот шим-хам, и ушёл со своим Мишкой. Пошёл о синё море. Приходит о синё море, стоит высокая башня. Он зашёл в эту башню, сидит королева и улыбкой уливается слезами.
Он и говорит:
Дева, поищи у меня, прохожАя, в голове вшей (просто).
А она и говорит:
Ох, добрый молодець, соньце закатится и заря зазорится, поганое издолищо выдет из синЯ моря, троеглавый змей, меня съес и тебя съес.
Время рано ещё, девиця, нечо пецялиться.
Дал ей перёчинной ножичёк и лёг ей на колени. Она стала в его головы промышлять вОшок. Он заснул крепким сном у ея на коленях.
Потом соньце закатилось, заря зазарилась, вышел троеглавой змей. И говорит змей:
Фу, говорит, русский дух, не то што одна добыча, двойна.
Она его будила, будила - одва разбудила. Он говорит:
Ах, ты, погана тварь. Какого-то тебе понравится. С головы косливо, а с …, не отеребил да и опалил.
Побежал Вод Водович, свой тесак обнажил, три головы его срубил на промах, эти головы под ЗлАтырь камень завалил, туловищо в море спехнул. Зашёл к девици королеве. Королева зовёт его на родину домой. А он и говорит:
Девиця, будешь на временИ, так тогда меня поменИ.
Водовозы приехали за водой. Она к им проситсе. А старший водовоз говорит:
Идёшь за меня замуж, так возьму и увезу.
Согласилась будто как идти за йго.
А Вод Водович опять пришёл к этой старухи. Старуха накормила, напоила, тогда на отдох по знакомсьву его повалила. На други сутки опять шестиглавой змей просит другу дочь. Ну вот старухав город, а Вод спрашиват:
Шо, бабушка, у вас ведётся?
А вот втору доцьку шестиглавой змей просит. Я тоже пойду спровожать.
Старуха ушла. Вод Водович пошёл сзади ея тоже шляться по синЮ морю. Где ходил – не ходил, опять пришёл к этой башни. Опять королева сидит в этой башни, улыбкой слезами уливатсе. Он зашёл в башню, поздоровался с королевой и говорит:
Королева, говорит, поиши, говорит, у меня, прохожАя, в головы вшей.
А она говорит:
Поискать-то бы я рада, да нецим.
Он дал свой маленькой перёчинной ножичок и повалился к ей на колени. Она искала, искала, потом он заснул крепким сном.
Соньцо закатилось и заря зазарилась. Вышел поганой издолищо из синя моря, шестиглавой змей.
Фу, говорит, русский дух, не то що одна добыча, а двойна.
Она будила, будила всяко. Ему на лицо слеза капнула.Он вскоцил и побежал на побоище, выхватил свой тесак, обнажил тесак на поганого издолища шестиглавого змея, и отрубил шесть голов своим тесаком. Головы свалил под ЗлАтырь камень, а туловищо, в море спихал. Зашёл в башню королевы. Королева с улыбкой ёго желат в гости к ёго отцу к родителю. А он и говорит:
Когда, королева, будешь на временИ, так тогда меня поменИ.
Мишки на шею дала шёлковый платок. Связала своима рукама. Вод Водович пошёл, а она осталась в башни. Опять приезжают водовозы за водой, и просится она к им уехать домой. Они говорят:
Ежели скажешь, что мы спасли, так возьмём, а не скажешь, так не возьмём.
Вод Водович пришёл опять к той же старухи на отдох. Старуха накормила его опять по старому времени, как и раньше поцитала.
Ну, говорит, что, бабушка, у нас ведётся ново?
А, говорит, последню доцерь девятиглавой змей просит на съеданье. Две-то спасали водовозы, а эту уж, говорит, не знаю.
Бабушка пошла спровожать, на спроводины, а Вод Водович пошёл ко синЮ морю. Де ходил не ходил, опять в ту же башню приходит. Сидит королева. Опять заставил таким же побутом вшей в головы искать.
Но вот соньцо закатилось, заря зазарилась, из синя моря вышел поганой змей девятиглавой.
Она его будила, будила за ревун-волос (за ухом) разбудила.
Вод Водович побежал на драку с поганым издолищем драться. Выхватил свой тесак, девять голов сразу отрубил. Головы под ЗлАтырь камень завалил, туловищо стал спихивать в морё. Когти поганого ульнули в одежду. Потом вместе с туловищем и сам ушёл в морскую глубину.
Закрицял:
Эй, Мишка, брат!
Мишка прыгнул и его поймал зА волосы и вытащил вместе с туловищом. Туловищо, худо ли хорошо, спехали возрАт с Мишкой, обое перемокли. Пошли к королевы в холодную башню. Вот королева звалА их к отцю-родителю на пир, на бал. А он говорит:
- Когда будешь королева, на временИ, нас помени.
Пошёл опять о синЕ море к избушке той же старушки.
Водовозы подъезжают за водой к синЮ морю. Она просится к им, говорит:
Возьмите меня, водовозы!
А они говорят:
Взять-то бы и взяли, да выйдет нехорошо. Если скажешь, што мы спасли, то – хорошо, а то – побьём и в море бросим.
Она согласилась и заклятье дала, шо худого от меня не выйдет.
Но вот приехала домой. Отец-король сОбрал пир-бал, со всех держав понаехали князья и бояра, короли и цари. На этом пиру старша доць стала себе жениха выбирать.
Вод Водович тожо пришёл на пир на бал, со своим Мишкой, сел на пецьной столп , а Мишка сел там (жест на порог) на диван. Ну вот это старша доць подносит женихам по цярке водки, князьям и боярам, королям и царям. Выбрала себе жениха князеського сына. Вод Водович заиграл в рожок:
Мне-то цяроцку да полвёдерную, а Мишеньке-то цетвертную. Маленько потонцовали и оселись.
Вторая доць стала опять по цярке обносить. Всех обнёсла, жениха не могла найти. Подала цяроцьку Воду Водовичу. И сказала – призвала своёго папашу.
Вот, папаша, не водовозы нас спасали, а вот хто спасал. Тот - богосУженой, который сидит на пецьки на столбу.
Он спустился с пецки. Она ево в уста поцеловала, назвала своим богосуженым.
Ну, и третья стала опять по цярке обносить. Всех обнесла тоже по цярке гостей, прихожих и приезжих. Но выбрала тоже жениха себе, королевского сына.
А у короля ведь не пиво варить, не вино курить, свои магазиня стоят. Попов, дьяков в церковь да на подножник, за трёх зятьей и три доцери. Повеньцял поп законным браком. Потом пировали - столовали.
Вод Водович пЕреспал одну ночку. Пошли гулять по городу со своей королевой, по москам идут. Бежит птичка очень прекрасна. Вод Водович хочет поймать эту птичку. Она не даётся в руки. Бежала, бежала, да свернула с москов в дряхлу избушку. В сени сунулся, а потом и в избушку. А сидела старуха на пеце с клюкой. Она ощипетела его ловко, он помертвел.
У Ивана Водовича потемнел платок. Схватился брат ёго. Пошёл тоже искать брата по той же дороге ко синЮ морю. Тоже стретился Мишка, тоже пригласил ево в товарищи и тоже пришли на ту же пристань, где рыболовы рыбу ловят. Иван Водович купил рыбы, сам наелся, накушался и Мишку накормил. Потом попросил рыболовов за синЁ море. Рыболовы согласились, перевезли ёво в кАрбасе, сколько-ненабуль дал им копейёк за перевоз.
Потом идёт по дороге в город. Королева ёго увидала.
Ты, Вод Водович, говорит, де ты был?
Она посоштила хозяина. Ну вот они зашли в дом её. Ноць принадлежит к ноцьлегу. Но вот он и говорит:
Королева, которой руку накинем ле ногу, у того голова с плец.
Вот и легли спать. У королевы сердце заболело – повеньцялись с хозяином, а спать нельзя. Как-ненабудь ноць прошла, пропутались.
Утором стают, опять пошёл гулять по городу под руцьку по москам. Опять та же птичка стретилас Ивану Водовичу. Королева и говорит:
Вод Водович, не ходи, опять омманет.
Ну вот Иван Водович крался, крался с москов в избушку. Она в сеньци скочила, и он – взади. Потом в избу-то не сунулся. А старуха-то клюкой-то и треснула его. Он выхватил клюку да старуху-то и убил.
Своёго Мишку послал в МагАзин за живой водой. Мишка принёс два шкалика воды. Одной спрыскАл – сделался целой, другой спрыскАл - сделался живой.
Фу, говорит, долго спал, скоро стал.
Но вот они тут два брата поздоровались. Вод Водович повёл к тестю в гости. Стали пировать да столовать да три недели все гуляли.
Вод Водович и говорит:
Брат Иван Водович, у купца-то доць хороша есь, стану свататься.
А не пойдёт, говорит, за бродягу.
А отцево не пойдёт?
Вот пошли сватать. Сосватались тоже. Богу помолили да и спать. Но вот привыкли немножко. А у купца сыновей не было, его в принятЫе к купцу. Торговля широко идёт. Один брат взял королеву, а другой – купецеску доць.
Жить, поживать, и теперя живут.
Ну вот, тебе одну побывальщину росказал.
Вожгоры. Пересказано Яковом Васильевичем Поташовым в 55 лет.
|
Метки: Побывальщина Вожгоры Златырь |
Александр Чашев. Ещё раз о названии Холмогоры и не только... |
Дневник |

Многочисленные искатели глубинных корней названия села Холмогоры (Архангельская область) сходятся в одном – его современная форма образована от имени местности, авторами которого были представители народов, населявших север европейской части до прихода русских.
Кто же были наши (наряду с русскими) далёкие предки? На каких языках они говорили?
Известный исследователь топонимии (наука о названиях мест) Русского Севера А.К.Матвеев отмечает: “Хотя считается, что предшественниками русских на Севере были в основном прибалтийские финны карело-вепсского типа, и подтверждение этому видят во множестве прибалтийско-финских заимствований, усвоенных местными русскими говорами, саамские топоосновы встречаются в регионе так же часто, как и прибалтийско-финские».
Поэтому одной из наиболее популярных у топонимистов является этимология (толкование) названия Холмогоры при помощи слов из финских языков. В том числе: его первой части холм от слова кальма в значениях «смерть, могила, мёртвый», а второй – от слова ваара в значениях «гора, сопка, холм».
Правда, есть ещё саамское слово вар – «дорога, путь». И оно могло быть второй частью основы исследуемого топонима. Но это уже другая версия, для обоснования которой требуются дополнительная информация.
Поэтому продолжим исследование с использованием приведённых выше финских значений.
Итак, в совокупности кальма ваара может означать «могильная гора» или «могильный холм».
Пришедшие на север новгородцы, в процессе приспособления данного словосочетания под звуки и нормы русского языка (адаптации), могли придать ему сначала форму Колмовара, а затем Колмогоры.
Именно последнее название известно с XIV века, когда объединение существовавших здесь посадов впервые упоминается под этим общим именем.
Кстати, далёкие предки жителей деревни, находящейся в Лешуконском районе (от райцентра вверх по реке Мезень), в своём топонимическом рвении остановились на этом названии – Колмогоры. Так до сих пор деревня и зовётся.
Это название могли принести в Сибирь выходцы из наших мест. В 1682 году (год прихода на престол Петра I) Кеврольско-Мезенский воевода Г.Я.Тухачевский писал: «…крестьяне от непомерного правежу бегут в Сибирские розные городы».
По мнению П.А.Колесникова («Путешествия и родословия», Вологда, 1997, С.100) только из-за Петровских реформ в начале XVIII века в Сибирь ушло до 45% крестьян Поморья.
Следующая значительная волна переселения была спровоцирована императрицей Елизаветой Петровной (1745-1765 гг.). Причина – жестокие гонения и преследования раскольников, коих в северных краях было немало.
Новым населённым пунктам их основатели-северяне часто давали названия покинутых ими деревень. Возможно, посёлок Колмогоры в Кемеровской области из их числа.
Ещё любопытный факт, имеющий отношение к данному топонимическому расследованию: выше лешуконской Колмогоры (по Мезени) расположена деревня, именовавшаяся в переписях 1623 и 1646 годов, как Ченевара. Прошло всего лишь 33 года и в переписи 1678 года деревня именуется уже, как Ценогора. Наглядный пример народного (писцы тоже из народа) творчества! И теперь, когда жителей деревни Ценогора спрашивают о смысле её названия, они с гордостью говорят: «у нас ценна гора!». Вопрос «в чём её ценность?», остаётся без ответа.
Но, по крайней мере, Ценогора расположена на холме, или горе (на северорусском диалекте), и поэтому вторая часть названия имеет оправданный смысл, причём, адекватный прежнему значению слова из финских языков ваара.
Возможно, более рьяные грамотеи из двинских Колмогор решили сделать название полностью родным, для чего первую часть непонятного слова колм заменили на холм. И название вроде бы обрело смысл: холмы и горы вполне русские слова. С другой стороны нелепость его применения для плоской, болотистой равнины без холмов и гор, также очевидна.
Однако вернёмся к возможному первоисточнику (этимону) названия кальма вара, в значении «могильный холм».
Итак, для того, чтобы оно могло обрести первородный смысл, необходимо найти этот самый холм с захоронением, относящимся к дорусскому периоду жизни этой местности.
Напротив Холмогор, на Кур-острове (родина Ломоносова), археологи обнаружили «Святую рощу» (он же Куростровский Ельник), являющуюся по преданию местом чудского капища, посвящённого богу Иомале. Кроме того, к северо-востоку от Ельника найдены две искусственных насыпи.
О подобных находках на месте основания Холмогор пока ничего неизвестно.
Что же, «расследование» зашло в тупик?
Помощь пришла из прошлого! В статье “Заволоцкая чудь”, изданной в 1869 году, П.С.Ефименко приводит сообщение священника П.А.Иванова: “В одной из частей г. Холмогор, среди низменной плоскости, заливаемой ежегодно водою, возвышается искусственная насыпь, на которой ныне построены собор и монастырь. Эта насыпь, называемая городком, приписывается временам Чуди”.
Искусственная насыпь среди равнины? Зачем чудь её соорудила? Над чем? Или кем? И почему христианский собор построен именно над ней?
И снова возможная подсказка получена от наших предков. В словаре, являющемся частью работы “Родина Михаила Васильевича Ломоносова. Областной крестьянский говор” (1907 г.), её автор - священник Куростровской церкви А.К.Грандилевский пишет: “Куростровская часовня молитвенный дом на окраине Куростровского выгона, прилегающего к Холмогорской стороне, вблизи северно-западной окраины Куростровского селения, - стоит на высоте холма, который по преданию насыпан над тремя чудскими князьями”.
Честные русские батюшки, приведя указанные сведения (о язычниках!), поступили по совести. И благодаря их гражданскому мужеству, может быть, найдено недостающее звено для этимологии исследуемого топонима: искусственная насыпь, на которой впоследствии воздвигнут Холмогорский собор, возможно, есть не что иное, как чудское захоронение, или могильный холм (курган) – кальма ваара на финских языках.
Более того, можно предположить, что сообщения двух священников основаны не на преданиях, а на каких-либо ещё сохранившихся церковных документах, относящихся ко времени начала строительства собора. Или эти документы имеются где-либо и в наши дни?
Почему собор в Холмогорах и Куростровская часовня построены над могилами язычников?
Термин «язычество» литературного происхождения. Произошел от церковнославянского слова «языци», т.е. «народы», «иноземцы». Таким образом, книжники эпохи Киевской Руси - христиане по вере, называемой ещё «греческой религией» - как бы «отгораживались» от народов, еще не крещенных, в том числе и от русского.
«Отгораживались» христиане от носителей предшествующей их приходу религии и другими способами. После принятия христианства киевский князь Владимир сокрушил и осквернил недавно утверждённый им же пантеон (совокупность славянских богов) и «повеле рубити церкви и поставляти по местам, идеша стояша кумири». С тех пор это правило неукоснительно соблюдалось – церкви возводились на местах капищ, святилищ и захоронений язычников - идеологических противников и конкурентов христианских миссионеров.
Не правда ли, что-то подобное происходило в недавние времена? Происходит и сейчас.
Большевики пытались разрушить «весь мир насилья до основания, а затем» построить новый. Предшествующее их приходу к власти прошлое они также предали забвению. В церквях были организованы клубы, театры, кинозалы, главной задачей которых было внедрение в умы «новых прихожан» коммунистической идеологии, частью которой был воинствующий атеизм.
К сожалению, история в нашей стране зачастую учит тому, что ничему не учит. Иначе, чем можно объяснить навязываемое ныне потомкам «подлого сословия», «черни», «хамского отродья» (термины правителей прошлого для обозначения народа) раболепство перед фантомными ликами усопших в давние времена царей, князей, клерикалов, ещё совсем недавно называемых палачами, сатрапами или их пособниками.
Имена развенчанных коммунистических «святых» до сих пор носят улицы, города и даже губернии.
А нас – потомков бывших крепостных, монастырских и черносошных крестьян, уже призывают ещё раз вернуться в «светлое» монархическое, подретушированное современными придворными холуями прошлое, и возлюбить его, вкупе со всеми обретающимися там тенями социальных паразитов- угнетателей наших предков. То есть, по сути, предлагают вновь стать холопами.
К чему это отступление от заданной темы? А к тому: не узнав, кто мы и откуда, нельзя найти ответ на главный вопрос - «куда идём?».
В истории России есть, чем гордиться, но много в ней и позорного. Один и тот же её участник может выглядеть с одной стороны, как герой, святой, а с другой, как злодей.
Примеры? Им несть числа! Хотя бы упомянутый выше киевский князь Владимир. Для православной церкви он – «святой равноапостольный Великий князь». Для других наших далёких предков, и в их числе его отца - князя Святослава, князь – клятвопреступник, да ещё и убийца родного брата, и на этом основании проклят навечно.
Второй пример - Владимир Ильич Ленин. Третий – просто Владимир Владимирович.
Поэтому «елейная» история, насаждаемая в последнее время в умы россиян, наёмными и добровольными марионетками, ничему не учит, а лишь способна вести в заданном кукловодами направлении.
Нельзя из истории «выбросить» огромный период, предшествующий крещению Руси или сводить её только к истории христианства и царизма.
Иначе быть нам «Иванами, не помнящими родства». Если вспомнить, что это древнееврейское имя появилось на Руси лишь с приходом христианства, то есть не раньше X века (на Севере гораздо позднее), то смысл приведённого выражения можно толковать и следующим образом: «Человек, получивший при крещении какое-либо (в основном иностранное) имя, отрекается от всех родных, исповедующих другую веру, и должен помнить только предков-христиан».
Не будем в этом смысле «Иванами»!
К сожалению, предшествующая христианству история Руси, уже многие века «стирается» из народной памяти, подменяется ложью. А ведь, чем древнее ложь, тем опаснее. Значит, она глубоко пустила корни. И поэтому абсолютное большинство россиян, уже не осознаёт себя потомками Велимиров, Ратиборов, Твердиславов, Ярополков, Ахти, Кале, носителей сотен забытых и запрещённых святцами славянских, финских и других имён наших предков.
Кстати, автор данных строк никакого отношения к «неоязычникам» не имеет, поскольку убеждён, что реставрация ЛЮБЫХ, отживших свои века идеологий, обречена на провал.
А предков надо помнить всех!
http://www.proza.ru/2011/02/24/2190
|
Метки: Архангельская область Холмогоры чудь |
Шаньга. Узорпизер. |
Дневник |
УЗОРПИЗЕР *
Жили встарь на дальних выселках за гумном о край дороги двое сирот малолетних: Еря полорота да Имаша колченогой. Родители те померли у них давно, оставив детям за собой лишь пенсию по инвалидности да долги по квартплате...
Еренья от рожденья девка была рукодельна - робить да обряжацца мастерица: то шоркала дресьвой по передызью, то шуйкой латники на лавке скала, а то дак стряпала квашню в прилубе. Имашка-малолеток тудой же личнось был самостоятельна - всё время ись хотел и без затей жить не умел: зиму ту по чуланам да полатям шарился - всяку заваль коцкал, а лето сижал во дворе на дне песочницы - лепил кренделя из грязи да сестры с работы дожидал.
Вот летось в кой то день запорхалась Еря на подёншшины: с другима девками жито по амбарам в засеки зобнями таскали. Упёхтались все, и устроили долгой перекур за сараями... Пришла домой, а Имашка в песочницы похоже как голову узорпизера слепил из глины! Закричала на него Еря: "Пошто ты, выпорок такой проклятушшой, неладно-то эко опять затеял! Родители при жизни ить порато строжили те цёморей да муринов пекци!" Схватила она заступ на погребице и разбила голову узорпизерову! Затащила братца в избу, натёрла пельменей соевых на тёрке, напружила обрату в полагушки, напоила, накормила его и спать уложила.
Другой раз ишше поздне воротилась Еря домой: весь день прясла из жердей за дальней мызою на пожнях ставить помогали мужикам, а вечером всема портвейн пили в овине... Прибрела домой в заполночь, а Имашка уж почти всего узорпизера вылепил, токмо хвост осталося доделать! Зашумела Еря на братца пушше давешнего: "И сколь неймёцца те бестоц ты така, ты окоянна - гадина! Накликашь нам беды - попомнишь от родителей!" Распинала чучело узорпизерово ногами, зачерпнула канькой воды с под потоку, заволокла братца домой, навертела котлет из мяса крабовых палочек, накормила, напоила его и спать уложила.
В третьёй раз совсем припозднилась Еря: у жонок на поскотины сёртала с подойником порозным до заката, а вотемень на танцы в клуб с парнями утянулась... Приташшилась домой под утро ужо, а Имашка-то целого узорпизера вылепить успел, объел весь мох да дегёль по углам и спит в песочницы "без задних ног"! Увидала Еря эко чудище в потёмках, сполошилась, побежала от страху, да и угодила сослепу в незакрытой канализационной колодец!
А Имаша не смог выбраться сам из песочницы, долго звал на помошш, да и пропал там с голодухи...
* Узорпизер - редкое сказочное существо, сродни чаморям да муринам**. Мутант. По поверьям - помесь русалки и пьяных рыбаков. Обладает сильно вытянутым змееподобным ластоногим "туловом", сплошь покрытом "шешуёй" и наколками. На голове имеет кожистый нарост в форме шапки - ушанки и вставные рандолиевые зубы. Обитает в канализационных трубах и коллекторах, хаотично перемещаясь там, создавая при этом заторы и пробки в сети. Ведёт скрытный образ жизни. На поверхность никогда не выходит - боится солнечного света и бродячих собак. Полигамен, но не имеет возможности самовоспроизводства, поскольку самок узорпизера даже в сказках никто не видал. Тем не менее, постоянно устраивает свои гнёзда в септиках и выгребных ямах, издавая при этом громкие клокочуще-булькающие призывные крики. Питается, предположительно, отбросами жизнедеятельности других организмов. Подстерегает себе жертв в открытых канализационных колодцах и заброшенных общественных туалетах, ловко имитируя женские вопли о помощи, шипение водопроводного крана или журчание унитаза. Что там творит со своими жертвами - "досели неизвестно"...
* Чамори и мурины - та же нечисть, лесные духи.
http://www.proza.ru/2010/11/03/485
|
Метки: Узорпизер чамор мурин нечисть |
Мы - дети Чуди и Славян. |
Дневник |
Я по лесам тоскую,
Я чую в жилах кровь славян,
Но чую и чудскую.
- Совсем в иные времена,
Которых не вернуть,
В лесах, к востоку от корел,
Сидело племя – Чудь.
Веками жили люди те
У северных морей,
Охотники и рыбаки
Не знавшие полей.
По их земле текли к морям,
Прозрачные от снега,
Три грозных северных реки
- Мезень, Двина, Онега.
Но годы шли, текли века,
Пришел иной народ,
И где селился словянин
- Исчез чудинский род.
Не вопрошай меня сестра
Куда ушли те люди,
Смотри – вот, в жилах у меня
Кровь Заволоцкой чуди.
Их облик ныне сохранён,
Как сотни лет назад
- Белесый волос и прямой
Беззлобный серый взгляд.
Но ныне если соберёшь
Потомков их на вече,
Не сможешь ты уже сестра
Чудской услышать речи.
Но живы многие слова,
Ремесла и узоры.
Мы дети чуди и славян
И имя нам – Поморы!
|
Метки: чудь славяне поморы речь |
УлетЕла ЧАица за Синее... |
Дневник |

Увы, увы, дитятко,
Поморской сын,
Ты был как кораблик белопарусный,
Как чаечка был белокрылая!
Как елиночка кудрявая,
Как вербочка весенняя!
Увы, увы, дитятко,
Поморской сын!
Белопарусный кораблик ушёл в море,
Улетела чаица за синее,
И елиночка лежит порублена,
Весенняя вербушечка посечена
Увы, увы, дитятко,
Поморской сын!
|
Метки: Поморской сын чаица белокрылая елиночка белопарусный кораблик |
Про Tатарское Нашествие. |
Дневник |

Записано А.М. Астаховой на Мезени в деревне Усть-Низема Лешуконского района 1 июля 1928 года от Максима Григорьевича Антонова. 59 лет.
Подымалось чудищо не мАлоё,
Да как и не малоё да не великоё.
Да голова у него да как пивнОй котёл,
Да как глаза у него да как пивнЫ цяшИ,
5 Да промежу ушами каленА стрела,
Да промежу глазами пядь бумажныя,
Да уж и плечи у него да как коса сажень,
Да как и коса сажЕнь нонче печАтная.
Набирал набор он ровна трИгода:
10 У которого былО ведь семь сынов,
Он ведь шесть сынов ноньче себе берёт,
А седьмого дома он остАвливал,
Да отцу-матушкИ да на пропИтанье.
У которого ведь было шесть сынов,
15 Он ведь пять сынов ноньче себе берёт,
А шестого дома он остАвливал,
Да отцу-матушки да на воспИтание.
У которого было ведь пять сынов,
Он четыре ноньче ведь себе берёт,
20 Апятого дома остАвливал
(до одинакА всё так).
Он ведь набрал силы много-множество:
Впереди его на сорок тысечей,
По правОй его рукИ да сорок тысечей,
По левОй рукИ да сорок тысечей,
25 Да позади его да чИслу-смЕты нет.
Он пришёл ко городу ко Киеву,
Што под те под стены он ведь каменны,
Он садился нонь да на ременчат стул,
Он писал ерлык да скорописчатой,
30 Он ведь просит у них да стольне Киев-град
Без бою, без драку, нонь без сЕценья,
Без того кроволития великого.
Он послал посла да скоро-нАскоро:
Да ты поди, посол, да скоро-нАскоро
35 Церез стЕнушку да городОвую,
Мимо башенки да наугольнея.
У ворот не спрашивай воротников,
У дверей не спрашивай придверников,
Ты уж в гридню иди и лиця не чьти
( Прежде у князей так комнаты те назывались – ГрИдни),
40 Да лица не чьти, богу не кланейся,
Да ерлык на стол клади да сам вон иди.
Говори ты речь да не с упАдкою,
Не с упАдкою да не с охвАткою
(Это наказывал Идолищо-то).
Пошёл, пошёл да скоро-нАскоро
45 Через стенушку да городовую,
Мимо башенки да наугольнея.
У ворот не спрашивал воротников,
У дверей не спрашивал придверников,
В гридню идёт и богу не кланеетця,
50 Да ерлык на стол кладёт да сам и вон идёт,
Говорит речь да не упАдкою,
Не с упАдкою да не с охвАткою.
Брал тут ноньце да Владимир-князь,
Брал ерлык да он прочитывал
55 – Как пришло нонь поганое Издолищо
Ко тому ко городу ко Киеву,
Он и нагнал силы он несметные,
Он и просит нонь да стольне Киев-град
Без бою, без драки он, без сЕценья,
60 Без того кроволития великого,
Тут-то князь и опечалился,
Да сам-то говорит да таково словО:
Кабы был по-прежнему ИльЯ-какзак,
ИльЯ-казак, Илья Муромец
(Илья-то Муромец в погребе ведь засажОн был).
65 Пособил-ка мне да думу думати,
Думу думати да горе мыкати,
Отдать или не отдать столне Киев-град
Без бою, без драки, нонь без сЕценья,
Без того кроволития великого.
70 Говорит кнегина тут АпрАксея:
Што батюшка нынь Владимир-князь,
Сходи-тко ты во глубь погрёб,
Не жив ли там Илья Муромец,
Илья Муромец сын Иванович?
75 Как Владимир-князь красно солнышко
Пошёл-то он да во глубОк пОгреб.
Открывали замки да всё немецкия,
Как снимали плетЫ железныя,
А сидит там стар, весь волосом оброс
(Книгу читат).
80 Падал тут князь на кОленки
Перед старЫм Ильёй Мурмцем,
Да низко ему поклоняитце:
Уж ты батюшко наш старЫй казак,
СтарЫй казак Илья Муромец,
85 Илья Муромец, сын Иванович!
Пособи-тко мне думу думати,
Думу думати да горе мыкати:
Как пришло ко городу ко Киеву
Да поганое Идолищо,
90 Он нагнал силы много мнОжества,
Он ведь просит у нас да стольне Киев-град
Без бою, дез драки, нонь без сЕценья,
Без того кроволития великого.
Тут сидит-то старый – очей низвёл.
95 Побежал-то он ко кнегине Апраксине:
Уж ты матушка кнегина Апраксина,
Ты поди-тко во глубОк пОгреб -
Там есь жив старый казак Илья Муромец,
Илья Муромец да сын Иванович,
100 Попроси да ты его уж милости!
(Она его всё содержала, всё кормила).
Пошла кнегина тут Апраксина,
Пала она на коленки перед погребом:
Уж ты батюшко да наш старЫй казак,
Наш старЫй казак да Идья Муромец,
105 Илья Муромец да сын Иванович!
Пособи-тко нам думу думати,
Думу думати да горе мыкати,
Как отдать-то не отдать да стольне Киев-град
Без бою, дез драки, нонь без сЕценья,
110 Без того кроволития великого
Тут старый выскочил из погреба.
(Сорок сажен погреб был, выскочил ещо выше)
Пошёл Илья по городу по Киеву.
ЗабегАл-то князь да во первой накОн,
Да низко ему поклонеитця:
115 – Уж ты батюшко да наш старЫй казак,
Старый казак Илья Муромец!
Пособи-тко мне думу думати,
Думу думати да горе мыкати,
Отдать или не отдать да стольне Киев-град
120 Без бою, без драки, нонь без сЕценья,
Без того кроволития великого.
Идёт-то старый, очей низвёл
(Не остановился, осерчал на его).
ЗабегАл-то князь во вторОй накОн,
Ищо того ниже поклонЯитце:
125 – Уж ты батюшко да наш старый казак,
СтарЫй казак Илья Муромец,
Илья Муромец да сын Иванович!
Пособи-тко мне думу думати,
Думу думати да горе мыкати,
130 Отдать или не отдать да стольне Киев-град
Без бою, дез драки, нонь без сЕценья,
Без того кроволития великого.
Идёт-то старый, очей низвёл
ЗабегАл-то князь во третЕй накОн,
135 Ищо ниже того поклонЯитце:
Уж ты батюшко наш старЫй казак,
Наш старЫй казак Илья Муромец,
Илья Муромец сын Иванович!
Пособи-тко мне думу думати,
140 Думу думати да горе мыкати,
Отдать или не отдать да стольне Киев-град
Без бою, без драки, нонь без сЕценья,
Без того кроволития великого.
Я тебе-то жалую
145 Пятьдесят бочек зеленА вина,
Пятьдесят бочек пива пьяного,
И пятьдесят боцёнков мёду сладкого
(Жалует это князь)
ПлИсу-бархату да на белОй шатёр.
Тут-то стар остОялся,
150 Говорит-то он таковО словО:
Ты уж думу думай не со мною, а с боярами,
С боярами да с толстобрюхими
(Бояра нажалили, прежде ведь было бояр!)
Попросите сроку на трИ годА, -
(Илья-то Муромец сказал).
Попросили сроку на трИ годА, -
155 Не дават поганый Издолищо на три месяца.
Попросите сроку на три месяца!
Не дават ведь сроку на двенадцеть дён
(Войско нет, где скоро завЕрнешь?
Ишь сколько чудовищ было!)
Попросите сроку на двенадцеть дён,
А на тринадцатый бою-драке быть.
160 Да призвал тут стар Добрыню Никитича:
Ой еси, Добрыня Никитич млад,
Обседлывай ты своего добра коня,
Двенадцать дён объезжай всю вокруг землЮ,
Всю вокруг землЮ, повселенну всю,
165 Захватывай по укрАинам,
Забирай всё русских могуцих богАтырей.
Обседлал Добрыня добрА конЯ,
ОбъеждЯл он в двенадцать дён всю вокруг землЮ,
Всю вокруг землЮ, повселенну всю,
170 Захватывал по укрАинам,
Забирал всё русских могуцих богАтырей.
Ну вот он объехал в двенадцать дён и набрал, тут был Олёша
Попович, Саксон Колыбанович, братья Суздальцы.
Как на утре-то было ранЕшенько,
На светлой зОри раноУтренней
(Сейчас у их тут будет бой),
На выкате солнышка красного,
175 Вставал-то старый со постелюшки,
Умывался он да ключевой водой,
Утирался полотёнышком беленьким,
Помолился спасу преображенскому,
Божьей матушки да богородицы,
180 Ходил на улицу широкую
Да смотрел и здрел да во чистО полё:
Как неверно собранье да скошевалось,
Да оно стоит да в боевых рядАх.
ЗабегАл-то стар да во белОй шатёр:
185 Уж вы братьица мои да товарыщи!
Вы обсЕдлывайте нонь да добрЫх коней,
Надевайте латы вы булатныи,
На шеи кольцуги позолоцены,
Да берите палицы железныи,
190 Да берите сабельки вострыи,
Да берите копья немецкия,
Да берите ножИщо-чинжалищо.
Говорит тут стар да таковО словО:
Ой еси, Добрыня Никитич млад,
195 Ты останься во белОм шатре,
БерегцИ, стерегци белОй шатёр,
Потому што конь твой приубегался,
А ты на кони приуездилси.
Помолились спасу превышнему,
200 Божьей матушке да богородицы,
Дружка с дружкой распростилися
(Бат, не один живой не приедет!)
Говорит тут стар да таково слово:
Я поеду сЕредь мАтицы
(Это, вишь, серёдкой)
А вы поезжайте по укрАинам.
205 Если бог нам будет нынце нА помощь,
То рубите силу вы без вЫвету
(Не щадит никого).
Поехал стар-то середь мАтицы,
Остальня дружина по укрАинам.
Поганой ИдОлищо заметалосе,
210 Не знать оно засыпаетси,
Не знать оно оглупаитси,
Махнул-то стар да саблей вОстрою,
Слетела голова, как пуговиця
(Того убил).
Они рубили силу ту без вЫвету.
215 Днём вырубили дА рано,
Приезжают они ко белУ шатрУ,
Было тут два братца да два Суздальця,
Их на дело не бывало и не видано.
Они ПорАто приросхвасталися:
220 – Кабы было во матушки во сырой земли да золотО кольцО,
Повернули мать сырУ землЮ
(Хвастливо-то слово, видишь, мимо живё).
А была бы на небо лесница,
Присекли силу всю небесную!
Говорит-то стар да таково словО:
225 - За эти зА реци за похвальные
Всем завтра нам придётца лежать да во ЧистОм полЮ.
На утре-то было ранёшенько,
На светлой зори раноутренней,
На выкате солнышка красного.
230 Стал-то старый со постелюшки
Умывался он да ключевой водой,
Утирался полотёнышком беленьким,
Помолился спасу преображенскому,
Божьей матушки да богородицы,
235 Выходил на улицу широкую
Да смотрел и здрел да во чистО полё:
Как неверно собранье да скошевАлосе,
Которого секли они нАтрое
Тот втроём садится на однУ лошадь;
240 Которого секли нАдвое,
Тот вдвоём садится на однУ лошадь.
Забегал тут стар да во белой шатёр:
Уж вы братьица мои товарыщи!
Не докуль вам спать – порА вставать!
245 Я ведь был на улице широкое,
Я смотрел и здрел да во чистО полё,
Там неверно собранье нынче ожило:
Мы которого секли ведь нАтрое,
Тот втроём садится на однУ лошадь;
250 Которого секли мы нАдвое,
Тот вдвоём садится на однУ лошадь,
А поганое ИдОлищо о трёх главах.
За вцерашние за рЕци за похвальныя
Всем нам будет лежать во чистОм полИ.
255 Говорит тут стар да таковО слово:
Вы обсЕдлывайте нонече добрЫх конЕй,
Не оставлю Добрыню во белОм шатрЕ
БерегцИ, стерегцИ белой шатёр.
Помолились спасу ведь превышному.
260 Божьей матушки да богородицы,
Дружка с дружкою распростилиси.
Говорит тут стар да таковО словО:
Я поеду по укрАину,
А вы поезжайте середь мАтицы,
265 Если бог нам будет нА помощь,
Вы рубите силу нунь без вЫвёту.
Стар поехал на укрАину,
А дружина поехала середь мАтицы,
Поганое ИдОлище заметалосе,
270 Не знать оно засыпаетсе,
Не знать оно оглупаетсе.
Махнул-то стар да саблей вострою,
СлЕтели гОловы, как пуговицы
(Три головы его отсекли).
Они рубили силу без вЫвету,
275 Не мало не много – двенадцать дён
(Ишь ведь дело!).
Не пиваючи и не едаючи,
И опочив они не дЕржали
(Без отдыху без всякого. И ничего они не дЕржали,
нЕ спали).
Приезжают они ко белУ шатру,
Не приехало два братця, два Суздальця
(Которы-то хвастались).
Тем и кончилось.
|
Метки: Чудищо стены кАменны башенки да Наугольнея ИдОлищо Кроволитие великое |
Лень и Отеть. |
Дневник |
- Ешь, Отеть, кашу.
- Ещо, тОркаться!
Лень жИва, а Отеть еле дышет. Отощала вовсе. Ну, пал мороз лютОй.
Вот Лень и говорит:
- Отеть, поди дров наноси.
- Лихо! - говорит.
Вот их совсем и приморозило.
- Лень, иди дров наноси!
- Лихо!
- А што лихо, поди бревно длинно у избы лежит, рамы выстави да запихай в избу. Один конец запихай в пецку, пусть горит, а друкой пусть из окна торцит. Пилить лихо.
- Ладно.
Пошла Лень, окна выломала, бревно запихала в пецку. Один конец горит, а другой из окна торцит.
Вот пецка пригрелась, а на полу холодно, лихо сходить, бревно подпихивать. Бревно
горело-горело, поки и пол сгорел, и изба загорела. Лень крицит:
- Вставай, Отеть, горим!
- Лихо вставать...
- Вставай, горим!
- А не встану, лихо вставать.
Лень выскоцила вон, а Отеть так и сгорела на пеци.
Вот и говорят: Отети-то нет – сгорела, а лень всё есть.
Отети было и есть не охота, хоть в рот запихай, да не разжуёт.
Пересказано Ириньей Александровной Шарыгиной из Мезени.
|
Метки: Отеть торкаться пецка лихо запихай |
Евг. Рыбаченко. Слово. |
Дневник |
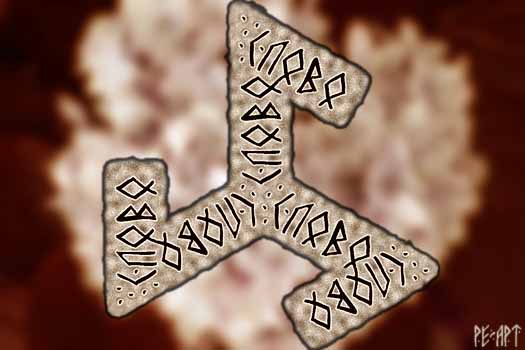
*
Славянская Быль
славянские слова из тьмы,
как путеводная звезда:
от слова «быль»… и были мы,
и есть, и будем навсегда
*211010
*
Словене и Волшебство
мы не Славяне, а Словене…
мир человеческих богов
понятней в звуке Откровений
и Волшебстве звучанья слов
*22311
*
Манифест Язычника
…природа таинства земного
нашла забытые века,
я - славянин от звука Слова,
язычник - знаньем Языка…
*22311-9911
*
Кто, кроме нас самих?
…истина, как набат,
что-то в словах простых
(если они звучат…):
…кто, кроме нас самих?
*1.411
*
Первичность Слова
можно не искать впотьмах,
истина всегда в Корнях,
нет сомненья никакого,
для Славян – первично Слово
*4411
*
Оговорки Судьбы
...слова судьбы сложили строчку,
но оговорки допуская,
разумнее не ставить точку,
всегда уместней запятая...
*18511
*
слово и бог
слово «бог» звучит, но скрыта
тайна Доброго и Злого
в понимании забытом –
это Сила… или Слово
*29511
*
Порча
портят… словом и калечат
командирским и заборным,
и, что в слове злая нечисть,
многие считают вздорным
*29511
*
Божественные вибрации
мир божественных вибраций
каждый атеист заметит,
но безбожно матерятся
даже маленькие дети
*19611
*
Межславянские тайны
из глубин славянской тайны
звук не только нежных струй
и, возможно, не случайны:
«застрахуй» и «порахуй»
*281210
Если наоборот: «порахуй» и «застрахуй» - получится слоган для страхового агентства. (на украинском «порахуй» - посчитай)
*
*
Небольшие века
мелькают книги, жизни, даты -
шагами небольших веков
бредёт история куда-то
движеньем времени и слов
*21711
*
Свобода слова
в словах и книгах – благодать,
свобода слова – не иначе,
но невозможно разобрать,
что значит или что не значит…
*21711
*
Восстание
…уже уходит Русь в предание,
поникший люд и тишь, да гладь,
и надо бы «поднять восстание» -
иначе вовсе не восстать…
*4911
Примечание:
Это лишь игра слов, которая не является призывом к насильственному свержению существующего положения вещей! Речь идёт лишь о культурном восстании и желании автора поднять из пыли и праха неоправданно забытые гуманитарные достижения. Также следует понимать, что слово «Русь» имеет не только русское, но и другие исконные славянские значения.
http://www.proza.ru/avtor/reart
|
Метки: Слово Порча Восстание Русь |
Александр Чашев. Боженьку попросим. |
Дневник |

Мне восемь лет. Бегу по деревенской улице. В левой руке сетка с буханкой чёрного хлеба. Откусываю на бегу от ароматной корочки небольшие кусочки и с наслаждением жую. Правая рука, при помощи куска проволоки, управляет железным ободом из-под бочки. Пыль от босых ног и одноосной колесницы поднимается вверх и висит в тёплом июльском воздухе, словно в раздумье.
Тороплюсь. Важная новость переполняет. Надо донести её скорее. Так же как, впрочем, и хлеб.
В очереди за ним услышал разговор двух пожилых женщин. Та, что постарше и повыше, обратилась к тщедушной, шустрой собеседнице: - Ты пошто деффка в храм-то не ходишь? Бога-то не боишьссе?
Та сверкнула маленькими, острыми глазками и скороговоркой протароторила: - А што мне ваш бог-то храмовой трудодней, бат, добавит? Аль в шти мяса? Быват мужа и моих парнишецек живыми возьверьнёт с войны? И тебе твово Васю с одинцями-то?... Да и куды нам грешным? Вот евонна (показала на меня) баушка в монашках росла, дак и та не посешат сбориша-то ваши. И образов в избе-от не дёржит. А уж мне-то нестаркой жонке бог-то ваш малёванной не нашто не нать!
Замолчали бабушки. Каждая о своём. А я стоял ошеломлённый. – Моя бабуля - монашка?! Никогда не видел её крестящейся. Икон в доме не было. И в церковь она не ходила. Нет, что-то здесь не так!
В облаке пыли ворвался во двор. Бабушка всплеснула руками:– Ека страссь! Нажиффшик-от наш сверёжой, корминець жадобной, как мурин по лесу скацёт! …А крома-то оглодал весь!
- Баушко! А ты монашкой была? – Выпалил, едва перевёл дух.
- Нако, да хто еку павесть тебе, любеюшко, приплёл-то?
Выслушала сбивчивый рассказ. Вздохнула: - Элакая варакоша-от Меланья! Верандюкса истовённо! …Садись рядком, парницёк. - Погладила меня по голове. – Коль хоцешь, дак слушай…. Не была я монашкой-то, дитятко! Трудницей горе мыкала в монастырьке нашем, ушельском-то. Матенка мя родила, да невея и прибрала сердешную. Несошна я. Тата мой женилссе. Да вскорости и сконцялся. А мацеха-от и спроворила мя с глаз. Издосель сказывают: «Без таты – полсироты, а без матенки и вся сирота».
- А сколько лет тебе было тогда баушка?
- Дак поменьше тя. Годков семь не боле. Отай в ноць увёзли. В Ушельи-то и омалталасся. Сёстры божьи кудерышка обрезали. И в угол поставили. Молиться.
- А долго ли жила-то там?
- Поцитай лет десять. До перевороту. Как элакие-то большаки объявилися, монастырёк-от и запёрли. Всех прочь спровадили.
- А ты бога видела, баушка? – прошептал я.
Задумалась. Поправила платок на голове. – А, бат, и блазилссе, родимой? …Выроблюсь за день-то нешшадно. Спать хоцю смертно. А игуменья-то сушша бошацька, варайдат: «Порато оботела, Стёпка! Робить те лихо! … Камешки разбросат. И на коленки мя. «Молись, нероботь огурна, до денници. Коль раньши встанешь, укотоцькаю!» Злюшша была! Грызлись оне с клюшницей-то. Да и с другима сестрама. Котора за которой! Вертеп сушший! Клюшница-от вскорости игуменьей-то и стала. Загрызла, знать одна дракунья другу! …А мне махонной опять робить. Заплацю когды не видят. К небу глазки подыму и голосю слёзно: «Шолнышко-высоколнышко. Поклонись моей матушке. Да любимому батюшке. Исстрадалось их дитятко. Сиротинушка измаялась». И веть кудесы-то оногдысь бывали. Вроде загреева. А враз забусет. И куцева потянутся. А там и букса свет-от застит. Лива-ливушко прольётся. Быват, матенка родна рыдат? Серьдецьку-то и легше.
- А когды ж ты с богом-то свиделась, баушка?
- Семь годков минуло тогды монастырьской маеты-то. За клюквой мя послала наставниця. К озерам лешим. Лес-от уж заосеннилссе. Сбрусневел. Свёток зацялся. На буян прискоцила. А там рецька. Вода кротка! Туман в низы сползат. Цёрной курум сел на пень. Закрицял. Я глызку курника моделого ему и подала. Ницего, думаю, быват, не оголодаю, ягоды-от хороша наеда! Присела на валежину. А глазки-то и закрылись. Долго ли спала, не знаю. Проснулась будто. …А на мести курума старицёк сидит! И зенки цёрны на мя ласково-от пялит. А руженьём и бородой бурнасой. Платиньё рвано. Полохоло. Дербень истовённо! Стругат цего-то ножицьком. Сполошилася я-то. Окротела. Омалталась цють и крицю от страху-то: - Ты пошто тако наянова на мя галиссе-то? А он улыбнулссе и сказыват: - Не пужайся Стёпушка. Погляжу на тя, голуба душа. Полюбуюсь. И пойду дале.
Осмелела я: - Откудова знашь, как мя клицют-то?
- Я фсё знаю, девиця.
- Фсё знает один Боженька. Нешто Бог ты?
- А быват, и Бог. …Он веть в кажном живёт.
- И во мне?
- И в тебе, белеюшко.
- А наставниця бает што в храме, да на образах.
- Нет, во всём он. В каждой травке. Капельке. Слёзке. Душе. Везде. И любит всех.
- И мя?
- Порато сильно, милая! Как услышит песенку про шолнышко, так и заливатся слезама-то.
- А я думкала, это дошшь?
- Слёзы божьи, обрадушка! Ветрама он гладит головушку твою. Шолнышком ликует тя. Уж как любит!
- А за што? Я ить выпорок сушший. Матушка-игуменья так мя называт.
- Ты для боженьки андел. Ево дитя. И все евонны дети. Детей родитель жалет и любит всех.
- Бат ваганишь ты, дедушко? Взаболь сказывашь-то?
- Охота брешет. Я элако-то не варзаю.
Поверила я ему. Набралась духу и спросила: - А когды из монастыря-то меня отпустят?
Старицёк голову-то поднял к шолнцу. Шоптал што-то. А потом и сказыват:
– Чрез три года, покинешь обитель, беляна. В том же годе замуж выйдешь. Деток пятерых родишь. Поживёшь со скотом, животом и домом благодатным. Всё у тебя будет. И тихо. И лихо. Ежели совсем невмоготу придеться, попроси у боженьки помоши. Вот так: «Голопок, голопок ты лети во цертог, к Богу-батюшке, ко любеюшке. Попроси его выруки для меня Степанидушки». Запомнила обаву-то, белеюшко? …Карр! Карр!
Очнулась я на валежине. Ни курума. Ни старицька. Приснилось, знать? Иттить уж хотела. Гли ко, белет што-то на пеньке-от. Подошла. А там птиця деревянна. Махонька. Берцётая. Баская. Голопь. …Вот и фсё.
Из глаз бабушки тонкими ручейками бежали слёзы. Она была там. На берегу реки. В осеннем лесу. Волна нежности прилила к моему сердцу. Не понимал тогда ничего про любовь. А ведь это она и была. А навстречу ей, из глубин души самого дорогого человека несся встречный, мощный поток. Он осязался буквально физически. Я его видел. Этот Свет Любви. Долгую жизнь прожил потом, но никогда больше не испытал такого душевного потрясения. Ошеломления. Восторга.
Посидели молча. Обнял её за худенькие плечи. - Не плаць баушкоу. Я не буду шалить. Вот увидишь.
Улыбнулась. Морщинки лучиками разбежались по лицу. – Шали парницёк. Не порато. Шали. Насерьёзнишьссе ишо. Успешь.
- Баушко, а што думашь, бог это был, в лесу-то?
- Бат и он. Аль хто от ево посланный. Быват знатливой? Ишо сведушими их клицют-то. Ведают оне што от других сокрыто. Добро от них. Матушка-игуменья обзывала их языцьниками поганама. Нет. Светлые оне. Вот и дедушко леший таков был. Доброхот. Цюяла я это.
- А правду он всю сказал про тебя-то? Так и было потом?
- Да. Всё сбылось. И голопь помогал, когды лихо было… Возьми его себе, внуцек. Пусть тебя охранят. А мне-то уж он не нать.
Вздохнула глубоко. - Всё сбылось. А тебе жить. С неба-то и подмогнём, ежели што. Боженьку попросим.
Она вложила в мою руку тряпичку. Развернул. Маленькая деревянная птичка. В полёте. Светлая, светлая. Как слёзы моей любимой бабушки.
**************************************************************************************
Некоторые слова поморского диалекта (Лешуконский район Архангельской области) русского языка, использованные в рассказе, и их значения.
Бат, быват – может быть.
Одинци – близнецы.
Баушка – бабушка.
Нестаркой – моложавый.
Ека – такая.
Нажиффшик – добытчик.
Корминець – кормилец.
Жадобной – желанный, жданный.
Мурин – бес.
Крома – краюха хлеба.
Павесть – слух.
Любеюшко – дорогой человек.
Приплёл – наврал.
Элакая – такая.
Варакоша – болтунья, пустомеля.
Верандюкса – болтливый человек.
Истовённо – в точности, истинно.
Парницёк – паренёк.
Ушельский – Ущельский монастырь. Находился возле села Лешуконского на реке Мезени. Архангельская губерния.
Матенка – мать.
Невея – смерть.
Несошна (я), несошной – некормленый материнской грудью ребёнок.
Тата – отец.
Мя – меня.
Издосель – испокон веков, издревле.
Отай – тайно.
Омалталлась – опомнилась.
Переворот – Октябрьская революция 1917 года. Так её называли в северных деревнях даже в советские годы.
Большаки – большевики.
Блазиллсе – виделся, казался.
Выроблюсь – устану от работы.
Нешшадно – беспощадно.
Смертно – сильно.
Тя – тебя.
Бошацька – ворчунья. Бошак – ворчун.
Варайдат – ворчит.
Порато – очень.
Оботела – обленилась.
Робить – работать.
Лихо – в данном контексте, - лениво.
Нероботь – тунеядец.
Огурна – избегающая работы, ленивая.
Денница – утренняя заря.
Укотоцькаю – пришибу.
Котора - ссора
Дракунья – драчливая, агрессивная.
Махонная – маленькая.
Кудесы – чудеса.
Оногдысь - иногда.
Загреева – солнцепёк, зной.
Враз – внезапно, вдруг.
Забусет – станет серым.
Куцева – кучевые облака.
Букса - тёмная грозовая туча.
Лива-ливушко – ливень.
Леши озёра – лесные озёра.
Заосеннилссе – покрылся желтизной.
Сбрусневел – покраснел.
Свёток зацялся – рассвет начался.
Буян – ровное, открытое место.
Вода кротка – вода тиха.
Курум – ворон.
Глызка курника моделого - кусочек рыбного пирога недопечённого.
Наеда – сытая пища.
Руженьё – лицо, обличье.
Бурнасой – рыжий, конопатый.
Платиньё – одежда.
Полохоло – страшилище.
Дербень – обросший волосами, одичавший человек.
Окротела – оробела.
Омалталась – опомнилась.
Наянова – нахально.
Галиссе – смотришь.
Белеюшко – ласковое обращение, дорогой, любезный.
Обрадушка – вызывающая радость.
Ликует - целует.
Выпорок – непослушный ребёнок.
Ваганишь – шутишь, надсмехаешься
Взаболь – правда, честно.
Охота - собака. Так называли всех собак на Севере, поскольку иной функции, кроме охотничьей, они не выполняли.
Элако- так.
Не варзаю – не умею,
Беляна – белокурая девочка, девушка
Голопок, голопь – северная деревянная щепная птица счастья. Она же символ Святого Духа.
Вырука – помощь.
Берцётая – узорчатая.
Баская – красивая.
Знатливой , сведуший – ведун, знахарь, преемник волхвов.
Уходят последние носители древнего языка. Голоса предков всё дальше и тише.
|
Метки: Одинци Баушка Леши ОзЁра Невея ВЫпорок |
Святочные Виноградия. |
Дневник |

Величальная святочная - „Виноградие“, получившая своё название от припева, повторяющегося через строчку во всех песнях этого типа. „Виноградия“, величальные песни полуэпического характера, известны почти исключительно в традиционном песенном фольклоре Русского Севера и мало встречаются в печати. Много неизданных текстов „виноградий“ хранится в Рукописном отделе ИРЛИ, Р. V (колл., 1928, 1929, 1955, 1956 и 1958 гг из Архангельской обл.).
Тексты „виноградий“ обычно очень устойчивы и делятся на „Виноградия Холостые“ (“Девьи“ и „Парням“), „Виноградия Женатые Семейные“ и „Виноградия Бездетные“. Пелись на святках при хождении со звездой. Традиционный напев “Виноградия“ - общий для ряда северных областей. Вариантность зависит, в основном, от местных стилевых особенностей и от использования напева то в цикле святочных, то то в цикле свадебных песен.
Ещё нА горы, горЫ да на окатинке 1/56; 54
Дер. Резя Лешуконского р-на.
А.Ф. Смородина 80л. И Л.Г. Смородина 80л. 18 июля 1958 г.
Данный текст является „Виноградием Бездетным“, которое исполнялось обычно в избах молодожёнов, ещё не обзаведшихся большой семьёй:
Ещё нА горы, горЫ да на окатинке,
Да Виноградиё красно-зелЕное! - (после каждой строчки повторяется)
На окатинке да на оваленке
(Да тут стояла береза белокудревата,
Белокудревата да высококудревата.
Да что под той белой березой белокудреватой)
Да тут построена кроваточка тесовенькая,
Да на кроваточке перина-то пуховенькая,
Да на периночке зголовьицо косищатое,
Одеялышко было черных соболей.
Тут и спит-поспит да и русой кун,
Еще русой кун да со русОй куной.
Русой кун – Василий господин да Тимофеевич,
Руса-то куна да Василиса-госпожа свет-Ивановна.
Промежду има катается злачен перстень,
Злачен перстень да дума крепкая.
Они думали-гадали, черна выжлака сряжали,
Чёрна выжлака сряжали, по чисту полу спущали.
Они думали-гадали, ясна сокола сряжали,
Ясна сокола сряжали, по поднебесью спущали.
Они думали-гадали, черна корабля сряжали,
Чёрна корабля сряжали, во сине море спущали.
Чёрный выжлак-от летит – он куниц-лисиц тащит,
Он куниц-лисиц тащит, да на кунью шубу.
Как ясен сокол летит – да он белу лебедь тащит
На почестен стол, да на поряден пир,
На воскушанье, да на возрушанье.
А червлен кораб бежит, да живота много тащит
На житье, на бытье, на богачество.
Виноградиё бездетное.
О святых вечерах, да о рождественских. 1/115;14
А.Н. Воскресенская, 68 л., Н.М. Опарина, 51 г. и А.А. Позднякова, 60 л.; 13 июля 1958 г.
О святых вечерах, да о рождественских.
Да Виноградиё красно-зелЕноё! - (после каждой строчки повторяется)
Да там ходили девицы-виноградщицы,
Да они ищут и поищут господинов новый двор,
Да господинов новый двор он далеким-далеко,
Да далеким-далеко, да высоким-высоко,
Да на семидесяти верстах, да на восьмидесяти столбах.
Да как на каждом-то столбышке по свечке горело,
Да по свечке горело, по жемчужинке висело.
Присуди, сударь хозяин, ко двору притти,
Да ко двору притти, да на красно крыльцо зайти,
Да на красно крыльцо взойти, да за колечушко взятИ,
Да на крылечушко взойти, да по новым сеням пройти,
Да присуди, сударь хозяин, в нову горенку взойти,
Да в нову горенку взойти, да в середь полу встать,
Середь полу встать да „виноградие“ спеть.
И как во горнице новой стоит кроватка тесовая,
Стоит кроватка тесова, да ножки точёные, позолоченые,
Да на кроватке перина да все пуховая лежала,
И на перины простыня да не простого полотна,
Да в зголовьях-то подушка пуховая,
Да во ногах-то одеяло черна соболя лежало.
Да тут и спит-посыпат тут и князь молодой,
Да тут и князь молодой да со своей госпожой.
Да меж има-то тут катается злачая перстень, да дума крепкая,
Да дума крепкая, и слово тайное.
Ты зате, сударь хозяин, прирасплачивайся,
Хошь и рупь, хоть и два, хошь полтину серебра.
Мы золоту гривну на вине пропьем,
А бел круписчатый калач на закуску съедим.
Ты еще, сударь хозяин, прирасплачивайся,
Неси пивушка ведром, кати пива лагуном.
Виноградиё бездетное.
Широка наша Мезень разливалася река. 1/280; 14
Дер. Лампожня Мезенского р-на. П.П. Владимирова 80 л., 8 августа 1958 г.
Широка наша Мезень разливалася река,
Виноградиё красно- зелЕноё! - (после каждой строчки повторяется)
Что Степан на коне да разъезжается,
Ещё Марья у стремя(н) да убивается,
Она горькими слезами уливается.
Уж ещё чей это дом, чей высокий стоит,
Ещё чья это горнИца, ещё чья это светлИца?
На кроваточке периночка пуховая лежит,
На периночке сголовьице шелковое,
На сголовье одеяло соболиное лежит,
Как под этим одеялом свет-Иван-от с Марьею.
Не злачен перстень катался, да дума крепка.
Они думали-гадали, калену стрелу сряжали.
Калену стрелу сряжали по поднебесью летать.
Калена стрела летит, за ясна сокола ведет,
А друга стрела летит – да лебедей стадо ведет.
Виноградиё Женатое Семейное.
Ходят девицы о святых вечерах. 1/54; 56
Дер. Резя Лешуконского р-на. А.Ф. Смородина, 80л. и Л.Г. Смородина, 80 л., 18 июля 1958 г.
Ходят девицы о святых вечерах,
Виноградиё красно- зелЕноё! - (после каждой строчки повторяется)
Ещё ищут девицы господинова двора.
Господинов двор далеким-далеко,
(На пятидесяти верстах) да на семидесяти столбах.
Еще около двора да всё трава-мурава,
Трава-мурава, трава шёлкова,
На каждой на травинке по цветочку цветет,
На каждом на цветочке по жемчужинке висит.
У двора ворота были решотчатые,
Подворотенка была стекольчатая,
У ворот верея была – рыбий зуб.
Ступил во двор – все три терема стоят,
Крутоверховаты, златоверховаты.
Во первом-то терему как светел месяц,
Светел месяц сударь батюшка,
Во втором-то терему как светлая заря,
Светлая заря – родна мамушка,
Во третьем-то терему да часты звездочки,
Часты звёздочки да родны её сЕстрицы.
Выходил Алексей на красное крыльцо,
Выносил господин как серебряный алтын.
Выходила и Анна на красное крыльцо,
Выносила госпожа золотую гривну.
Выходили малы деточки на красное крыльцо -
Выносили малы деточки круписчатый калач.
Садились мы тут за единый круг,
Во единый круг да думу думали.
Мы серебряный алтын за молебен отдадим,
Золотую гривну на вини пропьем,
А круписчатый калач на закуску съедим.
Виноградиё Холостое парню:
Зазвонили честну раннюю заутреню.1/55; 55
Дер. Резя Лешуконского р-на. А.Ф. Смородина, 80л. и Л.Г. Смородина, 80 л., 18 июля 1958 г.
Зазвонили честну раннюю заутреню,
Виноградиё красно- зелЕноё! - (после каждой строчки повторяется)
Честну раннюю заутреню, рождественску.
Молодец от сну (да) пробуждается,
Со тесовоей кроватки опущается,
Да он ключёвою водой да умывается,
Тонким белым полотенцем утирается,
Он в козловы сапоги обряжается,
Он во светное платье снаряжается,
Он походит, молодец, во божью церковь.
Он приходит, молодец, ко божьей церкви,
Он заходит, молодец, во божью церковь,
Он ставает, молодец, на правую руку,
На правую руку, да все ко крылосу.
Он ведь крест-от кладет по писАному,
Он молитву творит сам сам искусовую,
На все стороны четыре поклоняется,
В три ряда у него кудри завиваются.
Во первый ряд завивались чистым серебром,
Во второй ряд завивались красным золотом,
Во третий ряд завивались скатным жемчугом.
Ещё все люди бояра дивовалися кудрям:
„Это чей, это чей, это чей молодец,
Это чей молодец, как по имени зовут?
Как по имени Владимир Васильевич.
Кто это Тебя Изнасеял молодца?
Изнасеял тебя да светел месяц же.
Ещё кто же тебя да воспородил молодца?
Воспородила тебя да светла заря.
Ещё кто же тебя да воспелеговал молодца?
Воспелеговали да часты звездочки“.
„Уж вы глупые хрестьяна неразумные,
Православные, друзья-братья, товарищи,
Ещё как же изнасеет светел месяц?
Да ещё как же воспородит светла заря?
Ещё как же воспелеговают часты звездочки? -
Изнасеял меня сударь батюшка,
Сударь батюшка Василий свет-Антонович,
А спородила меня родна маменька,
Родна маменька Мария Николаевна,
Воспелеговали меня няньки-нянюшки,
Няньки-нянюшки да мамки-мамушки,
Да стары бабушки – Анна Фёдоровна с Лукерьей Гавриловной“.
Как во далечем-далече во чистом во поле.1/144; 14
Село Лешуконское Лешуконского р-на. А.Н. Воскресенская, 68 л, Н.М. Опарина, 51 г. и А.А. Позднякова 60 л. 13 июля 1958 г.
Как во далечем-далече во чистом во поле,
Да виноградиё красно- зелЕноё! - (после каждой строчки повторяется)
(Да на окатинке, да на окраинке,)
Да там стояла-то береза белокудрёвая,
Да белокудрёвая, да русокудревата.
Да как под этойпод березой бел полотяной шатёр,
Да как во этом во шатри да стоял столик дубовой,
Да что за этим за столом да красна девица сидит,
Да все по имени-то Марья Ивановна-душа.
Да она шила-вышивала она шириночку себе,
Да первый угол вышивала – красно солнце с маревами,
Да второй угол вышивала – светлый месяц со звездами.
Да третий угол вышивала – люьы горы со лесами,
Да со лесами, со зверями, со черными соболями.
Четвертый угол вышивала – сине море со волнами,
Да сине море со волнами, да со черныма кораблями.
Да на середке вышивала божью церковь со крестами,
Да со попами, со дьячками, со причастничками.
Да по желту было песку, да по крутому бережку,
Да тут шел да прошел да добрый молодец-душа,
Да всё по имени Иван-от сын Васильевич сокОл.
Да он куницами, лисицами обвешался,
Да он вострым копьем да подпирается,
Да небылыми словесами похваляется:
„Да кабы был, кабы жил я на той стороны,
Да кабы эту красну девку за правую руку взял,
Да за правую руку взял, да за злачен перстень,
Да во божью церковь завел, да я закон божий принял,
Да я закон божий принял, да золоты венцы держал,
Да я слугу себе взял, слугу верную,
Да слугу верную, да неизменную»
Ой, да что со вечера Васильевского. 2/122; 333
Дер. Смоленец Лешуконского р-на. У.А.Попова, 53 г. и В.З. Емельянова, 58 л 19 июля 1958 г.
Подблюдная Святочная с характерными образами традиционных величальных святочных. Исполнялась прежде на молодёжных посиделках под Новый год („Васильев вечер“). Перстень вынимался при словах „Тая девушка за тем женихом“. Пелась по количеству присутствующих. Текст носит импровизационный характер. С записью 1928 г. из этого же района совпадает дословно. В 1958 г. в молодёжном обиходе не встречена.
Ой, да что со вечера Васильевского,
Со полуночи рождественского,
А сидели красны девицы,
Они пололи злачены перстни.
А кому выпадет злачен перстень -
А то и ты, девка, за тем женихом.
А свет Галина Ивановна
За Геннадием Лаврентьевичом.
Я полю, полю росу. 1/111; 16
Село Лешуконское Лешуконского р-на. А.А. Позднякова, 60л. И н.М. Опарина, 51 г. 13 июля 1958 г.
Подблюдная „женихальная“ - припевка, исполнявшаяся под Новый год во время девичих гаданий. Напев – многократное повторение одной из древнейших формул песен календарного цикла. В 1958 г. в молодёжном обиходе не встречена.
Я полю, полю росу,
Девочью красоту,
Да нано!
У нас кому-то Иван-от достанется?
Да нано!
(Да сын Иванович сокол,
Да нано!)
Вот кому выльется, да кому сбыдется,
Да нано!
Да на житье-то, на бытье,
Да на богачество его,
Да нано!
Анна Ивановна
Ивану Ивановичу.
Ладно ли?
*Три последние строчки – говорком, без напева.
Тешен, потешен. 2/121; 335
Дер. Смоленец Лешуконского р-на. У.А Попова, 53 г. и В.З. Емельянова, 58 л. 19 июля 1958 г.
Шуточная колядка импровизационного типа, певшаяся тем хозяевам, которые недостаточно щедро оплачивали «колядовщиков». Напев – вариант (см.) Я полю, полю росу. В 1958 г. помнилась отдельными пожилыми женщинами.
Тешен, потешен,
Хозяин-от повешен
За задней жолоб
За черной волос.
Волос-от сорвался,Хозяин оборвался.
О камень зубами,
О тын головой,
О ЩепИцу бородой.
*ЩепИца – шиповник (лешук., мез.)
|
Метки: Виноградиё окАтинка Сряжать БогАчество ЗлАчен Перстень |
По следам Артура и Ванды. |
Дневник |
Много-много лет назад, когда я училась во Львове, местом моих постоянных прогулок оказался Лычаковский некрополь, одно из старейших кладбищ Европы. Много там было печальных произведений искусства,но одно из них впечатлило больше всего.Меня поразила глубочайшая скорбь,исходившая от одной удивительной скульптурной группы. Бессильно опущенные руки молодой девушки, опирающейся на большой крест,её тоскующий и опустошенный взгляд на барельеф с изображением молодого мужчины.Лира с оборванной струной, сломанная палитра, череп у птичьих лап сокола, который не может расправить свои крылья. Всё говорило о преждевременной смерти таланта и о трагедии большой любви.
Памятник не был ухожен. Кое-где он порос мхом, кое-где на высоком надгробии отвалился верхний слой и появились безобразные пятна времени. Это было не удивительно - во времена Советского Союза большинство памятников Лычаковского некрополя находилось в таком состоянии. Да и, судя по дате (1837-1867), прошло уже более ста лет.Но кто же был этот ARTUR GROTTGER ? Малочисленные посетители некрополя только недоуменно пожимали плечами. Экскурсионные группы (а были ли они тогда?) мне не встречались. Ну и всеведующего гугла тогда еще и в помине не было.Читать далее
|
|
Песенные люди – Чудь Заволочьская – «люди, о которых говориться в сказках» и помОрска говОря – реликты архаической Северной Руси. |
Это цитата сообщения Андрей_Леднев_из_Мурмана [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
За морем царевна есть,
Что не можно глаз отвесть:
Днем свет божий затмевает,
Ночью землю освещает,
Месяц под косой блестит,
А во лбу звезда горит.
А сама-то величава,
Выплывает, будто пава;
А как речь-то говорит,
Словно реченька журчит.

Алла Сумарокова - Заслуженная артистка РФ, родом из Лешуконья Мезени.
Песенные люди – Чудь Заволочьская – «люди, о которых говориться в сказках» и помОрска говОря – реликты архаической Северной Руси.
Интенсивное исследование порошлого Перми было предпринято в XIX веке.
Во-первых: Как известно, исследование происхождения финских народов, с незапамятных времен заселявших север России, создало в науке XIX века целую алтайскую теорию происхождения финского племени, особенно хорошо разработанную в трудах известного финнолога Кастрена. Но не успела еще упрочиться эта теория, как под влиянием венгерского ученого Антона Регули и его последователя Павла Гунфальви, издателя "Наследства Антона Регули" (Пешт, 1864), а затем финляндского ученого Августа Альквиста возникает угорская теория общего происхождения остяков, вогулов и венгров, полагавшая уже местом первобытного их появления север Европейской России (мнение Д.Европеуса), также Урал (мнение Макса Мюллера) и т.д. и обособлявшая остальных финнов, и в том числе наших зырян, пермяков и вотяков, в особые группы, число которых у разных ученых не одинаково.
Одновременно с разделением всех финнов то на 2, то на 3, то на 4 ветви, в науке возникает не менее спорный вопрос о племени Чудь, с одной стороны упоминаемом в церковно-славянских источниках русской истории, какова Повесть временных лет, а с другой - сохранившемся в народных преданиях до сих пор.
Во-вторых: поиски страны Биармии и ее несметных сокровищ, описанные в скандинавских сагах.
Известно: то, что хотели найти, – не нашли. Каждый финнолог неизбежно встречается с вопросом о древней Чуди. Бесаппеляционно причисляя ее к фино-угорским народам, финологи всё же вынуждены констатировать: это другой народ. Достаточно сказать, что у всех народов фино-угорского происхождения имеются предания о более древних обитателях Севера. Среди славянистов, сторонников киевского и норманнского происхождения Руси вопрос о происхождении чуди более определен: из ПВЛ русь и чудь осели в Афетовой части после потопа. Тот же Гостомысл уже вернулся на Ладогу с булгарами, руссами, словянами и оттого и призывал на «княжение», для пресекания любых попыток вражды между пришлыми народами за первенство, Рюрика их коренных народов Севера. Вполне возможно это и была Чудь. Это уж немцы, в угоду им выгодной норманнской теории, Рюрика превратили в варяга: а «вора-ворога-врага» не зовут к себе домой. Булгарские летописи сохранили сведения об оседании Рюриковичей уже в Перми: несомненно, что чудь (шуд по булгарски) – это коренной народ всего севера Евразии. В булгарских летописях присутствует еще один народ «ары», положение которых географически совпадает с территорией ныне заселенной пермяками и обскими уграми и которых «традиционно» относят к фино-угорским.
Работая на территории Севера Западной Сибири, многие исследователи сталкивались с существованием у коренных жителей (обских угров) преданием о неком народе, населявшем эту территорию до них. Название этого народа довольно устойчиво у разных групп. Как правило, его называют Ар-ях и переводят на русский язык как "Песенные люди", "Народ, о котором поется в песнях", реже - "Многолюдный народ" [ПМА]. Иногда как синоним названию "Ар-ях" приводят термин "Монть-ях", то есть "Сказочные люди" или "Люди о которых говорится в сказках". Еще в начале XX века Л. Р. Шульц отмечал, что умение "обрабатывать металлы и выделывать гончарную посуду…, сооружение городищ и могильников… предание, общераспространенное среди всех остяков, приписывает народу Ар-ях, который остяки определенно отличают от своих предков Ханда-ях".
"Против единства ар-яхов и остяков, - свидетельствовал Л. Р. Шульц, - говорит и то, что на городище-могильнике около Кинтусовского озера (ныне оз. Сырковый Сор у пос. Салымс), среди черепов брахио и суббрахиокефальных, какие у современных остяков, находят долихокефальные, какие у остяков не встречаются. О том, что этот могильник служил раньше местом погребения ар-яхов, а позже остяков, говорит также предание среди жителей юрт Кинтусовых". [Шульц, 1924, с. 170].
Устная традиция наделяет людей Ар-ях необычайно высоким ростом. Особый интерес, в этой связи, вызывают данные, приведенные Кунгурской летописью: "И идоша до городка Табаринца Бия, и ту бой на малые часы, потому что Ермакъ не становился долго и ворочатся за ясаком - что мимоходом урвалъ, то и наша добыча. И ту убиша богатыря две сажени высоты и хотьша жива свьсти с собою, но не далъся - ухватом человек десять загребьт и давитъ, и того застрелиша на чюдо" [ЛСКК, с. 578].
Упоминание о неком высокорослом северном народе мы находим и в более ранних источниках, так в "Книге Ахмада ибн-Фадлана" о путешествии на Волгу в 921-22 гг. есть фрагмент, описывающий великана из некой северной страны Яджудж и Маджудж, расположенной на берегу моря [Путешествие Ибн-Фадлана на Волгу, 1939, с. 75-76].
В последние годы больше стали внимания уделять исследованиям человеческих останков из могильников, раскапываемых на севере Западной Сибири. Было отмечено, что в могильниках IX-XI вв. часто встречаются останки высокорослых людей. Рост взрослых мужчин нередко превышает 160 см, а иногда и 175 см. Таким образом, перед нами блестящее подтверждение данных фольклорных и письменных источников, которые в значительной мере дополняя друг друга, говорят о том, что Север Западной Сибири некогда был заселен высокорослым населением, которое сменили низкорослые группы современных обских угров.
Надо отметить, что описание народа ар-ях З.Сибири полностью подпадает под описание североевропейской чуди, с которой большинство очень хорошо знакомо: умение обрабатывать металлы, необычайная сила, миролюбивые, но искусные воины. Новгородцы, «покорявшие» Беломорье, так же отмечали больший, чем у них рост чуди, но вот «песенностью и умением петь сказки-старины» всегда традиционно относили к особенности северно-русских и поморских народов. Достаточно сказать, что все былины, которые всем известны как древнерусские, например, об Илье Муромце, были записаны не под Муромом и Киевом, а на Русском Севере, даже большей частью в Вологодской и Архангельской губерниях. Достаточно привести содержание Свода Русского фольклора из 25 томов:
СОСТАВ 25 ТОМОВ
СЕРИИ «БЫЛИНЫ»
СВОДА РУССКОГО ФОЛЬКЛОРА
Тома 1—10. Былины Севера. Архангельско-беломорские традиции
Тома 1—2. Печора
Тома 3—5. Мезень
Том 6. Кулой
Том 7. Пинега
Тома 8—9. Зимний берег Белого моря
Том 10. Западное Поморье
Тома 11—20. Былины Севера. Обонежско-каргопольская традиция
Том 11. Северное Обонежье
Тома 12—15. Западное Обонежье
Тома 16—18. Восточное Обонежье (Пудога)
Том 19. Кенозеро
Том 20. Каргополье
Тома 21—23. Былины центральных районов Европейской России, Поволжья, Урала и Сибири
Том 21. Центр Европейской части России
Том 22. Урал, Сибирь, Дальний Восток
Том 23. Казачьи области (Дон, Нижняя Волга, Северный Кавказ и др.)
Том 24. Непаспортизованные записи XVII—XX вв.
Том 25. Приложения. Сводные указатели
Распевный язык язык помОрской говОри. Поморы не говорят – они поют, разговаривая:
«- ПорАто-льмнОго, дЕфка, гУбок-то наломАла?
- Дак, дорОдно - жарЁхи-то поИссь...
- Мы-то с ИрИньёй сЕйгод ишшА не хАживали в лЕсы-то...
- Вы кОйдысь похОдите? О КАмкурью, нет?
- ВТОвы-толЕсы обсЕцьны, онднО обсЕцьё. ТоттамдЕнь цЕлой
упрЯк рЫндала.
- ТАма-ка гУбокбЫло спроЁм...
- СЕйгод-то немА - вОна какО сушь...
- ДЕфки, водА-то зарубИла, нет?
- Луду-то водОй снЕло, не выгОливат...
- РЫба-то о сАму берЕжину мырИт.
- ВодА-то в рекИ ЭстольтЁпла!
- ПогОдьё-тостоИт... ЛОсо...
Для приезжего человека-«чужАнина» язык этот непонятен и странен. (Для древних новгородцев этот язык был чудной – моё прим.) И дело не только в том, что «гУбки» - это по-поморски «грибы», которые здесь не «собирают», а «ломАют», что слово «порАто» - означает «очень», а слово «дорОдно» - переводится как «достаточно», вопросительное «кОйдыссь похОдите?» - значит «какой дорогой пойдете?»... Дело не только в непонятных и чудных поморских словах, которых в помОрьской говОре «спроЁм». И не только в необычных для русского языка интонациях, из-за которых почти любое предложение у поморов напоминает вопросительное. И не в том, что предложения в говОре составлены отнюдь не по правилам литературного русского языка... Дело в том, что говОря - это самостоятельный древний язык, сформировавшийся на территории исторического Поморья, и сохранивший свои отличительные особенности до наших дней. Память детства ГовОря - мой родной язык. На нем говорила моя бабушка Ульяна Максимовна Лемехова (в девичестве Шехурина) - коренная кулоянка. КулоЯна - жители древнего поморского села КУлой, которое стоит на реке с одноименным названием. По своей культуре и языку кулоЯна очень близки к пинежАнам,.мезЕнам и лешукОнам- это одно поморское племя, ведущее свое начало от легендарной «чуди заволоцькой» (И.И.Мосеев «ПомОрска говОря» Краткий словарь поморского языка)».
Известна история о том, что при фольклорных исследованиях русских северных народных хоров попытки переложить их звучание на ноты оказались тщетными. Эти мелодии представляли такую звуковую вязь, которая не подчинялась правилам нотной грамоты и существующим канонам музыкальной композиции. В тоже время, было ясно, что звучание каждого такого хора являлось произведением. Но оно не укладывалось в наперёд заданные формальные структуры и подчинялось каким-то своим правилам мысли и чувств.
Про особенности хора северных народов можно встретить и у Павла Александровича Флоренского – большого знатока музыки. Он описал это удивительное многоголосие в своей работе «У водоразделов мысли». По его мнению, оно предшествовало полифонии с взаимоподчинением всех голосов друг другу и могло быть названо гетерофонией – полной свободой всех голосов, которую он обозначил как ««сочинение» их друг с другом, в противоположность подчинению» [Флоренский, 2006, с. 18]. Всё построено на импровизации. Но такая импровизация вяжется каждым исполнителем многократно и многообразно в соответствии с общим делом многоголосия. Такие мелодии были построены не на формальных требованиях музыкальной грамоты, которой певцы, скорей всего и не знали, а, по выражению Флоренского, на неиссякаемом океане возникающих чувств. Здесь нет явно выраженной причинной связи. Причин много и они остаются скрытыми. Следствия, из которых построено звучание хора, как бы причин не имеют, но в тоже время они не случайны. Следствия без видимых и не понятных причин. Причина может пониматься как нечто целое – будущее произведение.
Ранее было показано, что на Севере Евразии существовала уже ранее за века и тысячелетия созданная система жизнеобеспечения народов Севера, которая никак не ложится на «нотную грамоту» для описания-демонстрации понятных нам понятий «государство» и «цивилизация». Заканчивая свой великий труд о войне и мире, Лев Николаевич Толстой попытался осмыслить исторические основы движения народных масс, в частности, возникновение в Европе человеческого потока с запада на восток и потом обратной волны – с востока на запад. Теперь мы знаем, что такие потоки были многократными, и до наполеоновских войн и позже и охватывали не только Европу, но и Евразию. Стремление понять и как-то смоделировать их возникновение оказалось тщетным. Историки вязли в частностях. Толстой же приходил к пониманию огромного множества причин, доходя до уровня отдельной личности, её судьбы, связей каждого человека с другими людьми, внешними обстоятельствами и временем бытия. [Толстой]. В конце своего эпилога к роману он делает вывод, что случайные (волевые) поступки неотделимы от поступков и событий причинно-следственных, которые он назвал необходимостью. Но эти исторически важные неразделимые сущности всё же неслиянны.
Только таким подходом можно объяснить и взаимоотношения чуди и северных русов: они неразделимы и неслиянны, что отличает их от взаимоотношений аров (чуди) и традиционных фино-угорских народов, хотя, пермяки – это неслиянный, но, в последствии, разделенный народ из чуди, на русов-словян и коми-пермяков. В пылу споров в отрицании нашими «академиками» от истории самобытности и независимости от государственного влияния автономного развития такого народа, как поморы, они сами вскрывают своё «заблуждение»: в церковно-славянских летописях к XII веку н.э. в них все менее и менее встречается чудь и «на исторической арене» появляются всё более и более поморы. Попытки объяснить происхождение поморов из «новгородской колонизации», а исчезновение чуди ее «суицидом» или уходом в неведомые страны, со стороны выглядят просто нелепо: сколько не говори «халва-халва», а во рту слаще не станет – сколько не повторяй «чудь – фино-угорский народ», от этого чудь не станет более финоугористей.
«В Афетове же части седять русь, чюдь и вси языци: меря, мурома, весь, моръдва, заволочьская чюдь, пермь, печера, ямь, угра, литва…» (ПВЛ). Что этим хотел сказать летописец, с которого «Нестор» переписал этот отрывок? Если «языцы» - это народы, то получается, что русь и чудь – это некая «идеологическая концепция», цемент, скрепляющий эти русско-чудские народы. Если «языцы» - это фино-угорские язычники в понимании провизантийских христиан, то русь и чудь – это не язычники, а значит, православные и христиане.
И финологи, и провизантийские христиане старательно «перетягивают одеяло» в сторону второй версии: обе противоборствующие между собой стороны очень она устраивает, но….уж вечно «путается под ногами» эта чудь. Вот и стараются закопать подальше ее: «чудь в землю ушла» и всё тут – очень удобно. Есть маленькая отдушина для финологов: русь и чудь – это русские славяне и фино-угры соответственно. Но тогдамне не совсем понятно: зачем Илья Муромец, русский богатырь чудского (это верно: чудь отличается богатырским сложением) происхождения (мурома) тридцать три года «спал» на исконно финоугорской Муромской земле и вдруг в одночасье потащился по перекрытому Соловьем-Разбойником торговому тракту из волжского Болгара в Киев (его описание имеется в булгарских летописях Джагфар Тарихы: чтобы его «расчистить» и пришлось ликвидировать Соловья-Разбойника-Хазарию), и идти на выручку киевскому князю, стольный град которого осаждали печенеги-половцы, и к князю-правителю которого ни Илья Муромец, ни северные русаки, ни поморы, которые и сохранили для потомков эту былину, явно не питали симпатии?
Ладно, допустим, что к тому времени русаки уже «колонизировали исконно фино-угорские земли племени мурома». Допустим и то, что русаки взяли себе имя покоренных ими мурома. Но тогда из того «Нестеровского» списка народов русакам остается только один народ Афетовой части: литва, на право причисления которой к себе претендуют и фино-угры и балты – скандинавы, но только не «русские» академики от истории. Так и хочется сказать: заглатывая быстро большие куски былой славы древности, можно и подавиться – «тщательнее» надо пережевывать.
Сейчас модно стало приводить в качестве доказательной базы генетический анализ распределения меток мутаций гаплогрупп ДНК. Построены целые ветви этих мутаций, выявлены типы прародителей и их потомков. Все надежды на выявление истины обращены в этом направлении. Не стану указывать на аксиоматические ошибки исходной парадигмы этого метода (тем более я в генетике профан, но вижу ошибки логики построений их выводов). Воспользуюсь их результатами. В этом плане интересны карты генетических расстояний от средних частот популяций индо-арийской, тюркской и фино-угорской ветвей языковых групп народов, как наиболее разработанных и признанных теорий евразийских миграций. Карты интересны тем, что области минимума (темная часть) показывают, что до этих территорий миграция людей из данной группы минимальна. Скажут, что языки имеют тенденцию заимствоваться, меняться: так и выбран именно среднечастотный показатель, характерный для всех народов данной языковой группы и даже выявлены и области (очаги) из которых действительно начинались пути народов и последующие мутации. Вот рис.103 для индо-арийской языковой семьи народов.

Рис.103 Карта генетических расстояний от средних частот популяций индо-европейской языковой семьи.
Минимумы в области Кавказа и Южного Урала понятны. А вот минимум на территории Северных Увалов и Тиманского кряжа (Мезень, Печора и Вычегда, верховья Вятки, Камы и Пинеги)? Да и еще, очень заметная по маленьким расстояниям между изогибсами, «стена» сопротивления миграции индо-ариев с Прибалтики и Скандинавии. Заметны и области проникновения индо-ариев на Русскую равнину: с Причерноморья на север и со Скандинавии на юго-восток в Новгород.
Любимая сказка татарских историков об «огромном» следе тюрков на территории, традиционных для Перми и Киевско-Московской Руси, меньше Новгородии, рушится в прах при вгляде на рис.104

Рис.103 Карта генетических расстояний от средних частот популяций тюркской (алтайской) языковой семьи.
Но подтверждается стремление Волжской Булгарии контролировать Северо-Евразийский торговый тракт в районе Костромы (пермычка через Кострому –Вологду). Тюркский максимум на северо-западе Кольского требует объяснения и пересмотра происхождения скандинавских норгов и данов.

Рис.103 Карта генетических расстояний от средних частот популяций уральской (фино-угорской) языковой семьи.
Рис.103 показывает традиционную картинку миграции фино-угорских народов. Даже огромный залив в районе Волго-Донского канала объясняется долгим пребывнием здесь мадьяр. Но вот минимум в районе верховьев Мезени, среднего течения Вычегды у Яренска и Выми и перемычка в верховьях Вятки и Камы ставит жирный крест на «теории крещения» именно язычников-зырян (коми) Стефаном Пермским («язычниками» оказалась чудь, которая и ушла на Северные Увалы).
В целом, генетические «миграционные» карты подтверждают, что Пермь (на Вычегде, в верховьях Пинеги и Мезени) в районе Северных Увалов – зона сохранения коренного населения Севера Евразии, влияние на которых мигрирующих индо-ариев, тюрков и фино-угров минимально. Ну, если сплошной минимум от всех известных семей народов, то должен быть и максимум чего-то. Генетиков, рассматривающих распределение типов гаплогрупп, давно заинтересовал максимум гаплогруппы D, характерный для коренных жителей Пинеги, резко отличающий их от всех остальных жителей Европы. Дело в том, что этот генетический тип присутствует у всех восточных евразийцев, но в малом процентном содержании, почему и назвали его восточноевразийским гаплотипом. Мутационные метки этого типа изучены слабо и внесено искажение традиционным исключением из анализа сибирских русских (как проводить мутационные ряды при низких содержаниях и расбросе по всему континенту?). Удивление генетиков вызвало и то, что по своим физиологическим параметрам пинежане полностью соответствую среднестатистическому образу, выведенному для русских:с антропологической точки зрения это типично старорусское население: высокорослый северорусский тип с выраженной горизонтальной профилировкой лица, сильно выступающим носом и высоким процентом светло-голубых глаз и русых волос. Никакой связи с соседствующими коми в пинежской популяции не прослеживается, признаков родства с финно-угорскими народами - также.При этом, западноевразийской (европейской) гаплогруппы I, U1, U2, U3, X у русских встречаются только в южной части русского ареала и отсутствуют в северных популяциях (Пинега, Каргополь). Поэтому развитие исследования в этом направлении не проводилось: так можно было дойти до абсурда в понимании мировых «академиков» от истории, что северные русские – самые коренные жители Евразии вместо уже разработанной исторической парадигмы об образовании людей, считающих себя русскими, спустившимися в I-ом тысячелетии н.э. с небес из космоса на деревья глухой болотно-лесной зоны, и благодаря их безудержному приматному размножению, осуществивших «колонизацию шестой части всей суши Земли».
Я бы назвал этот гаплотип – меткой оседлости, т.к. повышенное его содержание говорит о минимуме мутационных изменений, неизбежных при миграциях по Индостану, Юго-Востоку Евразии, Малой Азии и Тибету. Понятно, что чудь, которая никуда не мигрировала и есть основной носитель этого гена, и потомки которых максимально сохранились на Северных Увалах Русской равнины. Фолклористы XIX века отмечали, что жители севера России вели родословия и от чуди в местах, где сохранились народные предания о ней: верховья Онеги, на Ваге, верховья Пинеги, на Вашке и даже верховьев Мезени. Фино–угорские народы (например, коми и ханты-манси (остяки) Приобъя) обособляли себя от чуди (аров) – это другой народ, да и чудь в активные контакты с ними не вступала.
|
|
«Золотая Баба» пермяков и Богородица Православного христианства – одно и тоже. Из цикла "Там Русский Дух, там Русью пахнет". |
Это цитата сообщения Андрей_Леднев_из_Мурмана [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Вот в сочельник в самый, в ночь Бог дает царице дочь.
«Золотая Баба» пермяков и Богородица Православного христианства – одно и тоже.
Имеются ли какие-либо основания говорить о том, что «перекрещивание» пермяков Стефаном Пермским происходило уже на православно-христианской основе, сформированной гораздо раньше?
В церковно-славянской литературе впервые, кажется, упоминается «Золотая Баба» в Софийской первой летописи под 1398 г. по поводу кончины Стефана Пермского, где сказано, что он 'живяше посреде неверных человек, ни бога знающих, ни закона водящих, моляшеся идолом, огню и воде, и камню, и Золотой бабе, и вълхвом, и древъю' (Полн. собр. рус. летописей. - СПб., 1851. - Т. 5. - С. 250). Упоминается как «идол язычников»-пермяков. Уже говорилось ранее, что в язычестве пермян стали обвинять с конца XVII века. Основанием для этого послужило обвинение их в «духовном невежестве». В чем заключалось это невежество видно из описаний уже дореволюционных этнографов, которые не понимали, почему «русьский крестьянин инстинктивно открещивался от бредовых политических и религиозных идей, которыми в ту пору была столь увлечена так называемая «русская интеллигенция». Это в начале XX века на Вологодчине: «Что касается духовного просвещения народа, - пишет Н.А.Иваницкий, - то здесь мы встречаемся с таким изумительным фактом, что мой рассказчик, уроженец деревни Марково, совершенный язычник. О христианском Боге (имеется ввиду иудейский бог отец - Иегова) он только слыхивал от родителей, об Христе же никогда и ни от кого не слышал, Евангелия не читывал, едва умеет креститься и не знает не только важнейших молитв, но даже и той, которую произносят толстовские старцы: «Трое вас, трое нас, помилуй нас».Ещё больше язычества зафиксировано этнографами в местных обрядах, обычаях, суевериях, заговорах, поверьях и т. п. Вологодский фольклор, вообще настолько пропитан язычеством, что отыскивание в нём позднейших христианских наслоений станет для будущих исследователей нелегкой задачей. Весьма показательно также отношение вологодских крестьян к своему духовенству, к которому, по выражению Н.А.Иваницкого, «оказывается полное пренебрежение». Мне это напоминает ситуацию, как если бы вдруг решили бы обвинить, например, крестьянина в «невежестве» на том основании, что он не знает устройство «синхрофазотрона». Думаю, что в ответ от него в адрес «русской интеллигенции» поступило бы аналогичное обвинение: они же «лыка не вяжут» (не знают: что это такое и как его вязать).
Можно сегодня смело называть, например, католиков язычниками, так как в их храмах всегда найдете 1-2 «идола» Девы Марии и Иисуса Христа, я уж не говорю о всяких ангелочках-херувимчиках. Только на том основании, что скульптура для поклонения пермяками называлась Золотая Баба, обвинять их в язычестве? Давайте посмотрим: что же собой представлял этот «идол»?.
В послании митрополита Симона 'Пермскому князю Матвею Михайловичу и всем пермичам большим людем и меньшим' (1510 г.) говорится о поклонении пермичей Золотой бабе и болвану Войпелю; 'однако, в чем заключается это поклонение, из послания не видно, но, вероятно, до митрополита доходили очень скудные сведения об этой религии'. Между тем около того же времени сведения о Золотой бабе появились уже и в европейской литературе.
Первым иностранцем, давшим ее описание, был М. Меховский; впрочем, весьма вероятно, что первый глухой намек на этого идола сделал уже Ю.П. Лэт. Меховский ок. 1517 г. получил известие от пленных москвитян, находившихся в Кракове: 'За землею, называемою Вяткою, при проникновении в Скифию, - пишет он, - находится большой идол Zlotababa, что в переводе значит золотая женщина или старуха; окрестные народы чтут ее и поклоняются ей; никто, проходящий поблизости, чтобы гонять зверей или преследовать их на охоте, не минует ее с пустыми руками и без приношений; даже если у него нет ценного дара, то он бросает в жертву идолу хотя бы шкурку или вырванную из одежды шерстину и, благоговейно склонившись, проходит мимо'.
Следующим иностранцем, подробно описавшим идол, был Герберштейн:
'Золотая Баба (Slata baba), т. е. Золотая Старуха (или Праматерь (Anfrau)), - это идол, стоящий при устье Оби в области Обдора (Obdora), на том (ulterior, jenig) берегу. По берегам Оби и по соседним рекам расположено повсюду много крепостей, правители (domini) которых, как говорят, все подчинены государю московскому. Рассказывают, а выражаясь вернее, баснословят, будто идол Золотой Старухи - это статуя в виде старухи, держащей на коленях (in gremio) сына, и там уже снова виден еще ребенок, про которого говорят, что это ее внук. Более того, будто бы она поставила там некие инструменты, издающие постоянный звук вроде труб... Все, что я сообщил доселе, дословно переведено мной из доставленного мне русского дорожника'.
Рассказ Герберштейна с некоторыми вариациями повторен у Климента Адамса (1556) в его отчете королеве Марии о первом плавании англичан в Белое море ('Anglorum Navigation, напечатан сначала в сборнике Гэклюйта, а затем вошел в компиляцию 'Respublica Moscovlae et urbes' (Lugduni Batavorum, 1630); no мнению Х. Лопарева 'описание идола у Кл. Адамса напоминает скорее шаманов'); из Герберштейна же, вероятно, взял этот рассказ Гваньини, прибавивший указание, что идол был 'высечен из камня': (?) - de lapidum excisum (рассказ Гваньини воспроизведен у нас ниже). Наконец к Герберштейну, вероятно, восходит также рассказ Тевэ (см. у нас ниже).
Изображение Золотой бабы появилось также на ряде иностранных карт: у Антония Вида (1542), Ант. Дженкиисона (1562); изображена она также на обеих картах Герберштейна, причем любопытно, что рисунок мало в чем напоминает его собственный рассказ. На основании всех перечисленных известий по вопросу о Золотой бабе высказан был ряд догадок о ее происхождении, значении и т.д. Н. Костомаров (Славянская мифология.- Киев, 1847. - С. 30), комментируя рассказ Гваньини, обращал внимание на то, что этот идол, бывший в почете у финских народов, носил русское имя Златой бабы, что и дало ему повод заключить отсюда, что божество заимствовано от славян; делаемые им сближения Золотой бабы со славянской богиней Сива, или Жива, на основании показания Длугоша о горе, называемой Бабою ('Baba, mons altissimus supra fluvium Sota'...), с находящимся на ней городе 'Живце', конечно, совершенно произвольны и неправдоподобны. А.С, Уваров, исходя из указанного выше места Софийской летописи, предполагал, что этот идол был каменной бабой. Н.И. Веселовский в статьей 'Мнимые каменные бабы' (Вестн. археологии и истории. - 1905. - Вып. 17. - С. 4-12) произвел пересмотр этого вопроса и пришел к заклю-чению, что с каменными бабами Золотая баба не имеет ничего общего; 'упоминание о детях указует скорее всего на эмблему плодородия'. Н.С. Трубецкой (К вопросу о Золотой бабе // Этногра-фическое обозрение. - 1906. - Кн. 1-2. - С. 56-65) пытался еще более уточнить это сообра-жение и на основании ряда сближений с вогульской мифологией пришел к заключению, что Золо-тая баба была изображением вогульской богини Куальтысьсан-торум.
От русских исследователей ускользнули два иностранных мнения по этому поводу. Н. Michow (Die aеltesten Karten von Russland. - Hamburg, 1884. - S. 39-42), собрав ряд указаний о Златой бабе картографов и писателей, высказал предположение, что она была 'сделанной из глины и по-золоченной статуей мадонны, которая завезена и оставлена была на севере русскими во время одной из завоевательных экспедиций. По крайней мере, нечто подобное рассказывают о мужском идоле, который в эпоху покорения Сибири казаками был найден у остяков и по их собственным словам ранее почитался в России в качестве изображения Христа. Он был вылит из золота и сидел на блюде, так что вероятно это была крестильница. Остяки лили на нее воду и гадали, а, выпивая эту воду, были вполне уверены, что с ними отныне не случится никакого несчастья' (Mueller G.Fr. Sammlung Russischer Geschichte. - SPb., 1763-1764. - Bd 66. - S. 322; Миллер Ф.И. Описание Сибирского царства. - СПб., 1787. - Т. 1. - С. 155-157; ср.: Павловский В. Вогулы. - Казань, 1907. - С. 185). Эта догадка любопытна, но малоправдоподобна хотя бы уже потому что русские не имели скульптурных образов мадонн, а если и имели, то они резались из дерева (как, например, собранные в пермском музее интересные культовые деревянные скульптуры) и, кроме того, конечно, едва ли куда вывозились из церквей.
В другой своей работе Н. Michow (Das erste Jahrhundert russischer Kartographie. - Hamburg, 1906. - S. 24) обращает внимание на то, что как описание Златой бабы, так и изображение ее на европейских картах уже в XVI в. пережило известную эволюцию. У М. Меховского (1517) она представляется обыкновенной женской статуей; на карте А. Вида (1542) она изображена в виде статуи, держащей рог изобилия; в копии этой карты, сделанной Hogenberg'oм (1570), она приняла вид мадонны и держит ребенка на руках; у Себ. Мюнстера (1544) ребенок превратился в золотую дубинку; изображение Золотой бабы на латинской карте Герберштейна походит на статую Минервы с копьем в руках, но на его же немецкой карте 1557 г. она опять представлена Золотой старухой ('Guldene vetl'), сидящей на троне с ребенком на руках; наконец, на карте А. Дженкинсона (1562) Золотая баба изображена также мадонной, но не с одним, а уже с двумя детьми (ряд рисунков воспроизведен у Анучина: Древности. - М., 1879. - ? 14. - С. 53-60) Эти изменения, которые претерпевало изображение Золотой бабы на Западе при движении с Перми Великой за Урал в Сибирь, свидетельствуют, конечно, о том, что представления о Золотой Бабе на Предуралье у пермяков и у хантов и манси Приобья Сибири различны, но имеют оющую основу.
Лишь одно обстоятельство заслуживает полного внимания. D. Morgan (Early voyages and Travels to Russia and Persia. - London, 1886. - Vol. 1. - P. CXXVIII-CXXIX) подметил, что чем позже встречается рассказ о Золотой бабе, тем дальше на восток отодвигается ее местопребывание; прежде всего ее помещают на территории Вятки или Перми; на карте Вида она помещена уже в Обдории (Abdoria), на запад от Оби; наконец, ее помещают на Обь или даже еще восточнее: у Петрея (1620), например, который сравнивает ее с Изидой, она помещена именно па берегах Оби.
В XVII в. известия о Золотой бабе почти совсем прекращаются, хотя еще у Левека в его 'Histoire de la Russie' мы найдем весьма фантастическую картинку с ее изображением.
Только закостенелое предубеждение, сформированное Реформацией Христианства от лютеранской ереси и пустившей свои корни и в России, не позволяет увидеть в образе Золотой Бабы пермяков обычную для православных Богородицу, для католиков – Святую Деву Марию (рис.87).
Рис.87 Сикстинская Мадонна Рафаэля и Золотая Баба их карты Московии Дженкинсона 1562 года.
Почти 500 лет назад «явилась в свет» работа ересиарха Лютера (конец XV- начало XVI в.) «О том, что Иисус Христос был рожден евреем». В те времена подобное заявление воспринимались еще большинством человечества как гипотеза новая, очень спорная и довольно странная. Впрочем, она и притягивала к себе внимание, как всякое «скандальное» заявление.
Позднее даже сам Лютер изменил точку зрения и написал книгу противоположного содержания: «О евреях и об их лжи». Лютер хотел исправить собственную ошибку, да только ящик Пандоры не пожелал захлопнуться. Последняя книга ересиарха оказалась замолчана, тогда как идеи первой продолжали усиленно насаждаться. Потому что религиозный и, главное, политический конфликт, охвативший все страны Запада, требовал, как раз, переиначивания основ. Поэтому, что было раньше лишь «умничаньем» экзотических сект – сделалось, с «легкой» руки Лютера, заблуждением человечества. Крайнее воплощение этого мы часто может наблюдать сегодня в виде назойливых «братьев и сестер» из сектантов «Свидетелей Иеговы» почти еженедельно у своих дверей. Почитание Девы Марии (католиков) и Богородицы (православных) противоречит самому духу Реформации протестантов.
Отсюда и временная, европейская трансформация образа Золотой Бабы пермяков из Богородицы в злобную старуху Минерву с дубинкой или копьем вместо младенца. Меж тем, даже Герберштейн написал, что Золотая Баба – это Anfrau, т.е. Праматерь человечества (или народа).
Европейцы, да и византийские «православные» в Перми столкнулись с древнейшей культурой почитания Богородицы, не привнесенной ими, а может являющейся наоборот, праобразом формирования почитания Девы и Ее младенца в христианстве. Отсюда и поиски аналогий в искусстве Рафаэля Санти и Золотой Бабы пермяков (рис.88)
Рис.88 Мадонна Ансидеи Рафаэля Санти и Золотая Баба из карты Московии Герарда де Йоде.
«Ученики спросили: скажи нам, каким будет наш конец. Иисус ответил: открыли ли вы Начало, чтобы искать конец? Блажен стоящий в Начале: он познает конец и не вкусит смерти.» (Евангелие от Фомы, 19 (апокриф II в.)).
«Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь,
Который есть, и был, и грядет, Вседержитель» Иоанн, Откровение, 1: 8.
Конец европейцам и византийцам был, в меру их понимания, известен, а вот Начало они и пытались открыть в «глубинах» Перми, чтобы найти Конец.
Рафаэль, вероятно, очень многое знал о глубинных основах христианства (достаточно взглянуть на задний план за Мадонной и возрастной «ценз» изображенных там попарно! «персаножей»). А вы (мы)? В чем смысл жизни каждого? В чем смысл «смерти»? А нужно ли это бессмертие? В протестантизме же применен старый принцип: все «шиворот-навыворот» (см. происхождение и значение понятия «татары»).
Даже и не знаю, кто был Прав в споре: Стефан Пермский, уже не знающий Начало, или Пам-Сотник, не ведающий еще ничего о Христе? Посох Пермского ясно показывает, что спор вели два «монаха», который, после «испытаний», завершился свержением «идола», судя по ранним записям, Войпеля. Судя по описанию, культ подобных идолов в «одежде» до сих пор сохраняется даже у берегов Ледовитого, как показано на рис.89.

Рис.89 «Захряпы» на р.Пёза Мезенского района Архангельской области. 2007
Кто такие эти «захряпы», кто соорудил их, для чего никому не ведомо, но раз появляются, «значит это кому-нибудь нужно».
Мало-мальски исследователи все же задаются вопросом: почему на Коми земле известно два «идола»: русскоязычная Золотая Баба и комиязычный Войпеля. Почему, после «спора» со Стефаном Пермским, народ, не пожелавший принять «христианство» Стефана Пермского, удалился на Пинегу и верховья Мезени, а Сотник-Пам, в одиночку, ушел за Урал к родственным вогулам Оби, оставив своих зырян на месте? Как уживались до 1379 года в Перми северо-евразийское православие (житие Стефана говорит о знании Триединого Бога Всевышнего, а культ Золотой Бабы – о почитании Богородицы) и народное «язычество» зырян?
Эта загадка успешным образом была решена, благодаря открытиям В.Чудинова.
Методика Чудинова позволила расшифровать тайнопись – криптографию – на древнерусских иконах. И вот что оказалось на них начертано сокровенным способом: «Иисус – Лик славянский по Матери», «Мария водила Иисуса в храм Живы»… и далее в таком духе. То есть: нынешняя русская дониконовская вера есть та же самая, что исповедовали самые далекие наши прямые предки! И раньше знали о руничной тайнописи на старых православных иконах. Не зря к ним с таким благоговением относились и относятся поныне старообрядцы. Почитание же богов младших – прибогов – не противоречило культу Великого Триглава (так наши предки именовали Пресвятую Троицу), но было частью его. И почитание это не считалось на Руси зазорным для христианина вплоть до времен принесшей раскол никонианской реформы. Валерием Чудиновым обнаружены этому факту весьма наглядные, неопровержимые доказательства: на стенах притворов храмов, что были возведены до патриаршества Никона, остались глубоко выбитые на камнях руны, которые указывали, где были размещены лики каких младших богов, чтобы прихожане могли почтить их.
Один из выводов, который делает Валерий Чудинов, ошеломляет современного человека. Скрупулезные исследования тайнописи на священных предметах выявили величественную картину. За многие тысячелетия до принятия христианства на Земле, в том числе и на территории современной России, уже была развитая, продуманная и многоуровневая система верований. Она являла собой духовное учение примерно такого типа, какое исповедует сейчас Индия, точнее, та часть индусов, что сохранила древнейшие заповеди, конкретно, Веданты. Духовные понятия наших предков, символика, каноны и ритуалы отличались такою степенью структурности и системности, какой способна похвастаться не всякая из теперешних мировых религий. Все русские святилища, например, возводились не абы как, но в соответствии с единым планом соотношения частей и строгой ориентацией их соответственно сторонам света. На каждом камне или священном предмете обозначалось рунами его должное месторасположение, предназначение, а также мастерская, где он был изготовлен и/или мастер-изготовитель. В случае перемещения священного предмета из одного храма в другой или вообще какого-либо значимого события служители наносили на предмет соответствующую надпись или печать. Был строгий канон о том, какими надписями прославляют какого бога. Существовала развитая иерархия служителей, символы и облачения, различающие достоинство сана.
И, главное, существовала иерархия достоинств самих богов. А также и понимание, что над всеми богами, людьми и тварями существует Бог Единый Всевышний. О нем говорилось и писалось на священных предметах весьма немного, что и понятно, ибо Всевышний Бог и Первоисток всего представляет собой и величайшую Тайну. Тайну всех тайн. Возможно, такую именно, которая даже и вообще не может быть открыта ни в каких надписях, а лишь – постигнута в Духе, в Его молчаливом и сосредоточенном созерцании. Единственное, что доверяли тайнописным словам древнейшие наши предки, так это ведение, что сей Единый Всевышний одновременно суть и Троичен. Они называли Его Великий Триглав.
Словом, такая вера, столь структурированная и глубокая, никоим образом не подходит под определение «язычество», которое сейчас употребляют, как нечто якобы само собой разумеющееся, в исследованиях по русской дохристианской вере. И не подходит по той причине, что термин этот – «языческая религия» – ассоциируется обыкновенно с чем-то примитивным и темным. И справедливо ассоциируется, в большинстве случаев. Поэтому совершенно неверно обозначать древнюю русскую религию как язычество. Достойное определение для нее есть ВЕДИЗМ. По крайней мере, коль скоро уж этим словом в науке (да и не только в науке) принято обозначать религию Индии, то вера наших древнейших предков, как минимум, не менее достойна такого определения.
Что же касается одного из наиглавнейших выводов, которые делает ученый, то он может породить и смятение в умах, и надежду:
Какое же открытие совершил Чудинов? Он обнаружил поразительную ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ между ведическим и православным христианским канонами. И даже, расшифровывая ведические и христианские тайные надписи, процесс поэтапной последовательной передачи ряда богословских понятий. (Не без определенного видоизменения последних, конечно же. Но понятийный аппарат изменяется в каких-то нюансах и вообще у всякой религии, существующей достаточно долго.)
- Начнем с обычая носить крест. Сейчас он почитается исключительно христианским. Лишь наиболее въедливые историки отмечают вскользь: во времена, когда Рим сделался терпимым к христианству и даже сам исповедовал его кельтам, то это ведь не римляне кельтов, а кельты научили римлян почитать крест! Валерий Алексеевич уделяет этому вопросу внимания куда большее. Он демонстрирует в книге «Тайнопись...» целую галерею носимых крестиков и почитаемых изображений креста, имевшихся у исповедовавших ведизм. И доказывает: в честь каждого из русских богов (или по крайней мере, в честь многих) положен был, согласно ведическому канону, крестик особой формы. Заметим, что и отдельные представители современного официального христианского священства имели сведения об особенных крестах древнерусских и пытались привлечь внимание к этой теме. Архимандрит Иннокентий, например, который, занимаясь историческими изысканиями, обнаружил древний витой «новгородский» крест. (Этому нашему современнику, кстати, мы обязаны точным – фотографическим – воспроизведением каждой страницы издания Русской Библии 1499 года, рукописной, содержащий исконный текст без подчисток времен никонианской реформы, которую теперь все чаще называют никонианской ересью.)
- Чудинов также открыл наличие у последователей русской ведической веры прототипа христианского православного иконостаса, который имел название «святовид». Заметим, что ничего подобного православному иконостасу не существует у христиан-католиков. Как не было прототипов его и у западных язычников. Да и редко, когда христиане Запада стремились что-либо перенять, а чаще прибегали к искоренению огнем и мечом. Как, впрочем, и язычники тех земель, покуда были сильнее в политическом и военном смысле («монголо-татарское иго»).
- Но возвратимся на Русь. Валерий Алексеевич открыл сходство знаков священнического достоинства у жрецов и у христианских священников по XIV век включительно. И тем, и другим полагались в качестве таковых посох и перстень. Причем, на перстнях и посохах у тех и других имелись начертания русским сакральным ведическим письмом, то есть, как это называет Чудинов, «рунами Макоши». И вот еще какой факт был выявлен исследователем. В те давние времена русские христиане дарили т.н. «язычникам» иконы и другие священные предметы для храмов их, которые там и устанавливались волхвами посреди изображений богов для поклонения как последователей ведической традиции, так и христиан. Ибо христианам в те времена вход в храмы ведические был и не заказан, и не зазорен. А также и волхвы приносили христианским священникам ответные дары. Чудинов показывает о целом ряде ведических священных камней, к примеру, что эти камни, судя по тайнописи на них, переданы были волхвами в христианские храмы. В которых и сохранялись бережно. И, более того, существовал обычай в притворе христианских древнерусских церквей размещать изображения ведических богов. Прием для этого был канон, какого из богов следует размещать около какой стены храма. На камнях наиболее древних русских соборов и до сего времени еще можно прочитать тайнопись, указывающую место. И эти начертания русскими рунами были выявлены Чудиновым. Чтение выполненных рунами надписей на священных предметах позволило также установить: мастерские, в которых изготавливались изображения богов, производили также и христианские каменные кресты.
- Но самое поразительное открытие Чудинова представляют, наверное, священные предметы «двойного предназначения», как это называет исследователь. А именно: христианские иконы и ладанки, на которых наряду с изображениями Христа и святых имелись также изображения и ведических богов; камни, посвященные богам этим, на которых начертан и крест христианский православный. Причем, он выбит на камнях этих многовековых вовсе не христианскими священниками, но самими волхвами русскими, что и обозначено тайнописью. Ибо волхвы полагали христианство естественным продолжением ведизма, реализацией – исполнением на практике – всех древних его пророчеств о Даждьбоге, Сыне Сварога Небесного.
Итак, заключает Валерий Алексеевич свои выводы, тайнопись открывает нам совершенно иную картину соотношения религий, чем ныне принято думать. А именно, христианство зародилось в недрах русского ведизма, а не какой-либо другой религии (не в недрах иудаизма, к примеру). И после этого христианство и русский ведизм долгое время существовали, как единое целое. И это есть тот самый период, который ныне в исторической литературе принято обозначать именем «двоеверие» (хотя «двоеверие» и тут неуместно употреблять: единая вера). Подобное заявление, вероятно, вызовет шок у большинства современных христиан мира. Но, между прочим, на несоответствие теперешних представлений реалиям истории указал еще священник Александр Мень. Писавший, что введение Марии в иудейский храм и, тем более, во святая святых – в реальной жизни не могло состояться, потому что это категорически запрещает иудейский закон, по коему священнослужителями могут становиться лишь лица мужского пола.
Итак, в иудейский храм Пресвятая Дева введенной быть не могла. Но праздник «Введение Богородицы во храм» отмечается и поныне как один из Великих Двунадесятых. Тогда в какой же именно храм была введена Мария?
Эту органичность и связность всех частей во единое целое можно видеть, действительно, на примере почитания Богородицы. Русские православные (Правь славили) ведисты веровали всегда в Мать Макошь, рождающую богов (вот почему у Золотой Бабы - младенец и во чреве уже внук). При этом они почитали Ее как Деву, поскольку ведали, что боги рождаются по-другому, нежели смертные. Естественно, что волхвы уверовали и в то, что Она родила и Сына Самого Бога Всевышнего. Тем более, что такое Событие было предсказано ведическими мифами о Даждьбоге, Сыне Сварога Небесного. И, дабы совершилось это предреченное великое Рождество, великая Мать воплотилась в земную деву – в Деву Марию. Но после вознеслась на небо, как и Ее Сын.
Красноречивый факт: русские христиане почитали Богородицу испокон. То есть, они воистину были наследниками древнего православия. А византийцы, хотя и тоже называвшиеся православными, сначала премного спорили, как им именовать Марию: Богородицей или только лишь «Христородицей», как это придумал ересиарх Несторий. Потребовалось осуждение несторианства на III Вселенском соборе, чтобы весь православный мир начал говорить «Богородица». То есть – такое именно слово, какое было на Руси в ходу еще за тысячелетия до Рождества Христа. Так что это еще вопрос: какая церковь училась у какой – русская у византийской или византийская у русской. Католики же вообще начали называть Марию не только Святая Дева, но также и Богородица, лишь с конца позапрошлого века.
И наконец о том, что же произошло в конце XIVвека в Перми между Стефаном Пермским и русскими православными и зырянскими ведическими волхвами Вычегды?:
Несколько еще веков назад начат был какой-то грандиозный подлог. Валерий Алексеевич пишет на эту тему в «Тайнописи...»: «Возникает впечатление, что разрыв дружеских отношений между ведистами и христианами произошел только в XIV веке. Эту дату я установил по христианским иконкам, которые еще в XIII веке имели двойное назначение, то есть, на их образах содержались лики как ведических богов, так и христианских святых, а уже в XIV веке мы наблюдаем строго христианские лики. Что произошло в этом XIV веке, я пока не знаю».
Зато всем доподлинно известно из учебников истории: Куликовская битва и стягивание земель русских в единый центр, в Москву. Для отделения Московии от Золотоордынской империи необходима было иметь идеологическое обоснование, отличное по содержанию от ордынского, но такое же по форме: строгая иерархическая система, с разрушением горизонтальных связей между народами и замыкание их в единый центр – разделяй и властвуй. Для этого, как нельзя, кстати, очень подходила провизантийская система христианства с ее нетерпимостью ко всему ведическому. В чем суть этой нетерпимости?
|
|
Часть 28. Почему "Закон судный людям" и Русский Дух несовместимы? Из цикла "Там Русский Дух, там Русью пахнет". |
Это цитата сообщения Андрей_Леднев_из_Мурмана [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
... а глядела Все на яблоко. Оно Соку спелого полно, Так свежо и так душисто, Так румяно-золотисто, Будто медом налилось! Видны семечки насквозь... Напоено Было ядом, знать, оно. Перед мертвою царевной Братья в горести душевной Все поникли головой И с молитвою святой С лавки подняли, одели, Хоронить ее хотели И раздумали.
Почему "Закон судный людям" и Русский Дух несовместимы?
Сегодня трудно себе представить, что общего у христианства и, например, индуистского ведизма. В основе ведизма идея перерождения души. Сегодня принято, что христианство отвергает это. Так ли было на самом деле у истоков зарождения христианства? Ни Господь Иисус Христос, ни апостолы, ни ближайшие поколения учеников их не отрицали идею Перерождения. Вселенский же собор Церкви 325 года, Никейский, безоговорочно подтвердил: ведение о Перерождении представляет часть христианского учения; отрицание возможности множественных воплощений, следовательно, суть ересь. Об этом подробно и доказательно пишет Д.Логинов в своих работах, «Отвергает ли христианство идею перерождения?» и других: «Такой позиции высшее христианское духовенство держалось первые 500 лет по Р.Х. То есть половину тысячелетия. Обратное утверждение прозвучало только в 553 году на соборе Константинопольском. Не столько в результате богословского диспута, сколь соответственно требованию императора Юстиниана I, известного своим грубым вмешательством в дела Церкви. Исследователь Александр Владимиров полагает, впрочем, что никакого обратного утверждения – соборного – может, и вовсе не было («Апостолы», М.: Беловодье, 2006). А были только позднейшие приписки. Тогда ведь проводилась компания по насаждению законничества в христианстве правдами и неправдами. Для этого в исконном учении многое отвергалось – под знаменем борьбы с «эллинствованием»...».
Знающему о Перерождении души, никакой Закон не нужен: его жизнь определяется теми нравственными установками его Души. Более того, он всегда сможет безоговорочно почувствовать и отвергать те Законы иерархов, которые противоречат человеческим отношениям мироздания. До какого абсурда может доходить жизнь по Закону ясно видно по той системе существования противоречий в современной системе правосудия (это ясно видно по американской: у кого больше циферек на счету в чужом банке, тому вообще закон не писан – залоговая система). Формирование строгого иерархического государства неизбежно сопровождается созданием Закона от иерарха, даже путем отрицания тех нравственных межчеловеческих отношений, сформированных веками, если они в данный момент этому иерарху не выгодны, тем паче мешают.
Ярким примером формирования такого государства и искаженного общества является, например, известный болгарский «Закон судный людям». Закон судный людям — самый древний письменный законодательный памятник из сохранившихся среди славянских народов. Он был создан в Болгарии в княжение Бориса вскоре после принятия болгарами в 865 году христианства. Это был период развития болгарского феодального государства, усиления государственной власти. Введение христианства как официальной государственной религии, которая санкционировала складывавшийся феодальный правопорядок, способствовало укреплению позиций класса феодалов-бояр, оправдывало существовавшее социальное неравенство — наличие класса господ-бояр и подчиненных крепостных крестьян. И первейшая же статья этого закона уже о многом говорит: «I. Прежде всякой правды достойно есть о божьей правде говорить. Потому святой Константин, первый закон написавши, передают, так говорил: Всякое село, в котором отряды бывают или заклинания поганские, отдается в божий храм со всем имуществом. Если имеются господа в том селе и совершают обряды и (произносят) заклинания, они продаются со всем имуществом своим, а цена дается бедным.» Многие скажут, что это необходимое условие государственности и сохранения основ государства. Как раз наоборот это было на Руси-России, что и опредилило могущество, его цельность и нерушимость территории: свободные от «Закона судного людям» и автономно существующие земли Поморские, Сибирские, Донского, Терского, Запорожского и Семипалатинского казачества. Ярко это проявилось в Смутное время: иерархический центр канул в небытие, но автономность окраин привела к сохранению государственности и его восстановлению в последующем. Разрушение этог привело к 70-летнему инерциальному существованию СССР, его краху и образовнию сырьевого придатка чуждой народам России «забугорной» строгой иерархической власти.
Для иллюстрации «жизнеспособности» подобной системы государственности приведу примеры из Переписи Пустозерской волости (ныне Ненецкий АО):
Перепись 1574 года:
«И обоего в волостя в Пустоозере дворов црквы и великого князя тяглых а непашенных русских и пермяцких сто сорок четыре дворы а людей в них русаков и пермяков двести восмьдесят два члвка.
А по Якимову Пясмуромянова (переписи до этого) лета 70[]2 в Пустозере на посаде написано девяносто семь дворов а людей в них двесте тридцать члвкъ а давали они преж сегоцрю и великому князю в казну с тех до их дворов и з животов и с промясков и с Тонь морских и с речных и с рекъ ис озер за рыбную ловлю по восмьдесят рублев на год .» Это только мужского взрослого населения, все дворы полны народа, ловят рыбу, пашут, сеют, живут счастливо и казну государеву пополняют
А вот перепись 1679 года (только через 100 лет Пустозерск перестанет существовать как уездный город, в 1780 году):
«... /л. 9/ Да в Пустозерском же остроге на посаде пустых дворов и дворовых мест, которые посацкие люди померли и розбежались в сибирские и в ыные городы. А те их дворовые места лежат пусты, не владеет ими нихто: д. пуст вдовы Марьицы Гришкины жены Городова, а она, Марьица, умре в нынешнем во 187-м году; м. Давыдка Юрьева сына Полушкина; м. Гришки Иванова сына Сумарокова;.м. Герасимка Степанова сына Порядина, а он, Герасимка, сшол на Мезень в прошлом во 175-м году; м. Микитки Григорьева сына Ушакова да Сеньки Алексеева сына Вырлы: Микитка и Сенька (л. 9 об.) умре во 169-м году; м. умершаго Кирилки да Васьки Ивановых детей Ушаковых; м. Гаврилка Матвеева сына Хабарова: Гаврилка умре, а дети ево сошли в сибирские городы на Березов в прошлом во 178-м году; м. умершаго Куземки Исакова сына Кожевина; м. Гаврилка да Максимка Артемьевых детей Хабаровых: Гаврилка збрел к Москве в прошлом во 186-м году, а Максимка умре; м. умершаго Давыдка Федосеева /л. 10/ сына Банина; м. умершаго Герасимка Сумарокова; м. умершаго Федьки Дмитриева сына Недосекова; м. умершаго Васьки Титова; м. умершаго Андрюшки Александрова сына Мазлыкова; м. умершаго Герасимка Богданова сына Куркина; м. Васьки да Васьки ж, да Треньки, да Микитки Даниловых детей Тимошенцыных: Васька большой да Васька ж меньшой умре, а Микитка живет в Голубковской жире, а Теренька кормитца по миру; м. умершаго Микифорка Федотова (л. 10 об.) сына Дрягалова; м. умершаго Кирьянка Афанасьева сына Никонова; м. умершай вдовы Парасковьицы, прозвище Чистяк; м. умершай нищай вдовы Анницы Ивашкины жены Ряженцова; м. умершай вдовы Ивашкины жены Носкова Катеринки; да месты ж дворовые пустоозерцев же посацких людей /л. 11/ старые пустоты, которые померли в голодное время во 153-м году и которые разбрелись в ыныя городы: м. Ивашки Игнатьева сына Орлова; м. Сеньки Васильева сына Поздеева.
...Да в Ыжемской же слободке пустыя выморочный дворы, которые крестьяне в прошлых годех померли, а иные от нужды розбрелись в сибирские и в иныя городы з женами и з детьми, а дворы их и дворовые места ныне пусты, нихто ими не владеет, а писаны те пустые дворы по сказке старосты и мирских людей: /л. 32 об./ д. Чюдинка Спиридонова сына Кузьминых. А Чудинка сошол от голоду в сибирския городы в прошлом во 183-м году; д. Офоньки Алексеева сына Филипповых, а Офонька сошол от голоду в Пермь Великую в прошлом во 186-м году; д. пустой Спирки Федорова сына Кузьминых, а он, Спирка, умре, а дети ево сошли в Сибирь, да ево ж, Спиркин, сын Тимошка в стрельцах в Пустозерском остроге; д. пустой Кирюшки Сафонова сына Носовых, Кирюшка сшол безвесно в прошлом во 163-м году; /л. 33/ д. пустой умершево Марки Ефимова сына Зарубиных; д. пустой, а по сказке соцкого Костьки Хозяинова и крестьян жил в том дворе прохожей человек с Пинеги кевролец Пантелейко Иванов, а сошол он в Сибирь в прошлом во 169-м году; д. пустой умершево Васьки Гаврилова сына Филипповых; д. пустой умершево Софронка Федорова сына Филипповых; д. пустой, а по сказке соцкого и крестьян тот дворишко прихожево человека Кондрашки Боршевых, а он де, Кондрашко, умре, а жены де и детей у него не было /л. 33 об./ и тем де дворишком нихто не владеет; д. пуст Кирюшки Иванова сына Бабикова, Кирюшка от голоду сшол в Кевролу з женою и з детьми в прошлом во 163-м году; д. пуст, умершего Климки Павлова сына Панкиных; д. пуст Никитки Селиверстова сына Каневых, а он, Никитка, умре; д. Федосейки Павлова сына Филипповых; д. пуст умершево Ларьки Гаврилова сына Филипповых; д. пуст по сказке соцкого и крестьян /л. 34/ жил в нем прихожей человек Петрушка Прокофьев сын Качин, и сошел де в прошлом во 184-м году безвесно, а нихто тем дворишком не владеет; д. пуст попа Михаила Софронова; д. пуст Афоньки Ананьина сына Болды, а он, Афонька, сошел от голоду в сибирские городы в прошлом во 163-м году; д. пуст умершаго Ромашки Аникиева сына Родионовых, а дети ево, Трифонка да Ондрюшка, сошли от голоду в сибирские городы в прошлом во 170-м году, а тем ево дворишком нихто не владеет.
.../л. 39./ В Усть-Целемской же слободке пустые выморочные дворы, которые крестьяне тех дворов з женами и з детьми померли, а иные в прошлых годех збрели в сибирские и в ыные городы з женами ж и з детьми, а дворы их и дворовые места пусты, нихто ими не владеет: д. пуст Пашки Шишолова, а он, Пашка, сшол в Пермь Великую в прошлом во 185-м году; д. пуст Чюпрушки Поздеева, а он сшол з женою и з детьми в прошлых годех в сибирские городы; д. пуст умершего Офоньки Чюпрова, а жена ево и дети сошли /л. 39 об./ в Сибирь в прошлом во 180-м году; д. пуст умершего Карпушки Лазырева; д. пуст Зотки Харитонова сына Горбунова, а он, Зотка, сшол безвестно з женою, и з детьми в прошлом во 185-м году; д. пуст умершего Гришки Плешкова, а жена ево и дети сошли на Мезень; д. пуст Кононки Чюпрова, а он сшол и живет ныне в Ыжемской слободке; д. пуст умершего Панкрашки Малашева; д. пуст бывшего пономаря Баженка Дуркина, а он, Баженка, умре; д. пуст Федьки Кислякова /л. 40/ , а он, Федька, сшол безвестно в прошлом во 185-м году; д. пуст умершего Федотка Аврамова сына Чипсанова; д. пуст умершего Савки Поздеева; д. пуст Лаврушки Лазырева, а он, Лаврушка, умре, а сын ево Федька сшол з женою и з детьми в Пермь Великую во 185-м году; д. пуст Ларьки Конищева, а он, Ларька, сшол в Перьмь Великую з женною и з детьми в прошлом во 178-м году; д. пуст Фочки Вокуева, а он, Фочка, умре з женою в давных летех, а дети ево сошли в Сибирь. /л. 40 об./».
Я специально привел полный список масштабов «разрушений» последствий смены идеологической «никоновской»-христианской концепции существания в государстве, чтобы было понятно: а так ли уж были «пусты» земли Севера в период расцвета Поморской цивилизации до их «растворения» в Российской имперской неравноправно-социальной государственности.
У меня всегда возникало «чувство протеста», когда я читал зазубренный штамп наших «академиков» от истории: в голодные годы сошел Дерягин на Уральские рудники и металлургические заводы, набрался там «уму разуму», да и вернулся обратно на Мезень и занялся меднолитейным делом. Да как занялся: где-то за тыщу километров, на Цыльме некто разведал медные руды, построил печь и занялся их выплавкой, кто-то доставлял ее в Кимжу, а уже расплодившиеся Дерягины обеспечивали округу медными изделиями от колоколов на церквах до пряжки на ремне и уздечке. Представьте себе голодные и холодные годы, в доме сырость и грязь, но дом-то есть. А вам надо собрать какие-то пожитки (достаточно весомая ноша) и еле волоча ноги от голода двигаться за тысячи километров под дождем и снегом, без «зонтика», чтобы укрыться от непогоды в неведомые земли, где еще «бабушка сказала»: а будет ли еще там лучше; да еще и домишко срубить, да еще и инструментик для этого нужен. Обоснавались, постигли мастерство и опять собирать пожитки… и тащится обратно на Север.
Совсем недавно получил документы, объясняющие и подтвержсдающие феномен «русской души». В переписных листах 1897 года во дворах моей родни в Дорогорское Мезени записаны в графе степень родства «прохожими»: Дерябин, Хантолин, Ивановы из Лешуконского общежития, Чулаковы из Палащельского общежития Койнасской волости. Кто такие? В графе занятие: морские промыслы. После в записках Архангельского губернатора Энгельгардта прочитал: обычное дело, в домах Мезенских поморов всегда проживают морские промысловики из дальних деревень, даже им и не родня, но живут они там подолгу, как у себя дома, готовят, едят наравне с хозяевами. Может поморам начала XX века и не ведомы были «нюансы» христианской религии их предков, но уж по сложившейся вековой традиции, они относились к ближнему и прохожему, как к себе самому. «Возлюби ближнего как себя самого», потому что может это и есть ты. Эту основную «формулу» христианства, наши предки не воспринимали так, как мы сегодня: кинь милостыню ближнему, может где-то там, в «небесной бухгалтерии» тебе это зачтется при распределение мест в раю или аду. А воспринимали это буквально: нет ничего в этом мире случайного и, если и суждено было людям «найти» друг друга, то уж наверняка придется «сопережить» жизнь друг друга и своих ближних в следующих своих перевоплощениях души. И наказанием или благодарностью там, в следующем воплощении, тебе будет то же зло или добро, которое ты совершил в этой.
Не знаю, знают и знали ли об этом сильные мира сего? Судя по всему знали! Иначе как объяснить все это созданное ими кастовое общество, где не дай бог им «соприкоснуться и пережить жизнь» всех тех, кого они назвали «неприкасаемыми»: челядь, смердов и т.п. У восточных «эмиров» вообще дошло до паранои: не дай бог «неприкасаемым» увидеть тебя, оттого и поклоны лбом об землю, чтоб даже не видели лишний раз «избранных и помазанных».
Тем более, что Учение о переселении души было распространено, конечно, не только в Индии. Туда, и это индуистские ведисты не отрицают, оно было принесено древними руссами с евразийского Севера. На Западе же о реинкарнации знали друиды кельтов, а на Востоке понятие о ней включал шинтоизм. Древние греки имели стройное учение о метемпсихозе, представленное в трудах Платона и воззрениями пифагорейской школы, Академия платоников которых, просуществовав тысячу лет, была разогнана Максимилианом только в VI веке н.э.. Идею Перерождения помнили и народы, священной книгой которых была Авеста. Поэтому, когда на земли зороастрийцев пришел ислам, ведение о ней все равно сохранилось в исповедании друзов и даже некоторых суфийских толков. О Перевоплощении Душ ведали даже и исламские волжские булгары, об этом говорилось ранее в Джагфар Тарихы, что говорит о том, что и для раннего ислама это учение было не чуждо и характерно как минимум для всей тюркской части Русской равнины. О переселении душ знают аборигены Австралии, обеих Америк, Африки...
Данное отступление от повествования о Перми нужно было только для того, чтобы было понятно, чем отличается жизнь по сПравВЕДливости от существования по Закону в представлении православного ведического христианства и уже неправославного провизантийского.
Поэтому анализ 2-ого колена 3-й композиции посоха Стефана Пермского ведические православные сделали бы так:
Третья композиция, очевидно, представляет вершину деятельности Стефана - обращение пермяков в провизантийское христианство и сопуствующее ему дальнейшую жизнь по «Закону судному людям». Это событие было иллюстрировано именно этой композицией, так как сцена крещения пермяков в резьбе посоха отсутствует!!!. Принесение Стефану 'закона' не известно более ни по каким источникам. Слово 'закон' как будто подразумевает религиозный текст (?). Никакой пермский языческий закон в ЖСП не упоминается, более того, в этом произведении специально подчеркивается, что до прихода к пермякам Стефана у них не было закона. 'Людем беззаконным закон дал еси. . . не бывшу у них закону'. Пермяки, стоящие перед Стефаном, ничего в руках не держат, впрочем, здесь часть резьбы утрачена; не совсем понятный персонаж, стоящий за его спиной, держит книгу. Это 'закон', принесенный Стефаном пермякам), которую несет идущий вслед за Стефаном какой-то его помощник.

3-я композиция 2-ого колена из книги Чернецова А. В., "Посох Стефана Пермского"
Одно из изображений на рассматриваемом цилиндре НЕ имеет противоречия с текстом надписей. Это крест на одном из знамен, с которыми плывут враги Стефана – «неверные», православные (ведические) христиане, живущие по-божески, а не по закону. Стефан не крестил зырян, а перекрещивал в новую веру: жить не по-божески, а по Закону. Здесь мы опять встречаемся с явлением «шиворот-навыворот»: величие «закона» в глазах его несущих людям и презрение тех, чью дальнейшую жизнь без сПравВЕДливости им исковеркали (спорить безполезно: предубеждение сильнее истины).

1-я композиция 2-ого колена из книги Чернецова А. В., "Посох Стефана Пермского"
Наконец, последняя сцена посоха Стефана Пермского:

3-я композиция 3-ого колена из книги Чернецова А. В., "Посох Стефана Пермского"
: сокрушение и сжигание пермского «идола» Войпелю, последняя надежда обвинителей зырян в «язычестве». Человеческий облик «идола» Войпеля и его «царское» происхождение говорит нам о культе прародителя народа, точно такой же, как культы Руса у русов, Словена у словен, Чеха у чехов, Авара у аварцев, Рурика у руриковичей, чему доказательством являются монеты-бректеаты в Европе I-ого тычячелетия н.э. Масштабы распространения его в первом тысячелетии свидетельствуют о почитании на обширнейшей территории ключевой народорождающей личности и обожествлении ее определенным народом. Т.е. это идейная основа образования племени-народа, отличающей его от остальных. В то же время сходное изображение, особенно это заметно на монетах-бректеатах, говорит об едином критерии отбора для образа прародителей разных народов. То, что В.Чудинов назвал «карикатурным» изображением Рурика, Авара, Чеха, вряд ли является унижающим этого божества образом. Это просто непонятная для нас символика и сущностное выражение, понять которое можно, только зная мировоззрение наших предков. На монетах-бректеатах Европы прародители как бы «впаяны» в тело несущего их коня (рис.74-77).

Чтобы понять это, обратимся к «мифологии» времен становления христианства в Европе:
Предание древних руссов говорит о преображении Даждьбога в Оленя – белого, несущего на главе своей золотые рога. И вслед за тем повествуется о Его обратном преображении. Томас Мэлори описывает в книге «Смерть Артура» (XV в.) явление Христа в образе белого Оленя с крестом рыцарям Ланселоту и Парсифалю. Традиция писать Иисуса Христа в образе Оленя, имеющего между рогами крест, была известна православным иконописцам даже и вплоть до XIX в. Такое изображение есть, например, на иконе письма Захария Стефанова (Цанюв), которая представляет образ четырех святых всадников: Георгия Победоносца, Димитрия Солунского, Феодора Стратилата и Евстерия. На этом образе запечатлен Олень, оглавием которому служит крест. Около этого креста начертано: «Иисус Христос». Около уст Оленя: «явихся народам». Само изображение коня-оленя на монетах-бректеатах не «карикатурно», а показывает рождение из клубка через коня-оленя в бого-человека. Зная о том, что раннее христианства не отвергало идею Перерождения Души, можно предположить, что символика монет-бректеатов показывает рождение узловой фигуры прародителя из клубка перерождений. В этом состоит и главное отличие от индуисткого ведизма, где Перерождение разных душ идет по параллельным, не пересекающимся «туннелям» во времени. На Западе, в отличие от Востока, нити Перерождений имеют начальный узел (воплощение Прародителя). То, что это так, свидетельствует нам обычай изображать Клубок Перерождений, который сохранился до времен христианских как на Руси, так и в скандинавских землях. Пример последнего представляют собою камни Харальда Синезубого в Еллинге. На одном из них изображен Иисус Христос как средоточие Мирового Клубка Перерождений, поскольку Он являет Собой совершенное Воплощение, в котором открывается предельная Истина. Конунг Харальд установил этот камень в ознаменование своего обращения в христианство, которое состоялось около 960 года (рис.90-91), где «олень» вплетен в нить перерождений Христа.

Рис.90 Камень Харальда Синезубого в Еллинге, воздвигнутый им в 960 г. в ознаменование обращения в христианство.
Рис.91 Фрагмент камня Харальда Синезубого в Еллинге с изображением Христа, как узла «клубка» Перерождений.
На северном Западе мы наблюдаем органическое вплетание учения Христа в нить ведических верований: от узловой фигуры Прародителя рождается его народ (монеты-бректеаты) до клубка Перерождений (камень Харальда), где и Прародитель и Исус вплетены в единую нить клубка Перерождений Души народа (другое дело, что не каждый готов это принять, да и амбиции «правителей» народов привели к скатыванию христианства к законничеству «помазанников»).
Идею такой структуры «клубка Перерождений» передает ВЯЗЬ – особый вид построения орнамента. Он представляет собою изображение непрерывной ленты, переплетающейся в узлы, многочисленные и причудливые. И причем лента, как правило, изображается замкнутою в кольцо.
Вязь – это отличительная особенность культуры древних народов, у которых родиной или прародиною был Север. Культуры, скажем, африканского континента не знают вязи. В заставках русских старинных рукописных книг вязь есть элемент непременный. Он перекочевал и в печатные, когда они появились. «Вязанные» заставки сохраняются до сих пор в книгах, издаваемых церковью. Вязевые орнаменты покрывает, в качестве каменной резьбы, стены храмов. Как наиболее древних православного христианства, так и воздвигнутых богам Индии.
Плетеный узор представлен и на сохранившихся древних различных изделиях Руси, и на таковых стран Востока. Но наиболее богато мотив заузленной ленты варьируется, пожалуй, в культуре кельтов. Орнаменты этого народа радуют богатейшей вязью. Переплетающиеся линии перетекают в тела животных, людей и птиц… борющихся волков и драконов… а иногда это причудливо ветвящиеся деревья и травы, у которых общие корни… причем все это – замкнутая на себя одна лента! Культура кельтов развивалась на землях, примерно столь же удаленных от Полюса, как и побережье Белого моря. Однако их земли едва ли могут быть названы «перекрестком истории». Поэтому не удивительно, что образная символика знаний о Едином Пути, ведения о Перерождении – сохранилась у этого народа практически в неприкосновенности.
Ясно, что завершенный образ «идола» пермяков Войпеля отличается от «заузленного» балтийского прародителя Рурика, Авара или Чеха и ближе к культуре Востока. На основании интересного собрания пермских деревянных скульптур, среди которых «имеются изображения с инородческими физиономиями», Н.Н. Серебренников (Пермская деревянная скульптура. - Пермь, 1928. - С. 35) высказал догадку, что «наиболее почитавшееся название - Сидящий спаситель заменило, по-видимому, особо чтимую прежде Златую бабу финно-угорских народов, которая, надо думать, по своей сидящей позе имеет что-то общее с сидящим Буддой восточных народностей, с которыми финно-угорские народы имели некоторое родство и по крови и еще больше по взаимодействию культур». J. Baddeley (Op. cit. - P. LW) отождествляет Золотую бабу с «тибетской и китайской богиней бессмертия Kwan-ln». О богине Kwan-In (Kva-non) и генетической связи ее с Авалокитешварой см.: Karutz, Maria in fernen Osten. - Muenchen, 1925. Сидящий «идол» Войпеля посоха Стефана Пермского более подходит к заменившему его образу «наиболее почитавшегося Сидячего Спасителя» (рис.92), чем Золотая Баба, у «рождающего» образа которой мало общего с китайской и тибетской богиней бессмертия Kwan-In (уж если Золотая Баба так похожа на православную Богородицу, то лучше поскорее для европейцев привязать ее подадьше к Востоку).
Рис.92 Статуя сидячего Христа. Чердынь, Пермь
Есть фино-угорский народ карелы, в почитании Богородицы которой больше сходства с Золотой Бабой пермяков и нет никаких следов китайско-тибетского влияния. Но одно несомненно: привнесенное значительное хуннское влияние на культуру пермяков XIV века очень ощутимо, что оказало решающее значение при их перекрещивании в провизантийский вариант христианства: был Войпеля, стал Христос. Сущностная основа религии не изменилась: бог Стефана Пермского оказался могущественнее бога Пама-Сотника.
Русские источники сохранили нам имена двух зырянских идолов, которых современные коми-зыряне не знают и не помнят. Имя одного «Войпель», что значит «ночное ухо»*; (Грамота Митрополита Симона к Пермякам) это был, вероятно, бог покровитель, страж народа зырянского, божество доброе. Другой — божество злое «Йема». Существует сказание,** (Новгородский летописец под 1398 г.) что в Гольмгарде Норвежские купцы Торф и Карл, посланные для торговли в Биармию королем Олафом, современником Ярослава, ограбили кладбище и обокрали финского идола «Йома». Название этого божества чисто зырянское, по-русски «Йома» значит: старая, сварливая, неуклюжая женщина, под видом которой изображалось это карающее, грозное божество. Зыряне и ныне употребляют это слово, когда хотят обозвать злую, безобразную старуху: «Йöма баба кöд льёк» — сердита, зла как Йома. (Ульяновский монастырь у зырян, Сыктывкар: Коми книжное издательство, 1994 г).
Нарицательное «зыряне» неизвестно кем и в каком смысле данное народу, если разобрать его этимологически, может повести к разным толкам о минувшей судьбе этого племени. Глаголы «Зырны» и «Зырсины» — значат «теснить», «вытеснять», «вторгаться куда-нибудь», «заступать чье-либо место». Слово «зырянин» в таком случае будет указывать на кого-то вытесненного или вытеснившего, смотря по тому, будем ли мы производить его от действительной или страдательной формы глаголов. Кажется, последнее производство будет вернее, потому что первобытные жители губерний Архангельской, Вологодской, Вятской и Пермской назывались «Чудью»* (Двинский летописец и Шафариково славянское сказание), вытеснивши которую, зыряне заняли ее место.
Но любопытно, что некоторые писатели приводят множество случаев отрицания коми своего родства с чудью. По словам Ефименко, пермяки считают чудь, жившую некогда на территории Перми и оставившую после себя городища, народом, отличным от пермяков; пермяки пришли на место исчезнувшей чуди, которая „ушла в землю"(П. С. Ефименко. Заволоцкая чудь, стр, 43, Архангельск, 1869 г ). Попов, живший среди зырян и хорошо их знающий, сообщает, что зыряне Устьсысольского и Яренского уездов называют древние развалины жилищ, встречающиеся на территории этих уездов также, как и русские, „чудскими могилами", считая чудь — старинных обитателей края — народом чуждым себе, иноплеменным и даже враждебным(К. Попов. Зыряне и зырянский край, стр. 18, M. 1874 г.). Будучи уверен в их чудском происхождении, Попов недоумевает, почему зыряне так решительно открещиваются от своих предков. В литературе о происхождении коми „чудскому" вопросу отводится так много места и высказано по этому поводу так много разноречивых мнений, что он по справедливости может считаться одним из самых запутанных, тем более, что самая природа „чуди" остается в высокой степени невыясненной.
Вокруг этого вопроса, от которого веет мраком доисторических времен, издавна наматывался сложный клубок политических страстей, нашедших в наши дни яркое проявление в противопоставлении "русского православного христинства и финно-угорского язычества".
Кто кого колонизировал, если на месте чуди появились зыряне? А потом Стефан Пермский присоединил зырян к митрополии Москвы, что означало присоединение Коми края к Московской Руси. С этого момента начинается расцвет "владычного городка" Усть-Выми, ставшего административным и религиозным центром огромного края.
Прежде, начиная с XI в., Пермь имела торговые связи с Новгородом, вынуждена была платить дань новгородским отрядам, но новгородцы не проповедовали в Перми христианства, не ставили церквей, не основывали там своих городов и погостов, не пускали прочных административных корней.(Жеребцов Л. Н. Историко-культурные взаимоотношения Коми с соседними народами. Х- начало XX в. М., 1982. С. 47-50.). Москва относилась к собиранию вокруг себя земель гораздо серьезней. Духовная и административная колонизации шли из центральнорусских земель на Север рука об руку.
Услышав предложение Стефана, "великий князь и митрополит удивились, похвалили его мысль, и понравились им его слова, и они пообещали выполнить его просьбу".
Несмотря на всю божественную любовь Стефана Персмкого, которую ему приписывает его агиограф Епифаний Премудрый, которая заключалась по его описаниям в уклонении от открытой борьбы Стефана с язычниками, он в тоже время не брезговал уничтожать зырянских идолов, разрушать кумирни и рубить священные деревья, но только тогда, когда последние находились без присмотра зырян. Может потому они и были без присмотра зырян, что ценности для них никакой не представляли и были элементом культуры другого народа. например, чуди. Как не пытается убедить нас Епифаний Премудрый в бескорыстии действий Стефана, но изредка он сам себя выдает ибо "великому князю очень приятно было его поставление, ибо он хорошо его знал и любил его издавна" ("бь бо ему знаем зЬло и любляше и издавна") или "будучи одарен князем и метрополитом, и боярами". Но вряд ли только личной приязнью объясняется то, что Дмитрий Донской щедро пожаловал Стефана при поставлении его в епископы частью своих доходов с Перми, правом беспошлинной торговли в русских землях и сбора пошлин с приезжавших в Пермь купцов и промышленников, а также некоторыми преимуществами в делах судебных: подобным образом князья в то время, бывало, одаривали широкими владельческими и судебными правами иноков, основывавших на Севере провизантийские монастыри, проповедующие "закон судный людям".
Как бы там ни было, но под влиянием Стефана Пермского пермяки были разделены на народ, не принявший провизантийский вариант христианства и ушедший на Удору, Пинегу и к "вогулам" и оставшихся собственно коми-зырян, "подчинившийся" более могучему богу Стефана Пермского и нашедшего "крышу" под лоном "закона судного людям". В этом ключе нам интересны предания коми об образовании родственного им народа "вогулы" (будущих ханты).
О происхождении Вогуличей и о нападении их на Устьвым при св. Стефане ) [Сообщено М. Михайловым по сведениям, собранным им в 1840-х годах из местных рукописей, находившихся в устьсысольской общественной библиотеке и пожертвованных туда любителем зырянских древностей А. И. Поповым, см. Вологодские Губернские Ведомости, 1850 г.]
"Народные предания объясняют происхождение Вогуличей так: зыряне-идолопоклонники, у которых сильно были развиты чувственные инстинкты, не считали развитие страстей пороком; побочные дети их росли и множились и таким образом составили особое племя, бывшее однако же в общем презрении; подобно париям, оно было лишено гражданских прав, не имело никакой собственности, исправляло все тяжелые работы, довольствовалось самым грубым содержанием и служило рабами зырянам. Угнетаемое зырянами, оно в глубокой древности бежало от них и, расселившись по той и другой стороне Урала, составило особенный народ с прозвищем: Вогуличей, т.е. незаконнорожденных.
С распространением христианской веры большая часть местных, на Устьвыме, Вогулов, чтобы освободиться из неволи, передалась на сторону волхвов и вместе с ними бежала к давнишним своим приуральским собратам, изыскивая оттуда средства мстить зырянам за презрение и рабство.
Завидуя счастью земляков, непримиримые враги христианства – Вогуличи, побуждаемые более злобными волхвами, сделали хищническое нападение на пермскую землю. Опустошив верхневычегодские и сысольские селения, многочисленные ватаги их приближались к Устьвыму, с намерением разрушить все, основанное Стефаном. С зверской лютостию убивали они беззащитных поселян, зорили поля, резали скот, грабили и жгли дома. Устрашенный народ, оставив все, спасал жизнь бегством в Устьвым. Это случилось в 3-й год епископства Стефанова. Лишь только несчастная весть достигла Устьвыма, Стефан поспешно отправил гонца в Устюг, с прошением людей ратных для отпора Вогуличей; сделал необходимейшие распоряжения к защите и обороне церквей Божиих; велел жителям сносить все, кто что имеет, на холмы и оставаться тут с оружием в руках, в ожидании неприятеля, - потому что, в случае нападения, зыряне много могли выигрывать взамен малочисленности местностию, которая здесь представляла врагу многие естественные преграды… Страх и уныние овладели народом. Мысль, что враг силен и кровожаден, не щадит никого; пагубная мысль – лишится всего, а может быть и жизни, поколебала мужество и самых твердых: старики стонами выражали свое уныние, женщины вопили, дети заливались слезами, - один Святитель бодрствовал. Вдруг увидели его в полном святительском одеянии; клир сопровождал его с пением, неся хоругви и св. образа… Плач умолк, жалобные стоны утихли. Стефан совершал всенародное моление к Богу-защитнику, из глубины души взывал о скором предстательстве. Укрепленный молитвою, народ не отчаивался, но надеялся спокойно встретить врага. Святитель словом Божиим вселил в сынов духовных мужество и крепость, так что они устыдились одолевшего их отчаяния, - и сам, как пастырь добрый, готовый положить душу свою за овцы, вместе с духовенством и преданнейшими из зырян, поплыл вверх по Вычегде навстречу врагам-язычникам. Вогуличи издали приметили ладью Стефана: лицо его было грозно, святительское облачение объято пламенем и он метал в них огненными стрелами. Объятые ужасом, они бежали, оставив на месте все награбленные богатства, и с тех пор, в управление Стефана не приходили к Устьвыму, боясь могущественного тупа-чернеца Стэпэ (чернеца Стефана).
Впоследствии Вогуличи нападали на одних только Верхне-Вычегодских зырян."
Думаю, что комментарии дальнейшие излишни: привнесенное значительное хуннское влияние на культуру пермяков XIVвека очень ощутимо, что оказало решающее значение при их перекрещивании в провизантийский вариант христианства: был Войпеля, стал Христос. Сущностная основа религии не изменилась: бог Стефана Пермского оказался могущественнее бога Пама-Сотника..
Есть один критерий, который мало подвержен изменению, даже при очень сильном давлении со стороны – это похоронный обряд, сходство которого даже у разноязычных народов, говорит о общности их происхождения.
Рис.93 Домовины: Домики мертвых (домовины): 1 - Солотча (Рязань), 2 - Север (Белое море), 3 - Карелия, 4 - Лехтинский р-н, хутор Рию-Варнка (Финляндия) // Славянская энциклопедия: Киевская Русь - Московия. - М., 2003. - Том 1. - С.370.
Рис. 94 Кладбище с.Ушково, Карелия
Рис.95а Кладбище с.Ковда Мурманской области
Рис.95б Кладбище с.Ковда Мурманской области
Домнина Якова Горевшего из старообрядческой Юдиной пустыни р.Мезень Архангельской области 2006г.
Рис.96 Кладбища и домовины северных манси и хантов
Сторонникам чисто фино-угорского происхождения домовин и «домиков мертвых на курьих ножках», советую обратить внимание на домовину №1 рис.93 из Рязани, отсутствие домовин у коми-зырян, а так же на рис. 97 Погребального обряда Московии дониконовской «реформы» XVII века.
Рис.97 Погребальный обряд XVII века. Из книги Т. Вармунда Всеобщая религия русских по гравюре А. Олеария.
Идеологические и политические догматы и колонизаторы-правители приходят и уходят, а вот консервативность погребальных обрядов свидетельствует о наличии определенного населения на данной территории. Данные рисунки будут полезны сторонникам теории «колонизации русскими северных территорий России» для разрушения «фэнтези» наших «академиков» от истории. Пермещались только еретические фантазии с малоазийских, привизантийских и римскоимперских территорий. «Повесть Временных Лет» Нестора так описывает расселение потомков библейского Ноя после потопа:
«В Афетове же части седять русь, чюдь и вси языци: меря, мурома, весь, моръдва, заволочьская чюдь, пермь, печера, ямь, угра, литва… Ляхове же, и пруси, чюдь преседять к морю Варяжьскому. По сему же морю седять варязи…». Как видим, речь идет о коренных народах Севера: русь и чудь и их народы. Индо-арии и тюрки появились здесь значительно позже.
Интересна и преемственность ведических и христианских «надгробных» атрибутов оформления домовины. Если для ведических характерен «столбик», оформленный в стрелу (рис.98).
Рис. 98 Кладбище с.Шуерецкое, Беломорская Карелия.
В «стреле» надгробия видны места для вставки меднолитых «иконок» со святым, покровителем умершего при жизни. То с принятием христианства «столбики» превращаются в восмиконечный поморский крест, «крыша» которого сохраняет очертания стрелы в небо и характерный для обетных крестов или крестов при входе на поморские кладбища (рис.99).
Рис.100 Обетный крест д.Кимжа Мезенского района Архангельской области.
Сторонникам теории католического влияния на появление деревянной скудьптуры христианских святынь Перми полезно познакомиться с данным явлением северного Поморья. Изменяется и структура «оформления» кладбища: если при ведизме у каждой домовины стрела-столбик, то с принятием учения Исуса – один общий для всех поморский крест при входе на кладбище (Единый Дух для всех с предельным воплощением в Исусе) и даже отсутствием домовин над могилой внутри кладбища). Форма «столбика-стрелы» сказалась и в образе макушки северных православных церквей, отличающих их от громоздких провизантийских «мавзолеев» (рис.101)

Рис.101 Церковь иконы Божьей Матери Одигитрия 1763 г. в д.Кимжа Мезенского района Архангельской области (в 2008 году разобрана на «реставрацию» и оставлена гнить на неопределенный срок (до 2020 г. в планах реконструкции памятников архитектуры не значится) в виду «отсутствия финансирования» (спрашивается: зачем разбирали ДЕЙСТВУЮЩУЮ церковь, если не собирались реставрировать?)
Если при рождении Дух испускается с небес на землю (стрела направлена вниз), то после смерти Он поднимается на набо с земли (стрела вверх). Герб Рюриковичей напоминает не столько падающего на добычу сокола или же трезубец, сколь наконечник стрелы. Он обращен вниз, и это знаменует путь солнечного луча – нисхожденье с Небес на землю.
Сходство с наконечником стрелы особенно заметно на гербе (рис.102) такого прославленного Рюриковича, как Святослав Хоробрый, который сокрушил по церковно-славянским летописям в 965 году, а его аналог внук Эрека булгарских летописей в 943 году иудаистскую рабовладельческую Хазарию.

Рис. 102 Печать «язычника», согласно церковно-славянским летописям, Светослава Хороброго.
Прямо над гербом на печати этой изображен христианский крест. А между тем Святослава в современной научной (да и клерикальной) литературе принято изображать оголтелым язычником.
Конечно же, Святослав не только не препятствовал почитанию богов, но и лично чтил их. Однако это совсем не значит, что Святослав отвергался Бога Триединого Всевышнего. Вот что говорит про этого Рюриковича Священник Виктор Кузнецов: «Великий князь Святослав, даже если допустить ту мысль, что он не был крещённым… всё же совершал многие свои деяния как христианин по сути. Можно с уверенностью сказать, что та война, которую он вёл с хазарами, была не только патриотической по своему направлению, но и религиозной, ибо велась она против антихристиан – хазар… и [представляла собой] удар по талмудическому иудейству. Можно также сказать, что вел. князь Святослав… был по своим действиям предтечей св. преподобных Геннадия Новгородского и Иосифа Волоцкого, противоставших против чумы ХV-ХVI веков на Руси – ереси жидовствующих»
Последствия перекрещивания пермяков в новую провизантийскую христианскую веру сказались незамедлительно: Пермь была включена в водоворт «исторических» событий по переделу между «помазанниками» подданных им владений, а по сути в междоусобные войны. Достаточно почитать Вычегодско-Вымскую летопись: обескровливание и разруха земли Пермской с боевых столкновениях с Новгородом и Вятской Народной державой, через 70 лет, в 1451, Пермь лишается самостоятельного управления и «прислал князь великий Василей Васильевич на Пермскую землю наместника от роду вереиских князей Ермолая да за ним Ермолаем да за сыном ево Василием правити пермской землей Вычегоцкою, а старшево сына тово Ермолая, Михаила Ермолича, отпустил на Великая Пермь на Чердыню. А ведати им волости вычегоцкие по грамоте наказной по уставной.». В 1465 и 1483 году году через Пермь и с ее помощью попадают под подданство Москвы земли Сибирские на Пелыме и Тюмени. Вятка, оказавшаяся в изоляции была разромлена в 1489 году. В 1499-1500 гг. разорено Ляпинское «княжество» в низовьях Оби Сибири. Земли Печорские и Мезенские оказавшись в изоляции переходят под подданство Московии с водворением в Пустозерске Вымского наместника: «1502 г. Лета 7010 повеле князь великий Иван вымскому Феодору правити на Пустеозере волостью Печорою, а на Выме не быти ему, потому место Вымское не порубежное. 1505 г. Лета 7013 князь великий Василей Иванович разгневан бысть и свел с Великие Перми вотчича своево князя Матфея и родню и братию ево, а в Перме велел быти наместнику Василью Ондреевичу Ковер.»
Разорительные войны на Пермском участке Северо-Евразийского пути из Балтики, Скандинавии через Сибирь к Китаю незамедлительно сказались на ослаблении Сибири и впервые татаро-монголам из Чингизидов предоставилась возможность захвата Южной зоны Сибири из Средней Азии с образованием Сибирского ханства: Москвские правители вместо дани с Сибири к началу XVI века получила беспрерывные попытки захвата и разорения Перми на Чердыне из-за Урала и ногайских степей. Вначале разведка боем: «1506 г. Лета 7014 пришедши из Тюмени на Великую Пермь ратью сибирский царь Кулуг Салтан и без вести приступиша. Чердыню не взял, а землю нижную воевал всю, в Усолье на Камском варенцы пожегл, цырны разорив, а пермяков и русаков вывел и посекл. Князь Василей Ковер на поле води погоню, а иных на судех послав, и они догнашу их в Сылве, задную побили.» Затем уже видно из давно потерянного Пелыма: «1531 г. Лета 7039 пришедшу на Великую Пермь пелынский князь с вогулечи, погосты разорив, а Чердыню не взял.». Далее больше, и казанцы осмелели: «1540 г. Лета 7048 пришедшу на Великую Пермь с ратью тотары казанские, князя великого вотчину пограбили, пожгли, а людеи пермскии посекли многие».
И только к 1580 году до Московских правителей дошло: чем сильна была Пермь Великая и чем земля Московская прирастать может: «1580 г. Лета 7088 за службы великие государевы пожаловал князь великий Иван Васильевич пермичем промышленным и торговым людем торговати в Югре и в Мангазее и в сибирских городах безпошлинно 10 лет, и таможенные им не платит николико.» Что было далее всем известно.
А вот что было до?
|
|
Марк Бернес, которого мало знали. |
Это цитата сообщения Рыпка_Фишка [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Доброе утро, друзья) Потеплело... Хочется чтобы и на душе тоже)
Я впервые посмотрела это видео, меня впечатлил очень фильм!
Не пожалейте час своего времени - посмотрите, поверьте, стоит того)
Марк Бернес - это море обаяния)
Вечер для друзей МАРКА БЕРНЕСА к 100-летию артиста. 16 октября 2011 года Михаил Левитин, главный режиссер театра "Эрмитаж" собрал своих друзей и друзей Марка Бернеса, чтобы вспомнить этого певца, любимца публики, народного артиста России. Левитин - блестящий рассказчик, он говорит о жизни и творчестве Марка Бернеса так, будто сам был знаком с ним лично.
Включены фрагменты фильмов "Два бойца", "Шахтеры", "Человек с ружьем", "Разные судьбы", а также песни в исполнении Марка Бернеса.
Вечер был показан на телеканале "Культура".
Вдруг Вы пропустили, как я эту передачу?
Маленький Марк

В молодости

В зрелости

С двухлетней дочкой овдовевший Марк Наумович... Ему - 43...

С последней женой Лилией Бодровой, его "лебединой песней"...


Из частной жизни...
http://sobesednik.ru/showbiz/20130731-marka-bernesa-unichtozhil-nikita-khrushchev
|
Метки: Марк Бернес искусство музыка |
Стихи и песни о Мезени |
Дневник |
Поморские Стихи и песни.
1. Есть одна старинная мезенская песня,я впервые услышала её от подруги, она родом из Каменки.
Протяжная, строгая, но очень красивая "Ой на сердечушке ледок"
Ой на сердечушке ледок, ой, много-много наледи..
Накину гарусный платок, пойду из дома на люди.
Из дома в дом, из дома в дом,
Простите, люди добрые,
Примите девушку ладом, утешьте разговорами.
Худая я , худая я, и милый тоже выхудал,
Старадает он, страдаю я, не видим оба выхода.
Вы нашу знаете любовь, одной деревни жители,
А заиметь свою свекровь мне не дают родители.
Мне не велят, мне не велят, да и ему наказано
Поосторожнее гулять, себя семьёй не связывать.
Ему невеста, мне жених давно уже подобраны,
А наше счастье на двоих, поймите, люди добрые.
2. Кушкова Людмила: Эту песню слыхал хоть раз каждый житель Доргорского. Сочинил её мой дядя - Петров Павел Степанович. Гимн любимому селу представляю вашему вниманию:
Ты стоишь на Мезени-реке, на пригорке
И, мне поверь, ты красивее все деревень.
Здесь прекрасны всегда и милы дорогорки,
Так же, как ты в ясный, хмурый иль пасмурный день.
Припев:
Дорогорское подковкой изогнулось вдоль реки.
Как не вспомнишь и не скажешь:
Наши деды – мастаки.
Приглянулся здесь кому-то
Дорогой горы подъём,
И с тех пор свой край родимый
Дорогорское зовём.
Ты от края до края в зелёном наряде,
Мы с друзьями сумеем твой облик сберечь.
Обращаемся к вам, земляки – северяне.
Помните: здесь вам и жить, и любить, и гореть.
Припев.
3. А. К. Морозов. Гимн городу Мезени.
Мезень – наш город, родина поморов,
Ты волею Всевышнего нам дан.
Как безгранично люб и очень дорог
Сердцам и душам юных северян.
Припев: Мезень, Мезень – наш город приполярный,
Обитель наша, кров и наша боль.
Историей твоей гордимся славной, 2 раза
Нелегкою поморскою судьбой.
Мы прадедов своих не забываем,
чтим их обычай, славу воздаем.
Традиции поморов продолжаем,
по их заветам мыслим и живем.
Припев:
В годы войны с фашистскою ордою
мезенцы для спасения страны
Своим трудом и славой боевою
внесли в Победу вклад большой цены.
Припев:
В беде мы человека не оставим.
Нам в радость труд, признаемся, любой.
Любимый край трудом и песней славим-
Величие, могущество, покой!
Припев:
4. А.К. Морозов. Городок Мезень
Городок Мезень – любимый и желанный –
Простотой суровой ты нас покорил.
Сердцем прикипели мы к тебе навеки.
И тобой расстаться, нету сил.
Всё нам здесь такое близкое, родное
Каждая березка, каждый уголок.
Утренняя зорька, непогода
Шаловливый хиус-ветерок.
Сполохи ночные в небе темном,
Белота ночей, воспетая в стихах,
Жизни ритм спокойный и привычный
И Мезень рабочая в делах.
Буйные разливы реченьки-Мезени.
Её сила, мощь весеннею порой,
Летняя краса лугов зеленых,
Тишина лесная и покой.
Край людей особых и надежных,
Честных и простых с открытою душой.
Это те, кто словом, это те, кто делом
Славят наш Мезенский край родной.
5. А.К. Морозов. Мезень – река-красавица
Течет к морю белому издалека
Великая, бурная наша река.
Несет свои воды и ночью и днем…
О ней мы с любовью поем.
Припев: Мезень река-красавица, могучая река.
Ты сердцу северянина близка и дорога.
Душисты травы зеленых лугов
Шумят на ветру вдоль твоих берегов.
На тысячи верст лес дремучий вокруг,
Он – наше богатство, наш друг.
Припев:
Плывут пароходы с Мезенской доской,
Что славит наш Север на весь шар земной.
Пушнина и рыба в почете везде…
За это спасибо тебе!
Припев:
Ты мчишься по руслу, как бешеный конь.
Дать людям готова тепло и огонь.
Без устали будешь турбины вращать
Наш Север в веках прославлять.
Припев:
6. А.К. Морозов. Мой городок небольшой
На самом крайнем Севере, у круга у Полярного,
Где так короток вьюжный зимний день.
Снегами призасыпанный, ветрами убаюканный
Мой городок с названием Мезень.
Припев: Город мой, северный город,
В студеном краю у Белого моря,
Я не разлучен навеки с тобой,
Мой городок небольшой.
Здесь летом ночи белые, поэтами воспетые,
Как чудо-сказка, сполохи зимой,
Какая ширь, простор какой!
Ну где найдешь, еще такой?
Суровый край, но близкий и родной.
Припев:
Живут здесь люди смелые, отважные, умелые,
Их издавна поморами зовут.
Колхозники и рыбаки, полярники и моряки,
И всех их красит вдохновенный труд.
Припев:
На самом Крайнем Севере, у круга у Полярного,
Поморочки, каких вам не сыскать.
Подруги наши верные, надежные и нежные
Любить умеют, если надо, ждать.
Припев:
7. А.К. Морозов. Городок, городок
Приполярный край, городок Мезень-
Славная обитель наша.
Сердцу горожан, добрых северян
Нет тебя милей и краше.
Припев: Городок, городок, невелик и невысок,
Родина лихих поморов.
Знаем, ты не Москва и никак о ней молва.
Все равно нам люб и дорог.
Здесь у нас не юг, фрукты не растут-
В том беды совсем немножко.
За пояс заткнут вкусный южный фрукт
Наши клюква и морошка.
Припев:
О нас говорят, северяне – клад,
Внуки, правнуки поморов.
У кого беда - рядышком всегда.
Им всегда помогут в горе.
Припев:
Кто здесь побывал – сердцем прикипал
К нашему родному краю.
Восторгался им, всюду говорил:
«Места лучшего не знаю».
Припев:
8. А это про поселок Каменка:
Если б вас сегодня в гости
К нам дорожка привела!
Эх! Побывали бы да не узнали бы
Теперь поселка нашего!
Где озера раньше были
Да болот унылый ряд
Дома красивые восьмиквартирные
На солнце окнами блестят.
Океанами, морями, по весне приходят к нам
За лесом северным путем проверенным,
Да корабли из разных стран!
У нас парни работящи,у нас девушки как май!
Людьми красивыми,трудолюбивыми
Гордится наш мезенский край!
- Эта песня в голове с 70х, доперестроечных...А теперь сердце щемит от вида поселка...(Валентина Нарицына (Бовыкина)
9. Слова Н Князевой, муз.песни "Одинокая ходит гармонь."
Край суровый, мезенский, богатый
И лесами, и рыбой любой.
Все мы жили в Мезени когда-то
И о ней вспоминаем с тоской.
Времена стали круто меняться.
В отпуск трудно в Мезень заглянуть.
На Неве будем мы собираться,
Чтоб в историю всех окунуть.
Не забыть о Поморах все "Сказы".
О походной их славе былой.
А ещё-необьятное глазом
То сияние неба зимой!
Деревеньки к реке приютились,
Рядом лес и грибы за холмом,
Ярким солнцем болота налились
И морошка желтеет кругом!
А народ наш приветливый, милый.
Подадут гостю каждому чай.
А на речке приливы,отливы...
Край родной! Ты без нас не скучай!
10. Звон. А.Сапунов – А.Слизунов
Звон, звон, звон, малиновые реки.
Испокон вовеки
Шел в руку сон, быль иль небылица,
Дили-дили-дон-дон,
А что не случилось, и что не случится.
Звон, звон, звон, будит не разбудит.
Дальше что там будет?
Смотрел на ладонь, глядя на дорогу,
Дили-дили-дон-дон,
Далеко-далёко пророку до Бога.
Звон, звон, звон, малиновые реки.
Испокон вовеки.
Ходил на поклон, падал на ступени,
Все обиты пороги, в прах истёрты колени.
Звон, звон, звон окатил водою.
Справлюсь сам с собою.
Сяду на трон, венчаюсь на царство,
Дили-дили-дон-дон,
Ох, корона не шапка и не лекарство.
Запалила искра, загудели колокола,
Залетела стрела в тихую обитель.
Пламенем пылает пожар, и спешит уберечь алтарь,
Старый звонарь, Ангел мой Хранитель.
Звон, звон, звон душу переполнил.
Всё, что смог, исполнил.
Клятва не стон, да песня как молитва,
Дили-дили-дон-дон,
Ох, на сердце крапива да острая бритва.
Запалила искра, загудели колокола,
Залетела стрела в тихую обитель.
Пламенем пылает пожар, и спешит уберечь алтарь,
Старый звонарь, Ангел мой Хранитель.
Звон, звон, звон, малиновые реки...
Дили-дили-дон-дон...Вьётся, вьётся синей лентой
Наша реченька Мезень.
Вдаль смотрю порою летней
И любуюсь целый день...
Здесь зимой бегут сполохи-
Хоть засаливай ушат!
И девчоночки - мезёхи
На свидания спешат.
Припев:
11. Вьётся, вьётся синей лентой
Наша реченька Мезень.
Вдаль смотрю порою летней
И любуюсь целый день...
Здесь зимой бегут сполохи-
Хоть засаливай ушат!
И девчоночки - мезёхи
На свидания спешат.
Мезень-река
Лебёдушка,
Красавица моя.
С Мезени я,
Молодушка,
Живу
Счастливая.
На Мезени тёмны ночи,
Но никто не заплутал.
Заходи на огонёчек,
Коль в дороге ты устал.
Всё на стол мечи, хозяйка,
Пироги да хлебный квас.
Ну-ка скидывай фуфайку,
Да иди со мною впляс.
12. "влх Добромир" http://kapishe.ru/text-.html
Ой на Мезени на реке
Шумят черные леса
Шумят черные леса
Сосна ель да береза.
За лесами все вода
Все седые болота
На болотах на седых
Поет песню мошкара.
В Мезень реке вода черна
Да зелены берега
Мезень река неглубока
Все от желтого песка.
Куда некуда идти
Все затоплены пути
Только черная река
А у реки два берега.
Правой берег то крутой
Он порос частым лесом
Левой берег пологой
Занесло его песком.
А на правом берегу
Лес у самой у воды
Корни в воздухе висят
В воду падают стволы.
А на пологом берегу
Растет зелена трава
По лугам по заливным
Ходят четыре коня.
Ходят четыре коня
Без путов без пастуха
То один конь вороной
А другой конь золотой
Да у третьего коня
Грива хвост черна земля
Сам он желтой как песок
А четвертой белой снег.
Вверх по Мезени по реке
Плывет лодочка байдар
На нем пятеро зырян
А шестой старой шаман
Зырянам далеко плыть
До Белых до берегов
А шаман дальше пойдет
До тех Красных до Камней.
А шестым там сижу я
Да дорога где ж моя
Не зовет меня вода
Не несет меня земля.
На пологом берегу
С лодки байдара сойду
Да из четырех коней
Возьму ворона коня
Возьму ворона коня
Поскачу на полуночь
По разбитым по мостам
По забытым по путям.
Там на высоких на холмах
На студеных на горах
Там никто огней не жжет
И никто меня не ждет.
На пологом берегу
С ворона коня сойду
Да из четырех коней
Возьму золота коня.
На золотом на коне
К полуденной стороне
Там дорога пролегла
До большого до села
У большого у села
Лодки байдары стоят
На широких на дворах
Люди добрые живут.
Люди добрые живут
Место страннику найдут
Ясен в их оконце свет
Да дороги дальше нет.
Людям добрым поклонюсь
На полог берег вернусь
Возьму третьего коня
Буланого жеребца.
На буланом на коне
Пойду ветром на закат
Где во городе большом
Горят желтые огни.
Там во городе большом
Ждет меня пустой мой дом
Да в пустом моем дому
Что мне делать одному.
Уходил я в долгий путь
Зарекся пройти сто верст
А до Белых берегов
Всего только тридцать пять.
На полог берег вернусь
Реке Мезени поклонюсь
Дай же ты Мезень река
Мне четвертого коня.
На четвертом на коне
На белом на облаке
Поскачу я на восход
Где то Солнышко встает.
Там за седою за горой
За бескрайнею тайгой
Там над быстрою водой
Дева ясная живет.
Да та дева все одно
Скоро свидится со мной
Как осенние ветра
Позовут ее домой.
Ой Мезень река Мезень
Не глубока да вольна
Затворили мы свой путь
По тебе прошли сто верст.
Поднялись на восемь гор
Перешли восемь болот
Красно Солнышко за лес
Проводили восемь раз.
На твоих на берегах
Небо слушали в ночи
Опускали котелки
В твои звонкие ручьи.
Поворотим мы домой
А тебе поклон земной
Отпусти Мезень река
Четырех коней со мной.
На вороном на коне
На полуночь ехать мне
На ручьях мостить мосты
На холмах ладить костры.
На золотом на коне
На полудень ехать мне
По дорогам по селам
Ставить капища богам.
На буланом на коне
В дом родной вернуться мне
Про мезеньски берега
Песню долгую сложить
А на белом на коне
На том белом облаке
За бескрайнюю тайгу
Золотой привет послать.
А на Мезени на реке
Шумят черные леса
Шумят черные леса
Под седые небеса.
13. На Мезени-снегу по колени,
На Мезени-белые заметы.
На Мезени нынче невезенье-
замерли на старте самолеты.
Не летят кралатые машины,
им борта соленый ветер лижет.
Врезались в сугроб тугие шины.
С беговой дорожкой смерзлись лыжи.
На Мезени-снегу по колени,
сильный ветер леденит до дрожи.
А давай уедем на оленях,
ведь они не знают бездорожья.
И пускай не очень быстрокрыла
та оленья тройка беговая.
Все-таки у них в горячих жилах
не бензин,а кровь течет живая.
Николай Журавлев
14. МОЯ РОДИНА
Мы живем на Севере далеком
Посреди архангельских лесов,
Где ночами светятся высоко
Звезды,как глаза полярных сов.
здесь бывает ярко так расцвечен
Северным сияньем небосвод,
Что в ночи морозной или в вечер
Слышно,будто кто-то там поет.
Здесь белым-бело ночами летом,
Потому что Солнце и Луна
Вдруг постель свою теряют где-то,
Кружатся без отдыха и сна.
Зимние ли плещутся сполохи
И ночей ли летних белота-
От гостей мы слышим ахи-охи:
Мол,у вас такая лепота!
Знаем мы и сами о красотах
Нашей грешно-праведной земли....
Любим мы ее. Иначе-что там!-
И красоты б нам не помогли.
Есть края другие.Может,баще
И,уж точно,много потеплей.
Но туда и силой не затащишь
Многих наших северных людей.
НИКОЛАЙ Окулов
15. Анна Дьячкова.
Меня зовут покинутые дали,
Где мы родились,жили и росли.
Которые навеки потеряли,
Которые мы здесь не обрели.
И мне так часто снятся эти дали.
И одноклассники,соседи и друзья.
Такой потери мы не ожидали.
И прошлое вернуть уже нельзя.
Всё позади,-и нам пора смириться.
И к жизни новой привыкать пора,
Ну почему мне сново это снится,
Что я вернулась вновь опять туда.
И я встречаю всех своих знакомых.
И в гости все они зовут меня.
И чувствую себя опять я дома.
И рядом все опять мои друзья.
И этот сон так голову дурманит,
Как крепкое,домашнее вино.
И так домой,домой меня он манит,
Где не была я так уже давно.
16. Ольга Маслова
Ах, Мезень моя, город-лапушка...
Как соскучилась я по тебе...
Как хочу прилететь к тебе, мамушка,
И поплакать хочу по тебе...
Как хочу я упасть на камушки,
Что покрыли тебя на века...
Не хватает нам, наша мамушка,
Твоей ласки, любви и тепла...
Домик наш на реке, на угорышке,
Одиноко стоит, разорён...
А когда-то давно,с братом Колюшкой
Жили весело, счастливо в нем.
Живы были родители, тётушка,
Вся большущая наша родня...
Дорогое моё Заозерьюшко
Лето каждое ждало меня.
Все прошло, пронеслось, сердце мается,
Я - как мама когда-то моя,
Только б внуков дождаться мечтается,
Чтоб понянчиться и за тебя...
2003 г.
17. Лидия Музыка. КУРЖЕВЕНЬ*
Лёг на ветки берез белый куржевень
Непорочным невестиным кружевом,
Зимний пух тополиный дал тополю,
Чудо-травы в ночь выросли по полю.
Перекрасил ограды чугунные,
Провода протянул гуслей струнами.
Лёг таинственно, сказочно, призрачно,
Нереально, расплывчато, ниточно.
Мир окутать, украсить старается,
Наготы будто зимней стесняется.
Ну, а может, зимы это вымыслы –
Красотой откупиться за минусы.
*иней, изморозь
18. Поморы
Михаил Хитров
(Души очарованье...)
Поморы никогда не говорят,
Что может предвещать несчастье сполох.
Мороз и ясность в круг стоят
И манят вдаль заманчиво, как Волох.
Какое заколдованное небо надо мной,
Волшебный купол заполярной ночи!
Сиянье ярких звезд в тиши над головой,
Прикосновенье к тайне непорочной.
И несть числа созвездьям над главой
И в бесконечность улетают очи.
И манит космос черный и немой -
Такой чарующий и близкий очень.
Стоишь, и четко видишь далекий горизонт,
А над собой волшебное сиянье.
В цветной живой палитре написан натюрморт,
Пронизанный природным обаяньем.
И тундра, вдруг становится родной
И соки космоса вливаются мне в жилы.
И понимаешь, что опять живой,
Такой прилив в тебе волшебной силы.
Как все мне это трудно словами передать
И описать души очарованье.
И веренице лет ушедших не отнять,
Не помешать моим воспоминаньям.
19.И.М. Козлова.
В том доме, где тепло, не запирают дверь
И тем, кто у двери, не задают вопросов.
Неважно, кто ты есть, простак или философ,
Войди, раз чист душой, и в звон часов поверь.
Не запирают дверь в том доме, где тепло,
Особенно тогда, когда метель и стужа.
Здесь каждый, кто вошел, хорош, любим и нужен,
Здесь выслушают крик и вылечат крыло.
Не запирают дверь в нешумном доме том
И долго жгут огонь в окне за легкой шторой.
Здесь спора не ведут, и не выносят сора,
И прячут черновик в старинный толстый том,
И помнят даты всех находок и потерь,
И судят по своим, а не чужим законам,
Здесь чайник на столе, а на стене иконы, –
В том доме, где тепло, не запирают дверь.
Здесь на горячий лоб – прохладную ладонь,
Здесь глаз не отведут, пока идешь по краю.
В том доме, где тепло, дверей не запирают,
И ждут тебя всегда, и долго жгут огонь.
20. Может, в родном краю
Давно иная жизнь!
И птицы не так поют,
И звери перевелись,
И люди не те,
И поля,
И красота не та,,,,,
Но это моя земля,
Моя маета и мечта,
Мои святые места!
А. Яшин
21. Деревянные мостки,
Да цветущие рябины,
Да берёзы у реки
Так знакомы и любимы;
В дальних окнах тёплый свет,
Где-то лаем пёс залился...
Ничего дороже нет
Для того, кто здесь родился.
Так спокойно и легко,
Даже дышится вольнее;
Край закатных облаков
За деревьями алеет...
Всё, что дорого мне здесь,
Эхом в сердце отзовётся;
Может, это-то и есть
То, что Родиной зовётся.
Анастасия Голубцова
22. Владимир Ладкин. Белое море.
День, солнце, синеющая даль
Не могу увидеть моря... жаль.
Но образ его в душе сохранил
В мечтах красоту я утаил
Вспоминаю закаты его, все черты
Красный диск в море и не волны
Помню серые штормы и величие грозы
Карбаса нос в непокорных волнах
Белое Море в поморских сердцах!
В людях простых и рыбаках!
23. Широко ты, приволье мезенское,
Необъятный наш край дорогой,
С русским духом, избой деревенскою,
Самобытной живой стариной.
Край суровый, приполярный -
Уголок земли родной."
"Есть много городов красивых и ухоженных,
Но нам всего милей наш северный, заброшенный,
Он с нами каждый день.
И в мыслях, и в желаниях
Тебе, наша Мезень,
Привет, поклон и признание".
"Приполярный городок-уголок земли родной",
г.Мезень, 2008г.
24. ШИРОКО ТЫ, ПРИВОЛЬЕ МЕЗЕНСКОЕ"
Сл. и муз. Альберта Карповича Морозова
Мезенский край - суровый, приполярный,
Обитель наша - кров и наша боль.
Твоей гордимся ширью необъятной
Историей поморскою, судьбой!
Мы прадедов своих не забываем,
Чтим их обычаи и славу воздаем,
Традиции поморов продолжаем,
По их заветам мыслим и живем.
В беде мы человека не оставим.
Нам в радость труд, признаемся, любой.
Любимый край в народных песнях славим,
Его могущество, величие, покой!
25. Северная Двина
Мы плыли вниз по Северной Двине
На белом пассажирском теплоходе.
Я вспоминаю контуры церквей
Преображенья или Воскресенья,
Плывущие над белою водой
Под берестою северного неба.
И таинство полночной тишины
Под неизбывным половодьем света,
Где сосны не отбрасывают тени,
И красок нет— лишь чернь и серебро.
Как непохожа эта белизна
На петербургско-пушкинские ночи
С графическою оторочкой шпилей
И золотом неярким куполов!
А впереди, и сзади, и вокруг,
Струилась неподвижная Двина,
С обманчиво прозрачною водой.
Свободная российская река.
С ее широких плоских берегов
Татарские не пили кони воду,
Увязнув безнадежно на пути
В болотах вологодских или ситских.
Исконная российская река,—
Не Дон, который к туркам уходил
В Азовщину; не Волга, что течёт
Меж берегов мордовских и болгарских,
Татарских, и чувашских, и калмыцких,
В Хвалынское впадающая море,
Где полумесяц пляшет на волне,
Подернутой азербайджанской нефтью;
Не Енисей тунгусский; не Иртыш,
Отобранный насильно у Кучума;
Не Днепр, что от постылых москалей
К родному убегает Запорожью.
Не Терек, что несется по камням,
Песком и кровью яростно плюясь.
В течении Двины отобразилась
Неторопливость спутников моих,
Невозмутимых и русоволосых,
Архангелогородский говорок
С распевной гласной на исходе фразы.
Спокойная российская река
С болотистым многорукавным устьем.
Здесь Пётр когда-то вздумал строить флот,
Да после передумал, спохватившись,
Что не доплыть отсюда никуда,—
Ни в близкую, казалось бы, Европу,
Ни к прочим зарубежным берегам.
Пробить пути на Запад и Восток
Отсюда не сумели мореходы:
Ни Пахтусов, в Соломбале лежащий,
Усопший тридцати с немногим лет,
Ни к полюсу стремившийся Седов,
Себя велевший к нартам привязать.
Единственная русская река,
В российское впадающая море,
Откуда путь уходит в никуда—
Навстречу льду, безмолвию и мраку.
1993 А.Городницкий
25.Но наше северное лето,
Карикатура южных зим,
Мелькнет и нет:известно это,
Хоть мы признаться не хотим.
Уж небо осенью дышало,
Уж реже солнышко блистало,
Короче становился день,
Лесов таинственная сень
С печальным шумом обнажалась.
Ложился на поля туман,
Гусей крикливых караван
Тянулся к югу:приближалась
Довольно скучная пора.......
Александр Пушкин
26. Есть такой обычай у поморов:
Уходя, не закрывают двери...
Без замков живут и без затворов,
Потому что все друг другу верят.
Коль метла поставлена к притвору
Нет хозяев и не будет скоро...
Почему метла? Судить не смею.
Видимо, от древнего поверья.
Говорят в народе, будто ею
Вымели людское недоверье.
Николай Журавлёв.
27. Ах,север,север!
Я тому виной.
Что до сих пор не виделся с Двиной.
Твоя душа
Моей душе родня,-
Мы одного,негромкого,огня.
И мне,
Случиться.
Над твоей Двиной
Учиться
Надо глубине иной.
Спокойной,
Благородной глубине.
А солнце не заходит на Двине.
Оно не может царственно блистать.
Оно-как ты.
Оно тебе под стать.
Есть в этом свете
Мир и чистота.
Великая земная красота.
Которая вполголоса поет,
Но за живое,
За душу берет.
Ах,север,север!
Сказки колыбель.
Россия начинается отсель.
Ее характер
И ее добро-
Как этой белой ночи серебро,
Которое струится,не звеня
И песней песен
Трогает меня.
Михаил Дудин
28. РОССИЯ НАЧИНАЕТСЯ ВОТ ЗДЕСЬ
Ах,север,север!
Кто тому виной,
Что я с твоей не виделся Двиной?
Над Белым морем
Белой ночи свет.
За кораблем
От белой пены след.
Как тихий сон,
Сквозной полутуман
На плоский берег стелет океан.
Как светлый взгляд
И как полунамек,
На берегу сигнальный огонек.
И день и ночь
Сплетаются в одно
Беленое льняное полотно.
И сказка умывается росой,
И сказка обрамляется косой,
Глядит в глаза
Бездонной глубиной
И берегом проходит
Над Двиной.
Мне открывали
Суша и вода
Заморских стран
Немые города.
Я видел Лувр.
Глядел на Колизей.
Делил с друзьями
Трапезу друзей.
В лазурной
Задыхался высоте.
Награбленной
Дивился красоте.
29. Заповедный уголок
По реке,реке Мезени,
На замшелых берегах,
Разомлевшие олени
Носят лето на рогах.
Уголок найдя тенистый,
На пригорках дремлет хвощ.
Край озерный и лесистый,
Край черемуховых рощ.
Всюду тенькают синицы
И бормочут глухари.
Осторожные куницы
Притаились от жары.
Мохом выстланные стежки,
Под любым кустом грибы.
На болотинах морошки-
Хоть лопатою греби.
Клюквы тоже,между прочим,
Негде камушку упасть.
Может каждый,кто захочет,
Вкороба горстями класть.
Хоть не южный,но красивый
И моей судьбы исток,
Тот на севере России
Заповедный уголок.
Федор Широкий
30. Я родился у Белого моря,
На краю необъятной земли,
Где олени трубят на просторе
И гнездятся весной журавли.
Где рождаются белые ночи,
И черемуха буйно цветет.
Где до шуток и песен охочи-
Северяне,веселый народ.
Там,где семга в речные изгибы
Устремляется с устья реки.
Где белухи,как снежные глыбы,
Торпедируют рыб косяки.
Где такие чудесные зори
Полыхают огнем на лугах.
Где качается солнышко в море,
Словно медный кухтыль на волнах.
А потом отряхнется лениво,
Озарит горизонт голубой.
И плывет,улыбаясь счастливо,
Над родною Мезенской Губой.
И прибой с пробудившимся лесом
Меж собою ведут разговор,
Мне,плывущему в дымке белесой,
Говорят:"С добрым утром, помор"
Федор Широкий
31. Давно я на Севере не был,
Не видел родной стороны,
Где чайки взвиваются в небо
Под гул беломорской волны.
Где с давних времен и доселе,
Подковою выгнув крыло,
Стоит над рекой Долгощелье-
До боли родное село.
И сердце от долгой разлуки
Трепещет,в дорогу маня.
Туда,где не ведал я скуки,
Где нежные мамины руки
Когда-то ласкали меня.
Где юности годы промчались,
Как робкая песня скворца.
Там где-то в лесах затерялись
Охотничьи тропы отца.
На лодке б сейчас прокатиться,
По Кулою вверх,налегке.
Природой родной насладиться,
Ушицу сварить в котелке.
А после по старым приметам
Бродить,не смыкая очей.
И слушать короткого лета
Мелодию белых ночей.
Федор Широкий
32. За Мезенью, за метелью,
Где ветра чудачат зло,
Притаилось Долгощелье -
Древнерусское село.
То завесится туманом,
То в дождях -
Не виден свет....
Не летят аэропланы,
А другой дороги нет.
Может, это и резонно,
Что природа так мудрит-
Реже ездят ревизоры
И туристам путь закрыт.
Ни поветрия, ни моды
Чужедальней стороны
В этот угол непогодный
Не были занесены.
Оттого,
Пройдя сквозь вечность,
Здесь-
И сочен, и велик!-
Сохранился человечий
Многокрасочный язык.
У колодца
В синей стыни
"Бабье вече" загалдит-
То славянская Россия
Без шпаргалок говорит.
Так красно она
Глаголет,
Что зажмуришься на миг
И прикусишь поневоле
"Образованный" язык.
(Н. Журавлев,1983г.)
33. Двинской характер
Николай Журавлёв
Колышется янтарная волна
Течет Двина, как летопись, длинна,
Как северная песня, широка
И буйная, как смутные века.
Когда она, взломав ледовый гнет,
Куражиться и вольничать начнет,
Свой правый суд неистово вершит
Отжившее, наносное крушит.
Но лишь придет рабочая пора
Старается с утра и до утра:
Несет плоты и, кранами звеня,
Вздымает солнце завтрашнего дня.
Когда она работает — молчит.
Шумливы только мелкие ручьи,
Захлебываться в крике—их удел,
За неимеиьем настоящих дел...
Течет река скзозь дали и века,
Как летописи мудрая строка.
И глубина и стать отражены
В задумчивой янтарности волны.
И я ищу подспудное, свое
В скупой неторопливости ее.
Все тщусь проникнуть к таинствам
мирским — Кем точки изначальные даны:
То ли Двина с характером людским,
То ль северяне с норовом Двины?
34. Мезень
Автор : Deil
Родимый край - души смятенье,
Привычный сердцу уголок
Зовешься ласково – Мезенью,
Мой удивительный исток,
Укутан шумными лесами
Лежишь на берегу реки,
И море Белое ночами
В дали бушует от тоски.
Здесь юность птицею беспечной
Парила в небе голубом
И представлялась бесконечной,
Сверкая радужным крылом.
Полей широкие просторы
Дышали свежестью росы
И весен белые заторы,
Разливов чудные красы,
Лесов безбрежных колыханья
И тихий оклик журавля…
Все это Родины дыханье -
Родная, русская земля.
Родные села, пашни, реки,
Изгиб тропинки на угор,
Остался в сердце ты навеки
Прекрасный северный простор.
35.
Уходит детство, не вернется
На изумрудные поля
И больше, видно, не придется
Мальчишкой лезть на тополя.
Прошли порою безмятежной
Счастливой юности костры,
И Птица Счастья взмахом нежным
Закрыла путь в ее шатры.
Мне не вернуть былых скитаний
Под тихо плещущий прибой,
И радость долгих ожиданий,
И встречи первые с тобой,
Волос чудесных переливы
Рукой дрожащей не собрать,
И под гитару у отлива
Твоих мне губ не целовать.
Черемух дымкой легкокрылой
Растаял свет минувших дней,
Но в сердце образ вечно милой,
Прекрасной Родины моей !
Пускай уходят безвозвратно
Года в уюте и тепле -
Порою хочется обратно -
Туда, где вырос на Земле,
Где нива жизни зародилась.
В голубизне лазурных даль
Росою Севера умылась,
Познав и радость и печаль.
И я вернусь к твоим просторам,
А ярко-розовый закат
С жемчужной речкой под угором
Мне сказку детства повторят !
Вернусь на чудные равнины,
Чтоб снова мыслить и писать,
И сердцу милые картины
В душе и прозе рисовать !
36. Николай Окулов.
Не дай мне Бог богатым быть.
Когда вокруг раздор и слезы.
Когда земные псевдозвезды
Весь мир готовы поглотить.
Не дай мне Бог богатым быть,
Не понимать блаженных нищих,
Жить сном здоровым, вкусной пищей
А о душе совсем забыть.
Не дай мне Бог богатым быть.
Чтоб мозг заплыл, запекся жиром,
И чтоб Иуда стал кумиром,
Уча тому, как надо жить.
Не дай мне Бог богатым быть.
Не потому, что в рай мне надо,
А потому, что страшно ада
37. Худы, сутулы, но на шаг ещe легки,
В платках, фуфайках, кепках, не от Гуччи,
Суровые архангельские старики...
Таких не счесть на Родине Могучей!
Взрастивших честно, в тяготах своих детей,
Рассеянных по городам и весям,
Страной опущенных до уровня лаптей,
Под стоны хрипло-грустных русских песен.
Еe пергамент кожи в бороздах морщин,
Седа его щетины жeсткой поросль,
Одной дорогою полсотни лет и зим,
По жизни вместе... И лишь в смерти порознь.
Жизнь в небо истекает словно дым,
Под облаками медленно витая.
Красивым каждый был, был каждый молодым,
Но молодость желтеет, жухнет, тает,
Подобно павшему по осени листу,
Ветрами сорванному в перелеске.
И, лишь глаза, упорно помнят ту весну,
Упорно живы тем весенним блеском,
В котором чистой отражение души,
Дающей силы жить в стране не мудрой,
В ладу с собой, в далeкой северной глуши,
И встретить смерть морозным зимним утром.
Евгений Батурин.
38. Крайний север,леса да болота
И среди всей этой глуши
Город стоит на реке Мезени
Город берущий название реки
В нем живут рыбаки и строители
Здесь хватало прфессии всем
Будем строить его ,чтоб был он красивее
Город северный город Мезень .......
это из серии 20 века 1969 г.
39. Белые ночи
У Белого моря;
Белая кипень
Черёмух на взгорье,
Белая дымка
Кудрявится рано
За уходящим
Речным караваном.
Словно загадка, полярное лето –
Рядом с закатом
Пылают рассветы…
Значит закатов
На Севере нету –
Только рассветы,
Только расцветы.Николай Журавлёв
40.Николай Журавлев
На Мезени-
Снегу по колени,
На Мезени-
Белые заметы.
На Мезени
Нынче невезенье-
Замерли на старте
Самолеты.
Не летят
Крылатые машины,
Им борта
Соленый ветер лижет.
Врезались в сугроб
Тугие шины,
С береговой дорожкой
Смерзлись лыжи.
На Мезени-
Снегу по колени,
Сильный ветер
Леденит до дрожи.
А давай уедем
На оленях,
Ведь они не знают
Бездорожья.
И пускай не очень
Быстрокрыла
Та оленья тройка
Беговая,
Все-таки у них
В горячих жилах
Не бензин,
А кровь течет живая.
41. На Мезени снегу по колени,
На Мезени белые замёты.
На Мезени нынче - невезенье
Замерли на старте самолёты...
42. Край Мезенский,север дальный,
Как ты дорог мне всегда .
Кто здесь не был,не поверит,
Ах, ,какая там краса !
43. Во всё небо горит,полыхая, звезда- незакатное солнце Мезени. Как три века назад, как вчера и всегда, в час предутренний хлынет морская вода, Крики чаек ворвутся в сосновые сени. С океана идёт, нарастая, волна затопить острова высоченной осоки и поднять все карбасы скорее со дна Неглубокого, чуткого, тихого сна, пробудить и Мезень, и притоки Так идёт, нарастая и пенясь, волна дальше Каменкит, Лампожни и Заозерья, с океана идёт, и, слегка солона, до краёв своих жизнью бурливой полна. Словно крылья захлопали ставни и двери. И повсюду бежит и кричит детвора, по ступенькам тесовым над красною глиной иль собрыва в присест: на путину пора. Про кого мне старуха сказала вчера, мол, баской, уноровчивый, длинный? (Н.Сидорина)
44. Там ветер, воля и покой
И даль с увядшими цветами,
Где крест, увитый пеленами,
Стоит над сумрачной рекой.
В деревне мельница, гумно.
Там, за овином, хоронили,
И веру вещую хранили
Там, в тишине, пока темно...
А ночи белые стоят!
Чу! Мельница взмахнет крылами,
И полетит над облаками,
И не вернется к нам назад!
45. Лети, моя душа...
Диана Арбенина.
Лети, моя душа,
лети, мой тяжкий рок,
под облаками блакитными,
под облаками-зенитками
в небо
Лети, моя душа,
и солнце поцелуй
за всех друзей моих сгинувших,
за тех, кого не покину я...
Печаль моя,
будто роса,
легкая птаха, светла и прозрачна
белой рубахой Отца.
Лети, моя любовь,
и крови не жалей
брызгами, струями
да в полнолуния.
И годы - по часам,
и сердце - ястребок.
я дышу радостью:
нет большей сладости,
жить.
Печаль моя,
будто роса,
легкая птаха, светла и прозрачна
белой рубахой Отца.
Лети, моя душа,
лети, мой тяжкий рок,
под облаками блакитными
в небо, в небо, в небо...
46."Белое море".Сл. и муз. Игорь Николаевич Карулин,
На свете немало есть разных морей
И песен о них немало.
У Белого моря нет песни своей,
Такую оно не слыхало.
Припев; Где бы я не был в каком краю,
Или в каком просторе.
Я эту песню тебе пою.
Белое море!
2.Здесь нет кипарисов, магнолий в цвету,
Нигде не увидишь мимозы.
Здесь быстрые реки и снег на лету
Не бросят седые морозы.
Припев;
3.Суровое море зовёт смельчаков,
Лишь сильным подвластна стихия.
Прославим же в песне своих рыбаков,
За подвиги их трудовые.
Припев;
4.На свете немало есть разных морей,
Немало манящих просторов.
Но сердце моё говорит,что родней,
Нет в мире,чем Белое море!
Припев;
47. А.Ипатов.
Хочу сказать о Родине хорошие слова.
Совсем простые вроде бы, как небо и трава.
Банально и бесхитростно... Наверное...
Но вот - они такие чистые, как море и восход.
Я вывода не делаю, мне интересен цвет:
лишь наше море - Белое, а все другие - нет!
48. Студеное море , студеное ,
Белым тебя зовут .
Встретишь бывает ласкою ,
В пути - волны ревут .
Зимой ты спишь , а может дремлешь ,
добычу ждешь ты втихаря .
А может то назначенная плата
С него за счастье была ?
А может ты его позвало ?
Ведь чей-то он услышал зов ?
Твое коварство отлично зная ,
Он сделал шаг на ледяной покров .
Что ты наделало , море ?
Право есть у тебя ?
Трусов не терпишь , а смелых
Щадило ли ты когда ?
Сколько в воде твоей соли
От горя , печали и слез?
Может ты пошутило ,
А получилось всерьез ?
Ведь ты ж себя осиротило ,
Тебе же плохо без него !
Теперь , когда душа взлетела в небо ,
Тебе на этом свете каково ?
Простить вины той тебе я не могу .
Прошли года , а боль не утихает .
Ты посылаешь с покаянием волну ,
Но сердце твоих слов не принимает .
Оставило мучительную боль на веки ,
Погасла жизни яркая свеча ....
Многие уже забыли , что он был
Первым капитаном "ПЕЧАКА".
49. "Тамарин" в полночь нас встречает,
Багряным бликом по воде!
Заря "Секирку" освещает,
Оставив вспышку в маяке!
2003 г. о. Соловки
50. У самого Белого моря
У кромки берега морского
Стоит рыбацкое село.
Здесь нет комфорта городского,
Зато там дышится легко.
И речка рядом, просто чудо
С прозрачной чистою водой.
И тут же море, как на блюде,
С крутою пенистой волной.
От маяка за поворотом,
Свои обычаи храня,
Засолонясь рыбацким потом
Живет и трудится тоня.
Здесь рыбу ждут ловушки в море,
На карауле карбаса.
Стоит избушка на угоре,
За нею тундры полоса.
Рыбак и в штиль и в непогоду,
И днем и ночью на посту.
Проходят мимо пароходы,
Сгоняя с берега тоску.
Фофанов Сарвил Иванович , 1990 г.
51. Ах,Мезень,моя Мезень,
Чудо расчудесное.
Светел,долог летний день,
Думы интересные....
На краю земли стоишь,
Для меня-срединочка.
Ты кому-то как кукиш,
Мне же-ягодиночка.
Без тебя-то я куда?
Солнца нету ясного
Ой,поймала в невода
Молодца ты красного....
Н. ОКУЛОВ
52. Где много лет на Белом море,
В краю болот, ветров, дождей
Никольский Храм стоял в дозоре
Российских вольных рубежей,
Там вырос город корабелов -
И с морем он неразделим
С одним на всех нелегким делом,
На всех Отечеством одним.
Мир и покой,
Бог и Святой Николай.
Вместе с тобой,
Как за стеной,
Гордый отеческий край.
И моря хмурые седины
Не властны над твоей судьбой.
Суровый берег, но любимый,
Навеки связаны с тобой.
Еще на суше и на море
Нас ждут великие дела.
Доколе море с ветром спорит,
Доколе Родина жива.
Мир и покой,
Бог и Святой Николай.
Вместе с тобой,
Как за стеной,
Гордый отеческий край.
Александр Ипатов.
53. Студеное Белое море...
Студеное Белое море,
Суровый отеческий край
За берег болотистый город
Цепляется тысячей свай.
Несметным количеством судеб -
За каждой песчинкой судьба,
Когда подневольные люди
Впервые явились сюда,
Белел монастырь одинокий
Уж так на Руси повелось—
Тянулись этапы и сроки.
Ветра продували насквозь
Ветра разрывают одежду,
Душа нараспашку — гляди.
Но если теряешь надежду,
То так ее легче найти.
Раскрыты и карты, и двери,
Казалось бы, нету войны,
Но все ощутимей потери
На севере нашей страны.
54. А вы в Карелии бывали,
Где травы стелются ковром,
И где озер синеют дали,
Переливаясь серебром;
Где волны Ладоги бескрайной
На берег россыпью летят,
Про неразгаданные тайны
Нам водопады говорят;
Где сосны бронзовые встали
Непроходимою стеной...
А вы в Карелии бывали?
Нет?
Так поедемте со мной!
В. Дарская.
55. Приезжайте в деревню на лето
Отыщите там свой уголок,
Скромный домик, оставленный кем-то,
В кухне печь, невысок потолок,
Три окошка, крылечко простое
Вас с любовью всегда приютят,
К вам на дерево с кроной густою
Ваши птицы весной прилетят.
Вас под утро разбудят их трели,
Сладкий воздух ворвётся в окно.
Вы такой вкусной каши не ели,
Так легко не дышали давно.
Зачерпнуть из колодца водицы,
Босиком постоять на траве,
Тишиной можно тут исцелиться,
В деревянной российской избе,
Наколоть дров, по-русски размяться,
И простую рубаху надев,
По грибы в ближний лес прогуляться,
Соловьиный послушать напев,
В русской баньке под вечер помыться,
На крыльце посидеть, подышать,
Самоварного чая напиться
И на печку отправиться спать.
Все здесь тёплое, всё здесь простое,
Сердце здесь не стучит, а поёт,
Всё здесь русское, наше, родное,
Наша родина нас ещё ждёт.
В. Теплякова.
56. Колыбельная сказка (песня)
Погоди, любимая, не спи,
Дай-ка в изголовье положу
Облако угаснувшей зари,
А на стол вечернюю звезду.
Скрипнув дверью, сказку приглашу,
И мелькнут в ночи ее черты.
Сказочных героев усажу
На широкой лавке у стены.
И обнявшись, с Лелем мы споем
Песню, и заплачут гусли,
Как ушла Снегурочка с купцом,
Как в любви избавилась от грусти.
А потом веселую начнем,
И Яга, подол откинув юбки,
В пляс ударит с Ваней –дурачком,
На ходу откалывая шутки.
Сергей Коткин.
57. Быть иль не быть?
Такой стоит вопрос.
Любить иль разлюбить?
Забыть, оставить жить
Или убить?
Убить любовь.
Убить себя в себе
И душу о колено
С размаху разломить
И выбросить кусок,
Где памяти резцом
Навеки выбито любимое лицо...
Так быть или не быть? С. Коткин
58. Огромное солнце залило глаза,
И вспышка их ослепила.
Лучом животворным в меня ты вошла
И сумрак души осветила.
Но как я забыл, что короток день,
Что солнце - отец тумана.
И черный диск - то солнца тень
В ослепших глазах, как рана.
И вот живу, немые глаза,
Лишь память - мое оконце.
Гляжу, стоим, и ты, и я.
И вспышка - огромное солнце.
С. Коткин. 1974 г. Севастополь.
59. ….о ней любимой, о Мезени, конечно.
Если ветер в лицо, как мохнатая птица крылами.
Если сердце стучит, как упрямый тугой барабан.
Если плечи друзей ощущаю своими плечами.
Если есть те слова, что любимой еще не сказал.
Если хлеба кусок на ладони лежит не надкушен.
Если песни куплету костра до конца не допет.
Если хоть одному на земле человеку я нужен.
Если сам хоть одним на земле человеком согрет.
Значит, к черту сомненья и сентиментальные слезы.
Значит, к черту скулить, что когда-нибудь все мы умрем.
Посажу под окном по числу сыновей две березы.
И весной они вспыхнут веселым зеленым огнем.
С. Коткин.
60. Ой, береза, ты березонька.
"Эту песню я написал в 1974 году на память женщинам цеха Севастопольского морского завода." С. Коткин
Ой, береза, ты березонька.
Ой, Сережа, ты Сереженька,
Как под этою березою
Да стояли мы с тобой.
Говорил ты мне, печалился,
Что по-прежнему все нравлюсь я,
Что забыть меня не можешь ты,
Что забыть и не хотел.
Только что теперь печалиться,
Годы-листья осыпаются,
Красота моя смывается,
А береза все шумит.
Память глупая, ненужная,
Я давным-давно замужняя.
Ничего тут не поделаешь,
Видно так нам суждено.
Ты прости меня, Серёженька,
Что к заветной той берёзоньке,
К опадающей берёзоньке
Прихожу тайком одна.
Ой, беёеза, ты берёзонька.
Ой, Сережа, ты Сереженька,
Как под этою березою
Да прощались мы ты с тобой.
61. Текст гимна Архангельской области (слова Н. К. Мешко)
Край наш поморский
Могуч и прекрасен!
Его не забудешь вовек.
Манят отважных
Бескрайние дали,
Где не ступал человек!
Здесь по Петрову
Веленью из моря
Ряд белокрылых
Фрегатов восстал.
И колыбелью Российского флота
Край наш Архангельский стал.
Здесь Ломоносов
Великий родился,
Мудростью мир осветил,
Былинные сказы,
Загадки природы
В научную быль воплотил.
Край наш поморский
В движении и силе,
Ему по плечу Новый век!
Космос, богатства,
Глубины морские —
Все покорит человек!
62. Алексей Зыкин.
На Шелековском берегу
Теперь уже с трудом смогу
Пройти тропинками забытыми
К могилам с каменными плитами
Уж нет крестов простых и строгих
На валунах не видно строк
Все унесли снега, пороги
И у могил бывает срок
Все заросли травой воронки
Плиты не видно ни одной
Там жутковато и потомки
Обходят берег стороной
И прячут темные пороги
Истории столетий многих…
63. Лев Лосев.
ХБ-2
То ль на сердце нарыв,
то ли старый роман,
то ли старый мотив,
ах, шарманка, шарман,
то ль суставы болят,
то ль я не молодой,
Хас-Булат, Хас-Булат,
Хас-Булат удалой,
бедна сакля твоя,
бедна сакля моя,
у тебя ни шиша,
у меня ни шиша,
сходство наших жилищ
в наготе этих стен,
но не так уж я нищ,
чтобы духом блажен,
и не так я богат,
чтобы сходить за вином,
распродажа лопат
за углом в скобяном,
от хлопот да забот
засклерозились мы,
и по сердцу скребёт
звук начала зимы.
64. Лев Лосев
Тринадцать русских
Стоит позволить ресницам закрыться,
и поползут из-под сна-кожуха
кривые карлицы нашей кириллицы,
жуковатые буквы ж, х.
Воздуху! - как объяснить им попроще,
нечисть счищая с плеча и хлеща
веткой себя, - и вот ты уже в роще,
в жуткой чащобе ц, ч, ш, щ.
Встретишь в берлоге единоверца,
не разберешь - человек или зверь.
"Е-ё-ю-я", - изъясняется сердце,
а вырывается: "ъ, ы, ь".
Видно, монахи не так разрезали
азбуку: за буквами тянется тень.
И отражается в озере-езере
Осенью-есенью олень-елень.
65. Наташа Шамакова (Личутина) в 12 лет.
О, Север.любимый, родные края!
Как далеко ты сейчас от меня.
Нас разделяют и горы и реки.
Нас разделяют леса и поля,
Но всё равно, милый мой Север,
навеки, я никогда не забуду тебя.
И вечером тихим, сидя над рекою,
Я вспомню свой дом,
Что стоит у пруда,
Жужжание пчёл над своей головою
И Шарика лай, и журчанье ручья.
Быть может,
когда нибудь вновь я увижу
Ту быструю речку,
Что мирно течёт, широкое поле, зелёные долы
И пастушка, что задушевные песни поёт.
66. Моё Лешуконье
(ст. В. Раковций. муз. Н. Щепихиной)
(Гимн Лешуконского землячества)
Край Великой России.
Здесь зарницы сияют,
Здесь леса голубые
В горизонт уплывают...
мчатся летние ночи,
Словно белые кони...
Полюбив, не разлюбишь
Ты моё Лешуконье.
Над Мезенью- рекою
Щельи- красные кручи.
Где, за далью какою,
Край найти можно лучше?
Сосны, стройные ели
Небеса подпирают.
Птицы к нам прилетели,
Здесь и жизнь начинают.
А янтарная россыпь
На зеленых болотах
В эту жёлтую простынь
Завернуться охота.
Медвеную прохладу
Сочной, спелой морошки
Не сравнить с виноградом,
С ананасом заморским.
Приезжайте на Север.
Встретим дружбой и лаской.
Вы зимой попадёте
Примо в белую сказку.
Летом будете видеть
Сутки круглые солнце.
Золотою рукою осень
Постучится в оконце.
Приезжайте на Север.
Мы гостям всегда рады.
И за наше доверье
Не попросим награды.
Мчатся летние ночи,
Словно белые кони.
Приезжайте на Север,
На Мезень в Лешуконье.
67. Маршалко Т.В. Домашний ручей
Домашний ручей-труженик, колхозник,
Бежит из-за холма, с лесных болот.
Вот баньки в ряд, и деревянный мостик,
И всем знакомый школьный огород.
Ты издавна поил своей водицей
И выручал растения в жаркий день.
Коровы с луга шли к тебе напиться,
Порой купались все, кому не лень.
Очищен был от грязи, вечный странник,
Чтобы скорее воду нёс в Мезень.
Стоял на страже "рядовой пожарник"-
Запруда здесь была на "чёрный" день.
Бежит ручей, смывая дней пороки
И отражая стаи журавлей.
И будет так, пока живут истоки
В родной природе и в сердцах людей.
68. Маршалко Т.В. Ноба - речка
Бежит речушка, дочь лесная,
Журчит, лаская берега,
Спешит, таинственно петляя,
Сама не ведая куда.
Душистых пожен аромат,
Грибов и ягод кладовые.
Здесь, призадумавшись, стоят
Старушки - ели вековые.
Приют охотника лесной -
Избушки, речкою любуясь,
Как теремки стоят, красуясь,
И тонут в зелени густой.
69. Маршалко Т.В. Родная сторонка
Цветы луговые, лесные поляны
и кудри черёмух в весеннем саду.
Меня не заманят далёкие страны,
Милее нигде уголка не найду.
Куда ни поеду, куда ни пойду я,
Повсюду мне видятся рощи твои,
И тихий рассвет над Мезенью - рекою,
И клин журавлей, прокричавший вдали.
Родная сторонка, к тебе возвращаюсь.
Я снова и снова с тобой говорю.
Твоим живописным холмам поклоняюсь
И больше, чем прежде, тебя я люблю.
70. " Приеду на твой бережок"
( на мотив песни " Малиновый звон")
Северный край наш богат
Хоть и не ярок наряд
Помнишь над речкой туман,
Юности милый дурман.
Помнишь тот сладостный сон
Как пел до утра патефон,
Клуб деревенский в глуши
И что-то коснется души.
Привет: Ах, Мезень, ты родная моя,
Не жить, видно, мне без тебя.
Опять соберу рюкзачок
Приеду на твой бережок.
71. Дом наш открыт для друзей
Нет его сердцу милей.
В баньке ядреный парок,
Ждешь ты гостей на порог.
Ушкой попотчуешь нас,
Рюмочку, знаю, подашь.
И, разомлевши в тиши,
Песни споем для души.
Припев: Ах, Мезень, ты родная моя,
Не жить, видно, мне без тебя.
Опять соберу рюкзачок
Приеду на твой бережок.
Родная моя сторона,
Лешуконская наша земля.
Помнить мы будем тебя,
И бесконечно любя.
Пусть же из этих окон
Льется малиновый звон.
От нас, Лешуконье, прими
Низкий поклон до земли.
Припев: Ах, Мезень, ты родная моя,
Не жить, видно, мне без тебя.
Опять соберу рюкзачок
Приеду на твой бережок.
72. М.И. Мокрецова ( Беляева) " Село Койнас"
Деревенька моя называется Койнасом,
Стоит на крутом берегу на рекой.
А речка Мезень уже так пересохла,
Не ходят по ней параходы с трубой.
Не водят они плоты по течению,
Все списаны, в Котласе видела там.
Стояли в Затоне и ждали, когда же
Их переплавят опять на металл.
"Сурянин", "Ветлуга", и "Вятка", и"Дон",
И много еще таких пароходов.
Как тяжко мне смотреть на Затон,
Ведь много у них по Мезени походов.
А "Комсомолка" была просто чайка.
Плывет по воде и совсем не спешит.
Встречать мы бежим и кречим: "догоняй-ка",
Кто первый на пристань добежит.
Но их заменили другим плавсоставом
Другие идут по Мезени суда.
Не надо уже им теперь вехоставов.
Ведь только уж лодки туда и сюда.
И то не везде на них можно проехать.
Река обмелела, обсохла совсем.
И нет никому до этого дела.
Ну, кто же придумал все это, за чем?
Но все равно очень любим мы это,
Летим самолетом, спешим мы сюда.
И воздухом дышим, живем здесь всё лето
Уезжать не хотим никуда.
Здесь очень красиво, хотя Крайний Север,
Угоры, поля и леса, и луга.
Какие закаты, какие рассветы,
Таких не увидишь нигде, никогда.
А земляки нас радушно встречают:
"С приездом на Родину",- все говорят.
А наша душа так и тает, и тает,
Мы благодарны за это всегда.
73. “““ О Мезени.
У синей проруби на льду
рядком поставлены корзины.
Полощут в проруби бельё
разгорячённые мужчины.
Вот это труд! Вот это да!
Полощут так,что тают льдинки,
кипит холодная вода
от рук не каждого мужчины.
Идут - любуется народ.
Идут - румянцем обожжёны,
а их встречают у ворот:
всегда красивые, всегда любимые,
всегда весёлые, всегда счастливые,
святые матери и жёны.
74. Евгений Шашурин.
Посвящаю Вычегодскому.
Во сне увидел Вычегодский,
не близко,так из далека,
Стоит родной не изменился
в снегу берёзы,тополя.
Вот улицы его прямые,
из бруса почерневшего дома,
а вот дома не очень и большие,
из серого,как пепел кирпича.
Смотрю и вижу,словно зона
с Асеевки до Пырского стоит,
и как змея-железная дорога,
на человеческих костях лежит.
Вдруг слышу крик...,
открыл глаза,проснулся
и понял,что сигналит паровоз...,
я как-то очень криво улыбнулся,
и если честно не сдержал я слёз...
На берегу чудесной речки,
стоит прекрасный городок.
Берёзы белые, как свечки,
стоят вдоль берега в рядок
.Здесь моё детство пролетело
и юность бурно отшумела,
здесь встретил я свою любовь.
Здесь родились и дочь,и сын,
здесь я живу и здесь любим.
Любы мне улицы прямые
и тополя твои большие,
и паровозов пересвист,
и утреннее пенье птиц.
Ты дорог мне в любую пору,
иль дождь идёт,иль снег валит
,люблю тебя мой милый город,
дороже городов на свете нет.
75. Устья - речка небольшая -
всё пески да камни в ней,
Но , пройдя всю нашу землю,
не найдёшь таких людей !
Молодые , озорные независимо от лет.
Всех встречают - привечают ,
дарят нам надежды свет !
И не знаю , как всё будет ,
только крепко верю я -
Если есть такие люди , расцветёт опять земля !
Запищат в пелёнках дети ,
грянут добрые дела .
Озарят святую землю
золотые купола !!!
1.

2.

3.

4.

|
Метки: стихи песни Мезень |
АБРАКСАС |
Это цитата сообщения vissarion [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Абраксас (греч. Άβράξας) или (более ранняя форма) Абрасакс (греч. Άβρασάξ) – гностическое космологическое божество, Верховный глава Небес и Эонов, олицетворяющий единство Мирового Времени и Пространства.

Не существует единого мнения относительно значения и происхождения имени Абрасакс, но, несомненно, прообразом бога, носившего это имя,
 был бог Солнца, и Абрасакс должен был представлять одну из ипостасей Творца мира.
был бог Солнца, и Абрасакс должен был представлять одну из ипостасей Творца мира.Абраксаса изображали на античных геммах, амулетах, стелах в виде существа с телом человека, головой петуха и змеями вместо ног. В одной руке он держит меч или плеть, в другой – щит. Рядом с именем Абраксас (или вместо него) на амулетах с его изображением, можно видеть и другие имена (ΙΑΩ, ΣΑΒΑΩΘ, ΑΔΩΝΕΟΣ и др.), что говорит о их равноценности и взаимозаменяемости.
Едва ли не самое упоминаемое на геммах имя (наряду с именем Абраксас) – это IAW, солярное верховное божество финикийцев. Солярность Иао подтверждает и Макробий в «Сатурналиях», хотя Иао, в его изложении, это уже не верховное божество, а щедрое обильными урожаями осеннее солнце:
19. (…) оракулом Аполлона Кларосского солнцу дается также другое имя. В тех самых священных стихах оно называется среди прочего Яо (Ἰαω). Ведь Аполлон Кларосский, будучи спрошен, кто из богов должен считаться [тем], которого зовут Яо , так возвестил:
«Таинство знающим средство от боли скрыть повелело.
Есть же знанье невелико и слабый умишко.
Ты назначаешь бога Яо быть из всех самым крайним:
В зимнюю пору Аид есть, с весны же началом – тут Зевс,
Летом – Эелиос, осенью уж – Яо роскошный».
У гностиков Иао становится непостижимым богом тайны, согласно Иринею, заключающим в себе «семь небесных сфер» (Иао Гебдомаи, «Иао Седьмичник»).
Любопытно, что подобный эпитет («Седьмичник») был и у Аполлона в Афинах. Само слово ἑβδομαῖος означает «происходящий (или приходящийся) на седьмой день». Поскольку считалось, что Аполлон был рожден в седьмой день месяца (Ἑβδομαγενής), то соответственно ему был посвящен седьмой день каждого месяца (Ἑβδομᾱγέτης, «управитель седьмого дня»).
Если, с долей допущения, предположить тождество Иао и Аполлона, то следующим шагом будет установление тождества между Иао и Гором Бехдетским, поскольку греки между Гором и Аполлоном разницы не видели. Но более убедительным доводом можно считать египетские истоки "иконографии"

 Абраксаса.
Абраксаса.Судя по всему, образ Абраксаса – это видоизмененный образ Гора Бехдетского, который имел вид крылатого солнечного диска с двумя, как бы свисающими, уреями по краям. Петух символизирует возрождающееся солнце, меч и плеть – символы власти, змеи – "очи Ра" – Нехбет и Уаджит в образе уреев. Петух (gallus) – это метаморфоза иконографии древнеегипетского бога солнца Гора-Ра (от него – GALLUS, в египетской иероглифике «р» и «л» – равнозначны).
Возможный вариант прочтения имени Άβρασάξ – исполненный света. (ἁβρός – блистательный, σάξις – наполнение). Ниже на стелах (в верхней части) – изображение Гора Бехдетского, в виде крылатого солнечного диска с двумя уреями.


В поздней античности и в Средневековье изображение этого божества трактовали следующим образом: петух – символ предвидения и бдительности, змеи – внутреннего чувства, интуиции и
 озарения. Другие эманации этого божества – Ум, Слово, Мудрость, Сила.
озарения. Другие эманации этого божества – Ум, Слово, Мудрость, Сила.Геммы с изображением Абраксаса находили в Индии, Азии, Египте, частью в Испании, куда они вместе с Василидовым учением были занесены присциллианами. В Средние века Абраксас принимается всеми магическими и алхимическими сектами, геммы с его именем имеют широкое распространение в качестве амулетов.
В системе Василида имя Абраксас имеет мистический смысл, поскольку его имя составлено из семи греческих букв (Θέων Ἑβδογραμματων), а магическое число 7 символизирует общую идею Вселенной.
Гностическая система привязывает 7 известных тогда планет (включая солнце и луну) к дням недели, и таким образом день недели соответствует одной из планет и духовной сущности этой планеты:
«Имена же славы тех, которые над Семью Небесами, суть таковы: первый – это Яот (Ιαωθ), Львинолицый; второй – это Элоай (Ελοαιος), Ослинолицый; третий – это Астафай (Αθταφαιος), Гиенолицый; четвертый – это Яо (Ιαω), 3меинолицый и Семиглавый; пятый – это Адонай (Αδωναιως), Драконолицый; шестой – это Адони (Αδωνι), Обезьянолицый; седьмой – это Саббатай (Σαββαταιος), Пламеннолицый. Такова есть седмица недели».
Сумма числовых значений букв, составляющих имя Άβράξας (Α = 1, Β = 2, Ρ = 100, Α = 1, Σ = 200, Α = 1, Ξ = 60), дает 365 – число дней в году («целокупность мирового времени»), а также число небес («целокупность мирового пространства») и соответствующих небесам эонов («целокупность духовного мира»).
|
Метки: АБРАКСАС |
| Страницы: | [1] |




















