-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Статистика
Записей: 871
Комментариев: 1385
Написано: 2520
"Пусть душа останется чиста..." |
Начало здесь

19 января 1971 года оборвалась жизнь русского поэта Николая Рубцова.

Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Мать моя здесь похоронена
В детские годы мои.
- Где тут погост? Вы не видели?
Сам я найти не могу. -
Тихо ответили жители:
- Это на том берегу.

Тихо ответили жители,
Тихо проехал обоз.
Купол церковной обители
Яркой травою зарос.
Там, где я плавал за рыбами,
Сено гребут в сеновал:
Между речными изгибами
Вырыли люди канал.
Тина теперь и болотина
Там, где купаться любил...
Тихая моя родина,
Я ничего не забыл.

Глеб Горбовский назвал Николая Рубцова «долгожданным поэтом». Это удивительно точно было сказано. Читатели уже устали от громких деклараций шестидесятников, формалистических экспериментов и словесных изысков, и подсознательно ждали именно таких стихов: искренних, естественных, импульсивных. Такие стихи не томятся в книгах, не ждут, когда на них задержится читающий взгляд, а, кажется, существуют в самом воздухе, возникают из неба и земли — как ветер, дождь, первый снег...
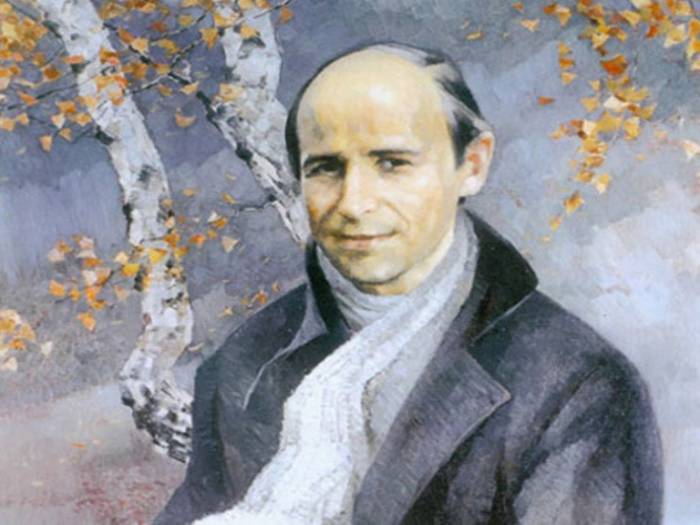
Выпал снег - и все забылось,
Чем душа была полна!
Сердце проще вдруг забилось,
Словно выпил я вина.
Вдоль по улице по узкой
Чистый мчится ветерок
Красотою древнерусской
Обновился городок.
Снег летит на храм Софии,
На детей, а их не счесть.
Снег летит по всей России,
Словно радостная весть.
Снег летит - гляди и слушай!
Так вот, просто и хитро,
Жизнь порой врачует душу...
Ну и ладно! И добро.

Рубцов привнёс в русскую поэзию своё состояние духа, не имевшее ничего общего с бодрячеством и казённым оптимизмом, выросшее и настоянное на военном сиротстве, бездомье, одиночестве, чуткое к чужой боли, отзывчивое на добро. Он и жил так, как писал. Взаимосвязь поэзии Рубцова и его жизни настолько тесна, что по его стихам точнее, чем по документам и автобиографиям, можно проследить его жизненный путь.
«Люблю я деревню Николу!..»
Родился Николай Михайлович Рубцов 3 января 1936 года в посёлке Емецк на Северной Двине, недалеко от Архангельска.

Емецк
Он был пятым ребёнком в семье. Когда ему было шесть лет, умерла мать. Это первое детское потрясение нашло отражение в его стихотворении «Аленький цветок».
Домик моих родителей
Часто лишал я сна. -
Где он опять, не видели?
Мать без того больна.--
В зарослях сада нашего
Прятался я, как мог.
Там я тайком выращивал
Аленький свой цветок.
Этот цветочек маленький
Как я любил и прятал!
Нежил его,- вот маменька
Будет подарку рада!
Кстати его, некстати ли,
Вырастить все же смог...
Нес я за гробом матери
Аленький свой цветок.

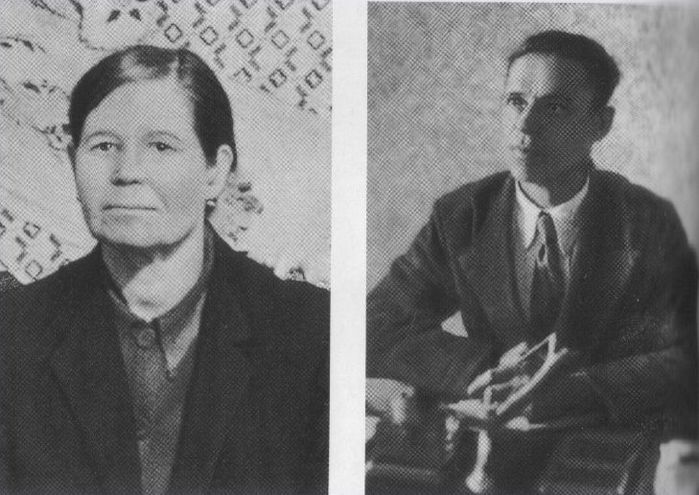
родители Николая Рубцова
Началась война, отец ушёл на фронт. Его сестра взяла к себе старших детей, а Николая отправили в детдом, разлучив с братьями и сёстрами.
Мать умерла.
Отец ушел на фронт.
Соседка злая
Не дает проходу.
Я смутно помню
Утро похорон
И за окошком
Скудную природу.
Откуда только -
Как из-под земли! -
Взялись в жилье
И сумерки, и сырость...
Но вот однажды
Все переменилось,
За мной пришли,
Куда-то повезли.
Я смутно помню
Позднюю реку,
Огни на ней,
И скрип, и плеск парома,
И крик "Скорей!",
Потом раскаты грома
И дождь... Потом
Детдом на берегу.

Детдом вспоминал с теплом и нежностью. «В детском доме Колю любили все, - рассказывает одна из воспитательниц. - У него кличка такая была: «любимчик». Он был ласков сам и любил ласку, был легко раним и при малейшей обиде плакал...»

Воспитанники детдома. Коля Рубцов — второй справа в первом ряду.

Коля Рубцов с воспитательницами детдома
Мальчик мечтал, как отец вернётся с фронта и заберёт его домой. Но отец, демобилизовавшись, переехал в Вологду, устроился работать в отдел снабжения Северной железной дороги — на очень хлебное по тем временам место, женился на молодой. Про сына, отданного в детдом, он даже не вспомнил. Это предательство самого близкого человека так больно ранило Колю, что он в своих стихах «похоронит» отца:
На войне отца убила пуля.
А у нас в деревне у оград
с ветром и с дождём шумел, как улей,
вот такой же жёлтый листопад.
С третьего класса он начал писать стихи. Может, стихи и спасли его, помогая переносить горечь сиротства, тоску холодных детдомовских ночей. Здесь, в селе Никольском Вологодской области, стоящем на берегу реки Толшмы, среди диких лесов и болот прошло детство и отрочество будущего поэта. Это село стало его малой родиной.
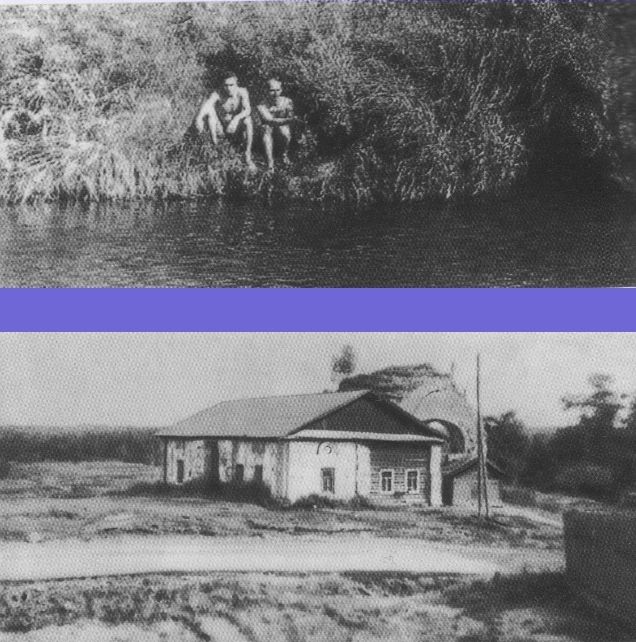
С той поры здесь мало что изменилось.

Потом Рубцов уедет из этих мест, но часто будет возвращаться сюда душой и памятью: в своих снах и грёзах. Многие приметы родной земли войдут в его стихи.
Хотя проклинает проезжий
Дороги моих побережий,
Люблю я деревню Николу,
Где кончил начальную школу!..

Может быть, в эти минуты и зарождались в нём строки этого стихотворения...
Лето, моё лето! Край тепла и света,
Чёрная смородина да рожь за бугром.
Погоди немного, не спеши в дорогу,
Дай налюбоваться мне твоим теплом.
Дай налюбоваться, волей надышаться!
Промотал я молодость, когда? - не видал.
Ой, цвети, ромашка, белая рубашка,
Всё б ходил да прутиком зелёным махал!
Завтра уж не спросят - рожь мою покосят.
В чистом - чистом поле я останусь один...
Ой, цвети калина, горькая рябина,
В небе журавлиный поднимайся клин.
Послушайте прекрасную песню на эти стихи в исполнении несравненного А. Подболотова: http://www.youtube.com/watch?v=blhqaAfnFmQ
(В одних публикациях автором стихотворения «Лето, моё лето» называют Рубцова, в других - Николая Тряпкина, хотя в текстах обоих поэтов я этого стихотворения не нашла. Обратилась с вопросом к Людмиле Дербиной и вот что она мне ответила:
"Здравствуйте, дорогая Наталия Максимовна! На Ваш вопрос отвечаю: прослушала Подболотова, такого стихотворения я у Рубцова не знаю и никогда от него не слышала. И ещё, он бы никогда не сказал: "Дай налюбоваться мне твоим теплом..." Теплом не любуются, тепло чувствуют. Не сомневаюсь, что это не Рубцов.Там сообщается, что слова Есенина. Ничего не могу сказать, так ли это".
Так что вопрос об авторстве пока остаётся открытым. Но уже ясно, что это не Рубцов. Если кто-то определит автора наверняка - пишите, исправлю).
Русь Рубцова
Безусловно, Николай Рубцов — наиболее яркий продолжатель традиционной русской поэзии. Его пейзаж родствен картинам природы Кольцова, Никитина. Но эту интонацию не спутаешь ни с какой другой. И так же безошибочно, как мы узнавали тютчевскую, блоковскую, есенинскую Русь, мы узнаём Русь Рубцова.
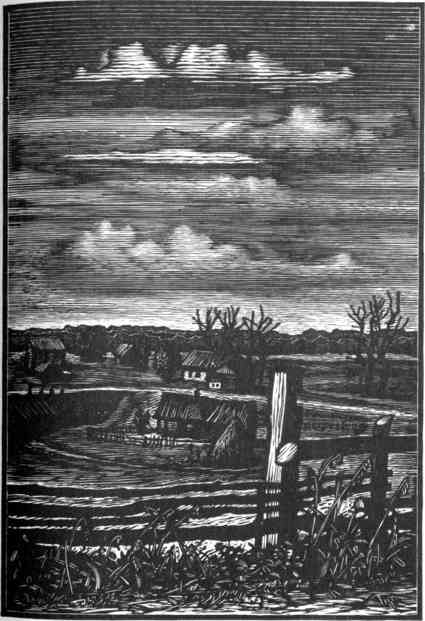
О вид смиренный и родной!
Берёзы, избы по буграм
и, отражённый глубиной,
как сон столетий, Божий храм.
В его стихах разбросаны её «дремотные леса» и усыпаные клюквой безбрежные болота, деревни на холмах и молчаливые церкви «на крутизне береговой», «ромашковый запах ночлега» и «грустные, грустные» сентябрьские птицы.
Не кричи так жалобно, кукушка,
над водой, над стужею дорог!
Мать России целой — деревушка,
может быть, вот этот уголок...

В этой любви много сострадания, жалости, желания защитить «покой и святость» отчих мест.
Не порвать мне мучительной связи
с долгой осенью нашей земли,
с деревцом у сырой коновязи,
с журавлями в холодной дали...

Чувство кровного родства озаряет всю лирику Рубцова, вспыхивая то в одном, то в другом стихотворении пленительными частностями, драгоценными сердцу подробностями, интонацией благодарения.
Школа моя деревянная!..
Время придет уезжать -
Речка за мною туманная
Будет бежать и бежать.
С каждой избою и тучею,
С громом, готовым упасть,
Чувствую самую жгучую,
Самую смертную связь.

Интонация этих слов — выстрадана. Так мог писать только Рубцов, это его кровные слова, его естественное состояние души. Стихи этого поэта отмечены печатью подлинной народности и человечности. Именно подлинной, ибо пишется масса стихов, которые лишь претендуют на народность и человечность, в них рисуются картины русской природы, говорится о русском народе, но всё это остаётся лишь внешней темой, демонстрацией патетической любви к родине, не задевая души читателя. Между тем человечность поэзии Рубцова неподдельна и органична.
За старинный плеск её паромный,
за её пустыные стога
я готов безропотно и скромно
умереть от выстрела врага.
И этим строчкам веришь, веришь, что не пустая риторика, а глубокое чувство. У Льва Толстого есть такое выражение: «скрытая теплота патриотизма». Его вспоминаешь, когда читаешь стихотворение Рубцова «Жар-птица», где он рисует образ старого крестьянина, пастуха:
- Старик! А давно ли ты ходишь за стадом?
- Давно,- говорит.- Колокольня вдали
Деревни еще оглашала набатом,
И ночью светились в домах фитили.
- А ты не заметил, как годы прошли?
- Заметил, заметил! Попало как надо.
- Так что же нам делать, узнать интересно...
- А ты, - говорит, - полюби и жалей
И помни хотя бы родную окрестность,
Вот этот десяток холмов и полей...
«Полюби и жалей» - такая вот формула интимного, сокровенного патриотизма. Это то, что меня привлекает в Рубцове — негромкость, целомудренность его любви к родине. В так называемой «патриотической» поэзии это редкость. Критика хотела видеть в Рубцове «певца России» и втиснула его по этому принципу в славянофильскую модель. А он в неё не вмещался. Увидели в нём типовое лицо, а он был непредсказуемо индивидуален.
Однокашник Рубцова Борис Тайгин пишет в своих воспоминаниях: «Печатать его начали всплошную только посмертно. А то живой он мог бы как-нибудь признаться, что его лучший друг — Эдик Шнейдерман, а любимый поэт — Бродский. Славянофилам это было бы не по нутру».
«Жизнь моя! До чего ж ты моя!»
Рубцов не вмещался и в модель «тихого лирика», его поэзия для этого достаточно многослойна и драматична. Чаще всего цитируют его элегическое:
Тихая моя родина!
Ивы, река, соловьи...
Но стоит перевернуть страницу, вырваться из цитатной инерции — и потянется совсем иная нить.
Вот он и кончился, покой!
Взметая снег, завыла вьюга.
Завыли волки за рекой
во мраке луга.
У Левитана картина «Над вечным покоем» тоже, как известно, в двух вариантах: ночном и вечернем, зловеще тревожном и элегически просветлённом. И у Рубцова читаем:
И так легки былые годы,
как будто лебеди вдали
на наши пастбища и воды
летят со всех сторон земли!
Казалось бы, идиллия, лубок. Но тут же — совсем иное настроение и видение:
Молчал, задумавшись, и я,
привычным взглядом созерцая
зловещий праздник бытия,
смятенный вид родного края.
Любя родную деревню, её природу, Рубцов не впадает в умилительную сусальность. И «тихий» пейзаж неизменно соседствует с образом бури, мглы, душевного смятения.
Высокий дуб. Глубокая вода.
Спокойные кругом ложатся тени.
И тихо так, как будто никогда
природа здесь не знала потрясений.
И тут же следом:
По мокрым скверам проходит осень,
лицо нахмуря!
На громких скрипках дремучих сосен
играет буря!
Пейзажная лирика Рубцова тоже не так проста, как кажется. Подобно Бунину, он мог бы сказать: «Нет, не пейзаж влечёт меня...» Пейзаж для него — не самоцель. Главное — обнаружить и запечатлеть многообразные связи человека и природы. Вот стихотворение «Цветы»:
По утрам умываясь росой,
Как цвели они! Как красовались!
Но упали они под косой,
И спросил я: - А как назывались? -
И мерещилось многие дни
Что-то тайное в этой развязке:
Слишком грустно и нежно они
Назывались - "анютины глазки".
О чём думаешь, читая эти строки? Конечно же, не только о цветах.
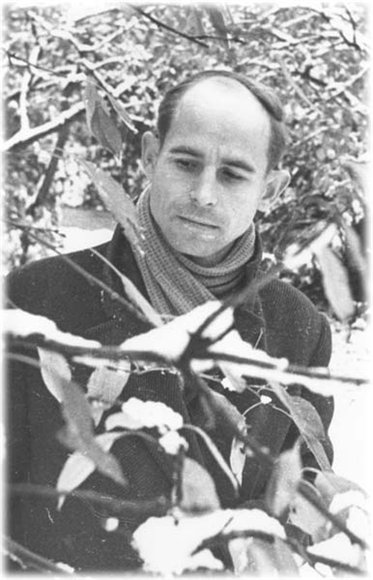
Рубцов очень любил Есенина, но когда ему говорили: «Ты, Коля, как Есенин», - резко возражал. У него было чувство своей единственности, непохожести на других, он часто восклицал: «Жизнь моя! До чего ж ты моя!» Не смотря на страстное, самозабвенное чувство любви к родине, которое объединяло его с Есениным, это были совершенно разные поэты.
У Рубцова нет есенинского парадоксального метафорического зрения, его гипертрофированной образности. Это можно считать бедностью, недостатком рубцовской музы. Но излишняя метафоричность — тоже не всегда хорошо. Это видно по многим имажинистским стихам Есенина, когда с помощью метафоры передаётся не состояние самой природы, а впечатление от увиденного:
Изба-старуха челюстью порога
жуёт пахучий мякиш тишины.
У Рубцова:
С каждой избою и тучею,
с громом, готовым упасть,
чувствую самую жгучую,
самую смертную связь.
Безыскусность избы Рубцова берёт за сердце, образная изба Есенина (в данном конкретном случае) лишь удивляет техническим мастерством.
Осень - рыжая кобыла,
чешет гриву. -
Это по-есенински. Но «рыжая кобыла» как бы вытеснила, перевесила саму осень. У Рубцова не найдёшь равноценной по броскости картинки, для него главное — подлинность переживания.
Я так люблю осенний лес,
Над ним — сияние небес,
Что я хотел бы превратиться
Или в багряный тихий лист,
Иль в дождевой веселый свист,
Но, превратившись, возродиться
И возвратиться в отчий дом,
Чтобы однажды в доме том
Перед дорогою большою
Сказать: — Я был в лесу листом!
Сказать: — Я был в лесу дождем!
Поверьте мне: я чист душою...

Разве можно расстаться шутя,
Если так одиноко у дома,
Где лишь плачущий ветер-дитя
Да поленница дров и солома.
Если так потемнели холмы,
И скрипят, не смолкая, ворота,
И дыхание близкой зимы
Все слышней с ледяного болота...
Вылепить второго Есенина из Рубцова не удалось. Глина была иная — иного состава, прочности, обжигаемости. Рязанский крой поэтического дыхания не был приспособлен к воздуху русского Севера. Рубцов был слишком Рубцовым.
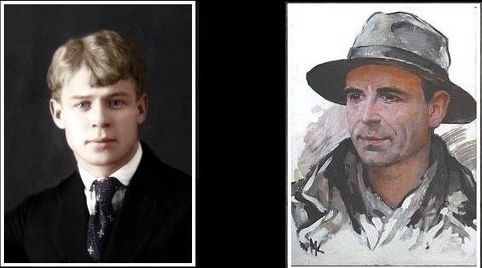
Целый день осыпаются с клёнов
силуэты багровых сердец, -
пишет Заболоцкий, насыщая природную стихию человеческими страстями, то есть собою, тогда как у Рубцова природа самоценна и полна жизни и значения сама по себе.
И с дерева с лёгким свистом
слетает прохладный лист, -
пишет он, и в этих простых безыскусных строках ощущение осени острее, пронзительнее. В предельной искренности Рубцов не боялся быть банальным. Есть у него и такие стихи, что напоминают пробу пера в ученической тетради. Но простота рубцовской лирики обманчива. То, что кажется языковой небрежностью, образной недостаточностью, на самом деле есть поиск подлинного смысла, освобождение живой души слова из грамматическо-лексического плена. Поэт не придавал решающего значения внешней стороне дела, ибо у него было нечто большее... У него было, что сказать миру.
Размытый путь
В 1950 году Николай Рубцов закончил 7 классов и уехал в Ригу поступать в мореходное училище. В детдоме ему выдали самодельный чемодан, который вместо замка закрывался гвоздиком, девочки подарили ему 12 носовых платков, обвязанных, вышитых ими. Три дня подросток добирался до Риги, а когда добрался — в мореходке документы у него не приняли — ему не исполнилось ещё и 15-ти. Один, в чужом городе, усталый, голодный, без жилья, без денег... Потом Рубцов напишет стихотворение «Фиалки», где запечатлел опыт, приобретённый им в Риге, опыт первой попытки самостоятельного устройства в жизни, во взрослом мире.
Я в фуфаечке грязной
шёл по насыпи мола.
Вдруг откуда-то страстно
стала звать радиола:
"Купите фиалки,
вот фиалки лесные.
Купите фиалки,
они словно живые..."
..Как я рвался на море!
Бросил дом безрассудно.
И в моряцкой конторе
всё просился на судно —
на буксир, на баржу ли...
Но нетрезвые, с кренцем,
моряки хохотнули
и назвали младенцем!..
И вот он, 14-летний мальчишка, одинокий, голодный в грязной фуфайке, бредёт по насыпи мола, глядит на корабли, стоящие на рейде — такие близкие теперь, но по-прежнему недоступные. «Купите фиалки!» - плывёт над волнами залива игривая мелодия. А ему слышится другое: «Купите фуфайку!» Ведь это единственное, что он может продать, чтобы разжиться хотя бы кусочком хлеба.

Так зачем мою душу
так волна волновала,
посылая на сушу
брызги быстрого шквала?
Кроме моря и неба,
кроме мокрого мола
надо хлеба мне, хлеба!
Замолчи, радиола...
...Вот хожу я, где ругань,
где торговля по кругу,
где толкают друг друга,
и "толкают" друг другу.
Рвут за каждую гайку —
русский, немец, эстонец!..
О! Купите фуфайку.
Я отдам — за червонец...
Неизвестно как, может быть, и в самом деле продав фуфайку, раздобыл он денег на обратный билет до Вологды. А ведь от Вологды пароходом надо было добраться ещё до Тотьмы — своего райцентра, в котором, он знал, есть лесотехнический техникум.

Казалось бы, что общего между ним и заветной мореходкой? Но куда денешься. Сдал экзамены, начал учиться. Учился Рубцов в нескольких техникумах, но ни одного не закончил.

Тотьма. Древний город в обрамлении полуразрушенных церквей. Здесь спустя 35 лет Рубцову поставят памятник.

Но мечта о море не отпускала. И едва достигнув 16-летия, Рубцов, получив паспорт, уезжает в Архангельск. Он хорошо запомнил этот день. Был сентябрь 1952-го. Дул холодный ветер, густая темнота висела над рекой.
Всё — как в стихах, в которых он описал потом этот свой отъезд. Композитор А. Дулов написал на эти стихи песню «Размытый путь». Послушайте её в исполнении Максима Кривошеева (в Интернете этого — лучшего её исполнения - нет):
http://rutube.ru/video/289055e01d8d30dbf9b65df9f97dbc98/?bmstart=0
Волны и скалы
На этот раз встреча с морем, о котором так мечтал Рубцов в детдоме на берегу Тошмы, состоялась.
Никем по свету не гонимый,
я в этот порт явился сам,
в своей любви необъяснимой
к полночным северным судам.
Его взяли кочегаром на рыболовецкое судно.
Я весь в мазуте, весь в тавоте,
зато работаю в тралфлоте!
Эти стихи были впервые опубликованы в Москве Евтушенко. В них была юношеская резкость и свобода, строки — крепкие, рубленые, энергичные:
Забрызгана крупно и рубка, и рында,
но румб отправления дан, —
и тральщик тралфлота треста "Севрыба"
пошел промышлять в океан.
А волны, как мускулы, взмыленно, рьяно,
буграми в багровых тонах
ходили по чёрной груди океана,
и нерпы ныряли в волнах.
Поразительно несовпадение образа лирического героя «морских» стихотворений с самим Рубцовым. Он был самым низкорослым и щуплым в команде, когда боцман выдал ему робу, буквально утонул в ней. Но в стихах видел себя большим, гордым, отважным, которому покоряется суровое море...

...Я юный сын морских факторий -
хочу, чтоб вечно шторм звучал,
чтоб для отважных вечно - море,
а для уставших - свой причал...
Свой первый сборник он назвал «Волны и скалы» и с ним поступал в Литинститут.

«Волны, - объяснял он, - это волны жизни, а скалы — это различные препятствия, на которые он натыкается во время своего жизненного пути».
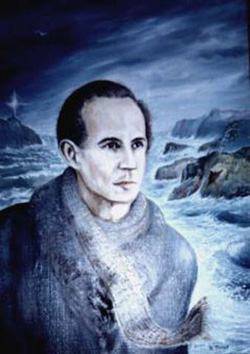
Валерий Таиров. Волны и скалы.
И всё-таки работа на тральщике оказалась для Рубцова непосильной. Проработав два года, он взял расчёт и уехал в Кировск и поступил в техникум, который скоро бросил. А потом началось бродяжничество.
Жизнь меня по Северу носила
и по рынкам знойного Чор-Су.
Как занесло его в этот среднеазиатский край — неизвестно. Ясно лишь, что в этом путешествии ему было несладко. И в солнечно-знойных краях не сумел отогреться поэт. В 1954 году он писал в Ташкенте:
Да, умру я!
И что ж такого?
Хоть сейчас из нагана в лоб!
...Может быть,
Гробовщик толковый
Смастерит мне хороший гроб.
А на что мне хороший гроб-то?
Зарывайте меня хоть как!
Жалкий след мой
Будет затоптан
Башмаками других бродяг.
И останется всё,
Как было,
На Земле, не для всех родной...
Будет так же
Светить Светило
На заплёванный шар земной!
С этим стихотворением перекликается и другое, написанное в последний год жизни: «Неизвестный»:
Он шёл против снега во мраке,
Бездомный, голодный, больной.
Он после стучался в бараки
В какой-то деревне лесной.
Его не пустили. Тупая
Какая-то бабка в упор
Сказала, к нему подступая:
— Бродяга. Наверное, вор…
Он шёл. Но угрюмо и грозно
Белели снега́ впереди!
Он вышел на берег морозной,
Безжизненной, страшной реки!
Он вздрогнул, очнулся и снова
Забылся, качнулся вперед…
Он умер без крика, без слова,
Он знал, что в дороге умрёт.
Он умер, снегами отпетый…
А люди вели разговор
Всё тот же, узнавши об этом:
— Бродяга. Наверное, вор.
В Ташкенте он почувствовал, что сам превращается в никому не нужного бродягу.
Как будто ветер гнал меня по ней,
по всей земле — по сёлам и столицам!
Я сильный был, но ветер был сильней,
и я нигде не мог остановиться!
***
Лесная сорока
одна мне подруга.
Дорога, дорога,
разлука, разлука...
Рубцов чувствовал, что это не тот Путь, который назначено пройти ему. В письме другу он пишет: «Всё чаще задумываюсь, каким делом заняться в жизни. Ведь только дохлая рыба плывёт по течению!»
Раздумья прервал призыв в армию. Четыре года прослужил он на эсминце на Северном флоте.


Это время было для него самым счастливым. Служба была суровая, края суровые, но — странно! - весёлое лицо у Рубцова только на флотских фотографиях.



Может быть, потому, что там он был — как все, на равных основаниях и не чувствовал так остро свою неустроенность и бездомность, как на гражданке.
Я полюбил чужой полярный город
И вновь к нему из странствия вернусь
За то, что он испытывает холод,
За то, что он испытывает грусть.
За то, что он наполнен голосами,
За то, что там к печали и добру
С улыбкой на лице и со слезами
Ты с кораблем прощалась на ветру...
Демобилизовавшись, Рубцов узнал, что его любимая девушка из села Приютино под Ленинградом, Тая Смирнова, которая провожала, писала и обещала ждать — не дождалась, вышла замуж. Это было второе предательство близкого человека, которое больно ранило его.
И всё же в холодные ночи
печальней видений других -
глаза её, близкие очень,
и море, отнявшее их.
Рубцов ощущал себя «человеком, которого смыло за борт». Стал пить, ломился к бывшей возлюбленной в дом, скандалил.
В окнах зелёный свет,
странный, болотный свет..
Я не повешусь, нет,
не помешаюсь, нет...
Буду я жить сто лет,
и без тебя — сто лет.
Сердце не стонет, нет,
Нет, сто «нет»!
В ноябре 59-го возвращается в Ленинград, поступает на Кировский (бывший Путиловский) завод. Работает там грузчиком, слесарем, шихтовщиком, учится в вечерней школе.
Живу я в Ленинграде
На сумрачной Неве.
Давно меня не гладил
Никто по голове.
И на рабочем месте,
И в собственном углу
Все гладят против шерсти
А я так не могу!
Лето 1954-го Рубцов гостит у своей возлюбленной Татьяны Агафоновой (в замужестве Решетовой) в селе Космово Вологодской области. Это была его первая любовь. Они познакомились в Тотьме, когда он, 16-летний, учился в лесотехническом техникуме.

Но у Тани был уже другой поклонник, который всюду ходил за ней по пятам. Об этом вспоминает Рубцов в стихотворении «У церковных берез»:
У церковных берез, почерневших от древности,
Мы прощались, и пусть, опьяняясь чинариком,
Кто-то в сумраке, злой от обиды и ревности,
Все мешал нам тогда одиноким фонариком.
***
Сколько лет пронеслось!
Сколько вьюг отсвистело и гроз!
Как ты, милая, там за березами?
Это прощание отразится в рубцовских стихах «Отплытие», «Тот город зеленый» и других.
Глаза моей девочки нежной
Во мгле, когда гаснут огни...
На бывшем в Космове доме Агафоновых (ныне у него другие хозяева) в честь Рубцова установлена мемориальная доска с надписью: «Здесь был четыре раза Николай Рубцов, встречаясь со своей первой любовью». Татьяна Решетова позже напишет воспоминания о нём.

Татьяна Решетова с внуком поэта, недавно трагически погибшим Николаем Рубцовым (Москва, музей Рубцова, октябрь 2004 года).
Продолжение здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post202213016/
|
|
Процитировано 4 раз
Понравилось: 4 пользователям
"Я трамвайная вишенка страшной поры"(продолжение) |
27 декабря 1938 года погиб Осип Мандельштам.
Начало здесь

И Шуберт на воде, и Моцарт в птичьем гаме,
И Гете, свищущий на вьющейся тропе,
И Гамлет, мысливший пугливыми шагами,
Считали пульс толпы и верили толпе.
Быть может, прежде губ уже родился шопот
И в бездревесности кружилися листы,
И те, кому мы посвящаем опыт,
До опыта приобрели черты.

Нэ трэба
Осип Мандельштам был человеком культуры, её порождением. Это была его стихия. Когда стали строить каналы и осушать водоёмы, он был — как рыба, лишённая своей стихии. Эпоха культуры кончилась. Круг близких людей, для которых она была единственным кислородом, становился всё уже. Потом выкачали воздух. Пришли новые, те, что загадили Челлиниевские чаши Эрмитажа, сожгли библиотеку Блока, вознамерились разрушить старый мир до основанья. Им Мандельштам был чужд и враждебен.

Из нашей культуры десятилетиями вытравляли всё нестандартное, неординарное. Ещё Ленин некогда приравнял непонятность к антихудожественности. «Искусство принадлежит народу, - указал он. - Оно должно быть понятно массам». И простота становится для искусства обязательным требованием.

В то время, когда всё мировое искусство развивалось под знаком нарастающей сложности, когда в живопись приходили Пикассо, Дали, в поэзию — Рильке, Том Элиот, у нас усердно насаждалась простота, та, что хуже воровства. Результаты подобной политики не замедлили сказаться. Выросли поколения людей не просто не умеющих, а, что главное, не желающих понимать сложное искусство, сделав это своё непонимание предметом некой гордости. Помните, как на суде над Бродским так называемые «простые рабочие» вставали и говорили: «Я ничего не понял». Раз рабочий не понимает, значит, стихи плохие. Это был неотразимый аргумент.
Уже после гражданской войны молодые строители коммунизма стали энергично ставить культуру на место: в надстройку над базисом. Как-то, читая газеты, Мандельштам удивлённо сообщил жене: «Мы, оказывается, живём в надстройке». Его стали реже печатать: ведь надстройка должна укреплять базис, а стихи Мандельштама для этого не годились. Формула «народу это не нужно» однажды смешно прозвучала на украинском. В 1923 году Мандельштам пришёл в Киеве в отдел искусств за разрешением на свой вечер. Чиновник в вышитой рубахе отказал. А на вопрос «почему?» ответил равнодушно: «Нэ трэба». Это изречение стало потом в семье Мандельштамов поговоркой.
Полный порядок в надстройке был наведён в 1930 году, когда в газете «Большевик» появилось письмо Сталина, призывающее не печатать ничего, что бы не отвечало госзаказу. Мандельштам прочёл и сказал: «Опять «не треба», на этот раз окончательное». В стихотворении «1 января 1924 года» он пишет:
Я знаю, с каждым днем слабеет жизни выдох,
Еще немного — оборвут
Простую песенку о глиняных обидах
И губы оловом зальют.
О, глиняная жизнь! О, умиранье века!
Боюсь, лишь тот поймет тебя,
В ком беспомощная улыбка человека,
Который потерял себя.

На лестнице Ламарка
Но ещё сильнее его протест против бездуховного детерминизма выражен в стихотворении, посвящённом знаменитому французскому натуралисту Жану Батисту Ламарку, развивавшему идеи об эволюции живой природы под воздействием внешней среды.

Жан Батист Ламарк
Ламарк располагал всё сущее по принципу лестничной иерархии: от Бога — к человеку, от человека — к четвероногим, птицам, рыбам, змеям, до самых низших организмов. Мандельштам рисует в этом стихотворении фантастическую картину нисхождения человека по ступеням эволюции живого мира.
Если всё живое лишь помарка
За короткий выморочный день,
На подвижной лестнице Ламарка
Я займу последнюю ступень.
К кольчецам спущусь и к усоногим,
Прошуршав средь ящериц и змей,
По упругим сходням, по излогам
Сокращусь, исчезну, как Протей.
Роговую мантию надену,
От горячей крови откажусь,
Обрасту присосками и в пену
Океана завитком вопьюсь.
Мы прошли разряды насекомых
С наливными рюмочками глаз.
Он сказал: природа вся в разломах,
Зренья нет — ты зришь в последний раз.
Он сказал: довольно полнозвучья,—
Ты напрасно Моцарта любил:
Наступает глухота паучья,
Здесь провал сильнее наших сил.
И от нас природа отступила —
Так, как будто мы ей не нужны,
И продольный мозг она вложила,
Словно шпагу, в тёмные ножны.
И подъёмный мост она забыла,
Опоздала опустить для тех,
У кого зелёная могила,
Красное дыханье, гибкий смех…

Эта мрачная фантастическая картина по-своему сигнализировала об опасности, о зияющем под ногами человека провале в средневековье. Ю.Тынянов считал «Ламарка» гениальным пророчеством того, как человек перестаёт быть человеком. Это стихи о страшном падении живых существ, которые забыли Моцарта, отказались от мозга, зрения, слуха в этом царстве «паучьей глухоты». Это страшно, как обратный биологический процесс. «Человек-насекомое» - вот удел, который был определён нам хозяевами жизни. Да и нынешнее время заставляет не раз вспомнить «Ламарка».
«И меня срезает время...»
Мандельштам ощущал себя пленником умирающего 19 века, его «больным сыном», чувствовал себя потерянным в современности.
Холодок щекочет темя,
И нельзя признаться вдруг,-
И меня срезает время,
Как скосило твой каблук.
Видно, даром не проходит
Шевеленье этих губ,
И вершина колобродит,
Обреченная на сруб.
Поэт пытается оторваться от власти прошлого мира, называет ушедший век волчьим веком, а новый — веком-волкодавом, расчищающим дорогу для будущих светлых веков. Он подчёркивает свою непричастность к волчьему миру, волчьей породе.

За гремучую доблесть грядущих веков,
За высокое племя людей
Я лишился и чаши на пире отцов,
И веселья, и чести своей.
Мне на плечи кидается век-волкодав,
Но не волк я по крови своей,
Запихай меня лучше, как шапку, в рукав
Жаркой шубы сибирских степей.
Чтоб не видеть ни труса, ни хлипкой грязцы,
Ни кровавых костей в колесе,
Чтоб сияли всю ночь голубые песцы
Мне в своей первобытной красе,
Уведи меня в ночь, где течет Енисей
И сосна до звезды достает,
Потому что не волк я по крови своей
И меня только равный убьет.
В этом стихотворении Мандельштам предсказал и грядущую ссылку в Сибирь, и свою физическую смерть, и своё поэтическое бессмертие.
В конце 1930 года поэт приезжает в Ленинград — город его детства и юности.

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,
До прожилок, до детских припухлых желез... -
это стихотворение было напечатано в «Литературной газете» в 1932 году, а в 1945-м Илья Эренбург писал, что слышал, как его повторяла пожилая ленинградка, вернувшаяся после блокады. Как зловеще двусмыслен конец этого стиха:
Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,
И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных.
Они, эти гости, явятся в свой час, не в Ленинграде, в Москве, но он уже их ждал, он ясно видел свою судьбу. И не раз писал об этом:
Помоги, Господь, эту ночь прожить,
я за жизнь боюсь — за твою рабу...
В Петербурге жить — словно спать в гробу.

«В смешном бесстрашье, петушино диком...»
По возвращении в Москву в 1933 году Мандельштам получил неожиданный подарок: комнату в писательском доме по улице Фурманова с готовым стукачом за стеной.

Пастернак, приглашённый на новоселье, простодушно порадовался за собрата: «Ну вот, теперь и квартира есть, можно писать стихи». Мандельштам был в ярости. Никто не умел раздражать его так, как Борис Леонидович. Он не переносил жалоб на внешние обстоятельства, якобы мешающие писать стихи. Едва гость ушёл, Мандельштам в порыве негодования разделался с щедрым даром, полученным от властей, который молчаливо требовал от него ответного полона. В знак «благодарности» он написал:
Квартира тиха как бумага —
Пустая, без всяких затей, —
И слышно, как булькает влага
По трубам внутри батарей.
А стены проклятые тонки,
И некуда больше бежать,
И я как дурак на гребенке
Обязан кому-то играть.
Наглей комсомольской ячейки
И вузовской песни бойчей,
Присевших на школьной скамейке
Учить щебетать палачей...
Это проклятие квартире — выражение ужаса перед той платой, которую за неё требовали. Даром у нас ничего не давали. Ему чуждо всё, что несёт гибель душе.

Какой-нибудь изобразитель,
Чесатель колхозного льна,
Чернила и крови смеситель,
Достоин такого рожна.
Пайковые книги читаю,
Пеньковые речи ловлю
И грозное баюшки-баю
Колхозному баю пою.
И вместо ключа Ипокрены
Давнишнего страха струя
Ворвется в халтурные стены
Московского злого жилья...
Уже одного этого стихотворения было достаточно, чтобы тогда, в начале 30-х, расправиться с ним. О Мандельштаме говорили, что он «не от мира сего». Но он, как выяснилось, был именно от этого, «сего мира», в котором жил и погиб. Поэт салонный, элитарный, он оказался отзывчивее к народной судьбе, чем те, кто официально говорил от имени народа. В 1934 году он пишет стихотворение, которое стоило ему жизни, знаменитое стихотворение о Сталине, первым осмелившись выступить против вождя и начинающегося культа личности. До такой высоты из живущих тогда поэтов не поднимался никто.
Сколько сильных, смелых, прошедших царские ссылки и тюрьмы, воевавших на всех фронтах — не могли и подумать о таком поступке. Сколько поэтов, гордившихся своим романтическим прошлым, гражданским пафосом — не могли и заикнуться о чём-либо подобном. Как писал Е. Евтушенко в своей «Балладе о Мандельштаме»:
Не Маяковский с пароходным рыком,
не Пастернак в кокетливо-великом
камланье соловья из Соловков,
а Мандельштам с таким ребячьим взбрыком,
в смешном бесстрашье, петушино диком,
узнав рябого урку по уликам,
на морду, притворившуюся ликом,
клеймо поставил на века веков.

Эти невероятные стихи — не о себе — о нас, то есть обо всех и за всех:
Мы живем, под собою не чуя страны,
Наши речи за десять шагов не слышны,
А где хватит на полразговорца,
Там припомнят кремлёвского горца...

Образ тирана, запечатлённого в этих 16 строчках, словно вырублен из цельного куска и по-своему монументален:

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
А слова, как пудовые гири, верны,
Тараканьи смеются усища,
И сияют его голенища.
А вокруг него сброд тонкошеих вождей,
Он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет,
Он один лишь бабачит и тычет,
Как подкову, кует за указом указ:
Кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него - то малина
И широкая грудь осетина.

Эти стихи можно было бы поставить рядом с пушкинскими строчками:
Беда стране, где раб и льстец
Одни приближены к престолу,
А небом избранный певец
Молчит, потупя очи долу.
И лермонтовским: «страна рабов, страна господ...» Факт создания этого стихотворения был и несомненным политическим актом, и актом самоубийства.
Ворованный воздух
Но было бы упрощением считать, что именно оно навлекло погибель на Мандельштама. Этой темы он касался и раньше. Ещё в 1933 году он пишет стихотворение «Ариост», где были такие убийственные строки: «Власть отвратительна, как руки брадобрея». А ещё раньше — в 1930-м — была «Четвёртая проза», в которой он ставит диагноз нравственной деградации эпохе:
« Все произведения мировой литературы я делю на разрешенные и написанные без разрешения. Первые -- это мразь, вторые -- ворованный воздух. Писателям, которые пишут заранее разрешенные вещи, я хочу плевать в лицо, хочу бить их палкой по голове и всех посадить за стол в Доме Герцена, поставив перед каждым стакан полицейского чаю... Этим писателям я запретил бы вступать в брак и иметь детей. Как могут они иметь детей -- ведь дети должны за нас продолжить, за нас главнейшее досказать -- в то время как отцы запроданы рябому черту на три поколения вперед».

Это писалось в 1930 году. Он должен был погибнуть ещё раньше.
Цветаева, ещё не знавшая тогда, что стихи сбываются, в феврале 1916 года предсказала трагическую судьбу Мандельштаму:
Ах, запрокинута твоя голова,
Полузакрыты глаза — что?— пряча.
Ах, запрокинется твоя голова —
Иначе.
Голыми руками возьмут — ретив! упрям!
Криком твоим всю ночь будет край звонок!
Растреплют крылья твои по всем четырем ветрам!
Серафим!— Орленок!

Мандельштам погиб не потому, что оставался в Москве, не убежав в медвежий угол, но потому, что был обречён на гибель, и никакие оды вождю уже не могли спасти его. Как поэт, внутренний диссидент, при всей своей инфантильности он подсознательно понимал свою обречённость. Не случайно ещё в 1922 году, в статье о Блоке Мандельштам заметит, что «душевный строй поэта располагает к катастрофе».
Судьба Мандельштама — едва ли не самая драматическая в русской литературе советского периода. Не потому, что ему выпал жребий более ужасный, чем многим другим его собратьям. Трагическая развязка его судьбы была такой же, как у Бабеля, Пильняка, Артёма Весёлого, Ивана Катаева — всех не перечислишь. Отличался от них Мандельштам тем, что был он, пожалуй, из них самым независимым, самым нетерпимым.

«Нетерпимости у О.М. Хватило бы на десяток писателей», - замечает в своих воспоминаниях вдова поэта. В тот самый год, когда Пастернак «мерился пятилеткой» и пытался идти в ногу с веком («но разве я не мерюсь пятилеткой, не падаю, не подымаюсь с ней»), Мандельштам открыто провозглашал готовность принять мученический венец: «запихай меня лучше, как шапку, в рукав // Жаркой шубы сибирских степей».

Пётр Белов. Пастернак.
В отличие от Пастернака, Мандельштама ощущение своего социального отщепенчества не пугало. Наоборот, оно давало ему силу, помогало утвердиться в столь необходимом ему сознании своей правоты. Он называл себя «непризнанным братом, отщепенцем в народной семье». В категорию ненаших, пасынков России неизменно попадали лучшие её сыны. Мандельштам был ненашим в квадрате: поэтом и евреем.

Нельзя дышать, и твердь кишит червями,
и ни одна звезда не говорит. -
таков диагноз, поставленный поэтом постреволюционной России. Г. Струве писал: «В поэзии Мандельштама зазвучал голос отщепенца, знающего, почему он отщепенец, и дорожащего этой своей позицией».
Политических вождей 20 века влекла поэзия. Бухарин был поклонником Пастернака, полемизировал печатно с Троцким, который был поклонником Есенина. Сталин взял себе Маяковского. И только Мандельштаму не нашлось мецената. Он был чужд властям.
В период кровавых чисток, когда газеты пестрели заголовками: «Смерть врагам народа», под которыми стояли подписи уважаемых писателей — ни в одной карательной резолюции нет подписи Мандельштама. Мы не найдём его имени среди авторов известной позорной книжки, славящей рабский труд заключённых на Беломорканале. Мандельштам был одним из немногих, кто не дал себя задурить. И когда его друг Зенкевич съездил на этот канал и написал похвальные стихи во славу, Мандельштам стал называть его "Зенкевичем-канальским"

«Поэзию у нас уважают. За неё убивают»
Пугливый от природы, как заяц, в свои часы он — смелый до отчаяния, смелый из благородства. Когда чекист Блюмкин стал хвалиться перед ним списком людей, подлежащих расстрелу — мол, все они в его власти — Мандельштам вырвал у него из рук этот список и бросил в камин, а когда разъярённый Блюмкин выхватил пистолет — с криком бросился бежать: «Он меня убьёт!» Пересказывая эту историю, почему-то упор делали на бегстве Мандельштама, якобы доказывавшем его трусость.

Яков Блюмкин
Пил Блюмкин, оттирая водкой краги
от крови трупов, сброшенных в овраги,
а рядом — с рюмкой плохонькой малаги
стихи царапал, словно на колу,
поэт в припадке страха и отваги
и доверял подследственной бумаге
то, что нельзя доверить никому.
Все умники, набив пайками сумки,
прикинулись тогда, что недоумки,
а он ушёл в опасные задумки,
не думать отказавшись наотрез.
Трусливо на столах дрожали рюмки,
когда хвастливо тряс убийца Блюмкин
пустыми ордерами на арест.
Не те, кто красовался в портупеях,
надеясь на бессмертье в эпопеях, -
а Мандельштам, витавший в эмпиреях,
всегда ходивший чудиках-евреях
и вообще ходивший налегке,
спасая совесть — глупую гордячку,
почти впадая в белую горячку,
вскочил и вырвал чьих-то жизней пачку,
зажатую в чекистском кулаке.
(Из «Баллады о Мандельштаме» Е.Евтушенко)
В 1918 году он схватился с Блюмкиным, вырывая у того список на расстрел. Позже вместе с Ларисой Рейснер отправился к Дзержинскому, спасая от расправы незнакомого ему искусствоведа. В 1928-м, случайно узнав о предстоящем расстреле пяти стариков - банковских служащих, метался по Москве, требуя отмены приговора. Явился к Бухарину. Приговор в конце концов отменили, и Николай Иванович счел долгом известить об этом поэта телеграммой в Ялту. Хороша трусость.
Мандельштам не раз говорил жене: «Чего ты жалуешься? Поэзию уважают у нас. За неё убивают. Только у нас. Больше нигде».
Первый раз поэт был арестован в ночь с 13 на 14 мая 1934 года. При аресте присутствовала Ахматова, которая опишет потом эту страшную ночь в стихотворении «Воронеж»:

А в комнате опального поэта
дежурят страх и Муза в свой черёд.
И ночь идёт,
которая не ведает рассвета...
Опишет эту ночь ареста и Александр Галич в своей песне «Возвращение на Итаку»:

В наш век на Итаку везут по этапу.
Везут Одиссея в телячьем вагоне...
http://www.youtube.com/watch?v=lO5tkeutB9Q (видеоклип в исполнении А.Галича)
«Губ шевелящихся отнять вы не смогли»
Мандельштама не расстреляли тогда сразу. Причиной этого «чуда» была фраза Сталина: «изолировать, но сохранить». Сталин понимал, что убийством поэта действие стихов не остановишь. Стихи уже распространялись в списках, передавались изустно. Убить поэта — это самое простое. Он хотел заставить Мандельштама написать другие стихи. Стихи, возвеличивающие Сталина. Вождь хотел, чтобы перед судом далёких потомков поэт выступил бы свидетелем его, Сталина, исторической правоты. Поэтому и пытал Пастернака по телефону: «Он мастер? Мастер?» Ему важно было в этом убедиться.

Мандельштама держали в Воронеже как заложника. Началась травля поэта, разносы в газетах. Называли троцкистом, «участником банды», писали, что его поэзия «вносит дух маразма и аполитичности». Местный воронежский поэт напечатал памфлет на Мандельштама:
...Буржуазен, он не признан,
нелюдимый, он чужак.
И побед социализма
не воспеть ему никак.

Жизнь в Воронеже была тяжёлой. Заработки кончились. Знакомые на улицах отворачивались или глядели, не узнавая. С 33-го года он был лишён возможности печататься.
Наташа Штемпель — воронежская знакомая Мандельштамов— запомнила случай, когда поэт пытался прочесть по телефону-автомату свои новые стихи следователю НКВД: «Нет, Вы слушайте, слушайте! Мне больше некому читать!» Слушателей было мало, к читателю его не допускали. В «Четвёртой прозе» Мандельштам назовёт это «литературным убийством». В это время он пишет стихотворение:

Куда мне деться в этом январе?
Открытый город сумасбродно цепок...
От замкнутых я что ли пьян дверей? –
И хочется мычать от всех замков и скрепок.
И переулков лающих чулки,
И улиц перекошенных чуланы,
И прячутся поспешно в уголки
И выбегают из углов угланы...
И в яму, в бородавчатую темь
Скольжу к обледенелой водокачке,
И, спотыкаясь, мертвый воздух ем,
И разлетаются грачи в горячке.
А я за ними ахаю, крича
В какой-то мерзлый деревянный короб:
– Читателя! советчика! врача!
На лестнице колючей – разговора б!
Это какая улица?
Улица Мандельштама.
Что за фамилия чертова -
Как ее ни вывертывай,
Криво звучит, а не прямо.
Мало в нем было линейного,
Нрава он был не лилейного,
И потому эта улица,
Или, верней, эта яма
Так и зовется по имени
Этого Мандельштама...
А вот эта самая улица-яма, о которой писал поэт:

В 1937-м в воронежской ссылке у него был шанс ухватиться за соломинку. Его заставили прочесть доклад об акмеизме, организаторы надеялись, что он отступится от Николая Гумилева и Анны Ахматовой. Но Мадельштам сказал:
- Я не отрекаюсь ни от живых, ни от мертвых.
Самым загадочным, многозначительным произведением, написанным в Воронеже, многие исследователи считают «Стихи о неизвестном солдате», - произведение, соединившее в себе реальное и фантастическое, антивоенный пафос — с метафорическим осовоением теории Энштейна, связанное с идеями Ломоносова, Державина, Хлебникова, Джойса, европейской поэзией 20 века. «Стихи о неизвестном...» - это и оратория, и своеобразный реквием, плач по мёртвым и по себе, настоящая симфоническая поэма, из которой можно вычитать и грядущую мировую бойню, и создание атомного оружия, и даже атомную войну. С потрясающей силой поэт выразил сознание своего родства с миллионами безвестных жертв века-волкодава, сознание кровной связи своей судьбы с их судьбою:
Миллионы убитых задешево
Протоптали тропу в пустоте, —
Доброй ночи! всего им хорошего
От лица земляных крепостей!
Неподкупное небо окопное —
Небо крупных оптовых смертей, —
За тобой, от тебя, целокупное,
Я губами несусь в темноте —
За воронки, за насыпи, осыпи,
По которым он медлил и мглил:
Развороченных — пасмурный, оспенный
И приниженный — гений могил.
...Наливаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
— Я рожден в девяносто четвертом,
Я рожден в девяносто втором... —
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья — с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем.
Марк Шагал. Война
В этих стихах — непреложная уверенность в том, что и его — раньше ли, позже — не минет чаша сия. При всей сложности и загадочности этой мандельштамовской вещи, главный её эмоциональный настрой сводится к его знаменитой реплике, которую приводит Ахматова: «Я к смерти готов». Миллионы убитых задёшево протоптали тропу, по которой и ему предстоит пройти свой последний крестный путь.
«То был не я, то был другой»
Когда в 1937 году Мандельштамы вернулись в Москву, их квартира оказалась занята человеком, писавшим на них доносы. Разрешения остаться в столице поэт не получил. Работы не было. Он был на грани самоубийства.

Он поседел, его мучила астма. В 46 лет он производил впечатление глубокого старика.
Сталин ломал и более сильных людей. А Мандельштам вовсе не принадлежал к числу самых сильных. Доведённый до отчаяния, загнанный в угол, он решил попытаться спасти свою жизнь ценой нескольких вымученных строк. Он решил написать ожидаемую от него «Оду Сталину». Надежда Мандельштам вспоминала: «Каждый день он садился за стол и брал в руки карандаш... Просто Федин какой-то...» Не проходило и часа, как тот вскакивал и начинал проклинать себя за отсутствие мастерства. Он не был «мастером». Он был поэтом. Он ткал свою поэтическую ткань не из слов.
В конце концов долгожданная ода появилась на свет. Но чтобы написать такие стихи — не нужно было быть Мандельштамом.
И шестикратно я в сознаньи берегу,
Свидетель медленный труда, борьбы и жатвы,
Его огромный путь — через тайгу
И ленинский октябрь — до выполненной клятвы...
Это был не он. Эта ода сломала его. Он утратил сознание своей правоты, которое всегда у него было абсолютным («Поэзия есть сознание своей правоты», - утверждал Мандельштам).
Он пишет примиренческие стихи, оправдывающие действительность: «я должен жить, дыша и большевея», «и, как в колхоз идёт единоличник, я в мир вхожу, и люди хороши». Это он пишет в 37 году! И это пишет человек, который первым позволил себе открытый бунт, кто проклял сияющие голенища «кремлёвского горца»!
Надежда Яковлевна считала эти настроения последствием травматического психоза, который перенёс поэт после ареста. Можно, конечно, считать это болезнью. Но тогда придётся признать, что болезнь эта была чрезвычайно широко распространена. Очень трудно жить человеку с сознанием, что вся рота шагает не в ногу, и только он один знает истину. Особенно, если эта «рота» - весь многомиллионный народ. Очень мучительно ощущать своё социальное одиночество, даже если в основе его лежит знание истины.

Но это был уже не Мандельштам. Он и сам сознавал это. «Нет, никогда ничей я не был современник, То был не я, то был другой». Это было как помрачение рассудка. После написания злополучной оды он скажет:
Скучно мне, моё прямое
дело тараторит вкось -
по нему прошлось другое,
надсмеялось, сбило ось.
Он потерял себя, свой внутренний стержень.
Нет, не спрятаться мне от великой муры
За извозчичью спину — Москву,
Я трамвайная вишенка страшной поры
И не знаю, зачем я живу.
В марте 1938-го Литературный фонд даёт Мандельштаму путёвку в подмосковный дом отдыха Саматиху. Там 2 мая его ждёт арест, затем — лагерь и смерть.
Это письмо я не могу читать без слёз:

«Ося, родной, далекий друг! Милый мой, нет слов для этого письма, которое ты, может, никогда не прочтешь. Я пишу его в пространство. Может, ты вернешься, а меня уже не будет.
Осюша - наша детская с тобой жизнь - какое это было счастье. Наши ссоры, наши перебранки, наши игры и наша любовь.
Ты помнишь, как мы притаскивали в наши бедные бродячие дома-кибитки наши нищенские пиры? Помнишь, как хорош хлеб, когда он достался чудом, и его едят вдвоем? Наша счастливая нищета и стихи. Эти дни, эти беды - это лучшее и последнее счастье, которое выпало на нашу долю.
Каждая мысль о тебе. Каждая слеза и каждая улыбка - тебе. Я благословляю каждый день и каждый час нашей горькой жизни, мой друг, мой спутник, мой слепой поводырь...
Мы, как слепые щенята, тыкались друг в друга, и нам было хорошо. И твоя бедная горячешная голова и все безумие, с которым мы прожигали наши дни. Какое это было счастье, как мы всегда знали, что именно это счастье.
Жизнь долга. Как долго и трудно погибать одному - одной. Для нас ли — неразлучных - эта участь? Мы ли - щенята, дети, ты ли, ангел - ее заслужил? Я не знаю ничего. Но я знаю всё, и каждый день твой и час, как в бреду, мне очевиден и ясен.
Не знаю, где ты. Услышишь ли ты меня. Знаешь ли, как люблю. Я не успела сказать, как я тебя люблю. Я не умею сказать и сейчас. Я только говорю: тебе, тебе... Ты всегда со мной, и я - дикая и злая, которая никогда не умела просто заплакать, - я плачу, плачу, плачу.
Это я - Надя. Где ты?
Прощай. Надя».
Когда писалось это письмо, Мандельштам был ещё жив. Но вскоре вернулась её посылка с тёплыми вещами - «за смертью адресата».
«О небо, небо, ты мне будешь сниться»
Всю жизнь искала Надежда Мандельштам ответ на вопрос, где и как погиб её муж, кто написал на него донос. Она, к сожалению, так этого и не узнала. Разгадка пришла полвека спустя. Автором доноса на поэта, а значит, его опосредованным убийцей был генеральный секретарь Союза писателей СССР Владимир Ставский.

Владимир Ставский
Это он в ответ на просьбу поэта дать ему какую-нибудь работу вместо помощи написал на него донос Ежову, где обвинял в том, что друзья литераторы поддерживают поэта, собирают для него деньги, делают из него «страдальца», что сам Мандельштам «лично обходит квартиры и взывает о помощи». Но этого было мало, чтобы казнить. Он добавляет: «по имеющимся сведениям Мандельштам сохранил антисоветские взгляды». Уже теплее. И вот наконец та фраза, которая стоила поэту жизни: «В силу своей психологической неуравновешенности Мандельштам способен на агрессивные действия. Считаю необходимым подвергнуть аресту и изоляции». К доносу Ставский приложил отзыв на стихи поэта Петра Павленко, автора хрестоматийного романа «Счастье», который прятался в шкафу во время допроса Мандельштама и злорадно описывал потом, как с него спадали брюки, как он смешно их подхватывал и как был жалок в своём страхе. В отзыве тот напишет, что стихи Мандельштама не представляют никакой ценности, что «язык стихов сложен, тёмен и пахнет Пастернаком».

Пётр Павленко
Мандельштамам были даны путёвки в дом отдыха, как выяснилось, для того, чтобы там удобнее было арестовать, не утруждая агентов поисками кочевого бездомного поэта. Это была западня. А наивный Мандельштам так радовался этим путёвкам. Говорил: «Значит, мне поверили», строил планы, кипел новыми замыслами... В ту ночь его увели. Им с женой не дали даже проститься — им, не разлучавшимся ни на минуту.

Следствие было формальным. Мандельштам был чист, вины не признал. Впрочем, никаких конкретных обвинений ему и не предъявили, в этом не было нужды. В ту пору он подлежал расправе за одну только «анкету», чуть ли не по каждому пункту: родился в Варшаве, еврей, беспартийный. Сын купца. Судим.

.
Последняя тюремная фотография поэта из его личного дела.

Мандельштам в кожаном пальто с чужого плеча — подарок Эренбурга. Обречённый взгляд усталого, испуганного человека, у которого отобрали всё — книги, жену, работу, свободу, а скоро отнимут и последнее — жизнь.
Мандельштам умер в далёком пересыльном лагере «Вторая речка» под Владивостоком 27 декабря 1938 года.
Лагерь «Вторая речка». В 30-е и в 60-е годы
О, небо, небо, ты мне будешь сниться!
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло,
И день сгорел, как белая страница:
Немного дыма и немного пепла.
Мандельштам читает свои стихи: http://www.youtube.com/watch?v=KT8MIOrdlCc
Смерть Мандельштама
Надежда Мандельштам после смерти мужа вела жизнь затравленного зверя — скиталась по городам, скрывалась у друзей, вечно в нужде, в страхе ареста. Она хотела выжить, чтобы сохранить наследие поэта, донести его до нас. И это ей мы обязаны, что сейчас читаем его стихи и прозу. Умерла она в декабре 1980-го.

А инициатор и организатор ареста В. Ставский был награждён орденом «Знак почёта». Его содоносчик и тайный соглядатай на допросе П. Павленко — орденом Ленина.
Ставский в 43-м погиб на фронте. Благодаря этому факту его пытались оградить от нападок прессы. Но это ничего не меняет по сути. Остался бы жив — продолжал бы доносить на своих. Чем кончил бы — неизвестно.
Раньше, рассказывая о последних минутах жизни Мандельштама, приводили рассказ В. Шаламова «Шерри-бренди», в котором писатель на основе своего лагерного опыта художественно домысливал смерть поэта. Много было легенд, мифов. Говорили, что якобы Мандельштам читал стихи уголовникам, и те за это бросали ему огрызки еды. Даже был приписан куплет к знаменитой «Песне о Сталине» на стихи Юза Алешковского:
Для Вас открыт в Москве музей подарков,
сам Исаковский пишет песни Вам.
А нам читает у костра Петрарку
фартовый парень Ося Мандельштам.
Теперь, наконец, появилась возможность рассказать, как это было на самом деле.
Спустя полвека объявился нечаянный свидетель последних дней поэта — Юрий Илларионович Моисеенко.

После 12 лет лагерей он так был напуган пережитым, что никогда и нигде, даже в семье, не говорил об этом. Но вот прочёл в газетах о 100-летнем юбилее Мандельштама, и всплыл в его памяти блаженный жалкий старик, который «жил внутри себя» и которого называли «поэт». Не сразу, но всё же решился написать Моисеенко в «Известия». Так появилась там в 1993 году статья Э. Поляновского «Смерть Осипа Мандельштама», благодаря которой мы всё теперь знаем.
Моисеенко был соседом Мандельштама по нарам. Вот что он вспоминал о его смерти:
«Был сыпной тиф, нас заедали вши. Больных уводили, и больше мы их не видели. За несколько дней до Нового года нас утром повели в баню, на санобработку. Но воды там не было никакой. Велели раздеваться и сдавать одежду в жар-камеру. А затем перевели в другую половину помещения в одевалку, где было ещё холоднее. Пахло серой, дымом. В это время и упали, потеряв сознание, двое мужчин, совсем голые. К ним подбежали держиморды-бытовики. Вынули из кармана куски фанеры, шпагат, надели каждому из мертвецов бирки и на них написали фамилии: "Мандельштам Осип Эмильевич, ст. 58, срок 10 лет..."

Последним, кто видел поэта, - был ленинградец Дмитрий Михайлович Маторин.
- Прежде чем за носилки взяться, я у напарника спросил: "А кого несем-то?" Он приоткрыл, и я узнал - Мандельштам!.. Руки были вытянуты вдоль тела, и я их поправил, сложил по-христиански. И вот руки мягкие оказались, теплые и очень легко сложились. Я напарнику сказал еще: "Живой вроде..." Несли мы его к моргу, в зону уголовников. Там нас уже ждали два уркача, здоровые, веселые. У одного что-то было в руках, плоскогубцы или клещи, не помню. Они вырывали у мертвецов золотые коронки».

Эта смерть потрясла всех. На неё откликнулись многие поэты. Борис Чичибабин, сам 20 лет просидевший в сталинских лагерях, писал:
Жизнь — кому сито, кому — решето,
всех не помилуешь.
В осыпь всеобщую вас-то за что,
Осип Эмильевич?
Михаил Дудин:
Он был рождён не для тюрьмы,
а умер около параши,
там, на краю полярной тьмы,
где даже страх уже не страшен.
В тюрьме холодной, как сугроб,
душа от тела отлетела.
И вши к нему на гордый лоб
сползли с измученного тела.
Изгой и пасынок судьбы
унёс с собой свои печали.
И телеграфные столбы
об этой смерти промолчали.
Он был высокой правде рад
и прожил жизнь свою поэтом.
И перед жизнью виноват
был только в этом, только в этом.
«Народу нужен стих таинственно-родной»
Из воспоминаний Моисеенко мы узнали об Иване Никитиче Ковалёве, благовещенском пчеловоде, добром, смиренном, малограмотном человеке, который не прочёл ни одной строчки своего соседа по нарам, но, как верная русская няня, до последнего дня кормил больного поэта с рук. Мы узнали о приморском краеведе, историке Валерии Маркове, который нашёл могилу Мандельштама, вернее, место, где она была. А потом прошёл все склоны Второй речки, отмерил расстояние от бывшего пересыльного лагеря (там сейчас флотская часть) до каменного карьера, где заключённые сами копали могилы.

До весны поэт вместе с другими усопшими лежал непогребённый. Затем был похоронен в братской могиле. Сейчас на этом месте пролегает улица Вострецова, здесь разбит бульвар, построены жилые дома. Могилы Мандельштама нет, как нет могил Леонардо да Винчи, Моцарта. Вспоминаются его строки:
Не мучнистой бабочкою белой
в землю я заёмный прах верну.
Я хочу, чтоб мыслящее тело
превратилось в улицу, страну.
В управлении культуры Воронежа в этом году в очередной раз рассматривался вопрос «о переименовании одной из улиц города в честь поэта О. Мандельштама». (Ещё в начале перестройки, помню, кто-то из их руководства выступал по ТВ, клятвенно обещая это сделать). Прошло почти четверть века, и вот - новое заседание и очередная резолюция: «После бурного обсуждения было принято решение: «С учетом мнения жителей... вопрос о присвоении одной из улиц Воронежа имени О. Э. Мандельштама отложить. Комиссия по культурному наследию намерена вернуться к рассмотрению этого вопроса...» А воз и ныне там... А вот улица имени П. Павленко, писавшего на поэта донос, в Москве есть. Кстати, та, на которой сейчас находится музей Пастернака.
Когда-то Мандельштам писал:
Народу нужен стих таинственно-родной,
Чтоб от него он вечно просыпался
И льнянокудрою, каштановой волной —
Его звучаньем — умывался.
Именно такими, «таинственно-родными» стали для нас стихи Осипа Мандельштама. Как ни уверяли народ, что такие стихи ему «не треба», народ, - вернее, лучшая его часть, со временем разобрался, что к чему. Ахматова в дневнике писала: «И дети не оказались запроданными рябому чёрту, как их отцы. Оказалось, что нельзя запродать на три поколения вперёд. И вот настало время, когда эти дети пришли, нашли стихи О. Мандельштама и сказали: «Это наш поэт».

Памятник О.Мандельштаму в Воронеже
Полностью мою лекцию об Осипе Мандельштаме можно послушать здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=3a1h1Sua_5s&list=PLrgDSzTXDpvMzteeGKd0XzKXMrpqS2X-f&index=2&t=0s
|
|
Процитировано 7 раз
Понравилось: 4 пользователям
"Играй же на разрыв аорты..." |

«Я рождён в ночь с второго на третье»
Нам союзно лишь то, что избыточно,
Впереди не провал, а промер,
И бороться за воздух прожиточный —
Эта слава другим не в пример.
И сознанье свое затоваривая
Полуобморочным бытием,
Я ль без выбора пью это варево,
Свою голову ем под огнем?
Слышишь, мачеха звездного табора,
Ночь, что будет сейчас и потом?
Наливаются кровью аорты,
И звучит по рядам шепотком:
— Я рожден в девяносто четвертом,
Я рожден в девяносто втором... —
И, в кулак зажимая истертый
Год рожденья — с гурьбой и гуртом
Я шепчу обескровленным ртом:
— Я рожден в ночь с второго на третье
Января в девяносто одном
Ненадежном году — и столетья
Окружают меня огнем.

Он родился в ночь со 2-го на 3-е (14 на 15) января 1891 года в Варшаве.

Предки были выходцами из Испании. Немецко-еврейская фамилия Мандельштам переводится с идиш как «ствол миндаля».
Позже семья Мандельштамов переберётся в Петербург. Будущего поэта родители определили в коммерческое училище. Но к этой стезе душа его не лежала. Тогда из него решили сделать раввина и послали в Берлин в высшую Талмудическую школу. Но вместо Талмуда Осип читал Шиллера и философов 18 века. Ни коммерсанта, ни раввина из Мандельштама, к счастью для нас, не получилось. Получился Поэт.

«Почему это не я написал?»
Стихи Мандельштам начал писать с 16-ти лет. Наиболее часто повторяющиеся мотивы его первых стихов 1909-10-х годов — это мотивы робости, хрупкости, тишины. Вслед за Верленом и Анненским он стремился писать «о милом и ничтожном».

Сусальным золотом горят
В лесах рождественские елки;
В кустах игрушечные волки
Глазами страшными глядят.
О, вещая моя печаль,
О, тихая моя свобода
И неживого небосвода
Всегда смеющийся хрусталь!
***
Как кони медленно ступают,
Как мало в фонарях огня!
Чужие люди, верно, знают,
Куда везут они меня.
А я вверяюсь их заботе,
Мне холодно, я спать хочу;
Подбросило на повороте,
Навстречу звездному лучу.
Горячей головы качанье,
И нежный лед руки чужой,
И темных елей очертанья,
Еще невиданные мной.
* * *
Только детские книги читать,
Только детские думы лелеять,
Все большое далеко развеять,
Из глубокой печали восстать.
Я от жизни смертельно устал,
Ничего от нее не приемлю,
Но люблю мою бедную землю
Оттого, что иной не видал.
Я качался в далеком саду
На простой деревянной качели,
И высокие темные ели
Вспоминаю в туманном бреду.
Поэт осваивается в мире осторожно, наощупь. Вместе с тем он декларирует собственную уникальность как человека и поэта. Развивая андерсеновский образ прекрасной вечности, отогреваемой теплом человеческого дыхания, Мандельштам писал:
Дано мне тело - что мне делать с ним,
Таким единым и таким моим?
За радость тихую дышать и жить
Кого, скажите, мне благодарить?
Я и садовник, я же и цветок,
В темнице мира я не одинок.
На стекла вечности уже легло
Мое дыхание, мое тепло.
Запечатлеется на нем узор,
Неузнаваемый с недавних пор.
Пускай мгновения стекает муть -
Узора милого не зачеркнуть.

Об этом стихотворении восторженно отзывался в мемуарах отнюдь не склонный к излишней сентиментальности Георгий Иванов:

«Я прочёл это и ещё несколько таких же «качающихся», туманных стихотворений, подписанных незнакомым именем, и почувствовал толчок в сердце: «Почему это не я написал?» Стихи Мандельштама, которые так поразили Г. Иванова, вошли в дебютную подборку поэта, напечатанную в журнале «Аполлон» за 1910 год. Вот некоторые из них:
Ни о чем не нужно говорить,
Ничему не следует учить,
И печальна так и хороша
Темная звериная душа:
Ничему не хочет научить,
Не умеет вовсе говорить
И плывет дельфином молодым
По седым пучинам мировым.

Из омута злого и вязкого
Я вырос, тростинкой шурша,-
И страстно, и томно, и ласково
Запретною жизнью дыша.
И никну, никем не замеченный,
В холодный и топкий приют,
Приветственным шелестом встреченный
Коротких осенних минут.
Я счастлив жестокой обидою,
И в жизни, похожей на сон,
Я каждому тайно завидую
И в каждого тайно влюблен.

...Я так же беден, как природа,
И так же прост, как небеса,
И призрачна моя свобода,
Как птиц полночных голоса.
Я вижу месяц бездыханный
И небо мертвенней холста;
Твой мир, болезненный и странный,
Я принимаю, пустота!

Невыразимая печаль
Открыла два огромных глаза,
Цветочная проснулась ваза
И выплеснула свой хрусталь.
Вся комната напоена
Истомой - сладкое лекарство!
Такое маленькое царство
Так много поглотило сна.
Немного красного вина,
Немного солнечного мая -
И, тоненький бисквит ломая,
Тончайших пальцев белизна.
И, конечно, знаменитое гениальное «Silentium», где даётся образ «первоначальной немоты», нерождённой чистой ноты, хранящей докосмическое единство бытия. Поражает способность проникнуть в толщу времён, в праисторию, ухватить неуловимый миг начала начал:
Она еще не родилась,
Она и музыка и слово,
И потому всего живого
Ненарушаемая связь.
Спокойно дышат моря груди,
Но, как безумный, светел день,
И пены бледная сирень
В мутно-лазоревом сосуде.
Да обретут мои уста
Первоначальную немоту,
Как кристаллическую ноту,
Что от рождения чиста!
Останься пеной, Афродита,
И слово, в музыку вернись,
И сердце сердца устыдись,
С первоосновой жизни слито!

«Не говорите мне о вечности...»
Каждый большой поэт не похож на других поэтов, единственен, особенн и неповторим, но когда речь идёт о Мандельштаме, хочется в нарушение всякой логики сказать, что он ещё более неповторим и особенн, чем все другие русские поэты, что он единственнее и неповторимее всех остальных. Его стихи воспринимаются как что-то изначальное, как само естество, голос природы. Ахматова писала:
«У Мандельштама нет учителя. Я не знаю в мировой поэзии подобного факта. Мы знаем истоки Пушкина и Блока, но кто укажет, откуда донеслась до нас эта новая божественная гармония, которую называют стихами Осипа Мандельштама!»
Воздух пасмурный влажен и гулок,
Хорошо и не страшно в лесу.
Легкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу...

Ещё цитата Ахматовой — из её рассказа Г. Адамовичу: «Сидит человек 10-12, читают вслух, то хорошо, то заурядно, внимание рассеивается, слушаешь по обязанности, и вдруг будто какой-то лебедь взлетает над всеми — читает Осип Эмильевич!»

Это волшебство не всегда разгадывается, но оно обладает гипнотическими свойствами. Слова у Мандельштама часто не совпадают с их прямым смыслом, а как бы «намагничены» изнутри:

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины:
Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный,
Что над Элладою когда-то поднялся...
И море, и Гомер - всё движется любовью.
Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит,
И море черное, витийствуя, шумит
И с тяжким грохотом подходит к изголовью.

Такой музыки не было ни у кого едва ли не со времён Тютчева, и что ни вспомнишь — всё рядом кажется жидковатым.

В 1908 году Мандельштам отправляется за границу: во Францию, Италию, Германию. Он слушает там лекции в Сорбонне и Гейдельбергском университете, изучает старославянский язык. Западная культура стала неотъемлемой частью его души.

Но чем внимательней, твердыня Нотр-Дам,
я изучал твои чудовищные рёбра, -
тем чаще думал я: из тяжести недоброй
и я когда-нибудь прекрасное создам.

Вернувшись в Россию в 1911 году, Мандельштам продолжает учёбу в Петербургском университете на историко-филологическом факультете. Он посещает вечера поэтов, знакомится с Гумилёвым, Ахматовой и примыкает к новому направлению в поэзии — акмеизму.

Акмеисты в противовес символистам утверждали реальные жизненные ценности, изображая жизнь с конкретными бытовыми подробностями, в реальном времени и пространстве, а не в вечности, как это было у их предшественников. Мандельштам выразил кредо акмеистов в таких стихах:
Нет, не луна, а светлый циферблат
Сияет мне, и чем я виноват,
Что слабых звезд я осязаю млечность?
И Батюшкова мне противна спесь:
"Который час?" - его спросили здесь,
А он ответил любопытным: "Вечность".

Абстрактной холодной вечности Мандельштам противопоставляет могущество и тепло вещного мира:
Не говорите мне о вечности -
Я не могу ее вместить.
Но как же вечность не простить
Моей любви, моей беспечности?
Я слышу, как она растет
И полуночным валом катится.
Но - слишком дорого поплатится,
Кто слишком близко подойдет.
И, тихим отголоскам шума я
Издалека бываю рад, -
Ее пенящихся громад, -
О милом и ничтожном думая.
Акмеисты — Анненский, Ахматова, Гумилёв, Кузмин, Мандельштам, - можно сказать, совершили революцию в поэзии. Они внесли в неё струю жизни, правды, вернули слову его предметное значение, вернули поэзии красочность, объёмность мира, его живое тепло.
Испуганный орёл

Мандельштам на рисунке П. Митурича. Очень точно схвачена характерная поза: гордо выпяченная грудь, вздёрнутая голова, надменность и беззащитность всего его облика. Этот рисунок может служить иллюстрацией к стихотворению А. Тарковского «Поэт»:
Говорили, что в обличье
У поэта нечто птичье
И египетское есть;
Было нищее величье
И задерганная честь.
Гнутым словом забавлялся,
Птичьим клювом улыбался,
Встречных с лету брал в зажим,
Одиночества боялся
И стихи читал чужим.

Шарж на О. Мандельштама, читающего стихи
О внешности Мандельштама писали как о комичной, «карикатуре на поэта»: маленький, щуплый, с петушиным хохолком на затылке, с оттопыренными ушами, нелепой походкой.

Но за внешней невзрачностью просвечивала очаровательность, необыкновенное обаяние, которое было подмечено и Ахматовой, и Цветаевой. А вот какой «автопортрет» оставил нам сам поэт:
В поднятье головы крылатый
Намек - но мешковат сюртук;
В закрытье глаз, в покое рук -
Тайник движенья непочатый.
Так вот кому летать и петь
И слова пламенная ковкость, -
Чтоб прирожденную неловкость
Врожденным ритмом одолеть!

В жизни он был беззащитен, непрактичен, наивен. Доверчивый, беспомощный, как ребёнок, лишённый всяких признаков здравого смысла, фантазёр и чудак, бедный, вечно полуголодный, он не жил, а ежедневно погибал. С. Маковский писал о Мандельштаме: «Вообще всё сложилось для него неудачно. И наружность непривлекательная, и здоровье слабое. Весь какой-то вызывающий насмешки, неприспособленный и обойдённый на жизненном пиру. Однако его творчество не отражало ни этой убогости, ни преследовавших его житейских катастроф. В жизни чаще всего вспоминается мне Мандельштам смеющийся. Смешлив был чрезвычайно — рассказывает о какой-нибудь своей неудаче и задыхается от неудержимого хохота. Смеялся и просто так - «от иррационального комизма, переполняющего мир».
Авторы почти всех воспоминаний о Мандельштаме отмечают, что это был человек неистребимой весёлости: шутки, остроты, эпиграммы от него можно было ожидать в любую минуту, вне всякой зависимости от тягот внешних обстоятельств. Он был язычески жизнерадостным человеком. Не искал счастья — для него не существовало таких категорий, но всё ценное в жизни называл весельем, игрой. «Слово — чистое веселье, исцеленье от тоски». Надежда Мандельштам вспоминала:

«В нём было нечто, чего я не замечала ни в ком, и пора сказать, что не легкомыслие отличало его от приличных людей вроде Фадеева и Федина, а бесконечная радость. Она совершенно бескорыстна, эта радость, она не нуждается ни в чём, потому что всегда была с ним. Все к чему-то стремились, а он — ни к чему. Он жил и радовался».

О. Мандельштам на рисунке В. Милашевского из собрания Воронежского худ. Музея.
Не очень похож, но жизнелюбивая суть схвачена верно. Недаром его любимым героем был Чарли Чаплин — маленький комичный человечек с трагичным мироощущением, старающийся скрыть его за внешним легкомыслием и весёлостью, чтобы не было так страшно жить.
За Мандельштамом закрепилась репутация ходячего анекдота. С ним постоянно случались всякие казусы, злоключения. Его то и дело арестовывали — он всем казался подозрительным, не вписываясь в привычную систему координат. В 1919 году, когда он был в Крыму, его арестовали врангелевцы, приняв за агента большевиков. Мандельштама посадили в одиночку, где он колотил в дверь и кричал: «Выпустите меня! Я не создан для тюрьмы!» Эти слова в контрразведке звучали настолько фантастически, что его приняли за сумасшедшего.
Только с помощью М. Волошина выбрался он из Крыма — как его вновь арестовывают, на этот раз меньшевики, приняв за двойного агента Врангеля и большевиков. Освободили грузинские поэты, засвидетельствовав его непричастность к миру политики. И Мандельштам, совершенно ошалевший от этих арестов, говорил: "Теперь я и сам не понимаю, кто я — белый или красный, или ещё какого цвета. А я вообще никакого цвета, я поэт, пишу стихи, и больше всех цветов меня занимают Тибул, Катулл и Римский декаданс".

Прорицательная сила гения проявилась у Мандельштама ещё в ранней молодости. Я имею в виду его стихотворение об испуганном орле, где он с огромной интуитивной силой постиг свою сущность и грядущую судьбу:
В самом себе, как змей, таясь,
Вокруг себя, как плющ, виясь,
Я подымаюсь над собою, -
Себя хочу, к себе лечу,
Крылами темными плещу,
Расширенными над водою;
И, как испуганный орел,
Вернувшись, больше не нашел
Гнезда, сорвавшегося в бездну, -
Омоюсь молнии огнем
И, заклиная тяжкий гром,
В холодном облаке исчезну.
«Откуда такая нежность?»
В конце января 1916 года Осип Мандельштам приезжает в Москву, где происходит его встреча с Цветаевой. Марина дарит ему Москву. 5-го февраля он уезжает. Она пишет стихи ему вслед:
Никто ничего не отнял!
Мне сладостно, что мы врозь.
Целую Вас — через сотни
Разъединяющих вёрст.
Я знаю, наш дар — неравен,
Мой голос впервые — тих.
Что Вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!
На страшный полёт крещу Вас:
Лети, молодой орёл!
Ты солнце стерпел, не щурясь,
Юный ли взгляд мой тяжёл?
Нежней и бесповоротней
Никто не глядел Вам вслед…
Целую Вас — через сотни
Разъединяющих лет.

Мандельштам пишет стихотворение «В разноголосице девического хора...», обращённое к Цветаевой, где подаренная ему Москва сливается в его сознании с дарительницей:
В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.
... И пятиглавные московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне - явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

К ней же обращено и его стихотворение «Не веря воскресенья чуду, на кладбище гуляли мы...» Строгие, изящные, «воспитанные» строфы Мандельштама, по-видимому, в глазах Марины не очень гармонировали с их творцом, с его человеческой сущностью. Капризный, инфантильный нрав и облик нежного, красивого, заносчивого юноши, - таким запечатлён Мандельштам в цветаевских стихах:
Ты запрокидываешь голову —
Затем, что ты гордец и враль.
Какого спутника веселого
Привел мне нынешний февраль!
Мальчишескую боль высвистывай
И сердце зажимай в горсти…
— Мой хладнокровный, мой неистовый
Вольноотпущенник — прости!

«Вольноотпущенник» - ибо она не берёт его — отпускает.
Откуда такая нежность,
и что с нею делать — отрок
лукавый, певец захожий,
с ресницами — нет длинней!
Откуда такая нежность?
Не первые — эти кудри
разглаживаю, и губы
знавала темней твоих...
Рядом с такой нежностью — нет места ревности.
Чьи руки бережные трогали
Твои ресницы, красота,
Когда, и как, и кем, и много ли
Целованы твои уста —
Не спрашиваю. Дух мой алчущий
Переборол сию мечту.
В тебе божественного мальчика, —
Десятилетнего я чту.

Идёт весна 1916 года с наездами и отъездами Мандельштама в Москву, общение поэтов продолжается. Цветаева ворожит своему петербургскому собрату и предрекает его трагический конец:
Ах, запрокинута твоя голова,
полузакрыты глаза — что? - пряча.
Ах, запрокинется твоя голова
иначе.

И в другом: «На страшный полёт крещу Вас: лети, молодой орёл!» В стихах — неосознанная тревога Цветаевой о будущем её нового друга. Она ещё не знает, что стихи сбываются — это знание впереди. В стихах Мандельштаму она предсказала все его беды. Она не видит путей спасения:
Не спасёт ни песен небесный дар,
ни надменнейший вырез губ.

Теперь, когда мы знаем, что случится с Мандельштамом в мае 1938-го — пророчество Цветаевой в 1916-м вызывает священный трепет, почти ужас:
Голыми руками возьмут — ретив! упрям!
Криком твоим всю ночь будет край звонок!
Растреплют крылья твои по всем четырем ветрам!
Серафим!— Орленок!

31 марта датировано ещё одно стихотворение Цветаевой — Мандельштаму:
Из рук моих — нерукотворный град
Прими, мой странный, мой прекрасный брат.
По церковке — всё сорок сороков,
И реющих над ними голубков;
И на тебя с багряных облаков
Уронит Богородица покров,
И встанешь ты, исполнен дивных сил…
Ты не раскаешься, что ты меня любил.
Чувство Цветаевой крепнет. Нежность к «десятилетнему мальчику», которого она видела поначалу в Мандельштаме, сменяет женская страсть:
Такое со мной сталось,
Что гром прогромыхал зимой,
Что зверь ощутил жалость
И что заговорил немой.
Греми, громкое сердце!
Жарко целуй, любовь!
Ох, этот рев зверский!
Дерзкая -- ох -- кровь!
Мой рот разгарчив,
Даром, что свят — вид...

И тем не менее, одновременно с любовным буйством, это стихи отказа от него, разрыва:
Ты озорство прикончи,
Да засвети свечу,
Чтобы с тобой нонче
Не было - как хочу...
Был ли между ними роман в настоящем смысле слова? Да, был, и для Мандельштама эти отношения значили больше, чем для Цветаевой. «Божественный мальчик» и «прекрасный брат» в Мандельштаме были для неё важнее возлюбленного. Для него же всё было иначе. У него не было такого опыта в любви, и встреча с Цветаевой ему многое дала.
Надежда Мандельштам писала, что именно Цветаева научила Мандельштама любить: «Дикая и яркая Марина расковала в нём жизнелюбие и способность к спонтанной и необузданной любви». И не только к любви, но и к стихам о любви. С «цветаевских» стихов ведёт начало любовная лирика Мандельштама. И, как Цветаева "мандельштамовскими" стихами начала новый этап своей лирики в книге "Вёрсты" , так и Мандельштам по стихам, обращённым к Марине, перешёл в новый этап своего творчества, открыв ими «Тристии».


«И сам себя несу я, как жертва палачу...»
В 1916 году Мандельштам успевает пережить ещё одну - тайную и безнадёжную - влюблённость - в знаменитую петербургскую красавицу, грузинскую княжну Саломею Андроникашвили.

Портрет Саломеи работы С.Чехонина. 1916 год.
Ахматова потом скажет: «Саломею Осип обессмертил в книге «Тристиа». Мандельштам посвятил ей несколько стихотворений, в том числе прославленную «Соломинку»:
Когда, соломинка, не спишь в огромной спальне
И ждешь, бессонная, чтоб, важен и высок,
Спокойной тяжестью - что может быть печальней -
На веки чуткие спустился потолок,
Соломка звонкая, соломинка сухая,
Всю смерть ты выпила и сделалась нежней,
Сломалась милая соломка неживая,
Не Саломея, нет, соломинка скорей.
В часы бессонницы предметы тяжелее,
Как будто меньше их - такая тишина -
Мерцают в зеркале подушки, чуть белея,
И в круглом омуте кровать отражена.
Нет, не соломинка в торжественном атласе,
В огромной комнате над черною Невой,
Двенадцать месяцев поют о смертном часе,
Струится в воздухе лед бледно-голубой.
Декабрь торжественный струит свое дыханье,
Как будто в комнате тяжелая Нева.
Нет, не Соломинка, Лигейя, умиранье -
Я научился вам, блаженные слова.

Стихи Мандельштама — порождение сокровеннейших глубин его существа, не подвластных логике, порождение гармонии, не подлежащей поверке алгеброй. Слова звучат как заклинания, их магия неотразима:
Я научился вам, блаженные слова,
Ленор, Соломинка, Лигейя, Серафита...
В огромной комнате тяжелая Нева,
И голубая кровь струится из гранита.
Декабрь торжественный сияет над Невой.
Двенадцать месяцев поют о смертном часе.
Нет, не соломинка в торжественном атласе
Вкушает медленный, томительный покой.
В моей крови живет декабрьская Лигейя,
Чья в саркофаге спит блаженная любовь,
А та, соломинка, быть может, Саломея,
Убита жалостью и не вернется вновь.
В 1920 году Мандельштам увлекается актрисой Александринского театра Ольгой Арбениной, у которой в это время был роман с Н. Гумилёвым. Это увлечение было заранее обречено на неудачу и доставило поэту много страданий. Но зато обогатило русскую поэзию двумя прекрасными стихотворениями: «Мне жалко, что теперь зима...» и «Я наравне с другими...»
В тебе все дразнит, все поет,
Как итальянская рулада.
И маленький вишневый рот
Сухого просит винограда.
Так не старайся быть умней,
В тебе все прихоть, все минута.
И тень от шапочки твоей —
Венецианская баута.

Я наравне с другими
Хочу тебе служить,
От ревности сухими
Губами ворожить.
Не утоляет слово
Мне пересохших уст,
И без тебя мне снова
Дремучий воздух пуст.
Я больше не ревную,
Но я тебя хочу,
И сам себя несу я,
Как жертву палачу.
Тебя не назову я
Ни радость, ни любовь.
На дикую, чужую
Мне подменили кровь.
Еще одно мгновенье,
И я скажу тебе,
Не радость, а мученье
Я нахожу в тебе.
И, словно преступленье,
Меня к тебе влечет
Искусанный в смятеньи
Вишневый нежный рот.
Вернись ко мне скорее,
Мне страшно без тебя,
Я никогда сильнее
Не чувствовал тебя,
И все, чего хочу я,
Я вижу наяву.
Я больше не ревную,
Но я тебя зову.

Эти стихи были предметом насмешек литературных коллег Мандельштама, в особенности строки «И сам себя несу я как жертва палачу». Мандельштама спрашивали: «Чем же легкомысленная и нежная девушка походит на палача?» Он возражал, что девушка тут не при чём. Дело не в ней, а в любви. Ибо любовь всегда трагична, всегда требует жертв. Он воспринимал её как Платон, который говорил, что любовь — это одна из трёх гибельных страстей, что боги посылают людям в наказание: «любовь — это дыба, на которой хрустят кости, омут, в котором тонешь, костёр, на котором горишь». «А иначе, - говорил Мандельштам, - это не любовь, а просто гадость. И даже свинство».
Замечательные стихи Мандельштама, может быть, лучшие в его любовной лирике, обращены к Ольге Ваксель.

Трагической истории их отношений было посвящено моё эссе «Я тяжкую память твою берегу...», прочитать которое можно здесь: http://nmkravchenko.livejournal.com/45370.html
"Дело в чарах»
Самой большой страстью Мандельштама после поэзии была музыка. Где бы он ни находился, он мчался на концерт за сотни километров, в другой город. Из воспоминаний Артура Лурье:

«Мандельштам страстно любил музыку. Но никогда об этом не говорил. У него было к музыке какое-то целомудренное отношение, глубоко им скрываемое. Иногда он приходил ко мне поздно вечером, и по тому, что он быстрее обычного бегал по комнате, ероша волосы и улыбаясь, я догадывался, что с ним произошло что-нибудь «музыкальное». На мои распросы он сперва не отвечал, но под конец признался, что был в концерте. Потом неожиданно появились его стихи, насыщенные музыкальным вдохновением».

За Паганини длиннопалым
Бегут цыганскою гурьбой -
Кто с чохом чех, кто с польским балом,
А кто с венгерской немчурой.
Девчонка, выскочка, гордячка,
Чей звук широк, как Енисей,-
Утешь меня игрой своей:
На голове твоей, полячка,
Марины Мнишек холм кудрей,
Смычок твой мнителен, скрипачка.
Утешь меня Шопеном чалым,
Серьезным Брамсом, нет, постой:
Парижем мощно-одичалым,
Мучным и потным карнавалом
Иль брагой Вены молодой -
Вертлявой, в дирижерских фрачках.
В дунайских фейерверках, скачках
И вальс из гроба в колыбель
Переливающей, как хмель.
Играй же на разрыв аорты
С кошачьей головой во рту,
Три чорта было - ты четвертый,
Последний чудный чорт в цвету.

Послушайте это стихотворение в блистательном исполнении Константина Райкина: http://www.youtube.com/watch?v=e8uFp7Jylpk
Стихи Мандельштама были высоко оценены Блоком, который писал в дневнике: «Гвоздь вечера — Мандельштам. Его стихи возникают из снов — очень своеобразных, лежащих в областях искусства только». В стихах Мандельштама обилие всякого рода неправильностей, сбоя ритма, косноязычия, неточных рифм или их отсутствия, композиция — тоже самая произвольная, стих начинается бог знает откуда и бог знает где заканчивается. Но никому из современников Мандельштама не удавалось достичь такой раскованности, такой шопеновской непринуждённости разговора.
Еще далеко мне до патриарxа,
Еще на мне полупочтенный возраст,
Еще меня ругают за глаза
На языке трамвайныx перебранок,
В котором нет ни смысла, ни аза:
"Такой-сякой". Ну что ж, я извиняюсь,
Но в глубине ничуть не изменяюсь.
Когда подумаешь, чем связан с миром,
То сам себе не веришь: ерунда!
Полночный ключик от чужой квартиры,
Да гривенник серебряный в кармане,
Да целлулоид фильмы воровской.
Я, как щенок, кидаюсь к телефону
На каждый истерический звонок:
В нем слышно польское: "Дзенькуе, пани".
Иногородний ласковый упрек
Иль неисполненное обещанье...
Я слушаю сонаты в переулкаx,
У всеx лотков облизываю губы,
Листаю книги в глыбкиx подворотняx,
И не живу, и все-таки живу...
И до чего xочу я разыграться,
Разговориться, выговорить правду,
Послать xадру к туману, к бесу, к ляду,
Взять за руку кого-нибудь: "Будь ласков,-
Сказать ему,- нам по пути с тобой..."
Трудно себе представить, что и у этого стиха был черновик, кажется, что каждое слово так и родилось в своей строчке, по счастливой случайности, как в сорочке. Пастернак говорил Мандельштаму: «Я завидую Вашей свободе. Для меня Вы новый Хлебников».
Мандельштам всегда мыслил вспышками, обрывками, ассоциациями, и в его размышлениях недомолвки и умолчания бывают не менее красноречивы, чем формулировки. Поэзия — это не те стихи, что нас чему-то учат или что-то рассказывают, а которые смутно и сладостно нам что-то напоминают, на что отзывается наша душа. Стихи божьей милостью. Звуки небес. Цветаева признавалась: «Почему люблю Мандельштама с его путаной, слабой, хаотической мыслью, порой бессмыслицей и неизменной магией каждой строчки? Дело не в классицизме, дело в чарах...»
В его стихах — та тёмная подсознательная иррациональная стихия, которая таилась в нём, как расплавленная лава, вырвавшись на свободу, взрывая течение строф и придавая им хаотически дикую, но мощную выразительность и взволнованность:

Мы только с голоса поймем,
Что там царапалось, боролось,
И черствый грифель поведем
Туда, куда укажет голос;
Ломаю ночь, горящий мел,
Для твердой записи мгновенной.
Меняю шум на пенье стрел,
Меняю строй на стрепет гневный...
Это строки из «Грифельной оды», написанной Мандельштамом под влиянием Державинской «Реки времён...», нацарапанной на грифельной доске.
Продолжение : http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post200319923/
|
|
Процитировано 5 раз
Понравилось: 3 пользователям
"Я один... и разбитое зеркало" (окончание) |
Начало здесь
Убийство или самоубийство?

В прошлом году я подготовила и провела в библиотеке два вечера о жизни и творчестве Сергея Есенина. Второй вечер был целиком посвящен опровержениям всех этих лживых версий, которые заполонили экраны, книжные прилавки и мозги неискушённых доверчивых читателей и зрителей. А уж сколько заезжих лекторов-гастролёров спекулируют на этой теме, потрафляя алчущим крови жидо-масонов русолюбам и русохвалам! Даже в нашей филармонии какая-то местная дама отметилась, читая лекцию об убийстве Есенина инородцами, – жаль, не удалось мне узнать её фамилию.
Да что говорить о прошлом, вот только сегодня натолкнулась в Сети на свеженькое мракобесие.
Литературно-художественный альманах «Священная Хоругвь» (электронная версия печатного издания Союза Православных Хоругвеносцев "СВЯЩЕННАЯ ХОРУГВЬ") изрыгает следующее: «Но по нашим данным всё происходило совсем не так. Убийство очень долго готовилось. Ненависть к поэту всех евреев и объевреенной части русской эзотерической богемы, как белой так и красной, была невероятной. Очень же любил, страшно и до самозабвения Есенина самый простой русский Народ, ибо чувствовал в нём а б с о л ю т н о с в о е г о , но могущего выразить нашу русскую коллективную душу!.. Но тайные братья не дремали. Они плели и плели сеть. Убийство тёмной ночью в Петербурге готовилось очень долго и тщательно на самом высшем уровне…»
Этому, с позволения сказать, изданию вторит журнал «Задворки» устами Ольги Булгаковой в статье с недвусмысленным названием: «САМОУБИЙСТВО НЕВОЗМОЖНО УБИЙСТВО». Объявляя ничтоже сумняшеся «несостоятельной» «официальную версию самоубийства Сергея Есенина», авторша, выдавая «задворки» своего сумеречного сознания за свет истины, пишет: «Но сомнения в самоубийстве Сергея Александровича, несанкционированно прокравшись из пятого номера «Англетера» раньше, чем оттуда вынесли его тело, пошли бродить между людьми и выросли в твердую уверенность: Сергея Есенина убили».
Считаю своим долгом поделиться теми фактами и истинами, которые открылись мне в итоге кропотливого исследования всех материалов и документов, связанных со смертью поэта. А главный документ – сами стихи, на которые почему-то никогда не обращают внимания доморощенные «обвинители». Стихи Сергея Есенина – это не только литературные, но и житейские человеческие документы.
Все его последние стихи («стихи мои, спокойно расскажите про жизнь мою») стояли как бы траурными шеренгами, среди которых он неуклонно продвигался к трагической развязке. Поэт предсказывал конец свой в каждой своей теме, кричал об этом в каждой строчке.

Надежда Вольпин говорила ещё в 1920 году, что ей всегда страшно за Есенина. «Такое чувство, точно он идёт с закрытыми глазами по канату. Окликнешь – сорвётся». Однажды – осенью 20-го – он заговорил с ней в первый раз о неодолимой, безысходной тоске. О том, что у римлян называлось «томление жизнью».
– А у Вас так бывает? Пусто внутри? и вроде как жить наскучило?
– Нет, мне это незнакомо, – ответит она.
Одной из главных причин самоубийства Есенина Галина Бениславская называла болезнь. «Такое состояние, – жаловался он ей, – когда временами мутнеет в голове и всё кажется конченным и беспросветным». Короче об этом состоянии можно сказать: смертная тоска. Это был комплекс болезней: унаследованная от деда (по матери) эпилепсия, припадки которой у Есенина начались в Америке, плюс хронический алкоголизм и порождённая им белая горячка. В известной доле стихи последнего периода жизни Есенина являются уже материалом для психиатра и клиники.

Такова в особенности его поэма о чёрном человеке. «Чёрный человек» дает ясную картину алкогольного психоза,которым страдал поэт. "Это типичный алкогольный бред со зрительными и слуховыми галлюцинациями, с тяжёлыми состояниями страха и тоски, с мучительной бессонницей, с тяжёлыми угрызениями совести и влечением к самоубийству», – писал психиатр Галант.
Это не значит, что Есенин писал её в состоянии белой горячки, он всегда писал стихи трезвым, и написана она мастерски, это самая сильная, самая исповедальная, может быть, лучшая поэма Есенина. Но симптомы белой горячки здесь переданы с медицинской точностью: бред, галлюцинации, бессонницы, тяжёлое состояние депрессии с чувством вины, беспросветной тоски, манией преследования.
Содержание поэмы – крах жизни. В ней отражен душевный разлад поэта, его страх перед тёмными сторонами собственной души. Ощущение страшного одиночества рождает желание обратиться к неведомому другу, который, увы, не придёт и не протянет руку помощи.
Друг мой, друг мой,
Я очень и очень болен.
Сам не знаю, откуда взялась эта боль.
То ли ветер свистит
Над пустым и безлюдным полем,
То ль, как рощу в сентябрь,
Осыпает мозги алкоголь.
Прескверный гость — чёрный человек, беспощадная совесть поэта, его второе я, разворачивает перед ним «жизнь какого-то прохвоста и забулдыги», внушая, что иного портрета у него нет и быть не может. Так чёрт некогда сводил с ума Ивана Карамазова. Так Дориан Грей с ужасом смотрел на своё портретное изображение, которое становилось с каждым годом всё безобразнее.

«Слушай, слушай, — бормочет он мне, —
В книге много прекраснейших мыслей и планов.
Этот человек проживал в стране
Самых отвратительных громил и шарлатанов.
И Пушкин видел его, с отвращением читая жизнь свою. И Моцарт не знал покоя от его посещения и, уже создав «Реквием», всё не мог отделаться от ощущения, что «как тень за мной он гонится». И Гоголя мучил этот вечный носитель зла. И Достоевский был с ним знаком, и Блок. И вот теперь его, Есенина, очередь. Ну так он поставит на этом точку!
«Черный человек!
Ты прескверный гость.
Эта слава давно
Про тебя разносится».
Я взбешен, разъярен,
И летит моя трость
Прямо к морде его,
В переносицу...
........................................................................

...Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет.
Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один...
И разбитое зеркало...
Разбитое зеркало — дурная примета, предвестие смерти.
Ни один редактор при жизни Есенина не взялся напечатать эту поэму. Она откровенно всех отпугивала. Сам же Есенин читал её бесчисленное количество раз — писателям, поэтам, каждому встречному и поперечному. Словно хотел объяснить что-то главное, самое существенное в себе самом.
Многие стихи Есенина проникнуты мотивом смерти, который нарастает с каждым годом. Ещё в 1915 году, в 20 лет он написал: «В зелёный вечер под окном на рукаве своем повешусь». А в последнее время чуть ли не каждое стихотворение стало кончаться предсказанием близкой гибели:
Ну целуй же! Так хочу я!
Песню тлен пропел и мне.
Видно смерть мою почуял
тот, кто вьется в вышине.
Догорит золотистым пламенем
из телесного воска свеча,
и луны часы деревянные
прохрипят мой двенадцатый час.
Я устал себя мучить бесцельно
и с улыбкою странной лица
полюбил я носить в лёгком теле
тихий свет и покой мертвеца.
«Я сейчас собираю себя и гляжу внутрь», – писал он Мариенгофу. Этот взгляд внутрь себя открывал ему трагическую невозможность дальнейшего бытия на этой земле.

Друг мой, друг мой, прозревшие вежды
закрывает одна лишь смерть.
Литературоведы подсчитали: за последние два года у Есенина 400 раз встречается слово «смерть», причём в половине этих стихов поэт говорит о своей смерти, о самоубийстве. Он начал умирать задолго до своей гибели, он неуклонно шёл к этому.
Чтобы спасти Есенина от судебных разбирательств в 1925 году, друзья кладут его в психоневрологическую клинику. Там он напишет свой шедевр «Клён ты мой опавший...» Этот клён и сейчас стоит во дворе клиники нервных болезней Корсакова, что на улице Россолимо 9, который Есенин видел из окна своей палаты. Сейчас это мощное, старое дерево. И рядом — теперь тоже уж немолодая — берёза, которую клён всё обнимает своими ветвями, «как жену чужую».

Клён — любимый персонаж стихов Есенина, не менее частый их гость, чем берёза. Начиная с самого первого стихотворения, написанного в восемь лет о «кленёночке», который «матке зелёное вымя сосёт», позже - «где-то на поляне клён танцует пьяный», «стережёт голубую Русь старый клён на одной ноге»... Казалось, клён жил и старился вместе с поэтом. И вот как вершина этой темы - «Клён ты мой опавший...» Посмотрите и послушайте очень красивый клип эти стихи: http://www.youtube.com/watch?v=UQJqXYLMLfU

В больнице Есениным было написано ещё одно потрясающее стихоторение «Годы молодые...» Он часто читал его друзьям, навещавшим его в палате. С.С. Виноградская, навестившая его в Кремлёвской больнице, вспоминала о чтении Есениным этого стихотворения:
«Он не читал его, он хрипел, рвался изо всех сил с больничной койки, к которой он был словно пригвожден, и бил жесткую кровать забинтованной рукой. Перед нами был не поэт, читающий стихи, а человек, который рассказывал жуткую правду своей жизни, который кричал о своих муках. Ошеломленные, подавленные, мы слушали его хрип, скрежет зубов, неистовые удары рукой по кровати и боялись взглянуть в эти некогда синие, теперь поблекшие и промокшие глаза».

Годы молодые с забубенной славой,
Отравил я сам вас горькою отравой.
Я не знаю: мой конец близок ли, далек ли,
Были синие глаза, да теперь поблекли.
Где ты, радость? Темь и жуть, грустно и обидно.
В поле, что ли?. В кабаке?.. Ничего не видно.
Руки вытяну - и вот - слушаю на ощупь:
Едем... кони... сани... снег... проезжаем рощу.
"Эй, ямщик, неси вовсю! Чай, рожден не слабым!
Душу вытрясти не жаль по таким ухабам!".
А ямщик в ответ одно: "По такой метели
Очень страшно, чтоб в пути лошади вспотели".
"Ты, ямщик, я вижу, трус. Это не с руки нам!"
Взял я кнут и ну стегать по лошажьим спинам.
Бью, а кони, как метель, снег разносят в хлопья.
Вдруг толчок... и из саней прямо на сугроб я.
Встал и вижу: что за черт - вместо бойкой тройки...
Забинтованный лежу на больничной койке.
И заместо лошадей по дороге тряской
Бью я жесткую кровать мокрою повязкой...
На лице часов в усы закрутились стрелки.
Наклонились надо мной сонные сиделки.
Наклонились и хрипят: "Эх ты, златоглавый,
Отравил ты сам себя горькою отравой.
Мы не знаем, твой конец близок ли, далек ли, -
Синие твои глаза в кабаках промокли".
Тоска по молодости, прощание с молодостью - одна из главных тем есенинской лирики. Это самые пронзительные, хватающие за душу стихи. По существу, это прощание с жизнью.
«Не жалею, не зову , не плачу...» (редкое видео): http://www.youtube.com/watch?v=z72qFwTyg44
В 1916 году на одном из литературных вечеров у Есенина произошла еще одна встреча с Блоком.

Блоку дали альбом с просьбой написать туда что-нибудь, и, открыв его, на первой странице он обнаружил стихотворение Есенина:
Слушай, поганое сердце,
сердце собачье моё.
Я на тебя, как на вора,
спрятал в руках лезвиё.
Рано ли, поздно всажу я
в рёбра холодную сталь.
Нет, не могу я стремиться
в вечную сгнившую даль.
Пусть поглупее болтают,
что их загрызла мечта.
Если и есть что на свете –
это одна пустота.
Потемнев лицом, Блок подзывает Есенина: "Сергей Александрович, Вы серьёзно это написали?" - "Серьёзно", - чуть слышно отзывается Есенин. - "Тогда я Вам отвечу", - ещё тише вежливо говорит Блок и, перевернув страницу, пишет:
Жизнь - без начала и конца.
Нас всех подстерегает случай.
Над нами - сумрак неминучий,
Иль ясность божьего лица.
Но ты, художник, твердо веруй
В начала и концы. Ты знай,
Где стерегут нас ад и рай.
Тебе дано бесстрастной мерой
Измерить все, что видишь ты.
Твой взгляд - да будет тверд и ясен,
Сотри случайные черты -
И ты увидишь: мир прекрасен.
Есенин пытается следовать совету Блока и в редкие моменты просветления ему это удаётся. Но все есенинские экспромты последних месяцев объединяет предчувствие близкой смерти. «Мчится на тройке чужая младость. Где моё счастье? Где моя радость? Неудержимо, неповторимо всё пролетело... далече... мимо…». «Кругом весна, и жизнь моя кончается…». Временами ощущение близкого конца нагнетается и становится почти осязаемым:
Снежная равнина, белая луна.
Саваном покрыта наша сторона.
И берёзы плачут в белом по лесам.
Кто погиб здесь? Умер? Уж не я ли сам?

В ответном «Письме к матери» он жалуется, как ребёнок:
Родимая! Ну как заснуть в метель?
В трубе так жалобно и так протяжно стонет.
Захочешь лечь, но видишь не постель,
а узкий гроб, и что тебя хоронят.

В «Письме деду» голос поэта звучит ещё надрывней:
А если я помру? Ты слышишь, дедушка? Помру я?
Ты сядешь или нет в вагон,
чтобы присутствовать на свадьбе похорон
и спеть в последнюю печаль мне «аллилуйя»?

«Письмо от матери», «Ответ», «Письмо деду», «Метель» – самые пессимистичные, самые безнадёжные строки в поэзии Есенина. «Себе, любимому, чужой я человек». «И первого меня повесить нужно». «И эту гробовую дрожь как ласку новую приемлю». «Себя усопшего в гробу я вижу». Дальше идти некуда. Дальше смерть.
Мариенгоф пишет: «К концу года решение «уйти» стало у Есенина маниакальным. Он ложился под колёса дачного поезда, он пытался выброситься из окна 5-этажного дома, пытался перерезать вену обломком стекла, заколоть себя кухонным ножом». Таких попыток было множество на протяжении его короткой жизни.
В 1912 году травился уксусной эссенцией (из-за насмешек Анны Сардановской, как он объяснял в письме Мане Бальзамовой. И ещё одна причина была: неудавшаяся попытка издать в Рязани свой первый сборник «Больные думы». Отсюда его строчки: «Пускай я сдохну, только – нет, не ставьте памятник в Рязани!»).
В 1912-13 годах пишет «Исповедь самоубийцы» (в 18 лет):
Простись со мною, мать моя.
Я умираю, гибну я!
Безумный мир, кошмарный сон,
а жизнь есть песня похорон.
В 1913 году пишет в письме другу Грише Панфилову, что родственники хотели показать его психиатру.
В 1919-м пытается выброситься с 5-го этажа (в воспоминаниях журналиста Георгия Устинова). В 1921-м друзья-имажинисты едва удерживают его при попытке выброситься с балкона 4 этажа. В 1923 году в Америке на вечере еврейских поэтов хотел выброситься с 5 этажа. По воспоминаниям А. Дункан, в 1923 году в Париже на званом обеде пытался повеситься, сняли со шнура от люстры. О попытке выброситься с балкона в 1924-м в Тифлисе вспоминал Георгий Леонидзе. Внук художника Перова вынимал Есенина из петли в 1924 году в гостинице «Европейская» в Ленинграде. В феврале 1924-го резал вены левой руки, так что пришлось везти в Кремлёвскую больницу. В первую неделю ноября 1925-го пытался утопиться в Неве.
В психиатрической больнице Есенину был поставлен диагноз: «врождённая психопатия, ярко выраженная меланхолия, осложнённая алкоголизмом и алкогольным психозом». По современным понятиям – это депрессивный тип маниакально-депрессивного психоза. В 20-е годы врачи были в худшем положении – тогда не было антидепрессантов.
Когда Есенин досрочно покинул клинику, врачи предупреждали близких о грозящей ему опасности, о том, что он, в сущности, обречён. Предупреждали, что не проживёт и года, так как одержим манией самоубийства.
Есенин предчувствовал свой близкий конец. Почти физически ощущал его неумолимое приближение. Из воспоминаний В. Эрлиха: «Июнь 1925 года. Мы стоим на балконе квартиры Толстых (на Остоженке) и курим. Перед нами закат, непривычно багровый и страшный. На лице Есенина полубезумная и почти торжествующая улыбка: «Видал ужас? Это – мой закат…»

Из воспоминаний литератора А. Воронского: «На загородной даче, опившийся, он сначала долго скандалил и ругался. Его удалили в отдельную комнату. Я вошёл и увидел: он сидел на кровати и рыдал. Всё лицо его было залито слезами. Он комкал мокрый платок.
– У меня ничего не осталось. Мне страшно. Нет ни друзей, ни близких. Я никого и ничего не люблю. Остались лишь одни стихи. Я всё отдал им, понимаешь, всё. Вон церковь, село, даль, поля, лес. И это всё отступилось от меня.
Он плакал больше часа. «Пусть вся жизнь за песню продана», – это из последних его стихов».
А вот свидетельства В. Наседкина: «Есенин ночевал у меня, придя пьяным в три часа ночи. Утром, проснувшись, он как-то безучастно ждал завтрака. Вид у него был ужасный. Передо мной сидел мученик.
– Сергей, так ведь недалеко и до конца.
Он устало, но как о чём-то решённом, проговорил: «Да... я ищу гибели». Немного помолчав, так же устало и глухо добавил: «Надоело всё».

27 декабря 1925 года в гостинице «Англетер» Есенин кровью написал стихотворение, посвященное его другу Вольфу Эрлиху, передал ему и попросил прочесть дома, когда останется один. Но Эрлих забыл о стихах Есенина. Утром, узнав о самоубийстве, достал листок и с ужасом прочёл: «До свиданья, друг мой, до свиданья…»

В.Шилов. Есенин в "Англетере"
Что это было – осознанное самоубийство, трагическая случайность или неудачная шутка, окончившаяся трагически (Пастернак считал, что Есенин хотел испугать, но не смог вовремя остановиться), – по большому счёту всё это не так важно. «Любовью, грязью, иль колёсами она раздавлена – всё больно». Однако многочисленные воспоминания друзей и близких женщин Есенина – Анны Берзинь, Василия Наседкина, Галины Бениславской, Вольфа Эрлиха, Анатолия Мариенгофа, Вадима Шершеневича, Надежды Вольпин, показавших поэта без ретуши, без хрестоматийного глянца, не вписывались в есенинскую биографическую легенду, лепившуюся с конца 50-х годов казённым литературоведением, представлявшем канонический образ поэта, лишь лицевую сторону его жизни. Согласно этой официальной легенде национальному поэту надлежало быть безупречно здоровым, его самоубийству – чисто случайным, и даже упоминать о его алкогольной зависимости считалось неуместным и предосудительным. Воспоминания эти публиковались с пространными купюрами, подвергались цензуре. Тем самым создавалась почва для мифов.
Четыре дня и три ночи, проведённые Есениным тогда в Ленинграде, известны едва ли не по минутам. Это не считая слухов, сплетен, домыслов и вымыслов, выдаваемых за так называемые версии убийства поэта. Все они абсолютно несостоятельны и нелепы, не выдерживают никакой критики при ближайшем рассмотрении. Тем не менее, я их назову.
ВЕРСИЯ №1, высказанная Виктором Кузнецовым в его книге «Тайна смерти Есенина». Убийство поэта, по его же утверждению, организовано Троцким из ревности.

Якобы некая знаменитая певичка, выступавшая в Питере в 20-х годах, любовница Троцкого (фамилии автор не помнит), была также тайной любовницей Есенина. И Троцкий, узнав об этом, вызвал к себе верного чекиста Блюмкина и его сподвижника чекиста Леонтьева и отдал им приказ проучить поэта, а именно: «набить Есенину физиономию и кастрировать».

Яков Блюмкин
С этой целью чекисты заманивают Есенина в гостиницу, но тот оказал сопротивление, вырубил Блюмкина, и Леонтьев был вынужден его застрелить. Троцкий на это сказал им словами Сталина: «Нет человека – нет проблемы», после чего велел инсценировать самоубийство. Весь этот бред излагался на 500-х страницах книжного боевика – именно в этом жанре сляпано сиё творение. Книга эта довольно активно раскупалась в нашем городе, может быть, есть наивные люди, которые поверили той ахинее. Н. Сванидзе в своих «Исторических хрониках» опроверг эту версию. В декабре 1925-го года Троцкий был уже лишён всех постов и не мог давать таких распоряжений, быть режиссёром убийства.

ВЕРСИЯ №2: Есенин был убит за персональное оскорбление Троцкого, разоблачение его сионистских взглядов на Россию. Троцкий якобы не мог простить Есенину строк в «Стране негодяев», где упоминается подлинная фамилия комиссара чекистов Лейбман, а это намёк на имя Троцкого Лейба Бронштейн-Троцкий.
Отвечаю: незаконченная «Страна негодяев» при жизни Есенина не была напечатана. Лысцов пишет, что «более чем смелые отрывки появлялись в списках». Но никаких списков не было. Во всяком случае, никто из современников о них не вспоминает. А вот иные – восторженные отзывы Есенина о Троцком – хорошо известны. Троцкий очень любил Есенина. Его статья «Памяти Есенина», по мнению Горького – и я с ним совершенно согласна – лучшее, что написано о нём.
ВЕРСИЯ №3. Будто бы поэта убили за телеграмму Каменева с его приветствием царя, отрёкшегося от престола, которая, как прихвастнул кому-то пьяный Есенин, находится у него. Убили, чтобы не допустить его выступления на съезде с антитроцкистскими и антикаменевскими разоблачениями.

Какая чушь! Есенин всегда был далёк от политики. Да и кто бы пустил его на этот съезд? Каким компроматом на Троцкого и Каменева он мог обладать? И как это совместимо с тем, что Есенин положительно отзывался об обоих вождях в стихах, а Троцкий искренне хвалил поэзию Есенина? Уж скорей по этой логике в устранении поэта должны быть заинтересованы противники Троцкого и Каменева – Сталин и Бухарин. Но практически все приверженцы версии убийства Есенина с большим пиететом относятся к Иосифу Виссарионовичу и считают кощунственной саму мысль о том, что он мог быть причастен к убийству великого русского национального поэта. Нет-нет, это должны быть троцкисты, масоны, сионисты, инородцы.

(И действительно – в данном случае трудно представить, чтобы в 25-м, а не в 37-м году Сталин вдруг озаботился убийством крестьянского поэта, ни в каких политических интригах не участвовавшего и никакой угрозы ему не представлявшего).
В сериале Безруковых и в фильме Рябикова Есенину усиленно клеится ярлык «врага советской власти». Но как же этот «враг» в последние годы постоянно печатается в самых видных советских журналах («Красная новь», «Прожектор», «Огонёк»)? Как это врагу советской власти государственное издательство предложило выпустить четырёхтомное собрание сочинений – роскошь, даже для самых «партийных» писателей, кроме Маяковского, невозможная? Да и оплата строк шла по самой высшей в то время ставке. На Есенина было заведено 13 уголовных дел, но ни одно не было доведено до суда. Д. Бедный говорил: «Такое ему спускали! Меня бы уже десять раз из партии выгнали. А его – холили, берегли». Есенина любили, прощали. Понимали, что он болен, относились снисходительно из уважения к его таланту.
Все приверженцы версий убийства Есенина – ярые антисемиты, и с пеной у рта настаивают, что поэта убили люди, конечно же, вполне определённой национальности. Пушкин, как уверял В. Кожинов на страницах «Правды», убит в действительности выкрестом Нессельроде, Лермонтова прикончил скрытый еврей Мартынов, чьё отчество – ага! – Соломонович, как торжествующе раскопал в его родословной Н. Бурляев, Маяковского погубили Брики, а уж кто Есенина убил – ясное дело – троцкисты, сионисты, масоны, жиды. И выбирают на роль убийцы того, кто подходит по национальности: Троцкий, Эрлих. Всё это мы уже проходили.
Шквал сенсационных публикаций: Горький отравлен, Маяковский застрелен, Есенина, стало быть, повесили. Впрочем, повесили уже мёртвого, чтоб инсценировать, а убили его загодя. И авторы криминальных версий наперебой предлагают свои варианты, демонстрирующие незаурядное воображение: задушили подушкой, удавили пиджаком, проломили череп рукояткой револьвера, нет, канделябром, да так, что мозг выступил на лбу. И, наконец, застрелили выстрелом в глаз. Но зачем же подвешивать труп с пулей в голове? Логичнее тогда уж было бы подбросить револьвер.
Тщательно исследуется посмертная маска Есенина, хранящаяся в Пушкинском доме в Петербурге, самая качественная из всех прочих.

Авторы версий насильственной смерти Есенина (а это – бывший следователь Э. Хлысталов, журналист Сергей Куняев, поэтесса Наталья Сидорина, врач-психиатр Черносвитов, патологоанатом Морохов и – первым заявивший о том, что Есенин был убит – писатель Василий Белов) увидели на лбу поэта: Черносвитов – вмятину, Сидорина – след от пули, Хлысталов – шишку, полученную в результате удара.

Дочь Татьяна пишет, что она, как и многие родные и близкие, склонялась над гробом отца – но никто ничего этого на лице его не увидел: ни раскроенного черепа, ни вытекших глаз, ни других следов избиений.
В годы перестройки трижды создавались комиссии Есенинского комитета, в 1989, 1990 и 1993 годах, в работе которых принимали участие судебные медики, криминалисты, специалисты-есениноведы, журналисты, причём судебно-медицинские и криминалистические исследования проводились экспертами Москвы, московской области и России параллельно, независимо друг от друга. Было изучено пять посмертных масок Есенина – и никаких следов действий колюще-режущих предметов, следов огнестрельных повреждений не выявлено.
А пресловутое углубление – вдавление на лбу – по данным медэкспертизы образовалось в результате контакта с трубой парового отопления, это ожог раскалённой трубы, к которой несколько часов труп был прижат лбом. Это повреждение поверхностного эпителия, лишь на глубину кожных покровов, повреждений в лобной кости не было, кости черепа целы, и мозг весил, как и положено, 1929 граммов, а не 20 граммов, как читалось в первоначальном повреждённом тексте (отсюда домыслы, что мозг вытек). Особенность фотоплёнки тех лет была такова, что малейший прыщик выглядел как тёмное пятно, намного увеличивая незначительные дефекты и повреждения.
Специалисты медленно отбрасывали одну версию за другой. Никаких данных, подтверждающих убийство, не было выявлено. Объективная реальность такова, что поэт сам ушёл из жизни. Конечно, поклонникам Есенина не хочется верить в такой уход. Конечно, романтичнее видеть тайны ОГПУ, битву с суперагентами – эдакий боевик в американском духе. Не получается боевика.
Не один писатель вылез на свет божий благодаря скандалам и сенсациям. Бульварное чтиво охотно раскупают. Кто и когда знал бы о каком-то писателе, не напиши он о том, что раскрыл «тайну смерти Есенина»? Никто и никогда.
Комиссия Есенинского комитета СП по выяснению обстоятельств смерти Есенина в декабре 1990 года единодушно пришла к выводу, что в настоящее время объективно нет материалов, которые могли бы документально опровергнуть судебно-медицинскую экспертизу 1925 года. Протокол места происшествия составлен по тем правилам, которые существовали на то время. Труп нашли в том положении, в каком он и должен был находиться в результате самоубийства. Почерковедческая экспертиза подтвердила, что стихотворение «До свиданья, друг мой, до свиданья…» написано Есениным, а не Эрлихом и не Блюмкиным, как утверждают досужие писаки. И кровь, которой оно было написано, это кровь именно Есенина, и именно кровь, а не чернила.

Родные поэта категорически возражали против эксгумации, которой требовали сторонники версии насильственной смерти, видя в этом глумление над его памятью. Возражала Татьяна, дочь Есенина, его племянницы, сын Александр Вольпин считал это совершенно ненужным, так как в самоубийстве отца не сомневался. Надежда Вольпин 27 сентября 1994 года написала: «В убийство Есенина не верю. Эксгумацию считаю кощунством». Казалось бы, чего ещё? Ведь никаких следов убийства и даже намёков на него не выявлено.
Однако сторонники заговора с целью убийства поэта продолжают тиражировать свою версию. Они утверждают, что выводы современных экспертов подтасованы, ложны, как был когда-то якобы сфальсифицирован акт вскрытия. Но элементарный здравый смысл подсказывает, что практически невозможно такому количеству независимых друг от друга экспертов сфальсифицировать свои заключения в пользу одной версии. Получается, что все свидетели трагедии, все врачи-эксперты, друзья, родные, журналисты, сотрудники милиции – все они участники всеобщего многотысячного заговора молчания. Но подобных заговоров никогда не бывало, исторический опыт показывает, что нет ничего тайного, что не стало бы явным.
Однако сторонники версии убийства давно уже никаких разумных доводов не желают слушать. Поэтесса Сидорина недавно заявила по ТВ: «А нам, в сущности, и эксгумация не нужна, мы и так убеждены, что его убили». Эта версия давно уже превратилась в миф, который никакие факты не способны поколебать. Сгубили русского национального гения тёмные масонские сионистские силы, и всё тут. Ну хочется им так думать!
Единственной тёмной силой, приведшей Есенина к печальному концу, был тяжелейший алкоголизм. Нравится кому-то это или нет. «Осыпает мозги алкоголь», – кратко сформулировал своё состояние сам поэт. Осыпал мозги, осыпал жизнь. К тому же после лечения в психиатрической клинике, полученной там лекарственной антиалкогольной терапии, Есенин, сбежав оттуда, не долечившись, продолжал пить и в Ленинграде – всё это могло усилить приступы депрессии и ускорить трагический финал, который был неотвратим.
В качестве доказательства убийства Сидорина и Куняев приводят факт отпевания Есенина в церкви по христианским обычаям, что недопустимо по отношению к самоубийцам.
Однако этот запрет не распространялся на тех, кто лишил себя жизни в безумии или беспамятстве от болезненных припадков. Если такое свидетельство предоставлялось (а Есенин несколько дней как выписался из психиатрической больницы), то погребение совершалось по христианскому обряду с отпеванием.
Мать Есенина Татьяна Фёдоровна слишком хорошо знала о тяжёлой болезни сына, частично наследственной, и для неё смерть эта не была неожиданностью. На сороковой день смерти сына ей приснился сон, в котором к ней явился Сергей и два часа с ней разговаривал. Этот сон мать, простая крестьянка, попыталась выразить стихами (это единственное её стихотворение, записанное с её слов):

Он во сне ко мне явился,
со мной духом поделился.
Он склонился на плечо,
горько плакал, горячо:
«Прости, мама – виноват!
Что я сделал – сам не рад».
На головке большой шрам.
Мучит рана, помер сам.
(«помер сам» – то есть совершил самоубийство, убил себя сам).

мать Есенина на могиле сына
Ещё Демокрит сказал, что нет истинного поэта, не имеющего проблем с психикой. Это никак не умаляет гениальности его творений. Не скрывать стыдливо эти факты от потомков, как будто в этом есть нечто позорное, а быть предельно деликатным и великодушным при встрече с таким гением – вот единственный урок для всех смертных, – всегда помнить, что душевная организация его гораздо тоньше и ранимее, чем у человека обычного, рядового, и требует очень чуткого, предельно бережного к себе отношения.
Есенин настолько велик, стихи его так основательно вошли в наш духовный мир и заняли там свою нишу, что нисколько не нуждаются ни в идеализации, ни в каких бы то ни было приукрашиваниях и умолчаниях. И беды его, и несчастья, как бы они ни были велики, никогда не заслонят его светлый образ и не преуменьшат народной любви к нему.

похороны Сергея Есенина у памятника Пушкину

Гори, звезда моя, не падай.
Роняй холодные лучи.
Ведь за кладбищенской оградой
Живое сердце не стучит.
И золотеющая осень,
В березах убавляя сок,
За всех, кого любил и бросил,
Листвою плачет на песок.
Я знаю, знаю. Скоро, скоро
Ни по моей, ни чьей вине
Под низким траурным забором
Лежать придется так же мне.
Погаснет ласковое пламя,
И сердце превратится в прах.
Друзья поставят серый камень
С веселой надписью в стихах.
Но, погребальной грусти внемля,
Я для себя сложил бы так:
Любил он родину и землю,
Как любит пьяница кабак.

Читает Сергей Есенин. «Исповедь хулигана».
Полностью мою лекцию о Есенине можно послушать здесь:
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/60008.html
|
|
Процитировано 4 раз
"Я один... и разбитое зеркало" (продолжение 2) |
Начало здесь
"Золотая голова на плахе" сценаристов и режиссёров

В день рождения Есенина по ТВЦ демонстрировался фильм Семёна Рябикова 2004 года «Золотая голова на плахе». Производство: Киновидеостудия "АСЕ-ВИДЕО" при поддержке Службы кинематографии Министерства культуры РФ. Жанр: биография, драма, исторический фильм. Сценаристы: Сергей Кулаков, Валентин Черных.
Чудовищная ложь и пошлость. Это ещё хуже Бурляевского «Лермонтова». Хотя идея та же: евреи убивают гордость и славу России. Бурляев писал потом статью, где с торжеством докапывался до корней родословной Мартынова, уцепившись за отчество Соломонович, – вот оно, где собака зарыта! Хотя и ежу ясно, что Мартынов был русский и все его предки из села. Но эта «Золотая плаха» – в сто раз подлее и глупее. Всё так картинно, нарочито, утрированно, так снимали в 50-х годах, а ведь он сделан в наши дни. Безбожные подтасовки, искажения фактов.

(двойное фото)
Есенин (кстати, не с золотой головой, а тёмно-каштановой), постоянно курит с мировой скорбью в глазах (тёмных и маленьких, отнюдь не голубых), ходит под проливным дождём, рвёт рубаху на груди в кабаке, кормит бездомных собак и смотрит вдаль с обрыва.

Говорит матери: «Мои стихи, как стихи Пушкина, будут изучать в школе», на что мать отвечает: «Как же, сейчас! Разбежались!» Современная мамаша.
Бениславская – прожжённая чекистка и стукачка. Трепетная и вечно плачущая.

В то время как в действительности Есенин ей говорил: «У Вас мужской склад ума и мужской характер. Вам надо было родиться мужчиной». В жизни это была сильная женщина, здесь же – трусливая слюнтяйка. Знакомятся они на улице. Она первая подходит и, тесня Есенина грудью, говорит, что обожает его стихи и мечтает познакомиться. И тут же с ходу предлагает свои услуги секретаря-машинистки.
На самом деле Бениславская просто ежедневно ходила с подругами в «Стойло Пегаса», пока Есенин ни заметил её и ни выписал на неё и подруг специальный пропуск. Она долго скрывала от него свои чувства, их долго связывали лишь деловые и дружеские отношения, пока это не переросло в нечто большее.
Помощь Бениславская поэту не навязывала, просто помогала, взвалив на себя добровольно обязанности прислуги, няньки, секретаря. В её доме Есенин поселился, когда вернулся из Америки и ушёл от Дункан и ему негде было жить. Как можно было позволить так опорочить эту благороднейшую женщину, очернить её память? Они читали хоть её дневник?! Невозможно вести такой дневник и одновременно стучать на Есенина, чем Бениславская регулярно занимается в фильме. И убили его якобы за телеграмму Каменева, которую Бениславская должна была у него выкрасть и отдать чекистам. И застрелилась якобы по указу чекистов. (В момент её самоубийства за памятником прятался чекист, можно подумать, что он её убил, когда у неё вышла осечка).

Есенин в фильме – сама добродетель.

Единственный дебош, который показали – в грязном притоне, где он читает «Сыпь, гармоника…», будто бы адресуя проститутке («пей, выдра, пей»), хотя известно, что этот стих адресован Дункан (сохранился экземпляр с надписью его рукой: «Айседоре Дункан»; в том, первом варианте, были строки: «пусть целует она другого, изжитая красивая б…», позже кем-то отредактированные в «молодая красивая дрянь»). Это не может быть адресовано случайной собутыльнице, так как там слова: «до печёнок меня замучила», «дорогая, я плачу... прости... прости...» – это явно о близкой женщине.
«Мне бы лучше вон ту, сисястую», – читает Есенин, и крупным планом показывают эту «сисястую», которая начинает по-современному возмущаться языком интердевочки: «а что? мы с таким товаром дороже стоим!» Но слово «сисястая» тем не менее ей не понравилось, и она толкает локтем собутыльника: «Дай ему в морду!», повторив это трижды. Есенин его играючи откидывает прочь со словами: «Я с собой не покончу, иди к чертям!» Тут на него наваливаются со всех сторон всякие подонки, похожие на евреев, а он, как Шварценеггер, всех раскидывает в разные стороны. Но, в конце концов, кому-то удаётся бутылкой по голове его уложить (сцена напоминает финал из фильма «Коммунист»).
Следующий кадр – Есенин в кабинете чекиста. Как партизан на допросе, мужествен и суров. Желваки на скулах.

– А в чём моя вина? Что меня подстрекают эти...? (Зритель легко домысливает, кто).
– Я ни в чём не виноват! (с интонацией партизана-героя: «больше не скажу ни слова»).
Входит Дзержинский (Лановой). Есенин нехотя встаёт (по приказанию, а так бы – ни в жизнь).
– Феликс Эдмундович, а я Вас знаю (непринуждённо, без страха). Дзержинский, взяв в руки его «Дело», вынутое из сейфа, и, раскрыв:
– Нет, это я Вас знаю!
И, без всякой связи с предыдущей фразой, обращается к Есенину с задумчивой нежностью:
– Почему такая незащищённость?
В устах Дзержинского это звучит настолько нелепо, что даже на пародию не тянет.
Следующая сцена – вечер у художника Яковлева. Айседора Дункан выходит из зала, ей подают на подносе рюмку водки. Она залпом выпивает – и глаза лезут на лоб. Переводчик подбегает: «Она водку не пьёт!» (Это Дункан-то?!) Но уже поздно – Айседора заходится в кашле. На самом деле Дункан тогда поднесли стакан водки, а не рюмку, она спокойно выпила и прилегла на кушетку. Пить она умела. «На лимонаде хорошо не станцуешь», – её известная присказка. И, уезжая из Америки, говорила: «Лучше я буду в России на хлебе и водке, чем у вас».
В это время в салоне появляется Есенин, для приличия спросив куда-то в пространство: «А где Дункан?» Хотя на самом деле он вихрем ворвался в зал с этим криком, с размаху упав к её ногам. Здесь же он соблюдает достоинство и фронду первого русского поэта. Увидев кашляющую от русской водки Дункан, Есенин кидает ей яблоко (из другого конца зала!), которое заморская знаменитость с завидно быстрой реакцией благодарно ловит (якобы на закуску), и тут же картинно читает ей: «Не каждый умеет петь (кажется, он произнёс «пить»), не каждому дано яблоком падать к чужим ногам». С этими словами он как бы нехотя опускается «к чужим ногам» Дункан, а она погружает пальцы в его волосы. Тут она должна произнести знаменитое: «За-ла-тая га-ла-ва», смешно коверкая русские слова. Но поскольку голова у Есенина тёмная (несмотря на название фильма), Дункан произносит эти слова по-английски. («Что она говорит? – Она восхищается Вашими стихами»).
Следом – эротическая сцена в постели.

Дункан, голая по пояс, обнимает поэта, а тот наливает рюмку за рюмкой и икает (надо думать, чтоб показать, как он её не любит).
Постепенно над Есениным сгущаются тучи в виде евреев-чекистов. Раз пять крупным планом показывают «Дело Есенина». За что заводят это дело – неизвестно, поэт – сама добродетель. Вся его вина в том, что он любит Родину. Ходит под проливным дождём и любит. Курит и любит. Пьёт и любит. С тоской в глазах. Намекается на козни врагов. А тo, что Есенин учинял дебоши, стаскивал скатерти, бил посуду и кричал: «бей жидов – спасай Россию», за что его судили товарищеским судом, – в фильме умалчивается. А ведь в действительности 13 дел было заведено, и ни одному не был дан ход! У поэта были мощные покровители – Блюмкин, Троцкий. Милиции был дан приказ отвозить его в вытрезвитель и мирно отпускать. Все московские милиционеры знали Есенина в лицо. И он этим пользовался. (Маяковский пустил остроту: «шумит, как Есенин в участке»). Странно не то, что заводили «дело», а то, что прощали и спускали. Не хотели показывать, что у первого крестьянского поэта разногласия с советской властью. Это ведь начало 20-х, а не 37 год.
В фильме же Есенин – ярый антибольшевик. С Дункан они расстаются именно на этой почве. Она, одетая в красное платье и будёновку, пытается изобразить перед ним революционный танец. «Эт-то что такое?!» – грозно кричит Есенин. «Это будущее Рашен», – растерянно отвечает Дункан. Есенин срывает с её головы будёновку и яростно топчет, с отвращением произнося: «Какое будущее!» Айседора горько и пристыжённо плачет. Всё. Никакой поездки в Америку, никакого брака с ней – всё это за кадром.
Надо же найти что-то крамольное, за что большевики-евреи его убьют. А как же революционные стихи и поэмы Есенина, его «Инония», «мать моя – родина, я – большевик», Ленин в «Анне Снегиной» и прочее? Отсекают всё, что не вписывается в их канву.
Кончилось тем, что на улице на Есенина налетают 5-6 молодчиков, заталкивают в машину, а потом в кабинете чекиста Блюмкин или кто там докладывает Бениславской, которая пришла с очередным донесением, что «Есенин повесился». И корит её, что она не доставила им телеграмму Каменева. После чего кладёт на стол перед ней «револьвер Есенина» и намекает, чтобы Бениславская из него застрелилась. У неё, мол, один выход. А то, мол, будет хуже. Что Бениславская и делает с помощью чекиста, прячущегося за памятником на кладбище.
Подтасовка с Софьей Толстой.

Она в фильме – пышная и красивая в духе толстовской Элен, хотя в действительности была очень похожа на деда, Мариенгоф узнал её «по портретам Льва Николаевича».
В фильме Бениславская ревниво спрашивает Толстую: «Вы действительно выходите за него замуж?» И пытается отговорить: «Но для него главное – поэзия». А Есенину внушает: «Не может крестьянский сын жить с графиней и внучкой Толстого». На самом деле Есенин познакомился с Толстой в доме Бениславской, и она не препятствовала их браку, слабо надеясь, что, может быть, новой жене удастся спасти его от пьянства, дать ему то, что не могла дать она. Она думала только о Есенине, о его благе. Но создателям фильма, видимо, претило это благородство и самоотречение в девушке неславянских кровей (это ведь привилегия только русских), и они предпочли её опорочить, подогнав под модель «эсерки Каплан», заставив расплатиться за свои козни (или слабость). Нет предела подлости человеческой (или глупости) этого режиссёра Рябикова.
К счастью, не все зрители - идиоты, воспринимающие всю эту лажу за чистую монету. Вот несколько комментов из Сети:
Гость_Анна29.03.2009, 21:55: «Отвратительный, мерзкий, дешёвенький фельетончик с омерзительной псевдо-игрой игрового состава. Жутко. "Фильм" расстроил очень надолго. Хоть бы плёнка с ним куда-нибудь делась... навсегда»
.
Егорий 26.08.2011 16:04: «Захватывающее начало с бегущим за поездом жеребёнком, но дальше ляп на ляпе. Есенин-брюнет - это ладно. Но НКВД в 1925 году! Сценарист историю изучать не пробовал? Почему уж не ФСБ тогда?»
Игорь Матвеев (Барановичи) 30.03.2011 11:18: «В фильме многократно звучит аббревиатура НКВД. Вообще-то органы НКВД во времена Есенина назывались ОГПУ. Переименование произошло в 1934 году, почти через 10 лет после смерти поэта. Ну неужели, снимая фильм...» и т.д.
Но куда же смотрели консультанты, литературоведы, люди культуры? Как это можно выпускать на экраны, пусть даже в дневное время? Как можно показывать это подлое и пошлое враньё? Кто разрешает эти фильмы, фальсифицирующие нашу историю?
Следом – детективный лубок с Безруковым-сыном в роли поэта, поставленный по роману отца с выдуманными диалогами и фактами и всё с тем же убийством Есенина в финале.


«Это версия, – оправдывается сценарист В. Валуцкий после демонстрации сериала. – Она может и не соответствовать реальности…». «Это – роман отца, – вторит ему актёр Безруков, – искать тут правды не стоит». Но если для вас, авторов, ваша версия об убийстве не абсолютна, то какого чёрта вы снимаете её как абсолют и заталкиваете в сознание зрителя, как кость в горло?
Окончание: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post198939433/
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю
"Я один... и разбитое зеркало" (продолжение 1) |
Начало здесь
Нелюбимая
За полгода до смерти в жизнь Сергея Есенина вошла Софья Андреевна Толстая-Сухотина, внучка Льва Толстого. Они познакомились на вечеринке.

Софья Толстая крайняя справа
Неожиданно и легкомысленно, как он всегда поступал в таких случаях, поэт решил жениться на ней.
Летом 1925-го он написал стихотворение, в котором было высказано его заветное желание той поры:
Я хотел бы теперь хорошую
Видеть девушку под окном.
Чтоб с глазами она васильковыми
Только мне - не кому-нибудь -
И словами и чувствами новыми
Успокоила сердце и грудь.
Но Толстая уже побывала замужем, а во время знакомства с Есениным была любовницей Бориса Пильняка.

Не об этом ли думал поэт, когда писал: «только мне, не кому-нибудь». Так что особенно новых слов и чувств у неё, видимо, не было. В немногих мемуарах современников о Толстой пишут как о женщине, довольно легко переходившей из одних писательских рук в другие.

Ты меня не любишь, не жалеешь,
Разве я немного не красив?
Не смотря в лицо, от страсти млеешь,
Мне на плечи руки опустив.
Молодая, с чувственным оскалом,
Я с тобой не нежен и не груб.
Расскажи мне, скольких ты ласкала?
Сколько рук ты помнишь? Сколько губ?
Знаю я — они прошли, как тени,
Не коснувшись твоего огня,
Многим ты садилась на колени,
А теперь сидишь вот у меня.
Пусть твои полузакрыты очи,
И ты думаешь о ком-нибудь другом,
Я ведь сам люблю тебя не очень,
Утопая в дальнем дорогом.
Вот как описывала Софью Толстую сестра поэта Шура: «Выше среднего роста, немного сутуловатая, с небольшими серо-голубыми глазами под нависшими бровями, она очень походила на своего дедушку — Льва Николаевича. Властная, резкая в гневе и мило улыбающаяся, сентиментальная в хорошем настроении».
Плачет метель, как цыганская скрипка.
Милая девушка, злая улыбка.

В этот период Есенин, уставший от своей мятежной, бесшабашной жизни, хотел чего-то спокойного, стабильного. К тому же внучка Толстого, к тому же тихая квартира в Померанцевом переулке, семейное пристанище, которого у него никогда не было.

Видно, так заведено навеки —
К тридцати годам перебесясь,
Все сильней, прожженные калеки,
С жизнью мы удерживаем связь.
Милая, мне скоро стукнет тридцать,
И земля милей мне с каждым днем.
Оттого и сердцу стало сниться,
Что горю я розовым огнем.

Голубая кофта. Синие глаза.
Никакой я правды милой не сказал.
Милая спросила: «Крутит ли метель?
Затопить бы печку, постелить постель».
Я ответил милой: «Нынче с высоты
Кто-то осыпает белые цветы.
Затопи ты печку, постели постель,
У меня на сердце без тебя метель».
Песня на эти стихи. Поёт А. Новиков:
http://www.youtube.com/watch?v=NbTNG_ZxQl0&feature=related
Семейная жизнь у них не клеилась. Есенин пишет другу: «С новой семьёй вряд ли что получится, слишком всё здесь заполнено «великим старцем», его так много везде, и на столах, и в столах, и на стенах, кажется, даже на потолках, что для живых людей места не остаётся. И это душит меня...»

Есенин попал не в дом, не в свою квартиру, а по сути в литературный музей в Померанцевом переулке. Живых людей натурально вытеснял дух Л.Н. Толстого. Его фотографии и портреты — всюду, куда ни посмотришь. Сергей полагал, что в этом доме центральной фигурой будет он — великий русский поэт, а оказалось — не он тут главный. В доме соблюдались определённые традиции, поддерживался вековой уклад.

Софья Толстая крайняя справа
И вот в этот дом вламывается поэт с репутацией далеко не благополучной, с требованиями особого внимания к своей особе. Жестокие конфликты не заставили себя ждать. «Надоела борода. Уберите бороду! Надоело! К чёрту!» - подобное приходилось слышать многим, посещавшим тогда Есенина.
А Софья Толстая была влюблена. Она писала своей подруге Марии Шкапской: «Влюблена в Сергея ужасно, нежность заливающая. Я иногда думаю: я самая счастливая женщина. И думаю: за что?»
В этой эйфории, слепоте своей влюблённости она была совершенно счастлива.
Есенин думал иначе. Из разговора со знакомым:

- Сергей Александрович, что с Вами?
- Да вот, знаете, живу с нелюбимой.
- Зачем же Вы женились?
- Ну, зачем... Да назло!

Не криви улыбку, руки теребя,—
Я люблю другую, только не тебя.
Ты сама ведь знаешь, знаешь хорошо —
Не тебя я вижу, не к тебе пришел.
Проходил я мимо, сердцу все равно —
Просто захотелось заглянуть в окно.
***
Вижу сон. Дорога черная.
Белый конь. Стопа упорная.
И на этом на коне
Едет милая ко мне.
Едет, едет милая,
Только не любимая.

Хулиган я, хулиган.
От стихов дурак и пьян.
Но и все ж за эту прыть,
Чтобы сердцем не остыть,
За березовую Русь
С нелюбимой помирюсь.
Все стихи Есенина, адресованные Толстой, можно было бы озаглавить «Стихи нелюбимой».

Какая ночь! Я не могу...
Не спится мне. Такая лунность!
Еще как будто берегу
В душе утраченную юность.
Подруга охладевших лет,
Не называй игру любовью.
Пусть лучше этот лунный свет
Ко мне струится к изголовью.
Пусть искаженные черты
Он обрисовывает смело, —
Ведь разлюбить не сможешь ты,
Как полюбить ты не сумела.
Любить лишь можно только раз.
Вот оттого ты мне чужая,
Что липы тщетно манят нас,
В сугробы ноги погружая.
Ведь знаю я и знаешь ты,
Что в этот отсвет лунный, синий
На этих липах не цветы —
На этих липах снег да иней.
Что отлюбили мы давно,
Ты — не меня, а я — другую,
И нам обоим все равно
Играть в любовь недорогую.
Но все ж ласкай и обнимай
В лукавой страсти поцелуя,
Пусть сердцу вечно снится май
И та, что навсегда люблю я.

Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Перстень счастья ищущий во мгле,
Эту жизнь живу я словно кстати,
Заодно с другими на земле.
И с тобой целуюсь по привычке,
Потому что многих целовал,
И, как будто зажигая спички,
Говорю любовные слова.
«Дорогая», «милая», «навеки»,
А в уме всегда одно и то ж,
Если тронуть страсти в человеке,
То, конечно, правды не найдешь.
Оттого душе моей не жестко
Ни желать, ни требовать огня,
Ты, моя ходячая березка,
Создана для многих и меня.
Но, всегда ища себе родную
И томясь в неласковом плену,
Я тебя нисколько не ревную,
Я тебя нисколько не кляну.
Кто я? Что я? Только лишь мечтатель,
Синь очей утративший во мгле,
И тебя любил я только кстати,
Заодно с другими на земле.
На свадьбе в июле 1925 года Есенин с необычайной силой читал и пел своё трагическое стихотворение, написанное им в больнице, где лечился от алкоголизма:
ПЕСНЯ
Есть одна хорошая песня у соловушки —
Песня панихидная по моей головушке.
Цвела — забубенная, росла — ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.
Думы мои, думы! Боль в висках и темени.
Промотал я молодость без поры, без времени.
Как случилось-сталось, сам не понимаю.
Ночью жесткую подушку к сердцу прижимаю.
Лейся, песня звонкая, вылей трель унылую.
В темноте мне кажется — обнимаю милую.
За окном гармоника и сиянье месяца.
Только знаю — милая никогда не встретится.
Эх, любовь-калинушка, кровь — заря вишневая,
Как гитара старая и как песня новая.
С теми же улыбками, радостью и муками,
Что певалось дедами, то поется внуками.
Пейте, пойте в юности, бейте в жизнь без промаха —
Все равно любимая отцветет черемухой.
Я отцвел, не знаю где. В пьянстве, что ли? В славе ли?
В молодости нравился, а теперь оставили.
Потому хорошая песня у соловушки,
Песня панихидная по моей головушке.
Цвела — забубенная, была — ножевая,
А теперь вдруг свесилась, словно неживая.

Незадолго до своего рокового отъезда в Ленинград Есенин порвёт с женой — грубо, бесповоротно. Оскорбит, ударит её, потом напишет ей резкое письмо из «психушки», куда его вновь затолкают измученные его пьянством родные и друзья. Оскорблённая Толстая, по слухам, придёт к нему в палату с пистолетом и выстрелит в него. «Случай замяли, - пишет Т. Сидорина, - но врач Зиновьев расскажет обо всём своей дочери Наташе», поскольку в тот самый день Есенин сбежит из больницы и его придётся разыскивать. Перед отъездом он в последний раз заедет на квартиру Толстой, лихорадочно соберёт чемодан и, процедив сквозь зубы «до свиданья», решительно выйдет из этого дома. Навсегда.

На улице уже оглянется на окно, у которого стояла сестра Шура и смотрела ему вслед. Он махнёт ей рукой. В тот же вечер написались эти стихи, посвящённые любимой сестре:
В этом мире я только прохожий,
Ты махни мне веселой рукой.
У осеннего месяца тоже
Свет ласкающий, тихий такой.
В первый раз я от месяца греюсь,
В первый раз от прохлады согрет,
И опять и живу и надеюсь
На любовь, которой уж нет.
Это сделала наша равнинность,
Посоленная белью песка,
И измятая чья-то невинность,
И кому-то родная тоска.
Потому и навеки не скрою,
Что любить не отдельно, не врозь,
Нам одною любовью с тобою
Эту родину привелось.

Продолжение: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post198928288/
|
|
Процитировано 3 раз
Понравилось: 4 пользователям
"Я один... и разбитое зеркало" |
Начало здесь
28 декабря 1925 года повесился Сергей Есенин.


«Москва кабацкая»
В июле 1924-го вышла в свет книга Есенина «Москва кабацкая», - цикл, написанный, по его признанию, под влиянием пушкинского «На большой мне, знать, дороге умереть Господь сулил...»


Низкий дом без меня сутулится.
старый пёс мой давно издох.
На московских изогнутых улицах
умереть, знать, судил мне Бог.
Здесь нет поэтизации разгула, романтики блатной жизни, того очарования порока, которое присуще, например, «Цветам зла» Бодлера, — кабацкая атмосфера изображена Есениным с душевной болью. В этих «кабацких» стихах, в сущности, мало кабацкого. За эпатирующим названием скрываются многие лирические стихотворения, грустные и жалобные.
Грубым дается радость,
Нежным дается печаль.
Мне ничего не надо,
мне никого не жаль.
Жаль мне себя немного,
Жалко бездомных собак.
Эта прямая дорога
Меня привела в кабак.
Что ж вы ругаетесь, дьяволы?
Иль я не сын страны?
Каждый из нас закладывал
За рюмку свои штаны.
Интересны воспоминания современника Есенина Н. Никитина о том, как поэт выступал с чтением «Москвы кабацкой» в Ермаковке (московской ночлежке).

Ермаковка
Там были бродяги, воры, беспризорники, проститутки. Есенин, избалованный успехом, был уверен, что здесь его с этими стихами примут на ура. Но не тут-то было. Обитатели ночлежки смотрели и слушали холодно, недоброжелательно, мрачно. Они его явно не принимали. И чем надрывнее становился голос Есенина, тем явственнее вырастала стена между слушателями и поэтом.
Такой приём со стороны ермаковцев психологически совершенно понятен. Как могли они воспринять весь тот бытовой материал, где всё так было близко им и в то же время ненавистно до отвращения? И Есенин наконец это понял.
Шум и гам в этом логове жутком,
и всю ночь, напролёт, до зари,
я читаю стихи проституткам
и с бандитами жарю спирт.

Слушатели становятся всё мрачнее... И вдруг поэт резко поворачивает ручку штурвала. Он начинает читать совсем другие стихи — о судьбе, о чувствах, о рязанском небе, о крушении надежд золотоволосого паренька, об отговорившей золотой роще, о своей удалой голове, о милых сёстрах, об отце и деде, о матери, которая выходит на дорогу в своём ветхом шушуне и тревожно поджидает любимого сына, о том, что он всё-таки приедет к ней на берега Оки. «Не такой уж горький я пропойца, чтоб тебя не видя, умереть».
Что сталось с ермаковцами в эти минуты! У женщин и мужчин расширились глаза. В окружавшей его теперь уже большой толпе плакала девушка в рваном платье, да что она, плакали и бородачи, и отпетые воры, и прожжённые бандиты. Им тоже в их пропащей жизни не раз мерещились и родная семья, и всё то, о чём не можешь слушать без слёз. Есенин разбередил их святые чувства и они плакали слезами очищения. Никитин пишет: «В ночлежке словно стало светлее. Словно развеялся смрад нищеты и ушли тяжёлые, угарные мысли. Вот таким был Есенин. С тех пор я поверил в миф, что за песнями Орфея шли даже деревья...»

Мне осталась одна забава:
Пальцы в рот и веселый свист.
Прокатилась дурная слава,
Что похабник я и скандалист.
Ах! какая смешная потеря!
Много в жизни смешных потерь.
Стыдно мне, что я в Бога верил.
Горько мне, что не верю теперь.
Золотые, далекие дали!
Все сжигает житейская мреть.
И похабничал я и скандалил
Для того, чтобы ярче гореть.
Дар поэта — ласкать и корябать,
Роковая на нем печать.
Розу белую с черною жабой
Я хотел на земле повенчать.
Пусть не сладились, пусть не сбылись
Эти помыслы розовых дней.
Но коль черти в душе гнездились —
Значит, ангелы жили в ней.

«Снова пьют здесь, дерутся и плачут...» Поёт А. Новиков.
«Любимая! Меня Вы не любили...»
Всеволод Мейерхольд был давно влюблён в жену Есенина Зинаиду Райх.

На одной из вечеринок он спросит поэта: «Если мы поженимся, сердиться на меня не будешь?» Есенин, ломаясь, поклонился Мейерхольду в ноги: «Возьми её, сделай милость. По гроб тебе благодарен буду». («Свою жену легко отдал другому»)
Выйдя замуж за Мейерхольда (он был старше её на 20 лет), Зинаида Райх обрела всё: профессию, славу, благополучие. Её очень любил второй муж, он заботился о её детях, сделал её ведущей актрисой своего театра, она стала хозяйкой дома, который всегда был полон самыми блестящими людьми того времени.

Но вот что говорил об этом хорошо знавший её А. Мариенгоф: «Мне кажется, что у неё другой любви не было. Помани её Есенин пальцем — она бы от Мейерхольда убежала без зонтика в дождь и град».
Во всяком случае, они продолжали встречаться всю жизнь.

Часто эти встречи кончались бурными объяснениями. Одно из них позже вылилось у Есенина в стихотворение «Письмо к женщине», написанное уже в 1924 году, адресованное Зинаиде Райх.

Вы помните,
Вы всё, конечно, помните,
Как я стоял,
Приблизившись к стене,
Взволнованно ходили вы по комнате
И что-то резкое
В лицо бросали мне.
Вы говорили:
Нам пора расстаться,
Что вас измучила
Моя шальная жизнь,
Что вам пора за дело приниматься,
А мой удел -
Катиться дальше, вниз...
Любимая!
Я мучил вас,
У вас была тоска
В глазах усталых:
Что я пред вами напоказ
Себя растрачивал в скандалах.
Сегодня я
В ударе нежных чувств.
Я вспомнил вашу грустную усталость.
И вот теперь
Я сообщить вам мчусь,
Каков я был,
И что со мною сталось!
Простите мне...
Я знаю: вы не та -
Живете вы
С серьезным, умным мужем;
Что не нужна вам наша маета,
И сам я вам
Ни капельки не нужен...
Когда гроб с Есениным опускали в могилу, Райх, обнимая его детей, кричала: «Сказка моя, жизнь моя, куда ты уходишь?» А Мейерхольд тихо повторял: «Ты же обещала, обещала...»

Спустя 10 лет после смерти Есенина Райх подарит близкой подруге свою фотографию с надписью: «Накануне печальной годовщины мои печальные глаза тебе как воспоминание о самом главном и самом страшном в моей жизни — Сергее».
Так что неправ был поэт, когда писал: «Любимая, меня Вы не любили». Его любили все женщины, с кем когда-либо сводила судьба. И никогда его не забывали.
«Я хожу в цилиндре не для женщин...»
Летом 1921 года по приглашению советского правительства в Россию приезжает Айседора Дункан.

Бунтарка по духу, она всегда испытывала симпатию к нашей стране, и Октябрьская революция стала для неё воплощением той силы, что способна перевернуть мир и придать ему новые формы, которые она тщетно искала на сценах европейских театров. Дункан открыла принципиально новое искусство танца. Она первая отказалась от пуантов, от стесняющих движения балетных трико и пачек и вошла в историю как танцовщица-босоножка. Она умела блистательно танцевать всё то, что люди говорят, пишут, играют, рисуют.

Есенину было 26, Дункан — 43, когда они встретились.
С первой же минуты они не могли отвести глаз друг от друга.
Айседора погрузила пальцы в есенинскую шевелюру и, смешно коверкая слова, громко произнесла: «За-ла-тая га-ла-ва...» Так они «проговорили» весь вечер на разных языках (Есенин не владел ни одним иностранным, Айседора понимала все, кроме русского). Они объяснялись мимикой, жестами, через переводчика. Дункан всюду в доме развесила плакаты: «Я лублу Есенин», «Целую следы твоих ног» и т. д. А Есенин английский не хотел учить принципиально: «боюсь запачкать чужим свой, родной». Но они, казалось, отлично понимали друг друга.

Это была встреча людей одной человеческой породы, одного типа. Оба искали, чего в мире нет, строили свою жизнь по образцу выстроенных ими воздушных замков, оба были талантливы сверх меры, эмоциональны, безудержны, бесшабашны.
Её особняк на Пречистенке стал с тех пор и есенинским пристанищем.

Им завидовали. О них сплетничали, злословили. Мол, Есенин влюблён не в Дункан, а в её мировую славу. Намекали, что от неё ему нужна не любовь, а сытая жизнь. В московском кабаре артисты распевали частушки:
Не судите слишком строго,
наш Есенин не таков.
Айседур в России много -
мало айседураков!
Есенин кипятился, стучал кулаком и кричал: «Я влюблён, влюблён в Дункан! Люблю и буду любить!» И действительно любил — насколько был способен любить женщин. Отношения их не были однако идилличными. Есенин свои чувства выражал различно: то казался донельзя влюблённым, не оставляя её ни на минуту на людях, то наедине обращался тиранически грубо, вплоть до побоев и обзыванья самыми площадными словами. В такие минуты Изадора (как он её называл) бывала особенно терпелива и нежна с поэтом, стараясь всяческими способами его успокоить.
Дункан решила показать Есенину мир: Европу, Америку, и организовала с этой целью совместные гастроли. Они зарегистрировались в загсе, взяв двойную фамилию. Есенин смеялся: «Я теперь Дункан!» Дункан хохотала: «Теперь я буду настоящая толстая русская жена!»

Заокеанский рай произвёл на Есенина гнетущее впечатление. В письмах к друзьям он писал:

«Знаете ли Вы, милостивый государь, Европу? Нет! Вы не знаете Европы. Боже мой, какое впечатление, как бьется сердце... О нет, Вы не знаете Европы! Во-первых, Боже мой, такая гадость однообразия, такая духовная нищета, что блевать хочется...
Что сказать мне вам об этом ужасающем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Здесь кроме фокстрота ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот.


Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин доллар, а на искусство начхать – самое высшее здесь мюзик-холл. Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно. Здесь все выглажено, вылизано и причесано так же почти, как голова Мариенгофа. Птички какают с разрешения и сидят, где им позволено. Ну, куда же нам с такой непристойной поэзией? Это, знаете ли, невежливо так же, как коммунизм. Порой мне хочется послать все это к ебенейшей матери и навострить лыжи обратно. Пусть мы нищие, пусть у нас холод и голод, зато у нас есть душа, которую там за ненадобностью сдали в аренду под смердяковщину…»

Дункан не очень заботилась о внешнем впечатлении, как человек, уверенный в себе и чувствующий себя в этом мире как дома. Одевалась она более чем просто. Есенин же был всегда безукоризненно элегантен.

Он, рождённый в деревне, всегда был настороже, ни на минуту не забывая о необходимости играть нужную роль. Отсюда и цилиндр, и манто от берлинского портного, и модные лакированные штиблеты. Цилиндр был для него символом ухода из деревенщины в мировую славу.

Георгий Иванов вспоминал, как встретился с Есениным в берлинском ресторане: «Швейцар подал ему широкое, короткое чёрное пальто и цилиндр. Поймав мой удивлённый взгляд, он ухмыльнулся: «Люблю, знаете ли, крайности. Либо лапти, либо уж цилиндр и пальмерстон» Он лихо нахлобучил цилиндр на свои кудри: «Помните, как я когда-то у Городецкого в плисовых штанах, подпоясанных золотым ремешком, выступал? - Есенин смеётся. - Умора! На что я тогда похож был! Ряженый!» - Да, конечно, ряженый. Только и сейчас, в Берлине, в этом пальто, которое он почему-то зовёт «пальмерстоном», и цилиндре у него тоже вид ряженого. Этого я ему, понятно, не говорю».
Но, как пишет Есенин в одном из стихотворений: «Я всё такой же. Сердцем я всё такой же».
Я иду долиной. На затылке кепи,
В лайковой перчатке смуглая рука.
Далеко сияют розовые степи,
Широко синеет тихая река.
Выйду за дорогу, выйду под откосы —
Сколько там нарядных мужиков и баб!
Что-то шепчут грабли, что-то свищут косы...
«Эй, поэт, послушай, слаб ты иль не слаб?
К черту я снимаю свой костюм английский.
Что же, дайте косу, я вам покажу —
Я ли вам не свойский, я ли вам не близкий,
Памятью деревни я ль не дорожу?
Нипочем мне ямы, нипочем мне кочки.
Хорошо косою в утренний туман
Выводить по долам травяные строчки,
Чтобы их читали лошадь и баран.
В этих строчках — песня, в этих строчках — слово.
Потому и рад я в думах ни о ком,
Что читать их может каждая корова,
Отдавая плату теплым молоком.

Я хожу в цилиндре не для женщин -
В глупой страсти сердце жить не в силе,-
В нем удобней, грусть свою уменьшив,
Золото овса давать кобыле.
Средь людей я дружбы не имею,
Я иному покорился царству.
Каждому здесь кобелю на шею
Я готов отдать мой лучший галстук.

Есенин сочувствовал всему живому и страстно любил животных. Достаточно вспомнить его стихи: «Для зверей приятель я хороший...», «Не обижу ни козы, ни зайца...», «Я пришёл целовать коров...», «И зверьё, как братьев наших меньших...», «Стих мой душу зверя лечит...», «Дай, Джим, на счастье лапу мне...»

В разговоре с Георгием Ивановым поэт признавался: « Вот еще животные. Лошади, коровы, собаки. С ними я всегда, с самого детства, дружил. Любил и жалел. В десять лет я еще ни с одной девушкой не целовался, не знал, что такое любовь, а целуя коров в морду, просто дрожал от нежности и волнения. Ноздри мягкие и губы такие влажные, теплые, и глаза у них до чего красивые! И сейчас еще, когда женщина мне нравится, мне кажется, что у нее коровьи глаза. Такие большие, бездумные, печальные. Вот как у Айседоры...».

«За свободу в чувствах есть расплата»
Принято считать, что у Есенина было огромное количество женщин. Это миф. Было огромное количество стихов о любви, а это не одно и то же. Писатель Герман, более известный под псевдонимом Эмиль Кроткий, однажды услышал от поэта: «Женщин триста-то у меня поди было?» - задал ему вопрос Есенин и засмеялся. Собеседник не поверил. «Ну, тридцать», - резко сбавил цифру Есенин. «И тридцать не было», - сказал Кроткий. «Ну... - помолчал Есенин, - десять». «На этом, - пишет Кроткий, - и помирились. «Десять, пожалуй, было, - подвёл черту и поэт».

Много женщин меня любило.
Да и сам я любил не одну.
Не от этого ль темная сила
Приучила меня к вину.
Не больна мне ничья измена,
И не радует легкость побед,
Тех волос золотое сено
Превращается в серый цвет.
Мариенгоф писал о Есенине: «Обычно любят за любовь. Есенин никого не любил и все любили Есенина».

И любовь — не забавное ль дело?
Ты целуешь, а губы как жесть...
Этот парадокс отмечает в своих воспоминаниях и Рюрик Ивнев: «Он не мог любить никого и ничего, кроме своей Музы. При всей удивительной теплоте его лирики его любовь была беспредметна. Те, кто хорошо знал Есенина, понимали, что он никогда не любил по-настоящему ни одну женщину».
Я всегда хотел, чтоб сердце меньше
Билось в чувствах нежных и простых.
Что ж ищу в очах я этих женщин -
Легкодумных, лживых и пустых?
Удержи меня, мое презренье,
Я всегда отмечен был тобой.
На душе холодное кипенье
И сирени шелест голубой.
На душе - лимонный свет заката,
И все то же слышно сквозь туман, -
За свободу в чувствах есть расплата,
Принимай же вызов, Дон-Жуан!

Он действительно, кажется, никого не любил. Никого, кроме поэзии.
Ах, увял головы моей куст.
Засосал меня песенный плен.
Осуждён я на каторге чувств
вертеть жернова поэм.
По-настоящему, Есенин, по-моему, любил из всех своих близких — ни жён, ни любовниц, ни детей, ни мать («мать для меня нравственно умерла уже давно», - писал он Мане Бальзамовой - он до пяти лет воспитывался у деда, мать уходила из семьи, прижила на стороне ребёнка, Есенин всё это время не знал, что она его мать, думал, просто родственница, и никаких чувств к ней не испытывал). А любил он по-настоящему свою младшую сестру Шуру.

Шура (слева) и Катя
Со старшей Катей он в последние годы рассорился (она взяла у него деньги для передачи отцу и не передала, присвоила, и Есенин писал в письмах, что он её знать больше не хочет), но в письмах Шуре — столько неподдельной тревоги, заботы, беспокойства за неё, гордость за неё, восхищение её достоинствами.

Ей посвящены его стихи «Я красивых таких не видел...», «Ах, как много на свете кошек...», «Ты запой мне ту песню, что прежде...», «В этом мире я только прохожий...», «Сестра! Сестра! Друзей так в жизни мало...» - это уже в 1925 году.

Есенин с сёстрами. 1912 год. Есенину — 17, Кате — 7, Шуре — два года. Мать рано возложила на Сергея груз отцовских забот, сделав его крестным отцом девочек. Разница в возрасте была в 10 и 15 лет. Он был всегда для них больше, чем брат, - заботился, перетащил в Москву, помогал деньгами. Но Шуру любил особенно. Носил с собой её карточку. Даже как-то украл у Дункан платье, чтобы привести ей в подарок.

Сестре Шуре
Я красивых таких не видел,
Только, знаешь, в душе затаю
Не в плохой, а в хорошей обиде —
Повторяешь ты юность мою.
Ты мое васильковое слово,
Я навеки люблю тебя.
Как живет теперь наша корова,
Грусть соломенную теребя?
Запоешь ты, а мне любимо,
Исцеляй меня детским сном.
Отгорела ли наша рябина,
Осыпаясь под белым окном?
Что поет теперь мать за куделью?
Я навеки покинул село,
Только знаю — багряной метелью
Нам листвы на крыльцо намело.
Знаю то, что о нас с тобой вместе
Вместо ласки и вместо слез
У ворот, как о сгибшей невесте,
Тихо воет покинутый пес.
Но и все ж возвращаться не надо,
Потому и достался не в срок,
Как любовь, как печаль и отрада,
Твой красивый рязанский платок.
16 (29марта) 2011 года исполнилось 100 лет со дня рождения Шуры — Александры Есениной. На её могиле на Ваганьково в этот день было море цветов.

«Не бродить, не мять в кустах багряных...»
И всё-таки была у Сергея Есенина настоящая любовь. Это была первая любовь поэта - Анна Сардановская, ставшая причиной его первой попытки суицида в 1912 году.

Анна Сардановская (справа) и Маня Бальзамова, односельчанки Есенина
Они встречались и позже, когда в июне 1916-го Сергей, получив краткосрочный отпуск с военной службы, приезжал в родное село.

В июле 1916-го она ему писала: «Спасибо тебе, пока ещё не забыл Анны, она тебя тоже не забывает». Но через два года Сардановская вышла замуж и в апреле 1921-го умерла от родов. Один из друзей записал рассказ Есенина весной 1921-го, связанный с известием о смерти Сардановской: «У меня была настоящая любовь. К простой женщине. В деревне. Я приезжал к ней. Приходил тайно. Всё рассказывал ей. Об этом никто не знает. Я давно люблю её. Горько мне. Жалко. Она умерла. Никого я так не любил».


В темной роще на зеленых елях
Золотятся листья вялых ив.
Выхожу я на высокий берег,
Где покойно плещется залив.
Много лет я не был здесь и много
Встреч веселых видел и разлук,
Но всегда хранил в себе я строго
Нежный сгиб твоих туманных рук.
Я бродил по городам и селам,
Я искал тебя, где ты живешь,
И со смехом, резвым и веселым,
Часто ты меня манила в рожь.
Безо шва стянулась в сердце рана,
Страсть погасла, и любовь прошла.
Но опять пришла ты из тумана
И была красива и светла.
В голосах обкошенного луга
Слышу я знакомый сердцу зов.
Ты зовешь меня, моя подруга,
Погрустить у сонных берегов.

Анне Сардановской посвящено и пленительное стихотворение Есенина «Не бродить, не мять в кустах багряных...» (видеоклип)
«Когда-то у той вон калитки...»
В январе 1925 года Есенин пишет поэму «Анна Снегина». Не случайно эту вещь о 1917 годе, о революции в деревне, о своём дезертирстве, словом, поэму о времени, он назвал этим нежным женским именем. В основу её легло воспоминание об одной безответной, но счастливой любви его юности, о том времени, когда «у той вон калитки мне было 16 лет...»

Как ни странно, но истинное счастье любви поэт испытывал, когда эта любовь была как бы несостоявшейся, не материализовавшейся, не воплощённой в её грубые земные формы.
Основная загадка есенинской любовной лирики, может быть, и кроется в том, что при всей своей разгульной жизни, при всём хулиганстве, при всём том, что «много девушек я перещупал, много женщин в углах прижимал», - поэт не отдал тёмным страстям свою юношескую мечту об идеальном женском образе, созданном в самых целомудренных глубинах души.

«Весна». В. Борисов-Мусатов
Ещё в стихотворении «Сукин сын» он писал:
Но припомнил я девушку в белом,
для которой был пёс — почтальон...
Не у каждого есть свой близкий,
но она мне - как песня была,
потому что мои записки
из ошейника пса не брала...
И в «Анне Снегиной» продолжается эта ностальгическая тема:
Когда-то у той вон калитки
Мне было шестнадцать лет.
И девушка в белой накидке
Сказала мне ласково: "Нет!"
Далекие милые были!..
Тот образ во мне не угас.
Мы все в эти годы любили,
Но мало любили нас.

Самые светлые воспоминания жили в душе поэта о тех женщинах, которые ласково говорили ему: «нет». Образ не женщины-любовницы увлекал его, не женщины-жены, а женщины-мечты, женщины-песни.
Светит месяц. Синь и сонь.
Хорошо копытит конь.
Свет такой таинственный,
Словно для Единственной —
Той, в которой тот же свет
И которой в мире нет.

Прототип главной героини поэмы — Лидия Ивановна Кашина, владелица поместья в Константиново.

Кашиной было 26 лет.

У неё был муж генерал и двое детей. А Есенину было всего 16.

Мать Сергея ворчала: «Не пара она тебе, нечего ходить к ней. Ишь, нашла, с кем играть!» В память о том лете 1917-го и о каком-то прощании, ведомом только ему одному, Есенин через год написал стихотворение, посвящённое Лидии Кашиной:
«Зелёная причёска...» (видеоклип)

Лидия Кашина в отличие от героини «Анны Снегиной» никуда не эмигрировала. После того, как новая власть отобрала у неё усадьбу на Белом Яру, она переехала в Москву. Работала переводчицей, машинисткой, стенографисткой.

Об отношениях её с Есениным в то время можно судить по есенинскому письму осени 1918 года, адресованному А. Белому, вернее, по адресу на конверте: «Скатертный переулок 20. Лидии Ивановне Кашиной для Сергея Есенина».
Продолжение: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post198923171/
|
|
Процитировано 6 раз
Понравилось: 2 пользователям
"Смерти, смерти я прошу у неба..." |

8 января (27 декабря) 1878 года умер Николай Некрасов. Сегодня день его памяти.

Некрасов заболел весной 1853 года. Он был ещё молодой человек, ему шёл 33-й год. Заболело горло, грудь, начался кашель, охрип и вскоре совсем пропал голос: поэт уже не говорил, а шептал. По ночам его знобила лихорадка. Он обращался к лучшим докторам, но те почему-то решили, что это простуда и не приняли серьёзных мер против болезни. Язва изо дня в день разъедала его гортань, гибли затылочные и шейные железы, организм разрушался, а профессора прописывали ему минеральную водичку и советовали для окончательного излечения поселиться под Москвой на даче.
Лишь через два года, когда болезнь непоправимо подорвала здоровье поэта, ему наконец поставили верный диагноз. Непостижимое ослепление медиков! «Чего же они смотрели два года! - восклицал в отчаянье Некрасов, - что я за эти два года вытерпел, а главное, за что погибли мои лёгкие, которых мне бы хватило ещё на 20 лет!»
Очередное обострение болезни летом 1855 года совпало с очередным — не первым и не последним — обострением отношений с А. Панаевой.
Душа мрачна, мечты мои унылы,
Грядущее рисуется темно.
Привычки, прежде милые, постыли,
И горек дым сигары. Решено!
Не ты горька, любимая подруга
Ночных трудов и одиноких дум, -
Мой жребий горек. Жадного недуга
Я не избег...
Оба они очень хотели ребёнка, но роды оказались неудачные, и новорождённый мальчик умер, едва появившись на свет. «Поражена потерей невозвратной, душа моя уныла и слаба».
В 1855 году Некрасовым было написано столько стихов, как никогда, и как никогда, столько стихов под знаком смерти. Почти в каждом, почти подряд. Эти мысли отразились и в его «Последних элегиях»:

... А рано смерть идет,
И жизни жаль мучительно. Я молод,
Теперь поменьше мелочных забот
И реже в дверь мою стучится голод:
Теперь бы мог я сделать что-нибудь.
Но поздно!.. Я, как путник безрассудный,
Пустившийся в далекий, долгий путь,
Не соразмерив сил с дорогой трудной...
Эти же мотивы ожидания смерти, несбывшихся надежд, непосильной тяжести взятого на себя труда звучат и в аллегорической «Несжатой полосе»:
Знал, для чего и пахал он, и сеял,
да не по силам работу затеял.
Годы юношеских скитаний, полных страшной нищеты и постоянного голода, дали о себе знать: врачи обнаружили у Некрасова рак прямой кишки. Была сделана операция, но безуспешно, поэт таял на глазах. Боли были так велики, что он часами тянул громко какую-то однообразную ноту, напоминавшую бурлацкую ноту на Волге. Салтыков-Щедрин, который видел его в этом состоянии, был потрясён и сообщал в письме к П. Анненкову: «Нельзя даже представить себе приблизительно, какие муки он испытывает. И при этом непрерывный стон, но такой, что со мной, нервным человеком, почти дурно делается».
Черный день! Как нищий просит хлеба,
Смерти, смерти я прошу у неба,
Я прошу ее у докторов,
У друзей, врагов и цензоров,
Я взываю к русскому народу:
Коли можешь, выручай!
Окуни меня в живую воду,
Или мертвой в меру дай.
Страдания Некрасова начались ещё весной 1876-го. И тогда-то впервые у него написались стихи, обращённые к Зине, его верному преданному другу:

Ты еще на жизнь имеешь право,
Быстро я иду к закату дней.
Я умру — моя померкнет слава,
Не дивись — и не тужи о ней!
Знай, дитя: ей долгим, ярким светом
Не гореть на имени моем:
Мне борьба мешала быть поэтом,
Песни мне мешали быть бойцом.
Кто, служа великим целям века,
Жизнь свою всецело отдает
На борьбу за брата-человека,
Только тот себя переживет...
«Ты ещё на жизнь имеешь право», - таким правом она не воспользовалась. Зина в течение последних 200 ночей не давала себе спать, чтобы «услышать первый его стон и подбежать к постели». Чтобы преодолеть сон, она садилась на пол и смотрела на зажжённую свечу. Некрасов посвятил ей свои последние строки:
Двести уж дней,
Двести ночей
Муки мои продолжаются;
Ночью и днем
В сердце твоем
Стоны мои отзываются,
Двести уж дней,
Двести ночей!
Темные зимние дни,
Ясные зимние ночи...
Зина! закрой утомленные очи!
Зина! Усни!
Но Зина не закрывала очей и не давала себе заснуть. После этих двухсот дней и ночей она из молодой, свежей и красивой женщины превратилась в старуху с жёлтым измождённым лицом. За восемь месяцев до смерти Некрасов обвенчался с ней в церкви.

Правда, до церкви он дойти уже был не в состоянии и в нарушение всех запретов их обвенчали дома. Из воспоминаний П.А.Ефимова:
"Подговорили под строжайшим секретом священника из домовой церкви, который взялся венчать на дому. Об этом по секрету было сообщено, между прочим, Г. И. Успенскому. Тот разболтал, священник, узнав, что по городу ходят слухи, наотрез отказался венчать, не желая рисковать местом. (Тогда обратились к митрополиту).
-Что делать?, - ответил тот. - Ничем не могу помочь. Ведь мы сами связаны. Нужно венчать непременно в церкви. Ведь у нас не то, что у военных. Военное духовенство имеет свои походные церкви. Поставил палатку: тут у него и церковь, где он всякое таинство может совершить.
(Друзья поэта обратились к военному духовенству.) Достали церковь-палатку, поместили ее в зале у Некрасова, и здесь же, поддерживая его за руки, обвели три раза вокруг аналоя, уже полумертвого от страданий. Он был при этом босой и в одной рубашке".
Нет! не поможет мне аптека,
Ни мудрость опытных врачей:
Зачем же мучить человека?
О небо! смерть пошли – скорей!
Борюсь с мучительным недугом,
борюсь — до скрежета зубов...
О Муза! Ты была мне другом,
приди на мой последний зов!
(В первоначальной редакции были такие строки:
О Муза! наша песня спета.
Приди, закрой глаза поэта
На вечный сон небытия,
Сестра народа - и моя!)
Эти стихи открывали его цикл «Последние песни». В нём два мотива, два состояния героя: ощущение конца, самоотпевание и - самовоскрешение, возрождение.
О муза! я у двери гроба!
Пускай я много виноват,
Пусть увеличит во сто крат
Мои вины людская злоба -
Не плачь! завиден жребий наш,
Не наругаются над нами:
Меж мной и честными сердцами
Порваться долго ты не дашь
Живому, кровному союзу!
Не русский - взглянет без любви
На эту бледную, в крови,
Кнутом иссеченную музу...
И снова в поэзии Некрасова возникает священный образ матери:
Великое чувство! У каждых дверей,
В какой стороне ни заедем,
Мы слышим, как дети зовут матерей
Далеких, но рвущихся к детям.
Великое чувство! Его до конца
Мы живо в душе сохраняем, —
Мы любим сестру, и жену, и отца,
Но в муках мы мать вспоминаем!
Одно из самых сильных предсмертных стихотворений Некрасова на эту тему - «Баюшки-баю», где в последние минуты перед смертью в полусне-полубреду к нему приходит мать и говорит утешительные, светлые слова, которые его измученной душе так хотелось тогда услышать:
Непобедимое страданье,
Неумолимая тоска...
Влечет, как жертву на закланье,
Недуга черная рука.
Где ты, о муза! Пой, как прежде!
"Нет больше песен, мрак в очах;
Сказать: умрем! конец надежде!
Я прибрела на костылях!"
Костыль ли, заступ ли могильный
Стучит... смолкает... и затих...
И нет ее, моей всесильной,
И изменил поэту стих.
Но перед ночью непробудной
Я не один... Чу! голос чудный!
То голос матери родной:
"Пора с полуденного зноя!
Пора, пора под сень покоя;
Усни, усни, касатик мой!
Прийми трудов венец желанный,
Уж ты не раб - ты царь венчанный;
Ничто не властно над тобой!
Не страшен гроб, я с ним знакома;
Не бойся молнии и грома,
Не бойся цепи и бича,
Не бойся яда и меча,
Ни беззаконья, ни закона,
Ни урагана, ни грозы
Ни человеческого стона,
Ни человеческой слезы.
Усни, страдалец терпеливый!
Свободной, гордой и счастливой
Увидишь родину свою,
Баю-баю-баю-баю!
Еще вчера людская злоба
Тебе обиду нанесла;
Всему конец, не бойся гроба!
Не будешь знать ты больше зла!
Не бойся клеветы, родимый,
Ты заплатил ей дань живой,
Не бойся стужи нестерпимой:
Я схороню тебя весной.
Не бойся горького забвенья:
Уж я держу в руке моей
Венец любви, венец прощенья,
Дар кроткой родины твоей...
Уступит свету мрак упрямый,
Услышишь песенку свою
Над Волгой, над Окой, над Камой,
Баю-баю-баю-баю!.."
Это почти последние строки, написанные Некрасовым, ими он себя убаюкивал, уже, можно сказать, умирая... И эти самобичевания и самоубаюкивания ясно показывают, как понимал поэт свою задачу, чего он от себя требовал.
Стихотворение "Баюшки-баю" потрясло художника Ивана Крамского, который в письме Третьякову назвал его «величайшим произведением русской поэзии» и свою картину «Некрасов в период «Последних песен» датировал тем же числом, каким датировано стихотворение «Баюшки-баю» - 3 марта 1877 года, хотя картина была создана художником позже.

Скоро стану добычею тленья.
Тяжело умирать, хорошо умереть;
Ничьего не прошу сожаленья,
Да и некому будет жалеть.
Я дворянскому нашему роду
Блеска лирой своей не стяжал;
Я настолько же чуждым народу
Умираю, как жить начинал...
Когда эти и другие стихи из «Последних песен» появились в журнале, когда все узнали, что Некрасов неизлечимо болен, со всех концов России стали приходить к нему письма, телеграммы. У дверей квартиры всегда стояла толпа, чтобы только услышать несколько слов о его здоровье.

дом, в котором последние 20 лет жил Некрасов
Студенты поднесли ему адрес со множеством подписей, в котором говорилось:
«Прочли мы твои «Последние песни», дорогой наш, любимый Николай Алексеевич, и защемило у нас сердце: тяжело читать про твои страдания, невмоготу услышать твое сомнение: «Да и некому будет жалеть…» Мы пожалеем тебя, любимый наш, дорогой певец народа, певец его горя и страданий; мы пожалеем того, кто зажигал в нас эту могучую любовь к народу и воспламенял ненавистью к его притеснителям...»
В ответ Некрасов слабым голосом прочёл им эти строки:

Вам, мой дар ценившим и любившим,
Вам, ко мне участье заявившим
В черный год, простертый надо мной, -
Посвящаю труд последний мой!
Чернышевский был безутешен и писал Пыпину: «О Некрасове я рыдал, просто рыдал по целым часам каждый день, целый месяц после того, как написал тебе о нём...»
Тургенев прощался с поэтом красиво и артистически запечатлел это прощание в одном из стихотворений в прозе «Последнее свидание»:

Мы были когда-то короткими, близкими друзьями... Но настал недобрый миг — и мы расстались, как враги.
Прошло много лет... И вот, заехав в город, где он жил, я узнал, что он безнадежно болен — и желает видеться со мною.
Я отправился к нему, вошел в его комнату... Взоры наши встретились.
Я едва узнал его. Боже! что с ним сделал недуг!
Желтый, высохший, с лысиной во всю голову, с узкой седой бородой, он сидел в одной, нарочно изрезанной рубахе... Он не мог сносить давление самого легкого платья. Порывисто протянул он мне страшно худую, словно обглоданную руку, усиленно прошептал несколько невнятных слов — привет ли то был, упрек ли, кто знает? Изможденная грудь заколыхалась — и на съёженные зрачки загоревшихся глаз скатились две скупые, страдальческие слезинки.
Сердце во мне упало... Я сел на стул возле него — и, опустив невольно взоры перед тем ужасом и безобразием, также протянул руку.
Но мне почудилось, что не его рука взялась за мою.
Мне почудилось, что между нами сидит высокая, тихая, белая женщина. Длинный покров облекает ее с ног до головы. Никуда не смотрят ее глубокие бледные глаза; ничего не говорят ее бледные строгие губы...
Эта женщина соединила наши руки... Она навсегда примирила нас.
Да... Смерть нас примирила.
Апрель 1878

Они долгие годы были в ссоре. Это о нём, в частности, писал Некрасов:
Узы дружбы, союзов сердечных -
Всё порвалось: мне с детства судьба
Посылала врагов долговечных,
А друзей уносила борьба.
Песни вещие их не допеты,
Пали жертвою злобы, измен
В цвете лет; на меня их портреты
Укоризненно смотрят со стен.

Смерть их примирила... Она пришла к Некрасову вечером 27 декабря. Похороны были 30-го. За гробом шло более четырёх тысяч человек. Смерть поэта потрясла русское общество. Сохранилось множество воспоминаний об этом, принадлежащих тем, кто присутствовал на похоронах. Среди них Достоевский, Короленко, Плеханов. Короленко утверждал в «Истории моего современника», «что Петербург ещё никогда не видел ничего подобного. Вынос начался в 9 часов утра, а с Новодевичьего кладбища толпа разошлась только в сумерки».
Молодёжь не дала поставить гроб на колесницу, а понесла его на руках до самого кладбища Новодевичьего монастыря, то есть восемь вёрст.

Похороны Николая Некрасова
Достоевский, говоря на похоронах Некрасова о его поэзии, заметил, что по своему таланту он был не ниже Пушкина, а группа учащихся закричала ему из толпы: "Выше, выше!".
Достоевский, несколько растерявшись, ответил не без раздражения: "Не выше, но и не ниже Пушкина". А когда пришёл черёд хоронить его самого, то жена писателя вспомнила слова мужа, сказанные по возвращению с похорон поэта: «Я скоро последую за Некрасовым. Прошу тебя, похорони меня на том же кладбище. Я не хочу заснуть последним сном на Волковом, рядом с другими писателями. Я хочу лежать рядом с Некрасовым».


Зинаида Николаевна, надев после смерти мужа траур, больше уже его не снимала до конца жизни. Некрасов оставил ей немало денег, всё движимое имущество, но она скоро всего этого лишилась, раздавая неимущим, отказалась от своей доли в наследстве в пользу братьев поэта и в конце концов осталась ни с чем. Она говорила: «Болезнь Николая Алексеевича открыла мне, какие страдания на свете бывают. А смерть его - что он за человек был, показала». Перед лицом этого горя всё остальное казалось ей неважным.
Вскоре она будет забыта всеми и не будет о себе напоминать. Она жила в Петербурге, в Одессе и в Киеве, где только однажды громко, публично выкрикнула своё имя: «Я — вдова Некрасова!», останавливая еврейский погром, и обезумевшая толпа остановилась! Так магически действовало на людей имя народного поэта.

.
еврейский погром в Киеве в конце 19 века
В последние годы жизни Зинаида Некрасова жила в Саратове. В 1911 году её посетил Корней Чуковский в её доме № 70 на Малой Царицынской, ныне это улица Слонова.

Ещё один её адрес: Провиантская 8.

Долгая изнурительная болезнь напомнила ей последние мучительные дни жизни мужа. Стараясь отвлечься от боли, она читала на память стихи Некрасова:
Да не плачь украдкой! – верь надежде,
Смейся, пой, как пела ты весной.
Повторяй друзьям моим, как прежде,
Каждый стих, записанный тобой.
Утром 27 января 1915 года читатели «Саратовского вестника» увидели некролог: «Зинаида Николаевна Некрасова, вдова поэта Н. А. Некрасова, скончалась в воскресение 25 января в 4 часа 30 минут утра. Вынос тела из квартиры (Малая Царицынская, дом № 70, квартира Озолиной) сегодня 27 января в 9 часов утра на Воскресенское кладбище».
Отходив всю жизнь в черном, она завещала похоронить себя в белом.
Я часто бываю на её могиле — это в получасе ходьбы от моего дома. Участок 31.

Надгробная надпись гласит: «Некрасова Зинаида Николаевна, жена и друг великого поэта Н. А. Некрасова». Не каждую вдову великого поэта можно назвать ещё и другом. Пушкину в этом смысле не повезло.
И закончить я хочу теми же строками Некрасова, с которых я и начала первую лекцию о нём:

Я призван был воспеть твои страданья,
Терпеньем изумляющий народ!
И бросить хоть единый луч сознанья
На путь, которым бог тебя ведет.
Но, жизнь любя, к ее минутным благам
Прикованный привычкой и средой,
Я к цели шел колеблющимся шагом,
Я для нее не жертвовал собой.
И песнь моя бесследно пролетела,
И до народа не дошла она,
Одна любовь сказаться в ней успела
К тебе, моя родная сторона!
За то, что я, черствея с каждым годом,
Ее умел в душе моей спасти,
За каплю крови, общую с народом,
Мои вины, о родина! Прости!..
Николай Алексеевич Некрасов умер в возрасте 56 лет, похоронен на кладбище Новодевичьего монастыря в Санкт-Петербурге.

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/59580.html
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 2 пользователям
Сталиниана в стихах и документах |

21 декабря 1879 родился Иосиф Джугашвили (Сталин).
Одно время у меня была война с местной «патриотической" прессой, публиковавшей панегирики Иосифу Виссарионовичу. Я не могла терпеть вакханалию этих газетных славословий и пыталась как-то этому воспрепятствовать. Но что я могла — одна? И какие слова могли воздействовать на этих выкормышей палачей и рабов, взыскующих сильной руки, если не могли воздействовать исторические факты, ставшие достоянием гласности в оттепель, в эпоху перестройки?
Я решила ответить им словами поэтов. Против полчищ их статей и призывов — рать стихотворных строчек тех, кто стал достоянием нашей культуры. Предлагаю вашему вниманию этот поединок. Пусть вас не смущает давность дат — эта история повторилась сравнительно недавно, в 2010 году — к 65-летию Победы, когда в нашем городе снова намеревались ставить памятник Сталину. Уже и проект был утверждён, и макет готов, и смета составлена, и деньги собраны, и место определено. Что остановило — непонятно. Но не за горами новый праздник Победы... Поэтому — повторяю эту, к сожалению, всё ещё актуальную публикацию (из моей книги «Ангелы ада» 2004 года):
Сталиниана в стихах и документах
В номере «Земского обозрения» от 18 декабря 2002 года публикуется «Обращение к саратовцам, местным политикам, представителям власти Саратова и области»:
«Уважаемые сограждане!
На протяжении последних лет антинациональные и антигосударственные силы внутри нашей страны, при открытой поддержке из-за рубежа, развернули активную деятельность по очернению всей истории нашей страны... Великое прошлое российского и советского государства современные СМИ и «демократические историки» пытаются представить как непрерывную череду казней, репрессий, удушения свободы со стороны власти и тотального пресмыкательства со стороны народа. По существу, у нашего народа хотят отнять его историю. И основной удар в последние полтора десятка лет разрушители направляют против Иосифа Виссарионовича Сталина. Его преподносят людям в качестве величайшего злодея в истории человечества, на его личный счёт записывают все ошибки и преступления, совершённые разными деятелями той эпохи. Похитители нашей истории избрали главной мишенью Сталина, очевидно, именно потому, что он был одновременно советским и имперским вождём, объединил красную и белую историю России, привёл страну к невиданному за многие столетия могуществу...»

Передохнём. Не знаю, относят ли авторы обращения к «антинациональным и антигосударственным силам» Анну Ахматову, но она видела в Сталине именно «величайшего злодея в истории человечества», о чём писала в стихотворении, которое в целях конспирации называлось «Подражание армянскому»:

Я приснюсь тебе чёрной овцою
на нетвёрдых, сухих ногах.
Подойду, заблею, завою:
«Сладко ль ужинал, падишах?
Ты вселенную держишь, как бусу,
светлой волей Аллаха храним...
Так пришёлся сынок мой по вкусу
и тебе, и деткам твоим?»
Ахматова писала в дневнике: «И дети не оказались запроданными рябому чёрту, как их отцы. Оказалось, что нельзя запродать на три поколения вперёд». Но что им, новоявленным сталинистам, уроки истории, свидетельства и пророчества поэтов! У них свои доводы.
«Естественно, Сталин, как и все крупные исторические деятели – от Александра Македонского до Наполеона – был сложной, противоречивой личностью. Он жил и действовал в трагическую и великую эпоху, когда бушевали кровопролитные войны за передел мира, а в нашей стране волны красного и белого террора привели к колоссальному ожесточению нравов. Не Сталин и не какой-либо другой деятель виновен в том, что жизнь в тот исторический период ценилась крайне дёшево, а в мире торжествовали принципы «Кто не с нами, тот против нас» и «Если враг не сдаётся, его уничтожают».

Вот так. Сталин был всего лишь «сложной, противоречивой личностью» и вовсе не виноват в миллионах загубленных жизней. «Не Сталин и не какой-либо другой деятель». А кто? Сами виноваты? Туда им и дорога?
Послушаем ещё одного поэта, Наума Коржавина, отсидевшего за свои стихи срок в сталинских лагерях:

Так бойтесь тех, в ком дух железный,
кто преградил сомненьям путь,
в чьём сердце страх увидеть бездну
сильней, чем страх в неё шагнуть.
Таким ничто печальный опыт.
Их лозунг – «вера, как гранит!»
Такой весь мир в крови утопит,
но только цельность сохранит.
Он даже сам не различает,
где в нём корысть, а где – любовь.
Пусть так. Но это не смягчает
вины за пролитую кровь.

Есть известная евангельская притча: «покаявшийся грешник – дороже праведника». В середине 80-х Тенгиз Абуладзе выразил настроения общества своим фильмом «Покаяние». Ахматова, вынужденная ради спасения сына напечатать стихи во славу Сталина, всю жизнь потом стыдилась этих стихов и, даря сборники друзьям, заклеивала их автографами других стихотворений.

Не за то, что я чиста осталась,
словно перед Господом свеча –
вместе с вами я в ногах валялась
у кровавой куклы палача.
А «Земское обозрение» считает – не виновен. Непогрешим. И точка.
«Если всё же говорить о персональной вине за репрессии, то есть все основания полагать, что именно противники Сталина и некоторые его последующие разоблачители были главными организаторами репрессий 20-х и 30-х годов. А настоящая «вина» Сталина состоит в том, что в 1938 году он сурово наказал наиболее рьяных номенклатурных террористов. Именно этого не могут ему простить лидеры нынешней антирусской партии».

Когда-то такое уже было. Вернее, попыталось быть. В эпоху застоя, когда впервые после долгого перерыва на праздновании 20-летия Победы Л. Брежнев упомянул имя Сталина, поползли слухи о предстоящем пересмотре партийных решений в отношении сталинизма. Тогда в ответ 25 выдающихся деятелей науки и культуры, в их числе академики П. Капица, А. Сахаров, писатели В.Некрасов, К. Паустовский, К. Чуковский направили руководителям страны письмо-предостережение, опубликованное в конце 80-х в «Огоньке». Письмо разошлось в списках.
Возникла волна «самиздата». «Реквием» Ахматовой, «Крутой маршрут» Е. Гинзбург, – всё это читалось, распространялось, формировало общественное мнение. Но что нашим «земобозным» писателям и журналистам эти имена! У них свой взгляд на историю, свои представления о совести и правде. Заканчивается сие пространное «обращение» следующим призывом:
«Мы обращаемся ко всем саратовцам, к общественным деятелям, к властям Саратова и области с предложением увековечить в Саратове память об этом великом человеке. Мы предлагаем к 125-летию И.В. Сталина или к 60-летию Победы установить памятник Иосифу Виссарионовичу Сталину в Парке Победы на Соколовой горе. Мы обращаемся к общественности России с предложением восстановить историческую справедливость и увековечить в камне и металле память о великом вожде».


парк Победы на Соколовой горе. Саратов. Здесь могла бы быть - страшно подумать - эта фигура.
Следом идут подписи членов писателей России: Василий Кондрашов, Владимир Масян, Галина Мокина, Николай Палькин, Юрий Преображенский, Николай Солдатов. Замыкает этот позорный список первый секретарь обкома РКРП-РПК, секретарь Саратовского Земского Союза Игорь Сухарев. Он же – главный редактор пресловутой газеты.
Ну как тут не вспомнить знаменитую песню Александра Галича 1962 года «Ночной дозор»!

Многим тогда казалось, что кошмары сталинщины остались позади, возврата к прошлому нет. Галич не разделял таких упований. Для него это прошлое не было преодолённым. Он предполагал возможность рецидивов и, как оказалось, не ошибся. В разгар оттепели он пишет стихотворение «Ночной дозор». Как однажды ночью поэту привиделось, что все мраморные, гипсовые осколки разрушенных памятников вождю вдруг зашевелились, вскочили, как в обратной кинопроекции, на свои места, и вот уже под растущий барабанный бой угрожающе маршируют по пустынным улицам изваяния бывшего генералиссимуса.
На часах замирает маятник,
стрелки рвутся бежать обратно.
Одинокий шагает памятник,
повторённый тысячекратно.
То он в бронзе, а то он в мраморе,
то он с трубкой, а то без трубки.
И за ним, как барашки на море,
чешут гипсовые обрубки.
И бьют барабаны, бьют барабаны,
бьют, бьют, бьют!
Я открою окно, я высунусь,
дрожь пронзит, будто 100 по Цельсию!
Вижу: бронзовый генералиссимус
шутовскую ведёт процессию.
Он выходит на место лобное –
«гений всех времён и народов»!
И как в старое время доброе
принимает парад уродов.
И бьют барабаны, бьют барабаны,
бьют, бьют, бьют!

Прошло более полувека – а мы снова наступаем на те же грабли.
На второй странице «Вестника Саратовской писательской организации 1998-2001» – «групповое фото писателей М. Алексеева, И. Шульпина, Н. Палькина», а также других на фоне танка с надписью «За Сталина!» – с гордостью сообщает «Земское обозрение» за 3.04.2002. Из номера в номер публикуют они прекрасные портреты генералиссимуса (в номере от 17 мая 2004 года так даже на фоне современной женской задницы, чтобы читатель, так сказать, мог сравнить и уяснить, что Сталин всё-таки лучше). А мне вспоминается Мандельштам:

Его толстые пальцы, как черви, жирны,
а слова, как пудовые гири, верны,
тараканьи смеются усища,
и сияют его голенища.
А вокруг его сброд тонкошеих вождей,
он играет услугами полулюдей.
Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет.
Он один лишь бабачит и тычет.
Как подковы куёт за указом указ –
кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз.
Что ни казнь у него – то малина
и широкая грудь осетина.

В номере от 10 сентября 2003 года нам спешат сообщить о великой радости: «4 сентября в нашем городе произошло неординарное событие. Собравшиеся в областном Совете ветеранов представители многих партий и общественных организаций учредили «Комитет защиты памяти о Сталине». В списке этих партий и организаций, правда, не было представителей КПРФ, но это «земобозцев» не смущало. «Однако это логично, – пишут они. – Ещё весной Г. Зюганов заявил, что партия осудила «культ личности» и находится на позициях 20 съезда, то есть на хрущёвской платформе. (Замечу, что сейчас позиция Зюганова в отношении к сталинизму и культу личности кардинально поменялась -Н.К.) Собравшиеся сталинцы выразили намерение к 60-летию Победы установить памятник вождю на Соколовой горе. За поддержкой они намерены обратиться к единомышленникам в стране и мире. Бюро комитета обращается к гражданам с просьбой присылать отклики на данную инициативу в прессу, в частности – в «Земское обозрение».
Видимо, откликов было немного, ибо в очередном номере от 17 сентября газета снова печатает текст «обращения» под жирным заголовком: «Сохраним память о вожде!» «Мы вновь обращаемся к читателям с призывом откликнуться на эту инициативу... Быть может, именно установление памятника И.В. Сталину станет переломным моментом, с которого начнётся путь к возрождению нашей страны».
И снова дадим слово поэзии.

...И вот лежит на пышном пьедестале
меж красных звёзд, в сияющем гробу,
«Великий из великих» – Оська Сталин,
всех цезарей превозойдя судьбу.
А перед ним в почётном карауле
стоят народа меньшие «отцы»,
те, что страну в бараний рог согнули, –
ещё вожди, но тоже мертвецы.
Какие отвратительные рожи,
кривые рты, нескладные тела:
вот Молотов. Вот Берия, похожий
на вурдалака, ждущего кола...
В безмолвии у сталинского праха
они дрожат. Они дрожат от страха,
угрюмо пряча некрещёный лоб, –
и перед нами высится, как плаха,
проклятого «вождя» – проклятый гроб.

Это стихотворение было написано Георгием Ивановым в год смерти Сталина.

В следующем номере от 24 сентября 2003 года «Земское обозрение», «невзирая на антирейтинги», «продолжает сталинскую тему» и публикует «присланную читателями» "балладу".
«Забыли мы отца своего, Иосифа!» – хрипловато вздыхает наутро дядя Коля, одноногий сосед, в застиранной тельняшке, но с вечно сияющей «Победой» в стальном гараже. Для него Иосиф не просто боевой клич. И уж тем более не чушь собачья, которой облаивают – гав-гав, гав-гав... – всякие моськи мёртвого Сталина... Не понять политическим моськам, что СТАЛИН – ДУХ НАРОДА! И убить его не удастся никому, хоть за 1000 лет! Потому что в нём слились души былинных богатырей и Александра Невского, сказочного Вия и героев Пушкина, Фёдора Шаляпина и Володи Высоцкого, Стеньки Разина и миллионов и миллионов гениев, героев и тружеников...
Не горюй, дядя Коля, крепок наш дух. Помним мы отца нашего, Иосифа. И скоро кое-кому напомним!!!»

Ну просто 37 год какой-то. Эта кликушеская бредятина почему-то была помещена без подписи, вызывая ассоциации отнюдь не с народным творчеством, как того видимо хотелось редакции, а с анонимками и доносами сталинских времён. Если же принять на веру, что такие дремучие экземпляры существуют в действительности, а не плод фантазии журналиста и не частный клинический случай…


Вспоминается стихотворение Наума Коржавина «Оторопь»:
Где тут спрятаться? Куда?
Тихо входит в жизнь беда,
всех спасает, как всегда,
от страданий слепота –
лучший друг здоровья...
Но чтобы сохранить эту «слепоту» сейчас – надо уж очень крепко зажмуриться.
В дореволюционных энциклопедиях была такая статья: «Нравственное помешательство». Это (цитирую): «психическая болезнь, при которой моральные представления теряют свою силу и перестают быть мотивом поведения. При нравственном помешательстве (нравственная слепота, нравственный дальтонизм) человек становится безразличным к добру и злу, не утрачивая, однако, способности теоретически формального между ними различения». В советских энциклопедиях эта статья уже отсутствует, словно революция разом вылечила всю страну от нравственного помешательства, и термин исчез как ненужный. Однако, как показывает практика, преждевременно. Нравственное помешательство иных больных грозит перерасти в эпидемию.

К сожалению, сталинизм не выкорчеван, он жив, и его проявления ощущаются в поведении как многих представителей уходящих поколений, так и молодых людей, не знающих, не понимающих трагедий прошлых лет. Кажется, что мы живём на тонкой плёнке, которая в любой миг может прорваться, и тогда все мы, вся страна провалится опять туда – в лагеря, в ГУЛАГ, в ужас той жизни, когда никто не знает, что с ним будет завтра, и будет ли он завтра.

Не может быть? А почему? Разве граждане России в начале века были глупее нас, сегодняшних? Разве немцы 20-30-х были дураки? Разве трёхтысячелетняя культура помешала китайцам провалиться в безумие маоизма?

Да, их бронепоезд всё ещё стоит на запасном пути. Всё ждут, надеятся, а может, снова возникнет нужда в заплечных дел мастерах? Как там у Галича?
«Мы на страже» – говорят палачи.
«Но когда же?» – говорят палачи.
«Поскорей бы» – говорят палачи.
«Встань, Отец, и вразуми, поучи!»

Но ведь были, и в эпоху сталинизма были Фёдор Раскольников, Мартемьян Рютин с его письмом «Ко всем членам ВКП(б)», Анатолий Жигулин с его воронежской «Молодой гвардией» и поэмой «Чёрные камни». А солженицинские «Архипелаг ГУЛАГ» и «Один день Ивана Денисыча»? А шаламовские «Колымские рассказы»? «Жизнь и судьба» Гроссмана? «Софья Петровна» Лидии Чуковской?
Ну хорошо, предположим, «туземское оборзение» и «иже с ними» не читали (или не признают) всех этих книг, стихов и рассказов. Но фильмы-то они видели? «Ближний круг», например? «Утомлённые солнцем»? «А завтра была война»? Неужели не смотрели?
Неужели так ничего и не поняли?! Неужели в памяти остались только «Кубанские казаки»?
Не в силах расстаться с мечтой о памятнике вождю всех времён и народов, земские обозренцы в номере от 26 ноября 2003 года ликующе сообщают, что «план, который наметили саратовские патриоты, уже воплощён в г. Ишиме Тюменской области. В центре этого города установлен бюст Иосифа Виссарионовича Сталина». Так может быть вам прямо туда и перекочевать с вашим изданием, господа? Увидели бы воочию те места, где ваш любимый вождь гноил лучших людей отечества. Музей бы его имени создали, который в Гори закрыли.

«Комитету защиты памяти о Сталине» неймется. Он вновь обращается к «уважаемым саратовцам» с просьбой:
«Как известно, в ходе хрущёвских «реформ» было разрушено множество памятников И.В. Сталину. Их постигла разная судьба, но, как показывают события в городе Ишиме, многие из них могли сохраниться. Если вам известно о местонахождении таких памятников, если у вас имеются бюсты И.В. Сталина, сообщите об этом в редакцию «Земского обозрения». Мы уверены, что с вашей помощью памятник И.В. Сталину в Саратове будет установлен к 60-летию Победы».

И снова всплывает в памяти Галич:
Утро Родины нашей розово,
позывные летят, попискивая.
Восвояси уходит бронзовый,
но лежат, притаившись, гипсовые.
Пусть до времени покалечены,
но и в прахе хранят обличие.
Им бы, гипсовым, человечины –
они вновь обретут величие!
И будут бить барабаны, бить барабаны,
бить, бить, бить...

Цинизм неосталинистов не знает границ. В номере от 29 марта 2004 года в «Земском обозрении» публикуется редкая по своей подлости заметка. Привожу её полностью:
«Где найти жертв?
В Москве представители так называемого общества «Мемориал» презентовали миру компакт-диск с именами 1млн. 340 тыс. «жертв» классического сталинского режима. На сбор информации у правозащитников, финансируемых Михаилом Ходорковским, ушло целых 10 лет, но большей цифры выдавить из себя они так и не сумели, заявив только, что жертв» на самом деле в десять раз больше. Вероятно, теперь правозащитникам урежут финансирование, ведь они должны были нарисовать 20, 30 или даже 100 миллионов репрессированных, но сумели выдавить из себя только один миллион триста тысяч. В число «жертв» террора вошли русские крестьяне, уничтоженные масонами-троцкистами во время коллективизации, наркоторговцы и наркоманы, полностью истреблённые в 30-е годы, сутенёры и гоп-стопники, строившие Беломорканал».

А «1 млн. 340 тыс.» – это что для вас, не люди? Мало, да? «Эх, недостреляли, недобили, недожали, недоупекли!» – как писал Юрий Даниэль от лица вот таких «патриотов».
А зато и Родину любили!
Транспаранты к празднику несли!
Мы не ждали критики гитарной -
загодя могли скрутить узлом.
Что не так - пожалуйте в товарный -
пайку выковыривать кайлом!
Какой плевок в души всех, чьи близкие были замучены в лагерях, погибли в сталинских застенках, пострадали от репрессий! «Есть ли в истории пример, чтобы столько всем известного злодейства было неподсудно, ненаказуемо? –писал А. Солженицин. – И чего же доброго ждать? Что может вырасти из этого зловония?» Теперь мы видим, что выросло.


Как будто дело всё в убитых,
в безвестно канувших на север, –
а разве веку не в убыток
то зло, что он в сердцах посеял? –
писал Борис Чичибабин. Порча коснулась самых основ человеческой натуры. Во времена сталинщины сохранить порядочность было очень трудно. Порядочные люди не требовались, они мешали. Деспотизм нуждался в послушании, бездумии. Нравственность заменяли лозунги: «Люди – винтики», «Незаменимых нет», «Морально то, что для пользы дела, что служит строительству нового строя», «Жалость унижает человека».
Людей приучали: за них думает и решает партия, вождь партии. Ради интересов дела заставляли отречься от родителей, близких, друзей. Предательство считалось преданностью. Доносительство оправдывалось, к нему обязывали и детей, и взрослых. Фискал ходил с гордо поднятой головой – он исполнял свой долг. Была деформирована личность, утрачены нравственные ориентиры.
Пока есть бедность и богатство,
пока мы лгать не перестанем
и не отучимся бояться –
не умер Сталин.
Пока во лжи, неукротимы,
сидят холёные, как ханы,
антисемитские кретины
и государственные хамы,
покуда взяточник заносчив
и волокитчик беспечален,
пока добычи ждёт доносчик –
не умер Сталин.

В номере за 26 апреля 2004 года А. Климов глумливо пишет:
«Интересно,например, как себе представляют наши либералы и их американские покровители наказание создателей ГУЛАГа? Казалось, эту тему закрыли лет десять назад, но ведь кому-то неймётся! Вначале, очевидно, КПСС и КГБ будут признаны преступными организациями. Потом начнётся охота на стариков. Восьмидесятилетних ветеранов будут вытаскивать из-под капельницы и отправлять в кутузку. Хорошая перспектива, от нее так и веет гуманизмом!»
Гитлеровский режим рухнул в 1945 году – более полувека назад. Но мировое сообщество до сих пор разыскивает и судит бывших нацистских преступников. Сталинский режим закончился в 1953-м. То есть наши палачи в среднем на восемь лет моложе немецких. У нас есть ещё в запасе немного времени, чтобы очиститься от грязи, излечиться от тяжёлой болезни неосужденного зла.
Скажут: «Эти люди просто выполняли приказ. Они просто боялись. Тогда всё было по-другому». Но если признать, что тогда всё было по-другому, – значит, в будущем всё останется по-старому.
Никто не жаждет крови. Наверное, не нужно тюрем, ссылок и запретов на профессию. Что взять со стариков на восьмом десятке? Но крайне важно, чтобы судья сказал престарелому сталинскому палачу: «Вы совершили тяжкое преступление. Но суд, учитывая Ваш преклонный возраст и болезни, решил Вас помиловать. Не оправдать, не амнистировать (то есть простить), а именно помиловать. Вам позволено дожить остаток лет на свободе в семье. Однако помните – помилование не снимает тяжести преступления».
Грех надо постараться искупить. Как? Может быть, дети и внуки бывших чекистов попросят прощения у бывших узников ГУЛАГа – но не только на словах. Реально помогут старым, больным и нищим жертвам сталинских репрессий. Навестят в больнице, сходят за лекарством. Посмотрят им в глаза, пораспросят о жизни. Может быть, они в конце концов смоют кровь с рук своих дедушек, которые «выполняли приказ, потому что боялись».

Если честно, больно и стыдно писать все эти банальности. Неловко перед нормальными людьми, для которых всё это и без меня очевидно и бесспорно. Но, к сожалению, есть еще немало таких, которым напоминание прописных истин просто необходимо.


Ещё цитата.
«Отрицание Сталина и его деятельности есть не что иное, как отрицание права русского народа на строительство собственного государства. Речь идёт о необходимости объективной оценки его деятельности, преклонения потомков перед его патриотизмом, его гигантской деятельностью во славу Отечества. Без такой оценки и речи быть не может быть о возрождении национальной идеи, равно как и возрождении самой духовности... Борьба против Сталина изначально носила антигосударственный характер и финансировалась силами международной реакции и мирового империализма... Было ли его правление более жестоким, чем, скажем, отношение Джорджа Вашингтона к коренному населению США, испанских конкистадоров к цивилизациям Южной Америки,англо-французских колонизаторов к аборигенам Австралии, Океании, Экваториальной Африки и в особенности к создателям древнейших цивилизаций Ближнего и Дальнего Востока?» – из книги Бранко Арсенивича «Маяки в тумане». Что называется – без комментариев.

У Е. Евтушенко есть стихотворение, которое называется «Наследники Сталина». Оно – лучший комментарий ко всему выше процитированному.

Он был дальновиден. В законах борьбы умудрён,
Наследников многих на шаре земном он оставил.
Мне чудится, будто поставлен в гробу телефон.
Кому-то опять сообщает свои указания Сталин.
Куда ещё тянется провод из гроба того?
Нет, Сталин не сдался. Считает он смерть поправимостью.
Мы вынесли из Мавзолея его.
Но как из наследников Сталина Сталина вынести?

Это стихотворение было написано поэтом в 1962 году, но до сих пор, к сожалению нашему и стыду, актуально. Так же, как и эти строки Бориса Чичибабина, под которыми подписываюсь обеими руками:
Я на неправду чёртом ринусь,
не уступлю в бою со старым, –
но как тут быть, когда внутри нас
не умер Сталин?
Клянусь на знамени весёлом
сражаться праведно и честно,
что будет путь мой крут и солон,
пока исчадье не исчезло,
что не сверну и не покаюсь
и не скажусь в бою усталым,
пока дышу я и покамест
не умер Сталин!

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/57010.html
|
|
"И оттого-то мой талант владеет вашею душою..." (продолжение) |
Начало здесь


Без родины
Среда, в которую попал Северянин, была далека от литературной петербургской элиты. Это были простые люди — рыбаки, плотники, для которых он был не знаменитый поэт, а барин, дворянин, сын офицера. За это его ценили и кормили в семье, где он, по сути, был нахлебником.

Дом, где жил Северянин в посёлке Тойла
Оставшись без родины, король поэтов быстро утрачивает былую славу. Его всё реже печатают, тощие сборники выходят мизерными тиражами. Он изредка выступает на вечерах, занимается переводами, но это не давало достаточного заработка. Здесь Северянин жил в большой нужде. Днём он ловил рыбу, а ночью садился в лодку и выезжал на середину реки. И там, где его никто не слышал, он читал свои стихи звёздам, камышам и водяным лилиям. Читал и плакал.

Стала жизнь совсем на смерть похожа:
Все тщета, все тусклость, все обман.
Я спускаюсь к лодке, зябко ёжась,
Чтобы кануть вместе с ней в туман...
Я постиг тщету за эти годы.
Что осталось, знать желаешь ты?
Поплавок, готовый кануть в воду,
и стихи — в бездонность пустоты...

Кому-то что-то о поэте
споют весною соловьи.
Чего-то нет на этом свете,
что мне сказало бы: живи!..
Он пишет уже, главным образом, для себя. Стихи его становятся естественнее, проще, в них звучат грустные ноты тоски по России, по утраченной родине.
От гордого чувства, чуть странного,
Бывает так горько подчас:
Россия построена заново
Не нами, другими, без нас...
Уж ладно ли, худо ль построена,
Однако построена все ж.
Сильна ты без нашего воина,
Не наши ты песни поешь!
И вот мы остались без родины,
И вид наш и жалок, и пуст,
Как будто бы белой смородины
Обглодан раскидистый куст.

Да и время его, по-видимому, безвозвратно прошло: у русскоязычных эмигрантов были другие проблемы, в Советском Союзе поэта давным-давно забыли, настолько неактуальны оказались его королевы, гризетки и ландо. Да и ему самому в вечном поиске средств к существованию было уже не до пажей и будуаров. Северянин ходил по дворам дач и предлагал хозяйкам свежий улов — полтора десятка окуньков. Чтобы свести концы с концами сам продавал свои сборники. Стучался в гостиничные номера, где останавливались соотечественники - «не купите ли книжку Игоря Северянина с автографом?»
Северянин безуспешно обивал пороги редакций, пытаясь хоть что-то напечатать. Редактор рижской газеты «Сегодня» Мильруд, не зная, как избавиться от не нужных ему стихов надоевшего Северянина, принимает, как ему кажется, мудрое соломоново решение: платить ему ежемесячно пенсию за молчание, с предупреждением, что если тот пришлёт хотя бы одно стихотворение, то пенсии тут же конец: «Может быть, не на ананасы в шампанском, но на табачок и водочку хватит». Северянин был вынужден проглотить и эту обиду — можно представить, чего это ему стоило! В письме другу он пишет: «Положение моё здесь из вон рук плохо. Нет ни работы, ни средств к жизни, ни здоровья. Терзают долги и бессонные ночи». В эти дни он пишет «Поэзу отчаянья»:

Я ничего не знаю, я ни во что не верю,
Больше не вижу в жизни светлых ее сторон.
Я подхожу сторожко к ближнему, точно к зверю.
Мне ничего не нужно. Скучно. Я утомлен.
Кто-то кого-то режет, кто-то кого-то душит.
Всюду одна нажива, жульничество и ложь.
Ах, не смотрели б очи! ах, не слыхали б уши!
Лермонтов! ты ль не прав был: "Чем этот мир хорош?"
Мысль, даже мысль продажна. Даже любовь корыстна.
Нет воплотимой грезы. Все мишура, все прах.
В жизни не вижу счастья, в жизни не вижу смысла.
Я ощущаю ужас. Я постигаю страх.
Он хотел вернуться в Россию, но тут на нём камнем повисла Фелисса. Она наотрез отказалась ехать, боясь, что русские экспансивные женщины отнимут у неё Северянина. Кроме того, её там заставят работать, а она хочет быть праздной. Северянин не решился порвать с ней и скрепя сердце остался.

Пожалуй, самые сильные его стихи — ностальгические, проникнутые тоской по родине. Вот одно из них, предтеча Галичевского «Когда я вернусь...»:
И будет вскоре весенний день,
И мы поедем домой, в Россию…
Ты шляпу шелковую надень:
Ты в ней особенно красива…
И будет праздник… большой, большой,
Каких и не было, пожалуй,
С тех пор, как создан весь шар земной,
Такой смешной и обветшалый…
И ты прошепчешь: «Мы не во сне?…»
Тебя со смехом ущипну я
И зарыдаю, молясь весне
И землю русскую целуя!
В 1930 году поэт совершил поездку в Париж, где дал два поэзоконцерта.

Париж 30-х годов. Площадь Сен-Мишель
На последнем присутствовала Марина Цветаева.

Вот что писала она в одном из писем: «Единственная радость за все эти долгие месяцы — вечер Игоря Северянина. Он больше чем остался поэтом, он — стал им. На эстраде стояло 20-летие. Стар до обмирания сердца, морщин — как у 300-летнего, но занесёт голову — всё ушло — соловей!»

Пой, менестрель! Пусть для миров воспетья
Тебе подвластно все! пусть в песне -- цель!
Пой, менестрель двадцатого столетья!
Пой, менестрель!
Пой, менестрель! Слепец, -- ты вечно зрячий.
Старик, -- ты вечно юный, как апрель.
Растопит льды поток строфы горячей, --
Пой, менестрель!
Пой, менестрель, всегда бездомный нищий,
И правду иносказно освирель...
Песнь, только песнь -- души твоей жилище!
Пой, менестрель!
«Я всех людей на свете одиноче»
Это был последний творческий взлёт Северянина. В 1935 году он расстаётся с Фелиссой Круут и навсегда покидает Тойлу.
Чем в старости слепительнее ночи,
Тем беспросветней старческие дни.
Я в женщине не отыскал родни:
Я всех людей на свете одиноче.
Последней спутницей его стала учительница Вера Коренди (Запольская).

С нею они живут в Таллине, Усть-Нарве. Правда, Северянин потом жалел о своём уходе от Фелиссы и называл его «трагической ошибкой». Он так и не смог полюбить Веру — красивую, намного моложе его, которая ухаживала за тяжелобольным поэтом, заботилась до конца его дней. Писал бывшей жене (развода с которой так и не оформил), просил её простить и принять обратно.

Но гордая Фелисса, с трудом сводившая концы с концами и одна воспитывавшая их сына Вакха, измены ему так и не простит.

Она умрёт в 1957 году (в 55 лет), а вот Вера Коренди (по мужу Коренева) проживёт до 1990-го. Но в Таллине, где она обитала всю свою жизнь, её не почитали как жену поэта. И даже не пригласили в 1987 году на торжества по случаю 100-летия со дня рождения Северянина. Воспоминания вдовы, написанные в основном уже в пожилые годы, до сих пор пылятся в госархиве РГАЛИ без публикации.

В Таллине в последние годы Северянин выступал в ресторанах с чтением своих поэз. Это была не та восторженная публика, к которой он привык в Петербурге. Люди приходили сюда развлечься. В стихотворении «Их образ жизни» поэт с раздражением писал:
Чем эти самые живут,
что вот на паре ног проходят?
Пьют и едят, едят и пьют,
и в этом жизни смысл находят.
Один из ресторанов, где особенно часто выступал Северянин, назывался «VILLA MON REPOS». Под впечатлением этой публики поэт пишет саркастическую поэзу:
Мясо наелось мяса, мясо наелось спаржи,
Мясо наелось рыбы и налилось вином.
И расплатившись с мясом, в полумясном экипаже
Вдруг покатило к мясу в шляпе с большим пером.
Мясо ласкало мясо и отдавалось мясу.
И сотворяло мясо по прописям земным.
Мясо болело, гнило и превращалось в массу
Смрадного разложенья, свойственного мясным.
Большое видится на расстояньи
Живя вдали от России, Северянин тем не менее из своего далека видел многое в нашей стране из того, что «лицом к лицу не увидать», гораздо зорче многих соотечественников. Об этом говорит одно из его прозорливых стихотворений, которое смогло быть опубликовано только в перестроечные годы:

Я чувствую, близится судное время:
Бездушье мы духом своим победим,
И в сердце России пред странами всеми
Народом народ будет грозно судим.
И спросят избранники — русские люди —
У всех обвиняемых русских людей,
За что умертвили они в самосуде
Цвет яркий культуры отчизны своей.
Зачем православные Бога забыли,
Зачем шли на брата, рубя и разя…
И скажут они: «Мы обмануты были,
Мы верили в то, во что верить нельзя…»
Когда началась Отечественная война и немцы вступили на территорию Эстонии, поэт был уже тяжело болен. Он не мог эвакуироваться как все общим порядком, с трудом передвигаясь по комнате. Северянин посылает телеграмму Калинину с просьбой прислать за ним из Ленинграда машину, писал Всеволоду Рождественскому с просьбой похлопотать у всесильного Жданова, но помощи так и не дождался. Предпринятая самостоятельно попытка уехать в Ленинград сорвалась и Северянин вернулся в Таллин. А может быть, это было и к лучшему. Кто знает, что было бы с принцем фиалок в сталинской России? Зачем стране социализма лесофеи и златополдни? Одно из его неопубликованных до 90-х годов стихотворение называется «Поэза правительству», полное вызова, горечи и обиды:

Правительство, когда не чтит поэта
Великого, не чтит себя само
И на себя накладывает вето
К признанию, и срамное клеймо.
Правительство, зовущее в строй армий
Художника, под пушку и ружье,
Напоминает повесть о жандарме,
Предавшем палачу дитя свое.
Правительство, лишившее субсидий
Писателя, вошедшего в нужду,
Себя являет в непристойном виде
И вызывает в нем к себе вражду.
Правительство, грозящее цензурой
Мыслителю, должно позорно пасть.
Так, отчеканив яркий ямб цезурой,
Я хлестко отчеканиваю власть.
А общество, смотрящее спокойно
На притесненье гениев своих,
Вандального правительства достойно,
И не мечтать ему о днях иных...
Итоговой для зарубежного периода стала книга Северянина «Классические розы», вобравшие стихи 20-30-х годов.
В те времена, когда роились грезы
В сердцах людей, прозрачны и ясны,
Как хороши, как свежи были розы
Моей любви, и славы, и весны!
Начало цикла «Классические розы». Классический Северянин. Классическая гамма: Мятлев, увековеченный Тургеневым.
Прошли лета, и всюду льются слезы…
Нет ни страны, ни тех, кто жил в стране…
Как хороши, как свежи ныне розы
Воспоминаний о минувшем дне!
Вертинский берёт это в свой репертуар и поёт на концертах.
Но дни идут — уже стихают грозы.
Вернуться в дом Россия ищет троп…
Как хороши, как свежи будут розы,
Моей страной мне брошенные в гроб!

Эти строки эстонцы выбьют на могильном камне Игоря Северянина.

Он умрёт от сердечной недостаточности в возрасте 54 лет 20 декабря 1941 года и будет похоронен на Таллинском Александро-Невском кладбище.
Эпилог
Если внимательно вчитаться в стихи Северянина, то легко можно заметить его виртуозное владение словом, профессионализм и яркий мир образного письма. Когда увлечение поэзами пошло на убыль и фразы типа «я, белоснежный, печально юный бубенчик-ландыш, шуршу в свой чепчик», то стал проступать истинный Северянин – талантливый и трагичный, пресыщенный фальшью окружающих и искусственностью быта, в котором состояла тогда вся интеллигенция. Он устал веселить всех и быть для одних ярмарочным уродом, для других - новенькой и блестящей погремушкой.
Его упрекали в пошлости, а он между тем лишь только подсовывал публике зеркальце, скрывая под маской лицо, искаженное гримасой невыразимой боли: «Он тем хорош, что он совсем не то, что думает о нем толпа пустая, стихов принципиально не читая, раз нет в них ананасов и авто…».

И хотелось бы, чтобы знали его не только как певца ананасов в шампанском, но и как автора простых, негромких, щемящих строк, таких, например, как эти:
На восток, туда, к горам Урала,
Разбросалась странная страна,
Что не раз, казалось, умирала,
Как любовь, как солнце, как весна.
И когда народ смолкал сурово
И, осиротелый, слеп от слез,
Божьей волей воскресала снова, —
Как весна, как солнце, как Христос!
Стихотворение это называется «Предвоскресье». Звучит как надежда. Нам так её сейчас не хватает.
Полностью мою лекцию об Игоре Северянине можно послушать здесь:
https://rutube.ru/video/9819fd0582e1e438987706ee13816ff4/?ref=logo
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/56684.html
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю






























