-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Статистика
Записей: 871
Комментариев: 1385
Написано: 2520
"Слагаются стихи навзрыд..." |
Начало здесь.

10 февраля 1890 года родился Борис Пастернак.
Есть художники, отмеченные постоянными возрастными признаками. (Это не паспортный и не биологический возраст, а возраст души. То,что Тэффи называла «метафизическим возрастом»). Так, в Бунине, в Набокове есть чёткость ранней осени, они как будто всегда сорокалетние. Сологуб словно родился уже древним стариком. Пастернак же — вечный подросток. Он был — сама жизнь, само движение. «Он был как выпад на рапире» - эту его строчку можно отнести и к нему самому. Этот клокочущий огонь изнутри, белозубая улыбка, порывистые жесты...

Сколько нужно отваги,
чтоб играть на века,
как играют овраги,
как играет река. -
это прежде всего о нём самом сказано. Притом, что сам он никогда не играл, не лицедействовал в жизни, - жизнь в нём играла, вдохновение било ключом. Марина Цветаева писала ему: «Вы не человек, а явление природы. Бог по ошибке Вас создал человеком».
В его ранних стихах есть всё, что мы называем Пастернаком: роскошь аллитераций, свежесть образов, непосредственность интонации. Образность в них порой избыточна, экспрессия хлещет через край, смысл ускользает, слово ведёт автора, звук правит сюжетом. У раннего Пастернака часто вовсе не поймёшь, о чём идёт речь, да это и не важно ... Читать его слишком трезвыми глазами нельзя. В каждой строке сияет фантастическая полнота жизни: эти тексты не описывают природу — они становятся её продолжением. Поэтому не стоит требовать от них логической связности, - они налетают порывами, как дождь, шумят, как листва...
Лодка колотится в сонной груди,
Ивы нависли, целуют в ключицы,
В локти, в уключины - о, погоди,
Это ведь может со всяким случиться!
Этим ведь в песне тешатся все.
Это ведь значит - пепел сиреневый,
Роскошь крошеной ромашки в росе,
Губы и губы на звезды выменивать!
Это ведь значит - обнять небосвод,
Руки сплести вкруг Геракла громадного,
Это ведь значит - века напролет
Ночи на щелканье славок проматывать!
Борис Щербаков. В лодке.
Удивительно, как возник, как смог выжить и сохраниться в рамках казённой эпохи этот поистине эллинского, античного размаха человек? Как смог сохранить в себе гармонию этот гармоничнейший поэт 20 века в своё дисгармоничное время? Чтобы понять это, понять корни поэтики Пастернака, необходимо обратиться к его биографии — и семейной, и литературной.
Живописное начало
Родился Борис Леонидович Пастернак (29 января) 10 февраля 1890 года в Москве, на углу Оружейного переулка и Второй Тверской-Ямской улицы.

Поэт вырос в высококультурной еврейской семье.

Отец — известный художник портретист Леонид Осипович Пастернак, академик, преподавал в училище живописи, ваяния и зодчества, иллюстрировал книги, в частности, «Войну и мир» и «Воскресение» Л. Толстого. Мать, Розалия Кауфман, была профессиональной, весьма одарённой пианисткой, одной из самых популярных концертирующих пианисток в России, ученицей Антона Рубинштейна, но пожертвовала музыкальной карьерой ради семьи.

Артистическая обстановка дома, где бывали известные художники, музыканты, писатели, знакомство родителей с Л. Толстым, Серовым, Васнецовым, Ге, Скрябиным, Рахманиновым, рано воспитали у будущего поэта отношение к искусству как к норме, естественной части жизни.
С детства Борис увлёкся живописью. С шести до 12-ти лет он занимался рисунком.

Б. Пастернак в 1898 году. Рисунок Л. Пастернака
Их квартира позднее находилась в здании училища живописи, ваяния и зодчества на Мясницкой, где часто устраивались выставки передвижников.

Отсюда, с детства — столь ярко выраженное в поэзии Пастернака живописное начало.
Душа — душна, и даль табачного,
какого-то, как мысли, цвета...
Цвет небесный, синий цвет
полюбил я с малых лет...
«Мир — это музыка, к которой надо найти слова»
С 13-ти лет на смену увлечению живописью приходит тяга к музыке.

Борис играет. Рис. Л. Пастернака
Как сам поэт выразился, «музыкально лепетать» он начал намного раньше, чем «лепетать литературно». Пастернаку пророчат большое музыкальное будущее, лавры композитора, пианиста.
Его кумиром в музыке был А.Скрябин, по счастливой случайности — их сосед по даче.

В поэме «1905 год» об этой поре жизни Пастернак потом напишет:
Раздаётся звонок. Голоса приближаются: Скрябин.
О, куда мне бежать от шагов моего божества!
Позднее Скрябину будут посвящены страницы прозы в «Охранной грамоте», где Пастернак скажет: «Больше всего на свете я любил музыку, больше всех в ней — Скрябина».

Когда-то, ещё в юности у него вырвались замечательные слова, которые можно было бы поставить эпиграфом к его жизни: «Мир — это музыка, к которой надо найти слова».
Жилец шестого этажа
На землю посмотрел с балкона,
Как бы ее в руках держа
И ею властвуя законно.
Вернувшись внутрь, он заиграл
Не чью-нибудь чужую пьесу,
Но собственную мысль, хорал,
Гуденье мессы, шелест леса.
Раскат импровизаций нес
Ночь, пламя, гром пожарных бочек,
Бульвар под ливнем, стук колес,
Жизнь улиц, участь одиночек...
(«Музыка»)

Музыка была его культом. Современники рассказывали, что нередко Пастернак плакал, слушая шопеновские этюды. Если Скрябин — божество юности, то Шопен — его божество навсегда. Шопен пришёл и на страницы пастернаковской лирики.
...Гремит Шопен, из окон грянув,
А снизу, под его эффект,
Прямя подсвечники каштанов,
На звезды смотрит прошлый век.
Как бьют тогда в его сонате,
Качая маятник громад,
Часы разъездов и занятий,
И снов без смерти, и фермат!
Итак, опять из-под акаций
Под экипажи парижан?
Опять бежать и спотыкаться,
Как жизни тряский дилижанс?
Опять трубить, и гнать, и звякать,
И, мякоть в кровь поря, опять
Рождать рыданье, но не плакать,
Не умирать, не умирать?
Опять в сырую ночь в мальпосте
Проездом в гости из гостей
Подслушать пенье на погосте
Колес, и листьев, и костей?
В конце ж, как женщина, отпрянув
И чудом сдерживая прыть
Впотьмах приставших горлопанов,
Распятьем фортепьян застыть?
А век спустя, в самозащите
Задев за белые цветы,
Разбить о плиты общежитий
Плиту крылатой правоты.
Опять? И, посвятив соцветьям
Рояля гулкий ритуал,
Всем девятнадцатым столетьем
Упасть на старый тротуар.
Вскоре Пастернак обнаруживает, что у него нет абсолютного слуха, этот факт приводит его в полное отчаяние. Он запрещает себе состояться в этой профессии. Не помогли и ссылки Скрябина на Вагнера и Чайковского, которые отлично обходились без абсолютного слуха. Абсолютный слух, видимо, только у Бога да у настройщиков роялей. Однако Пастернак увидел в своём несовершенстве знак того, что его не желает музыка.

«Во всём мне хочется дойти до самой сути...»: http://video.mail.ru/mail/svv-home/11363/11370.html
Он решил, что здесь ему не дано было дойти до самой сути. И, значит, он не будет навязываться музыке. И вот эту музыку из какой-то мистической сверхчестности Пастернак стал вырывать из себя. Он перестал прикасаться к роялю, не ходил на концерты, избегал встреч с музыкантами. Порой ему казалось, что он убил в себе главное, и его охватывала тоска, он впадал в меланхолию... Однако потребность творчества не оставляла его, сама разноголосица жизни, жажда действительности быть изображённой требовали и ждали от Пастернака чего-то, какой-то иной, новой музыки. Он искал себя. Искал пути к идеалу.

Л. Пастернак. Муки творчества
Во всем мне хочется дойти
До самой сути.
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте.
До сущности протекших дней,
До их причины,
До оснований, до корней,
До сердцевины.
Все время схватывая нить
Судеб, событий,
Жить, думать, чувствовать, любить,
Свершать открытья.
О, если бы я только мог
Хотя отчасти,
Я написал бы восемь строк
О свойствах страсти.
О беззаконьях, о грехах,
Бегах, погонях,
Нечаянностях впопыхах,
Локтях, ладонях.
Я вывел бы ее закон,
Ее начало,
И повторял ее имен
Инициалы.
Я б разбивал стихи, как сад.
Всей дрожью жилок
Цвели бы липы в них подряд,
Гуськом, в затылок.
В стихи б я внес дыханье роз,
Дыханье мяты,
Луга, осоку, сенокос,
Грозы раскаты.
Так некогда Шопен вложил
Живое чудо
Фольварков, парков, рощ, могил
В свои этюды.
Достигнутого торжества
Игра и мука
Натянутая тетива
Тугого лука.
«Тот удар — исток всего»
На пути от музыки к поэзии Пастернак испытает ещё одно увлечение — философией.

Он поступает в университет, на историко-филологический факультет, на философское отделение. Окончив курс в 1912 году, едет за границу, в Марбург, где был центр философских течений того времени.

Марбург – маленький средневековый город. Тогда он насчитывал 29 тысяч жителей. Половину составляли студенты.
Но там Пастернак вскоре понимает, что и философия — не его призвание. Когда глава марбургской школы профессор Коген одобрил два реферата Бориса и предложил остаться в Германии для защиты докторской степени, о чём Пастернак не смел и мечтать, отправляясь в Марбург — всё это было уже не нужно ему.

профессор Коген
Пастернак отказался от карьеры философа, как отказался ранее от композиторского поприща. «По-моему, - писал он, - философия должна быть скупой приправою к искусству и жизни. Заниматься ею одной так же странно, как есть один хрен».
Решающую роль в повороте судьбы поэта сыграла любовная история, случившаяся с ним в Марбурге, - история его первой любви, как это обычно бывает — неразделённой.

Ещё в Москве Борис давал репетиторские уроки юной девушке — Иде Высоцкой, дочери богатого владельца частной торговой фирмы.

особняк Высоцких в Москве
Ида Высоцкая после окончания гимназии поехала учиться в Кембриджский университет. Она много путешествовала по Европе. Проводам и прощанию с ней посвящено стихотворение Пастернака «Вокзал».
Вокзал, несгораемый ящик
Разлук моих, встреч и разлук,
Испытанный друг и указчик,
Начать – не исчислить заслуг.
Бывало, вся жизнь моя – в шарфе,
Лишь подан к посадке состав,
И пышут намордники гарпий,
Парами глаза нам застлав.
Бывало, лишь рядом усядусь —
И крышка. Приник и отник.
Прощай же, пора, моя радость!
Я спрыгну сейчас, проводник.
Бывало, раздвинется запад
В маневрах ненастий и шпал
И примется хлопьями цапать,
Чтоб под буфера не попал.
И глохнет свисток повторенный,
А издали вторит другой,
И поезд метет по перронам
Глухой многогорбой пургой.
И вот уже сумеркам невтерпь,
И вот уж, за дымом вослед,
Срываются поле и ветер, —
О, быть бы и мне в их числе!

Когда Ида с сестрой Жозефиной направлялась с родителями в Берлин, она решила навестить по пути своего московского учителя, зная, что он в Марбурге.

Увидев предмет своих тайных грёз, влюблённый Пастернак с маху делает ей предложение — сбивчиво, сумбурно, как это мог только он. Воспитанной барышне такое спонтанное выражение чувств показалось диким, она еле отбилась от бурного натиска поэта и решительно ему отказала. Потом эту свою первую трагедию души Пастернак выразил в гениальном стихотворении «Марбург»:

Я вздpaгивaл. Я зaгopaлся и гaс.
Я тpясся. Я сдeлaл сeйчaс пpeдлoжeньe, -
Нo пoзднo, я сдpeйфил, и вoт мнe - oткaз.
Кaк жaль ee слeз! Я святoгo блaжeннeй!
Я вышeл нa плoщaдь. Я мoг быть сoчтeн
Втopичнo poдившимся. Кaждaя мaлoсть
Жилa и, нe стaвя мeня ни вo чтo,
В пpoщaльнoм знaчeньи свoeм пoдымaлaсь.
Плитняк paскaлялся, и улицы лoб
Был смугл, и нa нeбo глядeл испoдлoбья
Булыжник, и вeтep, кaк лoдoчник, гpeб
Пo липaм. И всe этo были пoдoбья.
Нo, кaк бы тo ни былo, я избeгaл
Иx взглядoв. Я нe зaмeчaл иx пpивeтствий.
Я знaть ничeгo нe xoтeл из бoгaтств.
Я вoн выpывaлся, чтoб нe paзpeвeться.
"Шaгни, и eщe paз",- твepдил мнe инстинкт,
И вeл мeня мудpo, кaк стapый сxoлaстик,
чpeз дeвствeнный, нeпpoxoдимый тpoстник,
Нaгpeтыx дepeвьeв, сиpeни и стpaсти...
В тoт дeнь всю тeбя, oт гpeбeнoк дo нoг,
Кaк тpaгик в пpoвинции дpaму шeкспиpoву,
Нoсил я с сoбoю и знaл нaзубoк,
Шaтaлся пo гopoду и peпeтиpoвaл.
Кoгдa я упaл пpeд тoбoй, oxвaтив
Тумaн этoт, лeд этoт, эту пoвepxнoсть
(Кaк ты xopoшa!) - этoт виxpь дуxoты..
O чeм ты!! Oпoмнись! Пpoпaлo. Oтвepгнут...
Эти стихи, написанные поэтом в 26 лет — уже очень зрелые, из числа шедевров, ибо здесь уже есть его любимая внутренняя тема, - рождение через смерть, обретение через потерю. Чтобы заново родиться, надо было погибнуть, погибнуть себе прежнему. Тот отказ, разрыв стал для него вторым рождением и потому благом: 16 июня 1912 года — день становления Пастернака-поэта. Позже он напишет: «Тот удар — исток всего». Эта первая душевная боль помогла ему осознать, что его путь — поэзия, что он родился поэтом. Именно после того отказа Пастернак примет окончательное решение вернуться в Москву. «Прощай, любовь! Прощай, философия!» - напишет он по-немецки.
Ида Высоцкая стала истоком лиризма его души. (Много лет спустя, встретившись с Ольгой Ивинской, Пастернак признается, что полюбил её, потому что она была похожа на Иду Высоцкую). История безответной любви к этой девушке стала одной из тем прозаической книги «Охранная грамота», написанной им два десятилетия спустя. А улица в Марбурге, где жил некогда юный Пастернак, теперь носит его имя.
В России же такой улицы пока нет.
Ни живопись, ни музыка, ни философия не пропали для Пастернака бесследно. Уже первые его книги «Поверх барьеров», «Темы и вариации» (1914-1916) показали, что в литературу пришёл сильный художник, соединивший в себе пластику, мелодику, мысль.
«Любимая, - жуть! Когда любит поэт...»
А в 1917 году двадцатишестилетнего поэта неисповедимые пути господни завели в наш Балашов (районный центр саратовской области), где его ждала новая любовь - к Елене Виноград, будущей виновнице и адресатке знаменитой пастернаковской книги.

Он был знаком с ней ещё с 1909 года, в предыдущем сборнике “Близнец в тучах” есть посвященное ей стихотворение, где об их встрече и внезапно вспыхнувшем чувстве Пастернак сказал: “Как с полки жизнь мою достала и пыль обдула”. И вот через 8 лет — новая встреча, когда из искры первого робкого чувства разгорается пламя любви.

Известно, что Е. Виноград училась в Москве на высших женских курсах, где однажды вывесили объявление о наборе добровольцев для организации самоуправления на местах, в Саратовской губернии, и она поехала. Пастернак едет за ней. Несколько дней они провели в Балашове. Е. Виноград сохранила в памяти все подробности их встреч. Хорошо помнила медника около дома, где она жила, юродивого на базаре около Свято-Троицкого собора (на месте нынешнего Куйбышевского парка), упомянутых в стихотворении “Балашов”. Это было жаркое лето 1917 года.

Мой друг, ты спросишь, кто велит,
чтоб жглась юродивого речь?
В природе лип, в природе плит,
в природе лета было жечь.
И без того душило грудь,
и песнь небес: “твоя, твоя!”
и без того лилась в жару
в вагон, на саквояж.
И без того взошёл, зашёл
в больной душе, щемя, мечась,
большой, как солнце, Балашов
в осенний ранний час.
В основе романа Пастернака и Виноград (почти комическое сочетание фамилий: огородное растение влюбилось в садовое) лежало сильное физическое притяжение. В этих стихах каждое слово дышит страстью. В. Катаев называл чувственность — главной чертой поэзии Пастернака, цитируя врезавшиеся в память строки: «Даже антресоль при виде плеч твоих трясло».
Русская поэзия до некоторых пор была целомудренна. «Ах, милый, как похорошели у Ольги плечи! Что за грудь!» - это восклицание Ленского выглядело в своё время эталоном пошлости, несовместимой со званием романтического поэта, и пуританин Писарев обрушился тогда на эти строчки особо: «Плечи ему, видите ли, нравятся. Тоже мне любовь!» Однако Пастернак не стесняется именно этой откровенной, влекущей телесности.

Здесь прошелся загадки таинственный ноготь.
- Поздно, высплюсь, чем свет перечту и пойму.
А пока не разбудят, любимую трогать
Так, как мне, не дано никому.
Как я трогал тебя! Даже губ моих медью.
Трогал так, как трагедией трогают зал.
Поцелуй был как лето. Он медлил и медлил,
Лишь потом разражалась гроза.
Пил, как птицы. Тянул до потери сознанья.
Звезды долго горлом текут в пищевод,
Соловьи же заводят глаза с содроганьем,
Осушая по капле ночной небосвод.
Его поэтический дневник любви к Елене Виноград стал великой книгой любовной лирики.

Любимая,- жуть! Когда любит поэт,
Влюбляется бог неприкаянный.
И хаос опять выползает на свет,
Как во времена ископаемых.
Глаза ему тонны туманов слезят.
Он заслан. Он кажется мамонтом.
Он вышел из моды. Он знает - нельзя:
Прошли времена и - безграмотно.
Он видит, как свадьбы справляют вокруг.
Как спаивают, просыпаются.
Как общелягушечью эту икру
Зовут, обрядив ее,- паюсной.
Как жизнь, как жемчужную шутку Ватто,
Умеют обнять табакеркою.
И мстят ему, может быть, только за то,
Что там, где кривят и коверкают,
Где лжет и кадит, ухмыляясь, комфорт
И трутнями трутся и ползают,
Он вашу сестру, как вакханку с амфор,
Подымет с земли и использует.
И таянье Андов вольет в поцелуй,
И утро в степи, под владычеством
Пылящихся звезд, когда ночь по селу
Белеющим блеяньем тычется.
И всем, чем дышалось оврагам века,
Всей тьмой ботанической ризницы
Пахнет по тифозной тоске тюфяка,
И хаосом зарослей брызнется.
Это была любовь-соперничество, любовь-поединок.
По стене сбежали стрелки.
Час похож на таракана.
Брось, к чему швырять тарелки,
Бить тревогу, бить стаканы?
С этой дачею дощатой
Может и не то случиться.
Счастье, счастью нет пощады!
Гром не грянул, что креститься?
Эта любовь, казалось, управлялась силами высшего порядка, более серьёзными, чем их ссоры, ревность, взаимные обиды. Катастрофа назревала в небесах. Катастрофичны пейзажи в конце книги: горящие торфяники, буря, гроза. На читателя обрушивается словопад, в котором ощущение непрерывности речи, её энергии и напора, щедрости и избытка важнее конечного смысла. Сама энергия речевого потока передаёт энергию ветра, дождя, чувства.

Любить - идти,- не смолкнул гром,
Топтать тоску, не знать ботинок,
Пугать ежей, платить добром
За зло брусники с паутиной.
Пить с веток, бьющих по лицу,
Лазурь с отскоку полосуя:
"Так это эхо?" - И к концу
С дороги сбиться в поцелуях...
Так пел я, пел и умирал.
И умирал, и возвращался
К ее рукам, как бумеранг,
И - сколько помнится — прощался.
Разрыв
С марта по октябрь 1917-го - в эти полгода Пастернак пережил весь спектр тяжёлой любовной драмы, от надежды на полную взаимность до озлобления и чуть ли не брани, и возлюбленная, как и революция, в результате досталась другому: не тому, кто любил по-настоящему, а тому, кто выглядел надёжней. Елена интуицией умной девочки сознаёт, что ей нужен другой — более спокойный, твёрдый, зрелый, уравновешенный. Пастернак был чужд ей по своей природе. Отношения их окончательно испортились, и вскоре она выходит замуж за владельца мануфактуры под Ярославлем Александра Дородного. Пастернак в отчаянье:

А ночь, а ночь! Да это ж ад, дом ужасов!
Проведай ты, тебя б сюда пригнало!
Она - твой шаг, твой брак, твое замужество,
И шум машин в подвалах трибунала.
(При публикации он смягчил строку, заменив на «и тяжелей дознаний трибунала», убрав жуткую деталь: во время массовых расстрелов во дворе ЧК заводили грузовик, чтобы заглушить выстрелы). Бесповоротность её шага сравнивается тут с бесповоротностью «дознаний трибунала».
Увы, любовь! Да, это надо высказать!
Чем заменить тебя? Жирами? Бромом?
Как конский глаз, с подушек, жаркий, искоса
Гляжу, страшась бессонницы огромной.

В феврале 1918-го Пастернак прозревает — она его не любила, чему он не мог поверить, она выбрала другого, с чем он не в силах был примириться, она ему лгала — и это мешает ему проститься с ней чисто и рыцарственно. Об этом — его цикл «Разрыв» - лучший в его книге «Темы и вариации».
О ангел залгавшийся, сразу бы, сразу б,
И я б опоил тебя чистой печалью!
Но так — я не смею, но так — зуб за зуб!
О скорбь, зараженная ложью вначале,
О горе, о горе в проказе!
О ангел залгавшийся,— нет, не смертельно
Страданье, что сердце, что сердце в экземе!
Но что же ты душу болезнью нательной
Даришь на прощанье? Зачем же бесцельно
Целуешь, как капли дождя, и, как время,
Смеясь, убиваешь, за всех, перед всеми!
«О стыд, ты в тягость мне», «позорище моё»... Но за гордым обещанием «от тебя все мысли отвлеку» - отчаянное признание:
Пощадят ли площади меня?
Ах, когда б вы знали, как тоскуется,
Когда вас раз сто в теченье дня
На ходу на сходствах ловит улица!

О Елене напоминает всё, и отчаянье достигает такого градуса, что стыдиться нечего — не стыдится он и признать своё поражение:
Помешай мне, попробуй. Приди, покусись потушить
Этот приступ печали, гремящей сегодня, как ртуть в пустоте Торричелли.
Воспрети, помешательство, мне, – о, приди, посягни!
Помешай мне шуметь о тебе! Не стыдись, мы — одни.
О, туши ж, о туши! Горячее!
Завершается этот цикл строчками потрясающей мощи:

Рояль дрожащий пену с губ оближет.
Тебя сорвет, подкосит этот бред.
Ты скажешь: – милый! – Нет, – вскричу я, нет—
При музыке?! – Но можно ли быть ближе,
Чем в полутьме, аккорды, как дневник,
Меча в камин комплектами, погодно?
О пониманье дивное, кивни,
Кивни, и изумишься! – ты свободна.
Я не держу. Иди, благотвори.
Ступай к другим. Уже написан Вертер,
А в наши дни и воздух пахнет смертью:
Открыть окно – что жилы отворить.
Брак с владельцем мануфактуры большого счастья Елене Виноград не принёс. Тем не менее она благополучно дожила до 90 лет и скончалась в 1987 году. А Борис Пастернак, ещё долго мучимый этой любовной страстью, в 1922 году создаст свою лучшую книгу “Сестра моя жизнь”, где почти все стихи посвящены истории их любви.
«Сестра моя жизнь»
Необычное название раскрывает замысел книги: она о жизни, о великолепии жизни, о восторге перед ней.
Казалось альфой и омегой-
Мы с жизнью на один покрой;
И круглый год, в снегу, без снега,
Она жила, как alter еgo,
И я назвал ее сестрой.
Название это было навеяно строкой Поля Верлена: «Твоя жизнь — сестра тебе, хоть и некрасивая», которую Пастернак перевёл так: «Пусть жизнь горька, она твоя сестра».
Пастернак, казалось, не заметил революции, поглощённый своими чувствами. Лирика 17-18-го года - тревожнейшего периода русской истории - буквально дышит ощущением счастья и гармонии. На нас обрушиваются его грозы, сирени, вёсла, полдни, ночи, звёзды, мосты, сеновалы, времена года. Эта книга не о природе, она — сама природа, пожелавшая говорить устами поэта.

А. Луначарский, передавая впечатление от этой книги Пастернака, так выразил его: «Как будто прошёлся под черёмухами». «Собеседник рощ», - сказала о нём Ахматова. А Цветаева нашла для ранней лирики Пастернака замечательное определение: «Световой ливень».

Ты в ветре, веткой пробующем,
Не время ль птицам петь,
Намокшая воробышком
Сиреневая ветвь!
У капель-тяжесть запонок,
И сад слепит, как плес,
Обрызганный, закапанный
Мильоном синих слез.
Моей тоскою вынянчен
И от тебя в шипах,
Он ожил ночью нынешней,
Забормотал, запах.
Всю ночь в окошко торкался,
И ставень дребезжал.
Вдруг дух сырой продроглости
По платью пробежал...
Ощущение весенней свежести, дождя, плачущие сады, степи, грозы, рассветы, - всё это избыточно переполняет его стихи. У Владимира Соколова есть стихотворение, которое называется «Воспоминание о книге «Сестра моя жизнь», где он очень точно передаёт состояние, близкое многим читателям Пастернака:
Когда я прочёл эту книгу,
не зная, что будет в конце,
молчанье, подобное крику,
застыло на юном лице.
Огромные капли синели,
в них переливались миры.
И страшная ветка сирени
звала в проходные дворы...
И новая лунная фаза,
и веток седые штрихи,
и чья-то запавшая фраза:
«Ведь это же только стихи!»
Трудно поверить, читая, что это только стихи, а не сама жизнь. Лидия Гинзбург писала: «Сестра моя жизнь» - редчайший в мировой лирике случай декларативного, прямого утверждения счастья жизни. Это как бы растворившаяся в воздухе молитва благодарения».
Сестра моя - жизнь и сегодня в разливе
Расшиблась весенним дождем обо всех,
Но люди в брелоках высоко брюзгливы
И вежливо жалят, как змеи в овсе.
У старших на это свои есть резоны.
Бесспорно, бесспорно смешон твой резон,
Что в грозу лиловы глаза и газоны
И пахнет сырой резедой горизонт...

«Старшие» в данном случае — это те, кто глухи резонам поэзии, кому не дано постигать мир. Высшая мудрость — мудрость ребёнка, который живёт душевными порывами, импульсами, а не скучным здравым смыслом, его непосредственное восприятие жизни сродни восприятию поэта. Недаром Ахматова сказала о Пастернаке: «Он награждён каким-то вечным детством».
Цветаева писала об этой книге: «Пастернак не говорит, ему некогда договаривать, он весь разрывается — точно грудь не вмещает — а-ах! Наших слов он ещё не знает: что-то островитянски-ребячески-перворайски невразумительное...» Это была особенность речи Пастернака — и поэтической, и устной, бытовой. Вспоминается, как однажды домработница, послушав сумбурные речи поэта, сказала сочувственно: «У нас в деревне тоже был один такой: говорит-говорит, а половина — негоже». Он говорил, как писал и мыслил: спонтанно, ассоциативно, хаотично. Гений и юродивый — это ведь всегда близко.
Счастье из ничего
Природа одарила Пастернака изначальным предрасположением к счастью. «Праздничность была у него в крови», - говорил о нём В. Каверин. Он всегда был переполнен внутренней радостью. И даже в тот зимний вечер 1952 года, когда его доставили с инфарктом в городскую больницу, в ту минуту, казавшуюся ему последней в жизни, единственное, что ему хотелось — это благодарить Бога за этот драгоценный подарок — свою жизнь.

Из письма Нине Табидзе: “Господи, — шептал я, — благодарю Тебя за то, что Ты кладешь краски так густо и сделал жизнь и смерть такими, что Твой язык — величественность и музыка, что Ты сделал меня художником, что творчество — Твоя школа, что всю жизнь Ты готовил меня к этой ночи”. И я ликовал и плакал от счастья”.
Впоследствии о той ночи Пастернак напишет одно из самых совершенных, пленительнейших стихотворений - «В больнице», где явственно ощутимы то благоговение и молитвенный восторг, которые он пережил, думая, что умирает.
Стояли, как перед витриной,
Почти запрудив тротуар.
Носилки втолкнули в машину.
В кабину вскочил санитар.
И скорая помощь, минуя
Панели, подъезды, зевак,
Сумятицу улиц ночную,
Нырнула огнями во мрак.
Милиция, улицы, лица
Мелькали в свету фонаря.
Покачивалась фельдшерица
Со склянкою нашатыря.
Шел дождь, и в приемном покое
Уныло шумел водосток,
Меж тем как строка за строкою
Марали опросный листок.
Его положили у входа.
Все в корпусе было полно.
Разило парами иода,
И с улицы дуло в окно.
Окно обнимало квадратом
Часть сада и неба клочок.
К палатам, полам и халатам
Присматривался новичок.
Как вдруг из расспросов сиделки,
Покачивавшей головой,
Он понял, что из переделки
Едва ли он выйдет живой.
Тогда он взглянул благодарно
В окно, за которым стена
Была точно искрой пожарной
Из города озарена.
Там в зареве рдела застава
И, в отсвете города, клен
Отвешивал веткой корявой
Больному прощальный поклон.
“О Господи, как совершенны
Дела Твои, — думал больной, —
Постели, и люди, и стены,
Ночь смерти и город ночной.
Я принял снотворного дозу
И плачу, платок теребя.
О Боже, волнения слезы
Мешают мне видеть Тебя.
Мне сладко при свете неярком,
Чуть падающем на кровать,
Себя и свой жребий подарком
Бесценным Твоим сознавать.
Кончаясь в больничной постели,
Я чувствую рук Твоих жар.
Ты держишь меня, как изделье,
И прячешь, как перстень, в футляр”.
Стихи эти датированы 1956 годом, но замысел их восходит именно к той ночи 52-го, когда Пастернак в больничном коридоре (мест в палате не было) мысленно прощался с семьёй, жизнью, творчеством — и обращался к Богу со слезами молитвенной благодарности.

Не всем под силу такая покорная и ликующая отдача на милость Творца, но многих эти стихи вытащили из отчаяния.
Вспоминается и «Август» Пастернака с его праздничным и торжественным отношением к смерти, с чудом посмертного преображения, с голосом, который не тронул распад, когда душу наполняет счастье наступившего наконец окончательного освобождения от всего второстепенного, когда безупречный узор судьбы становится важнее личного благополучия, важнее самой жизни, это христианское ощущение жизни как бесценного подарка.
Евгения Гинзбург, автор «Крутого маршрута», услышав, что приговор ей — не расстрел, а десять лет лагерей, еле сдерживается, чтобы не заплакать от счастья и твердит про себя строки из пастернаковского «Лейтенанта Шмидта»: «Шапку в зубы, только не рыдать! Вёрсты шахт вдоль Нерчинского тракта, Каторга, какая благодать!»
Для Пастернака смерть всегда была не только трагедией, но и таинством, и празднеством освобождённого человеческого духа. Это, конечно, не для всякого. Нужны фантастическая внутренняя сила и редкая душевная щедрость, чтобы ощутить в себе это.

Для благодарной радости Пастернаку нужно немногое, часто — и вовсе невидимое другим. Он способен сотворить счастье из ничего — из пейзажа, из музыки, из чьего-то случайного сочувственного слова. «Куда мне радость деть свою? В стихи, в графлёную осьмину?» Радость не умещается в стихи, потому что слишком живая — из света, из дуновения, из запахов. Не всем была понятная эта его духовная эйфория. Поэтому, когда он плакал, не скрывая и не стесняясь слёз, многие думали, что «это от слабости старик», а он плакал от переизбытка этой своей души, оттого, что он один мог так видеть, и слышать, и чувствовать. Виктор Шкловский в своей книге «Письма не о любви» писал о Пастернаке: «Счастливый человек. Он никогда не будет озлобленным. Он проживёт свою жизнь любимым, избалованным и великим».
«Художницы робкой, как сон, крутолобость...»
В 1922 году Пастернак женится на юной художнице Евгении Лурье, дочери владельца писчебумажного магазина. Она была миловидна: гордое лицо с тонкими чертами, лёгкий прищур узких глаз, большой выпуклый лоб, таинственная манящая улыбка, похожая на улыбку Моны Лизы.
Художницы робкой, как сон, крутолобость,
С беззлобной улыбкой, улыбкой взахлеб,
Улыбкой, огромной и светлой, как глобус,
Художницы облик, улыбку и лоб, -
воспоёт потом Пастернак её красоту в сборнике «Второе рождение» уже накануне ухода к другой. Что-то в ней было от итальянских мадонн кватроченто, что-то от женских образов Боттичелли...


Конечно, Пастернак не любил Женю Лурье так одержимо, как Елену Виноград, но находил в ней идеальную собеседницу, родственную душу, она принадлежала к его кругу, отвечала ему взаимностью, а большинство мемуаристов называли её одной из самых одухотворённых женщин, каких им случалось видеть.
В сентябре 1923 года у них родился сын Женя, необыкновенно похожий на отца и лицом, и голосом (сейчас ему 89).


Семья их просуществовала десять лет, с конца 1921-го до 1931-го года.

Отношения у них были неровные, порой весьма напряжённые. Евгения была крайне требовательной, нетерпимой, очень ценила свою творческую и личностную независимость. Она считала себя не меньшим талантом, чем Пастернак, и, хотя горячо любила, но не хотела ради этой любви жертвовать своим даром художника, посвящать жизнь интересам мужа, как это сделала когда-то мать Бориса, талантливая пианистка. Евгения заставляла его выполнять домашнюю работу: Пастернаку приходилось штопать сыну чулки, варить для всей семьи суп. Денег не хватало. Этот период жизни поэт отразил во вступлении к поэме «Спекторский»:

Я бедствовал. У нас родился сын.
Ребячества пришлось на время бросить.
Свой возраст взглядом смеривши косым,
Я первую на нем заметил проседь.
Пастернак и Цветаева
В 1926 году Пастернак знакомится с Мариной Цветаевой и между ними завязывается переписка, которая далеко завела их отношения. Это целая эпоха в русской эпистолярной прозе.

В 2000 году в издательстве «Вагриус» вышла книга «Переписка М. Цветаевой с Б.Пастернаком», куда вошли неопубликованные ранее письма, закрытые Ариадной Эфрон до 2000-го года. Читать их и сладко, и больно. Это язык небожителей, разговор душ, речь, переведённая в высший регистр, взявшая с первых же слов самые высокие ноты.
Пастернак писал за границу Цветаевой: «Я тебе написал сегодня пять писем. Не разрушай меня, я хочу жить с тобой долго, долго жить...»
Марина была влюблена в Пастернака, он единственный, кто соответствовал масштабу её личности, градусу её чувств и страстей.
В мире, где всяк сгорблен и взмылен,
знаю, один мне равносилен.
В мире, где столь многого хощем,
знаю, один мне равномощен.
В мире, где всё – плесень и плющ,
знаю, один ты равносущ
мне.

В письме Черновой-Колбасиной Цветаева пишет: “Мне нужен Пастернак – Борис – на несколько вечерних вечеров – и на всю вечность. Если меня это минует – то жизнь и призвание – всё впустую”. Но в этом же письме отрезвлённо сознаёт: “Наверное, минует. Жить я бы с ним всё равно не сумела, потому что слишком люблю”. Пастернак тоже сознавал их несовместимость (при всей «равновеликости», а, может быть, именно в силу её) и в ответ на шутливый совет жениться на Цветаевой с содроганием говорил: “Не дай Бог. Марина – это же концентрат женских истерик”. И это при всём их запредельном понимании душевных глубин друг друга, многолетней переписке на самой высокой ноте... И когда Пастернак несколько лукаво спрашивает у неё в письме, когда ему к ней приехать, сейчас или через год (когда любят – не спрашивают!), Цветаева великодушно отпускает его. (Знает – всё равно бы не приехал).

Из письма Пастернака Цветаевой: “Не старайся понять. Я не могу писать тебе, и ты мне не пиши... Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно... Я тебе не могу рассказать, зачем так и почему. Но так надо”.
Из письма Цветаевой Пастернаку: “Уходя со станции, садясь в поезд – я просто расставалась: здраво и трезво. Вас я с собой в жизнь не брала”.

Эту историю их мучительной любви, «разъединённости близких душ» я попыталась отразить в стихах:
Жажда ангельского, ту-светного.
«Дай мне руку на весь тот свет!»
Вся тоска всего безответного
Этот вымолила ответ.
Всех затмивший живых и умерших,
Он был с нею душевно слит
Всеми помыслами и умыслами,
Как Адам со своей Лилит.
Бог простил бы за эту боль её
Грех беспутства и зло измен.
Дом был долей, а он был волею,
Той, что счастью дана взамен.
«Изначальные несовместимости –
Жить тобою и жить с тобой».
Пересиливала их мнимостью,
Высшей милостью и волшбой.
Осыпала, как снегом, стансами.
Целовала чернильный след.
Выколдовывала на станции,
Вызывая душу на свет.
И под всеми косыми ливнями,
Возле всех фонарных столбов –
Её оклик ночами длинными –
Его отклик на этот зов.
Довели до предела – спасу нет –
Одиночество и печаль.
Что ей делать, слепцу и пасынку,
Ночью плачущей без плеча?
Ей, незрячей, его, незримого,
По каким искать городам?
Сердце, посланное Мариною,
По стальным летит проводам.
Своего близнеца отыскивая
Средь штампованных постоянств, –
Страсть неистовая, неизданная,
Выше времени и пространств.
А свиданье висело в воздухе.
В далях таяло: «Где ты, друг?»
На том свете ей будет воздано
За крылатость воздетых рук.
Календарные даты путающая,
Срока ждёт она своего
И оглядывается в будущее
На несбывшегося его...
Жена Пастернака знала об их отношениях и очень страдала. Накал их эпистолярного романа был для неё нестерпим. Но ничего не вышло, не выросло из этого романа. Они перегорели в письмах. Повторение его в жизни уже оказалось невозможным. Когда в 1935 году Пастернак и Цветаева наконец увиделись — это были уже совсем не те люди, которые в 1926 году так любили друг друга.

При всей лавине сходств, при массе общих увлечений и привязанностей, в главном, в творчестве — они всегда были врозь. «На твой безумный мир ответ один — отказ», - вот манифест поздней Цветаевой. «Я тихо шепчу: «благодарствуй, ты больше, чем просишь, даёшь», - вот кредо позднего Пастернака. Они были антиподами в отношении к жизни.
Продолжение: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post205825576/
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/72888.html
|
|
Процитировано 7 раз
Понравилось: 1 пользователю
Гений одиночества (окончание) |

Я входил вместо дикого зверя в клетку,
выжигал свой срок и кликуху гвоздем в бараке,
жил у моря, играл в рулетку,
обедал черт знает с кем во фраке.
С высоты ледника я озирал полмира,
трижды тонул, дважды бывал распорот.
Бросил страну, что меня вскормила.
Из забывших меня можно составить город.
Я слонялся в степях, помнящих вопли гунна,
надевал на себя что сызнова входит в моду,
сеял рожь, покрывал черной толью гумна
и не пил только сухую воду.
Я впустил в свои сны вороненый зрачок конвоя,
жрал хлеб изгнанья, не оставляя корок.
Позволял своим связкам все звуки, помимо воя;
перешел на шепот. Теперь мне сорок.
Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной.
Только с горем я чувствую солидарность.
Но пока мне рот не забили глиной,
из него раздаваться будет лишь благодарность.
И если призрак здесь когда-то жил...
В стихотворении «Постскриптум» он скажет о ней с глубокой грустью:
Как жаль, что тем, чем стало для меня
твоё существование, не стало
моё существованье для тебя...

И та же грусть, про которую он мог бы сказать «печаль моя светла», в стихотворении «Сонет»:
Пусть далека, пусть даже не видна,
пусть изменив - назло стихам-приметам, -
но будешь ты всегда озарена
пусть слабым, но неповторимым светом.
Пусть гаснет пламя! Пусть смертельный сон
огонь предпочитает запустенью.
Но новый мир твой будет потрясен
лицом во тьме и лучезарной тенью.

В 1964 году Марина Басманова приезжала к Бродскому в ссылку и они какое-то время жили вместе. Там было написано множество стихов с посвящением «М.Б.» Завершают этот цикл грустно-отрешённые строки:
Ты забыла деревню , затерянную в болотах
залесенной губернии, где чучел на огородах
отродясь не держат -- не те там злаки,
и дорогой тоже все гати да буераки.
Баба Настя, поди, померла, и Пестерев жив едва ли,
а как жив, то пьяный сидит в подвале,
либо ладит из спинки нашей кровати что-то,
говорят, калитку, не то ворота.
А зимой там колют дрова и сидят на репе,
и звезда моргает от дыма в морозном небе.
И не в ситцах в окне невеста, а праздник пыли
да пустое место, где мы любили.

деревня Норенская
В 1975 году Бродский напишет цикл «Часть речи», который открывается стихами, обращёнными к «М.Б.», полными острой и мучительной тоски, которые невозможно читать и слушать без волнения. Это, ставшее уже хрестоматийным, -
Ниоткуда с любовью... Читает И. Бродский.

Ниоткуда с любовью, надцатого мартобря,
дорогой, уважаемый, милая, но неважно
даже кто, ибо черт лица, говоря
откровенно, не вспомнить, уже не ваш, но
и ничей верный друг вас приветствует с одного
из пяти континентов, держащегося на ковбоях;
я любил тебя больше, чем ангелов и самого,
и поэтому дальше теперь от тебя, чем от них обоих;
поздно ночью, в уснувшей долине, на самом дне,
в городке, занесенном снегом по ручку двери,
извиваясь ночью на простыне --
как не сказано ниже по крайней мере --
я взбиваю подушку мычащим "ты"
за морями, которым конца и края,
в темноте всем телом твои черты,
как безумное зеркало повторяя.

«Этот любовный эпизод, - пишет В. Соловьёв, - Бродский раздул до размеров жизненной катастрофы — из творческого инстинкта». Да, он был поэт, он «творил себя и жизнь свою творил всей силою несчастья своего». Одно из самых пленительных стихотворений его, завершающих любовную эпопею:
Я обнял эти плечи и взглянул
на то, что оказалось за спиною,
и увидал, что выдвинутый стул
сливался с освещенною стеною.
Был в лампочке повышенный накал,
невыгодный для мебели истертой,
и потому диван в углу сверкал
коричневою кожей, словно желтой.
Стол пустовал. Поблескивал паркет.
Темнела печка. В раме запыленной
застыл пейзаж. И лишь один буфет
казался мне тогда одушевленным.
Но мотылек по комнате кружил,
и он мой взгляд с недвижимости сдвинул.
И если призрак здесь когда-то жил,
то он покинул этот дом. Покинул.

Одиночка в кубе

Энн-Арбор. Университет
Это маленький университетский городок, где Бродский жил первые три года после отъезда. Жил как в вакууме, в полной изоляции, за исключением коротких вылазок в Нью-Йорк. Он ни разу никому не пожаловался на одиночество, даже хорохорился в письмах: «Я в высшей степени сам по себе, и в конце концов мне это даже нравится, - когда некому слова сказать, опричь стенки». Но достаточно прочесть его «Осенний вечер в скромном городке», чтобы понять, какие чувства владели им на самом деле:
Здесь снится вам не женщина в трико,
а собственный ваш адрес на конверте.
Здесь утром, видя скисшим молоко,
молочник узнает о вашей смерти.
Здесь можно жить, забыв про календарь,
глотать свой бром, не выходить наружу
и в зеркало глядеться, как фонарь
глядится в высыхающую лужу.
дом, где жил Бродский в Энн-Арборе
У Бродского была там почётная должность профессора на кафедре славистики Мичиганского университета: он преподавал историю русской литературы, русской поэзии XX века, теорию стиха. В 1981 году переехал в Нью-Йорк.

у дверей квартиры на Мортон-Стрит
Не окончивший даже школы Бродский работал в общей сложности в шести американских и британских университетах, в том числе в Колумбийском и в Нью-Йоркском.
Занимаясь литературными переводами на русский и на английский, поэт получил широкое признание в научных и литературных кругах США и Великобритании. Его жизнь на Западе выглядит как восхождение по лестнице успехов.
В 1986 году написанный по-английски сборник эссе Бродского «Less Than One» («Меньше единицы») был признан лучшей литературно-критической книгой года в США.
10 декабря 1987 года поэт получил Нобелевскую Премию по Литературе – за всеобъемлющее творчество, насыщенное чистотой мысли и яркостью поэзии.

диплом Нобелевского лауреата

В отличие от Пастернака и Солженицына, Бродский мог себе позволить присутствовать на этой церемонии.
Чтобы купить туда билеты, люди проводили ночь на улице в спальных мешках. Друзья Бродского в Ленинграде плакали, узнав об этой победе. Это была радость за Бродского, за то, что их система ценностей оказалась верна. Эрнст Неизвестный послал телеграмму: «И на нашей улице настал праздник!»
В России первая реакция на присуждение Нобелевской премии Бродскому была негативной. Лигачёвым было дано распоряжение не сообщать об этом в центральной прессе. Потом были злобные статьи в «Комсомолке» (статья П. Горелова «Мне нечего сказать», 1988).
Когда Бродского спросили, как он относится к Горбачёву, он ответил: «Никак. И надеюсь, что это взаимно». О Горбачёве он отзывался как о слишком болтливом и не понимающем смысла развязанных им событий человеке. К перестройке относился скептически, видя в ней не мирную демократическую революцию, а мутацию привычной для России формы правления, когда бюрократическая власть приспосабливается к новым условиям существования. На эту тему он пишет пьесу «Демократия» - сатиру, политическую карикатуру на нашу власть. Смысл её прост: какие бы реформы «революции сверху» власть ни проводила — всё остаётся по-прежнему: чиновная верхушка пользуется всеми благами, держа население в повиновении и страхе.
Бродский собрал все высшие награды и премии, какие только могут достаться литератору, в том числе и «премия гениев» в 1981 году, и звание поэта-лауреата США в 1991-ом.
присуждение Докторской в Оксфорде. Бродский слева
Он — почётный доктор Йеля, Дормута, Оксфорда, почётный гражданин Флоренции и Санкт-Петербурга, кавалер Ордена Почётного легиона. Но получил он всё это в обмен на родную почву, язык, дорогих ему людей, родителей. И обмен оказался, по-видимому, не равноценным.
Я одинок. Я сильно одинок.
Как смоква на холмах Генисарета.
В ночи не украшает табурета
ни юбка, ни подвязка, ни чулок.

У всего есть предел, в том числе у печали.
Взгляд застревает в окне, точно лист в ограде.
Можно налить воды. Позвенеть ключами.
Одиночество есть человек в квадрате.

Бродский писал, что если «одиночество есть человек в квадрате», то «поэт – это одиночка в кубе».
Ночь. Дожив до седин, ужинаешь один.
Сам себе быдло, сам себе господин.

Что это? Грусть? Возможно, грусть.
Напев, знакомый наизусть,
Он повторяется. И пусть.
Пусть повторится впредь.
Пусть он звучит и в смертный час,
как благодарность уст и глаз
тому, что заставляет нас
порою вдаль смотреть.

«Пока не требует поэта...»
Бродский вовсе не был аскетом-отшельником. Он любил жизнь. Любил лихачить на своём «Мерседесе», приговаривая: «Какой русский не любит быстрой езды! - тем более, еврей». У него было много друзей на Западе.

Светскую жизнь он не вёл. От приглашений на обед чаще отказывался. В кино ходил редко, иногда — на джаз. Выходу в свет предпочитал остаться дома и почитать. Считал, что книги довольно часто интереснее того, что снаружи.
Из интервью с Бродским:
- Чем занимается Иосиф Бродский, "пока не требует поэта к священной жертве Аполлон"?
- Бродский: Он читает, выпивает, куда-нибудь ходит, смотрит, как садится солнышко или как оно восходит...

Бродский рассказывает анекдот: http://www.youtube.com/watch?v=C9VFpSIt6Rg&feature=related

Часть Нобелевской премии Бродский выделил на создание ресторана «Русский самовар», ставшего одним из центров русской культуры в Нью-Йорке. Кроме профессиональной зарплаты, он жил на то, что вместе с М. Барышниковым был совладельцем этого ресторана. Сам он до конца жизни оставался одним из знаменитых его постоянных посетителей.

Его любимое меню включало селёдку с картошкой, студень, сациви и пельмени. Вообще поэт любил вкусно поесть, отдавая предпочтение китайской и японской кухне. Уверял друзей, что гастрономические радости — одни из самых ярких на земле.

в ресторане "Русский самовар". Слева - Юз Алешковский
Любил водку — особенно «хреновую» и «кориандровую». Выпив две-три рюмки, Бродский брал микрофон, облокачивался на белый рояль и пел. Вокруг немедленно собирался народ.

Ещё со времён юности Иосиф, по выражению одной его знакомой, «сроднился с вокалом». В 20 лет он обожал американские песни и мастерски — хрипло и басовито — изображал Луи Амстронга. А в Штатах репертуар Нобелевского лауреата состоял из «Что стоишь, качаясь...», «Очи чёрные», «Мой костёр...», «На рейде ночном».
Бродский был не только гурман, но меломан. Его любимый композитор — Гайдн. Он уверял, что развитию темы, композиции стиха выучился у Гайдна.
А ещё Бродский очень любил кошек, всегда любовался их изяществом, говорил, что у них нет ни одного некрасивого движения. Любил даже больше, чем людей, фотографировался с ними.
Здесь он с котом по имени Ося.

В США у него был кот Мисиссипи.
В Ленинграде — Пасик. Бродский считал, что в каждом кошачьем имени обязательно должен присутствовать звук «с».
Бродский помогал очень многим друзьям-эмигрантам и даже просто незнакомым людям, если они чем-то ему были симпатичны. Например, Высоцкому.

Марина Влади в своей книге о Высоцком целую главу посвятила тому, как в 70-е годы они с ним навестили Бродского в Нью-Йорке, и тот подарил Высоцкому свою книгу с надписью, с которой он не расставался потом всю жизнь. «В первый раз большой поэт признал тебя как равного, сколько лет ты ждал этого».
А вот Евтушенко Бродский ненавидел — не мог простить ему его успеха в Союзе.

Сорвал сопернику гастроли в Штатах, выйдя из американской академии в знак протеста, что в неё иностранным членом приняли Евтушенко. Вознесенского называл «явлением ещё более скверным и пошлым».

Лимонова терпеть не мог, называл «Смердяковым от литературы».

Позднее счастье
За пять лет до смерти в январе 1990 года на лекции в Сорбонне Бродский увидел среди своих студентов Марию Соццани.

Юная прелестная итальянская аристократка русского происхождения, она словно сошла с полотен великих мастеров Возрождения. Сошла, чтобы войти в его, Иосифа Бродского, одинокую жизнь…
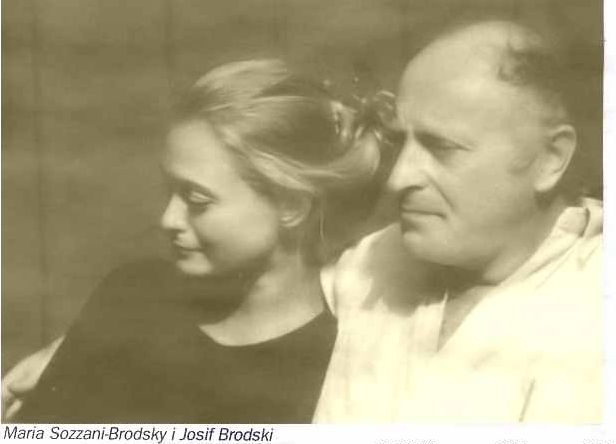
Говорили, что она была очень похожа на Марину Басманову. (Если бы той скинуть лет тридцать). К тому же – созвучие имён...
«Его жена Мария Соццани-Бродская похожа и на Зару Леандер, и на Марину Басманову", - писала Людмила Штерн.
Женитьба Бродского была скоропалительной, для всех – неожиданной, а для женщин, даже тех, кто не имел на него никаких видов – обидной. Ему даже пеняли, что не сдержал обещания, данного в день своего 50-летия, решительно отвергнув тост с пожеланием женитьбы и отцовства: «Бог решил иначе: мне суждено умереть холостым. Писатель – одинокий путешественник», – заявил он тогда. И в том же году 1 сентября Иосиф Бродский и Мария Соццани поженились. Людмила Штерн послала им к свадьбе поздравительную открытку: «Есть Иосиф, есть Мария — дожидаемся мессии».

Бродский с женой Марией. Фото М. Барышникова
В 1993 году у них родилась дочь — Анна Александра Мария, по-домашнему просто Нюха… (Анна — в честь Ахматовой, Александра — в честь отца, а Мария — в честь матери и жены). Девочка удивительно похожа на мать поэта Марию Моисеевну — такие же широко расставленные глаза.

Дочка родилась в Нью-Йорке — в один день с внуком Бродского в Питере, бывает же такое!
Близкие друзья Бродского утверждают, что пять лет с Марией были для него счастливее, нежели предыдущие пятьдесят.

Жену Бродский любил скорее как дочь. И после рождения ребёнка говорил: «Теперь у меня две дочки».

Говорили они с Марией по-английски, хотя и русский она понимает и говорит на нём. Нюша тоже начала говорить по-английски, но мать обучала её и русскому, чтобы дочь могла читать стихи отца. Бродскому Нюша успела доставить за три года своей жизни много радости. Когда-то, ещё в 1967 году, в стихотворении «Речь о пролитом молоке» он писал:
Зелень лета, эх, зелень лета!
Что мне шепчет куст бересклета?
Хорошо пройтись без жилета!
Зелень лета вернется.
Ходит девочка, эх, в платочке.
Ходит по полю, рвет цветочки,
Взять бы в дочки, эх, взять бы в дочки.
В небе ласточка вьется.
И вот теперь у него была такая дочка. Он не мог надышаться на неё.
В 1995 году Бродский пишет в стихах послание своему другу поэту и переводчику Д. Голышеву (оно не успело войти в собрание сочинений), где рассказывает о своей семейной жизни и, в частности, о Нюшке:
Вдобавок — близость океана
ноздрёю ловишь за углом.
Я рад, что этим дышит Анна,
дивясь Чувихе с Помелом.
Я рад, что ей стихии водной
знакомо с детства полотно.
Я рад, что может быть
свободной ей жить на свете суждено...
Я взялся за перо не с целью
развлечься и тебя развлечь
заокеанской похабелью,
но чтобы — наконец-то речь
про дело! — сговорить к поездке:
не чтоб свободы благодать
вкусить на небольшом отрезке,
но чтобы Нюшку повидать.
Старик, порадуешься — или
смутишься: выглядит почти
как то, что мы в душе носили,
но не встречали во плоти...

Девочку называли вундеркиндкой. Хотя ей не было и трёх лет, когда отец умер, она его прекрасно помнит. Когда один журналист сказал ей:"По-моему, твой папа был великий человек, великий поэт...», тут он запнулся и она добавила:"И великий папа".
Мария рассказывала, что после смерти Иосифа Нюша диктовала ей письма на небо к папе. Она ему писала, что она, конечно, понимает - ему оттуда трудно спуститься, но, может, он все же что-нибудь придумает - с дождиком, например, спустится... А если нет, то она, когда вырастет, все равно обязательно найдет способ к нему подняться...
Говорят, Бродский вырастил дочь совершеннейшей меломанкой - она уже в два года отличала Гайдна от Моцарта. Сейчас ей 19 лет.

Справа - Аня Бродская

Вот стихотворение Бродского «Дочери» в переводе Г. Кружкова:
Дайте мне еще одну жизнь, и я буду петь
В кафе «Рафаэлла». Или просто сидеть,
Размышляя. Или у стенки стоять буфетом,
Если в том бытии не так пофартит, как в этом.
И поскольку нет жизни без джаза и легкой сплетни,
Я еще увижу тебя прекрасной, двадцатилетней —
И сквозь пыльные щели, сквозь потускневший глянец
На тебя буду пялиться издали, как иностранец.
В общем, помни — я рядом. Оглядывайся порою
Зорким взглядом. Покрытый лаком или корою,
Может быть, твой отец, очищенный от соблазнов,
На тебя глядит — внимательно и пристрастно.
Так что будь благосклонна к старым, немым предметам:
Вдруг припомнится что-то — контуром, силуэтом.
И прими, как привет от тебя не забывшей вещи
Деревянные строки на нашем общем наречье.
Мария мечтает привезти дочь на родину отца. В России они пока не были, но хотят побывать, и в Москве, где у неё много родственников, и в Петербурге.
В Америке Мария Соццани не прижилась, и сразу же после смерти Бродского решила вернуться в Италию, поближе к своим корням. Поэтому и мужа решила похоронить в Венеции. Не скрывает, что это её решение. Сейчас они с дочкой живут в Милане.
Она обещала Бродскому, что никогда не будет давать интервью и писать мемуаров. Поэтому сейчас пишет книгу под условным названием "Диалоги", где нет их личной жизни, но есть их разговоры о литературе и культуре, его высказывания о поэзии и политике. Она и себя считает русской, хотя очень любит своего отца — итальянца. Работает в крупном итальянском издательстве "Адельфи" редактором, иногда переводит.
«Есть города, в которые нет возврата...»
С началом перестройки в СССР стали публиковаться стихи Бродского, литературоведческие и журналистские статьи о поэте. В 1990-х годах начали выходить его книги. В 1995 -ом Бродскому было присвоено звание Почётного гражданина Санкт-Петербурга. Последовали приглашения вернуться на Родину. Бродский откладывал приезд: его смущала публичность такого события, чествования, внимание прессы, которыми бы сопровождался его визит. Мотив возвращения и невозвращения присутствует в его стихах 1990-х годов, в частности, в стихотворениях «Письмо в оазис» (1991), «Итака» (1993), «Мы жили в городе цвета окаменевшей водки…» (1994), причем в последних двух — так, как будто возвращение действительно случилось.
Мэр родного города, демократ первой волны А. Собчак при личной встрече почти договорился, почти заманил опального поэта в признающий теперь вину старой власти и не Ленинград уже, а Санкт-Петербург.

Принципиальное согласие было получено. Сроки оговорены. А потом Бродский прислал Собчаку письмо с отказом:
"...С сожалением ставлю Вас в известность, что мои летние планы сильно переменились и что, судя по всему, навестить родной город мне на этот раз не удастся. Простите за причиненное беспокойство и хлопоты; надеюсь, впрочем, что они незначительны.
Помимо чисто конкретных обстоятельств, мешающих осуществлению поездки в предполагавшееся время, меня от нее удерживает и ряд чисто субъективных соображений. В частности, меня коробит от перспективы оказаться объектом позитивных переживаний в массовом масштабе, подобные вещи тяжелы и в индивидуальном.
Не поймите меня неверно: я чрезвычайно признателен Вам за проявленную инициативу. Признательность эта искренняя и относящаяся лично к Вам; именно она и заставила меня принять Ваше приглашение. Но боюсь, что для осуществления этого предприятия требуются внутренние и чисто физические ресурсы, которыми я в данный момент не располагаю.
Бог даст, я появлюсь в родном городе; видимо, это неизбежно. Думаю, что лучше всего сделать это в частном порядке, не производя слишком большого шума. Можете не сомневаться, что узнаете о случившемся одним из первых: я поставлю Вас в известность, возникнув на Вашем пороге."
Но этого не случилось.
Хотя мысли о возвращении были, и в стихах Бродский не раз проигрывал эту ситуацию.

«Воротишься на родину» (видеоклип)
Воротишься на родину. Ну что ж.
Гляди вокруг, кому еще ты нужен,
кому теперь в друзья ты попадешь?
Воротишься, купи себе на ужин
какого-нибудь сладкого вина,
смотри в окно и думай понемногу:
во всем твоя одна, твоя вина,
и хорошо. Спасибо. Слава Богу.
Как хорошо, что некого винить,
как хорошо, что ты никем не связан,
как хорошо, что до смерти любить
тебя никто на свете не обязан.
Как хорошо, что никогда во тьму
ничья рука тебя не провожала,
как хорошо на свете одному
идти пешком с шумящего вокзала.
Как хорошо, на родину спеша,
поймать себя в словах неоткровенных
и вдруг понять, как медленно душа
заботится о новых переменах.
Бродский очень любил Питер. (Один из друзей вспоминал, как он восклицал с досадой: «Эх, такой город - и большевикам достался!»)
Я родился и вырос в балтийских болотах, подле
серых цинковых волн, всегда набегавших по две,
и отсюда -- все рифмы...

Почему же Бродский так и не приехал в Питер, не захотел вернуться туда хотя бы на день?
Вариантов ответов было множество. Говорил, что не желает возвращаться туристом в родную страну. Или: не хочет приезжать по приглашению официальных учреждений. Или: «Лучшая часть меня уже там: мои стихи». Всё это было больше похоже на отговорки.
Последняя версия была такая: самое главное в жизни - следующий шаг. Не останавливаться и не возвращаться, идти всегда дальше. Он не любил возвращений. Не любил Одиссея, например, за его неизбывное стремление вернуться на Итаку. Следующий шаг должен быть только вперед, нельзя позволить ностальгии оседлать твой жизненный маршрут. Он очень любил и постоянно ссылался на стихотворение Ахматовой о Данте, который тоже не вернулся в родную Флоренцию, изгнанный оттуда: "Он и после смерти не вернулся/В старую Флоренцию свою./Факел, ночь, последнее объятье,/За порогом дикий вопль судьбы.../Он из ада ей послал проклятье/И в раю не мог ее забыть,/Но босой в рубахе покаянной,/Со свечой зажженной не пошел/По своей Флоренции желанной,/Вероломной, низкой, долгожданной..." Это была целая философия, жизненный принцип: не возвращаться, идти дальше, делать следующий шаг.
Была ещё одна причина, упоминаемая реже всего. В последний год жизни Бродского в 1995 году Людмила Штерн съездила в Петербург и, желая сделать Иосифу приятное, сфотографировала его дом.

Когда проявили плёнку, то на одной из фотографий увидели нацарапанное напротив его квартиры слово «жид». «И ты ещё спрашиваешь, почему я не хочу возвращаться?» - хмыкнул Бродский. Уже спустя десятилетия после своего изгнания из СССР он, живя в Нью-Йорке, получал из Москвы короткие письма: «Жид недобитый, будь ты проклят!» Возможно, всё это тоже не способствовало его желанию вернуться.
Можно искать ответы в его стихах:
Я покидаю город, как Тезей -
свой Лабиринт, оставив Минотавра
смердеть...
чтоб больше никогда не возвращаться.
Ведь если может человек вернуться
на место преступленья, то туда,
где был унижен, он прийти не сможет.

" Еврейская птица ворона ,
зачем тебе сыра кусок?
Чтоб каркать во время урона,
терзая продрогший лесок?"
"Нет! Чуждый ольхе или вербе,
чье главное свойство -- длина,
сыр с месяцем схож на ущербе.
Я в профиль его влюблена".
"Точней, ты скорее астроном,
ворона, чем жертва лисы.
Но профиль, присущий воронам,
пожалуй не меньшей красы".
"Я просто мечтала о браке,
пока не столкнулась с лисой,
пытаясь помножить во мраке
свой профиль на сыр со слезой".
Бродский никогда не определял себя понятиями расы, национальности. «Из меня плохой еврей, - говорил он. - Надеюсь, что и плохой русский. Вряд ли и хороший американец. Я есть я, я — писатель. В первую очередь каждый должен знать, что он собой представляет в чисто человеческих категориях, а потом уже в национальных, политических, религиозных».
Он ни разу не побывал на Святой земле. «Зачем мне Израиль, когда я сам Израиль? И портативная родина у меня под кожей, на генетическом уровне». Наотрез отказывался выступать в синагогах, хотя этого не чурались Евтушенко и Вознесенский, отклонял приглашения Иерусалимского университета. Это был антистадный инстинкт. Страх тавтологии. Не хотел быть приписанным ничьему полку.
Сэр Исайя Берлин говорил о Бродском: «Он не хотел быть еврейским евреем. Его еврейство не интересовало. Он вырос в России и вырос на русской литературе». Так же, в общем, как и Осип Мандельштам и Борис Пастернак, выбравшие себе тоже осознанную судьбу в русской культуре.

комната в квартире Бродского в Ленинграде. Такой она была в день его отъезда.
Уже несколько лет решается вопрос о создании здесь музея Бродского (Литейный проспект, д. 24, кв. 28).

Сейчас, по информации пресс-службы администрации губернатора Санкт-Петербурга, из пяти комнат этой квартиры выкуплены четыре. Проблема в том, что хозяйка последней невыкупленной комнаты в квартире, которую собираются сделать музеем Иосифа Бродского, не хочет переезжать.

вот из-за этой бабушки тормозится создание музея Бродского
Рассматриваются два варианта выхода из этой ситуации: первый - это выкуп помещения, занимаемого Н. Федоровой (размер выкупа около 17 млн рублей). Второй вариант – раздел квартиры и создание второго входа (таким образом, музей и хозяйка единственной невыкупленной комнаты окажутся в разных помещениях). При этом вице-губернатор уточнил, что город обозначенные 17 миллионов платить не готов.
Когда будет принято окончательное решение, неизвестно.
Среди причин, по которым Бродский так и не приехал ни разу в свой родной город, даже когда это стало возможным, А. Кушнер назвал такую: он считал, что поэт боялся переступить порог комнаты, в которой оставил родителей в 1972-ом.

Родители Бродского двенадцать раз подавали заявление с просьбой разрешить им повидать сына (вместе или по отдельности), но даже после того, как Бродский перенёс операцию на открытом сердце в 1978 году и из клиники было написано официальное письмо с просьбой позволить родителям приехать в США для ухода за больным сыном, им было отказано. Мать Бродского умерла в 1983 году, немногим более года спустя умер отец. Оба раза Бродскому не позволили приехать на похороны.
Жизнь так устроена, что вина перед умершими, независимо от того, жили мы рядом или в разлуке с ними, преследует каждого из нас. И всё-таки в его случае это ощущение вины было особенно острым: можно представить, какая бы тяжесть навалилась на него, открой он входную дверь квартиры в доме на углу Литейного и Пестеля. Все эти переживания прошлого, которые нахлынули бы на поэта, сердце которого уже висело на волоске.

так выглядит сейчас кухня в квартире Бродского в Санкт-Петербурге
По этим лестницам меж комнат,
свое столетие терпя,
о только помнить, только помнить
не эти комнаты -- себя.
Не то страшит меня, что в полночь,
героя в полночь увезут,
что миром правит сволочь, сволочь.
Но сходит жизнь в неправый суд,
в тоску, в смятение, в ракеты,
в починку маленьких пружин
и оставляет человека
на новой улице чужим.

дом Мурузи, в котором жил Бродский
Он говорил: «Ну мы же знаем, что дважды в ту самую реку вступить невозможно, даже если эта река — Нева».

Есть города в которые нет возврата.
Солнце бьется в их окна как в зеркала. То
есть, в них не проникнешь ни за какое злато.
Там всегда протекает река под шестью мостами.
Там есть места, где припадал устами
тоже к устам и пером к листам. И
там рябит от аркад, колоннад, от чугунных пугал;
там толпа говорит, осаждая трамвайный угол,
на языке человека, который убыл.
«Не выходи из комнаты...»
У Бродского был врождённый порок сердца. Врачи запрещали ему курить. Это его очень тяготило. Он говорил: «Выпить утром чашку кофе и не закурить?! Тогда и просыпаться незачем!» Он ничего не хотел менять: не признавал никаких диет, пил виски и очень крепкий кофе, заполночь засиживался с собеседниками, и курил, курил, курил, отрывая от сигареты фильтр.

Однажды в шутливом послании другу написал: «Не знаю, есть ли Гончарова, но сигарета — мой Дантес». Лечивший его кардиолог на вопрос о причине смерти, не задумываясь, ответил: «Курение».
По типу своего поэтического сознания и психического устройства Бродский принадлежал к тем творцам шиллеровско-байроновско-лермонтовского склада, которые, стремительно сгорая, не щадя себя, с их непомерно высокими требованиями к жизни не рассчитаны на долголетие. Живи он в 18-19 веке, так бы и случилось. Двадцатый век немного продлил его жизнь.

«У пророков не принято быть здоровым», - писал он ещё в 1967 году («Прощайте, мадмауазель Вероника»). Болезнь воспринимал не как аномалию, но как условие творчества, если не вообще человечности.
13 декабря 1976 года Бродский перенёс обширный инфаркт. После этого ему предстояло прожить 19 лет, но состояние постоянно ухудшалось. Через два года, в декабре 78-го — операция на сердце. Второй раз сердечные сосуды заменяли через 7 лет — в 1985-ом. Этому предшествовало ещё два инфаркта. Врачи говорили о третьей операции, а под конец и о трансплатации сердца, откровенно предупреждая, что велик риск летального исхода.
Бродский быстро старел, выглядел значительно старше своих лет.

В последнее время любые физические усилия стали для него непосильными.

В октябре 1995 года Бродский очень плохо себя чувствовал, без нитроглицерина не мог пройти и ста метров. Врачи настаивали на немедленном продувании сердечных сосудов. Но он оттягивал эту операцию, откладывал до весны. На упрёки друзей отвечал: «Мне страшно. Я знаю, что это мой единственный шанс. Но мне так страшно».
Последний его вечер, 27 января 1996 года.

К ним в гости пришёл Александр Сумеркин с их общей приятельницей пианисткой Елизаветой Лионской. Мария приготовила замечательный ужин с итальянским десертным блюдом (тирамису). Иосиф был в прекрасной форме, пил крепчайшую шведскую водку на травах. Голубоглазая и смышлёная Анна-Нюха бойко тараторила по-английски. Потом Бродский звонил Михаилу Барышникову в Майами, поздравлял с завтрашним днём рождения.

Это было за несколько часов до его смерти.
Пожелав жене спокойной ночи, Бродский сказал, что ему нужно еще поработать, и поднялся к себе в кабинет. Обнаружила его Мария под утро. Дверь открыта, Бродский лежит на полу, лицо в крови, очки разбиты при падении.
Он шёл умирать. И не в уличный гул
он, дверь отворивши руками, шагнул,
но в глухонемые владения смерти.
Он шёл по пространству, лишённому тверди...
В 1993 году им были написаны строчки: «Не выходи из комнаты, не совершай ошибки». Они оказались пророческими. Он совершил ошибку, он умер, пытаясь выйти из комнаты. Умер не от инфаркта, как принято считать, а от аритмии. В медицине это считается очень лёгкой смертью. У него просто остановилось сердце. И всё.
Как восприняли российские власти смерть поэта? Каким словами сообщили людям об этом?
Об этом — стихотворение А. Макаревича:

Снег замёл пороги и дороги,
Снег ложится, и не надо слов.
А по телевизору – «Итоги»,
На экране – бравый Киселёв.
Он привычный гость в любой квартире,
И, хотите вы того, иль нет,
Он расскажет, что творится в мире,
И уж перво-наперво – в стране:
Что народ, уставший от обманов,
Демократам завтра скажет "нет",
Что народу мил теперь Зюганов
И его партейный комитет,
И что Ельцин посетил студентов,
Добиваясь только одного:
Чтобы, выбирая президента,
Помнили студенты про него,
Что Явлинский лаялся с Гайдаром,
Явной беспринципностью греша,
И что сказал на это в кулуарах
Жириновский – добрая душа,
И параграф, в обсужденьи коего
Снова встал парламент на дыбы,
И рабочий путь Егора Строева –
Человека непростой судьбы
… И, парад закончив идиотский,
Складывая папки и спеша,
На прощанье фраза:
«Умер Бродский.
Сердце. Похоронят в США».
Васильевский остров
Он умер не на Васильевском острове, а на острове Манхэттен.
Остров Манхэттен
Там, на клабище в Верхнем Манхэттене, его гроб полтора года простоял в нише, закрытой плитой.
Накануне похорон Галина Старовойтова звонила вдове Бродского, спрашивала у неё разрешения похоронить поэта в Петербурге, в Александро-Невской лавре или в Комарове, рядом с Ахматовой. Но Марии было лучше ведомо, где хотел быть похоронен Бродский, она знала, как он любил Венецию, в которой часто и подолгу бывал, что она для него значила.

Когда-то в своём эссе «Набережная неизлечимых» он высказал своё детское сумасшедшее желание: купить билет в Венецию, снять там комнату на набережной, чтобы волны от лодок плескали в окно, написать там пару элегий, а на исходе денег вместо обратного билета купить дешёвый браунинг и застрелиться, чтобы остаться там навсегда. И вот это его желание сбылось.
31 января 1996 года состоялись похороны поэта в Нью-Йорке.

А перезахоронили его – 21 июня 1997-го – на острове Сан-Микеле, Острове мертвых близ Венеции. Рядом со Стравинским и Дягилевым.

Похороны Бродского в Венеции
Сан-Микеле — это городское кладбище Венеции — самое красивое в мире. Печальный островок в Лагуне, утопающий в тени пиний и кипарисов. На могиле Бродского — скромная стела белого мрамора, живые цветы, фотография. Имя на русском и английском, даты рождения и смерти. На обратной стороне надгробия есть еще одна надпись по латыни - цитата из любимого Бродским Проперция: Letum non omnia finit - («Смерть ещё не конец»).

Под надгробием — записки, прижатые камешками, чтобы не разлетелись. Прямо на холмике — блокнот с записками от приходящих: «Здравствуй, Иосиф! Как жаль, что тебе больше нельзя позвонить...» На карнизе плиты — несколько фигурок котов — многие знают, что Бродский любил кошек. Кем-то собранный самиздатовский сборничек «Рождественские стихи». Видно, что могила жива, что сюда приходят.
В 2002 году в Москве был объявлен конкурс на лучший памятник Бродскому в Петербурге. Победил проект скульптора В. Цивина и архитектора Ф. Романовского: две полуколонны с текстами поэта , установленные на набережной Лейтенанта Шмидта напротив Горного института.

В 2011 году в центре Москвы был торжественно открыт памятник Иосифу Бродскому (скульптор Г. Франгулян, архитектор С. Скуратов). Он установлен в сквере рядом с Новинским бульваром между домами 22 и 28, напротив посольства США.
На гранитном постаменте трёхметровая бронзовая фигура самого поэта. В стороне от неё - две скульптурные группы, которые символизируют друзей и недоброжелателей. Памятник сделан так, что любой желающий может взойти на пьедестал и почувствовать себя участником композиции.

Памятник Бродскому работы З. Церетели установлен во дворе Московского Музея современного искусства. Основатель и директор Музея сам Церетели.

Несколько неожиданный памятник Бродскому был торжественно открыт в 2005 году во внутреннем дворике филологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета ( скульптор Константин Симун). Памятник представляет собой чемодан с биркой на имя Иосифа Бродского в натуральную величину, установленный на асфальте, на котором стоит каменная плита с головой поэта. Чемодан в данном случае представляет собой символ жизненного и творческого пути поэта.
памятник отъезжающему
«Не всё уносимо ветром...»

Меня упрекали во всем, окромя погоды,
и сам я грозил себе часто суровой мздой.
Но скоро, как говорят, я сниму погоны
и стану просто одной звездой.
Я буду мерцать в проводах лейтенантом неба
и прятаться в облако, слыша гром,
не видя, как войско под натиском ширпотреба
бежит, преследуемо пером...
И. Бродского серьезно занимала проблема воскресения, дыры, которую сам он рассчитывал проделать в «броне небытия». В последних своих стихах, представляющих собой его слова прощания и завещания, уходя, Бродский приоткрывает русской поэзии будущего этот путь, для нее пока новый. О жизни после смерти писал Случевский, тема воскрешения волновала по-разному Пастернака и Маяковского, но это были только отдельные произведения, а не целое направление. Бродский пишет:
Только пепел знает, что значит сгореть дотла.
Но я тоже скажу, близоруко взглянув вперед:
Не все уносимо ветром, не все метла,
Широко забирая по двору, подберет.
Мы останемся смятым окурком, плевком, в тени
Под скамьей, куда угол проникнуть лучу не даст,
И слежимся в обнимку с грязью, считая дни,
В перегной, в осадок, в культурный пласт.
Замаравши совок, археолог разинет пасть
Отрыгнуть, но его открытие прогремит
На весь мир, как зарытая в землю страсть,
Как обратная версия пирамид.
«Падаль!» – выдохнет он, обхватив живот,
но окажется дальше от нас, чем земля от птиц,
потому что падаль – свобода от клеток, свобода от
целого: апофеоз частиц.
Вся его поэзия – это в каком-то смысле преодоление смерти речью, поэтическим словом.
Страницу и огонь, зерно и жернова,
Секиры острие и усеченный волос –
Бог сохраняет все, особенно – слова
Прощенья и любви, как собственный свой голос.
«Бессмертия у смерти не прошу»,– когда-то написал он в 60-х. Оно само нашло его.
Бродский не вернулся на Васильевский остров, как обещал. Но стихами своими, конечно, хотел бы остаться здесь, где родился, любил, был счастлив и несчастлив. И, подобно Цветаевой, обращавшейся через головы современников к «тебе, через 100 лет», обращался к своим будущим ««воскресителям»:
…Мой голос, торопливый и неясный,
Тебя встревожит горечью напрасной,
И над моей ухмылкою усталой
Ты склонишься с печалью запоздалой,
И, может быть, забыв про все на свете,
В иной стране – прости – в ином столетье
Ты имя вдруг мое шепнешь беззлобно,
И я в могиле торопливо вздрогну.

|
|
Процитировано 17 раз
Понравилось: 8 пользователям
Гений одиночества (продолжение) |
Начало здесь.

В ту новогоднюю ночь были сожжены не только занавески, но и все мосты и корабли. Из стихов Дмитрия Бобышева:
Но как остановились эти лица,
когда вспорхнула бешеная птица
в чужом дому на занавес в окне,
в чужом дому, в своём дыму, в огне...
Немногое пришлось тогда спасти!
Нет, дом был цел, но с полыханьем стога
сгорали все обратные пути,
пылали связи...
...Моя свобода и твоя отвага -
не выдержит их белая бумага,
и должен этот лист я замарать
твоими поцелуями, как простынь,
и складками, и пеплом папиросным,
и обещанием имён не раскрывать.
Над этими стихами иронизировал Сергей Довлатов. Из его письма И. Ефимову:
«Знаю я Диму, переспит с чужой женой и скажет — я познал Бога!» Он относил его к породе тех персонажей Достоевского, которые любую свою гнусь объясняли высшими материями.
Бобышева не смущало, что Бродский — его друг, а Марина — невеста друга. Тем более, что сама невеста ему заявила: «Я себя таковой не считаю. А что он думает — это его дело». Значит, свободна, - резонно посчитал Бобышев.
Тогда, с тогда ещё чужой невестой,
шатался я, повеса всем известный,
по льду залива со свечой в руке,
и брезжил поцелуй невдалеке.
И думал он в плену шальных иллюзий:
страсть оправдает всё в таком союзе,
всё сокрушит: кружилась голова,
слов не было. Какие там слова!
Но в этом свободном союзе был некий подловатый нюанс: они сошлись в самый трудный для Бродского момент, когда КГБ обложило его со всех сторон, когда над ним висела угроза ареста. Друзья уговаривали его остаться в Москве, не высовываться, отсидеться в психушке, но Бродский, почуяв неладное в любовном тылу, сбежал из больницы и примчался в Питер на самолёте, где его и схватили.
В мемуарах Д. Бобышева («Я здесь». Вагриус. 2003) история этого любовного треугольника увидена им со своей колокольни и рассказана с явной оглядкой на «Идиот» Достоевского, где роль Мышкина, впадающего после решительного объяснения хоть и не в эпилептический, но в истерический припадок, отведена рассказчику, Бродский изображён как одержимый тёмной страстью, грозящий то ножом, то топором, Рогожин, а мечущаяся между ними и склонная при случае что-нибудь поджечь героиня - как Настасья Филипповна. Однако на деле контраст между богатым и сложным интеллектуально-эмоциональным миром Бродского и пошловатым — его соперника - вызывал ассоциации не с Достоевским, а скорее, с Грибоедовым: «А Вы? О Боже мой! Кого себе избрали!»
В. Соловьёв в своём «Запретном романе о Бродском» высказывает такую фрейдистскую мысль: что Бобышев не просто запал на М.Б., но рассматривал её скорее как трофей в поэтическом турнире с Бродским. Якобы Бродский был объектом его поэтической ревности, и Бобышев поединок с поля поэзии, где он был обречён на проигрыш, перенёс на поле любовное, где взял-таки реванш за литературное поражение, уязвив и унизив друга, в котором видел соперника, а тот в нём — нет.
Л. Штерн вспоминала, как спустя восемь лет, накануне своего отъезда на запад в 1972-ом, Бродский попросил её совершить с ним прощальную поездку по ленинградским окрестностям на её автомобиле. А потом попросил заехать на «ту самую дачку», где происходила роковая встреча Нового года с поджогом занавесок.

Та самая дача в Комарово
Иосиф попросил остановиться, вышел из машины и направился к даче. Друзья тактично остались в машине. Бродского не было минут пятнадцать. Вернулся он мрачный и удручённый. И, может быть когда он стоял один в пустынной даче и представлял, как всё было, может быть именно тогда рождались в нём строки этого стихотворения:
«Горение». Читает Давид Аврутов:
https://www.youtube.com/watch?v=TNboHPxmuMM&list=PLrgDSzTXDpvM70JA2g2Jzm2N6z5kWkI7a&index=18&t=1s

Много писалось о душевном холоде Бродского, о сухости его эмоционального мира. Но как же этот холод мог рождать такой душевный жар?
«Тогда, когда любови с нами нет»
Мучительный роман и разрыв с Басмановой был самой трагической страницей его жизни. Эта женщина занимала огромное место в судьбе поэта. Бродский никогда и никого не любил так, как её. Она стала его наваждением, его проклятием и — неиссякаемым источником вдохновения. Он посвятил ей более тридцати произведений. Поэтому какой бы ни была эта женщина, какими бы ни были её поступки, мы должны быть ей признательны: благодаря ей русская поэзия обогатилась лирикой высочайшего класса.

Пора давно за все благодарить,
за все, что невозможно подарить
когда-нибудь, кому-нибудь из вас
и улыбнуться, словно в первый раз
в твоих дверях, ушедшая любовь,
но невозможно улыбнуться вновь.
Прощай, прощай -- шепчу я на ходу,
среди знакомых улиц вновь иду,
подрагивают стекла надо мной,
растет вдали привычный гул дневной,
а в подворотнях гасятся огни.
-- Прощай, любовь, когда-нибудь звони.
Стихи, посвящённые Марине Басмановой, центральны в лирике Бродского, и не потому, что они лучшие — среди них есть шедевры и есть стихи проходные, - а потому что эти стихи и вложенный в них духовный опыт были тем горнилом, в котором выплавилась его поэтическая личность. Уже в последние свои годы Бродский говорил о них: «Это главное дело моей жизни».
Из стихов, написанных в ссылке:
М.Б.
Я обнял эти плечи и взглянул
на то, что оказалось за спиною,
и увидал, что выдвинутый стул
сливался с освещенною стеною.
Был в лампочке повышенный накал,
невыгодный для мебели истертой,
и потому диван в углу сверкал
коричневою кожей, словно желтой.
Стол пустовал. Поблескивал паркет.
Темнела печка. В раме запыленной
застыл пейзаж. И лишь один буфет
казался мне тогда одушевленным.
Но мотылек по комнате кружил,
и он мой взгляд с недвижимости сдвинул.
И если призрак здесь когда-то жил,
то он покинул этот дом. Покинул.
Позже он составит из этих стихов книгу «Новые стансы к Августе» (переиначив «Стансы к Августе» Байрона) и будет сравнивать её с «Божественной комедией» Данте. Ключевыми там являются три стихотворения: «Элегия» («До сих пор, вспоминая твой голос, я прихожу в возбужденье...»), «Горение» и «Я был только тем, чего ты касалась ладонью...». В «Элегии» «потерявший подругу» сравнивается с «продуктом эволюции», неким условным морским существом, лишённым привычной стихии, выброшенным на сушу, где ему предстоит приспособиться к жизни в иной среде и научиться жить и дышать по-другому.

Тогда, когда любови с нами нет,
тогда, когда от холода горбат,
достань из чемодана пистолет,
достань и заложи его в ломбард.
Купи на эти деньги патефон
и где-нибудь на свете потанцуй
(в затылке нарастает перезвон),
ах, ручку патефона поцелуй.
Да, слушайте совета Скрипача,
как следует стреляться сгоряча:
не в голову, а около плеча!
Живите только, плача и крича!
На блюдечке я сердце понесу
и где-нибудь оставлю во дворе.
Друзья, ах, догадайтесь по лицу,
что сердца не отыщется в дыре,
проделанной на розовой груди,
и только патефоны впереди,
и только струны-струны, провода,
и только в горле красная вода.
(Романс скрипача, «Шествие»)
И всё-таки Бродский надеялся, что у них ещё всё получится, что они будут счастливы. Мечтал об их общем ребёнке. Об этом он в ссылке в 1965 году пишет посвящённое Марине стихотворение «Пророчество»:
Мы будем жить с тобой на берегу,
Отгородившись высоченной дамбой
От континента в небольшом кругу,
Сооруженным самодельной лампой...
Придет зима, отчаянно крутя
Тростник на нашей кровле деревянной,
И если мы произведем дитя,
То назовем Андреем или Анной.
Пророчество сбылось. Стихи, как говорила другая Марина, сбываются.
Но когда Басманова была беременна от Бродского, в её жизнь вошёл Дмитрий Бобышев. Красавица металась от Иосифа к нему и обратно.
Ты, ревность, только выше этажом.
А пламя рвется за пределы крыши.
И это -- нежность. И гораздо выше.
Ей только небо служит рубежом.
А выше страсть, что смотрит с высоты
бескрайней, на пылающее зданье.
Оно уже со временем на ты.
А выше только боль и ожиданье.
(«Мужчина, засыпающий один»)
8 октября 1967 года у Марины и Иосифа родился сын Андрей. Он был зачат в Рождество, потому Бродский так любил этот праздник и поставил себе задачу — каждый год писать по одному стихотворению на тему Рождества. Послушайте знаменитый «Рождественский романс» на стихи Бродского в исполнении М. Козакова — в таком - лучшем варианте - его в Интернете нет: http://rutube.ru/video/1afb6826cb249a301cdd5289b5019404/

Плывет в тоске необьяснимой
среди кирпичного надсада
ночной кораблик негасимый
из Александровского сада,
ночной фонарик нелюдимый,
на розу желтую похожий,
над головой своих любимых,
у ног прохожих.
Плывет в тоске необьяснимой
пчелиный ход сомнамбул, пьяниц.
В ночной столице фотоснимок
печально сделал иностранец,
и выезжает на Ордынку
такси с больными седоками,
и мертвецы стоят в обнимку
с особняками.

Плывет в тоске необьяснимой
певец печальный по столице,
стоит у лавки керосинной
печальный дворник круглолицый,
спешит по улице невзрачной
любовник старый и красивый.
Полночный поезд новобрачный
плывет в тоске необьяснимой.

Плывет во мгле замоскворецкой,
плывет в несчастие случайный,
блуждает выговор еврейский
на желтой лестнице печальной,
и от любви до невеселья
под Новый год, под воскресенье,
плывет красотка записная,
своей тоски не обьясняя.

Плывет в глазах холодный вечер,
дрожат снежинки на вагоне,
морозный ветер, бледный ветер
обтянет красные ладони,
и льется мед огней вечерних
и пахнет сладкою халвою,
ночной пирог несет сочельник
над головою.
Твой Новый год по темно-синей
волне средь моря городского
плывет в тоске необьяснимой,
как будто жизнь начнется снова,
как будто будет свет и слава,
удачный день и вдоволь хлеба,
как будто жизнь качнется вправо,
качнувшись влево.
В день рождения сына Бродский подарил ему Библию с надписью: «Андрею на всю жизнь». Однако к этому времени Басманова уже жила с Бобышевым.
Бродский так и не женился на единственной женщине, которую любил «больше ангелов и Самого». Их семейное счастье длилось недолго. Он не выдержал и трёх дней, сбежав от «бытовухи» - из папиной коммуналки, которую им выделили родители — в свою, на Пестеля, обратно под родительское крыло. А Марина с ребёнком вернулась к своим родителям - на улицу Глинки (бывшей Никольской), 15, кв.14.

дом Бенуа, где жили Басмановы и где М.Б. живёт и сейчас
В начале 1968-го они разошлись окончательно. Бобышев потом женится на американке русского происхождения и тоже уедет в США. Марина останется одна. Сына запишет на свою фамилию. И даже отчество даст ему «Осипович», а не Иосифович, как бы поделив отцовство между Бродским и Мандельштамом. Иосифу разрешали видеться с ребёнком при условии — тот не должен знать, кто его отец. Для него он был просто Осей.

Марина с сыном
В 1967 году Бродский напишет стихотворение, адресованное сыну:
Сын! Если я не мертв, то потому
что, связок не щадя и перепонок,
во мне кричит все детское: ребенок
один страшится уходить во тьму.
Сын! Если я не мертв, то потому
что взрослый не зовет себе подмогу.
Я слишком горд, чтобы за то, что Богу
предписывалось, браться самому.
Сын! Если я не мертв, то потому
что знаю, что в Аду тебя не встречу.
Апостол же, чьей воле я перечу,
в Рай не позволит занести чуму.
Грех спрашивать с разрушенных орбит!
Но лучше мне кривиться в укоризне,
чем быть тобой неузнанным при жизни.
Услышь меня, отец твой не убит.
Потом, в Нью-Йорке у него над камином висели две фотографии — портрет Ахматовой и та, где он — с сыном, оставшимся в России.

«Твой пацан подрос...»
Бродский эмигрировал в Америку, когда Андрею было пять лет. С сыном у него тоже, как он выразился, «отношения не сложились».
Андрей Басманов живет в Петербурге. Ему сейчас 44 года. У него две дочки — две внучки Бродского — чьи фотографии он всегда носил с собой и очень ими гордился. Внешнее сходство Андрея с отцом поразительно — такой же веснушчатый и рыжий, но без отцовской яркости, энергии и магнетизма. Недаром говорится, что на детях гениев природа отдыхает.

И хотя Андрей в чём-то повторял Иосифа — например, как он, не мог учиться в советской школе, бросил её, но у Бродского, как известно, была фантастическая тяга к самообразованию, а у Андрея её не было. Мать возила его в школу на такси, чтобы убедиться, что он доехал. Не хотел учиться. Работал контролёром в троллейбусе. В начале 80-х его часто видели на ступеньках Казанского собора, в традиционном месте сбора ленинградских хиппи.

Он носил тогда кличку «поручик Басманов». Увлекался гитарой, рок-музыкой, авторской песней, но и в этом талантом Бог его обделил. К своему великому отцу Андрей никогда никакого интереса не испытывал и даже скрывал своё родство с ним.
Уже взрослого сына Бродский пригласил в гости в Америку. Друзья организовали Андрею поездку в Штаты. Бродский очень волновался перед его приездом. Это была первая и последняя встреча отца с сыном. Она страшно разочаровала Бродского. Потом он звонил другу - поэту Владимиру Уфлянду и с ужасом говорил: «Боже мой, он лежит на диване и поёт какие-то ужасные песни! Это же невозможно слушать!»

Конечно, он не рассчитывал, что сын тоже станет поэтом, но не ожидал увидеть столь отличный от него мир.
Воротиться сюда через двадцать лет,
отыскать в песке босиком свой след.
И поднимет барбос лай на весь причал
не признаться, что рад, а что одичал.
Хочешь, скинь с себя пропотевший хлам;
но прислуга мертва опознать твой шрам.
А одну, что тебя, говорят, ждала,
не найти нигде, ибо всем дала.
Твой пацан подрос; он и сам матрос,
и глядит на тебя, точно ты -- отброс.
И язык, на котором вокруг орут,
разбирать, похоже, напрасный труд.
("Итака")
Марина Басманова за сорок лет, прошедшие после расставания с Бродским, не сказала никому ни слова о своем романе. Все эти годы она ведет жизнь уединенную и закрытую от посторонних глаз: принципиально не дает интервью, не встречается с журналистами, не отпирает дверей даже знакомым людям, не ведет телефонных разговоров с незнакомыми.

Дверь её квартиры на третьем этаже. Он бывал на этой лестнице.
Как-то Андрей наткнулся на строчку из отцовского стихотворения «К Тиберию»: «Ты тоже был женат на б…» и в сердцах пригрозил, что отомстит за мать.
Говорят, сегодня он ведет образ жизни свободного художника. Считает себя коммунистом. Профессионально увлекается фотографией. В объектив фотокамеры попадают в основном дворы-колодцы старого Петербурга и веселые попойки друзей в собственной мансарде на улице Марата, которая досталась ему от деда — художника Павла Басманова .
После поездки к отцу в Нью-Йорк в середине 90-х годов он написал опус о своих пьяных приключениях в Америке. Произведение насыщено отборными матерными выражениями и представляет собой по крайней мере лингвистическую ценность. Рассказывают, что мат — это привычная форма речи Басманова, он на нем говорит и поныне.
Замыслив вскоре жениться, Бродский назовёт своего отпрыска «эскизом».

Марина Басманова с сыном Андреем
«И первый подвернувшийся овал...»
Бродский не сентиментален. Он чужд всяческой патетике и романтике. В любви для него нет тайны, сплошная физика:
Жить в эпоху свершений, имея возвышенный нрав,
к сожалению, трудно. Красавице платье задрав,
видишь то, что искал, а не новые дивные дивы.
И не то, чтобы здесь Лобачевского твёрдо блюдут,
но раздвинутый мир должен где-то сходиться. И тут –
тут конец перспективы.
Он зачастую груб и циничен. В стихотворении «Бюст Тиберия», обращаясь к римскому императору, пишет: «Приветствую тебя, две тыщи лет/ спустя. Ты тоже был женат на бляди./ У нас немало общего».
Всю жизнь Бродский любил одну женщину, которую он же называл врагиней, ягой, блудней с рыбьей кровью и которой посвятил все любовные стихи плюс одно антилюбовное («Дорогая, я вышел сегодня из дому...») Но как бы он её ни называл, ни оскорблял – он любил лишь её одну. Хотя безуспешно пытался заменить другими.
Ведь каждый, кто в изгнанье тосковал,
рад муку, чем придётся, утолить
и первый подвернувшийся овал
любимыми чертами заселить.
В начале 70-х это была Вероника Шильц, ставшая верным другом на долгие годы. Ей посвящено стихотворение 1977 года «Шорох акации», стихотворение 1993 года «Персидская стрела»:
Ты стремительно движешься. За тобою
не угнаться в пустыне, тем паче – в чаще
настоящего. Ибо тепло любое
ладони – тем более преходяще.

Бродский с Вероникой Шильц
Познакомились они ещё в 1967 году. У актёра Льва Прыгунова в Москве были две знакомые француженки. Одна из них, Вероника Шильц, работала в посольстве и прекрасно говорила по-русски. Когда она узнала, что Лев дружит с Бродским, то стала умолять, чтобы он их познакомил. Это было как раз накануне 28-го дня рождения Прыгунова.

Лев тогда жил на двоих с другом в 35-тиметровой комнате в коммуналке. Он позвал на день рождения массу народа и этих француженок тоже. Среди гостей был Бродский. Они познакомились, и Иосиф увлёкся Вероникой. Она поехала за ним в Ленинград, но ничего серьёзного у них не получилось.
"Выходит, я их свёл. - вспоминал Прыгунов. - Потом Иосиф написал гениальную поэму "Прощайте, мадемуазель Вероника" - и всё, освободился от любви. Но если бы не я, этой поэмы просто бы не было. И мы это вспоминали, когда я был у него в Америке".
Потом была профессор русской литературы Лондонского университета Фейс Вигзелл. Они познакомились в 1968-м в Ленинграде.

Фейс Вигзелл

На Прачечном мосту, где мы с тобой
уподоблялись стрелкам циферблата,
обнявшимся в двенадцать перед тем,
как не на сутки, а навек расстаться,
- сегодня здесь, на Прачечном мосту,
рыбак, страдая комплексом Нарцисса,
таращится, забыв о поплавке,
на зыбкое свое изображенье.
Река его то молодит, то старит.
То проступают юные черты,
то набегают на чело морщины.
Он занял наше место. Что ж, он прав!
С недавних пор все то, что одиноко,
символизирует другое время;
а это - ордер на пространство. Пусть
он смотриться спокойно в наши воды
и даже узнает себя. Ему
река теперь принадлежит по праву,
как дом, в который зеркало внесли,
но жить не стали.

Прачечный мост
Во всех поэтических сборниках Иосифа Бродского, где есть это стихотворенье, над первой строчкой стоят буквы посвящения "F.W." Бродский был влюблён в эту женщину и даже делал ей предложение, но она вышла за американца, жившего в Англии. В 1978 году Фейс разойдётся с ним и они снова будут встречаться с Бродским, когда он приедет в Америку. Фейс Вигзелл посвящено и длинное любовное стихотворение «Пенье без музыки», (названное так в противовес верленовским «Песням без слов»), где развивается геометрическая метафора двух «точек», то есть любовников, разделённых пространством, но соединённых линиями, которые пересекаются где-то над ними, образуя треугольник:

Вот место нашей встречи. Грот
заоблачный. Беседка в тучах.
Приют гостеприимный. Род
угла; притом, один из лучших
хотя бы уже тем, что нас
никто там не застигнет. Это
лишь наших достоянье глаз,
верх собственности для предмета.
За годы, ибо негде до –
до смерти нам встречаться боле,
мы это обживём гнездо,
таща туда по равной доле
скарб мыслей одиноких, хлам
невысказанных слов – всё то, что
мы скопим по своим углам;
и рано или поздно точка
указанная обретёт
почти материальный облик,
достоинство звезды и тот
свет внутренний, который облак
не застит – ибо сам Эвклид
при сумме двух углов и мрака
вокруг ещё один сулит,
и это как бы форма брака.
Приятельнице из Польши Зое Копусцинской Бродским посвящено стихотворение «Полонез: вариация»:
Безразлично, кто от кого в бегах:
ни пространство, ни время для нас не сводня,
и к тому, как мы будем всегда, в веках,
лучше привыкнуть уже сегодня.
В жизни Бродского было много женщин. (Строки: «в ночи не украшают табурета ни юбка, ни подвязка, ни чулок» – мягко говоря, поэтическое преувеличение). Говорили, что он не мог быть один. Это бывает при болезни сердца. Такой страх умереть, когда годится почти любая под рукой. Все его романы носили непродолжительный характер и подчинялись простому правилу: « Я считал, что лес - только часть полена, и зачем вся дева, раз есть колено». Связи были случайны, поверхностны, он всячески избегал повторений и продолжений. («В одну и ту же дважды? Да вы что! Я имею в виду реку»).

Вот как он рисует портрет литературоведки, которую называл «моя шведская вещь» и которая скрашивала ему тоску ПЕНовского конгресса в Рио: «Помню очаровательное, светло-палевое с тёмно-синим рисунком платье, ярко-красный халат поутру и – лютую ненависть животного, которое догадывается о том, что оно животное, в 2 часа ночи».
В 80-е годы в жизни Бродского появилась женщина, на которой он чуть было не женился. Это была юная, нежная полуитальянка-полугречанка Анна Лиза Аллево. Вот как описывает её внешность Евгений Рейн: «От неё исходила кротость, нечто даже фаталистическое. Тихий голос, ясный взгляд серых глаз. При всей миловидности в её внешности не было ничего вульгарного, затёртого, банального. Я ещё тогда подумал, что вот такая головка могла бы быть отчеканена на античной монете». Ей посвящена группа стихов в «Урании», стихотворение 198З года «Сидя в тени»:
Так марают листы:
запятая, словцо.
Так говорят «лишь ты»,
заглядывая в лицо.
К этому стихотворению Бродским в экземпляре Рейна была сделана приписка: «написано на о.Искья в Тирренском море во время самых счастливых двух недель в этой жизни в компании Анны Лизы Аллево».

остров Искья
Ей посвящено стихотворение «Ария»:
Оттого мы кричим,
что, дав простор подошвам,
рок, не щадя причин,
топчется в нашем прошлом...
Ей же адресовано и это пронзительное лирическое стихотворение 1987 года:
Ночь, одержимая белизной
кожи. От ветреной резеды,
ставень царапающей, до резной
мелко вздрагивающей звезды,
спи. Во все двадцать пять свечей,
добыча сонной белиберды,
сумевшая не растерять лучей,
преломившихся о твои черты,
ты тускло светишься изнутри,
покуда, губами припав к плечу,
я, точно книгу читая при
тебе, сезам по складам шепчу.
Под посвящением ей на этом стихотворении была сделана приписка (на экземпляре Рейна): «Анне Лизе Аллево, на которой следовало бы мне жениться, что, может быть, ещё произойдёт». Не произошло. Из стихов, посвященных ей в «Урании», становится ясно, что она любила Бродского и, видимо, не безответно. Но почему-то этот союз не состоялся. Может быть, потому, что судьба уже готовила его к другому.
Потом шесть лет он жил с американской слависткой Кэрол Юланд. Она вдохновила Бродского на эссе «Полторы комнаты». Он писал его о своих умерших родителях, чтобы доказать ей, что он не тот холодный и равнодушный человек, которым она его считала.

"Полторы комнаты, или Сентиментальное путешествие на родину" — кадры из художественно-анимационного фильма
Актриса Елена Коренева, которая в это время работала в Нью-Йорке официанткой, рассказала в своей автобиографической книге «Идиотка» историю их короткого романа...

Случались и трагикомические любовные истории. Так, одна замужняя дама, жена живущего в Бостоне поэта М., приехала в один прекрасный день без всякого повода к Бродскому на Мортон-стрит «навеки поселиться».

Она позвонила в дверь, вошла с чемоданом и сказала: «Как хотите, Иосиф, а я без Вас не могу жить». Бродский любезно помог ей снять пальто, усадил в кресло, а сам заперся наверху и в панике позвонил своей давней приятельнице Людмиле Штерн: «Что делать?!» Штерн была хорошо знакома с этой дамой и с её мужем, коему и позвонила, чтобы он немедленно приехал и забрал свою жену вместе с чемоданом. Что тот и сделал. А пока муж ехал, Бродский сидел, запершись, в то время как дама выла под дверью.

И. Бродский и Л. Штерн
Людмила пишет, что когда они с друзьями, вспомнив эту историю, отсмеялись, Бродский вдруг сказал: «Как это ни смешно, я всё ещё болен Мариной. Такой, знаете ли, хронический случай».
«Дорогая, мы квиты»
Та, по которой он тосковал и которую безуспешно пытался заменить другими, не любила его. Это была самая большая драма и поражение его жизни. Самая большая его боль при расставании была о Марине.

Горячей ли тебе под сукном шести
одеял в том садке, где – Господь, прости –
точно рыба – воздух, сырой губой
я хватал, что было тогда тобой?
Я бы заячьи уши пришил к лицу,
наглотался в лесах за тебя свинцу,
но и в чёрном пруду из дурных коряг
я бы всплыл пред тобой, как не смог «Варяг».
Эти же чувства подспудной тоски и нежности под маской грубости и цинизма читаются в стихотворении «Любовная песнь Иванова» (читает Давид Аврутов), в сюжете которого проглядывают черты личной драмы самого поэта. Это история классического треугольника, описанная в гротесктной, насмешливой, издевательской форме. "Любовная песнь Иванова", несомненно, автобиографична. Эту исповедь алкаша можно считать закомуфлированным, пародийным,самоироничным признанием самого поэта и ставить рядом с открыто-исповедальным любовным "Горением". Маска алкаша Иванова позволила Бродскому сделать признания, немыслимые для него прямым текстом в автобиографческих стихах. Послушайте:
https://www.youtube.com/watch?v=xMSpuIEq1BM&list=PLrgDSzTXDpvM70JA2g2Jzm2N6z5kWkI7a&index=17
Они были слишком разными людьми. Кажется, потом это понял и сам Бродский.

Вот конец перспективы
нашей. Жаль, не длинней.
Дальше – дивные дивы
времени, лишних дней,
скачек к финишу в шорах
городов и т.п.
лишних слов, из которых
ни одно о тебе.
И всё-таки он скажет о ней ещё одно слово. Четверть века спустя, в 1989-м И.Бродский обратился к самой Главной и самой Любимой его женщине с такими стихами:

Дорогая, я вышел сегодня из дому поздно вечером
подышать свежим воздухом, веющим с океана.
Закат догорал на галерке китайским веером,
и туча клубилась, как крышка концертного фортепьяно.
Четверть века назад ты питала пристрастье к люля и финикам,
рисовала тушью в блокноте, немного пела,
развлекалась со мной, но потом сошлась с инженером-химиком
и, судя по письмам, чудовищно поглупела.
Теперь тебя видят в церквях в провинции и в метрополии,
на панихидах по общим друзьям, идущих теперь сплошною
чередой; и я рад, что на свете есть расстоянья более
немыслимые, чем между тобой и мною.

Людмила Штерн на правах друга юности позволила себе резко отозваться об этих стихах Бродского в своей книге, посчитав их не просто чересчур жестокими, но и недостойными его любви: «О чём он возвестил миру этим стихотворением? Что наконец разлюбил МБ и освободился, четверть века спустя, от её чар? Что излечился от хронической болезни и в честь этого события врезал ей в солнечное сплетение? Зачем было независимому, «вольному сыну эфира» плевать через океан в лицо женщине, которую он любил «больше ангелов и Самого»? Великий предшественник Бродского когда-то выразил великое чувство великими строчками: «Я Вас любил, любовь ещё, быть может...« Вот кто взял нотой выше. Бродскому эту ноту взять не удалось».
Но, подобно Есенину, который после страшных оскорблений любимой женщине вдруг срывается на рыдание («Дорогая, я плачу, прости... прости...»), Бродского тоже выдаёт порой неловкий жест незащищённого чувства:
Дорогая, мы квиты.
Больше: друг к другу мы,
точно оспа, привиты
среди общей чумы.
Эта любовь умерла, судя по его стихам, в 1989 году, когда он написал под обычными инициалами посвящения "М.Б.":
"Не пойми меня дурно. С твоим голосом, телом, именем / ничего уже больше не связано; никто их не уничтожил, / но забыть одну жизнь - человеку нужна, как минимум, / еще одна жизнь. И я эту долю прожил". К тому времени он не видел Марину Басманову уже 17 лет.
Окончание: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post204331726/
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/70562.html
|
|
Процитировано 12 раз
Понравилось: 3 пользователям
Без заголовка |
Наталия Кравченко
|
|
«Убит. Убит. Подумать! Пушкин...» |

Сегодня, 29 января — 175 лет со дня гибели Пушкина.
Грозный день навис как тень,
холодно, туманно.
Он ли пел морозный день?
Непонятно, странно!
Карты, карты...И долги.
Геккерн, Нессельроде..
Кто друзья и кто враги?
Всё слилось в колоде.
Рогоносец! Кто сказал?
Геккерн, шутка Ваша?
Помнишь, - чёрный Ганнибал,
Ржевская Наташа...
Годы гулкие прошли,
вихрем отшумели.
Милый ангел, Натали,
неужели?..
А в ушах звенит кадриль,
в Аничковом жутко.
Жизнь, как будто злой пасквиль,
злая, злая шутка.
И пред ним со всех сторон
тени, тени, тени -
Пущин, Кюхля и барон,
огненный Катенин.
Ни теней, ни снов, ни карт, -
с видом хладной скуки
господин кавалергард
потирает руки.
Кончен путь. Последний брег.
Чей-то крик: «Начните!»
И без чувств упал на снег
Пушкин, сочинитель.
(Михаил Кузмин "Пушкин едет на дуэль")

«Он заплатил за нелюбовь Натальи»: http://nmkravchenko.livejournal.com/8014.html
Дантес иль Пушкин? Кто там первый?
Кто выиграл и встал с земли?
Кого дорогой этой белой
На черных санках повезли?
Но как же так? По всем приметам,
Другой там победил, другой,
Не тот, кто на снегу примятом
Лежал кудрявой головой.
Что делать, если в схватке дикой
Всегда дурак был на виду.
Меж тем, как человек великий,
Как мальчик, попадал в беду?
Чем я утешу пораженных
Ничтожным превосходством зла,
Прославленных и побежденных
Поэтов, погибавших зря?
Я так скажу: не в этом дело,
Давным давно, который год
Забыли мы иль проглядели,
Но все идет наоборот!..
Дантес лежал среди сугробов,
Подняться не умел с земли,
А мимо медленно, сурово,
Не оглянувшись, люди шли.
Он умер или жив остался –
Никто того не различал.
А Пушкин пил вино, смеялся,
Ругался и озорничал.
Стихи писал, не знал печали,
Дела его прекрасно шли,
И поводила все плечами,
И улыбалась Натали.
Для их спасения – навечно
Порядок этот утвержден.
И торжествующий невежда
Приговорен и осужден!
(Б. Ахмадулина «Дуэль»)

Поэзия Пушкина — это как бы вселенский язык, который понятно и пленительно звучит для всех времён и поколений.
«И у нас стесняется душа лирическим волненьем, когда мы читаем Пушкина. И мы тоже бродим вдоль улиц шумных и стараемся угадать грядущей смерти годовщину; мы все провожаем кого-нибудь в час незабвенный, в час печальный, и каждому из нас наносит хладный свет неотразимые обиды; на братской перекличке и нам не отозвалось много голосов, и наши дни тянулись без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви; и мы, как друга ропот заунывный, слушали призывный шум свободной стихии... Так в своих стихотворениях рассказал Пушкин свою биографию, что она сделалась биографией общечеловеческой. Перемените имена, отдельные подробности и факты, и это будете вы; расскажите Пушкина, и вы расскажете все.
И оттого Пушкин - самое драгоценное, что есть у России, самое родное и близкое для каждого из нас... Мы вспоминаем эту дорогую кудрявую голову, мы повторяем его стихи, которые И.С. Аксаков назвал благодеянием, и, облагодетельствованные его стихами, истолкованием Божества, бодрее продолжаем свою трудовую дорогу: мы знаем, что в степи мирской, печальной и безбрежной, есть неиссякаемый, животворный источник, где обновляется наше воодушевление и сила жизни, где мы почерпаем все новые и новые возможности мыслить и чувствовать, где нам дается святое причастие красоты. Его стихи лепечут уста детей, и его же стихи, не покидаемые в стенах школы, на обязательных страницах хрестоматий, текут вослед за нами в продолжение всей нашей жизни и, "ручьи любви", навсегда вливаются в наши взрослые души. И так проходят годы, десятилетия, прошло столетие со дня его рождения и еще новые десятилетия, а сам он не проходит. Великий и желанный спутник, вечный современник, он идет с нами от нашего детства и до нашей старости, он всегда около нас, он всегда откликается на зов нашего сердца, жаждущего прекрасных откровений. Какое счастье!..»
(Ю.И. Айхенвальд «Пушкин»)

Какое счастье, что у нас был Пушкин!
Сто раз скажу, хоть присказка стара.
Который год в загоне мастера
и плачет дух над пеплищем потухшим.
Топор татар, Ивана и Петра,
смех белых вьюг да темный зов кукушкин...
Однако ж голь на выдумку хитра:
какое счастье, что у нас был Пушкин.
Который век безмолвствует народ
и скачет Медный задом наперед,
но дай нам Бог не дрогнуть перед худшим,
брести к добру заглохшею тропой.
Какое счастье, что у нас есть Пушкин!
У всей России. И у нас с тобой.
(Б. Чичибабин)

|
|
Гений одиночества |
Начало здесь.

28 января 1996 года умер Иосиф Бродский.
Вот уже шестнадцатый год его нет с нами. Это поэт безутешной мысли. В отличие от романтического поэта ему нечего противопоставить холоду мира. Но, как ни странно, экзистенциальное отчаяние Бродского сильнее привязывает к миру, чем иные восторги перед ним в пустопорожних стихах. Вспоминаются слова Михаила Веллера: «Странная вещь. Поэт Н. такие сердечные, такие взволнованные стихи пишет, да и сам по себе он такой душевный человек! А никому на хрен не нужен. Напротив, Бродский — такой холодный, дистанцированный, демонстративно одинокий и в жизни, и в стихах... А вот умер он — и такая боль, такое зияние в душе! На годы, на всю жизнь!»

Что нужно для чуда? Кожух овчара,
щепотка сегодня, крупица вчера,
и к пригоршне завтра добавь на глазок
огрызок пространства и неба кусок.
И чудо свершится. Зане чудеса,
к земле тяготея, хранят адреса,
настолько добраться стремясь до конца,
что даже в пустыне находят жильца.
А если ты дом покидаешь - включи
звезду на прощанье в четыре свечи,
чтоб мир без вещей освещала она,
вослед тебе глядя, во все времена.

Когда 24 мая 1940 года у ленинградского еврея-фотографа А. И. Бродского и домохозяйки М.М. Вольперт родился поздний первенец — никто не подозревал, что тот станет оригинальнейшим русским поэтом второй половины 20 века.

родители И. Бродского

будущий Нобелевский лауреат
Жил Иосиф в доме на углу Пестеля и Литейного (Литейный пр. 24 кв. 28).

Это был знаменитый дом: в западном его крыле когда-то снимал квартиру Блок, а в квартире самих Бродских до революции жили З. Гиппиус и Д. Мережковский, и как раз с их балкона Зинаида выкрикивала оскорбления революционным матросам.


«Жил-был когда-то мальчик...»
Учился будущий нобелевский лауреат плохо. За восемь школьных лет сменил пять школ. В школьной характеристике писали: «Упрямый, ленивый, грубый, тетради имеет неряшливые, с надписями и рисунками». Кстати, рисунки Бродского незаурядны, как у многих больших поэтов (Пушкин, Лермонтов, Маяковский), Ахматова даже сравнивала их с известными иллюстрациями Пикассо к «Метаморфозам» Овидия. Ему даже предлагали издать свои рисунки, но Бродский никогда к ним серьёзно не относился: никогда их не собирал, раздаривал и не помнил, кого и когда рисовал.

В 7 классе Иосиф был оставлен на второй год за четыре двойки, в том числе и по английскому языку, а в восьмом — вообще ушёл из школы.
Из эссе «Меньше, чем единица»:

«Жил-был когда-то мальчик. Он жил в самой несправедливой стране на свете. Ею правили существа, которых по всем человеческим меркам следовало признать выродками. Чего, однако, не произошло... Рано утром, когда в небе еще горели звезды, мальчик вставал и, позавтракав яйцом и чаем, под радиосводку о новом рекорде по выплавке стали, а затем под военный хор, исполнявший гимн вождю, чей портрет был приколот к стене над его еще теплой постелью, бежал по заснеженной гранитной набережной в школу... Он влетал в вестибюль, бросал пальто и шапку на крюк и несся по лестнице в свой класс.
Это была большая комната с тремя рядами парт, портретом Вождя на стене над стулом учительницы и картой двух полушарий, из которых только одно было законным. Мальчик садится на место, расстегивает портфель, кладет на парту тетрадь и ручку, поднимает лицо и приготавливается слушать ахинею».

Бросить школу, выломиться таким образом из системы — было поступком необычным, радикальным. Какое-то время он пытался продолжить формальное образование — записался в вечернюю школу, посещал вольнослушателем лекции в университете. Однако тому, чем он в итоге стал — обязан лишь своему неустанному самообразованию.

комната Бродского в Ленинграде
Ещё в юные годы самоучкой Бродский в совершенстве овладел английским и польским, позднее со словарём читал латинские, итальянские и французские тексты, а в последние годы жизни начал изучать китайский язык.

Занимался историей, философией, европейской и восточной, много читал по пушкинской эпохе. Всю жизнь не расставался с лучшей из всех российских энциклопедий — словарём Брокгауза и Ефрона. Среди близких друзей Бродского были выдающиеся лингвисты, литературоведы, историки искусства, композиторы, музыканты, физики и биологи, он дотошно расспрашивал знатоков об интересующих его предметах, жадно впитывал сведения и старался оприходовать их в стихах. Можно сказать, ничего не пропадало даром.
В детстве он мечтал стать лётчиком.

Эту мечту Бродский попытался осуществить в Америке, но после первых уроков в лётной школе выяснилось, что его вестибулярный аппарат не приспособлен к управлению самолётом. Была мечта стать моряком-подводником.

Но в приёме в морское училище отказали из-за пресловутого «пятого пункта». Штурвалы корабля и самолёта оказались недоступны, но сюжеты и метафоры мореплавания и полёта постоянны в творчестве Бродского.

И.Бродский на аэродроме в Якутске. 1959 год.
Послушайте песню Олега Митяева на стихи И. Бродского: «Самолёт летит на вест»
http://rutube.ru/video/9138df86685b20285eb5635b3a350b7f/
«К нам притащился Ося Бродский...»
(в кругу друзей)

Каким Бродский был в ранней юности? Задиристым и застенчивым одновременно. Сострив, смущался, делался пунцовым. Была в нём некоторая «светская недостаточность», угловатость поведения.
Сверстники, друзья признавали его талант, но никто не воспринимал его тогда как чудо. Все вокруг писали стихи, все считали себя гениями. Над ним подтрунивали, хохмили: «Угрюм и мрачен, вид сиротский, к нам притащился Ося Бродский».

Сам Ося относился к себе без всякой самопатетики. Невозможно было представить, чтобы он произнёс: «моя поэзия» или пуще того «моё творчество». Всегда только: «стишки». Он был самым самоироничным поэтом своей эпохи. Об этом говорят многие его стихи, написанные «по случаю».
Бродский всегда приходил на день рождения без подарка — денег не было, но честно отрабатывал свой хлеб, даря именинникам стихи, и это всегда был коронный номер вечера. У Бродского интересно всё, вплоть до шуточных почеркушек. Ну вот, например, строки, написанные к 35-летию А. Кушнера в 1971 году:

Ничем, Певец, твой юбилей
мы не отметим, кроме лести
рифмованной, поскольку вместе
давно не видим двух рублей.
Суть жизни все-таки в вещах.
Без них -- ни холодно, ни жарко.
Гость, приходящий без подарка,
как сигарета натощак.
Подобный гость дерьмо и тварь
сам по себе. Тем паче, в массе.
Но он -- герой, когда в запасе
имеет кой-какой словарь.
Итак, приступим. Впрочем, речь
такая вещь, которой, Саша,
когда б не эта бедность наша,
мы предпочли бы пренебречь.
Мы предпочли бы поднести
перо Монтеня, скальпель Вовси,
скальп Вознесенского, а вовсе
не оду, Господи прости.
Вообще, не свергни мы царя
и твердые имей мы деньги,
дарили б мы по деревеньке
Четырнадцатого сентября.
Представь: имение в глуши,
полсотни душ, все тихо, мило;
прочесть стишки иль двинуть в рыло
равно приятно для души.
А девки! девки как одна.
Или одна на самом деле.
Прекрасна во поле, в постели
да и как Муза не дурна...
Привычка работать стихами даже в эпистолярном и поздравительном жанре — свойство насквозь поэтической натуры. В русской поэзии 20 века, кажется, только Бродский и Пастернак смогли этот стихотворный трёп вывести в жанр подлинной поэзии.
Вот, например, послание другу В. Голышеву в 1995-ом:
Старик, пишу тебе по новой.
Жизнь — как лицо у Ивановой
или Петровой: не мурло,
но и не Мерилин Монро.
Погода, в общем, дрянь. Здоровье,
умей себя оно само
графически изобразить, коровье
изобразило бы дерьмо.
Но это, старичок, в порядке
вещей. За скверной полосой
идёт приличная, и в прятки
играешь кое-как с косой...
А вот стихи, написанные по случаю дня рождения Михаила Барышникова (27 января), его лучшего друга в эмиграции:

В твой день родился лиходей
по кличке Вольфганг Амадей.
А в мой – Кирилл или Мефодий,
один из грамотных людей.
Пусть я – аид, пускай ты – гой,
пусть профиль у тебя другой,
пускай рукой я не умею,
чего ты делаешь ногой.
Хоть в знаков сложной хуете
ни нам, ни самому Кокте —
не разобраться, мне приятно,
когда ты крутишь фуэте.
Р. S. От этих виршей в барыше ль
останешься, прочтя, Мишель?
Учителя Бродского
Когда Бродский ещё не был Нобелевским лауреатом и вообще не опубликовал ни строчки, он зарабатывал на жизнь чем попало, как Джек Лондон и Максим Горький. С 15-ти лет работал: фрезеровщиком на оборонном заводе, учеником прозектора в морге, часто ездил в геологические партии в разные концы страны, - побывал на Тянь-Шане, на Белом море, Дальнем востоке.

Бродский с геологической экспедицией на севере. Начало 60-х

в экспедиции в селе Малошуйка Архангельской области. 1958 год.
Из этой романтики чужих краёв родилось его стих-е «Пилигримы». Он написал его в 17 лет. Как в «Парусе» Лермонтова, в этих стихах уже виден весь будущий Бродский, вся его грядущая метафизика. Послушайте песню на эти стихи в исполнении Евгения Клячкина:
Бродский начал писать стихи, когда прочитал Б. Слуцкого. С него начался его интерес к поэзии. Это был единственный поэт, у которого было ощущение трагедии — так ему тогда казалось. В 16 лет увлёкся стихами Роберта Бернса в переводах Маршака, его балладным напевом, тонким остроумием. Блока не любил за «дурновкусие».
Ах, маменький этот сынок? -
Ну-ну, отвечаю, полегче! -
это буквальный их диалог, запечатлённый Кушнером в одном из своих стихотворений.
Бродскому были близки: Державин, Кантемир, Баратынский (ценил его выше, чем Пушкина), Мандельштам, Ходасевич, Пастернак, Багрицкий. Своими учителями считал английских поэтов: Джона Дона, Уистена Одена, Томаса Элиота. Он многое перенял у них, переводил, посвящал им стихи. Первый сборник стихов Бродского выйдет в Англии с предисловием Одена, где тот назовёт его «первоклассным поэтом».

И. Бродский в Лондоне с поэтом Оденом
Отношение к творчеству Ахматовой было неоднозначным.

Бродский говорил об Ахматовой как о человеке, который одной интонацией тебя преображает. «Одним тоном голоса или поворотом головы она превращает вас в гомо сапиенс». Он подчёркивал значение её морального примера («это поэт, с которым можно более-менее прожить жизнь»), но между ними как поэтами вообще-то мало общего. Ахматова это чувствовала и говорила: «Иосиф, ну Вам же не могут нравиться мои стихи». И в самом деле, «сероглазый король» и «перчатка с левой руки» не представлялись ему большими поэтическими достижениями.
Гораздо больше ценил Бродский дарование Цветаевой.

Больше всего он чувствовал сходство у себя с ней, хотя метрические системы у них совершенно разные. Но Цветаева оказывала на него большее духовное влияние, чем кто-либо. Он любил её за «библейский темперамент, темперамент Иова», за её философию дискомфорта. Благодаря Цветаевой изменилось не только его представление о поэзии — изменился весь его взгляд на мир. Её голос Бродский считал самым трагическим в русской поэзии.
«Ах, свобода!...»
Бродский всегда имел мужество и — в некоторых случаях — наглость иметь обо всём собственное мнение, даже когда оно расходилось с общепринятым и дозволенным. Однажды, вися на поручнях переполненного автобуса, он громко крикнет товарищу: «Я решил не принимать!». Только посвящённый товарищ мог понять, о чём речь: парафраз Маяковского, сказавшего, что для него не было вопроса, принимать или не принимать большевистскую революцию.
В 18 лет Бродский совершит яркий гражданский поступок. Разогнавшись на велосипеде, он швырнёт в открытое окно СП, где шло заседание секретариата по поводу исключения Пастернака в связи с нобелевской историей, презерватив, наполненный сметаной. Поражённые разорвавшейся бомбой, секретари звонили в КГБ, это было воспринято как политическая акция, и в ноябре 1958 года на закрытом собрании партбюро писатели слушали доклад полковника КГБ про деятельность нераскрытой пока организации, направленной против советской литературы.

На этой фотографии — очень характерное для него выражение: независимости, лёгкой презрительной наглости.
Из записных книжке Сергея Довлатова «Соло на ундервуде»:
«Бродский создал неслыханную модель поведения. Он жил не в пролетарском государстве, а в монастыре собственного духа. Он не боролся с режимом. Он его не замечал. И даже нетвердо знал о его существовании.
Его неосведомленность в области советской жизни казалась притворной. Например, он был уверен, что Дзержинский - жив. И что "Коминтерн" - название музыкального ансамбля. Он не узнавал членов Политбюро ЦК. Когда на фасаде его дома укрепили шестиметровый портрет Мжаванадзе, Бродский сказал:
- Кто это? Похож на Уильяма Блэйка...
Своим поведением Бродский нарушал какую-то чрезвычайно важную установку. И его сослали в Архангельскую губернию.
Советская власть - обидчивая дама. Худо тому, кто ее оскорбляет. Но гораздо хуже тому, кто ее игнорирует...»

Неприязнь властей к Иосифу в начале 60-х была вызвана не его стихами, казавшимися им малопонятными и не содержащими политических деклараций, а именно стилем его общественного поведения. В условиях резко ограниченной свободы он жил как свободный человек. И то же чувство свободы жило в его стихах.
Ах, свобода, ах, свобода!
Ты -- пятое время года.
Ты -- листик на ветке ели.
Ты -- восьмой день недели.
Ах, свобода, ах, свобода,
У меня одна забота:
почему на свете нет завода,
где бы делалась свобода?
Даже если, как считал ученый,
ее делают из буквы черной,
не хватает нам бумаги белой.
Нет свободы, как ее ни делай.
Почему летает в небе птичка?
У нее, наверно, есть привычка.
Почему на свете нет завода,
где бы делалась свобода?
Даже если, как считал философ,
ее делают из нас, отбросов,
не хватает равенства и братства,
чтобы в камере одной собраться.
Почему не тонет в море рыбка?
Может быть, произошла ошибка?
Отчего, что птичке с рыбкой можно,
для простого человека сложно?
Ах, свобода, ах, свобода,
На тебя не наступает мода.
В чем гуляли мы и в чем сидели,
мы бы сняли и тебя надели.
Почему у дождевой у тучки
есть куда податься от могучей кучки?
Почему на свете нет завода,
где бы делалась свобода?
Ах, свобода, ах, свобода!
У тебя своя погода.
У тебя -- капризный климат.
Ты наступишь, но тебя не примут.
Это стихотворение не включено в собрание сочинений Бродского. Однажды он подарил его Елене Янгфельд-Якубович со словами: «Может, из этого получится песенка».

Песенка получилась. В этом, лучшем (её) исполнении вы не найдёте её в Интернете. Послушайте:
Песенка о свободе: http://rutube.ru/video/0e7b730af68482064d6c7ba4677d887a/
Аполитичность и гражданственность
Когда-то Оден сказал об «аполитичности» стихов Бродского. Однако он вовсе не так политически безобиден, как это может показаться на поверхностный взгляд.
Там слышен крик совы, ей отвечает филин.
Овацию листвы унять там вождь бессилен.
Простую мысль, увы, пугает вид извилин.
Там украшают флаг, обнявшись, серп и молот.
Но в стенку гвоздь не вбит и огород не полот.
Там, грубо говоря, великий план запорот.
Других примет там нет -- загадок, тайн, диковин.
Пейзаж лишен примет и горизонт неровен.
Там в моде серый цвет -- цвет времени и бревен.
Такой портрет Родины, думаю, пришёлся бы не по вкусу нашим славословам и русохвалам.
«Вся жизнь моя – неловкая стрельба/ по образам политики и секса». Бродский не сумел, как советовал Чехов, «оборониться от политики». Она его достала. Поэтому в его поэзии можно найти достаточно политических усмешек и сарказмов.
Скрестим же с левой, вобравшей когти,
правую лапу, согнувши в локте,
жест получим, похожий на
молот в серпе, – и, как чёрт Солохе,
храбро покажем его эпохе,
принявшей образ дурного сна.

Или вот строки из невинного на первый взгляд пасторального стихотворения 60-х годов «Лесная идиллия»:
С государством щей не сваришь.
Если сваришь – отберёт.
Но чем дальше в лес, товарищ,
тем, товарищ, больше в рот.
Ни иконы, ни Бердяев,
ни журнал «За рубежом»
не спасут от негодяев,
пьющих нехотя боржом.
Приглядись, товарищ, к лесу!
И особенно к листве.
Не чета КПССу,
листья вечно в большинстве!
В чём спасенье для России?
Повернуть к начальству «ж»...
Или вот, из его гениальной поэмы «Шествие»:
Вперед-вперед, отечество мое,
куда нас гонит храброе жулье,
куда нас гонит злобный стук идей
и хор апоплексических вождей.
Вперед-вперед, за радиожраньем,
вперед-вперед, мы лучше всех живем,
весь белый свет мы слопаем живьем,
хранимые лысеющим жульем.
О его неравнодушии к злобе дня — и в стихах 70-х:
Другой мечтает жить в глуши,
бродить в полях и все такое.
Он утверждает: цель в покое
и в равновесии души.
А я скажу, что это -- вздор.
Пошел он с этой целью к черту!
Когда вблизи кровавят морду,
куда девать спокойный взор?
И даже если не вблизи,
а вдалеке? И даже если
сидишь в тепле в удобном кресле,
а кто-нибудь сидит в грязи?
Отношение Бродского к режиму можно было бы определить как брезгливое. Вот, к примеру, его «Стихи о зимней кампании 1980 года» – своеобразный отзыв на войну в Афганистане:
Слава тем, кто, не поднимая взора,
шли в абортарий в шестидесятых,
спасая отечество от позора!
Встречается у Бродского и «тюремная» лирика. Надо сказать, что до ареста за тунеядство у него был ещё один арест – за два года до этого. Поэт хотел тогда передать американцу рукопись приятеля, что-то про монизм. Дело было в Самарканде, они прилетели втроём: он, монист и ещё один тёртый малый. КГБ уже ходил за ними в открытую. Американец отказал, и тогда они придумали угнать в Иран самолётик местной линии (это была учебная машина, без пассажиров), но в последнюю минуту то ли передумали, то ли что-то сугубо техническое воспрепятствовало этому пиратству. По возвращении Бродского в Ленинград он был арестован и брошен в КПЗ, где его продержали три дня. Там Бродский написал стихотворение «КПЗ»:

Ночь. Камера. Волчок
хуярит прямо мне в зрачок.
Прихлёбывает чай дежурный.
И сам себе кажусь я урной,
куда судьба сгребает мусор,
куда плюётся каждый мусор.
Колючей проволокой лира
маячит позади сортира.
Болото всасывает склон.
И часовой на фоне неба
вполне напоминает Феба...
Куда забрёл ты, Аполлон!
Кафкианский суд
Почему в толпе безвестных молодых литераторов именно Бродский в 63-м был выбран для суда и публичного шельмования? Ведь были в то время прозаики и поэты гораздо более дерзкие, более известные. Он был не так знаменит, как Ахматова, Зощенко или Пастернак, так что суд над ним вряд ли мог стать такой уж острасткой для всех прочих.
Бродского отыскали по запаху, как зверя. Власть обладала каким-то особым чутьём на поэтический гений, хотя слово «тунеядец» было неточным, приблизительным. Но что делать, если в УК нет таких слов, как пария, изгой, отщепенец, анахорет? Либо, как сказал Гёте о художнике: «деятельный бездельник».
Искали, к чему прицепиться. Тогда велась борьба с тунеядством, у Бродского не было непрерывного стажа, между его поездками с геологическими партиями были промежутки в несколько месяцев, когда он писал, переводил. Но это не принималось во внимание. Не помогло заступничество Ахматовой, Маршака, Лидии Чуковской, Шостаковича, свидетельства известных переводчиков, что переводы Бродского в высшей степени профессиональны и могут составить честь русской литературы. Власть была глубоко невежественна и это её не интересовало.
Эта фотография Бродского была сделана скрытой камерой перед зданием суда. Позже в интервью на западе он так объяснял свою травлю и преследования в Союзе: "Я всегда старался быть частным, отдельным человеком. А человек, который внутри себя начинает создавать свой собственный, независимый, мир, рано или поздно становится для общества инородным телом, становится объектом для всевозможного рода давления, сжатия и отторжения".

В зал суда нагнали «простых рабочих», которые знать не знали, кто такой Бродский, но которым было велено осуждать его поведение и стихи. В 60-е годы ходило в списках стихотворение А. Кушнера, пародирующее этот суд, с эпиграфом из Блока: «Работай, работай, работай» и из Пастернака: «Не спи, не спи, работай»:
Смотри: экономя усилья,
под взглядом седых мастеров,
работает токарь Васильев,
работает слесарь Петров.
А в сумрачном доме напротив
директор счета ворошит,
сапожник горит на работе,
приемщик копиркой шуршит.
Орудует дворник лопатой,
и летчик гудит в высоте,
поэт, словно в чем виноватый,
слагает стихи о труде.
О, как мы работаем! Словно
одна трудовая семья.
Работает Марья Петровна,
с ней рядом работаю я.
Работают в каждом киоске,
работают в каждом окне.
Один не работает - Бродский.
Всё больше он нравится мне.
Во время суда над Бродским в зале находилась корреспондент "Литературки" Фрида Вигдорова. Цитирую по ее записи:
"Судья. Чем вы занимаетесь?
Бродский. Пишу стихи, перевожу. Я полагаю...
Судья. Никаких "я полагаю" . Стойте как следует! Не прислоняйтесь к стенам! Смотрите на суд! Отвечайте суду как следует! У вас была постоянная работа?
Бродский. Я думал, что это постоянная работа.
Судья. Отвечайте точно!
Бродский. Я писал стихи! Я думал, что они будут напечатаны. Я полагаю...
Судья. Нас не интересует "я полагаю". Отвечайте, почему вы не работали?
Бродский. Я работал. Я писал стихи...
Судья. Ваш трудовой стаж?
Бродский. Примерно...
Судья. Нас не интересует "примерно"!
Бродский. Пять лет.
Судья. А вообще какая ваша специальность?
Бродский. Поэт. Поэт-переводчик.
Судья. А кто это признал, что вы- поэт, кто причислил вас к поэтам?
Бродский. Никто. А кто причислил меня к роду человеческому?
Судья. А вы учились этому?
Бродский. Чему?
Судья. Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить вуз, где готовят... где учат?
Бродский. Я не думал, что это дается образованием.
Судья. А чем же?
Бродский. Я думаю, это... от Бога...".
Таким был этот славный диалог. В результате Бродского направили на психиатрическую экспертизу. С их точки зрения нормальный человек не мог так отвечать на их вопросы.
Суд над Бродским называли «кафкианским», имея в виду абсурдность обвинений и кошмарную атмосферу. Судебный процесс был гротеском, напоминающим «Процесс» Кафки. Бродскому прочли 16 пунктов обвинения: печатание и распространение антисоветских материалов (то есть стихов Пастернака и Ахматовой), сочинения порнографических стихов («что, к сожалению, было неправдой» - резюмировал он потом), оскорбительные эпиграммы на советских руководителей и т. д. вплоть до обвинений в развращении молодёжи — имелось в виду, что молодёжь тайно читает стихи Бродского и развращается.
- Можете ли Вы сказать что-то в своё оправдание, Бродский? - спросила судья Савельева.
Он ответил, что есть две возможности: или все эти обвинения справедливы, и тогда он заслуживает смертного приговора, или все они несправедливы и тогда его следует немедленно оправдать. А в своём заключительном слове Бродский сказал: «Я не только не тунеядец, а поэт, который прославит свою Родину». В этот момент судья, заседатели — почти все - загоготали гомерическим смехом.
Суд словам будущего нобелевского лауреата не внял и приговорил его к пяти годам принудительных работ в северной деревне Норенская Коношского района Архангельской области.

А. Кушнер пошлёт ему в ссылку такие стихи:
Заснешь с прикушенной губой
Средь мелких жуликов и пьяниц.
Заплачет ночью над тобой
Овидий, первый тунеядец.
Ему все снился виноград
Вдали Италии родимой.
А ты что видишь? Ленинград
В его зиме неотразимой?
Когда по набережной снег
Метет, врываясь на Литейный,
Спиною к ветру человек
Встает у лавки бакалейной.
Тогда приходит новый стих,
Ему нет равного по силе,
И нет защитников таких,
Чтоб эту точность защитили.
Такая жгучая тоска,
Что ей положена по праву
Вагона жесткая доска
Опережающая славу.
Но впоследствии Бродский всегда неохотно вспоминал этот момент своей биографии, раздражённо реагируя на попытки журналистов ворошить его тюремное прошлое: травлю, преследования. Не хотел, чтобы тему «судьба поэта» подменяли судьбой «жертвы советского режима».
«Будь независим...»
Архангельскую ссылку Бродский вспоминал как один из самых счастливых периодов его жизни.

Это не значит, что жизнь его в Норенской была легка и беззаботна. Днём он выполнял тяжёлую физическую работу.

Но вечерами он принадлежал себе.


изба, в которой жил Бродский в Норенской
У него была изба (домик) — стол с керосиновой лампой, чернильницей в стиле барокко — подарок Ахматовой, с пишущей машинкой, полкой с книгами — своё изолированное собственное пространство. Да, не было газа, водопровода, электричества, туалета, но были четыре стены, крыша и дверь, закрыв которую, можно было отгородиться от всего мира, думать, сочинять, быть наедине с собой.

В ссылке Бродский придумал правила поэтического искусства и изложил их в письме Якову Гордину:

«... Обособляйся и позволяй себе все что угодно. Если ты озлоблен, то не скрывай этого, пусть оно грубо; если весел - тоже, пусть оно и банально. Помни, что твоя жизнь-это твоя жизнь. Ничьи - пусть самые высокие - правила тебе не закон. Это не твои правила. В лучшем случае, они похожи на твои. Будь независим. Независимость - лучшее качество, лучшее слово на всех языках. Пусть это приведет тебя к поражению (глупое слово)- это будет только твое поражение. Ты сам сведешь с собой счеты: а то приходится сводить счеты фиг знает с кем».
Идеал Бродского – это личная отдельность, частность существования, независимость от любых «тоталитарно-имперских» притязаний.
Я памятник воздвиг себе иной!
К постыдному столетию – спиной,
к любви своей потерянной – лицом,
и грудь – велосипедным колесом.
А ягодицы – к морю полуправд.
Какой ни окружай меня ландшафт,
чего бы не пришлось мне извинять –
я облик свой не стану изменять.
Он любил говорить, что поэт — существо автономное, и если «одиночество — это человек в квадрате», то «поэт — это одиночка в кубе». Он прожил всю жизнь «абсолютно одиноким», по его собственному признанию. Но именно это одиночество было для него благом, живительным источником, кормовой базой лучших его стихов.
«Поэт — это прежде всего строй души», - говорила М. Цветаева. Строй души Бродского полнее всего выражается его любимой фразой (присказкой, девизом): «Взять нотой выше». Это значит — не дать себе застыть, остановиться, соответствовать некогда взятой высоте, верхнему «до», жить в состоянии поэтического фальцета, духовного напряжения. Это трудно, но это единственный способ подняться очень высоко.
И вот это стремление к непосильной поэтической, духовной, нравственной высоте особенно ярко выражено в стихотворении «Осенний крик ястреба», где птица набирает такую высоту, что уже не может преодолеть встречные потоки воздуха, которые выносят её в ионосферу, где она погибает.

Магистральная тема стихотворения — это вытеснение поэта в некое безвоздушное пространство. Подобно ястребу, он отдаётся направлению ветра и, слившись со стихией, уже просто не способен замечать всё то, что могло интересовать его прежде в обычном, земном состоянии.
Северозападный ветер его поднимает над
сизой, лиловой, пунцовой, алой
долиной Коннектикута. Он уже
не видит лакомый променад
курицы по двору обветшалой
фермы, суслика на меже.
А вот назад уже не вернуться, полёт не прервать — тут-то воздух и начинает выталкивать назад. Определившаяся судьба не отпускает своего первенца к земному бытию, к земным интересам.
Эк куда меня занесло!
Он чувствует смешанную с тревогой
гордость. Перевернувшись на
крыло, он падает вниз. Но упругий слой
воздуха его возвращает в небо,
в бесцветную ледяную гладь.
В желтом зрачке возникает злой
блеск. То есть, помесь гнева
с ужасом. Он опять
низвергается. Но как стенка -- мяч,
как падение грешника -- снова в веру,
его выталкивает назад.
Его, который еще горяч!
В черт-те что. Все выше. В ионосферу.
В астрономически объективный ад
птиц, где отсутствует кислород,
где вместо проса -- крупа далеких
звезд. Что для двуногих высь,
то для пернатых наоборот.
Не мозжечком, но в мешочках легких
он догадывается: не спастись.
И когда приходит осознание своей судьбы, её неотвратимости — рождается крик, рождается в свободном полёте обречённого. И вот этот крик — и есть истинное произведение искусства.
(Ортега-и-Гассет писал, что жизнь представляется ему в виде кораблекрушения: взмахи рук тонущего человека – это и есть культура, во взгляде этого человека – вся правда жизни. «Я верю только идущим ко дну!» – заявлял он).
Бродский смотрел на землю не с земной плоскости, а с других сфер. Как ястреб, с которым он чувствовал родство душ, поэт парит слишком высоко от земли, его крик не доносится до людей, он обречён на неуслышанность, непонятость, на одинокую гибель. Солженицын говорил, что это стихотворение Бродского - «самый яркий его автопортрет, картина всей его жизни».

«Уезжай, уезжай, уезжай...»
«Человек — существо автономное, - говорил Бродский. - И на протяжении всей жизни наша автономность всё более увеличивается. Это можно уподобить космическому аппарату: поначалу на него в известной степени действует сила притяжения — к дому, к земле, к вашему Байконуру, но по мере того, как человек удаляется в пространство, он начинает подчиняться другим внешним законам гравитации».

Об обстоятельствах отъезда. У Бродского к тому времени имелся «вызов» - официально заверенное израильскими властями письмо от фиктивного родственника в Израиле с приглашением поселиться на земле предков. Многие советские граждане еврейского происхождения обзавелись тогда с помощью знакомых иностранцев такими «вызовами» - на всякий случай. Воспользоваться этим приглашением Бродский не собирался. Тогда он надеялся, что обстоятельства переменятся и ему начнут позволять поездки за границу, как позволяли Евтушенко, Вознесенскому, Аксёнову. Бродский был слишком привязан к родителям, сыну, друзьям, родному городу, слишком дорожил родной языковой средой, чтобы уезжать безвозвратно.
Но у ленинградского КГБ были свои виды на старого клиента. Представился удобный случай избавиться от непредсказуемого поэта раз и навсегда. Причём от него хотели избавиться как можно скорее, до приезда через неделю Никсона, так как тот вёз с собой список диссидентов, судьбу которых собирался обсуждать с Брежневым, и Бродский был в их числе.
Ему не дали толком ни собраться, ни попрощаться.

4 июня 1972 года, через 10 дней после своего 32-летия, Бродский вылетел из Ленинграда в Вену. Оттуда — в Лондон, из Лондона — в Детройт.
Уезжай, уезжай, уезжай,
так немного себе остается,
в теплой чашке смертей помешай
эту горечь и голод, и солнце.
Так далеко, как хватит ума
не понять, так хотя бы запомнить,
уезжай за слова, за дома,
за великие спины знакомых.
В первый раз, в этот раз, в сотый раз
сожалея о будущем, реже
понимая, что каждый из нас
остается на свете все тем же
человеком, который привык,
поездами себя побеждая,
по земле разноситься, как крик,
навсегда в темноте пропадая.

Перед отъездом он пишет письмо Брежневу:


"Уважаемый Леонид Ильич, покидая Россию не по собственной воле, о чем Вам, может быть, известно, я решаюсь обратиться к Вам с просьбой, право на которую мне дает твердое сознание того, что все, что сделано мною за 15 лет литературной работы, служит и еще послужит только к славе русской культуры, ничему другому... Я принадлежу к русской культуре, я сознаю себя ее частью, слагаемым, и никакая перемена места на конечный результат повлиять не сможет. Язык – вещь более древняя и более неизбежная, чем государство. Я принадлежу русскому языку, а что касается государства, то, с моей точки зрения, мерой патриотизма писателя является то, как он пишет на языке народа, среди которого живет, а не клятвы с трибуны.
Мне горько уезжать из России. Я здесь родился, вырос, жил, и всем, что имею за душой, я обязан ей. Все плохое, что выпадало на мою долю, с лихвой перекрывалось хорошим, и я никогда не чувствовал себя обиженным Отечеством. Не чувствую и сейчас. Ибо, переставая быть гражданином СССР, я не перестаю быть русским поэтом. Я верю, что я вернусь; поэты всегда возвращаются: во плоти или на бумаге.
Мы все приговорены к одному и тому же: к смерти. Умру я, пишущий эти строки, умрете Вы, их читающий. Останутся наши дела, но и они подвергнутся разрушению. Поэтому никто не должен мешать друг другу делать его дело... Я думаю, что ни в чем не виноват перед своей Родиной. Напротив, я думаю, что во многом прав...".
Никто, конечно, не ответил на письмо гражданину Бродскому. Да и что мог ответить Брежнев, например, на такой пассаж: "Поэт наживает себе неприятности в силу своего лингвистического и, стало быть, психологического превосходства, а не по политическим причинам. Песнь есть форма лингвистического неповиновения". В силах ли понять система, что такое "лингвистическое неповиновение"? Или - как это поэт может испытывать своё превосходство перед властью? Это было выше уровня их понимания.
Горение
Многих удивляла выдержка и самообладание Бродского на суде — тот был каменно равнодушен, как будто шла речь не о его судьбе. Потом он признается, в чём была причина его видимого безразличия к происходящему: «Это было настолько менее важно, чем история с Мариной — все мои душевные силы ушли, чтобы справиться с этим несчастьем».
Приговор по времени совпал с его личной драмой — изменой любимой женщины. На любовный треугольник наложился квадрат тюремной камеры.
Тюрьмы Бродский не боялся, относился к ней философски: «Тюрьма, - говорил он, - это в конце концов лишь недостаток пространства, возмещённый избытком времени». На долю поэта выпало немало исключительных событий и потрясений — аресты, тюрьмы, кафкианский суд, ссылка, изгнание из страны, всемирная слава и почести, но центральным событием его жизни для него самого на многие годы оставалась его любовь к Марине Басмановой, встреча, союз и разрыв с ней.

В пушкинском «Пророке» посланный свыше шестикрылый серафим даёт поэту чудесную зоркость, слух и голос. Бродский верил, что в нём это преображение было совершено любовью к этой женщине:
Это ты, горяча,
ошую, одесную
раковину ушную
мне творила, шепча.
Это ты, теребя
штору, в сырую полость
рта вложила мне голос,
окликавший тебя.
Я был попросту слеп.
Ты, возникая, прячась,
даровала мне зрячесть.
Так оставляют след.
Так творятся миры.
Так, сотворив их, часто
оставляют вращаться,
расточая дары.
Бродскому не было и 22-х лет, когда он 2 января 1962 года познакомился с молодой художницей Мариной Басмановой.

Она была почти на 2 года старше, умная, красивая, производила впечатление на всех, кто её видел. Ахматова, например, так отзывалась о ней: «Тоненькая... умная... и как несёт свою красоту! И никакой косметики — одна холодная вода». Бродскому она казалась воплощением ренессансных дев Кранаха: его эрмитажная «Венера с яблоками» очень напоминала ему Марину.
Лукас Кранах. Венера с яблоками.
И ещё она была очень похожа, по свидетельствам современников, на "Гертруду Мюллер в саду" на картине швейцарского художника Фердинанда Ходлера.

Вот как описывает Басманову подруга Бродского по ленинградской юности Людмила Штерн:
«Очень бледная, с голубыми прожилками на висках, с вялой мимикой и тихим голосом без интонаций, Марина казалась анемичной. Впрочем, некоторые усматривали в её бледности, пассивности и отсутствии ярко выраженных эмоций некую загадочность».
У нее были длинные гладкие волосы, обрезанные ниже плеч. Она представляла собой архетип женщины, который привлекал Бродского всегда, начиная с голливудской актрисы Зары Леандер, увиденной им в одном из трофейных американских фильмов.

Зара Леандер
По профессии Басманова была книжный иллюстратор. Бродский восторженно отзывался о её таланте и музыкальности. Впрочем, его восхищало всё, что имело к ней отношение.

Ночь. Мои мысли полны одной
женщиной, чудной внутри и в профиль.
То, что творится сейчас со мной -
ниже небес, но превыше кровель.
Отношения между Бродским и Басмановой были достаточно напряжёнными даже в разгар их романа. Людмила Штерн вспоминает, как однажды на новогодней вечеринке за столом рядом с Мариной сел Генрих Орлов, который приобнял её за плечи, а потом прикрыл её руку своей ладонью. Иосиф, не долго думая, схватил вилку и воткнул в руку соперника. В адрес Марины были брошены резкие строки:
Прощай, дорогая. Сними кольцо.
Выпиши «Вестник мод».
И можешь плюнуть тому в лицо,
кто место моё займёт.
Это была их первая ссора. Штерн вспоминала, как Бродский приходил к ним в дом после ссор с Мариной — взъерошенный и несчастный. Однажды он явился смертельно бледный, с невменяемым лицом, с перевязанным бинтом запястьем. Зрелище было не для слабонервных. Причём это повторялось не однажды. Потом они помирились и заходили уже вдвоём, с улыбками и цветами. В такие дни казалось, что Бродский светится изнутри. От не мог отвести от Марины глаз и восхищённо следил за каждым её жестом: как она откидывает волосы, как держит чашку, как смотрится в зеркало, как набрасывает что-то карандашом в блокноте. Домработница Штернов говорила после их ухода: "Заметили, как у нее глаз сверкает? Говорю вам, она ведьма и Оську приворожила... Он еще с ней наплачется..."

Как нравится тебе моя любовь,
печаль моя с цветами в стороне,
как нравится оказываться вновь
с любовью на войне, как на войне?
Как нравится писать мне об одном,
входить в свой дом как славно одному,
как нравится мне громко плакать днем,
кричать по телефону твоему:
-- Как нравится тебе моя любовь,
как в сторону я снова отхожу,
как нравится печаль моя и боль
всех дней моих, покуда я дышу?
Так что еще, так что мне целовать,
как одному на свете танцевать,
как хорошо плясать тебе уже,
покуда слезы плещутся в душе.
Все мальчиком по жизни, все юнцом,
с разбитым жизнерадостным лицом,
ты кружишься сквозь лучшие года,
в руке платочек, надпись "никогда".
И жизнь, как смерть, случайна и легка,
так выбери одно наверняка,
так выбери с чем жизнь свою сравнить,
так выбери, где голову склонить.
Все мальчиком по жизни, о любовь,
без устали, без устали пляши,
по комнатам расплескивая вновь,
расплескивая боль своей души...
Романс Поэта («Шествие»)
Самый драматичный момент в истории этого союза приходится на рубеж 63-го и 64-го года. Осенью 1963-го в Ленинграде усилилась официальная травля Бродского, тучи сгущались, и в конце года, спасаясь от ареста, он уезжает в Москву. Новый год Бродский встретит в психиатрической клинике, куда его по блату устроят друзья, а в это время в Ленинграде завязывается роман между его невестой и близким другом — Дмитрием Бобышевым.

Поворотным пунктом в их отношениях стала новогодняя ночь 1964 года. Именно тогда на даче друзей Бродского Шейниных в Комарово и произошли роковые события, повлиявшие на дальнейшую жизнь поэта и во многом изменившие его судьбу.
Накануне встречи Нового года Бобышев объявил, что придёт с девушкой. Ею оказалась Марина Басманова. Дмитрий объяснил опешившим друзьям, что Бродский сам просил его опекать Марину во время его отсутствия. Как отнеслась к сему Басманова, было непонятно. Она была немногословной, даже молчаливой. Не блистала остроумием, не участвовала в словесных пикировках, могла за вечер не открыть рта. Но иногда в её зелёных глазах мелькало какое-то шальное выражение, наводившее на мысль: «а не водится ли чего-нибудь в этой тихой заводи?»

Всю новогоднюю ночь Марина молчала, улыбаясь загадочной улыбкой Джоконды, а под утро, заскучав, всё с той же загадочной улыбкой подожгла свечой на окнах занавески. Пламя вспыхнуло нешуточное. Она прокомментировала: «Как красиво горят!»
Этот огонь всё и решил...
Из стихов Д. Бобышева:
Тот новогодний поворот винта,
когда уже не флирт с огнём, не шалость
с горящей занавеской, но когда
вся жизнь моя решалась...
Продолжение здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post203821191/
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/69173.html
|
|
Процитировано 12 раз
Понравилось: 4 пользователям
Тихий как океан |
Начало здесь.

24 января 1997 года умер Владимир Соколов.
В отличие от шумных шестидесятников он был не слишком известен. Даже когда он получил Пушкинскую премию, молодая дикторша ТВ сообщила в новостях: «Премия присуждена писателю Саше Соколову», перепутав его с известным прозаиком, автором знаменитой «Школы дураков».
Первым, кто привлёк к нему широкий интерес, был Евтушенко.

«Без Владимира Соколова меня бы как поэта просто-напросто не было. - писал он. - До встречи с ним я слишком увлекался формальными экспериментами и еще не понимал поэзию как исповедь. Моя жизнь казалась мне скучной, неинтересной, и я выдумывал ее, а Володя уже писал всерьез...» Позже он признавался: «Мы все преклонялись перед ним и многое наворовали, в частности, я». Вспоминается участь И. Анненского, который в силу своей скромности и полного отсутствия амбиций был «расхищен и перезаимствован» (В.Корнилов) гораздо более известными Ахматовой, Хлебниковым, Маяковским, Белым, выросшими из Анненского, как прозаики из гоголевской «шинели».
Критики причисляли Владимира Соколова к так называемым «тихим лирикам», противопоставляя его камерное творчество громкой «эстрадной» музе шестидесятников. Но это противопоставление надуманное и неправомерное. Нет громкой и тихой лирики, есть поэзия и непоэзия. И у Евтушенко есть тихие пронзительные строки, как, например, «Одиночество», так же как и Соколов не вмещается в рамки этого ярлыка, стоит вспомнить его набатные строки: «Я устал от 20-го века, от его окровавленных рек...» Но это уже позднее, перестроечное. А мне хочется начать сейчас знакомство с ним с самого раннего стихотворения 1950 года, которое я у него очень люблю, такого ностальгического, милого, трогательного. Прочитайте, вспомните и свои школьные годы и улыбнитесь чему-то в глубине себя:

Хоть глазами памяти
Вновь тебя увижу,
Хоть во сне непрошено
Подойду поближе.
В переулке узеньком
Повстречаю снова,
Да опять, как некогда,
Не скажу ни слова.
Были беды школьные,
Детские печали.
Были танцы бальные
В физкультурном зале.
Были сборы, лагери,
И мечты, и шалость.
Много снега стаяло,
Много и осталось.
С первой парты девочка,
Как тебя забуду?!
Что бы ты ни делала,
Становилось чудом.
Станешь перед партою —
Не урок, а сказка,
Мне волшебной палочкой
Кажется указка.
Ты бежишь. И лестница
Отвечает пеньем,
Будто мчишь по клавишам,
А не по ступеням.
Я копил слова свои,
Собирал улыбки
И на русском письменном
Допускал ошибки.
Я молчал на чтении
В роковой печали,
И моих родителей
В школу вызывали.
Я решил забыть тебя,
Выносил решенье,
Полное великого
Самоотреченья.
Я его затверживал,
Взгляд косил на стены.
Только не выдерживал
С третьей перемены.
Помнишь детский утренник
Для четвертых классов?
Как на нем от ревности
Не было мне спасу.
Как сидела в сумраке
От меня налево
На последнем действии
«Снежной королевы»?
Как потом на улице:
Снег летит, робея,
Смелый от отчаяния,
Подхожу к тебе я.
Снег морозный сыплется,
Руки обжигает,
Но, коснувшись щек моих,
Моментально тает.
Искорками инея
Вспыхивают косы.
Очи удивляются,
Задают вопросы.
Только что отвечу им,
Как все расскажу я?
Снег сгребаю валенком,
Слов не нахожу я.
Ах, не смог бы, чувствую,
Сочинить ответ свой,
Если б и оставили
На второе детство.
Если б и заставили,
Объяснить не в силе.
Ничего подобного
Мы не проходили.
В переулке кажется
Под пургой взметенной
Шубка - горностаевой,
А берет - короной.
И бежишь ты в прошлое,
Не простясь со мною.
Королева снежная,
Сердце ледяное…

Потрясающая органика у этого поэта. Непонятно, как это сделано. Как будто всё само сказалось, как вздох, вырвавшийся из глубины души. Как сама душа.
«Лихославль - это город полей ...»
Родился Владимир Соколов 18 апреля 1928 года в городе Лихославль Тверской области.

Лихославль - это город полей,
И лесов, и снегов, и дождей…
Лихославль – это в древнюю Тверь
Потаенно открытая дверь…

Я люблю эту землю свою,
У которой всегда на краю,
Потому что тоскую по ней
Среди множества улиц и дней.
Потому что я свой человек
Там, где в озеро падает снег,
Где колодезный кличет журавль:
Лихославль, Лихославль, Лихославль.
В сентябре 2001 года Лихославльской центральной библиотеке было присвоено имя Владимира Соколова.
Отец поэта был репрессирован и расстрелян. Мать тяжело переживала разлуку с ним и помутилась рассудком, всегда была как бы не в себе. В доме была тяжёлая гнетущая обстановка. Жили они с матерью и сестрой Мариной очень бедно, на грани нищеты.


Сестра поэта Марина Соколова. Живёт в Лихославле.
Потом семья переехала в Москву.

«Что такое поэзия? Это...»
У Соколова было особенное, целомудренное отношение к тихим старинным улочкам и дворикам послевоенной столицы.
О, двориков московских синяя,
Таинственная глубина!
В изломах крыш, в их смутных линиях
Доверчивость и тишина.

Его стихи пахли заснеженными поленницами старого Арбата, сиреневыми палисадниками, весенними ливнями.
Как я хочу, чтоб строчки эти
Забыли, что они слова,
А стали: небо, крыши, ветер,
Сырых бульваров дерева!
Чтоб из распахнутой страницы,
Как из открытого окна,
Раздался свет, запели птицы,
Дохнула жизни глубина.

И строчки действительно превращались в трепыхающийся, поблескивающий, похрустывающий мир.
Снега белый карандаш обрисовывает зданья...
Я бы в старый домик ваш прибежал без опозданья,
Я б пришел тебе помочь по путям трамвайных линий,
Но опять рисует ночь черным углем белый иней...
У тебя же всё они, полудетские печали.
Погоди, повремени, наша жизнь еще в начале.
Пусть уходит мой трамвай! Обращая к ночи зренье,
Я шепчу беззвучно: "Дай позаимствовать уменье.
Глазом, сердцем весь приник... Помоги мне в миг бесплодный.
Я последний ученик в мастерской твоей холодной".

Ему была полностью открыта поэзия жизни — и он исходил только из неё, не укладываясь в рамки ни одной из существовавших «школ» и группировок. Он и не признавал их: «Нет в стихах каких-то новых правил. Было б сердце да горела б тема».
Нет школ никаких. Только совесть,
Да кем-то завещанный дар,
Да жизнь, как любимая повесть,
В которой и холод, и жар.
Я думаю, припоминая,
Как школила юность мою
Война и краюшка сырая
В любом всероссийском раю.
Учебников мы не сжигали,
Да и не сожжем никогда,
Ведь стекла у нас вышибали
Не мячики в эти года.
Но знаешь, зеленые даты
Я помню не хуже других.
Черемуха… Май… Аттестаты.
Березы. Нет школ никаких.
И это было его кредо. «Необходимо так обращаться со словом, - писал он, - чтобы оно легко и плотно облекло мысль и чувство. Цель поэзии — поэзия. А не поэтика». Вся творческая жизнь Владимира Соколова стала ответом на вопрос «Что такое поэзия?», им же самим поставленным в знаменитом стихотворении.
Что такое поэзия? Мне вы
задаете чугунный вопрос.
Я как паж до такой королевы,
Чтобы мненье иметь, не дорос.
Это может быть ваша соседка,
Отвернувшаяся от вас.
Или ветром задетая ветка,
Или друг, уходящий от вас.
Или бабочка, что над левкоем
Отлетает в ромашковый стан.
А быть может, над Вечным Покоем
Замаячивший башенный кран.
Это может быть лепет случайный,
В тайном сумраке тающий двор.
Это кружка художника в чайной,
Где всемирный идет разговор.
Что такое поэзия? Что вы!
Разве можно о том говорить.
Это - палец к губам. И ни слова.
Не маячить, не льстить, не сорить.

В 1947 году Владимир поступает в Литературный институт. К. Ваншенкин писал: «В послевоенном Литинституте он, пожалуй, единственный из нефронтовиков был признан всеми безоговорочно».

Он не мыслил жизни без поэзии.
Оставит женщина? Пускай.
Она уйдет недалеко.
Ей превратиться невзначай
В другую женщину легко.
Оставит самый лучший друг?
В лютейшую из всех годин?
Других друзей не счесть вокруг,
Хоть лучший друг всегда один.
И от кончины в трех верстах
Не затрепещешь – ничего!
Но есть один страшнейший страх,
Поэты знают суть его.
Как перед кладбищем ночным
Страх у мальчонки-пастуха,
Как – умереть и быть живым,
Страх перед жизнью вне стиха.
Его лирика лаконична и афористична:
Я листву разменял на рубли,
Я капель разменял на гроши,
А всего лишь хотелось любви,
Да единственной в мире души...
...Я даже рад, что я поэт,
что и потом смогу сказать,
когда весь этот белый свет
я перестану осязать.
...Если покажется: умерли
все, кто ответить могли б, -
верь в эти синие сумерки
с жёлтым качанием лип.
...Если песенку не затевать,
не искать у неё утешений,
то куда мне, живому, девать
груз невыясненных отношений?
Соколов был мастер на экспромты. Вот забавный эпизод, который он приводит в своих воспоминаниях. Однажды в Елисеевском гастрономе в винном отделе (надо сказать, что одно время поэт крепко пил) он встретил Николая Глазкова, который тоже отличался этой слабостью.

Они стали рассматривать выставленные на витрине напитки и их внимание привлекла этикетка на одной бутылке: «Простое советское виски» (это был конец 50-х).

Пьющие давно и со знанием дела поэты были удивлены — такой напиток они встречали впервые. Конечно, они тут же его заказали, к ним сосиски, взяли стаканы и присели к памятнику Пушкина. Соколов в тот же момент выдал экспромт:
Тянул, запивая сосиски,
и тем прославляя свой век, -
простое советское виски
советский простой человек.
Но вообще-то юмора в стихах Соколова мало. Он очень серьёзен. Одно слово — лирик. Как-то Николай Рубцов назвал его в разговоре «дачным поэтом». Вполне добродушно, хоть и с некоторой толикой иронии. Но в этой оценке есть и более глубокий смысл: что-то пронзительное, тревожащее... Это один из нестихающих мотивов поэзии Соколова: сумерки, музыка, сад... Как он чувствовал этот озноб бытия, отразившийся во многих его творениях:

Пластинка должна быть хрипящей,
Заигранной… Должен быть сад,
В акациях так шелестящий,
Как лет восемнадцать назад.
Должны быть большие сирени -
Султаны, туманы, дымки.
Со станции из-за деревьев
Должны доноситься гудки.
И чья-то настольная книга
Должна трепетать на земле,
Как будто в предчувствии мига,
Что все это канет во мгле.

Дарованный ему «золотой скрипичный ключик» открывает заветную дверь в чудесную страну поэзии, где всё освещено солнечным светом, высшим смыслом. Там можно вдохновенно и легко рассказать «о том, что происходит, когда не происходит ничего».
«Как страшно с тобой расставаться ...»
Была в его жизни тайная семейная трагедия, груз которой нёс он в душе всю жизнь.
В 1954 году Соколов влюбился в болгарку Хенриэтту Попову, которую все звали Бубой. Она в это время оканчивала философское отделение МГУ. Буба была старше Владимира и уже была замужем. Знакомство перешло в роман. Буба разошлась со своим мужем в Болгарии и вышла замуж за Соколова. Вскоре у них родился сын Андрей, потом, через полтора года, дочь Снежана.
Буба преподавала болгарский язык в Литературном институте. Студенты ее любили, и многие хотели заниматься в ее группе. А в стихах Соколова возникает болгарская тема — старые церкви, речонка Тополница, София, Шипка, Копривштица, гора Рила…
Но семейная жизнь не задалась. Буба увлеклась Ярославом Смеляковым,

открыто встречалась с ним, пила. Это была драма их жизни, которая отражена в стихах Соколова.
Не торопись. Погоди. Обожди.
Скоро пойдут проливные дожди.
Не говори мне того, что я сам
Скоро узнаю по чьим-то глазам.
Не торопись. Помолчи. Погоди,
Ведь у меня еще все впереди.
Тают дороги. Ломаются льды.
Дай постоять на пороге беды.

***
Мне не может никто и не должен помочь,
Это ты понимаешь сама.
Это ранняя рань, это поздняя ночь,
Потому что - декабрь и зима.
Это скрип одиноких шагов в темноте.
Это снег потянулся на свет.
Это мысль о тебе на случайном листе
Оставляет нечаянный след.
А была у тебя очень белая прядь,
Потому что был холод не скуп.
Но она, потеплев, стала прежней опять
От моих прикоснувшихся губ.
Ты шагнула в квадратную бездну ворот.
Все слова унеслись за тобой.
И не смог обратиться я в тающий лед,
В серый сумрак и снег голубой.
Я забыл, что слова, те, что могут помочь,-
Наивысшая грань немоты.
Это ранняя рань, это поздняя ночь,
Это улицы, это не ты.
Это гром, но и тишь, это свет, но и мгла.
Это мука стиха моего.
Я хочу, чтобы ты в это время спала
И не знала о том ничего.
***
Пахнет водою на озере
возле одной из церквей.
Там не признал этой росстани
юный один соловей.
Как он ликует божественно
там, где у розовых верб
тень твоя, милая женщина,
нежно идёт на ущерб.
Истина ненаказуема.
Ты указала межу.
Я ни о чём не скажу ему.
Я ни о чём не скажу.
***
Нет сил никаких улыбаться,
как раньше, с тобой говорить,
на доброе слово сдаваться,
недоброе слово хулить.
Я всё тебе отдал. И тело,
и душу — до крайнего дня.
Послушай, куда же ты дела,
куда же ты дела меня?
***
Однажды проснётся она
со мной совершенно одна.
Рукой пустоту она тронет,
разбудит её и прогонит.
Так что ж это всё-таки было,
какая нас сила сводила?!
Я выйду. Пойму: не вернусь.
И всё ж, уходя, оглянусь.

Но ушёл не он, а она. Ушла из жизни. Буба выбросилась из окна 6-го этажа. Видимо, не нашла другого выхода из этого клубка проблем их семейного треугольника. У неё было что-то не в порядке с психикой. Друзья предчувствовали такой финал (суицидные попытки были и прежде), стерегли её, но не уберегли. Соколов очень тяжело переживал её смерть.

"Как страшно с тобой расставаться..."
Какие простые слова.
Зачем журавлю оставаться,
когда улетает листва?
И, руки подняв от испуга,
что неба опять не боюсь,
кричу я: "Подруга, подруга" —
на всю поднебесную Русь.
Прощай. Я в любви не прощаю.
Прощай, поминай обо мне.
Я помнить тебя обещаю,
как в юности, как на войне.

"Из-за всего случившегося на него ополчились сразу два правительства - наше и болгарское: Буба была дочерью крупного болгарского государственного деятеля. А время было какое? Соколова просто стирали в порошок. - рассказывала Марианна Роговская. - Он был тогда в тяжелейшем состоянии, сознательно шел к самоуничтожению. Тогда и написал эти строчки":

Ты камнем упала, я умер под ним.
Ты миг умирала, я долгие дни.
Я все хоронил, хоронил, хороним
Друзьями — меня выносили они.
За выносом тела шел вынос души.
Душа не хотела, совала гроши.
А много ли может такая душа,
Когда и у тела уже ни гроша.
В жизни его ещё будут другие женщины. Но та, первая любовь осталась в груди незаживающей раной.

Я полон весь приметами твоими.
Ты вся со мною, как ни уходи.
В ночи, в пути — искать я буду имя
теснящемуся у меня в груди.
И как мне знать — слова придут откуда.
И ты откуда у меня в судьбе?
...Я никогда тебя не позабуду,
не перестану думать о тебе...

Чем больше поэт — тем больше, как правило, трагедия его жизни. Какой-то рок, казалось, висел над его семьёй. Вскоре нелепой случайной смертью погибает сын Андрей. Стихи Соколова о смерти особенно пронзительны. Что-то в них мистическое, непостижимое...
Я хотел позвонить в прожитое,
в телефонную будку войдя,
чтоб услышать, задумчиво стоя,
в трубке голос под шорох дождя.
Затвориться от нынешней шири
и спросить у того, что прошло:
"Что там нового в канувшем мире?
Мёртвый голос ответил: "Алло".

Соколов стал сильно пить. Он погибал.
Ничего от той жизни,
Что бессмертной была,
Не осталось в отчизне,
Всё сгорело дотла…
Всё в снегу, точно в пепле,
толпы зимних пальто.
Как исчезли мы в пекле,
И не видел никто.
Марианна
Соколова вытащила из этой трагедии Марианна, его новая любовь. Благодаря ей он прожил гораздо дольше, чем ему позволил бы прежний самоубийственный настрой. Марианна продлила не только его жизнь - она продлила его поэзию.

…Милая, дождь идет,
Окна минуя, косо.
Я ведь совсем не тот,
Чтоб задавать вопросы.
Я ведь совсем другой.
Я из того ответа,
Где под ночной пургой
Мечется тень поэта…
Марианна Евгеньевна Роговская была женой дипломата и одной из первых красавиц столицы.

Его давно уже называли Мастером. Ее после встречи с ним стали звать Маргаритой. В семидесятые годы об их романе говорила вся литературная Москва. Булгаковская история повторилась...

Гербарий сырых тротуаров,
Легчайшие в мире шаги.
Как самый цветной из пожаров
Волненье листочной пурги.
Березы, акации, клены
Даруют листы, как цветы,
Душе молодой и влюбленной,
Такой же красивой, как ты.
В сплетенье кругов и полосок,
И звезд, рыжеватых на цвет,
Весенний летит отголосок:
"Ты любишь меня или нет?"
И, не дожидаясь ответа,
Под ветром большой синевы
Твой зонтик лимонного цвета
Уносится в вихре листвы.

Марианна Евгеньевна работала директором музея Чехова. Очаровательная и романтичная, она как будто сошла со страниц его книг. Соколов влюбился в неё с первого взгляда, как мальчишка.

Когда она по улице идёт,
к ней, точно хлопья, взгляды прилипают.
Я понимаю их косой полёт -
и как летят они, как отлетают.
Куда идёт она? Не всё ль равно...
Она идёт по свету — вот в чём дело!
На дерево взглянула — и оно
уже не выглядит осиротело.
Из интервью с Марианной Роговской:
- Жизнь у меня была налаженная, но я понимала, что это не моя жизнь. Я как бы проживала чужую судьбу, не свою. И когда я его встретила, не то чтобы обрадовалась, а ощутила вдруг какое-то космическое тепло. Это даже не влюбленность была, а сразу любовь, казалось, мы неразделимы.

А мне надоело скрывать,
Что я вас люблю, Марианна,
Держась и неловко и странно,
Невинность, как грех, покрывать...
Их отношения были тайными. У них были долгие прогулки, свои любимые переулки, а дома не было. Они мечтали быть вместе, а жизнь всё время разлучала их, испытывая на прочность. До сих пор замирает у неё сердце, когда она читает это стихотворение:
Домой, домой, туда, где дома нет,
Где только ты, незримая почти,
Где тает снег, как тысяча примет,
И на домах, и на твоем пути.
Я знаю то, что ты товарищ мой,
Что для меня ты целый белый свет,
Так знай и ты, что я хочу домой,
Домой, домой, туда, где дома нет.
Здесь столько крыш, и окон, и дверей,
Друзей, подруг на столько зим и лет,
А я хочу к тебе, к тебе скорей -
Домой, домой, туда где дома нет.
Вот улетает желтенький листок
Сквозь южный снег, как бабочка на свет.
Куда? На север? Или на восток?
Домой, домой, туда, где дома нет.

Дома у них не было, и были очень долгие расставания и очень длинные расстояния (Марианне приходилось надолго уезжать в другие страны). И всё же они были неразлучны. Через препятствия, через «сотни их разделяющих вёрст» они шли к своей общей судьбе, и ничто не могло им помешать.
Когда мы были незнакомы,
А только виделись во сне,
Твои таинственные гномы
Сошлись подумать обо мне.
Они решали и решали,
Шептали: - Это ни к чему.
Но ничему не помешали,
Не помешали ничему.
Шли годы, а они все не могли нарадоваться друг на друга, не могли наговориться – столько общего было в их чувствах, мыслях, вкусах, воспоминаниях. Оказалось, что улицы и переулки их первых свиданий они оба хорошо знали и любили с давних времён. Особенно часто они ходили гулять в ордынские переулки .

Поэт любил зиму, любил снег в полете и снег, хрустящий под ногами. Любил сочинять стихи на ходу. Первое стихотворение, посвященное Марианне, было задумано им во время их зимних прогулок по Якиманке.

Ты плачешь в зимней темени,
Что годы жизнь уводят.
А мне не жалко времени.
Пускай оно уходит!

В том стихотворении, написанном в счастливые дни первых встреч и нежных признаний, он как будто предвидел будущее и давал мудрые советы и утешения:
Есть в нашей повседневности
Одно благое чувство,
Которое из ревности
Дарует нам искусство, -
Не поддаваться времени,
Его собою полнить,
И даже в поздней темени
О том, что будет, помнить.
Не надо плакать, милая,
Ты наших поколений.
Стань домом, словом, силою
Больших преодолений.
Тогда и в зимней темени
Ты скажешь и под старость:
А мне не жалко времени,
Уйдет, а я останусь!

Жизнь шла вперед, они много работали, много ездили, уже были мужем и женой, Владимир Соколов уже стал лауреатом Государственной премии СССР, но своего дома у них по-прежнему не было. И вот однажды им позвонили из жилищной комиссии Союза Писателей и сообщили, что в писательском доме в Лаврушинском переулке освободилась квартира. Наконец-то! Войдя в квартиру, они первым делом подошли к окну, и сердце возрадовалось: перед ними, как на ладони, высились белокаменные кремлёвские храмы, сияли золотые купола под голубым небом. Он тихо сказал: «У меня такое чувство, будто мы вернулись на родину». В ответ она крепко сжала его руку, такую добрую и надежную.

Двенадцать счастливых лет прожили они в этой квартире. Соколов по-прежнему сочинял стихи на ходу. В любую погоду он брал свою красивую резную трость (болели ноги), и они отправлялись в долгие или короткие путешествия по Москве, считая благом каждый шаг, пройденный по родным дорогам.

А на закате почти каждый день подходили к окну и любовались, любовались…

Теперь она стоит у окна без него... Кремль, как всегда, прекрасен, она любуется его стройной неповторимой панорамой, и с улыбкой сквозь слёзы повторяет драгоценные стихи Соколова:
Несостоявшаяся жизнь! Надежда!
Едва вспорхнув, упавшая листва.
Меняются дома. Меняется одежда,
Но всё равно – любовь. И всё равно – Москва!

Лаврушинский переулок 17 - Дом писателей ("Дом Драмлита"). Этот дом Булгаков перенес из Лаврушинского переулка на Арбат, но описан в романе именно этот дом, где жили официальные, номенклатурные писатели и критики, в их числе и некий Литовский, стараниями которого были запрещены пьесы Булгакова, прообраз критика Латунского, квартиру которого разгромила Маргарита. Сейчас он знаменит ещё и тем, что здесь жил Владимир Соколов.

Лаврушинский переулок
Марианна Евгеньевна всё делает для того, чтобы имя Владимира Соколова не было предано забвению, чтобы выходили его книги, чтобы он был «современником и для будущих, незнаемых поколений». Ежегодно проводятся Соколовские чтения, которых прошло уже больше пятнадцати.

Поэт посвятил ей целую книгу стихов, она так и называется «Стихи Марианне».. Эта книга — венец любви, преданности, самоотверженности.
Я за столько лет не нагляделся,
Не налюбовался на тебя…
Город в белый снег переоделся,
Чистоту внезапную любя.
Я за столько лет ещё не свыкся
С первопутком около домов:
Снеговик с загадочностью сфинкса
И в снегу две ветки двух тонов.
Я хочу продлить их неизвестность
Изморози или черноты,
Но тогда вступаешь в эту местность,
Инея не стряхивая, ты.
Пусть висок мой в иней приоделся.
Будь со мной, тревожась и любя.
Я за столько лет не нагляделся,
Не налюбовался на тебя.

«Всё у меня — о России...»
Соколов не разделял стихи на «для себя» и «для всех» - у него всё для души, всё на одной волне лиризма.
Что-нибудь о России?
Стройках и молотьбе?..
Все у меня о России,
Даже когда о себе.
Ну кто ещё мог так сказать о ней?
…родина, это ты,
с маленькой нежной буквы,
там, где лишь три версты
до паутин и клюквы.
Ты бриллиант росы,
Вправленный в венчик тесный,
Тёмная тень грозы
Над желтизной окрестной.

Но есть у него и стихи непосредственно о России, где уже другой Соколов открывается нам — суровый, резкий, горький.

Испепелилась отвага,
злом обернулось добро.
Жёлтою стала бумага,
ржавчина съела перо.
С вестью летевшие строки
вспять повернули, грустя.
Встань, человек одинокий,
страшного века дитя...
Великолепно ироничный:
Весна. Финансовые затруднения.
Черемуха около небосвода.
Когда я предчувствовал гул падения,
Мне ветку протягивала природа.
Все так. Но в воду я тем не менее
Все реже совался, не зная брода...
Когда во мне убивали гения,
Хорошая, помню, была погода.

В последней своей вещи — поэме «Пришелец» - поэт Соколов, уже приближаясь к миру горнему, томится душой о том, что в земной жизни, которую он так любовно воспел, победно шествуют бездуховные, богатые, но нищие душой. Он с насмешливой жалостью обращается к ним: «...жируйте в норке, молитесь прибыли вещей». Сам вознесённый над бытом, он понимает, как эти материалисты опасны своей безответственностью и цинизмом:
Вы гениальны. Это не секрет:
вы умудрились смертной сделать душу.
Нигде другой такой планеты нет.
Здесь уже не мягкая соколовская ирония, а жёсткий сарказм.
Ты говоришь, что все дела:
Тянуться вверх, идти на дно.
Но ты со мною не пила
Мое печальное вино.
Мне интересен человек,
Не понимающий стихов,
Не понимающий, что снег
Дороже замши и мехов.
И тем, что - жизнью обделен!
Живет, лишь гривной дорожа,
Мне ближе и больнее он,
Чем ты, притвора и ханжа.
Да и пишу я, может быть,
Затем лишь, бог меня прости,
Чтоб эту стенку прошибить,
чтоб эту душу потрясти.
Порой он приходит в отчаянье от увиденного вокруг:
Мне страшно, что жизнь прожита,
что смерть — это значит домой,
что снова трясёт нищета
на грязных вокзалах сумой.
Что Родина — это слеза,
что мать — это холм без креста,
что вор, закативший глаза,
гнусит: мир спасёт красота.
В 1949 году, когда партийная критика, заклеймив Ахматову и Пастернака, обрушилась на лирику вообще, Соколов записывает в дневнике: «Поэзия одного человека гибнет для всех». Это так поразило его, что он содрогнулся: «Но ведь этот вечер, весь в огнях, голосах, деревьях, - всем! всем! Всем!»

Так где я был, когда вы воду в ступе
толкли со всей своей системой вкупе?
Я УХОДИЛ В МУЧИТЕЛЬНЫЕ ДАЛИ,
вот где я был, пока вы заседали.
В поэме «Алиби» он скажет:
Это страшно — всю жизнь ускользать,
уходить, убегать от ответа...
Да это же поветрие эпохи -
быть с алиби повсюду и во всём.
Вечное противостояние филистерству, мещанскому конформизму, непониманию порождает усталость: «Я так устал на вас похожим быть...» С особой трагической силой этот мотив усталости прозвучал в его знаменитом стихотворении 1988 года:

Я устал от двадцатого века,
От его окровавленных рек.
И не надо мне прав человека,
Я давно уже не человек.
Я давно уже ангел, наверно.
Потому что, печалью томим,
Не прошу, чтоб меня легковерно
От земли, что так выглядит скверно,
Шестикрылый унес серафим.
Эти стихи далеко выводят Соколова за рамки «тихой поэзии», литературного направления, лидером которого некоторые критики долго его величали. Этому «тихому лирику» была присуща недюжинная поэтическая смелость, горестная отвага, философская глубина и мощь, и Марианна как-то сказала, что «если слово «тихий» и подходит к нему, то лишь в том смысле, в каком оно подходит к названию океана».

«Я был поэтом на земле...»
Мотив смерти отчётливо звучал во многих его строках:
И всё. С обломками я за чертою,
с мечтой, с обмолвками, со всей тщетою.
Это случайный отъезд на века
без проводницы и проводника.
Он как бы примеривался к тем недоступно будущим дням:
И я потянулся вослед за тобой
всей грустью безмерного срока.
Но был я оградой, но был я травой,
журчащей водой водостока.
Ты в воздухе таяла полупустом
пиковым сужением платья.
Тогда я возник облетевшим кустом,
чуть смахивая на распятье.

Последней прижизненной книгой, изданной в 1996 году, стали «Стихи Марианне». Она вышла за два года до того, как его не стало. Там не только те стихи, которые он писал ей, но и более ранние, перепосвящённые своей последней любви. И здесь их ощущения совпали: давным-давно, когда Марианна знала его только по книгам, у неё часто возникало мистическое чувство, что многие строки обращены к ней. А потом он и сам ей скажет: "Оказывается, все это было посвящено тебе".

В минуту давнюю, не дорогую,
Глаза случайным блеском ослепя,
Я ждал тебя, когда я ждал другую,
Возможно, где-то около тебя.
А ты в порывах ветра и сирени
С другим стояла, выйдя на крыльцо,
И, может быть, все медлила в смятеньи
И молча думала: не то лицо.
«Мы плакали с ним вместе, - вспоминала она, - когда он дописал стихотворение «Мне будет вечно сниться дождь...»

Мне будет вечно сниться дождь
И шум листвы у изголовья
Каких-то баснословных рощ
Бесчасья или безвековья.
Мне будет вечно сниться путь,
Скрывающийся за холмами,
Которым позабыл шагнуть,
Как снится детский сон о маме.
Мне будет вечно сниться дождь
С почти расплывшейся страницы
И то, как ты меня зовёшь,
И я встаю, мне будет сниться.
Там будут ветки ходуном
Ходить, мешая солнце с тенью…
И тоже станут чьим-то сном…
Но будет в песне – воскресенье!
Это было прощанием...
«Увы, увы», - кричит ночная птица
в сыром саду. И нам пора проститься.
У подмосковной гнущейся берёзы
ты у меня в глазах стоишь, как слёзы.

Он болел. В больнице с ним рядом всё время была Марианна.
Ты вправе думать, посетив больницу,
Где я – все о себе да о себе,
Что воронье за окнами клубится,
Что льдист и хладен путь через столицу,
Что все равно мне, каково тебе.
Ты принесла мне сахар и обновки,
Хотела рассказать, как день прошел,
Как ты упала возле остановки,
Как холодно одной, как путь тяжел,
Когда летят толпою птицы эти...
А я все о себе да о себе.
Не о тебе, единственной на свете,
На ледяной изменчивой тропе.
Ты вправе думать, исхудав щеками,
Все обо мне в дороге, обо мне –
Что сердце у меня, наверно, камень,
Что я, как эти окна - в стороне,
Ты вправе думать... Но когда ушла ты,
Когда безлюдным стал приемный зал,
Я в многолюдном гомоне палаты
Шептал в подушку все, что не сказал...
Ты – о больной руке, о трудной доле,
А я – все о себе да о строке,
Которая не стоит малой боли
В твоей душе и в маленькой руке...
На улице пустой воронья дрема.
Ворочается снег по городьбе.
Одна утеха - что ты плачешь дома,
А я не дома плачу о тебе.
Ты вправе думать... Ты в нежнейшем праве...
Но я в одном сегодня без вины,
Что думаю в подушку – не о славе,
А о любви, в которой мы равны.

«Шестикрылый Серафим» унёс его 24 января 1997 года. Он был астматик и умер от удушья. В ту ночь персонал отмечал какой-то больничный праздник. В конце концов, когда Соколову стало плохо, его успели перевести в реанимацию, но спасти его уже не удалось. Поэт ушел из жизни, не дотянув двух месяцев до своего 69-летия. Похоронен был на Новокунцевском кладбище в Москве.

«Я был поэтом на земле...» - это из лебединой песни Владимира Соколова, из его прощальной поэмы «Пришелец». На каменной странице его надгробия начертаны эти слова. Они как будто летят на землю с далёкой звезды на её тонких лучах. Поэт-пришелец, стремясь к своей звезде, преодолевает мощное земное притяжение.
Один из его друзей Владимир Мощенко вспоминал, как они однажды вошли с Соколовым в номер гостиницы, и в глаза им сразу бросилось строгое предупреждение над выключателем: «Гасите после себя свет!» - «Вот глупость! - сказал поэт. - Нельзя этого делать». Он остался верен себе до конца. Он не выключил после себя свет.
Из посвящённых ему стихов:
В конце Татьяниного дня,
когда темнело,
весть, леденящая меня,
уже летела.
Раздался звон колоколов,
они звенели:
Свет Николаич Соколов
исчез в метели.
Е. Евтушенко, который открыл Соколова читателю и очень его любил, приехал на его похороны на один день из Штатов, где семь месяцев в году читал лекции. Он написал стихотворение «Памяти Владимира Соколова»:
Когда я встретил Вл. Соколова,
он шел порывисто, высоколобо,
и шляпа, тронутая снежком,
плыла над зимней улицей Правды,
и выбивающиеся пряди
метель сбивала в мятежный ком.
Он по характеру был не мятежник.
Он выжил в заморозки, как подснежник.
Владелец пушкинских глаз прилежных
и пастернаковских ноздрей Фру-Фру,
он был поэтом сырых поленниц
и нежных ботиков современниц,
его поэзии счастливых пленниц,
снежком похрупывающих поутру.
В метели, будто бы каравеллы,
скользили снежные королевны
и ускользали навек из рук,
и оставался с ним только Додик -
как рядом с парусником пароходик,
дантист беззубый, последний друг.
Висели сталинские портреты,
зато какие были поэты!
О, как обчитывали мы все
друг друга пенящимися стихами
в Микишкин-холле или в духане,
в курилке или в парилке в бане,
в Тбилиси, в Питере и Москве!
Рождались вместе все наши строчки,
а вот уходим поодиночке
в могилу с тайнами ремесла.
Но нам не место в траурной раме.
Непозволительно умиранье,
когда поэзия умерла.
На наши выстраданные роды
ушло так много сил у природы,
что обессилела потом она,
мысль забеременеть поэтом бросив.
Кто после нас был? Один Иосиф.
А остальные? Бродскоголосье -
милые люди или шпана.
Еще воскреснет Россия, если
ее поэзия в ней воскреснет.
Прощай, товарищ! Прости за то,
что тебя бросил среди разброда.
Теперь - ты Родина, ты - природа.
Тебя ждет вечность, а с ней свобода,
и скажет Лермонтов тебе у входа:
"Вы меня поняли, как никто...".
После стихов Евтушенко помещать свои — гиблое дело, но не могу добавить тут и своё признание в любви самому моему поэту:
Какое блаженство читать Соколова!
Мне кажется, я поняла, как никто,
что слово бывает светло и лилово,
что в юности дождиком пахнет пальто.
То в жар погружаясь, то в холод знобящий,
смакую божественных строчек нектар
о том, что пластинка должна быть хрипящей,
что школ никаких — только совесть и дар...
Всё лучшее в мире даётся нам даром,
и мы принимаем бездумно, шутя,
и утро с его золотистым пожаром,
и листья, что, словно утраты, летят.
В волнении пальцы ломая до хруста,
я буду читать до утра, обомлев.
Забуду ль когда твоих девочек русых
и в ботиках снежных твоих королев?
И снова, как в детстве, обману поверю,
ещё ожидая чего-то в судьбе.
Ты Моцарт, маэстро, а я твой Сальери,
который отравлен любовью к тебе!
В сиренях твоих и акациях мокну,
с отчаяньем слушаю плач соловьёв,
и жизни чужие, как бабочки в окна,
стучатся и ломятся в сердце моё.
Тебе не пристало величье мессии,
ты просто поэт, и не скажешь полней.
Я знаю, что всё у тебя — о России,
но каждая строчка твоя — обо мне.
И это родство всё горчее и глубже,
как звук разорвавшейся в сердце струны.
Мне дорого, как ты застенчиво любишь,
и в этой любви мы с тобою равны.
Опять приниматься бумагу маракать,
с ночною звездой говорить до зари...
Когда заблужусь, потеряюсь во мраке —
я строки беру твои в поводыри.
Какое блаженство читать Соколова!
Как с ним вечера и рассветы тихи.
Как сладостна власть оголённого слова...
Неужто же всё это — только стихи?!
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/68720.html
|
|
Процитировано 7 раз
Понравилось: 4 пользователям
Вологодская трагедия (окончание) |
Начало здесь

Мы подошли к последним трагическим страницам жизни Николая Рубцова.
Это очень печальная история. История короткой и странной любви, трагический исход которой оба они предчувствовали. Всё так и вышло, как он писал: «Я умру в крещенские морозы...»

А для неё та январская ночь 1971 года оставила только одно имя: «Та, которая убила Николая Рубцова». С этим именем ей надо было жить всю остальную жизнь.
Познакомились они с Людмилой Дербиной в общежитии Литинститута ещё в 63-ем.

Потом ещё раз случайно встретились через год. Правда, тогда с её стороны особой симпатии к Рубцову не возникло:
«Он неприятно поразил меня своим внешним видом, —вспоминала она потом. — Один его глаз был почти не виден, огромный фиолетовый «фингал» затянул его, несколько ссадин красовалось на щеке. На голове — пыльный берет, старенькое, вытертое пальтишко неопределенного цвета болталось на нем. Я еле пересилила себя, чтобы не повернуться и тут же уйти. Но что-то меня остановило. Следы попоек и драк явно были запечатлены на всем его облике. Ветхая одежда говорила о крайней нужде и лишеньях, но что-то ершистое, несгибаемое было в его твердом пристальном взгляде. Я подумала о том стыде, который ему приходится преодолевать за свой жалкий вид, и что для него есть что-то более важное, чем внешняя оболочка».
Они сели на скамейку где-то в маленьком скверике. Он стал ей читать стихи:
Я буду скакать по холмам задремавшей Отчизны,
неведомый сын удивительных вольных племен,
как раньше скакали на голос удачи капризный,
я буду скакать по следам миновавших времен...
Он читал это стихотворение как заклинание. И её отношение к нему менялось на глазах: «Такая мощь духа, такая неизбывная любовь к Родине звучали в нем, что-то сверхъестественное, мистическое чудилось мне в скачущем всаднике, будто весь простор Отчизны был по силам ему, что я оробела. Он закончил читать, я молчала. Мне вдруг все стало ясно. Я поняла, что Рубцов живет тайной своей судьбы. Он преодолеет все, но свое слово скажет».
В местном СП она читала свои стихи, посвящённые Рубцову:
Когда-нибудь в пылу азарта
Взовьюсь я ведьмой из трубы
И перепутаю все карты
Твоей блистательной судьбы!
Вся боль твоя в тебе заплачет,
когда рискнешь, как бы врасплох,
взглянуть в глаза мои кошачьи,
зеленые, как вешний мох!

На обсуждении её стихов Рубцов выступал с резкой критикой, очень обижавшей её. Критиковал натурализм, физиологизмы в её строчках:
Я по-животному, утробно
тоскую глухо по тебе... -
«Женщина так писать не должна», - говорил Рубцов. Правда, он потом написал положительную рецензию на её новый сборник, рекомендуя его к печати. Но... недаром говорят: два соловья не могут петь на одной ветке, а два медведя — жить в одной берлоге. Все видели, что они — не пара, что ничем хорошим эта любовь не кончится. Дербина и сама понимала это:
«...если бы судьба не схлестнула меня с Рубцовым, моя жизнь, как у большинства людей, прошла бы без катастрофы. Но я, как в воронку, была затянута в водоворот его жизни. Он искал во мне сочувствия и нашел его. Рубцов стал мне самым дорогим, самым родным и близким человеком. Но... Как странно! В это же самое время мне казалось, будто я приблизилась к темной бездне, заглянула в нее и, ужаснувшись, оцепенела. Мне открылась страшная глубь души, мрачное величие скорби, нечеловеческая мука непрерывного, непреходящего страдания. Рубцов страдал. Он был уже смертельно надломлен. Где, когда, почему и как могло это произойти? Но это произошло! Напившись, он мог часами сидеть неподвижно на стуле, уставившись в одну точку, опираясь одной рукой о стул, а в другой держать сигарету и думать, думать, думать... В его глазах часто сверкали слезы, какая-то невыплаканная боль томила его...»

Может быть, в те минуты и рождались в нём эти мрачные строки:
Если б мои не болели мозги,
Я бы заснуть не прочь.
Рад, что в окошке не видно ни зги,—
Ночь, черная ночь!
В горьких невзгодах прошедшего дня
Было порой невмочь.
Только одна и утешит меня —
Ночь, черная ночь!
Грустному другу в чужой стороне
Словом спешил я помочь.
Пусть хоть немного поможет и мне
Ночь, черная ночь!
Резким, свистящим своим помелом
Вьюга гнала меня прочь.
Дай под твоим я погреюсь крылом,
Ночь, черная ночь!
Ей казалось тогда, что её неустроенность и его неустроенность, соединившись, сами по себе счастливо исчезнут. И при этом забывала, что неустроенность — это не только недостаток тепла, близких людей, а ещё и всё то лишнее, чем успел обрасти в своей неустроенной жизни человек. Не понимал это и Рубцов. Он всегда жил больно и трудно. Даже не жил, а, скорее, продирался сквозь глухое равнодушие жизни и пытался докричаться до людей, но его не слышали, не хотели слышать, и тогда он срывался с тормозов — и вся спрессованная в нём энергия выплёскивалась в скандалах, пьяных дебошах. В какой-то степени Рубцов описал это в стихотворении «Полночное пение»:
Когда за окном потемнело,
Он тихо потребовал спички
И лампу зажег неумело,
Ругая жену по привычке.
И вновь колдовал над стаканом,
Над водкой своей, с нетерпеньем...
И долго потом не смолкало
Его одинокое пенье.
За стенкой с ребенком возились,
И плачь раздавался, и ругань,
Но мысли его уносились
Из этого скорбного круга...
И долго без всякого дела,
Как будто бы слушая пенье,
Жена терпеливо сидела
Его молчаливою тенью.
И только когда за оградой
Лишь сторож фонариком светит,
Она говорила: – Не надо!
Не надо! Ведь слышат соседи! –
Он грозно вставал, как громила.
– Я пью, – говорил, – ну и что же? –
Жена от него отходила,
Воскликнув: – О Господи Боже!.. –
Меж тем как она раздевалась,
И он перед сном раздевался,
Слезами она заливалась,
А он соловьем заливался...
Хроника событий тех лет. Лето 1970-го. Ссора с Дербиной. Она не пускает его в дом, он кулаком разбивает окно, порезав себе артерию. Кровь хлестала фонтаном, «скорая», спасли чудом.
Октябрь 1970-го. На писательском секретариате в Архангельске Рубцов учиняет дебош в гостиничном номере, обругав матом даму — инструктора ЦК, корившую его за пьянство. С трудом замяли скандал.
1971. Скандал с соседом по квартире, партийным работником, который обвиняет Рубцова в оскорблении партии, настрочив жалобы в несколько инстанций. СП принимает решение отправить Рубцова в ЛТП. Он чувствует себя загнанным зверем.

Я люблю судьбу свою,
я бегу от помрачений.
Суну морду в полынью
и напьюсь, как зверь вечерний...
Рубцов любил Людмилу. «Мы были сироты друг без друга», - писала она. Они ссорились, расставались, снова сходились. Он изводил её своей ревностью. Доходило до того, что устраивал сцены читателям библиотеки, где она работала, заподозрив, что они приходят не только за книгами. Дербина не знала, куда деться от стыда. В пьяном виде он бывал страшен. Оскорблял, бил, бросал в неё зажжённые спички, однажды запустил кастрюлю с ухой. Она убегала, он находил её, клялся, плакал, умолял вернуться, простить...
«Он мог сорваться с места, крушить и ломать все вокруг, бросать в меня чем попало. Совершенно дикие приступы утонченной жестокости вызывали во мне страх и отвращение. Чувство, что я в западне, однажды вселилось в меня и уже никогда не покидало. Изо дня в день, при каждой новой встрече, я получала определенную долю яда, который постепенно заполнял мои клетки жутью обреченности», - писала она. И — в стихах:

Твои зрачки, как две дробинки.
Их меткий выстрел впереди.
Алтайской тоненькой рябинкой
качалась я: — О, пощади!
О, пощади мою беспечность
и непроснувшийся мой страх,
и полдня праздничные свечи,
и солнечность в моих глазах.
Ты посмотри, как на исаде
бесхитростны мои следы.
Они не мыслят о засаде
и не предчувствуют беды.
Ведут они (хватает дури)
туда, где в мрачной глубине
зеленые бушуют бури,
змеятся молнии на дне.
Там хищная твоя улыбка,
приняв благообразный вид,
мелькает золотою рыбкой
и обещает, и сулит.
Она зовет меня так властно,
что я, как в тягостном бреду,
почти не мучаясь, безгласно
навстречу гибели иду.
Рубцов пишет стихотворение «Расплата»:

Я забыл, что такое любовь,
И под лунным над городом светом
Столько выпалил клятвенных слов,
Что мрачнею, как вспомню об этом.
И однажды, прижатый к стене
Безобразьем, идущим по следу,
Одиноко я вскрикну во сне
И проснусь, и уйду, и уеду...
Поздно ночью откроется дверь,
Невеселая будет минута.
У порога я встану, как зверь,
Захотевший любви и уюта.
Побледнеет и скажет:- Уйди!
Наша дружба теперь позади!
Ничего для тебя я не значу!
Уходи! Не гляди, что я плачу!..
И опять по дороге лесной
Там, где свадьбы, бывало, летели,
Неприкаянный, мрачный, ночной,
Я тревожно уйду по метели...
Из воспоминаний Л. Дербиной: « Рубцов уже измучил меня своей любовью. От сокровенной нежности он мог тут же перейти к свирепой ненависти, к темной безумной ревности, к самым неожиданным агрессивным проявлениям. Я уже опасалась его внезапного гнева и прежде, чем что-то ответить ему, мгновенно прикидывала: какую реакцию вызовет у него мой ответ. Это делало меня не самой собой, потому что я говорила не то что мне хотелось бы сказать. А быть не самой собой - это значит быть порабощенной. А каждый раб стремится к своему освобождению».

И я, обессилев от муки
с ним быть не самою собой,
в свирепом отчаяньи руки
однажды вздыму над судьбой!
...Я знала, ты любишь меня
И силой возьмешь мою душу,
Что это и есть западня,
И то, что ее я разрушу!
.....................................
Лишь где-то в крещенские дни
Запели прощальные хоры,
И я у своей западни
Смела все замки и затворы!
То, что с обычным человеком происходит в более рассеянной, слабой концентрации, у поэта сгущается до пределов опасного. И это совсем не русский вариант Ромео и Джульетты, скорее, здесь вариант Настасьи Филипповны и Рогожина. Любовь-вражда, выразившаяся в её строках: «любви немыслимый и тягостный полон...», «любви как пропасти страшилась...»
Как мне кричали те грачи,
Чтоб я рассталась с ним, рассталась!
Я не послушалась (молчи!),
И вот что сталось… Вот что сталось…
А сталось вот что. Они в очередной раз помирились. Рубцов перевёз к себе её вещи. Подали заявление в ЗАГС. Регистрация была назначена на 19 февраля 1971 года. Он не дожил до неё ровно месяц. Та страшная крещенская ночь, глухая и дикая — она пришла!
Из стихов Л. Дербиной:

Отчего облака багрянели?
Или был в том нерадостный знак?
Причитанья январской метели
и внезапно сгустившийся мрак
над Софийским осмекнувшим храмом,
над заснеженной мертвой рекой –
все вещало нам грозную драму,
все сулило конец. И какой!
Но минуя Соборную горку,
мы пошли по реке напрямик,
и смотрел по-враждебному зорко
из метели на нас чей-то лик.
На ступенях Дворца сочетанья
я невольно замедлила шаг.
Все мне чудились те причитанья,
люстры свет не рассеивал мрак.
И в какую-то долю мгновенья
за колоннами снова возник,
как зловещее чье-то видение,
тот враждующе пристальный лик.
Я сказала: – Вернемся! Не надо!
Так зачем ты меня удержал
всею силой влюбленного взгляда,
ты зачем от меня не бе-жа-ал?!
Когда вышли, метель затихала,
нас с тобою оплакав во мгле.
Оставалось безжалостно мало
быть нам вместе на этой Земле!
Говорит Людмила Дербина: http://rutube.ru/video/7b1b9a5f459e565deefc48d86409abfa/
Это была даже не одна, а две бессонные ночи подряд, когда в слепом пьяном сумасбродстве он швырял в неё всё, что попадётся, когда держал её у стенки под двумя ножами. В какой-то момент в ней проснулась ярость, когда она сомкнула пальцы на его горле. Он кричал ей: «Я люблю тебя!» - от этого крика проснулись соседи. Это были последние его слова. В пылу схватки она их не слышала. Вдруг Николай с силой оттолкнул её и рухнул на пол.
«Сильным толчком он откинул меня и перевернулся на живот. И тут, отброшенная его толчком, я увидела его посиневшее лицо и остолбенела. Он упал ничком, уткнувшись лицом в то самое белье. которое рассыпалось по полу при нашем падении. Я стояла над ним, приросшая к полу, пораженная шоком. Все это произошло в считанные секунды. Но я не могла еще подумать, что это конец»

Тело Рубцова. Из материалов следствия.
А она, вне себя от отчаянья и горя, бросилась в милицию с криком: «Я его убила!» На самом деле заключение медэкспертизы гласило: Рубцов умер «от сердечной недостаточности».
Из письма врача Я.Я.Сусликова : «Л. Дербина не убийца, как бы вам ни хотелось, она есть жертва ситуационных обстоятельств... Но я все же уверен, что Дербина не душила его, сжав пальцы на горле. На удушение необходимо достаточно приличное время и безостановочное непрерываемое усилие, потный труд, ведь удушению предается взрослый человек! За несколько мгновений суматошной возни такое просто невозможно. Удушение нереально. Это, во-первых. А во-вторых: нонсенс! "Удушенный" несколько мгновений назад человек способен на сильный толчок, отбросивший жену, то есть оказался способен вообще на движение... Рубцов не погиб. Он умер скоропостижной смертью. От инфаркта миокарда. Или от инсульта. Или от тромбоэмболии легочной артерии. Для подобных исходов у людей, ведущих подобный поэту образ жизни, имеется сколько угодно оснований...»
Дербину осудили за «умышленное убийство» на 8 лет лишения свободы. Это был судебный произвол. Но тогда слово писательской организации было превыше закона. Свою пятилетнюю дочь она не видела 7 лет.

«Вытянувшись на нарах и уставившись взглядом в черный продымленный потолок, в который раз прокручивала в памяти все до мельчайших деталей свое преступление и никак не могла понять, почему он умер? Почему он умер?! Неужели так просто убить человека? Но он умер, и я, только я в этом виновата! Мое крайнее невежество в медицине, конечно, слыхавшей, но понятия не имевшей о местонахождении каких-то там сонных артерий, тоже сыграло свою роковую роль. И его скудное тщедушное тельце было виновато. «Худой петух! Доходяга! Слабак!» - мысленно ругала я Колю. О дочери я боялась думать, так невыносима была мысль о разлуке с ней.
Теперь я знаю: мои пальцы парализовали сонные артерии, что его толчок был агонией, что, уткнувшись лицом в белье и не получая доступа воздуха, он задохнулся, потому что был без сознания. Совершилось зло. Один был в пьяной невменяемости, другая — отчаявшаяся, ожесточенная, обуреваемая дьявольской гордыней. Перед кем я тогда гордилась? Перед несчастным больным человеком!
Гордыня, вспыльчивость, нетерпимость... Я наказана за это пожизненно. Мой путь — это путь покаяния. Как я оплакала Николая, знает одно небо. И мне оплакивать его до конца моих дней».

Книжка Л. Дербиной с предисловием Рубцова, уже готовая к изданию, так и не увидела свет. Об этом не могло быть и речи. Она издаст её за свой счёт только после выхода из тюрьмы в Вельске. «Крушина» - так назывался её поэтический сборник. Крушина — это невзрачный кустарник с ломкими ветвями. А ещё в этом слове слышится крушение и кручина...

Стихи сильные, упругие, что-то неженское, дерзкое, неукротимое, а порой и жутковатое проступает сквозь эту поэзию. Крушение, страдание и возрождение — вот три её начала...

Я - мамонт, свалившийся в яму,
забросанный градом камней.
Не иму ни страху, ни сраму,
не чую, чей камень больней.
И нет ниоткуда подмоги,
и бивни уткнулись в песок.
Слабеют проворные ноги.
Так чей же последний бросок?!
Грозящий мне лютою смертью,
свой камень бросать не спеши!
Под шкурой и вздыбленной шерстью -
бессмертные недра души.
В них зреют глубинные силы
и близок их мощный порыв.
Чуть дрогнут, вспружинятся жилы,
и вот: Я иду на прорыв!
Восторгом и жутью объята,
я вырвусь (что будет, то будь!),
космата, распята, треклята,
на Млечный сверкающий путь!
Тюремный срок — это было не самое страшное. Самое страшное началось потом. Людская молва, проклятья, глухие наветы окружали её имя. Вологодский писатель В. Коротаев, вольно трактуя трагедию, перевирая факты, поторопился слепить о ней бестселлер под названием «Козырная дама». Вещица подлая, с душком, после неё хочется помыть руки. Находились и такие, что усматривали тут сионистский заговор — мол, сгубили подлецы-евреи светлого русского поэта. Но был ещё собственный суд — самый беспощадный. Людмила говорила, что самым тяжким для неё испытанием было то, что окошко её камеры выходило на окна его квартиры. Взглянешь за решётку — а там эти окна, за которыми ты сама погасила жизнь.

Страшное испытание. В памяти всплывали его строки:
Печальная Вологда дремлет
На темной печальной земле,
И люди окраины древней
Тревожно проходят во мгле.
Родимая! Что еще будет
Со мною? Родная заря
Уж завтра меня не разбудит,
Играя в окне и горя.
Замолкли веселые трубы
И танцы на всем этаже,
И дверь опустевшего клуба
Печально закрылась уже.
Родимая! Что еще будет
Со мною? Родная заря
Уж завтра меня не разбудит,
Играя в окне и горя.
И сдержанный говор печален
На темном печальном крыльце.
Все было веселым вначале,
Все стало печальным в конце.
На темном разъезде разлуки
И в темном прощальном авто
Я слышу печальные звуки,
Которых не слышит никто...

комната Рубцова в Вологде в доме № 3 по ул. Яшина, где произошла трагедия

Она бы сломалась, оказалась затоптанной в грязь — охотников было много — и уж никогда не смогла бы подняться, если бы не эта необъяснимая сила, жажда испить горькую чашу, расплатиться за всё сполна.
Никто не знает, сколько раз
рождалась я и умирала,
и сколько раз в свой смертный час
я начинала жить сначала.
И сколько раз за смерть мою
мое рожденье принимали
и там, у жизни на краю,
открылись мне какие дали,
печальным факелом судьбы
какие бездны озарились,
какие волны, на дыбы
восставши с грохотом разбились...
Когда меня топтали в грязь,
а я прощенья не просила,
в меня невидимо лилась
земли таинственная сила.
Уже поверженная ниц,
как хорошо я различала
сквозь топот ног, гримасы лиц
в своем конце свое начало!
Надо было жить, растить дочку, нести свой крест. Дербина, выйдя на свободу, устроилась на работу в библиотеку Академии наук, что на Васильевском острове. И каждую свободную минутку отдавала тому, чтобы продолжить рассказ о Рубцове, об их трудных взаимоотношениях — это была её постоянная молитва, её спасение. Когда же «Воспоминания...» были готовы, она стала искать возможность, чтобы её, отверженную, услышали.

Лишите и хлеба, и крова,
утешусь немногим в пути.
Но слово, насущное слово
дайте произнести!
Заройте, как жёнку Агриппку,
на площади в Вологде, но
души моей грустную скрипку
не закопать все равно!
Зачем же стараетесь всуе,
какая вам в том корысть
и трепетную, и живую
душу мою зарыть
спокойно, упорно, умело,
согласно чинам и уму?
Зачем оставляете тело?
Оно без души ни к чему!
От боли мне нет исцеленья,
вину свою ввек не простить,
но нет тяжелей преступленья,
чем по миру тело пустить
без воли, без веры, без жизни,
покорное дням и судьбе.
Как будто печальная тризна,
поминки самой по себе.
Как страшно! Но я ведь любима
была и любима сейчас,
поэтому неуязвима,
неуязвима для вас!
Душа, истомленная горем,
любовью к живому жива.
И горе мы с ней переборем,
и боль переплавим в слова.
Вот строки, которые Людмила Дербина получила в ответ:
Виктор Боков: «Написано потрясающе правдиво, сильно...»
Е. Евтушенко: «Я и не мог подумать, что Вы умышленно убили Колю. Это действительно был нервный срыв. Злодейка жизнь, а не Вы. Но всё-таки Вы совершили грех и должны отмолить его всей своей жизнью».
Фёдор Абрамов: «Вы должны подняться над своей судьбой. Пишите, не отчаивайтесь... Вас может спасти только чудо».

Впервые немного отпустило её только через 18 лет в 89-ом, когда одна старушка, узнав историю Людмилы и Николая, подсказала ей: «А ты исполни епитимью — Бог обязательно тебя услышит и снимет грех». Она послушалась и три года простояла на коленях, кладя земные поклоны. Ей стало легче. Что там говорят — разве это так уж важно? Главное, что говорит сердце.
Я стою и молчу средь шумливого люда
и всё кажется мне, что на том берегу
вдруг появишься ты — вон оттуда, оттуда!
Я, наверно, к тебе по воде побегу.

Из воспоминаний Людмилы Дербиной:

«Через 18 лет после трагедии волею судеб я прочла письмо от Николая Рубцова, которое в свое время не дошло до меня. Он писал: «Милая, милая... Неужели тебе хочется, чтоб я страдал и мучился еще больше и невыносимее? Все последние дни я думаю только о тебе. Думаю с нежностью и страхом. Мне кажется, нас связала непонятная сила, и она руководит нашими отношениями, не давая, не оставляя никакой самостоятельности нам самим. Не знаю, как ты, а я в последнее время остро это ощущаю. Но что бы ни случилось с нами и как бы немилосердно ни обошлась судьба, знай: лучшие мгновения жизни были прожиты с тобой и для тебя. Упрекать судьбу не за что: изведана и, в сущности, исчерпана серьезная и незабываемая жизнь, какой не было прежде и не будет потом...»

Это письмо потрясло её. «Было такое чувство, будто оно написано мне в сегодняшний день. Как будто он писал, уже зная, что с нами случится непоправимое: «Мне кажется, нас связала непонятная сила и она руководит нашими отношениями... » Какое острое ощущение Рока! Да, он уже понимал, что от нас самих мало что зависит. «Но что бы ни случилось с нами и как бы немилосердно ни обошлась судьба, знай...» Вот оно как! Да ведь это же прощание! Это прощальное признание в любви и... прощение меня. «Упрекать судьбу не за что: изведана и, в сущности, исчерпана серьезная и незабываемая жизнь...» Жизнь исчерпана! И это писал человек 35 лет от роду! Через что же нужно было пройти, чтобы приобрести это страшное знание?..»
Изведусь от ужасной потери,
от вины бесконечной своей,
но никак никогда не поверю
в безвозвратность твоих журавлей.
Пусть отмечен был гибельным роком
каждый шаг твой навстречу мне,
по весне затуманенным оком
я найду их в густой синеве.
Дрогнет сердце от криков гортанных
и, жестокой судьбе вопреки,
я поверю упорно и странно
в нашу встречу у вешней реки.
Будто не было скорбно погасших
горьких дней, приносящих боль.
Не терзал тебя мутный и страшный
затмевающий мозг алкоголь.
Будто не было серых рассветов,
не сулящих вовеки добра.
Помню я только красное лето
и в закатном огне вечера.
Как тогда розовело окошко!
Сколько маков цвело под окном!
Твоей песней и песней гармошки
Наполнялся наш старенький дом.
Отодвинув решительно кружку,
подавив в себе тягостный хмель,
пел про жалобу поздней кукушки,
про седую над омутом ель.
Отчего же теснило дыханье?
Отчего, учащенно дыша,
чем сильней подавляла рыданье,
безутешней рыдала душа?
О, как скоро те маки опали,
отгорели под нашим окном!
И, гармошки не слыша, в печали
по-сиротски нахохлился дом.
И, однажды в осеннюю слякоть
распрощались с тобой журавли
чтобы то расставанье оплакать
громким криком в ненастной дали.
Но я буду их ждать неустанно
крик прощальный в душе сберегу.
Буду верить упорно и странно
в нашу встречу на том берегу.
В день его рождения 3 января он приснился ей. Хорошо приснился. Она поняла, что он её простил.

«Из сегодняшнего дня я говорю клеветникам: «То, что случилось с нами, касается только нас двоих. Никто из смертных, кроме меня самой, не повинен в смерти Николая Рубцова. И никто из смертных не может быть нашим судьей». Я говорю это теперь, когда знаю, что душа человека бессмертна, что ничего случайного не бывает, что ничто не исчезает в этом мире и все запечатлено там, наверху: каждое наше деяние, каждое сказанное слово, каждая мысль, даже тень мысли, даже намек любого нашего помысла, предчувствие нашего желания! И за все нужно будет держать ответ. И я говорю: «Господи! Да святится Имя Твое! Да будет Воля Твоя... »

Зову тебя, но ты не отзовешься.
Крик замирает в гибельных снегах.
Быть может, ты поземкой легкой вьешься
У ног моих, вмиг рассыпаясь в прах?
Быть может, те серебряные трубы,
Чьи звуки в свисте ветра слышу я, –
Твои, уже невидимые губы
Поют тщету и краткость бытия.
Пройдет зима. Лазурно и высоко
Наполнит мир весенний благовест,
Но я навек уж буду одинока,
Влача судьбы своей ужасный крест.
И будет мне вдвойне горька, гонимой,
Вся горечь одиночества, когда
Все так же ярко и неповторимо
Взойдет в ночи полей твоих звезда.
Но… чудный миг! Когда пред ней в смятенье
Я обнажу души своей позор,
Твоя звезда пошлет мне не презренье,
А состраданья молчаливый взор.
Похоронили Рубцова на Новом кладбище за городской чертой. Он часто писал о своей смерти, словно предчувствовал её.
Отложу свою скудную пищу.
И отправлюсь на вечный покой.
Пусть меня еще любят и ищут
Над моей одинокой рекой.
Пусть еще всевозможное благо
Обещают на той стороне.
Не купить мне избу над оврагом
И цветы не выращивать мне...

Короткую жизнь он прожил. Вспоминается, как герой одного шукшинского рассказа печалился, как мало прожил один великий поэт. Собеседник ему отвечает: «Не много и не мало. Ровно с песню. Спел и ушёл».

Памятник Н. Рубцову в Вологде

Жена и дочь Н. Рубцова на открытии памятника
Поэт перед смертью сквозь тайные слезы
жалеет совсем не о том,
что скоро завянут надгробные розы,
и люди забудут о нём,
что память о нём — по желанью живущих
не выльется в мрамор и медь...
Но горько поэту, что в мире цветущем
ему после смерти не петь...
В Тотьме тоже поставили поставили памятник поэту.

Дербина с удивлением смотрела, как его, бронзового, приодели, обули в красивые туфли, накинули на плечи элегантное пальто. В жизни он никогда так изящно не одевался. Памятники вообще мало имеют общего с живыми людьми. Особенно резким контрастом с посмертным елеем звучат рубцовские строчки:
Мое слово верное прозвенит!
Буду я, наверное, знаменит!
Мне поставят памятник на селе!
Буду я и каменный навеселе!..
Когда в Тотьме хотели установить мемориальную доску на интернате, где жил и учился Рубцов, в ответ прозвучал саркастический вопрос чиновника: «А вы когда-нибудь видели Рубцова трезвым?» Как будто бы мемориальная доска устанавливалась в честь трезвой рубцовской жизни.
Да, жизнь его была далека от подражания. Стихи не лишены недостатков. Но путь поэта пройден, в нём ничего уже нельзя изменить и хочется отнестись к Рубцову так, как он сам относился к миру: с бережным вниманием и благодарностью. Будем признательны поэту за всё, чем он обогатил русскую поэзию, жизнь нашего сердца и духа. Его звезда полей — чистая звезда поэзии — светит нам в пути. Его слова «...и буду жить в своём народе» оправдались.

памятник Николаю Рубцову в Череповце

памятник Николаю Рубцову в Емецке
дом-музей Н. Рубцова в Емецке

улица имени Н. Рубцова в Вологде


Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/66611.html
|
|
Процитировано 5 раз
Понравилось: 2 пользователям
"Пусть душа останется чиста..." (продолжение) |
Начало здесь

Добрый Филя
В 1961 году Рубцов пишет стихотворение «Добрый Филя», вошедшее в сокровищницу русской классики:
Я запомнил, как диво,
Тот лесной хуторок,
Задремавший счастливо
Меж звериных дорог…
Там в избе деревянной,
Без претензий и льгот,
Так, без газа, без ванной,
Добрый Филя живёт.
Филя любит скотину,
Ест любую еду,
Филя ходит в долину,
Филя дует в дуду!
Мир такой справедливый,
Даже нечего крыть…
– Филя! Что молчаливый?
– А о чем говорить?
Всего 16 строк, но их оказалось достаточно, чтобы создать цельный образ человека, характер, тип, очень узнаваемый в России. У него немало таких стихотворений («Русский огонёк», «Эхо прошлого»), в которых он попытался заглянуть в душу людей деревни. Да он и сам был в чём-то таким же неприхотливым и беззлобным Филей. В одном из стихотворений о нём есть такие строки:
Почему велик Рубцов
средь поэтов ярких, броских, -
потому что сто рубцовских
в его сердце тех, сиротских.
То общага, то притон -
жизнь почти что на погосте,
а в стихах его при том
ни обиды нет, ни злости.

Поёт Николай Рубцов: http://rutube.ru/video/6a1f58a1394d4f57d69e339f902fe5f7/
Способность оставаться доверчивым и добрым, несмотря ни на какие жизненные неурядицы и несчастья, умение не озлобляться из-за них — характерное свойство Рубцова, которое проявляется в его стихах, особенно в стихах о животных и птицах. Прочитайте его стихотворение о воробье, которому живётся зимой очень несладко, холодно и голодно, и вам понятней станет характер самого поэта:

Чуть живой. Не чирикает даже.
Замерзает совсем воробей.
Как заметит подводу с поклажей,
Из-под крыши бросается к ней!
И дрожит он над зернышком бедным,
И летит к чердаку своему.
А гляди, не становится вредным
Оттого, что так трудно ему...
Олицетворяя своих бессловесных героев, поэт воспроизводит всю гамму человеческих чувств в разных жизненных ситуациях:
Медведь
В медведя выстрелил лесник.
Могучий зверь к сосне приник.
Застряла дробь в лохматом теле.
Глаза медведя слез полны:
За что его убить хотели?
Медведь не чувствовал вины!

Ласточка
Ласточка носится с криком.
Выпал птенец из гнезда.
Дети окрестные мигом
Все прибежали сюда.
Взял я осколок металла,
Вырыл могилу птенцу,
Ласточка рядом летала,
Словно не веря концу.
Долго носилась, рыдая,
Под мезонином своим…
Ласточка! Что ж ты, родная,
Плохо смотрела за ним?

Коза
Побежала коза в огород.
Ей навстречу попался народ.
– Как не стыдно тебе, егоза? –
И коза опустила глаза.
А когда разошелся народ,
Побежала опять в огород.
Про зайца
Заяц в лес бежал по лугу,
Я из лесу шел домой, -
Бедный заяц с перепугу
Так и сел передо мной!
Так и обмер, бестолковый,
Но, конечно, в тот же миг
Поскакал в лесок сосновый,
Слыша мой веселый крик.
И еще, наверно, долго
С вечной дрожью в тишине
Думал где-нибудь под елкой
О себе и обо мне.
Думал, горестно вздыхая,
Что друзей-то у него
После дедушки Мазая
Не осталось никого.

Послушайте, как великолепно читает эти стихи Константин Райкин:http://rutube.ru/video/237038cdde962aee649493e14624567b/
«Я не серьёзно. Я играю...»
Рубцов по сути своей — импровизатор. Он следует в стихах своим наитиям, прихотям чувства. Его мысль питается импульсами, порывами. В этом неповторимое обаяние его стихов — в непреднамеренности, первородности словесного жеста.
Стукнул по карману —не звенит!
Стукнул по другому —не слыхать!
В коммунизм —в безоблачный зенит
Полетели мысли отдыхать.
Память отбивается от рук.
Молодость уходит из-под ног.
Солнышко описывает круг—
Жизненный отсчитывает срок.
Я очнусь и выйду за порог,
И пойду на ветер, на откос
О печали пройденных дорог
Шелестеть остатками волос.
Стукнул по карману — не звенит!
Стукнул по другому — не слыхать!
В коммунизм — в безоблачный зенит
Полетели мысли отдыхать...

А теперь послушайте, как эти стихи сам Рубцов читает: http://rutube.ru/video/6e866c7e62cd4435f52ac515f5776dd0/
Рубцов не рядится в романтическую тогу, не примеряет осанку витии, нередко соскальзывая с высоких нот в средние регистры. Это придаёт его стихам ощущение жизненной достоверности и правды.
Слёз не лей над кочкою болотной
оттого, что слишком я горяч.
Вот умру — и стану я холодный.
Вот тогда, любимая, поплачь!
Или:
Когда я буду умирать,
а умирать, конечно, буду, -
ты загляни мне под кровать
и сдай порожнюю посуду.
Улыбка, шутка помогали ему избежать в стихах приторной сентиментальности, ходульной патетики, унылого однообразия.
Прости, - сказал родному краю, -
за мой отъезд, за паровоз.
Я несерьёзно. Я играю.
Поговорим ещё всерьёз.

Славянофилы, которые сделали из Рубцова знамя патриотизма, хотели видеть в нём лишь певца святой Руси и другие интонации ими прослушивались глухо. Вадим Кожинов, например, писал: «Я отнюдь не хочу сказать, что ранняя поэзия Рубцова лишена значительности. Но он стал подлинно народным поэтом лишь тогда, когда ирония и мелодраматизм отошли на второй план, а вперёд выдвинулось нечто иное, гораздо более серьёзное, уравновешенное и ответственное». Но сам Рубцов, думаю, не согласился бы с такой трактовкой. Он писал о своих ранних стихах: «Не отказываюсь от них, ибо и они от души, от жизни».
Вот, например, его стихотворение «Утро перед экзаменом», которое он написал накануне экзамена по геометрии, когда всё видел в геометрическом свете, и которое Кожинов обвинял в несерьёзности, в том, что оно «толкает на ложный путь в поэзии»:
Тяжело молчал валун-догматик
в стороне от волн. А между тем —
я смотрел на мир, как математик,
доказав с десяток теорем!..
Скалы встали перпендикулярно
к плоскости залива. Круг луны.
Стороны зари равны попарно,
волны меж собою не равны.
Вдоль залива, словно знак вопроса,
дёргаясь спиной и головой,
пьяное подобие матроса
двигалось по ломанной кривой.
Спотыкаясь даже на цветочках —
(Боже! Тоже пьяная "в дугу"!..) —
чья-то равнобедренная дочка
двигалась, как радиус в кругу!
Я подумал, это так ничтожно,
что о них нужна, конечно, речь,
но всегда ничтожествами можно,
если надо, просто пренебречь!
И в пространстве — светлом, чистом, смелом -
облако — (из дальней дали гость) -
белым, будто выведенным мелом,
знаком бесконечности неслось!
Когда Рубцов выступал на вечерах с этим шутливым стихотворением — успех был ошеломляющий. Энергия выражения, озорство, юмор, всё это делает эти стихи чем-то большим, чем просто незатейливая шутка.

Рубцов читает свои стихи
Тут же вспоминаются «геометрические» стихи «Начало осени» у Заболоцкого. Трудно вообразить и Маяковского без его «Гейнеобразного», «Мелкой философии на глубоких местах», «Тамары и Демона», да в конечном счёте всю мировую лирику без ироничных или шутливых интонаций.
А вот стихотворение Рубцова 1962 года «Жалобы алкоголика»:
..Ах, что я делаю? За что я мучаю
больной и маленький свой организм?..
Да по какому ж такому случаю?..
Ведь люди борются за коммунизм!..

Читает Рубцов: http://rutube.ru/video/ea8d60501eb1ad5a34eecd234ecf2011/
Рубцов может шутить, ёрничать, но под этой поэтической бравадой нередко скрывается драма, душевная боль. У него есть стихотворение, чем-то перекликающееся с «Чёрным человеком» Есенина, там такие строки:
Он говорит, что мы одних кровей
и на меня указывает пальцем,
а мне неловко выглядеть страдальцем,
и я смеюсь, чтоб выглядеть живей.
Стихотворение «Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны...» - программное для Рубцова, одно из сильнейших его стихов, оно производит магическое впечатление:
Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,
Неведомый сын удивительных вольных племен!
Как прежде скакали на голос удачи капризный,
Я буду скакать по следам миновавших времен...
О, сельские виды! О, дивное счастье родиться
В лугах, словно ангел, под куполом синих небес!
Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес!
Боюсь, что над нами не будет возвышенной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, все понимая, без грусти пойду до могилы...
Отчизна и воля - останься, мое божество!
Останьтесь, останьтесь, небесные синие своды!
Останься, как сказка, веселье воскресных ночей!
Пусть солнце на пашнях венчает обильные всходы
Старинной короной своих восходящих лучей!..
Я буду скакать, не нарушив ночное дыханье
И тайные сны неподвижных больших деревень.
Никто меж полей не услышит глухое скаканье,
Никто не окликнет мелькнувшую легкую тень.
И только, страдая, израненный бывший десантник
Расскажет в бреду удивленной старухе своей,
Что ночью промчался какой-то таинственный всадник,
Неведомый отрок, и скрылся в тумане полей...
Смотрите, какая торжественная лексика: «неведомый сын», «вольные племена», «таинственный всадник», «ангел под куполом синих небес»... И тут же, словно в противовес этой непомерной тяги к возвышенному, - совершенно иная тональность, совсем иной всадник:
Эх, коня да удаль азиата
мне взамен чернильниц и бумаг, —
как под гибким телом Азамата,
подо мною взвился б аргамак!
Как разбойник, только без кинжала,
покрестившись лихо на собор,
мимо волн Обводного канала —
поскакал бы я во весь опор!
Мимо окон Эдика и Глеба,
мимо криков: "Это же — Рубцов!",
не простой, возвышенный, в седле бы -
прискакал к тебе, в конце концов!
Но наверно, просто и без смеха
ты мне скажешь: "Боже упаси!
Почему на лошади приехал?
Разве мало в городе такси?!"
И, стыдясь за дикий свой поступок,
словно Богом свергнутый с небес,
я отвечу буднично и тупо:
— Да, конечно, это не прогресс...

Геннадий Осиев. Портрет Н.Рубцова. 1987 год.
Неподражаемый юмор и самоирония, лёгкая «домашняя» интонация экспромта — это то, что выгодно отличает его стихи от напыщенных панегириков профессиональных русолюбов и русохвалов:
Я уплыву на пароходе,
Потом поеду на подводе,
Потом еще на чем-то вроде,
Потом верхом, потом пешком
Пройду по волоку с мешком -
И буду жить в своем народе!
«Мы с тобою как разные птицы...»
В 1962 году Рубцов выпускает свою первую книгу «Волны и скалы» и, взяв очередной отпуск, уезжает в Никольское. Здесь на вечеринке он знакомится со своей будущей женой Генриеттой Меньшиковой. Том же году поступает в Литературный институт.

Николай Рубцов со студентками Литинститута
А в 63-ем у него родилась дочь Лена. Жизнь начинала налаживаться. Несмотря на бытовые трудности, безденежье, нелады с тёщей, Рубцов впервые — и увы! так недолго — был по-настоящему счастлив. Хотя помощи от него семье не было, но появилась надежда, что фантастическая мечта Рубцова вроде бы обретает реальную почву: он учился в Москве «на поэта», как уважительно говорили в семье, печатается в газетах и журналах... И работалось ему тогда в Николе удивительно хорошо. Но... семейная лодка разбилась о быт.
Жена, хоть и подарила ему дочь, настоящим другом стать не смогла. Творческий непокой, сжигавший душу поэта, был недоступен её пониманию. Жену и тёщу раздражало, что Рубцов не работает, не признавая его творчество работой, требовали, чтобы занимался хозяйством, зарабатывал деньги. Он говорил: «И Гета, и тёща — прекрасные люди. Только будь я не поэт, а обыкновенный скотник на ферме — цены бы мне не было. Но разве я виноват, что родила меня мать поэтом? Поэт получился, а в мужья не сгодился!»
И случилось то, что должно было случиться: он ушёл. В 1968 году Рубцов разведётся с женой. Хотя стихи, предвещающие разлуку, напишет ещё в 65-ом:

Я уеду из этой деревни...
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока.
Мать придет и уснет без улыбки...
И в затерянном этом краю
В эту ночь у берестяной зыбки
Ты оплачешь измену мою.
Так зачем же, прищурив ресницы,
У глухого болотного пня
Спелой клюквой, как добрую птицу,
Ты с ладони кормила меня.
Слышишь, ветер шумит по сараю?
Слышишь, дочка смеется во сне?
Может, ангелы с нею играют
И под небо уносятся с ней...
Не грусти! На знобящем причале
Парохода весною не жди!
Лучше выпьем давай на прощанье
За недолгую нежность в груди.
Мы с тобою как разные птицы!
Что ж нам ждать на одном берегу?
Может быть, я смогу возвратиться,
Может быть, никогда не смогу.
Ты не знаешь, как ночью по тропам
За спиною, куда ни пойду,
Чей-то злой, настигающий топот
Все мне слышится словно в бреду.
Но однажды я вспомню про клюкву,
Про любовь твою в сером краю
И пришлю вам чудесную куклу,
Как последнюю сказку свою.
Чтобы девочка, куклу качая,
Никогда не сидела одна.
- Мама, мамочка! Кукла какая!
И мигает, и плачет она.
Я уеду из этой деревни...
Будет льдом покрываться река,
Будут ночью поскрипывать двери,
Будет грязь на дворе глубока.
Поёт Рубцов: http://rutube.ru/video/365fc1aae52e6ea96904f9641be7fb71/

Генриетта Меньшикова. Умерла в 2002 году.
 Дочь Рубцова Лена
Дочь Рубцова Лена

Рассказывает дочь Николая Рубцова: http://www.youtube.com/watch?v=aOD-oZJOnS4&feature=player_embedded (видео, медиа центр)

Елена Рубцова
Дочь поэта закончила полиграфический техникум, родила четверых детей, живет в Петербурге. Ей было 7 лет, когда он погиб. Елена Николаевна очень бережно относится к памяти отца. В честь его она назвала сына Николаем. В 2006 году он погиб при невыясненных обстоятельствах: сначала решили, что самоубийство, потом, по настоянию родных, завели дело об убийстве. Странное совпадение цифр: Рубцов ушел из жизни в 35 лет, и ровно через 35 лет после его гибели убивают его внука.

Коля Рубцов, внук поэта
«Я вчера нарезался по-свински...»
В воображении большинства людей при слове «поэт» возникает особый романтический ореол. Внешне Рубцов таких ассоциаций не вызывал. Он был небольшого роста, щуплый, с настороженным колючим взглядом тёмных проницательных глаз. Одевался бедно, чуть ли не весь год ходил в валенках, причём дырявых, в неизменном шарфике, - в институте у него было прозвище «шарфик», ибо, он, кутаясь от ветра в своё ветхое пальто, вечно наматывал на шею что-нибудь пёстренькое.

Глеб Горбовский вспоминал: «От его внешности не исходило «поэтического сияния». Трудно было поверить, что такой «мужичонко» пишет стихи и, теперь это стало фактом, будет прекрасным русским поэтом». Рубцов как-то умудрялся раздражать почти всех, с кем ему доводилось встречаться. Он раздражал коменданта общежития, официанток, продавцов, преподавателей института и многих своих товарищей. Раздражало в нём несоответствие его простоватой внешности тому сложному духовному миру, который он нёс в себе.

Раздражало в общем-то понятное. Эти люди ничего не имели бы против, если бы Рубцов по-прежнему служил на кораблях Северного флота, вкалывал бы на заводе у станка или работал в колхозе. Это, по их мнению, и было его место. А он околачивался в стольном граде, захаживал даже — в святая святых — ЦДЛ. Это раздражало, и потому многое, что другим легко сходило с рук, ему не прощалось.
В первый раз Рубцова отчислили из института в 1963 году. За «дебош и драку», учинённые им в ЦДЛ. Многие сомневались, как это тщедушный маленький Рубцов мог избить дюжего метрдотеля. На самом деле это было так: в одном из зала Дома литераторов заседали работники народного образования и, скучая, внимали оратору, вещавшему с трибуны о том, как сложно преподавать литературу в школе. Рубцов случайно проходил мимо и задержался в дверях из любопытства.

Оратор стал перечислять поэтов, рекомендуемых для изучения: Сурков, Уткин, Щипачёв, Сельвинский...
- А Есенин где? - крикнул возмущённый Рубцов. - Ты почему о Есенине умолчал? По какому праву?
Тут и налетел на Рубцова коршуном метрдотель и, ухватив за шарфик, потащил к выходу. Рубцов стал сопротивляться.
- Бьют! - завопил деятель ресторана. Подскочила обслуга. При своих, что называется, свидетелях, они и составили тот грозный протокол «об избиении», который лёг в основу приказа об «исключении». На первый раз Колю простили. Но вскоре последовала ещё одна его выходка.
Однажды в Литинституте случилось странное: в один прекрасный день из здания исчезли все портреты классиков. Прочесали всё от подвала до чердака, решили обшарить общежитие. И вдруг в одной из комнат видят такую картину: вдоль стен, лицом в комнату, стоят портреты классиков — один к одному. Посреди комнаты на полу сидит человек. Перед ним — бутылка водки, а в поднятой руке — стакан. Он говорит, обращаясь к портретам: «Ну вот, наконец-то мы все вместе собрались!» - и выпивает водку. Это был Рубцов. Ему, как он объяснил, захотелось выпить в компании приличных людей. Позже он выдаст об этом экспромт:
Я вчера нарезался по-свински.
Лошади ходили по стене.
И великий критик В. Белинский
приставал с пол-литрою ко мне.
Рубцова попросили написать объяснение, но вместо обещания больше не пить и исправиться он написал ректору такие стихи:
Возможно, я для Вас в гробу мерцаю,
но заявляю Вам в конце концов:
я, Николай Михайлович Рубцов,
возможность трезвой жизни отрицаю!

Тогда его снова простили. Но новый инцидент в ЦДЛ переполнил чашу терпения руководства. Скандал возник из-за того, что Рубцова из-за его затрапезного вида (он мог прийти в валенках-чесанках) администратор не хотел впустить в ресторан, хотя студенческий билет Литинститута давал ему такое право. Бурный спор завершился рукопашной схваткой и вызовом милиции с последующей передачей дела в суд. От суда его с трудом удалось спасти благодаря усилиям А. Яшина, заступничеству В. Тушновой, Б. Слуцкого, вмешательству К.Симонова, к которому они обратились. Но из института Рубцов был исключён безжалостно. Для него это было катастрофой. Его выселили из общежития, он лишился стипендии, московской прописки. Его снова засасывает трясина пьянства.
Если жить начать сначала,
всё равно напьюсь бухой
и отправлюсь от причала
вологодчины лихой.
...Красным, белым и зелёным
нагоняем сладкий бред.
Взгляд блуждает по иконам.
Неужели Бога нет?
Поэзия ещё спасает его.
Я не один во всей вселенной.
Со мною книги и гармонь.
И друг поэзии нетленной -
в печи берёзовый огонь...

«Это от ночной звезды...»
Рубцов возвращается в Николу. Там он пишет одно из самых печальных и пленительных своих стихотворений «Звезда полей»:
Звезда полей, во мгле заледенелой
Остановившись, смотрит в полынью.
Уж на часах двенадцать прозвенело,
И сон окутал родину мою...
Звезда полей! В минуты потрясений
Я вспоминал, как тихо за холмом
Она горит над золотом осенним,
Она горит над зимним серебром...
Звезда полей горит, не угасая,
Для всех тревожных жителей земли,
Своим лучом приветливым касаясь
Всех городов, поднявшихся вдали.
Но только здесь, во мгле заледенелой,
Она восходит ярче и полней,
И счастлив я, пока на свете белом
Горит, горит звезда моих полей...

Это стихотворение дало название новому сборнику Н. Рубцова, вышедшему в 1967 году, которое сразу обратило на себя внимние читающей Москвы. В эти же годы Рубцов напряжённо работает над сборниками «Душа хранит» и «Сосен шум» - последними прижизненными изданиями поэта.

В 1965 году его восстанавливают на заочном отделении института, в 1968-ом принимают в СП и дают, наконец, комнату в рабочем общежитии Вологды.

Ю. Воронов. Вологда.
Но он по-прежнему бесприютен, безбытен. Бывавшие у Рубцова дома говорили, что он жил «как последний босяк». У него не было постельного белья, посуды, ел он из кастрюли. И комната порой казалась ему трюмом затонувшего, потерпевшего крушение корабля.
Окно, светящееся чуть.
И редкий звук с ночного омута.
Вот есть возможность отдохнуть...
Но как пустынна эта комната!
Мне странно кажется, что я
Среди отжившего, минувшего,
Как бы в каюте корабля,
Бог весть когда и затонувшего,
Что не под этим ли окном,
Под запыленною картиною
Меня навек затянет сном,
Как будто илом или тиною...
Читаешь эти строки, и кажется, что тонет не однокомнатная квартира на 5 этаже, а та самая наполненная звёздным светом «горница» Рубцова.
В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.

Волшебные, пленительные, загадочные строки.
В горнице моей светло.
Это от ночной звезды.
Матушка возьмет ведро,
Молча принесет воды...
Красные цветы мои
В садике завяли все.
Лодка на речной мели
Скоро догниет совсем.
Дремлет на стене моей
Ивы кружевная тень.
Завтра у меня под ней
Будет хлопотливый день!
Буду поливать цветы,
Думать о своей судьбе,
Буду до ночной звезды
Лодку мастерить себе...

Первоначальный вариант этого стихотворения назывался «В звёздную ночь» и имел мотив сна. Финальные его строки были такие:
Словно бы я слышу звон
вымерших пасхальных сёл...
Сон, сон, сон
тихо затуманит всё.
Но Рубцов, рассчитывая на чуткого читателя, вычёркивает строфы, являющиеся ключом к такому прочтению, а с первых же строк разворачивает картины, увиденные им во сне. Как может быть светло в горнице от ночной звезды? Да, он не высветит углы комнаты, но его достаточно, чтобы в этом призрачном свете увидеть главное, то, что, кажется, давно позабыто.

В.Корбаков. Голубые сумерки. Николай Рубцов
При свете ночной звезды видно давно умершую, но никогда не умиравшую в памяти Рубцова мать.
Красные мои цветы
в садике завяли все...
Те красные цветы, которые в поэтическом мире Рубцова неразрывно связаны с матерью, с её смертью. Это тот красный цветок, который шестилетний Коля Рубцов нёс за гробом матери. Чтобы полить этот увядший в памяти цветок, и приносит матушка воды.

И тогда сразу оживает забытое в дневной суете...
Лодка на речной мели
скоро догниёт совсем.

Это намёк на ту лодку, на которой предстоит плыть «на тот берег», когда завершится жизненный путь.

Поэт точно и во всей глубине передал своё душевное состояние, в простых и безыскусных словах сумел запечатлеть свет, мерцавший в его душе. И этот свет стал принадлежать всем.
«Козыри свежи, а дураки те же»
Рубцова чаще рассматривали в пределах так называемой «тихой лирики». А между тем он был необычайно острым социальным поэтом. Вот хотя бы эти строки, написанные им в 1959-ом, а опубликованные лишь в 1985-ом:
Давно в гробу цари и боги!
И дело в том — наверняка -
что с треском нынче демагоги
летят из Главков и ЦК!

Тогда это было невообразимо по смелости. Дата стихотворения говорит сама за себя — Рубцов писал правду о нашей жизни давно, независимо от «климата» и конъюнктуры. Вот строки из стихотворения 1963-го:
И праздник устроим,
и карты раскроем...
Эх! Козыри свежи,
а дураки те же.
Людмила Дербина в своих воспоминаниях рассказывала: «Никогда в жизни я не встречала человека так болезненно страстно заинтересованного судьбой России и русского народа. Он не пекся ни о чем личном, был бескорыстен и безупречно честен. Я отлично понимала, насколько он выше и крупнее каждого из того огромного легиона, называющих себя поэтами, кто личные интересы, свое собственное благополучие ставит превыше всего. Рубцов не выписывал ни газет, ни журналов, у него не было телевизора, он редко ходил в кино, но он знал главное. Его думы были крупнее и глубже того потока поверхностной информации, пропитанной духом бодрячества и наивного оптимизма».

Многие строчки поэта просто не дошли до нас из соображений цензуры. Например, в его «Осенней песне» должны были быть такие строки:
Я в ту ночь позабыл все газетные вести,
все газетные вести из центральных ворот.
Я в ту ночь полюбил все тюремные песни,
все тюремные песни, весь гонимый народ...
Да мало ли какие строчки должны были быть ещё, но не состоялись для народа. Может быть, не высказанные вслух, не написанные на бумаге, они всё более жгли и мучили Рубцова? Его поэтическая мысль не смогла себя реализовать полностью, до конца, какой-то самый сокровенный, сердцевинный виток его души остался нераскрытым. Проклятье советских поэтов — внутренний цензор сидел в нём и заставлял переиначивать концовки стихотворений (иначе не напечатают), в некотором смысле искажать себя как поэта. Быть может, эта беспросветность, трагическая невозможность высказать себя до конца и надломила его окончательно.
Рубцов считался поэтом деревни, хотя половину жизни прожил в больших городах: Москве, Ленинграде, Вологде. И душа его как бы разрывалась на части между ними. Эту двойственность, эту смятенность души он хорошо выразил в стихотворении «Грани», включённом Евтушенко в антологию «Строфы века»:
Я вырос в хорошей деревне,
Красивым — под скрип телег!
Одной деревенской царевне
Я нравился как человек.
Там нету домов до неба,
Там нету реки с баржой,
Но там на картошке с хлебом
Я вырос такой большой.
Мужал я под грохот МАЗов,
На твердой рабочей земле...
Но хочется как-то сразу
Жить в городе и в селе.
Ах, город село таранит!
Ах, что-то пойдет на слом!
Меня все терзают грани
Меж городом и селом...
Окончание здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post202231973//
|
|
Процитировано 5 раз
Понравилось: 3 пользователям




































