-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Статистика
Записей: 871
Комментариев: 1385
Написано: 2520
"И всё, что ты любишь..." |

Начало здесь.
Ирина Снегова родилась в 1922 году в Курске. Окончила Литературный институт им. М. Горького в 1948-ом. В том же году начала печататься. Автор поэтических сборников «Лирические стихи» (1958), «Август» (1963), «Лирика» (1966), «Крутизна» (1967), книги стихов для детей «Бьют часы» (1962). В 60-е годы была достаточна известна. Много печаталась в журналах, в основном это были переводы армянских и грузинских поэтов. Умерла в 1975 году.
Это все, что известно о ее жизни и творчестве.
Из воспоминаний Ирины Снеговой:
«Многие моря и реки жили как бы невдалеке от моего детства, но Волга прошла сквозь него. Любовь к ней отца, волжанина, была род недуга. Я никогда потом за всю мою жизнь ни у кого такого не встречала. Видела, как он вдруг начинал мрачнеть, «тосковал по Волге», словно бы она – человек, собирался и уезжал. Первые мои годы все мы ездили летом в Тутаев, в Ярославль, в Углич. И много раз плыли на уютных белых пароходах. Сверху, до Астрахани, и снизу вверх, к Рыбинску. Двигались медленно, прочно садились на мель, долго стояли у больших городов и маленьких причалов… И то особое, что подкатывало, тянуло под ложечкой, когда смотрела я на эту великую воду, на поблескивающие колоколенки дальних берегов, было сродни стихам, было, может быть, предчувствием их и началом».
Саратов. Волга.
Первая зелень — это без денег,
Это не хвостик редиски, не лук.
Первая зелень — это оттенок,
Лопнувшей почки внезапный звук.
Первая зелень — зыбкое пламя,
Горькая клейкость тугих ветвей,
Первая зелень — над головами
Свет незапамятных ранних дней.

Первая зелень — незащищенность.
Неискушенность. Люблю, люблю...
Сердцебиения учащенность,
Ртуть, ускользающая к нулю.
Первая зелень — поздние слезы.
Глухо гудит электронный век.
Режут ракеты пустырь межзвёздный,
В пальцах дрожит молодой побег.
Первая зелень, первая зелень,
Древняя нежность глубин земных...
Зеленью глаз твоих мир застелен,
Листья и травы смеются в них.

Стихи Снеговой не броские, в них нет вычурных метафор и необычных рифм. Но, вчитываясь в строки, вдруг понимаешь, что под каждым стихотворением могла бы подписаться словами: "Да, это всё так... я знаю, о чем тут речь… и со мной было такое же".
Приснился бы! Хоть мельком, в кой-то раз...
Как странно явь господствует над снами,
Что снятся нам обидевшие нас
И никогда - обиженные нами.
Из гордости... Не снятся нам они,
Чтоб нашего смущения не видеть...
А может быть, чтоб, боже сохрани,
Нас в этих снах случайно не обидеть.

«...нет в её стихах никакой заданности, никакой запрограммированности, но, может быть, именно в этом и сила её поэзии, на диво естественной, органичной, честной. Она пишет лишь о том, что её волнует, лишь о том, о чём задумывается, что ей важно, необходимо, и пишет так, как это ей дано, не пыжась и не стараясь выглядеть чем-то иным, чем-то не тем, что она есть. Только так, по-моему, может и должен существовать поэт. Просто поэт, без всяких эпитетов и прилагательных. Разве что с одним-единственным: истинный поэт».
Маргарита Алигер
Есть такой зверёк. Прозвали Нежностью...
Вот бредёт зверёк по синим лужицам,
Маленький, как ласка и хорёк.
То вдруг в самой давке обнаружится,
То ищи-свищи - пропал зверёк.
Сложно с ним. Он рвётся в дом с поспешностью
И бежит – запри хоть сто раз дверь!
Есть такой зверёк. Прозвали Нежностью.
Трудно культивируемый зверь.
То скулит, один оставшись надолго,
То при всех вас схватит (эх, зверьё!)
Душит он, и сквозь слезу, сквозь радугу,
Каждый видит, как под смерть — своё.
Есть такой зверёк. Одни с ним маются.
А другие - этим жизнь легка -
Тихим браконьерством занимаются,
Убивая этого зверька.

Любовь – любви не ровня, не родня.
Любовь с любовью, Боже, как не схожи!
Та светит, эта жжет сильней огня,
А от иной досель мороз по коже.
Одной ты обольщён и улещён,
Как милостью надменного монарха,
Другая душно дышит за плечом
Тяжелой страстью грешного монаха.
А та, иезуитские глаза
Вверх возводя, под вас колодки ищет…
А эти?.. Самозванки! К ним – нельзя!
Разденут, оберут и пустят нищим…
Любовь – любови рознь. Иди к любой…
И лишь одной я что-то не встречала –
Веселой, той, какую нёс с собой
Античный мальчик в прорези колчана.

Карл Ванлоо. «Амур, стреляющий из лука». 1761 г.
Любовь
У нас говорят, что, мол любит и очень.
Мол балует, холит, ревнует, лелеет...
А помню, старуха соседка – короче,
Как встарь в деревнях говорила: жалеет.
И часто, платок затянувши потуже,
И вечером в кухне усевшись погреться,
Она вспоминала сапожника мужа,
Как век он не мог на нее насмотреться.
- Поедет он смолоду, помнится, в город,
Глядишь, уж летит, да с каким полушалком!
А спросишь – чего мол управился скоро?
Не скажет… Но знаю: меня ему жалко.
Зимой мой хозяин тачает, бывало,
А я уже лягу, я спать мастерица!
Он встанет, поправит на мне одеяло,
Да так, что не скрипнет под ним половица.
И сядет к огню в уголке своем тесном,
Не стукнет колодка, не звякнет гвоздочек...
Дай Бог ему отдыха в царстве небесном!
И тихо вздыхала: жалел меня очень.
В ту пору смешным мне всё это казалось.
Казалось, любовь чем сильнее, тем злее.
Трагедии, бури… Какая там жалость!
Но юность ушла. Что нам ссориться с нею?
Недавно, больная, бессонницей зябкой
Я встретила взгляд твой – тревога в нем стыла.
И вспомнилась вдруг мне та старая бабка –
Как верно она про любовь говорила!

Это стихотворение о вечных ценностях, о вечно кем-то избитых истинах. Но когда я его прочла на лекции – оно перекрыло впечатления от всех стихов, прочитанных накануне, люди слушали его со слезами на глазах. Слишком поздно мы эти истины понимаем, к сожалению.
* * *
Чем меньше женщину мы любим…
А. Пушкин
Опровергаю. Любим за любовь.
В ней пагуба. В любви. А не в притворстве.
Любовь идёт к любви. На трубный зов.
Любовь разит любовь. В единоборстве.
А равнодушье — что игра его! -
Для девочек опасно, не для женщин…
Сквозь бедность равнодушья твоего
Косит любовь зрачком своим зловещим.

О господи! Все женщины мечтают,
Чтоб их любили так, как ты меня.
Об этом в книгах девочки читают,
Старухи плачут, греясь у огня.
И мать семьи, живущая как надо,
В надёжном доме, где покой и свет,
Вздохнёт, следя, как меркнут туч громады:
И всё как надо, а чего-то нет.
Есть нежность, верность есть, но ежечасно
Никто коротких, трудных встреч не ждёт.
Никто тебя за счастье, за несчастье,
Как зло, как наважденье не клянёт.
Не довелось... Вздохнёт, а тучи тают,
Горит закат на самой кромке дня...
О, господи! Все женщины мечтают,
Чтоб их любили так, как ты меня, -
Неотвратимо, с яростной тоскою,
С желаньем мстить, как первому врагу.
...Должно быть, я любви такой не стою,
Коль броситься ей в ноги не могу.

Сосны качаются, сосны гудят,
Сосны склоняться к земле не хотят,
Но ломит их ярость осеннего дня…
Спасибо тебе, что ты любишь меня.
Поезд уходит в промозглую тьму,
Тьма убегает вдогонку ему,
За окнами темень, вокруг ни огня…
Спасибо тебе, что ты любишь меня.
Полем иду, и несутся мне вслед
Шелесты лета и шорохи лет,
Ширь расступается, светом пьяня…
Спасибо тебе, что ты любишь меня!

Удручает, что стихи Ирины Снеговой в Сети встречаются редко, их не увидишь на серьёзных литературных сайтах. Зато поражает обилие ее стихотворений в ЖЖ и блогах разных девчушек. На розовых и сиреневых фонах, в обрамлении из сердечек и ангелов красуются записи с прекрасными стихами Ирины Снеговой. Серьезные, мудрые, грустные стихи зрелой женщины…
Но стоит ли огорчаться этому последнему обстоятельству? Что до девичьих альбомов с сердечками, так в этом, может быть, ее победа! То, что сейчас недоступно многим самым известным и обласканным официальным признанием поэтам - пробиться к сердцу молодых, легко удаётся всюду забытой, нигде не упоминаемой, почти невидимой Ирине – взахлёб цитируемой в дневниках нынешних юных девушек.
Отпусти меня, адова сила,
Окаянная блажь, развяжи!
Я просила… И вдруг – отпустило.
Вон уж март, дни хрупки и свежи.
Сердце бьется неровно и тихо…
От любви восстаем, как от тифа.
Сотворение мира

Не спите поздно. Подымайтесь сразу.
С трамваем первым. С первой птичьей фразой.
Вставайте раньше. Пейте кофе крепкий.
Займитесь вместе с солнцем кладкой, лепкой,
Формовкой, краской - сотвореньем мира.
Вставайте раньше. Душно или сыро,
Мороз иль жар - вставайте. Дела много!
Работайте. Восторженно и строго.
День напролет. Весь день. Он так не вечен.
Работайте. Друзьям оставьте вечер.
Оставьте вечер звездный и метельный
Чему хотите - скуке иль веселью...
Но если день был трудным, и сомненья
Швыряли вас как мячик по арене,
И неудачи сыпались злорадно,
Мелькая, точно в киноленте кадры,
И вечер не приносит перемены, -
Ложитесь спать. Пораньше непременно.
Ложитесь спать. Хотите книгу? Ладно.
Чужая жизнь? Вот ведь и в ней - нескладно.
Ложитесь. Обойдется. В самом деле.
Я попрошу, чтоб рядом не шумели.
У двери постою. Вот здесь. За нею.
Ш-ш! Полно. Спите. Утро мудренее.
Вставайте раньше. Сразу подымайтесь.
За сотворенье мира принимайтесь!

М.К. Чюрлёнис. Сотворение мира cвета и гармонии
Вероника Тушнова:
«Я люблю стихи Ирины Снеговой, мне они дороги тем, что я ценю в поэзии превыше всяческого блеска, — ощущением подлинности. Они — её существование, и как дыхание естественны и неизбежны».
Бывает так...
Бывает так: живешь в неволе –
В безвыходной сердечной боли.
Потом, бывает, минет срок,
И боль уйдет, как дождь в песок.
И волен ты, как ветер в поле!
Но… жаль тебе минувшей боли.
***
Помню, где-то в дебрях детства
Я мечтала в горький миг,
Я придумывала средство
От напастей-зол моих.
Заведу себе собаку,
Может, будет этот пёс
Понимать меня по знаку,
Тосковать по мне до слёз.
Наперёд всё будет видеть,
Ляжет, вежливый, у ног,
Чтоб вовек меня обидеть
Лишь бы кто зазря не мог.
С той поры чуднОй и милой
Столько зим и столько лет,
Столько было, столько сплыло...
А собаки так и нет...
Фридрих Август фон Каульбах. Девочка с собакой.

Берта Моризо. Девочка с собакой.
Элегия
Соскучившись по небу и воде,
Вдоль набережных я пошла. Висели
Большие облака, и кое-где
Меж них большие просини пустели.
Вовсю тянуло холодом с реки,
Вились в Нескучном рыжие клоки,
И отставных речных трамваев краска
Белела неприкаянно и праздно.
Я шла и удивлялась: как бесследно
В нас прошлое - ни дыма, ни огня...
Как здесь когда-то плакала я! Бедной,
Казалось мне, что нет бедней меня,
Что клином свет, что рухнул свод, что в воду...
Уходит боль. Ни дыма, ни огня.
И если жаль чего - теперь, к исходу, -
Той, маленькой, что плакала.
Меня.

Москва 50-х годов
Всё обойдётся в лучшем виде.
Не спорь. Дыши. Прими урок.
Выходит срок любой обиде,
И жизнь — длинней, чем этот срок.
Пообомнётся, поостынет
И вдоль пойдет — не поперёк…
А там беде или гордыне,
Чему-нибудь да выйдет срок.
И отодвинется. Отыдет.
Отбередит. И, тратясь впрок,
Не снизойдёт к былой обиде
Душа… Но дай, но дай ей срок!

Молчат обломки и осколки,
Развалины, следы следов,
Как цифры, замкнутые в скобки.
Молчат - как мёртвая любовь.
Немеет камень в одичаньи
Под серым небом, мглой покрыт.
Там над молчанием молчанье
Молчанья золото хранит.
Но, обезумев от беззвучья,
Бывает, вдруг на сто ладов
Заголосят руины, кручи,
И та – забытая — любовь!

МинУло. Не было - и нет.
Остыло. Рук не отогреть.
Но и сегодня, как на свет,
Мне больно на тебя смотреть.

Не надо приходить на пепелища...

Не надо приходить на пепелища,
Не нужно ездить в прошлое, как я,
Искать в пустой золе, как кошки ищут,
Напрасный след сгоревшего жилья.
Не надобно желать свиданий с теми,
Кого любили мы давным-давно.
Живое ощущение потери
Из этих встреч нам вынести дано.
Их час прошел. Они уже подобны
Волшебнику, утратившему власть.
Их проклинать смешно и неудобно,
Бессмысленно им вслед поклоны класть…
Не нужно приходить на пепелища
И так стоять, как я теперь стою.
Над пустырем холодный ветер свищет
И пыль метёт на голову мою.

Сонет
Я еду не к тебе. Так много время смыло!
Я еду не к тебе. Ты мной в расчет не взят.
Я еду в тишину. Протяжно и уныло
Стучат колеса, двигаясь назад.
Я еду во вчера. Обратно. Наугад.
Туда, где ничего ничто не изменило,
Где мы уже не властны всё подряд
Ломать своей сегодняшнею силой.
Я еду во вчера. Когда все это было?
Ты можешь тихо спать, как праведники спят.
Я еду в осень. В ту, что окропила
Меня огнями с головы до пят.
Я еду к той земле, что так меня томила,
Где все, кроме тебя, из-за тебя мне мило.

Весна красна? Го-лу-бо-ва-та...
Зеленовата и грустна.
Прозрачна и не виновата
В том, что нимало не красна...

А осень, та красна, виновна
в свеченье раскаленных крон,
В разгуле страстном и греховном
За два часа за похорон.

Май бережет июню, ради
апреля экономит март.
Октябрь - бобыль, он станет тратить,
Ломать, мотать, входить в азарт,
Швырять на ветер без разбору,
Все раздавать, со всеми пить,
И так замерзнет под забором,
Не научившийся копить.

Настойчивый призыв ценить всё живое, не упустить красоты падающего листа и света весенних облаков, высоких и сильных чувств человеческих завещан ей и ушедшими школьниками из арбатских переулков, где она росла, и поэтами, не возвратившимися в аудитории института, где она училась. Теми, о ком так взволнованно писала: «Мальчики мои хорошие, школьные мои товарищи...»

Вы зарыты, смяты, скошены,
Не найти вас, мир обшаривши,
Мальчики мои хорошие,
Школьные мои товарищи.
Вы в лугах в соцветья вяжетесь,
В синь лесами рвётесь рослыми...
Вы мне маленькими кажетесь,
А тогда казались взрослыми.
Вас не давит время ношею,
Нас от утра к утру старящей,
Мальчики мои хорошие,
Школьные мои товарищи.
Снег лежал на лбах остуженных,
В пустоте разрывы ухали...
Сколько здесь их, ваших суженых,
Увядает вековухами!
И твердит, гордясь живучестью,
Хлыщ, не нюхавший Германии:
- Мало нас, одна соскучишься.
Ты цени моё внимание!.. -
Чья любовь, в несчастье брошена,
Вас звала сквозь стыд свой шпарящий,
Мальчики мои хорошие,
Школьные мои товарищи?..
Как принцесса в сказке маминой,
Дочь её идёт за песнями.
Не обидь! Стеною каменной
За неё они — ровесники.
Как за нас в том адском крошеве,
Во всесветном том пожарище,
Мальчики мои хорошие,
Школьные мои товарищи.

Из воспоминаний Ирины Снеговой:

«Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые», – рискованно сказал Тютчев. Не знаю, сказал бы он так, выпади ему столько «роковых», сколько нам…
Война легла на нашу юность. Обрушила на нас бомбежки, тьму, ранний нелегкий труд; война убила наших родных и наших одноклассников. Война научила нас радоваться свету, и теплу, и покою на своей земле, узнавать цену товариществу, любить настоящего мужчину, заступника – в сапогах и шинели.
Половина Литературного института имени Горького была в сапогах и шинелях. С фронта, из госпиталя, на фронт. Уезжали, возвращались, не возвращались. А в тесном герценовском особняке гудели коридоры и аудитории. На столах, на подоконниках, на лестнице читали стихи.
Но, главное, думаю, зачем этот институт и мне, и нам всем был нужен, – это чтоб узнать друг друга – тогда, в начале пути. Узнать тех, с кем потом нам рядом жить.
Преданность дружбе – наука, а может, правда, и дар, – и не дай бог, чтоб он иссяк! – врученный мне ранним детством, родительским домом. Вот юность свою и его благодарю за друзей, которые не дают пропасть ни в черный, ни в белый день. Еще за них благодарю те стихи, что заунывно читали мы на подоконниках. Поэзию, которая объединила нас...»
Август, время моё, не спеши, подожди...

Похрустывают косточки минут
Под сапогами бешеного дня.
Потрескивают. Будто хворост мнут
В печи, за створкой, щупальца огня.
Позвякивают. Мимо. Как дожди.
Посвистывают. Как песок из рук.
Покалывают. Мелко. Как в груди...
Но день велик. И в нем есть главный звук.
И если жить, так надо жить, как Крез.
Не меряно. Наотмашь. Не в обрез.
Так и живем... Но вдруг ожжёт, как кнут:
Похрустывают косточки минут.
АВГУСТ
Август празднует в силу вошедшее лето,
Зеленее зелёного в чаще огни.
Не скудеет избыток горячего света,
Запастись бы им впрок на ненастные дни.
Набирает рябина багряную горечь,
Оглушает кузнечиков струнная речь.
Август, это когда ты не просишь, не споришь,
Каждый солнечный луч начинаешь беречь.
Просто руки навстречу теплу поднимаешь
и с тревогой встаешь не в десятом, а в семь...
Август, это когда ты уже понимаешь,
Что померкший денек отгорел насовсем.
И становится с каждой минутой яснее,
Что всё ближе и ближе седые дожди.
И что осень уже неизбежна, а с нею...
Август - время моё, не спеши, подожди!
«Сказано, что поэзия – это то, что остаётся, когда забыты слова; ещё, что поэзия - это вершина искусств, и даже - что она пресволочнейшая штуковина… Как-то женщина, приходившая помогать мне по дому и гулять с моей дочкой, сказала к разговору:
«Вот мы три сестры, и все – разные, а младшая у нас изо всех красавица, изо всех странная была. Очень лес любила. Как взойдём, оглянется: «Ой, господи, красота-то какая! Сейчас «караул» кричать стану». Так в лесу и померла, школьники нашли. И поминали её теми же, её же грибами».
Думаю, скорее всего поэзия и есть та странность, которая призвана за всех выразить это переполняющее нас «Караул!». А чем помянут, в конце концов, не главное. Главное, что и лес, и мир, и «Ой, господи, красота-то какая!».
Ирина Снегова (Из авторского предисловия к сборнику «И всё, что ты любишь…»)
Табачные тучи нависли над лбами.
Устали? А может, тряхнем стариной
Да в лес за грибами махнем? За гриба-ами?
Конечно! Ведь год небывало грибной!
Идемте, идемте - ну что ж, что работа!
Идемте, я знаю грибные места, -
Глухие чащобы, седые болота,
Горячечный шепот сухого листа!..
Вот так, пробирайтесь, сомненья отбросьте,
Держите корзину - нельзя без корзин!
Здесь осень еще не хозяйка, но гостья,
Лишь первый озноб пробежал вдоль осин.
Смотрите! Ну что же, мы все близоруки...
Но здесь и слепой не уйдет от судьбы.
Слышны вам в траве осторожные звуки?
Здесь царство грибное. Здесь ходят грибы.
Грибы-королевичи в белых сапожках,
Грибы-гренадеры в лосинах тугих,
Грибы-фантазеры на тоненьких ножках
И мальчики с пальчики - спутники их.
В ковбойских сомбреро, в профессорских шляпах,
Шагают в беретах, в панамах, в платках...
Нет-нет, не курите... Вы чуете запах?
Весь лес до верхушек грибами пропах.
Замшелыми пнями. Лесной глухоманью.
Дымящейся прелью. Российской землей...
Непрожитой жизнью? Нехоженой ранью?
Быть может... Как тих он за утренней мглой,
Вот-вот в нас метнущий огонь кумачовый,
Подъемлющий жаркие стяги земли...
Не надо, мой милый... О чем вы, о чем вы?
Чего не успели? Куда не дошли?
Да, да. Я иду. Не бегите так быстро!
Слепит обезумевших красок каскад?..
То листья летят нам в лицо, а не искры.
Идемте! Идемте встречать листопад!

Из этого стихотворения тянет не просто лесной свежестью, а свежестью восприятия жизни, будоражащей сердце тревогой. Фразы становятся прерывистыми, как дыхание человека, жадно вбирающего в грудь запахи осеннего леса - «замшелыми пнями. Лесной глухоманью...» - отчётливыми, как удары сердца, которое слышишь бессонной ночью.
Обычные сборы в лес оборачиваются взволнованной патетической музыкой. Как будто вы углубились не просто в лес, а в жизнь, напали на какие-то удивительные тропы и убедились, что даль куда богаче, чем вам казалось, а вы в суете как-то и забыли об этом...

Я люблю эту тихую пору,
Эту острую чуткость земли,
Когда в ноги зелёному бору
Первой пригоршней листья легли.
Когда всё ещё так, как вначале,
Только съехали дачники с дач,
Только птицы вокруг замолчали
Да сквозь зелень проглянул кумач.
Когда полдни светлы и погожи,
А ночами — ни зги у крыльца,
Когда лето, как сердце, не может
Осознать неизбежность конца.
Август. Первые черты увядания. Еле слышный сеется дождик, лес молчит и ждет осени. А женщина просто стоит и думает:
Меленький-меленький, теплый, тишайший,
Еле заметный дождик идет.
Лето молчит, доцветает, ближайшей
Осени ждет.
Август, мой август, нет, я не горюю,
Слушая шепот пустынного дня, -
Просто стою я, просто смотрю я,
Как на земле без меня.

Ничего лишнего в этих предельно простых, щемящих строчках. И сколько в них правды, сколько спокойствия, ясности, мужества.
Всё приходит слишком поздно...
Всё приходит слишком поздно:
Мудрость — к дряхлым, слава — к мёртвым,
Белой ночи дым беззвёздный
В небе, низко распростёртом —
К нам с тобой, идущим розно.
Всё приходит слишком поздно:
Исполнение — к желанью,
Облегчение — к недугу.
Опозданья, опозданья
Громоздятся друг на друга…
Сизый свет течёт на лица,
Купола́, ограды, шпили…
Снится, может? Нет, не снится.
Вот он, город-небылица,
Мы одни из прочной были, —
Взгляды ту́склы, лица постны.
Всё приходит слишком поздно:
К невиновным — оправданье,
Осуждение — к убийце,
Опозданья, опозданья,
Век за них не расплатиться.
А мечтали! Жадно, слёзно
Здесь вдвоём — сквозь все запреты…
Всё приходит слишком поздно,
Как пришло и это лето.
Грустно невских вод теченье,
Время дышит грузно, грозно.
Слишком позднее прощенье…
Всё приходит слишком поздно.

ЦВЕТЫ
И тот, кто не видел её годами,
И те, что с ней рядом бок о бок жили,
Все к ней сегодня пришли с цветами
И молча к ногам её их сложили.
Стояли торжественные корзины
От старшего сына, от младшего сына…
Плача, склонялась над ней невестка
(Та, что не раз отвечала дерзко)
И шапки махровой сирени белой
Бралась перекладывать то и дело.
И внук, что ленился очки подать ей,
Свежие листья ей клал на платье.
И подобревшей рукой соседка
Вдруг положила хвойную ветку.
Люди кольцом стояли в печали.
Плакали, думали и молчали.
Стыли от стужи цветы живые —
Так много их у неё впервые…
А если б она их увидеть могла бы,
Взять, разобрать и поставить в вазы,
Может, из сморщенной, старой, слабой
Стала б красивой и сильной сразу.
И мне захотелось уйти из круга,
Сказать, что все эти букеты лживы,
И крикнуть: «Дарите цветы друг другу
Сейчас, сегодня — пока мы живы!»

Незадолго до смерти, уже зная о своей болезни, Снегова жила в Малеевке, бродила по аллейкам и читала вполголоса — сама себе — Тютчева. Что-то должно было измениться в ее творчестве, но времени для этого в жизни не осталось. Что рвалось в ее несбывшуюся, ненаписанную поэзию?..

Грешна: я не люблю счастливых,
Не чту их козырную масть.
Я знаю – в них, как в спелых сливах,
Легко и резко горкнет сласть.
А счастья – нет. Есть путь неспешный,
Есть ощущенье торжества,
Когда чужой тоске кромешной
Найдёшь утешные слова.
… Так в двадцать лет мне пела спесь
В жестоком юном скептицизме…
Теперь я знаю: счастье есть,
И только не хватает жизни.
"Ирина Снегова умерла в середине семидесятых... Ее хоронили – возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что на Ваганьковском, по желанию семьи “нетрадиционно” – без панихидных речей в Малом зале Центрального Дома литераторов, без шума и тарарама пьяных писательских поминок...
По-моему, это была весна, под ногами хлюпала кладбищенская глина, замешенная в кашу с прошлогодними листьями, а за гробом, который везли на ржавой каталке дюжие похмельные Хароны, шел муж поэтессы и, кажется, ее дочь (я не уверен в этом), а также великий переводчик и жизнелюб Лев Гинзбург, вместе с дочерью Ирен и ее мужем Сашей, и я – как почти официальный представитель московских поэтов. Перед тем как гроб скрылся в мокрой вселенской глине, все помолчали. Ирина Анатольевна умерла быстро, у нее оказался рак легких, о чем даже не подозревали блатные врачи бездарной, но престижной когда-то поликлиники Литфонда.
Вот и все.
Так проходит земная слава, как говорили древние на своей меднозвучной латыни.
Вы читали книгу стихов “Август”? Вы читали книгу стихов “Крутизна”? Нет, вы даже не знаете, что такие книги когда-то писались, ждали своего места в издательских планах, пробивались сквозь косность и немоту русско-советского коллективизма... В мире все пропадает бесследно. Просто что-то раньше, а что-то чуть позже, но все равно, увы, пропадает.
А поэты пишут стихи, потому что знают, но не могут поверить в это..."
Сергей МНАЦАКАНЯН
ЛГ №22 (5879) 29 мая - 4 июня 2002 г.

Блаженно проснись, ощути,
что вот оно, рядом — творится!
Едва, понемногу, почти...
Блаженное в тучке троится,
и свищет в блаженнейшей птице,
и в стрелке подходит к шести,
и светит в лицо... Ощути:
Блаженство! Как медлит, как длится...
Как свищет, блаженствуя, в птице,
и в стрелке — не дышит почти,
замешкался день на шести.
И вот оно, рядом, творится...
Блажен, для кого повторится.

Для неё больше не повторилось. Тот день 1975 года (точная дата смерти неизвестна) стал для Ирины Снеговой последним. Но оно — это чудо — так щедро подаренное нам её строчками — будет повторяться для нас всякий раз, когда мы будем читать их, открывая и впитывая в себя мир её чувств и мыслей, близких и дорогих сердцу каждого, кто жил, любил и страдал.

Сейчас мне сообщили точную дату смерти Ирины Анатольевны: 14 июля 1975 года.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/91141.html
|
|
Процитировано 22 раз
Понравилось: 4 пользователям
"Несравненный Виллон Франсуа..." (окончание) |

Начало здесь.
Продолжение здесь.
Завещания Франсуа Вийона

Жизнь обходилась с ним жестоко. Ему было с кем сводить счёты: с женщинами, обманывавшими его, с неверными друзьями, с врагами. И Вийон великолепно это сделал в своём знаменитом стихотворном «Завещании». Собственно, так называемых «Завещаний» было два: первое, написанное в 1456 году, известное под названием «Малого завещания» и - «Большое» (о нём — чуть позже).
«Завещание» - это самое значительное из написанного Вийоном. Поэт постарался придать ему видимость настоящего официального документа. Он вводит в него формулировки нотариальной конторы, перечисляет ценности, истинные и мнимые, которые намеревается оставить знакомым и близким, друзьям и — в первую голову — врагам.
В действительности же это пародия на завещание. В этой необычной сатирической поэме, поэме-пародии из 320 стихов, Вийон осмеивает всё подряд. Мы находим здесь карикатуру на мироустройство и на мировоззрение, на схоластическую науку и юриспруденцию, на условности куртуазной любви и правила поведения рыцарской аристократии. Вийон мстит обществу, отторгнувшему его.
Комический эффект заключён в несоответствии серьёзных намерений и - ничтожных даров, которые завещатель оставляет наследникам, в невообразимости сочетаний вещей, которые поэт им дарит. Так, одному школяру-однокашнику, владельцу приличного состояния, впоследствии ставшему прокурором, Вийон завещает свои... подштанники, с тем, чтобы он из них сделал головной убор своей любовнице:
Затем дарю Валэ Роберу,
Писцу Парижского суда,
Глупцу, ретивому не в меру,
Мои штаны, невесть когда
Заложенные, — не беда!
Пусть выкупит из «Трюмильер»
И перешьет их, коль нужда,
Своей Жаннетте де Мильер!
Это была пародия на общество, на его уважаемых респектабельных членов. С каким наслаждением поэт раскрывает их подноготную! Как он точен и меток! Вот он высмеивает трёх ростовщиков, наживших свои состояния в период английской оккупации:
Ну что ж, скупиться я не стану!
Всем — Госсуэну-бедняку,
Марсо и добряку Лорану -
Я подарю по тумаку
И на харчи - по медяку:
Состарюсь я, пройдут года,
Мне будет сладко, старику,
Об этом вспомнить иногда.
Издевается над судьями:
Для судей старый их сарай
Я после смерти перестрою,
Чтоб был не суд, а просто рай,
И всем по креслу дам с дырою
Из уваженья к геморрою,
А чтоб покрыть расходы все,
Пусть будет оштрафован втрое
Шлюшонка-лейтенант Массе!
Вот он высмеивает показную набожность лицемерных святош:
Затем, монахам-попрошайкам,
Монашкам-нищенкам с крестом,
Как богомольная хозяйка,
Дарю заплывшего жирком
Гуся и зайца с чесноком, -
Пускай нажрутся до отвала
И досыта клянут потом
Греховность пирогов и сала.
Жалкий бродяга пишет завещание, распределяя направо и налево своё мнимое имущество, которого у него никогда не было. Он мечтал бы им обладать. Собственность всю жизнь манила, влекла Вийона, была его недосягаемой мечтой, сделав из него поэта и... вора, что, хоть и парадоксально, но вполне закономерно.

Второе рождение Вийона
В 1457 году Франсуа в компании ещё четверых школяров совершает кражу в Наваррском коллеже, распотрошив сундуки, где администрация хранила свои деньги.

Наваррский колллеж
Добыча составила 500 экю — по 100 на брата. Денег хватились лишь через несколько месяцев, когда воришек уже и след простыл. Их бы никогда не нашли, если бы один из них по пьянке не проболтался собутыльнику, который его выдал. Приятели Вийона откупились, как-то выпутались, а он загремел в тюрьму.
Это тюрьма в Мён-сюр-Луар. Мён — светское владение орлеанских епископов, окружённый рвом укреплённый замок. Вийон сидит в темнице, в подземелье.
картина И. Кускова «Франсуа Вийон в тюрьме»
В свои 26 лет он выглядит измождённым больным стариком, в лохмотьях, с мертвенно бледной кожей. Обманутый фортуной, преданный друзьями, покинутый женщинами, измученный голодом, ослабленный болезнями, Вийон с ужасом ждёт решения своей участи.
Мне шёл тридцатый год, когда я,
не ангел, но и не злодей,
испил, за что и сам не знаю,
весь стыд, все муки жизни сей...
Он надеялся, что кто-то из друзей, имевших доступ в королевский Дворец, добьётся для него грамоты о помиловании. Но друзья забыли его, и он в отчаянье пишет:

Четыре года просидел Франсуа в этом подземелье, но потом фортуна всё же улыбнулась ему. Ему и на этот раз удалось избежать виселицы. На счастье Вийона умер Карл Седьмой и на смену ему пришёл новый король, его сын Людовик Благоразумный.

Карл Седьмой, король Франции

Людовик Одиннадцатый
Звонили колокола и все кричали: «Слава благоденствию!» и «Да здравствует король!», а он, как водится, повелел освободить заключённых.

Вийон считал этот день своим вторым рождением.
Пишу в году шестьдесят первом,
в котором из тюрьмы постылой
я королём был милосердным
освобождён для жизни милой.
«Я всеми принят, изгнан отовсюду...»
Но жизнь казалась милой лишь в первые дни после освобождения. Ничего хорошего Франсуа в этой жизни не ждало. Бывший школяр, бывший писец, клирик без работы и содержания, он влачил жалкое существование, бредя от деревни к деревне в поисках случайного заработка, ища не столько повода что-нибудь украсть, сколько возможности быть оцененным по достоинству.

Бомж без угла и куска хлеба, Вийон мечтал стать придворным поэтом, обласканным королевскою знатью, но ко двору таких забулдыг не допускали.

Миниатюра 15 века. Поэт, вручающий книгу знатной даме.
Франсуа не был принят при дворе. Других поэтов привечали, а его — нет, хотя он был талантливее и самобытнее всех. Вийон не попал на службу к герцогу Бурбонскому, так же, как прежде не смог услужить герцогам Анжуйскому и Орлеанскому. Причины отказов нам неизвестны, но, по-видимому, Вийону мешал независимый нрав. Он насмешничает, издевается, постоянно нарушает кодекс благопристойности, одним словом, не вписывается в правила игры. Вийон был неудобен при дворе, где нужны были сладкогласые пииты.

придворный менестрель
Его насмешки, издёвки, грубоватый юмор были не по нраву сильным мира сего. И вновь поэт бродит по дорогам, ведя тяжкую нищенскую жизнь, не имея ни ремесла, ни покровителей. Его судьба — это судьба изгнанного отовсюду пророка, которого, как известно, нет в своём отечестве, непризнанного гения, в котором все видят лишь бродягу и оборванца.
Правда, однажды, по одной из легенд, оказавшись в 1458 году в Блуа, при дворе принца Шарля (Карла) Орлеанского, самого крупного из французских поэтов того времени, Вийон принял участие в одном из поэтических конкурсов, которые устраивал в своём дворце принц Шарль.

принц-поэт Шарль Орлеанский
Шарль задал присутствующим поэтам в качестве темы для стихов шутливую строчку: «От жажды умираю над ручьём». И Вийон продолжил её, написав одну из самых глубоких и философских своих баллад:
От жажды умираю над ручьём,
Смеюсь сквозь слёзы и тружусь играя.
Куда бы ни пошёл – везде мой дом,
Чужбина мне страна моя родная,
Я знаю всё, я ничего не знаю.
Мне из людей всего понятней тот,
Кто лебедицу вороном зовёт.
Я сомневаюсь в явном, верю чуду,
Нагой, как червь, пышнее всех господ,
Я всеми принят, изгнан отовсюду...
«Я всех прошу меня простить»?
Пять лет спустя в 1461 году поэт возвращается к теме «Малого завещания» и пишет «Большое завещание». Это 2023 стиха (в Малом их 320). Здесь Вийон подытоживает свои счёты с обществом, властями и друзьями. Парижская молва приняла тогда его за подлинное завещание поэта, но это — всего лишь игра. Так, одному из крупнейших ювелиров, он завещает бриллиант, которого у безработного магистра словесных наук, естественно, никогда не было, и добавляет к этому подарку ещё менее реальную таверну.
Затем, даю Мишо Кюль д'У
И досточтимому Таранну
На разговение по сотне су
(Пусть примут их как с неба манну),
А также сапоги из красного сафьяну.
Взамен я жду от них любезность:
Чтоб поклонились, встретив Жанну
Или другую непотребность.
От иронии «Малого завещания» Вийон переходит к оскорбительным сатирическим выпадам. Так, служащему королевской юстиции, которого парижане знали больше как сутенёра в борделе, Вийон завещает мешок сена, дабы он мог там заниматься любовью.
Дарю ему мешок с сенцом, -
на этом ложе досветла
он может прыгать вниз лицом,
раз нет иного ремесла.
Завершает «Завещание» баллада, в которой Вийон просит у всех прощения. Здесь поэт, доселе изобличавший общество, изображая умирающего, в последний раз взывает ко всеобщему состраданию. Но к кому обращена эта мольба о прощении? К тем, кто сбросил его со счетов? К тем, кто его не понял, кто презирал? К тем, кто отказывал ему в любви? К тем, по чьей вине он так настрадался в этой жизни? И Вийон не выдерживает смиренного тона, срываясь на крик боли, обиды и гнева:
Прошу монахов и бродяг,
Бездомных нищих, и попов,
И ротозеев, и гуляк,
Служанок, слуг из кабаков,
Разряженных девиц и вдов,
Хлыщей, готовых голосить
От слишком узких башмаков, -
Я всех прошу меня простить.
Шлюх, для прельщения зевак
Открывших груди до сосков,
Воров, героев ссор и драк,
Фигляров, пьяных простаков,
Шутейных дур и дураков, -
Чтоб никого не позабыть! -
И молодых, и стариков, -
Я всех прошу меня простить.
А вас, предателей, собак,
За холод стен и груз оков,
За хлеб с водой и вечный мрак,
За ночи горькие без снов
Дерьмом попотчевать готов,
Да не могу штаны спустить!
А потому, не тратя слов,
Я всех прошу меня простить.
Но чтоб отделать этих псов,
Я умоляю не щадить
Ни кулаков, ни каблуков!
И всех прошу меня простить.

Сарказм интонации не оставляет сомнения в истинном отношении поэта к своим «наследникам».
«Пляски смерти»
Так кто же он, этот Вийон, - собственный биограф или обвинитель бездушного общества, памфлетист, выступающий против всех форм насилия, или человек, сводящий личные счёты с врагами, поэт-повеса или разбойник и проходимец? Всё это вопросы, на которые мы не найдём однозначных ответов. Не было на них ответа и у самого Франсуа.

Я знаю, кто по-щегольски одет,
Я знаю, весел кто и кто не в духе,
Я знаю тьму кромешную и свет,
Я знаю - у монаха крест на брюхе,
Я знаю, как трезвонят завирухи,
Я знаю, врут они, в трубу трубя,
Я знаю, свахи кто, кто повитухи,
Я знаю всё, но только не себя.
Я знаю летопись далеких лет,
Я знаю, сколько крох в сухой краюхе,
Я знаю, что у принца на обед,
Я знаю - богачи в тепле и в сухе,
Я знаю, что они бывают глухи,
Я знаю - нет им дела до тебя,
Я знаю все затрещины, все плюхи,
Я знаю всё, но только не себя.
Я знаю, кто работает, кто нет,
Я знаю, как румянятся старухи,
Я знаю много всяческих примет,
Я знаю, как смеются потаскухи,
Я знаю - проведут тебя простухи,
Я знаю - пропадешь с такой, любя,
Я знаю - пропадают с голодухи,
Я знаю всё, но только не себя.
Я знаю, как на мёд садятся мухи,
Я знаю Смерть, что рыщет, все губя,
Я знаю книги, истину и слухи,
Я знаю всё, но только не себя.
(перевод И. Эренбурга)

Поэзия Франсуа Вийона вся основана на резких диссонансах и парадоксах. Из царства аристократической куртуазии мы переносимся в шумный мир, наполненный терпкими запахами городской жизни, плебейским задором, гомоном улиц и разгулом кабака.

Вийон разрушает традиционное благолепие куртуазной поэзии. Он с беспощадным реализмом показывает изнанку жизни, ее закоулки и мрачные углы.
Ещё одно произведение Вийона, о котором нельзя не сказать, - это баллада «Пляски смерти».

Что такое пляска смерти? Это средневековый обряд, танец, которым заклинали смерть.

В праздники его исполняли на площадях.


Этот танец изображали росписи на стенах часовен: это пляска мёртвых, какую танцевали живые, чтобы выразить свою веру, свой страх и свою надежду. Обряд стал темой, которая привлекала поэтов и художников.

Я знаю бедных и богатых,
И дураков, и мудрецов,
Красавцев, карликов горбатых,
Сеньоров щедрых и скупцов,
Шутов, попов, еретиков,
Дам знатных, служек из собора,
Гуляк и шлюх из кабаков, —
Всех смерть хватает без разбора!

Равенство перед смертью — реванш бедняков. Вийона утешает, что не только он умрет, но и другие тоже, в том числе и богачи, и сильные мира сего. Всех смерть хватает без разбора!

Увы, без толку я речист:
Все исчезает, словно сон!
Мы все живем, дрожа как лист,
Но кто от смерти был спасен?

В этой балладе поэт размышляет о бренности жизни и тщетности всего сущего. Все черепа в могиле равны. Принадлежали ли они могущественным людям или беднякам? Какое это имеет значение? Все в одной земле.
Я вижу черепов оскалы,
Скелетов груды... Боже мой,
Кто были вы? Писцы? Фискалы?
Торговцы с толстою мошной?
Корзинщики? Передо мной
Тела, истлевшие в могилах...
Где мэтр, а где школяр простой,
Я различить уже не в силах.
Здесь те, кто всем повелевал,
Король, епископ и барон,
И те, кто головы склонял,—
Все равны после похорон!
Вокруг меня со всех сторон
Лежат вповалку, как попало,
И нет у королей корон:
Здесь нет господ, и слуг не стало.
Да вознесутся к небесам
Их души! А тела их сгнили,
Тела сеньоров, знатных дам,
Что сладко ели, вина пили,
Одежды пышные носили,
В шелках, в мехах лелея плоть...
Но что осталось? Горстка пыли.
Да не осудит их Господь!

«Меня любилa только мaть»
Менее всего Вийон был аскетом и праведником. Он не отвергает греховного мира и его соблазнов. Его влекут женская любовь, сытная пища и пьянящее вино. При этом его любовные порывы весьма далеки от платонических воздыханий куртуазных поэтов.
Но, надо сказать, у Франсуа были не только девки с постоялых дворов, дебелые трактирщицы и красотки грязных притонов. Была и у него своя Прекрасная дама: Катрин де Воссель. Ей он посвящал совсем другие стихи, исполненные нежной мольбы и страстного чувства:
О нежность, полная жестоких мук,
Вся красота, обманная и злая!
Притворный взгляд, и ласка, и испуг.
Тяжка любовь, и каждый день, пытая,
Меняется и гнёт, и нет ей края.
Гордыня! И глазам меня не жаль,
Они смеются, жалости не зная.
Не отягчай, но утоли печаль!
Нет, лучше бы уйти от этих рук.
Не здесь искать мне отдыха и рая.
Неисцелимый взял меня недуг
И сушит, и томит, не упуская.
Большой и малый видят нас: вздыхая,
Я умираю, раненый. Не сталь
Меня сразила, но любовь слепая.
Не отягчай, но утоли печаль!
Придет пора, и ты, мой нежный друг,
Себя увидишь – желтая, сухая.
Прекрасный цвет ланит – завял он вдруг,
И волосы белеют, выпадая.
Скорее пей же эти воды мая
И приходящего тоской не жаль!
Пока ты свежая и молодая,
Не отягчай, но утоли печаль!

Франсуа бредил этой женщиной. Ради неё рисковал жизнью. А получив отставку — никому не позволял прикоснуться к своей ране. Катрин де Воссель остается тайной для историков. Мы знаем только имя той, которая несомненно была самой главной любовью Франсуа и которая отвечала на его любовь лишь шуточками, публичными оскорблениями и даже побоями. В стихах Вийона её имя появляется лишь как повод для упрёков:
Меня ж трепали, как кудель,
Зад превратили мне в котлету!
Ах, Катерина де Воссель
Со мной сыграла шутку эту.
Вийон любил и был обманут. Катрин де Воссель оставила его ради богатых поклонников. Его голого вытолкали за дверь и поколотили. Свидетелю этой позорной потасовки Ноэлю Жоли Вийон завещает потом 20 ударов хлыста. Возможно, этот Ноэль и был счастливым соперником. Несколько ночей провёл отвергнутый Франсуа за дверью Катрин, предаваясь отчаянью от её низкого коварства. Доверчивый поэт принял пузырь за фонарь, свинью за ветряную мельницу...
Всегда, во всем она лгала,
И я, обманутый дурак,
Поверил, что мука — зола,
Что шлем — поношенный колпак...
Она его завлекла. Она бросала на него нежные взгляды... И оставила его с носом. Вероломная и жестокая, она безжалостно порвала связь, соединявшую их.
Вийон пытается делать вид, что ему всё нипочём. Он скоморошествует, смеётся над собой: в высоком тоне куртуазной поэзии, которая принята в аристократическом обществе, он завещает бывшей возлюбленной своё сердце, - ему оно больше уже не нужно.
Затем.тебе, подруге милой,
Из–за которой вдаль бегу,
Кто радости меня лишила
И мысли спутала в мозгу,
Оставлю сердце. Не могу
Столь тяжкий груз в груди нести!
Оно погибло, я не лгу, -
За это Бог ее прости!
Он не верит в любовь, он столько лет легко обходился без неё, и единственный человек, которому он доверился, открыл своё сердце, его предал.

Послушайте диалог Вийона и Катрин из мюзикла Евгении Хазановой "Француа Вийон или Ты не сможешь остаться" . Музыка Е. Хазановой, стихи Ф. Вийона, перевод Ф. Мендельсона.
Вийон отправляется искать новых приключений, заявив, что идёт «возделывать другие поля». Когда пять лет спустя в 1461 году он возвращается в Париж, то вновь встречает Катрин и узнаёт, что она теперь с другим — и дарит богатому Итье Маршану то, в чём отказала бедному школяру. Маршан — свой человек при дворе Карла Францизского, брата нового короля Людовика 11-го, он дипломат и финансист, а Франсуа — безработный бродяга. Вновь переживая обиду и унижение, поэт пишет:
Но я еще любил тогда
Так беззаветно, всей душою,
Сгорал от страсти и стыда,
Рыдал от ревности, не скрою.
О, если б, тронута мольбою,
Она призналась с первых дней,
Что это было лишь игрою, -
Я б избежал ее сетей!
Увы, на все мольбы в ответ
Она мне ласково кивала,
Не говоря ни «да», ни «нет».
Моим признаниям внимала,
Звала, манила, обещала
Утишить боль сердечных ран,
Всему притворно потакала, -
Но это был сплошной обман.

жертвы Бога любви
Вийону жаль не плотской любви, в которой ему отказала Катрин, он оплакивает их душевную близость, которая оказалась лишь обманом. Ему невыносимо вспоминать об их посиделках, о том терпении, с коим она слушала его бесконечную болтовню.
В отчаянье он бросает ей слова оскорблений:
Тебе же, милая моя,
Ни чувств, ни сердца не дарю я:
Твои привычки помню я,
Ты любишь вещь совсем другую!
Что именно? Мошну тугую:
Кто больше платит, тот хорош!
Грубее, пожалуй, не скажешь. В нём говорит неизжитая обида:
Тебе, по-моему, и так
хватало на парчу и шёлк.
Я раньше мучился, дурак,
но страсти голос нынче смолк.
Но как бы поэт ни проклинал ушедшую от него любовь, сколько бы ни клялся, что «страсти голос нынче смолк», в это трудно поверить. Стал бы он так неистовствовать, если бы ему всё было безразлично...
С горькой проницательностью Вийон извлекает для себя урок:
Любовь и клятвы - лживый бред!
Меня любилa только мaть.
Я отдaл всё во цвете лет,
Мне больше нечего терять.
Влюбленные, я в вaшу рaть
Вступил когдa-то добровольно;
Зaбросив лютню под кровaть,
Теперь я говорю: "Довольно!"
Эти жестокие стихи – месть бывшего любовника Катрин де Воссель, и позднее они будут включены в «Большое завещание»:
Фальшивая душа – гнилой товар,
Румяна лгут, обманывая взор,
Амур нанес мне гибельный удар,
Неугасим страдания костер.
Сомнения язвят острее шпор!
Ужель в тоске покину этот мир?
Алмазный взгляд смягчит ли мой укор?
Не погуби, спаси того, кто сир!
Мне б сразу погасить в душе пожар,
А я страдал напрасно до сих пор,
Рыдал, любви вымаливая дар…
Теперь же что? Изгнания позор?
Ад ревности? Все, кто на ноги скор,
Сюда смотри: безжалостный кумир
Мне произносит смертный приговор!
Не погуби, спаси того, кто сир!
Интересно, прочла ли Катрин когда-нибудь эти стихи? Поняла ли потом, кого потеряла? Пожалела ли?..

Вспоминается Борис Рыжий:
Она откроет голубой альбом,
где лица наши будущим согреты,
где живы мы, в альбоме голубом,
земная шваль: бандиты и поэты...
«Увы, ждёт смерть злодея...»
В 1462 году судьба наносит Франсуа ещё один удар. Однажды холодным декабрьским вечером он с тремя приятелями прогуливался по улице. Они проходили мимо дома одного папского нотариуса, весьма влиятельного лица в городе: священник, адвокат, кандидат канонического права, человек со связями. Этот господин не сделал им ничего плохого, но он был живым символом успеха. У него было всё, у них — ничего.
Им было видно в окно, как в комнате трудились писцы — нотариус заставлял своих писарей трудиться в ночное время, хотя ночной труд был запрещён законом.

Бесшабашным школярам ночь придала храбрости. Они стали подтрунивать над трудягами, в окно полетели шуточки, оскорбления, а один из них даже плюнул в комнату, - до такой степени ему был противен их праведный труд. Писцы, естественно, возмутились и кинулись в драку. Двоих школяров исколошматили, а двое — в том числе и Вийон — бросились наутёк. Но приятеля Франсуа настигли и, защищаясь, он нанёс удар кинжалом нотариусу, ранив его. И хотя тот выжил, и жил ещё довольно долго, он подал жалобу в суд, и школяров арестовали. Всем четверым грозила виселица.

Поначалу Вийон хорохорился, пытался скоморошествовать, писал ёрнические куплеты. Один из них остался в истории его визитной карточкой:
Я - Франсуа, чему не рад.
Увы, ждет смерть злодея,
И сколько весит этот зад,
Узнает скоро шея.
Но скоро ему становится не до шуток. Ужас предстоящей насильственной смерти охватывает Вийона. Вместе с друзьями он подаёт, как водится, апелляцию в парламент. А за несколько дней до казни он пишет другую апелляцию — в форме баллады, которую адресует всему человечеству, единому перед лицом смерти.
На этот раз он уже не смеётся, даже сквозь слёзы. В преддверии смерти поэту открывается истина: все люди — братья, все равны перед Богом, перед гибелью. В балладе звучат то и дело повторяющиеся слова: «братья», «люди», «братья людей». Это новый для него словарь.
У Вийона, который, казалось, столько всего перенёс, была очень ранимая, чувствительная душа. Ему невыносимо было думать о том, как он будет болтаться на виселице, а толпа станет глумиться над его трупом, кидать в него камни, плевать в его мёртвое лицо. - Это было в обычае того времени. Больше, чем палача, он страшится зевак, глазеющих на казнь, страшится насмешек, унижения, позора. Пусть верёвка, но только не издёвка.

Повешение. Гравюра на дереве.
Его предсмертный призыв к людям — это мольба о сострадании, о милости к падшим. Казалось бы, сам Франсуа в своих издевательских стихах столько насмешничал над богатством, злобой, жадностью, лицемерием. Но никогда он не смеялся над чьими-то страданиями, кроме своих собственных.
В ожидании казни Вийон просит рассматривать их смерть как уход из жизни, как трагедию человека, а не как забаву, уличный спектакль. Эта баллада — крик души поэта, взывающего от лица всех повешенных, замученных, убиенных правосудием, моля не о спасении их жизни — о спасении души, об уважении к смерти, к человеческому достоинству.

О люди-братья, мы взываем к вам:
Простите нас и дайте нам покой!
За доброту, за жалость к мертвецам
Господь воздаст вам щедрою рукой.
Вот мы висим печальной чередой,
Над нами воронья глумится стая,
Плоть мертвую на части раздирая,
Рвут бороды, пьют гной из наших глаз:
Не смейтесь, на повешенных взирая,
А помолитесь Господу за нас!
Мы братья ваши, хоть и палачам
Достались мы, обмануты судьбой.
Но ведь никто - известно это вам? -
Никто из нас не властен над собой!
Мы скоро станем прахом и золой,
Окончена для нас стезя земная,
Нам Бог судья! И к вам, живым, взирая,
Лишь об одном мы просим в этот час:
Не будьте строги, мертвых осуждая,
И помолитесь Господу за нас!
Здесь никогда покоя нет костям:
То хлещет дождь, то сушит солнца зной.
То град сечет, то ветер по ночам
И летом, и зимою, и весной
Качает нас по прихоти шальной
Туда, сюда, и стонет, завывая,
Последние клочки одежд срывая,
Скелеты выставляет напоказ:
Страшитесь, люди, это смерть худая!
И помолитесь Господу за нас.
О Господи, открой нам двери рая!
Мы жили на земле, в аду сгорая.
О люди, не до шуток нам сейчас.
Насмешкой мертвецов не оскорбляя,
Молитесь, братья, Господу за нас.
(«Баллада о повешенных», перевод Ф. Мендельсона)
Суд не оправдал его, но и не приговорил к повешению. Приговор Парламента гласил: «Ввиду нечестивой жизни вышеозначенного Вийона следует изгнать на десять лет за пределы Парижа».
8 января 1463 года Франсуа Вийон покинул Париж. На этом обрывается его тёмная биография. С этого дня Вийон навсегда вышел из истории. И вошёл в легенду.

Его приговорили к изгнанию на десять лет, так что в 1473 году он мог бы вернуться. Однако к этому времени никто в городе о нем уже не вспоминал. Поэтому, когда в 1489 году книготорговец Пьер Леве опубликовал «Большое и Малое завещания Вийона и его баллады», в Париже не нашлось ни одного человека, способного похвастаться личным знакомством с уже знаменитым поэтом. А ведь если в ту пору он еще не умер, ему было всего каких-нибудь 58 лет. Но в ту эпоху люди редко доживали до этого возраста.

«О добром вспомни сумасброде...»
Кстати, имя Вийона сохранил для потомков Франсуа Рабле.

Франсуа Рабле
Переделывая в 1550 году четвертую часть «Пантагрюэля», Рабле рассказал, что автор «Завещания», поселившись «на склоне лет» в расположенном в Пуату местечке Сен-Максан, сочинил «на пуатвенском наречии и в стихах мистерию Страстей Господних», которые пишут, дабы повеселить народ на ярмарке. Вполне вероятно, что Вийон и вправду оказался в Пуату и, чтобы заработать на жизнь, принялся развлекать публику. Во всяком случае, на протяжении какого-то времени...

Кровь подлинного средневековья текла в жилах Вийона. Ей он обязан своей цельностью, своим темпераментом, своим духовным своеобразием.
Мы не знаем, как и когда он умер. Но он оставил нам строки своей эпитафии, которую хотел бы видеть на своей могиле:
Прошу, чтобы меня зарыли
В Сент-Авуа - вот мой завет.
И чтобы люди не забыли,
Каким при жизни был поэт,
Пусть нарисуют мой портрет.
Чем? Ну, чернилами, конечно!
А памятник не нужен, нет.
Раздавит он скелет мой грешный.
Пусть над могилою моей,
Уже разверстой предо мной,
Напишут надпись пожирней
Тем, что найдется под рукой.
Хотя бы копотью простой
Иль чем-нибудь в таком же роде.
Чтоб каждый, крест увидев мой,
О добром вспомнил сумасброде:
Здесь крепко спит в земле сырой,
Стрелой Амура поражен,
Школяр, измученный судьбой,
Чье имя - Франсуа Вийон.
Своим друзьям оставил он
Все, что имел на этом свете.
Пусть те, кто был хоть раз влюблен,
Над ним читают строки эти:
РОНДО (ВЕРСЕТ)
Да внидет в рай его душа!
Он столько горя перенес,
Безбров, безус и безволос,
Голее камня-голыша,
Не накопил он ни гроша
И умер, как бездомный пес...
Да внидет в рай его душа!
Порой, на господа греша,
Взывал он: "Где же ты, Христос?"
Пинки под зад, тычки под нос
Всю жизнь, а счастья - ни шиша!
Да внидет в рай его душа!
(перевод Ф. Мендельсона)
Но хотя Вийон был и против установления себе памятника («а памятник не нужен, нет»), он всё же был установлен.

памятник Франсуа Вийону. Утрехт. Нидерланды.
Король поэтов голоштанных, -
Мэтр Франсуа Вийон таков.
Ты заводила свалок пьяных,
Любитель шлюх и кабаков,
Что блещет вкруг твоих висков,
Седых от срама и лишений,
Волшебный ореол стихов,
Плут, сутенёр, бродяга, гений. -
так охарактеризовал его французский поэт Жан Ришпен.
А мне хотелось бы закончить своим стихотворением о Франсуа Вийоне, в котором — и квинтэссенция всего, что я о нём здесь рассказала, и — объяснение в любви самому необыкновенному поэту той легендарной эпохи.

Франсуа Вийон
Кривился королевский двор:
оборван, несуразен, страшен.
Поэт — бандит, мошенник, вор...
Как близок он эпохе нашей!
Как был бы он сейчас под стать
её борделям и притонам.
Хоть вряд ли будут там читать
молитву Франсуа Вийона...
Среди чумных пиров и тризн -
нет лучше дружеской пирушки,
а жизнь — игра, где ставка — жизнь,
не стоящая ни полушки.
Не об идиллии мечтал —
о сытой жизни средь достатка.
И соловью предпочитал
зажаренную куропатку.
От жажды не спасал ручей,
а в голод, как ни резонёрствуй, —
не погнушаешься ничем —
ни шулерством, ни сутенёрством.
Утешась с толстою Марго,
блеснул сатирой на прощанье.
Как он мочил своих врагов
в том знаменитом «Завещанье»!
Дарил подштанники — одним,
другому — тумаки и розги,
всем, всем, кем в жизни был гоним,
сполна он по заслугам роздал!
За оскорблений кипяток,
за униженья — будут знать их!
О месть голодных животов
придворной челяди и знати!
Его притягивало дно.
Подонки общества — не сливки,
но брали всё, что не дано,
тем, что не робки и не хлипки.
И, душу грешную презрев,
он шёл за суетным и бренным.
Манил его богатства блеф,
как сладкогласая сирена.
И вот — тюрьма в Мён-сюр-Луар.
Он — жалкий узник подземелья,
и в страхе ждёт небесных кар.
Какое горькое похмелье!
Клянёт судьбу, звезду Сатурн...
Не плачь, школяр, смирись с судьбою.
За всё, что выстрадано тут,
оправдан будешь там Судьёю.
Там ты напьёшься у ручья,
наешься каплунов и уток.
Там ждёт тебя Катрин твоя,
придворный мир внимает, чуток...
Орфей, разбойник-соловей,
никто для Господа не лишний.
Молитву матери твоей
услышал всё-таки Всевышний.
Забавник, клоун, шалопай,
на всё готов за грошик медный,
но — как он там ни поступай —
вошёл в историю, в легенду.
Он всех просил его простить.
И, поминая время оно,
прошу вас строго не судить
беднягу доброго Вийона.
Я за помин его души
неспешно и благоговейно
сегодня пригублю в тиши
глоток французского глинтвейна.
Когда обидам несть числа,
когда тоскливо и бессонно —
пусть очищает нас от зла
молитва Франсуа Вийона.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/90079.html
|
|
Процитировано 3 раз
"Несравненный Виллон Франсуа..." (продолжение) |
Начало здесь.

Юмор висельника
Франсуа Вийон выглядел в своих куплетах шутом, клоуном, забавником. Он писал так, как пишут, чтобы повеселить народ на ярмарках. Не исключено, что какое-то время он сам подрабатывал актёром в тех фарсах и праздничных мистериях, что устраивались на площадях для бедного люда.

Его юмор — это юмор человека из толпы. Человека, который непрочь позубоскалить над спесью вельмож и чинуш, посмеяться над их позёрством.
Позже его запечатлел в своих комедиях Франсуа Рабле («Адвокат Патлен»), сделав Вийона, как и своего Патлена, фигурой символической, нарицательной.

Франсуа Рабле
Это тип хитреца, шутника, плута и мошенника, скрывающегося под маской простака, высмеивающего городскую знать, совершающего забавные проделки. И, в общем-то, этот образ был близок к истине, к реальному Вийону, который не мыслил жизни без плутовства, уловок и авантюр.

Для него жизнь — игра, увлекательная, но и опасная, способная легко привести на виселицу. Перечисляя в стихах все неправедные и рискованные поступки, которые совершают авантюристы, поэт в конце концов делал вывод, что эта игра не стоит свеч, что так или иначе твоя добыча всё равно превратится в прах:
В какую б дудку ты ни дул,
Будь ты монах или игрок,
Что банк сорвал и улизнул,
Иль молодец с больших дорог,
Писец, взимающий налог,
Иль лжесвидетель лицемерный, –
Где всё, что накопить ты смог?
Всё, всё у девок и в тавернах!
Пой, игрищ раздувай разгул,
В литавры бей, труби в рожок,
Чтоб развеселых фарсов гул
Встряхнул уснувший городок
И каждый деньги приволок!
С колодой карт крапленых, верных
Всех обери! Но где же прок?
Всё, всё у девок и в тавернах!
Пока в грязи не потонул,
Приобрети земли клочок,
Паши, коси, трудись, как мул,
Когда умом ты недалек!
Но всё пропьешь, дай только срок, –
Не верю я в мужей примерных, –
И лен, и рожь, и кошелек –
Всё, всё у девок и в тавернах!
_____
Всё, от плаща и до сапог,
Пока не стало дело скверно,
Скорее сам неси в залог!
Всё, всё у девок и в тавернах.
(«Баллада добрых советов ведущим дурную жизнь»)

То есть неправедно добытое впрок не идёт. Вийон создал своеобразный моральный кодекс шалопаев и мошенников. Он не осуждал их. Так уж устроен человек. Зачем лишать себя удовольствия в этой жизни? Надо стараться извлекать свою выгоду, причём по возможности опережая других: оставить всё у девок и в тавернах — в обманном мире, где всяк норовит тебя надуть — не самое страшное зло. Бедность, нищета как бы смягчают, искупают твою вину, дают в некотором роде индульгенцию на такой образ жизни. Таково кредо Вийона.
Я, видно, грешен, всех грешней,
И смерть не шлет Господь за мною,
Пока грехи души моей
Я в муках жизни не омою.
Но коль раскаюсь я душою
И так приду на Божий суд,
Оправдан буду я судьею
За все, что выстрадано тут.
В качестве единственного своего достоинства Вийон называет отсутствие злобы. Из Евангелия он запомнил предупреждение: «Не судите, да не судимы будете».
Ведь не монах я, не судья,
чтоб у других считать грехи!
У самого дела плохи.
Вийон шокировал благонамеренную публику, прославляя мошенников, умиляясь проституткам и сутенёрам, симпатизируя воришкам и шулерам. Но при этом он честно предостерегал их с высоты своего опыта: живите в своё удовольствие и не теряйтесь в этой жизни, но знайте, - расплата предстоит тяжёлая и, скорее всего, цена окажется намного большей, чем полученная прибыль.
Плутающие в плутнях плуты,
Клянусь: не век вам плутовать.
Пора отсюда когти рвать,
Не то, ручаюсь головою,
Свиданья вам не избежать
С женильщиком и со вдовою.
(«Женильщик» - это тот, кто устраивает свадьбу человека с пеньковой веревкой, на которой вздёргивают преступников).

«Прошу вас строго не судить...»
Снисходительность и доброжелательность поэта к низам общества рождалась из чувства солидарности с людьми, которым в чём-то не повезло. Вийон пишет удивительную надгробную речь в форме баллады за упокой души одного пьяницы — доброго приятеля Франсуа — Котара.

Он приводит того к вратам рая, пытаясь доказать Богу, что место его друга именно там, вспоминая библейские примеры оказавшихся в раю великих пьяниц: Ноя, первого пьяницу, попавшего на скрижали истории, Лота, которого напоили дочери, дабы забеременеть от него, Архетриклина, подававшего в Кане гостям воду вместо вина и т. д. Чем Котар хуже их?

Отец наш Ной, ты дал нам вина,
Ты, Лот, умел неплохо пить,
Но спьяну – хмель всему причина!
И с дочерьми мог согрешить;
Ты, вздумавший вина просить
У Иисуса в Кане старой, –
Я вас троих хочу молить
За душу доброго Котара.
Он был достойным вашим сыном,
Любого мог он перепить,
Пил из ведра, пил из кувшина,
О кружках что и говорить!
Такому б только жить да жить, –
Увы, он умер от удара.
Прошу вас строго не судить
Пьянчугу доброго Котара.
Бывало, пьяный, как скотина,
Уже не мог он различить,
Где хлев соседский, где перина,
Всех бил, крушил – откуда прыть!
Не знаю, с кем его сравнить?
Из вас любому он под пару,
И вам бы надо в рай пустить
Пьянчугу доброго Котара...


содержатель кабака

в кабачке: проверка качества вина.
(фрагмент витража собора в ТУРНЭ. Бельже).
Франсуа Вийон и сам был непрочь выпить. Тогда наиболее распространённым напитком в народе считался глинтвейн.


Чистое вино стоило дорого, и за неимением лучшего беднота предпочитала смеси, надёжно одурманивающие. Глинтвейн был наиболее привелигированным напитком из этой серии. Он отличался приятным вкусом, тонизировал и считался возбуждающим средством. Чем больше его пили, тем больше хотелось.

Хочу поделиться с вами уникальным средневековым рецептом приготовления этого напитка.
Итак, - глинтвейн от Франсуа Вийона, любимого напитка поэта:

Для приготовления порошка глинтвейна возьмите четверть фунта (50 г) очень мелко помолотой корицы, унцию (29 г) белого мелко помолотого межхедского имбиря, унцию райского семени, 6 мускатных орехов и 6 головок гвоздики. Перетолките всё вместе. Когда пожелаете сделать глинтвейн, возьмите чуть больше пол-унции (15 г) этого порошка и полфунта (200г) сахара. Смешайте с парижской квартой вина (около литра или литр с небольшим).
Напиток подавался горячим. Его пили при любовных утехах.
Вийон представил его в стихах как одно из непременных условий эротического блаженства.
Толстяк монах, обедом разморенный,
Разлегся на ковре перед огнем,
А рядом с ним блудница, дочь Сидона,
Бела, нежна, уселась нагишом;
Горячим услаждаются вином,
Целуются, — и что им кущи рая!
Монах хохочет, рясу задирая…
На них сквозь щель я поглядел украдкой
и отошёл, от зависти сгорая:
живётся сладко лишь среди достатка.
Средневековое правосудие
У Вийона этого достатка никогда не было. Нам известно, что в 1457 — 1461 годах он был обыкновенным бродягой. В этот период его средства к существованию сомнительны. Промышляя всякими уловками, иногда прибегая к мошенничеству, Франсуа не гнушается и воровством, и сводничеством-сутенёрством, участвует в ночных вылазках, в каких-то авантюрах, и это в конце концов приводит его в тюрьму. А впервые он попал туда в 24 года, когда в нелепой драке убил священника.

Вот на этой миниатюре изображена сцена убийства — не этого, конечно, конкретно, а убийства вообще.
Если верить объяснениям Вийона, нападавших было двое, и они были вооружены. Священник ударил его кинжалом и рассёк губу, а Франсуа, защищаясь, швырнул в него камнем. Удар оказался смертельным.

Так ли это было на самом деле, что послужило причиной драки — спор из-за женщины? Карточный долг? Кража? - этого мы уже никогда не узнаем. Риск попасть на виселицу за убийство был весьма велик. Тогда суд был коротким: либо королевское помилованье — либо виселица. Тюремное заключение практиковалось редко.

средневековый суд
На этой миниатюре изображена сцена заседания средневекового суда. Судья (в центре) в присутствии заседателей произносит приговор. Осуждённого (справа) в одной рубахе тут же тащат на виселицу. Это же грозило и Вийону. Но ему повезло: он был помилован королём Франции, сумев убедить правосудие, что действовал в пределах необходимой обороны. (Видимо, участие в университетских диспутах, в состязаниях в ораторском искусстве не прошли даром). Возможно, сыграло роль и его творчество — тогда многие уже понимали, кто такой Вийон, в Париже им дорожили.
Этот 1456 год стал годом второго рождения Вийона. Однако поэт не оправдал оказанного доверия. Выйдя на свободу, он снова начал вести бродяжий образ жизни, завёл друзей среди тех, кто был не в ладах с законом. И именно в том 1456 году Франсуа де Монкорбье больше не упоминается в личных бумагах Вийона: он берёт себе фамилию приёмного отца и для себя, и для всех остальных отныне окончательно превращается в поэта Франсуа Вийона.

В год века пятьдесят шестой
Я, Франсуа Вийон, школяр,
Бег мыслей придержав уздой
И в сердце укротив пожар,
Хочу свой стихотворный дар
Отдать на суд людской, — об этом
Писал Вегеций, мудр и стар, —
Воспользуюсь его советом. -
так он окончательно определил свою стезю. Быть поэтом. Поэтом-бродягой.

Молитва Франсуа Вийона
Если судить по многим стихам Вийона, в частности, воздающим посмертные почести пьянчуге Котару, «пристроенному» им в раю, можно подумать, что поэт был неверующим. Создавалось впечатление, что он вообще не принимал ничего всерьёз, что для него не было ничего святого. Если бы... не сочинённая им баллада «Молитва Богоматери». Она написана им от лица своей матери, чьё им нам неизвестно. Бедная неграмотная женщина, она молилась Богоматери, сокрушаясь из-за выходок непутёвого сына, живя в ожидании смерти. Ей, вероятно, было тогда лет 50. В то время, когда люди едва доживали до тридцати, это была глубокая старость.

О дева-мать, владычица земная,
Царица неба, первая в раю,
К твоим ногам смиренно припадаю:
Пусть я грешна, прости рабу твою!
Прими меня в избранников семью!
Ведь доброта твоя, о мать святая,
Так велика, что даже я питаю
Надежду робкую тебя узреть
Хоть издали! На это уповаю,
И с верой сей мне жить и умереть.
Я женщина убогая, простая.
Читать не знаю я. Меня страшат
На монастырских стенах кущи рая.
Где блещут арфы и под раем ад,
Где черти нечестивцев кипятят.
Сколь радостно в раю, сколь страшно ада
Среди костров, и холода, и глада!
К Тебе должны бежать и восхотеть
Твоих молений и Твоей ограды.
Хочу в сей вере жить и умереть...
По существу, молится здесь сам Вийон, прикрывшись фигурой старушки, чтобы никто не догадался, что у «сурового мужчины» нежное сердце. Он писал эту молитву для себя в минуту тоски и отчаяния. Вера, которой наделяет свою мать непутёвый сын — вера безыскусная, исполненная живого чувства, отличавшаяся от той, что изложена языком теологических доктрин. И именно такую веру обретал Вийон, когда думал о матери. А, может быть, и так, что о матери он вспоминал, когда обретал веру.

Для матери молитва скреплена,
чтоб прославлять Заступницу отныне.
Бог знает, сколько вынесла она,
простая женщина, скорбя о сыне.
Нет мне убежища, иной твердыни!
Но плоть мою и душу может ограждать
средь множества печалей и уныний
старуха бедная — и это мать!
Наверное, под впечатлением этой искренней простосердечной молитвы была написана знаменитая окуджавская песня «Молитва Франсуа Вийона».

Пока Земля ещё вертится, пока ещё ярок свет,
Господи, дай же ты каждому чего у него нет.
Умному дай голову, трусливому дай коня,
Дай счастливому денег и не забудь про меня.
Пока Земля ещё вертится, Господи, твоя власть,
Дай рвущемуся к власти навластвоваться всласть.
Дай передышку щедрому хоть до исхода дня,
Каину дай раскаянье и не забудь про меня.
Я знаю, ты всё умеешь, я верую в мудрость твою,
Как верит солдат убитый, что он проживает в раю.
Как верит каждое ухо тихим речам твоим,
Как веруем и мы сами, не ведая, что творим.
Господи, мой Боже, зеленоглазый мой,
Пока Земля ещё вертится и это ей странно самой.
Пока ещё хватает времени и огня,
Дай же ты всем понемногу и не забудь про меня.
Дай же ты всем понемногу и не забудь про меня.

Прекрасная песня, хотя содержание её к Вийону никакого отношения не имеет. Это молитва самого Окуджавы, но тогда религия была под запретом, не допускалась советской идеологией, поэтому Окуджава с целью конспирации прикрылся здесь именем средневекового поэта (точно так же и по этой же причине в словах «Ах, Арбат, ты — моя религия» пел «ты, моя реликвия»).
«И лишь влюблённый мыслит здраво»
Франсуа Вийон был клириком, а клирики считались женоненавистниками. Вероятно, из-за того, что клирик был обречён на безбрачие. А может быть, и наоборот: клириками становились женоненавистники. Правило это действовало в обоих направлениях. Вийон здесь не был исключением. Его взгляд на женщин не был лучезарным, он не видел в них ничего хорошего. Поэт повествует без прикрас о том, как величайших героев истории губили женщины. По вине женщины согрешил царь Давид, а Ирод совершил гнусный поступок.
Давид, желаньем подогретый,
Сверканьем ляжек ослеплен,
Забыл скрижали и заветы…
Под звуки сладостных куплетов
Был Иродом Иоанн казнен
Из-за язычницы отпетой…
Орфей, печальный менестрель,
Покорный глупому обету,
Сошел, дудя в свою свирель,
В Аид из-за любви к скелету;
Нарцисс, — скажу вам по секрету:
Красив он был, да не умен!
Свалился в пруд и канул в Лету.
Как счастлив тот, кто не влюблен!
Взгляд Вийона на любовь трезв, циничен и абсолютно пессимистичен, ибо он просто не располагал средствами, позволявшими тогда смотреть на мир иначе. Отчётливо этот пессимизм выразился в его «Балладе истин наизнанку», где Вийон обличает отсутствие всякого смысла и логики в мироздании.
Мы вкус находим только в сене
И отдыхаем средь забот,
Смеемся мы лишь от мучений,
И цену деньгам знает мот.
Кто любит солнце? Только крот.
Лишь праведник глядит лукаво,
Красоткам нравится урод,
И лишь влюбленный мыслит здраво.
Лентяй один не знает лени,
На помощь только враг придет,
И постоянство лишь в измене.
Кто крепко спит, тот стережет,
Дурак нам истину несет,
Труды для нас - одна забава,
Всего на свете горше мед,
И лишь влюбленный мыслит здраво.
Кто трезв, тем море по колени,
Хромой скорее всех дойдет,
Фома не ведает сомнений,
Весна за летом настает,
И руки обжигает лед.
О мудреце дурная слава,
Мы море переходим вброд,
И лишь влюбленный мыслит здраво.
Вот истины наоборот:
Лишь подлый душу бережет,
Глупец один рассудит право,
Осел достойней всех поет,
И лишь влюбленный мыслит здраво.
(перевод И. Эренбурга)
Нет ничего истинного в этом мире, как бы хочет сказать Вийон всеми этими парадоксами.
(Поэт Владимир Корнилов нашёл эти строки весьма актуальными, созвучными нынешнему состоянию нашего общества, которое не менее пессимистично, чем в средние века, и написал в 1999 году вот такое «Подражание Вийону»:
Жизнь безобразнее стихов,
Грехи прекрасней добродетели,
Низы опаснее верхов,
Несчастней киллеров свидетели.
Всего огромнее — чуть-чуть,
Всего свободнее в империи…
Особый у России путь
И полное в него неверие.)
Поэзия Франсуа Вийона носит принципиально не возвышенный характер. Пастораль, элегии, буколлическая идиллия — распространённые жанры этого времени — всё это чуждо ему.

Луна, розы, соловьи и прочие «нейтральные» предметы бесповоротно исключены из его поэтического обихода. Франсуа — реалист, скептик, прагматик. Зима для него — это не белое безмолвие, а отмороженные ноги. Соловью в райских кущах он предпочтёт жареную куропатку под соусом.
Вийон полемизирует с известным поэтом-романтиком Гонтье, который играет на лютне своей возлюбленной Елене под кустом шиповника, проповедуя рай в шалаше. Вийон заявляет, что он предпочитает другие радости и в другом месте.
Когда б Гонтье, с Еленой обрученный,
Был с этой жизнью сладкою знаком,
Он не хвалил бы хлеб непропеченный,
Приправленный вонючим чесноком.
Сменял бы на горшок над камельком
Все цветики и жил бы не скучая!
Ну что милей: шалаш, трава сырая
Иль теплый дом и мягкая кроватка?
Что скажете? Ответ предвосхищаю:
Живется сладко лишь среди достатка.
Лишь воду пить, жевать овес зеленый
И круглый год не думать о другом?
Все птицы райские, все рощи Вавилона
Мне не заменят самый скромный дом!
Пусть Франк Гонтье с Еленою вдвоем
Живут в полях, мышей и крыс пугая,
Вольно же им! У них судьба другая.
Мне от сего не кисло и не сладко;
Я, сын Парижа, здесь провозглашаю:
Живется сладко лишь среди достатка!

Среди пышной риторики тогдашней французской поэзии поэзия Вийона отличалась простотой здравого смысла и отражением грубой сути жизни. Он не признавал тех форм рыцарской любви, обставленной тысячами условностей, что диктовали каноны куртуазной поэзии.
А. Дюрер. «Прогулка». Гравюра, 1496 г.
На этой гравюре А. Дюрера изображён рыцарь, вассал своей дамы сердца, который с трепетом заглядывает в лицо возлюбленной: осчастливит ли она его благосклонной улыбкой или сразит безразличием гордой красавицы.
Вийон же смотрел на любовь утилитарно и воспринимал её как праздник одного вечера, а не трагедию всей жизни. Ему близок совсем другой характер отношений, вот как на другой гравюре того же Дюрера.

А. Дюрер «Танцующие крестьяне». 1514 г. Гравюра на меди.
Вот это мир Франсуа Вийона, это близкие ему типажи. Вийон был певцом той низкой стороны любви, которую пытались игнорировать его предшественники трубадуры. Например, он мог восхвалять увядшие прелести толстой проститутки Марго, напрямик заявлять, что любовь с пустым животом оставляет желать лучшего.
Ещё до Рабле, сделавшего потом реализм достоянием интеллектуальной словесности, Вийон стал наиболее ярким представителем того веристского течения народной литературы, где не стыдились употреблять любые слова и где ситуации и вещи выглядели и пахли так же, как в жизни. Это объяснялось особенностями эпохи: бесконечные войны, эпидемии чумы приучили людей смотреть прямо в глаза жизни и смерти, жить бок о бок с мерзостями, от которых нельзя отгородиться.

И у любви в этом мире обличье тоже было грубое, а порой даже страшное или гадкое.
Женоненавистничество тогдашней интеллигенции, отразившееся в трактатах и песнях, частично объяснялось и тем, что профессиональные жрицы любви стоили дорого и были по карману только зажиточным слоям населения, к коим не принадлежали ни подмастерье, ни клирик-школяр. Так что это было как «зелен виноград» у Крылова. Вийон мог попасть в бордель лишь в качестве компаньона «толстухи Марго», то есть её сутенёра. Об этой неприглядной стороне жизни поэта повествует его «Баллада о толстухе Марго».
Франсуа предстаёт в ней как маргинальная личность. Он потворствует изменам жены и уходит из комнаты — в погреб за вином или куда ещё — на то время, пока жена развлекалась или зарабатывала деньги в супружеской постели. А в перерывах между клиентами он её любит сам и не видит в этих плотских утехах ничего предосудительного. Таковы были времена и нравы.

Слуга и «кот» толстухи я, но, право,
Меня глупцом за это грех считать:
Столь многим телеса ее по нраву,
Что вряд ли есть другая ей под стать.
Пришли гуляки - мчусь вина достать,
Сыр, фрукты подаю, все, что хотите,
И жду, пока лишатся гости прыти,
А после молвлю тем, кто пощедрей:
«Довольны девкой? Так не обходите
Притон, который мы содержим с ней».
Но не всегда дела у нас на славу:
Коль кто, не заплатив, сбежит, как тать,
Я видеть не могу свою раззяву,
С нее срываю платье и - топтать.
В ответ же слышу ругань в бога мать
Да визг: «Антихрист! Ты никак в подпитье?» -
И тут пишу, прибегнув к мордобитью,
Марго расписку под носом скорей
В том, что не дам на ветер ей пустить я
Притон, который мы содержим с ней.
Но стихла ссора - и пошли забавы.
Меня так начинают щекотать,
И теребить, и тискать для растравы,
Что мертвецу - и то пришлось бы встать.
Потом пора себе и отдых дать,
А утром повторяются событья.
Марго верхом творит обряд соитья
И мчит таким галопом, что, ей-ей,
Грозит со мною вместе раздавить и
Притон, который мы содержим с ней.
В зной и в мороз есть у меня укрытье,
И в нем могу - с блудницей блудник - жить я.
Любовниц новых мне не находите:
Лиса всегда для лиса всех милей.
Отрепье лишь в отрепье и рядите -
Нам с милой в честь бесчестье... посетите
Притон, который мы содержим с ней.
(перевод Ю. Корнеева)

Действительно ли Вийон жил на средства, заработанные толстухой Марго? Нам ничего об этом неизвестно, неизвестно даже, была ли Марго реальной женщиной или просто вывеской на доме: близ Собора Парижской Богоматери стоял дом, гостиница с вывеской «Толстая Марго», - вертеп, находящийся там и после того, как Вийон и его любовные дела ушли в прошлое.

Нотр-Дам де Пари в средние века
Сейчас на месте той гостиницы — ресторан «Серебряная башня». Открыт в 1780 году.


башня «Толстая Маргарита» в Таллинне
"О, увяданья час злосчастный!"
Вийон не страдал щепетильностью в вопросах морали. Вообще отношение к публичным женщинам в обществе было тогда весьма лояльным. Их считали распутницами, но зла на них не держали. Лица, наблюдавшие за общественным порядком, старались концентрировать «девочек» в нескольких горячих точках, на нескольких улицах, где проституция разрешалась с утра до вечера, а с наступлением ночи за неё штрафовали. Бордели при тавернах либо в домах имелись в каждом квартале. К злачным местам относились и бани, где можно было и помыться, и найти девиц лёгкого поведения.
Бани средневековья. Миниатюра 15 века. Лейпциг.
Вийон был женоненавистником по отношению к женщинам мещанского сословия или особам знатного рода, пренебрегавшим им, но к женщинам низшего круга, дарившим или продававшим ему себя, он был полон сочувствия и даже сострадания. Он не осуждал их: жизнь сделала их такими.
О судьбе одной из таких женщин повествует баллада Ф. Вийона «Прекрасная оружейница» (в других переводах - «шлемница»). Баллада представляет собой довольно темпераментный монолог реальной женщины, считавшейся в Париже начала 15 века личностью весьма популярной. Пятьдесят лет спустя от былой красавицы осталась лишь тень, и если в молодости она благодаря своей красоте могла держать в своей власти мужчин, то пришедшая старость отняла у неё это главное оружие.
Сохранились бумаги, свидетельствующие, что прекрасная Шлемница – реальное историческое лицо; родилась она около 1375 года, Вийон мог знать ее глубокой старухой.

старуха, оплакивающая молодость. Гравюра на дереве. 1489г.
Мне никогда не позабыть
Плач Оружейницы Прекрасной,
Как ей хотелось юной быть
И как она взывала страстно:
"О, увяданья час злосчастный!
Зачем так рано наступил?
Чего я жду? Живу напрасно,
И даже умереть нет сил!
Ведь я любого гордеца
Когда-то сразу покоряла,
Купца, монаха и писца,
И все, не сетуя нимало,
Из церкви или с кружала
За мной бежали по пятам,
Но я их часто отвергала,
Впадая в грех богатых дам.
Я чересчур была горда,
О чем жестоко сожалею,
Любила одного тогда
И всех других гнала в три шеи,
А он лишь становился злее,
Такую преданность кляня;
Теперь я знаю, став умнее:
Любил он деньги, не меня!
Но он держал меня в руках,
Моею красотой торгуя.
Упреки, колотушки, страх -
Я все прощала, боль любую;
Бывало, ради поцелуя
Я забывала сто обид...
Доныне стервеца люблю я!
А что осталось? Грех и стыд.
(«Жалобы Прекрасной Оружейницы», пер. Ф. Мендельсона)

Любовник её умер, и на свете не осталось ни одного человека, который хранил бы ей признательность за былые радости.
Он умер тридцать лет назад,
И я с тоскою понимаю,
Что годы вспять не полетят
И счастья больше не узнаю.
Лохмотья ветхие снимая,
Гляжу, чем стала я сама:
Седая, дряхлая, худая...
Готова я сойти с ума!
Что стало с этим чистым лбом?
Где медь волос? Где брови-стрелы?
Где взгляд, который жег огнем,
Сражая насмерть самых смелых?
Где маленький мой носик белый,
Где нежных ушек красота
И щеки - пара яблок спелых,
И свежесть розового рта?
Где белизна точеных рук
И плеч моих изгиб лебяжий?
Где пышных бедер полукруг,
Приподнятый в любовном раже,
Упругий зад, который даже
У старцев жар будил в крови,
И скрытый между крепких ляжек
Сад наслаждений и любви?
На все эти вопросы, которые задаёт себе женщина, безжалостно отвечает старость:
В морщинах лоб, и взгляд погас,
Мой волос сед, бровей не стало,
Померкло пламя синих глаз,
Которым стольких завлекала,
Загнулся нос кривым кинжалом,
В ушах - седых волос кусты,
Беззубый рот глядит провалом,
И щек обвисли лоскуты...
И не менее, чем к лицу, сурово зеркало времени к телу.
Вот доля женской красоты!
Согнулись плечи, грудь запала,
И руки скручены в жгуты,
И зад и бедра - все пропало!
И ляжки, пышные бывало,
Как пара сморщенных колбас...
А сад любви? Там все увяло.
Ничто не привлекает глаз.

Тема эта — сожаления об ушедшей молодости была очень распространена в литературе того времени, но только Вийону удалось сквозь грубоватый юмор, сквозь фарс выразить жалость к этой бывшей красавице, к этой утраченной, никому не нужной жизни, показать настоящую трагедию женской судьбы. Гений Вийона заключался не в мысли, весьма расхожей и банальной, он проявился в языке, в отточенных формулировках, ритме фразы, умении выбрать самое верное слово.
Франсуа своими глазами видел эту «оружейницу», сидевшую на пороге дома со своими подругами-старухами, которая жаловалась им на промелькнувшую молодость. Эта сцена растрогала поэта и вдохновила на написание этой баллады.
Так сожалеем о былом,
Старухи глупые, седые,
Сидим на корточках кружком,
Дни вспоминаем золотые, -
Ведь все мы были молодые,
Но рано огонек зажгли,
Сгорели вмиг дрова сухие,
И всех нас годы подвели!"

О. Роден "Та, которая была прекрасной Ольмие"
«Оружейница» даёт наставления молодым девушкам: пользуйтесь своей молодостью, своим капиталом без промедления. Пройдут годы, и она будет стоить не больше, чем стёртая монета.

Внимай, ткачиха Гийометта,
Хороший я даю совет,
И ты, колбасница Перетта, –
Пока тебе немного лет,
Цени веселый звон монет!
Лови гостей без промедленья!
Пройдут года – увянет цвет:
Монете стертой нет хожденья.
Пляши, цветочница Нинетта,
Пока сама ты как букет!
Но будет скоро песня спета,
Закроешь дверь, погасишь свет…
Ведь старость – хуже всяких бед!
Как дряхлый поп без приношенья,
Красавица на склоне лет:
Монете стертой нет хожденья.
Франтиха шляпница Жанетта,
Любым мужчинам шли привет,
И Бланш, башмачнице, про это
Напомни: вам зевать не след!
Не в красоте залог побед,
Лишь скучные – в пренебреженье,
Да нам, старухам, гостя нет:
Монете стертой нет хожденья.
И — последний куплет, как крик тоски:
Эй, девки, поняли завет?
Глотаю слезы каждый день я
Затем, что молодости нет:
Монете стертой нет хожденья.
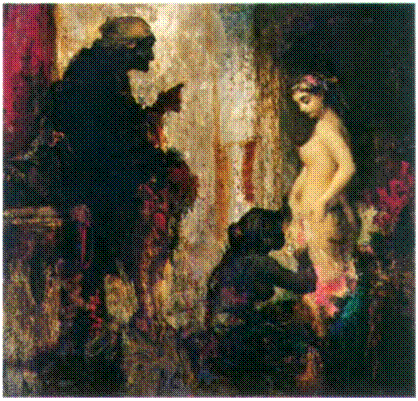
«Баллада о прекрасной оружейнице» - в какой-то степени отражение собственных страхов Вийона по поводу уходящей молодости. Ему было тридцать лет, он был одинок, ему не хватало заботы и любви. И он очень страшился будущей одинокой старости.
Мне жалко молодые годы,
Хоть жил я многих веселей
До незаметного прихода
Печальной старости моей;
Не медленной походкой дней,
Не рысью месяцев, — умчалась
На крыльях жизнь, и радость с ней,
И ничего мне не осталось.

Старость у Вийона – это конец жизни. Время, говорит он, вслед за пророком Иовом, исходит как горящая нить. Ничто не вечно в этом так гнусно устроенном мире. Час удовольствий минует. Приходит печаль, и воцаряется нищета. И в конце – смерть. В страхе перед одинокой старостью Вийон даже начинал подумывать о самоубийстве.
Ничто не вечно под луной,
Как думает стяжатель-скряга,
Дамоклов меч над головой
У каждого. Седой бродяга,
Тем утешайся! Ты с отвагой
Высмеивал, бывало, всех,
Когда был юн; теперь, бедняга,
Сам вызываешь только смех.
Был молод – всюду принят был,
А в старости – кому ты нужен?
О чем бы ни заговорил,
Ты всеми будешь обессужен;
Никто со стариком не дружен,
Смеется над тобой народ:
Мол, старый хрен умом недужен,
Мол, старый мерин вечно врет!
Пойдешь с сумою по дворам,
Гоним жестокою судьбою,
Страдая от душевных ран,
Смерть будешь призывать с тоскою,
И если, ослабев душою,
Устав от страшного житья,
Жизнь оборвешь своей рукою, -
Что ж делать! Бог тебе судья!

Окончание здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post214540288/
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/89341.html
|
|
Процитировано 3 раз
Понравилось: 2 пользователям
"Несравненный Виллон Франсуа...» |

Начало здесь.
Предположительно 1 апреля 1431 года родился Франсуа Вийон — гениальный средневековый поэт Франции.
Итак, Франция 15 века.
вид на средневековый Париж с Монмартра
Вот уже почти 100 лет идёт война, которую потом потомки окрестят Столетней — многолетний поединок между французскими и английскими королями и феодалами за землю и власть.
битва при Пате. Рис. 15 века
В 1431 году будет сожжена в Руане Жанна д,Арк.

И в этом же году в Париже родится мальчик по имени Франсуа Монкорбье, будущий знаменитый поэт Франции Франсуа Вийон.

Спустя тридцать лет он напишет о себе:
Я бедняком был от рожденья
и вскормлен бедною семьёй.
Отец не приобрёл именья,
и дед Орас ходил босой.
Отец умер, когда Франсуа был ещё ребёнком. Вдова осталась без средств, не в силах одна прокормить сына. Мальчика берёт под опеку магистр Гийом де Вийон, священник монастырской церкви (впоследствии Ф. Монкорбье взял себе имя своего отчима). По собственному признанию Вийона, старый каноник был для него «больше, чем матерью». Он всю жизнь хранил о нём благодарную память, о чём писал и в стихах, в частности, своём «Завещании».
Когда Франсуа исполнилось 13 лет — в 1444 году он поступил в университет на факультет словесных наук.

средневековый университет
Его тогда ещё называли артистическим факультетом. Это была как бы низшая ступенька, обязательная для всех студентов университета. Обучение включало две стадии: тривиум, где изучались грамматика, диалектика и риторика, и квадриум (арифметика, геометрия, астрономия и музыка).

Окончивший артистический факультет (или факультет свободных искусств, как он ещё назывался), мог поступить на один из трёх «старших» факультетов: юридический, медицинский или богословский. Студентам (их называли школярами) давали стипендию, жильё, кормили.
В жизни юных школяров было немало хорошего: свои библиотеки, столовые... Ночью и по выходным они располагались в классных комнатах, устраивали там пирушки, попойки, приводили девиц. Эти школьные заведения порой напоминали бордели.
Послушайте песню — не на стихи Вийона, а другого неизвестного французского автора 13 века — ваганта (так называли средневековых бардов и менестрелей). Она очень хорошо передаёт атмосферу средневековой школярской жизни — с её весёлыми пирушками, друзьями-подружками, зубрёжками и прочими атрибутами студенчества, вечными во все времена. Это монолог будущего школяра, который уезжает в Париж поступать в университет и прощается с прежней вольной беззаботной жизнью.
Музыка Д. Тухманова, перевод Л. Гинзбурга, исполняет Игорь Иванов и вокальная группа ансамбля «Надежда»:
http://rutube.ru/tracks/330501.html
Во французской стороне
На чужой планете,
Предстоит учиться мне
В университете.
До чего тоскую и, -
не сказать словами...
Плачьте ж милые друзья,
Горькими слезами.
На прощание пожмем
Мы друг другу руки,
И покинет отчий дом
Мученик науки.
Вот стою, держу весло -
Через миг отчалю.
Сердце бедное свело
Скорбью и печалью...
Тихо плещется вода,
Голубая лента...
Вспоминайте иногда
Вашего студента.
Много зим и много лет
Прожили мы вместе,
Сохранив святой обет
Верности и чести.
Ну так будьте же всегда
Живы и здоровы!
Верю, день придет, когда
Свидимся мы снова.
Всех вас вместе соберу,
Если на чужбине
Я случайно не помру
От своей латыни.
Если не сведут с ума
Римляне и греки,
Сочинившие тома
Для библиотеки.
Если те профессора,
Что студентов учат,
Горемыку школяра
Насмерть не замучат,
Если насмерть не упьюсь
На хмельной пирушке,
Обязательно вернусь
К вам, друзья, подружки!
Вот стою, держу весло -
Через миг отчалю.
Сердце бедное свело
Скорбью и печалью.
Тихо плещется вода,
Голубая лента...
Вспоминайте иногда
Вашего студента.

В XIII-м веке в Париже возник один из старейшийх в Европе университетов. Школяры учились и селились на левом берегу Сены, прямо напротив Нотр-Дама. Всё обучение шло на латыни и место это стали называть Латинским кварталом.
Вы видите средневековый Париж: Нельский дворец и знаменитую башню. Эта башня была построена на левом берегу Сены и входила в систему старых укреплений Парижа.
Эти сооружения 14 века были снесены лишь в 1663 году и на их месте сейчас находится здание французского университета. А в то время по завещанию бургундской королевы в Нельском дворце (здание слева) обосновался Дом студента, превратившийся впоследствии в знаменитый Бургундский коллеж.
С этой Нельской башней связана одна зловещая история. В 1332 году правил король Франции Филипп Шестой Валуа.

Он передал Нельский дворец своей супруге Жанне Бургундской, прозванной в народе Хромоножкой. Некрасивая, хромая, злобная и порочная, она заманивала с помощью своих помощников в свои покои молодых студентов, проводила с ними ночь, а утром надёжные слуги убивали несчастного и сбрасывали с башни в Сену, зашив в мешок. Положение королевы Франции позволяло Хромоножке избежать кары за совершённые преступления.

Жанна Бургундская (Хромоножка)
Франсуа Вийон отразил этот факт в своей «Балладе о дамах былых времён» (перевод Ф. Мендельсона):
Где королева, чьим веленьем
злосчастный Буридан казнён,
зашит в мешок, утоплен в Сене?
Но где снега былых времён?..
«Злосчастный Буридан», о котором пишет Вийон, был в то время ректором Парижского университета, ему было около тридцати лет. Спустя столетие Франсуа, видимо, почерпнул этот факт в студенческой среде.
Но вернёмся в 15 век к нашему герою, в университет, где мы его оставили. Учёба на факультете свободных искусств сводилась в основном к чтению вслух и комментированию трудов Аристотеля, Боэция и других учёных, философов и теологов того времени.

Миниатюра «Школяры слушают урок».
А в качестве практических занятий проводились диспуты. Там можно было выступать по любому поводу и говорить о чём угодно. Побеждал на них не самый знающий, а самый хитрый, находчивый, остроумный, так как целью упражнения было не столько углубление знаний, сколько состязание в ораторском искусстве, причём такое, где главное — не убедительный аргумент, а умение не лезть за словом в карман.
Франсуа де Монкорбье обладал этими способностями. Он сдал без труда экзамены и в 18 лет стал бакалавром словесных наук, а в 21 — магистром. Но на этом его карьера остановилась. Учиться дальше на юриста, медика или богослова (на это потребовалось бы ещё от шести до четырнадцати лет) Франсуа не хотелось, он был ленив и нетерпелив. Тогда пользовалась спросом работа переписчика и какое-то время он подрабатывал этим ремеслом.
В 40-е годы 15 столетия читатели располагали лишь книгами, переписанными от руки, и очень ценились хорошие копии, не искажающие текст и не утомляющие глаза. В те времена ещё никто не знал, что в Страсбурге в изгнании живёт один майнцский гравёр и изобретает типографский шрифт, которому суждено будет в корне изменить древний способ распространения человеческих знаний.
Каллиграф. Миниатюра 15 века.
улица с лавочками суконщика, скорняка
Франсуа мог бы стать торговцем или ремесленником, но, чтобы процветать в этой области, нужны были деньги и связи, чего у него не было. А чтобы бедному клирику без связей и поддержки продвигаться по службе, нужно было не раз и не два обращаться с письменной просьбой к какому-нибудь крупному чиновнику, вельможному епископу, - распорядителю духовных мест.
А я пока что напишу
письмо коллеге-казначею,
взять на хлеба их попрошу:
ведь нету школяров беднее!
Но письма Вийона, как правило, оставались без ответа. Надежды на карьеру не оправдались. Он мог бы оказаться в компании магистров, поднявшихся в чинах, как многие его бывшие однокашники, однако оказался в компании бродяг и оборванцев. Спустя годы Вийон вспоминал друзей-школяров, с которыми вместе когда-то проказничали, веселились, ухаживали за девушками. Где они все? Как сложились их судьбы?
Где щеголи минувших дней,
С кем пировал я в кабаках,
Кто пел и пил и был смелей
Других в сужденьях и делах?
Из тех, кто жив, одни в чинах -
Мошна тугая, чести много, -
Другие — в продранных штанах
Объедков просят у порога,
А третьи прославляют Бога,
Под рясами жирок тая,
И во Христе живут не строго, -
Судьба у каждого своя.
Себя Франсуа определил так:
Голее камня-голыша,
не накопил он ни гроша.
А сам — не сливками вскормлён,
а тощ и чёрен, как голик,
деньгами скудно наделён,
предела бедности достиг.
Мы не располагаем в силу давности времени фотографией Вийона, но можем приблизительно представить себе его портрет по его стихам. Он не заботится о том, чтобы выставить себя красавцем, и видит себя маленьким, темноволосым и невзрачным. Вот как описывал его (представлял себе) Мандельштам: «Сухой и черный, безбровый, худой, как Химера, с головой, напоминавшей, по его собственному признанию, очищенный и поджаренный орех, пряча шпагу в полуженском одеянии студента, - Виллон жил в Париже как белка в колесе, не зная ни минуты покоя. Он любил в себе хищного, сухопарого зверька и дорожил своей потрепанной шкуркой». (Он же дал и такой стихотворный портрет Вийона: «Наглый школьник и ангел ворующий, несравненный Виллон Франсуа...» ) Давайте сравним это описание с рисунком И. Кускова (фрагмент его картины «Франсуа Вийон в тюрьме»).

Худое измождённое лицо, глаза много пережившего человека, в которых светятся мудрость и печаль, губы, тронутые лукавой усмешкой — таков здесь - несколько опоэтизированный — образ Вийона. В своём знаменитом «Завещании» поэт говорит о своей жизни как о блуждании по пыльной дороге. Его судьба была скитанием изгнанного отовсюду оборванца, зарабатывавшего себе на жизнь выполнением подённой работы от случая к случаю, трудом каменщика, чернорабочего, подавальщика. В стихах он жалуется на свою Фортуну, что та плохо обходится с ним. А та будто бы ему отвечает:
Я прозвана Фортуною была,
А ты, Вийон, зовешь меня убийцей —
К лицу ли мне подобная хула?
И не таким, как ты, чтоб прокормиться,
Пришлось в каменоломнях потрудиться,
С какой же стати мне тебя жалеть?
Ты не один — всем суждено терпеть.

аллегорическое изображение фортуны
Но Вийон не хочет терпеть, он протестует против своей жалкой доли. Однако его бунт — это его личный бунт, он не поднимается до революционных понятий. Поэт не возражал против существующего порядка, а лишь против того, что ему в этом порядке места не нашлось. В своих несчастьях он обвиняет планету Сатурн (как впоследствии и Верлен), свою злосчастную звезду, планиду:
Мне больно... Эта боль судьба моя.
Гнетёт Сатурна тяжкая рука
меня всю жизнь!
Стихи Вийона отражают мечтания голодного, усталого человека, который сетует на отсутствие справедливости в Божьем мире. Он не ищет утешения в Боге, в религиозном смирении, считая, что набожность должна стать уделом богатых. Что с бедных спрашивать праведной жизни? У них и так ничего нет, никаких радостей. Пусть Бог направит на путь благонравия тех, кому он дал всё. А беднякам пусть даст терпения перенести все лишения, что выпали на их долю. Такая вот логика.

миниатюра «Терпение бедняков», которым остаётся лишь взывать к небесам и уповать на милость Божью.
Ты знатным дал, господь, немало:
Живут в достатке и в тиши,
Им жаловаться не пристало —
Все есть, живи да не греши!
У бедных же — одни шиши.
О Господи, помягче с нами!
Над теми строгий суд верши,
Кого ты наделил харчами.
Такие жрут куда как сладко!
Пулярки, утки, каплуны,
фазаны, рыба, яйца всмятку,
вкрутую, пироги, блины...
Начав перечислять эти яства, голодный Вийон уже не может остановиться. Он безумно завидует этим людям: сытым, богатым, успешным.

миниатюра 15 века. Слуги накрывают на стол для трапезы владелицы замка.
Вот так мечтал бы жить и Вийон. Но увы. И единственное, что может его примирить с богачами — это их смерть.

Жан Фуке. Погребение.
Торжественное погребение знатного человека, на которое Вийон смотрит с некоторым злорадством:
Я нищетою удручен,
А сердце шепчет мне с укором:
«К чему бессмысленный твой стон,
За что клеймишь себя позором?
Что нам тягаться с Жаком Кёром!
Не лучше ль в хижине простой
Жить бедняком, чем быть сеньором
И гнить под мраморной плитой?»
Это единственное утешение бедняков, - то, что они пока ещё живы.

миниатюра «Трое мёртвых и трое живых»
Продолжение здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post214258245/
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/88808.html
|
|
Процитировано 3 раз
Понравилось: 1 пользователю
С Днём смеха! |

Иронические стихи
Начало здесь.
***
Прекрасная Дама любила другого.
(Любой рядом с Блоком был смерд!)
То Белого, то арлекина-Чулкова,
А после был паж Дагоберт.
Остались записки стареющей Любы,
Где строки, бесстыдством светясь,
Взахлёб рисовали объятия, губы
И всю их преступную связь.
«Я сбросила всё и в момент распустила
Блистательный полог волос.
Какая была в нём порочная сила,
Какая любовная злость!
Согласие полное всех ощущений,
Экстаз до беспамятства чувств...»
Дословно почти, без преувеличений
Цитирую с авторских уст.
Промолвила с грустью Ахматова Анна,
Прочтя, что попало в печать:
"Ах, ей, чтоб остаться Прекрасною Дамой,
Всего только бы промолчать...»
***
На кой мне чёрт душа твоя.
М.Лермонтов
Толстой страдал, что он не любит крыс.
Всё сокрушался, что так некрасивы.
Гадливости своей не в силах скрыть,
Хотел любить, но был любить не в силах.
Никто не любит чёрненькими нас.
Не нужен Сирано и Квазимодо.
Лягушка лишь царевною нужна.
Нет дела никому, что так нежна,
Так хороша душа-то у урода!

Стихи в защиту таракана
Завелись на кухне тараканы.
Не едят травильную кашицу.
Может, завести на них капканы?
Или просто с ними подружиться?
Не морите тараканов, братцы!
Каждый хочет жить на белом свете.
И потом ведь, если разобраться,
И у тараканов тоже дети.
Для чего-то тараканье племя
Сотворила в древности природа.
Как бы ни давили их всё время –
Не скудеет вечная порода.
Может, из-за травли этих бестий
На земле какой баланс нарушен?
Может, наши беды – лишь возмездье
Нам за их погубленные души.
http://natalia-cravchenko2010.narod2.ru/Muzikalnie...1/15_-_Pesenka_o_tarakanah.mp3

***
И в сердце вдруг кольнуло, как ножом, –
Вгляделась в силуэт мертвецкий, скотский:
А вдруг это какой-нибудь Ханьжов?
Второй Рубцов? Иль Рыжий, иль Высоцкий?
Вот так когда-то Веничка бухал,
Есенин становился вдруг нестойкий,
Григорьев Аполлон не просыхал
И Блок был пригвождён к трактирной стойке.
Участливо склоняюсь и светло,
Ища в чертах преображенья чудо...
Но не чело мне кажет, а мурло
Незнаемый с поэзией пьянчуга.

***
Поэту не внимал народ.
Куда ни глянь – мордоворот.
Таков уж род земной.
Поэту всюду укорот.
А если кто и смотрит в рот –
Так только врач зубной.

В книжном магазине
Распространяя запахи духов,
Она брезгливо книжки ворошила.
И продавец ей сборничек стихов
Моих неосторожно предложила.
Она, не пролистнув и полглавы,
Отбросила его к едрене-фене:
«Но это же всё классика, увы.
А мне бы что-нибудь посовременней».
А я, там оказавшись в тот момент,
Вдруг ощутив себя премного выше,
Подумала: «Вот это комплимент!
Не всяк при жизни эдакое слышит».

***
Кончался дождик. Шёл на убыль,
Последним жертвуя грошом.
И пели трубы, словно губы,
О чём-то свежем и большом.
Уже в предчувствии разлуки
С землёй, висел на волоске
И ввысь тянул худые руки.
Он с небом был накоротке.
О чём-то он бурчал, пророчил,
Твердил о том, что одинок...
Но память дождика короче
Предлинных рук его и ног.
Наутро он уже не помнит,
С кого в саду листву срывал,
Как он ломился в двери комнат,
И что он окнам заливал.

***
Пусть кто-то будет резок крайне,
Пусть кто-то борется и спорит,
А я – за гранью, я – за гранью
Добра и зла, любви и горя.
Пусть кто-то там слюною брызжет,
Кричит и кроет что есть мочи, –
Я буду выше этой крыши
И тише украинской ночи.
Меня не соблазните дрянью.
Дразните – буду словно пень я.
Ведь я – за гранью, я – за гранью…
Не выводите из терпенья.
В кафе «Манеж»
Задумав с мужем отдохнуть по-светски, –
Был летний вечер солнечен и свеж, –
Зашли мы с ним в кафешку на Немецкой
С двусмысленным названием «Манеж».
Застыли мы потом как истуканы,
Когда предъявлен был суровый счёт,
Включивший вилки, блюдца и стаканы,
Столы и стулья, кажется, ещё.
А счёт крутой за отбивную нашу –
Как будто бы из золота она –
Терпенья моего превысил чашу, –
В себе тогда была я не вольна.
Да лучше бы на кухне мы, ей-богу,
Домашнего вкушали пирога!
В кафе «Манеж» забыли мы дорогу,
Поскольку жизнь ещё нам дорога.
Клиентов здесь не холят и не нежат,
Улыбкою рублёвой не дарят.
Обманут, обмишулят, обманежат,
А после вслед ещё обматерят.
***
Средь скопища идей
ты извлеки одну:
есть вечер-чародей,
рисующий луну.
Средь сонмища вещей,
где ты никто, ничей –
всегда найдётся щель
для солнечных лучей.
Средь множества людей
всегда найдётся тот,
кто будет не злодей,
а просто идиот.

Ода лоху
Среди человечьего чертополоха
Всегда отличишь лопуха или лоха.
На лбу у них крупно написано: «лохи».
(А следом идут дураки и дороги).
На радость эпохам родные мессии
Советского лоха взрастили в России.
Наивен и прост, он не видит подвоха
И часто впросак попадает, заохав.
Не требуя многого, радуясь крохам,
Питаясь порой чечевицей с горохом,
Он мир удивляет сознаньем совковым,
И чем-то нам люб вот таким, бестолковым.
Про лоха, прошу вас, не думайте плохо.
Он всё-таки лучше, чем хам и пройдоха.
За чистую всё принимая монету,
Но их не имея, он близок поэту.

***
Деспоты не любят диспутов.
Если ты не тварь и тля –
Неустанно и неистово
Вырывай из горла кляп.
Смертный грех – чегоугодие.
Не переступи межу.
Богу одному – свободе я –
Поклоняюсь и служу.
Но куда теперь податься мне?
Где луч света среди мглы?
Глупы и нелепы Чацкие,
А Молчалины подлы.
Софьи выберут Молчалиных
В президенты и в мужья.
Остаётся лишь в отчаянье
Застрелиться из ружья.
***

Лелею искомые строчки,
Как будто приблудных котят.
Такие ж они одиночки,
И так же вниманья хотят.
Дитёнышей ласково кличу,
Даю им еду и питьё,
И всё, что они намурлычат,
Шутя выдаю за своё.
Но вот уж какую неделю
Меня эта мысль бередит:
Котят ли лелею на деле
Иль грею змею на груди?
И эта змея, как Олега,
Ужалит однажды до слёз.
Поэзия – это не нега,
А полная гибель всерьёз.

***
Писать уж больше не могу.
Рука сейчас отвалится.
А голова моя – чугун,
В котором что-то варится.
Как отзовётся то, что в нём?
Кому-нибудь понравится,
Кто – безразличным будет пнём,
А кто-то – и отравится.

***
Порой иду и вижу в страхе:
Непробиваемо глухи,
Мелькают рожи, морды, ряхи, –
Им не нужны мои стихи.


Но есть ещё глаза и уши,
Я их повсюду узнаю.
И вижу лица, лики, души, –
Для них живу, дышу, пою.





А это - песня на мои стихи, посвящённая всем этим людям с хорошими лицами, вошедшая в финал Грушинского фестиваля 2010 года:
https://www.youtube.com/watch?v=Gw3x5-HA_ZI&list=PLrgDSzTXDpvMD-HLgTkjPwtraUEsiF6XU&index=19&t=3s
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/88567.html
|
|
Понравилось: 1 пользователю
"Я шёл, печаль свою сопровождая..." |

30 марта 1844 года родился Поль Верлен, величайший французский поэт, один из основоположников литературного импрессионизма и символизма.
« За музыкою только дело»
Французская поэзия до Верлена была риторична, велеречива, декламационна, напыщенна, торжественные пышные эпитеты составляли главную её особенность вплоть до 20 века. И только этот поэт попытался, по его выражению, «свернуть шею риторике», придав стихам тонкий задушевный лиризм, естественность и мелодичность. Он сблизил поэтическое слово с живой речью, и это была совершённая им революция в поэзии.
Черный сон мои дни
Затопил по края:
Спи, желанье, усни,
Спи, надежда моя!
Не очнуться душе!
Всё окутала мгла,
Я не помню уже
Ни добра и ни зла.
Колыбелью плыву
Я под сводами сна ,
И одно наяву –
Тишина, тишина…
(Перевод А. Гелескула)
Верлен — певец внутренней жизни, изменчивой, непредсказуемой, неуловимой:
Ценя слова как можно строже,
Люби в них странные черты.
Ах, песни пьяной что дороже,
Где точность с зыбкостью слиты!
«Музыка — прежде всего!» - провозгласил он свой лозунг в поэзии, который позже подхватят символисты. Это значило, что во главу угла ставится звучание слова, что в стихах пленяют прежде всего звуки, мелодия. Об этом — его программное стихотворение «Искусство поэзии»:

За музыкою только дело.
Итак, не размеряй пути.
Почти бесплотность предпочти
Всему, что слишком плоть и тело.
Не церемонься с языком
И торной не ходи дорожкой.
Всех лучше песни, где немножко
И точность точно под хмельком.
Так смотрят из-за покрывала,
Так зыблет полдни южный зной.
Так осень небосвод ночной
Вызвежживает как попало.
Всего милее полутон.
Не полный тон, но лишь пол-тона.
Лишь он венчает по закону
Мечту с мечтою, альт, басон.
Так музыки же вновь и вновь!
Пускай в твоем стихе с разгону
Блеснут в дали преображенной
Другое небо и любовь.
Пускай он выболтает сдуру
Все, что впотьмах, чудотворя,
Наворожит ему заря...
Все прочее — литература.
(перевод Б. Пастернака)
(Именно Верлену принадлежит строка «Пусть жизнь горька, она — твоя сестра», ставшая впоследствии названием книги Пастернака «Сестра моя жизнь»).
Послушайте песню на стихи П. Верлена в переводе О. Чухонцева «О, прислушайтесь...» - о музыке в поэзии и в окружающей жизни. Поёт Елена Фролова.
«Те, кто пришел на свет под знаменьем Сатурна...»
Итак, 30 марта 1844 года в провинциальном французском городке Меце в семье офицера родился великий лирический поэт Франции Поль Верлен.


Верлен в 4 года. Рис. неизвестного.
Стихи начал писать рано, лет с тринадцати.

Родители отправили сына учиться в Париж.

Париж. К. Писсарро.
И стихи его первых сборников, сразу принёсших Полю большую известность, были написаны им ещё в коллеже.

Верлен — ученик коллежа
Это стихи первых двух книг: «Сатурнические стихотворения» (1867) и «Галантные празднества» (1869), положенные на музыку Клодом Дебюсси.

Название «Сатурнические...» ("Сатурнийские") объясняется тем, что Верлен — как он говорил, — родился под этой несчастливой звездой и в этом видел причины всех его бед и несчастий. (Если помните, Франсуа Вийон тоже родился под ней и тоже винил её в своей несчастной судьбе). Все, родившиеся под звездой Сатурн, - утверждал Верлен, - это проклятые поэты, ещё при рождении обретавшие «талант беды».

Когда-то мудрецы, каких сегодня нет,
Могли прочесть судьбу, следя пути планет,
Хоть свет нам не пролить пока на это дело,
Но каждая душа свою звезду имела.
(Над этим многие смеялись, позабыв,
Что смех порой смешон и также часто лжив
И что над тайнами ночей глумиться дурно.)
Те, кто пришел на свет под знаменьем САТУРНА,
Планеты колдовской, чей нрав зловещ и дик,
Как нам поведали страницы древних книг,
Обречены страдать, переносить невзгоды.
Воображение, больное от природы,
Сознанью их вернуть стремится смысл и лад.
В их жилах кровь течет, похожая на яд,
Кипящей лавою поток струится алый,
Мгновенно пепелит и рушит идеалы.
Тех, чья звезда - Сатурн, ждет гибель тут и там,
О нашей смертности напоминая нам,
Их жизненных путей начертанные строки
Всегда толкуют нам о злополучном роке.
(Перевод А. Ревича)

Так что же нужно нам, возвышенным поэтам?
Мы чествуем богов, не веря в их приход.
Нас лучезарный нимб не осеняет светом
и Беатриче нас по свету не ведёт.
В этих стихах Верлен предсказал свою будущую судьбу.

Из «Сатурнических стихотворений» одно из самых известных - «Осенняя песнь», многократно переводившееся на русский язык. Вот как оно звучит в переводе Александра Ревича:
Осень в надрывах
Скрипок тоскливых
Плачет навзрыд,
Так монотонны
Всхлипы и стоны -
Сердце болит.
Горло сдавило,
Пробил уныло
Тягостный час.
Вспомнишь, печалясь,
Дни, что промчались,-
Слезы из глаз.
Нет мне возврата,
Гонит куда-то,
Мчусь без дорог -
С ветром летящий,
Сорванный в чаще
Мертвый листок.

А вот так — в переводе В. Брюсова:

Небо над городом плачет,
Плачет и сердце мое.
Что оно, что оно значит,
Это унынье мое?
И по земле, и по крышам
Ласковый лепет дождя,
Сердцу печальному слышен
Ласковый лепет дождя.
Что ты лепечешь, ненастье?
Сердца печаль без причин...
Да! Ни измены, ни счастья, -
Сердца печаль без причин.
Как-то особенно больно
Плакать в тиши ни о чем.
Плачу, но плачу невольно,
Плачу, не зная о чем.

Сентиментальная прогулка
Поэзия раннего Верлена — задушевна, прозрачна, нематериальна, это почти чистая духовность. Поэт потока сознания, он не стремится к связности и последовательности — только к точному воссозданию тончайших нюансов своих переживаний. Изящным музыкальным языком он умел выразить несказанное, все сложнейшие извивы настроения, мимолётность человеческих чувств.

Французам была непривычна такая поэзия. Тогда были популярны монументальные поэмы В. Гюго с их чёткой величественной строфикой, великолепные в своей скульптурной завершённости сонеты Леконта де Лиля, - их произведения приводили в восторг, в священный трепет читательскую публику, вызывая благоговение перед их творцами, но стихи их были ей чужими и холодными, они довлели над читателем, их трудно было сделать достоянием своего сердца.
Стихи же Верлена давали ощущение внутренней свободы, чувство непосредственности переживания. Читатель мог сказать, что это про него, что он сам так же видит и чувствует. Их отличала какая-то утончённая наивность, мечта об идеале... Верлен в своих словесных мелодиях умел подражать звукам колоколов и голосам птиц, в его строчках явственно ощущались шорох листвы под налётом лёгкого парижского ветра, нежный шум дождя по камням мостовой и по крыше, и многое другое, такое верленовское и такое французское... Вот, например, как это изумительное стихотворение «Сентиментальная прогулка» в переводе Ариадны Эфрон, положенное на музыку божественным Давидом Тухмановым («По волнам моей памяти»). Поёт Сергей Беликов. (видеоклип)

Струил закат последний свой багрянец,
Ещё белел кувшинок грустных глянец,
Качавшихся меж лезвий тростника,
Под колыбельный лепет ветерка...
Я шёл, печаль свою сопровождая;
Над озером, средь ив плакучих тая,
Вставал туман, как призрак самого
Отчаянья...

...и жалобой его
Казались диких уток пересвисты,
Друг друга звавших над травой росистой...
Так между ив я шёл, свою печаль
Сопровождая; сумрака вуаль
Последний затуманила багрянец
Заката и укрыла бледный глянец
Кувшинок, в обрамленье тростника
Качавшихся под лепет ветерка.

Романсы без слов
В 1874 году вышла в свет самая знаменитая книга Верлена «Романсы без слов». Вспомним возглас Фета: «О, если б без слова сказаться душой было можно!» Верлену это почти удалось. Здесь всё сказано музыкой стиха. Это была первая книга чисто импрессионистской поэзии, напоминающая лирический дневник, где в пленительно-исповедальных стихах поэт рисует картины своих «сентиментальных путешествий» - скитаний по Бельгии и Англии, вспоминает прошлое, поверяет мечты. Это действительно романсы, простые и задушевные, отмеченные печатью нежной меланхолии, томления по несбывшемуся.
Однажды в городе, увиденном во сне,-
Все это будет так, как будто так и было,-
Мгновенье зыбкое и ясное застыло:
В тумане утреннем заря явилась мне...

У Верлена размыта граница сна и реальности. Это поэт полутонов, приглушённых звуков, расплывчатых контуров. Это пастельное видение мира.
У нас в душе волшебный уголок,
Где вьются маски в пляске карнавальной,
Бренчат на лютнях, только все не впрок:
У ряженых какой-то вид печальный.
Здесь воспевают на минорный лад
Любовь и радость жизни, и при этом
Не верят в счастье, радуясь, грустят
И свой напев сливают с лунным светом...
«Я до безумия люблю любовь, я слаб...»
В отличие от красавчика Артюра Рембо, Верлен, по свидетельствам современников, был очень некрасив. Лысеющий уже в молодости, скуластый, курносый, с монгольской прорезью глаз, с землистым цветом лица. Даже родная мать как-то воскликнула: «Господи! Он же похож на орангутанга!» Верлен очень страдал от сознания своего уродства.

А в двадцать снова в переплёт
я угодил, влюблён и кроток:
я видел в женщинах красоток,
но в их глазах я был урод.
У него никогда не было любовницы. Все его любовные истории сводились к грубым и пошлым приключениям в публичных домах, но продажные ласки не заменяли того, что ему было нужно. Верлен мечтал о большой любви.
Я до безумия люблю любовь, я слаб.
О, только красота на сердце снизошла б,
не важно, где и как, - но, молнией, стремглав,
его похитив, и спалив, и растоптав...

И когда 16-летняя Матильда проявила к Полю робкий интерес — прежде всего как к поэту, - тот, не смея поверить, что девушка им интересуется, тут же сделал ей предложение.

Матильда Моте, жена Верлена
Перед женитьбой он посвящает ей сборник пламенных стихов под названием «Песнь чистой любви». Сборник вышел в свет за два месяца до венчания и стал свадебным подарком невесте.
Один, дорогою проклятой,
Я шел, не ведая куда...
Теперь твой облик - мой вожатый!
Рассвета вестница, звезда,
Едва заметная, белела...
Зарю зажгла ты навсегда!
Мой только шаг в равнине целой
Звучал, и даль пуста была...
Ты мне сказала: «Дальше, смело!»
Я изнывал под гнетом зла
Душой пугливой, сердцем темным...
Любовь предстала и слила
Нас в счастье страшном и огромном.
К тому времени, когда появился Рембо, они были женаты чуть больше года и ждали ребёнка. Матильде, как и Рембо, было семнадцать. Жили они вот в этом доме, у родителей Матильды.

особняк в Париже на ул. Николя 14, где жили Верлены
Верлен с Рембо разминулись тогда на вокзале, и Рембо сам нашёл этот дом, встретившись вначале с женой и тёщей Верлена, на которых произвёл самое неприятное впечатление своей невоспитанностью и развязностью.

А. Рембо. Рис. П. Верлена
Однако Верлен уговорил их принять в их доме талантливого поэта, незаслуженно прозябавшего в провинции. И вот тут-то всё и началось. Это был роковой шаг в жизни обоих. «С поселения Рембо у Верленов их нормальная жизнь кончилась, - пишет Б. Пастернак. - Дальнейшее существование Верлена залито слезами его жены и ребёнка».

Проклятые поэты

Выражение «проклятые поэты» пущено в литературный оборот Верленом. Что он имел в виду под проклятостью? Неприкаянность? Душевный разлад? Изгойство? Неблагополучие? Отверженность? Психические и наркотические хвори и безумие? А, может быть, возвещающую правду, ту правду, которую никто не желает слышать и за которую подвергают проклятью?
В широком смысле слова «проклятые поэты» - большинство когда-либо живших художников, ибо довлеющее над ними проклятие было глубиной экзистенциального дара, состоянием между ужасом и восторгом жизни, способностью слышать все шёпоты зова бытия.
Об отношениях двух «проклятый поэтов» был снят французский фильм «Полное затмение» с Леонардо ди Каприо в роли Рембо.


Скандальные и шокирующие подробности жизни Верлена можно узнать из моего поста о Рембо и из лекции «Проклятые поэты», здесь я эту тему опущу, чтобы не повторяться.
Острожные стихи
Пылкая страсть поэтов чередовалась вспышками яростных ссор и потасовок, одна из которых закончилась огнестрельным ранением Рембо и судом над стрелявшим в него Верленом.

раненный Верленом Рембо. Художник Ж. Росман "Эпилог на французский манер"
Он получил два года тюрьмы строгого режима.

тюрьма в г. Монс, где в 1873-1875 гг. сидел Верлен
Там были написаны лучшие его стихи.
Устав страдать, я сник и смолк.
Как ослабевший старый волк,
Когда за ним несется стая,
Став жалким зайцем, я мечусь
И от погони скрыться тщусь,
Следы безумно заметая.
Злословье. Ненависть. Нужда –
Вот три борзые, что всегда
За мною гонятся с рожденья.
Так много дней, так много лет
Одни невзгоды на обед,
На ужин горькие сомненья.
Растет отчаянье в груди.
Всех неотступней впереди
Летит борзая роковая.
То Смерть проклятая, тесня,
Уж полумертвого меня
Преследует, не уставая...
(из цикла «Любовь»)
Тюрьма изменила Верлена.

Он стал другим человеком после того, как в момент глубокого душевного кризиса на него снизошла Божья благодать.Верлен становится глубоко религиозен.
Он жалеет о разрыве с женой, раскаивается, тоскует по их былому семейному счастью.

Душе грустнее и грустней,
Моя душа грустит о ней.
И мне повсюду тяжело,
Куда бы сердце не брело.
Оно ушло с моей душой
От этой женщины чужой.
И мне повсюду тяжело,
Куда бы сердце не брело.
И, обреченное любить,
Спросило сердце: "Мог ли быть
и вел ли он куда-нибудь,
наш горький, наш напрасный путь?"
Душа вздохнула: "Знает Бог,
как размотать такой клубок".
И гонят нас, и нет пути,
И не вернуться, не уйти.

Позднее прозрение
Верлен отправляется в Париж, чтобы помириться с женой или хотя бы отстоять своё право видеться с сыном, но его даже не пустили на порог.
Прекрасный, слабый пол! Мы столько испытали
От этих нежных рук и радостей и бед!
Глаза, в чьей глубине животной страсти нет,
Мужской звериный пыл нередко укрощали.
А голос, чей напев баюкает печали,
Чья ложь и та сладка! Манящий зов чуть свет,
Вечерний тихий звон, негаданный привет,
Рыданье, гаснущее в мягких складках шали.
Сердца мужчин - кремень. Вся наша жизнь позор.
Но что-то все же есть, хоть на вершинах гор.
Вдали от страстных ласк, от битв и лихолетий,
Ведь что-то детское и чистое живет -
Участье, доброта. Ведь что-то есть на свете!
А что оставим мы, когда к нам смерть придет?
В растерянности поэт ищет пристанища в Картезианском монастыре.

И всему, что прах - не боле,
Я сказал " прощай" без боли:
Счастью, радости земной
И любви. Теперь со мной
Только Ты, Пресветлый Боже!
На могучих крыльях веры
Уношусь в иные сферы,
Где раскаянья приют,
Где подвижнический труд,
Где покой всего дороже.

Картезианский монастырь
Ему открылся свет истины. Верлен хочет забыть позорное прошлое, начать новую, чистую жизнь.
Мерцали целый день виденья давних дней
И вот легли на медь заката… Нет, не надо,
Душа моя, глядеть на искушенья ада,
Закрой глаза, душа, и прочь беги скорей.
Сверкали целый день. И падал град огней,
Он бил колосья нив и гроздья винограда,
И даже небеса от огневого града
Страдали и к тебе взывали: пожалей!
Страшись, душа, беги от этих наваждений.
Неужто новый день поглотит прошлых тени?
Неужто я опять безумьем обуян?
Убить ли память нам и все забыть, что было?
Дай Бог, чтоб это был последний ураган!
Молись, душа, молись, чтоб с ног тебя не сбило.

Мудрость сердца
Стихи, которые он написал в это время, составят его книгу «Мудрость», вершину верленовской поэзии. В них наиболее полно выразились духовные искания поэта, воплотился его душевный опыт, мудрость сердца.
В любой любви есть капля яда,
Любовь прошла - в душе досада,
И горечь сердце обожгла.
Взять, например, любовь сыновью,
Супружескую или вдовью,
И вместе с братскою любовью
Любовь к отчизне и сословью -
Любая жалит, как пчела.
Отца и матери не станет,
Изменит брат, жена обманет,
Забудет сын. А твой народ
Живет в раздорах, правит казни,
Его грехи все безобразней,
Враг сеет козни без боязни,
Погрязла плоть твоя в соблазне,
Душа в безумных снах плывет.
Сказал Господь: люби собратьев!
Свои иллюзии утратив,
Из них капеллу учреди,
Как пастырь, ты свои химеры
Веди как трагик в час премьеры,
Как жрец - ревнитель древней веры,
Как предок в глубине пещеры, -
Пусть реет сердце впереди.
Веди свой хор по всем регистрам
То в темпе медленном, то в быстром,
Чтоб громок был напев и тих,
Чтоб в звуках твоего хорала
Твое страданье замирало,
Чтобы надежда оживала,
Чтобы душа свободной стала
Во имя смертных мук Моих!
(Перевод А. Ревича)
«Мудрость» - это книга молитв, проповедей, пророчеств, пропитанных религиозной тягой к запредельному. В ней выразился его путь к вере, к спасению заблудшей души.

- Ах, мудрость! Но ведь я прозрел иные вещи,
Твой голос мне твердит о суете земной,
А предо мной тоска, ее слова зловещи,
Я помню только зло, содеянное мной.
Во всех превратностях судьбы моей, богатой
Невзгодами, среди событий и дорог,
Моих или чужих, теперь или когда-то
Я лишь одно обрел: дарил мне милость Бог.
И если я судьбой наказан, так и надо.
Все люди тяжкий крест за что-нибудь несут.
Но твердо верую, что ждет меня награда,
Прощение за все, Господень правый суд.

Не согрешишь — не покаешься
Верлен всей душой обратился к Богу. Самые христианские стихи во французской поэзии написаны Верленом, всю жизнь нарушавшим христианские заветы. Его смирение и раскаяние — искреннее, не показное, волна религиозной лирики идёт у него от сердца. Вот как, например, эти стихи без рифм, подобные молитвенным вздохам:

Любовью, Боже, ранил ты меня,
И рана все еще исходит дрожью.
Любовью, Боже, ранил ты меня!
Вот мой лишь от стыда горевший лоб.
Пусть он твоим стопам ступенью служит.
Вот мой лишь от стыда горевший лоб.
Вот руки, незнакомые с трудом.
Пусть в них пылают фимиам и угли.
Вот руки, незнакомые с трудом.
Вот сердце, вечно бившееся зря.
Пусть тернии вонзит в него Голгофа.
Вот сердце, вечно бившееся зря.
Вот ноги, что путём бесцельным шли.
Пусть поспешат они на зов твой кроткий.
Вот ноги, что путем бесцельным шли.
Вот очи, два светильника греха.
Пусть их огонь зальет слеза молитвы.
Вот очи, два светильника греха.
(перевод Михаила Яснова)
Глубокое, неподдельное раскаяние. Но длилось оно у Верлена недолго. Подобно псу из Священного писания, он вскоре возвратился на свою блевотину. И новое падение снова внушило ему поразительно искренние стихи. Он с наивным цинизмом вкушает по очереди то от соблазнов греха, то от мук отчаяния. Больше того: он вкушал их, так сказать одновременно, он завёл для своих душевных дел двойную бухгалтерию. Отсюда этот странный сборник стихов, названный им «Параллельно».
В самом названии этого сборника заложен великий символ. Все мы параллельны самим себе, и Верлен, как никто, осознаёт в себе одновременность добра и зла. Мечась между ними, находясь в состоянии постоянной борьбы плоти и духа, он перемежает молитву богохульством, раскаянье - проклятием, проповедь - кощунством, чистоту слова — сквернословием. Он грешил и каялся, грешил и каялся, и то и другое — искренне и чистосердечно.

Враг прикинется смертной тоской,
Спросит: "Что тебе, бедненький, худо?"
Усмехнусь и пройду стороной.
Вожделеньем прикинется враг,
Скажет: "Глянь! Что за девочка! Чудо!"
Не иду на приманку никак.
Враг, святым прикрываясь обличьем,
Скажет: "Что твоя жалкая прыть
Перед истинной веры величьем?
Ты ли Бога постигнешь, невежда?
Ты ли в силах до гроба любить?"
Говорю: "Мне осталась надежда".
Я не в силах ему отвечать,
Этот старый софист и проныра
Заставляет меня замолчать.
Пронизал мою душу и плоть
Страх утратить сияние мира.
О, даруй мне смиренье, Господь!
Король трущоб

Поль Верлен переживёт Артюра Рембо на пять лет. Он уедет в провинцию, будет работать скромным учителем французского языка.

Верлен - учитель
Там он влюбится в своего ученика, сына местного фермера Люсьена Летинуа и ради него всё бросит, сделается земледельцем, приобретёт небольшую ферму, где будет жить вдвоём с другом. Потом разорится, друг заболеет брюшным тифом и умрёт, оставив Верлена в безутешном горе. Он посвятит ему книги стихов «Любовь» и «Счастье». В стихах он будет называть его своим сыном, и, может быть, в этой привязанности было действительно много любви чисто отцовской, которой он не смог дать своему сыну, отнятому женой.
Верлен успеет ещё раз попасть в тюрьму за скандальную ссору с матерью, пытавшейся его образумить во время одного из пьяных дебошей. После её смерти окончательно обнищает, лишится своего угла, и последний период его жизни — период бродяжничества и пьянства, когда он становится богемой, сыном города, тем Верленом улиц, кафе и трущоб, каким его более всего знают.
Его пьянство оставило такой яркий след в памяти людей, что в обиход вошла поговорка: «Пьян, как Верлен». И в это время начинается расцвет его славы.
Верлен становится кумиром молодёжи 80-х, которая нашла его в этих трущобах, влюбилась в него и провозгласила королём поэтов, своим вождём и мэтром.

Веселье и печаль, куда вы забрели?
Все тише в сердце кровь струится, дорогая.
Итак, все кончено, умчались в даль без края
И тени зыбкие, и радости земли.
Ни счастья, ни тревог: прошли, как журавли,
Над пыльною стезёй - стремительная стая,
Прощай же, юный смех, прощай, тоска седая,
Вы канули во тьму, вы тонете вдали.
Осталась пустота, осталось безразличье
И легкий холодок, и чувствуешь величье
Зияющих пространств, которых не объять.
Мы в сердце ранены гордынею, но снова
Оно горит в огне любви, оно готово
К блаженной гибели, готово жить опять.
Город Верлена
Этот опустившийся старый алкоголик, уличный бродяга, клошар, кабацкий завсегдатай, по-нашему, бомж — при всей мерзости своей беспутной жизни остался одним из величайших целомудреннейших поэтов Франции, которому суждено было сказать нежнейшие слова.

Каким образом это происходит? По каким тайным законам компенсации? Это было бессознательное существо, варвар, дикарь, ребёнок. Но ребёнок с музыкой в душе, слышавший голоса, каких до него не слышал никто, обладавший неотразимо искренним детски чистым голосом, которому веришь. Он никогда не рассуждал, не умствовал, в нём всё — от чувства.
Да, Верлен прожил далеко не праведную жизнь. Но вот что сказал о нём Анатоль Франс: «Нельзя подходить к этому поэту с той же меркой, с какой подходят к людям благоразумным. Он обладал правами, которых у нас нет».
Однажды вечером 7 января Верлен потерял сознание и, пролежав на каменном полу холодной мансарды ночь, скончался от воспаления лёгких. Он умер на другой день 8 января 1896 года в возрасте 52 лет. Умер уже в ореоле славы.

могила Верлена, его родителей и сына на Батиньольском кладбище Парижа

Его творчество имело своих многочисленных последователей: во Франции — Маллармэ, в Бельгии — Верхарн, у нас — Фет, а позже — Сологуб, Брюсов, Анненский. Вся европейская поэзия этого полувека — при всём многообразии творческих личностей и поэтических школ — в той или иной комбинации продолжала осуществлять провозглашённые Верленом принципы и разрабатывать затронутые им темы. Стихи Верлена открыли новые пути в поэзии и каждый новый век будет находить новое очарование и новую глубину в его в творчестве.
В Люксембургском саду в Париже есть аллея, которую украшают памятники выдающимся поэтам Франции. Скульптор Родо Недерхаузерн выполнил памятник Полю Верлену в мраморе: лысая голова поэта возвышается над тремя фигурами — мальчика, юной женщины и женщины-матери. Они символизируют три воплощения души: детское, чувственное и религиозное.

памятник Верлену в Люксембургском саду (1911)

бюст Верлена работы Недерхаузерна
Мне хочется закончить рассказ о нём замечательным стихотворением Александра Ревича, которое называется «Город Верлена».
Dans une rue au coeur d ,une ville de reve…
Paul Verlaine. Kaleidoscope

Ночной Париж. К. Писсарро
Спасибо, что память нетленна,
хотя и не держит обид,
спасибо, что город Верлена
в сиреневой дымке рябит,
рябит и колышется, старый,
надежный, как все, что старо,
и заново пишет бульвары
прилежной рукой Писсарро.
Спасибо, ах, Господи Боже, -
и снова знакомый квартал,
случайный пришелец, похоже,
ты здесь до рожденья бывал,
сидел за столом под маркизой,
прихлебывал аперитив
и видел, как в сутеми сизой,
глаза в никуда обратив,
в промятом цилиндре, куда-то
ступал, не сгибая колен,
старик с головою Сократа,
нетрезвый блаженный Верлен,
и скрылся на том перекрестке
за краем кирпичной стены,
оставив фонарные блестки,
дожди, подворотни и сны...

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/87737.html
|
|
Процитировано 11 раз
Понравилось: 4 пользователям
Ниоткуда с любовью |

Виталий Длуги
Этой строчкой И. Бродского назван был фильм В. Фокина по повести Л. Улицкой «Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны». Главную роль в нем сыграл Александр Абдулов.

Нью-йорк девяностых годов, особая атмосфера эмигрантского быта, запутанные взаимоотношения персонажей – на этом фоне главный герой - художник, талантливо проживший свою жизнь, - так же талантливо, в окружении многочисленных друзей и поклонниц, перед которыми разыгрывает спектакль “жизни и смерти”, уходит из нее…
Из интервью с режиссёром В. Фокиным: " Истории и судьбы разных людей сходятся к одной точке, вернее, к образу героя — умирающего в Америке художника- эмигранта. Человек этот, мудрый, легкий и талантливый, носит свой мир с собой в буквальном смысле слова. Он собирает вокруг себя тех, что могли бы составить ему компанию в России, и фактически переносит ее в мастерскую на Манхеттене".

Почему вдруг вспомнила об этом фильме пятилетней давности? Из опубликованного интервью узнала, что «у главного героя был прототип - художник-эмигрант Виталий Длуги, первый муж Улицкой». А это мой родственник, двоюродный брат моего мужа.

Его отец Арон Длуги был в своё время референтом Микояна, его жена (мать Виталия) Любовь Вульфовна Аврутова была страховым агентом, она приходилась Давиду родной тётей, они приезжали в Саратов, гостили у них на ул.Гоголя, где Давид жил тогда. Приезжали со старшим братом Виталия Аликом, ровесником Давида, они (с ещё одной двоюродной сестрой Светой, которая сейчас живёт в США и недавно нашла нас по моим текстам, вернее, по роликам, где Давид читает стихи, звонила по телефону) вместе гоняли по городу на велосипедах. Этот Алик эмигрировал в США ещё в 1972 году (Виталий - в 1980). А с Виталием Давид встречался в Москве в 70-х (ещё до меня), заходил к ним (в центре Москвы, в 5-7 мин. от Красной площади), когда был в командировке, они жили в коммуналке, в одной комнате. Говорили о живописи, он восхищался квадратом Малевича, показывал Давиду свои рисунки, рисунки друзей. У него тогда была другая жена, не Улицкая (вообще жён было несколько, трудно сказать, официальных или нет). Это всё, что я смогла вытянуть из Давида.
Фамилия настоящая Виталия Длугий (в переводе с польского "долгий"), это уже в Америке он её укоротил.

Виталий и Алик Длуги. Виталий слева.

надпись на этой карточке, подаренной Давиду
Кстати, дата надписи этой фотографии подтверждает неверность сведений о Виталии Длуги в Википедии: https://ru.wikipedia.org/wiki/Длуги,_Виталий_Аронович .Тут всё неверно, и дата рождения - он родился в 1943 году, здесь на фотографии ему три годика, но никак не 12, и год смерти - 1991, а не 1990. Вот эта информация верна: https://www.peoplelife.ru/95032
Виталий Длуги родился в 1943 году, учился в Москве, работал художником театра кукол Сергея Образцова. Участвовал в знаменитой «бульдозерной выставке» художников-авангардистов в сентябре 1974 года.


Потом уехал в Нью-Йорк во время зачистки перед московской Олимпиадой, там работал художником в журнале Сергея Довлатова «Новый американец».

справа от С. Довлатова - Виталий Длуги

Виталий Длуги дружил с Константином Райкиным, он мог бы многое о нём вспомнить, и с Юрием Богатырёвым, тот ему дарил свои рисунки.
Академик РАХ Кирилл Данелия считает его (называет в интервью) своим учителем: http://reporter-smi.ru/6417.html
Привожу небольшой фрагмент статьи В. Петровского о творчестве Длуги в журнале «Время и мы» (1984):
"О художнике должны говорить его работы, его философия и мироощущение, а не сухие факты биографии", — говорит Виталий. И на вопрос о его стиле отвечает, что то, чем он занимается, представляется ему синтезом московской и парижской школ. Московская школа — это Фальк, Эльконин, Немухин; парижская — Пьер Сулаж, Анри Ланской, Никола Десталь, Поляков.
По словам художника, раньше его более всего волновала форма, в его воображении шла трансформация образов. Теперь его привлекают цветовые решения или, как он сам говорит, его притягивают большие массы цвета и их отношения в квадрате холста.
Основное для него — это момент жизни, то самое "чудное мгновение", которое успевает уловить художник и по которому он восстанавливает явление, событие, образы, да, если хотите, весь окружающий мир. Похоже, что эта "художническая индукция" и есть, по мнению Длуги, творчество живописца. "Представьте, — говорит он, — что вы смотрите в окно и видите проносящийся автомобиль, например, "Скорую помощь". Ваше зрение фиксирует лишь синее пятно, но ваш жизненный опыт достраивает, дорисовывает, договаривает то, что осталось неувиденным, — куда и зачем мчится эта на мгновение взблеснувшая перед вами синим пятном "Скорая".
Темп окружающей жизни оставляет нам возможность уловить лишь какой-то ее момент, один только предмет. Но этот предмет таит в себе невероятное количество информации, эмоций, способных создать у зрителя представление о целом мире. "Портрет отдельного человека, — продолжает Виталий Длуги, — это портрет эпохи. Впрочем, как и изображение любого предмета. Нарисованный мной стул — это существо, которое прожило определенную жизнь и имеет память.
Мой "Штопор" — это не тривиальный штопор, а живой и танцующий в одиночестве..."

Танцующий штопор. Холст, масло, 1984
— А что значат ваши забинтованные головы-манекены?
— В манекене, точнее в голове манекена, — отвечает Виталий Длуги, — есть некий важный метафизический момент. Это не просто подставки для шляп. Мои манекены живут, страдают, то есть это опять мир, в который для меня важно проникнуть.»

Из цикла "Головы". Бумага, масло, 1984
Эта картина воспроизведена на четвёртой обложке данного номера журнала. И в заключение — ещё несколько картин Виталия Длуги.

Художник. Картон, темпера, 1970

Дуализм рождения. Холст, масло, 1977

портрет жены художника. холст, масло. 1982.

лист из блокнота художника
С 1980 года Виталий Длуги поселился в Нью-Йорке (Манхеттен), имел две персональные выставки в США и Колумбии.
Умер 1 сентября 1991 года в возрасте 48 лет.
Остальные подробности его биографии - в фильме. Абдулов сыграл, конечно, там блестяще, но Улицкая призналась Шендеровичу в интервью на радио "Свобода", что видела в этой роли Олега Даля, которого, к тому времени, уже не было, увы. Виталий действительно был на него чем-то похож. И ещё один факт: его племянник, Максим Длуги - американский шахматист, чемпион мира среди юношей (1985) гроссмейстер (1986), о нём есть в википедии.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/87154.html
|
|
Процитировано 3 раз
Понравилось: 1 пользователю
"Слишком больно я молчала..." (продолжение) |
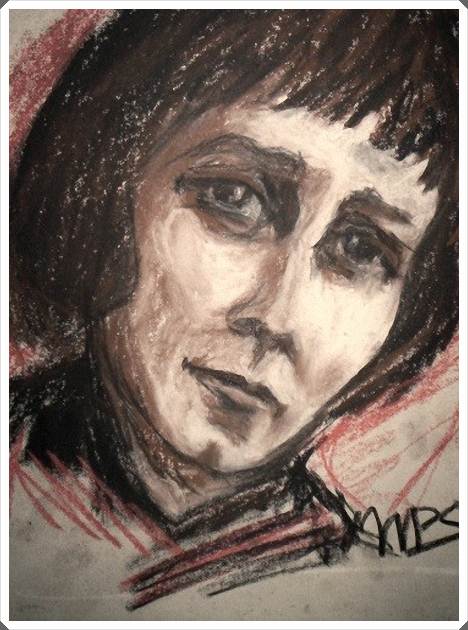
Начало здесь.
"У меня большое горе"
В 1934 году из ссылки возвращается друг юности Марии Петровых Виталий Головачёв. Мария разводится из-за него с мужем Петром Грандицким. Это было нелегко, потому что он был ей глубоко предан.
Через два года Петровых выходит замуж за Виталия Головачева, с которым была знакома с 1925 года. Это был очень талантливый человек. Хороший пианист, поэт, знал много иностранных языков. В 1937 году у них родилась дочь Арина. Но недолгим было их счастье. Вскоре Головачева арестовывают вторично и отправляют в Медвежьегорск, в Соликамские лагеря.
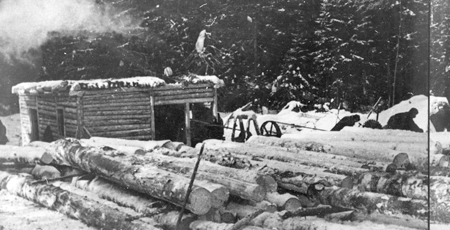
Мария остаётся одна с ребёнком на руках. Любовь к дочери — единственное, что спасало и давало силы жить.
Когда на небо синее
Глаза поднять невмочь,
Тебе в ответ, уныние,
Возникнет слово: дочь.
О, чудо светлолицее,
И нежен и высок,-
С какой сравнится птицею
Твой легкий голосок!
Клянусь - необозримое
Блаженство впереди,
Когда ты спишь, любимая,
Прильнув к моей груди.
Тебя держать, бесценная,
Так сладостно рукам.
Не комната - вселенная,
Иду - по облакам.
И сердце непомерное
Колышется во мне,
И мир со всею скверною
Остался где-то вне.
Мной ничего не сказано,
Я не сумела жить,
Но ты вдвойне обязана,
И ты должна свершить.
Быть может мне заранее,
От самых первых дней,
Дано одно призвание -
Стать матерью твоей.
В тиши блаженства нашего
Кляну себя: не сглазь!
Мне счастье сгинуть заживо
И знать, что ты сбылась.

Потом — война. Эвакуация — в Чистополь, городок в Татарии, который оставит след в её душе и в стихах.
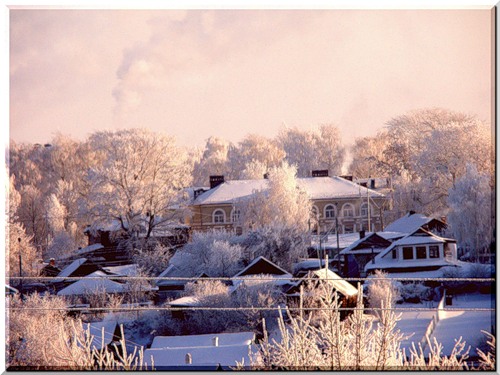
Город Чи́стополь на Ка́ме…
Нас дарил ты, чем богат.
Золотыми облаками
Рдел над Камою закат.
Сквозь тебя четыре ве́тра
Насмерть бились день и ночь.
Нежный снег ложился щедро,
А сиял — глазам невмочь.
Сверхъестественная сила
Небу здешнему дана:
Прямо в душу мне светила
Чистопо́льская луна.
И казалось, в мире целом
Навсегда исчезла тьма.
Сердце становилось белым,
Сладостно сходя с ума.
Отчуждённостью окраски
Живо всё и всё мертво́ —
Спит в непобедимой сказке
Город сердца моего.
Если б не росли могилы
В дальнем грохоте войны,
Как бы я тебя любила,
Город, поневоле милый,
Город грозной тишины!
Годы чудятся веками,
Но нельзя расстаться нам —
Город Чистополь на Каме,
На́ сердце горящий шрам.

С мужем Мария больше никогда не встретится. В 1942 году он умрёт от голода в лагере. А она вопреки всему всё надеялась, ждала, не хотела верить. И спустя ещё год, в 43-ем, писала:
Не нынче ль на пороге,
От го́ря как в бреду,
Я почтальону в ноги
С мольбою упаду...
Возможно ль быть несчастней?
Я жду тебя весь год,
Как смертник перед казнью
Помилованья ждет.

«У меня большое горе...» Песня на стихи М. Петровых Светланы лебедевой:
У меня большое горе
И плакать не могу.
Мне бы добрести до моря,
Упасть на берегу.
Не слезами ли, родное,
Плещешь через край?
Поделись хоть ты со мною,
Дай заплакать, дай!
Дай соленой, дай зеленой
Золотой воды,
Синим солнцем прокаленной,
ГорячЕй моей беды.
Я на перекресток выйду,
На колени упаду.
Дайте слез омыть обиду,
Утолить беду!
О животворящем чуде
Умоляю вас:
Дайте мне, родные люди,
Выплакаться только раз!
Пусть мольба моя нелепа,
Лишь бы кто-нибудь принес, -
Не любви прошу, не хлеба, -
Горсточку горючих слез.
Я бы к сердцу их прижала,
чтобы в кровь мою вошло,
Обжигающее жало,
От которого светло.
Словно от вины тягчайшей,
Не могу поднять лица...
Дай же кто-нибудь, о дай же
выплакаться до конца,
До заветного начала,
До рассвета на лугу...
Слишком больно я молчала,
Больше не могу.

«Любовь, о любовь, ты опять, опять!..»
Самое прекрасное в творчестве Марии Петровых — это её любовная лирика. Мало кто из современных поэтов сравнится с ней в умении выразить переживания любящего сердца. Это и мечта о любви, и радость встречи, и отчаянье разлуки, прямодушие признания и горечь оттого, что любовь угасает, оплакиванье умершего возлюбленного и ещё множество разных оттенков, фаз, коллизий любви запечатлено в её стихах.
Любовь, о любовь, ты опять, опять!
Следя за губами твоими,
я против желанья начну повторять
такое чужое имя.
О стыд! Мне бы надо глаза отвести
от пламени этих глаз
и — сил не хватило. Сердце, прости,
жажда замучит нас.

Люби меня. Я тьма кромешная.
Слепая, путанная, грешная.
Но ведь кому, как не тебе,
Любить меня? Судьба к судьбе.
Гляди, как в темном небе звезды
Вдруг проступают. Так же просто
Люби меня, люби меня,
Как любит ночь сиянье дня.
Тебе и выбора-то нет:
Ведь я лишь тьма, а ты лишь свет.

По стихам Петровых можно было бы обучать науке чувств, если бы таковая существовала. Своей бескомпромиссностью, трагизмом внутренней жизни, силой характера, нравственной чистотой её лирическая героиня напоминает героинь Достоевского:
Ты отнял у меня и свет и воздух,
И - хочешь знать, где силы я беру,
Чтобы дышать, чтоб видеть небо в звездах,
Чтоб за работу браться поутру?
Ну что же, я тебе отвечу, милый?
Растоптанные заживо сердца
Отчаянье вдруг наполняет силой,
Отчаянье без края, без конца.

Прощай. Насильно мил не будешь,
Глухого сердца не разбудишь.
Я — камень на твоем пути.
Ты можешь камень обойти.
Но я сказать хочу другое:
Наверно, ты в горах бывал,
И камень под твоей ногою
Срывался, падая в провал.

Но разве счастье взять руками голыми? -
Оно сожжет.
Меня швыряло из огня да в полымя
И вновь - об лед,
И в кровь о камень сердца несравненного, -
До забытья...
Тебя ль судить, - бессмертного, мгновенного,
Судьба моя!
Её лирике свойственна психологическая контрастность, резкость деталей, максимализм оценок.
Я равна для тебя нулю.
Что о том толковать, уж ладно.
Все равно я тебя люблю
Восхищенно и беспощадно,
И слоняюсь, как во хмелю,
По аллее неосвещенной,
И твержу, что тебя люблю
Беспощадно и восхищенно.

Эти её неповторимые интонации:
- Но в сердце твоем я была ведь?- Была:
Блаженный избыток, бесценный излишек...
- И ты меня вытоптал, вытравил, выжег?...
- Дотла, дорогая, дотла.
А вот стихотворение, которое Евтушенко включил в свой фолиант «Строфы века»:
Развратник, лицемер, ханжа…
От оскорбления дрожа,
Тебя кляну и обличаю.
В овечьей шкуре лютый зверь,
Предатель подлый, верь не верь,
Но я в тебе души не чаю.
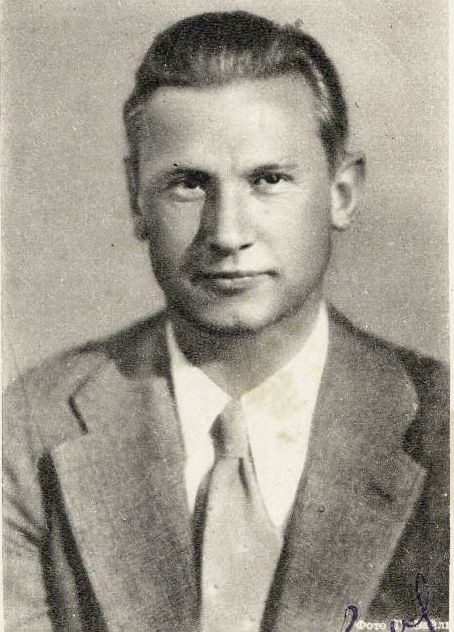
Вот стихотворение, в котором с неподражаемой простотой и достоинством выражена невозможность принять оскорбительность угасшей любви, суррогат её, непереносимость равнодушия любимого, прикрываемого притворной нежностью:
Что же это за игра такая?..
Нет уже ни слов, ни слез, ни сил...
Можно разлюбить - я понимаю,
но приди, скажи, что разлюбил.
Для чего же эти полувзгляды?
Нежности внезапной не пойму.
Отвергая, обнимать не надо.
Разве не обидно самому?
Я всегда дивлюсь тебе как чуду.
Не найти такого средь людей.
Я до самой смерти не забуду
Беспощадной жалости твоей...
Ещё одна песня о любви: «За что же изничтожено...» Поёт Светлана Лебедева:
За что же изничтожено,
Убито сердце верное?
Откройся мне: за что ж оно
Дымится гарью серною?
За что же смрадной скверною
В терзаньях задыхается?
За что же сердце верное
Как в преисподней мается?
За что ему отчаянье
Полуночного бдения
В предсмертном одичании,
В последнем отчуждении?..
Ты все отдашь задешево,
Чем сердце это грезило,
Сторонкой обойдешь его,
Вздохнешь легко и весело...
«Ты думаешь - правда проста? »
В её любовной лирике — ни извечной женской игры, ни лукавства, она поразительна открыта и прямодушна. Мария Петровых не любила недомолвок, она была прямым человеком.
Да, я горжусь, что могла ни на волос
Не покривить ни единой строкой,
Не напрягала глухой мой голос,
Не вымогала судьбы другой.
Это было её жизненным и творческим принципом. «Однажды, - пишет А. Гелескул, - в разговоре о чьих-то стихах — нехитрых, но для интересности запутанных, Мария Сергеевна обронила: - Я всё-таки люблю, когда пишут прямо». Пастернак называл это «прямым назначением речи». Речь не о понятности, граничащей с примитивом, а о жизненной важности, нешуточности, весомости сказанного.
Нередко поэты нарочно что называется мутят свою воду, чтобы она казалась глубже. Мария Петровых не только нисколько не мутит её, но старается сделать как можно прозрачнее. Она стремится обнажённо и честно выражать правду своей души. Отсюда столь характерный для неё аскетизм поэтической формы.

Ты думаешь - правда проста?
Попробуй, скажи.
И вдруг онемеют уста,
Тоскуя о лжи.
Какая во лжи простота,
Как с нею легко,
А правда совсем не проста,
Она далеко.
Ее ведь не проще достать,
Чем жемчуг со дна.
Она никому не под стать,
Любому трудна.
Ее неподатливый нрав
Пойми, улови.
Попробуй хоть раз, не солгав,
Сказать о любви...
Как будто дознался, достиг,
Добился, и что ж? -
Опять говоришь напрямик
Привычную ложь.
Тоскуешь до старости лет,
Терзаясь, горя...
А может быть, правды и нет -
И мучишься зря?
Дождешься ль ее благостынь?
Природа ль не лжет?
Ты вспомни миражи пустынь,
Коварство болот,
Где травы над гиблой водой
Густы и свежи...
Как справиться с горькой бедой
Без сладостной лжи?
Но бьешься не день и не час,
Твердыни круша,
И значит, таится же в нас
Живая душа.
То выхода ищет она,
То прячется вглубь.
Но чашу осушишь до дна,
Лишь только пригубь.
Доколе живешь ты, дотоль
Мятешься в борьбе,
И только вседневная боль
Наградой тебе.
Бескрайна душа и страшна,
Как эхо в горах.
Чуть ближе подступит она,
Ты чувствуешь страх.
Когда же настанет черед
Ей выйти на свет, -
Не выдержит сердце: умрет,
Тебя уже нет.
Но заживо слышал ты весть
Из тайной глуши,
И значит, воистину есть
Бессмертье души.
И в жизни она была такой же, как в поэзии. Её аскетичный быт — монашеская, почти стерильная чистота комнатки, похожей на строгую келью, где не было ни одной лишней, суетной вещи. Ни одной безделушки. Не было примет пребывания женщины в этом доме.
Она не любила и не умела наряжаться, не признавала моды: в середине 40-х годов ходила в шляпке 20-х. При всём её женском обаянии ей было свойственно гордое пренебрежение к элегантности (что роднило её с Цветаевой). Но при всём том она была истинной женщиной, способной увлечь, разбивать мужские сердца. Но женщиной, всегда возвращавшейся в своё гордое одиночество, говоря словами Цветаевой - «гетто избранничества», где не было места ни малейшему компромиссу ни в чём. Ни в стихах, ни в быту, ни в любви.

«Назначь мне свиданье»
И лишь однажды она не смогла совладать с собой, со своими принципами. Это было новое, захватившее её чувство. Любовь к человеку женатому, известному, талантливому. Это был Александр Фадеев.

Последняя любовь Марии, любовь счастливая, тайная, мучительная, запретная, трагически оборвавшаяся с его смертью.
Из воспоминаний Михаила Ардова: «В те годы мне приходилось регулярно общаться с Марией Сергеевной, и я могу засвидетельствовать, что именно доброта и ум были ее самыми характерными качествами. Так и вижу ее — невысокую, худую (хочется сказать — субтильную), с вечно дымящейся папиросой в откинутой правой руке…
Мы, двадцатилетние, смотрели на нее с некоторым изумлением. Нам было известно, что она отвергла любовные домогательства Мандельштама и что у нее был роман с Александром Фадеевым — именно ему Петровых посвятила свои стихи «Назначь мне свиданье…» В ту пору я и мои товарищи еще ничего не понимали в жизни, но уже чуть-чуть разбирались в литературе и мысленно сравнивали «Разгром» и «Молодую гвардию» с «Египетской маркой» и «Четвертой прозой»…» (Михаил Ардов, «Новый Мир», 1999, №5)
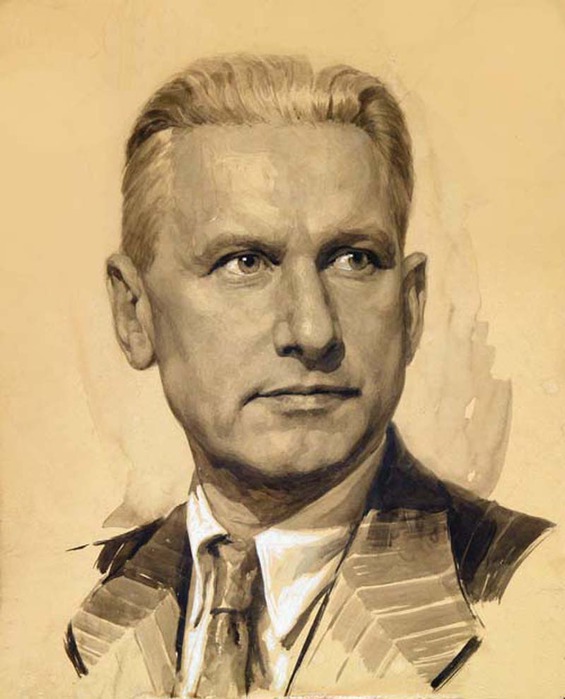

Стихотворение «Назначь мне свиданье…» А. Ахматова назвала «шедевром русской любовной лирики 20 века». Оно было написано в 1953 году в городе Дубулты, где влюблённые провели несколько незабываемых дней.

Раз услышав, это стихотворение забыть уже невозможно. Оно поразило и Ахматову, и Лидию Чуковскую, и Маршака — всех, кто его слышал, тем, что голос автора звучит в нём запредельно высокой нотой (то, что давалось только перу Цветаевой). Начиная где-то с середины, стихотворение движется вверх, вверх и вверх, буквально измучивая читателя, и там, на самом верху, где стих уже обрывается в слёзы, там и у читателя обрывается дыхание. Приходится делать физическое усилие, чтобы перевести дух и начать следующую строчку. Как после всхлипа. Такое вот единство ритма, дыхания и души.

Назначь мне свиданье
на этом свете.
Назначь мне свиданье
в двадцатом столетье.
Мне трудно дышать без твоей любви.
Вспомни меня, оглянись, позови!
Назначь мне свиданье
в том городе южном,
Где ветры гоняли
по взгорьям окружным,
Где море пленяло
волной семицветной,
Где сердце не знало
любви безответной.
Ты вспомни о первом свидании тайном,
Когда мы бродили вдвоем по окрайнам,
Меж домиков тесных,
по улочкам узким,
Где нам отвечали с акцентом нерусским.
Пейзажи и впрямь были бедны и жалки,
Но вспомни, что даже на мусорной свалке
Жестянки и склянки
сверканьем алмазным,
Казалось, мечтали о чем-то прекрасном.
Тропинка все выше кружила над бездной...
Ты помнишь ли тот поцелуй поднебесный?..
Числа я не знаю,
но с этого дня
Ты светом и воздухом стал для меня.
Пусть годы умчатся в круженье обратном
И встретимся мы в переулке Гранатном...
Назначь мне свиданье у нас на земле,
В твоем потаенном сердечном тепле.
Друг другу навстречу
по-прежнему выйдем,
Пока еще слышим,
Пока еще видим,
Пока еще дышим,
И я сквозь рыданья
Тебя заклинаю:
назначь мне свиданье!
Назначь мне свиданье,
хотя б на мгновенье,
На площади людной, под бурей осенней,
Мне трудно дышать, я молю о спасенье...
Хотя бы в последний мой смертный час
назначь мне свиданье у синих глаз.

Эти стихи обладают какой-то магической силой заклинания. Петровых раскрывается в них бесстрашно, безоглядно, исповедально. Да, «ни ахматовской кротости, ни цветаевской ярости». Характер иной, причём не стесняющийся своей инакости, и даже где-то вступающий в скрытую полемику со своими знаменитыми товарками. Если Цветаева бросает призыв: «Тебе — через сто лет», предпочитая несовершенству сегодняшнего возлюбленного — идеальность будущей читательской души, то перед Марией Петровых такой выбор не встаёт:

Назначь мне свиданье у нас на земле,
В твоем потаенном сердечном тепле.
Друг другу навстречу
по-прежнему выйдем,
Пока еще слышим,
Пока еще видим,
Пока еще дышим...
В этом трижды повторенном «пока ещё» - отчаянное чувство конечности жизни, хрупкости земного бытия. Она больно ощущает бесповоротность и окончательность смерти. И если Цветаева свободно чувствует себя в воображаемом царстве небытия, смерть любимого не пугает её, - она пишет письма Рильке на тот свет («с Новым годом, светом, краем, кровом»), она как бы не видит большой разницы между тем и этим светом («жизнь и смерть давно беру в кавычки, как заведомо пустые сплёты»), то Марию Петровых ужасает эта «бездна, развёрстая вдали», она со страхом вглядывается в неё:
И небо в нелюдимых звёздах,
чужая, нежилая жуть...

Она земная, она хочет любить здесь, на земле, человека из плоти и крови.
Давно я не верю надземным широтам,
Я жду тебя здесь за любым поворотом,—
Я верю, душа остается близ тела
На этом же свете, где счастья хотела,
На этом, где всё для нее миновалось,
На этом, на этом, где с телом рассталась,
На этом, на этом, другого не зная,
И жизнь бесконечна — родная, земная...

«Он всех любил»
Любил ли он Марию?
Из интервью с Т. Жирмунской: «Фадеев её (Петровых) любил? - Он всех любил».
А. Фадеев был женат тогда на актрисе Ангелине Степановой, воспитывал её сына от предыдущего брака и их общего сына Мишу (который первым обнаружил отца мёртвым).

Ангелина Степанова
В 1942 году он встретил и увлёкся Маргаритой Алигер, которая через год родила от него дочь Машу.

Маргарита Алигер

Мария Алигер (Энценсбергер), дочь Фадеева
Маша была очень похожа на отца и в какой-то степени повторила его судьбу. Выйдя замуж за немецкого поэта Ганса-Магнуса Энценсбергера, она покончила с собой в Лондоне в 1991 году.
Маргарита Алигер тоже писала стихи, навеянные жизнью и разлукой с любимым, и в них мы встречаем образ тех же незабываемых «синих глаз»:
… И впервые мы проснулись рядом
смутным утром будничного дня.
Синим-синим, тихим-тихим взглядом
ты глядел безмолвно на меня.
***
Светлые, прозрачные глаза
твёрдости остывшего металла…
Не о вас ли много лет назад,
смолоду я думала, мечтала?
Поздно мне пришлось вас повстречать,
да и посветили вы мне скупо…
Что же, мне об этом закричать?
Зарыдать? Не стоит. Поздно. Глупо.
Не хочу сказать, что Фадеев «на голубом глазу» обманывал всех трёх женщин, он сам был очень увлекающимся человеком, но как-то не по себе, когда видишь одинаковые даты под стихами о счастливой взаимной любви и у Алигер, и у Петровых, и при этом те же даты на снимках, где он запечатлён счастливым семьянином.

«Горе навалилось каменной доской...»
Весной 1956 года Александр Фадеев застрелился.
Мария Петровых очень тяжело пережила эту смерть.
Мне лишь бы не слышать, не видеть,
Не знать никого, ничего,
Не мыслю живущих обидеть,
Но как здесь темно и мертво!
Иль попросту жить я устала,
И ждать, и любить, не любя...
Всё кончено. В мире не стало —
Подумай! — не стало тебя.
У неё целый цикл стихотворений, датированных 1956-57 годом, которые условно можно было бы озаглавить «На смерть любимого». Стихи эти настолько непосредственны и непроизвольны, что кажется, будто возникли без ведома автора — созрев, сами разбили скорлупу и вырвались на свободу. Как всхлип, как крик, как стон.
Мы рядом сидим.
Я лицо дорогое целую.
Я голову глажу седую.
Мне чудится возле
какая-то грозная тайна,
А ты говоришь мне,
что все в этой жизни случайно.
Смеясь, говоришь:
- Ну а как же? Конечно, случайно.-
Так было во вторник.
И вот подошло воскресенье.
Из сердца вовек не уйдет
этот холод весенний.
Тебя уже нет,
а со мною что сталось, мой милый...
Я склоняюсь над свежей твоею могилой.
Я не голову глажу седую -
Траву молодую.
Не лицо дорогое целую,
А землю сырую.

Эти стихи чем-то близки русским песням, народным плачам, причитаниям.
У твоей могилы вечный непокой,
Приглушенный говор суеты людской.
Что же мне осталось, ангел мой небесный!
Без тебя погибну в муке бесполезной.
Без тебя погибну в немоте железной.
Сердце истомилось смертною тоской.
Горе навалилось каменной доской.

Песню на стихи Марии Петровых поёт Светлана Лебедева:
Ты думаешь, что силою созвучий
Как прежде жизнь моя напряжена.
Не думай так, не мучай так, не мучай, —
Их нет во мне, я как в гробу одна.
Ты думаешь — в безвестности дремучей
Я заблужусь, отчаянья полна.
Не думай так, не мучай так, не мучай, —
Звезда твоя, она и мне видна.
Ты думаешь — пустой, ничтожный случай
Соединяет наши имена.
Не думай так, не мучай так, не мучай, —
Я — кровь твоя, и я тебе нужна.
Ты думаешь о горькой, неминучей,
Глухой судьбе, что мне предрешена.
Не думай так: мяте́тся прах летучий,
Но глубь небес таинственно ясна.
Она очень долго не могла забыть его, привыкнуть к мысли, что его уже нет. В стихотворении «Ты не становишься воспоминаньем...» писала:
Мне верилось, что это лишь начало,
Что это лишь преддверие чудес,
Но всякий раз, когда тебя встречала,
Я словно сердцу шла наперерез…
И я ещё живу, ещё дышу,
Ещё брожу одна по тёмным чащам,
И говорю с тобою, и пишу,
Прошедшее мешая с настоящим…
Ты был моей любовью многолетней,
А я — твоей надеждою последней,
И не нашла лишь слова одного,
А ты хотел его, ты ждал его,
Оно росло во мне, но я молчала,
Мне верилось, что это лишь начало.
Я шла, не видя и не понимая
Предсмертного страданья твоего.
Я чувствовала светлый холод мая,
И ты со мной, и больше ничего…
О как тебя я трепетно касалась!
Но счастье длилось до того лишь дня,
Пока ты жил, пока не оказалось,
Что даже смерть желаннее меня.

К твоей могиле подойду,
К плите гранитной припаду.
Здесь кончился твой путь земной,
Здесь ты со мной, ты здесь со мной.
Но неужели только здесь?
А я? А мир окрестный весь?
А небо синее? А снег?
А синева ручьев и рек?
А в синем небе облака?
А смертная моя тоска?
А на лугах седой туман?..
Не сон и не самообман:
Когда заговорит гроза,
Вблизи блеснут твои глаза -
Их синих молний острия...
И это вижу только я.

Посмотрите великолепный видеоклип на стихи Марии Петровых. Читает и поёт Светлана Крючкова.
"Не отчаивайся никогда..."
Судьба Марии Петровых — отражение судеб многих и многих интеллигентов нашей страны, по которым тяжёлым катком проехалась безжалостная эпоха.
Судьба за мной присматривала в оба,
Чтоб вдруг не обошла меня утрата.
Я потеряла друга, мужа, брата,
Я получала письма из-за гроба... -
пишет она в стихах 60-х годов. И этот пристрастный, жестокий «присмотр судьбы» лежит на всей поэзии Петровых, придавая ей трагический накал. Жизнь летела под откос, крошилась под ударами судьбы, утекала, как вода в песок. Что помогло ей не сломаться, нравственно не погибнуть, а выстоять? Стоицизм, свойственный её человеческой природе? Моральные понятия, заложенные в детстве? Вера в Бога? Ответственность за судьбу дочери? Да, всё это, вместе взятое, но главным противовесом, «спасательным кругом» была поэзия, творчество, слово, которое более всего другого — более любви, дружбы, долга — давало силы жить.
Никто не поможет, никто не поможет,
Метанья твои никого не тревожат;
В себе отыщи непонятную силу,
Как скрытую золотоносную жилу.
Она затаилась под грохот обвала,
Поверь, о, поверь, что она не пропала,
Найди, раскопай, обрети эту силу
Иль знай, что себе ты копаешь могилу.
Пока ещё дышишь - работай, не сетуй,
Не жди, не зови - не услышишь ответа,
Кричишь ли, молчишь - никого не тревожит,
Никто не поможет, никто не поможет...
Жестоки, неправедны жалобы эти,
Жестоки, неправедны эти упрёки, -
Все люди несчастны и все одиноки,
Как ты, одиноки все люди на свете.

Не отчаивайся никогда,
Даже в лапах роковой болезни,
Даже пред лицом сочтённых дней.
Ничего на свете нет скучней,
И бессмысленней, и бесполезней,
Чем стенать, что зря прошли года.
Ты ещё жива. Начни сначала.
Нет, не поздно: ты ещё жива.
Я не раз тебя изобличала,
И опять ключами ты бренчала
У дверей в тайницу волшебства.
Мне кажется, такие стихи надо всем переписать, выучить и повторять, как молитву, как заклинание в трудную минуту. Когда-то одному священнику в лагере помогли выжить строки Ахматовой, когда тот хотел покончить с собой. В последнюю минуту кто-то вложил ему в руку листок с переписанными строчками:
У меня сегодня много дела:
надо память до конца убить.
Надо, чтоб душа окаменела.
Надо снова научиться жить.
Стихи Петровых — тоже из этой категории — спасающих, удерживающих на краю. Но они зовут не к окаменению души — хотя так, возможно, и легче, - а к возрождению, восстанию из пепла («...что б ни было — отмучайся, но жизнь сумей сберечь»).

«Уж лучше бы мне череп раскроили...»
Нет, она не была «железной леди», а живой женщиной, часто жалующейся в стихах на житейские невзгоды, утраты и разочарования. Отчаяние бывало так велико, что, казалось, не вмещалось в сердце и выплёскивалось в стихи.
Уж лучше бы мне череп раскроили,
Как той старухе, — в кухне, топором,
Или ножом пырнули, или, или…
А этих мук не описать пером...
Ужаснусь, опомнившись едва, -
Но ведь я же родилась когда-то.
А потом? А где другая дата?
Значит, я жива еще? Жива?
Как же это я в живых осталась?
Господи, но что со мною сталось?
Господи, но где же я была?
Господи, как долго я спала.
Господи, как страшно пробужденье,
И такое позднее - зачем?
Меж чужих людей как привиденье
Я брожу, не узнана никем.
Никого не узнаю. Исчез он,
Мир, где жили милые мои.
Только лес еще остался лесом,
Только небо, облака, ручьи.
Господи, коль мне еще ты внемлешь,
Сохрани хоть эту благодать.
Может, и очнулась я затем лишь,
Чтоб ее впервые увидать.
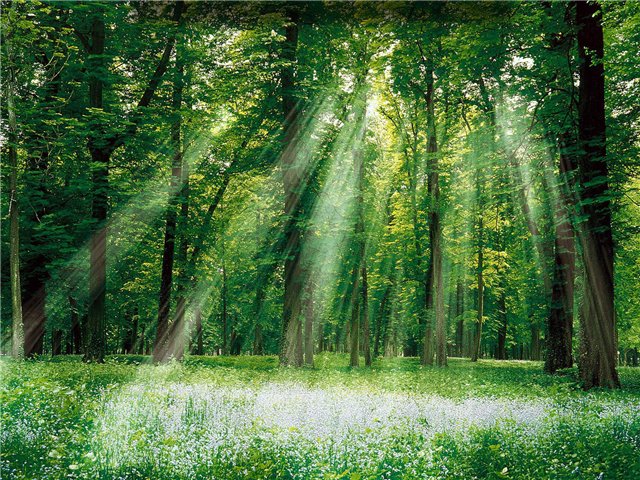
После долгих лет разлуки
В летний лес вхожу с тревогой.
Тот же гул тысячезвукий,
Тот же хвойный сумрак строгий...
Здравствуй, лес! К тебе пришла я
С безутешною утратой.
О, любовь моя былая,
Приголубь меня, порадуй!
Утрат было столько, что хватило бы на несколько жизней. Смерть любимого:
Не от жестокости — из милосердья
ты за собой позвал меня в тот час,
в тот страшный час твоей, нет, нашей смерти,
соединившей, разлучившей нас.
Я ненавижу смерть.
Я ненавижу смерть.
Любимейшего я уж не услышу…
Мне б за него и день и ночь молиться:
О жизнь бесценная, умилосердь
Неведомое, чтобы вечно длиться!
Я ненавижу смерть.
Тоска по нерождённому сыну:
Мой сын, дитя моё родное, —
Чьей мы разлу́чены виною?
Никто, мой друг, не виноват.
Мой сын, моё дитя, мой брат,
Моё сокровище, мой враг,
Моё ничто, мой светлый мрак…
Как странно, как бесчеловечно,
Что ты в душе моей навечно.
Мучительная размолвка с дочерью уже под конец жизни:
«У меня к тебе двойственное отношение…»
В этих словах, что сказала мне ты, —
Мой конец, ибо в них от тебя отрешенье
И последнее чувство слепой пустоты.
Я грешна пред тобой. Если можешь — прости.
Я молюсь за тебя, чтобы стала счастливой,
Чтоб надежды сбылись… ну а след мой найти
Не пытайся. Прощай. Разминулись пути.
Буду замертво жить. Буду жить терпеливо.
В 1976 году у дочери Арины родилась Настя, Мария во внучке души не чаяла. Остро встал квартирный вопрос. Вернее, дочь его так остро поставила, что Петровых жаловалась Инне Лиснянской при встречах и по телефону на грубые скандалы, учиняемые дочерью.
Неужели вот так до конца
Будем жить мы, друг другу чужие?
Иль в беспамятстве наши сердца?
Всё-то думается: не скажи я
Слов каких-то (не знаю каких!) —
Не постигло бы нас наважденье,
Этот холод и мрак отчужденья,
Твёрдый холод, объявший двоих.
Начались хлопоты, которых Мария ужасалась, да и переезжать ей никуда не хотелось, но ради дочери и внучки готова была сделать всё, что в её силах. Лиснянская ездила с ней в СП, просила, умоляла, хлопотала... Не знаю, помирились ли они, или так и ушла она с болью в сердце.
В лютую зиму 1979-го Петровых попала в больницу: почки. Никто тогда ещё не знал, как неизлечимо она заболела. Мария Сергеевна скончалась 1 июня 1979 года в возрасте 71 года.
А за две недели до смерти она сама себе написала эпитафию, которая, по её просьбе, была вырезана на её могильном камне:
Недостойной дарован Господней рукой
во блаженном успении вечный покой.
Похоронена на Введенском кладбище в Москве.

«Но светится твой тайный след»
У Давида Самойлова есть несколько стихотворений, посвящённых Марии Петровых, но я приведу лишь это посвящение Арсению Тарковскому:

Мария Петровых да ты
В наш век безумной суеты
Без суеты писать умели.
К тебе явился славы час.
Мария, лучшая из нас,
Спит, как младенец в колыбели.
Благослови её Господь!
И к ней придёт земная слава.
Зато на сможет уколоть
Игла бесчестия и срама.
Среди усопших и живых
Из трёх последних поколений
Ты и Мария Петровых
Убереглись от искушений
И в тайне вырастили стих.
Её любовные признания, её гражданский гнев, её всегдашний моральный суд над собой всегда будут необходимы каждому, кто ищет вечные ориентиры в трудном жизненном пути.
... И вы уж мне поверьте,
Что жизнь у нас одна,
И слава после смерти
Лишь сильным суждена.
Не та пустая слава
Газетного листка,
А сладостное право
Опережать века.
...Не шум газетной оды,
Журнальной болтовни, -
Лишь тишина свободы
Прославит наши дни.
Не похвальбой лукавой,
Когда кривит строка,
Вы обретете право
Не умолкать века.
Один лишь труд безвестный -
За совесть, не за страх,
Лишь подвиг безвозмездный
Не обратится в прах...
Строка Мандельштама «ты, Мария, гибнущим подмога» оказалась справедливой, актуальной и для нас. Её поэзия и она сама — подмога и нам, нынешним.
Подумай, разве в этом дело,
Что ты судьбы не одолела,
Не воплотилась до конца,
Иль будто и не воплотилась,
Звездой падучею скатилась,
Пропав без вести, без венца?
Не верь, что ты в служеньи щедром
Развеялась, как пыль под ветром.
Не пыль - цветочная пыльца!
Не зря, не даром все прошло.
Не зря, не даром ты сгорела,
Коль сердца твоего тепло
Чужую боль превозмогло,
Чужое сердце отогрело.
Вообрази - тебя уж нет,
Как бы и вовсе не бывало,
Но светится твой тайный след
В иных сердцах... Иль это мало -
В живых сердцах оставить свет?

Скольких людей смогли и ещё смогут утешить эти стихи! Когда-то в дневнике Мария записала такие строки:
При жизни я была так глубоко забыта,
что мне посмертное забвенье не грозит.
Эти слова оказались пророческими. Об этом хорошо сказал Яков Хелемский в своём лирическом посвящении Марии Петровых:
Звучащее негромко,
написанное впрок -
для суетных потомков
несуетный урок.
Так, выходя из тени,
вдруг излучает свет
своё предназначенье
исполнивший поэт.
В заключение — несколько фотографий с вечера, посвящённого Марии Петровых, который я проводила в нашей библиотеке.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/86773.html
|
|
Процитировано 11 раз
Понравилось: 9 пользователям
"Слишком больно я молчала..." |

Начало здесь
26 марта 1908 года родилась Мария Петровых.
Долгое время она была известна лишь как переводчица. А между тем личность её была более крупного масштаба, чем эта, оцененная её сторона. Стихи же писала «в стол», для себя, и не только напечатать, но даже прочесть их с трудом удавалось уговорить лишь самым близким друзьям.
«Тем лучше, что ты до конца одинока...»
Из дневника Марии Петровых: «Я не носила стихов по редакциям. Было без слов понятно, что они «не в том ключе». Да и в голову не приходило не мне, не моим друзьям печатать свои стихи. Важно было одно: писать их». Потом это кредо она выразит в стихах:
Мы начинали без заглавий,
чтобы окончить без имён.
Нам даже разговор о славе
казался жалок и смешон.
Как писал Пастернак: «Цель творчества — самоотдача, а не шумиха, не успех». Это было как о ней сказано. Не все поэты придерживались этого правила. Есенина, например, ужасала участь безвестности. «Не будет славы — никто не услышит, - говорил он. - Всё псу под хвост пойдёт. Так вот Пастернаком всю жизнь и проживёшь». (Участь отшельника Пастернака казалась ему незавидной). Петровых была в этом плане полной его противоположностью. «Отдать стихи в печать, - говорила она, - всё равно что обнажённой показаться людям». Но это, как мне кажется, уже другая крайность.
Маршак жаловался: «Эта женщина — мой палач! Читает мне свои стихи. Я прошу — дайте рукопись! Ручаюсь, я устрою её в издательство. - Ни за что!»
Что это — скромность? Гордость? Тут был целый комплекс причин такого поведения. Марии Петровых было свойственно особое, целомудренное отношение к слову. Она страшилась быть редактируемой. Боялась, что чья-то злая воля будет вторгаться в её выношенные строки. Что ей придётся испытать влияние чьего-то постороннего вкуса, столкнуться с непониманием... Её скромность была равна её гордости. А может быть, эта творческая независимость была средством самозащиты.
Однажды, ещё в 40-е годы Петровых представила в издательство «Советский писатель» свой первый сборник стихов. Влиятельный критик Е. Книпович написала на него отрицательную внутреннюю рецензию, обвинив автора в пессимизме и «несозвучности эпохе». С тех пор Мария замкнулась в себе и больше уже никогда ни к кому со стихами не обращалась.

Мертвеешь от каждого злобного слова,
Мертвеешь от каждого окрика злого,
Застонешь в тоске и опомнишься тут же —
Чем хуже, тем лучше, чем хуже, тем лучше,
Тем лучше, что ты до конца одинока,
Тем лучше, что день твой начнется с попрека,
Тем лучше, что слова промолвить не смеешь,
Тем лучше, что глубже и глубже немеешь,
Тем лучше, коль в эти бессонные ночи
Ясней сердцевина твоих средоточий,
Ты смолоду знала и ты не забыла,
Что есть в одиночестве тайная сила —
В терпенье бесслезном, в молчанье морозном,
В последнем твоем одиночестве грозном.
Да, стихи Петровых были «несозвучны эпохе», но это было, скорее, их достоинством. Голос этой поэтессы ни разу не прозвучал в общем хоре лицемерно-бравурных, фальшиво-счастливых голосов, прославлявших враждебную человеческой душе эпоху.
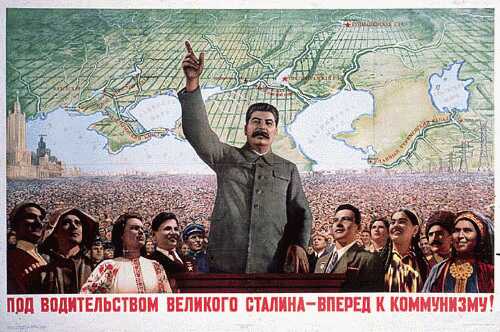
Она сохранила себя, свою душу, свою музу, своё лицо. Вот только цена за это была очень высока. Она заплатила пожизненным отлучением от читателя. А это плохо и для того, и для другого. Читатель — ограблен, поэт — изломан.
Безвестность, отъединённость от читателя рождали неуверенность в себе, постоянные сомнения в собственном даре, ощущение, что она не реализовалась, не воплотилась до конца. С этим мучительным горьким чувством она жила всю жизнь.
У других — пути-дороги,
у других — плоды труда,
у меня — пустые строки,
горечь тайного стыда.

К своей заветной цели
Я так и не пришла.
О ней мне птицы пели,
О ней весна цвела.
Всей силою рассвета
О ней шумело лето,
Про это лишь, про это
Осенний ветер пел,
И снег молчал про это,
Искрился и белел.
Бесценный дар поэта
Зарыла в землю я.
Велению не внемля,
Свой дар зарыла в землю...
Для этого ль, затем ли
Я здесь была, друзья!

Это было то святое недовольство собой, когда судишь своё творчество по гамбургскому счёту, «ревнуя к Копернику», высоко ставя перед собой планку искусства.
«Ни ахматовской кротости, ни цветаевской ярости...»
Ни ахматовской кротости,
Ни цветаевской ярости -
Поначалу от робости,
А позднее от старости.
Не напрасно ли прожито
Столько лет в этой местности?
Кто же все-таки, кто же ты?
Отзовись из безвестности!..
О, как сердце отравлено
Немотой многолетнею!
Что же будет оставлено
В ту минуту последнюю?
Лишь начало мелодии,
Лишь мотив обещания,
Лишь мученье бесплодия,
Лишь позор обнищания.
Лишь тростник заколышется
Тем напевом, чуть начатым...
Пусть кому-то послышится,
Как поет он, как плачет он.
Послушайте песню на эти стихи в исполнении Светланы Лебедевой: http://rutube.ru/video/4d5b72a0b8d2aba5a8d2d21501ff57ed/
Эти строки были написаны ею уже на исходе шестого десятка. Какой суровый и горестный приговор себе! Но при этом какая музыка стиха! Как завораживающе действует именно это сочетание сомнения, разочарования в себе, святого недовольства собой и — отточенного высокого мастерства! Признавался ли кто-нибудь более убедительно и талантливо в собственной несостоятельности, тем более, что несостоятельность эта — лишь субъективное ощущение поэтессы?
Да, стихи Марии Петровых, может быть, не так ярки, броски, рельефны и эффектны, чем у тех, с кем она себя сравнивает, но они берут другим: ясностью, прозрачностью, прямодушием, искренностью, какой-то невыразимой женской тревогой.

Не плачь, не жалуйся, не надо,
Слезами горю не помочь.
В рассвете кроется награда
За мученическую ночь.
Сбрось пламенное покрывало
И платье наскоро надень
И уходи куда попало
В разгорячающийся день.
Тобой овладевает солнце.
Его неодолимый жар
В зрачках блеснет на самом донце,
На сердце ляжет, как загар.
Когда в твоем сольется теле
Владычество его лучей,
Скажи по правде - неужели
Тебя ласкали горячей?
Поди к реке и кинься в воду
И, если можешь, - поплыви.
Какую всколыхнешь свободу,
Какой доверишься любви!
Про горе вспомнишь ты едва ли.
И ты не назовешь - когда
Тебя нежнее целовали
И сладостнее, чем вода.
Ты вновь желанна и прекрасна,
И ты опомнишься не вдруг
От этих ласково и властно
Струящихся по телу рук.
А воздух? Он с тобой до гроба,
Суровый или голубой,
Вы счастливы на зависть оба, -
Ты дышишь им, а он тобой.
И дождь придет к тебе по крыше,
Все то же вразнобой долбя.
Он сердцем всех прямей и выше,
Всю ночь он плачет про тебя.
Ты видишь - сил влюбленных много.
Ты их своими назови.
Неправда, ты не одинока
В твоей отвергнутой любви.
Не плачь, не жалуйся, не надо,
Слезами горю не помочь.
В рассвете кроется награда
За мученическую ночь.

Да, она была другая, и природа её дара иная, чем у Ахматовой и Цветаевой. Если Ахматова писала о своих взаимоотношениях с музой:
Подумаешь! Тоже, работа -
беспечное это житьё:
подслушать у музыки что-то
и выдать шутя за своё... -
то для Петровых поэзия — это всегда тяжкий путь от немоты к слову, внешний мир не отдаёт ей своих красок и звуков так легко, как Ахматовой. Это состояние ей надо выносить, выстрадать.
Всё больше мы боимся слов
и верим немоте.
И путь жесток, и век суров,
и все слова не те.
«Домолчаться до стихов»
Есть у Марии Петровых стихотворение: «Одно мне хочется сказать поэтам: «Умейте домолчаться до стихов». Для неё это была не просто фраза. Она сама поступала так всю жизнь. Пыталась подслушать главные слова у внешнего мира, у природы, учась у них подлинности.
Но у вьюги лучше получалось,
оттого-то мне и замолчалось.
Это тютчевское молчание, "Silentium ", когда страшишься непонимания, неадекватности своих слов правде жизни: «Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?»
У Э. Радзинского в пьесе «Сто четыре страницы про любовь» героиня произносит фразу: «Если бы все люди лет на пять замолчали... Тогда у всех слов появился бы смысл...»
Об этом говорил и Николай Ушаков: «Чем продолжительней молчанье — тем удивительнее речь». Вот и Петровых жила и писала по этим заветам.
Во мне живого места нет,
и все дороги пройдены,
и я молчу десятки лет
молчаньем горьким родины.
Её слова были промыты молчанием, как золото в старательском лотке, и лишь самые веские оставались на дне. У М. Петровых есть стихотворение «Немого учат говорить», которое заканчивалось так:
Он мучится не день, не год,
за звук живой — костьми поляжет.
Он речь нескоро обретёт,
но он своё когда-то скажет.
Это стихи о поэте, который ищет свой голос в поэзии.
Многие авторы так привыкают к стихотворству, что все впечатления бытия тащат в стих: что прочитали, увидели, что передумали, пережили в череде дней — всё становится материалом для поэзии. Так пишут многие. «Поэзия валяется под ногами», - говорил Пастернак. «Стихи растут из сора», - считала Ахматова. Мария Петровых пошла другим, редким путём: она писала стихи только в минуты потрясений, оставив за чертой творчества обыденное течение жизни. В её стихах нет быта, узнаваемых примет повседневности, почти нет литературных реминисценций. Она прибегает к лирическому самовыражению лишь в тех редких случаях, когда повод для этого действительно весом и серьёзен.

Петровых — поэт крупных, выстраданных чувств, прорвавшихся сквозь мучительную немоту, и потому всегда настоящих. Это потрясение может быть связано с чем угодно: с горестным сознанием утраты близкого человека, пронзительным чувством материнства, может быть рождено поразившей душу красотой неожиданно открывшегося пейзажа, это может быть воспоминание о потрясениии, испытанном когда-то. Но это, как правило, именно потрясение, а не просто мимолётное движение души. Необходим этот толчок, чтобы что-то дрогнуло в груди. И только тогда рождаются стихи.
Какое уж тут вдохновение, — просто
Подходит тоска и за горло берёт.
И сердце сгорает от быстрого роста,
И грозных минут наступает черёд,
Решающих разом — петля́ или пуля,
Река или бритва, но наперекор
Неясное нечто, тебя карауля,
Приблизится произнести приговор...
И дальше ты пишешь, — не слыша, не видя,
В блаженном бреду́ не страшась чепухи,
Не помня о боли, не веря обиде,
И вдруг понимаешь, что это стихи.
«Вот кого надо записывать»
Пастернак считал, что искусство - это умение сказать правду. Он писал: «Единственное, что в нашей власти — это суметь не исказить голоса жизни, в нас звучащего». Мария Петровых тоже всю жизнь к этому стремилась в творчестве: не солгать перед жизнью. Подолгу мучительно вслушиваясь в своё молчание, она ждала, когда жизнь скажет за неё. Права на иные стихи, не продиктованные судьбой, она за собой не признавала. Ну а много ли таких потрясений наберётся за человеческую жизнь? Потому и стихов у Петровых было так мало: немногим более 150-ти за 70 лет жизни. Но, как говорил Фет о первом сборничке Тютчева: «Вот эта книжка небольшая томов премногих тяжелей».
Первая книжка Марии Петровых вышла лишь в 1968 году, когда ей было уже 60. Да и вышла не у нас, а в Ереване, усилиями армянских друзей, которых она переводила. Назывался сборник «Дальнее дерево». Послушайте стихотворение, давшее название книге, в исполнении самого поэта:
Мария редко читала свои стихи и более полутора десятка лет записать её чтение не удавалось никому. Но вот однажды — это было в конце 1962 года — переводчица Ника Николаевна Глен, у которой тогда гостила Ахматова, решила записать её чтение на «Днепр-5» (тогда эти магнитофоны были ещё редкостью), на что та сказала, указав на находившуюся там же Петровых: «Вот кого надо записывать». И попросила её прочитать именно это стихотворение. Ахматова называла его «осинкой» и говорила, что оно — из самых её любимых, что дерево в нем «с каждой строкой все больше похоже» на саму Марию Сергеевну. Мария не посмела ей отказать и прочла.
Дальнее дерево
От зноя воздух недвижим,
Деревья как во сне.
Но что же с деревом одним
Творится в тишине?
Когда в саду ни ветерка,
Оно дрожмя дрожит...
Что это - страх или тоска,
Тревога или стыд?
Что с ним случилось? Что могло б
Случиться? Посмотри,
Как пробивается озноб
Наружу изнутри.
Там сходит дерево с ума,
Не знаю почему.
Там сходит дерево с ума,
А что с ним - не пойму.
Иль хочет что-то позабыть
И память гонит прочь?
Иль что-то вспомнить, может быть,
Но вспоминать невмочь?
Трепещет, как под топором,
Ветвям невмоготу, -
Их лихорадит серебром,
Их клонит в темноту.
Не в силах дерево сдержать
Дрожащие листки.
Оно бы радо убежать,
Да корни глубоки.
Там сходит дерево с ума
При полной тишине.
Не более, чем я сама,
Оно понятно мне.

Книгу эту украсил портрет Марии Петровых кисти М. Сарьяна (1946), который после войны висел в Третьяковской галерее.

Мария запечатлена на нём, по мнению тех, кто её знал, очень верно и проникновенно. Миловидное лицо, обрамлённое короткими пушистыми волосами, чёлка, но не ахматовская, а своя, разделённая на пряди, открывавшая лоб. Напряжённость устремлённой вперёд фигуры навстречу собеседнику, как воплощённое в жесте внимание к нему. Печальный, скорбный взгляд, словно чуть виноватый. «Мастерица виноватых взоров, маленьких держательница плеч», - писал о ней Мандельштам.
Книжка «Дальнее дерево» вышла тиражом всего в 5 тысяч экземпляров. Сейчас это уже раритет. Это единственная книга Петровых, вышедшая при её жизни.
Второй раз Марию Петровых удалось записать в октябре 1978 года, за полгода до смерти.
Черта горизонта
Вот так и бывает: живешь — не живешь,
А годы уходят, друзья умирают,
И вдруг убедишься, что мир не похож
На прежний, и сердце твое догорает.
Вначале черта горизонта резка —
Прямая черта между жизнью и смертью,
А нынче так низко плывут облака,
И в этом, быть может, судьбы милосердье.
Тот возраст, который с собою принес
Утраты, прощанья, наверное, он-то
И застил туманом непролитых слез
Прямую и резкую грань горизонта.
Так много любимых покинуло свет,
Но с ними беседуешь ты, как бывало,
Совсем забывая, что их уже нет…
Черта горизонта в тумане пропала.
Тем проще, тем легче ее перейти, —
Там эти же рощи и озими эти ж…
Ты просто ее не заметишь в пути,
В беседе с ушедшим — ее не заметишь.

«Черта горизонта» - так называлась третья книга Марии Петровых, вышедшая в Ереване в 1986 году, куда помимо стихов и переводов вошли воспоминания 17-ти её современников: сестры, друзей студенческой поры: А. Тарковского, Д. Самойлова, Л. Озерова и других.
«Это было жизнь тому назад»
Мария Сергеевна Петровых родилась 26 марта 1908 года в посёлке Норский Посад, что в двенадцати километрах от Ярославля.

Отец был директор фабрики, мать домохозяйка. В семье - семеро детей, Мария была младшей.

Детство её было счастливым. Любовь родителей друг к другу, к детям, крепкие традиции, достаток, стабильность. Няни, гувернантки.
Старый дом, полный цветов.

Волга в пяти минутах ходьбы от дома и впадавшая в неё речка Нора.


Красота среднерусской природы, запавшая в душу. Как часто она будет вспоминать это потом. - То, что спасало, давало силы жить. В стихотворении «Сон», посвящённом сестре Кате, Мария писала:

Да, всё реже и уже с трудом
Я припоминаю старый дом
И шиповником заросший сад —
Сон, что снился много лет назад.
Побежим с тобой вперегонки
По крутому берегу реки.
Дай мне руки, трепетанье рук…
О, какая родина вокруг!
В темной глубине зрачков твоих
Горечи хватает на двоих,
Но засмейся, вспомни старый сад..
Это было жизнь тому назад.

«Как я умудрилась в него не влюбиться?»
В Ярославле Мария закончила школу, там же ещё в детстве начала писать стихи. Посещала занятия ярославского союза поэтов, куда была принята ещё школьницей.

А в восемнадцать уехала в Москву и стала студенткой Литературных курсов, из которых вырос позднее Литературный институт.
Она была хороша, хотя почему-то трудно ее назвать красавицей. Во внешности ее была усталость, одухотворенность и тайна.

Этот нежный, чистый голос,
Голос ясный, как родник…
Не стремилась, не боролась,
А сияла, как ночник, -
писал о ней Давид Самойлов.
Мария рано попала в профессиональную среду. Арсений Тарковский, учившийся с ней на одном курсе, называл её «первой из первых» на поэтическом семинаре. И посвящал ей такие стихи:

Любимая! О, если бы опять
шепнуть тебе, что, сколько ни мудри я -
но эти годы будут мне сиять
чудеснейшим из всех имён: Мария.
Где каждой буквой, каждой из пяти,
протянуты в грядущее пути.
Познакомились они в 1925 году и дружили всю жизнь до самой смерти Петровых в 79-ом. Но ничем большим эта дружба не стала. И Мария, словно сожалея об этом, уже в старости проронила в разговоре с кем-то: «Только недавно заметила, какие у него глаза. Не понимаю, как я умудрилась в него не влюбиться».
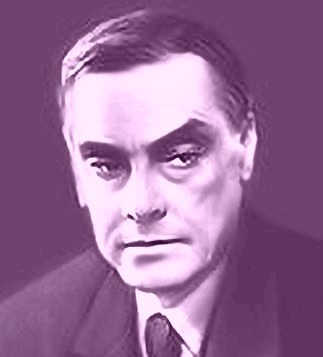
«Маруся знает язык как Бог...»
Свою литературную деятельность Петровых начала как переводчик, редактор, и относилась к этой работе очень серьёзно, профессионально и ответственно. Была таким строгим и взыскательным редактором, что её, в обычной жизни кроткую и добрую, называли: «зверь».
Язык Мария Сергеевна знала до таких невыразимых тонкостей, что равных ей не было даже среди её друзей, таких мастеров поэзии, как А.Тарковский, С. Липкин, Д. Самойлов. Ахматова к её мнению особо прислушивалась.

Говорила: «Маруся знает язык как Бог...».
О том, как много значил для неё этот труд, вложенный в чужие рукописи и переводы, свидетельствует вот такое восьмистишие, так и озаглавленное: «Редактор»:
Такое дело: либо — либо…
Здесь ни подлогов, ни подмен…
И вряд ли скажут мне спасибо
За мой редакторский рентген.
Борюсь с карандашом в руке.
Пусть чья-то речь в живом движеньи
Вдруг зазвучит без искаженья
На чужеродном языке.
Я что-то не припомню, чтобы кто-то из поэтов писал о своей редакторской практике, а вот Мария Петровых писала, но при этом в её стихах сказано о гораздо более важных вещах, чем просто правка рукописи. «Здесь ни подлогов, ни подмен» - это был её жизненный девиз.
Одна из её дневниковых записей гласит: «Язык Пушкина забыт, в полном небрежении. Что творится с языком русским!» И вот такие стихи — для себя, в сборники она их не включала:
Горько от мыслей моих невесёлых.
Гибнет язык наш, и всем — всё равно.
Время прошедшее в женских глаголах
Так отвратительно искажено.
Слышу повсюду: «я взя’ла», «я бра’ла»,
Нет, говорите «взяла» и «брала».
(От унижения сердце устало!)
Нет, не «пере’жила», — «пережила’».
Девы, не жалуйтесь: «Он мне не зво’нит!»,
Жалуйтесь, девы: «Он мне не звони’т!»
Русский язык наш отвергнут, не понят,
Русскими русский язык позабыт!
Русский язык, тот «великий, могучий»,
Побереги его, друг мой, не мучай…
«Самым близким человеком был мне в ту пору Борис Пастернак...»
С Пастернаком Мария Сергеевна, по её словам, была знакома с 1928 года. Но подружились они в Чистополе, во время эвакуации, в конце 1941 года, уже после смерти Цветаевой.

Пастернак устроил ей поэтический вечер и М.С. бережно хранила объявление, написанное его рукой. В заметке «О себе» она скажет: «Самым близким человеком был мне в ту пору Б. Л. Пастернак, с которым была давно, с 1928 года, знакома...» И — о его стихах: «Когда я в ранней юности, ещё до знакомства с Б.Л., узнала его стихи — они меня потрясли, я жила ими, они стали для меня не только моим воздухом, но как бы плотью моей и кровью».
В её стихах 1935 года мы встречаем отзвуки поэтики Пастернака:
Февраль! Скрещенье участей,
каких разлук и встреч!
Что б ни было — отмучайся,
но жизнь сумей сберечь.
Что б ни было — храни себя,
Мы здесь, а там — ни зги.
Моим зрачком пронизывай,
Моим пыланьем жги,
Живи двойною силою,
Безумствуй за двоих.
Целуй другую милую
Всем жаром губ моих.
Незадолго до этого, в 1934-ом она вместе с Ахматовой и Мандельштамом была у него в гостях, читала там свои стихи и слышала одобрительный отзыв Бориса Леонидовича. Потом были ещё встречи у него на Волхонке.

А в эвакуации в Чистополе у них будет роман. В 1941-ом она напишет эти, адресованные скорее всего ему строки:

Не взыщи, мои признанья грубы,
Ведь они под стать моей судьбе.
У меня пересыхают губы
От одной лишь мысли о тебе.
Воздаю тебе посильной данью -
Жизнью, воплощённою в мольбе,
У меня заходится дыханье
От одной лишь мысли о тебе.
Не беда, что сад мой смяли грозы,
Что живу - сама с собой в борьбе,
Но глаза мне застилают слёзы
От одной лишь мысли о тебе.
Можно было бы предположить, что стихи обращены к А. Фадееву, как большая часть её любовной лирики, если бы ни дата написания: 1941 год. С Фадеевым они познакомились лишь в конце 1942 года.
Е. Фролова «Не взыщи, мои признанья грубы...»: https://www.youtube.com/watch?v=dS6ZWCJ2dq8
Сразу врезаются в память эти откровения, звучащие так естественно, словно это разговорная речь, разговора поэта с самим собой. И, наверное, каждый (вернее, каждая), услышав эти строки, сможет сказать: "Это то, что я сам чувствовал, но для чего у меня не было слов", воспринимая такую лирику как своё, глубоко личное переживание. Именно так и должна восприниматься истинная поэзия.
«Светлому гостю моей жизни. Ахматова с любовью»
С Анной Ахматовой Мария впервые познакомилась в 1933 году. В её дневнике есть запись об этом судьбоносном визите: «Пришла к ней сама в Фонтанный дом. Почему пришла? Стихи её знала смутно. К знаменитостям тяги не было никогда. Ноги привели, судьба, влечение необъяснимое... Не я пришла — мне пришлось. Пришла как младший к старшему».

Шереметьевский дворец (Фонтанный дом)
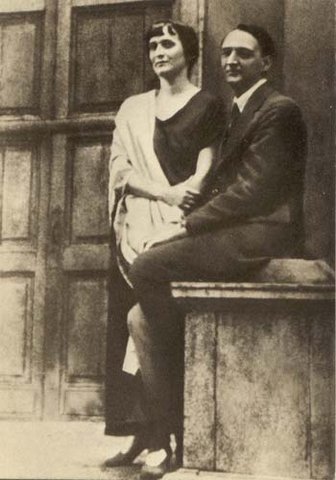
А. Ахматова с мужем Н. Пуниным у подъезда своего дома
Потом они стали друзьями. Ахматова часто жила у неё, когда была в Москве. Двухэтажный домик Петровых на углу Беговой и Хорошевского шоссе, весь утопавший в зелени, был вторым московским домом Ахматовой после Ардовых. Она чувствовала себя там очень уютно и непринуждённо.

Ахматова показывала Марии все свои стихи, переводы, статьи, прислушивалась к её суждениям и замечаниям. О том, что значила Петровых для Ахматовой, свидетельствует такая её надпись на своей книге, подаренной ей в конце 50-х: «Другу в радости и в горе, светлому гостю моей жизни. Ахматова с любовью».

А Мария Петровых посвятит Ахматовой стихи: «День изо дня и год из года твоя жестокая судьба...» и «Ты сама себе держава, ты сама себе закон...» Ахматова очень любила её, делала её бесценные подарки: покупала у букинистов свои ранние книги и дарила ей с автографом. Подарила как-то великолепный перстень с темно-синим агатом в золотой оправе.

Он был велик Марии, она хранила его в коробочке (да и вообще не носила колец). Потом он перешёл к её дочери, Арине Головачёвой, а позже был передан ею в музей Ахматовой в Фонтанном доме в Петербурге.
Мария, Лев и Иосиф
В своих «Листках из дневника» Ахматова писала: «В 1933-34 годах Осип Эмильевич был бурно, коротко и безответно влюблён в Марию Сергеевну Петровых». Эмма Герштейн в своих мемуарах довольно подробно рассказывает эту историю. Познакомила Марию с Мандельштамами Ахматова.

Они увлеклись ею и стали часто приглашать в дом. В это же время вышел из лагеря Лев Гумилёв и стал ухаживать за Петровых.

Между Мандельштамом и Гумилёвым разгорелось соперничество, которое особенно обострилось, когда Надежда Яковлевна легла в больницу на обследование. Лев Гумилёв был моложе и настойчивее, и Мандельштам, уступив ему пальму первенства, напишет потом «Сонет», посвящённый перипетиям этого треугольника, в котором себя он выводил под именем Иосифа, а Льва Гумилёва — в образе львёнка.
Мне вспомнился старинный апокриф —
Марию Лев преследовал в пустыне
По той простой, по той святой причине,
Что был Иосиф долготерпелив.
Сей патриарх, немного почудив,
Марииной доверился гордыне —
Затем, что ей людей не надо ныне,
А Лев — дитя — небесной манной жив.
А между тем Мария так нежна,
Ее любовь так, боже мой, блажна,
Ее пустыня так бедна песками,
Что с рыжими смешались волосками
Янтарные, а кожа — мягче льна —
Кривыми оцарапана когтями.
Правда, «факты», изложенные поэтом в этом сонете, не соответствовали действительности. Л. Гумилёв тоже не смог завоевать сердце гордой Марии. Э. Герштейн пишет: «Лёва нескромно жаловался: «я уходил от неё весь исцарапанный», что говорило как раз о её недоступности. Мандельштам же, наоборот, изображал её здесь как жертву льва, победившего в этой схватке.
Ахматова, узнав об ухаживаниях сына, встревожилась, возможно, приревновав его к своей подруге. Она приезжает к Марии и уговаривает её перестать кокетничать с Лёвой: «Зачем Вам этот мальчик?»

Но опасения Ахматовой и Мандельштама были напрасны. Гумилёв не интересовал Петровых. Вскоре он распростился с Марией, написав эпиграмму, где назвал её Манон Леско.
Из воспоминаний сестры Марии Петровых Екатерины: «Влюблённость Мандельштама в Марусю была чрезвычайна. Он приходил к нам на Гранатный по три раза день.

дом в Гранатном переулке, где в 30-е годы жила Мария Петровых с мужем и сестрой
Прислонялся к двери, открывающейся вовнутрь, и мы оказывались как бы взаперти. Говорил он, не умолкая, часа по полтора-два.

Глаза вдохновенно блестели, голова запрокинута, говорил обо всём: о стихах, о музыке, живописи. Помню один эпизод, рассказанный мне Марусей. Она была дома одна. Пришёл Осип Эмильевич и, сев рядом с ней на тахту, сказал: «Погладьте меня». Маруся, преодолевая нечто близкое к брезгливости, погладила его по плечу. «У меня голова есть», - сказал он обиженно».
У Марии была морская раковина, которая использовалась как пепельница. Ею она оборонялась от Мандельштама, когда он пытался её поцеловать — всадила ему шип в щёку, пошла кровь. Дочь Петровых вспоминает рассказ матери, как они с Осипом бродили по каким-то переулкам, в основном, их встречи были такого рода. Мандельштаму хотелось, чтобы она говорила ему «ты». Мария отнекивалась, ей было как-то дико сказать ему «ты». (Осипу было тогда 42 года, но выглядел он и казался ей очень старым). Но Мандельштам был очень настойчив и она, устав от уговоров, наконец сказала: «ну, ты». На что он, потрясённый, отшатнулся и в ужасе воскликнул: «Нет, нет, не надо! Я не думал, что это может звучать так страшно».
«Сердцу ненавидеть непривычно»
Много лет спустя Надежда Мандельштам в своей второй книге воспоминаний напишет о Марии Петровых резкие и несправедливые слова, где по-своему прокомментирует всю эту любовную историю.

В её подаче Мария «на минутку втёрлась в нашу жизнь, благодаря Ахматовой. Две-три недели он (Осип), потеряв голову, повествовал Ахматовой, что, не будь он женат на Наденьке, он ушёл бы и жил только новой любовью... Ахматова уехала, М.П. продолжала ходить к нам, и он проводил с ней вечер у себя в комнате, говоря, что у них «литературные разговоры». Раз или два он ушёл из дому, и я встретила его классическим жестом: разбила тарелку и сказала: «она или я!»... М.П. была одна из «охотниц» и пробовала свои силы, как все женщины, достаточно энергично... Девчонка, пробующая свою власть над чужим мужем...»
«Всё было здесь гораздо серьёзнее и глубже и длилось гораздо дольше, чем это изображает Н. Мандельштам, - пишет Эмма Герштейн. - Они встречались не только в Нащокинском переулке у Мандельштамов, Осип бывал у Марии где-то на Полянке, где жили её родные, в Гранатном переулке, где она жила тогда с мужем».
Первый муж Петровых Пётр Грандицкий был агроном, её земляк, ярославец. Вскоре она с ним развелась. Но и Мандельштама никогда не любила. А. Найман вспоминает, как Мария однажды призналась ему: «Он (Мандельштам), конечно, небывалый поэт и всё такое, но вот верите, Толя, мне до него...» и добавила три слова, совершенно убийственных, которые может сказать о мужчине женщина, никогда его не любившая».
Оскорблённая ревностью и бездоказательными обвинениями вдовы Мандельштама, которые та обнародовала многотысячным тиражом, Петровых не негодовала, не писала опровержений, не мстила ей встречными разоблачениями, а положила вообще не касаться этого предмета. Но в узком кругу выражала крайнее недоумение по поводу тех слов Надежды Яковлевны, что якобы «втёрлась» в их дом. Поражённая, уже 60-летняя Мария Сергеевна рассказывала друзьям, что именно Надежда тогда упорно зазывала её приходить почаще и оставляла ночевать, предлагая для этого какой-то сундук.

Э. Герштейн развивает эту тему, сообщая о сексуальных особенностях Надежды Мандельштам (о том же, кстати, пишет в своём дневнике и Ольга Ваксель), о том, что эти приглашения носили недвусмысленный характер, но я этой темы касаться не буду, а тех, кого она интересует, отсылаю к «Мемуарам» Эммы Герштейн (инапресс, Санкт-Петербург, 1998), наделавшим в своё время много шуму.
Вот эта фотография, сделанная в квартире Мандельштамов в Нащокинском переулке, которую Ахматова называла «семейной».

Ахматова, Мандельштам, Надежда Мандельштам, Петровых, отец и брат Мандельштама
Из дневника М. Петровых: «Я очень жалела Н.Я. в те долгие годы, когда ей было плохо. Понимаю, как много она страдала, но не понимаю её сверхчеловеческой озлобленности. Мне эта злоба противна. Это не высшее решение — низшее. И ведь она зла по природе — до всех самых страшных испытаний, и тогда, когда ко мне она была вроде бы добра».
Сердцу ненавидеть непривычно,
Сердцу ненавидеть несподручно,
Ненависть глуха, косноязычна.
До чего с тобой, старуха, скучно!
Видишь зорко, да ведь мало толку
В этом зренье, хищном и подробном.
В стоге сена выглядишь иголку,
Стены размыкаешь взором злобным.
Ты права, во всем права, но этой
Правотой меня уж не обманешь, -
С ней глаза отвадятся от света,
С ней сама вот-вот старухой станешь.
Надоела. Ох, как надоела.
Колоти хоть в колокол набатный, -
Не услышу. Сердце отболело,
Не проймешь. Отчаливай обратно.
Тот, кто подослал тебя, старуху...
Чтоб о нем ни слова, ни полслова,
Чтоб о нем ни слуху и ни духу.
Знать не знаю. Не было такого.
Не было, и нету, и не будет
Ныне, и по всякий день, и присно.
Даже ненавидеть не принудит,
Даже ненавидеть ненавистно.
«Ты, Мария, гибнущим подмога...»
Из дневника Марии Петровых: «Меня поражает и восхищает поэзия Мандельштама, но почему-то никогда не была она кровно моей».
К Марии Петровых обращено стихотворение Мандельштама «Мастерица виноватых взоров...», которая Ахматова называла «лучшим любовным стихотворением 20 века». Надежда услышала его случайно, когда оно уже ходило по рукам. Она была в шоке. Особенно её возмущало, что написано стихотворение было тогда, когда она лежала на обследовании в больнице («ну не свинство ли?»). Мандельштам её успокаивал: «Забудь, ведь это же только стихи».
Оно было написано ещё до ареста и ссылки.
Ты, Мария, гибнущим подмога.
Надо смерть предупредить - уснуть.
Я стою у твоего порога.
Как бы предчувствуя расплату за свои антисталинские стихи, поэт ищет спасения от неминуемой гибели, ищет прибежища в женской любви, словно хочет укрыться в ней. Здесь кроме того и евангельская ассоциация с девой Марией, заступницей всех страждущих.

(У Ходасевича есть такие строки: «Молились моряки Марии, заступнице звезды морей»)
Не серчай, турчанка дорогая:
Я с тобой в глухой мешок зашьюсь,
Твои речи темные глотая,
За тебя кривой воды напьюсь.
«Глухой мешок» - это, по преданию, форма казни неверных жён в Турции. Причём в мешок зашивали и бросали в море не только изменницу, но и её соблазнителя. В образе «кривой воды» прочитывается ясная мысль — это обман, измена жене.
Восхищаясь силой чар Марии, Мандельштам в последней строфе вывел сжатую формулу её человеческой сути: «Ты, Мария, гибнущим подмога». И это не метафора, это удивительно точно сказано про неё. Мария Петровых владела редким даром сострадания к людям. Когда у кого-то случалось горе, она спешила на помощь, находя те единственные слова, которые так нужны человеку в самый тяжёлый его час.
Одна на свете благодать -
отдать себя, забыть, отдать
и уничтожиться бесследно...
Удивительно целебные слова нашлись у неё для погибавшей в муках Вероники Тушновой, хотя они не были до этого дружны. Она писала горячие, ободряющие письма (хотя в принципе не умела и не любила их писать, говоря: «хуже меня писал письма только Гоголь») своему ученику Анатолию Якобсону, сходившему с ума от тоски по России, когда его вынудили уехать (в минуты тяжёлой депрессии он покончил собой в эмиграции), утешала Льва Озерова, потерявшего мать, посылала деньги в тюрьму Льву Гумилёву. Беда немедленно приводила её в действие, она брала чужую боль на себя.
Мне слышится — кто-то, у самого края
Зовет меня. Кто-то зовет, умирая,
А кто — я не знаю, не знаю, куда
Бежать мне, но с кем-то, но где-то беда,
И надо туда, и скорее, скорее —
Быть может, спасу, унесу, отогрею...
Это вообще её естественный жест — навстречу чужой, но как бы заведомо близкой душе. Каждое стихотворение представлялось ей такой вот «дорогой к другу»:
Где-то ждёт его душа живая,
чтоб её от горя отогреть.
Он идёт, себя позабывая...
Выйди на крыльцо и друга встреть.
Это не просто метафора, это внутренний закон поэзии Петровых, сориентированный на помощь другому.
«Закрытая тема»
И ещё одно стихотворение Мандельштама обращено к Марии Петровых. «Твоим узким плечам под бичами краснеть...» Эти стихи имеют свою особенную историю. Написал их Мандельштам уже в Воронеже, в ссылке. В нём речь о женщине, за участь которой поэт боится. И не только боится, но и чувствует себя виновным в её возможной гибели. Об этом недвусмысленно говорят заключительные строки этого загадочного стихотворения:
Ну, а мне за тебя черной свечкой гореть,
Черной свечкой гореть да молиться не сметь.
Надежда Мандельштам писала об этих стихах: «Я не знаю, что о них думать, и это меня огорчает».
Но после её смерти и после смерти Петровых появились документы, проливающие свет на происхождение этих стихов. Это протоколы следствия 1934 года. Из них следовало, что на допросе Мандельштам видел свои сатирические стихи о Сталине, записанные кем-то. Ему показалось, что это почерк Петровых. Между тем он не назвал её раньше среди слушателей этих стихов. Увидев же этот листок, он пришёл в ужас, что судьи теперь уличат его в неоткровенности. И на следующем допросе он назвал следователю имя Петровых, не дожидаясь его вопроса. И назвал не только среди слушателей стихов, но и не скрыл, что она записала текст стихотворения. А ведь это была уже другая статья: распространение контрреволюционного материала».
Вот как интерпретирует этот факт сестра Марии Петровых Екатерина в своих воспоминаниях: «Безумец Мандельштам стал изо всех сил клеветать на Марусю в надежде, что её тоже вышлют в Чердынь и там, в уединении, она оценит и полюбит его. Даже сотрудники НКВД понимали, что имеют дело с сумасшедшим. Все, узнавшие о поступке О.Э., смотрели на Марусю как на обречённую. Она сама говорила мне: «Борис Леонидович смотрит на меня с ужасом и состраданием». Марусю не арестовали лишь потому, что «там» поняли, чего добивается этот сумасшедший «хитрец» и решили не выполнять его безумного желания».
Не знаю, можно ли эти слова принимать на веру, это субъективное мнение сестры Петровых, никем больше не подтверждённое, но так или иначе Мандельштам выдал Марию следователям. Угроза её ареста была велика.
Это терзало совесть Мандельштама. Стихотворение о «чёрной свечке» - его оправдание или раскаяние. Оно лишено всякой эротики, хотя обращено к любимой женщине. Оно полно страха за её участь.
Спустя много лет, кто бы ни заговаривал с М. Петровых о Мандельштаме, она замыкалась, говоря, что «Мандельштам и его стихи, посвящённые мне, для меня закрытая тема».
Осуждала ли Мария его за этот поступок? Этого мы не знаем. Но и ей было хорошо знакомо это состояние страха, которым были отравлены люди той эпохи. Петровых сурово судит себя и своё поколение за то малодушие в стихах 1939 года:
Без оглядки не ступить ни шагу.
Хватит ли отваги на отвагу?
Диво ль, что не гро́мки мы, не прытки,
Нас кругом подстерегали пытки.
Снится ворон с карканьем вороньим.
Диво ль, что словечка не пророним...
Про́кляты, не только что преступны!
Велика ли честь, что неподкупны.
Как бы ни страшились, ни дрожали —
Веки опустили, губы сжали
В грозовом молчании могильном,
Вековом, беспомощном, всесильном,
И ни нам, и ни от нас прощенья,
Только завещанье на отмщенье.
Продолжение здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post212858354/
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/86773.html
|
|
Процитировано 16 раз
Понравилось: 8 пользователям
Никак не привыкну... |
Сегодня день памяти мамы. Вот уже семь лет, как её нет со мной.


***
Незаметно влетела в окошко
и кружит уже несколько дней.
Эта странная тихая мошка
что-то знает о маме моей.
Жизнь и смерть – лишь условные сплёты,
как писала Марина в письме.
Я тревожно слежу за полётом, –
что-то хочет сказать она мне?
Всё спускается ниже и ниже,
в лёгких крылышках пряча ответ:
- Брось премудрость заёмную книжек,
я оттуда, где воля и свет!
Распахни же закрытую раму,
где весенняя зреет трава,
где пьянеешь от птичьего гама...
Так когда-то твердила мне мама.
И была она, в общем, права.

Дом твой на Сакко- Ванцетти
я обхожу стороной.
Страшно при солнечном свете
видеть балкончик родной.
Здесь ты, прикрывшись от солнца,
долго смотрела мне вслед.
Сердце моё разорвётся,
взгляд твой не встретив в ответ.
Страшно окошко слепое -
словно бельмо на глазу.
Ты уплыла в голубое.
Я погибаю внизу.

– Я маленькою видела тебя.
Какой был сон ужасный… Что он значит? –
Чуть свет звонит, мембрану теребя. –
Как ты, здорова ль, доченька? – И плачет.
Никто так не любил своих детей,
так слепо, безрассудно, так нелепо,
бездумно, без оглядки, без затей…
За что тебя мне ниспослало небо?
А мне все снится: набираю твой
я номер, чтоб сказать, что буду поздно,
мол, спи, не жди… А в трубке только вой
степного ветра, только холод звездный.
И просыпаюсь… Горло рвет тоска.
В ушах звучат твои немые речи.
Как от меня теперь ты далека.
Как долго ждать еще до нашей встречи.

Никак не привыкну, никак не привыкну,
что больше к тебе никогда не приникну,
что больше твой голос уже не услышу.
Лишь ветер траву на могиле колышет.
Уже никогда мне не вымолвить «мама»,
не быть самой лучшей и маленькой самой.
Мне утро не в радость, мне солнце не светит.
Впервые одна я осталась на свете.


Ну как же мне отнять тебя, оттаять?
Ну не могу я там тебя оставить!
Я лестницу воздушную сплету
из слов твоих, из снов моих и слез,
и ты ее поймаешь на лету.
Я это говорю почти всерьез.
По лестнице карабкаюсь я к Богу,
и, кажется, совсем еще немного…
Но в сторону относит ветер времени,
и тонешь ты опять в кромешной темени.

О стрелок перевод назад!
Какой соблазн душе,
тщета отчаянных надсад
вернуть, чего уже
нам не вернуть... Но — чудеса!
Замедлен стрелок ход.
Ах, если бы ещё назад
на час, на день, на год...

Клеёнка, маслёнка,
в тарелке салат.
Хранит фотоплёнка
семейный уклад.
Торопится мама,
пришла на обед.
Ах, боже мой, сколько же
минуло лет!
Отец с фотокамерой
щёлкает: «бзык»!
Я дерзко ему
показала язык.
А мама смеётся,
не видя в том грех.
Сквозь годы несётся
ко мне её смех.
На маме гребёнка,
цветастый халат.
Хранит фотоплёнка
бесценнейший клад.


Карман вселенной прохудится,
дыру во времени разъяв,
и я впорхну туда, как птица,
и прошлое вернётся в явь.
Я проскользну в ушко иголки,
эпохи, вечности, судьбы,
прильнув щекой к твоей заколке.
Ах, если бы, ах, если бы…

Я задыхаюсь в боли и вине.
Нет слов таких ни в русском, ни на идиш.
Настало утро, а тебя в нём нет.
Пришла весна, а ты её не видишь.
Кому теперь нужна я на земле?
Всё, что любила, съедено могилой.
Всю жизнь жила и нежилась в тепле,
и вот стою в степи пустой и стылой.
Я выучусь стареть и умирать.
Теперь уже мне ничего не страшно.
И помнит только старая тетрадь
про наш с тобой счастливый день вчерашний.
***
Вот колокольчик. Ты в него звонила,
когда меня хотела подозвать.
Теперь твоя кровать — твоя могила.
А мне могилой без тебя — кровать.
Вот колокольчик на лугу зелёном.
Мне кажется, я слышу звон стекла...
И воздух колокольным полон звоном -
то по тебе звонят колокола...

Тянешься ко мне стебельками трав,
звёздочкой мигаешь мне за окном.
Жизнь мою ночную к себе забрав,
ты ко мне приходишь небесным сном.
Я хожу по нашим былым местам,
говорю с пичужкой, с цветком во рву.
Пусть тебе ангелы расскажут там,
как я без тебя живу-не живу.
Твой пресветлый образ во всём вокруг.
Я тебя узнаю во всех дарах.
И надежда греет: а вдруг, а вдруг...
Пусть в иных столетьях, в иных мирах...


Словно дети в предвкушенье чуда:
«Ёлочка, зажгись!» -
так и я, взыскуя весть Оттуда:
«Мамочка, приснись!»
Чуточку терпенья и везенья -
будет встреча вновь.
Будет Рождество и Воскресенье,
Радость и Любовь.

|
|
Понравилось: 3 пользователям



































