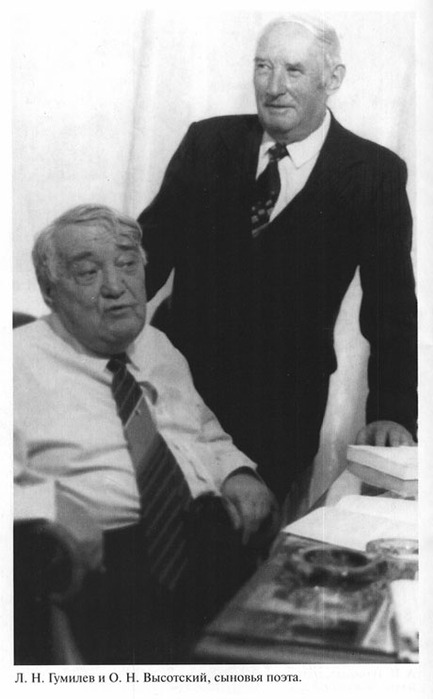-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Статистика
Записей: 871
Комментариев: 1385
Написано: 2520
Сын Есенина |

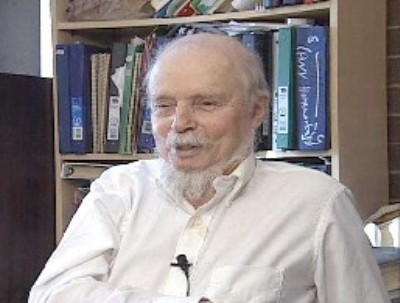
Начало здесь.
Сегодня день рождения у сына Есенина — Александра Сергеевича Есенина-Вольпина.
Ему исполнилось 88 лет.
У Сергея Есенина помимо первенца Юрия и двух детей от Зинаиды Райх был ещё один внебрачный ребёнок. Его родила ему Надежда Вольпин — поэтесса и переводчица.

Они познакомились в 1919 году в литературном кафе. Надежда тоже писала стихи, публиковалась в сборниках, читала их с эстрады в «Кафе Поэтов» и «Стойле Пегаса».
Москва 20-х годов
Провожая девушку домой, Есенин дарит ей свою книгу стихов с надписью: «Надежде с Надеждой». Надежды оправдались.
В книге своих воспоминаний Н. Вольпин рассказывает об их первой ночи: «Весна 21-го. Богословский переулок. Я у Есенина. Смущённое: «Девушка!» и сразу, на одном дыхании: «Как же Вы стихи писали?» Если первый возглас я приняла с недоверием (да неужто и впрямь весь год моего отчаянного сопротивления он считал меня опытной женщиной!»), то вопрос о стихах показался мне столь же искренним, сколь неожиданным и смешным...»

Богословский переулок, дом 3, где жил тогда С. Есенин с А. Мариенгофом.
Теперь это Петровский переулок, дом 5. Здесь была их первая ночь с Надеждой Вольпин, в результате которой родился их сын.


Богословский переулок сейчас. Есенинский дом с правой стороны после этого первого серого.
«И ещё мне сказал Есенин в тот вечер своей запоздалой победы: «Только каждый сам за себя отвечает!» «Точно я позволю другому отвечать за меня!» - был мой невесёлый ответ...
При этом однако подумалось: «Выходит, всё же признаёшь в душе свою ответственность — и прячешься от неё?» Но этого я ждала наперёд. Не забыл мне напомнить и своё давнее этическое правило: «Я всё себе позволил!»

Есенин был потрясён, узнав, что Надежда хочет оставить ребёнка. «Что ты со мной делаешь! У меня уже трое детей!» - воскликнул он. Надежда, оскорблённая его реакцией, уехала в Ленинград, не оставив ему адреса.
Из стихов Надежды Вольпин, написанных перед отъездом:
Ночь, когда звучал над нами
Разлучающий гудок,
Подарила мне на память
В звёзды вышитый платок.
Я его в те дни на клочья
Разорвала, — что ж теперь
Перематываю ночью
В песни звёздную кудель?
Может, дождь стучал по кровле —
Постучит и замолчит?
Песня, раз на полуслове
Оборвавшись, отзвучит.
(Единственная из женщин Есенина, которая сама писала ему стихи).

Она очень страдала.
К полдню златокудрому
Обернусь я круто:
Ты в путях, возлюбленный,
Жизнь мою запутал.
И как лес безлиственный
Всё по лету дрогнет,
Так тобой исписано
Полотно дороги.
И как злыми рельсами
Узел жизни стянут,
Так тобой истерзана
Глупенькая память.
Август. Дни ущербные
Режет ночь серпами.
Злак волос серебряный
Сбереги на память.
Ведь не долго мне в лицо
День любезен будет:
Через шею колесо,
И разрезан узел.
(«Рельсы», август 1921)
Есенин пытался разыскать Надежду, но соседи по коммуналке по её просьбе адреса ему не сказали. По Москве даже ходила частушка: «Надя бросила Сергея без ребёнка на руках». Рассказывали, что беременной она ходила в платье, на котором было изображено солнце, и говорила, что родит Христа. 12 мая 1924 года родился сын, как две капли воды похожий на отца.

Это был прелестный светловолосый голубоглазый мальчик с одухотворённым личиком. Надежда Вольпин пишет, что Есенин допытывался у побывавшего у неё знакомого, какой он — чёрненький или беленький. На что тот отвечал: «А я ему — не только что беленький, а просто — вот каким ты был мальчонкой, таков и есть. Карточки не нужно».

А что Сергей на это?
А Сергей сказал: : «Так и должно было быть. Эта женщина очень меня любила...»

Есенин не посвящал ей стихов. О ней — лишь три строчки, да и то - в стихах о другой, похожей внешне на неё Шаганэ: «...там на севере девушка тоже — на тебя она страшно похожа. Может, думает обо мне...»
Да, она думала о нём. И писала:
Губы сушат засухой.
Милый, пощади!
Только память ласкова
На моей груди...
Стихнем. Бражное забвенье
Крепко выпито «на ты».
Чинит стужа синий веник
Заметать мои следы.
Эта полночь, где знакома
Тайна каждого угла,
Эта полночь снежным комом
На постель мою легла.
И желаний тёплый ворох
Всколыхнувшийся истлел
На тропических узорах
В замороженном стекле.
Через год после рождения сына Есенина не станет...

Надежды Вольпин нет среди провожающих его в последний путь законных жён и детей. Но по её стихам мы видим, что она — с ним:
Касаткой об одном крыле,
Я на кладбищенской земле
Лежу в сырой крапивной мгле,
И мне гнездом — забытый прах...
Мой нищий стих! Ты был, как дом,
Богатый дружбой и теплом,
Как дом о четырёх углах,
Как конь на золотых крылах!
И я в моей крапивной мгле,
Касатка об одном крыле,
Целую стылый смертный прах,
Любимый прах!
Из интервью с Александром Есениным-Вольпиным:

- Видел ли Вас когда-нибудь Ваш отец Сергей Александрович Есенин? Ведь Вам был год и семь месяцев в декабре 1925 года, когда его не стало.
- Видел. Лет так через двадцать после своего рождения я посетил дом в Ленинграде, где когда-то жил, свою квартиру. Так соседи по этажу рассказали, что Есенин приходил в отсутствие мамы посмотреть на младенца, то есть на меня, но я его не запомнил (смеется).
- Он ее любил. Это верно. Но он любил не только её, даже в то же время. Я произошел от непонятно какой, то есть очень даже понятно какой связи.
Александр не восхищается своим отцом, но и не обижается. Говорит скупо: у родителя было много женщин. Одна из них его мать.

В 1933 году Надежда Вольпин переехала с девятилетним сыном из Ленинграда в Москву. Зарабатывала на жизнь переводами. Она переводила без подстрочника европейскую классику и современных ей писателей (Вальтера Скотта, Конан-Дойля, Мериме, Голсуорси, Ф. Купера и других), блестяще воспроизводя индивидуальный стиль авторов. Опыт поэта помогал ей создавать шедевры поэтических переводов, в том числе знаменитые циклы Гёте, Овидия, Гюго.
В 1980-х издала свои мемуары «Свидание с другом», посвящённые своей юности и Сергею Есенину. В архиве хранятся её воспоминания о дружбе с Мандельштамом, о Пастернаке, Маяковском. Почти до последних часов жизни Надежда Давыдовна сохранила ясность мысли и любовь к поэзии.

Умерла 9 сентября 1998 года в возрасте 98 лет.
Это была последняя женщина, близко знавшая Есенина.

Александр Есенин-Вольпин окончил математический факультет МГУ, аспирантуру, блестяще защитил диссертацию и уехал работать в Черновцы, где его арестовали за антисоветскую агитацию в 1949-ом. Держали в психиатрической клинике год, потом отправили в ссылку в Караганду.

Вернувшись в Москву, работал на «Соколе» в Институте научной информации. Свободно владея несколькими языками, редактировал и переводил книги. Занимался наукой, развивая антитрадиционное направление в математике. Женился.

Александр Вольпин был ярый антисоветчик. Его спрашивали: «Саша, что ты имеешь против советской власти?» - «Я? Ничего не имею против советской банды, которая незаконно захватила власть в 17 году». Говорил «много лишнего». Его периодически сажали в психушку. У него была присказка: «Ну, от этого меня уже лечили!»
Родственники Александра (сёстры Есенина и их семьи) просили не ходить к ним, - после его прихода квартира ставилась на контроль, телефоны прослушивались... «У нас дети», - говорили ему.
Есенин-Вольпин с братом Константином. Сентябрь 1970 года. Москва.
В 1961 году на Западе Есенин-Вольпин опубликовал свои стихи и свой философский трактат, за что Хрущёв на встрече с интеллигенцией на Ленинских горах назвал его «загнившим ядовитым грибом». В трактате была фраза, взбесившая власть: «В России нет свободы слова, но кто скажет, что там нет свободы мысли».

Александра и Екатерина, сёстры Есенина — родные тётки Александра — опубликовали в «Правде» письмо, где старались отмежеваться от беспокойного родственника: «Если есть психические отклонения — лечите, если нет — наказывайте, но только нас не трогайте, мы к нему отношения не имеем, и вообще неизвестно ещё, чей он сын».
Только мать была неизменной опорой сыну, которого за «антисоветскую» поэзию и правозащитную деятельность то и дело арестовывали, ссылали и сажали в «психушки».

Александр 14 лет отсидел в тюрьмах, психбольницах и ссылках за правозащитную деятельность. Во время Второй мировой его не взяли в армию.
Из интервью с Александром Есениным-Вольпиным:

- Формально меня признали шизофреником. Почему, этого я не знаю. Одна из тайн моей жизни. Кто-то, наверное, для этого что-то делал.
Александр допускает: возможно, из-за отца. Есенин часто лечился в психиатрических клиниках.

клиника Ганнушкина, где лечился Есенин. В центре - биллиардный стол для больных.
5 декабря 1965 года Александр Вольпин с В. Буковским и другими диссидентами в День конституции организовывает митинг на Пушкинской площади с требованием гласного суда над арестованными Синявским и Даниэлем.
Позже вместе с Сахаровым участвует в работе комитета прав человека, постоянно выступает с требованиями соблюдения законности.
Его всё чаще таскают по психушкам, а в дни партийных съездов высылают из Москвы.

«Вообще-то все зовут его Алек. Всю жизнь. С детства. Не клеится к нему отчество. Один Окуджава однажды приклеил, да и то исключительно для конспирации. Но слова «Извозчик стоит, Александр Сергеич прогуливается. Ах, завтра, наверное, что-нибудь произойдет!» из песни «Былое нельзя воротить» можно было отнести не только к Пушкину, но и к его тезке. Потому что едва ли был в начале шестидесятых человек, чье имя в большей степени ассоциировалось бы с понятием «возмутитель спокойствия». Чьи идеи не просто вдохновляли людей, ненавидевших советскую власть, но предлагали бы конкретные практические и легальные шаги по борьбе с беззакониями режима. Чей постулат (требовать от власти соблюдения собственных законов) лёг в основу целого движения, которое со временем станет называться «правозащитным». Вдохновителем этого движения (впрочем, к тому не стремясь) стал сын поэта, поэт, математик, логик и вольнодумец Александр Сергеевич Есенин-Вольпин. Видя его прогуливающимся по московским улицам характерной шаркающей походкой, мало кто сомневался: готовится очередной митинг, или демонстрация, или письмо протеста: «Завтра что-нибудь произойдет».
(из статьи В. Арканова «Другой человек»)
Те, кто знал его в прошлом, говорят, что он мало изменился. Снаружи — безусловно: стал сед, борода клочками, заострившийся костистый нос. Глаза, цеплявшие синевой и яростным блеском, наводившим на мысль о зыбкой грани между гениальностью, одержимостью и безумием, давно поблекли.

Но внутренне — по остроте и непосредственности восприятия, по страстной увлеченности, с которой он продолжает заниматься наукой, по абсолютной непрактичности и пренебрежению внешней стороной жизни — он все такой же «чудак-ученый», каким был в шестьдесят, в сорок, в двадцать пять.

Сандалии, шорты и рубашка с коротким рукавом делают его и вовсе похожим на состарившегося мальчишку — персонажа «Сказки о потерянном времени». Так и кажется, что сейчас его расколдуют, и он превратится в непоседливого подростка, а заваленная бумагами гостиная в доме для малоимущих стариков в пригороде Бостона, где он проживает последние 10 лет, — в уютную московскую квартиру его матери, поэтессы и переводчицы Надежды Вольпин.
московская квартира Вольпиных. 1970 год.
Из стихов Надежды Вольпин (она писала их всю жизнь):

Встречает путника мой дом
Горячим добрым пирогом, —
Изба о четырёх углах,
Где душу не ломает страх,
Где каждому готов приют,
Где люди для людей живут...
Сегодня родство с Есениным придает Александру Сергеевичу совсем уже мифологический статус, кажется счастливым жребием. Хотя какое уж тут счастье, если с конца двадцатых до начала семидесятых годов Есенин в СССР был практически под запретом.
Быть его сыном в ту пору — сомнительная привилегия. И то, что А.С. не отказался от черточки в фамилии, — один из первых сознательных вызовов обществу.
— Думаю, что у меня в характере многое от отца, — говорит он. — Но совершенно преломлено. Он не был рационалистом, как я. Был по натуре драчуном, а я не драчун, я спорщик. Но самое главное: он мыслил образно, а я — точечно, предельно конкретно.

Однажды за свое конкретное мышление он и поплатился вполне конкретно. В 1957-м, во время Фестиваля молодежи и студентов в Москве, его задержала милиция. Повод был пустяковый: пытался куда-то пройти в компании иностранцев. Но после двух вопросов на него надели наручники и доставили в психиатрическую больницу. В протоколе записано: «Называет себя сыном Есенина. Говорит, что арифметики не существует».
Почему первое не является признаком сумасшествия — понятно. Про арифметику надо пояснить. Закончив мехмат МГУ и защитив кандидатскую диссертацию по топологии (в научных кругах она и по сей день считается классической), А.С. многие годы бился над доказательством геделевской теоремы о неполноте. Такое доказательство окончательно подтвердило бы непротиворечивость математических теорий в целом и арифметики в частности. В его отсутствии любой последовательный логик вынужден допустить, что арифметика — в теории — может оказаться противоречивой, а значит, не существовать в привычном нам виде. Труд по поиску этого доказательства — драма его жизни. Как вспоминает его первая жена Виктория Вольпина, когда в 1962-м они поженились, А.С. говорил, что ему необходим год для завершения главной работы. Но год прошел, а за ним другой, а потом и десять; варианты доказательства множились, но конца им не было видно.

«Я складывала рукописи в специальные папки, которые называла «ББ» — бездонные бочки", — рассказывает Виктория Борисовна.
Надо ли говорить, что труд этот и сегодня, почти пятьдесят лет спустя, остается незавершенным. И кипы бумаг, громоздящиеся в бостонской квартире А.С., — свидетельство его непрекращающихся упрямых попыток — без компьютера, на далеко не идеальном английском, в многолетнем отрыве от научного сообщества. Никто больше не складывает неоконченные варианты в папки. И редкие гости вздрагивают, как полвека назад московские милиционеры, когда А.С. огорошивает их заявлением вроде: «А ноль-то, оказывается, равен единице! Ничего себе!»

Вечный кавардак в доме его нисколько не беспокоит. «Наведите мне порядок, и через два дня все будет опять вверх тормашками», — говорит А.С. Он любит вкусно приготовленную еду, но кто её приготовит и приготовят ли вообще, ему, по его любимому выражению, «до лампочки». Сейчас дважды в неделю это делает социальный работник. Раньше — какая-нибудь по счёту жена. Женат он был четыре раза, но только первая супруга, Виктория Борисовна, по-прежнему говорит о нем с глубочайшим пиететом. Трём последующим всё затмила его житейская бестолковость, зацикленность на своих идеях, неумение (и нежелание) строить отношения в соответствии с общепринятыми представлениями о том, что такое семья. На семью он действительно смотрит своеобразно. Взглядом законника, поборника четко сформулированного свода правил.

В интервью «Русскому журналу» Виктория Вольпина вспоминала, что, еще до того как они отправились в загс регистрировать свои отношения, Алек предложил ей подписать составленный им «Договор о совместной жизни»: «Там было, кажется, двенадцать пунктов. Он мне показался в тот момент очередным проявлением Алекиного величия и чудачества одновременно. В нем квалифицировалось, что такое ссора, что такое перебранка, что такое разногласие, что такое «разногласие, перерастающее в перебранку»… Там были вещи, которые тогда просто невозможно было воспринимать серьезно — например, пункт, что «в случае возникновения намерения эмиграции у одного из вступающих в этот договор другой (заметьте!) не будет препятствовать в случае, если он не пожелает присоединиться». Я про себя хихикнула, потому что в начале 1962-го идея об эмиграции казалась столь же вероятной, как, ну, идея принять участие в экспедиции на Марс».
Однако именно эмиграция их в итоге и разлучила — ровно через десять лет. Она уезжать не захотела. Ему не оставили выбора. Фраза «Не поедете на Ближний Восток, так отправим на Дальний», ходившая впоследствии в качестве шутки, изначально никакой иронии в себе не содержала. Из уст сотрудника КГБ она звучала даже зловеще. А.С. решил больше судьбу не искушать. Насиделся уже к тому времени и в тюрьме, и в ссылке, и в психушках.
ленинградская спецпсихбольница
В первый раз его посадили за стихи — еще в 1949-м. Стихи были дерзкие, в них просматривалась традиция уничтоженных еще в тридцатых обэриутов и одновременно надрывная нота, присущая поздним стихам его отца:
В зоопарке, прославленном грозными львами,
Плакал в низенькой клетке живой крокодил.
Надоело ему в его маленькой яме
Вспоминать пирамиды, Египет и Нил.
И увидев меня, пригвожденного к раме,
Он ко мне захотел и дополз до стекла, —
Но сорвался и долго ушибся глазами
О неровные, скользкие стены угла.
...Испугался, беспомощно дрогнул щеками,
Задрожал, заскулил и исчез под водой...
Я ж слегка побледнел и закрылся руками
И, не помня дороги, вернулся домой.
...Солнце радужно пело, играя лучами,
И меня увлекало игрою своей.
И решил я заделать окно кирпичами,
Но распался кирпич от оживших лучей,
И, как прежде с Землей, я порвал с Небесами,
Но решил уж не мстить, а спокойно заснул.
И увидел: разбитый, с больными глазами,
Задрожал, заскулил и в воде утонул...
...Над домами взыграло вечернее пламя,
А когда, наконец, поглотила их мгла,
Я проснулся и долго стучался глазами
О холодные, жесткие стены угла...
Про крокодила еще полбеды — прозрачная, но аллегория. Были и строки с откровенно нелицеприятным изображением советской действительности: «А снаружи холод лютый, и проходят стороной полулюди-полуспруты, все ломая за собой». Или ещё резче:
Не играл я ребенком с детьми,
Детство длилось, как после — тюрьма...
Но я знал, что игра — чепуха,
Надо возраста ждать и ума!
...Подрастая, я был убежден,
Что вся правда откроется мне —
Я прославлюсь годам к тридцати
И, наверно, умру на Луне!
— Как я многого ждал! А теперь
Я не знаю, зачем я живу,
И чего я хочу от зверей,
Населяющих злую Москву!..
Эти мальчики кончат петлёй,
А меня не осудит никто, —
И стихи эти будут читать
Сумасшедшие лет через сто!
Александр Есенин-Вольпин читает свои стихи:

Никогда я не брал сохи,
Не касался труда ручного,
Я читаю одни стихи,
Только их — ничего другого...
Но поскольку вожди хотят,
Чтоб слова их всегда звучали,
Каждый слесарь, каждый солдат
Обучает меня морали:
«В нашем обществе все равны
И свободны — так учит Сталин.
В нашем обществе все верны
Коммунизму — так учит Сталин».
...И когда «мечту всех времен»,
Не нуждающуюся в защите,
Мне суют как святой закон
Да еще говорят: любите, —
То, хотя для меня тюрьма —
Это гибель, не просто кара,
Я кричу: «Не хочу дерьма!»
...Словно я не боюсь удара,
Словно право дразнить людей
Для меня как искусство свято,
Словно ругань моя умней
Простоватых речей солдата...
...Что ж поделаешь, раз весна —
Неизбежное время года,
И одна только цель ясна,
Неразумная цель — свобода!
В 1961-м в Нью-Йорке вышла книга А. Есенина-Вольпина «Весенний лист» — вторая после пастернаковского «Доктора Живаго» неподцензурная публикация советского автора на Западе. В сборник была включена подборка стихов и эссе «Свободный философский трактат». В нем сформулировано основное философское кредо А.С.: отрицая все принимаемые на веру абстрактные понятия (Бога, бесконечности, справедливости), он приходит к необходимости соблюдения формально-логических законов. Александра только недавно выпустили из Крестов, но после публикации стало ясно, что ненадолго. И точно: в конце 1962-го Хрущев произнес одну из своих крылатых фраз: «Говорят, он душевнобольной, но мы его полечим».

Завуалированный приказ немедленно приняли к исполнению, и на ближайшие четыре месяца А.С. снова оказался на больничной койке.
Меньше чем через два года Хрущев был смещён. С оттепелью покончено — началось брежневское завинчивание гаек. «Завинчивают» писателей Андрея Синявского и Юлия Даниэля, которые тайно напечатали свои произведения за рубежом. Объявлено, что процесс над ними будет закрытым, и это рождает ассоциации с репрессиями 1937-го, воспринимается многими как возрождение сталинизма. Вольпин решает, что надо требовать открытости и гласности суда и пишет «Гражданское обращение».
За всю историю СССР этот текст — первая апелляция к правовому сознанию граждан. Митинг решили проводить в День Конституции, 5 декабря 1965-го, у памятника Пушкину с лозунгами «Требуем гласности суда!» и «Уважайте Конституцию!».

— Поначалу оживление было необычайное, только и разговоров по Москве, что об этой демонстрации, — вспоминает Владимир Буковский. — Но чем ближе к Дню Конституции, тем больше появлялось пессимизма и страха — никто не знал, чем эта затея кончится. Власть такая, она все может. Всё-таки предстояла первая с 1927 года свободная демонстрация. В тот день они простояли на площади всего несколько минут — жалкая горстка, человек сорок, даже плакаты развернуть не успели. (Первый же чекист в штатском вырвал слово «гласность» из лозунга «Требуем гласности суда».) Но этого хватило, чтобы переломить эпоху.

Да, все участники были задержаны, развезены по милицейским участкам, допрошены, но ни один не арестован. Значит, Есенин-Вольпин оказался прав, утверждая, что чего-то можно добиться и в рамках закона. Да, Синявский и Даниэль все равно были осуждены, но осуждены на открытом процессе, и шитое белыми нитками обвинение на весь мир продемонстрировало лицо власти. Да, на площади их было совсем немного, но благодаря им правозащитное движение обрело платформу и голос. Голос этот принадлежал Есенину-Вольпину.
Потом был еще один арест — пятая по счету психушка. А по выходе — написанная «на мамином диване дня за три» «Памятка для тех, кому предстоят допросы»(1968). Ее передавали друг другу преследуемые внутри страны, а в 1973 году она была напечатана в Париже. Сколько крови она попортила следователям с Лубянки! «Наслушались этого Вольпина! Этого доморощенного юриста, этого якобы законника!» — кричали они, хотя А.С. всего только объяснил, исходя из Уголовного кодекса, какие у задержанного или свидетеля есть права и что может, а чего не может требовать следователь.
Его забирали на Лубянку - и отпускали: не за что было ухватиться. Он напоминал властям, что инакомыслие не расходится с законом, а значит, не должно быть наказуемо.
Жена Вольпина Виктория вспоминала: однажды за три часа беседы со следователями Александр Сергеевич так их измотал, что они сдались, позвонили ей и сказали: "Забирайте!".
А потом он словно исчез.
— Власти придумали очень ловкий ход, — говорит он с интонацией шахматиста, не разгадавшего сразу такой простой комбинации противника. — Взяли и вывели меня из игры. Раньше не подпускали к иностранцам, а теперь я и сам им стал.
Сын Есенина не скучает по Родине. Воспоминаний хороших мало.
- Америка стала для вас второй Родиной?
- И да, и нет. В чем-то она лучше Родины. Я неслучайно сюда перебрался.
Сергей Есенин тоже был в Америке. С Айседорой Дункан. Ему не понравилось.

Заокеанский рай произвёл на Есенина гнетущее впечатление. В письмах к друзьям он писал:

«Знаете ли Вы, милостивый государь, Европу? Нет! Вы не знаете Европы. Боже мой, какое впечатление, как бьется сердце... О нет, Вы не знаете Европы! Во-первых, Боже мой, такая гадость однообразия, такая духовная нищета, что блевать хочется...
Что сказать мне вам об этом ужасающем царстве мещанства, которое граничит с идиотизмом? Здесь кроме фокстрота ничего нет. Здесь жрут и пьют, и опять фокстрот.

Человека я пока еще не встречал и не знаю, где им пахнет. В страшной моде господин доллар, а на искусство начхать – самое высшее здесь мюзик-холл. Я даже книг не захотел издавать здесь, несмотря на дешевизну бумаги и переводов. Никому здесь это не нужно. Здесь все выглажено, вылизано и причесано так же почти, как голова Мариенгофа. Птички какают с разрешения и сидят, где им позволено. Ну, куда же нам с такой непристойной поэзией? Это, знаете ли, невежливо так же, как коммунизм. Порой мне хочется послать все это к ебенейшей матери и навострить лыжи обратно. Пусть мы нищие, пусть у нас холод и голод, зато у нас есть душа, которую там за ненадобностью сдали в аренду под смердяковщину…»

Впрочем, со временем и сын Есенина в загранице разочаровался:
...Но окажется, что Запад стар и груб,
А противящийся вере — просто глуп,
И окажется, что долгая зима
Выжгла ярость безнадежного ума,
И окажется — вдали от русских мест
Беспредметен и бездушен мой протест!..
...Что ж я сделаю? Конечно, не вернусь!
Но отчаянно напьюсь и застрелюсь,
Чтоб не видеть беспощадной простоты
Повсеместной безотрадной суеты,
Чтоб озлобленностью мрачной и святой
Не испортить чьей-то жизни молодой,
И вдобавок, чтоб от праха моего
Хоть России не досталось ничего!
Конечно, что и говорить, этим стихам далеко до есенинских. Но Алек несомненно талантлив во многих других областях — в науке, политике, юриспруденции. Это личность героическая и явно недооцененная у нас.
Да, они во многом разные. Из интервью с А.С.:

- Немалую роль играла моя физиономия, фамилия моего отца. Может быть, она помогала мне получить слово, но мешала говорить по существу. К борьбе за судебную гласность отец не имел никакого отношения: в те годы, когда он жил, ее просто не было. Эта тема возникла после смерти Сталина. И при любом выступлении я всегда сводил разговор к гласности, а от меня хотели слышать другое...
- Большинство русских иммигрантов связывают себя с республиканцами.
- Мне этот выбор чужд. Я - беспартийный.
- А еще говорят, что вы безбожник.
- Я - формалист. Если и отводить какое-то место мистике, это не значит, что нужно отказаться от идеи постижения мира разумом. Правда, я не делаю из этого мировоззрения. Сегодня можно доказать, что существует не один, а много миров. Отсюда следует, что я не верю в Творца как Единого создателя единого мира. Ибо таким образом мы сужаем восприятие Вселенной.
- На ваш взгляд, есть ли политзаключенные в нынешней России?
- Иногда трудно провести границу между преследованиями по чисто политическим и по иным основаниям. Официально считалось, что в СССР политзаключенных нет; арестованным предъявлялись уголовные обвинения вроде "нарушения общественного порядка", "клеветы". После горбачевской перестройки, в 90-е годы, политзаключенных в России, насколько мне известно, действительно не было. Сейчас, видимо, снова появляются люди, оказавшиеся в тюрьме именно по политическим мотивам безотносительно к тому, по какой статье они обвиняются.

Есенин-Вольпин — один из героев документального фильма 2005 года «Они выбирали свободу», посвящённого истории диссидентского движения в СССР.

С 1972 года он живёт в Бостоне (штат Массачусетс, США).
С 1989 года неоднократно приезжал на родину.
В США он будет преподавать математику в университете Баффало, в Бостонском университете, а потом оставит преподавание и займется чистой наукой. К середине восьмидесятых, когда слово «гласность», впервые произнесенное Есениным-Вольпиным еще в «Гражданском обращении», поднимет на щит Горбачев, А.С. станет уже гражданином другой страны. Его роль в правозащитном движении окажется если не забыта, то оттеснена на второй план. Или, говоря его языком — языком математика, — вынесена за скобки. Когда начнется работа над ельцинской конституцией и кто-то предложит позвать в качестве советника Алека, будет решено, что это уже ни к чему. Но в песне Окуджавы он продолжает прогуливаться, а значит, «завтра, наверное, что-нибудь произойдет».
Несмотря на возраст, Александр Сергеевич продолжает работать в повышенном темпе - публикует работы по логико-математической теории, ездит с лекциями по университетам США, активно сотрудничает с диссидентским движением. Возраста он не чувствует, живет своим делом.
С Днём рождения, дорогой Александр Сергеевич! Наша страна очень виновата перед Вами. Будьте хоть там счастливы и благополучны.

http://www.youtube.com/watch?v=z2VayQ8dwnI&feature=player_embedded
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/98309.html
|
|
Процитировано 7 раз
Понравилось: 4 пользователям
"Всё глуше музыка души..." (окончание) |

Начало здесь
Продолжение здесь
«Кто тот треугольник разрушит?»
«Он говорил: «Все, что я написал после встречи с тобой, – для тебя и о тебе». Когда я пою его песни – это особое счастье, наслаждение особое.
Признаюсь, вещие сны мне часто снятся. Что касается моей личной жизни, моих переживаний – всегда Булат предупреждает, как-то наставляет что ли... И я благодарна судьбе за то, что он есть.

Старались – не дышали.
Любили – как могли.
Кому мы помешали
средь жителей Земли?»
Потом она всё это опишет в своей книге «Наедине с Айседорой», рукопись которой он ещё успел увидеть.
Интервью в «Комсомольской правде» с Натальей Горленко называлось «Ради любви к Булату я бросила мужа». Но Окуджава ради неё не бросил жену и сына. Он не стал менять свою жизнь.

Она это так объясняет:
- Разница в возрасте, всякие комплексы, ну много всего! Я не хотела травм. Не хотела, чтобы он от жены уходил. Очень всё это на меня давило... Но он ушёл. Приходил, возвращался. Но это всё очень личное!
- А с его женой у вас были конфликты?
- Были. Вообще всё было очень трагично и непросто. Он тяжело это переживал. И все мы, участники этой драмы. Чувство вины и ко мне, и к жене. При его совестливости это был очень непростой, тяжёлый случай...
(Из интервью «Комсомольской правде» от 2 Сентября 2004 года)
В конце концов было принято нелёгкое решение – расстаться. Семью Булат Шалвович сохранил.

Чего это ему стоило – знал только он. О том, насколько всё это его мучило, можно прочесть в некоторых стихах Окуджавы 80-х, где проглядывает ситуация классического «треугольника»:

Две женщины плакали горько,
а Ванька ну просто рыдал.
О Господи, что за несчастье,
такого и свет не видал!
Циркачка была безутешна,
Маруся дышала едва.
И тут бесполезны усилья
и вовсе напрасны слова.
Классический тот треугольник,
дарованный черной судьбой!
Он выглядит странно и дерзко —
навечно сведённый с тобой.
Простёрши железные грани,
что так холодны и грубы,
среди легиона счастливцев,
не знающих этой судьбы.
И Ванька, наверное, рад бы
великую тайну решить.
Но кто в этом мире способен
их слезы навек осушить?
Кто тот треугольник разрушит?
Кто узел судьбы разорвет?..
И слезы любви он глотает,
и воздух разлуки он пьет.
Чардымский жерех
А летом 1985-го Окуджава снова был в Саратове. На этот раз он приехал один, по личному приглашению директора объединения «Тантал» Г. А. Умнова. Тот устроил ему царский приём в своих угодьях, разместив в специальном домике для почётных гостей на заводской базе отдыха в Чардыме.
Умнов всегда любил обхаживать служителей муз — возможно, с тайной мыслью быть потом ими воспетым и остаться в истории. Во всяком случае так было незадолго перед этим с Вознесенским.

После такого же роскошного отдыха с охотой, рыбалкой и всем прочим, в 1984 году появилась его огромная статья в «Литературной газете» «Прорабы духа» - о директоре «Тантала», где тот превозносился до небес. Умнов был счастлив и горд. Но вот с Окуджавой вышел облом.
Надо сказать, что Булат Шалвович был довольно сухим и жёстким в общении с людьми, которые ему чем-то не нравились, и никогда не лицемерил. А в людях он разбирался хорошо. «Холодный и проницательный», - как определил его Ю. Нагибин в своём дневнике.
Купить его, пустить пыль в глаза, запудрить мозги, заставить плясать под свою дудку было нельзя.

И вскоре, вместо ожидаемого панегирика, в «Юности» (№1 за 1986 год) появилось стихотворение Окуджавы под названием «Жерех» с посвящением «Г. Умнову». Ни в одном сборнике этого стиха вы не найдёте. В Интернете есть, но везде с ошибкой: «чердыньское чудовище» вместо «чардымского». Чердынь — это пермский край, Чардым — посёлок в саратовской области.
Жерех — это, как известно, речная рыба, но в образе этой хищной рыбы танталовцы без труда узнали черты директора объединения.
Тогда, в начале перестройки, когда кресла под партократами закачались, когда была реальная угроза его снятия, стихи эти воспринимались очень остро и актуально.

Вот оно, чардымское чудовище,
разгулялось под речной волной.
Здесь его пристанище, становище,
пастбище его и дом родной.
Я-то думал, что оно на отмели
лишь резвится, будто бы в раю,
а оно, как волк январский во поле,
на фортуну молится свою.
Я-то думал: на крючок подцепленное,
будет без борьбы на мир взирать,
а оно, холодное, серебряное,
хищное, не хочет умирать.
Среди плеска волжского и шепота,
может, вспоминается ему,
сколько было съедено и попито,
пожито — не снилось никому.
Вот и не сдается и сражается
(десятью потами изойдешь),
словно знает, что судьба не сжалится
просто так, за здорово живешь.

Это были совершенно убийственные стихи, не оставлявшие сомнения в истинной подплёке текста и подтекста. Удивительно, как он смог уловить самую суть! Даже внешне Умнов чем-то походил на этого жереха.

Эти стихи ходили по заводу в списках ещё за месяц до опубликования в «Юности» (кто-то привёз из Москвы). Потом была целая очередь в парткабинет — переписывать с журнала. Зав. парткабинетом Клавдия Ивановна делала большие невинные глаза: «Я не понимаю, в чём дело? Почему такой ажиотаж? Ну, написал человек о рыбе, о рыбалке...» Но все поняли как надо.
«Мы встретились через пятьдесят лет...»
И ещё одна трогательная история о любви, о которой невозможно не рассказать.
Из воспоминаний знаменитой телеведущей Валентины Леонтьевой.

Эти факты её биографии вполне могли бы стать сюжетом для её передачи «От всей души».
В сороковых-пятидесятых годах Валентина тоже жила на Арбате и однажды в гостях познакомилась с двумя пареньками — закадычными друзьями. Один был маленьким и некрасивым, ниже высокой Вали на полголовы, другой — высоким и статным. Оба — весёлые и очень умные. Оба признались ей в любви.

Валентина Леонтьева
Валя ответила взаимностью второму. А первый писал ей потрясающие стихи и пел свои песни.
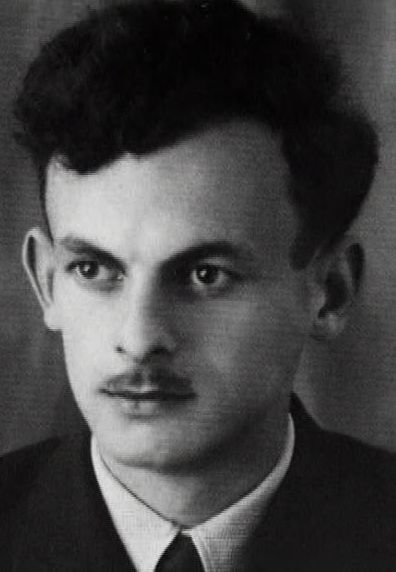
Вскоре он уехал в Ленинград (летом или осенью 1961 года Булат Окуджава гостит в Ленинграде, встречаясь со своей будущей женой Олей Арцимович) , а Валя попала в Тамбовский театр. Позже началось телевидение…

Она потеряла его, он — её, хотя не было ничего проще найти друг друга: хрупкая Валя стала известнейшей Валентиной Леонтьевой, а Булат — символом поколения, Булатом Шалвовичем Окуджавой…
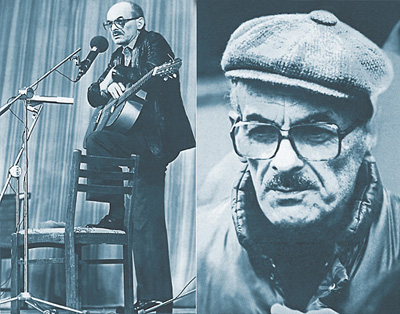
Через сорок лет, в начале девяностых, редактор попросила Леонтьеву: «Валентина Михайловна, нам нужен на передачу Окуджава — позвоните ему, ведь вы вроде были когда-то знакомы?».
«Как так — вдруг позвонить?! Ведь столько лет мы не виделись! Навязываться человеку, который давно уже забыл обо мне! Да у меня и телефона его нет!», — испуганно отнекивалась Валентина Михайловна.

Но она всё же решилась. И повезло: трубку снял Булат.
— Булат… Простите, я не знаю, как вас называть: на вы, на ты…
— Кто это? — раздражённо спросил Окуджава.
-- Вы только не вешайте трубку, послушайте меня хотя бы полторы минуты, — и она прочитала одно из его стихотворений, написанное только для неё и никогда не издававшееся («Слишком личное», — объяснял потом Булат):
Сердце своё, как в заброшенном доме окно,
Запер наглухо, вот уже нету близко…
И пошёл за тобой, потому что мне суждено,
Мне суждено по свету тебя разыскивать.
Годы идут, годы всё же бредут,
Верю, верю: если не в этот вечер,
Тысяча лет пройдёт —всё равно найду,
Где-нибудь, на какой-нибудь улице встречу…

— Валя, ты?! Как тебя найти, родная?! Где же ты была?!..
— Да я ведь уже тридцать лет каждый вечер прихожу к тебе в дом!
— Так это ты?! Господи, я даже подумать не мог! Сколько же лет?
— Сорок, Булат, сорок…
Через несколько дней у Леонтьевой был концерт в ЦДРИ, и в первом ряду она увидела Булата с женой. Она сбежала со сцены и присела перед ним на колени.

Я даже не представляла, что он придёт, — и вдруг!.. Мы просто смотрели друг на друга и почти плакали. На своей последней книжке он написал мне: «Мы встретились через 50 лет». Я страшно жалею теперь, что мы потеряли эти сорок лет, не видя друг друга, — сколько всего могло бы быть иначе!

Булат Окуджава умер через месяц после того, как они с Валей встретились вновь…

памятник Валентине Леонтьевой в Ульяновске
сайт Валентины Леонтьевой, где я взяла эту историю: http://www.peoples.ru/tv/leontieva/index.html
«Ребята, нас вновь обманули...»
Когда началась перестройка, Окуджава воспрянул. После хрущёвской оттепели он вторично поверил в то, что жизнь и уклад страны могут действительно измениться. Вся страна была охвачена антикоммунизмом, всё общество развернулось к демократии, и все подумали, что завтра мы заживём как на Западе. Это была наивность не только Окуджавы, но и всего народа. Окуджава думал, что свобода сметёт, смоет следы старого, очистит общество. Он входил в какие-то президентские комиссии, участвовал в политических мероприятиях, акциях. Он верил в скорые перемены, которых очень хотел.
Я вас обманывать не буду.
Мне вас обманывать нельзя:
обман и так лежит повсюду,
мы по нему идем, скользя.
Давно погашены улыбки,
вокруг болотная вода,
и в том — ни тайны, ни ошибки,
а просто горе да беда.
Когда-то в молодые годы,
когда все было невдомек,
какой-то призрачной свободы
достался мне шальной глоток.
Единственный. И без обмана,
средь прочих ненадёжных снов,
как сладкий яд, как с неба манна,
как дар судьбы без лишних слов.
Не в строгих правилах природы
ошибку повторять свою,
поэтому глоток свободы
я долго и счастливо пью.
Разочарование наступило быстро. В 1995-ом он сказал о переменах в стране: «Я счастлив, что всё это произошло. Я в ужасе от того, чем всё это кончается».
Вселенский опыт говорит,
что погибают царства
не оттого, что тяжек быт
или страшны мытарства.
А погибают оттого
(и тем больней, чем дольше),
что люди царства своего
не уважают больше.
Он обманулся. После 1991 года в стихах Окуджавы зазвучали общественно-политические темы, чего раньше не было.
Ребята, нас вновь обманули,
опять не туда завели.
Мы только всей грудью вздохнули,
да выдохнуть вновь не смогли.
Мы только всей грудью вздохнули
и по сердцу выбрали путь,
и спины едва разогнули,
да надо их снова согнуть.
Ребята, нас предали снова,
и дело как будто к зиме,
и правды короткое слово
летает, как голубь во тьме.

А если всё не так, а всё как прежде будет,
пусть Бог меня простит, пусть сын меня осудит,
что зря я распахнул напрасные крыла...
Что ж делать? Надежда была.
Года за два до ухода из жизни Булат испытал такое же разочарование, какое испытала его мама Ашхен Степановна. Его чистая душа взяла на себя ответственность за неудачу реформ, за то, что они обернулись для народа совсем не тем, чего от них все ожидали. Он страшно переживал, что народ деградировал в культуре, в духовной жизни, что свобода, которая пришла в Россию, принесла с собой анархию, злобу, обогащение олигархов, нищету большинства и, как следствие, ненависть масс.
Что ж, век иной. Развеяны все мифы.
Повержены умы.
Куда ни посмотреть – все скифы, скифы, скифы…
Их тьмы, и тьмы, и тьмы.
И с грустью озираю землю эту,
где злоба и пальба.
И кажется, что русских вовсе нету,
а вместо них толпа.
И в другом стихотворении: «Слишком много стало сброда, не видать за ним народа».
В 90-е годы у него были страшные стихи о стране:

Я живу в ожидании краха,
унижений и новых утрат.
Я, рождённый в империи страха,
даже празднествам светлым не рад.
Все кончается на полуслове
раз, наверное, сорок на дню...
Я, рожденный в империи крови,
и своей-то уже не ценю.
Но и от такой страны он никогда не отрекался, потому что — как писал он в одном из лучших своих четверостиший:
Но вам сквозь ту бумагу белую
не разглядеть, что слезы лью,
что я люблю отчизну бедную,
как маму бедную мою.

«Пишу роман. Тетрадка в клеточку...»
Вообще история России была постоянным предметом его размышлений — не случайно он писал исторические романы. Хотя не только желание доискаться до корней происходящего двигало его пером. Кажется, порой ему просто хотелось пожить в другом времени — преимущественно в пушкинском, когда понятия чести и достоинства не были пустым звуком. Казалось порой, что Окуджава сам оттуда, что золотые струны его гитары — из золотого века русской поэзии.
Сумерки, природа, флейты голос нервный, позднее катанье.
На передней лошади едет император в голубом кафтане.
Белая кобыла с карими глазами, с челкой вороною.
Красная попона, крылья за спиною, как перед войною.
Вслед за императором едут генералы, генералы свиты,
Славою увиты, шрамами покрыты, только не убиты.
Следом дуэлянты, флигель-адьютанты, блещут эполеты...
Все они красавцы, все они таланты, все они поэты.
Все слабее звуки прежних клавесинов, голоса былые,
Только топот мерный, флейты голос нервный, да надежды злые.
Все слабее запах очага и дыма, молока и хлеба.
Где-то под ногами, да над головами, лишь земля и небо...
Однако в чистом виде исторической прозой он никогда не занимался. Окуджава пишет о себе, но на историческом материале. Ему интересно ставить себя на место своих героев. Через них он пытается выразить себя, поделиться своими мыслями, взглядами на жизнь. Это были фантазии на исторические темы, где Окуджава всегда узнаваем своей иронией, своим неповторимым стилем. «Глоток свободы», «Бедный Авросимов», «Мерси или похождения Шипова», «Путешествие дилетантов», «Свидание с Бонапартом»...

Пишу роман. Тетрадка в клеточку.
Пишу роман. Страницы рву.
Февраль к стеклу подставил веточку,
чтоб так я жил, пока живу.
Шуршат, шуршат листы тетрадные,
чисты, как аиста крыло,
а я ищу слова нескладные
о том, что было и прошло.
В склянке тёмного стекла
Из-под импортного пива
Роза красная цвела
Гордо и неторопливо.
Исторический роман
Сочинял я понемногу,
Пробиваясь, как в туман,
От пролога к эпилогу.
Каждый пишет, как он слышит,
Каждый слышит, как он дышит,
Как он дышит, так и пишет,
Не стараясь угодить...
Так природа захотела,
Почему - не наше дело,
Для чего - не нам судить.
Были дали голубы,
Было вымысла в избытке,
И из собственной судьбы
Я выдергивал по нитке.
В путь героя снаряжал,
Наводил о прошлом справки
И поручиком в отставке
Сам себя воображал.
Вымысел не есть обман,
Замысел - еще не точка,
Дайте дописать роман
До последнего листочка.
И пока еще жива
Роза красная в бутылке,
Дайте выкрикнуть слова,
Что давно лежат в копилке.
Блеск и нищета
В 90-х годах слава Окуджавы стала глобальной — мировой. Он собирал огромные аудитории даже за рубежом. Его много приглашали эмигрантские организации, и он объездил много стран.
пятитысячный зал в Берлине был переполнен
Получал призы: «Золотую гитару» - в Сан-Ремо, «Золотой венец» - Югославии.
Окуджава был уже довольно больным человеком — у него была эмфизема лёгких, всё время болело сердце, он очень уставал.

Тяжело доставались ему эти концерты, друзья уговаривали выступать поменьше, но жена Ольга возражала: «Нет, пусть выступает, для него это жизнь!»
В Лос-Анджелесе сделали кардиограмму — она оказалась настолько скверной, что потребовалась неотложная операция. Аорта была перекрыта на 90%. Операция стоила 65 тысяч долларов. У них было только десять. Основную сумму дал Лев Копелев — перевёл из Германии. Остальные собрали американцы. Из России они не получили ни копейки. Американцы очень удивлялись, почему в лечении известного поэта, к тому же фронтовика, никак не поучаствовало государство. И вообще, почему он такой знаменитый — и такой бедный.
Операция прошла успешно. Врачи обещали Окуджаве ещё 10-12 лет жизни.
«Печальный мой старший, в землю упавший...»
А в январе 1997-го - за несколько месяцев до смерти - Окуджава пережил подкосившую его трагическую гибель старшего сына Игоря (того самого, которому был посвящён его «Оловянный солдатик»). Окуджава всю жизнь чувствовал вину перед ним. В стихотворении «Итоги» писал:
В пятидесятых сын мой родился,
печальный мой старший,
рано уставший, в землю упавший...
И не поднять...
Игорю было всего сорок три. После развода родителей и смерти матери он увлёкся неформальными течениями, стал пить, принимать наркотики. Сестра его матери Галины Смольяниновой Ирина Живописцева в своей книге «Опали, как листва, десятилетья» («Санкт-Петербург, 1998) вспоминала о своей последней встрече с Игорем: «… Я, скрывая слёзы, смотрела на его седые, стриженные под машинку волосы — когда-то длинные и волнистые, потухшие глаза и трясущиеся руки. Он с трудом передвигался на костылях (одну ногу из-за гангрены ему отняли выше колена). Он неузнаваемо изменился за 15 лет. Ах, каким он был когда-то красивым мальчиком!»
Окуджава пережил его лишь на полгода. Из стихов последних месяцев:
Тянется жизни моей карнавал.
Счет подведен, а он тянется, тянется.
Все совершилось, чего и не ждал.
Что же достанется? Что же останется?

На улице моей беды стоит ненастная погода,
шумят осенние деревья, листвою блеклою соря.
На улице моих утрат зиме господствовать полгода:
все ближе, все неумолимей разбойный холод декабря.

«Скоро увижу я маму свою...»
После смерти сына здоровье Окуджавы сразу резко ухудшилось. Врачи запрещали ему курить (эмфизема лёгких), но он курил крепкие сигареты «Житан», его бил кашель. Та же история, что и с Бродским...
Мне ничего не надо, и сожалений нет:
в руках моих гитара и пачка сигарет.

Весь в туманах житухи вчерашней
все надеясь: авось, как-нибудь --
вот и дожил до утренних кашлей,
разрывающих разум и грудь.
И, хрипя от проклятой одышки,
поминая минувшую стать,
не берусь за серьезные книжки:
всё боюсь не успеть дочитать.
Добрый доктор, соври на прощанье.
Видишь, как к твоей ручке приник?
Вдруг поверю в твои обещанья
хоть на день, хоть на час, хоть на миг.
Раб ничтожный, взыскующий града,
перед тем, как ладошки сложить,
вдруг поверил, что ложь твоя -- правда
и еще суждено мне пожить.
Весь в туманах житухи вчерашней,
так надеюсь на правду твою...
Лучше ад этот, грешный и страшный,
чем без вас отсыпаться в раю.
Он продолжал писать стихи, но в них уже ощущалась душевная усталость, надломленность. Завод кончился, лирическая струна ослабла.
Жаль, что молодость пропала, жаль, что старость коротка.
Всё теперь уж на ладони, лоб в поту, душа в ушибах.
Но зато уже не будет ни загадок, ни ошибок,
Только ровная дорога, только ровная дорога до последнего звонка.
Да, старость. Да, финал. И что винить года,
Как это всё сошлось, устроилось, совпало.
Мне повезло, что жизнь померкла лишь тогда,
когда моё перо усердствовать устало.

К старости косточки стали болеть,
старая рана нет-нет и заноет.
Стоило ли воскресать и гореть?
Все, что исхожено, что оно стоит?
Вон ведь какая прогорклая мгла!
Лето кончается. Лета уж близко.
Мама меня от беды берегла,
Бога просила о том, атеистка,
карагандинской фортуны своей
лик, искореженный злом, проклиная...
Что там за проволокой? Соловей,
смолкший давно, да отчизна больная.
Все, что мерещилось, в прах сожжено.
Так, лишь какая-то малость в остатке.
Вот, мой любезный, какое кино
я посмотрел на седьмом-то десятке!
"Так тебе, праведник!" -- крикнет злодей.
"Вот тебе, грешничек!" -- праведник кинет...
Я не прощенья прошу у людей:
что их прощение? Вспыхнет и сгинет.
Так и качаюсь на самом краю
и на свечу несгоревшую дую...
Скоро увижу я маму свою,
стройную, гордую и молодую.

Последняя гастроль
Последнее путешествие Булата и Ольги состоялось в том же 1997 году. Они выбрали Марбург, город Пастернака, жили там десять дней в частной гостинице. Неплохо встретили день рождения – 9 мая. Дальше предполагался Мюнхен, но Булат Шалвович захотел навестить в Кельне старого друга Льва Копелева. А тот только что перенёс инфекционный бронхит. Там Булат и подхватил этот вирус. Добравшись до Парижа с женой Ольгой, Окуджава в решающие для его жизни первые дни болезни оказался без врачебной помощи, поскольку в стране были выходные дни, а российское посольство помочь не захотело.

последняя фотография Окуджавы на последнем дне рождения
Он скончался в Париже 12 июня 1997 года в возрасте 73 лет. Какая-то странная, не совсем понятная связь — в том, что он родился в день Победы и умер в день Независимости России — почти мистическая закономерность. Горько вспоминаются его строки:

Берегите нас, поэтов. Берегите нас.
Остаются век, полвека, год, неделя, час,
три минуты, две минуты, вовсе ничего...
Берегите нас. И чтобы все — за одного.
Берегите нас с грехами, с радостью и без.
Где-то, юный и прекрасный, ходит наш Дантес.
Он минувшие проклятья не успел забыть,
но велит ему призванье пулю в ствол забить.
Где-то плачет наш Мартынов, поминает кровь.
Он уже убил однажды, он не хочет вновь.
Но судьба его такая, и свинец отлит,
и двадцатое столетье так ему велит.
Берегите нас, поэтов, от дурацких рук,
от поспешных приговоров, от слепых подруг.
Берегите нас, покуда можно уберечь.
Только так не берегите, чтоб костьми нам лечь.
Только так не берегите, как борзых - псари!
Только так не берегите, как псарей - цари!
Будут вам стихи и песни, и ещё не раз...
Только вы нас берегите. Берегите нас.
Не уберегли. А когда мы кого уберегали?!
"Намедни"-97. Похороны Булата Окуджавы.
«Конец эпохи» - говорили многие, узнав о смерти Окуджавы. Некоторые газеты подхватили: «Эпоха 60-х закончилась». Но они поторопились. Эпохи уходят, чтобы остаться.
Наверное, самую лучшую
на этой земной стороне
хожу я и песенку слушаю -
она шевельнулась во мне.
Она еще очень не спетая.
Она зелена как трава.
Но чудится музыка светлая,
и строго ложатся слова.
Сквозь время, что мною не пройдено,
сквозь смех наш короткий и плач
я слышу: выводит мелодию
какой-то грядущий трубач.
Легко, необычно и весело
кружит над скрещеньем дорог
та самая главная песенка,
которую спеть я не смог.
(«Главная песенка»)
Похороны
Окуджаву хоронили через восемь дней на Ваганьковском кладбище. Наталья Горленко не узнала его — так сильно он изменился.
Шёл дождь — казалось, само московское небо оплакивало его. Она вспоминала песню, которую они пели на два голоса: «После дождичка небеса просторны...»
А в ушах звучали его строки:
И если я погибну, и если я умру,
проснется ли мой город с тоскою поутру?
Пошлёт ли на кладбище перед заходом дня
своих счастливых женщин оплакивать меня?..
Но он знал, что и город проснётся, и женщины придут...
Очередь на Старом Арбате протянулась от станции метро «Смоленская» до театра им. Вахтангова. Сотни людей пришли попрощаться с Булатом Окуджавой — их было так много, что пришлось продлить время, отменить вечерний спектакль. У женщин и мужчин, молодых и пожилых, было нечто общее — интеллигентные лица. В зрительном зале звучала не траурная музыка, а песни Окуджавы.
Здесь вы видите документальные кадры похорон поэта:
Многим казалось странным, что Окуджаву за несколько дней до смерти, уже в бессознательном состоянии, окрестили, хотя при жизни он не был религиозным, и отпевали в церкви и на похоронах на Ваганьковском. Это было сделано по инициативе его верующей жены Ольги. Она окрестила его в Париже уже на смертном одре. И наречён он был именем Булат-Иоанн…

священник Г. Чистяков на похоронах Окуджавы
Во время речи священника вдруг появилась процессия со свечами, с печальным и гортанным пением. Это Кавказ провожал своего Поэта.


Поэзия Окуджавы — это уже мировая классика. Его песни звучат на всех языках мира. В разных странах проходят фестивали его имени. Именем Булата Окуджавы названа школа в Москве, горный перевал и звезда на небе.

Это музей Окуджавы в Переделкино в доме, где он жил последние годы.

На пересечении Старого Арбата с Плотниковым переулком, недалеко от дома, где жил поэт, сооружён памятник Окуджаве, о котором А. Городницкий писал:
От Арбата, под Вязьму и Тулу,
в тишину подмосковных полян,
он уходит походкой сутулой,
как его изваял Франгулян.
А это памятник работы З. Церетели, где поэт похож на Дон Кихота.

И на нём вполне могли бы быть выбиты эти строки:
Совесть, Благородство и Достоинство –
Вот оно, святое наше воинство.
Протяни ему свою ладонь,
За него не страшно и в огонь.
Лик его высок и удивителен,
Посвяти ему свой краткий век.
Может, и не станешь победителем,
Но зато умрешь, как человек.

Слова, которые были девизом его жизни.
Всё для вас. Посвящается вам.
Через год после смерти поэта в 1998 году указом Ельцина была учреждена Государственная премия имени Окуджавы. А в Москве сейчас действует необычный троллейбусный маршрут, курсирующий от Политехнического музея до Чистых прудов, организованный московским клубом авторской песни.

Пассажиры здесь слушают окуджавские песни, причём начинается маршрут с «Песенки о полночном троллейбусе»:
Когда мне невмочь пересилить беду,
когда подступает отчаянье,
я в синий троллейбус сажусь на ходу,
в последний,
в случайный.
Полночный троллейбус по улице мчит,
верша по бульварам круженье,
чтоб всех подобрать, потерпевших в ночи
крушенье,
крушенье.
Полночный троллейбус, мне дверь отвори!
Я знаю, как в зябкую полночь
твои пассажиры - матросы твои -
приходят
на помощь.
Я с ними не раз уходил от беды,
я к ним прикасался плечами...
Как много, представьте себе, доброты
в молчанье,
в молчанье.
Полночный троллейбус плывет по Москве,
Москва, как река, затухает,
и боль, что скворчонком стучала в виске,
стихает,
стихает.

Цель искусства в конечном итоге — утешение. Он словно послан был Богом для утешения и просветления вечно тоскующей о чём-то русской души.
Если есть еще позднее слово, пусть замолвят его обо мне.
Я прошу не о вечном блаженстве -- о минуте возвышенной пробы,
Где уместны, конечно, утраты и отчаянье даже, но чтобы -
милосердие в каждом движеньи и - красавица в каждом окне.

Е. Евтушенко написал стихотворение памяти Окуджавы, которое как нельзя лучше выразило чувства современников, осиротевших со смертью своего барда. Называется оно «Простая песенка»:

Простая песенка Булата
всегда со мной.
Она ни в чем не виновата
перед страной.
Поставлю старенькую запись
и ощущу
к надеждам юношеским зависть
и загрущу.
Где в пыльных шлемах комиссары,
нет ничего,
и что-то в нас под корень самый
подсечено.
Все изменилось - жизнь и люди,
любимой взгляд,
и лишь оскомина иллюзий
внутри, как яд.
Нас эта песенка будила,
открыв глаза.
Она по проволоке ходила,
и даже - за.
Эпоха петь нас подбивала.
Толкала вспять.
Не запевалы - подпевалы
нужны опять.
Но ты, мой сын, в пыли архивов
иной Руси
найди тот голос, чуть охриплый,
и воскреси.
Он зазвучит из дальней дали
сквозь все пласты,
и ты пойми, как мы страдали,
и нас прости.
Одно поколение сменяется другим, а любовь к его песням не угасала, не угасает и не угаснет. Его имя и слово — как пароль людей, противостоящих напору торгашества, пошлости, прагматизма. Хочется верить, что время Окуджавы никогда не прервётся.
Это одна из последних его фотографий.

И - одно из последних стихотворений, которое обращено к нам, его читателям и слушателям, как завещание:
У поэта соперника нету
Ни на улице и ни в судьбе.
И когда он кричит всему свету,
Это он не о вас - о себе.
Руки тонкие к небу возносит,
Жизнь и силы по капле губя.
Догорает, прощения просит...
Это он не за вас - за себя.
Но когда достигает предела,
И душа отлетает во тьму -
Поле пройдено, сделано дело...
Вам решать: для чего и кому.
То ли мёд, то ли горькая чаша,
то ли адский огонь, то ли храм...
Всё, что было его - нынче ваше.
Всё для вас. Посвящается вам.
Полностью мою лекцию о Булате Окуджаве можно послушать здесь:
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/98189.html
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю
"Всё глуше музыка души..." (продолжение) |
Начало здесь.
Боль от этой нелепой трагической смерти, в которой косвенно был повинен он сам, сопровождала его всю жизнь. К ней примешивалась и неизбывная боль о сыне, который после смерти матери, остававшийся на попечении престарелой бабушки, по сути оказался предоставленным самому себе. Сдружившись с компанией юных наркоманов, он стал принимать наркотики, попал в тюрьму, отсидел срок. Окуджава пытался спасти Игоря от тюрьмы, но ничего не вышло. Всё это очень мучило его. Из этого душевного штопора он так и не выбрался, о чём можно судить по многим стихам.
А как первая любовь — она сердце жжёт.
А вторая любовь — она к первой льнёт.
А как третья любовь — ключ дрожит в замке,
ключ дрожит в замке, чемодан в руке.
А как первый обман — да на заре туман.
А второй обман — закачался пьян.
А как третий обман — он ночи черней,
он ночи черней, он войны страшней.
("Песенка о моей жизни")

«Самое трудное в музыке — написать простую песенку...»
Хотя Окуджава везде подчёркивал, что он только поэт, напевающий свои стихи, его песни имеют и самостоятельную музыкальную ценность. Удивительно то разнообразие мелодий и ритмических рисунков, которые он извлекал из нескольких минорных аккордов, взятых в двух-трёх тональностях. Ему — человеку в узко-школьном значении слова музыкально необразованному — могли бы позавидовать многие сочинители крупных форм, ведь он умел то, что давалось далеко не каждому из них.

Моцарт считал, что самое трудное в музыке — написать простую песенку, которую подхватили бы все. Именно это и удавалось Булату. Свои сочинения он так и называл — песенками, пряча за непритязательностью и как будто легкомыслием формы серьёзность содержания.

Легко запоминающиеся мелодии, стилистически единые и вместе с тем разнообразные, настолько органично связанные со словом, с его индивидуальностью, что Шостакович на полушутливое предложение сочинить «настоящую музыку» на стихи Окуджавы, заметил, что это не нужно. Жанр, в котором работал бард, не требовал музыкального вмешательства извне.

Не все композиторы это понимали. Так, однажды, Матвей Блантер написал на несколько стихов Окуджавы свою музыку, искренне намереваясь их этим улучшить. И с торжеством исполнил их автору. Тот кисло промямлил что-то вроде: мол, можно и так...
На вечере Блантера в ЦДЛ была премьера окуджавского цикла. Этот цикл, увенчанный музыкой знаменитого мастера, тут же был выпущен на пластинке в исполнении Э. Хиля и эстрадно-инструментального ансамбля «Камертон». И оказались, что песни Окуджавы очень при этом проиграли, так как лишились своего неповторимого своеобразия. Блантер и Хиль втиснули окуджавскую лирику в абсолютно чуждую ей интонационную среду. Исчез подтекст, испарилась щемящая ирония, пропало чувство меры. Грустная и серьёзная «Песенка об открытой двери» превратилась в игривый вальс, а печально-ироническая баллада «Старый пиджак» - в бойкий водевильный куплет. И все композиторы-профессионалы, пытавшиеся писать на стихи Окуджавы, невольно обезличивали их, лишали индивидуальности, искажали интонацию его стиха. Все, кроме одного — Исаака Шварца.

Шварц написал на стихи Окуджавы около 30 песен: «Не обещайте деве юной...», «Любовь и разлука», песни из кинофильма «Соломенная шляпка», песенку про Госпожу удачу... И все они были точным попаданием в десятку.
Шварц и Окуджава за работой
Однажды он написал музыку к стихам Окуджавы к фильму «Законный брак» («После дождичка небеса просторны...») Дал ему прослушать. А Булат говорит: «Знаешь, я тоже написал на эти стихи мелодию». И спел её. Шварц поднял обе руки: «Сдаюсь. У тебя получилось лучше». И его мелодия вошла в фильм.

Здесь она звучит в фильме в исполнении Окуджавы и его гражданской жены Натальи Горленко (о ней речь впереди). Но мне больше нравится, как её поёт Елена Камбурова.

Камбурова поёт очень много песен Окуджавы, и каждая из них в её трактовке — это законченный драматический этюд, разыгранный филигранными актёрскими средствами, которые отличает яркая экспрессивность, порой просто на разрыв аорты. При этом она мастерски владеет подтекстом, тонко улавливая его. Просто упиваюсь этой песней:
После дождичка небеса просторны,
голубей вода, зеленее медь.
В городском саду флейты да валторны.
Капельмейстеру хочется взлететь.

Ах, как помнятся прежние оркестры,
не военные, а из мирных лет.
Расплескалася в улочках окрестных
та мелодия - а поющих нет.

С нами женщины - все они красивы -
и черемуха - вся она в цвету.
Может, случай нам выпадет счастливый:
снова встретимся в городском саду.

Но из прошлого, из былой печали,
как ни сетую, как там ни молю,
проливается чёрными ручьями
эта музыка прямо в кровь мою.

Сын врагов народа — народный поэт
Однажды режиссёр Андрей Смирнов заказал Окуджаве песню к кинофильму «Белорусский вокзал» - не только как поэту, но и как бывшему фронтовику, солдату-миномётчику.

Он просил написать песню, которую бы пели в фильме тоже бывшие фронтовики, и притом такую, «чтобы она была как бы ими самими сочинённая». И вот эта песня, которая по первоначальному замыслу режиссёра должна была украсить, сделать более достоверной сцену встречи фронтовых друзей, сама стала одним из главных действующих лиц фильма.

Когда Окуджава сыграл её одним пальцем, Смирнов сказал: «Да, пожалуй, песня не получилась». И вдруг — Шнитке: «А по-моему, это интересно. Давайте-ка ещё раз». Песню доработали, Шнитке сделал аранжировку, она зазвучала. Нина Ургант замечательно её спела.

Хотя поначалу она ей не нравилась, она говорила: «Я буду петь "Синенький скромный платочек». Но Смирнов настоял, что именно эту. Ургант до сих пор получает мешки писем и звонков от мужчин, которые считают, что она — фронтовичка и пела действительно песню, сочинённую в окопах.
Главной народной песней о войне стал марш Окуджавы к «Белорусскому вокзалу». Точно так же ушли в народ «Бери шинель, пошли домой», «До свидания, мальчики», «Простите пехоте».
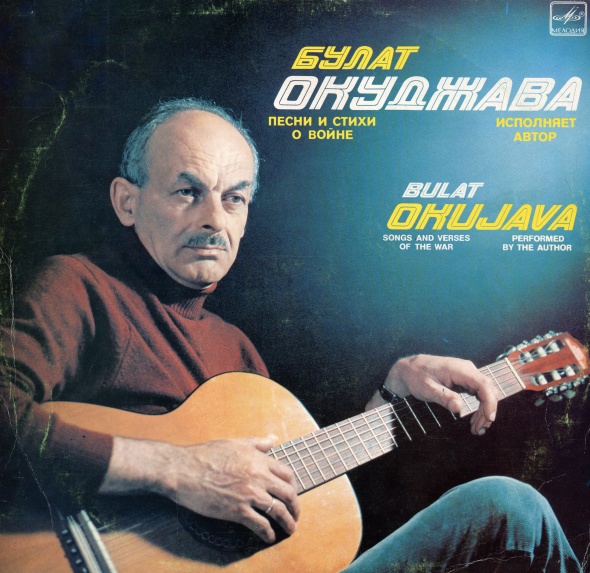
Как это ни парадоксально, настоящий русский военный фольклор был создан человеком, чьего отца расстреляли, а мать посадили, а к нему самому как к сыну врагов народа власть всегда относилась с подозрением. Ну как и к народу, собственно.
«За таким поэтом девушки не пойдут»
Сегодня трудно поверить, что были времена, когда творчество Окуджавы считали дурным тоном. Трудно представить, что когда-то маститый Леонид Утесов небрежно бросил за кулисами Дома актера: «Окуджава? О чем говорить? Дилетант».
Первое концертное выступление Булата в Москве состоялось в январе 1960 года в Доме кино.

Оно закончилось скандальным провалом. Вот как вспоминает об этом очевидец Станислав Рассадин:
«Окуджава, волнуясь, вышел спеть две-три песни, но не допел и первой: «Вы слышите, грохочут сапоги...» Актёр Кмит, памятный, как Петька из «Чапаева», перебил его, выкрикнув: «Осторожно, пошлость!» (как нарочно, в программе вечера был фильм под этим названием. Звезда на народные роли Зинаида Кириенко захлопала, не позволяя петь, а ведущий, писатель Ардаматский, человек, как принято говорить, со специфической репутацией, добавил: да, мол, товарищи, вот вам и иллюстрация к просмотренной ленте...»
Для Окуджавы это было страшным ударом, настоящим потрясением. Когда его клеймили партийные власти, идеологические противники — было понятно. Но эти-то — свои, интеллигенция, - за что?! Булат прервал выступление, сбежал с собственного вечера и плакал в коридоре. Его увидел там Юрий Нагибин, пригрел, устроил ему дружеский вечер с шампанским и коньяком. Этого-то, как пишет Нагибин в своём дневнике, «он мне так и не простил».

Юрий Нагибин
«Я всегда чувствовал в нём к себе что-то затаённо недоброе». Видимо, не мог простить, что тот был свидетелем его унижения.
На одном из вечеров Окуджава рассказывал, как в «Комсомольской правде» был опубликован о нём фельетон.

«Там были такие строчки: «На эстраду вышел странный человек и запел пошлые песенки. Но за таким поэтом девушки не пойдут. Девушки пойдут за Твардовским и Исаковским». Вот такой способ определять качество литературы: за кем пойдут девушки».
«А умный в одиночестве гуляет кругами...»
Для внешней жизни у Булата оставалось немного — он весь расходовался на литературу. Отсюда его крутое одиночество, несмотря на несколько верных друзей и тьму поклонников — всенародный бард был типичным интровертом. У него есть такие шутливые строки:
А умный в одиночестве гуляет кругами,
он ценит одиночество превыше всего.
И его так просто взять голыми руками,
скоро их повыловят всех до одного.
И в другом стихотворении, посвящённом сыну Антону:
Что-то сыночек мой уединением стал тяготиться.
Разве прекрасное в шумной компании может родиться?
Там и мыслишки, внезапно явившейся, не уберечь:
в уши разверстые только напрасная просится речь.

в одну из его одиноких прогулок в Санкт-Петербурге
Та холодноватая корректность, которую с годами обрёл Окуджава, была прежде всего самозащитой. От избыточных впечатлений. От лишних людей. Ничто он так не ненавидел, как стадность, толпу. Превыше всего ценил «самостоянье человека», повторяя вслед за Пушкиным. Индивидуальность человека, не смешивающегося с массой — вот чем пуще всего дорожил он. Даже перестал исполнять свою песню «Возьмёмся за руки, друзья», когда КСП сделал её как бы партийным гимном бардовского движения, обобществив-обезличив.
Для Окуджавы святыней была независимость. Внутри тоталитарной системы, будучи членом партии, в которую он вступил после 20 съезда, он оставался независим. Даже шестидесятники так или иначе служили системе. А он — никогда.

Нашему дикому обществу нужен тиран во главе?
Чем соблазнить обывателя? Тайна в его голове,
в этом сосуде, в извилинах, в недрах его вещества.
Скрыт за улыбкой умильною злобный портрет большинства.
К цели заветной и праведной узкая вьётся тропа.
Общество, мир, население, публика, масса, толпа, -
как они сосредоточенно (оторопь даже берет)
движутся, верят... и все-таки - это ещё не народ.
Не обольститься б истерикой, не доверять никому,
тем, что клянутся расхристанно в верной любови к нему.
Эта промашка нелепая может возникнуть в толпе.
Видел все это воочию. Знаю про то по себе.
Когда в «New-York Times» появилась статья об отсутствии творчества в СССР, где в качестве примера упоминалась судьба Окуджавы, в ЦК КПСС решили дать очередную отповедь «заокеанской клевете». Булат был вызван на Старую площадь к главному идеологу Ильичёву. От него требовалось всего несколько строк в «Литературке»: «С глубоким возмущением я, советский поэт, прочёл...»
Окуджава возразил: «Но меня действительно не печатают и выступать не дают». - «Это мы исправим», - пообещал Ильичёв.
Но не было таких благ земных, которые бы заставили Окуджаву солгать во спасение. «Знаете, - ответил он, - с Вами я, наверное, уже не увижусь, а с собой мне жить до конца моих дней».
Он был всё-таки кавказец. Гордый кавказец с гипертрофированным чувством собственного достоинства.

Как-то Окуджаве позвонила дама из СП: «Булат Шалвович, к Вашему 60-летию Вас предполагается наградить орденом. Для этого Вам нужно привезти две фотографии и заполнить некоторые бумаги...» Булат вспылил: «Вы хотите наградить, - почему же я должен что-то писать?» Он так и не пошёл его получать. А Орден Дружбы народов всё-таки догнал барда уже после, в общем списке к юбилею Союза советских писателей.

Кто-то пошутил: «Вот ордену и присвоили Окуджаву». А кто-то всерьёз добавил: «Ну вот его и замазали...»
Что такое Родина или патриотизм по-окуджавски
Булат Окуджава считал свои произведения частью русской культуры, но никогда не разделял шовинистические взгляды тех, кто подчёркивал превосходство русской культуры над другими. Его патриотизм - камерный, негромкий:
Держава! Родина! Страна! Отечество и государство!
Не это в душах мы лелеем и в гроб с собою унесём,
а нежный взгляд, а поцелуй - любови сладкое коварство,
Кривоарбатский переулок и тихий трёп о том, о сём.

Кривоарбатский переулок. 1963 год. Кадр из фильма "Я шагаю по Москве"
Одно время Окуджава дружил со Станиславом Куняевым, но когда однажды за границей двое бывших москвичей-эмигрантов завели разговор о кадровых переменах в журнале «Наш современник», о том, как благотворно сказалось на его литературно-философском уровне мудрое руководство нового главного редактора Куняева, Булат опешил: «Да о чём вы говорите! Какая такая философия-литература! Они же все бандиты!»

Пока он писал о России,
не мысля потрафить себе,
его два крыла возносили,
два праведных знака в судьбе.
Когда же он стал "патриотом"
и вдруг загордился собой,
он думал, что слился с народом,
а вышло: смешался с толпой.
К так называемым национал-патриотам Окуджава относился с большим, мягко говоря, недоверием. Как-то, отложив просмотренные номера российских газет, в числе которых оказался и прохановский «День», заметил: «Кошка — тоже патриот. Это же в конце концов биологическая особенность - «русский». Чем же тут хвастать-то? Что дышу местным воздухом?»
Патриотизм Окуджавы — не казённый, не государственный, а личностный, непоказной и очень человечный.
Я люблю! Да, люблю! Без любви я совсем одинок.
Я отверженных вдоволь встречал, я встречал победителей.
Но люблю не столицу, а Пески, Таганку, Щипок,
и люблю не народ, а отдельных его представителей.
А. Городницкий вспоминал, как Окуджава рассказал ему однажды кавказскую притчу о существе патриотизма:

«Пришли к сороке и спросили, что такое родина. Ну, как же, — ответила сорока, — это родные леса, поля, горы». Пришли к волку и спросили у него, что такое Родина. «Не знаю, — сказал волк,– я об этом не думал». А потом взяли обоих, посадили в клетки и увезли далеко.
И снова пришли к сороке и задали тот же вопрос. «Ну, как же, — ответила сорока, — это родные леса, поля, горы». Пришли к волку, а волка уже нет — он сдох от тоски».
Вот что такое патриотизм по-кавказски, по-окуджавски.
Как только поэты ни называли войну, подыскивая свою поэтическую формулу: «Священная война» (Лебедев-Кумач), «Бой идёт святой и правый» (Твардовский), «Война — совсем не фейерверк, а просто трудная работа» (М. Кульчицкий). Окуджава предлагает своё определение: «Подлая». «Ах, война, что ты сделала, подлая». Развёрнутое и реализованное в его стихах и песнях, в его автобиографической повести «Будь здоров, школяр» это «подлая» - ошарашивало, так как резко расходилось с утвердившимся в нашей пропаганде и нашем искусстве взглядом на войну.

Повесть была дружно разругана официозными критиками как пацифистская, осуждена за отсутствие героического пафоса, разгромлена в «Новом мире», был запрет на её перепечатку до 1985 года. Окуджава в знак протеста против ура-патриотизма, бодрячества, шапкозакидательских настроений напишет потом издевательскую «Песенку весёлого солдата».
Возьму шинель, и вещмешок, и каску,
В защитную окрашенные окраску,
Ударю шаг по улочкам горбатым...
Как просто стать солдатом, солдатом.
Забуду все домашние заботы,
Не надо ни зарплаты, ни работы -
Иду себе, играю автоматом,
Как просто быть солдатом, солдатом!
А если что не так - не наше дело:
Как говорится, родина велела!
Как славно быть ни в чём не виноватым,
Совсем простым солдатом, солдатом.
Москва в августе 1991-го
Простая, короткая песенка, исполняемая им на лёгкий, подчёркнуто беспечный мотив, содержащий в себе и обвинение в безответственности, в бессовестности, в желании идти в жизни путём наименьшего сопротивления. Из-за самых обыкновенных слов встают вдруг трагический образ Венгерской революции, подавленной советскими танками, забастовка в Новочеркасске, и Афган, и Чечня... И мысли невольно обращаются к будущему: а что, если?.. а в ушах звучит легкомысленный, с чуть заметной наглецой мотивчик: «А если что не так - не наше дело: Как говорится, родина велела!»
демонстранты общаются с солдатом на улицах Москвы в августе 1991-го
Окуджаве было недвусмысленно предложено именовать это стихотворение на своих выступлениях «Песенкой американского солдата». Дескать, это не про нас.
Об ответственности за войну Окуджава поёт:

А как первая война - да ничья вина.
А вторая война - чья-нибудь вина.
А как третья война - лишь моя вина,
а моя вина - она всем видна.
Он был лириком и не слишком жаловал политизированные стихи.
Все ухищрения и все уловки
не дали ничего взамен любви...
Сто раз я нажимал курок винтовки,
а вылетали только соловьи.

Но сам дух его поэзии, личность лирического героя и автора - свободного человека, подчёркивающего свою независимость, не могли не вызвать с самого начала яростно враждебного отношения всех многочисленных охранительных инстанций. Гитара сразу как бы встала в оппозицию к высочайше утверждённым в качестве "народных инструментов" баяну и аккордеону, бодрый рёв которых заглушал тихие человеческие слова. Не случайно Белла Ахмадулина как-то на совместном с Окуджавой концерте спросила у партийных
функционеров:"Послушайте, что вы его так боитесь? У него же в руках гитара, а не пулемёт".

«Пошляк с гитарой» - это была официальная кличка Окуджавы в комсомольской прессе. Писали: «Окуджава — это Вертинский для неуспевающих студентов». Имя Вертинский тогда было ругательным. А Соловьёв-Седой обозвал окуджавские мелодии «белогвардейскими» - обвинение небезопасное, прозвучавшее задолго до разрешённой моды на корнетов Оболенских и поручиков Голицыных.
Скандал в Саратове или как мы спасали Окуджаву
С именем Окуджавы связана одна скандальная история, случившаяся у нас в Саратове. Это было в феврале 1965 года. Только что был снят Хрущёв и оттепель кончилась. В Саратов приехала группа поэтов от журнала «Юность»: Владимир Гнеушев, Евгений Храмов, Булат Окуджава, Алексей Заурих и, возглавлявший эту группу критик Станислав Лесневский.
группа московских поэтов в Саратове
Здесь должны были состояться 17 вечеров поэзии с их участием в филармонии, все билеты были проданы. Больше всего, конечно, ждали стихов и песен Окуджавы. Он исполнял старые и новые песни, читал неопубликованные ещё стихи, отвечал на вопросы.

Обкомовским идеологам всё это не понравилось, они почувствовали в этих выступлениях какой-то душок ненашенский и решили дать могучий отпор заезжим стихотворцам. Ну как же: не славят партию, пятилетки, коммунизм, не воспевают героев целины, космоса, великих строек.
После четвёртого вечера поэтов вызывают в конференц-зал областной газеты «Коммунист» и чисто по-саратовски «благодарят» за прочтённые стихи, выпустив на гостей зам. главного редактора партийной газеты Якова Горелика, писательницу Екатерину Рязанову и других «идеологически выдержанных» товарищей.
здание на Московской, где находилась тогда редакция газеты «Коммунист»
Московских литераторов обвинили в идейной ущербности их творчества, в искажённом изображении нашей замечательной советской действительности. Я. Горелик грозно напомнил о судьбе Пастернака. Е. Рязанова выкрикивала нечто невразумительное об абстрактном гуманизме, обвиняя Окуджаву в развращающем влиянии на молодёжь.

Екатерина Рязанова
Больше всего она возмущалась тем, что он вышел на сцену «в мятых брюках» (это были джинсы, тогда ещё бывшие у нас в новинку). Окуджава растерянно оправдывался тем, что он только что с поезда.

Но областное парт-руководство не удовольствовалось столь гостеприимной встречей поэтов в редакции газеты. «Коммунисту» было приказано дать разгромную статью. И 7 февраля 1965 года там публикуется отчёт о вечере московских поэтов преподавателя филфака СГУ Азы Жуйковой под названием «Поэты на эстраде». Статья, канцелярская по форме и обкомовская по содержанию, была написана в популярнейшем советском жанре политического доноса.
Через две недели — второй залп — коллективное письмо саратовцев в «Советской России» под изничтожающим заголовком «Ловцы дешёвой славы», - расширенный и ещё более остервенелый вариант доноса. Эта статья была оформлена как письмо в редакцию и подписана Героем Советского Союза бывшим энкаведешником Д.Емлютиным, хотя писалась на самом деле зам. редактора «Коммуниста» Я. Гореликом.
Среди подписантов были также доцент университета Юрко, студент Пединститута, студент Политехнического (передовая советская молодёжь), а также плотник завода крупнопанельного домостроения, лаборантка санэпидемстанции, профессор-еврей, профессор медицинской академии, труженик села, два ветерана — этакий сколок советского общества. Как выяснилось позже, на вечере из этих девяти человек был только один хлебороб, остальные не были. (Извечное «не читал, но скажу»).
Когда поэты вернулись в Москву, из-за этих статей был большой шум в Союзе писателей. Бюро пропаганды, организовавшее эти вечера, должно было как-то на них реагировать. Окуджаве грозили крупные неприятности, увольнение с работы. Надо было спасать Окуджаву, спасать честь Саратова.

Саратов. 1965 год.
улица Московская — бывший проспект Ленина. Городского здания правительства ещё нет.
И тогда в Москву отправляется ещё одно «письмо трудящихся» из Саратова, на этот раз - в защиту Окуджавы — как бы в пику предыдущему. Писал это письмо мой муж, Давид Аврутов, хотя иногда в печати можно встретить другие имена, которым приписывалось её авторство.
Подписали его Герой соцтруда Савельев (нашли такого на «Тантале», противопоставив их Герою — нашего), следом - Давид и ещё несколько человек: Галина Дзякович, Раиса Матюшкина, Лиля Кроль, предусмотрительно добавив к своим фамилиям звания "ударников коммунистического труда". Били их, как говорится, их же оружием.

Давид Аврутов, 1965 год
(Я не принимала участия в той акции по причине тогдашнего малолетства, Давид в моей жизни появится лишь много лет спустя, и пишу это с его слов. Но если б не эта причина — была бы, конечно, с ними).
Кстати, такой любопытный штрих: письмо это они перепечатывали на машинке отдела информации НИИ «Волна». Начальник отдела слыл за передового либерала, и Давид с друзьями поделился с ним, рассчитывая на его поддержку. Но реакция начальника была страшной: он схватился за голову, бегал по кабинету, топал ногами, кричал, что они его погубили, что теперь заведут дело, узнают по шрифту, что это машинка вверенного ему подразделения... Не исключено, что и заявил куда следует. Такие были времена и нравы.
Статью размножили в 4 экземплярах и послали в «Литературную газету», «Юность», «Советскую Россию» и «Комсомольскую правду». Скоро на адрес Давида пришёл ответ из «Юности», где благодарили за письмо и сообщали, что по известным причинам опубликовать его не смогут, но оно будет зачитано на заседании правления СП, посвящённом личному делу Окуджавы.
А потом в Саратов позвонил Е. Храмов и сказал, что статья действительно была зачитана и повлияла на решение «судей». Окуджава был «помилован», то есть всё спустили на тормозах, дальнейшего хода делу не дали. Скандал был замят, Окуджава спасён.
Вот такая позорная история с благополучным концом. Считаю своим долгом рассказать о ней, чтобы частично снять пятно с моего города: не все саратовцы примкнули тогда к обкомовским мстителям, и я горжусь, что мой муж был инициатором этого честного, смелого и — небезопасного тогда поступка.
«Все влюблённые склонны к побегу...»
Весной 1985 года Булат Окуджава приезжал к нам в заводской ДК со своей гражданской женой — так она теперь называет себя во всех интервью — Натальей Горленко.

Мы с Давидом работали тогда в ДК «Кристалл» на «Тантале» и участвовали в этом приглашении Окуджавы.
мы с Давидом и другими танталовцами у заводского ДК «Кристалл»
как раз в это время получили и разгружаем новую аудиоаппаратуру, на которой будем записывать Окуджаву
Им с Горленко выделили комнату в заводском профилактории. Они дали совместный концерт в «Кристалле»: в первом отделении читал и пел он, во втором — она пела свои песни на стихи Гарсиа Лорки. (в июньском посте о Лорке я их выложу).
Наталья Горленко занимала значительное место и в жизни, и в творчестве Окуджавы, поэтому я скажу несколько слов об этом романе. Сейчас это уже не тайна: Горленко публиковала довольно откровенные интервью об их любви в «Комсомольской правде», «Мире новостей», газете «Версия», выступала в телевизионной передаче «Без комплексов» в качестве гражданской жены Окуджавы. Да и тогда, в 85-ом, они не слишком скрывались.

Наталья Викторовна Горленко родилась 10 июня 1955 года. Живёт в Москве.
Поэтесса, композитор, певица, обладающая красивым хрустально-чистым голосом. Выпускница МГИМО и Всероссийской творческой мастерской эстрадного искусства при Росконцерте.
Пишет песни как на свои стихи, так и на стихи множества других поэтов: Пушкина, Лермонтова, Лорки, Набокова, Ахматовой, Цветаевой, Есенина, Волошина, Окуджавы и Мацуо Басё. В 1990 году на фирме «Мелодия» вышла её пластинка, а в 1999-ом – аудиокассета «Избранное».
Она и в кино снялась, еще учась в институте. В фильме В. Абдрашитова «Слово для защиты» сыграла эпизод, а в фильме-сказке «Туфли с золотыми пряжками» – уже настоящую роль, с пением.
Поёт Наталья Горленко:
Наталье была посвящена песня Б. Окуджавы «А юный тот гусар, в Наталию влюбленный…» (правда, потом переделанная в "Амалию").
А познакомились они так.
Наталья училась в московском Институте международных отношений, изучала испанский язык, пела в ансамбле «Гренада», много выступала. А потом устроилась на работу в Институт советского законодательства. Работала там младшим научным сотрудником, переводила советскому народу законы о культуре — в целях изучения, так сказать, зарубежного опыта. Там они и встретились с Окуджавой, когда его пригласили туда с концертом. Это было 3 апреля 1981 года.

Разница в возрасте у них была 31 год, но это никого не смущало. После вечера обменялись телефонами. Через пять месяцев она первая позвонила Окуджаве, и они встретились.
У него тогда совсем не было свободного времени. Концерт, потом отъезд в Питер, опять концерт, поезд обратно в Москву. «У меня будет всего полчаса на разговор, — сказал он тогда. — Вы сможете подъехать к Клубу литераторов?»
И началась другая жизнь — с тайными встречами, сумасшедшими переездами по стране, случайными звонками, страстными признаниями.
Позже Наталья написала :
Повстречалась с тобою в апреле,
в октябре говорила с тобой,
а декабрьские вьюги-метели
нарекли мне тебя судьбой.
Из интервью Н. Горленко («Версия», «Запретная любовь Булата Окуджавы»):

«...Сейчас всё, что было между нами, я ощущаю острее, чем в те годы. Тогда наша жизнь была просто сумасшедшей. Почти два года скрытого подпольного существования, от людских глаз, от соглядатаев, от близких и ему и мне людей. И потом это тоже было похоже на сумасшедший дом. Мы постоянно куда-то неслись, меняя поезда и машины. Особенно он раскрывался, когда мы уезжали из Москвы. В дороге, в вагонах, в бесконечном мелькании телеграфных столбов... Он даже стихотворение на эту тему написал: «Все влюблённые склонны к побегу...» Но как только мы приближались к Москве, он становился мрачным, грустнела и я. В Москве всё было другое...»
В моей душе запечатлён
Портрет одной прекрасной дамы.
Её глаза в иные дни обращены.
Там хорошо, там лишних нет,
И страх не властен над годами,
И все давно уже друг другом прощены...
Из воспоминаний Натальи Горленко:
«Впервые услышав, как я пою — сказал решительно: «Все, теперь я буду выступать только с тобой». И мы стали ездить на гастроли уже вместе. Так что скрывать наши отношения не было никакой возможности».
У Окуджавы есть стихотворение, которое он написал в Иркутске в одну из их совместных гастролей:
Мне не в радость этот номер,
телевизор и уют.
Видно, надо, чтоб я помер —
все проблемы отпадут.
Ведь они мои, и только.
Что до них еще кому?
Для чего мне эта койка —
на прощание пойму.
Но когда за грань покоя
преступлю я налегке,
крикни что-нибудь такое
на испанском языке.
Крикни громче, сделай милость,
чтоб на миг поверил я,
будто это лишь приснилось:
смерть моя и жизнь моя.

Правда, во всех сборниках Окуджавы печатается: «на грузинском языке» (а не «на испанском», как в оригинале). Но это уж дело рук жены Ольги, которая, видимо, из ревности значительно подкорректировала стихи мужа. (Или он потом исправил, чтобы она ни о чём не догадалась, что, впрочем, вряд ли).

Окуджава, Ольга Арцимович и их сын Булат (сценический псевдоним Антон)
И ещё одно стихотворение, посвящённое Горленко, она у неё украла, изменив посвящение. То, что стихотворение адресовано Наталье, ясно из письма Окуджавы, в котором он пишет:

«Дорогой Птичкин! (так он шутливо называл её). В больничной суете выкроил времечко и сочинил стих, который начинается с воспоминания, как ты пела романс по моей просьбе, а я в тебя уставился. Вот, оказывается, как бывает, когда случайная ситуация отражается в памяти, и там начинается какой-то таинственный процесс, и в результате появляются стихи. Мне кажется, что они удались, и я надеюсь, что они явятся началом маленького подъёма».
И — само стихотворение:
Когда б Вы не спели тот старый романс,
я верил бы, что проживу и без Вас,
и Вы бы по мне не печалились и не страдали.
Когда б Вы не спели тот старый романс,
откуда нам знать, кто счастливей из нас?
И наша фортуна завиднее стала б едва ли.
И вот Вы запели тот старый романс,
и пламень тревоги, как свечка, угас.
А надо ли было, чтоб сник этот пламень тревоги?
И вот Вы запели тот старый романс,
но пламень тревоги, который угас,
опять разгорелся, как поздний костер у дороги.
Зачем же Вы пели тот старый романс?
Неужто всего лишь, чтоб боль улеглась?
Чтоб боль улеглась, а потом чтобы вспыхнула снова?
Зачем же Вы пели тот старый романс?
Он словно судьба расплескался меж нас,
все, капля по капле, и так до последнего слова.
Когда б Вы не спели тот старый романс,
о чем бы я вспомнил в последний свой час,
ни сердца, ни голоса вашего не представляя?
Когда б Вы не спели тот старый романс,
я умер бы, так и не зная о Вас,
лишь черные даты в тетради души проставляя.
1985
Ольга Арцимович публикует его под названием «Памяти Обуховой», причём, понимая, что к покойной Обуховой Булат не может обращаться с такими словами, снабжает его посвящением «Е. Камбуровой». А стихотворение «Все влюблённые склонны к побегу» вообще не включено ни в один сборник.
Все влюблённые склонны к побегу
по ковровой дорожке, по снегу,
по камням, по волнам, по шоссе,
на такси, на одном колесе,
босиком, в кандалах, в башмаках,
с красной розою в слабых руках.
1984
А в «Песенке о молодом гусаре», посвящённой Горленко, имя Наталия мстительно заменено на «Амалия», даже в ущерб грамматике: приходится петь «давно уже нет той Амальи». (То же было с Мессерером, когда тот к юбилею Ахмадулиной выпустил полное собрание её сочинений, не включив туда лучших стихов, посвящённых Нагибину, Евтушенко, Вознесенскому. Я пришла к выводу, что не стоит приобретать издания, выпущенные жёнами или мужьями поэтов, по причине вот такой пристрастности и необъективности). Жаль, мне не удалось приобрести издание Окуджавы в серии БП, вот оно издавалось без участия Ольги и должно быть наиболее полным.

«Страсть земная нас уносит в небеса»

Это кадр из кинофильма «Законный брак» 1985-го года, где они с Окуджавой снялись в эпизоде (едут в поезде и поют). По иронии судьбы, их собственный брак был незаконным.
С концертами они исколесили всю страну.

Как правило, выступали с двумя отделениями, в конце пели на два голоса. Чаще это были «После дождичка небеса просторны...», «Эта женщина в окне», «Виноградная косточка»

.
Они были вместе плотно семь лет. Потом на семь расстались. Он писал:
Жизнь моя — странствия. Прощай! Пиши!
Мне нужно выяснить не за рубли:
широки ли пространства твоей души,
велико ль государство моей любви.
Она чувствовала его на любом расстоянии. В этот период много ездила с гастролями за рубеж, в Америку, пела. А через семь лет встретились - и как будто не было разлуки. Когда она ему звонила, он тут же выбегал из дома якобы с собачкой и перезванивал ей. Их отношения были тайными. Это обоих тяготило.
Почему я в этом доме,
неуютном и глухом?
Неужели нету кроме
мне пристанища кругом?
Почему я с этой дамой
среди радостей и бед?
Или я ничтожный самый
и спасения мне нет?
Что же, руки воздевая,
я гляжу в её глаза?
Или просто страсть земная
нас уносит в небеса?
Или это мрак небесный
повергает нас на дно?
Или это мёд чудесный,
что испить нам суждено?
1985

Она знала его таким, каким не знал никто... Он называл ее «Птичкиным» – из-за фамилии, наверное. А она откликалась... В дальнем ящичке, в потайном ее ларце хранятся его письма. Вот одно из них:
«...Я с Вами никогда не притворялся. Я перед Вами всегда нараспашку, пренебрегая предостережениями Александра Сергеевича в том смысле, что чем меньше — тем больше... Зато во сне я вижу Вас, а не собственные уловки и приёмы, годные для банального флирта.
… Печально… без тебя. Пытаюсь работать, а в голове — ты. Работа кажется пустой и напрасной. Нет, я, видимо, сильно сдал. Я был сильным человеком. Что-то меня надломило.
Какая-то потребность исповедоваться перед тобой, хотя это напрасно: и тебя вгоняю в меланхолию, ты человечек нестойкий. Вот сейчас встану, встряхнусь, вызову на поверхность грузинские бодрые силы и пойду звонить тебе и опускать письмо.
С любовью, как выясняется, шутить нельзя. Да я и не шучу и, может быть, слишком не шучу».
Из воспоминаний Н. Горленко:

«Его письма божественны… Много в них и о любви. И всё написано не просто от нечего делать, а серьёзно. Да, была в нём и сентиментальность… Поэт… Я называла его «Облако без штанов». Мягкий, романтичный, импульсивный».
«Он всегда находил, чему можно порадоваться. Самое удивительное, что другие считали его не то что бы тяжёлым, но ершистым таким человеком. Помню, Михаил Козаков прямо при нём пытался «открыть мне глаза»: «Как ты можешь с ним общаться? Он — холодный, жёсткий, чёрствый». А Булат — абсолютно спокойно — отвечал ему: «Ну, Миша, сколько можно?»
«Он всё-таки грузин… умел цветы подарить, сделать комплимент. Был исключительно обаятельным. Взгляды, улыбки… Всё было настолько потрясающее, индивидуальное!
Что вы хотите — восточный человек!
Любил гостей, любил готовить. Делал это прекрасно. По наитию. Любимое блюдо — творожная запеканка. Ели икру, зелень, сыры всякие, пили коньяк. Говорил, что у женщины не надо спрашивать: что вы пьёте? Надо спрашивать: вы будете водку или коньяк?
Только один раз я видела его пьяным. Да, он выпивал, но знал меру. Основной его тост — «Выпьем за это мгновенье». «Будут другие, но этого уже не будет», — комментировал Булат».
«Он ещё любил говорить: я азиат. Да, он был таким чудесным азиатом! Он был гениален во всех своих проявлениях. Как человек, как мужчина. Он был как князь. Нет, не по крови. Он был абсолютно земной, но при этом очень деликатный, внимательный. Умел от себя отодвинуть ненужное или неинтересное ему, как в песне: «Так природа захотела, отчего — не наше дело».
«Мы любили дарить друг другу подарки. Какие-то камушки, шкатулки, книги. Вот золотая роза из магазина странных вещей в Париже… Он тонко чувствовал красоту, не терпел неопрятности. У него была любимая поговорка: «Нельзя обнять неопрятного».
«Ему нравилось, что я в нём так… растворяюсь. Он чувствовал себя на коне!
Самое большое счастье — общение с любимым человеком, растворение в нём, дарение ему себя, взаимопроникновение.

Я чувствую, как он отнёсся бы к тому или иному моему поступку. Я думаю о нём, чувствую его присутствие! Он просто часть меня!»
«Он умел радоваться жизни, несмотря ни на что. Он умел наслаждаться мелочами. Но все-таки я бы выделила в нем главное: «Совесть, благородство и достоинство». Этим словам соответствовать труднее всего. Он четко ощущал свое предназначение: говорить то, что говорил. И делать свое дело».
Окончание здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post219462796/
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю
Всё глуше музыка души... |

Начало здесь.
«Хочу воскресить своих предков...»
Родился Булат Окуджава 9 мая 1924 года в Москве на Большой Молчановке, в семье партработников грузина Шалвы Степановича Окуджавы и армянки Ашхен Степановны Налбандян.
Родители были коммунисты, революционеры, убеждённые ленинцы. Детство прошло на Арбате, в тех самых дворах и переулках, память о которых стала его поэтической памятью.

Это дом 43, где прошли первые годы жизни Булата. Позднее семья жила в Нижнем Тагиле — до 1937 года, когда отец был обвинён в троцкизме и расстрелян.
дом в Тагиле. ул. К. Маркса, дом 20 а
Отец Окуджавы — мученик идеи: чистый, бескорыстный. Но фанатизм, присущий его поколению, втянул его в строительство страшной машины, которая в 1937-ом перемолола и его самого.

Убили моего отца
Ни за понюшку табака.
Всего лишь капелька свинца -
Зато как рана глубока!
Он не успел, не закричал,
Лишь выстрел треснул в тишине.
Давно тот выстрел отзвучал,
Но рана та еще во мне.
Как эстафету прежних дней
Сквозь эти дни ее несу.
Наверно, и подохну с ней,
Как с трехлинейкой на весу.
А тот, что выстрелил в него,
Готовый заново пальнуть,
Он из подвала своего
Домой поехал отдохнуть.
И он вошел к себе домой
Пить водку и ласкать детей,
Он - соотечественник мой
И брат по племени людей.
И уж который год подряд,
Презревши боль былых утрат,
Друг друга братьями зовем
И с ним в обнимку мы живем.

Напротив дома Окуджавы светилось окно, за которым жил человек, убивший его отца. Его политические стихи «Ну что, генералиссимус прекрасный...», «Памяти брата моего Гиви», «Убили моего отца...» и многие другие, проникнутые горькими воспоминаниями и раздумьями о сущности сталинизма и его последствиях, были опубликованы лишь в годы перестройки. В том числе и это:

Стоит задремать немного,
сразу вижу Самого.
Рядом, по ранжиру строго, -
Собутыльнички его.
Сталин трубочку раскурит –
Станут листья опадать.
Сталин бровь свою нахмурит –
Трем народам не бывать.
Что ничтожный тот комочек
Перед ликом всей страны?
А усы в вине намочит –
Все без удержу пьяны.
Вот эпоха всем эпоха!
Это ж надо – день ко дню,
Пусть не сразу, пусть по крохам,
Обучала нас вранью.
И летал усатый сокол,
Целый мир вгоняя в дрожь.
Он народ ценил высоко,
Да людей не ставил в грош.
Нет, ребята, вы не правы
В объясненье прошлых драм,
Будто он для нашей славы
Нас гонял по лагерям.
С его именем ходили
(это правда) на врага,
Но ведь и друг дружку били
(если правда дорога).
А дороги чем мостили?
И за всё платили чем?
Слишком быстро всё простили,
Позабыли между тем…
Нет, ребята, хоть упрямы
Демонстрации любви,
Но следы минувшей драмы
Все равно у нас в крови.
Чем история богата,
Тем и весь народ богат…
Нет, вы знаете, ребята,
Сталин очень виноват.


Когда говорят о закрытости Окуджавы — о том, что при всей его благожелательности, чувстве юмора, готовности к общению его собеседник всегда ощущал дистанцию, некую прозрачную, но непреодолимую стену — одна из причин такой закрытости была в том, что он никогда не забывал, что был «сыном врага народа».
В своей автобиографической книге «Упразднённый театр», своеобразной семейной хронике, Окуджава, анализируя поступки юного героя, принимает часть исторической вины большевиков на себя, как единомышленника родителей. Хроника, начиная с дедушек и бабушек, завершается собственным детством, тридцатыми годами. До сих пор эта книга остаётся неоценимым биографическим источником для исследователей жизни и творчества поэта. И в неменьшей степени — ключом к его творчеству. Где-то на подступах к роману, работа над которым длилась почти пять лет, он написал вот такое стихотворение:

Хочу воскресить своих предков,
хоть что-нибудь в сердце сберечь.
Они словно птицы на ветках,
и мне непонятна их речь.
Живут в небесах мои бабки
и ангелов кормят с руки.
На райское пение падки,
на доброе слово легки.
Не слышно им плача и грома,
и это уже на века.
И нет у них отчего дома,
а только одни облака.
Они в кринолины одеты.
И льется божественный свет
от бабушки Елизаветы
к прабабушке Элисабет.
После ареста обоих родителей 13-летнего Булата родственникам удалось спрятать и тем самым спасти от детдома, куда было положено сдавать детей врагов народа. До 1940 года он с младшим братом Виктором жил у бабушки, а в 40-ом тётя Сильвия перевезла их к себе в Тбилиси. Только через полтора года он смог вернуться в родной арбатский двор, продолжать учёбу в московской школе.
«Ах, Арбат, мой Арбат...»

дом 43 на Арбате, где жил Окуджава с 1924 по 1940 год.
Арбатская тема — особая в его творчестве. «Арбатские напевы», цикл «Музыка арбатского двора»... За этой старинной московской улочкой для поэта встаёт нечто неизмеримо большее, раздвигающее художественное пространство и время.
Ты течешь, как река. Странное название!
И прозрачен асфальт, как в реке вода.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты – мое призвание.
Ты – и радость моя, и моя беда.
Пешеходы твои – люди не великие,
каблуками стучат – по делам спешат.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты – моя религия,
мостовые твои подо мной лежат.
От любови твоей вовсе не излечишься,
сорок тысяч других мостовых любя.
Ах, Арбат, мой Арбат, ты – мое отечество,
никогда до конца не пройти тебя!
Это одна из самых знаменитых песен об Арбате. Тогда, в 59-ом, поэт произнёс неслыханное: «моё отечество» и «моя религия», сотнесённые с обыкновенной московской улицей, были просто немыслимы, отечество могло быть только одно, социалистическое, о религии и говорить нечего.
Окуджава первым в поэзии восславил Арбат.
Это был действительно какой-то особый мир (до 50-х — 60-х г.г.) - старый профессорский район: на Арбате жили профессор Бугаев и сын его Андрей Белый, здесь выросли и набирались этой ауры замечательный писатель Анатолий Рыбаков, автор знаменитых «Детей Арбата», и уникальный поэт Николай Глазков.

«Арбатский» Окуджава — это еще и фильм Михаила Козакова «Покровские ворота». Вся стилистика этой комедии проникнута атмосферой 50 — 60-х, а значит — атмосферой окуджавских песен — о часовых любви, о полночном троллейбусе, о дежурном по апрелю. И когда мы видим Олега Меньшикова с гитарой — сразу вспоминается Булат...
Самое смешное, что Окуджава в принципе не был жителем Арбата. В 40-х он навсегда уехал со двора и больше туда не возвращался. Но Арбат навсегда остался в его сердце.
Это образ окуджавского Арбата, поэтический Арбат. «Арбатство, растворённое в крови, неистребимо, как сама природа». Поэт словно не замечал своих новых московских адресов — Фрунзенского вала, Краснопресненской набережной, Ленинградского шоссе. Он по-прежнему был арбатцем, жил Арбатом.

Вот ещё один образ окуджавского старого Арбата, увиденного художником Сергеем Волковым.
А годы проходят, представьте.
Иначе на мир я гляжу.
Стал тесен мне дворик арбатский,
И я ухожу, ухожу.
Стал тесен мне дворик арбатский,
И я ухожу, ухожу.
Но тесный свой дворик арбатский
с собой уношу, уношу.
Вот этот арбатский дворик, ставший заповедным уголком его души. «Девочка плачет, а шарик летит...»

Изданный в 1976 году сборник стихов назван строчкой из песенки: «Ах, Арбат, мой Арбат...» Итоговый сборник 1996-го он назвал «Чаепитие на Арбате». В стихах 80-х переезд с Арбата будет рассматриваться как катастрофа, сравнимая с эмиграцией.

Я выселен с Арбата, арбатский эмигрант.
В Безбожном переулке хиреет мой талант.
Кругом чужие лица, враждебные места.
Хоть сауна напротив, да фауна не та.
Я выселен с Арбата и прошлого лишен,
и лик мой чужеземцам не страшен, а смешон.
Я выдворен, затерян среди чужих судеб,
и горек мне мой сладкий, мой эмигрантский хлеб...
(«Плач по Арбату»)
А вот каким Арбат стал сегодня.

Ларьки, киоски, торгашеский дух вытеснили поэзию. От старого былого Арбата остались лишь пёстрые декорации. Выросли богатые дома под офисы, нарушившие архитектурное своеобразие района, исчезло старинное очарование тихих улочек.
Арбата больше нет: растаял, словно свеченька,
весь вытек, будто реченька; осталась только Сретенка.
Ах, Сретенка, Сретенка, ты хоть не спеши:
надо, чтоб хоть что-нибудь осталось для души!
Что ж вы дремлете, ребята?
Больше нет у нас Арбата!
А какая улица была...
Разрушители гурьбою
делят лавры меж собою...
Вот какие в городе дела.
Ни золота и ни хлеба
ни у черта, ни у неба
попрошу я без обиняков:
ты укрой меня, гитара,
от злодейского удара,
от московских наших дураков.
И можно понять Э. Лимонова, так выразившего свои эмоции по поводу нынешнеего Арбата: «Когда иду я по Арбату — мне хочется схватить гранату». Да и Окуджава уже не хотел сюда возвращаться.
«Ах, что-то мне не верится, что я не пал в бою...»
В 1942 году после окончания 9 класса Окуджава уходит добровольцем на фронт.

Вот оркестр духовой. Звук медовый.
И пронзителен он так, что - ах...
Вот и я, молодой и бедовый,
С черным чубчиком, с болью в глазах.
Машут ручки нелепо и споро,
Крики скорбные тянутся вслед,
И безумцем из черного хора
Нарисован грядущий сюжет.
Жизнь музыкой бравурной объята -
Все о том, что судьба пополам,
И о том, что не будет возврата
Ни к любви и ни к прочим делам.
Раскаляются медные трубы -
Превращаются в пламя и дым.
И в улыбке растянуты губы,
Чтоб запомнился я молодым.
Он воевал на кавказском фронте.

Под Моздоком был тяжело ранен в бедро. Окуджава был миномётчиком и благодарил за это судьбу: «Я хотя бы не видел людей, которых убивал». После ранения был радистом тяжёлой артиллерии. Был тяжело контужен, лежал в госпитале.
Булат не любил говорить об этом, он ненавидел войну. Перепуганный мальчишка из повести «Будь здоров, школяр», попавший на фронт - это он, он и был таким. Героический пафос ему был несвойствен.

Ах, что-то мне не верится, что я, брат, воевал.
А может, это школьник меня нарисовал:
Я ручками размахиваю, я ножками сучу,
И уцелеть рассчитываю, и победить хочу.
Ах, что-то мне не верится, что я, брат, убивал.
А может, просто вечером в кино я побывал?
И не хватал оружия, чужую жизнь круша,
И руки мои чистые, и праведна душа.
Ах, что-то мне не верится, что я не пал в бою.
А может быть, подстреленный, давно живу в раю,
И кущи там, и рощи там, и кудри по плечам...
А эта жизнь прекрасная лишь снится по ночам.
Демобилизовавшись в 1945-ом после ранения, Окуджава окончил экстерном среднюю школу, в 1945-50-ом учился на филфаке Тбилисского университета. Именно тогда, в студенческие годы, в 47-ом, появилась на свет его первая, по сей день любимая многими песня:

Неистов и упрям,
Гори, огонь, гори.
На смену декабрям
Приходят январи.
Нам всё дано сполна -
и радости, и смех,
одна на всех луна,
весна одна на всех.
Прожить лета б дотла,
а там пускай ведут
за все твои дела
на самый страшный суд.
Пусть оправданья нет,
и даже век спустя
семь бед - один ответ,
один ответ - пустяк.
Неистов и упрям,
гори, огонь, гори.
На смену декабрям
приходят январи.
"Мама, белая голубушка...»
В 1947 году Окуджава женится на однокурснице Галине Смольяниновой.

После свадьбы переезжает в её семью. В этом же году, отсидев 10 лет, возвращается из карагандистского лагеря мать Булата Ашхен Степановна.

Позже Окуджава признавался, что его «комсомольская богиня» была навеяна образом матери:

Я смотрю на фотокарточку:
две косички, строгий взгляд,
и мальчишеская курточка,
и друзья кругом стоят.
За окном все дождик тенькает:
там ненастье во дворе.
Но привычно пальцы тонкие
прикоснулись к кобуре.
(«Песенка о комсомольской богине»)
О том возвращении матери из лагеря, о встрече с ней был написан один из самых пронзительных рассказов позднего Окуджавы «Девушка моей мечты». Он о том, как тбилисский студент ждёт возвращения мамы из лагеря, и, готовясь порадовать, хочет повести на любимый фильм послевоенного поколения «Девушка моей мечты», а материнская переполненная мукой душа отвергает эту заготовленную для неё радость, не в силах принять её. Рассказ очень сильный и психологически точный.
Не клонись-ка ты, головушка,
от невзгод и от обид.
Мама, белая голубушка,
утро новое горит.
Всё оно смывает начисто,
всё разглаживает вновь...
Отступает одиночество,
возвращается любовь.
И сладки, как в полдень пасеки,
как из детства голоса,
Твои руки, твои песенки,
твои вечные глаза.
Не прошло и двух лет, как мать Окуджавы была вновь арестована в 49-ом и сослана в Красноярский край на вечное поселение.

Ашхен Степановна всегда была фанатично предана партии и отчаянно спорила с друзьями сына и с ним самим, защищая Ленина: «Ильич — это святое!» Но однажды, услышав об опубликованных материалах и документах, скрывавшихся ранее, о бесчеловечных распоряжениях Ленина и поняв, что Сталин не так уж далеко ушёл от своего учителя, она схватилась за голову: «Боже, что же мы наделали!»

Ты сидишь на нарах посреди Москвы.
Голова кружится от слепой тоски.
На окне - намордник, воля - за стеной,
Ниточка порвалась меж тобой и мной.
За железной дверью топчется солдат...
Прости его, мама: он не виноват,
Он себе на душу греха не берет -
Он не за себя ведь - он ведь за народ.
Следователь юный машет кулаком.
Ему так привычно звать тебя врагом.
За свою работу рад он попотеть...
Или ему тоже в камере сидеть?
В голове убогой - трехэтажный мат...
Прости его, мама: он не виноват,
Он себе на душу греха не берет -
Он не за себя ведь - он за весь народ.
Чуть за Красноярском - твой лесоповал.
Конвоир на фронте сроду не бывал.
Он тебя прикладом, он тебя пинком,
Чтоб тебе не думать больше ни о ком.
Тулуп на нем жарок, да холоден взгляд...
Прости его, мама: он не виноват,
Он себе на душу греха не берет -
Он не за себя ведь - он за весь народ.
Вождь укрылся в башне у Москвы-реки.
У него от страха паралич руки.
Он не доверяет больше никому,
Словно сам построил для себя тюрьму.
Все ему подвластно, да опять не рад...
Прости его, мама: он не виноват,
Он себе на душу греха не берет -
Он не за себя ведь - он за весь народ.
(«Письмо к маме»)
Мать Булата долго не могла поверить, что расстрел её мужа, её собственная искалеченная судьба — не чья-то ошибка, но политика кровавой селекции, начатая Лениным. Она вынесла почти 20 лет лагерей, но сознание того, что вся молодость её и мужа были отданы ложной идее, подкосило её. Она слегла, оказалась в больнице, и в 1983 году её не стало.
Собрался к маме - умерла,
К отцу хотел - а он расстрелян,
И тенью черного орла
Горийского весь мир застелен.
И, измаравшись в той тени,
Нажравшись выкриков победных,
Вот что хочу спросить у бедных,
Пока еще бедны они:
Собрался к маме - умерла,
К отцу подался - застрелили...
Так что ж спросить-то позабыли,
Верша великие дела:
Отец и мать нужны мне были?..
...В чем философия была?

«Не певец, не композитор, не гитарист...»
В 1950 году Окуджава, закончив филфак тбилисского университета, работает учителем литературы и русского языка в деревне Шамордино Калужской области.
деревня Шамордино
Позже — в одной из средних школ Калуги.


выпускной класс 1951 года. Окуджава — в третьем ряду второй слева.
Десятка три автобиографических рассказов Окуджавы связаны с его пребыванием в деревне Шамордино («Новенький как с иголочки», «Частная жизнь Александра Пушкина или Именительный падеж в творчестве Лермонтова», «Искусство кройки и шитья»).

С 1957 года многие стихи Окуджавы начинают жить как бы двойной жизнью — то есть становятся песнями. Поэт вспоминал: «В конце 56-го я впервые взял в руки гитару и спел своё шуточное стихотворение под аккомпанемент. Так начались так называемые песни.

Потом их становилось больше... А в это время появились первые магнитофоны. И вот на работе стали раздаваться звонки, и люди приглашали меня домой попеть свои песни. Я с радостью брал гитару и ехал по неизвестному адресу.

Там собиралось человек тридцать тихих интеллигентов. Я пел эти свои 5-6 песен, потом повторял их снова. И уезжал. А на следующий вечер я ехал в другой дом».
Песен становилось всё больше, магнитофоны работали, слава его росла.

Булат со своей неразлучной гитарой и своим неповторимым надтреснутым голосом пленил целое поколение.

На фоне медных литавр и расхожего примитива, поддельных чувств и унылого ханжества, тихая гитара Булата, его чистое дыхание, проникновенная лиричность, выстраданное свободолюбие — всё говорило о том, что свершается нечто, происходящее далеко не часто в России.
То, что делал Окуджава, было настолько необычно и непохоже на других, что профессионалы его не принимали. Он вспоминал: «Композиторы меня ненавидели, гитаристы презирали, вокалисты на меня были обижены всё время почему-то». Наконец за Булата заступился старый уважаемый поэт Павел Антокольский, который сказал, что «это не песни, а просто своеобразное исполнение своих стихов». После этого сам Булат стал везде говорить, что «это не песни», что он «не певец, не композитор, не гитарист...» И когда однажды перед выступлением он стал всё это сообщать, кто-то из зала выкрикнул: «А чего тогда приехал?»

Однажды, ещё в пору окуджавской малоизвестности, в 1959 году они с В. Максимовым оказались на свадьбе приятеля по «Литгазете», где родственники невесты расписали по старинному церемониалу, куда кому надлежит сесть. Всюду были бумажки с фамилиями: Коржавин, Максимов, Рассадин... и лишь у прибора, предназначенного Окуджаве, значилось безымянное: «гитарист». Максимов, щадя самолюбие поэта, постарался эту бумажку от него скрыть. Окуджава начал петь: «Полночный троллейбус», «Дежурный по апрелю»... И вдруг чей-то голос: «А нельзя ли чего повеселее? Свадьба всё-таки! Цыганочку давай!» И кто-то затянул "Ехал на ярмарку ухарь-купец...".
Максимов схватил Булата за руку, они выскочили в прихожую и, схватив в охапку пальто, бросились вон из этого дома. Этого унижения Окуджава не мог забыть всю жизнь. Одну из своих книг — уже позднюю, 94-го года, он надписал Рассадину: «От бывшего гитариста».
После этого случая Окуджава взял за правило: он почти никогда не выходил на сцену с гитарой, - её либо кто-то передавал ему на сцену в нужный момент, либо он вообще приходил без гитары и тогда её срочно где-то искали, у кого-то брали, привозили...
Он говорил: «Ненавижу петь. Я только поэт. Если же я пою, то лишь потому, что просят».

То есть позиция Окуджавы сводилась к тому, что песни, которые он предпочитал называть «стихами под гитару», должны были быть в первую очередь стихами, не прятать за мелодией своё стиховое ничтожество, быть готовыми к Гуттенберговой проверке. Его стихи, несомненно, такую проверку выдерживали.
К сожалению, жанр авторской песни, созданный на рубеже 50-х, невозвратно уходит из сегодняшней жизни и становится историей. При том, что армия КСПшников регулярно проводит свои шумные фестивали по всей стране, собирая на них сотни участников, но всё же что-то неуловимо изменилось. То, что раздаётся сегодня со многих эстрад под громкие звуки гитар под эгидой авторской песни - это уже другая культура, к поэзии отношения не имеющая. "Всё глуше музыка души", - сказал бы о нашем времени Окуджава.
То, что по инерции сегодня ещё называют авторской песней, давно уже — за редкими исключениями - по существу срослось с эстрадой, отличаясь от неё только более низким исполнительским уровнем. Поэзия — дело тихое, тонкое, интимное. Она так же отличается от эстрады, как любовь от секса. Можно прекрасно петь и оркестровать песни, но никакие децибелы, никакая аранжировка и режиссура не заменят отсутствия поэзии, не искупят убогости текста. Все корифеи этого жанра — и Окуджава, и Галич, и Высоцкий, и Ким, и Юрий Визбор, и Новела Матвеева — прежде всего талантливые поэты. Те, кто сегодня поют свои песни под гитару, должны постоянно помнить об этой высокой поэтической планке.
«Поэты плачут — нация жива»
Стихи Окуджавы при всей своей внешней простоте отнюдь не просты. В них много неясного, зыбкого, загадочного, его логика порой неуловима, ассоциации странны, неожиданны, порой фантастичны. Сам он говорил: «Стихи и песни нельзя объяснить. Не ищите в них фактов из личной жизни, я рассказываю о своей душе, и только». Вот, например, его песня «Ночной разговор» (в исп. Т. Дорониной):
— Мой конь притомился, стоптались мои башмаки.
Куда же мне ехать, скажите мне, будьте добры?
Вдоль Красной реки, моя радость, вдоль Красной реки,
До Синей горы, моя радость, до Синей горы.

— А где ж та гора, та река? Притомился мой конь.
Скажите, пожалуйста, как мне проехать туда?
— На ясный огонь, моя радость, на ясный огонь.
Езжай на огонь, моя радость, найдёшь без труда.

— Но где же тот ясный огонь, почему не горит?
Сто лет подпираю я небо ночное плечом…
— Фонарщик был должен зажечь, да, наверное, спит.
Фонарщик тот спит, моя радость, а я ни при чём.
И снова он едет один, без дороги, во тьму.
Куда же он едет, ведь ночь подступила к глазам!..
Ты что потерял, моя радость? — кричу я ему.
А он отвечает: — Ах, если бы я знал это сам...
После эпохи официального бодрячества появился романтик и романтический герой, не похожий на персонажей Багрицкого и Светлова. У тех романтизм был наступательный, победительный, как правило, исполненный исторического оптимизма. А Окуджава был романтик грустный, усмешливый, всё понимающий.

Многие не любят грустной или мрачной поэзии, но вот Горький называл вечно весёлых смеющихся людей «жизнерадостными эмбрионами». Такие люди Окуджаве неинтересны. «Грустить, - говорит он, - это не значит впадать в пессимизм и тоску. Это — и думать о своём предназначении в жизни, стараться устранить несовершенства, мешающие жить». Социальное бытиё трагично, и поэт верит, что «вечный мир спасут страдания, а не любовь красота». Отсюда и ценность трагического переживания в искусстве: «Поэты плачут — нация жива».
Пронзительная, щемящая, проникающая в самую душу интонация этих негромких песен: «Девочка плачет — шарик улетел...», «За что ж вы Ваньку-то Морозова...», «Две вечных подруги — любовь и разлука...» Все эти стихи объединяет сквозная тема нелюбви, а точнее, любви несостоявшейся, нереализованной.
Он, наконец, явился в дом,
где она сто лет мечтала о нём,
куда он сам сто лет спешил,
ведь она так решила, и он решил.
Клянусь, что это любовь была,
посмотри -- ведь это её дела.
Но знаешь, хоть Бога к себе призови,
разве можно понять что-нибудь в любви?
И поздний дождь в окно стучал,
и она молчала, и он молчал.
И он повернулся, чтобы уйти,
и она не припала к его груди.
Я клянусь, что это любовь была,
посмотри: ведь это ее дела.
Но знаешь, хоть Бога к себе призови,
разве можно понять что-нибудь в любви?
Это и «Старый пиджак», посвящённый Жанне Болотовой:

Я много лет пиджак ношу.
Давно потерся и не нов он.
И я зову к себе портного
и перешить пиджак прошу.
Я говорю ему шутя:
"Перекроите всё иначе.
Сулит мне новые удачи
искусство кройки и шитья".
Я пошутил. А он пиджак
серьезно так перешивает,
а сам-то все переживает:
вдруг что не так. Такой чудак.
Одна забота наяву
в его усердьи молчаливом,
чтобы я выглядел счастливым
в том пиджаке. Пока живу.
Он представляет это так:
едва лишь я пиджак примерю -
опять в твою любовь поверю...
Как бы не так. Такой чудак.
Романтика Окуджавы была, скажем так, не повелительного наклонения, как у Багрицкого, Светлова, а — сослагательного: хорошо было бы, если бы... Как замечательно сказал потом А. Межиров:
Строим, строим города
сказочного роста,
а бывал ли ты когда
человеком просто?
Всё долбим, долбим, долбим,
сваи забиваем...
А бывал ли ты любим
и незабываем?
Окуджава идёт именно от этого: а бывал ли ты любим? Он обращался к внутренней жизни каждого, к глубоким личным, интимным чувствам. Его герой - «маленький человек», но не похожий на, скажем, гоголевского Башмачкина. Он мал не в смысле социальной униженности, а в том смысле, что не претендует на многое. Он, так сказать, эстетически скромен и с достоинством принимает свой жребий. Героический пафос не был ему присущ: в стихах Окуджава не боялся подчёркивать свои субтильность, хрупкость, комизм, неуклюжесть — отсюда все эти кузнечики и муравьи среди сплошных советских орлов и соколов. Один критик даже всерьёз упрекал его за то, что мир людей у него представлен каким-то насекомым царством. Но его насекомые почти неотделимы от людей.

Мне нужно на кого-нибудь молиться.
Подумайте, простому муравью
вдруг захотелось в ноженьки валиться,
поверить в очарованность свою!
И муравья тогда покой покинул,
все показалось будничным ему,
и муравей создал себе богиню
по образу и духу своему.
И в день седьмой, в какое-то мгновенье,
она возникла из ночных огней
без всякого небесного знаменья...
Пальтишко было лёгкое на ней.
Все позабыв - и радости и муки,
он двери распахнул в свое жильё
и целовал обветренные руки
и старенькие туфельки её.
И тени их качались на пороге...
Безмолвный разговор они вели,
красивые и мудрые, как боги,
и грустные, как жители земли.

«Пусть Бога нет, но что же значит Бог?»
Вся поэзия Окуджавы проникнута глубокой, не показной религиозностью. "Мне нужно на кого-нибудь молиться.." Инна Лиснянская писала, что, услышав эту песню, она подумала, что Окуджава верует, хотя не хочет признаваться в этом ни себе, ни другим.

Был ли Окуджава верующим? Он был глубоко нравственным человеком. Всё его творчество ведёт к вере. Хотя внешних атрибутов её в его стихах мы не встретим.
А потом опять баранка и коварная дорога,
и умение, и страсть, и волшебство...
Все безумное от Бога, все разумное от Бога,
человеческое тоже от Него.
(«Турецкая фантазия»)
Воспитанный атеистическим государством, житель Безбожного переулка, Окуджава не был воцерковленным человеком. У него встречаются, например, такие стихи:
Я сидел в апрельском сквере.
Предо мной был божий храм.
Но не думал я о вере,
я глядел на разных дам.
(«Считалочка для Беллы»)
Но при этом — и такие проникновенные строки: «Ель моя, ель, словно Спас на крови, твой силуэт отдалённый...» Или:
Красный клен, в твоей обители
нет скорбящих никого.
Разгляди средь всех и выдели
матерь сына моего.
Красный клен, рукой божественной,
захиревшей на Руси,
приголубь нас с этой женщиной,
защити нас и спаси.

Клён — олицетворение Высшей силы, творящей миропорядок. Вместо слова «Бог» в его песнях и стихах, как правило, стоит слово «природа»: «У природы на губах коварная улыбка», «как умел так и жил, а безгрешных не знает природа».

Его Бог — это искусство, поэзия, творчество.
И в комнате этой ночною порой
я к жизни иной прикасаюсь.
Но в комнате этой, отнюдь не герой,
я плачу, молюсь и спасаюсь.
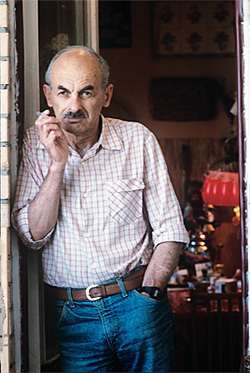
В анкетах, интервью — утверждение себя атеистом («я уважаю веру других людей и хочу, чтобы они также уважали мои убеждения»), а в стихах — атмосфера сложных духовных исканий.
"Дай Бог", - я говорил и клялся Богом,
"Бог с ним", - врагу прощая, говорил
так, буднично и невысоким слогом,
так, между дел, без неба и без крыл.
Я был воспитан в атеизме строгом.
Перед церковным не вздыхал порогом,
но то, что я в вояже том открыл,
скитаясь по минувшего дорогам,
заставило подумать вдруг о многом.
Не лишним был раздумий тех итог:
пусть Бога нет, но что же значит Бог?
Гармония материи и духа?
Слияние мечты и бытия?
Пока во мне все это зреет глухо,
я глух и нем, и неразумен я.
Лишь шум толпы влетает в оба уха.
И как тут быть? Несовершенство слуха?
А прозорливость гордая моя?
Как шепоток, когда в гортани сухо,
как в просторечьи говорят: "непруха"...
А Бог, на все взирающий в тиши, -
гармония пространства и души.

Бог — не в церкви, не в Библии, он — во всём, что нас окружает:
В чаду кварталов городских,
Среди несметных толп людских
На полдороге к раю
Звучит какая-то струна,
Но чья она, о чем она,
Кто музыкант - не знаю.
Кричит какой-то соловей
Отличных городских кровей,
Как мальчик, откровенно:
"Какое счастье - смерти нет!
Есть только тьма и только свет
Всегда попеременно".
Столетья строгого дитя,
Он понимает не шутя,
В значении высоком:
Вот это - дверь, а там - порог,
За ним - толпа, над ней - пророк
И слово - за пророком.
Как прост меж тьмой и светом спор!
И счастлив я, что с давних пор
Все это принимаю.
Хотя, куда ты ни взгляни,
Кругом пророчества одни,
А кто пророк - не знаю...

Время тогда было атеистическое, непримиримое к религии, и Окуджава свою «Молитву» прикрыл именем Франсуа Вийона - чтобы песня прошла цензуру. А в песне об Арбате слова «ты - моя религия» предусмотрительно заменил на «ты — моя реликвия».
Он воспевал простые и вечные человеческие ценности: «молюсь прекрасному и высшему» - таков его нравственный и поэтический девиз.

Не верю в бога и судьбу. Молюсь прекрасному и высшему
Предназначенью своему, на белый свет меня явившему...
Чванливы черти, дьявол зол, бездарен Бог - ему неможется.
О, были б помыслы чисты! А остальное все приложится.
Его песня «Возьмёмся за руки, друзья» стала гимном отечественной интеллигенции. Да что говорить, едва ли не каждая его песня стала гимном человеческому в человеке. И в этом смысле его аудиторией была вся страна.

Мгновенно слово. Короток век.
Где ж умещается человек?
Как, и когда, и в какой глуши
распускаются розы его души?
Как умудряется он успеть
своё промолчать и своё пропеть,
по планете просеменить,
гнев на милость переменить?
Как умудряется он, чудак,
на ярмарке поцелуев и драк,
в славословии и пальбе
выбрать только любовь себе?
Осколок выплеснет его кровь:
"Вот тебе за твою любовь!"
Пощечины перепадут в раю:
"Вот тебе за любовь твою!"
И все ж умудряется он, чудак,
на ярмарке поцелуев и драк,
в славословии и гульбе
выбрать только любовь себе!
«От прошлого никак спасенья нет»
У Окуджавы много стихов и песен о преображающей душу силе музыки. "Моцарт на старенькой скрипке играет", "Музыкант в саду под деревом наигрывает вальс", "Музыка", "Вот ноты звонкие органа", "В городском саду" и многие другие. А мне очень нравится вот это, менее известное:
Над площадью базарною
вечерний дым разлит.
Мелодией азартною
весь город с толку сбит.
Еврей скрипит на скрипочке
о собственной судьбе,
а я тянусь на цыпочки
и плачу о тебе.

Снуёт смычок по площади,
подкрадываясь к нам,
все музыканты прочие
укрылись по домам.
Все прочие мотивчики
не стоят ни гроша,
покуда здесь счастливчики
толпятся чуть дыша.
Какое милосердие
являет каждый звук,
а каково усердие
лица, души и рук,
как плавно, по-хорошему
из тьмы исходит свет,
да вот беда, от прошлого
никак спасенья нет.
В этой песне Окуджава писал о себе. В начале 60-х годов в семье поэта начался разлад. Причиной была другая женщина — Ольга Арцимович, которая стала потом второй женой Булата.

Красавица блондинка, волевая, властная, ей посвящены "Путешествие дилетантов", "Вилковские фантазии", "Прогулки фраеров", "Стихи без названия". Она была самым строгим критиком Окуджавы: в интервью как-то заявила, что от всего его наследия оставила бы стихов 30. Это ей посвящено "Строгая женщина в строгих очках мне рассказывает о сверчках..."

Разлад с первой женой Галиной многим тогда, в том числе и самому Булату, казался каким-то недоразумением. На долю этой весёлой и доброй женщины выпали самые трудные, неустроенные годы жизни с Окуджавой, годы ожиданий и надежд, и её мягкий спокойный характер помог ему преодолеть все невзгоды.
Этот разрыв дался ему очень тяжело. Когда-то он не мог даже представить, что такое может случиться.
Всякое может статься.
(В жизни чему не быть?)
Вдруг захочу расстаться,
вдруг разучусь любить.
Вдруг погляжу с порога
за семь морей и рек:
"Вон где моя дорога,
глупый я человек!"
И соберусь проститься,
лишь оглянусь назад:
две молчаливых птицы
из-под бровей глядят,
будто бы говорят мне:
"Останови свой бег,
это же невероятно,
глупый ты человек!"

Первый ребёнок Булата и Галины — девочка — умерла при родах. А через несколько лет у них родился сын Игорь.

Ему Окуджава посвятил стихотворение "Оловянный солдатик моего сына", которое в 1967 году в Югославии получило высшую премию "Золотой венец". В России оно было впервые опубликовано лишь через пять лет в "Московском комсомольце", за что главный редактор П. Гусев был наказан.
Земля гудит под соловьями,
под майским нежится дождём.
А вот солдатик оловянный
на вечный подвиг осуждён.
Его, наверно, грустный мастер
пустил по свету, невзлюбя.
Спроси солдатика: "Ты счастлив?"
И он прицелится в тебя.
И в смене праздников и буден,
в нестройном шествии веков
смеются люди, плачут люди,
а он всё ждёт своих врагов.
Он ждёт упрямо и пристрастно,
когда накинутся, трубя...
Спроси его: "Тебе не страшно?"
И он прицелится в тебя.
Живёт солдатик оловянный
предвестником больших разлук
и автоматик окаянный
боится выпустить из рук.
Живёт защитник мой, невольно
сигнал к сраженью торопя.
Спроси его: "Тебе не больно?"
И он прицелится в тебя.

Ружьё солдатика рикошетом выстрелило в самого Булата. Если бы он мог предвидеть тогда все последствия своего поступка... Позже, глядя на свой портрет, написанный Сергеем Авакяном, Окуджава скажет, что в нём художнику удалось передать самое главное — это его беспомощность перед обстоятельствами, перед невозможностью что-либо изменить.

Всю ночь кричали петухи
и шеями мотали,
как будто новые стихи,
закрыв глаза, читали.
Но было что-то в крике том
от едкой той кручины,
когда, согнувшись, входят в дом,
стыдясь себя, мужчины.
И был тот крик далёк-далёк
и падал так же мимо,
как гладят, глядя в потолок,
чужих и нелюбимых.
Когда ласкать уже невмочь
и отказаться трудно...
И потому всю ночь, всю ночь
не наступало утро.
Булат ещё долго колебался, прежде чем уйти из семьи. Но, получив резкую отповедь от Галины, решился: взыграла армяно-грузинская кровь.
Глаза, словно неба осеннего свод,
и нет в этом небе огня.
И давит меня это небо и гнёт —
вот так она любит меня.
Прощай. Расстаёмся. Пощады не жди!
Всё явственней день ото дня,
что пусто в груди, что темно впереди —
вот так она любит меня.
Ах, мне бы уйти на дорогу свою,
достоинство молча храня,
но, старый солдат, я стою, как в строю...
Вот так она любит меня.
Вскоре у Ольги родился от Булата сын Булат. Через полтора месяца после его рождения Окуджава развёлся с Галиной. У него есть песня о ней, которую он никогда не исполнял и не включал в свои сборники:
Ты в чём виновата?
Ты в том виновата,
что зоркости было
в тебе маловато:
красивой слыла,
да слепою была.
А в чем ты повинна?
А в том и повинна,
что рада была
любви половинной:
любимой слыла,
да ненужной была.
А кто в том виною?
А ты и виною:
все тенью была
у него за спиною,
все тенью была --
никуда не звала.
Галина и сын Игорь восприняли его уход очень болезненно. Игорь так и не простил его, не общался с ним, не признавал в нём отца. Галина тяжело переживала их разрыв и через год скончалась от сердечного приступа в подъезде своего дома. Ей было всего 39.
Булат не хотел идти на похороны. Он боялся, что если на них явится, все будут осуждающе глядеть на него как на главного виновника случившейся трагедии и перешёптываться:вот ведь, мол, хватило наглости, явился как ни в чём не бывало, да что, ему всё как с гуся вода... Писательница Зоя Крахмальникова, друг Окуджавы, уговорила его всё-таки прийти на них. И в продолжении всей этой долгой душераздирающей кладбищенской процедуры она стояла рядом с еле держащимся на ногах Булатом, изо всех сил сжимая его ладонь. Потом он посвятит ей стихотворение "Прощание с новогодней ёлкой", где будут такие строки:

Ель моя, ель, уходящий олень,
зря ты, наверно, старалась:
женщины той осторожная тень
в хвое твоей затерялась!
Ель моя, ель, словно Спас на Крови,
твой силует отдалённый,
будто бы свет удивлённой любви,
вспыхнувшей, неутолённой.
Продолжение здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post219392663/
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/97545.html
|
|
Процитировано 5 раз
Понравилось: 2 пользователям
"Была ты всех ярче, верней и прелестней..." |

Начало здесь
Осенью 1913-го в жизни Блока – новое бурное увлечение – актрисой Любовью Дельмас. Он увидел её в роли Кармен в петербургском оперном театре и был потрясён созданным ею образом обольстительной неукротимой испанской цыганки. Блок посвящает ей цикл из десяти стихотворений под названием “Кармен”, вновь после Мериме и Бизе обратившись к этой теме. Эти стихи навсегда останутся самыми звонкими и ликующими в творчестве поэта.

Ты - как отзвук забытого гимна
в моей чёрной и дикой судьбе.
О Кармен, мне печально и дивно,
что приснился мне сон о тебе.
Вешний трепет, и лепет, и шелест,
Непробудные, дикие сны,
И твоя одичалая прелесть —
Как гитара, как бубен весны!..

«Ты встанешь бурною волною В реке моих стихов...»
Ах, как она была хороша, эта медноволосая, крепко сбитая, русская Кармен! Как божественно она пела! Как держалась на сцене! Она словно околдовала его... В новый, только что открывшийся Театр музыкальной драмы Блок приходил только на «Кармен», только на Андрееву-Дельмас.

Когда она, потряхивая золотисто-рыжими волосами, в тёмно-малиновой юбке, оранжевой блузе и чёрном фартуке врывалась на сцену, ему казалось, это не женщина - «влекущая колдунья». Демон. Она не играла, не пела, это вообще была не актриса — сама Кармен!
Бушует снежная весна.
Я отвожу глаза от книги...
О, страшный час, когда она,
Читая по руке Цуниги,
В глаза Хозе метнула взгляд!
Насмешкой засветились очи,
Блеснул зубов жемчужный ряд,
И я забыл все дни, все ночи,
И сердце захлестнула кровь,
Смывая память об отчизне...
А голос пел: Ценою жизни
Ты мне заплатишь за любовь!

Блок, получавший пачками письма от поклонниц, написал ей первым:
"Я смотрю на Вас в "Кармен" третий раз, и волнение мое растет с каждым разом. Прекрасно знаю, что я неизбежно влюблюсь в Вас, едва Вы появитесь на сцене. Не влюбиться в Вас, смотря на Вашу голову, на Ваше лицо, на Ваш стан, -- невозможно. Я думаю, что мог бы с Вами познакомиться, думаю, что Вы позволили бы мне смотреть на Вас, что Вы знаете, может быть, мое имя..."
"... Я не мальчик, я знаю эту адскую музыку влюбленности, от которой стон стоит во всем существе и которой нет никакого исхода... Я не мальчик, я много любил и много влюблялся. Не знаю, какой заколдованный цветок Вы бросили мне, но Вы бросили, а я поймал...»

Как океан меняет цвет,
Когда в нагроможденной туче
Вдруг полыхнет мигнувший свет, --
Так сердце под грозой певучей
Меняет строй, боясь вздохнуть,
И кровь бросается в ланиты,
И слезы счастья душат грудь
Перед явленьем Карменситы.

В эти дни он пишет и отсылает своей Карменсите первые посвящённые ей стихи.
Ты встанешь бурною волною
В реке моих стихов,
И я с руки моей не смою,
Кармен, твоих духов...
И в тихий час ночной, как пламя,
Сверкнувшее на миг,
Блеснёт мне белыми зубами
Твой неотступный лик.
Да, я томлюсь надеждой сладкой,
Что ты, в чужой стране,
Что ты, когда-нибудь, украдкой
Помыслишь обо мне...
За бурей жизни, за тревогой,
За грустью всех измен, -
Пусть эта мысль предстанет строгой,
Простой и белой, как дорога,
Как дальний путь, Кармен!
«Сердитый взор бесцветных глаз...»
Блок бродил под её окнами на Офицерской улице, смотрел на её окно на четвёртом этаже, горящее то от утренней, то от вечерней зари (дом стоял углом и был обращён на восход и на закат). Караулил у артистического входа театра, ожидая её после спектакля, стараясь смешаться с толпой поклонников. Смотрел издали, не решаясь приблизиться, пряча лицо в тени полей шляпы.

Среди поклонников Кармен,
Спешащих пёстрою толпою,
Ее зовущих за собою,
Один, как тень у серых стен
Ночной таверны Лиллас-Пастья,
Молчит и сумрачно глядит,
Не ждет, не требует участья,
Когда же бубен зазвучит
И глухо зазвенят запястья, -
Он вспоминает дни весны,
Он средь бушующих созвучий
Глядит на стан ее певучий
И видит творческие сны.

Красавицей её назвать было нельзя. Но в её очаровании было нечто большее, чем красота.
2 марта в театре они встретились лицом к лицу. Актриса в тот день не была занята в спектакле, на сцене была другая Кармен, а она сидела в зрительном зале.Блок увидел не образ героини Бизе, а реальную женщину:
Сердитый взор бесцветных глаз,
Их гордый вызов, их презренье,
Всех линий таянье и пенье, -
Так я вас встретил в первый раз.
В партере — ночь. Нельзя дышать.
Нагрудник черный близко-близко...
И бледное лицо... и прядь
Волос, спадающая низко...
У него возникло странное ощущение, будто эту женщину он знал всю жизнь...

О, не впервые странных встреч
Я испытал немую жуткость!
Но этих нервных рук и плеч
Почти пугающая чуткость...
В движеньях гордой головы
Прямые признаки досады...
(Так на людей из-за ограды
Угрюмо взглядывают львы).
А там, под круглой лампой, там
Уже замолкла сегидилья,
И злость, и ревность, что не к Вам
Идет влюбленный Эскамильо,
Не Вы возьметесь за тесьму,
Чтобы убавить свет ненужный,
И не блеснет уж ряд жемчужный
Зубов — несчастному тому...
О, не глядеть, молчать — нет мочи,
Сказать — не надо и нельзя...
И Вы уже (звездой средь ночи),
Скользящей поступью скользя,
Идете — в поступи истома,
И песня Ваших нежных плеч
Уже до ужаса знакома,
И сердцу суждено беречь,
Как память об иной отчизне,—
Ваш образ, дорогой навек...
А там: Уйдем, уйдем от жизни,
Уйдем от грустной этой жизни!
Кричит погибший человек...
И март наносит мокрый снег.
Окно, горящее не от одной зари...»
Из дневника А. Блока: «Я иду ближайшим проходом. Встречаю суровый взгляд недовольных, усталых глаз. Прохожу на свое место. Она оглядывается всё чаще. Я странно волнуюсь. Всё чаще смотрит в мою сторону. Я вне себя. Почти ничего не слушаю».
Друзья предлагают познакомить его с ней. Но тут Блоком овладевает необъяснимый испуг. Совершенно в духе гоголевского Подколесина в последнюю минуту он бросается вон из театра, мчится к её дому и ждёт уже там. Она появляется, оглядывается в его сторону и исчезает в подъезде. «Я стою у стены дураком, смотря вверх. Окна опять слепые. Я боюсь знакомиться с ней».

К собственному смущению, 35-летний Блок вел себя как гимназист: покупал открытки с её изображением и держал под подушкой, после каждого спектакля посылал алую розу (без записки и карточки), дежурил у ее дома, бессонно вглядываясь в занавешенные окна, а после, возвратившись домой, украдкой набирал заветный номер. Однажды он написал ей письмо, в котором признался в любви, письмо было анонимным, но она догадалась, кто ее молчаливый поклонник.

Когда «Кармен» шла в сезоне последний раз, Блок оставил для нее номер своего телефона с просьбой позвонить. Она позвонила во втором часу ночи...
Следующий вечер он провёл у неё. И ночь тоже. И ещё одну ночь, и ещё одну, и ещё... И всякий раз, уходя на восходе, смотрел он на это окно, теперь уже, по его мнению, «горящее не от одной зари», и думал, что за стеклом ещё виднеется тот пламень, который сжигал обоих. От этого огня и пылало окно!
На небе - прозелень, и месяца осколок
Омыт, в лазури спит, и ветер, чуть дыша,
Проходит, и весна, и лёд последний колок,
И в сонный входит вихрь смятенная душа...
Что' месяца нежней, что' зорь закатных выше?
Знай про себя, молчи, друзьям не говори:
В последнем этаже, там, под высокой крышей,
Окно, горящее не от одной зари...

Есть демон утра. Дымно-светел он,
Золотокудрый и счастливый.
Как небо, синь струящийся хитон,
Весь - перламутра переливы.
Но как ночною тьмой сквозит лазурь,
Так этот лик сквозит порой ужасным,
И золото кудрей - червонно-красным,
И голос - рокотом забытых бурь.

А Любовь Дельмас, страстная по сути своей , по всем повадкам, по ролям, даже по огню своих волос, никогда не думала, что этот холодноватый Гамлет с отстранённым взором и надменным ртом способен так любить и желать...
О, да, любовь вольна, как птица,
Да, всё равно -- я твой!
Да, всё равно мне будет сниться
Твой стан, твой огневой!
Да, в хищной силе рук прекрасных,
В очах, где грусть измен,
Весь бред моих страстей напрасных,
Моих ночей, Кармен!...

Страстная бездна
В течение двух месяцев они неразлучны, наслаждаясь своим непростительным счастьем. Долгие прогулки пешком, на лихачах, в таксомоторах. Белые ночи на Стрелке, ужины в ночных ресторанах, возвращения на рассвете...
Вот некоторые записи из книжки Блока. 15 мая 1914 года: «Утром. Золотой червонный волос на куске мыла — из миллионов — единственный».
20 мая: «Она написала на картоне от шоколада: «День радостной надежды». Я в первый раз напоил ее чаем. Ей 20 лет сегодня».

кабинет Блока. Здесь он поил её чаем.

25 мая: «Тел. около 3-х. Л.А. тревожна, писала мне письмо. Хочет уйти, оставить меня... Я ей пишу. После обеда, измученный, засыпаю на полчаса. Звоню ей. Звоню еще раз. Она у меня до 3-го часа ночи. Одни из последних слов: — Почему Вы так нежны сегодня? — Потому что я Вас полюбила».

Любовь Дельмас
28 мая: «Странная смесь унижения с гордостью. Её вчерашний взгляд. Я влюблён в неё сегодня так грустно, как давно не был. В 4 часа звоню - она вышла. Я вижу её с балкона, маню её. Она качает головой и уходит».

«Я ухожу на Финляндский вокзал. Посылаю ей розы. Звоню оттуда - её нет ещё дома. Возвращаюсь - звоню, мы встречаемся. Едем на Финляндский вокзал...»

«С Удельной едем в Коломяги, оттуда - в Озерки, проходим над озером, пьем кофей на Приморском вокзале, возвращаемся в трамваях».

«Нежней, ласковей и покорней она еще не была никогда».

Он от неё без ума: “Она вся благоухает, она нежна, страстна, чиста. Ей имени нет. Её плечи бессмертны”. “Душно и без памяти”, “страстная бездна”, “я ничего не чувствую, кроме её губ и колен”.

Розы - страшен мне цвет этих роз,
Это - рыжая ночь твоих кос?
Это - музыка тайных измен?
Это - сердце в плену у Кармен?

Весь поэтический цикл "Кармен" Блок создал за две мартовских недели.
В нём – вся история его неукротимого чувства: и взгляд, которому нет сил противиться, и пляска страсти, от которой не уйти, и рокот бурь, и губительная прелесть Кармен, и нестерпимое желание поймать ее, танцующую и дикую, в жаждущие руки… Но написал он его до того, как встретился с ней в реальной жизни – роман был придуман и сначала пережит им в стихах.
А счастье было так возможно...
Так случилось, что оба они жили на Офицерской - судьба! - почти на краю города.

дом на ул. Декабристов 57 (бывшая Офицерская 5), где жил А. Блок
Его дом, где Блок поселился два года назад, стоял в самом конце улицы, упиравшейся в этом месте в мелководную Пряжку - речушку с грязными, размытыми берегами.

вид из окна кабинета Блока на реку Пряжку и Банный мост
Они пешком возвращались из театра на Офицерскую. Или белыми ночами бродили по закоулкам старой окраины, шли к Неве по набережной Пряжки, через мост, который он назвал «Мостом вздохов», - пояснив, что есть такой же, похожий, в Венеции.
Пили кофе на вокзале, ездили на Елагин остров, гуляли в парке, ходили в кинематограф, катались с американских гор.
«...этот Ваш звенящий, звенящий смех первого вечера, и моя неловкость, и Ваши открытые плечи, и розы, открывающие грудь, Ваши руки, овладевающие мгновенно всякой вещью, Ваши сияющие зубы и таинственные глаза; и эта неровность плеч, их застенчивость, и то, что Вы сразу просто приняли, когда я взял Вас под руку, и улицы, и темная Нева, и Ваши духи, и Вы, и Вы, и Вы!.."

В ответ она посылала ему ячменные колосья, потому что как-то раз он сказал, будто волосы её жестки, как колосья, посылала вербу, потому что уже была весна, их первая весна, посылала розы — они непрестанно обменивались розами того особенного, жаркого цвета, который он называл рыжим, чтобы снова и снова вспомнить о её волосах...

Вербы — это весенняя таль,
И чего-то нам светлого жаль,
Значит — теплится где-то свеча,
И молитва моя горяча,
И целую тебя я в плеча.
Этот колос ячменный — поля,
И заливистый крик журавля,
Это значит — мне ждать у плетня
До заката горячего дня.
Значит — ты вспоминаешь меня...
Точно так же, лет шесть назад, его настигла роковая вьюга в лице «Снежной маски» - «высокой женщины в чёрном с огненными крылатыми глазами».

Наталья Волохова, героиня цикла «Снежная маска»
Но теперь образ прежней возлюбленной растаял, как призрак в предрассветном тумане.
Мрачные краски ночи сменились радужными бликами яркого дня, хрустальным звоном весенней капели, звуками нежной скрипки. Общее с Волоховой у Дельмас было только то, что обе были актрисами - одна драматическая, другая оперная.
В остальном они отличались как лед и пламень. Одна
...таила странный холод
Под одичалой красотой.

Другая - обжигала радостью жизни, увлекала в мир музыки и света, «как гитара, как бубен весны!»
Те, кому доводилось их видеть в ту пору вместе, в фойе ли театра, на концерте или на улице, с удивлением отмечали, как они поразительно подходят, гармонически дополняют друг друга. Особенно это было явно, когда Блок и Дельмас выступали вдвоем со сцены. Так было, например, на литературном вечере, состоявшемся в годовщину их знакомства - Блок читал свои стихи, она пела романсы на его слова, и в зале Тенишевского училища, где они присутствовали на первом представлении «Балаганчика» и «Незнакомки».

Тенишевского училище. Здесь они выступали вдвоём.

тот самый зал
Она тогда была особенно ослепительна в своем лиловом открытом вечернем платье. «Как сияли ее мраморные плечи! - вспоминала современница. - Какой мягкой рыже-красной бронзой отливали и рдели ее волосы! Как задумчиво смотрел он в ее близкое-близкое лицо! Как доверчиво покоился ее белый локоть на черном рукаве его сюртука...».
Казалось, вот оно, его счастье, которое нашел однажды в Таврическом саду, где они вместе выискивали на ветках сирени «счастливые» пятиконечные звездочки цветков.
Таврический сад
Я помню нежность ваших плеч,
Они застенчивы и чутки.
И лаской прерванную речь,
Вдруг, после болтовни и шутки.
Волос червонную руду
И голоса грудные звуки.
Сирени тёмной в час разлуки
Пятиконечную звезду.
И то, что больше и странней:
Из вихря музыки и света —
Взор, полный долгого привета,
И тайна верности... твоей.
«Я сам такой, Кармен»
Роман поэта и актрисы сделался общеизвестен. Дошли вести и до Любови Менделеевой, жены Блока.

Она отнеслась к новости довольно спокойно: ещё одна связь, их уже было-перебыло. Любовь Дмитриевна по-женски завидовала своей молодой и красивой сопернице и тем образам, которые та навевала влюблённому поэту. Когда-то она одна была его Музой...

Но про себя пожимала плечами: ну, родится ещё один цикл стихов. Может быть, даже и не один... Однако конец-то всё равно ясен.
Был он ясен и самому Блоку. Уже в те дни, когда роман только начинался, в стихах, где поэт был предельно правдив, он предрекает разрыв. И никогда еще он не ошибался в своих пророчествах.
Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь.
Так вот что так влекло сквозь бездну грустных лет,
Сквозь бездну дней пустых, чьё бремя не избудешь.
Вот почему я твой поклонник и поэт!

Но, клянясь в том, что любовь всегда останется жить в его сердце, Блок не скрывает: это любовь не к актрисе Дельмас и даже не к её сценическому образу, это любовь к той неуловимой, которую он сейчас называет Кармен, а раньше называл Прекрасной Дамой, Офелией, Незнакомкой, Снежной Маской, Фаиной, Валентиной... Неважно — как! К той, кем он жаждет обладать... на самом деле совершенно не желая этого.
Здесь - страшная печать отверженности женской
За прелесть дивную - постичь ее нет сил.
Там - дикий сплав миров, где часть души вселенской
Рыдает, исходя гармонией светил.
Вот - мой восторг, мой страх в тот вечер в тёмном зале!
Вот, бедная, зачем тревожусь за тебя!
Вот чьи глаза меня так странно провожали,
Еще не угадав, не зная... не любя!
Сама себе закон - летишь, летишь ты мимо,
К созвездиям иным, не ведая орбит,
И этот мир тебе - лишь красный облак дыма,
Где что-то жжёт, поёт, тревожит и горит!
И в зареве его - твоя безумна младость...
Всё - музыка и свет: нет счастья, нет измен...
Мелодией одной звучат печаль и радость...
Но я люблю тебя: я сам такой, Кармен.

В соловьином саду
«Жизнь моя есть череда спутанных до чрезвычайности личных отношений», - записывает в дневнике Блок. То же самое могла бы сказать о себе и Любовь Менделеева.

Она возвращается в актёрскую труппу, к частым гастролям, к своему собственному, уже завершившемуся было роману с Кузьминым-Караваевым (Тверским), молодым студентом, начинающим актером и режиссером (с 1929 по 1935 год — главным режиссёром и худруком БДТ, в 1936 году ставившим спектакли в Саратове, где и был в 1937-ом репрессирован и расстрелян). Располагая после смерти отца средствами, Менделеева финансировала постановки Мейерхольда.

Ученики и сотрудники студии В. Э. Мейерхольда. 1915 год. Во втором ряду вторая справа — Любовь Менделеева. Слева рядом с ней — Мейерхольд, справа — Кузьмин-Караваев.
Они, наконец, окончательно разъехались с Блоком. И теперь Дельмас могла спокойно приходить в его квартиру, когда ей вздумается.

Любовь Дельмас
История их любви запечатлена в письмах и многих стихах поэта: Дельмас посвящены циклы «Кармен», «Арфы и скрипки», «Седое утро», многочисленные записи в дневниках и записных книжках. Поэт подарил ей поэму «Соловьиный сад», которую завершил осенью 1915 года, с надписью: «Той, что поет в Соловьином саду».


Странная это была поэма... Начатая в разгар их любви, на пике их страсти, в январе 1914 года, она совершенно чётко рисует всю дальнейшую историю романа автора с певицей, как если бы была исчислена Блоком с холодком и рассудочностью, как если бы он заранее знал, что из всего этого выйдет.... Вернее, что не выйдет из всего этого ничего... кроме новых стихов.
А может быть, он и в самом деле это знал?
Я ломаю слоистые скалы
В час отлива на илистом дне,
И таскает осел мой усталый
Их куски на мохнатой спине...
Крик осла моего раздаётся
Каждый раз у садовых ворот,
А в саду кто-то тихо смеётся,
И потом — отойдёт и поёт...
Или разум от зноя мутится,
Замечтался ли в сумраке я?
Только всё неотступнее снится
Жизнь другая — моя, не моя...
Каждый вечер в закатном тумане
Прохожу мимо этих ворот,
И она меня, лёгкая, манит,
И круженьем, и пеньем зовет...
А уж прошлое кажется странным,
И руке не вернуться к труду:
Сердце знает, что гостем желанным
Буду я в соловьином саду...
Правду сердце моё говорило,
И ограда была не страшна,
Не стучал я — сама отворила
Неприступные двери она.
Вдоль прохладной дороги, меж лилий,
Однозвучно запели ручьи,
Сладкой песнью меня оглушили,
Взяли душу мою соловьи.
Опьяненный вином золотистым,
Золотым опалённый огнем,
Я забыл о пути каменистом,
О товарище бедном своём.
Пусть укрыла от дольнего горя
Утонувшая в розах стена, —
Заглушить рокотание моря
Соловьиная песнь не вольна!..
Я проснулся на мглистом рассвете
Неизвестно которого дня.
Спит она, улыбаясь, как дети, —
Ей пригрезился сон про меня.
Как под утренним сумраком чарым
Лик, прозрачный от страсти, красив!..
По далеким и мерным ударам
Я узнал, что подходит прилив...
И, спускаясь по камням ограды,
Я нарушил цветов забытье.
Их шипы, точно руки из сада,
Уцепились за платье моё.
Очарованность Блока длилась недолго. 1 августа он записывает в дневнике: “Уже холодею”. И — в стихах: «Та жизнь прошла, и странно вспомнить, что был пожар...»

Он любил Кармен и ту, которая создавала на сцене её образ, за то, что она готова была умереть, но не покориться ему, всегда отвергала любовь.

Актриса же была покорена и влюблена. И она очень быстро перестала для него существовать, как только был разрушен романтический образ.
Он желал обладания Кармен — дерзкой, насмешливой, недоступной. А обрёл пылкую страсть женщины — обыкновенной женщины, пусть при этом и невероятно талантливой актрисы.

Искал неуловимую чаровницу, а получил обычную любовницу, которая желала владеть им без остатка. Оплела его руками, нежными словами, лаской, днём и ночью ей снился сон их любви.

Но главным в жизни для него было — ломать слоистые скалы стихов на илистом дне поэзии, возводя из этих обломков некое волшебное здание. Счастье, покой — это не для него. Страдание — вот что очищает и возвышает душу. Если жизнь страдания не приносит — значит, надо его сотворить для себя самому. Искусство всегда там, где потери, страдания, холод… «Таков седой опыт художников всех времён», - уверял Блок. Им правит закон самосохранения гения — быть может, самый загадочный, но и самый жестокий в своей непреодолимости. Только труд, упорный ежедневный труд, вот что главное.

письменный стол Блока
Иногда кажущийся постылым, надоевшим — тем слаще было к нему возвращаться, пусть даже приходилось вырываться из объятий, пусть даже шипы всех на свете червонно-алых роз цеплялись при этом за его сердце, норовя удержать.

И во мгле благовонной и знойной
Обвиваясь горячей рукой,
Повторяет она беспокойно:
«Что с тобою, возлюбленный мой?»
Но, вперяясь во мглу сиротливо,
Надышаться блаженством спеша,
Отдаленного шума прилива
Уж не может не слышать душа...
«Искры в пепле»
Образ Кармен, который предстаёт в лирике Блока, ничего общего не имел с реальной Кармен, Любовью Дельмас. В её облике не было ничего рокового, мрачного, трагического. Напротив, весь он – лёгкий, солнечный, праздничный. Она не летела “к созвездиям иным”, не играла в романтическую страсть – просто любила. Обычная женщина, вся она была от этого, от сего мира: милая, верная, открытая, заботливая.

Но уж к чему Блок был совершенно не приспособлен — так это к счастью. «Страшен мне уют... Даже за плечом твоим, подруга, чьи-то очи стерегут!.. Милый мой, и в этом тихом доме лихорадка бьёт меня...»
Началась война, которая, как ни дико это звучит, была кстати. Блок уходит на фронт.
Он пишет любимой письмо-отказ, потому что он не может быть с той, что пела в соловьином саду, потому что зовёт долг, потому что есть совесть, и перед лицом ужаса этой жизни безнравственно предаваться личному. Мученик правды, он бежит от призрака счастья.

Блок писал Дельмас: «Я не знаю, как это случилось, что я нашел Вас, не знаю и того, за что теряю Вас, но так надо. Надо, чтобы месяцы растянулись в годы, надо, чтобы сердце моё сейчас обливалось кровью, надо, чтобы я испытывал сейчас то, что не испытывал никогда, - точно с Вами я теряю последнее земное. Только Бог и я знаем, как я Вас люблю».
Сколько лукавства в этих красивых, туманных, двусмысленных словах, примириться с которыми не сможет никакая нормальная женщина.

Блок пишет ей прощальное суровое письмо:
«...ни Вы не поймете меня, ни я Вас – по-прежнему. А во мне происходит то, что требует понимания, но никогда, никогда не поймем друг друга мы, влюбленные друг в друга... В Вашем письме есть отчаянная фраза (о том, что нам придется расстаться), – но в ней, может быть, и есть вся правда... Разойтись все труднее, а разойтись надо... Моя жизнь и моя душа надорваны; и всё это – только искры в пепле. Меня настоящего, во весь рост, Вы никогда не видели. Поздно».

Она не в силах этого понять, плачет, забрасывает его письмами, ищет встреч. Одно из таких тягостных, бесплодных, прощальных свиданий отражено в стихотворении Блока “Превратила всё в шутку сначала...”.

Превратила всё в шутку сначала,
Поняла - принялась укорять,
Головою красивой качала,
Стала слезы платком вытирать.
И, зубами дразня, хохотала,
Неожиданно всё позабыв.
Вдруг припомнила всё - зарыдала,
Десять шпилек на стол уронив.
Подурнела, пошла, обернулась,
Воротилась, чего-то ждала,
Проклинала, спиной повернулась,
И, должно быть, навеки ушла...

«Бедная, она была со мной счастлива...»
Когда-то она сказала ему: “Боюсь любви”. Словно предчувствовала страдание, что её ожидает. Как много это слово значило для неё и как мало для него.

Блок ещё не раз вспомнит Любовь Дельмас. Потом, пытаясь объяснить, что вызвало в нём любовь к этой женщине, он долго не мог подобрать нужного слова: “Какая-то старинная женственность... да, и она, но за ней ещё: верность? земля, природа, чистота... жизнь, правдивое лицо жизни... возможность счастья, что ли? Словом, что-то забытое людьми...”.

...Блок вышел на улицу, словно во сне дошел до ее дома, остановился, посмотрел туда, где под самой крышей горело ее окно. В тот же миг свет погас. А он стоял и думал о том, что у художника своя особая судьба, своя дорога.

Что ж, пора приниматься за дело,
За старинное дело свое.
Неужели и жизнь отшумела,
Отшумела, как платье твое?
Блок возвращается к себе прежнему. Возвращается к жене.
«Благодарю тебя, что ты продолжаешь быть со мной, несмотря на своё, несмотря на моё. - пишет он ей. - Мне так нужно это». А в дневнике записывает: «У меня было только две женщины: Люба — и все остальные».

Свидания с Кармен ещё продолжались — но только по её просьбе, иногда даже мольбе: «Л. А. Дельмас звонила, а мне уже было не до чего. Потом я позвонил: развеселить этого ребёнка... Как она плакала на днях ночью, и как на одну минуту я опять потянулся к ней, потянулся жестоко, увидев искру прежней юности на лице, молодеющем от белой ночи и страсти. И это мое жестокое (потому что минутное) старое волнение вызвало только её слезы… Бедная, она была со мной счастлива...»
Как самодовольно и равнодушно... Тем не менее они встречались до самого трагического финала его жизни. То она напомнит о себе корзиной красных роз, то проявит заботу о его полухолостяцком быте. В 1915 году гостила у него в Шахматове.

Шахматово. Голубая гостиная
По вечерам пела романсы, арии из опер.

Когда у Блока начинался очередной приступ «психастении» или «сердечной болезни», первой на помощь к нему спешила Дельмас. Она была в его доме, когда он мучительно умирал, переписывала красивым и ясным почерком его последние стихи.

В те дни Блоку не было еще и сорока. Но поэтическая его жизнь оборвалась именно после цикла «Кармен». Кроме поэмы «Двенадцать», которая окончательно погубила поэта, ничего больше не было написано. Ни одна из пленительных женщин не заставила его больше писать о любви и страсти. Кармен была последней.

Любовь Дельмас в роли Кармен
В ящике письменного стола Блок хранил всё, что как-то было связано с Дельмас: письма, засушенные цветы, ее заколки и ленты. Однажды он стал разбирать этот забытый ящик, где похоронил свою Кармен.
"...Боже мой, какое безумие, что всё проходит, ничто не вечно. Сколько у меня было счастья (счастья, да) с этой женщиной, - записывает он в дневнике. - Слов от неё почти не останется. Останется эта груда лепестков, всяких сухих цветов, роз, верб, ячменных колосьев, резеды, каких-то больших лепестков и листьев. Все это шелестит под руками..."
В час, когда пьянеют нарциссы,
И театр в закатном огне,
В полутень последней кулисы
Кто-то ходит вздыхать обо мне...
Арлекин, забывший о роли?
Ты, моя тихоокая лань?
Ветерок, приносящий с поля
Дуновений лёгкую дань?
Я, паяц, у блестящей рампы
Возникаю в открытый люк.
Это — бездна смотрит сквозь лампы,
Ненасытно-жадный паук.
И, пока пьянеют нарциссы,
Я кривляюсь, крутясь и звеня...
Но в тени последней кулисы
Кто-то плачет, жалея меня.
Нежный друг с голубым туманом,
Убаюкан качелью снов.
Сиротливо приникший к ранам
Легкоперстный запах цветов.

Он посвятит ей ещё одно стихотворение, в котором звучит неподдельное раскаяние и чувство неизбывной вины:

Была ты всех ярче, верней и прелестней,
не кляни же меня, не кляни!
Мой поезд летит как цыганская песня,
как те невозвратные дни...
Что было любимо – всё мимо, всё мимо,
впереди – неизвестность пути...
Благословенно, неизгладимо,
невозвратимо... прости!

Имя Л. Дельмас постоянно мелькало в дневниковых записях поэта вплоть до его кончины в 1921 году.
«Л. А. Дельмас прислала Любе письмо и муку, по случаю моих завтрашних именин. Да, «личная жизнь» превратилась уже в одно у н и ж е н и е...»; «Л. А. Дельмас прислала мне цветы и письмо...»
Нередко хроника дневных дел заканчивалась лаконичным: «Вечером (или ночью) – Л. А. Дельмас».
«Ночью любовница. Она пела грудным голосом знакомые песни».
«Ночью – опять Дельмас, догнавшая меня на улице. Я ушел. Сегодня ночью я увидал в окно Дельмас и позвал ее к себе…»
эпилог
...Любовь Александровна Дельмас пережила поэта на полвека. После слияния театра Музыкальной драмы с Народным домом она до 1922 года пела в организованном на их основе Государственном Большом оперном театре, много гастролировала по стране – по Сибири и Уралу, Башкирии.

В Минусинском оперном театре Андреева-Дельмас впервые выступила в качестве режиссера, поставив оперы «Пиковая дама» и «Черевички». В 1933-м оставила сцену и занялась педагогической деятельностью. Сначала преподавала в Музыкальном училище при Ленинградской консерватории, а затем и в ней самой, где в 1938 году получила звание доцента.
В годы Великой Отечественной Любовь Александровна вместе с мужем жила в Ленинграде, выезжала с концертными бригадами на фронт, выступала перед бойцами. О страшном блокадном времени позднее написала воспоминания...
К сожалению, свои письма к поэту (он вернул их ей) Любовь Александровна сожгла незадолго до своей смерти. Она скончалась 30 апреля 1969 года, дожив до глубокой старости.
Подумать только: она, знавшая великого Блока, была нашей современницей!
могила Л. Дельмас
В своей известной книге о Блоке В. Орлов пишет, что по сохранившимся снимкам этой оперной дивы довольно трудно догадаться о бушевавшей в ней когда-то «буре цыганских страстей». Но и в самой Л. А. Андреевой-Дельмас, к тому времени уже далеко не молодой, грузной женщине, от блоковской Кармен остались разве что медно-рыжие волосы.

Была ли она вообще красива? Блок имел своё представление о женской красоте. «Все его женщины, - отмечает В. Орлов, - были не красивы, но прекрасны, - вернее сказать, такими он сотворил их - и заставил нас поверить в его творение». В сущности, теперь и не имеет значения, какой была возлюбленная Блока в жизни, - ее дивный образ живет отныне, созданный воображением поэта. В истории литературы она навсегда осталась страстной и пленительной Кармен.

...И проходишь ты в думах и грёзах,
Как царица блаженных времён,
С головой, утопающей в розах,
Погружённая в сказочный сон.
Спишь, змеёю склубясь прихотливой,
Спишь в дурмане и видишь во сне
Даль морскую и берег счастливый,
И мечту, недоступную мне.
Видишь день беззакатный и жгучий
И любимый, родимый свой край,
Синий-синий, певучий-певучий,
Неподвижно-блаженный, как рай.
В том раю тишина бездыханна,
Только в куще сплетённых ветвей
Дивный голос твой, низкий и странный,
Славит бурю цыганских страстей.


(При подготовке использованы материалы В. Орлова, Е. Арсеньевой, Е. Обойминой, О. Татьковой, С. Сеничева, Д. Чистяковой, В. Вульфа, фотографии с сайта Государственного историко-литературного и природного музея-заповедника А. Блока, картины Андрея Атрошенко).
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/94756.html
|
|
Процитировано 6 раз
Понравилось: 3 пользователям
С тобою - вечный День Рожденья... |
Начало здесь.

Я не хочу стараться словом, –
на чём-то, родственном нулю,
неназываемом и новом,
молчать, как я тебя люблю.
На языке листвы и ветра,
певучих птах, летучих звёзд,
бездумно чувствовать и верить,
что смысл единственен и прост.
Они достались нам в наследство
и мучат памятью родства -
простые, чистые, как детство,
невыразимые слова.
Хочу не умствовать лукаво
и не закручивать хитро.
Как мысли азбучные правы,
где буки, веди да добро.
Душа — божественная дура.
Молчит, как девочка, светла...
Всё прочее — литература,
где нет ни жизни, ни тепла.
Мы вместе уже много лет. Но ни разу, ни на миг я об этом не пожалела.
Ты пришёл ко мне в последний день зимы,
в долгожданный, судьбоносный, високосный.
И с тех пор — не ты, не я, а стало — мы.
Были вёрсты, а наутро стали — вёсны.
Ты пришёл, когда пурга и колотун,
а потом был день рожденья - возрожденья.
Мы на ощупь постигали теплоту,
мы вступали в шалашовое владенье.

Ты помнишь этот дождь, нас обвенчавший,
нам выпавший, как жребий, на пути,
как капля, переполнившая чашу,
что Бог не в силах мимо пронести?
С небес неудержимо, просветлённо
текла благословенная вода,
а мы, обнявшись, прятались под клёном,
и всё решилось, в сущности, тогда.
Казалось сквозь намокшие ресницы,
что в этой захлестнувшей нас волне
на всей земле нам некуда укрыться,
и я в тебе укрылась, ты – во мне.
Всё закружило, смяло, как в цунами –
стволы, зарницы, травы, соловьи...
И всё вокруг, казалось, было нами.
И на земле, казалось, все свои.
Песня барда Светланы Лебедевой на мои стихи: "Ты стал моим берегом и оберегом..."
таким Давид был, когда пришёл на "Тантал"

а такой - я, когда его встретила и полюбила
мы с Давидом у дверей "Тантала" и ДК "Кристалл" - разгружаем только что полученную аудиоаппаратуру

Ты стал моим берегом и оберегом.
Вхожу в твою душу, как в тёплую реку,
и чувствую почву и твёрдое дно –
всё то, без чего устоять не дано.
Жила без любви, без надежды и веры,
и в пропасть манили ночные химеры.
Но что мне теперь даже самая смерть,
когда под ногами небесная твердь?
Ты был мне обещан и Богом, и Чёртом,
давно позабытым в веках звездочётом.
Так выпали карты и звёзды легли –
идти нам одною стезёю земли.
***
В волосах — ни сединки, в глазах — ни грустинки,
и ни капли горчинки в горячей крови.
Я прошу тебя, жизнь, не меняй ту пластинку,
пусть закружит нас вальс вечно юной любви.
Я на карте места наших встреч обозначу,
календарному дню воспою дифирамб.
И тебя воспою, и в стихи мои спрячу,
никакой вездесущей судьбе не отдам.
Всё, что бредило, зрело во мне и бродило,
лишь сумятице сердце прикажет: нахлынь! —
то теперь до последней морщинки родимо,
и качает меня твоей ласки теплынь.
Я — изделье твоё. Твои руки и губы
из меня воедино собрали куски.
Ты вдохнул в меня жизнь на манер стеклодува.
Я забыла вкус боли и запах тоски.
Отдаю иль беру — различить не умею.
И хочу одного я теперь, не шутя —
лишь любить и голубить, и холить, лелея,
и баюкать тебя, как больное дитя.
В твоём сердце зерном по весне прорастаю.
Отражаюсь в зрачках твоих: та ли? не та ль?
Может статься, единственная из ста я,
что, как Золушке, впору пришёлся хрусталь.

***
Я поставила лишь на тебя одного,
у меня на земле никого, ничего.
Этот воздух ночной, этот свод голубой –
всё отныне заполнено только тобой.
Духи прошлого канули в Лету давно.
Ты – последняя ставка в моём казино.
Мой любимый и муж мой, отец мой и брат,
за тобою, с тобою – до облачных врат
по канату над бездной судьбе супротив
без страховки, гарантий и альтернатив.

Мы как будто плывём и плывём по реке...
Сонно вод колыханье.
Так, рукою в руке, и щекою к щеке,
и дыханье к дыханью
мы плывём вдалеке от безумных вестей.
Наши сны — как новелла.
И качает, как двух беззащитных детей,
нас кровать-каравелла.
А река далека, а река широка,
сонно вод колыханье...
На соседней подушке родная щека
и родное дыханье.
Песня Светланы Лебедевой на эти стихи.
***
Этой песни колыбельной
я не знаю слов.
Звон венчальный, стон метельный,
лепет сладких снов,
гул за стенкою ремонтный,
тиканье в тиши —
всё сливается в дремотной
музыке души.
Я прижму тебя, как сына,
стану напевать.
Пусть плывёт, как бригантина,
старая кровать.
Пусть текут года, как реки,
ровной чередой.
Спи, сомкнув устало веки,
мальчик мой седой.
– Я руку тебе отлежала?
Твоё неизменное: – Нет.
Сквозь щёлочку штор обветшалых
просачивается рассвет.
– Другая завидует этой.
– А я – так самой себе...
Рождение тихого света.
Обычное утро в судьбе.
Жемчужное и голубое
сквозь прорезь неплотных завес…
Мне всё доставалось с бою,
лишь это – подарок небес.
Мы спрячемся вместе от мира,
его командорских шагов.
Не будем дразнить своим видом
гусей, быков и богов.

А вот на этом видеоролике три моих стихотворения, посвящённых Давиду, читает юная артистка из студенческого театра чтеца «Данко» Светлана Митяшова: http://www.youtube.com/watch?v=OkHQ8YTw5GE&feature=player_embedded#!
* * *
Всего лишь жизнь отдать тебе хочу.
Пред вечности жерлом не так уж много.
Я от себя тебя не отличу,
как собственную руку или ногу.
Прошу взамен лишь одного: живи.
Живи во мне, живи вовне, повсюду.
Стихов не буду стряпать о любви,
а буду просто стряпать, мыть посуду.
Любовь? Но это больше чем. Родство.
И даже больше. Магия привычки.
Как детства ощущая баловство,
в твоих объятий заключусь кавычки.
Освобождая сердце от оков,
я рву стихи на мелкие кусочки.
Как перистые клочья облаков,
они летят, легки и худосочны.
Прошу, судьба, не мучь и не страши,
не потуши неловкими устами.
В распахнутом окне моей души
стоит любовь с наивными цветами.

Кто-то, кажется, Сент-Экзюпери сказал, что любовь — это когда смотрят не друг на друга, а в одном направлении. При всём аскетизме этой фразы в ней есть большая доля истины. Нас очень многое связывает. И главное дело моей жизни, - литература, поэзия, лекции, вечера — давно уже стало нашим общим.
Давид, правда, не пишет стихов (как говорил Гумилёв Ахматовой: «муж и жена пишут стихи — в этом есть что-то комическое»), но великолепно их читает. (К слову сказать, был лауреатом Всесоюзного конкурса чтецов, собирал огромные залы на поэтических вечерах в 70-е). И многие аудиозаписи стихов поэтов в моих лекциях и эссе звучат в его исполнении. Записываем мы их дома, на старенькой аппаратуре, музыку тоже подбираем сами. Предлагаю Вам послушать три моих самых любимых аудио-ролика. Читает Давид Аврутов:
А. Рембо. Пьяный корабль. (перевод Л. Самойлова)
https://www.youtube.com/watch?v=LNizf-se-Cg&list=PLrgDSzTXDpvM70JA2g2Jzm2N6z5kWkI7a&index=1&t=82s
(из лекции «Проклятый поэт»)
Р. Рильке. "Элегия для Марины". (перевод З. Миркиной) :
https://www.youtube.com/watch?v=cXNxR2x3kgg&list=PLrgDSzTXDpvM70JA2g2Jzm2N6z5kWkI7a&index=12
(из лекции "Цветаева и Рильке ( "Волны, Марина, мы - море! Глуби, Марина, мы – небо!")
(из лекции «Гений одиночества»)
***
Мы так близки, что наши имена
через дефис писать готовы руки.
Отдельно нет тебя и нет меня.
Матрёшки мы, живущие друг в друге.
Любовь – игла в Кощеевом яйце.
Дрожа над ней, живу лишь при условье
тепла в глазах и нежности в лице,
и ласки рук, сплетённых в изголовье.
"Мой милый, – говорю тебе, – мой свет",
к груди твоей прижавшись что есть силы,
чтоб между нами ни в один просвет
не просочился холодок могилы.
Единство наше как объятье длить
без передышки и без промежутка...
Нас и дефис не в силах разделить.
От этого и радостно, и жутко.
Солнце апреля в субботней тиши.
Город разъехался на огороды.
В браузер утра что хочешь впиши:
«Книги». «Уборка». «Вдвоём на природу».
В тёплых ладонях упрячется прядь,
нос обоснуется в ямке ключицы.
Нам уже нечего больше терять.
С нами уже ничего не случится.
Утро — такое богатство дано!
Мы выпиваем его по глоточку.
Счастье вдвойне, оттого, что оно,
как предложение, близится к точке.
Тянется, как Ариаднина нить...
О, занести его в буфер программы
и сохранить! Сохранить! Сохранить!
Вырвать из будущей траурной рамы!
Круг абажура и блик фонаря,
солнечный зайчик над нашей кроватью...
Лишь бы тот свет не рассеялся зря,
лишь бы хватило подольше объятья!
Стражник-торшер над твоей головой.
В веках прикрытых скопилась усталость.
Свет мой в окошке до тьмы гробовой!
Сколько тебя и себя мне осталось?

Между смертью и мною
баррикады из книг,
из твоих поцелуев
и домашних вериг,
из стихов и из писем,
и цветов на столе,
от чего так зависим
каждый день на земле.
Но всё те же мы, те мы…
Лист в ладони дрожит.
Сочиненье на тему
«как провёл эту жизнь».
Я бросаю монету,
чтоб вернуться сюда.
Не войти в это лето,
только Леты вода
где-то тут, за спиною
достигает ушей...
Между смертью и мною
так немного уже.

Секундная радость, минутная боль
и стрелка тоски часовая...
Дадут ли они надышаться тобой,
дамокловой мглой нависая?
Торчат на лице циферблата усы, —
что в них мне, не злых и не добрых,
когда моё сердце стучит, как часы,
в твоих раздающихся рёбрах...
Часы наблюдать? Вопрошать из окна,
какое там тысячелетье?
Зачем, когда вечность без дна и без сна
грудной сохраняется клетью?
О вневременное! Во мне твой уклад.
Блаженно смежаются веки...
Разбейте мобильник, ТВ, циферблат!
Навеки... навеки... навеки...

Нам вечность не грозит.
Без нимба, ореола
лицо твоё вблизи
отчетливо и голо.
Всё меньше виражей
в смертельном нашем ралли.
Всё больше миражей
развеяно ветрами.
И деревянный чёрт –
смешное воплощенье
твоих семитских черт –
потупился в смущенье.
Уж сколько лет и зим
висит он в изголовье,
твоим зрачком косит
с укором и любовью.
Меняются черты,
мелькают дни и даты,
но вечно моё Ты,
незыблемо и свято.
Ты выхватил меня
из пустоты вселенной,
из тьмы небытия,
из водной дрожи пенной.
Обвёл защитный круг.
Лежу, как в колыбели,
в тепле сплетённых рук,
в твоём горячем теле.
Храни меня, храни,
мой ангел с ликом чёрта!
Мне кажется, что нимб
венчает лоб твой чёткий.
И отступают прочь
кладбищенские плиты.
И дольше века – ночь,
где наши лица слиты.

Прочь, печаль, кончай грызть мне душу, грусть.
Надо проще быть, как река и роща.
И к тебе навстречу я — наизусть,
постигая сердце твоё наощупь.
Пусть не замки из кости или песка,
пусть не крылья, а просто крыльцо и кринка.
Мне дороже один волосок с виска
твоего, чем птицы всех Метерлинков.
Я тебя люблю, замедляя, для
наши дни, свивая в их теле гнёзда.
Как стихи на строфы свои деля,
боль делю на звуки и ночь — на звёзды...

Взвалю на чашу левую весов
весь хлам впустую прожитых часов,
обломки от разбитого корыта,
весь кислород, до смерти перекрытый,
все двери, что закрыты на засов,
вселенское засилье дураков,
следы в душе от грязных сапогов,
предательства друзей моих заветных,
и липкий дёготь клеветы газетной,
и верность неотступную врагов.
А на другую чашу? Лишь слегка
ее коснётся тёплая щека,
к которой прижимаюсь еженощно,
и так она к земле потянет мощно,
что первая взлетит под облака.

Я себя отстою, отстою
у сегодняшней рыночной своры.
Если надо – всю ночь простою
под небесным всевидящим взором.
У беды на краю, на краю...
О душа моя, песня, касатка!
Я её отстою, отстою
от осевшего за день осадка.
В шалашовом родимом раю
у болезней, у смерти – послушай,
я тебя отстою! Отстою
эту сердца бессонную службу.

Наш день
День неспешно зачинается.
Я ему пока никто.
Даль чуть брезжит, разгорается,
как в туманностях Ватто.
Он ещё пока на вырост мне,
он просторен и широк.
На невидимом папирусе –
иероглиф недострок.
Будет день с его обновами,
будет пища и питьё,
будет дом, где оба снова мы,
наше нищее житьё.
Полдень обернется вечером,
утишая шум и гам,
и спадёт жарой доверчиво
шёлково к моим ногам.
А в каком отныне ранге он –
этот день зачтётся мне
прилетевшим свыше ангелом
в полуночной тишине.
Концерт во славу любимого окончен. Ну, а жизнь — продолжается. Спасибо всем, кто читал и слушал.
С Днём рождения, родной мой!

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/93740.html
|
|
Рыцарь Серебряного века (эпилог) |
Начало здесь.
«Ещё не раз вы вспомните меня...»
Под конец горбачёвской перестройки чекисты затеяли «амнистию» Гумилёву. Кто-то горько пошутил: Советская власть 70 лет не может простить ему того, что она его расстреляла. Кажется, этой остротой руководствовались и те, кто предлагал Гумилёва «простить». Это чтобы не открылась правда. К. Симонов, кстати, позаимствовавший строку у поэта, всегда резко выступал против его реабилитации, считая врагом Советской власти.
В 1986 году перестройка началась с публикации стихов Гумилёва, а затем статьи тогдашнего очень крупного литературного чина Владимира Карпова о Гумилёве. Вчитаемся в Карпова: «Повторяю: не берусь судить о степени виновности Гумилёва, но и невиновности его суд не установил. В те годы, когда был осуждён Гумилёв, были и открытые суды (например, в 1924 году судебный процесс по делу Савинкова, проходивший в Москве в Колонном зале, широко освещался в печати...). О заговоре Таганцева тоже было подробное сообщение в газете».
Нужны комментарии к этим «открытым судам» и к тому, что «подробно освещался», или обойдёмся да промолчим?
Обратимся к документам.

Вот выписка из протокола: «Гумилёв Николай Степанович, 35 лет, бывший дворянин, филолог, беспартийный, бывший офицер, участник Петроградской боевой контрреволюционной организации, активно содействовал составлению прокламаций контрреволюционного содержания, обещал связать с организацией в момент восстания группу интеллигентов, кадровых офицеров, получил от организации деньги на технические надобности».

Петербург, ул. Шпалерная, д. 25. (фото П. Елизарова)
Здесь в камере 77 отделения 6 дома предварительного заключения (аналог СИЗО) содержался Николай Гумилев после своего ареста в 1921 году. Сейчас здесь— СИЗО-3.
Следствие проводилось с нарушением всех процессуальных норм. Ни один свидетель не был допрошен. Факт участия в заговоре Гумилёва юридически не доказан. Единственный документ, на котором строилось обвинение, было показание профессора Таганцева, руководителя этой организации, никем не проверенное и не доказанное. Но даже если считать их достоверными, то в чём, в сущности, обвинялся Гумилёв?
«Содействовал составлению прокламаций». Но известно, что сам Гумилёв прокламаций не писал. «Обещал связать с организацией». Но ведь не связал. «Получил от организации деньги на технические надобности», - но эти деньги нашли при обыске, значит, Гумилёв никак их не использовал. Деньги — единственная улика, но эти 200 тысяч составляли по тем временам смехотворную сумму, на них можно было купить лишь несколько буханок хлеба.
Тем не менее приговор суда гласил: «Применить по отношению к гр. Гумилёву Николаю Станиславовичу (даже отчество переврали) как явному врагу народа рабоче-крестьянскую революционную высшую меру наказания — расстрел».

Это вырезка из газеты от 1 сентября 1921 года, в которой сообщалось о казни Гумилёва в числе других "участников Петроградской боевой организации"(всего 61 человек, в том числе и две женщины, были расстреляны). Висит в музее Ахматовой в Петербурге.
Считать врагом народа человека, столько сделавшего для страны, отечественной культуры, географии, дипломатии, этнографии, за свои литературные и научные труды в 33 года получившего звание профессора, - считать врагом гуманиста, учителя, поэта, наконец, просто наивного человека, который, заполняя в суде анкету в графе «политические убеждения», написал: «аполитичен»!
Сколько мемуаристов, юристов, исследователей копья ломало: участвовал — не участвовал, виновен — не виновен, был вовлечён по неопытности, но заслуживает снисхождения... Пора наконец поставить точки над «i»: Гумилёв не участвовал в этом «заговоре», потому что заговора как такового в помине не было. Дело Таганцева, по которому проходил 61 человек, было сфабриковано, как сотни тысяч дел тогда в России.

последняя фотография Николая Гумилёва
Отважный солдатик, всегда живший в поэте и толкавший в огонь («он всё просил: «огня! огня!»), был бумажный. Шпага — бутафорской. Но смерть оказалась настоящая.

Крест-кенотаф на предполагаемом месте расстрела Н. Гумилева. Посёлок Бернгардовка, рядом с Петербургом.
Ковалевский лес, в районе арсенала Ржевского полигона, у изгиба реки Лубьи.
На стене камеры Кронштадской крепости, где последнюю ночь перед расстрелом провёл Гумилёв, были обнаружены нацарапанные стихи. Есть основания считать, что это последние стихи поэта. Пётр Старчик написал к ним музыку. В Интернете этой песни вы не найдёте. В 1988 году Максим Кривошеев приезжал по нашему приглашению в Саратов и тогда мы её записали. Послушайте эту песню. Поёт Максим Кривошеев.

В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Проплывает Петроград...
И горит на рдяном диске
Ангел твой на обелиске,
Словно солнца младший брат.
Я не трушу, я спокоен,
Я - поэт, моряк и воин,
Не поддамся палачу.
Пусть клеймит клеймом позорным -
Знаю, сгустком крови черным
За свободу я плачу.
Но за стих и за отвагу,
За сонеты и за шпагу -
Знаю - город гордый мой
В час вечерний, в час заката
Каравеллою крылатой
Отвезет меня домой.
Невольник чести
Из воспоминаний Надежды Мандельштам:

«Недавно до меня дошёл сентиментальный рассказ Чуковского о роли Горького в попытках спасти Гумилёва. По его словам, Горький моментально рванулся в Москву к Ленину, а по возвращению в Ленинград с приказом освободить Гумилёва узнал, что Гумилёв уже расстрелян. От горя у Горького сделалось кровохарканье. На случай, если Чуковский или его слушатели написали эту брехню, цель которой — обелить Горького, сообщаю со слов Ахматовой, Оцупа и многих других, которые были тогда в Петербурге, что Горький, оповещённый об аресте Гумилёва Оцупом, обещал что-то сделать, но ничего не сделал. В Москву он не ездил. Никакого приказа об освобождении от Ленина не было».

Существует и такая версия — её высказывает внебрачный сын Гумилёва Орест Высотский в своей статье, и этой же версии, кстати, придерживается и Солженицын, - Ленин на словах поддержал заступничество Горького, а на деле дал диаметрально противоположное указание.

Петербург, ул. Гороховая, д.2.
До 1931 года здесь было логово чекистов. Возможно, сюда был доставлен Николай Гумилев перед расстрелом (так утверждали сотрудники ДПЗ на Шпалерной). Сейчас здесь музей истории политической полиции России.
Гумилёва пытались спасти. Молодые поэты, которых он обучал мастерству, хлопотали, писали прошения о помиловании. Начальник петроградской ЧК даже не понял, о ком речь: «Что за Гумилевский, зачем он вам сдался? К чему нам поэты, когда у нас свои поэты есть?»
Тогда один из ходатаев поехал в Москву, чтобы задать Дзержинскому вопрос: «Можно ли расстрелять одного из величайших поэтов России?» Железный Феликс ответил: «Можем ли мы, расстреливая других, сделать исключение для поэтов?»

Вскоре после казни Гумилёва одна из его восточных пьес была поставлена в коммунистическом театре. Прошла с успехом. Зрители кричали: «Автора!» В первом ряду сидел комиссар ЧК и двое следователей. Они тоже усердно аплодировали и тоже вызывали автора. Убитого ими! Вызывали с того света.
Пьесу сняли с репертуара.

Еще не раз вы вспомните меня
И весь мой мир волнующий и странный,
Нелепый мир из песен и огня,
Но меж других единый необманный.
Он мог стать вашим тоже и не стал,
Его вам было мало или много,
Должно быть, плохо я стихи писал
И вас неправедно просил у Бога.
Но каждый раз вы склонитесь без сил
И скажете: "Я вспоминать не смею.
Ведь мир иной меня обворожил
Простой и грубой прелестью своею".

Послушайте песню А. Дулова на эти стихи Гумилёва.
В Казанском соборе была заказана панихида по Николаю Гумилёву. Фамилия его, конечно, не называлась, но все понимали слова священника: «Помяни душу убиенного раба твоего, Николая», по ком идет служба. Заплаканная Анечка Энгельгардт всхлипывала, причитала: «Коля, ах, Коля!» Ахматова стояла у стены одна, молча, с каменным лицом. Но всем казалось, что истинная вдова — именно она, Ахматова.

Ещё за месяц до этой даты, когда ничто не предвещало трагедии, она, словно предчувствуя его гибель, напишет:
Не бывать тебе в живых,
Со снегу не встать.
Двадцать восемь штыковых,
Огнестрельных пять.
Горькую обновушку
Другу шила я.
Любит, любит кровушку
Русская земля.
Эти стихи войдут в сборник Ахматовой "Anno Domini MCMXXI", что означает "В год нашей эры 1921". Все стихи там будут адресованы Николаю Гумилёву.
Пока не свалюсь под забором
И ветер меня не добьет,
Мечта о спасении скором
Меня, как проклятие, жжет.
Упрямая, жду, что случится,
Как в песне, случится со мной, —
Уверенно в дверь постучится
И, прежний, веселый, дневной,
Войдет он и скажет: «Довольно,
Ты видишь, я тоже простил». —
Не будет ни страшно, ни больно...
Ни роз, ни архангельских сил.
Затем и в беспамятстве смуты
Я сердце моё берегу,
Что смерти без этой минуты
Представить себе не могу.


Ахматова на Гумилёвской скамье. 1926 год. Царское село. Фото Н. Пунина
Мать Гумилёва, узнав о расстреле, не хотела верить. «Коленька уехал в Африку», - всем говорила она. С этой мыслью она жила, с этой мыслью и умерла.

В. Ходасевич писал, что в эмиграции ему часто приходилось слышать о Гумилёве слова «рыцарь-поэт». Ходасевич находил это выражение безвкусным и в данном случае неподходящим. Ибо, пишет он, «рыцари умирают в борьбе, в ярости боя. В смерти же Гумилёва — другой, совершенно иного порядка трагизм, менее «казистый», но гораздо более страшный. Гумилёв умер подобно тем, что зовутся «маленькими героями». Есть рассказы о маленьких барабанщиках, которые попадают в плен, - их убивают за то, что они не хотят выдать своих. Есть рассказ о Маттео Фальконе. Вот где надо искать аналогий со смертью Гумилёва.
Конечно, он не любил большевиков. Но даже они не могли поставить ему в вину ничего, кроме «стилистической отделки» каких-то прокламаций, не им даже написанных. Его убили ради наслаждения убийством вообще, ещё — ради удовольствия убить поэта, ещё - «для острастки», в порядке чистого террора, так сказать. И соответственно этому Гумилёв пал не жертвою политической борьбы, но в порядке чистого, отвлечённого героизма...»
Всё так. И всё не так! Нет у нас никаких прав и оснований смотреть со взрослой снисходительностью знающих истину потомков на поступки наивных поэтов-романтиков. В духовном развитии нашего общества мы бесконечно многое потеряли в сравнении с пушкинским и гумилёвским романтизмом.
Гумилёв погиб потому, что был, как и его великий предшественник, невольником чести. Мандельштам говорил: «Гумилёв — это наша совесть». Владимир Корнилов нарисовал такой его поэтический портрет:
Царскосельскому Киплингу
Подфартило сберечь
Офицерскую выправку
И надменную речь.
...Ни болезни, ни старости,
Ни измены себе
Не изведал... и в августе,
В двадцать первом, к стене
Встал, холодной испарины
Не стирая с чела,
От позора избавленный
Петроградской ЧК.

"Маленький герой"? Г. Иванов приводит воспоминания чекиста, свидетеля гибели Гумилёва: «Встретившись с Лозинским, он сказал небрежно, точно о каком-нибудь пустяке: «Да... Этот ваш Гумилёв — нам, большевикам, это смешно. Но, знаете, шикарно умер. Я слышал из первых рук. Улыбался, докурил папиросу... Фанфаронство, конечно. Но даже на ребят из Особого отдела произвёл впечатление. Пустое молодечество, но всё-таки крепкий тип. Мало кто так умирает. Что ж, свалял дурака. Не лез бы в контру, шёл бы к нам, сделал бы большую карьеру. Нам такие люди нужны...»
В застенках ЧК он держался мужественно, не назвал ни одной фамилии, и на вопрос конвоира, есть ли в камере поэт Гумилёв, ответил:
— Здесь нет поэта Гумилёва, здесь есть офицер Гумилёв.

Как в этом мире дышится легко!
Скажите мне, кто жизнью недоволен,
Скажите, кто вздыхает глубоко, -
Я каждого счастливым сделать волен.
Пусть он придет, я расскажу ему
Про девушку с зелеными глазами,
Про голубую утреннюю тьму,
Пронзённую лучами и стихами.
Пусть он придёт! я должен рассказать,
Я должен рассказать опять и снова,
Как сладко жить, как сладко побеждать
Моря и девушек, врагов и слово.
А если всё-таки он не поймёт,
Мою прекрасную не примет веру
И будет жаловаться в свой черёд
На мировую скорбь, на боль — к барьеру!
(«Рыцарь счастья»)

«Слава тебе, герой!»
Образ Гумилёва тех лет запечатлён в воспоминаниях Ирины Одоевцевой, его «лучшей ученицы», как он сам ее называл. «На берегах Невы» — книга, в которой талантливо и образно описана атмосфера тогдашнего Петербурга.

Одоевцева воссоздает личные беседы с Гумилёвым, встречи поэтов на литературных вечерах и дома, за чашкой «морковного» чая (другого тогда не было).
Однажды Гумилёв то ли в шутку, то ли всерьёз предложил ей написать балладу о его жизни. Одоевцева засмеялась: «Баллады пишут о героях. А Вы лишь поэт...»
Позже, уже в Париже, в 1924 году Ирина Одоевцева напишет «Балладу о Гумилёве».
На пустынной Преображенской
Снег кружился и ветер выл...
К Гумилёву я постучала,
Гумилёв мне дверь отворил.

Преображенская 5. Дом, где жил Гумилёв в 1929-21 годах. Здесь произошёл их разговор с Одоевцевой.
В кабинете топилась печка,
За окном становилось темней.
Он сказал: "Напишите балладу
Обо мне и жизни моей.
Это, право, прекрасная тема!", -
Но я ему ответила: "Нет.
Как о Вас напишешь балладу?
Ведь вы не герой, а поэт".
Разноглазое отсветом печки
Осветилось лицо его.
Это было в вечер туманный,
В Петербурге на Рождество...
Я о нем вспоминаю все чаще,
Все печальнее с каждым днем.
И теперь я пишу балладу
Для него и о нём...

Заканчивалась баллада так:
Раз, незадолго до смерти,
Сказал он уверенно: "Да.
В любви, на войне и в картах
Я буду счастлив всегда!..
Ни на море, ни на суше
Для меня опасности нет..."
И был он очень несчастен,
Как несчастен каждый поэт.
Потом поставили к стенке
И расстреляли его.
И нет на его могиле
Ни креста, ни холма - ничего.
Но любимые им серафимы
За его прилетели душой.
И звезды в небе пели: -
"Слава тебе, герой!"

розы на вероятном месте расстрела Николая Гумилёва в Ковалевском лесу, у спуска к реке Лубья. Место найдено по схеме, составленной исследователем П. Лукницким.
Бывая в Париже у саркофага Наполеона, Гумилёв думал о том, будут ли люди так же приходить к его могиле. К сожалению, в России до сих пор не только не осудили его убийц, но и пока не установили места захоронения Гумилёва и не удосужились перезахоронить по-человечески.

В 89-ую годовщину расстрела Николая Гумилёва. 2010 год.
Гумилёв знал своего читателя. В своём поэтическом завещании «Мои читатели», написанном за месяц до смерти, он писал о нём так:
Я не оскорбляю их неврастенией,
Не унижаю душевною теплотой,
Не надоедаю многозначительными намёками
На содержимое выеденного яйца.
Но когда вокруг свищут пули,
Когда волны ломают борта,
Я учу их, как не бояться,
Не бояться и делать, что надо...

И разве виноват он, что пуль было слишком много? Что читателей его «на весёлой и злой планете» выкосил голод, вырубили две войны, стёрли в порошок перевороты, бунты, лагеря — и прервалась живая связь поэта с ними...
«Самый непрочитанный поэт» - сказала о нём Ахматова. И нам ещё долго-долго читать и узнавать его.


экспозиция, посвящённая 125-й годовщине со дня рождения Н. Гумилёва, в саду Фонтанного дома
памятник Николаю Гумилёву в Коктебеле
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/92991.html
|
|
Процитировано 5 раз
Понравилось: 5 пользователям
Рыцарь Серебряного века (окончание) |
Начало здесь.

Когда Николай Гумилёв приехал из Лондона в Петербург, имение его в Слепнёво было конфисковано, дом в Царском Селе заселён.

усадьба в Слепнёво Бежецкого района Тверской губернии
Здесь жили Гумилёв и Ахматова с 1911 по 1917 годы.

их дом в Царском Селе. ул. Малая, дом 63
Игорь Северянин, побывав у них в гостях перед войной, писал:
Я Гумилеву отдавал визит,
Когда он жил с Ахматовою в Царском,
В большом прохладном тихом доме барском,
Хранившем свой патриархальный быт.
Не знал поэт, что смерть уже грозит
Не где-нибудь в лесу Мадагаскарском,
Не в удушающем песке Сахарском,
А в Петербурге, где он был убит.
И долго он, душою конкистадор,
Мне говорил, о чем сказать отрада.
Ахматова стояла у стола,
Томима постоянною печалью,
Окутана невидимой вуалью
Ветшающего Царского Села...

Теперь там жили другие люди. Но Гумилёв не растерялся, как не терялся никогда. «Теперь меня должны кормить мои стихи», - заявил он. До сих пор поэту не приходилось зарабатывать, он жил на ренту. Но он добился своего — до самой смерти Гумилёв жил литературным трудом. Изданием новых книг, переводами для издательства «Всемирная литература», где был членом редколлегии. Читал лекции в Пролеткульте, в Балтфлоте, в Институте Истории Искусств, вёл студию «Звучащая раковина», где обучал молодых технике стихосложения. В феврале 1921 года был избран вместо Блока руководителем Петербургского отделения Всероссийского Союза поэтов.
Голод, холод, нищета и насущный вопрос «как выжить?» Гумилев решил его для себя однозначно: работать. Искусству нет дела до того, какой флаг развевается над Петропавловской крепостью. Поэт считал уныние тяжким грехом и не позволял ни себе, ни другим опускаться до отчаяния. Он свято верил, что литература - это целый мир, управляемый законами, равноценными законам жизни, и чувствовал себя не только гражданином этого мира, но и его законодателем.
В. Ходасевич вспоминал, как на святках 1920-го года в Институте истории искусств устроили бал. (Российский институт истории искусств (РИИИ РАН) был основан графом В. П. Зубовым в Санкт-Петербурге в 1912 году и стал первым в России искусствоведческим научным учреждением).

В огромных промёрзших залах Зубовского особняка на Исаакиевской площади — скудное освещение и морозный пар. В каминах чадят и тлеют сырые дрова. Весь литературный и художнический Петербург — налицо. Гремит музыка. Люди движутся в полумраке, теснясь к каминам. Боже, как одета эта толпа! Валенки, свитеры, потёртые шубы, с которыми невозможно расстаться в танцевальном зале.

Белый зал в Институте искусств
И вот с подобающим опозданием появляется Гумилёв под руку с дамой, дрожащей от холода, в чёрном платье с глубоким вырезом.

Прямой и надменный, во фраке, Гумилёв проходит по залам. Он дрогнет от холода, но величественно и любезно раскланивается направо и налево. Беседует со знакомыми в светском тоне. Он играет в бал. Весь вид его говорит: «Ничего не произошло. Революция? Не слыхал». Стойкий оловянный солдатик...

Гумилёв был наивен в делах политики. Сохранилось письмо Брюсова, в котором тот благодарит поэта за свои стихи, напечатанные им в газете «Раннее утро». Гумилёв смущённо признаётся, что он так и не понял, какого направления эта газета. В анкете на вопрос о своих политических убеждениях он пишет: «Аполитичен». Да, он не любил большевиков за то, что «они неблагородны». Но врагом советской власти никогда не был. Иначе бы сражался в армии Деникина, а не сотрудничал бы с советскими учреждениями. Или вообще остался бы за границей. Во всём его творчестве не найти ни одной контрреволюционной строки. И тем не менее...
Ирина Одоевцева свидетельствует в своих мемуарах, что Гумилёв показывал ей револьвер и пачки денег. Но как же это по-мальчишески для опытного конспиратора! Он честно намекал ей на свою контрреволюционную деятельность, а ей всегда казалось, что он только играет в заговорщика.
Он был бы рад в огонь и дым,
за вас погибнуть дважды,
но потешались вы над ним:
ведь был солдат бумажный.

Из воспоминаний И. Одоевцевой:
«Однажды в 1919 году Гумилёв появился в Доме литераторов в нелепом виде — в какой-то старой вязаной шапке, стоптанных валенках, с огромным мешком за плечами.
- Коля, ты что, на маскарад собрался? Не время, кажется, - спросили его коллеги.
Гумилёв торжественно объявил, что идёт на Васильевский остров агитировать, а оделся так, чтобы внушить пролетариям доверие.
- Побойся Бога! - говорили ему, смеясь. - Какое уж тут пролетарское доверие! Ты похож на воронье пугало.
Гумилёв холодно и веско произносит:
- И так провожают женщины героя, идущего на смерть!
Все продолжают смеяться. Кузмин говорит ему:
- Ох, доиграетесь, Коленька, до беды!
Но Гумилёв самонадеянно отвечал:
- Это совсем не опасно, я слишком известен, они не посмеют меня тронуть.
Посмели. Николай Гумилёв стал первым, с кого начался счёт поэтов, убитых советской властью. За ним следуют тени Осипа Мандельштама, Павла Васильева, Тициана Табидзе, Даниила Андреева, Бориса Корнилова... И кто знает, может быть, страна наша до сих пор расплачивается за этот грех, за уничтожение интеллигенции, духовного генофонда нации, и все наши несчастья, может быть, - это возмездие за убиенных.
Несчастливое счастье Анны Энгельгардт
Когда Гумилёв на свой вопрос Ахматовой, кто же его преемник, получил ответ, что это Шилейко, он был поражён. Но быстро овладел собой, заставил себя улыбнуться и сказал, что очень рад, что Анна первая сообщает ему об этом, ибо он тоже хочет жениться и только не решался сказать ей об этом. Он сделал паузу, соображая, на ком же он хочет жениться, чьё имя назвать, и назвал первое, что пришло в голову: на Анне Энгельгардт. И, гордый тем, что ему так ловко удалось отпарировать удар, отправился делать предложение Анне Второй, как её в шутку потом называли друзья. В её согласии Гумилёв был заранее уверен.
Анна Энгельгардт была дочерью известного историка и литературоведа Н. А. Энгельгардта, по слухам — незаконной дочерью Бальмонта, чем Гумилёв втайне гордился.
Это была юная, хорошенькая, но простоватая девушка. Когда Гумилёв сделал ей предложение, она упала на колени и заплакала: «Нет, я не достойна такого счастья!» Но счастья и не случилось.
5 августа 1919 года состоялся официальный развод Гумилёва с Ахматовой, после чего он уехал с новой юной женой в Бежецк знакомить с родителями, которые жили теперь в уездном городе, неподалёку от их бывшего имения Слепнёво.

дом Гумилёвых в Бежецке.
Рожденственская ул., д. 68/14 (ныне улица Чудова)
14 апреля 1920 года у них родилась дочь Елена. Гумилёв утверждал, что его дочь будет поэтом — ибо с момента рождения она кричала ритмически. (Забегая вперёд, скажу, что его предсказания не оправдались — Елена звёзд с неба не хватала, работала где-то счетоводом.) Стихов не писала, к тому же унаследовала не ослепительную внешность матери, а наружность отца, в том числе косоглазие. Но Гумилёв и этим очень гордился: «Я разноглазый и дети мои разноглазые. Никакого сомнения, кто их отец», - с удовлетворением говорил он.

Н. Гумилёв. Рис. Н. Войтинской
Однако семейная жизнь с заурядной простенькой девушкой ему быстро наскучила: он оставил жену в Бежецке, где она жила в глуши в безрадостном обществе его матери и престарелой тётки и воспитывала детей — Леночку и Лёву Гумилёва, который с рождения рос с бабушкой, и уехал в Питер. Девическая мечта о небесном счастье брака со знаменитым поэтом рассыпалась в прах. Аня Энгельгардт в каждом письме умоляла мужа взять её к себе в Петроград, но тщетно. Он навещал её раз в два-три месяца, но больше трёх дней не выдерживал и вновь уезжал.

«Николай Степанович всегда холост. Я не представляю его себе женатым», - ядовито замечала Ахматова.

Гумилёв с головой уходит в литературную жизнь, от которой отвык за годы войны, путешествий и службы за границей. Он много печатается, работает в издательстве «Всемирная литература», руководит созданным им «Цехом поэтов». Заработка однако не хватало, и он продавал свои вещи и книги, отправляя деньги семье.
Судьба Анны Энгельгардт была печальной. Через два года она лишится мужа, так и не успев насладиться семейным счастьем.

Надо было как-то поднимать детей. Она переехала в Петроград, танцевала в нэповских кафе, имела репутацию доступной женщины, от соседа по коммуналке родила ещё одну дочь. Потом работала актрисой в кукольном театре. А во время блокады Ленинграда в июле1942-го они лишились продуктовых карточек и вся семья Энгельгардтов умерла от голода.
Соседи рассказывали, что Анна умирала последней и стала добычей крыс. От слабости она уже не могла шевелиться, и они ели её несколько дней. Трудно представить себе более страшную смерть.
Дочь Гумилёва Лена умерла в блокаду в 23 года. Фотографии её не сохранилось, возможно, потому, что её прятали как дочь «врага народа». А вторая дочь Анны Энгельгардт уцелела, так как была эвакуирована в глубинку с детдомовскими детьми, позже её удочерили родственники.
Галина Серафимовна Недробова, вторая дочь Анны Энгельгардт
Матери она почти не помнит, а бабушка (мать Гумилёва) её не любила, так как, видимо, не могла простить измены невестки своему погибшему сыну. Галина закончила институт культуры, работала в Челябинске в городской публичной библиотеке, вышла замуж, родила мальчика Юру и дочь Лену.
Елена и Лев Гумилёвы не оставили детей и единственные потомки поэта - две дочери и один сын Ореста Высотского. Сейчас живы старшая дочь Высотского Ия, у неё есть дочь и внучка, а также три дочери Ларисы Высотской, её младшей сестры, трагически погибшей в 1999 году.
памятник в Бежецке Н. Гумилеву, А. Ахматовой
и их сыну, известному ученому, историку-евразийцу Л. Гумилеву.
Шестое чувство
Когда 35-летний бывший прапорщик и Георгиевский кавалер был расстрелян, оказалось, что написал он не так уж и много. И в умах тогдашних и более поздних читателей остался именно певцом конквистадоров, этаким флибустьером со шпагой. Не все обратили внимание на его последние стихи. А они поразительны.
Он открещивается в них от близорукой «жизни современной» («всё, что смешит её, надменную, Моя единая отрада»). Ещё один угол отстранённого зрения – из неувядающего в памяти детства, глазами прирождённого пантеиста:
Только дикий ветер осенний,
Прошумев, прекращал игру,—
Сердце билось еще блаженней,
И я верил, что я умру
Не один — с моими друзьями,
С мать-и-мачехой, с лопухом,
И за дальними небесами
Догадаюсь вдруг обо всём.

Взглянув с этих заповедных высот на «военные забавы», поэт признаётся себе, «что людская кровь не святее изумрудного сока трав». То же особое зрение позволяет ему провидеть свою смерть от руки рабочего «в блузе светло-серой» и заглянуть ещё дальше – в «прапамять», где «наконец, восставши От сна, я буду снова я…».
Мало у кого можно найти такой мощный по концентрации мысли и стихотворной плоти шедевр, принадлежащий не только русской теперь, но и мировой поэзии, как стихотворение Гумилёва «Шестое чувство». В нём поэт сумел передать, с какой мукою выбирается из растительной плотской оболочки земного существования духовное начало, заложенное в человеке, как потенция, как искра, которая, разгораясь, жжёт и мучит тёмную внутренность человеческого естества.
Прекрасно в нас влюбленное вино
И добрый хлеб, что в печь для нас садится,
И женщина, которою дано,
Сперва измучившись, нам насладиться.
Но что нам делать с розовой зарей
Над холодеющими небесами,
Где тишина и неземной покой,
Что делать нам с бессмертными стихами?
Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать.
Мгновение бежит неудержимо,
И мы ломаем руки, но опять
Осуждены идти всё мимо, мимо.
Как мальчик, игры позабыв свои,
Следит порой за девичьим купаньем
И, ничего не зная о любви,
Все ж мучится таинственным желаньем;
Как некогда в разросшихся хвощах
Ревела от сознания бессилья
Тварь скользкая, почуя на плечах
Еще не появившиеся крылья;
Так век за веком - скоро ли, Господь? -
Под скальпелем природы и искусства
Кричит наш дух, изнемогает плоть,
Рождая орган для шестого чувства.

Гумилёв сравнительно поздно раскрывается как большой поэт. Его последний прижизненный сборник «Огненный столп», вышедший в августе 1921 года, был единодушно признан лучшей книгой его стихов. Это настоящее сокровище русской поэзии, каждое произведение здесь — жемчужина.

Он посвящён его второй жене Анне Энгельгардт. Это книга глубоких и в поэтическом отношении совершенных стихов, по преимуществу философской лирики. Что самое поразительное — это полнейшая лирическая открытость Гумилёва. Ничего от прежней маски! Исчезли декорации, позёрство, экзотические красивости, чем грешили его ранние книги. Просветлённое мудростью и страданием поэтическое слово в «Огненном столпе» предстаёт совершенным — без броских одежд и украшений. У Гумилёва появляется свой взгляд на мир, попытки создать свой особый эпос, где представлена своеобразная биография Земли и Вселенной.

Образы Гумилева уводят наши мысли к дальним горизонтам. Это и «билет в Индию Духа», и «сад ослепительных планет», и «скальпель природы и искусства». Тайн поэтического колдовства в «Огненном столпе» не счесть. Все они возникают на пути, трудном в своей главной цели — проникнуть в несовершенство человеческой природы, предсказать возможность ее перерождения.
Поразителен триптих «Душа и тело». Это философский разговор о побуждениях человека, о страстях души и желаньях тела, о том, что все человеческие устремления, телесные и духовные, оказываются отражением высшего, божественного начала.
Посмотрите видеоклип по этим стихам:
ДУША И ТЕЛО
Над городом плывет ночная тишь
И каждый шорох делается глуше,
А ты, душа, ты всё-таки молчишь.
Помилуй, Боже, мраморные души.
И отвечала мне душа моя,
Как будто арфы дальние пропели:
— Зачем открыла я для бытия
Глаза в презренном человечьем теле.
— Безумная, я бросила мой дом,
К иному устремясь великолепью.
И шар земной мне сделался ядром,
К какому каторжник прикован цепью.
— Ах, я возненавидела любовь,
Болезнь, которой все у вас подвластны,
Которая туманит вновь и вновь
Мир мне чужой, но стройный и прекрасный.
— И если что еще меня роднит
С былым, мерцающим в планетном хоре,
То это горе, мой надежный щит,
Холодное презрительное горе.
II
Закат из золотого стал, как медь,
Покрылись облака зеленой ржою.
И телу я сказал тогда: — Ответь
На всё, провозглашенное душою.
И тело мне ответило моё,
Простое тело, но с горячей кровью:
— Не знаю я, что значит бытиё,
Хотя и знаю, что зовут любовью.
— Люблю в солёной плескаться волне,
Прислушиваться к крикам ястребиным,
Люблю на необъезженном коне
Нестись по лугу, пахнущему тмином.
И женщину люблю… когда глаза
Её потупленные я целую,
Я пьяно, будто близится гроза,
Иль будто пью я воду ключевую.
— Но я за всё, что взяло и хочу,
За все печали, радости и бредни,
Как подобает мужу, заплачу
Непоправимой гибелью последней.
III
Когда же слово Бога с высоты
Большой медведицею заблестело,
С вопросом — кто же, вопрошатель, ты? —
Душа предстала предо мной и тело.
На них я взоры медленно вознес
И милостиво дерзостным ответил:
— Скажите мне, ужель разумен пёс,
Который воет, если месяц светел?
— Ужели вам допрашивать меня,
Меня, кому единое мгновенье
Весь срок от первого земного дня
До огненного светопреставленья?
— Меня, кто, словно древо Игдрасиль,
Пророс главою семью семь вселенных,
И для очей которого, как пыль,
Поля земные и поля блаженных?
— Я тот, кто спит, и кроет глубина
Его невыразимое прозванье:
А вы, вы только слабый отсвет сна,
Бегущего на дне его сознанья!
А «Заблудившийся трамвай»! Перед нами — странствия бессмертной души в бесконечном времени и пространстве. Трамвай жизни поэта сошёл с рельсов, «заблудился в бездне времён». Он несётся куда-то — через Неву, Сену и Нил — в некую Индию Духа, о которой грезит поэт как об обетованной земле, прародине, где можно обрести твёрдую почву, что стремительно уходит из-под ног. Сошла с рельсов жизнь, в мире и в душе происходит что-то непонятное и странное...
Читает Евгений Евтушенко:

Шёл я по улице незнакомой
И вдруг услышал вороний грай,
И звоны лютни, и дальние громы,
Передо мною летел трамвай.
Как я вскочил на его подножку,
Было загадкою для меня,
В воздухе огненную дорожку
Он оставлял и при свете дня.
Мчался он бурей тёмной, крылатой,
Он заблудился в бездне времён...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!

Поздно. Уж мы обогнули стену,
Мы проскочили сквозь рощу пальм,
Через Неву, через Нил и Сену
Мы прогремели по трём мостам.
И, промелькнув у оконной рамы,
Бросил нам вслед пытливый взгляд
Нищий старик,- конечно, тот самый,
Что умер в Бейруте год назад.
Где я? Так томно и так тревожно
Сердце моё стучит в ответ:
"Видишь вокзал, на котором можно
В Индию Духа купить билет?"
Вывеска... кровью налитые буквы
Гласят: "Зеленная",- знаю, тут
Вместо капусты и вместо брюквы
Мёртвые головы продают.
В красной рубашке с лицом, как вымя,
Голову срезал палач и мне,
Она лежала вместе с другими
Здесь в ящике скользком, на самом дне.
А в переулке забор дощатый,
Дом в три окна и серый газон...
Остановите, вагоновожатый,
Остановите сейчас вагон!

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковёр ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла?
Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренною косой
Шёл представляться Императрице
И не увиделся вновь с тобой.
Понял теперь я: наша свобода -
Только оттуда бьющий свет,
Люди и тени стоят у входа
В зоологический сад планет.
И сразу ветер знакомый и сладкий
И за мостом летит на меня,
Всадника длань в железной перчатке
И два копыта его коня.
Верной твердынею православья
Врезан Исакий в вышине.
Там отслужу молебен о здравьи
Машеньки и панихиду по мне.
И всё ж навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить...
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить!
Эти стихи — не просто великолепная картина и великое предсказание, они — один из путей русской поэзии, только намечавшийся и оборванный, как струна, в 1921 году. Гумилёв был, по словам Ахматовой, «визионер и пророк. Он предсказал свою смерть в подробностях, вплоть до осенней травы». Но прежде чем мы перейдём к этой, последней странице его жизни, ещё одна история...
«Машенька, здесь ты жила и пела...»
У израильского поэта Моше Дора есть стихотворение «Думая о Гумилёве», где он пишет:
Покуда рука твоя ночью чертила заново
Карту моего метеоритами битого тела, -
Я думал о поэте и о разведчике, о Гумилёве.
Душа моя вспять из-под век глядела:
Вот он в далекую Африку отплывает в начале столетия,
Которое от избытка сил столь праздно-пышно бурлило, -
Чтоб написать о жирафах, о капитанах ли и вернуться
в страну огромную, где мрачно, нечисто, стыло, -
Чтоб жениться вскоре на грядущей Ахматовой,
Став королем сероглазым, и чтобы потом - порывая
С Анной, - до безумья влюбиться в простую Машеньку
И бродить на путях заблудившегося трамвая...
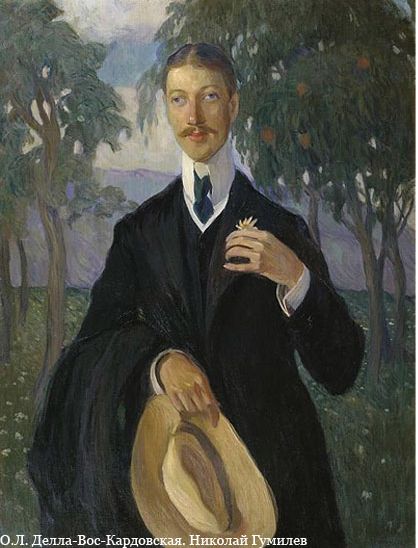
А в изданных на Западе воспоминаниях Глеба Струве есть фраза, которая всегда приводила в ярость Ахматову, о том, что единственной настоящей любовью Николая Гумилёва была Маша Кузьмина-Караваева. (Ахматова, как правило, с легкостью говорившая о любовных «шалостях» Гумилева, эту старательно обходит стороной; то же относится и к воспоминаниям друзей и биографов ее круга (например, Павла Лукницкого, чьи записи она лично редактировала).
Это трогательная романтическая история, которая заслуживает отдельного рассказа.
Родственница Гумилёвых Кузьмина-Караваева часто приезжала в их имение Слепнёво с двумя дочерьми Ольгой и Машей, прелестными молодыми девушками, приходившимися Николаю двоюродными племянницами. В 1911 году, после возвращения из Африки, куда поэт отправился сразу после женитьбы, он посещает имение матери, где обнаруживает двух хорошеньких кузин, одна из которых, Машенька Кузьмина-Караваева, совершенно очаровала своего молодого дядю.

Вот на этой фотографии она стоит рядом с Ахматовой, крайняя справа.
Убедившись в том, что душевного единства, без которого настоящая семья невозможна, с Ахматовой ему достичь не суждено, Гумилев находит родственную душу в Машеньке. В ее лице он обрел свой детский рай и свой юношеский идеал. Новое чувство вспыхивает быстро и сильно, захватывая поэта целиком.

Это о ней думала Анна, когда в те годы писала:
Жгу до зари на окошке свечу
и ни о ком не тоскую.
Но не хочу, не хочу, не хочу
знать, как целуют другую, -
впервые почувствовав настоящую женскую ревность к мужу, свою власть над которым считала безграничной.
Но она была несправедлива к сопернице: Маша осталась чиста перед ней.
Хрупкое голубоглазое создание занозой вошло в сердце поэта. Это её он имел в виду в стихотворении «Дорога», вошедшем позднее в его сборник «Фарфоровый павильон», хотя речь в нём (для конспирации?) шла не о русской, а о китайской девушке.
Когда она родилась, сердце
в железо заковали ей,
и та, которую люблю я,
не будет никогда моей.
Гумилёв почувствовал, что в этой девушке он мог бы найти чуткую и столь нужную ему, ещё не тронутую жизнью душу. В этом убеждаешься, когда читаешь его стихи, написанные в альбом Маше. В них, нередко даже сквозь шутливые строки, проступает удивительно чистое, почти благоговейное чувство.

Вот я один в вечерний тихий час,
Я буду думать лишь о Вас, о Вас.
Возьмусь за книгу, но прочту: «она»,
И вновь душа пьяна и смятена.
Я брошусь на скрипучую кровать,
Подушка жжет... Нет, мне не спать, а ждать.
И, крадучись, я подойду к окну,
На дымный луг взгляну и на луну.
Вон там, у клумб, вы мне сказали «да»,
О, это «да» со мною навсегда.
И вдруг сознанье бросит мне в ответ,
Что вас покорней не было и нет.
Что ваше «да», ваш трепет, у сосны
Ваш поцелуй — лишь бред весны и сны.
(«Сомнение»)
В стихотворениии «Затворнице», позднее опубликованном под нейтральным названием «Девушке», поэт тщетно обращался всё к той же Маше, с упрёком называя её «героиней романов Тургенева»:

Мне не нравится томность
Ваших скрещённых рук,
И спокойная скромность,
И стыдливый испуг.
Героиня романов Тургенева,
Вы надменны, нежны и чисты,
В вас так много безбурно-осеннего
От аллеи, где кружат листы.
Никогда ничему не поверите,
Прежде чем не сочтёте, не смерите,
Никогда, никуда не пойдёте,
Коль на карте путей не найдёте.
И вам чужд тот безумный охотник,
Что, взойдя на нагую скалу,
В пьяном счастье, в тоске безотчётной
Прямо в солнце пускает стрелу.
Он и любил, и вместе с тем негодовал, чувствуя её сдержанность и, как ему казалось, чрезмерно рассудочный подход к жизни. Гумилёв пытался убедить её в ошибочности её взглядов, в том, что в ней слишком «много безбурно-осеннего, от аллеи, где кружат листы». И неожиданно с сожалением предрекал:
Ведь для Вашей торжественной осени
есть один только выход — зима.
Однажды поэт осмелился взволнованно и страстно заговорить с Машей о своей любви к ней.

Она ответила ему, что не вправе кого-либо любить и связать, так как давно больна и чувствует, что ей недолго осталось жить. Это тяжело подействовало на поэта.

У Маши был туберкулёз лёгких. Вскоре здоровье её ухудшилось и её отправили на лечение сначала в Финляндию, а затем в Италию. Однако там ей становилось всё хуже.
Шли месяцы. Наступило Рождество. Гумилёв, полный надежд на лучшее, записывает в Машин альбом, оставшийся в России:
Хиромант, большой бездельник,
Поздно вечером, в Сочельник
Мне предсказывал: «Заметь:
Будут долгие недели
Виться белые метели,
Льды прозрачные синеть.
Но ты снегу улыбнёшься,
Ты на льду не поскользнёшься,
Принесут тебе письмо
С надушённою подкладкой,
И на нем сияет сладкий,
Милый штемпель — Сан-Ремо!»
Но предсказания хироманта оказались ложными. Вместо ожидаемого надушенного письма из Сан-Ремо поступило сообщение о том, что Маша близка к смерти.
Мария Кузьмина-Караваева скончалась в самом начале 1912 года 22-х лет от роду. Её тело было перевезено на родину и похоронено на монастырском кладбище Бежецка.
Гумилёв нашёл в себе силы присутствовать на печальном обряде похорон, ни тогда, ни позднее не обмолвившись о своём состоянии ни словом. Лишь много времени спустя имя Маши, как символ самого дорогого в жизни, оказался воскрешённым в одном из его лучших стихотворений — в «Заблудившимся трамвае». Зашифрованное, исповедальное и пророческое одновременно, постмодернистски наполненное реминисценциями, оно вызвало множество толкований, однако обращенность его именно к М. Караваевой очевидна:

Машенька, ты здесь жила и пела,
Мне, жениху, ковер ткала,
Где же теперь твой голос и тело,
Может ли быть, что ты умерла?
Как ты стонала в своей светлице,
Я же с напудренною косой
Шел представляться к императрице
И не увиделся вновь с тобой.
Верной твердынею православья
Врезан Исакий в вышине,
Там отслужу молебен о здравье
Машеньки и панихиду по мне.
И все же навеки сердце угрюмо,
И трудно дышать, и больно жить…
Машенька, я никогда не думал,
Что можно так любить и грустить.

Если верить воспоминаниям невестки Гумилёва, именно эти слова он произнёс при последнем расставании с ней. Но даже если не говорил — сказал всё равно.

Потом он посвятит Марии Караваевой стихотворение «Родос», где назовёт своей «небесной невестой».
На полях опаленных Родоса
Камни стен и в цвету тополя
Видит зоркое сердце матроса
В тихий вечер с кормы корабля.
Там был рыцарский орден: соборы,
Цитадель, бастионы, мосты,
И на людях простые уборы,
Но на них золотые кресты.
Не стремиться ни к славе, ни к счастью,
Все равны перед взором Отца,
И не дать покорить самовластью
Посвященные небу сердца!
Но в долинах старинных поместий,
Посреди кипарисов и роз,
Говорить о Небесной Невесте,
Охраняющей нежный Родос!..

Великий поэт Анна Ахматова в вышеописанной ситуации повела себя, как обычная женщина: чувствуя, что теряет мужа и ощутив значимость этой потери, она пытается привязать его к себе ребенком, она рожает ему сына. А что еще может сделать женщина, когда убеждается в бессилии своих женских чар?

Ахматова забеременела 18 декабря 1911 года — за неделю до отъезда Машеньки, к которой в эти дни неудержимо рвется душа Гумилева. Излишне говорить, что все его мысли тогда были заняты Машей — её писем он ждет, ей посвящает стихи, за нее молится.
Рождение сына не принесло ожидаемого мира, а лишь открыло новый этап войны, в которой роли сторон не то чтобы поменялись, но все же несколько изменились, и место Машеньки Кузьминой-Караваевой в качестве Небесной Невесты Гумилева навсегда осталось за ней.

Последняя любовь Гумилёва

Петербург, Невский проспект, д. 15/наб. р. Мойки, д. 59.
Это «Дом искусств» ("Диск"). У Николая Гумилева здесь была комната, он жил в ней в 1920-1921 годах. 3 августа 1921 года чекистами тут была устроена засада на Гумилева, в этот день он был арестован.
Из воспоминаний Нины Берберовой:

«И он пошел провожать меня через весь город... Я никогда, кажется, не была в таком трудном положении: до сих пор всегда между мной и другим человеком было понимание, что нужно и что не нужно, что можно и что нельзя. Здесь была глухая стена: самоуверенности, менторства, ложного величия и абсолютного отсутствия чуткости... Зачем я здесь с ним? - в эту минуту подумала я.
- Пойду теперь писать стихи про Вас, - сказал он мне на прощанье.
Я вошла в ворота дома, зная, что он стоит и смотрит мне вслед... Ночью в постели я приняла решение больше с ним не встречаться. И я больше никогда не встретилась с ним, потому что на рассвете 3-го, в среду, его арестовали».
Когда Ирине Одоевцевой в 1989 году прочли вслух эти, уже опубликованные у нас мемуары, в частности, эту сцену, она возмутилась. Привожу дословно фрагмент из книги о ней Анны Колоницкой «Всё чисто для чистого взора...» (М., «Воскресенье», 2001):
"Что же эта Бербериха всё врёт?! Зачем она врёт?! Ведь у неё был роман с Гумилёвым, он мне сам сказал об этом (что, наконец, «счастливый роман со взаимностью»). Они гуляли по Петербургу ночами, и он даже попросил Жоржа (Г. Иванова) пойти на его холостяцкую квартиру на Преображенской 5 и немного там прибрать (сам он в то время жил в «Доме искусств» со своей женой Аней Энгельгарт). В пятницу у него на Преображенской намечалось свидание с Берберовой, и он собирался «причаститься любви», так он говорил".

Петербург, ул. Радищева, д. 5.
Здесь в доходном доме снимал квартиру Николай Гумилев в 1920-1921 годах (тогда улица называлась Преображенской).
"Но в среду его забрали... Зачем же она пишет неправду?!"
Колоницкая возразила ей:
- Ну, Ирина Владимировна, женщина имеет право умолчать о чём-то личном.
Она парировала с несвойственной ей резкостью:
- Умолчать — да! Имела право! Но зачем она пишет, что отвергла его. Его, расстрелянного... Ведь она была его последней любовью и, может быть, умирать он пошёл с её именем на устах... как же она могла?..

Из воспоминаний Нины Берберовой:

«Когда все ушли, он задержал меня, усадил опять и показал черную тетрадку. "Сегодня ночью, я знаю, я напишу опять, - сказал он, - потому что мне со вчерашнего дня невыносимо грустно, так грустно, как давно не было". И он прочел стихи, написанные мне на первой странице этой тетради:
Я сам над собой насмеялся,
И сам я себя обманул,
Когда мог подумать, что в мире
Есть кто-нибудь, кроме тебя.
Лишь белая, в белой одежде,
Как в пеплуме древних богинь,
Ты держишь хрустальную сферу
В прозрачных и тонких перстах.
А все океаны, все горы,
Архангелы, люди, цветы,
Они в глубине отразились
Прозрачных девических глаз.
Как странно подумать, что в мире
Есть что-нибудь, кроме тебя,
Что сам я не только ночная
Бессонная песнь о тебе.
Но свет у тебя за плечами,
Такой ослепительный свет.
Там длинные пламени реки,
Как два золотые крыла.

Я чувствовала себя неуютно в этом предбаннике, рядом с этим человеком, которому я не смела сказать ни ласкового, ни просто дружеского слова. Я поблагодарила его. Он сказал: «и только?» Он, видимо, совершенно не догадывался о том, что мне было и неловко, и неуютно с ним». («Курсив мой»)
В воспоминаниях П. Лукницкого утверждается, что эти стихи адресованы Ахматовой. Но мы знаем, что та редактировала их... Думаю, что даже если в чём-то «Бербериха» и «врёт», то здесь она пишет правду.

Так или иначе, это были последние стихи Гумилёва о любви...
Эпилог здесь.
|
|
Процитировано 9 раз
Понравилось: 3 пользователям
Рыцарь Серебряного века (продолжение) |
Начало здесь.

Началась Первая мировая война.
Гумилёв был освобождён от военной службы из-за астигматизма глаз (разноглазия).
свидетельство об освобождении от службы
Но с первых же дней начинает хлопотать о разрешении воевать и, хотя это было нелегко, добивается своего: уже в конце августа 1914 года уходит добровольцем на фронт.
Он попадает во взвод конной разведки, где с постоянным риском для жизни совершались рейды в тыл врага. Сохранились документальные очерки Гумилева того времени "Записки кавалериста", которые печатались в 1915-1916 годах в газете "Биржевые ведомости". Остались и поэтические свидетельства этого периода.
И год второй к концу склоняется,
Но так же реют знамена,
И так же буйно воздевается
Над нашей мудростью война.
Вслед за ее крылатым гением,
Всегда играющим вничью,
С победной музыкой и пением
Войдут войска в столицу. Чью?
И сосчитают ли потопленных
Во время трудных переправ,
Забытых на полях потоптанных
И громких в летописи слав?
Иль зори будущие, ясные
Увидят мир таким, как встарь:
Огромные гвоздики красные
И на гвоздиках спит дикарь;
Чудовищ слышны ревы лирные,
Вдруг хлещут бешено дожди,
И все затягивают жирные
Светло-зеленые хвощи.
Не все ль равно, пусть время катится,
Мы поняли тебя, земля:
Ты только хмурая привратница
У входа в Божии Поля.

В истории русской литературы начала 20 века трудно найти второй такой пример: Гумилёв ушёл на германский фронт рядовым кавалеристом и дослужился до унтер-офицера, воевал в Пруссии, Галиции, дважды был награжден Георгиевским крестом за личную храбрость: один — за опасную разведку в тылу врага, второй — за выведение из-под огня брошенного пулемета.

Дело величавое войны
Война была его стихия, как полная риска и приключений Африка, где он имел возможность показать себя, отличиться. Люди, знавшие Гумилёва, говорили, что у него было «полное отсутствие страха». Рассказывали случай, когда эскадрон обстреляли немецкие пулемётчики. Все спрыгнули в окоп, а Гумилёв нарочно остался на открытом месте и картинно закурил папиросу, бравируя своим спокойствием.

Его называли гусаром смерти. Жизнь без подвигов и опасностей представлялась ему пресной. Война была для него игрой — вроде детской игры в солдатики, игрой, где ставкой была его жизнь.

И залитые кровью недели
Ослепительны и легки,
Надо мною рвутся шрапнели,
Птиц быстрей взлетают клинки.
Я кричу, и мой голос дикий,
Это медь ударяет в медь,
Я, носитель мысли великой,
Не могу, не могу умереть.

Это была страстная вера в своё избранничество, в то, что ему не суждено умереть, не свершив своего предназначения в жизни. В его отчаянной отваге чудилось что-то лихорадочное, нарочитое, театральное. Вспомнились строчки Вадима Шефнера: «Умей, умей себе приказывать, // Муштруй, себя, а не вынянчивай...» Гумилёв умел это, как никто.

Однажды он провёл ночь в седле на сильном морозе и заболел воспалением лёгких и почек. С высокой температурой, в бреду был оправлен на лечение в Петроград. Медкомиссия признала его негодным к службе, но он вновь, несмотря на плохое состояние, вернулся на фронт. «Гвозди бы делать из этих людей...»
Любопытно, что у Ахматовой отношение к этой войне было иным. Это было ощущение горя.
Было горе, будет горе,
горе без конца.
Да хранит Святой Егорий
твоего отца, -
пишет она в колыбельной.

Для Гумилёва же война — праздник. Своеобразная экзотика.
И воистину светло и свято
Дело величавое войны.
Серафимы, ясны и крылаты,
За плечами воинов видны...
Как могли мы прежде жить в покое
И не ждать ни радостей, ни бед,
Не мечтать об огнезарном бое,
О рокочущей трубе побед?

Его обвинят потом в имперских настроениях, в угаре шовинистических заблуждений... А он просто был поэт-романтик с ярко выраженным мужественным, рыцарским началом в поэзии и в жизни.
А. Куприн писал: «Мало того, что он добровольно пошёл на современную войну — он — один он! — умел ее поэтизировать. Да, надо признать, ему не чужды были старые, смешные ныне предрассудки: любовь к родине, сознание живого долга перед ней и чувства личной чести. И еще старомоднее было то, что он по этим трем пунктам всегда готов был заплатить собственной жизнью».
Победа, слава, подвиг — бледные
Слова, затерянные ныне,
Гремят в душе, как громы медные,
Как голос Господа в пустыне.
Эти стихи были так же вдохновенны, как африканские. По глубине они даже глубже, значительней. Они поднимали на бой, воодушевляли. В. Эйхенбаум отмечал духовную силу стихов Гумилёва о войне, стремление показать войну как мистерию духа.
Та страна, что могла быть раем,
Стала логовищем огня.
Мы четвертый день наступаем,
Мы не ели четыре дня.
Но не надо яства земного
В этот страшный и светлый час,
Оттого, что Господне слово
Лучше хлеба питает нас.
Словно молоты громовые
Или волны гневных морей,
Золотое сердце России
Мерно бьется в груди моей.
И так сладко рядить Победу,
Словно девушку, в жемчуга,
Проходя по дымному следу
Отступающего врага.

Е. Винокуров, эрудит и поэт военной судьбы, однажды заметил, что самая знаменитая строка Великой Отечественной войны, симоновское «жди меня и я вернусь» - рефрен, который полстраны молитвенно шептало в окопах — эта строка, оказывается, перефразировала гумилёвское: «Жди меня. Я не вернусь». «Пожалуй, у Гумилёва это сказано сильнее», - резюмировал Винокуров. Действительно, сильнее.

Правда, к сожалению, такого стихотворения Гумилёва не существует, я проверяла. Вокруг этой фразы много легенд. Некоторые принимают её за перифраз Симонова, приписанный Гумилёву уже задним числом. Но скорее всего, думаю, это было высказывание Гумилева, ставшее цитатой, афоризмом. Впоследствии (после этой гумилёвской фразы) появились стихи Симонова "Жди меня и я вернусь". Так или иначе, Гумилёв был их предтечей.

Романтические мальчики, а тем паче поэты и воины, как правило, знают свою судьбу. В одном из предсмертных своих стихотворений Гумилёв говорит:
Но я за всё, что взяло и хочу,
За все печали, радости и бредни,
Как подобает мужу, заплачу
Непоправимой гибелью последней.
Предчувствие близкой и страшной смерти не оставляло его:
И умру я не на постели,
При нотариусе и враче,
А в какой-нибудь дикой щели,
Утонувшей в густом плюще.
Среди кельтских легенд, любимых Гумилёвым, одна была ему особенно дорога: легенда о волшебной лютне, вдохновившая его на стихотворение «Волшебная скрипка» и пьесу «Гондла». В ней говорится о магической и убийственной силе искусства, об идее самоотверженного служения своему дару и опасностях, которые подстерегают творца на этом тернистом пути.
Милый мальчик, ты так весел, так светла твоя улыбка,
Не проси об этом счастье, отравляющем миры,
Ты не знаешь, ты не знаешь, что такое эта скрипка,
Что такое темный ужас начинателя игры!
Тот, кто взял ее однажды в повелительные руки,
У того исчез навеки безмятежный свет очей,
Духи ада любят слушать эти царственные звуки,
Бродят бешеные волки по дороге скрипачей.
Надо вечно петь и плакать этим струнам, звонким струнам,
Вечно должен биться, виться обезумевший смычок,
И под солнцем, и под вьюгой, под белеющим буруном,
И когда пылает запад и когда горит восток.

И если поэт ступил на эту стезю — пусть приготовится к самому худшему.
Ты устанешь и замедлишь, и на миг прервется пенье,
И уж ты не сможешь крикнуть, шевельнуться и вздохнуть, —
Тотчас бешеные волки в кровожадном исступленьи
В горло вцепятся зубами, встанут лапами на грудь.
Ты поймешь тогда, как злобно насмеялось все, что пело,
В очи глянет запоздалый, но властительный испуг.
И тоскливый смертный холод обовьет, как тканью, тело,
И невеста зарыдает, и задумается друг.
Мальчик, дальше! Здесь не встретишь ни веселья, ни сокровищ!
Но я вижу — ты смеешься, эти взоры — два луча.
На, владей волшебной скрипкой, посмотри в глаза чудовищ
И погибни славной смертью, страшной смертью скрипача!
Он словно предсказал свою участь. Так же, как скрипач из легенды, выронивший лютню, был разорван бешеными волками — так и певец Гумилёв будет уничтожен бешеными волками революции, не допев своей песни.

В 2001 году в Калининграде на стене Дома искусств был установлен памятный знак Николаю Гумилёву. Это бронзовый барельеф (скульптор Н. Фролов), основанием которого служат гранитные плиты красного цвета в виде символических языков пламени. Поэт, одетый в военную форму, изображен рядом с Пегасом. В левой руке он держит свиток, а правой опирается на картуш с надписью: "Сыну России, поэту, воину Н. Гумилёву от благодарных потомков. 1886-1921". Под барельефом – плита с надписью: «Мемориальный знак установлен в честь русского поэта Серебряного века Н. Гумилева, участника Восточно-Прусской операции Первой мировой войны, награжденного двумя Георгиевскими крестами. Расстрелян в августе 1921 года».
Гафиз и Лери
В 1916 году в знаменитом артистическом кабаре «Приют комедиантов» на Марсовом поле Гумилёв знакомится с женщиной, от красоты которой захватывало дух у каждого мужчины. Это была Лариса Рейснер - воплощение женственности, но мужского склада ума и характера.

Позже она станет прототипом комиссара из «Оптимистической трагедии» В. Вишневского.

«Громадный, как медведь, полуголый матрос под свист и улюлюканье веселого экипажа полез на маленькую женщину в кожанке, победно облапил беспомощную пичужку – не ускользнуть. Она воткнула браунинг в жирный живот и спустила курок. Грузная туша оползла на палубу растаявшим снеговиком.
- Ну? Кто еще хочет комиссарова тела? – произносит она во внезапной тишине...»
Эта сцена, эта пьеса (а потом – талантливый фильм) – классика советской драматургии. Эта фраза стала идиомой. Эта женщина – секс-символом революции.

Никто из тех, кто попадался ей на пути, не мог забыть ее уже никогда.

Лев Троцкий писал о ней: "Внешность олимпийской богини, её иронический ум сочетался с мужеством воина".

Всеволод Рождественский вспоминал о впечатлении, которое произвела на него Лариса при первой встрече в студенческой аудитории: "Это была девушка лет восемнадцати, стройная, высокая...Плотные темноволосые косы тугим венчиком лежали вокруг ее головы. В правильных, словно точеных чертах ее лица было что-то нерусское и надменно-холодное, а в глазах острое и чуть насмешливое. "Какая красавица!" - невольно подумалось всем в эту минуту".
Писатель Юрий Либединский отмечал «необычайную красоту ее, необычайную потому, что в ней начисто отсутствовала какая бы то ни было анемичность, изнеженность, — это была не то античная богиня, не то валькирия древненемецких саг…».

портрет Л. Рейснер работы С. Чехонина
Не устоял перед античной красотой Рейснер и Николай Гумилев, сраженный "ионическим завитком" ее кос. Лариса читала в «Приюте» свои стихи. Гумилев сидел молча, слушал. Решил про себя, как потом признавался: «Красивая девушка, но совершенно бездарная». Подошел к ней после выступления и попросил разрешения проводить.

Он стал ее первым мужчиной.
Когда уже в 1920 году комиссар Рейснер принесла обожаемой ею и страдающей от голода Ахматовой мешок риса, она рассказала ей, как это произошло. Гумилёв пригласил ее в какую-то мерзкую гостиницу «и там сделал всё». «Я его так любила, — объяснила Лариса бывшей жене своего возлюбленного, — что пошла бы куда угодно».
Говорили, что это знаменательное свидание произошло в борделе на Гороховой.
При всей своей некрасивости Гумилёв всегда нравился женщинам, привлекая какой-то необыкновенной магнетической силой. Капитан, рвущий из-за пояса пистолет, мужчина-воин, поэт, герой... Влюбилась и Рейснер.

Гордая красавица и поэт-романтик. Так начался их роман, который можно назвать поэтическим и эпистолярным. Гумилёв посвящал Ларисе канцоны и называл ее Лери, она его, на персидский манер – Гафиз. 8 ноября 1916 года он пишет ей:
Лера, Лера, надменная дева,
Ты как прежде бежишь от меня...
И далее продолжает: "Лери моя, приехав в полк, я нашел оба Ваши письма. Какая Вы милая в них. Читая их, я вдруг остро понял то, что Вы мне однажды говорили,- что я слишком мало беру от Вас... Вы годитесь на бесконечно лучшее... На всё, что я знаю и люблю, я хочу посмотреть, как сквозь цветное стекло, через Вашу душу, потому что она действительно имеет особый цвет, еще не воспринимаемый людьми... Я помню все Ваши слова, все интонации, все движения, но мне мало, мало, мне хочется еще. Я не очень верю в переселение душ, но мне кажется, что в прежних своих переживаниях Вы всегда были похищаемой, Еленой Спартанской, Анжеликой из "Неистового Роланда", так мне хочется Вас увезти. Я написал Вам сумасшедшее письмо, это оттого, что я Вас люблю..."
Лери отвечает взаимностью: "Милый мой Гафиз, это совсем не сентиментальность, но мне сегодня так больно. Так бесконечно больно. Я никогда не видела летучих мышей, но я знаю, что если даже у них выколоты глаза, они летают и ни на что не натыкаются. Я сегодня как раз такая бедная летучая мышь... жду Вас. Ваша Лери".

В то время Гумилёв состоял в действующей армии, а в Петербург был отпущен всего лишь в отпуск для сдачи офицерского экзамена. Экзамен он не сдал и вскоре был вынужден вернуться в полк. Несколько месяцев их роман продолжался только в письмах: «Я целые дни валялся в снегу, смотрел на звезды и, мысленно проводя между ними линии, рисовал себя Ваше лицо, смотрящее на меня с небес...».

Он звал ее на Мадагаскар – там, «в какой-нибудь теплый вечер, вечер гудящих жуков и загорающихся звезд, где-нибудь у источников в чаще красных гвоздик и палисандровых деревьев, Вы мне расскажете такие чудесные вещи, о которых я смутно догадывался в мои лучшие минуты…». "Ах, - отзывалась Рейснер, - милый Гафиз, как хорошо жить".
Он обещает ей написать поэму: "Ее заглавие будет огромными, красными, как зимнее солнце, буквами: "Лера и Любовь"..."

22 февраля 1917 года он посылает ей свою первую канцону.
Бывает в жизни человека
Один неповторимый миг:
Кто б ни был он, старик, калека,
Как бы свой собственный двойник,
Нечеловечески прекрасен
Тогда стоит он; небеса
Над ним разверсты; воздух ясен;
Уж наплывают чудеса.
Таким тогда он будет снова,
Когда воскреснувшую плоть
Решит во славу Бога - Слова
К всебытию призвать Господь.
Волшебница, я не случайно
К следам ступней твоих приник.
Ведь я тебя увидел тайно
В невыразимый этот миг.
Ты розу белую срывала
И наклонялась к розе той,
А небо над тобой сияло
Твоей залито красотой.

На следующий день, оттуда же, была послана еще одна "Канцона". Эта "Канцона", в другой редакции, с измененными первыми восемью строчками, была напечатана в вышедшем в 1918 году сборнике "Костер" как "Канцона первая" :
Лучшая музыка в мире - нема!
Дерево ль, жилы ли бычьи
Выразят молнийный трепет ума,
Сердца причуды девичьи?
Краски и бледны и тусклы! Устал
Я от затей их бессчётных,
Ярче мой дух, чем трава иль металл,
Тело подводных животных!
Только любовь мне осталась, струной
Ангельской арфы взывая,
Душу пронзая, как тонкой иглой,
Синими светами рая.
Ты мне осталась одна. На яву
Видевши солнце ночное,
Лишь для тебя на земле я живу,
Делаю дело земное.
Да! Ты в моей беспокойной судьбе -
Иерусалим пилигримов.
Надо бы мне говорить о тебе
На языке серафимов.

В феврале 1917 года Гумилёв вернулся в Петроград и сделал Ларисе предложение. Но она неожиданно отказала. Сказала ему, что очень любит Анну Андреевну и не посмеет сделать ей неприятное. На что он ответил: «К сожалению, я уже никак не могу причинить Анне Андреевне неприятность». Их брак с Ахматовой к тому времени уже изжил себя, став только формальностью.
Скорее, Рейснер оскорбил тот факт, что одновременно с нею Гумилёв встречался с другими: в 1916 году – с поэтессой Маргаритой Тумповской,

потом – с Анной Энгельгардт, на которой и женился летом 1918 года.

Лариса прощается с любимым: "В случае моей смерти все мои письма вернутся к Вам. И с ними то странное чувство, которое нас связывало, так похожее на любовь. И моя нежность - к людям, к уму, поэзии и некоторым вещам, которая благодаря Вам окрепла, отбросила свою собственную тень среди других людей стала творчеством... Но будьте благословенны Вы, Ваши стихи и поступки. Встречайте чудеса, творите их сами. Мой милый, мой возлюбленный... Ваша Лера".

В том же 1918-м Лариса вступила в партию и ушла на фронт. А Гумилёв уехал в Париж, где его ждала новая любовь...
Судьба развела их по разные стороны баррикад: Ларису ждал путь легендарного комиссара Волжской флотилии, Николая – чекистская пуля в большевистских застенках.

Когда, будучи уже при славе, почете и власти, женой советского посла в Кабуле, Рейснер получила известие о расстреле Гумилева, она рыдала в голос. «Никого, — написала она матери, — я не любила с такой болью, с таким желанием за него умереть, как его, поэта Гафиза, урода и мерзавца».
И после этого не раз повторяла о том, что будь она в Петрограде в те роковые дни, ей удалось бы предотвратить его казнь. Ходили слухи, что новый муж Рейснер Фёдор Раскольников — член Реввоенсовета республики, ревновал к Гумилёву жену и был причастен к аресту поэта.

Фёдор Раскольников
Лариса пережила Гумилёва на пять лет. Заразившись брюшным тифом после беспечного глотка сырого молока, она ушла из жизни тридцатилетней.

Перед смертью оставила эту записку:

Как сложилась бы ее жизнь, доживи она до 1937 года? Об этом можно только гадать…

К синей звезде
В мае 1917 года судьба делает крутой поворот: Гумилева назначают в особый экспедиционный корпус русской армии, расквартированный в Париже. Есть предположения, что он был там разведчиком.

Гумилёв среди офицеров корпуса
В Париже Гумилев знакомится с девушкой, полурусской-полуфранцуженкой, из обедневшей интеллигентной семьи, дочерью известного хирурга, Еленой Карловной Дюбуше. За красоту он называл её «голубой звездой».

Из букета целого сиреней
Мне досталась лишь одна сирень,
И всю ночь я думал об Елене,
А потом томился целый день.
Всё казалось мне, что в белой пене
Исчезает милая земля,
Расцветают влажные сирени
За кормой большого корабля.
И за огненными небесами
Обо мне задумалась она,
Девушка с газельими глазами
Моего любимейшего сна.
Сердце прыгало, как детский мячик,
Я, как брату, верил кораблю,
Оттого, что мне нельзя иначе,
Оттого, что я её люблю.
(«Сирень»)
Поэт страстно влюбился в Елену, написав ей в альбом много прекрасных стихов, которые потом вошли в книгу, изданную в 1923 году и названную составителем «К синей звезде».

Я вырван был из жизни тесной,
Из жизни скудной и простой,
Твоей мучительной, чудесной,
Неотвратимой красотой.
И умер я ..... и видел пламя,
Не виданное никогда:
Пред ослепленными глазами
Светилась синяя звезда.
Преображая дух и тело,
Напев вставал и падал вновь,
То говорила и звенела
Твоя поющей лютней кровь.
И запах огненней и слаще
Всего, что в жизни я найду,
И даже лилии, стоящей
В высоком ангельском саду.
И вдруг из глуби осиянной
Возник обратно мир земной.
Ты птицей раненной нежданно
Затрепетала предо мной.
Ты повторяла: " Я страдаю",
Но что же делать мне, когда
Я наконец так сладко знаю,
Что ты - лишь синяя звезда...

Однако «звезда» оказалась вполне “земной”. Поэту она предпочла американского миллионера, вышла за него замуж и уехала в США.
Вот девушка с газельими глазами
Выходит замуж за американца.
Зачем Колумб Америку открыл?..

Елена Дюбуше
Мой биограф будет очень счастлив,
Будет удивляться два часа,
Как осел, перед которым в ясли
Свежего насыпали овса.
Вот и монография готова,
Фолиант почтенной толщины:
«О любви несчастной Гумилева
В год четвертый мировой войны».
И когда тогдашние Лигейи,
С взорами, где ангелы живут,
Со щеками лепестка свежее,
Прочитают сей почтенный труд,
Каждая подумает уныло,
Легкого презренья не тая:
« Я б американца не любила,
А любила бы поэта я».
Он, как всегда, бравировал, «сохранял лицо», но страдал очень сильно. Об этом красноречиво говорит его стихотворение «Позор»:
Вероятно, в жизни предыдущей
Я зарезал и отца и мать,
Если в этой - Боже Присносущий! -
Так жестоко осужден страдать.
Если б кликнул я мою собаку,
Посмотрел на моего коня,
Моему не повинуясь знаку,
Звери бы умчались от меня.
Если б подошел я к пене моря,
Так давно знакомой и родной,
Море почернело бы от горя,
Быстро отступая предо мной.
Каждый день мой, как мертвец, спокойный,
Все дела чужие, не мои,
Лишь томленье вовсе недостойной,
Вовсе платонической любви.
Пусть приходит смертное томленье,
Мне оно не помешает ждать,
Что в моем грядущем воплощенье
Сделаюсь я воином опять.

Это была единственная женщина, которую Гумилёв, по его признанию, любил по-настоящему. Может быть, потому, что она была единственной, не ответившей ему взаимностью...
Ты не могла иль не хотела
Мою почувствовать истому,
Своё дурманящее тело
И сердце бережёшь другому.
Зато, когда перед бедою
Я обессилю, стиснув зубы,
Ты не придёшь смочить водою
Мои запёкшиеся губы.
В часы последнего усилья,
Когда и ангелы заблещут,
Твои сияющие крылья
Передо мной не затрепещут.
И ввстречу радостной победе
Моё ликующее знамя
Ты не поднимешь в рёве меди
Своими нежными руками.
И ты меня забудешь скоро,
И я не стану думать, вольный,
О милой девочке, с которой
Мне было нестерпимо больно.
(«Прощанье». август 1917 — весна 1918)

Стихи, адресованные Елене Дюбуше, резко выделяются на фоне остальной любовной лирики Гумилёва. Не потому, что они лучшие (в некоторых присутствует характерный альбомный привкус), а потому, что впервые он думал не о своей, а о чужой жизни, любил не только прекрасную внешность, но и душу, впервые хотел не поклоняться, а беречь, защищать, лелеять это юное трогательное существо. Стихи покоряют не свойственной Гумилёву нежностью и человечностью.

Временами, не справясь с тоскою
И не в силах смотреть и дышать,
Я, глаза закрывая рукою,
О тебе начинаю мечтать.
Не о девушке тонкой и томной,
Как тебя увидали бы все,
А о девочке милой и скромной,
Наклонённой над книжкой Мюссе.
День, когда ты узнала впервые,
Что есть Индия, чудо чудес,
Что есть тигры и пальмы святые —
Для меня этот день не исчез.
Иногда ты смотрела на море,
А над морем вставала гроза,
И совсем настоящее горе
Застилало слезами глаза.
Почему по прибрежьям безмолвным
Не взноситься дворцам золотым?
Почему по светящимся волнам
Не приходит к тебе серафим?
И я знаю, что в детской постели
Не спалось вечерами тебе,
Сердце билось, и взоры блестели,
О большой ты мечтала судьбе.
Утонув с головой в одеяле,
Ты хотела быть солнца светлей,
Чтобы люди тебя называли
Счастьем, лучшей надеждой своей.
Этот мир не слукавил с тобою,
Ты внезапно прорезала тьму,
Ты явилась слепящей звездою,
Хоть не всем, только мне одному.
Но теперь ты не та, ты забыла
Всё, чем в детстве ты думала стать.
Где надежды? Весь мир — как могила.
Счастье где? Я не в силах дышать.
И, таинственный твой собеседник,
Вот, я душу мою отдаю
За твой маленький детский передник,
За разбитую куклу твою.
(«Девочка»)
Если бы Цветаева спросила тут своё знаменитое: «любовь ли это или любованье... иль чуточку притворства по призванью?..», я бы не колеблясь, ответила: «тут — любовь».
Так же как и в этом стихотворении «Сон», посвящённом Елене Дюбуше:

Застонал от сна дурного
И проснулся тяжко скорбя:
Снилось мне - ты любишь другого
И что он обидел тебя.
Я бежал от моей постели,
Как убийца от плахи своей,
И смотрел, как тускло блестели
Фонари глазами зверей.
Ах, наверно, таким бездомным
Не блуждал ни один человек
В эту ночь по улицам тёмным,
Как по руслам высохших рек.
Вот, стою перед дверью твоею,
Не дано мне иного пути,
Хоть и знаю, что не посмею
Никогда в эту дверь войти.
Он обидел тебя, я знаю,
Хоть и было это лишь сном,
Но я всё-таки умираю
Пред твоим закрытым окном.
Именно к парижскому периоду относятся и такие шедевры любовной и философской лирики Гумилёва, как этот:

Неизгладимы, нет, в моей судьбе
Твой детский рот и смелый взор девический.
Вот почему, мечтая о тебе,
Я говорю и думаю ритмически.
Я чувствую огромные моря,
Колеблемые лунным притяженьем,
И сонмы звезд, что движутся горя,
От века предназначенным движеньем.
О, если б ты всегда была со мной,
Улыбчиво-благая, настоящая,
На звезды я бы мог ступить ногой
И солнце б целовал в уста горящие.

Несколько лет спустя, уже после смерти Гумилёва, Е. Дюбуше была в Петрограде и навестила А. Ахматову, но не застала её дома.
«В сущности, я — неудачник»
За границей Гумилёв прожил больше года: сначала в Париже, потом в Лондоне. Весной 1918-го он собрался в Россию. Их было несколько — русских офицеров, застрявших в Лондоне.

Собравшись в кафе, они решали, куда им теперь уезжать, ибо делать там больше было нечего. Одни собирались в Африку — стрелять львов, другие — продолжать войну в иностранных войсках.
- А Вы, Гумилёв?
Поэт ответил:
- Я повоевал достаточно и в Африке был уже три раза, а вот большевиков никогда не видел. Я еду в Россию — не думаю, чтобы это было опаснее охоты на львов.
Увы, оказалось опасней! Гумилёва отговаривали, но тщетно.
О, Русь, волшебница суровая,
Повсюду ты свое возьмешь.
Бежать? Но разве любишь новое
Иль без тебя да проживешь? -
напишет он потом. Гумилёв отказался от почётного и обеспеченного назначения в Африку, которое ему устроили влиятельные английские друзья, и уехал в Россию. Навстречу своей судьбе.
Не спасёшься от доли кровавой,
Что земным предназначила твердь,
Но молчи: несравненное право -
Самому выбирать свою смерть.

Петербург, ул. Социалистическая, дом 20
В этом доме Николай Гумилев жил несколько месяцев в 1918 году (тогда улица называлась Ивановской). Когда он вернулся сюда из-за границы, он не застал дома Ахматовой. Соседи сказали, что она у Шилейко. Это был приятель Гумилёва, учёный-востоковед, переводчик древне-восточных текстов.

Владимир Шилейко, второй муж Ахматовой
Ничего не подозреваая, Гумилёв отправился туда. Сидели вместе, пили чай, разговаривали. Потом вдруг Ахматова отозвала его в сторону и сказала: «Дай мне развод».

Гумилев страшно побледнел и ответил: «Пожалуйста. Я всегда говорил, что ты свободна и вольна делать всё, что тебе хочется».

В этот трудный час испытания ему понадобилась вся его воля и мужество. Позже в стихотворении «Мои читатели» он напишет:
И когда женщина с прекрасным лицом,
Единственно дорогим во вселенной,
Скажет: "Я не люблю вас",
Я учу их, как улыбнуться,
И уйти, и не возвращаться больше.

Всё-таки он любил её. Во всех женщинах он любил только её одну. Он лечился от этой безответной любви путешествиями, завоёвывал ратными подвигами, утверждал своё уязвлённое мужское самолюбие многочисленными романами. Всё было тщетно. Эта женщина всегда ускользала от него.
Сохранились сборники стихов Гумилёва с пометками Ахматовой. Она отмечала стихотворения, в которых без упоминания её имени говорилось о ней.
Ты помнишь, у облачных впадин
С тобою нашли мы карниз,
Где звёзды, как горсть виноградин,
Стремительно падали вниз?
Теперь, о скажи, не бледнея,
Теперь мы с тобою не те,
Быть может, сильней и смелее,
Но только чужие мечте.
И мы до сих пор не забыли,
Хоть нам и дано забывать,
То время, когда мы любили,
Когда мы умели летать.
Это и цикл из пяти восхитительных стихотворений — жемчужин русской поэзии — под названием «Беатриче», где Гумилёв ассоциирует себя с великим итальянским поэтом.
Музы, рыдать перестаньте,
Грусть вашу в песнях излейте,
Спойте мне песню о Данте
Или сыграйте на флейте.
Жил беспокойный художник.
В мире лукавых обличий —
Грешник, развратник, безбожник,
Но он любил Беатриче.
Тайные думы поэта
В сердце его прихотливом
Стали потоками света,
Стали шумящим приливом.
Музы, в сонете-брильянте
Странную тайну отметьте,
Спойте мне песню о Данте
И Габриеле Россетти.
Это и «Пятистопные ямбы» - одно из самых сильных стихотворений Гумилёва из его сборника «Колчан», где есть всё: война, любовь, разлука, сомнения, раскаяние, - живая, не надуманная, не экзотическая, настоящая жизнь.
Гумилёв любил главенствовать, быть лидером везде и всюду. Многие считали его самоуверенным и высокомерным. И мало кто мог разглядеть за этой внешней конквистадорской маской мучительную застенчивость, неуверенность в себе, свойственную всем подросткам, в том числе и вечным. Он всё время хотел что-то доказать себе и другим, ломал себя, лепил, делал, ковал свой железный характер, и только в стихах порой прорывался искренний, растерянный, жалующийся голос, и мы видели его истинное, открытое человеческое лицо.
Крикну я... но разве кто поможет,
Чтоб моя душа не умерла?
Только змеи сбрасывают кожи,
Мы меняем души, не тела...
Георгий Иванов вспоминал, как однажды Гумилёв, наблюдая, как кладут печку, с грустью сказал ему, что завидует кирпичикам, как плотно, тесно их кладут, один к одному, и ещё замазывают между ними каждую щёлку, чтоб не дуло... И добавил: «Самое страшное в жизни — одиночество. А я так одинок». И, точно недоумевая, прибавил: «В сущности, я — неудачник».
Я, что мог быть лучшей из поэм,
Звонкой скрипкой или розой белою,
В этом мире сделался ничем,
Вот живу и ничего не делаю.
Часто больно мне и трудно мне,
Только даже боль моя какая-то,
Не ездок на огненном коне,
А томленье и пустая маята.
Ничего я в жизни не пойму,
Лишь шепчу: "Пусть плохо мне приходится,
Было хуже Богу моему
И больнее было Богородице".
окончание здесь.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/92180.html
|
|
Процитировано 7 раз
Понравилось: 5 пользователям
Рыцарь Серебряного века |
Начало здесь.
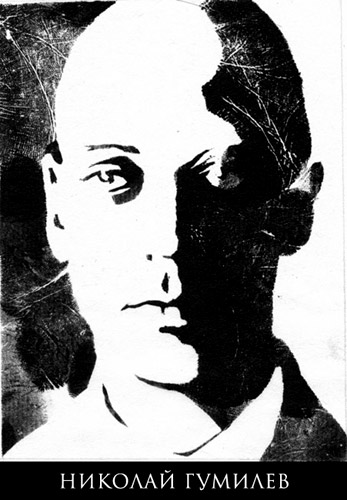
Родился Николай Гумилёв 15 апреля 1886 года в Кронштадте.

Над широкою рекой,
Пояском-мостом перетянутой,
Городок стоит небольшой,
Летописцем не раз помянутый.
Знаю, в этом городке -
Человечья жизнь настоящая,
Словно лодочка на реке,
К цели ведомой уходящая...
В крепко-слаженных домах
Ждут хозяйки белые, скромные,
В самаркандских цветных платках,
А глаза все такие тёмные...
(из книги стихов «Костер»).
Мать, Анна Ивановна, урожденная Львова, была из старинного дворянского рода.

Отец, Степан (Стефан) Яковлевич служил врачом в военном флоте.

Так что морские флибустьерские мотивы и рано возникшая и через всю жизнь пронесённая страсть к путешествиям шли не только от литературы. Вид уходящих и прибывающих в гавань кораблей, рассказы отца о плаваниях в морях-океанах, военные истории дяди — контр-адмирала, - всё это будоражило воображение мальчика, который потом назовёт свою Музу — Музой Дальних Странствий.

Кронштадт
Гумилёв с детства жил в каком-то призрачном, им самим созданном мире, ещё не понимая, что это — мир поэзии. Он старался проникнуть в тайную суть вещей воображением. Вот как он писал о себе тогдашнем:
Только змеи сбрасывают кожи,
Чтоб душа старела и росла,
Мы, увы, со змеями не схожи,
Мы меняем души, не тела.
Память, ты рукою великанши
Жизнь ведешь, как под узцы коня,
Ты расскажешь мне о тех, что раньше
В этом теле жили до меня.
Самый первый: некрасив и тонок,
Полюбивший только сумрак рощ,
Лист опавший, колдовской ребенок,
Словом останавливавший дождь...

Серый лебедёнок
Фамилия Гумилёв происходит от латинского слова « humilis», что означает «смиренный». Но он эту фамилию никак не оправдывал, ибо чего ему не было дано от неба, так это смирения. Он всегда шёл наперекор судьбе, линией наибольшего сопротивления. Трудно сказать, доброй или злой была фея, положившая в колыбель будущему поэту свой подарок — самолюбие. Необычайное, жгучее, страстное! Этот дар помог Гумилёву стать тем, кем он стал. И он же привёл его к гибели.
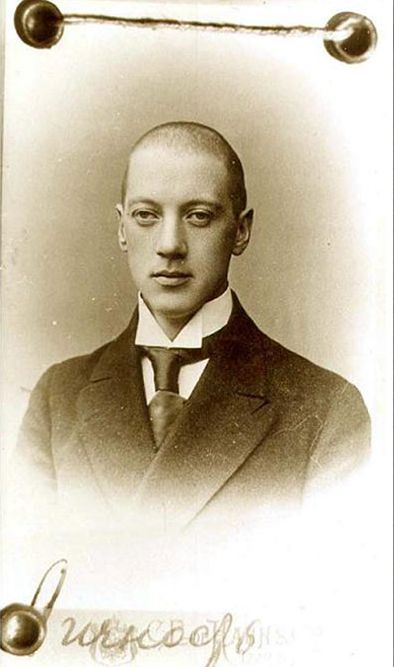
На молодых фотографиях заметна надменность заносчивого, скрывающего свою неуверенность подростка, старающегося выглядеть старше и опытней, чем на самом деле.
У него было очень необычное лицо. Не то Пьеро, не то монгол, косящие глаза с тяжёлыми веками, бледные губы, бесцветные волосы...
По наследству от предков поэт не получил ни красоты, ни физической силы, ни здоровья. Он был скованным, как бы деревянным, за высокомерным видом скрывающим неуверенность в себе. Однако Гумилёв твёрдо верил, что силой воли он сможет переделать свою внешность. Вечерами он запирал дверь и, стоя перед зеркалом, гипнотизировал себя, чтобы стать красавцем. Ему казалось, что с каждым днём он становится красивее, и удивлялся, почему другие этого не замечают.
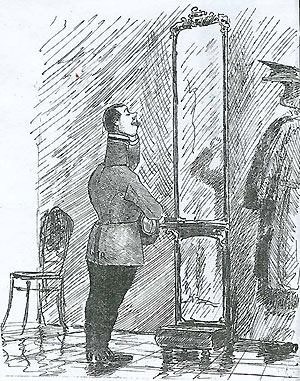
Поэзия, как это часто бывает, скрывала себя за чертами явно не поэтическими. (Однако с годами военная выправка, жизненный опыт, авторитет сделают Гумилёва более раскованным в общении и даже привлекательным, у него появится множество поклонниц).

портрет Н. Гумилёва работы М. Фармаковского
Сказка Андерсена о гадком утёнке словно решила повторить себя в судьбе этого царскосельского поэта. Именно этот «сюжет» имела в виду Ахматова, когда писала о нём в стихах 1912-го года:
Только ставши лебедем надменным,
изменился серый лебедёнок.
Серому лебедёнку не терпелось стать лебедем. Он с детства тайно завидовал брату, который быстрее его бегал, лучше лазал по деревьям.
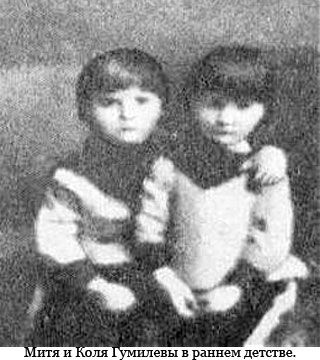
Но слабый, болезненный «гадкий утёнок-лебедёнок» отважно соперничал с ловкими и задирал сильных. Ему хотелось всё делать лучше других, везде и всегда быть первым.
В семь лет он упал в обморок оттого, что другой мальчик обогнал его в беге. В одиннадцать покушался на самоубийство: неловко сел на лошадь, домашние и гости видели это и смеялись. Год спустя он влюбляется в девочку-гимназистку. Долго не решаясь подойти, идёт за ней следом и, наконец, у ворот, задыхаясь, признаётся: «Я Вас люблю!» Девочка ответила: «дурак» - и захлопнула дверь. Мальчик был потрясён, ему казалось, он ослеп и оглох. Ночами не спал, обдумывал месть: сжечь её дом, стать разбойником, похитить её, убить? Обида была так сильна, что даже в 35 лет он вспоминал о ней не смеясь, а с горечью.
Гумилёв-подросток, ложась спать, думал об одном: как прославиться? Ему хотелось, чтобы люди повторяли его имя, писали о нём книги, удивлялись ему. Понемногу в голове складывался план завоевания мира. Надо следовать своему призванию: писать стихи. Эти стихи должны быть лучше всех, должны поражать, ослеплять, сводить с ума! Надо, чтобы поражали не только стихи, но и он сам, его жизнь. Он должен совершать опасные путешествия, подвиги, покорять женские сердца. Этим детским мечтам Гумилёв, в сущности, следовал всю жизнь.
Поэт молодых
«Он был удивительно молод душой, а, может быть, и умом, - пишет В. Ходасевич о Гумилёве. - Он всегда мне казался ребёнком. Было что-то ребяческое в его под машинку стриженой голове, в его выправке, скорее гимназической, чем военной...»

Гумилёв — гимназист

гимназия в Царском селе, где учился Н. Гумилёв
В последнем классе гимназии, (директором которой, между прочим, был И. Анненский), Гумилёв выпустит свой первый сборник «Путь конквистадоров». Легендарный странствующий рыцарь, бесстрашный участник испанских завоевательных походов в Южную Америку в 15-16 веках — таков идеал, романтический образ, лирический герой поэта.

Я конквистадор в панцире железном,
Я весело преследую звезду,
Я прохожу по пропастям и безднам
И отдыхаю в радостном саду.
Как смутно в небе диком и беззвездном!
Растет туман... но я молчу и жду
И верю, я любовь свою найду...
Я конквистадор в панцире железном.

Даже в несовершенстве и угловатости этих наивных стихов было заметно, насколько не похожа муза Гумилёва на манеру тогдашних литературных кумиров массовой моды. На смену гипнотической плавной раскачке Бальмонта, грациозной кокетливости Северянина пришёл сильный, мускулистый стих с чётким, твёрдым ритмом. Это была подчёркнуто мужская поэзия.
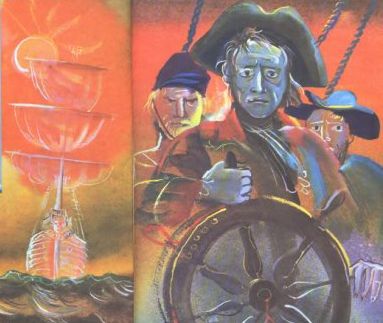
На полярных морях и на южных,
По изгибам зеленых зыбей,
Меж базальтовых скал и жемчужных
Шелестят паруса кораблей.
Быстрокрылых ведут капитаны,
Открыватели новых земель,
Для кого не страшны ураганы,
Кто изведал мальстрёмы и мель,
Чья не пылью затерянных хартий,
Солью моря пропитана грудь,
Кто иглой на разорванной карте
Отмечает свой дерзостный путь.
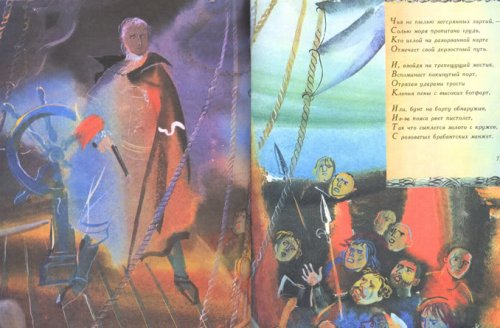
И, взойдя на трепещущий мостик,
Вспоминает покинутый порт,
Отряхая ударами трости
Клочья пены с высоких ботфорт.
Или, бунт на борту обнаружив,
Из-за пояса рвет пистолет,
Так, что сыпется золото с кружев,
С розоватых брабантских манжет.
Пусть безумствует море и хлещет,
Гребни волн поднялись в небеса, -
Ни один пред грозой не трепещет,
Ни один не свернет паруса...

Знаменитые гумилёвские «Капитаны» написаны так, словно это он сам рвал из-за пояса пистолет, и потом десятки тысяч мальчишек плакали не о «времени большевиков», а о - «золоте с кружев, с розоватых брабантских манжет».

А его изысканный жираф легко перешагивал через два континента, и шёпот «послушай, послушай!» звучал громче набата двух мировых войн. К. Чуковский отметил это стихотворение Гумилёва как одно из лучших из африканского цикла.
Щемяще-поэтичное стихотворение, где поэт пытается успокоить, утешить и обрадовать тоскующую петербургскую женщину восторженным рассказом о том, что на свете существует красавец-жираф, бродящий в дебрях Африки близ озера Чад.
Но — отмечает критик — «страдающей женщине нет дела до гумилёвских жирафов. Меньше всего на свете ей необходимы жирафы». Однако Гумилёву, живущему в мире фантазии и экзотики, трудно было представить, что кто-то может быть равнодушен к такому чуду.
«Послушай, послушай!» и посмотри, читатель, этот чудный видеоклип на стихи Николая Гумилёва «Жираф»в исполнении Елены Ваенги:
Сегодня, я вижу, особенно грустен твой взгляд,
И руки особенно тонки, колени обняв.
Послушай: далеко, далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Ему грациозная стройность и нега дана,
И шкуру его украшает волшебный узор,
С которым равняться осмелится только луна,
Дробясь и качаясь на влаге широких озер.
Вдали он подобен цветным парусам корабля,
И бег его плавен, как радостный птичий полет.
Я знаю, что много чудесного видит земля,
Когда на закате он прячется в мраморный грот.
Я знаю веселые сказки таинственных стран
Про черную деву, про страсть молодого вождя,
Но ты слишком долго вдыхала тяжелый туман,
Ты верить не хочешь во что-нибудь, кроме дождя.
И как я тебе расскажу про тропический сад,
Про стройные пальмы, про запах немыслимых трав…
Ты плачешь? Послушай… далеко, на озере Чад
Изысканный бродит жираф.
Странствующий рыцарь, аристократический бродяга, — он был влюблен во все эпохи, страны, профессии и положения, где человеческая душа расцветает в дерзкой героической красоте.
Павел Лукницкий писал о Гумилёве: «Читаешь его стихи — и хочется водить караваны, строить на северных утёсах златоглавые храмы, смотреть на древнее высокое небо, на звёзды и петь с ними о тайнах мира и великой к нему любви».
Среди бесчисленных светил
Я вольно выбрал мир наш строгий
И в этом мире полюбил
Одни веселые дороги.
Когда тревога и тоска
Мне тайно в душу проберется,
Я вглядываюсь в облака,
Пока душа не улыбнется.
И если мне порою сон
О милой родине приснится,
Я так безмерно удивлен,
Что сердце начинает биться.
Ведь это было так давно
И где-то там, за небесами.
Куда мне плыть — не всё ль равно,
И под какими парусами?

По известной блоковской метафоре романтическая поэзия Гумилева была похожа на пылинку дальних стран, чудом сохранившуюся на перочинном карманном ноже. Из воспоминаний Николая Пунина, искусствоведа Русского музея: «Я любил его молодость. Дикое дерзкое мужество его первых стихов. Гумилёв пугал жирафами, попугаями, дьяволами, озером Чад, странными рифмами, дикими мыслями,тёмной и густой кровью своих стихов... ещё не знавших тех классических равновесий, в которых так младенчески наивно спит, улыбаясь, молодость».
Гумилёва, как и Лермонтова, надо читать в юности — это поэт молодых. В ранних стихах — явственно влияние Ницше: напускная жёсткость, суровость, презрение к слабым, героический трагизм мироощущения — всё это от Ницше, книгами которого он зачитывался, от идеи сверхчеловека.

Но это только поза, игра в бессердечие. На самом деле Гумилёв был жалостлив и отзывчив, даже сентиментален. Он был ласков с близкими, не мог пройти мимо нищего, не подав ему. Но стыдился своей доброты, как слабости, и прятал её под маской надменного «конквистадора».

Это был его щит, панцирь, которым он прикрывал нежную ранимую душу.
Книжный мальчик. Гадкий утёнок, мечтающий стать лебедем. Стойкий оловянный солдатик... Помните, у Окуджавы?
А он, судьбу свою кляня,
не тихой жизни жаждал,
и всё просил: «Огня! Огня!» -
забыв, что он бумажный.
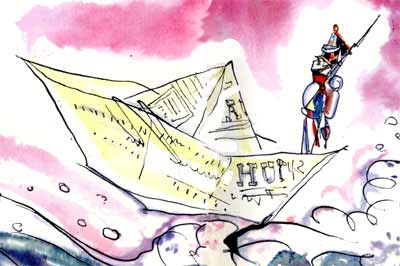
Он сумел заставить забыть об этом всех.
Муза Странствий
В 1906 году, окончив гимназию, Гумилёв совершает первое морское путешествие. Но морская карьера не состоялась. Морской корпус, куда его определил было отец, он променял на Петербургский университет, который тоже вскоре бросает и едет в Сорбонну, изучать французскую литературу.

Правда, и Сорбонны Гумилёв не окончил, и учился там не прилежнее, чем в гимназии. Но в то же время, надо признать, что он был чрезвычайно образованным и эрудированным человеком: он знал поэзию не только европейскую, но и китайскую, японскую, индусскую, персидскую и обладал огромным запасом знаний в истории, философии, богословии, географии, математике. В Париже Гумилёв начинает выпускать литературный журнал «Сириус», и там же выходит его вторая книжка стихов «Романтические цветы».
В 20 лет, не закончив учёбы, он вдруг увлёкся Гогеном и рванул в Африку.
Как будто не все пересчитаны звёзды,
как будто наш мир не открыт до конца...

Втайне от родителей, отправляя им из Парижа через друзей заготовленные впрок письма. Ему хотелось сотворить свою жизнь, как художник творит картину, как поэт создаёт поэму. Свою мечту, вычитанную из книг, он хотел претворить в реальность. Это было его коренное свойство — превращать в реальность то, что казалось недостижимым, как бы недоданным судьбой. Гумилёв создал новую Музу, Музу странствий.
Я люблю избранника свободы,
Мореплавателя и стрелка,
Ах, ему так звонко пели воды
И завидовали облака.
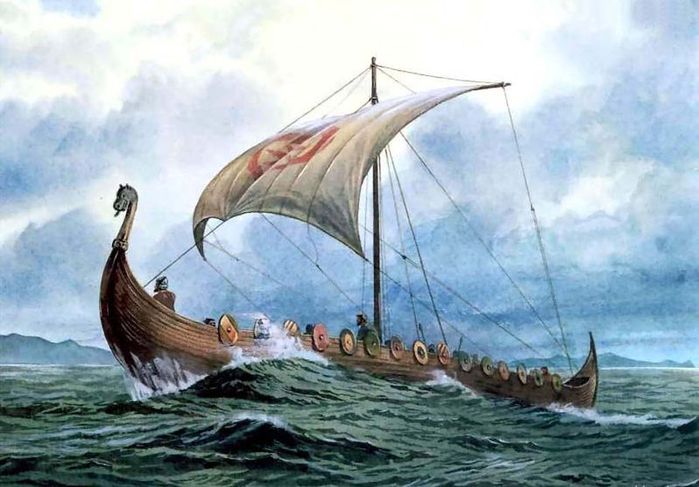
А потом эти путешествия станут регулярными, будут носить не только творческий, но и научный характер.

Гумилёв с проводниками у палатки
Привезённые им из Абиссинии экспонаты, предметы быта аборигенов, фотоплёнки представляют огромную научную ценность и уступают в этнографическом музее АН лишь собранию Миклухо-Маклая.
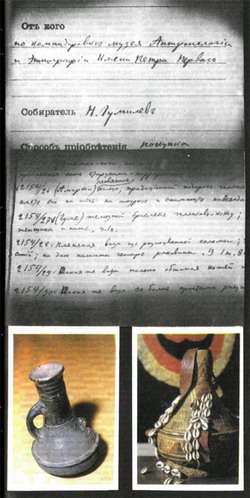
Африка постоянно звала поэта, жила в нём, он тосковал о ней, как о живом существе. Эта страна была им страстно любима не только из-за экзотических пейзажей или обычаев, но и как идеальная страна риска и приключений. О безрассудной храбрости Гумилёва ходили легенды. Он купался в Ниле, кишащем крокодилами, охотился на львов и слонов, в Джедде ловил акул.

Дай за это дорогу мне торную,
Там, где нету пути человеку,
Дай назвать моим именем черную,
До сих пор не открытую реку...
И это не аллегория, не метафора. Действительно, один именитый абиссинский вельможа, восхищённый смелостью русского поэта, подарил ему одну из своих рек.

В отличие от, скажем, Есенина, который писал свои «Персидские мотивы», никогда не бывав в Персии, Гумилёв Восток своих мечтаний сверил с реальным Востоком. И доказал, что Россия, уже влюблённая в Кавказ и Крым, ничуть не меньше других стран может полюбить это «чужое небо».
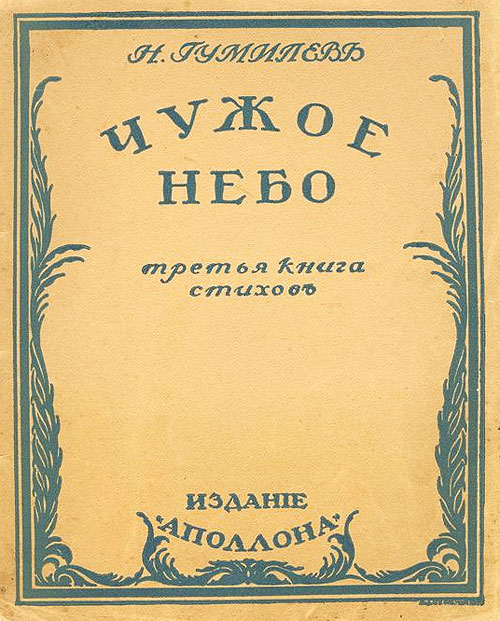
Художественный метод поэта был таков: отстранить повседневность, разбередить, растревожить запылённые души экзотикой невиданных, чужедальних пределов, таинством смерти, отблеском баснословных времён, и когда наконец он достигает своего, когда скинуты наземь последние филистерские отрепья, – он говорит нам прямо в очнувшуюся душу простые, детские вещи, которые предстают тогда несказанным откровением:
Оглушенная ревом и топотом,
Облеченная в пламя и дымы,
О тебе, моя Африка, шёпотом
В небесах говорят серафимы.
И твое раскрывая Евангелье,
Повесть жизни ужасной и чудной,
О неопытном думают ангеле,
Что приставлен к тебе, безрассудной.
Про деянья свои и фантазии,
Про звериную душу послушай,
Ты, на дереве древней Евразии
Исполинской висящая грушей.

Обреченный тебе, я поведаю
О вождях в леопардовых шкурах,
Что во мраке лесов за победою
Водят полчища воинов хмурых,
О деревнях с кумирами древними,
Что смеются улыбкой недоброй,
И о львах, что стоят над деревнями
И хвостом ударяют о ребра.
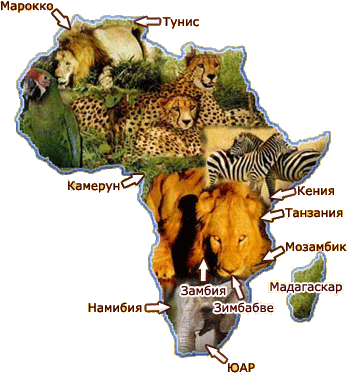
Николай Гумилёв был антикабинетным поэтом. В цикле «Капитаны» выражено пожизненное кредо поэта, вступившего в великое бездомное братство:
И все, кто дерзает, кто хочет, кто ищет,
Кому опостылели страны отцов,
Кто дерзко хохочет, насмешливо свищет,
Внимая заветам седых мудрецов!
Нет большего ужаса, чем «высыхать в глубине кабинета // Перед пыльными грудами книг», поэтому с такой покоряющей лёгкостью перевоплощается он в живого и зримого, полувлюблённого бродягу («Оборванец»). В «Занзибарских девушках» обнажается всё та же мораль: самое бессмысленное устремление, оплаченное годами немыслимых лишений, ему дороже во сто крат самодовольного прозябания.
Знаменитый гумилёвский «Африканский дневник» заставляет вспомнить появившуюся позже прозу Хемингуэя. Захватывающие и леденящие кровь описания джунглей, пустынь, охоты на диких зверей... Он хотел прежде жить — активно, жадно, а потом уже писать о жизни. Сочинял не только стихи, но и собственную судьбу.
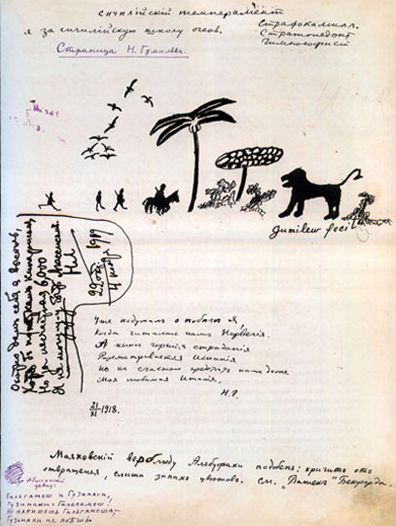
рисунки Н. Гумилёва
"Африканский дневник" пока ещё только заполняется...
Всю обольстительность надежд,
Не жизнь, а только сон о жизни,
Я оставляю для невежд,
Для сонных евнухов и слизней.
Мое «сегодня» на мечту
Не променяю я и знаю,
Что муки ада предпочту
Лишь обещаемому раю.
«То, чего не терпел Гумилёв...»
У Георгия Иванова в одном из стихотворений есть строчки: «То, что Анненский жадно любил, то, чего не терпел Гумилёв». Главное, что разделяло этих поэтов-антиподов в творчестве, была принадлежность к разным литературным течениям. Символизм, к которому тяготели Анненский, Фет, Блок, Брюсов, Бальмонт, Сологуб, Волошин, уже разрушался, изживал себя. Активной натуре Гумилёва были чужды мистика, отвлечённые понятия, ненастоящая, призрачная, выдуманная жизнь. Будучи лидером по натуре, он решает создать свою школу в искусстве, объединив поэтов, близких ему по взглядам, по творческому направлению. Так в 1911 году родился «Цех поэтов».
Гумилёв относился к поэзии как к ремеслу и считал, что тайны поэзии как секреты любого ремесла можно освоить и совершенствовать. Он был педантом стихотворной техники, въедливым исследователем стихотворной речи. Хотел написать книгу о теории поэзии, не успел. Её тезисы воплощены в нескольких статьях, вышедших в книге «Письма о русской поэзии».

А в 1912 году Гумилёв становится признанным лидером нового литературного течения, противопоставившего себя символизму, - акмеизма. «Акмэ» - греческое слово, означающее апогей, расцвет, высшее развитие, а акмеист — это творец, первопроходчик, воспевающий земную жизнь во всех её проявлениях. Взамен туманных отвлечённостей и неврастении символизма провозглашалась реалистичность, достоверность, изображения, обращённые к зримому, осязаемому, предметному миру. Стихи растут из сора, темы валяются под ногами, предметом поэзии может быть не только высокое, эфемерное, но и повседневное, земное.
Акмеизм внёс здоровое начало, свежую струю в поэзию, которая уже отдавала мёртвым холодом потустороннего бытия. К Гумилёву примкнули Ахматова, Мандельштам, Городецкий, Нарбут, Зенкевич.
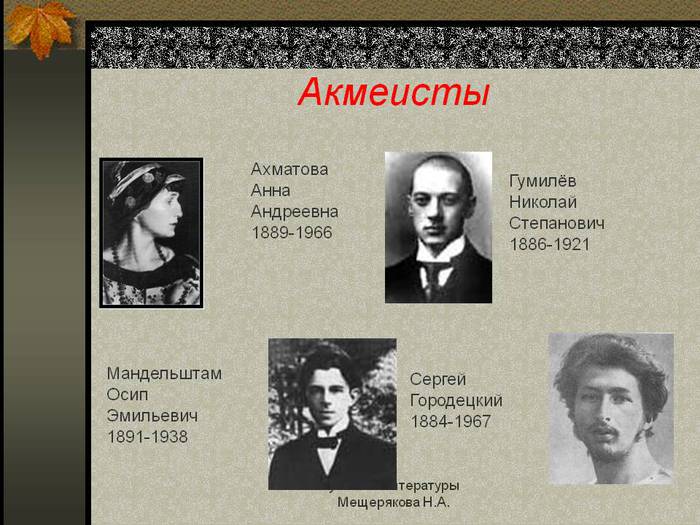
Гумилёв считал, что поэзии надо учиться, как игре на рояле. Он окружил себя творческой молодежью. С его лёгкой руки по всей России стали создаваться кружки поэтов, литературные студии. От желающих не было отбоя. «Он делал из плохих поэтов неплохих. У него был пафос мастерства и уверенность в себе мастера», - писал Виктор Шкловский.

Блок, который придерживался противоположных взглядов в поэзии, написал статью об акмеизме «Без божества, без вдохновенья». Он считал, что Гумилёв пытается создать поэтов из ничего. Ахматова тоже была недовольна этим обучением. «Обезьян растишь», - говорила она ему. А Гумилёв отвечал: «Я вожусь с малодаровитой молодёжью не потому, что хочу сделать их поэтами. Это немыслимо — поэтами рождаются. Но я хочу помочь им по-человечеству. Разве стихи не облегчают, как будто сбросил с себя что-то? Надо, чтобы все могли лечить себя писанием стихов. («Болящий дух врачует песнопенье», - вспомнился Баратынский). Кастальский источник есть в душе каждого, он лишь завален мусором, надо расчистить его».

Петербург. 5-ая линия Васильевского острова. д.10 (фото Павла Елизарова)
Николай Гумилев жил здесь в 1914 году, и в его квартире тут собиралось "Общество ревнителей художественного слова", организованное по его инициативе при редакции журнала "Аполлон".
Однако конфликт между «приземлённым» Гумилёвым и «возвышенным» Блоком несколько преувеличен, надуман. В жизни у них были нормальные отношения. Как поэты они не исключали, а, скорее, дополняли друг друга. То, что их разъединяло, было второстепенным, а в главном они сходились: оба жили и дышали поэзией, беззаветно любили Россию, ненавидели фальшь и ложь, превыше всего ценили честь. Обоих задушила советская власть — в прямом и переносном смысле. И умерли они одновременно ещё молодыми.

«Да, я знаю, я вам не пара, я пришел из иной страны…»
25 апреля 1910 года Гумилёв обвенчался с Анной Ахматовой,

с которой познакомился ещё в 1903-ем году в Царском Селе, когда Ане Горенко было 14 лет.

Этой женитьбе предшествовало семь лет знакомства, несколько предложений Гумилёва, отказы Ахматовой, две попытки самоубийства. В первый раз он отправился сводить счёты с жизнью в Нормандию, предварительно послав Анне свою фотографию со строкой из Бодлера. Однако вместо трагедии случился фарс: отдыхающие приняли Гумилева за бродягу, вызвали полицию, и, вместо того, чтобы отправиться в последний путь, Николаю пришлось отправиться давать объяснения в участок. Свою неудачу он расценил как знак судьбы и решил попытать счастья в любви еще раз. Он пишет Ахматовой письмо, где вновь делает ей предложение. И вновь получает отказ.
Тогда Гумилев снова намеревается покончить с собой. Эта попытка была еще более театральной, чем предыдущая. Поэт принял яд и направился дожидаться смерти в Булонский лес, где его и подобрали в бессознательном состоянии бдительные лесничии.

Пётр Нилов. Булонский лес.
Сердце Ахматовой тогда было занято другим - петербургским студентом Владимиром Голенищевым-Кутузовым, приятелем её брата, который в свою очередь не отвечал ей взаимностью. Но в конце концов она даёт согласие на брак с Гумилёвым. На вопрос, любит ли она его, честно отвечает: «Нет, но считаю Вас выдающимся человеком».
Никто из родственников жениха не явился на венчание, в семье Гумилевых считали, что этот брак продержится недолго.
Николаевская церковь, в которой венчались Гумилёв и Ахматова.
Чуть позже Анна напишет супругу своей покойной сестры: «Я отравлена на всю жизнь, горек яд неразделённой любви! Смогу ли я снова начать жить? Конечно, нет! Но Гумилёв — моя Судьба, и я покорно отдаюсь ей. Не осуждайте меня, если можете. Я клянусь Вам всем для меня святым, что этот несчастный человек будет счастлив со мной». Слова своего она не сдержала.
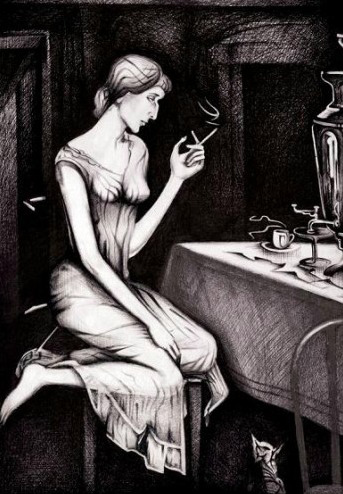
В стихах Ахматовой мы нигде не найдём образа Гумилёва — лишь изредка, скупо, мимолётно (за исключением, конечно, её «Anno Domini», вышедшего после казни мужа и целиком посвящённого ему). В лирике же Гумилёва властно и неотступно, до самых последних лет его жизни, сквозь все его увлечения и разнообразные темы маячил образ жены.

Героиня этих стихов обычно была зашифрована. Анна проступала в его строках то в образе русалки, то царицы, то колдуньи.
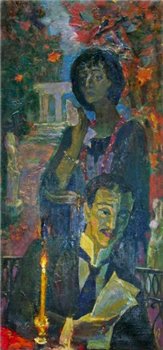
Твой лоб в кудрях отлива бронзы,
Как сталь, глаза твои остры,
Тебе задумчивые бонзы
В Тибете ставили костры...
И я следил в тени колонны
Черты алмазного лица
И ждал, коленопреклоненный,
В одежде розовой жреца.
Узорный лук в дугу был согнут,
И, вольность древнюю любя,
Я знал, что мускулы не дрогнут
И острие найдет тебя.
Тогда бы вспыхнуло былое:
Князей торжественный приход,
И пляски в зарослях алоэ,
И дни веселые охот.
Но рот твой, вырезанный строго,
Таил такую смену мук,
Что я в тебе увидел бога
И робко выронил свой лук.
Толпа рабов ко мне метнулась,
Теснясь, волнуясь и крича,
И ты лениво улыбнулась
Стальной секире палача.
(«Царица»)
Она была роковой женщиной его Музы.

Я знаю женщину: молчанье,
Усталость горькая от слов,
Живет в таинственном мерцанье
Ее расширенных зрачков.
Ее душа открыта жадно
Лишь медной музыке стиха,
Пред жизнью, дольней и отрадной
Высокомерна и глуха.
Неслышный и неторопливый,
Так странно плавен шаг ее,
Назвать нельзя ее красивой,
Но в ней все счастие мое.
Когда я жажду своеволий
И смел и горд - я к ней иду
Учиться мудрой сладкой боли
В ее истоме и бреду.
(«Она»)
И я отдал кольцо этой деве Луны
за неверный оттенок разбросанных кос...

У русалки мерцающий взгляд,
умирающий взгляд полуночи...


Петербург, Васильевский остров, Тучков пер., д. 17. (фото Павла Елизарова)
В 1912-1914 годах здесь, в комнате квартиры 29, жил Николай Гумилев с женой Анной Ахматовой.
Был ли он счастлив с Анной? Во всяком случае, для него это был брак по своей воле и по своей любви. Отношения их были далеки от совершенства. Они были неким тайным противоборством, борьбой за самоутверждение и независимость. У них были совершенно разные вкусы, взгляды на жизнь.
Он любил три вещи на свете:
За вечерней пенье, белых павлинов
И стертые карты Америки.
Не любил, когда плачут дети,
Не любил чая с малиной
И женской истерики.
...А я была его женой. -
саркастически писала Ахматова. Истерики бывали довольно часто. Когда маленького Лёву спрашивали, кто его родители, он отвечал: «Папа — поэт, а мама — истеричка».

Гумилёв в свою очередь сетовал:
Из логова змиева,
Из города Киева,
Я взял не жену, а колдунью.
А думал - забавницу,
Гадал - своенравницу,
Веселую птицу-певунью.
Покликаешь - морщится,
Обнимешь - топорщится,
А выйдет луна — затомится...

Анна ненавидела экзотику, Африку. Когда Гумилёв приезжал из своих странствий и вся семья сходилась за столом слушать его рассказы, она демонстративно уходила в другую комнату.
Да, я знаю, я вам не пара,
Я пришел из иной страны,
И мне нравится не гитара,
А дикарский напев зурны.
Не по залам и по салонам
Темным платьям и пиджакам –
Я читаю стихи драконам,
Водопадам и облакам…
Постоянные споры о стихах. Когда Гумилёв обнаружил после свадьбы, что жена его пишет стихи, он был неприятно поражён: «Муж и жена пишут стихи — в этом есть что-то комическое». И советовал ей «заняться чем-нибудь другим, например, танцами».
Но главной причиной раздоров были измены Гумилёва. Он не видел в них особого греха, они, по его мнению, мирно уживались с его бессмертной любовью. Когда Николай получил от Анны согласие на брак, он, по его словам, так обрадовался, что сразу два романа бросил. «А третий, - смеялась Ахматова, - третий не бросил! С Орвиц Занетти? Он как раз на то время приходится!»
Баронесса де Орвиц Занетти, с которой Гумилёв познакомился в Париже, вдохновила его на стихотворение «Царица Содома», позже переименованное им в «Маскарад».
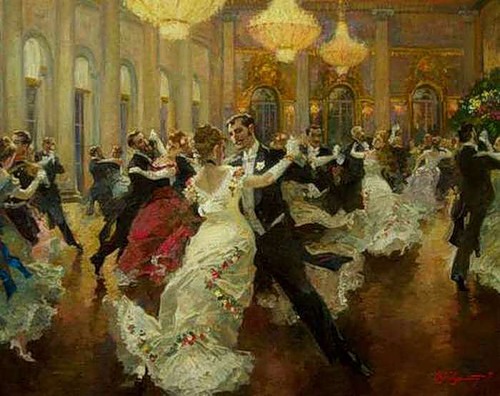
Мазурки стремительный зов раздавался,
И я танцевал с куртизанкой Содома,
О чем-то грустил я, чему-то смеялся,
И что-то казалось мне странно знакомо...
Я многое понял в тот миг сокровенный,
Но страшную клятву мою не нарушу.
Царица, царица, ты видишь, я пленный,
Возьми мое тело, возьми мою душу!
Ахматова подтрунивала над романами Гумилёва, особенно тогда, когда он, по её мнению, «плохо выбирал». Но внутри себя, конечно, переживала, иначе не вырвались бы у неё такие строчки:
Как вплелась в мои тёмные косы
серебристая белая прядь, -
только ты, соловей безголосый,
эту муку сумеешь понять.

«Соловей безголосый», - о, она знала, как сказать побольнее. «А всё равно я лучше тебя стихи пишу», - говорила ему, мстительно улыбаясь, и он замолкал, сознавая горькую правду этих жестоких слов.
Вспоминается его стихотворение «У камина» с финальным двустишием: «И, тая в глазах злое торжество, Женщина в углу слушала его».

Она была горда и умна, умнее и талантливее его. Он тоже доказывал, как мог, своё превосходство, самоутверждаясь бесчисленными романами... Нашла коса на камень. В полушутливом, адресованном Анне стихотворении «Индюк» Гумилёв иронически писал:
На утре памяти неверной
Я вспоминаю пестрый луг,
Где царствовал высокомерный,
Мной обожаемый индюк.
Была в нем злоба и свобода,
Был клюв его как пламя ал,
И за мои четыре года
Меня он остро презирал.
Ни шоколад, ни карамели,
Ни ананасная вода
Меня утешить не умели
В сознаньи моего стыда.
И вновь пришла беда большая,
И стыд, и горе детских лет:
Ты, обожаемая, злая,
Мне гордо отвечаешь: "Нет!"
Но все проходит в жизни зыбкой
Пройдет любовь, пройдет тоска,
И вспомню я тебя с улыбкой,
Как вспоминаю индюка.

В конце концов они расстались. Инициатором развода была Ахматова. Гумилёв горько подытожил в «Пятистопных ямбах» историю своей любви:
Я молод был, был жаден и уверен,
Но дух земли молчал, высокомерен,
И умерли слепящие мечты,
Как умирают птицы и цветы.
Теперь мой голос медлен и размерен,
Я знаю, жизнь не удалась… — и ты,
Ты, для кого искал я на Леванте
Нетленный пурпур королевских мантий,
Я проиграл тебя, как Дамаянти
Когда-то проиграл безумный Наль.
Взлетели кости, звонкие, как сталь,
Упали кости — и была печаль.
Сказала ты, задумчивая, строго:
— «Я верила, любила слишком много,
А ухожу, не веря, не любя,
И пред лицом Всевидящего Бога,
Быть может, самоё себя губя,
Навек я отрекаюсь от тебя». —
Твоих волос не смел поцеловать я,
Ни даже сжать холодных, тонких рук,
Я сам себе был гадок, как паук,
Меня пугал и мучил каждый звук,
И ты ушла, в простом и тёмном платье,
Похожая на древнее распятье.

«В ночном кафе мы молча пили кьянти...»
В конце 1912 года в кафе "Бродячая собака" Гумилёв знакомится с актрисой петербургских театров Ольгой Высотской. Там отмечался юбилей Константина Бальмонта. Гумилев подсел за столик, где сидела Высотская с подругами.
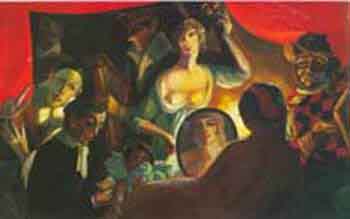
В начале лета Гумилёв присылает ей открытку: «Целую ручки и всегда вспоминаю. Напишите в Порт-Санд в июле месяце, куда прислать вам леопардовую шкуру». И — сонет посвящения: «В ночном кафе мы молча пили кьянти...»
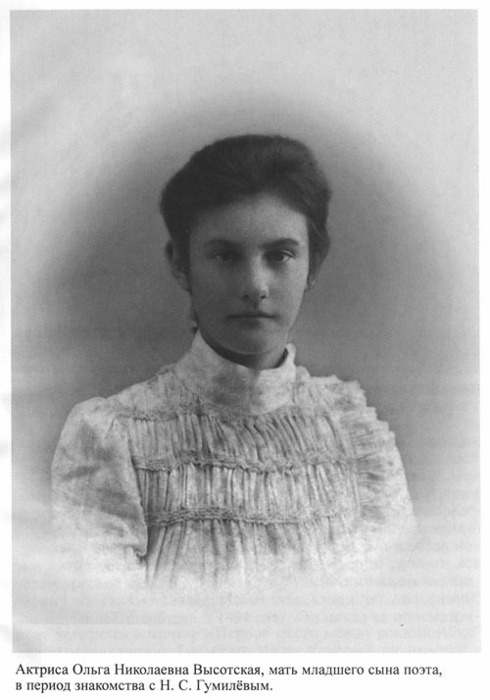
До знакомства с Гумилёвым Высотская жила с Мейерхольдом, о котором потом напишет воспоминания. Была там запись и об этой встрече с Гумилёвым. Их роман продолжался около года, перерос в серьёзные отношения, в результате которых 26 октября 1913 года родился сын Орест.

В начале осени 1913-го Ольга уезжает к родителям в Москву, а после рождения сына — в Курскую губернию, где было их маленькое имение. Получив от Высотской известие о рождении сына, Гумилёв написал, что приедет осенью 1914-го. Но началась война, потом революция, гражданская война...
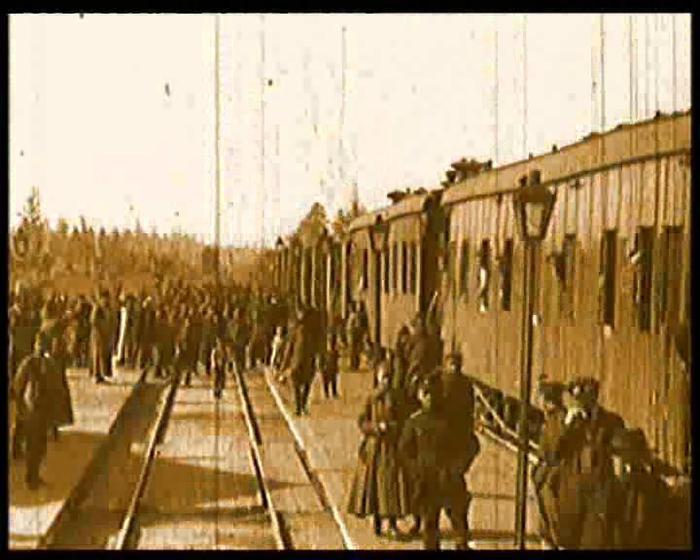
А когда всё успокоилось, Гумилёва уже не было в живых.
Высотская узнала о его казни лишь в 1924-ом. Она всю жизнь продолжала любить его, так и не вышла замуж.

В годы советской власти моталась по городам и сёлам, ставя самодеятельные спектакли, получала нищенскую пенсию, умерла в 1968-ом.
Её сын Орест Николаевич Высотский окончил лениградскую Лесотехническую академию, работал лесничим, директором мебельной фабрики, потом защитил диссертацию, преподавал в университете. Позже познакомился со своим братом — Львом Гумилёвым, они дружили.

Лев Гумилёв
Когда в 1938 году за Львом пришли, Орест как раз был в это время у него. И сидел рядом с ним на кровати до четырех утра, пока шел обыск и пока Льва не увезли.

А утром он же пошел в Фонтанный дом к Ахматовой и всё ей рассказал. Это было в марте. А в апреле уже взяли и его. Ольга Высотская и Анна Ахматова вместе стояли в длинной очереди с передачами в "Кресты".

тюрьма «Кресты» в Петербурге
В 1939-м Ореста выпустили, он воевал, дошел до Берлина, привезя с войны не только боевые награды, но и стихи, которые никогда не печатал. Умер в 1992 году (в один год со Львом Гумилёвым).

младший сын Н. Гумилёва Орест Николаевич Высотский
Николай Гумилёв так никогда и не увидел своего младшего сына. Они жили с матерью в Куриловке Курской области, в Гражданскую та деревушка переходила от белых к красным, от красных к петлюровцам... И когда Гумилёв стал их искать, ему сказали, что они погибли.
Орест занимался биографией своего отца очень тщательно, ездил по всем местам, с ним связанным, встречался со многими людьми. Нашел дневник, который Гумилёв вел во время абиссинского путешествия и считался утерянным. Уже после его смерти в издательстве «Молодая гвардия» в 2004 году вышла книга «Николай Гумилёв глазами сына. Воспоминания современников о Н. С. Гумилёве» .
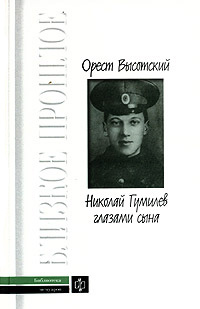
Ольга Николаевна Высотская умерла в один год с Ахматовой - в 1966-м. Успела написать мемуары, позднее Орест передал их в Пушкинский Дом.
Внучка Гумилёва Ия Высотская, по мужу - Сазонова, живет сейчас в городе Новая Каховка Херсонской области.
Продолжение здесь.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/92133.html
|
|
Процитировано 12 раз
Понравилось: 5 пользователям