-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Статистика
Записей: 871
Комментариев: 1385
Написано: 2520
Неизвестный гений (продолжение) |
Начало здесь

Отцвели георгины.
Как-то сразу и вдруг
Ты проводишь с другими
Свой гражданский досуг.
Кофе с водкой бессонно
В печке танец огня,
Черный блин патефона
Развлекает меня.
Я живу как в гостинице
Дождь идет проливной.
Александр Вертинский
Поет про любовь.
Эта страсть непростительна
И дождем сожжена
Есть одна лишь пластинка –
Тишина. Тишина.
И осенней материи
Золотые клоки
Опускаются с дерева
На железо реки.
Дешевизну расхожего слова порой пронзает неожиданностью настоящего чувства:
Приходят разные повестки.
Велят начать и прекратить.
Зовут на бал. Хотят повесить.
И просят деньги получить.

И только нет от Вас конверта,
Конверта и открытки в нем.
Пишите, лгите. Ложь бессмертна,
А правда – болевой прием.

Но почтальон опять не хочет
Взойти на пьедестал-порог,
А может быть, ночную почту
Ночной разбойник подстерег.
Какая в том письме манера?
И если холод, если лёд,
То пусть разбойник у курьера
Его и сумку отберёт.
А если в нём любовь и ласка,
То нужно почту торопить –
На лёгкой голубиной лапке
Кольцо с запиской укрепить.
И небо синее до глянца,
И солнце сверху на дома,
И воркование посланца
И воркование письма.

«Жил по-своему превесело»
Отец генерал рано умер, оставив Чудакова в унаследованной огромной квартире на Кутузовском проспекте, которую тот превратил в богемное гнездо.
Кутузовский проспект, где жил С. Чудаков
Опять шафранные закаты
Над безымянною горой
Опять намеренно ярка ты
И так небуднична порой
Опять звенели тен-о-клоком
Часы в гостиной голубой
Опять весь день я бредил Блоком
А после чая - вновь тобой
Опять под переплёски музык
Калейдоскопы пёстрых блузок...
Гостьи дамского пола ставили на стенах отпечатки своих босых ступней.

Чудаков сам пишет об этом:
Ничего не выходит наружу
Твои помыслы детски чисты
Изменяешь любимому мужу
С нелюбимым любовником ты
Ведь не зря говорила подруга:
– Что находишь ты в этом шуте?
Вообще он не нашего круга,
Неопрятен, живет в нищете
Я свою холостую берлогу
Украшаю с большой простотой
Обвожу твою стройную ногу
На стене карандашной чертой

Деревья голы ранняя весна:
У школьниц мельтешащие колени
С одышкой жизнь твоя восходит на
Затоптанные верхние ступени
Евтушенко вспоминал о «чудачествах» Чудакова в посвящённом ему стихе:
Жил по-своему превесело
после родственных утрат –
дачку шизика-профессора
переделал в секс-театр.
Там гитары вечно тренькали.
Подъезжали «ЗИМ» и «ЗИЛ».
Сколько с абитуриентками
зрелищ он изобразил!
На даче одного профессора марксизма Чудаков организовал любовное шоу и угодил за это сначала в тюрьму, а потом в психушку, причём жёсткого режима.

Когда я заперт в нервной клинике
когда я связан и избит
меня какой-то мастер в критике
то восхваляет то язвит.
Направо стиль налево образы
сюда сравненье там контраст
о Боже как мы все обобраны
никто сегодня не подаст.
«И за мной приедет конвоир...»
Надо надо ещё продержаться
эту пару недель до весны
не заплакать и не рассмеяться
чтобы в клинику не увезли.

Заключив с тобой позорный мир
я продал тебя почти что даром
И за мной приедет конвоир
пополам с безумным санитаром

Хитроумие позволяло ему до поры до времени выскальзывать из расставленных на пути прокурорских силков и крысоловок. Но и когда браслеты защёлкнулись, он предпочёл бараку уголовников психушку и оказался в знаменитой Сычёвке.
В 1960-х Чудаков прошел через машину советской карательной психиатрии, что отразилось в ряде его стихотворений.

Почти каждое стихотворение здесь – выстраданный прожитый материал.

Поднимаешь бокал и еще пошалишь
Пусть другого за стенкой приканчивают
Я теперь понимаю что чувствует мышь
Когда воздух из банки выкачивают
Я узнал: человеку отпущен лимит
Интеллекта – свободы прелестной
И ура наконец сумасшедший летит
Из окна психлечебницы местной
Образованы мы обеспечены мы
И без брода не кинемся в воду
Помогите укрыть беглеца из тюрьмы
Помогите борцам за свободу
Мой герой отвечает: какая борьба
Кто виновен и чья здесь заслуга?
Раб за горло хватает другого раба
Два дракона сжирают друг друга
Посмотри в микроскоп: эти люди умрут
Сгинут их монументики храмики
Прекращают ослы принудительный труд
Мордобой прекращают охранники
Будет меньше фанатиков больше врачей
Сумасшедший получит уколы
Станет модной моделью в стране палачей
Современный ученый бесполый
Можно вирши твои будет тиснуть в печать
И публично читать завывая
Так чего же тебе исступленно кричать
И бросаться под ноги трамвая?
Мало воздуха в банке: включили насос
На зверьке поднимается шкура
Лаборантка в блокнот записала вопрос
Молодая здоровая дура

Психушка, сумасшествие занимают в стихах Чудакова почётное место рядом с любовью и смертью.
***
Вошла сестра колоть иглою в зад
Тррепещут симулянты-шарлатаны
Я вспоминаю как маркиз де-Сад
Носил свою улыбку в Шарантоне
Философ каждый чуточку садист
И музыканту я ору как в рупор
Довольно сумасшедший гитарист
С отвычки ты переиграешь руку
Но он подобен миражу
/Все привиденья очень горды/
И сквозь него я прохожу
Как сквозь гитарные аккорды
Прижав гитару из нее
Он жаждет извлекать рояльность
Взаимное небытие
Дает почувствовать реальность
***
Довольно принимать винтрест
Напитки выпускаются и кроме
Пусть сумасшедший гитарист
Играет в сумасшедшем доме
На землю сходит божество
Нетривиальными путями
И пальцы бегают его
С большими круглыми ногтями
Мотая серой головой
Как соловей поющий совам
Он осязаемый живой
Из армии откомиссован
***
Не пора ли тебе покончить
Самострелом самоубийством
Как любил говорить покойник
Это было б тотальным свинством
Как любил говорить усопший
Хорошо застрелиться в общем
Как любил говорить загробный
Это было бы бесподобно
/это всё говорил ушедший
потому что он был сумасшедший/

Подходить с психиатрическими мерками к поэту такого масштаба представляется мне кощунством. Он был ненормален в том же смысле, что и любой выдающийся человек.
И именно поэтому мог с полным правом сказать:
Навсегда тупое быдло
победит подобных мне…

Пляска на помойке
Сейчас Сергей Чудаков весь разошёлся на эпиграфы и даже стал персонажем нескольких произведений.
Олег Михайлов сделал его главным героем своего автобиографического романа «Час разлуки», где он фигурирует под именем Смехачёв. Во втором его романе «Пляска на помойке» Чудаков возникает уже под собственной фамилией, как профессиональный сутенёр и сводник, поставляющий герою «невест», одна из которых станет его женою. В предисловии к его книге стихов «Колёр локаль» Михайлов перечисляет его прегрешения: «...кражи личного и государственного имущества, торговля живым товаром, шантаж респектабельных совлюдей (которых заражал сифилисом через подосланных малолеток), съемки порнофильмов, тюремные психушки— наша отечественная помойка. Русского Вийона зовут Сергей Чудаков...».
Да, конечно, по жизни, по складу своего ума и характера Чудаков, несомненно, был персонажем бодлеровско-вийоновского типа. Но глупо и нелепо по моральному облику судить о литературном даровании писателя. Главным делом своей жизни он считал поэзию. А Поэт он был от Бога.
* * *
Эта походка как старая лента
Синематичных директорских лож
Что вызывает в душе импотента
Не до конца позабытую дрожь
Перебирай же худыми ногами
Грубый асфальт каблучками дави
Секс это выжимка всех моногамий
Вместе с глотком коллективной любви
Ты неприлична и я безразличен
Оба мы старимся в русской грязи
Страх перед пошлостью преувеличен
Выпьем-ка водочки в этой связи
Боги событий партийные боссы
Организаторы массовых драк
Сунут в ответ на любые вопросы
К вашим ноздрям волосатый кулак
Что ж помолчим будем жить по старинке
В мелких грехах в деловой суете
И разрешим патефонной пластинке
Ряд бесконечных ее фуэте
Странная женщина ваша походка
Что-то напомнила или скорей
Это знакомо как бухта Находка
Или как вышки вокруг лагерей
Милая женщина встретиться с вами
Прорубь на полюсе я не совру
Отдохновенно как пауза в драме
И безнадежно как снег на ветру
«Этот мир простой и страшный обреченно обтекая, Как плевок на сотню брызгов я разбился об него» - писал московско-магаданский Вийон.
Л. Аннинский: «Он отсидел срок по какой-то уголовной статье, вернулся из заключения погасший, обрюзгший. У него появилась привычка натягивать почти на глаза вязаный шлем. В молодости он бегал простоволосый, не пряча желтого чуба — теперь даже в помещении сидел, как в маске».

Так кто же он такой, Сергей Чудаков?
Лев Аннинский: «То ли журналист, то ли литподенщик, то ли мелькавший, то ли мерцавший в московских редакциях 60-х годов. То ли гений, то ли полоумный чудак, то ли наивное дитя, то ли прохвост, занятый сомнительным бизнесом.
И просто уникальное существо, призрак, загадочно возникший и исчезнувший в разводьях “второй оттепели”.

Нет, нас воткнули не спроста
не вследствие ошибок в плане
на неудобные места
в постыдном этом балагане
где провоцируя успех
нахально сочетает автор
фальшивку театральных схем
с анатомическим театром
суфлер бумажную стопу
кривыми пальцами листает
герой безмозглую толпу
духовной родиной считает
и обнажив свое нутро
для похотливого кретина
все так же предает Пьеро
маниакально Коломбина
Дурак в ладошки лупит, взвыв,
Букет швыряет благодарный
.......................………………..
теперь как занавес пожарный
опустим водородный взрыв

Этот бред, именуемый миром,
рукотворный делирий и сон,
энтомологом Вилли Шекспиром
на аршин от земли вознесен.
Я люблю театральную складку
ваших масок, хитиновых лиц,
потирание лапки о лапку,
суету перед кладкой яиц.
Шелестящим, неслышимым хором,
в мраке ночи средь белого дня
лабиринтом своих коридоров
волоки, муравейник, меня.
Сложим атомы в микрокристаллы,
передвинем комочки земли –
ты в меня посылаешь сигналы
на усах Сальвадора Дали.
Браконьер и бродяга, не мешкай,
сделай праздник для пленной души:
раскаленной лесной головешкой
сумасшедшую кучу вспаши.
(«Муравейник»)

Он сам вывел формулу своей жизни:
амплуа сутенёра
продолженье отбора
положенье актёра
на подмостках позора
«Из этой одиночки задумал я побег...»

Стихи Чудакова близки по жанру к современным балладам. Они открывают нам злачный мир вертепов, притонов, тюрем, психушек и прочих маргинальных зон, которые были ему знакомы не понаслышке.
Смешав привычно водку и вино
я всё-таки сумел придти на явку
разнообразье в женщинах оно
из человека делает пиявку
И мой тяжелый алкогольный сон
виденьем прорезается как смыслом
я слышу голоса: подонок он
не чистит зубы месяц как не мылся
И постоянно рваные носки
столь специфичный источают запах
в итоге дегтя черные мазки
дают законченный портрет мерзавца
Он обречен и кончит он тюрьмой
все за версту обходят сифилитика
а я подумал сон то лично мой
и эти тексты только самокритика
В столице и в заброшенном краю
неважно в тунеядстве и сквозь хлопоты
мы создаем вселенную свою
она то разбегается то схлопывается
Захохотать и зарыдать старо
эстетствовать в стихах смешно и пресно
галактики центральное ядро
загадочно темно и неизвестно
А в мясорубку в синхрофазотрон
попасть всегда охотников до черта
но пусть пребудет алкогольный сон
спокойствием и точкою отсчета
В своём нежелании зависеть материально от советской власти Чудаков дошёл до сутенёрства. Он продавал девиц знаменитостям и сотрудникам посольства Республики Чад. При этом ловчил, мошенничал, надувал. Однажды, когда он обманул «лиц кавказской национальности», те поймали его и порвали ему рот. «Рот мне зашили потом в больнице бесплатно, - оклемавшись, хвастался он потом друзьям, - а сто зелёных — в носке!»
Пётр Вегин пишет, что Чудаков продал свой талант ради похоти. Это не так. Очевидно, с музой он был безупречней, чем с людьми. Муза так же капризна, как и слава, и часто бывает благосклонна не к порядочным и целеустремлённым, а к обитателям социального дна. Её не смущают в избранниках ни бомжовые привычки (Олег Григорьев), ни промышление воровством (Франсуа Вийон), ни регулярное посещение публичных домов (А. Блок), ни сексуальные аномалии (С. Парнок, М. Кузмин, Верлен, Рембо). Она не прощает лишь одного — корыстного к себе отношения. А Чудаков был безогляден и бесшабашен в своём разгуле. И по-бендеровски артистичен и обаятелен.
Светский романс
Мы с Вами повстречались на коктейле
В посольстве слаборазвитой страны
Мои маневры были так корректны
А Ваши ноги дьявольски стройны
А тут еще бесплатные напитки
Бесплатная зернистая икра
А тут еще бесплодные попытки
Занять до завтра полтора рубля
И сразу чувство грудь мою взорвало
И сердце мне ожгла как будто плеть
Ваш муж меня принявший за нахала
Вовсю меня пытался оттереть
И я представил: ночь на солнце юга
Вина со льдом приносит нам стюард
И ты лежишь, прекрасная подруга
В купальнике с отделкой леопард
Ваш муж ушел и с кем-то он вернулся
И этот “некто” сделал строгий знак
Рванул я на балкон и завернулся
В довольно пестрый иностранный флаг
Вас увезли в большом автомобиле
Меня рвало не находил я слов
Как будто в грудь мою ногами били
Десятки слаборазвитых послов
Провал в любви – причина недовольства
Отныне черный цвет в моей судьбе
С тех пор я больше не хожу в посольства
И не ищу конфликта с КГБ

Все эти авантюрные любовные приключения перемежались с криминальными практиками — сутенёрством и вымогательством (о них повествует стихотворение “Филипповой Лиде — заявление”).
Ах Лида, я погибну скоро
средств не предвидится ни пенса
прошу меня из сутенёра
скорей перевести в альфонса
И вот моя вам котировка
я буду стоить в день трояк
советская командировка
обходится примерно так
Зато у нас определенно
блистательно пойдут дела
но проследи чтобы Алёна
меня опять не предала
Любого трахнем мы мужчину
любой мужчина тайный пед
я подарю тебе машину
(с моторчиком велосипед)
Покончим с Рощей и маразмом
легко поступим в институт
отдастся нам с энтузиазмом
любой мужчина – проститут
Стихи, культура, наслажденье
любовники из разных стран
и это всё не наважденье
а трезвый и конкретный план
Воскликнет общество с прононсом
Сережа наш с недавних пор
великолепным стал альфонсом
а был паршивый сутенёр.
"Кульминацией секс-деятельности Чудакова стал снятый им самим по собственному сценарию фильм «Люся и водопроводчик», такое home video. В фильме играли: настоящий водопроводчик-мачо и некая юная дева. На деве Чудаков и его соавтор — учёный-филолог — и погорели". - рассказывает Виктория Шохина.
В начале 70-х Чудакова судили за растление несовершеннолетних и за активное участие в рынке юных наложниц. Он был едва ли не крупнейшей персоной в этом предприятии и стриг с него крупные купоны. Процесс был скандальным. Во время судебного заседания, улучив момент, когда речи и страсти блюстителей закона достигли апогея, а бдительность конвойных притупилась, Чудаков сиганул в окно прямо со скамьи подсудимых и, нимало не повредившись, приземлился на свободную землю. Ищи-свищи, поминай как звали.
Куда он делся — никто кроме него не знал. Москва захлёбывалась сплетнями. Одни уверяли, что его взяли через три дня в переделкинской роще, где он встречался с западным корреспондентом. Другие клялись, что накрыли его в подпольном бардаке и что якобы сам хозяин бардака заложил его ментам, заплатив тем самым дань и сам избегнув соответствующих мер наказания. Третьи говорили, что он уже в Голландии — смотался туда через Финляндию, «где у него куча знакомых чувих». Словом, варианты были на все вкусы, но никто его не видел как минимум три года.
В лютый декабрь 1973-го по художественным столичным кругам прошёл слух, что известный библиотечный вор и поэт, знаменитый сутенёр и великий знаток живописи и кино Сергей Чудаков замёрз в московском подъезде.

«Имяреку, тебе...»
На слух об этой смерти откликнулся элегией Иосиф Бродский, с которым до его отъезда они дружили.

На смерть друга
Имяреку, тебе, - потому что не станет за труд
из-под камня тебя раздобыть, - от меня, анонима,
как по тем же делам: потому что и с камня сотрут,
так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,
чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса -
на эзоповой фене в отечестве белых головок,
где наощупь и слух наколол ты свои полюса
в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок;
имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от
то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой,
похитителю книг, сочинителю лучшей из од
на паденье А.С. в кружева и к ногам Гончаровой,
слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,
обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфоделей,
белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,
одинокому сердцу и телу бессчетных постелей -
да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,
и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима.
Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,
чьи застежки одни и спасали тебя от распада.
Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и неважно.
В этом стихотворении Бродского в несколько зашифрованном виде оказались зафиксированы ключевые черты социального портрета Чудакова. Их «расшифровывает» Л. Аннинский в своей статье «Однажды в “Знамени”...» и его пояснения настолько любопытны и убедительны, что не удержусь от пространных цитат:

“Имяреку, тебе” — не очень гладко звучит, конечно. Хочется представить что-то более удобопроизносимое. “Человеку, тебе...” Или — какое-нибудь имя собственное. Например, “Смехачеву, тебе...”, “Чудакову, тебе...”. Но, кажется, отсутствие имени является здесь поэтическим условием. Апофеоз безличия. Послание анонима анониму. Фигуры, возникающие из “ничего” и исчезающие в “ничто”. Общение призраков, извлекающих друг друга из-под могильных камней. С тем и надо принимать это зазеркальное послание:
..как по тем же делам: потому что и с камня сотрут,
так и в силу того, что я сверху и, камня помимо,
чересчур далеко, чтоб тебе различать голоса
на эзоповой фене в отечестве белых головок,
где на ощупь и слух наколол ты свои полюса
в мокром космосе злых корольков и визгливых сиповок...
Перед нами портрет жителя страны, которую Бродский вослед иноку Филофею любит называть Третьим Римом, и эпохи, которую он издевательски именует Прекрасной. Эзопова феня — это жаргон литературных лукавцев, дурачащих власть. Белые головки — традиционный российский транквилизатор. Содомское подполье, полное злобы и визга, — коррелят подполья интеллектуального, полного укоризненной доброты и многозначительного молчания...
Бродский прорисовывает начало биографии своего анонимного героя. Разумеется, это “шестидесятник” и, разумеется, меченый лагерным клеймом, впрочем, как бы обернутым, он рождается не от жертв, а от палачей. То есть, попросту говоря, в семье начальника лагеря. И детство его проходит среди зеков, под постоянной угрозой гибели. Зная это, можно оценить точность сомнамбулических штрихов:
имяреку, тебе, сыну вдовой кондукторши от
то ли Духа Святого, то ль поднятой пыли дворовой,
похитителю книг, сочинителю лучшей из од
на паденье А.С. в кружева и к ногам Гончаровой...
Оценим “пыль”, оседающую на стих то ли с дворовой футбольной площадки, то ли с лагерного плаца. Оценим чуть позже и падение Пушкина (я процитирую стихи, но не Бродского, а этого самого “имярека”). А пока не будем отвлекаться: проследим дальше проступающий в калейдоскопе портрет полубомжа-полусутенёра, слушающего музыку трамвайных звонков (адресат — сын кондукторши, и наверное, трамваи для него в Магаданском лагере — божественная мелодия).

Вслушаемся дальше:
...слововержцу, лжецу, пожирателю мелкой слезы,
обожателю Энгра, трамвайных звонков, асфоделей,
белозубой змее в колоннаде жандармской кирзы,
одинокому сердцу и телу бессчётных постелей...
Энгр тоже неслучаен. В 1957 году во время московского Всемирного фестиваля молодежи, когда впервые обнаружилась в железном занавесе двухнедельная щель и будущие “шестидесятники” рванули на вернисажи смотреть полузапретную тогда западную живопись, я сделал в Сокольниках фотоснимок: молодая толпа, по стенам — полотна, зажатые лица тянутся — увидеть. Несколько лет спустя, уже познакомясь с человеком, о котором идет речь, я узнал его в толпе на снимке: господи, да ведь это Сергей!

Всемирный фестиваль молодёжи в 1957 году
Энгра он, разумеется, знал, как и вообще мировую живопись.

Энгр. Турецкая баня. 1862.
Он действительно был интеллектуал. Что не мешало ему быть вралём и жуликом (запросто мог спереть книгу). Насчет “бессчётных постелей” — тоже правда, и тоже обернутая: девочек этот ходок интенсивно клеил, но не для себя, а для бонз кинематографического и литературного мира, каковые и оплачивали ему этот живой товар.

Так что “мелкая слеза”, которую проливала какая-нибудь юная провинциальная мечтательница, рассчитывавшая поступить в престижный институт, а оказавшаяся в постели маститого писателя или режиссера, — слеза падала в жилетку именно Сергею, о чем он сам рассказывал мне, хвастаясь своей ловкостью.

Как это сочеталось с его эстетической одаренностью и одержимостью ценителя искусств, я понять не мог. Он способен был, оттолкнув престарелую билетершу, прорваться на закрытый кинопросмотр, а однажды, оформив все с помощью кипы бумаг, законно провел меня по запасникам Третьяковки, и именно благодаря ему я впервые по-настоящему вгляделся в русский авангард.
...да лежится тебе, как в большом оренбургском платке,
в нашей бурой земле, местных труб проходимцу и дыма,
понимавшему жизнь, как пчела на горячем цветке,
и замерзшему насмерть в параднике Третьего Рима...
Ну вот, Бродский верен себе: Рим задействован. Но эти древние чертоги и камни, эти тысячелетние тени (сейчас и Харон появится) — не знаки прочности и нетленности, а знаки эфемерности доставшегося нам бытия.

Тут становится окончательно ясно, почему Бродский так привязался к зыблющейся фигуре бескорыстного проходимца и солнечного бездельника: это же законченный и несомненный выходец из небытия и апологет псевдобытия, который должен раствориться в небытии, а для Бродского это ключевая тема:
...Может, лучшей и нету на свете калитки в Ничто.
Человек мостовой, ты сказал бы, что лучшей не надо,
вниз по темной реке уплывая в бесцветном пальто,
чьи застежки одни и спасали тебя от распада...
Потрясающее попадание — перекресток блуда, бреда и брода, на котором Бродский заставляет свою музу застывать в интеллектуальном отчаянии...
...Тщетно драхму во рту твоем ищет угрюмый Харон,
тщетно некто трубит наверху в свою дудку протяжно.
Посылаю тебе безымянный прощальный поклон
с берегов неизвестно каких. Да тебе и не важно.
С каких берегов — известно: Бродский, изгнанный из СССР, приземляется в штате Массачусетс, США. Но в данном случае это ему не важно. Именно потому, что это не важно его герою, адресату стихотворения. Потому что тот — мертв, под камнем. И с камня имя его тоже сотрется. И вообще: в основе всего лежит Ничто, и в финале будет Ничто».

Олег Михайлов сказал, что Чудаков любезно посторонился, пропуская Бродского к Нобелевской премии. Сказано, конечно, с перехлёстом - достаточно мысленно сопоставить масштаб сделанного в русской поэзии одним и другим. Но он безусловно прав в том, что Чудаков — незаурядный поэт, гениально выразивший своё время.
Весть о смерти в 1973-ем оказалась ложной, что было вполне в стиле Чудакова с его непредсказуемой эфемерностью.
На самом деле он прожил еще два десятка лет.
«Пушкина убили на дуэли»
Одно из стихотворений Чудакова, посвящённое Пушкину, Бродский называет “лучшей из од на паденье А.С. в кружева и к ногам Гончаровой”. Пушкин — знаковое имя для Чудакова.

А то попробуй оглянуться на
Прошедшее ретроспективным оком
Протянута гитарная струна
К тебе от Пушкина как проволока с током
Можно припомнить строки Пушкина: “Паситесь мирные народы…”, “На всех стихиях человек —/ Тиран, предатель или узник” — и поставить рядом с ними отклик Чудакова:
Образованы мы обеспечены мы
И без брода не кинемся в воду
Помогите укрыть беглеца из тюрьмы
Помогите борцам за свободу
Мой герой отвечает: какая борьба
Кто виновен и чья здесь заслуга
Раб за горло хватает другого раба
Два дракона сжирают друг друга
Пушкин присутствует в стихах Чудакова постоянно, он его вспоминает, цитирует, именем Пушкина перекликается с прошлым и настоящим. Но то, упомянутое Бродским стихотворение, действительно, кажется, лучшее из лучших:

Пушкина играли на рояле
Пушкина убили на дуэли
Попросив в тарелочку морошки
Он скончался возле книжной полки
В ледяной воде из мерзлых комьев
Похоронен Пушкин незабвенный
Нас ведь тоже с пулями знакомят
Вешаемся мы вскрываем вены
Попадаем часто под машины
С лестниц нас швыряют в пьяном виде
Мы живем – тоской своей мышиной
Небольшого Пушкина обидев
Небольшой чугунный знаменитый
В одиноком от мороза сквере
Он стоит (дублер и заменитель)
Горько сожалея о потере
Юности и званья камер-юнкер
Славы песни девок в Кишиневе
Гончаровой в белой нижней юбке
Смерти с настоящей тишиною.

Все четвертьтона и полумеры
Холостые залпы в пустоту
Пушкин умирает от холеры
Не доехав Болдина версту
Конского навоза листьев дряни
Слиплось на подметках и ступнях
Осенью еще готовят сани
И стоят одной ногой в санях
Ноги по задрипанной одежке
Вытянул и выгнулся хребтом
Хрипло просит «дайте мне морошки»
Это он успел сказать потом
В измереньи божеского срока
На расхристьи дьявольских стихий
Догорят в библиотеке Блока
Пушкина бессильные стихи
Синь когда-то отшумевших сосен
Пустота сводящая с ума
Что такое Болдинская осень
Я не знаю – в Болдине зима
А вот не менее гениальное о Лермонтове:

Неуемный приятель шотландец Лермонт
Ты убит ты закрыт на учет и в ремонт
Повернулся спиною к тебе горизонт
Прекращается бал все уходят на фронт
Твой чеченец лукаво на русских смотрел
Он качал головой на всеобщий расстрел
Для него стихотворный стирается мел
Лишь слегка проступается буквою «эл»
Неужели тебе ненавистна резня
Лучше с бабой возня или с властью грызня
И сказав без меня без меня без меня
Ты мерцаешь блазня и прощаешь дразня
Где-то в слове Россия есть слово топор
В чьей широкой щеке для гаданья простор
Как младенец открой перевернутый взор
На безумье на скуку на выстрел в упор
Это было прошло но подумай старик
Для чего протекает река Валерик
Сквозь меня сквозь тебя через весь материк
Это кровь или только панический бзик
Император сказал посещая бордель
Мир Европы правительства русского цель
Стонет бабка в Тарханах связался Мишель
С подзаборной камелией Омер де Гелль
Для бежавших презревших классический плен
Это ордер на смерть стихотворный катрен
И одну из не самых удавшихся сцен
Горизонта спасает мистический крен
Мы серебряной цепью замкнем фолиант
Чтобы в нем не копался доцент-пасквилянт
Чтобы сунуть не смел ни в донос ни в диктант
Каплю крови рубин и слезу бриллиант
Окончание: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post222648233/
|
|
Процитировано 4 раз
Понравилось: 1 пользователю
Неизвестный гений |
Опубликовано в журнале "Семь искусств": http://blogs.7iskusstv.com/?p=14299
Начало здесь

Что за странненькая точечка
у Кремля блестит, дрожит –
не Серёжина ли строчечка
гениальная лежит? -
писал Е. Евтушенко.
Серёжа — это Сергей Чудаков. 31 мая ему могло бы исполниться 75. Судьба распорядилась иначе.
Навсегда тупое быдло
Победит подобных мне
Я проснулся это было
В безобразном русском сне. -
писал он в одном из своих пророческих стихотворений. Но стихи его оно победить не смогло.
А бывает Каина печать
вроде предварительного шрама
Пастернак и мог существовать
только не читая Мандельштама
Пастернаку Сталин позвонил:
«Мы друзей иначе защищали»
позвоночник он переломил
выстрелил из атомной пищали
Где найти такой последний вздох
в личном шарме в лошадином дышле
чтобы не слыхать ни ах ни ох
чтобы встали все и молча вышли
Где найти такой последний вздрог
невозможный как в конце оргазма
речь идет о выборе дорог
в месиве триумфа и маразма
Где найти такой последний вклад
(пьяницы последний рубль и доллар)
лихо как сожженный конокрад
жертвенно как анонимный донор
Чудакова ценили Андрей Тарковский и Иосиф Бродский, слушали Анатолий Эфрос и Илья Эренбург… Он был всем интересен. И стихи его завораживали всех, кто их слышал.
«Колёр локаль»
Стихи его дошли до нас чудом. Жизнь посвятив стихам, Чудаков был крайне равнодушен к их судьбе. Писал на чём попало — на обёрточной бумаге, на уворованных из «Ленинки» или у приятелей книжках или просто надиктовывал кому-нибудь по телефону. И тут же о них забывал, никогда не хранил, будучи живой иллюстрацией к стихотворению Пастернака ("Не надо заводить архива..."). Никаких черновиков, никаких авторизованных беловиков от Сергея Чудакова не осталось. Их собирал его друг литературовед Олег Михайлов, но однажды неосмотрительно ему показал, и тот, улучив момент, выкрал у Михайлова свое собрание сочинений, а потом потерял.
Но рукописи не горят, как известно. Стихи отправлялись в путешествие — подобно записке, которую терпящий кораблекрушение запечатывает в бутылку и без всяких надежд бросает в море. Они постепенно всплывали в Интернете то у одного, то у другого пользователя.
Чудаков – один из авторов самиздатовского альманаха «Синтаксис» (1959) и пятитомной антологии «Голубая Лагуна», вышедшей в США под редакцией Константина Кузьминского.
А в 2007 году была выпущена первая книжка его стихов под названием «Колёр локаль», которая собрала уцелевшее наследие Сергея Чудакова. Книжка мгновенно разошлась, и в 2008 году вышло второе её дополненное издание.

Сергей Чудаков. Колёр локаль./ Cоставитель И. Ахметьев. Подготовка текста И. Ахметьева, В. Орлова— М.: Культурная революция, 2008. - (Серия “Культурный слой”). — 176 с.
Аннотация к книге гласит:
«Сергей Иванович Чудаков (р.1937; к сожалению, нет достоверных сведений о его судьбе после начала 1990-х) - один из лучших, по нашему мнению, поэтов своего времени. С конца 1950-х он был известен как талантливый журналист, писавший о литературе, театре и кино (некоторые его рецензии выходили под чужими именами). Начиная со знаменитого самиздатского "Синтаксиса" (1959), публиковались и некоторые его стихи (но, в основном, естественно, не в советской печати). Стихотворения публикуются по машинописному сборнику из архива Д. Н. Ляликова, архиву "Синтаксиса" и другим источникам».
Название сборнику дали строки Чудакова:
вино застывшее горит
в нем славно грешникам вариться
все это местный колорит
колёр локаль как говорится
Магадан
Родился Сергей Чудаков в 1937 году в Магадане, в семье рано умершего генерала, начальника лагеря, и до восьми лет жил на Колыме.

Вследствие этого от каких-либо иллюзий с детства был свободен:
если жить в стране насилия
бередить сомнения
то напрасны все усилия
самосохранения

Видимо, впечатления лагерной жизни наложили на него свой отпечаток, вылившись в неукротимую жажду свободы.

Подними перо гусиное
исправляя почерк
полицейские усилия
отбиванья почек
Слово падает в чернильницу
на обратной съемке
мчится юность – труп червивится
на Колымской сопке

В тяжелом сне так хрипло узник дышит
Ползут клопы раскачивая нары
Кто был в тюрьме, о ней стихов не пишет
А пишет прозу или мемуары
Как праздник здесь больница и аптека
Собака здесь не друг для человека
Здесь пиршество богов почти диета
И седина как снег в начале лета

Евтушенко писал в посвящённом Чудакову стихотворении:
Хоть не вырос он зашибленным
человеками с ружьем,
был отец – властей защитником,
сын – зачинщиком рожден.
И его прости ты, Господи,
что он век не угадал,
и за то, что он пронёс, поди,
в сердце с детства Магадан.
Чуть похож на князя Мышкина,
на блаженненьких бродяг,
в ЦДЛ вносил под мышкою
солженицынский «ГУЛАГ».

Москва
По другим данным (Иван Ахметьев), Чудаков родился всё же в Москве. Жил на Кутузовском проспекте.
Москва 1957 года
Не стреляйте я военопленный
Добивайте я еще живой
Старомарьинский, Кривоколенный,
Скатертный, Медвежий, Ножевой.
Время шаг печатает солдатский.
(В жир асфальта вдавлены следы)
О как молод был я, Старосадский
Где же эти старые сады?
Я усыновленный и бездетный
Прислоняюсь к вам больной душой,
Толмачевский и Старомонетный
С Якиманки Малой и Большой
свобода, пришедшая с запада
В Министерстве Осенних Финансов
Черный Лебедь кричит на пруду
о судьбе молодых иностранцев,
местом службы избравших Москву.
Вся Москва, непотребная баба,
прожигает свои вечера.
На столах серпуховского бара
отдается ее ветчина.
Франц Лефорт был любитель стриптиза:
«всье дела» он забросил в сортир,
и его содержанка актриса
раздевалась под грохот мортир.
Табакерка не выдаст секрета,
охраняет актрису эмаль.
Музыкальная тема портрета
до сих пор излучает печаль.
В ассамблею, на верфь и на плаху
не пошлет маркитантки рука.
Отчего же я морщусь и плачу,
не вдохнув твоего табака?
Облик
Фотографий Чудакова не сохранилось, за исключением одного маленького и невразумительного снимка, поэтому то, как он выглядел, можно представить лишь по описаниям его друзей и знакомых.
Мемуаристы отмечают скуластость, лохматость, лёгкую шепелявость, необычный взгляд («горящие искорками весёлого безумия глаза чуть навыкате»), облик юрода, неизменное бежевое пальто с большими клапанами-застёжками...
Сергей Боровиков:
«Это был веселый сорокалетний малый— пузатый, с подбитым глазом, в женской шерстяной зеленой кофте».
Анатолий Брусиловский: "Чудаков был удивительно похож на Артюра Рембо, «… скуластое, притягательное лицо и шапка светлых волос. Но, пожалуй, главным в его лице была постоянная широкая улыбка крепких белых зубов. И авантюризм без края".
Герман Гецевич:
"Когда в начале 90-х годов мы случайно встретились в ЦДЛ, я увидел небрежно одетого человека, чье лицо было изрыто пороками жизни. На нем отчетливо проступали следы глубочайшего алкоголизма, страдания, одиночества… Но в глазах поблескивала та завораживающая безуминка, которая и сформировала его творческую индивидуальность, отличающуюся от миллионов мастеровитых версификаторов, в чьих словах и поступках вместо мужества и риска лишь тишь да гладь да божья благодать. Подсев к нам за столик, он напористо произнес: «Дайте мне одно ваше стихотворение, и я скажу, поэт вы или нет…"
Лев Аннинский:
«Он был строен, хотя рассмотреть это было непросто: “бесцветное пальто” болталось на нем, потому что и застежки бывали не все. У него были нестриженые, торчавшие желто-серые волосы (как у лесковского Левши на лубочных иллюстрациях). На небритых щеках и подбородке — детский пушок. Если же, не цепляясь за космы и застежки, всмотреться в его лицо, то можно было заметить, как изящны черты этого точеного лица и как прекрасны светлые, внимательные, настороженные глаза его.
Воображаю, как бы он заржал, если бы при жизни я брякнул ему что-нибудь подобное.»
Пётр Вегин:
«Очаровательный синеглазый наглец, брызжущий интеллектом. Шопенгауэр и Штайнер для него то же, что Вася и Саша — свои ребята. Сквозь лицо наглеца просвечивает синеглазый рублёвский инок. Под мышкой всегда пачка книг, из которых торчат мятые листки, закладки, машинописные страницы. Человек, которому незнакомо ни чувство стыда, ни краска смущения».
А вот как описал себя сам Чудаков:
В пальто с какого-то покойника
Приехал полумертвецом
Наверно соловья-разбойника
Напоминаю я лицом
Непохожий на всех
Сергей Чудаков не мог и не хотел быть похожим на всех. В этом была и его сила, и его трагедия.
Миллионы эпигонятся
Эпигоны миллионятся
И ползет кручина-ноченька
Сквозь сопливые деньки:
Вместо флейты-позвоночника
Сплошь свистульки-позвонки.
Он родился в 1937-ом и по хронологии должен бы принадлежать к поэтам-шестидесятникам, но на деле совершенно не вписывался в их когорту. Диссиденты отвергали большевистскую власть, Чудаков же, подобно Бродскому, её просто не замечал. Игнорировал. Шестидесятники как могли выживали и утверждали себя, пытаясь обмануть власть предержащих, обойти их на крутом вираже, но при этом всё же сосущестствуя с этой властью.

Кроме того все они были одержимы собственной популярностью, всячески стремясь к ней. И только один Чудаков жил вольно, как ветер в поле — похабно, грязно, недостойно отпущенного ему таланта, но так, как хотел он.
Не случайно его книга была названа «Колёр локаль», ведь ее автор по существу сам являлся ярким локальным цветом за пределами поэтического спектра шестидесятников, чья эстетика насквозь пропитана социальным пафосом тех лет. Дерзкие, ироничные высказывания Чудакова выпадают из этого контекста хотя бы потому, что никто из представителей официальной литературы советской эпохи не осмелился бы употребить в те годы в своих произведениях слово «секс». Это было ненормативное, нецензурное, непристойное слово, которое применялось в основном в разговорной устной речи, а не в печати. Чудаков же выплевывает его с присущей ему лёгкостью и непринуждённостью абсолютно свободного человека:
С милицейских мотоциклов
Документы проверяют
По наклонной по наклонной
По наклонной я качусь
Я законный я исконный
Ультралюмпенпролетарий
Кроме секса кроме страха
Я лишен гражданских чувств.
***
Здесь ваш Родос, здесь извольте прыгать
в дьявольский котел в кипящий деготь
для участья в перегонке дегтя
в каждый мозг вбивают чувство локтя
Здесь ваш Эрос измельчат на силос
мол держи карман как держат фаллос
шанс пропал и то что не приснилось
хуже чем сгорело и взорвалось
В то время как другие поэты стремились очистить от наслоений образ Ленина, Чудаков писал в своём сонете «Вниз по матушке», посвящённом вождю мирового пролетариата:

Ильич отсель наш агнец лысоватый
был вундеркинд, а ныне экспонат
висел в петле его мятежный брат
играла мать кучкистские сонаты
В те времена это было неслыханно.

Про Ленина, кстати, он вспомнил на саратовском пляже:
Тела коммунистических наяд
на пляже весь частушечный Саратов
купальник желт бел розов и салатов
брег оседлав другой в экстазе азиат.

Я хочу вина и пива
Станет легче на душе
С точки зрения Разлива
С милой рай и в шалаше
Положение такое
Мы хотели бы достичь
Чтоб с полтинника рукою
Путь указывал Ильич
Чудаков легко переходил от конкретных обстоятельств к обобщениям, глядя как будто с птичьего полета, не отрываясь при этом от земли, от крови и грязи, но расширяя зрение и мысль:
В истории много пропущено
Но видится в том интерес
Когда в камер-юнкера Пушкина
Стреляет сенатор Дантес
Не как завсегдатай притонов
За честь, а отнюдь не за чек
Прицельно стреляет Мартынов
Честняга простой человек
Нет, это не мальчик влюбленный
И даже не храбрый Мальбрук
А просто поручик Соленый
С особенным запахом рук
Внизу мелкота копошится
Снегами белеет гора
В истории всюду вершится
Убийство во имя добра
Пусть это пройдет в отголоске
Какой-то вторичной виной
Расстрелян в советском Свердловске
Один император смешной
И вот наша новая школа
Строкою в поток новостей
Расстрелян наследник престола
Почаще стреляйте в детей
На площади или в подвале
В нетрезвом матросском бреду
Мы раньше людей убивали
Теперь убиваем среду
Как сказочно гибнет принцесса
Реальная кровь на стене
Смертельные гены прогресса
Трепещут в тебе и во мне
Гибель предсказана и пережита в этих стансах. Скрипит "калитка в Ничто", трепещут обреченные гены...
«Останусь псевдонимщиком и негром»
В книге Чудакова опубликован его очерк для газеты “Московский комсомолец”, датированный 1965 годом. Это эссе должно было быть опубликовано под чужой фамилией (Чудаков среди прочих своих занятий подрабатывал литературным “негром”). Оно поражает своим энциклопедизмом — на нескольких страницах очерка, посвященного избранным городским деревьям, Чудаков успевает отослать читателя к стихам А. Межирова, Н. Заболоцкого, А. Ахматовой, римского поэта Флора, а также упомянуть философскую систему японского мыслителя Кумадзавы Бандзана (1619—1692).
«Никто так не знал кино, особенно иностранное, как знал Серёжа Чудаков. Тарковский и Эфрос к нему прислушивались, Хуциев побаивался его категорических советов, и вообще это был самый остроумный человек в Москве», — свидетельствует артист Лев Прыгунов.
Из мемуаров бывшего министра культуры Е. Сидорова «Записки из-под полы»:

«Сергей Чудаков – уникальная личность нашего воспалённого и вдруг увядшего времени.
Мне скучно, бес! Без Чудакова мне скучно. Вот чего в нём никогда не было, так это пошлости, пыльной ординарности.
Впервые я увидел его в 1955 году мальчиком, как и я сам, штурмующим факультет журналистики МГУ.
 .
.
Надо было (без блата) набрать 25 баллов из 25. Он набрал, я – нет и сошёл с дистанции.
На вступительном экзамене по истории мы случайно оказались рядом, и я заворожённо слушал его рассказ про Сталинградскую битву. Заслушались все, кто оказался в аудитории, включая экзаменующую меня аспирантку. Чудаков сыпал такими деталями, которые и не снились составителям учебников, даже не предчувствующим совсем близкого XX съезда КПСС.
Потом жизнь то и дело сталкивала нас, но не всерьёз. Он приходил печататься в «МК», бывал в «Юности», на кинопросмотрах. В принципе мы были людьми, чуждыми друг другу.
О нём говорили всякое: провокатор, библиотечный вор, поставщик девочек, устроитель порносалона, завсегдатай психушек, ничего не знаю. Для меня он поворачивался только одной стороной своего красочного характера: увлекающей любовью к искусству.
Как чёрт из коробочки, он внезапно выскочил из-за кулис ЦДЛ во время известной дискуссии 1977 года «Классики и мы». До этого давным-давно он не появлялся в поле моего зрения, и я даже думал, что его уже нет на свете.
Ещё через пару лет, накануне моей первой поездки в США, он опять вдруг возник на улице возле Тишинского рынка и сказал, как будто мы только что расстались и продолжаем разговор (и как будто я близко знаком с Бродским): «Передай Иосифу то-то и то-то»...
Чертовщина в Чудакове была несомненно и какая-то погубленная положительная одарённость. Его вдохновенный аморализм сочетался с безусловной артистичностью. Может быть, он являлся маленьким художественным Азефом при агонии Большого Брата?..»

Сергей Чудаков с конца 50-х годов был широко известен в узких кругах не только как поэт, представитель неофициального искусства, но и как журналист, который в качестве «литературного негра» писал статьи, публиковавшиеся под чужими именами. Редакторы печатали его высокохудожественные статьи, эссе, рецензии, обзоры под именами других, купивших у автора тексты и сделавших потом себе имена в филологии.
Вспоминает Лев Аннинский:

«Дело в том, что я был сотрудником журнала “Знамя” в те самые 60-е годы, когда Сергей Чудаков появлялся в редакциях. Он и к нам забегал — погреть душу или перехватить чего-нибудь для тела, как выйдет. Почему к нам? Да вряд ли такого бомжа пустили бы на порог принципиальные новомировцы, и вряд ли такого демонстративно безыдейного типа стали бы терпеть в идеологически чистом “Октябре”. А мы были беспринципны и могли позволить себе пригреть человека просто потому, что у него из всех пор дикого тела светилась одаренность. Пару раз мне удалось протолкнуть в “Знамени” его рецензии. Для этого пришлось только слегка их подпортить, то было отнюдь не “убийство во имя добра”, а косметическая имитация официально необходимой логики: я это делал, стараясь не задеть нервной ткани текста. Сергей все понимал и терпел, хотя громко проклинал меня, чтобы я чувствовал, как он видит меня насквозь.

Самое хитрое было — протащить его тексты сквозь “второй этаж”, где сидела курировавшая отдел критики Людмила Ивановна Скорино. Как ни странно, это “паче чаяния” получалось. Видимо, Сергей пробуждал в почтенной матроне от критики материнские чувства. Она говаривала: “Мы из этого битничка сделаем человека”. Сергея даже взяли на месяц в штат — сидеть “на стихах” вместо убывшего в отпуск сотрудника.
Сидеть на месте он органически не мог. Сделаться “человеком” не захотел».
Останусь псевдонимщиком и негром
Сожженной пробкой нарисую грим
Просуществую каторжником беглым
От плоти толп ничуть не отделим
На сборищах с оттенком либеральным
В общественных читалищах стихов
Приятно быть мне существом астральным
Актером не произносящим слов
О суетный! вернись в свою конуру
Омой лицо домашнею водой
Мучительно играть в литературу
И притворяться голубой звездой
Постигни как и я обыкновенье
Короткой жизни продлевая нить
В остывший чай накладывать варенье
С простой подругой скромно говорить
Лишний
Чудаков обладал энциклопедическими знаниями и чудодейственной лёгкостью пера в любом жанре — будь то стихи, эссе или рассказы. Блестяще разбирался в живописи, в кино. Редакции были напуганы его экстравагантностью — так, во время кампании против Солженицына, Чудаков открыто расхаживал с «Архипелагом Гулаг» под мышкой.
На 3-ем курсе факультета журналистики МГУ, будучи профоргом, он ухитрился провести студенческое собрание, потребовавшее отстранить от чтения лекций наиболее бездарных преподавателей, и с волчьим билетом был изгнан из альма-матер.
Талант его изредка проблёскивал, прорываясь, как, например, в «МК», но чаще подавлялся на уровне рукописи. Чудаков рано понял, что его дар, его жадно поглощавший знания мозг не нужны обществу, которое отторгло его.

Когда кричат:
«Человек за бортом!»
Океанский корабль, огромный, как дом,
Вдруг остановится
И человек
верёвками ловится.
А когда
душа человека за бортом,
Когда он захлёбывается
от ужаса
и отчаяния,
То даже его собственный дом
Не останавливается
и плывёт дальше.

Чем подорван организм?
Блядством, нервами, куреньем.
Вот и встретишь коммунизм
Хворями и настроеньем
Нездоровый цвет лица,
Шалость сердца или почек
Обывателя-жильца
В поликлинику листочек.
Ты не сделал ничего.
Не расслышан и не понят
Сколько их, куда их го-
Сколько их, куда их гонят...
Пустяковина одна
Где-то лопнет в человеке,
Потому что жизнь скучна,
Словно очередь в аптеке
Вот слюною брызжет шприц,
Он скрипя вонзится в мякоть
И кортеж осенних птиц
Над тобою будет плакать.
Кто ты? Деятель и зритель,
Битник, вождь народных масс?
Смерти пятновыводитель
Без следа выводит нас.
УЛИЧНЫЙ ХУДОЖНИК

О нет, он мелочи не просит
Здесь не Париж – СССР
Он карандаш вперед выносит
И пальцем пробует размер.
Зачем, страна, тебе художник
И красок сохнущих Сократ?
Подъесаул и подхорунжий
Тебе полезней во сто крат.
* * *
Пианино диваны ковры
Полированные буфеты
А над ними как топоры
Термоядерные ракеты
Комфортабельный быт мещан
Онанизм в солдатских казармах
Поклоненье таким вещам
Мне в порядке вещей казалось
Это столп или крепкий оплот
Социальный литой фундамент
То что жизнь твою напролет
Как могильная насыпь давит
Импотентов позорный бордель
Из газетной построен бумаги
Люди склеились как карамель
В теплый день на прилавке в сельмаге
Боже-Господи, выдь на момент
В этот мир твой полутораспальный
И зубной социальный цемент
Преврати в динамит социальный
«О душа, покрытая позором...»
Думаю, иным текстам Чудакова еще суждено сделаться хитами:
Предъявили мне бумажку
Разрешили мне сказать
Дайте чистую рубашку
Перед тем как расстрелять
И почти убитый даже
Я сквозь холод ледяной
Вспомню как лежал на пляже
Рядом с девушкой одной

Наверное, не я одна заметила, как напоминают эти и многие другие строчки интонацию Бориса Рыжего. Вряд ли того миновало влияние Чудакова.
Звучит рояль и зал немеет
Маэстро просят повторить
Сын человеческий не смеет
Главу где-либо преклонить
О чем шумишь чего пророчишь
Разнорабочий и Шекспир
Не собери себе сокровищ
Не сотвори себе кумир
Хлеб не нуждается в рекламе
Стакан вина так прост на вид
И в золотой фальшивой раме
Портрет любимой не стоит
Поэтические тропы Чудакова удивительны и естественны, как сама жизнь:
О, душа, не уходи из тела
Без тебя я как пустой бокал...
К продавщице штучного отдела
Я безумной страстью воспылал
Как приятно быть интеллигентом --
На допросах говорят "на Вы"
Мол, читали "Доктора Живаго"?
Мы вас высылаем из Москвы.
Что ж, напьюсь, пускай возникнет пьянка
Спутник пьянки - головная боль.
О душа, ты как официантка
Подаешь дежурный алкоголь.
О душа, покрытая позором,
Улетай, но только не сейчас.
Ангел притворяется лифтером,
Прямо к звездам поднимая нас.
(«Плебейский романс»)

И вот среди звезд и плеяд в книжной вселенной появилась причудливо светящаяся точка. Это звезда Поэта Сергея Чудакова.

Естественный трагизм
Ницшеанство (“человек лишь тот кто из пределов собственных выходит”) и показная богемность сочетались в нём с искренностью и отчаяньем, жесткая ирония с нежностью, гениальная одаренность с видимым пренебрежением своим даром. Чудаков сам вывел формулу: “Шифром гибели стих возникает/ На полях недочитанных книг”. Он легко создавал поэтические афоризмы, в стихах был легок и непринуждён, обаятелен и трагичен, это был естественный, как дыхание, трагизм, звучащий даже в шуточных стихотворениях.
Этот мир простой и страшный обреченно обтекая
Как плевок на сотню брызгов я разбился об него
А вокруг толпа сгустилась мне подобных обрекая
Муравьиного безумья совершилось торжество
Бога нет и вместо бога не придумали протеза
Чтобы в рамках джентльменских это быдло удержать
Но ученый с пятым пунктом взял контейнер из железа
И вложил кусок урана с маркой 235
* * *
Самоубийство есть дуэль с собой.
Искал ты женщину с крылатыми ногами,
Она теперь заряжена в нагане,
Ружейным маслом пахнет и стрельбой.

***
В сложном щебете мартовских птах
Бродит смерть как последняя лажа
Будет съемка обратная прах
Антиснег крематорская сажа
* * *
Оркестр слепых калек музицирует в крематории
Советский ТV ведет свои передачи
О, как мы скверно горим, торфяные брикеты истории,
Чем дешевле эпоха, тем дороже всегда переплатишь.
***
кристалл замерзшего вина
с густым сиянием лиловым
россия в нем отражена
чудовищем мильонголовым
***
В аду кругов безумный хула хуп
колец Сатурна извращенный вывих
кругом сплошной подземный переход
и только нет нигде таблички выход

* * *
То, что ты меня берёшь
розовым, дрожащим ртом,
не закроет эту брешь,
ждущую меня потом...
Большинство его стихов выглядит написанными разом - небрежно и легко.
* * *
Если б стать невзначай предложили
консультантом – профессором мне
я б оставил лишь два: страх России
и любовь к этой скучной стране

***
Как странен грешник не на сковородке,
Цветок в петлице, узник без решетки,
Нога одна зимой в холодной шорте
И человек советский на курорте
* * *
Читаете вы Бокля
Не стоит этот Бокль
Хорошего бинокля
Возьмите-ка бинокль

Оранжевая золотая
С дубов слетает с кленов с ив
Лесные власти отступая
Бросают в панике архив
***
хочу любить тебя я нонна
пришла пора и сердце тает
хочу звонить тебе я но на
звонок мне денег не хватает
* * *
В перехлесте случайных связей
Разбегающейся вселенной
Избегайте случайных связей
С точки зрения гигиены!
А вот какая упоительная перекличка с мандельштамовским «Silentium»:
Так заслонимся створками окна
От шабаша наивнейших растлений
Стань шкурой кисть стань холст пучками льна
В костер сонет и не рождайся гений
Ну как не сказать: «Ты, Моцарт, Бог, и сам того не знаешь!»
«О, Боже, я предельно одинок»
Чудаков выжег себя, вытравил, но, вероятно, в “месиве триумфа и маразма”, когда “жизнь скучна словно очередь в аптеке” иного быть не могло. Редко кто в наше время столь остро выражал ощущение полного одиночества:
Я озаряем светом из окон,
Я под прицелом власти и закона.
Вот человек выходит на балкон,
Хотя еще не прыгает с балкона.
Какая ночь, какой предельный мрак,
Как будто это мрак души Господней,
Когда в чертог и даже на чердак
Восходит черный дым из преисподней
О, Боже, я предельно одинок,
Не признаю судьбы и христианства,
И, наконец, как жизненный итог,
Мне предстоит лечение от пьянства.
Подходит мальчик «Дядя,- говорит,-
Зачем ты пишешь все на этой книжке?»
И я участник, маленький бандит,
В твоей необольстительной интрижке.
Я встану и теперь пойду туда,
Где умереть мне предстоит свободно.
Стоит в реке весенняя вода,
И в мире все темно и превосходно.

Я копаю землю в чужом саду
Развожу руками чужой беде
Рыбу ловлю в чужом пруду
В мутной чужой воде.
И вот нетипичный случай один
Плачешь один и смеешься один
Пьяный в канаву ложись один
Попался! ну что ж, отвечай один.
Как хорошо если бы был я слепой
Плакать с толпой и смеяться с толпой
* * *
Поставлю против света
недопитый стакан
на ёлочках паркета
гуляет таракан.
Я в замке иностранном
как будто Жанна д'Арк.
Система с тараканом
домашний зоопарк.
Положен по закону
простой советский быт
ушами к телефону
приклеен и прибит.
Я вижу в нём препону
не надо ждать звонков
никто по телефону
не скажет Чудаков.
Ещё на полкуплета
литературный ход
на ёлочках паркета
встречаю новый год.
Пью залпом за Бутырку
на скатерти пятно
прибавь расход на стирку
к расходам на вино.
Из этой одиночки
задумал я побег.
Всего четыре строчки
и новогодний снег.
Я не возьму напильник
я не герой из книг
мой трезвый собутыльник
лишь в зеркале двойник.
Увы законы жанра
банальности полны.
Спокойной ночи Жанна
нас ожидают сны.

Продолжение: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post222639091/
|
|
Процитировано 5 раз
Близкий всем, всему чужой (окончание) |

Начало здесь
Продолжение здесь
При жизни о Волошине говорили немного и невнятно - «эстет с внешностью кучера», «галломан, пишущий по-русски, будто по-французски», величали коммивояжером от поэзии и мистиком. Он не вписывался в формулы даже склонного к плюрализму предреволюционного художественного мира. В формулы пореволюционые не вписывался тем более и был открыт заново лишь с выходом маленького томика «Библиотеки поэта» в 60-е годы.
Сорок лет имя М. Волошина находилось под негласным запретом. Первое упоминание его в положительном аспекте позволил себе в 1960 году И. Эренбург в мемуарах «Люди, годы, жизнь». Но даже и тогда мгновенной реакцией на них были статьи маститых критиков, которые писали: «Волошина как значительного поэта Эренбург просто придумал». «В поэзии Волошин был одним из самых незначительных декадентов, к революции он отнёсся отрицательно».
Это было главным обвинением, критерием отношения к поэту. «Революцию не принял, не понял». А раз так — ату его! О чём в таком случае говорить. Хотя он-то как раз один и понял. Понял то, что мы все очень поздно начали понимать. Понял каким-то провидческим чутьём ещё до того, как революция свершилась.
Пророк в своём отечестве
9-го января 1905 года 28-летний Волошин приезжает из Москвы в Петербург и становится свидетелем «кровавого воскресенья».


Он подробно опишет увиденное в очерке «Кровавая неделя в Санкт-Петербурге» и закончит предсказанием: «Эти дни были лишь мистическим прологом великой народной трагедии, которая ещё не началась. Зритель, тише! Занавес поднимается...» То же предсказание в его стихотворении «Предвестие»: «Уж занавес дрожит перед началом драмы...»

Апокалипсическая картина надвигающейся трагедии нарисована им в стихотворении «Ангел мщенья» (1906), где «скорбный ангел мщенья» возвещает народу русскому:

Я синим пламенем пройду в душе народа,
Я красным пламенем пройду по городам.
Устами каждого воскликну я «Свобода!»,
Но разный смысл для каждого придам.
Меч справедливости - карающий и мстящий -
Отдам во власть толпе... И он в руках слепца
Сверкнет стремительный, как молния разящий, -
Им сын заколет мать, им дочь убьет отца.
Не сеятель сберёг колючий колос сева.
Принявший меч погибнет от меча.
Кто раз испил хмельной отравы гнева,
Тот станет палачом иль жертвой палача.
А марте 1917-го Волошин наблюдал революционный парад на Красной площади. Под Кремлёвскими стенами проходили войска и группа демонстрантов.
И вдруг в какой-то момент красные кумачовые пятна на фоне чёрной московской толпы показались ему кровью, проступившей из-под камней Красной площади, обагрённых кровью Всея Руси. Придя домой, поэт записывает в дневнике:
«И тут внезапно и до ужаса отчётливо стало понятно, что русская революция будет долгой, безумной, кровавой, что мы стоим на пороге новой Великой Разрухи русской земли, нового Смутного времени. Когда я возвращался домой, потрясённый понятым и провиденным, в уме слагались строфы первого стихотворения, внушённого мне революцией. Но эти стихи настолько шли вразрез с общим настроением тех дней, что их немыслимо было ни печатать, ни читать. Даже в ближайших друзьях они возбуждали глубочайшее негодование».

Это негодование и непонимание не только врагов, но и друзей сопутствовало ему всю жизнь.
Один среди враждебных ратей -
Не их, не ваш, не свой, ничей -
Я - голос внутренних ключей,
Я - семя будущих зачатий.

Над схваткой
Когда началась I мировая война, он единственный не поддался шовинистическому угару.

Гумилёв восторженно славил «дело величавое войны», Северянин кричал: «Я поведу вас на Берлин!»... А Волошин выпускает сборник «В год пылающего мира 1915», где выражает свою позицию полного неприятия международной бойни:
Не знать, не помнить и не видеть,
застыть как соль, уйти в снега!
Дозволь не разлюбить врага
и брата не возненавидеть.
Во взгляде на войну Волошин близок позиции Ромена Роллана, определённой им в сборниках с программным названием «Над схваткой».
Когда в 1916 году Волошина призывают на военную службу, он обращается к военному министру с письмом, где заявляет, что отказывается служить, что, как европеец, художник и поэт он не может быть солдатом, так как его разум, чувство и совесть не позволяют ему участвовать в братоубийственной войне. «Пусть лучше убьют меня, чем убью я», - говорит Волошин. К счастью, последствий эта акция не имела: из-за астмы и слабого зрения он был признан негодным для военной службы.
Марина Цветаева в своём эссе «Живое о живом» приводит разговор матери Волошина с сыном — женщины мужественной и даже несколько мужеподобной, любившей носить мужскую одежду и огорчавшейся, что в Максе этой мужественности не было никогда:

— Погляди, Макс, на Серёжу, вот — настоящий мужчина! Муж. Война — дерётся. А ты? Что ты, Макс, делаешь?
— Мама, не могу же я влезть в гимнастерку и стрелять в живых людей только потому, что они думают иначе, чем я.
— Думают, думают. Есть времена, Макс, когда нужно не думать, а делать. Не думая — делать.
— Такие времена, мама, всегда у зверей — это называется животные инстинкты.
А в 1917 году Волошин дерзко выступил против Брестского мира, что шокировало даже единомышленников. В стихотворении «Мир» он писал:
С Россией кончено. На последях
Ее мы прогалдели, проболтали.
Пролузгали, пропили, проплевали.
Замызгали на грязных площадях.
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик да свобод,
Гражданских прав? И родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль.
О, Господи, разверзни, расточи,
Пришли на нас огонь, язвы и бичи,
Германцев с Запада, Монгол с Востока,
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда!
«Вспомнить самого себя»
Будучи антропософом, Волошин был убеждён, что «люди суть ангелы десятого круга», которые приняли облик людей со всеми их грехами и пороками, так что всегда надо помнить, что в каждом, даже самом худшем человеке сокрыт ангел.

Гюстав Моро. Ангел-странник.
Волошин объяснял свою позицию так: «Я стремлюсь в каждом человеке найти те стороны, за которые его можно полюбить. Мне кажется, что только этим можно призвать к жизни хорошие черты человека, а не осуждением его недостатков, которые только утверждаются и растут от осуждения. Нужно помнить, что в каждом скрыт ангел, на котором наросла дьявольская маска, и надо ему помочь её преодолеть, вспомнить самого себя».

Эту мысль, найденную у Леона Блуа, Волошин не раз повторял в своём творчестве: в поэме «Протопоп Аввакум», в «Святом Серафиме».
Мы выучились верить и молиться
за палачей. Мы поняли, что каждый
есть пленный ангел в дьявольской личине.

Быть выше человеческой борьбы, быть только созерцателем трагедии и вестником преображения — в этой мудрости была и сила его, и слабость. Глубоко христианское смирение вырывается у Волошина из сердца, готового принять и свою голгофу, если жертва нужна во искупление.
Верю в правоту верховных сил,
Расковавших древние стихии,
И из недр обугленной России
Говорю: «Ты прав, что так судил!
Надо до алмазного закала
Прокалить всю толщу бытия.
Если ж дров в плавильной печи мало:
Господи! Вот плоть моя».

Сейчас вы услышите песню на стихи М. Волошина «Китеж». В Интернете её нет. Когда-то, в 1988 году к нам в ДК приезжал Максим Кривошеев, и мне удалось её записать на его концерте. Несколько предваряющих слов.
Китеж-град — город русских народных преданий, который, по легенде, скрылся под землёй во время нашествия Батыя. На его месте образовалось озеро Светлояр, и только избранные могут слышать иногда звон его церквей.

Считается, что когда идёт борьба не за жизнь, а за смерть, есть два выхода: победить или погибнуть. Но есть ещё и третий: уйти от этих мерзостей, уйти в снега, уйти под воду, уйти в себя. Китеж — это символ России, которую поглотила пучина революции, но которая ещё восстанет, возродится.
Песня довольно длинная, трудная для восприятия — много исторических имён и названий, античных и библейских образов. Я привожу после неё текст стихотворения, а ещё лучше — перечитать его позже в книге со всеми примечаниями, сносками, комментариями. Но сначала — песня.
Китеж. Музыка Петра Старчика, поёт Максим Кривошеев.

http://rutube.ru/video/fe74821d73322ee58ce23b45eebe8c8d/
1
Вся Русь — костёр. Неугасимый пламень
Из края в край, из века в век
Гудит, ревёт… И трескается камень.
И каждый факел — человек.
Не сами ль мы, подобно нашим предкам,
Пустили пал? А ураган
Раздул его, и тонут в дыме едком
Леса и сёла огнищан.
Ни Сергиев, ни Оптина, ни Саров —
Народный не уймут костёр:
Они уйдут, спасаясь от пожаров,
На дно серебряных озёр.
Так, отданная на поток татарам,
Святая Киевская Русь
Ушла с земли, прикрывшись Светлояром…
Но от огня не отрекусь!
Я сам — огонь. Мятеж в моей природе,
Но цепь и грань нужны ему.
Не в первый раз, мечтая о свободе,
Мы строим новую тюрьму.
Да, вне Москвы — вне нашей душной плоти,
Вне воли медного Петра —
Нам нет дорог: нас водит на болоте
Огней бесовская игра.
Святая Русь покрыта Русью грешной,
И нет в тот град путей,
Куда зовёт призывный и нездешний
Подводный благовест церквей.
2
Усобицы кромсали Русь ножами.
Скупые дети Калиты
Неправдами, насильем, грабежами
Её сбирали лоскуты.
В тиши ночей, звездяных и морозных,
Как лютый крестовик-паук,
Москва пряла при Тёмных и при Грозных
Свой тесный, безысходный круг.
Здесь правил всем изветчик и наушник,
И был свиреп и строг
Московский князь — «постельничий и клюшник
У Господа», — помилуй Бог!
Гнездо бояр, юродивых, смиренниц —
Дворец, тюрьма и монастырь,
Где двадцать лет зарезанный младенец
Чертил круги, как нетопырь.
Ломая кость, вытягивая жилы,
Московский строился престол,
Когда отродье Кошки и Кобылы
Пожарский царствовать привёл.
Антихрист-Пётр распаренную глыбу
Собрал, стянул и раскачал,
Остриг, обрил и, вздёрнувши на дыбу,
Наукам книжным обучал.
Империя, оставив нору кротью,
Высиживалась из яиц
Под жаркой коронованною плотью
Своих пяти императриц.
И стала Русь немецкой, чинной, мерзкой.
Штыков сияньем озарён,
В смеси кровей Голштинской с Вюртембергской
Отстаивался русский трон.
И вырвались со свистом из-под трона
Клубящиеся пламена —
На свет из тьмы, на волю из полона —
Стихии, страсти, племена.
Анафем церкви одолев оковы,
Повоскресали из гробов
Мазепы, Разины и Пугачёвы —
Страшилища иных веков.
Но и теперь, как в дни былых падений,
Вся омрачённая, в крови,
Осталась ты землёю исступлений —
Землёй, взыскующей любви.
3
Они пройдут — расплавленные годы
Народных бурь и мятежей:
Вчерашний раб, усталый от свободы,
Возропщет, требуя цепей.
Построит вновь казармы и остроги,
Воздвигнет сломанный престол,
А сам уйдёт молчать в свои берлоги,
Работать на полях, как вол.
И, отрезвясь от крови и угара,
Царёву радуясь бичу,
От угольев погасшего пожара
Затеплит ярую свечу.
Молитесь же, терпите же, примите ж
На плечи крест, на выю трон.
На дне души гудит подводный Китеж —
Наш неосуществимый сон!
18 августа 1919
Во время наступления Деникина на Москву
Коктебель
Между двух огней
«Девятнадцатый год толкнул меня к общественной деятельности в единственной форме, возможной при моём отрицательном отношении ко всякой политике и ко всякой государственности... к борьбе с террором, независимо от его окраски...» - пишет Волошин.
Сергей Наровчатов в предисловии к его томику в малой серии «Библиотека поэта» (1977) пытается «реабилитировать» автора: «Нам памятны благородные поступки поэта в годы гражданской войны. Он рисковал жизнью, когда в его доме скрывались коммунисты-подпольщики, он ходатайствовал и добивался освобождения людей,заподозренных в большевизме». Лукаво-односторонние слова. Автор предисловия скрыл — по незнанию или умышленно — самое главное: Волошин, без стеснения эксплуатируя свой высокий авторитет и имя, спасал от беззакония не только красных, но и белых. Спасал просто людей.
В те дни мой дом — слепой и запустелый —
Хранил права убежища, как храм,
И растворялся только беглецам,
Скрывавшимся от петли и расстрела.
И красный вождь, и белый офицер —
Фанатики непримиримых вер —
Искали здесь под кровлею поэта
Убежища, защиты и совета.
Волошин - не большевик, не монархист, не республиканец. Он — вне политики, он — над схваткой. В своём коктебельском доме поэт, как известно, спасал в гражданскую войну белых от красных, а красных — от белых, за что его хотели расстрелять и те, и другие. Это не было нейтралитетом. «Я не нейтрален, а гораздо хуже, - опасно откровенничал Волошин. - Я рассматриваю буржуазию, белых и красных как антиномические выявления единой сущности. Какой сущности? Да конечно же преступной».

Когда спасённый им комиссар прислал Волошину почётную грамоту «за спасение большевика», Волошин отверг её со всеми сопутствующими ей благами. «Я спасал не большевика, я спасал человека».
О том же он пишет и в письме Я. Глотову в октябре 1920 года: «... относясь ко всем партиям с глубоким снисхождением, как к отдельным видам коллективного безумия, ни к одной из них не питаю враждебности: человек мне важнее его убеждений».
Мы привыкли представлять Волошина стоящим над схваткой, одиноким, ни к кому не примыкающим жителем башни из слоновой кости. На самом деле — это самый энергичный участник схватки, только не воитель, а спасатель. Когда все вокруг разрушали, он строил и спасал.

Один из большевиков, обязанный ему жизнью, стал потом председателем Крымской ЧК. В благодарность за спасение чекиста Волошин получил страшную привилегию: из списков смертников он имел право вычеркнуть по одному имени из каждой партии. Следствием было то, что друзья и близкие остальных его ненавидели.
Позиция «над схваткой» - вдвойне опасная позиция. Это не позиция «и нашим, и вашим», а позиция - «меж двух огней». Это позиция гуманиста, рыцаря, мечущегося между двумя баррикадами и спасающего человеческое в человеке. Это третья баррикада, на которой были лучшие из русских интеллигентов. В стихотворении «На дне преисподней», посвящённом памяти Блока и Гумилева, Волошин писал — и это звучало как клятва:
С каждым днём всё диче и всё глуше
Мертвенная цепенеет ночь.
Смрадный ветр, как свечи, жизни тушит:
Ни позвать, ни крикнуть, ни помочь.
Тёмен жребий русского поэта.
Неисповедимый рок ведёт
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.
Может быть, такой же жребий выну,
горькая детоубийца-Русь,
и на дне твоих подвалов сгину
иль в кровавой луже поскользнусь...
Но твоей Голгофы не покину,
От твоих могил не отрекусь.
Доконает голод или злоба,
Но судьбы не изберу иной:
Умирать, так умирать с тобой
И с тобой, как Лазарь, встать из гроба!
Макс становится Максимилианом
Стихи о революции и гражданской войне долгое время оставались наименее известной частью в поэтическом наследии Волошина. Ведь в читательский обиход допускались только те произведения, где главенствующим мотивом была вера в светлое будущее Родины. Стихи же, запечатлевшие картины жестокой, бесчеловечной повседневности тех лет, оставались в тени. А между тем именно эти стихи Волошина — самое значительное из всего, что он создал. В них его поэтический голос достиг необычайной мощи и выразительности.

Долгие десятилетия мы не знали лучшего Волошина: трагического поэта, с огромной душевной болью повествующего о драматических судьбах России, о русской усобице, о человеконенавистнической революции и монстрах, её совершивших. Надо было потерять Россию, которую Октябрь втаптывал в кровь и грязь, чтобы он обрёл её в себе.
В. Вересаев заметил: «Как будто совсем другой поэт появился — мужественный, сильный, с простым и мудрым словом». Такие стихи, как «Китеж», «Дикое поле», «Русская революция» - своего рода поэтические трактаты. Иным становится и образ лирического героя Волошина. Его муза, ранее сосредоточенная на блужданиях собственного духа, теперь тяготеет к монументальности, эпичности. По выражению А. Белого, Макс становится Максимилианом.

Расплясались, разгулялись бесы
По России вдоль и поперек.
Рвет и крутит снежные завесы
Выстуженный северовосток.
Ветер обнаженных плоскогорий,
Ветер тундр, полесий и поморий,
Черный ветер ледяных равнин,
Ветер смут, побоищ и погромов,
Медных зорь, багровых окоемов,
Красных туч и пламенных годин.
Этот ветер был нам верным другом
На распутьях всех лихих дорог:
Сотни лет мы шли навстречу вьюгам
С юга вдаль - на северо-восток.
Войте, вейте, снежные стихии,
Заметая древние гроба:
В этом ветре вся судьба России -
Страшная, безумная судьба.
В этом ветре гнёт веков свинцовых:
Русь Малют, Иванов, Годуновых,
Хищников, опричников, стрельцов,
Свежевателей живого мяса,
Чертогона, вихря, свистопляса:
Быль царей и явь большевиков.
Что менялось? Знаки и возглавья.
Тот же ураган на всех путях:
В комиссарах - дурь самодержавья,
Взрывы революции в царях.
Вздеть на виску, выбить из подклетья,
И швырнуть вперед через столетья
Вопреки законам естества -
Тот же хмель и та же трын-трава.
Ныне ль, даве ль - всё одно и то же:
Волчьи морды, машкеры и рожи,
Спертый дух и одичалый мозг,
Сыск и кухня Тайных Канцелярий,
Пьяный гик осатанелых тварей,
Жгучий свист шпицрутенов и розг,
Дикий сон военных поселений,
Фаланстер, парадов и равнений,
Павлов, Аракчеевых, Петров,
Жутких Гатчин, страшных Петербургов,
Замыслы неистовых хирургов
И размах заплечных мастеров.
Сотни лет тупых и зверских пыток,
И еще не весь развернут свиток
И не замкнут список палачей,
Бред Разведок, ужас Чрезвычаек -
Ни Москва, ни Астрахань, ни Яик
Не видали времени горчей.
Бей в лицо и режь нам грудь ножами,
Жги войной, усобьем, мятежами -
Сотни лет навстречу всем ветрам
Мы идем по ледяным пустыням -
Не дойдем и в снежной вьюге сгинем
Иль найдем поруганный наш храм, -
Нам ли весить замысел Господний?
Всё поймем, всё вынесем, любя, -
Жгучий ветр полярной преисподней,
Божий Бич! приветствую тебя.

«Стал человек один другому дьявол»
Россия и революция — главные темы позднего Волошина, патриота в высшем смысле этого слова, для которого патриотизм есть страшная, непереносимая боль. Его творчество 20-х годов — это летопись, прозаически грубая и честная без прикрас. Жестокий крымский голод, массовые расстрелы — всё это становится материей стихов. Они могут отпугнуть сгущением красок, натурализмом, шоковыми деталями («Бойня», «Большевик», «Красногвардеец», «Матрос»), однако в них поэт лишь с протокольной точностью воссоздаёт реальность. И стихи обретают пронзительную силу исторического документа.
Читает Давид Аврутов:
http://rutube.ru/video/186259395502bb2a380cdab8a015c3a4/
Фаина Раневская вспоминала, как однажды Волошин пришёл к ней с заплаканными глазами: ночью шли расстрелы, он слышал треск пулемётов. Рвущую сердце боль, отчаяние и гнев поэт выразил тогда в самом трагическом своём цикле «Стихи о терроре»:
Собирались на работу ночью. Читали
Донесенья, справки, дела.
Торопливо подписывали приговоры.
Зевали. Пили вино.
С утра раздавали солдатам водку.
Вечером при свече
Выкликали по спискам мужчин, женщин.
Сгоняли на темный двор.
Снимали с них обувь, белье, платье.
Связывали в тюки.
Грузили на подводу. Увозили.
Делили кольца, часы.
Ночью гнали разутых, голых
По оледенелым камням,
Под северо-восточным ветром
За город в пустыри.
Загоняли прикладами на край обрыва.
Освещали ручным фонарем.
Полминуты работали пулеметы.
Доканчивали штыком.
Еще недобитых валили в яму.
Торопливо засыпали землей.
А потом с широкою русскою песней
Возвращались в город домой.
А к рассвету пробирались к тем же оврагам
Жены, матери, псы.
Разрывали землю. Грызлись за кости.
Целовали милую плоть.
(«Террор». 26 апреля 1921. Симферополь)

Крымская бойня 20-х глубоко ранила поэта. Он писал: «Стал человек один другому дьявол».
Всем нам стоять на последней черте,
всем нам валяться на вшивой подстилке,
всем быть распластанным — с пулей в затылке
и со штыком в животе.

Русь святая и окаянная
Но Волошина никогда не оставляла вера в свою страну и в свой народ. Россия ему кажется легендарной неопалимой купиной (так и назван большой цикл его стихов).

«Неопалимая купина» - это, по Библии, горящий и не сгорающий терновый куст, в котором Бог явился Моисею и призвал его вывести израильский народ из Египта в обетованную землю.

В поэтическом переосмыслении Волошина это — символ России. Она горит, не сгорая. И всех, кто пытается погасить это пламя — охватывает смертельный огонь. Эти стихи звучат как предупреждение всем злым силам, посмевшим коснуться того, что нам свято.
Каждый коснувшийся дерзкой рукою —
Молнией поражен:
Карл под Полтавой; ужален Москвою,
Падает Наполеон.
Помню квадратные спины и плечи
Грузных германских солдат...
Год — и в Германии русское вече:
Красные флаги кипят.
Кто там? Французы? Не суйся, товарищ,
В русскую водоверть!
Не прикасайся до наших пожарищ!
Прикосновение — смерть.

Одно из наиболее популярных стихотворений Волошина послереволюционной поры - «Святая Русь». Оно производило огромное впечатление на современников. Рассказывали такой случай: в 1921 году шёл концерт в лагере белогвардейцев в Галлиполи. На сцену вышел чтец и прочёл эти строки Волошина. Весь зал слушал с огромным волнением. А кадеты — юные мальчики — строго по равнению стоявшие возле эстрады, вдруг начали рядами опускаться на колени. И когда прозвучали слова: «В грязь лицом тебе ль не поклонюсь?» - все как один поклонились до земли.
Читает Давид Аврутов. (Вслед за стихотворением сразу звучит песня Петра Старчика на стихи Волошина «Русь гулящая» в исполнениии Максима Кривошеева — в Интернете её нет).
Поддалась лихому подговору,
Отдалась разбойнику и вору,
Подожгла посады и хлеба,
Разорила древнее жилище,
И пошла поруганной и нищей,
И рабой последнего раба.
Я ль в тебя посмею бросить камень?
Осужу ль страстной и буйный пламень?
В грязь лицом тебе ль не поклонюсь,
След босой ноги благословляя, —
Ты — бездомная, гулящая, хмельная,
Во Христе юродивая Русь!

В деревнях погорелых и страшных,
Где толчется шатущий народ,
Шлендит пьяная в лохмах кумашных
Да бесстыжие песни орет.
Сквернословит, скликает напасти,
Пляшет голая - кто ей заказ?
Кажет людям срамные части,
Непотребства творит напоказ.
А проспавшись, бьется в подклетьях,
Да ревет, завернувшись в платок,
О каких-то расстрелянных детях,
О младенцах, засоленных впрок.
А не то разинет глазища
Да вопьется, вцепившись рукой:
"Не оставь меня смрадной и нищей,
Опозоренной и хмельной.
Покручинься моею обидой,
Погорюй по моим мертвецам,
Не продай басурманам, не выдай
На потеху лихим молодцам...
Вся-то жизнь в теремах под засовом..
Уж натешились вы надо мной...
Припаскудили пакостным словом,
Припоганили кличкой срамной".
Разве можно такую оставить,
Отчураться, избыть, позабыть?
Ни молитвой ее не проплавить,
Ни любовью не растопить...
Расступись же, кровавая бездна!
Чтоб во всей полноте бытия
Всенародно, всемирно, всезвездно
Просияла правда твоя!

Стихи о России Волошина меньше всего отвечают притязаниям новоявленных славянофилов, видящих в историческом прошлом страны только здоровые устои, благолепие да процветание. У Волошина образ Родины складывается из контрастов, противоречий: высокое и великое соседствует с косностью и уродством.

Русь святая и она же — Русь грешная, окаянная.

Это как две стороны медали, неразделимо. Поэт разглядел и показал нам новый исторический лик России, органически спаянный с её древним историческим ликом.

И всё-таки он верил, что все жертвы не напрасны, что
из крови, пролитой в боях
Из праха обращённых в прах,
Из мук казнённых поколений,
Из душ, крестившихся в крови,
Из ненавидящей любви,
Из преступлений, исступлений —
Возникнет праведная Русь.

Я за неё за всю молюсь
И верю замыслам предвечным:
Её куют ударом мечным,
Она мостится на костях,
Она святится в ярых битвах,
На жгучих строится мощах,
В безумных плавится молитвах.
Видеклип «Заклинание»:
http://www.youtube.com/watch?v=SYXKofIIcbM
В 1924 году Волошин заканчивает поэму «Россия», которую задумал ещё в 1918 -ом. В ней сконцентрировалось всё, что ему думалось о петербургской России, начиная с петровских времён, - наше русское прошлое, выявленное современностью. К. Чуковский сказал об этой поэме: «Не сомневаюсь, что эта поэма будет когда-нибудь известна каждому грамотному человеку. В ней каждая строчка — формула». А Е. Евтушенко, публикуя фрагменты из неё в «Строфах века», назвал её "философским пособием в изучении отечественной истории". Поэма эта весьма актуально звучит и в наши дни. Послушайте небольшой фрагмент её в исполнении
Давида Аврутова.
https://www.youtube.com/watch?v=ioWAq0ldbwo&list=PLrgDSzTXDpvM70JA2g2Jzm2N6z5kWkI7a&index=13

Великий Петр был первый большевик,
Замысливший Россию перебросить,
Склонениям и нравам вопреки,
За сотни лет к ее грядущим далям.
Он, как и мы, не знал иных путей,
Опричь указа, казни и застенка,
К осуществленью правды на земле.
Не то мясник, а может быть, ваятель -
Не в мраморе, а в мясе высекал
Он топором живую Галатею,
Кромсал ножом и шваркал лоскуты...
Мы не вольны в наследии отцов,
И, вопреки бичам идеологий,
Колеса вязнут в старой колее...
Мы углубили рознь противоречий
За двести лет, что прожили с Петра:
При добродушьи русского народа,
При сказочном терпеньи мужика -
Никто не делал более кровавой
И страшной революции, чем мы.
У нас в душе некошенные степи.
Вся наша непашь буйно заросла
Разрыв-травой, быльем да своевольем.
Размахом мысли, дерзостью ума,
Паденьями и взлетами - Бакунин
Наш истый лик отобразил вполне.
В анархии всё творчество России:
Европа шла культурою огня,
А мы в себе несем культуру взрыва.
Огню нужны - машины, города,
И фабрики, и доменные печи,
А взрыву, чтоб не распылить себя, -
Стальной нарез и маточник орудий.
Отсюда - тяж советских обручей
И тугоплавкость колб самодержавья.
Бакунину потребен Николай,
Как Петр - стрельцу, как Аввакуму - Никон.
Поэтому так непомерна Русь
И в своевольи, и в самодержавьи.
И нет истории темней, страшней,
Безумней, чем история России.

«Я не изгой, а пасынок России»
Конечно, такие стихи не могли быть напечатаны. Более того, поэт вполне мог за них поплатиться жизнью. В течение почти четырёх десятилетий имя М. Волошина находилось под негласным запретом. Не публиковались стихи, статьи замалчивались, живопись пылилась в запасниках. Причины? Всё те же: далёкий от бурь и смут коктебельский затворник узрел в своей эпохе все черты страшного смутного времени и отождествил «быль царей» с «явью большевиков».

Этого они не могли ему простить. «Демоны глухонемые» - так метко окрестил Волошин этих вершителей судеб России, взлетевших на гребне мутной волны революции. Так он назвал и свою книгу 1919 года.
Они проходят по земле,
Слепые и глухонемые,
И чертят знаки огневые
В распахивающейся мгле.
Как актуально звучат и сейчас эти его строки:
В нормальном государстве вне закона
Находятся два класса:
Уголовный
И правящий.
Во время революций
Они меняются местами,
В чем,
По существу, нет разницы.
Но каждый
Дорвавшийся до власти сознает
Себя державной осью государства
И злоупотребляет правом грабежа,
Насилий, пропаганды и расстрела...

Или эти, 1925-го года, в которых Волошин, обращаясь к «поэту революции», писал:

Ты, соучастник судьбы, раскрывающей замысел драмы:
В дни революции быть Человеком, а не Гражданином:
Помнить, что знамёна, партии и программы
То же, что скорбный лист для врача сумасшедшего дома.
Быть изгоем при всех царях и народоустройствах:
Совесть народа - поэт. В государстве нет места поэту.
Все редакции для Волошина были закрыты, против его книг был объявлен бойкот книжных магазинов. Запрещённый и проклинаемый и левыми, и правыми, поэт рассылает свои стихи в десятках писем с просьбой «переписывать и раздавать всем друзьям и знакомым». Он стал первым классиком самиздата. С горечью и гордостью он пишет об этом в «Доме поэта»:
Мои ж уста давно замкнуты… Пусть!
Почётней быть твердимым наизусть
И списываться тайно и украдкой,
При жизни быть не книгой, а тетрадкой.
Волошин был внутренне отрешён от всего бытового, повседневного. В нём было что-то сократовское, подлинное, внутримирное.

Войди, мой гость, стряхни житейский прах
И плесень дум у моего порога…
Со дна веков тебя приветит строго
Огромный лик царицы Таиах.

Мой кров убог. И времена — суровы.
Но полки книг возносятся стеной.
Тут по ночам беседуют со мной
Историки, поэты, богословы.
И здесь их голос, властный, как орган,
Глухую речь и самый тихий шёпот
Не заглушит ни зимний ураган,
Ни грохот волн, ни Понта мрачный ропот.
И ты, и я — мы все имели честь
«Мир посетить в минуты роковые»
И стать грустней и зорче, чем мы есть.
Я не изгой, а пасынок России.
Я в эти дни — немой её укор.
И сам избрал пустынный сей затвор
Землёю добровольного изгнанья,
Чтоб в годы лжи, паденья и разрух
В уединеньи выплавить свой дух
И выстрадать великое познанье.

Пойми простой урок моей земли:
Как Греция и Генуя прошли,
Так минет всё — Европа и Россия,
Гражданских смут горючая стихия
Развеется… Расставит новый век
В житейских заводях иные мрежи…
Ветшают дни, проходит человек,
Но небо и земля — извечно те же.
Поэтому живи текущим днём.
Благослови свой синий окоём.
Будь прост, как ветр, неистощим, как море,
И памятью насыщен, как земля.
Люби далёкий парус корабля
И песню волн, шумящих на просторе.
Весь трепет жизни всех веков и рас
Живёт в тебе. Всегда. Теперь. Сейчас.

У Волошина были возможности выехать за границу. В эмиграции его ценили, печатали, о нём читали лекции, называли единственным национальным поэтом, оставшимся после смерти Блока. Но он на все призывы отвечал: «Мне надо пребыть в России до конца».

«Он жив - мой стих!»
В декабре 1929 года Волошина постиг инсульт. В последние месяцы жизни он уже не мог передвигаться по дому. Не мог лежать — задыхался.

одна из последних его фотографий
А вскоре астма, которая мучала его всю жизнь, осложнилась воспалением лёгких, и 11 августа 1932 года Максимилиана Волошина не стало. Ему было 55 лет. Поэт был похоронен по его завещанию на вершине огромного холма, который обрывом навис над Коктебельским заливом.

Казалось, он обнимал свой Коктебель и после смерти: справа — своим скалистым профилем, слева — своей могилой. Вспоминаются строки Марины Цветаевой, написанные в те дни:
Ветхозаветная тишина,
Сирой полыни крестик.
Похоронили поэта на
Самом высоком месте.
Так и во гробе еще — подъём
Он даровал — несущим.
...Стало быть, именно на своём
Месте, ему присущем.
Выше которого только вздох,
Мой из моей неволи.
Выше которого — только Бог!
Бог — и ни вещи боле.

жена Мария на могиле Волошина

в 1976 году и она тоже обрела здесь покой
Теперь я мёртв. Я стал строками книги
В твоих руках...
И сняты с плеч твоих любви вериги,
Но жгуч мой прах.
Меня отныне можно в час тревоги
Перелистать,
Но сохранят всегда твои дороги
Мою печать.
Похоронил я сам себя в гробницы
Стихов моих,
Но вслушайся - ты слышишь пенье птицы?
Он жив - мой стих!


бюст Волошина работы Виттига, установленный в Париже на бульваре Эксельман как парковая скульптура под название «Поэт».
У нас же памятники Волошину пока только в Коктебеле.



Сегодня М. Волошин предстаёт как поразительный пример современника, жителя ХХ столетия, противопоставившего силам распада и вражды личную стойкость, высокую духовность и силу добра.

Проповедь поэта мало кем была услышана, ибо до неё надо было ещё дорасти. Он всегда казался пришедшим очень издалека — так издалека, что суждения его звучали непривычно и странно. Он мыслил слишком глобально, призывал к слишком глубинным преобразованиям и отрешениям. Недаром Александр Бенуа писал, что значение стихов Волошина по достоинству смогут оценить только грядущие поколения. Хочется верить, что время их настало.
А закончить мне хочется своим стихотворением — данью любви дорогому поэту:
Коктебель Волошина

Край синих гор зовётся Коктебель.
Небесный взор. Морская колыбель.
Ламанча снов печального гидальго.
Здесь всё хранит недавние следы:
Скалистый профиль, абрис бороды,
Ступнями отшлифованная галька.

Сюда пристал когда-то Одиссей.
Здесь Ариадной был спасён Тезей.
О Киммерия, древняя Эллада!
Здесь аргонавты завершали путь,
Здесь амазонки выжигали грудь,
Орфей спускался в филиалы ада.

«А вдруг он в самом деле Божество?
Пан здешних мест? Природы торжество?» –
В смятенье детском думала Марина.
И, кажется, доносят нам ветра
Суровый голос мужественной Пра,
За мирный нрав отчитывавшей сына.

Не мог ни на кого поднять руки,
Но жил законам века вопреки,
Всему тому, что совести противно.
Глядятся в душу, трепетно тихи,
Картины, как безмолвные стихи,
Стихи, как говорящие картины.

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/102796.html
|
|
Процитировано 6 раз
Понравилось: 3 пользователям
Близкий всем, всему чужой (продолжение) |
Начало здесь

Коктебель
Коктебель и Волошин неразделимы. Он первым поселился в этих неприветливых местах, в им самим построенном доме, к порогу которого подкатывали волны прибоя. С Волошина, собственно, и начинается литературная история Коктебеля.

Как в раковине малой — Океана
Великое дыхание гудит,
Как плоть её мерцает и горит
Отливами и серебром тумана,
А выгибы её повторены
В движении и завитке волны, —
Так вся душа моя в твоих заливах,
О, Киммерии тёмная страна,
Заключена и преображена.
Когда-то, в 60-е годы 19 века, это были дикие необжитые места .

Раньше Коктебель был глухой деревушкой болгар под Феодосией, переселившихся туда с родины во время русско-турецкой войны 1876-77 годов.

Болгары называли её Кехтебели, что в переводе означало «страна синих гор». По сравнению с южным берегом Крыма красота Коктебеля кажется суровой и даже скудной. В гомеровские времена эту землю называли Киммерией и считали краем света, мрачным севером. Вот как отобразил её Волошин в своих знаменитых акварелях.

Волошин не писал этюдов с натуры, он создавал свои пейзажи от себя, импровизировал.

Его акварели — это не тот Крым, который может снять любой фотограф. Это какой-то идеализированный, поэтический Крым, романтичный, сказочный. Волошин подчёркивает те элементы этой местности, которые вызывают ассоциации с древней Элладой, выжженной Ламанчей, библейскими полупустынями Сирии.


При взгляде на эти пейзажи всплывают в памяти аргонавты в Колхиде, Одиссей, подплывающий на своём корабле к берегам Киммерии, родина амазонок, земля у входа в Аид, куда Орфей входил за своей Эвридикой. Кажется, что всё это происходило здесь, на этой земле.

Это не просто пейзажи, это не этюды, а фантазии на тему Коктебеля, это нечто нереальное: красивые вымыслы, грёзы, сны.

Горное море. Чёткий абрис деревьев. Акварельная графика. Не устаёшь удивляться тонкости и изяществу этих акварелей. Многие видели в них влияние японской школы, сходство с классической китайской и японской эстетикой. Потом всё это вылилось у Волошина в цикл стихов «Киммерийские сумерки». «Я иду дорогой скорбной в мой безрадостный КоктЕбель», - так начиналось одно из стихотворений.

Коктебельский пейзаж — один из самых красивых земных пейзажей. Это пейзаж глубокой древности и напоминает местность древней Греции.

Он очень пустынен и в то же время разнообразен. Соединение морского и горного пейзажа с разнообразием широких предгорий и степных далей. Расположение на границе морских заливов, степи и гор делает его редким и единственным в смысле местности.

Большая часть волошинских акварелей сопровождается стихтворными надписями — своеобразным поэтическим комментарием.

Каменья зноем дня во мраке горячи.
Луга полынные нагорий тускло-серы...
И низко над холмом дрожащий серп Венеры,
как пламя воздухом колеблемой свечи.
Это делало его работы необычайно самобытными, надписи как бы дополняли изображение, акцентировали его музыкальный настрой. Древнее изречение гласит: «Стихотворение — говорящая картина. Картина — немое стихотворение». Это определение вполне подходит творчеству Волошина. Это не живопись в чистом виде, а музыкально-красочная композиция на тему киммерийского пейзажа.

Не сразу Коктебель раскрылся поэту в своей сокровенной сути. Лишь весной 1907 года, когда он решил побыть здесь в уединении, тяжело переживая разрыв с Маргаритой, «безрадостный Коктебель» помог ему избыть горечь душевного одиночества, ощутить сиротство своего пребывания в мире.
Как мне близок и понятен
Этот мир — зелёный, синий,
Мир живых, прозрачных пятен
И упругих, гибких линий.
И сквозь дымчатые щели
Потускневшего окна
Бледно пишет акварели
Эта бледная весна.

Киммерийские стихи стали высшим достижением волошинской лирики. Он достиг здесь удивительного соответствия между точными описаниями того, что открывается глазу, и — пейзажем души. А. Толстой называл Волошина «поэтом ритма вечности».

Моей мечтой с тех пор напоены
Предгорий героические сны
И Коктебеля каменная грива;
Его полынь хмельна моей тоской,
Мой стих поет в волнах его прилива,
И на скале, замкнувшей зыбь залива,
Судьбой и ветрами изваян профиль мой.

Последняя строка требует пояснения: одна из Коктебельских гор — береговой хребет Карадага, вдающийся в море, своими очертаниями по всеобщему признанию напоминала профиль Волошина, поражая сходством с абрисом рта, бороды.

И хотя все понимали, что это всего лишь игра природы, некоторых охватывал при виде этой скалы мистический страх. Марина Цветаева, для которой Волошин всегда был старшим другом и учителем, посвятившая ему несколько стихотворений в разные годы жизни, с каким-то мистическим чувством писала о нём: «А вдруг он и в самом деле божество? Пан здешних мест? Почему скала, выходящая из моря возле его дома, так послушно запечатлела его облик, может быть, тысячу лет тому назад? Не был ли он заброшен сюда богами разгневанного Олимпа?»
Всё это создавало легендарный ореол вокруг образа Волошина, вызывавшего у людей зачастую античные, языческие ассоциации, что объяснялось и его любимым облачением (белый полотняный балахон, напоминающий греческую тунику), и его портретным сходством с бюстом Зевса Отриколийского, подмеченном им самим в стихотворном цикле «Облики»:

Я узнаю себя в чертах
Отриколийского кумира
По тайне благостного мира
На этих мраморных устах.
О, вещий голос тёмной крови!
Я знаю этот лоб и нос,
И тяжкий водопад волос,
И эти сдвинутые брови…
Я влагой ливней нисходил
На грудь природы многолицей,
Плодотворя её, я был
Быком, и облаком, и птицей…

М. Волошин. Автопортрет
Лики и облики
У Волошина было около 50-ти автопортретов — и это не самолюбование, а нормальный интерес человека, всю жизнь стремившегося познать самого себя. И — найти свой лик, в котором — высшая тайна. Он искал этот лик в каждом человеке, в том числе и в себе.


В 1907 году Волошин пишет серию очерков «Лики творчества», в которых запечатлел литераторов, собиравшихся на башне В. Иванова.


В них даны многогранные живописно-зримые портреты современников. Продолжением этой творческой линии стал большой цикл стихов- портретов «Облики». Под ликом, обликом Волошин понимал некий синтетический образ человека, в котором духовные особенности выступают во внешних проявлениях — во внешности, в повадках, в событиях его жизни.
Вот, например, одно из стихотворений этого цикла. Оно обращено к Марии Кудашевой, ставшей потом женой Ромена Роллана.

Мария Кювилье (Кудашева)

Мария отличалась влюбчивым характером, но, влюбляясь, зачастую не знала и не понимала того человека, которого любила, любя свой придуманный образ, свою мечту. Волошин пытается в этом стихотворении помочь ей измениться внутри самой себя, дать ей представление о подлинной любви, о ценности человеческой личности.

Любовь твоя жаждет так много,
Рыдая, прося, упрекая...
Люби его молча и строго,
Люби его, медленно тая.
Свети ему пламенем белым -
Бездымно, безгрустно, безвольно.
Люби его радостно телом,
А сердцем люби его больно.
Пусть призрак, творимый любовью,
Лица не заслонит иного, -
Люби его с плотью и кровью -
Простого, живого, земного...
Храня его знак суеверно,
Не бойся врага в иноверце...
Люби его метко и верно -
Люби его в самое сердце!
Ещё одно из стихотворений этого цикла посвящено писательнице Рашель Мироновне Хин.

Рашель Мироновна Хин-Гольдовская (1863–1928) — крупная русско-еврейская писательница, яркий драматург, блистательная мемуаристка, ученица Тургенева, она печаталась в ведущих русских и русско-еврейских изданиях, ее пьесы шли на сцене Малого театра. Приметная фигура в кругу московской интеллигенции, Хин содержала литературный салон, завсегдатаями которого были В. Соловьев, Л. Андреев, М. Горький, А. Кони, А. Толстой и др. Имя ее обессмертил М. Волошин, посвятив «Р. М. Хин» ставшее хрестоматийным стихотворение «Я мысленно вхожу в Ваш кабинет…» (оно было положено на музыку композитором Д. Тухмановым и стало шлягером в застойные времена).
Послушайте эту песню с незабвенной пластинки «По волнам моей памяти»:
Святая горечь любви
Коктебель помогает Волошину обрести душевное равновесие. Он уходит в горы и, бродя там по ущельям, среди колючих кустарников и озёр, в безрадостной природе этого края находит созвучие своему душевному состоянию.

В душе что-то проясняется, всё видится цельным и оправданным. «Я начинаю действительно только теперь приобщаться к Коктебелю, - пишет он Маргарите. - Коктебель для меня никогда не был радостен. Он всегда был горек и печален. Но каждый раз в этой горечи рождались новые ростки и новая жизнь, всё перекипало, оседало, прояснялось... Он — моя горькая купель».

Волошин расстался с Маргаритой, но их духовная связь не прекращалась. Это не было связью мужа и жены. «Не в этом, - пишет он, - было таинство, нас связавшее». Макс настойчиво зовёт Маргариту в Коктебель в надежде, что земля, исцелившая его, поможет и ей освободиться от слепой безысходной любви к Вячеславу. В середине августа та приезжает к нему.

знаменитый дом Волошина, который так и не стал домом для Маргариты

Сабашникова вспоминала: «Взволнованно принял меня Макс. Побеленные стены его дома были к моему приезду украшены гирляндами цветов. Мы вместе ходили по окрестностям. Наша совместная жизнь была невыразимо печальна: между ним и мной стоял призрак, зачаровавший меня».
В 1910 году выходит первый сборник М. Волошина — после десяти лет профессиональной поэтической работы. Если Ахматова, Цветаева, Мандельштам и Пастернак свои первые сборники издали в 18 лет, то Волошин — в 33 года. Он очень тщательно работал над стихами. Порой одно стихотворение писалось несколько лет. Критик Э. Голлербах писал, что по той тщательной отделке, какая свойственна каждому стихотворению этого поэта, по точности и изысканности чеканных образов — его можно назвать ювелиром стиха.
Названа книга была скупо и строго: «Стихотворения». Но у неё длинный подзаголовок: «Годы странствий. Amori amara sacrum. Звезда полынь. Алтари в пустыне». В переводе: «Святая горечь любви». Почти все стихи здесь посвящены Маргарите.

Пурпурный лист на дне бассейна
Сквозит в воде, и день погас…
Я полюбил благоговейно
Текучий мрак печальных глаз.
Твоя душа таит печали
Пурпурных снов и горьких лет.
Ты отошла в глухие дали, —
Мне не идти тебе вослед.
Не преступлю и не нарушу,
Не разомкну условный круг.
К земным огням слепую душу
Не изведу для новых мук.
Мне не дано понять, измерить
Твоей тоски, но не предам —
И буду ждать, и буду верить
Тобой не сказанным словам.
В ранних стихах Волошина много романтизма и мистицизма, они воскрешают средиземноморские века и мифы («оком мертвенной Горгоны обожжённая земля»). Всё это ещё не тот Волошин, которого будет помнить вся Россия... Но среди всех этих Горгон, Персефон и Гераклов нет-нет да и зазвучит волнующая лирическая нота, пафос, рождённый не умом, а сердцем. Таково, например, одно из лучших стихотворений там, - «Надпись на античном барельефе», где используется миф об Орфее, спустившимся в царство мёртвых за своей женой Эвридикой, но не сумевшем вывести её оттуда.

Мы заблудились в этом свете.
Мы в подземельях темных. Мы
Один к другому, точно дети,
Прижались робко в безднах тьмы.
По мертвым рекам всплески весел;
Орфей родную тень зовет.
И кто-то нас друг к другу бросил,
И кто-то снова оторвет...
Бессильна скорбь. Беззвучны крики.
Рука горит еще в руке.
И влажный камень вдалеке
Лепечет имя Эвридики.

Не царевич я! Похожий
на него, я был иной...
Ты ведь знала: я – Прохожий,
близкий всем, всему чужой.
Мы друг друга не забудем,
и, целуя дольний прах,
отнесу я сказку людям
о царевне Таиах.

Эта сказка всегда была с ним. И потом, когда они расстанутся навсегда с Маргаритой, она будет напоминать ему о любви, о неразгаданной восточной принцессе, о городе, ставшем для него источником вдохновения. Бюст царевны Таиах и сейчас украшает Дом-музей Волошина в Коктебеле, и мы с трепетом вглядываемся в черты той, древней, поистине бессмертной Возлюбленной.
Любить без слез, без сожаленья,
Любить, не веруя в возврат…
Чтоб было каждое мгновенье
Последним в жизни. Чтоб назад
Нас не влекло неудержимо,
Чтоб жизнь скользнула в кольцах дыма,
Прошла, развеялась… И пусть
Вечерне-радостная грусть
Обнимет нас своим запястьем.
Смотреть, как тают без следа
Остатки грёз, и никогда
Не расставаться с грустным счастьем,
И, подойдя к концу пути,
Вздохнуть и радостно уйти.

Конец этой истории положила скоропостижная смерть жены Вячеслава Иванова от скарлатины.

Казалось бы, ничто не мешало теперь воссоединиться влюблённым. Но когда Маргарита, выждав приличествующее время для траура, приехала к вдовцу, то почувствовала, что он уже не принадлежит ей.

В. Иванов довольно скоро женится вновь, но не на Аморе, а на своей 18-летней падчерице. «Я не узнала Вячеслава, - напишет потом М. Сабашникова в своей книге. - Он был в чьей-то чуждой власти. Я отошла».
Волошин был больше, чем за себя, оскорблён за Аморю. «Вячеслав был в её жизни как злой огонь, - пишет он матери. - Он сжёг всё, что было, и сам ничего не дал ей, оставив её с опустошённой и одинокой душой».

В годы революции Сабашниковой пришлось пережить голод, холод, лишения, которым она стремилась противопоставить деятельный труд, внести свет духа в своё окружение.
В 1922 году она покинет Россию, поселившись на юге Германии, в Штутгарте. Там в 1968 году она издаст свои воспоминания, которые у нас впервые вышли на русском языке в Москве в1993-ем (М., Энигма), четверть века спустя. Книга называется «Зелёная змея» - это гётевский символ змеи — земного Я, идущего через опыты земной жизни.

Книга эта интересна не только подробностями её жизни с Волошиным и В. Ивановым, в ней представлена картина культурной жизни России, отчасти Европы первой четверти 20 века, где поэтесса, писательница и художница рассказывает о встречах со знаменитостями эпохи: Бальмонтом, Блоком, Белым, Л. Толстым, Р. Штейнеом, Н. Бердяевым, Коровиным, Ремизовым, Мережковским.
Умерла Маргарита Сабашникова в 1973 году в возрасте 91 года.

Игра в жизнь, в любовь, в роковые страсти, признание неизбежным и необходимым мучительных страданий стало генеральной и роковой репетицией накануне будней кровавых революционных дней, которые Волошин с поразительной провидческой силой предскажет задолго до того, как они разразятся над Россией. Но об этом — в третьей части моего рассказа.
«Обормотник»
Волошин не жил в своём Коктебеле затворником, как это может показаться.

Его дом был местом паломничества писателей, артистов, художников, которых он привлекал своей высокой интеллектуальной атмосферой, книжными богатствами, музыкой, живописью, величественной природой Крыма. Каждый сезон в доме поэта гостило по 300-400 человек.
С годами волошинский Коктебель приобрёл известность как своеобразный культурный центр, не имевший тогда в стране никаких аналогов. Его называли «Киммерийскими Афинами». Нигде в России не было такого сосредоточия интересных людей. В доме Волошина в разное время обретались А. Толстой, Н. Гумилёв, М. Цветаева, О. Мандельштам, А. Белый, М. Булгаков, С. Соловьёв, К. Чуковский, В. Ходасевич. Здесь Горький читал свои рассказы и «Сказки об Италии». Здесь Гумилёв писал своих «Капитанов».

Волошин с гордостью признавался в одном из писем: «Я превратил свой дом в бесплатную колонию для писателей, художников и учёных, и это даёт мне возможность видеть русскую литературу у себя, не ездя в Москву и в Союз Писателей».

В Коктебеле у Волошина. Слева — 12-летняя Ольга Ваксель.
Он действительно не брал ни копейки со своих многочисленных гостей, что в самый разгар курортного сезона воспринималось многими обывателями как очередное чудачество хозяина. А Волошин отвечал им: «Я не собственник и не помещик. Я интеллигент-пролетарий, и дом мой — это общее достояние людей единой со мной веры, то есть людей искусства».

В этом доме царил совершенно непохожий ни на что уклад: дух творчества, игры, мистификаций, весёлых розыгрышей. Здесь образовалось некое общее гнездо, которое А. Толстой назвал «обормотником», а его обитателей и гостей — "обормотами".

В Волошине было необычайно сильно «ренессансное» начало. А. Белый называл его «творцом быта». Дом был выстроен по чертежам самого поэта и полностью отвечал его представлениям о том, как должен жить человек искусства.
Венецианские окна, башенки-балконы, просторная и светлая мастерская с высокими окнами на три стороны света, стены, увешанные книжными полками, библиотека в несколько тысяч томов.

В доме — хороший рояль, картины известных живописцев, бюст египетской царицы Таиах.
А увенчивала дом вышка для астрономических наблюдений или, как её называли, «башня».

Там же Волошин и спал. На вышке этой башни, широкой площадке с перилами, гости, по завистливому выражению дачников, «поклонялись солнцу», то есть попросту загорали в купальных костюмах, а по ночам, по их же выражению, «поклонялись луне», то есть беседовали и читали стихи под звёздным небом.
Макс и Марина
Необычен был дом, необычен и сам хозяин дома. Пышнобородый, с разлетающимися на ветру седоватыми кудрями под древнегреческой повязкой, в просторной домотканной блузе, напоминающей хитон, в разношенных сандалиях, с пастушеским посохом в руке, он казался похожим на бродячего старца гомеровских времён, на древнегреческого философа, размышляющего на берегу о судьбах мира. При взгляде на него возникали ассоциации с Зевсом, Паном с картины Врубеля, Посейдоном...

И он, действительно, как бог, мог творить судьбы людей, мог дарить людям самих себя, ибо обладал редким даром угадывания лучшего в них, угадывания творческой основы в человеке.
На всю жизнь осталась ему благодарна Марина Цветаева за то, что он помог ей открыть саму себя. В первом же поэтическом сборнике никому тогда не известной 18-летней девушки Волошин увидел незаурядный талант.

Он тут же откликнулся на него одобрительной статьёй, где тонко подметил особенности цветаевской музы, и сам принёс эту статью ей домой. Так произошла их встреча, которая положила начало яркой, одной из самых значительных дружб, которой судьба одарила Цветаеву.

На другой день Волошин прислал ей стихи, навеянные её сборником «Вечерний альбом»:

Ваша книга странно взволновала —
В ней сокрытое обнажено,
В ней страна, где всех путей начало,
Но куда возврата не дано.
Кто Вам дал такую ясность красок?
Кто Вам дал такую точность слов?
Смелость всё сказать: от детских ласок
До весенних новолунных снов?
Ваша книга — это весть «оттуда»,
Утренняя благостная весть.
Я давно уж не приемлю чуда,
Но как сладко слышать: «Чудо — есть!»
А потом был Коктебель — самое счастливое время в жизни Марины...



М. Цветаева в Коктебеле
Её благодарные письма: «Дорогой Макс! Если бы ты знал, как я хорошо к тебе отношусь! Я тебе страшно благодарна за Коктебель и вообще за всё, что ты мне дал. Чем я тебе отплачу?»

Она отплатит ему по-цветаевски щедро: уже после смерти Волошина напишет очерк о нём «Живое о живом», ставший настоящим памятником поэту, в котором создаст непревзойдённый по достоверности и блеску мастерства образ дорогого ей человека и поэта. Тогда же — в 1932-ом — создаст и цикл стихотворений, посвящённых Волошину:

Над вороным утесом —
Белой зари рукав.
Ногу — уже с заносом
Бега — с трудом вкопав
В землю, смеясь, что первой
Встала, в зари венце —
Макс! мне было — так верно
Ждать на твоем крыльце!
Позже, отвесным полднем,
Под колокольцы коз,
С всхолмья да на восхолмье,
С глыбы да на утёс —
По трехсаженным креслам:
—Тронам иных эпох! —
Макс! мне было — так лестно
Лезть за тобою — Бог
Знает куда! Да, виды
Видящим — путь скалист.
С глыбы на пирамиду,
С рыбы — на обелиск...
Ну, а потом, на плоской
Вышке — орлы вокруг —
Макс! мне было — так просто
Есть у тебя из рук,
Божьих или медвежьих,
Опережавших «дай»,
Рук неизменно-брежных,
За воспаленный край
Раны умевших браться
В веры сплошном луче.
Макс, мне было так братски
Спать на твоем плече!

Это был единственный, кажется, адресат стихов Цветаевой, духовная близость с которым не переросла в иную область отношений, ничем не осложнила и не омрачила их светлой дружбы, оставив чувство безграничной благодарности, пронесённой ею через всю жизнь.
Позднее счастье
И. Эренбург как-то заметил: «Волошин всех причислял к своим друзьям, а друга, кажется, у него не было». В последние 10 лет его жизни таким верным, преданным и любящим другом стала его вторая жена Мария Заболотская.

Волошин нашёл её умирающей в голодный 20-й год. Нашёл близ Коктебеля и привёл в свой дом, где она осталась навсегда. Мария отблагодарила неприспособленного к жизни поэта огромной заботой и теплом. Она ухаживала за его больной умирающей матерью, дом, быт, сад, пропитание — всё было на ней, на её плечах.
Ей было 34, ему — 45.

Потом она вспоминала: «Когда мы объединились, Макс мне очень серьёзно сказал: «Марусенька, у меня к тебе очень большая просьба. Исполни её, и мы будем счастливы. Я больше всего боюсь в браке чудовища о двух спинах. Так страшно, когда брачующуюся смотрят только друг на друга. Очень прошу тебя: будем повёрнуты лицами к людям. Эгоизм я считаю страшной вещью».
И она выполнила его просьбу. Они были счастливы 10 лет — до самой его смерти.
К тому времени, когда они встретились, Волошин был уже большой литературной знаменитостью. Подвижник духовной жизни, киммерийский отшельник, художник, поэт, теософ. И – не блиставшая ни талантами, ни красотой фельдшерица. “Лицом она похожа на четырнадцатилетнего мальчишку, – пишет Волошин в дневнике, – а иногда – на пожилую акушерку или салопницу”. Она почти безграмотна, не понимает тонкой иронии и шуток, не молода – 34 года. Что же привлекло в ней поэта?

Из письма М. Заболотской Волошину: “Я у тебя. Перетёрла все полки, книг не трогала, а пауков разогнала. Извините, но постель вашу разорила. Всё перестирала: и ватные, и пикейные одеяла. И ковры, и матрацы вычистила, а то там обитатели. Так счастлива была целый день, что возилась в твоём кабинете с твоими вещами. Разговаривала про тебя с твоей матушкой. Говорила она, что ты не можешь любить. Не любил никого и не полюбишь. Страшно думать об этом. Я так неинтересна ни с какой стороны. Смею ли мечтать о чём?.. Мне страшно, Макс. Ведь я только Маруська нелепая, смогу ли я? Я горюю, не знаю, как дождаться тебя”.
Домохозяйка при стареющем поэте? О, нет. “Мне кажется, она один из самых лучших людей, которых я встречал, – напишет потом в дневнике Волошин. – Её любовь для меня – величайшее счастье и радость”.

До встречи с поэтом Мария все годы как будто неосознанно искала применения своему единственному настоящему таланту – дару любить. Она не смеялась над его чудачествами. Его поэтический дар был для неё вне критики и вне обсуждений. Она была готова сражаться за его признание со всем миром.
После смерти Волошина его жене предстояли десятилетия борьбы за дом поэта, за память о Максе. Каждый день она начинала с молитвы: “Господи Иисусе Христе, сыне Божий, помилуй мя грешную и помоги мне свято и честно выполнить свой долг – запечатлеть Максин светлый образ и оставить его жить в преданиях, в книге так же радостно и прекрасно, как он его пронёс в жизни среди людей”. Эта женщина сумела спасти в годы немецкой оккупации архив Волошина, сберечь его личные вещи (закапывала их в землю), сохранила всю обстановку в доме, не переставив в нём ни одного предмета.

Ей мы обязаны тем, что до сих пор существует легендарный Дом поэта, превращённый позже в Дом творчества, величайший культурный центр России, место встреч писателей, поэтов, художников и других служителей муз.

Но в эти дни доносов и тревог
Счастливый жребий дом мой не оставил.
Ни власть не отняла, ни враг не сжёг,
Не предал друг, грабитель не ограбил.
Утихла буря. Догорел пожар.
Я принял жизнь и этот дом как дар
Нечаянный, — мне вверенный судьбою,
Как знак, что я усыновлён землёю.
Всей грудью к морю, прямо на восток,
Обращена, как церковь, мастерская,
И снова человеческий поток
Сквозь дверь её течёт, не иссякая.

Окончание здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post222147272/
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/102399.html
|
|
Процитировано 9 раз
Понравилось: 3 пользователям
Близкий всем, всему чужой |

Начало здесь
28 мая 1877 года родился Максимилиан Волошин, один из самых загадочных и колоритнейших персонажей Серебряного века.
По ночам, когда в тумане
Звёзды в небе время ткут,
Я ловлю разрывы ткани
В вечном кружеве минут.
Да, я помню мир иной —
Полустёртый, непохожий,
В вашем мире я — прохожий,
Близкий всем, всему чужой...
Марина Цветаева писала: «Макс принадлежал другому закону, чем человеческому. И мы, попадая в его орбиту, неизменно попадали в его закон. Макс сам был планета. У него была тайна, которой он не говорил. Это знали все, этой тайны не узнал никто».
(«Живое о живом»)
Впервые после долгого пребывания в Париже Максимилиан Волошин объявился в Москве в 1903 году. О нём сразу заговорили. Его внешний облик, парадоксальное поведение, удивительная открытость по отношению к любой мысли, любому явлению, его радостность, бившая ключом — всё вызывало в нём интерес.

Валерий Брюсов записывает о нём в дневнике: «Юноша из Крыма. Жил в Париже, в Латинском квартале. Умён и талантлив».
«Француз культурой, русский душой и словом, германец духом и кровью», - так характеризовала его Цветаева.
Внешность у Волошина была как бы двойственная, «смесь французского с нижегородским». Одним он напоминал персонажа из пьес Островского — этакий рубаха-парень богатырского сложения, с типично русским лицом, густой окладистой бородой лопатой, которые носили кучеры.

С другой стороны — изысканная, слегка грассирующая речь, пенсне, чёрный цилиндр, изящные сдержанные манеры выдавали в нём парижанина.

Волошин был центром любой компании. Добродушный и дружелюбный, в спорах он не становился ни на чью сторону, умел примирить врагов и стать для каждого другом. Эти человеческие качества были всегда присущи его характеру. С детских лет он отличался редким миролюбием, которое подчас раздражало мать поэта, женщину мужественную и даже несколько мужеподобную, огорчавшуюся, что в Максе этой мужественности не было никогда. Случалось, она даже подговаривала соседских мальчишек нападать на сына, чтобы как-то «расшевелить» его.

Но мальчик, не по годам крепкий, никак не желал вступать в драку — и предпочитал быть побитым, но не поднимать руки на другого. Это миролюбие и в дальнейшем оставалось принципом Волошина, - поссориться с ним было невозможно.

Волошин был радостный человек — для России непривычно радостный. Ему было 26 лет, но он говорил, что не страдал никогда и не знает, что это такое. В России неловко в таком признаваться, тем более поэту: у нас любят неудачников, мучеников. Мы помним знаменитые слова Достоевского юному Мережковскому: «Страдать нужно, молодой человек, а потом уж стихи писать». Волошин не стыдился признаться в своей душевной гармонии. Но его страдания не обойдут его. Они ещё впереди.
«Русский душой и словом, германец духом и кровью»
Родился будущий поэт 16 (28) мая 1877 года в Киеве. Его предки по отцу Кириенко-Волошины— казаки из Запорожья, по материнской линии — немцы, обрусевшие с 18 века. В жилах Волошина текла и русская, и немецкая кровь. Мать Елена Оттобальдовна (в окружении её прозвали «Пра», от слова «праматерь») - властная, волевая женщина с ястребиным профилем, в прошлом работница телеграфа, служащая в конторе железной дороги, ходила в мужской одежде: кафтанах, шароварах и казанских сапогах.

С мужем она разошлась, прожив с ним три года, сына воспитывала одна.

С 15 лет Макс жил с матерью в Коктебеле, закончил гимназию в Феодосии, потом учился на юридическом факультете московского университета.

Позже он утверждал: «Ни гимназии, ни университету я не обязан ни единым знанием, ни единой мыслью. Десять драгоценных лет начисто вычеркнуты из жизни».

Московский университет начала 20 века
Годы учёбы считал потерянными. Ему хотелось самостоятельно познать европейскую и мировую культуру. И он едет в Париж.
«Француз культурой»
Париж начала 20 века
Париж воспринимался Максимилианом как центр мировой культуры, как источник творческой энергии, место встреч с выдающимися людьми.

бульвар Монпарнас

парижские кафе той эпохи

Здесь он знакомится с видными зарубежными деятелями культуры — Верхарном, Роденом, Метерлинком, А. Дункан и другими.
В Париже Волошин прожил довольно долго. Занимался там живописью, ходил по музеям, впитывал новые впечатления. Во всей русской поэзии нет другого поэта, так тесно связавшего себя с Францией и так плодотворно обращавшегося к образу Парижа. Этот город стал его первой поэтической темой.

Парижа я люблю осенний, строгий плен,
И пятна ржавые сбежавшей позолоты,
И небо серое, и веток переплёты —
Чернильно-синие, как нити тёмных вен.
Поток всё тех же лиц — одних без перемен,
Дыханье тяжкое прерывистой работы,
И жизни будничной крикливые заботы,
И зелень чёрную, и дымный камень стен.
Мосты, где рельсами ряды домов разъяты,
И дым от поезда клоками белой ваты,
И из-за крыш и труб — сквозь дождь издалека
Большое Колесо и Башня-великанша,
И ветер рвёт огни и гонит облака
С пустынных отмелей дождливого Ла-Манша.

Кто ещё из русских поэтов мог так сказать о нём? -
В дождь Париж расцветает,
Точно серая роза...
Шелестит, опьяняет
Влажной лаской наркоза...

Ночной Париж. Писсаро
Здесь, в Париже, Волошин познал счастье первой любви. Его избранницей стала молодая московская художница Маргарита Сабашникова, девушка, похожая на восточную принцессу.

Она была племянницей известных книгоиздателей Сабашниковых, племянницей жены Бальмонта Екатерины Андреевой, - женщина тонкого ума, изящества, одарённая художественная натура. Она писала мистические стихи, увлекалась антропософией, прекрасно рисовала.

А это её автопортрет.

Она была древнего рода, в её чертах угадывалась бурятская и китайская кровь. Говорят, она даже гордилась прадедовым шаманским бубном.
Познакомились они ещё в Москве в 1903 году.
Образ загадочной золотоволосой девушки часто всплывал перед его глазами. И однажды на Карадаге, машинально бросая в скалу камень, он неожиданно для себя загадал: «Если попаду — Маргарита будет моей женой...» Отзвуком зарождающегося чувства стали стихи:
Сквозь сеть алмазную зазеленел восток.
Вдаль по земле, таинственной и строгой,
Лучатся тысячи тропинок и дорог.
О, если б нам пройти чрез мир одной дорогой!
Всё видеть, всё понять, всё знать, всё пережить,
Все формы, все цвета вобрать в себя глазами,
Пройти по всей земле горящими ступнями,
Всё воспринять и снова воплотить.

Маргарита обещала стать незаурядной художницей: ученица Репина, она уже удостоилась похвал Борисова-Мусатова, Сурикова, Голубкиной. Стройная и грациозная, с бледно-матовым лицом и слегка раскосыми глазами — она сама была очень живописна. Волошин опишет её в стихотворении «Портрет»:

Я вся — тона жемчужной акварели,
Я бледный стебель ландыша лесного,
Я легкость стройная обвисшей мягкой ели,
Я изморозь зари, мерцанье дна морского.
Там, где фиалки и бледное золото
Скованы в зори ударами молота,
В старых церквах, где полет тишины
Полон сухим ароматом сосны, -
Я жидкий блеск икон в дрожащих струйках дыма,
Я шелест старины, скользящей мимо,
Я струйки белые угаснувшей метели,
Я бледные тона жемчужной акварели.


Маргарита Сабашникова. Рис. М. Волошина
Но если внешность Маргариты приводила Волошина в восторг, то его собственный облик (лохматый, небрежно одетый, тучный) девушку удручала.

Буйная копна волос, приземистая фигура, неряшливость — всё ей было неприятно. После первой встречи с ним она записывает в дневнике: «Познакомилась с очень противным художником на тонких ногах и с тонких голосом». И только его «серые ясные глаза», ум, душевная тонкость заставляют её в конце концов примириться с внешним видом поэта.
Они снова и снова встречаются — у Бальмонта, у Щукиных, на чтениях поэтов — и вот Маргарита уже записывает в дневник другие слова: «Я примиряюсь с его гривой, потому что он счастлив и умён, у него очень хорошие стихи, он считается художником, но ничего определённого не делает: это показывает, что у него есть что-то определённое в душе».
В 1904 году Сабашникова едет в Париж учиться живописи. Волошин едет за ней.

Это фото Сабашниковой, сделанное в Версале 1905 года Волошиным. Он часто и много снимал её. Они вместе ходили по музеям, учились живописи. Именно в то время Волошиным был начат дневник, названный им «История моей души», который он вёл около 30 лет, до самой смерти. Связано это было с двумя моментами внутренней жизни 26-летнего поэта: сильным чувством к Маргарите и столь же сильным напором мыслей и образов, которые требовали выхода.
История его души

Автопортрет М. Волошина в зеркале, где он пытается понять, кто он и что он в этом мире. И помочь понять это ему должен был дневник, ставший зеркалом его души, его жизни.
Чувство его поначалу безответно. Маргарите 22 года, она хороша собой, талантлива, но мужчины, любовь оставляют её равнодушной. Однако ей жаль убивать отказом любовь Макса. После совместной поездки в Сен-Клу она записывает: «От меня ждут слов, а я молчу. Для него начался такой новый, такой громадный сон. Нужно оборвать его и жаль. Я смотрю на это молодое, на это чистое и одарённое существо и знаю, что с ним, и мне страшно, что в моих бессильных и неумелых руках сокровище, и я не знаю, как бережно, не измяв, отложить его».

Перипетии отношений с Сабашниковой — главная составляющая дневника Волошина и главная тема его стихов. «Всё, что я написал за последние два года, - признаётся он, - всё было только обращением к Маргарите Васильевне и часто только её словами».
Здесь все теперь воспоминанье,
Здесь все мы видели вдвоем,
Здесь наши мысли, как журчанье
Двух струй, бегущих в водоем.
Я слышу Вашими ушами,
Я вижу Вашими глазами,
Звук Вашей речи на устах,
Ваш робкий жест в моих руках.
Я б из себя все впечатленья
Хотел по-Вашему понять,
Певучей рифмой их связать
И в стих вковать их отраженье.
Но только нет... Продленный миг
Есть ложь... И беден мой язык.
Они были очень разными. Волошин — жадный до впечатлений, впитывающий в себя всё как губка, всеядный в восприятии различных культур, его интересовало буквально всё, а Сабашникова — холодноватая эстетка с изысканным вкусом, которая многое брезгливо отвергала, не принимала в искусстве. Волошин уставал от неё, от её холодности, взыскательного вкуса, непомерных требований, тонкой щепетильной натуры.

Я устал от лунной сказки,
я устал не видеть дня.
Мне нужны земные ласки,
пламя алого огня...
А её раздражала его внешность, манеры, поведение, непосредственность и эксцентричность.
Кроме того у неё были своеобразные представления о любви. “Я не выношу, когда меня любят, – говорила она Максу. – Ведь это борьба. Если передо мной склоняются, я хочу добить...”.
Как-то на прогулке она заявила ему: «Я люблю сильных. Если Вы хотите, чтобы я любила, Вы должны обращаться со мной холодно и строго».
Волошин уже знает это. Но не может относиться к ней без благоговения. Он не может решиться прикоснуться к ней. Сама мысль об этом кажется ему кощунственной. Земная страсть к этой неземной девушке кажется ему невозможной.

Девочка милая, долгой разлукою
Время не сможет наш сон победить:
Есть между нами незримая нить.
Дай я тихонько тебя убаюкаю;
Близко касаются головы наши,
Нет разделений, преграды и дна.
День, опрозраченный тайнами сна,
Станет подобным сапфировой чаше.
Мир, увлекаемый плавным движеньем,
Звёздные звенья влача, как змея,
Станет зеркальным, живым отраженьем
Нашего вечною, слитного Я.
Нечто похожее было у Блока: слишком трепетное отношение к жене не допускало земного обладания ею. Сабашникова, кажется, несколько презирала Макса за эту целомудренную трепетность. И в ответ на чей-о нескромный вопрос об этом она небрежно бросает: «Макс? Ну он же недовоплощённый».
К. Маковский пишет, что у Волошина была «слава вечного девственника», хоть тот и отрицал это. Не смея оскорбить своей страстью возвышенную Аморю (домашнее прозвище Маргариты), Макс переживает параллельный роман с ирландкой Вайолет Харт, художницей, ученицей Бакста.

Вайолет Харт
В своём дневнике Волошин предельно откровенен: его отношениея с Вайолет, судя по всему, вышли за рамки платонических. Ей посвящены эти его строки, ставшие классикой:
Если сердце горит и трепещет,
Если древняя чаша полна… —
Горе! Горе тому, кто расплещет
Эту чашу, не выпив до дна.
В нас весенняя ночь трепетала,
Нам таинственный месяц сверкал…
Не меня ты во мне обнимала,
Не тебя я во тьме целовал.
Нас палящая жажда сдружила,
В нас различное чувство слилось:
Ты кого-то другого любила,
И к другой моё сердце рвалось.
Запрокинулись головы наши,
Опьянились мы огненным сном,
Расплескали мы древние чаши,
Налитые священным вином.
Но по-настоящему он любит Маргариту, отношения с которой зашли в тупик. Волошин понимает: они живут с ней вне действительности, в каком-то ирреальном мире. Из его письма Сабашниковой: «Мы с тобой не сделали ещё ни одного поступка, но создали вокруг себя раскалённую атмосферу слов». Она вторит ему: «Мы как два зеркала, стоящие друг перед другом, отражаем друг друга и какие-то призраки, витающие между нами». Но ни он, ни она не могут выйти из «горячего тумана», окутавшего их души. «Не могу я тебе не писать, не могу я не получать от тебя писем!» - восклицает он. «Я живу только твоими письмами», - признаётся она. И они пишут и пишут — день за днём, утром и вечером, словами творя изменчивую действительность, с которой борются и которой подчиняются...
Я люблю усталый шелест
Старых писем, дальних слов...
В них есть запах, в них есть прелесть
Умирающих цветов.
Я люблю узорный почерк —
В нем есть шорох трав сухих.
Быстрых букв знакомый очерк
Тихо шепчет грустный стих.
Мне так близко обаянье
Их усталой красоты...
Это дерева Познанья
Облетевшие цветы.

Постепенно дневник становится для Волошина насущной потребностью: он пишет регулярно, помногу, и через какое-то время приписывает в начале тетради заглавие: «История моей души». Оценивая этот документ, литературный памятник эпохи, можно сказать, что перед нами — объёмная, пусть несколько мозаичная картина душевных и духовных блужданий поэта.

Мы попадаем в его творческую лабораторию, наблюдая зарождение ряда его стихотворений. Перед нами не только поэт и филолог, но и искусствовед, эстетик, философ. Мы можем проследить здесь его оккультные поиски, религиозные метания, без которых непонятны многие его творческие свершения.
Лик царевны Таиах
Читая дневники Волошина тех лет, нельзя не отметить его обострённое внимание к эротике. Он считает «основой жизни пол — секс», ибо «это живой, осязательный нерв, связывающий нас с вечным источником жизни». Он пишет, что «тело — великая и таинственная основа всего», и что оно «не имеет понятия о логике и нравственных правилах». Но сам остаётся рабом этих нравственных правил.
Видя, что его чувственное влечение к Маргарите не находит поддержки, он пытается переплавить его в творчество: «Великая сила пола, переведённая в другую область. Та же сила, которая соблазняет мою мечту ночью. Но тут я ею овладел и взвился на высоту, недоступную зверям. Художник должен быть воздержанным, чтобы суметь перевести эту силу в искусство».
Но жизнь не вписывалась в эти схемы. «Не властны мы в самих себе». Природа берёт своё. И тогда появляются такие записи:
«Суровые требования крепят душу... Но вот мы опять одни, и моя дорога отречений становится далёкой и не нужной... Я читаю вслух, и её рука на моей груди. И невыразимое чувство охватывает меня. Мой голос дрожит и прерывается. Я люблю её страстно, по-человечески. Я дал в себе проснуться мужчине».

Потом чувство проснулось и в ней. Запись от 12 августа 1905 года: «Я со страхом вижу, как в ней пробуждается страсть. И радость, и ужас, что «это» нахлынет и унесёт меня и её, и сожжёт... Минуты сладости. Я не имею власти над собой. Хочется сказать: «Ну, пусть он сожжёт нас...»
И арки черные и бледные огни
Уходят по реке в лучистую безбрежность.
В душе моей растет такая нежность!..
Как медленно текут расплавленные дни…
И в первый раз к земле я припадаю,
И сердце мертвое, мне данное судьбой,
Из рук твоих смиренно принимаю,
Как птичку серую, согретую тобой.
Лучшая любовная лирика Волошина, обогатившая русскую поэзию, написана им перед свадьбой. «Таиах», «Отрывки из посланий», «В зелёных сумерках», «Мы заблудились в этом свете», «В мастерской»...
12 апреля 1906 года они обвенчались. Волошин совершил ту же ошибку, что и Блок – “женился на Беатриче”.

После свадьбы молодожёны отправились в Париж.

Однажды в парижском музее Гимэ он увидел скульптурный портрет, до боли напомнивший своими чертами лицо любимой. Это была гигантская, высеченная из песчаника безвестным древнеегипетским мастером голова египетской царевны Таиах, жены фараона Аменхотепа III (XV век до н.э.). Волошин заворожённо смотрел на неё, не в силах отвести глаз.
 4
4

Он тут же заказал копию этой скульптуры в натуральную величину и увёз с собой в Коктебель.

.
Этот слепок стал отныне для поэта олицетворением всего самого дорогого и прекрасного в мире.

Свет зажгу. И ровный круг от лампы
озарит растенья по углам,
на стенах японские эстампы,
на шкафу химеры с Нотр-Дам.
Барельефы, ветви эвкалипта,
полки книг, бумаги на столах,
и над ними тайну тайн Египта –
бледный лик царевны Таиах.
Ты живешь в молчаньи тёмных комнат
Средь шелков и тусклой позолоты,
Где твой взгляд несут в себе и помнят
Зеркала, картины и киоты.
Смотрят в душу строгие портреты…
Речи книг звучат темно и разно…
Любишь ты вериги и запреты,
Грех молитв и сладости соблазна.
И тебе мучительно знакомы
Сладкий дым бензоя, запах нарда,
Тонкость рук у юношей Содомы,
Змийность уст у женщин Леонардо…
«Обманите меня»
В 1907 году Волошины приезжают в Петербург. Там они сближаются с кругом поэтов, художников, философов. Собирались чаще всего на башне Вячеслава Иванова — одном из лучших литературных салонов Петербурга.

Дом этот на Таврической 25 (так называемая башня), который действительно венчала шлемовидная башня с окнами-бойницами, (в ней располагался полукруглый кабинет В. Иванова), была центром притяжения духовных сил Петербурга. Там царили поэзия и философия, самые утончённые и талантливые люди Петербурга пили вино, шутили, веселились, дурачились, разыгрывали друг друга.

после театрального действа на башне В. Иванова
Волошину удаётся снять квартиру в том же доме, где жили Ивановы (на углу Таврической и Тверской), этажом ниже. Хозяин башни и салона Вячеслав Иванов был мэтром символистской поэзии, блестяще образованным человеком, знатоком древних языков и истории мировой культуры, законодателем художественной и литературной моды. Неудивительно, что Маргарита попала под его обаяние этой личности, в мире поэзии которого жила с детских лет.

Вячеслав Иванов
Вячеслав тоже влюбился в Аморю (её прозвище в кругу близких). Когда Маргарита поняла это — она совершила нестандартный поступок: рассказала об этом жене Вячеслава Лидии Зиновьевой-Аннибал и объявила о своём решении уехать. Но супруга мэтра поступила ещё более нестандартно: она предложила сопернице войти в их семью третьим членом.
- Ты вошла в нашу жизнь, - говорит она Маргарите. - Ты принадлежишь нам. Если ты уйдёшь — останется мёртвое. Мы оба не можем без тебя.
Брак с Сабашниковой не принёс счастья Максимилиану. Довольно скоро он сменился тройственным союзом с Вячеславом Ивановым, роковой треугольник вырос в эротический четырёхугольник с его женой... Одним словом, “высокие отношения”...
Нам трудно понять и принять характер подобных отношений, но тут нужно учитывать специфику атмосферы Серебряного века предреволюционной поры, когда в высших культурных слоях России в моде была эротика, поиски экстазов, острых ощущений. Сама страсть понималась как некая тайна, загадка, корни которой в другом, неземном мире.

Человек ничего не может изменить в ней, это помимо его воли, страсть — выше нас, - утверждали поэты-символисты. Нет больше ни этики, ни эстетики — обе сводятся к эротике. И всякое дерзновение, рождённое эросом — свято, - провозглашал В. Иванов. Все переживания почитаются благом, лишь бы их было много и они были сильны.

Башня была чуть ли не средоточием этих эротических и этических экспериментов, а сам хозяин — трибуном вседозволенности. Не отставала в смелости и новизне воззрений и супруга Иванова — Лидия Зиновьева-Аннибал, автор повестей «Тридцать три урода» и «Трагический зверинец», где проповедовалась лесбийская любовь. Оба эти писателя искали новых отношений между людьми, считая, что если двое любят друг друга, слиты воедино — а они были очень дружной парой — то вполне могут оба любить кого-то третьего. В такой любви они видели начало новой человеческой общины, иных человеческих созвучий, из которых должна вырасти новая духовность.

Вячеслав Иванов и Лидия Зиновьева-Аннибал
Таковы были времена и нравы. Тройственные союзы были довольно распространённым явлением того времени: Блок-Белый-Менделеева, Брюсов-Петровская-Белый, Мережковский-Гиппиус-Философов, Маяковский-Брики. Маргарита долго не могла решиться на этот шаг — стать членом чужой семьи. И тогда жена Вячеслава сама подтолкнула её, сказав: «Настоящая любовь не размышляет. Это категорический императив».
«А Макс?» - спросила Аморя. - «Ты должна выбирать, - отвечала Лидия. - Ты любишь Вячеслава, а не его».
2 марта 1907 года, вернувшись из Москвы в Петербург, Волошин не находит Маргариты в своей комнате.

“Мне обидно и больно, как ребёнку, – записывает он в этот день в дневнике, – что меня не встретили, не ждали. Мне хотелось бы видеть только её, говорить только с ней”.
На другой день – новая запись: “Макс, он мой учитель, – сказала мне Аморя, – я пойду за ним всюду и сделаю всё, что он потребует. Макс, я тебя никогда не любила так, как теперь. Но я отдалась ему. Совсем отдалась, понимаешь? Тебе больно? Мне не страшно тебе делать больно”. И она медленно крестила меня”.

Обманите меня, но совсем, навсегда,
чтоб не думать, зачем, и не помнить, когда... –
писал он тогда. Но обман – слишком большая роскошь. Ему прямо, без анестезии резали правду в лицо. Вячеслав Иванов “успокаивал”: “Макс, ты не думай обо мне дурно. Ничего, что не будет свято, я не сделаю. Маргарита для меня цель, а не средство”. Высокопорядочные, тонко чувствующие, необыкновенно одарённые люди... Элита.

Вот когда страдания, которых Волошин прежде не знал, настигли его душу. Он мучается, терзается ревностью, мечтает обмануться в том, что было уже очевидно. «Обманите меня...» это была почти мольба. И она стала стихами, а потом и песней.
«Обманите меня». Поёт А. Суханов:
http://video.yandex.ru/users/laronyka/view/569/#
Обманите меня... но совсем, навсегда...
Чтоб не думать зачем, чтоб не помнить когда...
Чтоб поверить обману свободно, без дум,
Чтоб за кем-то идти в темноте наобум...
И не знать, кто пришел, кто глаза завязал,
Кто ведет лабиринтом неведомых зал,
Чье дыханье порою горит на щеке,
Кто сжимает мне руку так крепко в руке...
А очнувшись, увидеть лишь ночь и туман...
Обманите и сами поверьте в обман.
«Прощай, царевна»
Дело шло к развязке. И единственное стихотворение, написанное Волошиным за «ужасный месяц» в Москве, звучит прощанием:
Блуждая в юности извилистой дорогой,
Я в темный Дантов лес вступил в пути своем,
И дух мой радостный охвачен был тревогой.
С безумной девушкой, глядевшей в водоем,
Я встретился в лесу. "Не может быть случайна, -
Сказал я, - встреча здесь. Пойдем теперь вдвоем".
Но, вещим трепетом объят необычайно,
К лесному зеркалу я вместе с ней приник,
И некая меж нас в тот миг возникла тайна.
И вдруг увидел я со дна возникший лик -
Горящий пламенем лик Солнечного Зверя.
"Уйдем отсюда прочь!". Она же птичий крик
Вдруг издала и, правде снов поверя,
Спустилась в зеркало чернеющих пучин...
Смертельной горечью была мне та потеря.
И в зрящем сумраке остался я один.

Волошин даёт жене полную свободу. Она может поступать как ей заблагорассудиться: может оставаться в Петербурге или уехать с ним в Крым, а затем в Европу. Маргарита предпочитает остаться с Ивановыми.


Тихо, грустно и безгневно
Ты взглянула. Надо ль слов?
Час настал. Прощай, царевна!
Я устал от лунных снов.
Ты живешь в подводной сини
Предрассветной глубины,
Вкруг тебя в твоей пустыне
Расцветают вечно сны.
Много дней с тобою рядом
Я глядел в твое стекло.
Много грез под нашим взглядом
Расцвело и отцвело.
Все, во что мы в жизни верим,
Претворялось в твой кристалл.
Душен стал мне узкий терем,
Сны увяли, я устал...
Я устал от лунной сказки,
Я устал не видеть дня.
Мне нужны земные ласки,
Пламя алого огня.
Я иду к разгулам будней,
К шумам буйных площадей,
К ярким полымям полудней,
К пестроте живых людей...
Не царевич я! Прохожий
На него, я был иной...
Ты ведь знала: я - Прохожий,
Близкий всем, всему чужой.
Всё, что произошло с Волошиным, очень повлияло на характер его поэзии. Она стала другой. Ещё до их встречи В. Иванов говорил о стихах Волошина, что они виртуозны и совершенны по форме, но им не хватает живого дыхания жизни. По горькой иронии судьбы, именно Иванову удалось косвенно содействовать осуществлению своего пожелания. Личная драма способствовала перелому в поэтическом мироощущении Волошина. В его стихах зазвучало неподдельное страдание.

Я ждал страданья столько лет
Всей цельностью несознанного счастья.
И боль пришла, как тихий синий свет,
И обвилась вкруг сердца, как запястье.
Желанный луч с собой принёс
Такие жгучие, мучительные ласки.
Сквозь влажную лучистость слёз
По миру разлились невиданные краски.
И сердце стало из стекла,
И в нём так тонко пела рана:
«О, боль, когда бы ни пришла,
Всегда приходит слишком рано».
Волошин записывает в дневнике: «Мне надо прикоснуться к груди земли и воскреснуть». Он уезжает в свой Коктебель.

Продолжение здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post221999054/
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/101959.html
|
|
Процитировано 6 раз
Понравилось: 4 пользователям
Дар тайнослышанья тяжёлый |
Начало здесь
Владислав Ходасевич и Нина Берберова. Они были диаметрально разными, можно сказать, психологически несовместимыми людьми. Волна и камень, лёд и пламень... Даже внешне они, казалось, совершенно не подходили друг другу. Из воспоминаний О. Грудцовой: “Мне представлялось, что он чудовищно некрасив: лицо серо-коричневого цвета, лоб весь в морщинах, маленькие широко расставленные глаза смотрят из-под очков...

Я никак не могла понять, что влекло к нему эту молодую, статную, красивую женщину с большими глазами и прекрасным цветом лица”.

Когда читаешь воспоминания Нины Берберовой, не оставляет ощущение, что она в глубине души тоже была убеждена в своём неоспоримом превосходстве, причём не только внешнем. Вот самое начало их жизни – 1922 год.

Берберова вспоминает их отъезд за границу, дорожные мешки на полу товарного вагона. “Да, там был и его Пушкин, все 8 томов. Но я уже тогда знала, что никогда не смогу полностью идентифицироваться с Ходасевичем. Россия не была для меня Пушкиным только. Она лежала вне литературных категорий”.
По тону мемуаристки чувствуется, что она видит себя более многогранной и цельной личностью, нежели её спутник, зацикленный на литературе и поэзии. “Полностью идентифицироваться” она не могла с ним не только в отношении к родине. Это была ещё крохотная, едва заметная трещинка, которая постепенно разрасталась в непроходимую пропасть.
1924 год. Они едут в Венецию, где когда-то в юности Ходасевич переживал роман с Евгенией Муратовой, своей “царевной”. Берберова пишет: “Он захвачен всем тем, что было здесь тринадцать лет назад, и ходит искать следы прежних теней, водит и меня искать их”. О нет, она не ревнует. Лишь недоумевает: “Я не вполне понимаю его: если всё это уже было им “выжато в стихи”, то почему оно всё ещё волнует его, действует на него?”

Сухая, прагматичная и целеустремлённая натура Берберовой не в силах понять всё, что не поддаётся здравому смыслу и житейской логике. В её тоне сквозит плохо скрываемое самодовольство: “Он боится мира, а я не боюсь. Он боится будущего, а я к нему рвусь. Он боится нищеты, обид, грозы, толпы, пожара, землятресения...”. Но поэт, не обладая трезвым взглядом на вещи, обладает глубинным знанием жизни, которое, как известно, “умножает печаль”.

Хожу – и в ужасе внимаю
шум, не внимаемый никем.
Руками уши зажимаю –
всё тот же звук! А между тем...
И каждый ваш неслышный шёпот,
и каждый вам незримый свет
обогащают смутный опыт
Психеи, падающей в бред.
“Смутный опыт”, “дар тайнослышанья тяжёлый”, – это не то , что помогает жить, скорее, мешает, терзая душу. “И как-то тяжко, больно даже/ Душою жить – в который раз...”. Его мучают комплексы, дурные предчувствия, метафизичекие страхи.

Стиху простому, рифме скудной
я вверю тайный трепет тот,
что подымает шёрстку мыши
и сердце маленькое жжёт.
В то время как его спутница – решительная сторонница активной жизни, где всё – всецело в её воле, в её руках. “Моей природе противно всякое расщепление или раздвоение”, – пишет она. Сравните это с ходасевичевским:
И в этой жизни мне дороже
всех гармонических красот
дрожь, побежавшая по коже,
иль ужаса холодный пот.
Иль сон, где, некогда единый,
взрываясь, разлетаюсь я,
как грязь, разбрызганная шиной
по чуждым сферам бытия.
У Ходасевича – рефлексия, раздвоенность сознания, депрессия, тоска. У Берберовой – напор и натиск, безапелляционная уверенность в себе, в своих силах, в своей правоте. Она живёт, отсекая всё лишнее, бесплотное и бесплодное, мешающее неуклонному движению вперёд. Никакой сумятицы чувств, никаких неразрешимых противоречий, путаницы и хаоса в душевном мире, которые, как она пишет, “если их не унять, разрушат человека”. Вместо смутных теней, неверного пламени свечи – “стосвечовая лампочка, светящая мне прямо в книгу, где всё договорено, всё досказано, ясный день, чёрная ночь...”. “Бытие есть единственная реальность”, – утверждает она.

Берберова уходит от Ходасевича, прожив с ним без малого 10 лет. Уходит, как вырывается на свободу. Ей хотелось жить, осуществлять себя, а миссия её больного, нервного, измождённого мужа была уже, как ей казалось, завершена. “Жить, жить, жить”, – исступлённо повторяет она. Но парадокс в том, что не ей – деятельной и бесстрашной, а ему, хилому и хандрящему, был открыт потаённый, глубинный смысл жизни, тот “смутный опыт”, которым он обогатит души грядущих поколений.

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/101679.html
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю
"Перелепи моё лицо, скульптор!" (окончание) |

Начало здесь
Поэзия Майи Борисовой афористична. Иные её строчки впечатываются в память сразу и навсегда:
И как эхо нездешнего зова,
как сигналы с планеты иной,
безупречная речь Лихачёва
безуспешно парит над страной.
Как ёмко и точно сказано!
***
Он висел, где висеть бы не мог,
целым был там, где рушилась целость.
Я спросила себя: что есть Бог?
И ответила так, как хотелось.
***
«Лучше поздно, чем никогда». -
Бред, нелепица, ерунда!
Сколько раз мне снежком морозным
в сердце падало «слишком поздно»,
а томящее «никогда»
в небе таяло, как звезда!
***
Замыкается жизнь. Что жалеть, чем гордиться,
что себе засчитать в искупленье вины?
Для родных мы — чужбина, почти заграница,
а чужим — до последней кровинки видны.
***
Скажи, талант, ты поза или мода?
Зачем ты так беспечен и нелеп?
Зачем в годину голода и мора
на розу ты обмениваешь хлеб?
***
Последние жаркие даты
и слёзы любви по щекам.
И то, что грядёт — не расплата,
а пени по старым счетам.
***
Больному телу хочется лежать,
здоровому — на улицу бежать.
Больной душе сочувствие — не впрок.
Душе здоровой это невдомёк.
Спешит к больной здоровая душа
на помощь, спотыкаясь и спеша,
но, будучи не принятой всерьёз,
плетётся прочь, обижена до слёз.
Больная же дрожит, свертясь кольцом,
как битая собака под крыльцом,
и вылезать не хочет нипочём,
не из-под палки, ни за калачом...
(Где-то встречала на них пародию: «Больное тело требует укол. Здоровое — билеты на футбол...». И т. д., до бесконечности. Мы с мужем забавлялись тем, что придумывали к этим строчкам-антиподам продолжение. Но тем не менее стихотворение это очень люблю, и никакие пародии мне в этом не помешают).
А вот ещё уже почти хрестоматийное :
А главное – не надо пить с утра.
Не то всё прахом: отдых и работа.
Уж ежели вам пить пришла охота,
есть для вина вечерняя пора.
И плакать поутру никак нельзя,
иначе будет день разодран в клочья.
Перетерпеть, суметь дождаться ночи –
тогда катись, катись, моя слеза!
Еще нельзя влюбляться... стоп! Когда ж?
Ведь молодым сам бог велел влюбляться.
Черт дернул тех, кому вдвойне за двадцать...
А старикам все девять муз дивятся
и опыт их берут на карандаш,
чтобы в веках ему не затеряться.
Но главное – не надо пить с утра...

П. Пикассо. Любительница абсента.
Увы, Майя пила. Это было уже в конце жизни, после многих утрат и потерь. Не судите да не судимы... Этот белый стих я не могу читать без слёз. И комментировать не могу. Больно.
О времена, милая мама, о нравы...
Я вот стеснялась тебя попросить с глазу на глаз,
но не стесняюсь публично просить и печатно.
Просьба-то, в общем, пустячна: пожалуйста, мама,
после того, как прощусь я и двери захлопну,
протопочу по ступенькам все восемь пролётов
и поплетусь, побегу, пошагаю двором
наискосок — от дверей и до подворотни,
выгляни в форточку, мама! Так делал отец.
Но вот теперь его нет, и окно опустело...
О времена, милая мама, о дети,
мы — повзрослевшие и почужавшие дети...
В чём мы нуждаемся? Чем вы нам в силах помочь?
Материально? Материя наша — покрепче...
Добрым советом? Но кто теперь следует добрым советам?
Тем, что понянчите внуков... А если нет внуков?
Но вот в одном мы нуждаемся, как оказалось,
без исключения все, всякий раз, когда видимся с вами:
в том, чтоб, прощаясь, вы нам из окошка махали...

Мама, а знаешь, я тебе больше скажу:
мы умираем ведь не от инфаркта и рака,
просто мы шеи сворачиваем себе,
тщетно и долго оглядываясь на окна,
те, из которых вослед нам никто и не смотрит.
А иногда происходит такое: с подъятым
жалким лицом и со взором, беспомощно ждущим,
мы оступаемся, падая, что-то ломая
в хрупком, хотя уже взрослом, своём организме,
и утверждаем позднее, что пострадали
в авиа-, авто- или иной катастрофе.

О Майе Борисовой нет никаких воспоминаний — что мне странно, ведь не в лесу, не в пустыне жила, - за исключением небольшой статьи-заметки критика и литературоведа А. Рубашкина. Из неё мы узнаём, какой Майя была человек:
«... получил через нее привет от того же Сосноры, которого она бросилась спасать, когда он едва не погиб после операции в эстонском городке Отепя... Она все больше проявляла себя как талантливый прозаик, выступала с острой публицистикой. По-прежнему шли стихи... Она организовала фонд поддержки писателей, работала в Совете нового писательского образования — СП Спб.
На одном из заседаний Совета обсуждали распределение ежегодных дополнительных стипендий, выделенных Москвой. Мне поручили подготовить список претендентов, и, учитывая, что Борисова активно помогает другим, решил поддержать ее. Но я знал характер Майи и договорился с председателем Совета прозаиком М. Чулаки оставить одну позицию резервной, на всякий случай, а если точнее, на «Майин случай», полагая, что она может «взбрыкнуться». Как в воду глядел! Едва список был зачитан, резко встала Майя Ивановна: «Что такое? Борисова есть, а поэта Р., которая нуждается больше, нет. Да ей же надо в первую очередь!».
Я тут же сообщил, что такая возможность есть — дать и Р., и Борисовой. Она не успела возразить, найти другую кандидатуру вместо себя, как вопрос был решён... Но радовался я напрасно. Получить эти деньги Майя уже не успела...»
Романтика 60-х обернулась перестроечным хаосом: не дай кому Бог жить в эпоху перемен...
Как она не хотела переезжать! Как чувствовала...

Дом того, кто уедет, и до отъезда пуст.
Освобождает себя он нощно и даже денно:
пусть ещё пол сверкает, книги на полках пусть -
окна вовнутрь взирают строго и отчуждённо.
Как я боюсь отъездов, как я боюсь разлук!
В юности — вспомнить странно — я их любила даже...
Видно, слабеет хватка памяти или рук:
связанному так просто вновь распуститься пряжей.
Мама, не надо мены! Мама, не переезжай...
И без того уж наша улица опустела.
Лестничная площадка — крашеная скрижаль,
буквы наших имён въелись ей прямо в тело.
Ну, подберёшь варианты, мебель спроворишь вниз,
переместишь посуду в недра квартиры новой...
А одноногий голубь будет клевать карниз,
будет помёт ронять, клянчить крупы перловой.
Мама, я тоже голубь, мама, корми меня,
чем — всё равно, но только стол чтобы — этот, старый!
Я не хочу меняться. Я не хочу менять.
Может, устала я, может, умнее стала.
Я не хочу в примерке сравнивать города.
Есть ли друзья роднее, ближе подруг по классу?
Я не хочу «надолго», я хочу «навсегда».
Верности, клятв хочу! Милый, заставь поклясться...
Мама, повремени, выпусти лучше в пляс
духов твоей стряпни, духов борща и теста!
Пусть замутят стекло. Да не коснётся нас
из-под неснятых штор мертвенный взор отъезда.

Из воспоминаний Виктора Тихомирова-Тихвинского:
«В опустевшую квартиру на Дворцовой набережной Ленинграда в том же 1985 году поселилась другая очень известная поэтесса, Майя Борисова, долгие годы ранее работавшая редактором детского журнала "Искорка". К сожалению, основным её увлечением в девяностых годах прошлого столетия стал алкоголь. Впадая в пьянство, поэтесса раздражалась по пустякам, а перед смертью всё время злилась на соседей, которые строили бассейн у себя в квартире выше этажом.
Эта квартира на Дворцовой набережной, словно ловушка для своих жильцов, стала и местом гибели и новой жилички. В 1996 году Майя Борисова упала в ванной комнате и погибла. Много дней её тело пролежало в квартире.
Об этом горе я впервые узнал в том же году от Глеба Горбовского, когда тот приезжал ко мне в гости и читал новые стихотворения, одно из которых было посвящено Борисовой».
Дворцовая набережная. Здесь жила в последние годы Майя Борисова
А. Рубашкин рассказывает о своих последних встречах с Майей:
«Последние годы Борисова жила в самом центре города. Ее квартира смотрела большим окном на Неву и Петропавловскую крепость. Летом часто приезжала в Комарово, в Дом творчества. Помню, как в жаркий день встретил ее неподалеку от станции. Был рад встрече, думал, смогу поговорить. Меня беспокоила её отстранённость, нежелание вступать в контакты. Вспоминались дни в Коктебеле, где отдыхала шумная компания — Адамовичи, Черниченки, Павловские... Борисова была душой всех наших сборищ, розыгрышей, живой, светлый человек... И вот — совсем другая Майя, она и внешне изменилась, погрузнела.
С веселостью, пожалуй, напускной, я спросил, не идёт ли она на озеро. Ответ был сухим, кратким. «Нет, опять в Репино. Ты же знаешь, там похоронен мой брат...» Я знал, и не то что забыл, но хотел отвлечь от мрачной темы. Разговор не получился. И уж совсем не вышел, когда я позвонил через несколько месяцев; она даже вряд ли узнала меня, и сама была неузнаваема. «Майенька, ты не можешь говорить? Так я в другой раз». — «Да, не могу», — сказал чужой голос. Другого раза не вышло».

последняя фотография
Шла и вновь, как в болезни, в беде,
застывала без сил и движенья.
А в коричневой тусклой воде
колыхалось моё отраженье.
Куст, ещё не одетый листом,
тут же морщился зыбко и криво.
То с моим сотворилось лицом?
Что с лицом я своим сотворила?
Ну, а правда, что глубь — глубока?
Так до дна дотянуться тянуло...
Под рукой возникала строка.
Я хваталась. И я не тонула.
Почему же на этот раз не выплыла? Что с твоим сотворилось лицом? «Ну, а что же с тобой приключилось, Что с душой приключилось твоей?»
Майя Борисова умерла в феврале 1996 года (точная дата смерти неизвестна). Похоронена на Репинском кладбище под Петербургом.
Репинское кладбище расположено в поселке Репино по адресу: Большой пр., д. 43, литера А. Площадь кладбища 2,1 га.
Репинское кладбище находится в хвойном лесу
На кладбище рокочут соловьи
и робко, и неровно, и победно...
Забор, отяжелевший от побелок,
размеренным объятием своим
сжимает и хранит листву и ветки
от городских соблазнов. В кои веки
раз разрешаю собственным ушам
услышать соловьёв победный щёкот.
И тёмен мир. И светел лунный шар.
И воздух мне выстуживает щёки.
Влюбляться разучилась. Не могу.
Недавно попыталась, но — не вышло.
Так почему же, как на берегу,
на узком подоконннике, нависшем
над глубиной в шесть чётких этажей,
пластаюсь я, и плачу, и тоскую?
Какую нежность и печаль какую
пытаюсь воскресить в своей душе?
На кладбище, чей пол не подметён,
утишен прелью шаг любой и топот,
днём девочки играют в бадминтон,
и в мягких травах их колени тонут.
И детская коляска — у куста,
и мать болтает весело с подружкой.
Забавная качается игрушка
на птичьей лапе тёмного креста.
Что толку в тесных, тёсаных камнях?
Их — тех, лежавших — нету под камнями:
они давно в цветах или корнях
и радуются лету вместе с нами.
На кладбище, где улицы свои,
кварталы и дома под номерами,
прогретыми, сухими вечерами
раскатывают трели соловьи.
Бушует пенье — ныне, присно, впредь,
и не слабеет звук, не убывает!
Случается, живое — убивают...
Само — ничто не может умереть.

Что же убило Майю?
Из статьи А. Рубашкина:
«Я слышал, что на квартиру Борисовой в «престижном доме» положили глаз «новые русские», что ей уже настойчиво предлагали обмен. Подъезд стал как бы стройплощадкой. Одного мы не представляли — как она близка к самому краю...
А потом несколько дней в феврале ее телефон не отвечал. Так и осталась неизвестной точная дата ее смерти. Одному из первых я позвонил нашему старшему товарищу, человеку сильному, все понимающему. Он сказал: «Очень жаль. Ее убило одиночество». По тому, как она всегда держалась, этого не было видно. Но иногда об этом говорили стихи, искренние и сильные. Приведу одно из самых коротких:
На те часы, когда любовь —
нет, не уйдет! — замрет, отхлынет,
такая горечь свяжет кровь,
куда хинину и полыни...
Недуг бы, кажется, постиг,
пожар, и то бы легче было.
Так вот с чего звучат уныло
напевы раковин пустых!
Я не знаю, кому адресованы эти строки В. Сосноры, но мне почему-то хочется думать, что ей:
Хлебом вскормлен, солнцем осолен
майский мир. И самолетных стай
улетанье с гулом...о, старо!
и ни просьб, ни правды, и - прощай.
Сами судьбы - страшные суды,
мы - две чайки в мареве морей.
Буду буквица и знак звезды
небосклона памяти твоей.

«Когда человек умирает — изменяются его портреты...» - писала Ахматова. И стихи — я заметила — тоже... Они читаются уже под другим, посмертным углом.
«Перелепи моё лицо, скульптор!» - писала Майя, обращаясь к творцу, - «чтоб нам неузнанным уйти рядом», то есть чтобы начать новую, свою жизнь. А мне через толщу лет читается другое: перелепи моё лицо, скульптор-время, чтобы оно стало наконец моим, чтобы мне стать узнанной миром, узнанной своими читателями. Чтобы они узнали меня не как журналиста-депутата-завсекцией поэзии, редактора детского журнала, рецензента, оппонента Сосноры, душу любой компании и т.д. а узнали мою душу, мои стихи, прочли их и поняли, и задумались над своей жизнью.
Я не скульптор, но старательно отсекаю лишнее, второстепенное, наносное, чтобы образ Майи Борисовой проступил из шелухи вчерашнего дня и засиял всеми гранями, чтобы мы увидели в ней наконец незаурядного Поэта, Женщину, Творца, которая сама может вылепить что угодно.
Мне хочется обратиться к близким Майи, если таковые остались, родственникам, друзьям, всем, кто её знал, общался — а ведь таких было много, и многие из них ещё живы. Кто-то видел, разговаривал с ней в последние дни, кто-то хоронил, был на её могиле в Репино— прошу вас, откликнитесь! Напишите о ней, что помните, пришлите свои фотоснимки с ней, фотографию могилы, её стихи, которые я здесь не приводила и которые, возможно, никому не известны. Пишите здесь у меня, пишите на своих страничках, перепостивайте её строчки, публикуйте её фотографии! Ведь человек умер сравнительно недавно — в 1996-ом, а известно о ней меньше, чем о средневековом Вийоне, и кроме казённых микроскопических заметок 60-х годов — никаких материалов, даже стихов, за исключением пяти-шести, нет в Интернете, все эти стихи я перепечатывала из её сборников несколько дней. Прямо как в том анекдоте: «умерла — так умерла». А ведь ещё вполне могла бы жить, если бы — кто знает — были бы добрее и внимательнее те, кто рядом или хотя бы невдалеке.
Критик А. Рубашкин, первый и последний редактор Майи, пробивавший многие её книги, был, пожалуй, ближе других к ней («Помню дом на Васильевском, еще семейный, ее мужа», - пишет он в статье «Майя — светлое имя»). Кстати, эта статья в Интернете значится как опубликованная в «Звезде» № 2 за 2002 год (самая поздняя публикация о ней), но там вы её не найдёте, на самом деле статья скрывается в «Неве» № 2 за тот же год, я с трудом это вычислила путём метода проб и ошибок, после чего отправилась в библиотеку, там отыскала (ибо в Инете архив «Невы» кончается номерами 11 и 12, а № 2 там нет по определению), сканировала и частично опубликовала. Что, Рубашкин не мог за 10 лет сам исправить эту опечатку или выложить свою статью как положено, чтобы её могли прочесть и другие?
Нашла в Интернете чей-то безымянный «Дневник с комментариями» под названием «Дом творчества. Зазеркалье». Цитирую.
ГЛАВА ВТОРАЯ. Около литературы.
Вот неосторожность - запустить меня в Дом творчества. Проглотив многоплановый голодный обед, бодро решила: не описать ли окружающее теперь, чтобы не вспоминать и не ломать голову через полвека?..
Описать столовую можно, слушая тонюсенький голос бездарной Норы Яворской, мышки с печеным яблочком вместо лица, в платьишке черном с серым - траурное северное сияние в разводах. Нора - хозяйка, льготы коллекционирует, громче всех разговаривает. Ее книжки у меня не приняли даже в магазин "Старая книга", когда не было денег. Вторая после нее - знаменитая милостью, но небольшими талантами Майя Борисова. Румяная, домашняя, лыжная, мягкая, в спортивном костюме или белом пушистом свитере, вкрадчивая, как кошка, ко всем в двери стучится. Я прячусь. Пришла. Говорю: спасибо Вам, Майя Ивановна, доброе слово замолвили (моя первая рукопись попала к ней на рецензию, так она помогла действительно, только подсчитала в стихах бутылки, собак, старушек, - убрать. Я благодарна; а возрази - точно в могилу загонит. (Теперь уже Майя Борисова далеко. Вечная память! Прошу прощения у нее за резкость, но ничего не могу изменить... 1996 год.)
Попросила ее написать статейку о молодых; отвечает: молодые меня сегодня не интересуют, я с Цехановичем за одним столом сижу, он неформалами занимается, пишет о них, так мне вот так интересно! Намекаю, что все классики наши, выпустив по нескольку книг, о молодых немедленно забывают. Майя чай в ответ допила - и пошла с Цехановичем на прогулку...
Не знаю как вас, а меня возмутили заметки этой «окололитературной» дамы, которая оценивает литераторов лишь по принципу личной пригодности, помогли они ей или нет в литературе. И, несмотря на то, что Майя помогла (но подсчитала и велела вычеркнуть все бутылки — видать, немало их у неё было — так цензура же! всё равно бы не пропустили) — вместо тёплых слов благодарности — лягает её — уже мёртвую! Одна фраза «известная небольшими талантами» чего стоит! У неё, что ли, они большие? Мерзко всё это.
Вспомнился Окуджава:
Берегите нас, поэтов, от дурацких рук,
от поспешных приговоров, от слепых подруг.
Берегите нас, покуда можно уберечь.
Только так не берегите, чтоб костьми нам лечь.
Только так не берегите, как борзых - псари!
Только так не берегите, как псарей - цари!
Будут вам стихи и песни, и ещё не раз...
Только вы нас берегите. Берегите нас.
Давайте беречь наших талантов, а если уж не уберегли — хотя бы постараемся сберечь их творчество, их светлый образ для грядущих поколений. Давайте реанимируем это светлое имя в поэзии — Майя Борисова. Оно того стоит.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/100690.html
Послесловие: http://nmkravchenko.livejournal.com/249559.html
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю
"Перелепи моё лицо, скульптор!" (продолжение) |

Начало здесь.
Десять лет Майя Борисова работала в газетах Сибири: Абакан, Красноярск, Дивногорск, адреса комсомольских строек. Там писались и выходили её первые книжки. Но она так и не сумела полюбить эти города. И в этом честно признавалась — в своей нелюбви, виня, впрочем, не их, а саму себя. Казалось бы, что ей стоило расписаться в обратном, в духе молодёжных традиций той эпохи, воспевающей романтику дальних странствий и трудных дорог, как делали многие её сверстники... Но она не умела фальшивить.
Всем знакомым было известно,
И теперь душой не кривлю:
Я всегда говорила честно —
Этот город я не люблю.
Не люблю унылой пылищи,
Палисадников без травы.
Не люблю назойливых нищих
И расхлябанных мостовых.
Но, отметив мою победу,
Паровозный взвился гудок!
Я сейчас навсегда уеду,
Брошу этот вот городок.
Так блаженно, неодолимо,
Все в клочкастых седых дымах,
Проплывают поспешно мимо
Нелюбимые мной дома.
Только что ж это я не рада?
Я из города прочь лечу.
Мне б от счастья смеяться надо!
А смеяться я не хочу…
Мне сейчас обидно до боли,
Что клочок родимой земли
Мы пытались обжить с тобою
И обжить его не смогли.
Было всё: работа, квартира,
Город не к чему обвинять.
Может, нам души не хватило,
Чтоб его красоту понять?
В репродукторе скрипка ноет…
Нет, не дай мне бог никогда
Оставлять за своей спиною
Нелюбимые города.
(«Нелюбимый город»)
А какой же любимый? Ну, конечно же, Питер! Тогда — Ленинград. Майя Борисова — ленинградка в пятом поколении. И пишет о нём так, что прочтя, не полюбить этот город невозможно...
А город позабыл, что он заслуженный,
Что волнами и войнами изранен.
И стал таким: рискованным, закруженным...
И стал таким: из молодых, из ранних...
И, накренясь на каждом повороте,
Растаянные тайны выдавая,
Влюбленных выдувал из подворотен,
Как стеклодувы кубки выдувают,
Жонглировал пылающими плошками,
Бил пятерней в ступенчатые клавиши.
И становились парочки на площади,
На самый-самый зыбкий-зыбкий краешек.
О площадь, ваша роль - куда уж плоше?
Не проще ль превратиться вам в качели?
Чтоб только - ax! - взметало ветром плащик.
Чтоб только - ax! - колени коченели.
Холодный и изысканный Петрополь,
Что сделал ты с чинами и с летами?
Хватаясь за колонны, как за стропы,
До самых звезд влюблённые взлетали!
А город, их сияньем осеняя,
И хохотал и бойко пританцовывал.
Качели - ax! - вознесена Сенная...
Качели - ax! - вознесена Дворцовая...
Но утро наступало строго, вежливо.
И город сам себя уравновешивал.
И затихал смущенно и устало.
И всё на свете почву обретало.
За одним образом Ленинграда встаёт другой, за ним — третий, что ни стих — новый пласт, непредсказуемые ассоциации. И ускользает та грань, за которой у неё уже не о городе — о себе.
Леса, леса, лесное лето,
тягучий плен полян лесных!
Я вся — хохочущая лепта
в разбойный звон твоей листвы.
Леса — размашистые парни,
игра, визгучая возня!
А в Ленинград приходят парки,
в решётках грифельных сквозя.
А я ещё простоволоса,
приманка, вёрткая блесна!
А в Ленинград приходит осень,
умна, надменна и ясна.
Река смиренно гладит берег -
гранитно-прочен их союз...
И я тишаю, и робею,
скучней и лучше становлюсь.

(Это всё к тому же расхожему утверждению в «рационалистичности» поэзии Борисовой. Хороша «рационалистичность»!)
В ней многое — от Ленинграда: ум, интеллигентность, культура, сдержанность. Но много и такого, что не вписывается, не вмещается в его чёткий и строгий распорядок. А она так хочет быть похожей на свой любимый город, быть под стать и вровень ему...
Снова ясен, снова чёток
на земле мой белый рай.
Летнесадовских решёток
закруглённое «прощай».
Полусолнце, полувеер,
полувыдох, полусклон.
Обессиленные ветви
простирает старый клён.
Под дощатыми плащами
молча статуи стоят.
Научи меня прощаться,
завершаться, Летний сад!
Не жалея о решённом,
о прошедшем не скорбя,
чёткой линией решёток
огораживать себя.
Уходить с чужого пира,
от несытого огня,
прочно каменные пики
постенно наклоня.
Не теряя строгой формы,
завершая контур свой,
класть последнюю покорно
на гранит береговой.
Чтобы дальше — лишь вода,
да и та — под гладью льда.

Сколько уже, кажется, поэтами написано о Лениграде-Петербурге! Но Майя сумела внести свою краску, вплести свой цветок в этот всеобщий венок городу. При этом она совсем не идеализирует его, не лакирует, не «гламурит», выражаясь современным языком.
Мой серый, пепельный, жемчужный,
мой увлажнённый и сквозной,
как неожидан и не нужен
тебе тяжёлый этот зной...
Весь этот пир, вся эта свадьба,
жара и жажда, медь и мёд,
вся эта южная бравада -
она нейдёт тебе, нейдёт.
О мой опаловый, опальный,
не льсти зелёному листу:
тебе покорность листьев палых
куда как более к лицу.
Обилье праздничных подарков,
хмельных страстей круговорот -
всё, что размашисто и ярко,
оно нейдёт тебе, нейдёт;
загаром блещущие груди,
небес простор без облаков,
плодов бессовестные груды,
зазывно прущие с лотков...
Куда милей рисунок рынка,
когда порхает здесь и там
озябло-голубая рыбка,
весной прижатая к сетям.
Твой гимн — топтанье круглых капель
на опустевшей мостовой.
Бессонницу родящий кашель -
вот твой пароль и отзыв твой.
Озноб, горячка, бред... Священен
неумолимый твой недуг!
Ну, а довольство, пресыщенье -
они нейдут тебе, нейдут...
У неё — не воспевание красот Ленинграда — знание самой души города. Это больше, чем любовь: родство. Вспомнилась Цветаева: «Ятаган? Огонь? Поскромнее, куда как громко... Боль, знакомая, как глазам — ладонь, как губам — имя собственного ребёнка».
Из чего возникают стихи? «Сердитый окрик, запах дёгтя свежий...» А вот как рождаются они у Майи:
Лилия на отвороте
затрапезного пальто -
и пахнуло чем-то вроде
Моцарта или Ватто...
Чем-то хрупким, чем-то юным,
нераскрытым до конца,
словно тайный ветер дунул
возле спящего лица,
словно кем-то призван срочно
жечь свечу в кромешной тьме.
И две-три приличных строчки
вдруг забрезжили в уме...
Работала ли она над стихами? Но что понимать под «работой»? Для неё в это понятие входит вся жизнь. То, что было — было. Что сказалось — сказалось так, как хотелось. И переправлять она не будет уже ничего.
Как просто переправить строчку!
Всех дел-то: вмять обратно в почку
лист, что развился и расцвёл,
а почку – втиснуть в тело ветки,
чтоб ни зацепки, ни отметки,
а ветку – вбить обратно в ствол.
А ствол опять обнять, огладить,
броженье соков в нем наладить,
в порядке прежнем – рост ветвей,
но чтоб одна – чуть-чуть левей…
Та, на которой в нужный срок
возникнет чуть иной листок.
Ах, нет, все это – в парке, в роще.
В стихах еще, пожалуй, проще.
Исправить строчку – вот пустяк!
А происходит это так,
как если б зарыдать, проститься,
почти забыть – и спохватиться,
вернуть, вернуться, снова стать
несчастным, плачущим, влюбленным,
но что-то в шёпоте соленом
сознательно перешептать.
Каких только определений поэзии не давали поэты! А для Борисовой она вот что:
Поэзия — не сласть, не грусть,
скорее — кузов. А я — груздь.
«Признак возраста — парные рифмы. Сбой дыханья, покойные ритмы», - так может сказать только поэт.
А вот ещё - о поэзии, о Пушкине и о стране:
Поэзию тираны ненавидят.
Поэзия для тронов — как таран.
Поэзия лукаво бровью двинет-
становится посмешищем тиран.
Поэзия вздохнёт — и вдруг заплещет
народный гнев на кончике пера.
Тогда тиран зовёт своих заплечных
и говорит им коротко: «Пора».
И вот уже слушок паскудный пущен.
Снег. Выстрел. Гроб, спелёнутый тесьмой...
Вот так-то, Александр Сергеич Пушкин.
Не миновал и Вас тридцать седьмой.
Где-то прочла: «Майя Борисова пришла в поэзию из журналистики». Что-то во мне протестует против такой утилитарной формулировки, но доля истины в ней есть. У Майи многие стихи напоминают зарисовки с натуры: портреты людей, сценки, подсмотренные у самой жизни.
"Почему не слушаем старух?...", «Человек распростёрт на носилках...», «Дорожный рабочий», «Гадалка», «Двое»... В них поражает острый наблюдательный глаз, замечающий то, что другому не заметно, не важно. Это не просто наблюдательность, выработанная годами журналистской работы, это - зоркость сердца. «Самого главного глазами не увидишь...» И потому эти стихи-портреты так трогают своей человечностью. Пожалуй, это главное слово, которое их всех объединяет. Человечность.
Человек на ходу задумался.
Не толкайте его, пожалуйста.
Он ведь скромница, он ведь умница:
Никому не пойдёт не пожалуется.
Не толкайте его локтями.
И не попрекайте ломтями.
Потерпите совсем немного,
Не тревожьте зелёным светом,
Не кричите, что он не в ногу
Поспешает за быстрым веком.
Вы бурлите, как кружки с пивом.
Вас событья берут за локоть.
Но ему вы глядите в спину:
Он далёко от вас, далёко…
Радий греет земное темя.
Штурман курс берёт на звезду.
Будьте, люди, вежливы с теми,
Кто задумывается на ходу.
Она сама видится мне таким задумавшимся на ходу жизни человеком. Редакционная текучка, депутатские дела, злоба дня — всё это на самом деле не настоящая Майя, всё это в сущности так далеко от неё...
С намереньями лучшими
друзья меня найдут.
- Да-да, - скажу, - я слушаю…
А я ещё не тут.
Вот так, губами слабыми,
мол, слушаю, да-да…
А я пока что с рыбами,
вокруг меня - вода.
За маскою, за стёклами,
упруга и гола,
проходит рыба тёмная
по имени голавль.
Здесь бороды мочальные,
размытая трава…
Такое здесь молчание,
что незачем слова.
Во мне их и отыщется
десятка два с трудом.
Мне окунь пёстрый тычется
в холодную ладонь.
Вся суета отсеяна,
сама я как стекло.
Но это воскресение
теперь уже прошло.
А будни-то ведь сотканы
из пряжи из иной...
И всё-таки, и всё-таки -
неладное со мной.
Свидание отсрочено,
заботы все - не в счёт,
а вдоль меня прозрачное
и вечное течёт.

Вещи у неё живые, одухотворённые. Они могут страдать, жаловаться, любить, тосковать. Звонящий в пустой комнате телефон винит всех в бездушии:
Весь день звонил в квартире телефон.
Весь день звонил в квартире телефон.
Весь день звонил. А в доме никого.
И только вещи слушали его.
А телефон был жалок и смешон:
От неживого в чём-то отрешён
И ненадёжно приобщён к живым
Лишь голосом беспомощным своим.
О, звон в ушах — проклятие моё!
О, малый шаг в иное бытие…
Сверканье клемм, и проводов игра,
И зябко ускользающая грань,
И тонкое дрожащее звено
Меж тем, что создано и рождено.
А телефон — игрушка, примитив…
Но мне звонков настойчивый мотив,
Как трубный глас, как в двери: «Отвори»,
Как позывные, новый век, твои.
Заботой человечьей полонён,
В квартире надрывался телефон.
Будил соседей, их покой мутил,
И плакал, как ребёнок взаперти,
И целый день звонил, звонил, звонил…
И всех живых в бездушии винил.
Из самых обыденных фактов и наблюдений она извлекает нравственные уроки:
Свеча, сгоревшая в снегу...
У кромки пляжа стынет плоско
оплавленный цветок из воска,
как бы обронен на бегу...
Свеча... Вблизи стеклянных льдин
сиянье смертное, живое...
Ах, если жёг её один,
то всё равно их было — двое!
А если же толпа хмельных
кругом плясала и орала,
то всё равно лишь для двоих
свеча бестрепетно сгорала.

Природа у неё одушевлена. Вот клён, которого не забыть:
А ночью выхожу я в сад.
Там листья жёлтые висят,
и каждый тьме покорен.
Но жёлтым светом сад согрет.
И в этом, кажется, секрет
того, что он покоен.
Его октябрь не доконал.
И сеть запущенных канав
блестит, водой наполнясь.
И клён, пылая, утра ждёт,
и лапу мне на лоб кладёт,
и говорит: «Опомнись!»

Очень люблю её «Ягнёнка» - хрупкое, чистое утреннее чудо жизни, предтеча той жизни, которую задумал и вычертил Бог...

Ребячьи, шаловливые замашки,
два глаза цвета летнего песка.
Два уха, точно от большой ромашки
два тонких розоватых лепестка...
Ягнёнок — воплощённая невинность,
кудрявый буколический божок.
Как бремя эволюции ты вынес?
Как хрупкие копытца не обжёг?
Как, ратуя за сохраненье вида,
прославленный естественный отбор
клыков, когтей, желез ли ядовитых
тебе не присобачил до сих пор?
Бубенчик, прозвеневший ненароком...
Стеклянный шарик, тёплый от дутья...
Мне кажется, ты у самой природы
заветное, любимое дитя.
Порой, устав от крови, от увечий,
от хрипа настигающих погонь,
она образчик кротости овечьей,
задумчивая, ставит на ладонь.
И видит мир ещё не осквернённым:
журчит ручей, томит полдневный жар,
зелёный луг, и на лугу — ягнёнок...
Как в тех, первоначальных чертежах.

А как она пишет о собаках! Это — отдельная тема. Тут и «Плач по чужой собаке», и «Собаки в космосе»... Но больше всего меня поразило вот это, по силе воздействия напоминающее «Охоту на волков»:
Браконьеры
(Эпиграф — строчки из газетной информации: «Собаки, бежавшие от жестоких хозяев, сбиваются в стаи и представляют серьёзную опасность для лесных обитателей»).

Похмельный человек, чего рычишь-бормочешь?
Чем угостишь — пинком? Так слушай же, мозгляк:
извечный договор клыками нынче — в клочья!
Даёшь побег в леса, республику собак!
Довольно цепь трясти, выбрёхивать проклятья,
скулить, вилять хвостом, из рук подачку брать.
Опять опасен лес. Опять - «лесные братья»,
разбойничий притон, безжалостная рать.
Бывало, ты меня учил законам гона,
придерживал «замри» - и понукал «наддай».
А нынче мы — враги. Я нынче — вне закона:
заметил — убивай! Заметил — убивай!
Читает острый нюх ветра, тропинки, травы,
но ведь любой из нас — твоим умом богат.
Мы грамотно — гордись! - в лесу косулю травим:
сучонка — по дуге, кобель — наперехват.
Не страшен мне огонь, а уж флажки — подавно.
Боюсь лишь одного, что, одичав в лесу,
больным ли стариком, калечным ли подранком
я к твоему крыльцу подохнуть приползу.

Поэзия Майи Борисовой трагична. Она полна скрытого страдания. Но увидит это не каждый.
Вот стихотворение с посвящением В. Сосноре:
Тихо строки наклони
и не вздрогни, поражённый:
всё искусство — на крови,
на своей ли, на чужой ли...
Тихо строки наклони,
и вскипят по краю слёзы:
то, что пишется серьёзно,
всё рыданию сродни.
Если ты увидишь, как,
грохоча, сверкая, мчится
смеха бурная река
по абзацам и страницам,
то дознайся, где исток...
И отыщешь там, быть может,
чей-то стон или платок,
жалкий, скомканный, промокший.
***
Хочешь, строй сумасшедшие планы
или вовсе забудь, - говорю.
Я - уже разожженное пламя.
Я высоко и ровно горю.
Зов откликан, отплаканы слезы,
Наступила глухая пора.
Я - осеннее пламя березы...
Видишь след своего топора?
Или — вот это. Пусть вас не обманет его лёгкий будничный тон:
Льются тёплые слёзы,
снег весь мокрый от слёз.
Это плачут берёзы,
это всё не всерьёз.
Это — оттепель. Тает.
Каплет с веток вода.
А дорога пустая,
на снегу ни следа
и ни шороха. Тихо.
Вон, крест-накрест забит,
как узорное титло,
красный домик стоит...
Ни тепла, ни мороза.
Передышка. Покой.
Ночь, забор и берёза,
плотный снег под рукой.
Вы, два праведных горя,
в чьих кострах я горю!
И тому и другому
я, смутясь, говорю:
здесь, на воздухе вольном,
без дымка и огня,
вот уж час, как не больно
мне. Простите меня!
Этот трагизм — без надрыва, без крика и пафоса — будничный, въевшийся в кожу, незаметный чужому глазу. Но от этого не менее страшный.
***
Уходят не тогда, когда уходят.
Совсем иначе это происходит.
В какой-то день воскресный или будний
Он шлёпанцы привычные обует,
И зубы жёсткой щёткою почистит,
И выключатель сломанный починит,
За завтраком газету почитает,
Прикинет, как идёт футбольный счёт.
И вдруг увидит - женщина чужая
Тарелку держит: «Положить ещё?»
А дальше всё останется, как было:
Не вспыхнет стол малиновым огнём,
И в ванной не окаменеет мыло
(«Семейное» - написано на нём).
И станут годы скатываться в забыть.
Покой, густея, зацветёт в дому...
Но женщина начнёт всё время зябнуть,
Сама не понимая, почему.
И муж – непьющий, и достаток нажит,
А всё как бы в предчувствии дождя.
А это он ушёл. Ушёл однажды.
И двери не захлопнул, уходя.

Из комментов на это стихотворение:
Yulyasha:
Мне вот это очень понравилось. Созвучно моему кошмару. У меня их два - что падаю с высоты и что вот эта точка упущена. Когда были - родные. А стали - чужие. Как это произошло? Почему? Почему такие хрупкие чувства. И ничего не поделать когда чувства другого уходят. А еще хуже когда свои собственные чувства - уходят. И ничего с этим не сделаешь.
The_Empress:
Потрясающее стихотворение!!!
Но есть у Майи Борисовой и весёлые стихи, пронизанные улыбкой, неподражаемым юмором. Вот одно из самых моих любимых:
Дом Осиповых в селе Тригорском
Я — их сестра. Четвёртая, меньшая.
Нет про меня ни книжек, ни брошюр.
Я непоседа, горничным мешаю,
Весь день с утра по комнатам брожу,
Всё жду, когда закат нальётся соком
И все мои тревоги исцелит...
Тогда-то и мелькнёт в провалах окон
Его смешной начищенный цилиндр.
С коня — на землю. И шаги. И пенье
Дверных петель... Смущённа и горда,
Не сёстры — я! - я пробегаю первой
Сквозь двери, сквозь сомненья, сквозь года...
Не сёстры — я здесь правлю и царую,
Когда меня он (в шутку, не всерьёз)
Берёт за плечи, тормошит, целует,
"У! — говорит — какой холодный нос!"
Как мяч, взлетает мой счастливый хохот,
Я за руку тяну его - Скорей!
Покуда неживой, музейный холод
Нас не настиг внезапно у дверей,
Пока там время замышляет козни,
Скорее, Пушкин! Теплится камин,
И вкрадчиво вздыхают клавикорды
Под пальцами красавицы Алин.
Как он влюблен в сестер! Он тает, тает
От их улыбок, рюшей и колец...
А я сижу тишком. Я подрастаю.
Нам до любви ещё сто тридцать лет.
Ещё слова мои лежат под спудом,
Погружены в колодезную тьму.
Они потом, потом к губам подступят
И сами приведут меня к нему.
А сёстры гонят спать. И я послушна.
И сладок чад потушенных свечей.
Во сне я вижу: приезжает Пушкин.
Ко мне. На светло-сером "Москвиче".

Дмитрий Белюкин. Пушкин в гостях у Осиповых.

Гостиная дома-музея Осиповых-Вульф
Александр Иванов написал пародию на это стихотворение — довольно добродушную, впрочем.
Я к вам пишу
Во сне я вижу:приезжает Пушкин.
Ко мне. На светло-сером «Москвиче».
Майя Борисова
«Я к вам пишу...» —так начала письмо я,
Тем переплюнув многих поэтесс.
А дальше — от себя. Писала стоя.
И надписала: «Пушкину А.С.»
И дождалась! У моего подъезда
Остановились как-то «Жигули».
Суров как месть, неотвратим как бездна,
Выходит Пушкин вместе с Натали.
Кудряв как бог, стремительный, в крылатке,
Жену оставив «Жигули» стеречь,
Он снял цилиндр, небрежно смял перчатки
И, морщась, произнес такую речь:
— Сударыня, пардон, я знаю женщин
И воздаю им должное, ценя,
Но прибыл Вас просить, дабы в дальнейшем
Вы не рассчитывали на меня... —
Стояла я и теребила локон,
Несчастней всех несчастных поэтесс...
И вижу вдруг, что едет мимо окон
И делает мне ручкою - Дантес.
Смешно. Но от этого прелестное стихотворение Майи Борисовой отнюдь не стало выглядеть хуже. Иные стихи пародии уничтожают, а этому — хоть бы что. Самодостаточно и неуязвимо. И, думается, Пушкин отнёсся бы к ней иначе, нежели это увиделось скептическому Иванову. Пушкин бы её понял. («Не всякий Вас, как я, поймёт...»)

Вот вам ещё пародия А. Иванова на Майю. Пародия не столько на стихи, сколько на изображённые в них человеческие отношения.
Кризис жанра
Мой друг, Вас нет в моих стихах,
и это очень странно:
ведь между ними было — ах! —
подобие романа.
Майя Борисова
Писала я в своих стихах
об этом постоянно,
что между нами было — ах! —
подобие романа.
Но не снискал роман успех,
хоть создан был на совесть.
Возникла между нами — эх! —
взамен романа повесть.
Но повесть испустила дух,
и долго я ревела.
Возникла между нами — ух! —
короткая новелла...
И вот пишу, скрывая вздох,
не радуясь нисколько:
была, была меж нами — ох! —
пародия — и только.
Окончание здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post220984765/
|
|
Процитировано 6 раз
Понравилось: 4 пользователям
"Перелепи моё лицо, скульптор!" |
Начало здесь

Сегодня — 80 лет Майе Борисовой. Она не дожила до этой даты 16 лет. Сколько я себя помню — живу её стихами. Поверьте, они того стоят.
Перелепи моё лицо, скульптор!
В ладонях мни его, как мнут глину...
Поторопись меня лепить, скульптор,
а то я снова убегу, сгину.
Твоя каморка так темна, милый,
под лестницей, где белый свет клином...
Пигмалион сейчас пройдет мимо
в опочивальню и меня кликнет.
Он будет ласков, а потом — бешен,
а после в непробудный сон канет.
Он не признается богам, бедный,
что под его руками я — камень.
Все говорят: Пигмалион — мастер,
он мою душу вызвал из мрака!
А я увидела тебя, мальчик,
и позабыла вмиг, что я — мрамор.
Пигмалион сиял, как грош медный,
касался рук моих, колен, стана,
а я дрожала: что же ты медлишь?
Ведь для тебя живою я стала!
В легенде холодно мне, как в склепе.
Меня доверие небес давит.
Пигмалион себе еще слепит!
Он тоже, в общем-то не бездарен...
Растрепан факел молодым ветром,
горячий отблеск на твоих скулах.
Чтобы лицо мое — к тебе, вечно,
перелепи мое лицо, скульптор!
Я умоляю, всех богов ради, —
ведь счастье роздано нам так скупо,
чтоб нам неузнанным уйти рядом,
перелепи мое лицо, скульптор!
(«Ночной шёпот Галатеи, обращённый к ученику Пигмалиона»)
Впервые Галатея взбунтовалась, посмела заявить о своих чувствах. Она свободна, она вольна любить кого ей заблагорассудится. Скушно быть изделием в чужих руках...
Jean-Leon Gerome. Пигмалион и Галатея.
Послушайте песню Александра Губерта на эти стихи в его исполнении:
http://gubert.narod.ru//muraveynik_mp3/10nochnoy_shopot_galatei.mp3
Я ещё со школьных лет была буквально влюблена в эти строчки, и лишь позже узнала, что это стихотворение было написано в ответ на стихотворение В. Сосноры «Продолжение Пигмалиона», посвящённое М. Борисовой:
Теперь — тебе: там, в мастерской, маски,
тайник и гипс, и в светлячках воздух...
Ты Галатею целовал, мальчик,
ты, девочка, произнесла вот что:
“У нас любовь, а у него маски,
мы живы жизнью, он лишь труд терпит,
другую девушку — он мэтр, мастер, —
ему нетрудно, он еще слепит!”
Так лепетала ты, а ты слышал,
ты пил со мной и ел мои сласти,
я обучал тебя всему свыше, —
мой мальчик, обучи ее страсти!
Мой ученик, теперь твоя тема,
точнее тело. Под ее тогой
я знаю каждый капилляр тела,
ведь я — творец, а ты — лишь ты. Только
в твоей толпе. Теперь — твоя веха.
И молотками весь мой труд, трепет,
и — молотками мой итог века!
“Ему нетрудно, он еще слепит!”
Теперь — толпе. Я не скажу “стойте”.
Душа моя проста, как знак смерти.
Да, мне нетрудно, я слеплю столько...
Скульптуры — что там! — будет миф мести.
И тем страшнее, что всему миру
вы просчитались так, и пусть пьесу
вы рассчитали молотком, — минус,
мир — арифметика, и плюс — плебсу.
Теперь убейте. Это так просто.
Я только тих, я только труд — слепо.
И если бог меня лепил в прошлом —
Ему нетрудно, Он еще слепит!

таким был В. Соснора, когда писалось это стихотворение
Перед нами — диалог из двух стихотворений, напряжённый, страстный, полный скрытой горечи и обид. Диалог поэтический и реальный. Он написал. Она ответила. Что произошло между этими людьми? Нам этого знать не дано...
Может быть, в какой-то степени проясняет ситуацию, отражённую в этих стихах, стихотворение А. Городницкого «Галатея» - это уже взгляд не её или его, а — стороннего наблюдателя:
В летней Греции полдень горяч,
Пахнут мёдом высокие травы.
Только в доме у скульптора - плач,
Только в доме у скульптора - траур.
Причитанья и слезы вокруг,
Хоть богов выносите из дому.
- Что с тобою случилось, мой друг?
- Галатея уходит к другому!
Позабыв про еду и питьё,
Он ваял её нежно и грубо.
Стали тёплыми бедра её,
Стали алыми белые губы.
Над собою не видя беды,
Жизнь он отдал созданью родному.
Пропадают напрасно труды -
Галатея уходит к другому!
Не сиди же - печаль на челе,-
Принимайся, художник, за дело:
Много мрамора есть на земле,
Много женского жаркого тела.
Но пустынно в его мастерской,
Ничего не втолкуешь дурному,-
Он на всё отвечает с тоской:
- Галатея уходит к другому!
А у храма растёт виноград,
Красотой поражает природа,
И опять на Олимпе доклад,
Что искусство - оно для народа.
Бродят греки весёлой толпой,
Над Афинами песни и гомон...
А у скульптора - мёртвый запой:
Галатея уходит к другому!
Джулио Баргеллинп. Пигмалион и Галатея.
В интернетских блогах много обсуждений этих стихов, причём все отдают предпочтение стихам Сосноры, в адрес же Борисовой брошено немало резких и несправедливых слов: её обвиняют в том, что взяла у первоисточника ритм и размер, ничего не добавив по существу, что её ответ слаб, не талантлив, неинтересен... Не могу согласиться!
Её Галатея — да, созданная рукой Мастера, любовно вылепленная его руками, вдруг ощутила себя живой. Она живая, она хочет любить, она любит. Но не Пигмалиона, потому что Галатея чувствует — его любовь — ненастоящая, не её он любит, не её суть, а своё искусство, воспроизведённое в ней, то есть в сущности — себя в ней! Ему нет дела до её личности, индивидуальности, она должна служить лишь воплощению замысла творца.
«Он себе ещё слепит» - в этих пренебрежительных словах — её женское прозрение, пронзительное понимание своей не единственности для Мастера. Она не хочет больше быть послушной глиной, изделием, игрушкой в чужих руках. Любовь Галатеи — земная, женская, плотская, пусть не вечная, преходящая, но живая, настоящая - к ученику, мальчику, не знаменитому, не гениальному, но способному любить и дать ей простое человеческое счастье.
Франсуа Буше. Пигмалион и Галатея. Эрмитаж.
У В. Сосноры эта тема развивается и в других стихах, в частности, в «Венке сонетов» (1973):

Сверкай же, сердце! Или же молчи.
В окне молочном - лампа и мечты
о чем? О той черёмухе вдвоём,
сирени празднеств? А потом мечи
возьмём?
Но невеселье невское! О, ты,
еще не знаешь этот ор орды,
как за любовь - болото, улюлюк...
Один виновен всуе и один
люблю.
Но не тебя. Неправда - не себя.
Я лишь беру струну, как тетиву,
лишь целит Муза в око серебра
бессонницы,- так я тебя творю...
Не возродить,- и я тебя творю,
дар девственности - жертва топору,
Пигмалион - творенье долюбить!
Твой люб клеймён, и моему тавру
да быть!
Jean-Leon Gerome
А она ему отвечает...
Послушайте песню Л. Альшулера на стихи М. Борисовой «Ночной шёпот Галатеи»:
http://alural.narod.ru/fono/al-al_06.mp3
Майя Ивановна Борисова родилась в Ленинграде 21 мая 1932 года. Окончила отделение журналистики филологического факультета Ленинградского университета. После окончания работала в газетах Абакана и Красноярска, колесила по Сибири, писала статьи и стихи, занималась переводами. После работы в Сибири вернулась в Ленинград.
Была депутатом, председателем секции поэзии Ленинградского отделения Союза писателей.
Позже писала прозу: рассказы, публицистику, рецензии, пьесы, сказки. В последние годы работала редактором детского журнала «Искорка». Писала и издавала книжки для детей. Вот, собственно, и всё, что можно выудить о Майе Борисовой в Интернете. Но эти ровные строки обычной биографии, типичной для литератора-шестидесятника, вам ничего не скажут о ней. Не расскажут, Каким Чудом она была, Чем были для меня её стихи и для многих-многих таких, как я, выросших на её строчках. Не знаю, сумею ли найти слова, чтобы выразить это...
Есть ценности, которым нет цены:
Пластанье ткани, вымокшей до нитки,
У легких ног Самофракийский Ники
И крылья, что, отсутствуя, - видны.
Есть ценности, которым нет цены:
Клочок бумаги с пушкинским рисунком,
Учебник первый в первой школьной сумке
И письма не вернувшихся с войны.
Есть ценности самих себя ценней:
Обычный камень с маленького пляжа,
Но по ночам его целуют, плача...
Что по сравненью с ним казна царей?..
Это должно быть начертано на всех скрижалях. Но этих строк никогда не поймёт и не воспримет сердцем нынешнее поколение, не признающее ценностей, которые «не съесть, не выпить, не поцеловать».
Нельзя велеть другому: т а к живи!
Но если занят он одной заботой -
Приобретать вещественное что-то -
Не стоит он ни гнева, ни любви.
Пусть будут все его стада целы,
Пусть будет прочным всё, что он имеет,
Но пусть и в мыслях тронуть он не смеет
Те ценности - которым нет цены!
Среди этих бесценных ценностей — и стихи Майи Борисовой.
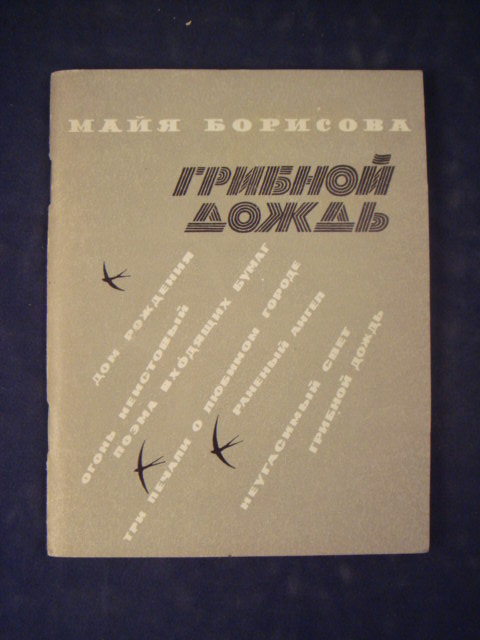

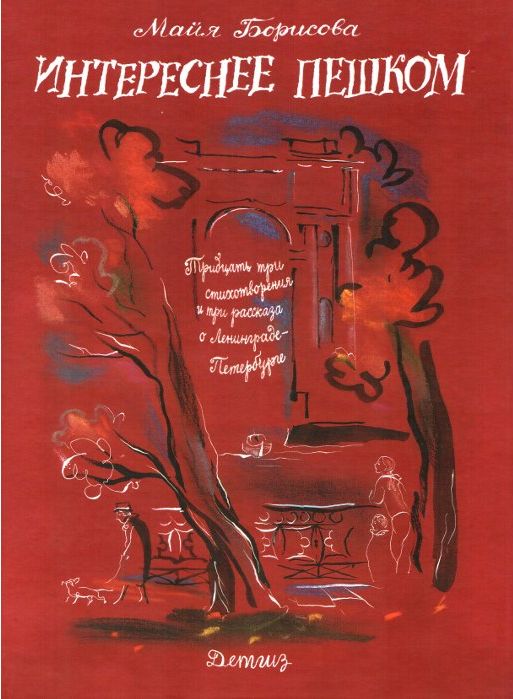
Увы, у нашей эпохи сейчас — другие кумиры. Под стать нынешним ценностям - «вещественным», а не вечным...
О Майе Борисовой практически ничего нет в Интернете — ни сколько-нибудь внятной статьи, ни заметки. Четыре её сборника, которые у меня есть, снабжены несколькими строчками анонсов — сухими, заштампованными, равнодушными.
«Новую книгу известной ленинградской поэтессы отличает высокая зрелость стиха».
«В стихах чувствуется наблюдательность автора, выработанная годами журналистской практики».
«Стихи пронизаны чувством времени, без которого не может быть настоящей поэзии».
Да разве это — главное в ней?!
«Основные свойства зрелой поэзии Борисовой — интеллектуальность, рационалистичность в выборе тем и художественных средств».
«В начале творческого пути М. Борисовой сопутствовала репутация поэта более думающего, чем чувствующего».
А вот насчёт «рационалистичности» хотелось бы поспорить. Это опровергают сами её стихи. Помимо красноречиво говорящего о её бурной эмоциональности, преобладающей над «рацио», «Ночного шёпота Галатеи», могу привести ещё несколько стихотворений, где мы видим совсем другую Майю, нежели рисуют нам формальные строки казённо-академических предисловий.
***
Мои друзья такие умные!
В портфелях носят груды книг
и затевают споры шумные,
чтоб истину извлечь из них.
И речи их такие складные
и так значения полны!
А на холмы зелёной Латвии
в то лето наплывали льны.
Там было сено недокошено.
В прудах плескались сотни лун.
И конь, подрагивая кожею,
удрал на некошёный луг.
Он зазвенел, забрякал боталом...
И мальчик следом побежал,
мне кинув на плечи заботливо
измятый праздничный пиджак.
Девчонка с городскими страхами...
А тут — борьба, мельканье тел!
Смеялся конь, и гривой встряхивал,
и поддаваться не хотел.
А ветер плыл широкий, северный,
нёс винный запах на волне.
И сердце, как звезда осенняя,
счастливо падало во мне.
Мне на ладонь спускались сумерки,
как паутинки на межу...
С тех пор дружу я только с умными.
Я так их дружбой дорожу!
И мне про давнее, про старое
пора забыть уж наконец!
Но конь летит. И хвост пластается.
И мальчик скачет на коне.
И к пиджаку его, как к знамени,
я, замирая, губы жму...
И всей земли святые знания -
мне ни к чему!


У друзей несчастье:
дети приболели.
А у меня дитя -
моё сердце.
У друзей радость:
дети пошли в школу.
А моё сердце
всё не умнеет...
У друзей дома
мирные заботы.
А у меня один дом -
моё сердце...
Сердце моё, сердце,
домик мой, времянка,
что с тобой делать?
Окна твои — настежь,
крыша протекает,
замки ненадёжны.
Пляшет сын-разбойник,
песни сочиняет,
что ни шаг — то песня, -
это ль утешенье?
И в дому при свечках
песни порасселись
семеро по лавкам...
Это ль оправданье?
Её дети — лишь песни... В стихотворении «Старая история» она чуть приоткрывает завесу над своей женской трагедией:
Небольшенького роста,
панамкою вертя,
по Кировскому мосту
идёт моё дитя.
Он меж двоими — третий,
счастливая семья!
Но не было б на свете
его, когда б не я.
Жена была красива,
а муж любил меня.
Она ему грозила,
а он любил меня.
Напоминала: дочь ведь...
Кричала: а родня?!
Рыдала днём и ночью.
А он любил меня.
Последняя попытка,
излёт последних сил...
Больница. Мука. Пытка.
И появился сын.
Несчастный муж метался,
пил и на стенки лез.
Но всё же с ней остался,
не бросил, не исчез.
Как буднично и просто
идётся им двоим
по Кировскому мосту
с ребёночком моим...

Это стихотворение — предтеча её знаменитого, пронзительного «Моих детей не будет никогда...»
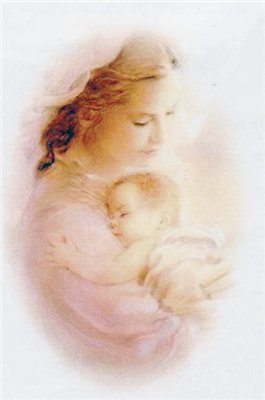
Моих детей не будет никогда.
Ни выросших, ни умерших не будет.
Ни в вещих снах, ни в праздниках, ни в буднях -
моих детей не будет никогда.
Устав от волхований, от стыда
перед собой, судьбой и медициной,
я поняла: ни дочери, ни сына -
моих детей не будет никогда.
С тех пор прошло довольно много лет.
Чужих собак я, припадая, глажу.
Но это не чужих собак я глажу:
ласкаю я детей, которых нет.
Когда вы мне бросаете упрёк,
что я молчу, то это я, в молчанье
неведомых имен ловлю звучанье:
мне почему-то кажется, что трёх...
Когда же прохожу я стороной
по улице и выгляжу престранно,
три маленьких разреженных пространства -
три пустоты бегут передо мной.
Мне говорят: не велика беда...
- Не велика! - я отвечаю людям.
Но на земле детей моих не будет.
Нигде. И никаких. И никогда...

Стоило этому стиху появится в Интернете, как нашлись моралисты, циники и ёрники, налепившие на него ярлык: «поэзия месячных и абортов». Большинство же (преимущественно женщин) его защищали. Предлагали украсить им стены женских консультаций, выучить всем, кто задумал избавиться от самого дорогого — нерождённого ребёнка.

памятник нерождённым детям в Словакии. Скульптор Martin Hudáček.
Скульптору здесь удалось передать непередаваемое... И горькое запоздалое раскаяние женщины, её неизбывное чувство вины, и светлое утешение и прощение нерождённого ребёнка... Мне кажется, стихотворение Майи Борисовой и этот памятник — равноценны. Её строки вполне могли бы быть выбиты на нём...

Видеокомпозиция по стихам Майи Борисовой «Моих детей не будет никогда»:
У Майи Борисовой есть стихотворение, близкое этому таким же пронзительным чувством вины и раскаяния. Хотя речь там о другом...
А плата – ощущение вины...
Всего-то? Только лишь? За этот вечер?
За этих звёзд кружащееся вече,
за эти волны, точно валуны?
За ветер, несминаемый, как ластик?
За лодку, в берег бьющую кормой?
За упоенье безграничной властью
над миром, морем и над словом «мой»?
Мой маленький... На цыпочки встаю.
Как стебли трав, гибки мои суставы...
Ладонями, широкими, как ставни,
до глаз твоих горячих достаю.
Кто плачет там? Мне слёзы не видны.
Должно быть, надо, чтобы кто-то плакал.
Мизерная, нестоящая плата –
за счастье – ощущение вины...

Я десять лет хожу к вершку вершок
по светлым полдням и ночным ступеням.
Я десять лет выплачиваю пени,
а счёт и до сих пор не завершён.
Вина устало дышит мне в затылок...
А мы и вправду были влюблены?
Я всё забыла. Всё давно забыла.
Всё – кроме ощущения вины.
Не надо было. Ох, не надо было!..

Подлинное раскаяние — это мука всей жизни, а не как для многих — в единый всепрощенческий день автоматическое прощение всех скопом и в розницу и такая же формальная просьба о прощении — всех и каждого («простите, если чем обидел»), когда душа в этом не участвует, когда даже не дадут себе труда задуматься — за что, не сделают даже попытки эту вину искупить... Примерно так:

Мне очень нравятся её баллады. «Маленькая городская баллада» — о прощании двоих, которое подслушал случайно шофёр, отвозивший их на вокзал:
Жарким лбом прижимаясь к плечу,
жарким ртом, начинавшим дрожать,
всё шептала она: - Не хочу,
не хочу от тебя уезжать...
И уехала. Канули дни.
И ничто не вернулось назад.
Вскоре оба забыли они
ту поездку в такси на вокзал.
Но, не смевший дышать, точно вор,
забывавший на тормоз нажать,
до сих пор вспоминает шофёр:
«Не хочу от тебя уезжать!
Не хочу от тебя уезжать...»

Невольно вспоминается «Последняя любовь» Заболоцкого. Помните?
… А машина во мраке стояла,
И мотор трепетал тяжело,
И шофёр улыбался устало,
Опуская в кабине стекло.
Он-то знал, что кончается лето,
Что подходят ненастные дни,
Что давно уж их песенка спета, -
То, что, к счастью, не знали они.
Да много чего вспоминается. Эта крошечная баллада сразу берёт в полон твою душу и не отпускает долго...
(Недавно натолкнулась в Инете на чей-то крик души: «Помогите, пожалуйста, найти: Майя Борисова "Маленькая городская баллада"!!!!!!!!!!!!!!! Masfel» . Ну вот Вам, дорогая Masfel, ваша любимая баллада. Я Вас очень хорошо понимаю).
А вот эту балладу, наверное, мало кто знает:
Баллада о неприкаянных душах
Скажет женщине мужчина
на одном краю земли:
Зря слезами ты мочила
щёки бледные свои:
Мир огромен. Дом укромен.
Бури внешние страшны.
Ничего не жажду, кроме
теплоты и тишины...
Скажет женщина мужчине
на другом краю земли:
Понапрасну две морщины
у тебя на лбу легли:
Мир огромен. Дом укромен.
Мне опорой — только ты.
Ничего не жажду, кроме
тишины и теплоты...
Над планетой опустелой
ночь безлунна и слепа.
Упадут четыре тела
на постельные снега.
И в доверчивых потёмках
воцарится так легко
дух уюта, парный, тёплый,
как парное молоко.
Но из двух телесных башен
робко вылезут в тиши
босиком, в ночных рубашках,
две обиженных души.
Темнота огни погасит
на воде, на берегу.
Спотыкаясь и пугаясь,
души молча побегут
по траве заиндевелой,
через жгучие пески,
мимо фото-, мимо вело-,
мимо теле-мастерских,
зданий мимо, станций мимо,
через море-водоём,
чтоб на середине мира
очутиться им вдвоём.
На большой пустой планете
притаятся, не дыша,
как наказанные дети,
две души — одна душа...
А в домах, как в прочных тиглях,
ночи хрупкое стекло.
Чисто-чисто. Тихо-тихо.
И тепло.

Много о чём заставляет задуматься эта баллада. Совсем другими глазами начинаешь смотреть на извечные женские идеалы: домашний уют, надёжное мужское плечо, «был бы милый рядом — ничего не надо...». Но когда это — ценой свободы, утраты личности, индивидуальности, ценой измены самой себе... И понимаешь, - для таких, как Майя, это — неприемлемо, невозможно. Она погибнет, как вольная птица в золотой клетке. «Ты уюта захотела. Знаешь, где он — твой уют?..»
И потому в стихах Майи Борисовой так часто присутствует бездомье, разлука, одиночество.

Люблю на миг обжитый мир:
купе, гостиница, каюта...
По мне, уют чужих квартир
уютней моего уюта.
Он тем ещё хорош, что нов...
А может, в этом всё и дело?
Тепло скольких моих домов
горючим дымом улетело...
Слова говорят одно, а между строк — горечь.
Все её судьбоносные встречи перечёркивала «расставанья маленькая смерть».

Поезд последние вёрсты мчит.
Тревожен рокот колёс.
Выйдем в тамбур и помолчим:
Не надо ни слов, ни слёз.
Леса полосою летят на нас,
Рябины бегут, рябя.
И мне остаётся всего лишь час,
Чтобы глядеть на тебя.
Станции — чаще, и небо — темней.
Фабричные трубы вразброс.
Город в мерцанье ранних огней
Бросается под откос.
Многоэтажные корпуса
Вдоль шпал начинают плыть.
И мне остаётся лишь полчаса,
Чтоб рядом с тобою быть.
Пойдём в вагон. Собираться пора.
Минуты в пропасть летят.
Грозно грохнули буфера
На привокзальных путях.
Толчок. Остановка. Окончен маршрут.
Вокзальной толпы прибой.
И мне остаётся десять минут,
Чтобы проститься с тобой.
В десятках разлук и в десятках встреч
Мы будем эти минуты беречь.
Паровоз,остывая, мелко дрожит,
Под сводами пар клубя.
И мне остается целая жизнь,
Чтобы любить тебя.

Как бесстрашно она любила! Бросалась, как в омут.
Любимый мой, мне чисто и светло,
и напряжённо мне, и одиноко.
И то, что нас с тобою вдруг свело,
пусть, не смущаясь, смотрит в оба ока.

Счастье было недолгим.

Ты уехал. И я волоку раскладушку.
Подо мною скрипит её лёгкий костяк.
Я ныряю в подушку, как будто в отдушину.
Я сегодня в гостях. У себя я в гостях.
Я из тех — из породы бездомных, заносчивых,
презирающих сытое сало в зобах.
Я люблю землянику. Ненавижу доносчиков
и ловцов бесприютных собак.
Ночью я просыпаюсь от тихого зова
и стихи сочиняю, и дрожу от озноба.
Я тяжёлыми строками набиваю котомку,
про запас набиваю — на долгий растяг.
Я смотрю в календарный квадратик картонный:
я ведь нынче в гостях. Я ведь только в гостях.
Я поленницы слов оставляю в резерве,
как поленницы дров — на делянах лесных.
Я лежу по ночам на суровом брезенте
и в глазах моих пляшут зелёные сны.

Она устала от своего бездомья, безбытности, одиночества. Ей хотелось стать как все. Но не получалось...
Погуби же меня! - кричу.
Жадно жмусь щекою к плечу,
обнимаю, аж локти ломит.
Жизнь мою, молю, споловинь!
Солнцем высушен мой овин,
и огонь подбежал к соломе.
Только словно из-за реки
эхо вторит вперегонки,
вроде то же, да не такое:
не «губи» говорит, «люби».
И не «жги» говорит, а «жди».
И покоя просит, покоя...

Когда ты меня потерял?
Обидел, забыл, не увидел.
Как тонок души матерьял,
И как поддаётся обиде!
И снегом обрушится май,
И с ног меня валит простуда.
Встречай меня, милый, встречай!
Откуда? Увы, ниоткуда!
Не будет ни ночи, ни дня,
Ни словом, ни взглядом касанья.
У всех поездов для меня
нарушены расписанья!
А как я спешила к тебе!
Твердила... Ах, что я твердила
В моем золотом сентябре,
Когда я ждала и любила!
Прощай, мой любимый! из тех
Безумств, коим равных не будет,
Я слишком спокойна. А смех?
Не слёзы ж показывать людям!
Вся жизнь – ожиданье у нас -
Внезапности, радости, чуда.
В какой-нибудь день или час
И я о тебе позабуду...
Не помня уже ни о чем, -
О, нет, снисхожденья не надо, -
Сжав зубы, я рухну ничком
В белесую ночь Ленинграда.

Нести разлуку тяжело,
особенно когда
не знаешь, что и развело:
остуда, долг, беда?
Хоть знак какой-то был бы дан…
А то уж столько дней
тащу ее, как чемодан
без ручки и ремней.
А любви хочется, как и всякой живой женщине. Да ещё такой молодой, красивой, горячей:
Вот и случилось наконец
С тобою, как с людьми…
Любовь – прожорливый птенец,
Корми его, корми!
Пиши по три письма на дню,
В разлуке краткой плачь,
Лети к открытому огню,
Сама в ночи маячь,
Грей в кулаке блестящий ключ
От временных дверей,
Теряй друзей, родных измучь
Влюбленностью своей.
Спеши не взять, спеши отдать
Себя до дна, дотла:
Любовь не может голодать,
Пока она мала!
Прими восторг, и боль, и срам.
Но срок придет, и вот
Любовь подставит грудь ветрам
И крылья распахнёт,
И воспарит, и заслонит
Ослабшую тебя
И от беды, и от обид
И от небытия.

Ну а если не дано такой любви? Что тогда?! Майя и на это даёт ответ. Честный и бескомпромиссный:
А если не дано большой любви,
единственной — ты виновата разве?
Бесплодьем сердца Бога не гневи.
Люби как можешь — коротко и разных.
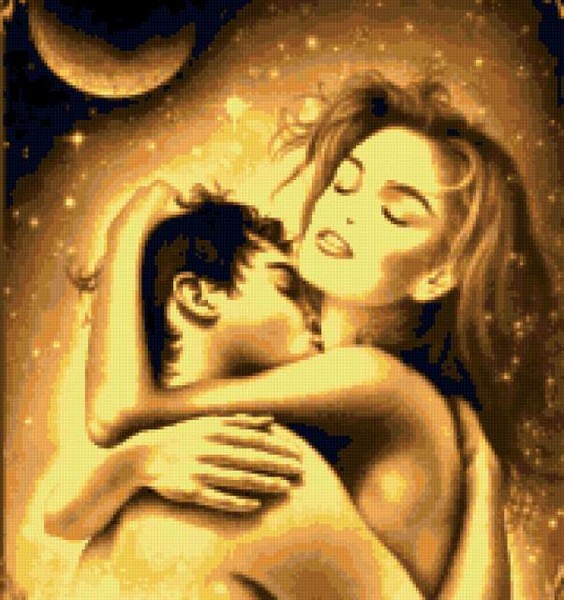
Вот только, чтоб нечестною не стать,
Не именуй парчой лоскутья ситца.
Парча - нетленна. Ситцу же - носится,
Меняться, мяться, в стирках выцветать...
Но в смертный час придут согреть тебя
Все те, кого ты лаской оделяла.
Лоскутное, а всё же одеяло
Под чёрным сквозняком небытия...

Это стихотворение о том, что и маленькая, не вечная любовь может быть подлинной и настоящей, как тёплая ручная синица в руке взамен недоступного журавля в небе.
Прочтите это, ханжи и фарисеи, стихи — для вас!
Влюблён ты, бедный мой дружок,
да как-то не вполне...
Всё топчешь, топчешь ты снежок,
всё объясняешь мне:
ты — так сказал, а вот она
ответ дала — такой,
а вот что думала она
о сказанном тобой.
Я тихо слушала сперва,
но стынет голова
под слоем слов. Оставь слова!
Перемолчи слова.
Ведь вся любовь, поверь мне, брат,
не речь, не мысль, не взгляд,
а лишь прикосновений ряд,
прикосновений ряд...

В пуританскую эпоху она позволяла себе быть свободной, бросая вызов показной добродетели и морали.
Приятельница Гете,
подруга Мендельсона.
О женщины, с портретов
глядящие бессонно!
И ханжеству, и сплетням
бросая дерзкий вызов,
вы шли через столетья
на каблучках капризных.
Смешалися созвездья
Тельца и Волопаса...
Для вас срывались в вечность
симфоний водопады.
Поэмы, как олени,
С прикрытыми глазами
вам стройные колени
прирученно лизали.
Приятельница Шиллера,
Бетховена подруга,
бросавшие решительно
сиятельных супругов.
Где званья их и титулы?
Подобно грязной пене
в революционных тиглях
они сгорели в пепел.
Но будет вечно юно,
как Шиллер и Моцарт,
шуршанье ваших юбок
на лестницах мансард.

Продолжение здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post220980147/
|
|
Процитировано 5 раз
Понравилось: 4 пользователям
Звезда или хлеб? |


Начало здесь.
Отношения поэта с временем — тема болезненная. Между ними редко возникает гармония. Бывает, что он не хочет, не может идти с ним в ногу. «Со мною времена не совпадали», - как сказал однажды поэт-семидесятник Евгений Блажеевский.

Ему вторил Борис Чичибабин:
Я верен Богу одиноку
и, согнутый, как запятая,
пиляю всуперечь потоку,
со множеством не совпадая.

Поэт, художник — всегда белая ворона или, как говорил Набоков, «выпадыш». Настоящая литература — всегда литература сопротивления. Сопротивления власти партии, власти денег, власти толпы, духовной энтропии, даже техническому прогрессу.
Художник первородный -
всегда трибун.
В нём дух переворота
и вечный бунт!
А. Вознесенский


Юрий Кузнецов

Борис Чичибабин и Евгений Евтушенко
Поэтому судьба поэта в России во все времена — тяжела, печальна, опасна.
Тёмен жребий русского поэта:
Неисповедимый рок ведет
Пушкина под дуло пистолета,
Достоевского на эшафот.
М. Волошин

Пусть так. Без палача и плахи
поэту на земле не быть.
Поэтов травили, ловили
На слове, им сети плели;
Куражась, корнали им крылья,
Бывало, и к стенке вели.
Я, пасынок державы дикой
с разбитой мордой...

В этом была провальная ошибка гонителей талантов: они тем самым «делали им биографию». Отверженные властью, вышибленные, казалось, из литературы, становились твёрже, значительней, им принадлежал завтрашний день.

При этом в жизни поэт — человек часто внешне незначительный, слабый, житейски-беспомощный.
Я — маленький и пьяный человек,
я возжелал в России стать пиитом.
Нелепый, как в музее — чебурек,
или как лозунг, набранный петитом, -
ёрничает Е. Блажеевский.

Для поэта толковость в творчестве почти всегда подразумевает бестолковость в жизни. Закон сохранения энергии.
Многие поэты безуспешно пытались с этим бороться. Маяковский, например, делал колоссальные усилия, чтобы преодолеть это естественное противоречие. Он хотел быть толковым в творчестве и стать толковым в жизни. И даже гордо писал: «Надо, чтоб поэт и в жизни был мастак». Надо сказать, ему это не удалось. В результате он разладил толк в творчестве и не наладил в жизни. И, потеряв сюжет существования, застрелился.

У поэта высший смысл всегда побеждает здравый, выгоду — нечто, не имеющее сугубо материальной оценки. Умение поступать невыгодно, пренебрегать прагматизмом — одно из главных его качеств. Что им при этом движет — диктовка Бога, инстинкт поэтического самосохранения, «томленье ли по ангельскому чину иль чуточку притворства по призванью»? Не суть важно. Важно, что это так.
Хотя иногда встречаются среди поэтов и «мастаки», жертвующие, вопреки предостережению Пастернака, «лицом ради положения».

Б. Пастернак на I съезде писателей
Но это уже тема отдельного разговора...
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/100174.html
|
|













































