-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Статистика
Записей: 871
Комментариев: 1385
Написано: 2520
"Сотри случайные черты..." |
Начало здесь

28 ноября 1880 года родился Александр Блок.
Наверное, Александр Блок обречён быть любимым поэтом всех поколений, так много он выразил русского, прекрасного и страшного из того, что таится в каждом из нас. Как дороги нам его неутолимая мечтательность и чувство тайны всегда и во всём, как понятны его взлёты и падения, и ненависть к человеческой пошлости («отойди от меня, буржуа!»), и вера в преображённый мир («сотри случайные черты...»). Замечательно сказал Е. Замятин: «...человек Блок так полно, так щедро всего себя перелил в стихи, что он будет с нами, пока живы будут его стихи. Поэт же Блок будет жив, пока живы будут мечтатели, пока живы будут вечно ищущие, а это племя у нас в России бессмертно».
Блок о политике и войне
Вот что писал о ней певец соловьиного сада и неземной красоты:
«Быть вне политики... С какой же это стати? Это значит, бояться политики, прятаться от неё, замыкаться в эстетику и индивидуализм, предоставить государству расправляться с людьми, как ему угодно».
Про фронт и окопы поэт, зачисленный в табельщики 13-й инженерно-строительной дружины, скажет как никто: «Я не боюсь шрапнелей. Но запах войны и сопряжённого с ней есть хамство. Оно подстерегало меня с гимназических времён, проявлялось в разнообразных формах и вот — подступило к горлу... Эта бессмысленная война ничем не кончится. Она, как всякое хамство, безначальна, бесконечна, безобразна».
От философски-мистических снов о Прекрасной Даме поэт был разбужен жизнью, и через поток времени, через разгул стихии, мимо трактирных стоек и звенящих цыганских монист пришёл он к главным страницам своей исповеди в стихах — к поэмам «Возмездие», «Двенадцать», «Скифам», «На поле Куликовом»...

8 сентября 1914 года было написано его пророческое стихотворение «Рождённые в года глухие...». Поколение, пережившее годы революции и двух мировых войн, слышало в этих строках голос своей судьбы.
Потом Высоцкий, перефразируя слова Блока, скажет:
Мы тоже дети страшных лет России.
Безвременье вливало водку в нас.
И наше поколение с полным правом могло бы так сказать о себе. Как всё повторяется в истории. И как уроки гениев ничему нас не учат.
Я не первый воин, не последний.
Долго будет родина больна. -
писал Блок, и это тоже было пророчеством. Но в своём отечестве пророков, как известно, не бывает.
«И стать достояньем доцента...»
Сейчас в новомодной поэтической среде стало чуть ли не признаком хорошего тона ругать стихи Блока. За дурной вкус, штампы, плохие рифмы... А в двадцатые годы он был первым поэтом современной России, и это никем не оспаривалось.

Им восхищались Маяковский и Чуковский, ему посвящала стихи Цветаева, да и Борис Пастернак позже писал:
Кому быть живым и хвалимым,
Кто должен быть мертв и хулим,—
Известно у нас подхалимам
Влиятельным только одним.
Не знал бы никто, может статься,
В почете ли Пушкин иль нет,
Без докторских их диссертаций,
На все проливающих свет.
Но Блок, слава богу, иная,
Иная, по счастью, статья.
Он к нам не спускался с Синая,
Нас не принимал в сыновья.
Прославленный не по программе
И вечный вне школ и систем,
Он не изготовлен руками
И нам не навязан никем.
В своё время Блок предчувствовал незавидную участь классиков:
Печальная доля — так сложно,
Так трудно и празднично жить,
И стать достояньем доцента,
И критиков новых плодить...
Спустя 70 лет Владимир Корнилов замечательно описал в стихах одну из лекций подобных «доцентов»:
Он рокотал: - Бог умер. Ницше прав.
Блок - скиф. И мы сегодня - тоже скифы...
И думал я ревниво и тоскливо:
«Какую гору сведений набрал...»
Он громыхал: - Поскольку умер Бог,
то и Христос «Двенадцати» у Блока
антихрист... Вообще такого бога
я не пустил бы даже на порог.
Христос не каторжник и беглым шагом
не ходит, словно воровская мразь,
и вовсе не размахивает флагом,
за все дома от страха хоронясь... -
и стал терзать поэму Заратустра,
во внутренности лез и потроха,
не постигая сущности искусства
и отвергая музыку стиха.
Поэтому свести никак не мог
в единое полярности такие,
как справедливость, улица, стихия,
возмездие, Россия, мрак и Блок.
«Об игре трагической страстей»
«Трагическим тенором эпохи» назвала Блока Ахматова. Это было главное в нём - трагический поэт. «Трагический поэт, - пишет Лидия Гинзбург, - выражает прежде всего не личную свою трагедию, а эпохальную, и потому важную для всех».
Какой скорбный путь — если вдуматься — прошло русское творчество от Пушкина до Блока, от первого нашего поэтического возрождения александровской эпохи до второго поэтического возрождения начала ХХ-го века!
Пушкин знал много горестей и печалей, но он знал и творческую радость, и райскую лёгкость. Блок знал только горе, печаль, тоску, ад. Даже о Музе своей он говорит: «Для иных ты и муза, и чудо, для меня ты — мученье и ад». «Искусство — это блистательный ад», - скажет он в статье о символистах.

Как тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшим,
И об игре трагической страстей
Повествовать еще не жившим.
И, вглядываясь в свой ночной кошмар,
Строй находить в нестройном вихре чувства,
Чтобы по бледным заревам искусства
Узнали жизни гибельный пожар!
Отсвет этого пожара достигает и наших душ через пространства и времена.
(В продолжение этой мысли отсылаю к своему прошлому посту «Эта чёрная музыка Блока»).
Поэт холода и тишины
Блок стал центральной фигурой русского символизма не только по праву своего исключительного литературного дарования, но и особой обострённости слуха ко всему невыразимому, «несказанному», астральному, мистическому. Символисты чувствовали, но не умели выразить то, чем была напитана розово-золотая атмосфера эпохи. Это сумел сделать Блок.

Всё на земле умрёт - и мать, и младость,
Жена изменит, и покинет друг.
Но ты учись вкушать иную сладость,
Глядясь в холодный и полярный круг.
Бери свой челн, плыви на дальний полюс
В стенах из льда - и тихо забывай,
Как там любили, гибли и боролись...
И забывай страстей бывалый край.
И к вздрагиваньям медленного хлада
Усталую ты душу приучи,
Чтоб было з д е с ь ей ничего не надо,
Когда о т т у д а ринутся лучи.
Блок был поэтом холода и тишины. Он поднимался на вершины, недоступные другим поэтам. От него исходило молчание иных миров. Подавляющее большинство людей живут внешней жизнью, не подозревая, что есть люди, у которых 90% внутреннего бытия. Блок был из тех, в ком безмерно превалировала внутренняя жизнь. В своём дневнике он пишет: "Что мне делать с этими мирами, что мне делать с собственной жизнью, которая отныне стала искусством, ибо со мной рядом живёт моё создание — не живое, не мёртвое — синий призрак". Он шёл по жизни как сомнамбула с закрытыми глазами и простёртыми руками. Зинаида Гиппиус называла его своим «лунным другом».
Душа молчит. В холодном небе
Всё те же звезды ей горят.
Кругом о злате иль о хлебе
Народы шумные кричат...
Она молчит,— и внемлет крикам,
И зрит далекие миры,
Но в одиночестве двуликом
Готовит чудные дары,
Дары своим богам готовит
И, умащенная, в тиши,
Неустающим слухом ловит
Далекий зов другой души...
Так — белых птиц над океаном
Неразлученные сердца
Звучат призывом за туманом,
Понятным им лишь до конца.

«С Прекрасными Дамами не живут»
Блок впервые заявил о себе в поэзии как певец Прекрасной Дамы. Свою земную любовь, реальную живую девушку юный Блок возводит в абсолют, идеализирует, как Дон Кихот свою Дульсинею. Само по себе такое влияние земного и божественного в любви к женщине и в поэзии, конечно, не было изобретением Блока. Достаточно вспомнить трубадуров, немецких романтиков, Данте, Петрарку. Но ни у кого из поэтов нового времени эта тема не приобрела такой полноты воплощения, как у Блока. К. Чуковский поражался: «800 стихотворений подряд, 800 любовных гимнов одной женщине — невероятный молитвенник!»

В ночи, когда уснет тревога,
И город скроется во мгле, -
О, сколько музыки у бога,
Какие звуки на земле!
Что буря жизни, если розы
Твои цветут мне и горят!
Что человеческие слезы,
Когда румянится закат!
Прими, Владычица вселенной,
Сквозь кровь, сквозь муки, сквозь гроба -
Последней страсти кубок пенный
От недостойного раба!
Трудно вообразить себе более разных людей, чем Блок и его избранница. З. Гиппиус писала: «Блок был в значительной степени человеком умственным и умозрительным. Жизнь он любил через призму каких-то своих построений. Ему очень не хватало жизненного, языческого начала. А в Любови Менделеевой была эта сильная плоть, юмор, веселье, какая-то детскость, физическая сила молодой здоровой женщины. И он потянулся к ней всем своим существом...»

Мельчайшие подробности встреч с возлюбленной приобретали для него бездонный смысл. Однажды на Андреевской улице Васильевского острова Блок увидел выходившую из саней Любу Менделееву. Она шла на курсы по 6-ой линии, Среднему проспекту, потом по 10-ой.

Блок, незамеченный, тихо пошёл за ней, повторяя все зигзаги её пути. Вот откуда возникло его странное стихотворение «Пять изгибов сокровенных», в котором изгибы — не линии женского тела, а углы и повороты линий Васильевского острова.
Пять изгибов сокровенных,
Добрых линий на земле.
К ним причастные во мгле
Пять стенаний вдохновенных.
Вы, рожденные вдали,
Мне, смятенному, причастны
Краем дальним и прекрасным
Переполненной земли.
Пять изгибов вдохновенных,
Семь и десять по краям,
Восемь, девять, средний храм -
Пять стенаний сокровенных,
Но ужасней - средний храм -
Меж десяткой и девяткой,
С черной, выспренней загадкой,
С воскуреньями богам.
Средний проспект Васильевского острова, где юный Блок шёл по следам Прекрасной Дамы, его будущей жены, повторяя изгибы её пути.
Не знавшая ещё своей судьбы Люба держалась весьма сурово и надменно, что повергало поэта в отчаяние.
Она стройна и высока,
Всегда надменна и сурова.
Я каждый день издалека
Следил за ней, на всё готовый.
Я знал часы, когда сойдет
Она — и с нею отблеск шаткий.
И, как злодей, за поворот
Бежал за ней, играя в прятки...
Стихи о Прекрасной Даме читаются как личный дневник, как история любви. Вот она на берегу озера, у окна, на углу улицы... Её красота, чистота, гордость, неприступность... Обывательскому уму всё это представляется сумбурным и напыщенным. Нам трудно воспринять всю высоту и целомудренность такой любви...

Люба приняла предложение руки и сердца и всей душой откликнулась на зов чужой души. Но никто не догадывался, какой неординарный сюжет приготовил для их жизни Блок, на что обрёк свою избранницу.
Безмолвный призрак в терему,
я — чёрный раб проклятой крови.
Я соблюдаю полутьму
в её нетронутом алькове...
Как сложился их дальнейший — уже общий — путь ? В чём была трагическая ошибка Блока? Почему им нельзя было соединять свои судьбы?
Об этом — в моём эссе «Правда жизни и правда поэзии».
Любовь Менделеева пережила Блока на 18 лет и умерла в 1939 году от сердечного приступа в 58 лет.

Среди её бумаг — черновых записей, писем, обрывков воспоминаний (она так и не успеет их закончить) — в её архиве хранились два аккуратных листка с подведёнными итогами жизни. На одном она записала все свои радости: чудные платья, парчи, кружева, шелка, балетные спектакли, модные журналы и даже взбитые сливки. На другом — бесстрастно перечислила шесть главных ошибок своей жизни. В их числе — замужество и несостоявшийся развод с Блоком.
«Разве так суждено меж людьми?»

В первую же ночь после венчания Блок объявил своей Прекрасной Даме, что никогда не будет жить с ней как с женой. Из дневника Л. Менделеевой:
«Блок говорил, что такие отношения не могут быть длительными, всё равно он уйдёт от неё к другим.
- А я?!
- И ты так же.
Это меня приводило в отчаяние! Отвергнута, не будучи ещё женой, на корню убита основная вера всякой полюбившей впервые девушки в незыблемость, в единственность. Я рыдала в эти вечера с бурным отчаянием».
Красные лампады храмов сменяют красные зазывные фонари вертепов и публичных домов.
Красный штоф полинялых диванов,
Пропыленные кисти портьер...
В этой комнате, в звоне стаканов,
Купчик, шулер, студент, офицер...
Этих голых рисунков журнала
Не людская касалась рука...
И рука подлеца нажимала
Эту грязную кнопку звонка...
Чу! По мягким коврам прозвенели
Шпоры, смех, заглушенный дверьми...
Разве дом этот - дом в самом деле?
Разве так суждено меж людьми?
Разве рад я сегодняшней встрече?
Что ты ликом бела, словно плат?
Что в твои обнаженные плечи
Бьет огромный холодный закат?
Только губы с запекшейся кровью
На иконе твоей золотой
(Разве это мы звали любовью?)
Преломились безумной чертой...
В желтом, зимнем, огромном закате
Утонула (так пышно!) кровать...
Еще тесно дышать от объятий,
Но ты свищешь опять и опять...
Он не весел - твой свист замогильный...
Чу! опять - бормотание шпор...
Словно змей, тяжкий, сытый и пыльный,
Шлейф твой с кресел ползет на ковер...
Ты смела! Так еще будь бесстрашней!
Я - не муж, не жених твой, не друг!
Так вонзай же, мой ангел вчерашний,
В сердце - острый французский каблук!

В стихотворении «И я любил, и я изведал...» Блок вспоминает имена любовниц:
Их было много. Но одною
чертой соединил их я.
Одной безумной красотою,
чьё имя: страсть и жизнь моя.
В стихотворении «Часовая стрелка близится к полночи...» поэт смущённо признаётся:
Я люблю вас тайно,
вечера глухие, улицы немые...
Я люблю Вас тайно, тёмная подруга
юности порочной, жизни догоревшей...


Любовь Блока с его Прекрасной Дамой в реальной жизни, как известно, не состоялась: её загубили метафизика, мистическая схоластика, ложные философские теории, декадентство. В жертву им была принесена живая жизнь. Как тут не вспомнить ядовитое замечание Гёте по поводу мистического чувства любви у романтиков: нереальное отношение к женщине, вырождаясь в туманные эротические двусмысленности, приводит в итоге в публичный дом. Из дневника Блока: "Ночь. Лихач. Варьете. Акробатка выходит. Я умоляю её ехать. Летим, ночь зияет. Я совершенно вне себя. Я рву её кружева и батист, в этих грубых руках и острых каблуках — какая-то сила и тайна..."

Вновь оснежённые колонны,
Елагин мост и два огня.
И голос женщины влюбленный.
И хруст песка, и храп коня.
Две тени, слитых в поцелуе,
Летят у полости саней.
Но не таясь и не ревнуя,
Я с этой новой - с пленной - с ней.
Да, есть печальная услада
В том, что любовь пройдет, как снег.
О, разве, разве клясться надо
В старинной верности навек?
Нет, я не первую ласкаю
И в строгой четкости моей
Уже в покорность не играю
И царств не требую у ней.
Нет, с постоянством геометра
Я числю каждый раз без слов
Мосты, часовню, резкость ветра,
Безлюдность низких островов.
Я чту обряд: легко заправить
Медвежью полость на лету,
И, тонкий стан обняв, лукавить,
И мчаться в снег и темноту.
И помнить узкие ботинки,
Влюбляясь в хладные меха...
Ведь грудь моя на поединке
Не встретит шпаги жениха...
Ведь со свечой в тревоге давней
Ее не ждет у двери мать...
Ведь бедный муж за плотной ставней
Ее не станет ревновать...
Чем ночь прошедшая сияла,
Чем настоящая зовет,
Всё только - продолженье бала,
Из света в сумрак переход...

Прошло три года. Любовь Менделеева записывает в дневнике: "Той весной я была брошена на произвол всякого, кто бы стал за мной ухаживать". Этим человеком стал Андрей Белый — бывший друг, единомышленник и поклонник Блока.

Белый даёт ей понять, что любит её не как Прекрасную Даму, а как живую женщину: ежедневно посылал корзины цветов, забрасывал страстными письмами, звал уехать за границу, умолял "спасти его, спасти Россию". Каждый вечер он приходил, садился к роялю и пел ей романсы. Блок скрывался в другой комнате или уходил из дома — устранялся. Менделеева плакала и писала в дневник: "Очень тяжело. Один — не муж. Белый — искушение".

Позже, обозревая прожитое, Любовь Менделеева в своём дневнике охарактеризует годы 1909 —1911, проведённые с Блоком, двумя словами: "Без жизни". А следующее 4-летие обозначено у неё знаменательной пометой: "В рабстве у страсти". Хотел того Блок или нет, но он сам толкнул свою Офелию на путь декадентской вседозволенности, и она, очертя голову, кинулась в омут. С какой-то третьестепенной труппой актёров Люба уезжает на длительные гастроли. Сцена не стала её призванием, скорее, средством ухода от опостылевшего очага, в котором не было тепла. Она затевает флирт — с одним, с другим, третьим.

Ученики и сотрудники студии В. Э. Мейерхольда. 1915 год. Во втором ряду вторая справа — Любовь Менделеева.
Ломка нормальных семейных отношений, которая в их кругу пышно именовалась "революцией быта", больно ударила по ним обоим. Жизнь переучивала, опровергала декадентскую ложь, заставляла учиться на своих ошибках. Всё богочеловеческое и сверхчеловеческое ушло, осталось просто человеческое.
Не знаю, где приют своей гордыне
ты, милая, ты, нежная, нашла.
Я крепко сплю, мне снится плащ твой синий,
в котором ты в сырую ночь ушла.

"Ну что же, — признаётся Блок себе в дневнике, — надо записать чёрным по-белому историю, таимую внутри. Ответ на мои никогда непрекращающиеся преступления были: сначала Белый, которого я ненавижу, потом Чулков, какая-то уж совсем мелочь (Ауслендер), от которого меня теперь тошнит. Потом — "хулиган из Тмутаракани" — актёришка. Теперь не знаю кто".
Ночь как ночь, и улица пустынна.
Так всегда!
Для кого же ты была невинна
и горда?
Блок беспощадно судит свою Любу, он пишет ей с упрёком: «Мне казалось всегда, что ты — женщина с высокой душой, не способная опуститься туда, куда я опустился». Что позволено Юпитеру... Но о какой измене может идти речь, не он ли сам дал ей карт-бланш?
Блок не щадит и себя, он осознаёт свою вину перед женой.
Я не только не имею права,
я тебя не в силах упрекнуть
за мучительный твой, за лукавый,
многим женщинам суждённый путь...
Прекрасная Дама пускается во все тяжкие. «Ведь бедный муж за плотной ставней её не станет ревновать».

Зимний ветер играет терновником,
задувает в окна свечу.
Ты ушла на свиданье с любовником.
Я один. Я прощу. Я молчу.
Ты не знаешь, кому ты молишься, —
он играет и шутит с тобой.
О терновник холодный уколешься,
возвращаясь ночью домой.
Но, давно прислушавшись к счастию,
у окна я тебя подожду.
Ты ему отдаёшься со страстию.
Всё равно. Я тайну блюду.
Всё, что в сердце твоём туманится,
станет ясно в моей тишине.
И когда он с тобой расстанется,
ты признаешься только мне.

В 1908 году жена Блока влюбляется в актёра труппы Мейерхольда Константина Давидовского. С гастролей она возвращается беременной. Хотела сделать аборт, муж отговорил: «Пусть будет ребёнок, раз у нас нет, он будет наш общий...»
Блок ни о чём не спрашивал, был предупредителен, ласков. Он готовился стать отцом. Ему казалось, что вот теперь, после рождения ребёнка, жизнь может пойти по-другому. Родился мальчик. Его назвали Митей, в честь Менделеева. Через неделю ребёнок умер.
В голубой далёкой спаленке
твой ребёнок опочил.
Тихо вылез карлик маленький
и часы остановил.
Блок сам похоронил младенца и потом каждый год навещал могилу.
Когда под заступом холодным
скрипел песок и яркий снег,
во мне, печальном и свободном,
ещё смирялся человек.
Пусть эта смерть была понятна —
в душе, под песни панихид,
уж проступали злые пятна
незабываеых обид.
Я подавлю глухую злобу,
тоску забвению предам.
Святому маленькому гробу
молиться буду по ночам.
«Покоя нет»
Атмосфера в доме была очень тяжёлой. Мать Блока не нашла общего языка с невесткой, в семье были постоянные конфликты, из-за которых Блок очень страдал. Мать была подвержена душевному недугу, часто лежала в психиатрической клинике. По мнению Любы, она дурно влияла на сына, с которым у неё была большая духовная близость.

Блок разрывается между самыми дорогими существами, испытывает страшные душевные муки и не видит выхода из создавшегося положения. "Только смерть одного из нас троих сможет помочь", — жестоко говорит он матери. Она по-своему истолкует стихи Блока, где говорилось о "пристальном враге", примет их на свой счёт и попытается отравиться. Блока мучает невыносимая тоска, сознание своей вины перед матерью, одиночество, вечное ожидание жены, уехавшей в Житомир к любовнику...
В отчаянии он пишет ей письмо: "Мне очень надо твоего участия. Стихи в тетради давно не переписывались твоей рукой. Давно я не прочёл тебе ничего. Лампадки не зажигаются. Холодно как-то. То, что я пишу, я могу написать и сказать только тебе. Многого я не говорю даже маме. А если ты не поймёшь — то и Бог с ним, пойду дальше так".
Я — Гамлет. Холодеет кровь,
когда плетёт коварство сети,
и в сердце первая любовь
жива — к единственной на свете.
Тебя, Офелию мою,
увёл далёко жизни холод.
И гибну, принц, в родном краю,
клинком отравленным заколот.


Блок в роли Гамлета в любительском спектакле
Гамлетовский вопрос "быть или не быть" встаёт перед ним всё чаще и неотвратимей. В ту пору Блок был на волоске от самоубийства. Он пишет цикл из семи стихотворений под названием "Заклятие огнём и мраком":
По улицам метель метёт,
свивается, шатается.
Мне кто-то руку подаёт
и кто-то улыбается.
Ведёт и вижу: глубина,
гранитом тёмным сжатая.
Течёт она, поёт она,
зовёт она, проклятая.
Я подхожу и отхожу,
и замер в смутном трепете:
вот только перейду межу —
и буду в струнном лепете.
И шепчет он — не отогнать
(и воля уничтожена):
пойми: уменьем умирать
душа облагорожена.
Пойми, пойми, ты одинок,
как сладки тайны холода...
Взгляни, взгляни в холодный ток,
где всё навеки молодо...
Бегу. Пусти, проклятый, прочь,
не мучь ты, не испытывай!
Уйду я в поле, в снег и ночь,
забьюсь под куст ракитовый!
Там воля всех вольнее воль
не приневолит вольного,
и болей всех больнее боль
вернёт с пути окольного.

С "пути окольного" его вернёт Муза. "И в жизни, и в стихах — корень один. Он — в стихах. А жизнь — это просто кое-как", — запишет он в дневнике. И ещё: "Чем хуже жизнь, тем лучше можно творить". Блок не мог повторить вслед за Пушкиным: "На свете счастья нет, но есть покой и воля". Он разуверился не только в счастье, но и в покое: "Покоя нет. Покой нам только снится".
«О, Кармен, мне печально и дивно...»
«Сколько у меня было счастья (счастья, да) с этой женщиной, - записывал Блок в дневнике о легендарной Кармен — актрисе Любови Дельмас, счастливой (правда, недолго) сопернице Любы Менделеевой.

Была ты всех ярче, верней и прелестней,
не кляни же меня, не кляни!
Мой поезд летит как цыганская песня,
как те невозвратные дни...
Что было любимо – всё мимо, всё мимо,
впереди – неизвестность пути...
Благословенно, неизгладимо,
невозвратимо... прости!
Подробно об этой захватывающей истории любви и перипетиях любовного треугольника — в моём посте «Была ты всех ярче, верней и прелестней...»
О «гении первой любви»
Все знают о бессмертной любви поэта к Прекрасной Даме, любви-мечте, любви-призраке, мало имевшей общего с любовью к конкретной женщине из плоти и крови. Однако до встречи с Любой Менделеевой Блок уже пережил свою первую любовь – к зрелой замужней женщине, действительной статской советнице, ровеснице своей матери Ксении Михайловне Садовской, вошедшей потом в его поэзию циклом К.М.С. – бессмертным шедевром любовной лирики.

Он назовёт её в стихах “гением первой любви”.
Что нам остаётся от себя прежних, от тех, кого мы любили? Об этом — в эссе «Самое дорогое».

Дочь Блока

Принято считать, что у Блока не было детей. Сам он говорил: "Мне было бы страшно, если бы у меня были дети. Пусть уж мной кончается хоть одна из блоковских линий - хорошего в них мало". Действительно, в поколении Блоков было много душевнобольных: отец, мать, тётки. Но линия Блока на нём не оборвалась. За три месяца до смерти он узнал, что у него родилась дочь. Мать девочки через несколько месяцев умерла. Это была Александра Чубукова, очень красивая и несчастная женщина. Ей были адресованы строки Блока:
Там, где скучаю так мучительно,
ко мне приходит иногда
она - бесстыдно упоительна
и унизительно горда...
О странной и запутанной истории удочерения девочки и дальнейшей судьбе дочери Блока я писала здесь.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/154777.html
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
"В его лице я рыцарству верна..." |
Начало здесь

16 октября 1941 года в Орле во внутренней тюрьме НКВД был расстрелян Сергей Эфрон.
Три года счастья
Первые годы брака — самые счастливые в их совместной жизни.
Об этом говорят и стихи, и письма. Цветаева восхищается мужем, воспевает его красоту («…огромные глаза цвета моря», «аквамарин и хризопраз / Сине-зеленых, серо-синих, /Всегда полузакрытых глаз», «жест царевича и льва»). Сравнение со львом не случайно. Лев — символ царственности и силы — прозвище, данное Мариной мужу, в котором она видит олицетворение всех мужских качеств: мужественности, жертвенности, благородства. («Вашего полка — драгун, / Декабристы и версальцы».)
Всегда откровенная в стихах, Цветаева не устает говорить о своем счастье:
Да, я, пожалуй, странный человек,
Другим на диво!
Быть, несмотря на наш двадцатый век,
Такой счастливой!
Не слушая о тайном сходстве душ,
Ни всех тому подобных басен,
Всем говорить, что у меня есть муж,
Что он прекрасен!..
Я с вызовом ношу его кольцо!
— Да, в Вечности — жена, не на бумаге. —
Его чрезмерно узкое лицо
Подобно шпаге.
Безмолвен рот его, углами вниз,
Мучительно-великолепны брови.
В его лице трагически слились
Две древних крови.
Он тонок первой тонкостью ветвей.
Его глаза — прекрасно-бесполезны! —
Под крыльями распахнутых бровей —
Две бездны.
В его лице я рыцарству верна,
— Всем вам, кто жил и умирал без страху! —
Такие — в роковые времена —
Слагают стансы — и идут на плаху.

Цветаева свято верила, что все сказанное в стихах сбывается. (Недоумевала, как это Ахматова могла позволить себе такие строчки: «Отними и ребенка, и друга, / И таинственный песенный дар».) Как же она сама могла написать такое? Упоенная собственным счастьем, не думала, что «роковые времена» когда-нибудь настанут?
Через три недели в Сараеве убьют наследника австро-венгерского престола Франца Фердинанда и начнется Первая мировая война, которая не обойдет и Сергея Эфрона. «Плаха» его ждет еще не скоро, но сказанное в горделивых и радостных стихах в счастливые дни молодости сбудется самым страшным образом… Увы, поэт часто оказывается пророком.
Второй Маринин сборник стихов «Волшебный фонарь» был посвящён Сергею Эфрону. Героиня видит все словно через волшебный фонарь — отсюда и название. Именно в этом сборнике впервые напечатаны стихи, написанные в первые дни знакомства, и стихотворение «На радость». Точная дата его написания неизвестна, но это уже обращение к реальному Сергею Эфрону — в вечности и нерушимости союза с которым Цветаева не сомневается.
Ждут нас пыльные дороги,
Шалаши на час
И звериные берлоги
И старинные чертоги…
Милый, милый, мы, как боги:
Целый мир для нас!
Всюду дома мы на свете,
Все зовя своим.
В шалаше, где чинят сети.
На сияющем паркете…
Милый, милый, мы, как дети:
Целый мир двоим!
Солнце жжет, — на север с юга,
Или на луну!
Им очаг и бремя плута,
Нам простор и зелень луга…
Милый, милый, друг у друга
Мы навек в плену.
Эфрон в это же время выпустил книгу «Детство». Книга во многом автобиографична. В семилетнем Кире Эфрон изобразил себя. В последней главе — «Волшебница» — в образе Мары — без труда узнается Марина Цветаева. Сергей Эфрон понял главное в своей жене: ее дар волшебен, обычные моральные критерии к ней неприложимы. «Мне необходим подъем, только в волнении я настоящая», — говорит Мара. В будущем не раз в отношении к жене Сергей будет исходить именно из такого понимания ее сути.

Из письма Марины философу В.В. Розанову весной 1914 года:
«Я замужем, у меня дочка — Ариадна (Аля), моему мужу 20 лет. Он необычайно и благородно красив, он прекрасен внешне и внутренне… В Сереже соединены — блестяще соединены — две крови: еврейская и русская. Он блестяще одарен, умен, благороден… Сережу я люблю бесконечно и навеки. Если бы Вы знали, какой это пламенный, великодушный, глубокий юноша! Я постоянно дрожу над ним. От малейшего волнения у него повышается t°, он весь — лихорадочная жажда всего… За три — или почти три — года совместной жизни — ни одной тени сомнения друг в друге. Наш брак до того не похож на обычный брак, что я совсем не чувствую себя замужем и совсем не переменилась, — люблю все то же и живу все так же, как в 17 лет.
Мы никогда не расстаемся. Наша встреча — чудо… Он — мой самый родной на всю жизнь. Я никогда бы не могла любить кого-нибудь другого, у меня слишком много тоски и протеста. Только при нем я могу жить так, как живу — совершенно свободная».

Первая измена
В октябре 1914 года Цветаеву захватывает новое чувство, безудержное и страстное.(«Схватила за волосы судьба»). К женщине. Поэтессе Софье Парнок. Известной не только стихами, но и своими лесбийскими наклонностями, имевшей к моменту знакомства с Цветаевой большой опыт однополой любви. («Вы слишком многих, мнится, целовали…»)

Цветаева же в это время — жена и мать, но, очевидно, женщина еще не проснулась в ней. Об этом свидетельствуют и ее собственные стихи из цикла «Подруга» («Этот рот до поцелуя / Твоего был юн. / Взгляд — до взгляда — смел и светел, / Сердце — лет пяти…»), и стихи Софьи Парнок, адресованные своему сопернику — мужу Марины:

И впрямь прекрасен, юноша стройный, ты:
Два синих солнца под бахромой ресниц,
И кудри темноструйным вихрем,
Лавра славней, нежный лик венчают.
Адонис сам предшественник юный мой!
Ты начал кубок, ныне врученный мне, —
К устам любимой приникая,
Мыслью себя веселю печальной:
Не ты, о юный, расколдовал ее.
Дивясь на пламень этих любовных уст,
О, первый, не твое ревниво, —
Имя мое помянет любовник.
(«Алкеевы строфы»)
«Юный», не сумевший расколдовать, — это, конечно, Сергей Эфрон. И не случайно в стихах Марины Цветаевой, обращенных к мужу, никогда не было и не будет никакой эротики.
Но платить жене той же монетой было совершенно несвойственно Эфрону. В таких ситуациях он всегда самоустранялся.
Весну и лето 1915 года подруги живут вместе, сняв комнату. Сергей Эфрон переезжает с Борисоглебского переулка к сестре, а Марина, оставив маленькую Алю на попечение няни, уезжает к родственникам Парнок на Украину, где они живут на даче, потом гостят в Коктебеле у Волошина. Этот роман не был тайной для их друзей, родных и знакомых. Мудрая Пра (мать Волошина) уговаривает их не принимать никаких мер, ибо они «не в силах разрушить эти чары».
Началась Первая мировая война, и Сергей уходит добровольцем на фронт.

Вовсе не из политических убеждений оказался он в белой гвардии Корнилова. Эфрон не интересовался политикой, вообще не подлежал призыву из-за туберкулёза лёгких. Ему был всего 21 год, он учился на Литературных курсах, из которых вырос впоследствии Литературный институт, выпустил первую книжку рассказов. Неизвестно, как сложилась бы его судьба, если бы не эта роковая страсть жены. Он ушёл на войну, потому что не видел другого выхода из семейного тупика, чтобы как-то разрубить этот гордиев узел, дать свободу Марине.
На фронт его поначалу не берут, и в марте 1915 года он поступает на службу санитаром в Отдел санитарных поездов Всероссийского земского союза.

187-й поезд, куда его определили, курсировал по маршруту Москва — Белосток — Москва. Санитарный поезд, конечно, не фронт, но все равно дело опасное. Возражала ли Марина Ивановна против такого решения мужа? По-видимому, нет. Во всяком случае, нам об этом ничего не известно.
Над Сергеем «летают аэропланы», рядом взрываются бомбы, одна из них — чуть ли не в пятнадцати шагах. Но в его душе нет и тени каких-то недобрых мыслей по отношению к Марине, которая в это время упивается своим новым чувством. Он понимает, что она не властна в своей страсти, что это своего рода болезнь. Из санитарного поезда просит сестру Елизавету: «…будь поосторожнее с Мариной, она совсем больна сейчас» — и продолжает заботиться о семье.
Из письма Цветаевой :«Сережу я люблю на всю жизнь, он мне родной, никогда и никуда от него не уйду. Пишу ему то каждый, то — через день, он знает всю мою жизнь, он мне родной, только о самом грустном я стараюсь писать реже. На сердце — вечная тяжесть. С ней засыпаю и просыпаюсь… Разорванность от дней, которые надо делить, сердце все совмещает».

На следующий день после последнего стихотворения-воспоминания о Парнок, Цветаева принесла покаяние мужу — на жизнь вперёд:
Я пришла к тебе чёрной полночью
за последней помощью.
Я - бродяга, родства не помнящий,
корабль тонущий.
Самозванцами, псами хищными
я дотла расхищена.
У палат твоих, царь истинный,
стою нищая!

….А Сергею Эфрону уже мало санитарного поезда. Он рвется на фронт: «Меня страшно тянет на войну солдатом или офицером, и был момент, когда я чуть было не ушел и ушел бы, если бы не был пропущен на два дня срок для поступления в военную школу. Невыносимо, неловко мне от моего мизерного братства — но на моем пути столько неразрешимых трудностей. Я знаю прекрасно, что буду бесстрашным офицером, что не буду совсем бояться смерти».

На фронте
Из воспоминаний С. Эфрона: «Незабываемая осень 17-го года. Думаю, вряд ли в истории России был год страшнее. … по непередаваемому чувству распада, расползания, умирания, которое охватило нас всех. Десятки, потом сотни, впоследствии тысячи, с переполнившим душу «не могу», решили взять в руки меч. Это «не могу» и было истоком, основой нарождающегося добровольчества. — Не могу выносить зла, не могу видеть предательства, не могу соучаствовать, — лучше смерть. Зло олицетворялось большевиками».
Эфрон участвует в октябрьских боях в Москве, где погиб почти весь его полк и он сам лишь чудом спасся, затем бежит на юг России, вступает в добровольческую армию, участвует в знаменитом драматическом Ледовом походе, в обороне Крыма, получает тяжелое ранение. Его храбрость и авантюризм в хорошем смысле слова вошли в легенду – по поручению командования он нелегально отправляется в занятую большевиками Москву, чтоб вернуться оттуда с деньгами и людьми. Это была его идея, чтоб каждый город имел в добровольческой армии свое соединение – Московский полк, Тульский полк, Нижегородский полк. И ни минуты не сомневался, когда ему предложили приступить к исполнению им же придуманного плана, хотя понимал, что идет почти на верную гибель…
Это ему Цветаева посвятила свою книгу «Лебединый стан», ту самую, которую она читала революционным солдатам и матросам в Москве, надев его мундир юнкера и рискуя получить пулю за дерзость, граничащую с оскорблением… Это его образом навеяны знаменитые строки:

Белая гвардия, путь твой высок:
Черному дулу — грудь и висок.
Божье да белое твое дело:
Белое тело твое — в песок.
Не лебедей это в небе стая:
Белогвардейская рать святая
Белым видением тает, тает…
Старого мира — последний сон:
Молодость — Доблесть — Вандея — Дон.
«У Марины был свой персональный лебедь, свой декабрист. Она любила Сергея вдвойне, он был не просто муж, а герой, рыцарь, ангел. «Где лебеди? - А лебеди ушли. - А вОроны? - А вОроны - остались. - Куда ушли? - Куда и журавли. - Зачем ушли? - Чтоб крылья не достались».
Журавли возвращаются каждый раз, а вот лебеди из тёплых краёв не вернулись. (Маринин лебедь вернулся, но для этого ему пришлось стать вОроном.)» - пишет Валерия Новодворская.

И — она же: «Этот «белый лебедь» записывается в вОроны, то есть в просоветскую организацию «Союз возвращения на родину». На родину возвращаются по-разному. Некоторые приползают на коленях и лижут руки. И все равно их бьют. Он не только просит советского гражданства, этот Сергей Эфрон. Он еще и становится советским разведчиком, идет на союз с дьяволом, с НКВД. Он решает вернуться в СССР «хоть тушкой, хоть чучелком». Но дьявола не обманешь, он сам отец Лжи. От Сергея потребуют не клятв, а расписки кровью. Чужой кровью».
Всё так. И всё не так!
В эмиграции
Оказавшись в эмиграции, Эфрон переживает духовный кризис. Он пересматривает свой взгляд на белое движение, признает, что наряду с благородством много в нем было и жестокого и мерзкого. «Добрая воля к смерти» … тысячи и тысячи могил, оставшихся там, позади, в России, тысячи изувеченных инвалидов, рассеянных по всему миру, цепь подвигов и подвижничеств и… «белогвардейщина», контрразведки, погромы, расстрелы, сожженные деревни, грабежи, мародерства, взятки, пьянство, кокаин и пр., и пр.»
Где же правда? Кем же они были — героями-подвижниками или разбойниками-душегубами?
Все больше и больше к Сергею приходит осознание, что в революции тоже была своя правда. Еще в годы гражданской войны он понял – и с горечью писал об этом в «Записках добровольца» – что белое движение вовсе не было народным и что народ относился к белым в лучшем случае равнодушно, а когда белые, позабыв о своих высоких идеалах, увлеченные стихией братоубийственной войны, где нет и не может быть закона и морали, стали грабить, насиловать, мародерствовать, и вовсе возненавидел их. Эфрон решает, что если уж быть со своей страной и со своим народом, то нужно принять и избранную этими страной и народом идеологию – марксистский коммунизм.
Как почти все «левые» евразийцы, он приходит в «Союз возвращения на Родину».

Фактически это был парижский филиал иностранного отдела ОГПУ. Но именно фактически. Официально же — организация, помогавшая русским эмигрантам вернуться на Родину. А что, собственно, в этом плохого? Ведь никто не афишировал, какую цену требовали за возвращение и что, как правило, ждало возвращенцев в СССР. И Сергей Эфрон, переступая впервые порог этого заведения, мог ни о чем не знать. Теоретически. Как было на самом деле, сказать трудно.
В Париже он возглавляет «Союз за возвращение на Родину», переписывается с советскими гражданами, участвует в мероприятиях советского посольства во Франции, даже вербует добровольцев для войны в Испании на стороне республиканцев. Но работники советского посольства (те, для которых дипломатический статус лишь прикрытие иной деятельности), в ответ на запрос о гражданстве, прозрачно намекают Эфрону, что ему – бывшему белогвардейцу, с оружием в руках боровшемуся против Советской власти, нужно … искупить свою вину перед Советской властью и … стать агентом НКВД во Франции. Для бывшего офицера Эфрона работа в разведке – никакой не позор, это – достойная и важная работа во благо Родины. Уже в конце жизни он с гордостью скажет: «я – не шпион, я – советский разведчик».
«Я – не шпион, я – советский разведчик»
В начале 30-х годов Сергей Яковлевич рвался в Россию. В каждом письме сестре в Москву: «Откровенно тебе завидую — твоей жизни в русской деревне», «Конечно, мы увидимся. Я не собираюсь кончать свою жизнь в Париже…», «Я думаю, что скоро приеду в Москву. Здесь невмоготу».
В письме к сестре Лиле: «…в Россию страшно как тянет. Никогда не думал, что так сильно во мне русское. Как скоро, думаешь, можно мне будет вернуться? Не в смысле безопасности, а в смысле моральной возможности. Я готов ждать еще два года. Боюсь, дальше сил не хватит». «Моральная возможность» — это надо понимать, что народ «простит» белогвардейцев и он, Сергей Эфрон, сможет ему послужить.
В июне 1931 года он передал через советское полпредство в Париже прошение во ВЦИК о советском паспорте. Вскоре, очевидно для того, чтобы «заслужить прощение», он становится тайным сотрудником ГПУ. Его последняя неудача — несостоявшаяся деятельность в кино и полная невозможность найти какой-нибудь заработок — быть может, оказалась последней каплей, переполнившей чашу терпения эмигранта.

Главы из книги Сергея Эфрона пробиваются в печать. Его статья «О Добровольчестве» появляется в самом престижном журнале русской эмиграции «Современные записки». Она начинается с определения понятия «добровольчество», взятого из стихотворения Цветаевой «Посмертный марш» — «Добровольчество — это добрая воля к смерти».
Эфрон – разведчик – все тот же доброволец, человек чести, верный идеалу, ибо не деньги (положение его самого и его семьи и после вербовки остается отчаянно бедным, хотя и не таким беспросветно нищим, как в конце 1920-х), а желание послужить Отчизне привели его на это путь. И он все так же отчаянно, до безумия храбр. Ему поручают опасные задания – прикрытие похищения генерала Миллера, участие в операции по устранению агента-перебежчика Рейсса (причем, биографы заявляют, что Эфрон по наивности своей сначала не предполагал, что Рейсса собираются убить). Уже в мирное время, в чужой благополучной стране он рискует свободой, а, может, и жизнью так же, как на Родине в гражданскую.
«Сергей Яковлевич совсем ушел в Советскую Россию, ничего другого не видит, а в ней видит только то, что хочет», - пишет Марина. Цветаевой же, по ее собственным словам, Бог не дал дара слепости. При ее отвращении к политике ее политическая прозорливость удивительна. Как в свое время она не обольстилась Февральской революцией, так в 30-х годах не только не обольщена «достижениями» социализма, но и понимает: коммунизм и фашизм — две стороны одной медали. В то время это понимали только самые выдающиеся умы эпохи:

А Бог с Вами!
Ходите овцами!
Ходите стадами, стаями
Без меты, без мысли собственной
Вслед Гитлеру или Сталину
Являйте из тел распластанных
Звезду или свасты крюки.
Высказывал ли кто-нибудь из русских поэтов такие мысли в первой половине 30-х годов? Насколько нам известно — нет.
Существует полупризнание самого Эфрона: «Меня запутали в грязное дело».
В оправдание Эфрона, замешанного в убийстве Рейсса, скажем: о письме Рейсса к Сталину он мог и не знать. Вполне вероятно, что ему просто сказали: это предатель, который собирается сообщить секретные сведения врагам нашей страны.
Арест
В 1939 году в жизни Эфрона происходит новая катастрофа – провал. Его отзывают в СССР. Вскоре туда прибывают и Марина с Муром (Цветаева не разделяла идеалистических взглядов мужа и не хотела в СССР, но после того, как обнаружилась его «вторая жизнь», в эмиграции ее затравили и лишили средств к существованию). Вначале всё было хорошо: их поселили на даче в Болшево.

Однако вместо заслуженной тихой спокойной жизни, не говоря уже о наградах, которые Родина должна была ему вручить за тяжелую, изнурительную, страшную работу разведчика, Сергей вскоре получает камеру в тюрьме и вздорное обвинение в сотрудничестве с французской разведкой.
Эфрон и тут не теряет присутствия духа и мужества. Его на Лубянке избивают, пытают, не дают спать, есть и пить, запугивают расстрелом и требуют, чтоб он подписал показания, свидетельствующие о том, что его жена – Марина Цветаева вела антисоветскую работу как агент иностранной разведки. Эфрон потрясен случившимся – меньше всего он, бежавший от французской разведки, которая пыталась арестовать его за шпионаж в пользу СССР, ожидал встретить такой прием на Родине, в стране, которую он считал светочем прогресса, идеализировал, защищал от эмигрантских нападок, отправил сюда свою дочь Ариадну (тоже оказавшуюся в тюрьме по надуманному обвинению).

К тому же Эфрон болен, у него постоянные сердечные приступы, о которых врачи регулярно предупреждают следователя Кузьминова – запомним презренное имя этого изверга, спокойно, в кабинетике, в полной безопасности истязавшего больного затравленного человека. Но Эфрон так и не подписал эти показания. После открытия архивов ФСБ исследователям стали доступны протоколы допросов. Везде рукой Эфрона написано: «моя жена – Марина Цветаева никакой антисоветской работы не вела. Она писала стихи и прозу». Или – запись о допросе, но протокола нет. Значит, били, но не подписал и протокол уничтожили…

Сергей Эфрон был обречен. Он слишком много знал о деятельности советской разведки за рубежом. Он нужен был НКВД во Франции, но совсем не нужен был в Советской России. Кроме того, началась война. Дивизии вермахта приближались к Москве, захватывая один город за другим. Нельзя было исключить вероятность, что уже к середине осени немцы возьмут Москву (вспомним, что по плану «Барбаросса» парад победы на Красной площади должен был состояться 7 ноября). Высокие чины из советских спецслужб отчаянно боялись, что Сергей Эфрон может оказаться в руках гестаповцев и что те окажутся удачливее (или многоопытнее) в выбивании показаний. А Эфрон, бывший одним из руководителей резидентуры НКВД во Франции, начиная с 1931 года, расскажет о работе парижской резидентуры.
Конец его был предрешен… Увы, таковы законы реальной политики. Разведки всех стран мира в подобных ситуациях поступали так. Не понимать это мог только безнадежный романтик, вечный доброволец, человек чести, рыцарь, неизвестно как попавший в ХХ век Сергей Эфрон…

На плахе
Ещё в 1929 году, увлекшись кинематографией, он снялся однажды в немом фильме «Мадонна спальных вагонов», где сыграл белогвардейца, оказавшегося в большевистской тюрьме и приговоренного к расстрелу. Два дюжих солдата заходят в камеру. Эфрон пятится в угол, закрывает глаза руками, сопротивляется. Солдаты его бьют и тащат к выходу. Чем не пророчество о том, что произойдет через 12 лет?

На самом деле Эфрон умирал не так, как его герой на киноэкране. Он был измучен непрекращающимися допросами и избиениями. Он перенес инфаркт и постоянно испытывал боли в сердце. На почве тяжелого психического потрясения, усугубленного издевательствами, у Сергея начались галлюцинации: он слышал голоса. Ему всё время чудился голос Марины, ему казалось, что она тоже здесь, в тюрьме.
Он пытался покончить с собой, но палачи и тюремные врачи не дали. Осенью 1941 года расстреливали уже не Сергея Эфрона, а полутруп, который и сам бы умер через пару месяцев. Вероятнее всего, Эфрон даже не понимал, что с ним происходит, и кто он такой, когда за ним пришла расстрельная команда. Жизнь, как всегда, оказалась страшнее и непригляднее кино.
Эфрон любил свою Родину, и когда она называлась Российская империя, и когда она стала называться СССР. Он готов был пострадать и умереть за нее – и пострадал и умер. Он был готов перенести за нее позор и поношения со стороны тех, кого уважал, с кем дружил, с кем рядом жил – и перенес. Он, сам того не желая, принес ей в жертву и тех, кого любил, больше самого себя – дочь и жену. Свой невыносимо трагический путь он прошел до конца.

Следствие по делу Эфрона официально было закончено 2 июня 1940 года — в этот день он подписал протокол об окончании следствия. Но фактически допросы продолжались. Через неделю из Эфрона удалось выбить показания, что он был шпионом французской разведки и что его завербовали при вступлении в масонскую ложу. Лучше не будем себе представлять, как удалось получить такие признания. Не всякая психика может выдержать даже описание того, что происходило. Что же говорить о больном физически, а тогда уже и психически Эфроне?
На закрытом судебном заседании Военной Коллегии Верховного Суда подсудимый Андреев-Эфрон сказал: «Виновным признаю себя частично, также частично подтверждаю свои показания, данные на предварительном следствии. Я признаю себя виновным в том, что был участником контрреволюционной организации «Евразия», но шпионажем я никогда не занимался. Я не был шпионом, я был честным агентом советской разведки. Я знаю одно, что, начиная с 1931 года, вся моя деятельность была направлена в пользу Советского Союза».
Суд удалился на совещание. (Соблюдали-таки, сволочи, формальности!) После чего был вынесен приговор: Эфрона-Андреева Сергея Яковлевича подвергнуть высшей мере наказания — расстрелу. Обжалованию приговор не подлежал. Но был приведен в исполнение только 16 октября 1941 года, когда немцы подходили к Москве.
Сергей Яковлевич Эфрон не дал никаких компрометирующих показаний ни на кого из тех, о ком его допрашивали. Для этого надо было обладать таким мужеством, для которого нет в языке подходящих слов, перед которым можно только преклонить колени.
«Такие в роковые времена…» Сбылось.

(Подготовлено по материалам Людмилы Поликовской, Рустема Вахитова , Валерии Новодворской).
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/149294.html
|
|
Процитировано 3 раз
Понравилось: 2 пользователям
Марина Цветаева и её адресаты. Окончание. |

Начало здесь
Продолжение здесь
Штейгер
В 1938 году Цветаевой исполнилось 44. Вот какой запомнила её в то время Зинаида Шаховская, с которой Марина общалась в Брюсселе: «Она была в скромном затрапезном платье с жидковатой чёлкой на лбу, волосы неопределённого цвета, блондинистые, пепельные с проседью. Бледное лицо, слегка желтоватое. Серебряные браслеты и перстни на рабочих руках... Глаза зелёные, смотрят вперёд, как глаза ночной птицы, ослеплённые светом...»

И снова — в который раз! - она в полёте, увлечена, ослеплена, и снова письма каждый день через границу, в горы, в Швейцарию, туда, где в туберкулёзном санатории лежит некто Анатолий Штейгер, новый герой её романа. Который когда-то на одном из её вечеров промелькнул, которого она не запомнила, не разглядела, но он её окликнул, прислал письмо, исповедь на шестнадцати страницах. Из этого письма она узнала, что он болен, у него туберкулёз, он молод, моложе Марины Ивановны на 15 лет, и, конечно же, пишет стихи, разбитая любовь, он несчастен... И Марина ринулась его спасать.
У 29-летнего Штейгера вышло к тому времени несколько книжек стихов. Одну из них, «Неблагодарность», он прислал Цветаевой. Книга её чрезвычайно тронула. Два мотива, две темы слились в ней в единый стон: неразделённая любовь и — заброшенность, никому не нужность в этом мире.
Этот несчастный, не рождённый для любви к женщине человек, был наполнен вселенской скорбью. Дарование его было средним, словарь — ординарным, неординарной была одна лишь тоска — врождённая, неотступная, роковая, на которую он был обречён, и которая, видимо, и сократила его жизнь.

Получив тёплый отклик Цветаевой, Штейгер ответил письмом, являвшим собой крик отчаяния, в котором он просил у неё «дружбы и поддержки на всю оставшуюся жизнь» и говорил о преследовавшем его страхе смерти: ему предстояла операция. И Марина отозвалась всей собой. Она спрашивает его в письме напрямую: «Хотите ко мне в сыновья?»
Она снова любила. Любила материнской, сестринской, женской любовью. Она вживалась в его жизнь, переживала историю его души: слабого, больного, так жаждущего сочувствия, этого самовольно присвоенного и горячо любимого сына.
Скороговоркой — ручья водой
Бьющей: — Любимый! больной! родной!
Речитативом — тоски протяжней:
— Хилый! чуть-жи́вый! сквозной! бумажный!
От зева до чрева — продольным разрезом:
Любимый! желанный! жаленный! Болезный!

Весь месяц Марина писала ему почти каждый день. Письма к Штейгеру — это энциклопедия любви на цветаевский лад, с её абсолютом отношений, с её собственничеством, с её беспредельным по силе женским началом и, главное — с кульминацией и развязкой. Ей необходимо со-чувствовать, со-страдать, со-болезновать своему партнёру в первородном значении этих слов, то есть быть им, быть до такой степени, что его вроде бы уже и нет.
Она буквально растворялась в нём, при этом мало считаясь с его физическим состоянием, ничего, кроме своей души, не замечая. Типичный цветаевский эгоизм, эгоизм здорового человека, которому не уразуметь больного.
Штейгер болен, только что перенёс тяжёлую операцию, а Марина настаивает на встрече, правда, с оговорками, что он слаб, и приехать в Швейцарию должна будет она, а он должен ей ответить на множество вопросов, как осуществить эту поездку; потом она решает, что всё же приехать надо ему. (В точности повторяется история с тяжелобольным Рильке, которого она просила наладить их встречу.)

М. Цветаева. Рис. А. Эфрон
Цветаева жаждет увидеть Штейгера, хотя поначалу писала, что этого не нужно и всё покрывает сила её мечты. Она пишет о любви — душе, любви — тоске и боли, как некогда писала такому же молодому Бахраху, не усомнившись, поймёт ли. Самое поразительное — молодость этих писем. Порой кажется, что писала их влюблённая молодая девушка, а не 45-летняя женщина. Любимый представляется ей чем-то всеобъемлющим: не просто сыном, а, так сказать, вселенским сиротой. Сирота — более точного слова адресату этих писем подобрать нельзя. Цветаева посвящает ему цикл стихов, котрый так и назвала: «Стихи сироте».
Обнимаю тебя кругозором
Гор, гранитной короною скал.
(Занимаю тебя разговором —
Чтобы легче дышал, крепче спал.)
…Кругом клумбы и кругом колодца,
Куда камень придет — седым!
Круговою порукой сиротства, —
Одиночеством — круглым моим!
Всей Савойей и всем Пиемонтом,
И — немножко хребет надломя —
Обнимаю тебя горизонтом
Голубым — и руками двумя!
Так же как в её стихотворении «Раковина», 13 лет назад обращённом к Бахраху, здесь звучит тот же мотив: защиты, убережения от зла и тягот жизни, спасения своего детища.
Могла бы — взяла бы в утробу пещеры:
В пещеру дракона, в трущобу пантеры.
В пантерины лапы --
-- Могла бы -- взяла бы.
Природы -- на лоно, природы -- на ложе.
Могла бы -- свою же пантерину кожу
Сняла бы... Сдала бы трущобе -- в учебу!
В кустову, в хвощeву, в ручьeву, в плющeву, --
Туда, где в дремоте, и в смуте, и в мраке,
Сплетаются ветви на вечные браки...
Туда, где в граните, и в лыке, и в млеке,
Сплетаются руки на вечные веки --
Как ветви -- и реки...
В пещеру без света, в трущобу без следу.
В листве бы, в плюще бы, в плюще -- как в плаще бы...
Ни белого света, ни черного хлеба:
В росе бы, в листве бы, в листве -- как в родстве бы...
Чтоб в дверь -- не стучалось,
В окно -- не кричалось,
Чтоб впредь -- не случалось,
Чтоб -- ввек не кончалось!
Как уберечь, спрятать от жестокого окружающего мира, где найти самое надёжное место? Ответ матери прост:
Но мало -- пещеры,
И мало -- трущобы!
Могла бы -- взяла бы
В пещеру -- утробы.
Могла бы --
Взяла бы.
Она уже так увлечена, что была бы уже там, в Швейцарии, где он, благо до границы всего 25 вёрст, но у неё нет с собой загранпаспорта и Мура не на кого оставить. И всё-таки она едет туда, движимая романтической мечтой ступить на землю, на которой пребывает он.
«Моя Женева» - так назвала она письмо от 3 сентября, где рассказала ему об этой однодневной автомобильной поездке: как в роскошном универмаге купила ему зелёную куртку, как желала сама стать этой курткой, чтобы согреть и уберечь. Как возвращалась лунной ночью обратно...

Вернувшись, Цветаева надписывает ему свою книгу «Ремесло»: «Анатолию Штейгеру — с любовью и болью».
Письма сменялись стихами — исступлёнными, не знающими меры.
В коросте -- желанный,
С погоста -- желанный:
Будь гостем! -- лишь зубы да кости — желанный...
И, наконец, шестое стихотворение — апофеоз, ликование, озарившее поэта счастье:
Наконец-то встретила
Надобного -- мне:
У кого-то смертная
Надоба -- во мне.
Что для ока -- радуга,
Злаку -- чернозем --
Человеку -- надоба
Человека -- в нем.
Мне дождя, и радуги,
И руки -- нужней
Человека надоба
Рук -- в руке моей.
Это -- шире Ладоги
И горы верней --
Человека надоба
Ран -- в руке моей.
И за то, что с язвою
Мне принес ладонь --
Эту руку -- сразу бы
За тебя в огонь!
Это было написано 11 сентября 1936 года. А через несколько дней всё рухнуло. 15 сентября Цветаева получает от Штейгера письмо, где он сообщал, что едет в Париж, и простодушно упоминал Г. Адамовича, с которым намеревался там общаться.

Георгий Адамович
Марина оскорблена. «Может быть, Вы — внутри больнее, чем я думала и верила, хотела думать и верить? - запоздало прозревает она в отношении ориентации Штейгера. - Ибо ждать от Адамовича откровения в третьем часу утра — кем же и чем же нужно быть?!»
Мать отреклась от сироты... «Мне поверилось, что я кому-то как хлеб нужна. А оказалось — не хлеб нужен, а пепельница с окурками, не я, а Адамович и компания. Горько. Глупо. Жалко».
Однако права ли она здесь? Ведь Штейгер ничего не скрывал от неё и раньше, он откровенно писал ей о себе как матери, сестре, старшему другу. Почему же она тогда не захотела его понять и услышать? Она не видит своего собеседника, не чувствует пульса своего возлюбленного. В своей исповеди он написал ей о своей "половинности", признавшись тем самым в гомосексуальности своего естества. Он был искренен с ней - потому что для него она была Поэт, провидец, гений. Он же был для неё, как и все другие, увы, "растопкой" для печи. Марина видела мир так, как она хотела и могла его видеть.
Ответное письмо Штейгера печально и честно: «... Я в первом же письме на 16-ти страницах постарался Вам сказать о себе все, ничем не приукрашиваясь, чтобы Вы сразу знали, с кем имеете дело, и чтобы Вас избавить от иллюзии и в будущем - от боли. Между тем моим письмом и последним нет никакой разницы. Но зато какая разница в Ваших ответах на эти письма! После первого Вы называете меня сыном, после последнего «оставляете меня в моём ничтожестве». В моих письмах Вы читаете лишь то, что хотели читать. Вы так сильны и богаты, что людей, которых встречаете, Вы пересоздаёте для себя по-своему, а когда их подлинное, настоящее всё же прорывается — Вы поражаетесь ничтожеству тех, на ком только что лежал Ваш отблеск — потому что больше он на них не лежит...
Меня Вы не полюбили, а по-русски "пожалели", за мои болезни, одиночество, - хотя я отбивался все время и уверял Вас, что мои немощи физические, - для меня второстепенное, что я жду от Вас помощи не от них, а от совсем другой и почти неизлечимой болезни. Потому что, когда мне нужен врач - я иду к врачу, когда мне нужны деньги - иду к моим швейцарцам, - к Вам же я шел, надеясь получить от Вас то, что ни врачи, ни швейцарцы мне дать не в состоянии...»
Цветаева отвечает Штейгеру письмом, которое заканчивалось словами: «Друг, я Вас любила как лирический поэт и как мать. И еще как я: объяснить невозможно. Даю Вам это чёрным по белому как вещественное доказательство, чтобы Вы в свой смертный час не могли бросить Богу: «Я пришёл в Твой мир и в нём меня никто не полюбил».

Да, лирическим поэтом она оставалась каждую минуту своей жизни.
В 1938 году выходит журнал "Современные записки", в котором Марина Цветаева печатает цикл стихотворений "Стихи сироте". Эпиграфом она взяла строки, которые мог понять только ОН:
Шел по улице малютка,
Посинел и весь дрожал.
Шла дорогой той старушка,
Пожалела сироту...
Анатолий Штейгер умрёт в тридцать семь лет в 1944 году - через три года после самоубийства Марины Цветаевой.
Тагер
«Всю жизнь напролет пролюбила не тех...» - с горечью скажет она о себе потом.
А что же Эфрон? Он снимается в массовках (в частности, в фильме «Страсти Жанны Д,Арк»), где, сколько ни вглядывайся даже в замедленные кадры — рассмотреть его невозможно. Сергей Яковлевич всё больше превращался в фигуру типичного неудачника. Все его начинания вспыхивали как зарницы и затухали. И почти всё, что он писал и печатал в журналах, служило, в сущности, одному дню.

Здоровье не позволяло ему устроиться ни на какой завод. «Это больной человек», - пишет Цветаева Анне Тесковой. Она отлично понимала, что Сергей ей предан как никто, что он её щадит, что по-рыцарски всё сносит, и если он не умел, не мог её освободить от нужды, от необходимости всё время думать о заработке, - то был, может быть, опорой в чём-то другом, не менее важном, очень нужном ей, как и она ему...
Что держало их друг подле друга? Дети? Чувство долга, которое было столь сильно развито в них обоих? Любовь? Привычка? Или такая одинокость в этом мире — её и его?

Из записных книжек Цветаевой: «Мне во всём, в каждом чувстве и человеке тесно, как во всякой комнате, будь то нора или дворец. Я не могу жить во днях, каждый день — всегда живу вне себя. Эта болезнь неизлечима и называется душа».
Этой болезнью она будет больна и после возвращения в Россию зимой 1939-го в Голицино, где уже после ареста Али и Сергея будет снимать комнату с Муром.

Голицино
Новый герой романа с душой — Евгений Тагер — писатель, литературовед, с которым Марина знакомится в Доме творчества. Казалось бы, только что арестован муж, дочь, но... душа ещё жива, она ещё способна очаровываться и воспринимать новые впечатления.

Цветаева среди литераторов в Голицино в Доме творчества
Тагер приезжает в Голицино в декабре. Он знает, что здесь Цветаева, он наслышан о ней от Пастернака, он увлекается её стихами, рад встрече с ней. Он первым подходит к ней в столовой и говорит ей какие-то взволнованные слова. Тагер молод, темноволос и темноглаз (к сожалению, фотографии не сохранилось), он интересен, интеллигентен, хорошо воспитан, прекрасно знает и любит поэзию. Он внимателен и предупредителен с Цветаевой. Они гуляют в голицинском саду, прокладывая тропки в сугробах. Он провожает её до дома. Они перекидываются шутливыми записочками за столом, встречают Новый год в голицинской столовой, обмениваются сувенирами. Он пишет ей шутливые стихи: «Замораживается стих и не оттаивает, когда рядом сидит Цветаева...»
Марине многого не надо, желаемое она принимает за сущее, фантазией дополняет то, чего нет в действительности — и вот она уже в полёте, она уже творит свой мир, где всё подчинено её законам!
Тагер женат, его жена занимается искусством, часто бывает в отъездах, и Марине никто и ничто не мешает общаться с ним. Новый вдохновитель, адресат, объект невостребованной нежности.
Евгению Тагеру посвящено чуть ли не самое нежное любовное стихотворение в русской лирике, осязательно нежное, как поглаживание меха или перебирание бусин:
Двух - жарче меха! Рук - жарче пуха!
Круг - вкруг головы.
Но и под мехом - неги, под пухом
Гаги - дрогнете вы!
Даже богиней тысячерукой
- В гнезд, в звезд черноте -
Как ни кружи вас, как ни баюкай
- Ах! - бодрствуете...
Вас и на ложе неверья гложет
Червь (бедные мы!).
Не народился еще, кто вложит
Перст - в рану Фомы.
Эльмира Галеева - Ворожба (М. Цветаева) http://mp3ll.net/track/4331555_109482745
Развела тебе в стакане
Горстку жженых волос.
Чтоб не елось, чтоб не пелось,
Не пилось, не спалось.
Чтобы младость -- не в радость,
Чтобы сахар -- не в сладость,
Чтоб не ладил в тьме ночной
С молодой женой.
Как власы мои златые
Стали серой золой,
Так года твои младые
Станут белой зимой.
Чтоб ослеп-оглох,
Чтоб иссох, как мох,
Чтоб ушел, как вздох.

22 января 1940 года Цветаева провожает Тагера на станцию. А 23-го рождаются стихи:
Ушел - не ем:
Пуст - хлеба вкус.
Всё - мел,
За чем ни потянусь.
...Мне хлебом был,
И снегом был.
И снег не бел,
И хлеб не мил.

И — тем же числом помечено стихотворение:
- Пора! для этого огня --
Стара!
- Любовь - старей меня!
- Пятидесяти январей
Гора!
- Любовь - еще старей:
Стара, как хвощ, стара, как змей,
Старей ливонских янтарей,
Всех привиденских кораблей
Старей! - камней, старей - морей...
Но боль, которая в груди,
Старей любви, старей любви.
«Стара»? Цветаевой не 50, а только 46 лет. История знает примеры самых бурных чувств и страстей в гораздо более позднем возрасте. Но жизнь Цветаевой — год за три. Она начала седеть. Однако тот же Тагер вспоминает удивительную прямизну стана, тонко обрисованные черты лица, стремительность походки и каждого движения. И — очаровательность ее речи, «покоряющей и неожиданными парадоксами, и неумолимой логикой».
Прощаясь с Тагером, Марина договаривается о свидании в Москве, даёт ему телефон Елизаветы Эфрон, по которому они должны будут условиться о дне встречи, и они уславливаются, и в записочке она пишет: они посидят где-нибудь в кафе, поговорят, ей очень хочется рассказать ему о себе. «Обязательно приходите. Очень прошу смочь».
Но он не смог. Или не захотел смочь. Или жена не захотела. У каждого своя жизнь, свои обстоятельства, свои соображения и дела. А ей так необходима была хотя бы иллюзия отношений...

«Господи! От кого и от чего в жизни мне не было больно, было НЕ больно?»
В письме писательнице Л. В. Веприцкой Цветаева жалуется на людское бездушие и... на Тагера: «Я всю жизнь любила таких как Тагер и всю жизнь была ими обижена — не привыкать стать... Влеченье, род недуга». И — в конце письма: «Есть здесь один, которого я сердечно люблю — Замошкин, немолодой уже, с чудным мальчишеским и измождённым лицом. Он — родной. Но он очень занят — и я уже обожглась на Тагере. Старая дура».

Годы твои — гора,
время твоё — царей.
Дура! Любить стара. -
Други! Любовь — старей.
Как-то она сказала Тагеру: «Для меня в жизни прежде всего — работа и семья, всё остальное — от избытка сил». Избыток сил ещё был...
Евгений Тагер, литературовед, доктор филологических наук, сотрудник Института мировой литературы АН СССР, скончался в 1984 году, похоронен на 274 уч. Хованского (Северного) кладбища рядом с женой, искусствоведом Еленой Ефимовной Тагер.
Тарковский
В той же чёрной октябрьской тетради Цветаевой вскоре появляется набросок письма к АрсениюТарковскому. Сначала заочно, а потом очно она начинает увлекаться этим молодым поэтом с тонким нервным лицом, со вздёрнутыми к вискам мефистофельскими бровями, красивым и талантливым.

Марине попадает в руки его книга переводов, которая её восхищает, и, не зная ещё адреса поэта-переводчика и не видя его никогда, она пишет ему письмо, с недомолвками и полунамёками, где договаривается с ним о встрече: «Скоро я Вас позову в гости вечерком послушать стихи (мои) из будущей книги. Поэтому дайте мне Ваш адрес, чтобы приглашение не блуждало или не лежало, как это письмо. Я бы очень просила Вас этого моего письмеца никому не показывать. Всякая рукопись — беззащитна. Я вся — рукопись. МЦ.».
И снова начинается волшебная игра, и Марина ткёт уже серебряную паутину, которая, как эолова арфа на ветру, будет звучать музыкой стихов.
Встретилась она с Тарковским у переводчицы Нины Бернер-Яковлевой в Телеграфном переулке, которая вспоминала: «Они познакомились у меня в доме. Мне хорошо запомнился этот день. Я зачем-то вышла из комнаты. Когда я вернулась, они сидели рядом на диване. По их взволнованным лицам я поняла: так было у Дункан с Есениным. Встретились, взметнулись, метнулись. Поэт к поэту... В народе говорят: любовь с первого взгляда...»
Яковлева была сентиментальна и идеализировала их отношения. Тарковский был на 15 лет моложе Цветаевой и был увлечён ею как поэтом, не более того. Он пишет прекрасные собственные стихи, но до выхода первой его книги еще годы, поэтому на жизнь приходится зарабатывать переводами.

Они звонили друг другу, встречались, гуляли по любимым местам Цветаевой - Волхонке, Арбату, Трехпрудному... Однажды встретились в очереди в гослитовской кассе. Те, кто видел их вместе, замечали, как преображалась Цветаева в обществе Тарковского, буквально светилась, завидев его.

Яковлева писала в своих воспоминаниях, что жена Тарковского ревновала, и что он обидел Марину, не поздоровался с ней, встретив на книжном базаре в Доме литераторов, куда пришёл «не один». Но всё это было не столь важно. Главное в том, что Тарковский, сам того не ведая, вызвал к жизни стихотворение Цветаевой, оказавшееся в её жизни последним...
Однажды в её присутствии Арсений Тарковский прочел свое стихотворение, обращенное к дорогим ушедшим людям - отцу, брату, любимой женщине Марии Густавовне Фальц (стихи написаны за несколько дней до годовщины ее смерти).
Стол накрыт на шестерых,
Розы да хрусталь,
А среди гостей моих
Горе да печаль.
И со мною мой отец,
И со мною брат.
Час проходит. Наконец
У дверей стучат.
Как двенадцать лет назад,
Холодна рука
И немодные шумят
Синие шелка.
И вино звенит из тьмы,
И поет стекло:
"Как тебя любили мы,
Сколько лет прошло!"
Улыбнется мне отец,
Брат нальет вина,
Даст мне руку без колец,
Скажет мне она:
- Каблучки мои в пыли,
Выцвела коса,
И поют из-под земли
Наши голоса.
Марина вычитала в этих стихах своё, наболевшее. Она не поняла - или не захотела понять, - что на ужин к Тарковскому приходит его умершая возлюбленная. Может быть, зная это, она не написала бы ему эти ответные стихи, которые звучат не только как укор, но и как надежда на поворот к лучшему в их отношениях. Пока же ее на ужин не позвали.
Все повторяю первый стих
И все переправляю слово:
"Я стол накрыл на шестерых"...
Ты одного забыл - седьмого.
Невесело вам вшестером.
На лицах - дождевые струи...
Как мог ты за таким столом
Седьмого позабыть - седьмую...
Невесело твоим гостям,
Бездействует графин хрустальный.
Печально - им, печален - сам,
Непозванная - всех печальней.
Невесело и несветло.
Ах! не едите и не пьете.
- Как мог ты позабыть число?
Как мог ты ошибиться в счете?
Как мог, как смел ты не понять,
Что шестеро (два брата, третий -
Ты сам - с женой, отец и мать)
Есть семеро - раз я на свете!
Ты стол накрыл на шестерых,
Но шестерыми мир не вымер.
Чем пугалом среди живых -
Быть призраком хочу - с твоими,
(Своими)... Робкая как вор,
О - ни души не задевая! -
За непоставленный прибор
Сажусь незваная, седьмая.
Раз! - опрокинула стакан!
И все, что жаждало пролиться, -
Вся соль из глаз, вся кровь из ран -
Со скатерти - на половицы.
И - гроба нет! Разлуки - нет!
Стол расколдован, дом разбужен.
Как смерть - на свадебный обед,
Я - жизнь, пришедшая на ужин.
...Никто: не брат, не сын, не муж,
Не друг - и все же укоряю:
- Ты, стол накрывший на шесть душ,
Меня не посадивший с краю.
6 марта 1941 г.
Точное и очень страшное предчувствие своей судьбы. До гибели оставалось менее полугода...

Одна из последних фотографий Цветаевой. Ей 48. Впрочем, она — вне возраста, как и вне молодости — давно. Если прежде, во Франции, благодаря загару и иному образу жизни, она так или иначе сохраняла некий спортивный внешний облик, над которым в своё время «поработала», то теперь это облик разрушался. Серое лицо в мелких морщинах, сделавшееся каким-то совсем простым от неудачной — ещё французской — завивки седых волос. Выражение лица, да и вся фигура, включая небрежность одежды, выражали полную беззащитность от жизни, неспособность скрыть удары судьбы. Ничего от образа «дамы», столь характерного для Ахматовой, даже в самые жуткие и нищие годы...
Эпилог

Существует несколько версий причин самоубийства Марины Цветаевой. Версия сестры Анастасии — что ушла по вине сына, невольно спровоцировавшего этот финал, ушла, облегчая участь Мура, думая, что ему скорее помогут, когда её не будет. Версия, связанная с преследованием КГБ, которую высказывают Ирма Кудрова и Кирилл Хенкин. Истинной же мне представляется та, что высказана Марией Белкиной («Скрещение судеб») и Анной Саакянц. Она в том, что к уходу из жизни Цветаева давно была внутренне готова, о чём свидетельствует множество её стихов, писем, дневниковых записей. Исход был предначертан и предопределён, самоубийство не зависело от конкретных обстоятельств жизни. Ещё в 1923 году в письме к А. Бахраху она пишет:
«Воздух, которым я дышу — воздух трагедии... У меня сейчас определённое чувство кануна — или конца...» И дальше: «Хватит ли у Вас силы долюбить меня до конца, то есть в час, когда я скажу: «Мне надо умереть». Ведь я не для жизни. У меня всё — пожар! Я могу вести десять отношений сразу и каждого, из глубочайшей глубины, уверять, что он — единственный. А малейшего поворота головы от себя — не терплю. Мне БОЛЬНО, понимаете? Я ободранный человек, а вы все в броне. У всех вас: искусство, общественность, дружбы, развлечения, семья, долг, у меня, на глубину, НИ-ЧЕ-ГО. Все спадает как кожа, а под кожей — живое мясо или огонь: я: Психея. Я ни в одну форму не умещаюсь — даже в наипросторнейшую своих стихов! Не могу жить. Все не как у людей. Что мне делать — с этим?! — в жизни».

Что же мне делать, слепцу и пасынку,
В мире, где каждый и отч и зряч,
Где по анафемам, как по насыпям —
Страсти! где насморком назван — плач!
Что же мне делать, ребром и промыслом
Певчей! — как провод! загар! Сибирь!
По наважденьям своим — как по мосту!
С их невесомостью в мире гирь.
Что же мне делать, певцу и первенцу,
В мире, где наичернейший — сер!
Где вдохновенье хранят, как в термосе!
С этой безмерностью в мире мер?!
Когда-то, ещё в Москве 1920-го, Цветаева написала полушутливые стихи:
И если сердце, разрываясь,
без лекаря снимает швы,
знай, что от сердца — голова есть,
и есть топор — от головы...
Она шла к этому уже давно. В день своего 17-летия 26 сентября 1909 года пишет «Молитву» - свой первый литературный манифест, в котором просит Бога: «Ты дал мне детство — лучше сказки, и дай мне смерть — в семнадцать лет!»
В марте 1917-го, в день смерти покончившего с собой актёра и педагога М. Стаховича, чью судьбу она как бы примеряла на себя, в записной книжке Цветаевой появляются страшные слова: «Я, конечно, кончу самоубийством, ибо всё моё желание любви — это желание смерти». Сергей Эфрон пишет Волошину в сентябре 1923 года: «Марина рвётся к смерти. Земля давно ушла из-под её ног».
Не хочу ни любви, ни почестей.
- Опьянительны. - Не падка!
Даже яблочка мне не хочется
Соблазнительного - с лотка...
Что-то цепью за мной волочится,
Скоро громом начнет греметь.
Как мне хочется,
Как мне хочется -
Потихонечку умереть!

В письме к Пастернаку она как-то обронила загадочные слова: «Жизнь — вокзал. Скоро уеду. Куда — не скажу». (Жизнь сравнивается с вокзалом, где «раскладываться не стоит». «Гляжу и вижу одно — конец. Раскаиваться не стоит»). Пастернак, видимо, по письмам ощущая цветаевскую зыбкость «в мире сём», посылает ей стихи, в которых заклинает удержаться на земле:

Послушай, стихи с того света
Им будем читать только мы, -
пророчит он, и именно поэтому уходить поэту нельзя. Кто заменит его здесь? Кто за него напишет его стихи?
Но только не лезь на котурны,
Ни на паровую трубу,
Исход ли из гущи мишурной?
Ты их не напишешь в гробу.
Ты все еще край непочатый,
А смерть это твой псевдоним.
Сдаваться нельзя. Не печатай
И не издавайся под ним.
А в 1924-м она напишет горделивые строки:
Не возьмешь мою душу живу!
Так, на полном скаку погонь —
Приближающийся — и жилу
Перекусывающий конь -
аравийский.
Смерть — как протест против зла, насилия, людской подлости и бездушия. Это станет её жизненным кредо. «Я и жизнь маню, я и смерть маню...» Эта роковая тема пронизывает всё цветаевское творчество — тема отказа, отречения, отрешения от пут и тисков земного существования: «Пора, пора, пора Творцу вернуть билет... На Твой безумный мир ответ один — отказ».

Она знала, что сделает это. Знала, что уйдёт. В 1927 году (в 35 лет) пишет поэму «Воздух», в которой словно репетирует свою смерть. Подробнее о ней и о последних минутах жизни — здесь.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/146802.html
|
|
Процитировано 20 раз
Понравилось: 5 пользователям
Марина Цветаева и её адресаты. Продолжение. |
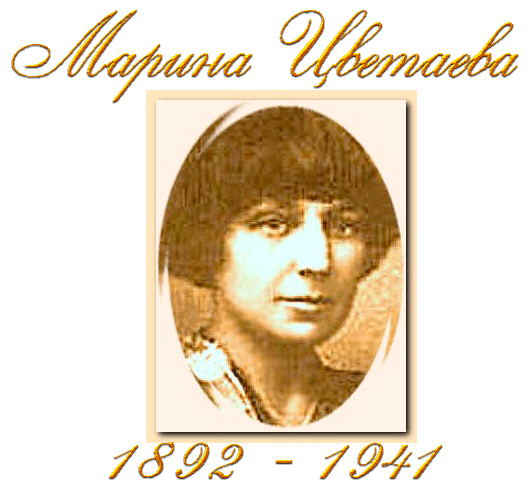
Начало здесь
Поскольку нельзя объять необъятного, какие-то адресаты Марины неизбежно останутся за рамками поста. Назову их хотя бы вкратце.
Это Маврикий Минц, муж сестры Цветаевой, Анастасии, которому адресовано знаменитое «Мне нравится, что Вы больны не мной...», ставшее широко известным благодаря фильму "Ирония судьбы".
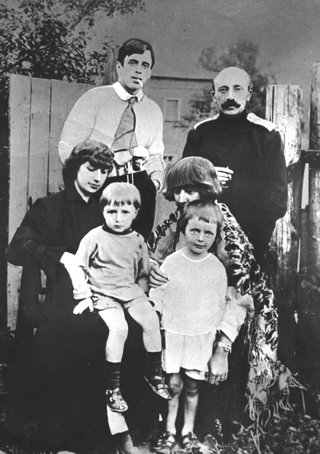
Маврикий Минц вверху справа
Это Эллис (Лев Кобылинский) - поэт, переводчик, теоретик символизма, христианский философ и историк литературы, который больше известен сегодня как учитель и первый литературный вдохновитель сестер Цветаевых.

Марина прозвала его Чародеем.
Полу во сне и полу-бдея,
По мокрым улицам домой
Мы провожали Чародея.
В апогее их дружбы втроем Эллис неожиданно сделал семнадцатилетней Марине предложение — отзвук этого слышен в ее стихотворении «Ошибка».
Оставь полет снежинкам с мотыльками
И не губи медузу на песках!
Нельзя мечту свою хватать руками,
Нельзя мечту свою держать в руках!
Нельзя тому, что было грустью зыбкой,
Сказать: "Будь страсть! Горя безумствуй, рдей!"
Твоя любовь была такой ошибкой, -
Но без любви мы гибнем, Чародей!

«Чародей» получил отказ: «Слово «жених» тогда ощущалось неприличным, а «муж» (и слово и вещь) просто невозможным».
Раздел «Любовь» первой книги Цветаевой «Вечерний альбом» посвящён другому другу юности — Владимиру Нилендеру. С ним была связана её первая попытка самоубийства в 16 лет, когда, по словам Аси, она решила застрелиться, но вроде бы револьвер дал осечку.
Нилендер был очень увлечен Мариной, но роман не состоялся. В сущности, вся книга была письмом к Нилендеру, с которым она решила не встречаться.
По тебе тоскует наша зала, -
ты в тени видал ее едва –
По тебе тоскуют те слова,
Что в тени тебе я не сказала…
***
Не любила, но плакала. Нет, не любила, но всё же
Лишь тебе указала в тени обожаемый лик.
Было всё в нашем сне на любовь не похоже:
Ни причин, ни улик.
Только нам этот образ кивнул из вечернего зала,
Только мы — ты и я — принесли ему жалобный стих.
Обожания нить нас сильнее связала,
Чем влюблённость — других.
Но порыв миновал, и приблизился ласково кто-то,
Кто молиться не мог, но любил. Осуждать не спеши!
Ты мне памятен будешь, как самая нежная нота
В пробужденьи души.
В этой грустной душе ты бродил, как в незапертом доме...
(В нашем доме, весною...) Забывшей меня не зови!
Все минуты свои я тобою наполнила, кроме
Самой грустной — любви.
(«Кроме любви»)
Среди малоизвестных адресатов Цветаевой и тамбовский поэт Тихон Чурилин, о котором Марина писала: «Мой выкормыш, лебедёнок, хорошо ли тебе лететь?», «пойду и встану в церкви и помолюсь угодникам о лебеде молоденьком» (если Мандельштам в её стихах был «орлёнок», то Чурилин, с которым она встречалась в то же самое время, - «лебедёнок»).

Тихон Чурилин
Один из немногих, Тихон Чурилин будет отвергнут самой Цветаевой (обычно бывало наоборот), и, уязвлённый этим, увековечит её в своей фантастической повести «Конец Кикапу», где в облике Марины предстаёт его коварная мартовская любовь («лже-мать», «лже-дева», «лже-дитя», «морская жжженщщина жжосткая», что «лик свой неизменно розовый держит открыто»).

В 1919 году Цветаева переживёт огромный творческий подъём, вызванный новой встречей с 24-летним поэтом Евгением Ланном, внешне напоминавшим конненковскую скульптуру Паганини: порыв, демонизм и страсть во всём облике.

Евгений Ланн
Тонкий орлиный нос, разлёт чёрных как смоль волос в обе стороны, подобно крыльям. Он был высок, худ, с оригинальным и изысканным некрасивым лицом. Жёсткие глаза и мягкий, «вползающий в душу» голос. «Мучительный и восхитительный человек!» Цветаева пишет Ланну три стихотворения, где представляет его образ — недоступный чувствам, одетый в нежную, но непробиваемую броню бархатной куртки - «он».
Я знаю эту бархатную бренность
- верней брони! - вдоль зябких плеч сутулых,
я знаю эти впадины: две складки
вдоль бархата груди,
к которой не прижмусь - хотя так нежно
щеке -- к которой не прижмусь я, ибо
такая в этом грусть: щека и бархат,
а не -- душа и грудь!
И «она»: Душа, распахнувшая было ему руки, но застывшая в этом движении, поняв, что она ему не нужна.
Не называй меня никому:
я серафим твой, - радость на время!
Ты поцелуй меня нежно в темя
и отпусти во тьму.
И обещаю: не будет биться
в окна твои — золотая птица!
«Вы мне чужой, - пишет она. - Вы громоздите камни в небо, а я — из танцующих душ».
Им вдохновлены её поэма "На красном коне", стихи "Разговор с гением".
Немой соглядатай
живых бурь -
лежу и слежу — тени.
Доколе меня не умчит в лазурь
на красном коне — мой гений!
Гений поэтического вдохновения, мужское воплощение Музы. Единственное божество, которому подвластен поэт, высоты, на которых обитает гений поэзии — это не рай, не царство небесное. Это — небо поэта, которое Цветаева много позже так и назовёт в статье «Искусство при свете совести»: «третье царство, первое от земли небо, вторая земля».
А в 1921 году в жизни Марины появится 18-летний русский добрый молодец с румянцем во всю щёку, настоящий богатырь Илья Муромец, - красноармеец Борис Бессарабов, который вдохновит её на поэму «Царь-девица», стихотворение «Большевик»:
От Ильменя - до вод Каспийских
Плеча рванулись в ширь.
Бьет по щекам твоим - российский
Румянец-богатырь.
Дремучие - по всей по крепкой
Башке - встают леса.
А руки - лес разносят в щепки,
Лишь за топор взялся!
Два зарева: глаза и щеки.
- Эх, уж и кровь добра! -
Глядите-кось, как руки в боки,
Встал посреди двора!
Весь мир бы разгромил - да проймы
Жмут - не дают дыхнуть!
Широкой доброте разбойной
Смеясь - вверяю грудь!
И земли чуждые пытая,
- Ну, какова мол новь? -
Смеюсь, - все ты же, Русь святая.
Малиновая кровь!
Он же станет прототипом поэмы «Егорушка», который перекликается с образом Егора Храброго, народного Георгия Победоносца. Характером Егорушка напоминает Ивана-дурака, с какими-то чертами былинных богатырей:
Где меж парней нынешних
столп — возьму — опорушку?
Эх, каб мне, Маринушке,
да тебя, Егорушку!
За тобой, без посвисту -
вскачь — в снега сибирские!
И пошли бы по свету
парни богатырские!
(Правда, позже, разочаровавшись, скажет о прототипе, что это «просто зазнавшийся дворник»). Поэма эта была незакончена, Цветаева написала только три главы и остыла к ней.
Австрийский поэт Райнер Мария Рильке — адресат Марины, занимавший в её жизни и творчестве слишком большое место, что требует отдельного разговора.

О нём я писала здесь.
Эфрон и Родзевич

Сергей Эфрон не мог не знать о романе с Константином Родзевичем. Вся Прага знала, обсуждала, судила. Это был для него страшный, может быть, непоправимый удар. Родзевич говорил, что «Сергей предоставлял ей свободу, самоустранялся». В реальности всё обстояло сложнее и безысходнее.
Конечно, он с первого дня знал, что его Марина — не как все, что она не может и не будет «как все», он принимал её и любил такой, какой она была. В 1914 году Эфрон пережил её любовь к брату Петру, её отношения с Софией Парнок, он отстранился в 22-ом в Берлине, застав её увлечённой Вишняком. Он пытался приспособиться к ней, может быть, отчасти и сострадал ей. Но то, что происходило на этот раз — превосходило его душевные силы.
Сергей страдал и от ущемлённой мужской гордости, и от невозможности помочь ей, вывести её и себя из заколдованного круга. Им овладело отчаянье, поделиться которым можно лишь с самым близким другом.
Эфрон пишет письмо Максу Волошину. Это письмо-исповедь — редчайшая возможность проникнуть в мысли и чувства мужа Цветаевой.
«Марина — человек страстей. Отдаваться с головой своему урагану для нее стало необходимостью, воздухом ее жизни. Все строится на самообмане. Человек выдумывается, и ураган начался. Сегодня - отчаяние, завтра - восторг, любовь, отдавание себя с головой, и через день снова отчаяние. И все это при зорком холодном, пожалуй, вольтеровски циничном уме. Вчерашний возбудитель - сегодня остроумно и зло высмеивается, почти всегда справедливо. Все заносится в книгу, все спокойно, математически отливается в формулу. Громадная печь, для которой необходимы дрова. Я на растопку не гожусь уже давно. Последний этап для нее и для меня - самый тяжелый - встреча с моим другом, человеком ей совершенно далеким, который долго ею был встречаем с насмешками. Мой недельный отъезд стал внешней причиной для начала нового урагана...

Родзевич внизу справа
Дорогой Макс! Жизнь моя сплошная пытка. Не знаю, на что решиться. Каждый последующий день хуже предыдущего. Тягостное одиночество вдвоем. Марина сделалась такой неотъемлемой частью меня, что и сейчас, стараясь над разъединением наших путей, я испытываю чувство такой опустошенности, такой внутренней изодраности, что пытаюсь жить с зажмуренными глазами. Но нужно было каким-то образом покончить с совместной нелепой жизнью, напитанной ложью, неумелой конспирацией и прочими ядами. Я так и порешил. Сделал бы это раньше, но все боялся, что факты мною преувеличены, что Марина мне лгать не может...»

«Узнал я об этом случайно», - признавался Сергей. Большинство их знакомых уже были в курсе, что Цветаева встречается с Родзевичем в пражских отелях и кафе. Тогда впервые в жизни Сергей проявил твёрдость. И сказал Марине, что они должны разъехаться.

Из письма к М. Волошину: «Две недели Марина была в безумии. Рвалась от одного к другому. Бегала к гадалке, не спала ночей, похудела, даже как-то почернела лицом. Никогда она не была в таком отчаянии... (На это время она переехала к знакомым). И наконец объявила мне, что уйти от меня не может, ибо сознание, что я где-то нахожусь в одиночестве, не даст ей ни минуты не только счастья, но просто покоя. (Увы, — я знал, что это так и будет). Быть твердым здесь — я мог бы, если бы Марина попадала к человеку, которому я верил. Я же знал, что другой (маленький Казанова) через неделю Марину бросит, а при Маринином состоянии это было бы равносильно смерти.

Марина рвется к смерти. Земля давно ушла из-под ее ног... Сейчас живет стихами к нему. По отношению ко мне слепость абсолютная. Невозможность подойти, очень часто раздражение, почти злоба. Я одновременно и спасательный круг, и жернов на шее. Освободить ее от жернова нельзя, не вырвав последней соломинки, за которую она держится... Последнее время мне почему-то чудится скорое возвращение в Россию. Может быть, потому что раненный зверь заползает в свою берлогу».
Через много лет, в конце жизни Цветаева скажет, что любовь к Константину Родзевичу была самой главной в ее жизни.
Ты, меня любивший фальшью
Истины - и правдой лжи,
Ты, меня любивший - дальше
Некуда! - За рубежи!
Ты, меня любивший дольше
Времени. - Десницы взмах! -
Ты меня не любишь больше:
Истина в пяти словах.

В 70-е годы состоялся разговор Родзевича с Верой Трайл, хорошо знавшей всех участников той драмы. Она спросила: «Почему вы расстались? Ведь Марина любила тебя». Он ответил:
- Любила? Не знаю. Она меня выдумала. Быть таким героем, каким она меня придумала, я не мог. Кроме того, главное, - Серёжа был мой друг, я его предал, и потом мне стало стыдно.
В январе 1925 года Родзевич уехал из Праги. А 1 февраля у Цветаевой родился сын — Георгий. Долгожданный. С первой минуты обожаемый (в семье его стали называть Мур). Кто был его отцом? Мнения как современников, так и исследователей расходятся. Послушаем Константина Родзевича: «К рождению Мура я отнесся плохо. Я не хотел брать никакой ответственности. Да и было сильное желание не вмешиваться. Думайте, что хотите. Мур — мой сын или не мой, мне все равно. Эта неопределенность меня устраивала… Я тогда принял наиболее легкое решение: Мур — сын Сергея Яковлевича. Я думаю, что со стороны Марины оставлять эту неясность было ошибкой… Сын мой Мур или нет, я не могу сказать, потому что я сам не знаю».
А вот свидетельство близкой подруги Цветаевой А.З. Туржанской: "Марина Ивановна при ней сказала: «Говорят, что это сын КБ. Но этого не может быть. Я по датам рассчитала, что это неверно".
"Марина Ивановна действительно была уверена, что Мур — сын ее мужа. После родов она писала Пастернаку: «…не ревнуй, потому что это не дитя услады». Но в математике есть такое понятие — «малая разность». Если в цепочке вычислений вычитание производится между очень близкими величинами, конечный результат получается неверным. Расчеты могли и подвести. Тем более что фотография юного Родзевича очень похожа на фотографию Мура в том же возрасте. Но природа иногда откалывает шутки. Во всяком случае, кто бы ни был биологическим отцом Мура, Сергей Яковлевич принял его как своего сына".(Л. Поликовская)

А что же Эфрон?
«О Серёже думаю всечасно. Любила многих, никого не любила», - записывает Марина в своём дневнике.
«Была ли я хоть раз в жизни равнодушна к одному, потому что любила другого? По чистой совести — нет. Бывали бесстрастные поры, но не потому что так уж нравился один, другие мало нравились. Не люби я никого, они бы мне все равно не нравились. Одна звезда для меня не затмевает другой — других — всех! — Да это и правильно. — Зачем тогда Богу было бы создавать их — полное небо!»
Эти записи многое проясняют в отношении Цветаевой к мужу.

Параллельно с циклом Н.Н.Н. (Николаю Вышеславцеву) пишутся и стихи, посвященные Сергею Эфрону и обращенные к нему. «Всякая моя любовь, кроме Сережи, обязательно кончается», — об этом и о неиссякаемой любви к мужу стихотворение от 18 мая 1920 года — в самый разгар увлечения Вышеславцевым.
Писала я на аспидной доске,
И на листочках вееров поблеклых,
И на речном, и на морском песке,
Коньками по льду и кольцом на стеклах, —
И на стволах, которым сотни зим,
И, наконец — чтоб было всем известно! —
Что ты любим! любим! любим! — любим! —
Расписывалась — радугой небесной.
Как я хотела, чтобы каждый цвел
В веках со мной! Под пальцами моими!
И как потом, склонивши лоб на стол,
Крест-накрест перечеркивала имя.
Но ты, в руке продажного писца
Зажатое! Ты, что мне сердце жалишь!
Непроданное мной! Внутри кольца!
Ты — уцелеешь на скрижалях.
Жизнь Сергея Эфрона сгорела на том огне, из которого рождалась поэзия Марины Цветаевой и из которого она сама каждый раз возрождалась, как птица Феникс. В этом отличие обычного человека от поэта. Хотя Эфрон был не совсем обычным человеком, он был человеком обострённой восприимчивости, чувства долга и совести, он не мог, как Родзевич, отряхнуться от пепла и отойти, хотя имел на это полное право. Даже это отчаянное письмо буквально кричит о его любви к жене. Но эта история его сломала.

«Изо всех сил стремлюсь выкарабкаться. Но как и куда?» Ему стало ясно, что «разрушительная сила» Цветаевой уничтожает его личность, что необходима иная точка опоры в жизни, независимая от семейных отношений, иная возможность приложения своих сил. Не тогда ли родилась у Эфрона идея возвращения на родину? Возможно, крах безусловной веры в жену заставил его обратиться к тому, что он считал абсолютно незыблемым — к России. Этот путь привёл его в евразийство и оттуда — к гибели.

Это кадр из фильма 1927 года, где С. Эфрон снимался в роли заключённого, которого ведут на расстрел. Через 14 лет он сыграет эту роль в жизни.
Им обоим уже было не вырваться из рокового круга взаимопритяжения и взаимоотталкивания. Он почти всегда отсутствует: война, бегство за границу, потом занятия в пражском университете, приезжает в деревню к ночи, измученный, потом экзамены, болезни, вспышки туберкулёза, санатории, поездки в Бельгию, ещё куда-то. Он в доме — гость.
Но и она в доме тоже гость — душою. Она всегда увлечена, в полёте, в стихах... Она готовит, штопает, стирает, ждёт, пишет, выбивает деньги из редакций, пытается свести концы с концами. Мечется, пытается найти себя, но не может, не умеет обеспечить семье достаток.
Он с головой ушёл в политику, она — в поэзию, две разные державы, два разных подданства... и всё же — вместе. «Союз одиночеств» - так сказала Аля о своей семье. Но каждый из них понимал, что необходим другому. В чём-то главном необходим.
Сверхбессмысленнейшее слово:
Расстаемся. — Одна из ста?
Просто слово в четыре слога,
За которыми пустота.
Стой! По-сербски и по-кроатски,
верно, Чехия в нас чудит?
Рас-ставание. Расставаться...
Сверхъестественнейшая дичь!
В «Поэме конца» этот рвущийся из глубины души монолог обращён к её герою — Родзевичу. В действительности, Цветаева могла бы так сказать только о муже:
Расставаться — ведь это врозь,
мы же — сросшиеся...
Она приносит ему покаяние — на жизнь вперёд:
Самозванцами, псами хищными
я дотла расхищена.
У палат твоих, царь истинный,
стою нищая!

А Константин Родзевич дожил до глубокой старости.

Вспоминая о прошлом, он признавался, что Цветаева была главной зарницей его жизни. По памяти он создан несколько портретов Марины, в которых, по его словам, было «не столько строго портретных черт, сколько чисто субъективных отображений». Его Цветаева утверждает, принимает жизнь, а не отвергает её.


Она грустит, она едва заметно улыбается, словом, живёт, именно на это обращает внимание Ариадна Эфрон, очень высоко ценившая работы Родзевича. Свои рисунки он переслал в московский архив Цветаевой после встречи в 1967 году с Ариадной в Москве и в Тарусе. Аля говорила, что «он плакал, вспоминая маму».
Умер Родзевич на 93-м году жизни весной 1988-го в доме для престарелых под Парижем.
Пастернак

А у Марины — новая заочная заоблачная любовь. Это Борис Пастернак. Она называла его своим «мечтанным вершинным братом в пятом времени года, шестом чувстве и четвёртом измерении». А началось всё с того, что в июне 1922 года Пастернаку случайно попала в руки книга Марины Цветаевой «Вёрсты», которая его потрясла.

Он пишет ей в Берлин восторженное и покаянное письмо, сокрушаясь, что проглядел её талант прежде. И посылает свою книгу «Сестра моя, жизнь...». Так началась горячая эпистолярная дружба-любовь между двумя великими поэтами. Цветаева пишет восхищённый отклик на книгу Пастернака — статью «Световой ливень», с которым сравнивала его поэзию.

В 1926 году между ними завязывается переписка, которая далеко завела их отношения. Это целая эпоха в русской эпистолярной прозе.
Многие цветаевские стихи были вдохновлены перепиской с Пастернаком, такие, как «Поэт издалека заводит речь...», «Есть в мире лишние, добавочные...», «Что же мне делать, слепцу и пасынку», а некоторые прямо обращены к нему: «В час, когда мой милый брат...», «Брожу — не дом же плотничать...», «Занавес», «Сахара».
Пастернак пишет за границу Цветаевой: «Я тебе написал сегодня пять писем. Не разрушай меня, я хочу жить с тобой долго, долго жить...»

Марина была влюблена в Пастернака, он единственный, кто соответствовал масштабу её личности, градусу её чувств и страстей.
В мире, где всяк
Сгорблен и взмылен,
Знаю -- один
Мне равносилен.
В мире, где столь
Многого хощем,
Знаю -- один
Мне равномощен.
В мире, где всe --
Плесень и плющ,
Знаю: один
Ты -- равносущ
Мне.

Возлюбленный Цветаевой идеален, совершенен, не сравним ни с кем в этой жизни.
По набережным -- клятв озноб,
По загородам -- рифм обвал.
Сжимают ли -- "я б жарче сгреб",
Внимают ли -- "я б чище внял".
Все ты один, во всех местах,
Во всех мастях, на всех мостах..
.

В письме подруге Черновой-Колбасиной Цветаева пишет: «Мне нужен Пастернак — Борис — на несколько вечерних вечеров — и на всю вечность. Если меня это минует — то жизнь и призвание — всё впустую». Но в этом же письме отрезвлённо сознаёт: «Наверное, минует. Жить бы я с ним всё равно не сумела, потому что слишком люблю».

Из письма Цветаевой Пастернаку:
«Борис, сделаем чудо. Когда я думаю о своём смертном часе, я всегда думаю: кого? Чью руку? И только — твою! Я не хочу ни священников, ни поэтов, я хочу только того, кто только для меня одной знает слова, из-за меня, через меня их узнал, нашёл. Я хочу твоего слова, Борис, на ту жизнь. Наши жизни похожи, я тоже люблю тех, с кем живу, но это — доля. Ты же — воля моя, та, пушкинская, взамен счастья. О своих не говорю, другая любовь с болью и заботой, часто заглушённая и искажённая бытом, я говорю о любви на воле, под небом, о вольной любви, тайной любви, не значащейся в паспортах, о чуде чужого. О там, ставшем здесь...»
В 2000 году в издательстве «Вагриус» вышла книга «Переписка М. Цветаевой с Б.Пастернаком», куда вошли неопубликованные ранее письма, закрытые Ариадной Эфрон до 2000-го года. Читать их и сладко, и больно. Это язык небожителей, разговор душ, речь, переведённая в высший регистр, взявшая с первых же слов самые высокие ноты.
Из письма Цветаевой Пастернаку от 14 февраля 1925 года: «Борис! 1 февраля, в воскресенье, в полдень, родился мой сын Георг.

Мур
Борисом он был 9 месяцев в моём чреве и 10 дней на свете, но желание Сергея (не требование) было назвать его Георгием — и я уступила. И после этого — облегчение. Знаете, какое чувство во мне сработало? Смута, некая неловкость: Вас, Любовь, вводить в семью, приручать дикого зверя — любовь, обезоруживать барса...»
Трудно даже вообразить себе, сколько же надо было Сергею Яковлевичу понять и простить...
Из письма Цветаевой Р. Н. Ломоносовой: «С Борисом у нас вот уже 8 лет тайный уговор: дожить друг для друга. Я, зная себя, наверное, от своих к Борису бы не ушла, но если б ушла — то только к нему».
Она знает, что им не суждено быть вместе. И хотя в письмах она продолжает надеяться на встречу, сама лирика как бы возражает этим несбывшимся надеждам, пророчески суля «невстречу в мире сём».
Русской ржи от меня поклон,
Полю, где баба застится...
Друг! Дожди за моим окном,
Беды и блажи на сердце...
Ты в погудке дождей и бед —
То ж, что Гомер в гекзаметре.
Дай мне руку — на весь тот свет!
Здесь мои — обе заняты.
Заняты они были и у него.

Пастернак тоже сознавал их несовместимость (при всей «равновеликости», а, может быть, именно в силу её) и в ответ на шутливый совет жениться на Цветаевой с содроганием говорил: “Не дай Бог. Марина – это же концентрат женских истерик”. И это при всём их запредельном понимании душевных глубин друг друга, многолетней переписке на самой высокой ноте... И когда Пастернак несколько лукаво спрашивает у неё в письме, когда ему к ней приехать, сейчас или через год (когда любят – не спрашивают!), Цветаева великодушно отпускает его. (Знает – всё равно бы не приехал).
Переписка с Цветаевой, накал их эпистолярного романа вызывает ревность жены Пастернака, осложняет отношения в семье.

Из письма Пастернака Цветаевой: “Не старайся понять. Я не могу писать тебе, и ты мне не пиши... Успокойся, моя безмерно любимая, я тебя люблю совершенно безумно... Я тебе не могу рассказать, зачем так и почему. Но так надо”.
Из письма Цветаевой Пастернаку:
«Последний месяц этой осени я неустанно провела с Вами, не расставаясь... Я одно время часто ездила в Прагу, и вот, ожидание поезда на нашей крохотной сырой станции. Я приходила рано, в сумерки, до фонарей. Ходила взад и вперед по темной платформе — далеко!

И было одно место — фонарный столб — без света, сюда я вызывала Вас. — “Пастернак!” И долгие беседы бок о бок — бродячие.
Тогда, осенью, я совсем не смущалась, что все это без Вашего ведома и соизволения.
“На вокзал” и “к Пастернаку” было тождественно. Я не на вокзал шла, а к Вам. И поймите: никогда, нигде, вне этой асфальтовой версты. Уходя со станции, верней: садясь в поезд — я просто расставалась: здраво и трезво. Вас я с собой в жизнь не брала.
И всегда, всегда, всегда, Пастернак, на всех вокзалах моей жизни, у всех фонарных столбов моих судеб, вдоль всех асфальтов, под всеми “косыми ливнями” (перекличка с первой строкой стихотворения Б. Пастернака “Косых картин, летящих ливмя...”) — это будет: мой вызов, Ваш приход».

Терзание! Ни берегов, ни вех!
Да, ибо утверждаю, в счёте сбившись,
что я в тебе утрачиваю всех
когда-либо и где-либо не бывших!
Ничего не вышло, не выросло из этого романа. Они перегорели в письмах. Повторение его в жизни уже оказалось невозможным. Когда в 1935 году Пастернак и Цветаева наконец увиделись — это были уже совсем не те люди, которые в 1926 году так любили друг друга.

При всей лавине сходств, при массе общих увлечений и привязанностей, в главном, в творчестве — они всегда были врозь. «На твой безумный мир ответ один — отказ», - вот манифест поздней Цветаевой. «Я тихо шепчу: «благодарствуй, ты больше, чем просишь, даёшь», - вот кредо позднего Пастернака. Они были антиподами в отношении к жизни.
Керенский и Луначарский
В 1922 году Цветаева знакомится с Александром Керенским — министром, председателем Временного правительства. В Чехии он читал тогда два доклада, на которых Цветаева вручила ему свои стихи о нём 1917 года:
И кто-то, упав на карту,
Не спит во сне.
Повеяло Бонапартом
В моей стране.
Кому-то гремят раскаты:
— Гряди, жених!
Летит молодой диктатор,
Как жаркий вихрь.
Глаза над улыбкой шалой —
Что ночь без звезд!
Горит на мундире впалом —
Солдатский крест.
Народы призвал к покою,
Смирил озноб —
И дышит, зажав рукою
Вселенский лоб.

Керенский был искренне взволнован. В письме Роману Гулю Марина пишет: «Мне он понравился. Несомненность чистоты. Только жаль, жаль, что политик, а не скрипач. Нота бене! Играет на скрипке».
Спустя полвека, в 1978 году, Нина Берберова опубликовала письма 3инаиды Гиппиус к Владиславу Ходасевичу, где та клевещет на Марину Цветаеву, притом в таких выражениях, которые нормальная женщина ни в какие времена при мужчине не употребляет. По-видимому, письма Ходасевича содержали отголоски грязных сплетен об увлечении Марины Керенским. Можно лишь дивиться тем эпитетам, которыми Гиппиус наградила Цветаеву, воздвигнув тем самым незавидный памятник самой себе.

Для Цветаевой человек всегда значил больше, чем идеология. Она воспевала «Лебединый стан» Белой гвардии и она же любила Маяковского за поэтическую силу, не обращая внимания на трескотню лозунгов в его советских стихах, любила красноармейца Бориса Бессарабова («Егорушку»). Чувства перевешивали принципы, политические убеждения, жили своей жизнью, «поверх барьеров».
Так же в 1919 году она была увлечена А. Луначарским, к которому пришла на приём с письмом Волошина, просившего оказать помощь голодающим Крыма, и, очарованная его тёплым приёмом и готовностью помочь, придя домой, записывает в дневнике: «Невозможность зла. Настоящий рыцарь и человек». Казалось бы, что общего — красный комиссар, человек из другого стана...

Эта встреча вдохновляет Марину на стихотворение «Чужому»:
Твои знамена - не мои!
Врозь наши головы.
Не изменить в тисках Змеи
Мне Духу - Голубю.
Не ринусь в красный хоровод
Вкруг древа майского.
Превыше всех земных ворот -
Врата мне - райские.
Твои победы - не мои!
Иные грезились!
Мы не на двух концах земли -
На двух созвездиях!
Ревнители двух разных звезд -
Так что же делаю -
Я, перекидывая мост
Рукою смелою?!
Есть у меня моих икон
Ценней - сокровище.
Послушай: есть другой закон,
Законы - кроющий.
Пред ним - всe клонятся клинки,
Всe меркнут - яхонты.
Закон протянутой руки,
Души распахнутой.
И будем мы судимы - знай -
Одною мерою.
И будет нам обоим - Рай,
В который — верую.
1926 год пройдёт у Цветаевой под знаком Рильке, переписки с ним, а весной 1928 года во Франции она увлечётся молодым поэтом Николаем Гронским.
Гронский
Ему всего 18, почти мальчик. Цветаева только что написала трагедию «Федра» и, как это часто с ней бывало, «наколдовала» себе этими стихами новую любовь к юноше, который мог бы послужить прототипом Ипполита. Это был серьёзный, вдумчивый мальчик несколько аскетичной внешности с высоким лбом и глубокими глазницами (если судить по единственному известному нам портрету).

Они жили по соседству, и однажды Николай пришёл к ней за книгой её стихов, поскольку в продаже их не было. Марина была рада тому, что кому-то нужна, хотя бы и в виде её книг. Они стали встречаться.
Гронский мог бы быть сыном Цветаевой — всего на три года старше Али. Они встречаются в Париже.

Набережная. Место встреч Цветаевой с Гронским
Затем она ждёт его в Пантайяке, где проводит лето с Муром.

Гронский вполне соответствовал цветаевской формуле: «Друг есть действие». Он исполнял множество поручений и просьб Марины Ивановны — поехать с нею в чешское в консульство, передать записку знакомой, встретить её с летнего отдыха, помочь снять комнату в горах, где отдыхал Гронский, различные поручения бытового характера, требующие мужских рук.
У Гронского произошёл разрыв с невестой, он несчастен, разочарован, и Марина врывается в эту душевную трещину со всей своей безмерностью: «до чужой души мне всегда есть дело». Гронский стал её спутником в прогулках по Медонскому лесу.
Они часто проводят вечера в долгих беседах и чтениях стихов, увлекаются фотографированием: сохранилась целая россыпь любительских фотографий той поры, сделанных Гронским и Цветаевой. Вот некоторые из них:


Гронский находился под безусловным влиянием Марины и, вероятно, любил её, как может любить ученик великого учителя. Он был безотказен и надёжен со своим старинным отношением к женщине, почти годившейся ему в матери, да ещё и поэту. Но Цветаевой, как всегда, виделось нечто большее. И, как всегда, напрасно. К весне 1931 года их пути с Гронским разошлись окончательно, а осенью 34-го Марина узнаёт из газет о трагической и нелепой гибели юноши под колёсами элекрички. У могилы она скажет надгробную речь, а 1935 год начался для неё реквиемом — которым по счёту?
За то, что некогда, юн и смел,
Не дал мне заживо сгнить меж тел
Бездушных, замертво пасть меж стен
Не дам тебе - умереть совсем!
За то, что за руку, свеж и чист,
На волю вывел, весенний лист -
Вязанками приносил мне в дом! -
Не дам тебе - порасти быльем!
За то, что первых моих седин
Сыновней гордостью встретил - чин,
Ребячьей радостью встретил - страх, -
Не дам тебе - поседеть в сердцах!
Что остаётся от человека на земле? Где теперь то, что именуется душой, духом? Возможно ли предугадать роковой финал?
Гронский вовсе не думал умирать. По рассказам родных, он, прервав работу за письменным столом, вышел из дома, направляясь к товарищу. «Иду на несколько минут», - были его последние слова. И Цветаева взяла их как первую строку своего стихотворения. Она пытается проникнуть в тайну молодого человека, которую он навсегда унёс с собой, ища слова для выражения безнадёжного вопроса:
Живешь - не переубедишь!
Ведь в книгах лишь, ведь в сказках лишь
Проваливаются сквозь пол...
Отставив стул - куда ушел?
В рабочем хаосе - с пером
Наперекос - оставив стол,
Отставив стул - куда ушел?
Ее реквием Гронскому, в отличие от "Стихов к Блоку" и "Новогоднего", - это плач по земному человеку. Те обожествленные поэты улетели ввысь: один - лебедем - в небо, в бессмертье, другой - в "новый свет, край, кров"; этого - нет нигде: ни под землей, ни в небесах:
Опрашиваю весь Париж.
Ведь в сказках лишь да в красках лишь
Возносятся на небеса!
Твоя душа - куда ушла?
В шкафу - двустворчатом, как храм,
Гляди: все книги по местам.
В строке - все буквы налицо.
Твое лицо - куда ушло?
Твое лицо,
Твое тепло,
Твое плечо -
Куда ушло?

Напрасно глазом - как гвоздем,
Пронизываю чернозем:
В сознании - верней гвоздя:
Здесь нет тебя - и нет тебя.
Напрасно в ока оборот
Обшариваю небосвод:
- Дождь! дождевой воды бадья.
Там нет тебя - и нет тебя.
Нет, никоторое из двух:
Кость слишком - кость, дух слишком - дух.
Где - ты? где - тот? где - сам? где - весь?
Там - слишком там, здесь - слишком здесь.
Не подменю тебя песком
И паром. Взявшего - родством
За труп и призрак не отдам.
Здесь - слишком здесь, там - слишком там.
Не ты - не ты - не ты - не ты.
Что бы ни пели нам попы,
Что смерть есть жизнь и жизнь есть смерть,
Бог - слишком Бог, червь - слишком червь.
В душе Цветаевой возникает новый миф — о молодом поэте, который любил её — первую, а она его — последним. Всё было,конечно, по-другому, они уже давно не встречались, и он любил её — не первую, и она его — не последнего, но ей нужен был этот миф для самоутверждения. Ей так хотелось, чтобы её любили — хотя бы в прошлом...
Марина замыслила издать свою переписку с Гронским под названием «Письма того лета». Когда она узнала, что отец Гронского собирается издать три тома его стихов, сказала: «А лучший том — когда-нибудь будет наша переписка, - письма того лета... Самые невинные и, может быть, самые огненные из всех «Письма о любви».
В 2003 году в издательстве «Вагриус» была издана переписка М. Цветаевой и Н. Гронского под названием «Несколько ударов сердца».

В нынешнем обществе, заражённом прагматизмом, грубой материалистичностью, постмодернистским ёрничаньем, трудно представить понимающего читателя этих писем. Время совершенно другое. Читая эти письма, понимаешь, как же всё изменилось — быт, бытие, язык, сознание.
Николай Гронский — тот редкий тип русских культурных молодых людей, который практически исчез в катаклизмах 20 века, был перемолот войнами, революциями, репрессиями. В результате такие чудесные качества как душевная тонкость, интеллектуальная чуткость, врождённое чувство чести были почти утрачены. А культура! Какие имена мелькают в этих письмах: Апулей, Рильке, Гёте, Спиноза, Овидий... Интеллектуальная изысканность, обычная для образованного человека того времени и ныне ушедшая в небытие.
А какой полёт мысли в этих письмах — это и во сне не привидится никому, такие все стали приземлённые, даже поэты. Любовь в союзе с мощным интеллектом — это совсем другая эротика, это для тех, кто понимает.
Окончание здесь
|
|
Процитировано 21 раз
Понравилось: 7 пользователям
Одноклассники |
Начало здесь

Недавно была встреча с одноклассниками.
Собрались, конечно, далеко не все — кто-то был в отпуске, кто-то сидел с внуками, а кого-то уже и нет: одного убили, другой разбился... Девчонки (бывшие, конечно, но для меня они те же девчонки) выглядели классно: стройные, модно одетые, с удовольствием то и дело фотографировали друг друга. Все они состоялись в своей профессии, выбранной ещё со школы, имели благополучные семьи, крепко стояли на ногах — стабильные люди с устоявшимся бытом, как сейчас говорят. Одна пела на сцене нашего лучшего театра, другая возглавляла музыкальную школу, украшала своим портретом городскую доску почёта, третья — врач с многолетним стажем, в каждый отпуск отправлялась в какую-нибудь экзотическую страну, у четвёртой муж уехал на заработки в Ирландию, у второй внуки и дочь обосновались в Германии и она жила на две страны, а единственный среди нас мужчина — моя тайная любовь в пятом классе — стал альпинистом и покорял горные вершины... Я ничем таким похвастаться не могла: ни престижной работой, ни высоким окладом, ни загранпоездками, ни нарядами и худобой. Но меня это, как ни странно, ничуть не угнетало, просто отметила для себя как факт, с которым давно уже смирилась и срослась.
Когда шла на эту встречу — сомневалась, стоит ли, столько лет прошло, у всех своя жизнь, пути разошлись, о чём говорить вообще, чужие люди. Но оказалось, нет, - все сразу, оказавшись за одним столом, словно по велению машины времени попали в школьные годы, все стали теми, какими были тогда — беззаботными, весёлыми, смешливыми. Воспоминаниям не было конца. Пели, пили, читали стихи, ели роскошный торт, я надписывала свои книжки, обменивались телефонами и адресами. Всё было так славно.

Но потом, после некоторого количества выпитого, стали рассказывать о себе, делиться наболевшим, и оказалось, что не всё так хорошо и гладко у всех, как виделось на первый взгляд. Заботы, проблемы, неудовлетворённость жизнью, невидимые миру слёзы — всё проступило наружу в жалобных словах, дрогнувших голосах, беспомощных жестах, растерянных выражениях ещё недавно таких самоуверенных лиц. И я, которая по сравнению с ними никто и звать никак, пыталась их утешать: «Ну что ты, всё наладится, жизнь-то в главном удалась, состоялась...»
Какая-то парадоксальная ситуация. Мне что ли, пожаловаться, - подумала, чтобы не выделяться на общем фоне? И вдруг с каким-то стыдом ощутила, что жаловаться не на что, что я довольна своей жизнью, именно такой, какая есть, и не хочу ничего другого. Боюсь только одного: перемен. Утраты того, что имею и люблю.
Мне неловко было признаться самой себе, что я там была самая счастливая. Вспомнилась знаменитая песенка «Если у вас нету тёти» с мудрыми словами: «Думайте сами, решайте сами, иметь или не иметь». Дело, наверное, даже не в том, чтобы иметь или не иметь или хотеть иметь, а в том, чтобы любить и ценить то, что имеешь. Пусть даже это совсем немного. Вот это мне открылось тогда в тот вечер, начавшийся так весело, а кончившийся грустно. Придя домой, написала «по горячим следам» стишок:
Одноклассники, одноклассники,
страшно вымолвить, сколько лет!
Ведь давно ли прыгали в «классики»,
и вот на тебе, и привет.
Нет уж многих, и нет родителей,
школа бывшая - как музей.
Тридцать лет мы себя не видели
в постаревших глазах друзей.
Я гляжу на них — не нарадуюсь,
слышу прошлого голоса.
Эта — сцену собой украсила,
та — почётной доски краса.
Ну а тот, в кого влюблена была,
что как горный смотрел орёл -
он работу нашёл не слабую —
своё счастье в горах обрёл.
Не прельщали тихие пристани.
Было дело — падал со скал,
но упрямо он брал их приступом,
чего нет на земле — искал...
Вот распито уже шампанское,
все очищены закрома.
Таня с Галкой, слегка жеманствуя,
нам жестокий поют романс.
Вот Лариса зажгла светильники,
я читаю стихи на бис...
Одноклассники, собутыльники,
собеседники — зашибись!
Врач, директор, певица — умницы
и красавицы — на подбор!
Только что-то одна - сутулится,
у другой — повлажневший взор...
Что с того, что мужья в Ирландии,
внуки в Гамбурге, всё ништяк.
Что-то видится мне - неладное
в королевстве Датском, не так...
И лишь я — без зарплаты, статуса,
без карьеры, машин и дач -
себя чувствую виноватою
за отсутствие неудач.
Размышляла потом, а так ли уж мне ничего не надо? Чего бы ещё хотелось в этой жизни? И сама себе ответила в стихах:
Чего бы я ещё хотела –
спрошу себя, как на духу –
иметь бы для души и тела,
подобно тем, кто наверху?
Меня не тянет в эти бары,
к игорным ставкам и крупье.
Мне чужды бары-растабары
о ресторанах и тряпье.
Смешны салоны, где блистают,
и мне не нужно, видит Бог,
ни дач, ни шуб из горностаев,
ни сногсшибательных сапог.
Я никогда бы не сумела
себя под это подверстать.
Иного не хочу удела –
он мне по духу и подстать.
Он крест мой и моя награда:
мой дом, мой стол, мое окно…
Я одного боюсь: утраты
того, что было мне дано.
Порой пронзит ночами ужас:
не надо ничего взамен!
О Господи, не сделай хуже,
не дай мне, Боже, перемен.
Оставь мне, Господи, всё то же.
Продлись, прелюдия конца.
Грядущее, не дай мне Боже
увидеть твоего лица.

Никогда не нужно жить по заведённому кем-то стереотипу. “Как все”. “Как у людей”. “Не нами заведено”.
“Выбирайтесь своей колеёй”, – пел Высоцкий. С годами я это поняла, а тогда, в юности, просто интуитивно чувствовала. И часто жила не по тем законам, которым стремилось следовать человеческое большинство. Проще говоря, не разумом, а сердцем. Часто попадала впросак, набивала шишки, ранилась об острые углы, оставалась у разбитого корыта. Но это было необходимо, чтобы прожить в результате именно свою жизнь.

Однажды попробовала мысленно проиграть её назад, - а что если тогда-то и тогда-то поступила бы по-другому, как бы всё сложилось? В итоге родились эти стихи:

Что, если бы...
Сейчас, пытаясь проиграть
то, что уже невозвратимо,
я думаю: какая рать
иных дорог промчалась мимо.
Что, если б первая любовь
сказала «да», притёрлась, свыклась, –
меня учила бы свекровь
выращивать свеклу и тыкву.
И в доме был бы лад да мир,
по праздникам бы пели хором...
И отгорожен был бы мир
глухим хозяйственным забором.
А если б я сказала «да»
редактору отдела писем –
о, как он звал меня туда! –
как был бы мир сейчас зависим
от властьдержательных монет,
союз-писательских убожеств...
А если б этот... боже, нет!
Иль тот... О нет, избави боже!
Спасибо всем, кто обманул,
кто не ответил, предал, продал,
отвергнут был иль оттолкнул,
иудам, иродам, уродам,
спасибо, что в моей судьбе
вы все, друзья, не состоялись,
ведя меня к самой себе,
душе в угоду, вам на зависть;
что жизнь, не злобясь на удел,
я прожила, как я хотела,
не разделяя слов и дел,
не отделя души от тела.
Спасибо всем, кто отпустил,
что шла я по своей дороге,
за то, что я на том пути
нашла любовь свою в итоге.

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/144776.html
|
|
Понравилось: 1 пользователю
Поэт быта и счастья |
Начало здесь

Сегодня — 76 лет Александру Кушнеру, одному из лучших поэтов современности.
Каких только задач мы не ставим перед поэзией! Она должна и воспитывать читателя, и вести его за собой, и бичевать недостатки, и «жечь глаголом», отражать, откликаться, призывать, воспевать… Но забываем самое главное. Поэзия – это наша память о том, какой бывает жизнь в лучшие свои минуты.
Придешь домой, шурша плащом,
Стирая дождь со щек.
Таинственна ли жизнь еще?
Таинственна еще.
Поэзия – это аккумулятор счастья, сгусток энергии, ее накопитель. Эту энергию поэт вложил в свои стихи, и мы получаем ее спустя много лет из стихотворных строк.
«Стихи — это радость»
А. Кушнер не знает, что такое творческий кризис, простой, муки творчества. Он не понимает слов Блока: «Для одних ты и Муза, и чудо, для меня ты – мученье и ад». Считает, что Блок написал их для красного словца. Для него писание стихов – это абсолютно счастливое времяпрепровождение. В письме от 4 апреля 2004-го он писал мне: «Может быть, эти замечания Вам пригодятся в Вашей дальнейшей работе. Впрочем, «работа» – не вполне удачное слово, ведь стихи – это радость прежде всего. Пусть ее будет у Вас как можно больше!» И я с ним совершенно согласна, стихи – это радость. Мир подробен, детален, пестр, неожидан, и поэзия разлита в нем, включена в него повсеместно.
Кушнер – поэт текущей жизни. Он утверждает именно сей миг, сей час, сей день, пытаясь уловить его вкус и смысл. В его стихах теснятся вещи, пейзажи, мелочи жизни. Сколько тут всякого сора!
Сентябрь выметает широкой метлой
Жучков, паучков с паутиной сквозной,
Истерзанных бабочек, ссохшихся ос,
На сломанных крыльях разбитых стрекоз,
Их круглые линзы, бинокли, очки,
Чешуйки, распорки, густую пыльцу,
Их усики, лапки, зацепки, крючки,
Оборки, которые были к лицу…
Все это – «счастья неприбранный вид». Такая поэзия помогает нам воспринимать жизнь не только умом и воображением, но и глазами, кожей, слухом, всеми органами чувств.
«Без быта нет жизни»
Книги Кушнера скромны и негромки. Критики ругали его за «мелкотемье». Иронизировали: описывает графин с водой, стакан, вазу, сахарницу, микроскоп, школьную готовальню – нашел темы! Газетных романтиков это раздражало. Но то было не собирание мелочей, а выбор иного ракурса, поиск предметных связей с миром, попытка проявить поэтичность простой вещи, обыденной ситуации.
Мне раньше казалось: как он не боится включать в стихи то, что, вроде бы, им совершенно противопоказано? Вот Кушнер пишет о поездке зимой на дачу:
Не для того, чтоб в поле вырваться,–
А по причине воровства:
Забрали супницу и мыльницу,
Насос и вывезли дрова.
Как его служение муз терпит эту суету – супницы, мыльницы! Ведь поэт, казалось бы, должен быть выше всей этой прозы быта. Как там у Ахмадулиной: «Я отпускаю зонт и не смотрю, как будет он использовать свободу…» Вот истинно поэтическое поведение!
Но Кушнер не хочет быть выше. «Без быта нет жизни, – говорит он в интервью, – быт и бытие – слова однокоренные. Считающий себя выше быта просто перекладывает часть своей ноши на плечи близких, а сам идет налегке. Любить эту сторону жизни трудно, но и презирать ее глупо».
Подробности быта, введенные Кушнером в стихи, делают их убедительными, достоверными. Его поэтический мир – это мир живых, одушевленных вещей, почти его самостоятельных персонажей.
Граненый столбик, простачок,
Среди других посуд
Он тем хорош, что одинок,
Такой простой сосуд!
Собрание лучей дневных!
И вот, куда ни встань,
Сверкает ярче остальных
Не та, так эта грань.
(«Стакан»)
Он видит «небо в алмазах» даже там, где его трудно предположить: например, в такой сугубо прозаической вещи, как домашняя пыль:
Вдоль полок палец по привычке
Скользит во власти забытья.
Как хорошо лежат частички
Таинственного бытия,
Реснички, ниточки, ворсинки…
Как нежен хаос, волокнист!
Даже нудные домашние обязанности рождают в его душе высокий восторг, непонятный нам, простым смертным:
Сторожить молоко я поставлен тобой,
Потому что оно норовит убежать…
Поэт увлеченно наблюдает за жизнью молочной поверхности:
Надувается, сердится, как же! пропасть
Так легко… сколько всхлипов, и гневных гримас,
И припухлостей… пенная, белая страсть,
Как морская волна, окатившая нас.
(Значит, молоко все-таки убежало). А как упоенно поэт моет посуду!
Тарелку мыл под быстрою струей
И все отмыть с нее хотел цветочек,
Приняв его за крошку, за сырой
Клочок еды – одной из проволочек
В ряду заминок эта тень была
Рассеянности, жизнь одолевавшей…
Смыть, смыть, стереть, добраться добела,
До сути, нам сквозь сумрак просиявшей.
Поражает это неистощимое умение изумляться привычным предметам быта, извлекать радость из малого, повседневного:
Скатерть, радость, благодать!
За обедом с проволочкой
Под столом люблю сгибать
Край ее с машинной строчкой.
Поэт видит, различает в этих простых предметах такие грани, горизонты, которые нам и не снились, они вызывают в нем бурю эмоций, ассоциаций, мыслей.
Вода в графине – чудо из чудес,
Прозрачный шар, задержанный в паденье!

Вот так из осколков повседневных впечатлений создавалась целостная картина мира в зеркале поэзии. И я, начитавшись стихов Кушнера, ловила себя на том, что у меня уже не поднимается рука бестрепетно стирать пыль, в которой вижу теперь «частички таинственного бытия», я завороженно слежу за бурной жизнью закипающего молока, после чего исступленно мою плиту, стремясь «добраться добела, до сути, нам сквозь сумрак просиявшей…» «Вот что Вы творите своими стихами!» – посетовала я в очередном письме поэту. А если серьезно – я училась видеть, слышать, чувствовать, как впервые.
«Времена не выбирают. В них живут и умирают»
Существовать, несмотря на подстерегающие страдания – это редкая удача, выпавшая на долю человека, пусть она и не может длиться вечно. «Нам пригласительный билет на пир вручен, нас просит облако дожить до юбилея». Но понимание это дается долгим и трудным опытом.
Смысл жизни – в жизни, в ней самой,
В листве, с ее подвижной тьмой,
Что нашей смуте неподвластна,
В волненье, в пенье за стеной.
Но это в юности неясно.
Лет двадцать пять должно пройти,
Душа, цепляясь по пути
За все, что высилось и висло,
Цвело и никло, дорасти
Сумеет, нехотя, до смысла.
Так медленно, недоверчиво, отвлекаемый трудностями и горем, «нехотя» учится человек радости бытия. По Кушнеру, жизнь прекрасна, сам факт жизни уже чудесен. «Обычной жизнью названное чудо».
Эта тень так прекрасна сама по себе под кустом
Волоокой сирени, что большего счастья не надо.
Куст высок, и на столик ложится пятно за пятном.
Ах, какая пятнистая, в мелких заплатах, прохлада!
Круглый мраморный столик не лед ли сумел расколоть,
И как будто изглодана зимнею стужей окружность.
Эта тень так прекрасна сама по себе, что Господь
Устранился бы, верно, свою ощущая ненужность.
Кушнер живет настоящим. «Аналогий с прошлым веком не хочу как с прошлым снегом»,– пишет он. В противовес всем анафемам нынешнему веку он заявляет: «Времена не выбирают. В них живут и умирают». И в прошлых веках было много дурного и страшного: ужасы революций, истребительных войн и концлагерей, эпидемии чумы и проказы, голод и холод. Сколько людей было погублено и замучено в прошлом веке, любой из них охотно поменялся бы с нами судьбой. Нам повезло уже в том, что мы живем.
На Земле – глубокие сомненья,
Все глядит в тысячелетний мрак.
Странный миг. И все-таки везенье.
Ни за что везенье, просто так!
Надо ценить жизнь – кричит каждая его строчка, – ценить каждый ее миг. Мужество и мудрость не в том, чтобы вернуть Творцу билет, а в том, чтобы сделать жизнь интересной и радостной, реализовать в ней себя. Это трудно, особенно в России, где, кроме метафизической бездны, тебя подстерегают на каждом шагу вполне реальные пропасти и провалы, колдобины и катастрофы, где даже безмятежный сон на чистой простыне в собственном доме еще недавно был великой роскошью.
И если спишь на чистой простыне,
И если свеж и тверд пододеяльник,
И если спишь, и если в тишине
И в темноте, и сам себе начальник,
И если ночь, как сказано, нежна,
И если спишь, и если дверь входную
Закрыл на ключ, и если не слышна
Чужая речь, и музыка ночную
Не соблазняет счастьем тишину,
И не срывают с криком одеяло,
И если спишь, и если к полотну
Припав щекой, с подтеками крахмала,
С крахмальной складкой, вдавленной в висок, –
Под утюгом так высохла, на солнце? –
И если пальцев белый табунок
На простыне доверчиво пасется,
И не трясут за теплое плечо,
Не подступают с окриком и лаем,
И если спишь – чего тебе еще?
Чего еще? Мы большего не знаем.
Мне хотелось бы закончить словами Бориса Рыжего из его письма к А. Кушнеру, с которыми я полностью согласна: «Там, где речь идёт о поэте Вашей величины, следует говорить о стране, времени и человеке, ибо последние и являются главной составляющей поэта. Ваши стихи помогают жить, дышать, ведь это так просто, ведь лучшего о стихах сказать нельзя...»

Вот ссылка на прошлогодний пост об Александре Кушнере к его юбилею, где я писала о нём то, что не вошло в этот: http://nmkravchenko.livejournal.com/35912.html
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/143573.html
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Последнее стихотворение |

Начало здесь
Последнее стихотворение Блока, написанное 15 марта 1921 года, – “Как всегда, были смешаны чувства...”.

А. Блок и К. Чуковский
К. Чуковский отмечает в своём дневнике, что оно возникло у него на глазах: “Оно было создано в 1921 году на заседании “Всемирной”, во время нудного витиеватого доклада, который явно угнетал его своим претенциозным пустословием. Чтобы дать ему возможность отвлечься от слушания этих учёных банальностей, я пододвинул к нему свой альманах и сказал: “Напишите стихи”. Он тихо спросил: “О чём?” Я сказал: “Хотя бы о вчерашнем”.
Накануне они блуждали по весеннему Питеру и встретили в одном из учреждений дочь знаменитого анархиста Кропоткина, с которой Чуковский был издавна знаком. Об этой встрече Блок написал в своём последнем экспромте:
Как всегда, были смешаны чувства,
таял снег, и Кронштадт палил.
Мы из лавки Дома искусства
на Дворцовую площадь брели...
Вдруг – среди приёмной советской,
где “все могут быть сожжены”, *–
смех, и брови, и говор светский
этой древней Рюриковны.
Последняя стихотворная строка поэта: “Мне пусто, мне постыло жить!”

Последнее стихотворение И. Анненского “Моя тоска” было написано 12 ноября 1909 года и опубликовано уже после смерти.
Незадолго до этого он беседовал с М. Кузминым в редакции “Аполлона” о сущности любви и её формах. Вскоре он написал стихотворение, посвящённое М. Кузмину, на тему, затронутую в их споре. Заканчивалось оно так:
Я выдумал её – и всё ж она виденье.
Я не люблю её – и мне она близка.
Недоумелая, моё недоуменье,
всегда весёлая, она моя тоска.

В этом стихотворении есть строки, которые очень точно отражают ажурный склад души Анненского, не совместимый с грубыми реалиями мира. Внутренне одинокий, ищущий выхода из своего одиночества, поэт не находил в себе сил для жизни и с безумной завистью смотрел на живую жизнь, проходившую стороной.
Да и при чём бы здесь недоуменья были –
любовь ведь светлая, она кристалл, эфир...
Моя ж безлюбая – дрожит, как лошадь в мыле!
Ей – пир отравленный, мошеннический пир!
В этом последнем стихотворении поэта отразилась его трагедия несостоявшейся, в сущности, непрожитой жизни.
Последнее стихотворение Фёдора Тютчева было написано в 1869 году.

После третьего инсульта доктора уверяли, что Тютчеву осталось жить день-два. Он прожил ещё три недели. Последним его стихотворением было это:
Если смерть есть ночь, если жизнь есть день —
Ах, умаял он, пестрый день, меня!..
И сгущается надо мною тень,
Ко сну клонится голова моя...
Обессиленный, отдаюсь ему...
Но всё грезится сквозь немую тьму —
Где-то там, над ней, ясный день блестит
И незримый хор о любви гремит...
М. Волошин написал своё последнее стихотворение в Коктебеле за год до смерти в 1931 году, посвятив его микробиологу профессору С.И. Златогорову, организатору и участнику экспедиции по борьбе с чумой и холерой, который был арестован в марте 31-го и умер в тюремной больнице.

Революция губит лучших,
самых чистых и самых святых,
чтоб, зажав в тенетах паучьих,
надругаться, высосать их.
Здесь слышны отголоски крамольных мыслей Волошина, знакомых нам по его поэме “Россия”, которую Евтушенко называл лучшим учебником русской истории.
Последние стихи В. Ходасевича, написанные в 1938 году, посвящены четырёхстопному ямбу.

Из памяти изгрызли годы,
за что и кто в Хотине пал,
но первый звук Хотинской оды
нам первым криком жизни стал.
В этом стихотворении отчётливо звучит мысль о могучей, победительной силе исторического сознания, позволяющего даже в самые трудные минуты ощущать себя частью великой русской культуры, чувствовать за своей спиной пение ямба, веяние оды, гул времени.
Последнее стихотворение Ивана Елагина – “Гоголь”, написанное под впечатлением картины русского художника Владимира Шаталова “Портрет Гоголя”.

Стихотворение было написано поэтом при смерти в конце 1986 года. Он лечился амбулаторно от рака поджелудочной железы, и жил в доме Шаталова, который как раз закончил этот портрет. Опубликовано посмертно.
Пока что не было и нет
Похожего, подобного,
Вот этот Гоголя портрет –
Он и плита надгробная.
Портрет, что Гоголю под стать,
Он – Гоголева исповедь,
Его в душе воссоздавать,
А не в музее выставить,
Его не только теплота
Высокой кисти трогала,
Но угнездились в нем места
Из переписки Гоголя.
И Гоголь тут – такой как есть,
Извечный Гоголь, подлинный,
Как птица насторожен весь,
Как птица весь нахохленный.
И это Гоголь наших бед,
За ним толпятся избы ведь
И тройка мчит, чтоб целый свет
Из-под копыт забрызгивать,
Или затем, чтоб высечь свет,
Копыта сеют искры ведь!
О Русь, какой ты дашь ответ
На Гоголеву исповедь?
Иль у тебя ответа нет,
Кто грешник, а кто праведник?
Есть только Гоголя портрет.
Он и портрет, и памятник.
Прощаясь с Шаталовым, Елагин сказал: «Я рад, что кончаю жизнь не плачем о себе, а стихотворением о Гоголе».

.
Внебрачный сын Николая Гумилёва Орест Высотский приводит в своих воспоминаниях (“Николай Гумилёв глазами сына” М., “Молодая гвардия”, 2004”) последнее стихотворение отца, датированное августом 1921-го, адресат которого не установлен:
После стольких лет
я пришёл назад,
но изгнанник я,
и за мной следят.
– Я ждала тебя
столько долгих лет!
Для любви моей
расстоянья нет.
– В стороне чужой
жизнь прошла моя,
как украли жизнь,
не заметил я.
– Жизнь моя была
сладостною мне,
я ждала тебя,
видела во сне.
Смерть в дому моём
и в дому твоём.
– Ничего, что смерть,
если мы вдвоём.
Однако есть основания полагать, что было ещё одно стихотворение Гумилёва, записанное им на стене камеры Кронштадтской крепости, где он провёл последнюю ночь перед расстрелом.

В час вечерний, в час заката
каравеллою крылатой
проплывает Петроград.
И горит на рдяном диске
ангел твой на обелиске,
словно солнца младший брат.
Я не трушу, я спокоен,
я поэт, моряк и воин –
не поддамся палачу.
Пусть клеймят клеймом позорным –
знаю, сгустком крови чёрным
за свободу я плачу.
За стихи и за отвагу,
за сонеты и за шпагу...
Знаю, строгий город мой
в час вечерний, в час заката
каравеллою крылатой
отведёт меня домой.

Композитор Пётр Старчик положил эти стихи на музыку, и Максим Кривошеев исполнял её на своих концертах:

http://rutube.ru/video/f0d8a192bd57beec0db7f0a37222ea0f/
Последнее стихотворение Игоря Северянина 1941 года адресовано первой жене Фелиссе Круут, с которой он расстался в 1930-м.

С тех пор он жил в Таллине с новой спутницей Верой Коренди. Но в конце жизни его мысли всё чаще возвращались в прежние годы, связанные с рыбацким посёлком Тойла, где прошла его молодость. Видимо, он сожалел о совершённой ошибке.

Нас двадцать лет связуют – жизни треть,
и ты мне дорога совсем особо,
я при тебе хотел бы умереть,
любовь моя воистину до гроба.
Заканчивается это довольно длинное стихотворение так:
Одна мечта: вернуться бы к тебе,
о, невознаградимая утрата!
В богоспасаемой моей судьбе
ты героиня Гёте, ты – Сперата.
Последнее из известных стихотворений О. Мандельштама написано в Воронеже в мае 1937-го. Это “Как по улицам Киева-Вия...”, посвящённое Надежде Мандельштам.

Последнее стихотворение Б. Пастернака, написанное в январе 1959 года, называется “Единственные дни”. Последняя его строфа:
И полусонным стрелкам лень
ворочаться на циферблате.
И дольше века длится день,
и не кончается объятье.

Тем же январём 59-го датировано и написанное чуть раньше, далеко не такое умиротворённое – “Нобелевская премия” (“Я пропал, как зверь в загоне...”). Но в феврале были дописаны ещё две строфы в конце, так что это стихотворение можно считать более поздним:
Всё тесней кольцо облавы,
и другому я виной:
нет руки со мною правой,
друга сердца нет со мной!
А с такой петлёй у горла
я б хотел ещё пока,
чтобы слёзы мне утёрла
правая моя рука.

Эти две строфы, связанные с эпизодом в отношениях Пастернака с О. Ивинской, были им потом в беловой тетради заклеены.
Одно из последних (скорее всего, последнее) стихотворение Георгия Иванова – о недолговечности человеческого бытия:

Поговори со мной ещё немного,
не засыпай до утренней зари.
Уже кончается моя дорога,
о, говори со мною, говори!
Пускай прелестных звуков столкновенье,
картавый, лёгкий голос твой
преобразит стихотворенье
последнее, написанное мной.

Стихотворение адресовано жене Ирине Одоевцевой.
Страшное и лёгкое одновременно, оно соединяет здесь прошлое с будущим, живого с мертвецом, поэта с человеком.
Арсений Тарковский, сам того не ведая, вызвал к жизни стихотворение М. Цветаевой, оказавшееся последним.


У кого-то в гостях он прочёл своё скорбное стихотворение, обращённое к дорогой ушедшей тени: “Стол накрыт на шестерых...”. На Марину оно произвело неожиданно шоковое впечатление. В простеньком стихе Тарковского – явном подражании Ахматовой (“Там шесть приборов стоят на столе, и один только пуст прибор” – “Новогодняя баллада”) – Цветаева вычитала своё, наболевшее. “Стол накрыт на шестерых”: близких, родных. Ждут шестого – шестую – ту, что ушла, умерла 12 лет назад (у Ахматовой, напротив, пустой прибор поставлен тому, “кого ещё с нами нет”, то есть ещё живому, ибо за новогодним столом – ушедшие, тени). 6 марта 1941 года Цветаева пишет ответное стихотворение Арсению Тарковскому – своей последней любви – исполненное горечи, обиды, упрёка:

Всё повторяю первый стих
и всё переправляю слово:
“Я стол накрыл на шестерых”.
Ты одного забыл – седьмого.
Ты стол накрыл на шестерых,
но шестерыми мир не вымер.
Чем пугалом среди живых –
быть призраком хочу – с твоими,
своими... Робкая, как вор,
о – ни души не задевая! –
за непоставленный прибор
сажусь незваная, седьмая.
Раз! опрокинула стакан!
И всё, что жаждало пролиться, –
вся соль из глаз, вся кровь из ран –
со скатерти – на половицы.
И – гроба нет! Разлуки нет!
Стол расколдован, дом разбужен.
Как смерть – на свадебный обед,
я – жизнь, пришедшая на ужин.
Никто: не брат, не сын, не муж,
не друг, и всё же укоряю:
ты, стол накрывший на шесть душ,
меня не посадивший с краю.
Эти стихи были написаны Цветаевой за полгода до самоубийства. В особую группу можно выделить последние (прощальные) стихи поэтов-самоубийц (Есенин, Маяковский), стихи поэтов, знавших о своей смерти или предчувствовавших её. Это стихи о предсмертной тоске, о расставании с жизнью.
Последнее стихотворение А. Фета написано 15 сентября 1892 года, за два месяца до кончины:

Тяжело в ночной тиши
выносить тоску души
пред безглазым домовым,
тёмным призраком немым,
как стихийная волна
над душой одна вольна.
Но зато люблю я днём,
как замолкнет всё кругом,
различать, раздумья полн,
тихий плеск житейских волн.
Не меня гнетёт волна,
мысль свежа, душа вольна;
каждый миг сказать хочу:
“Это я!” Но я молчу.
Последнее стихотворение Райнера Марии Рильке, умершего от лейкемии в декабре 1926 года, позволяет понять, как мучительно протекала болезнь. Последняя запись в записной книжке: “Пусть завершит мученье тканей тела последняя губительная боль”.

Николай Заболоцкий ещё в ноябре 1947-го года напишет одно из лучших своих стихотворений “Завещание”, в котором выразит свою давнюю выстраданную мысль о посмертном существовании человека (“Когда на склоне лет иссякнет жизнь моя...”).

Но после него поэту будет суждено прожить ещё 11 лет. Последним его стихотворением станет хрестоматийное “Не позволяй душе лениться...”.

Последним стихотворением И. Бродского считается перевод с английского “Из У.Х. Одена” (1994):
Часы останови, забудь про телефон
и бобику дай кость, чтобы не тявкал он.
Накрой чехлом рояль, под барабана дробь
и всхлипыванья пусть теперь выносят гроб.
Последняя его строфа:
Созвездья погаси и больше не смотри
вверх. Упакуй луну и солнце разбери.
Слей в чашку океан, лес чисто подмети.
Отныне ничего в них больше не найти.

Читая сейчас эти стихи, трудно избавиться от ощущения, что в них – трезвое осознание поэта близящейся смерти и спокойное, мужественное ожидание неизбежного.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/131495.html
|
|
Процитировано 6 раз
Понравилось: 5 пользователям
«Потерянный, как никогда, - но не отвергнутый капелью...» |

Дмитрий Дианов
Начало здесь
* * *
Где труд наш больше ни при чём
И день отбормотал дождем –
Нам выходить.
А дождь – как ждал – толкнет плечом:
«Вы разве не идете в дом?
Вам дальше жить».
И тараторит все смелей:
«Я гибну в царстве пузырей –
Возьми с собой…»
Куда? С собой? В дупло вещей?
Ты там ничей, ты там ничей –
И мне чужой.
Останься там, где ты живешь,
Где черным липам не соврешь,
Что мы на «ты»,
Где ты в мои созвездья вхож,
А пузырями поплывешь –
Для красоты.
Мой сочинитель небылиц
Для вещих, хоть и мокрых птиц –
Не плачь о том,
Что опоздал на взмах ресниц
И не запомнил наших лиц,
Что под зонтом.

* * *
Что обещалось - сбудется сегодня
На страшной и бессмертной высоте,
Где ты дрожишь, как капля на листе,
Готовая упасть, листа не помня.
Как долго дни лишали встречу смысла,
Однообразным шелестя дождем,
Но дождь прошел, и тишина повисла,
Которая не знает ни о чем -
Не знает, далеко ты или рядом,
Но кажется, что это ты молчишь,
И обнимаешь воздухом и садом,
И каждым мигом жизни дорожишь.
И мир расскажет сам, как он несложен:
Вот лист застыл, и разве потому
С молчащей каплей так он осторожен,
Что счастью не поверил своему?

***
Пока высокий не остыл простор
И дни к надеждам августа не строги, -
Не торопись вмешаться в разговор
Пустого неба и пустой дороги.
Ведь небом не бежать, а на земле
Уже стрижей заштриховали крылья
Ту с выбоинкой чашку на столе
И книгу, что за лето не раскрыл я.
Но и теперь, когда глаза сухи,
Мне с тихими не разминуться днями,
И вечно забываются стихи,
Отмеченные в детстве уголками.
Их можно разогнуть - и умереть,
Чтоб жить и плакать слез забытых ради, -
Но птичий клин уже нельзя стереть
В иной - блаженной - без полей тетради...
И жизнь не обнесет хоть невзначай
Согретой чашей синевы беспечной.
Щербинки на краю ее считай:
Пора терять - теперь уже навечно.
И замечай, как утомились дни,
Хранить тогдашней сини постоянство,
И, словно в воду, в легкий гул шагни
Простившего осеннего пространства...

***
Я не заметил, кто уговорил
закат помедлить: свет или движенье?
День в тысяче сомнений уходил -
и не вместил и одного прощенья.
Но всё равно, я всякой встрече рад,
где листья о своей борьбе лепечут
и солнце ищет запад наугад,
земли зелёной утешая плечи.
И если на ночной нескорый суд
сойдутся милосердные цикады, -
послушай их хоть несколько минут:
им до утра просить земле пощады.

* * *
Бульваров юная игра,
Листвы нечаянная сила,
И, несомненно, наступила
Голубоглазости пора.
И в сеть разреженных теней
Без страха голуби вступают
И в пятнах солнечных решают -
С какого края свет вкусней?..
***
Из сообщений города ночного,
сомнений многоточий и тире
вдруг сложится одно простое слово
о близком утре — боли — сентябре.
Его давно сказал жасмин горчащий,
но ряд фасадов серых уточнил,
что хоть рассвет и будет настоящим, -
он никого ни в чём не изменил.
И гаснут звёзды, словно не бывало, -
так в бочках гасят факелы, стыдясь,
что вот — настиг рассвет в разгаре бала -
и жизнь не прервалась.

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/129868.html
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Собачья жизнь. Окончание. |

Начало здесь
Продолжение здесь
Микки
Это будет, наверное, единственный не печальный рассказ в этой книге. Хотя нельзя сказать, чтобы жизнь у Микки была такой уж безоблачной. Нет, всякое бывало... Сейчас в свои десять месяцев от роду он выглядит даже слегка устрашающе: большой, лохматый, с необычайно пышной пепельно-черной шерстью с проседью, маленькой головой со смешными маленькими ушами — несуразными при весьма массивном туловище — и белыми задниками лапок. Да, и еще роскошный черно-бурый хвост. А совсем недавно, летом, был крохотным, как пушистая варежка, комочком — этакий божий одуванчик с кулачок. Я помню, как он катился колобком по траве, и любопытство заносило его то влево, где проезжая часть, то вправо, где чужие дворы, а Олеська через каждые два шага нагибалась и выправляла его траекторию.
Олеся подобрала Микки где-то возле гастронома на Первой Дачной, уверяя, что он сын пуделя и овчарки. Каким-то чудом её мать согласилась принять щенка в дом. После истории с Тэдди весь двор осуждал эту семью и скептически смотрел на возню Олеси со своим новым питомцем, предчувствуя такой же плачевный исход. Но Олеся так привязалась к кутёнку, так всюду носилась с ним (тот гастроном на Первой Дачной обходила за версту, боясь, что мать-овчарка отнимет у нее своего сына), что я подумала: может быть, Микки повезёт больше, чем Тэдди? Может быть, их мучит совесть за выброшенного пёсика и они решили искупить таким образом свою вину? (Увы, мой безнадежный идеализм!)
Поначалу Микки (его полное имя, данное ему Олесей, Микки Маус, как у героя мультфильма), действительно приняли как родного, кормили и даже выгуливали. Помню, однажды Олеся ворвалась ко мне в слезах: "Микки в яму упал!". Колобок-Микки закатился в канализационный колодец. Его спасали всем двором: я тащила лестницу, сестра Олеси лезла, сосед держал... Щенок даже не успел понять, что произошло, как его уже извлекли на свет божий. Он был очень веселый, живой, целыми днями играл с детворой, был всеобщим любимцем.
Но вот кончилось лето, Олеся пошла в школу, и... история повторилась. С утра до вечера Микки слонялся по улицам, мок под дождем, дрожал под холодным ветром, ел что попало на помойках...
Я попробовала поговорить с Олесиной бабкой. Та возмущалась: "Вы не представляете, сколько эта собака ест! Он ест, как человек!" Я стала покупать для Микки "Геркулес". Заводила замёрзшего пса к ним в квартиру. Бабка округляла честные глаза: "Да он только сейчас вышел! Он сам не хочет сидеть дома".
Причину "нехотения" Микки идти домой я вскоре узнала. Однажды я увидела его грустным, понуро лежащим на ступеньках подъезда. Это было так не похоже на прежнего веселого Микки, что я решила: пёс заболел. Позвонила к ним в квартиру. Открыла бабка.
—Ваш Микки заболел. Надо отвезти его в лечебницу. Если хотите, я могу отвезти. Наверное, придется делать уколы...
По ее физиономии я поняла, что лечение Микки не входило в их планы.
— Неужели же Вам его не жалко? — вырвалось у меня.
— Жалко, конечно, жалко, — суетливо заверила меня эта баба-яга. И в доказательство сего медовым голосом процедила в пролёт:
— Микки! Иди домой!
Микки испуганно смотрел на неё и жался к стенке. Я подталкивала его в спину, а он упирался. Мне стало всё ясно. Эта старая карга била пса. Потом Олеся это подтвердила.
— Бабка его бьёт. Ногами пинает. А я его всегда защищаю...
Но Олеся весь день была в школе, в продлёнке. А Микки оставался небогатый выбор: быть битым дома или мёрзнуть и голодать на улице.
К зиме его выгнали окончательно. Микки поселился у меня на лестничной площадке. Я постелила ему коврик под дверью. Там он ночевал, ел, а утром, еще до рассвета, бежал на базар. Базар был его стихией. Сначала Микки сопровождал меня туда по утрам, а потом уже сам выучил туда дорогу. Он пропадал там с утра до вечера. Дел было много: в яичном отделе подлизывал разбитые яйца, в колбасном — выпрашивал огрызки сосисок, в хлебном подъедал сладкие крошки. Микки был вегетарианец. После того, как бабка избила его за съеденное из супа мясо, скормленное ему Олесей, он невзлюбил этот продукт. Исключение делал только для колбасы и куриных косточек, которыми хрустел аппетитно и дразняще.
Микки был, можно сказать, сыном базара. Его здесь все знали и любили, звали "лохматиком". Он знал подход к каждому продавцу. "Ел" их глазами, умильно склонив голову набок, тёрся о ноги, усердно крутил своим пышным хвостом чернобурки, пока крепость не сдавалась и вожделенная душа Микки не обретала желаемого. Это было искусство. Микки ходил на базар, как на службу. Там он "зарабатывал" себе пропитание.
Рот у него всегда слегка полуоткрыт, откуда неизменно выглядывает розовый язычок, из-за чего вид у Микки несколько удивленно-глуповатый.
Но это обманчивое впечатление. На самом деле Микки очень умён. О, он необыкновенно хитёр, этот ушлый, смышлёный, востроглазый и шустроногий Микки! Надо было видеть, как проворно и умело зарывал он баранку-заначку в неприметную мусорную кучку, закидав сверху землей для конспирации. Как осторожно переходил перекрёсток строго по светофору, внимательно следя за прохожими: идут или ещё нет. Как в самую сухую погоду умудрялся отыскать лужицу с чистой питьевой водой. Жизнь научила его многому.
Микки был оптимист. Он не унывал оттого, что его выгнали из дома, не убивался от человеческого предательства, как Бим или Тэдди. Микки был самодостаточен. Казалось, он жил по какому-то своему, составленному им самим, плану. Утром — на базар, вечером — в подъезд, на тёплый, нагретый на батарее коврик у моей двери, где его ждала миска "заработанной" похлёбки. Жизнь была наполнена смыслом.

Но Микки не только "трудился", он умел и "отдыхать". Как залихватски он гонял по двору пластиковую банку, подбрасывая её кверху и наддавая головой и лапой, как футбольный мяч! Просто невольно хотелось к нему присоединиться, так азартно и заразительно он это делал. А как ловко таскал палки, виртуозно вертя их в зубах, чуть ли не жонглируя ими! По этому псу плакала цирковая арена.
Однажды я решила подначить Микки, показав ему здоровую суковатую палку, чуть не бревно, — что, мол, слабо тебе? Тот смерил меня взглядом, словно хотел сказать: "Обижаешь!" И, легко подхватив это бревно, поволок его по земле даже с каким-то изяществом, вновь продемонстрировав свой высокий "профессионализм". Упорство, трудолюбие, честолюбие, сноровка — все эти несобачьи качества, присущие Микки, достойны были, конечно, лучшего применения. Но он родился собакой и, как умел, скрашивал свою собачью жизнь.
Самостоятельность и смекалистость пса делали меня за него спокойной: такой не пропадёт. Душа моя за него не болела. Но однажды Микки пропал. И только тогда я поняла, как она была не свободна от него. "И ты, Брут!" — думала я сквозь слёзы и не находила себе места. Неужели мое собачье кладбище пополнится еще одной могилой? Воображение рисовало картины одну страшнее другой. Я каждые полчаса подбегала к двери и смотрела в глазок: не пришёл ли? Выглядывала в окно на каждый собачий лай. Пока однажды Давид не обрадовал меня, раздеваясь в прихожей:
— Там твой Микки явился.
— Живой?! — так и подскочила я.
— Слишком, — буркнул Давид, счищая с куртки следы Миккиных лап. Я выскочила в коридор. Мне хотелось расцеловать его лохматую глупенькую морду, тормошить, тискать: "Ну как ты? Где ты был? Расскажи!"
— Микки устало опустился на коврик, уютно свернувшись калачиком. — Где-где! Мало ли какие могут быть у собак свои собачьи дела.
Весь вечер я подходила к глазку двери, проверяла: там? Намаявшийся где-то Микки крепко спал, разметавшись во всю ширь по площадке.
Живи тут, не уходи больше никуда, — заклинала я то ли его, то ли Бога. — Никуда и никогда. А главное, живи, живи, Микки!
Микки ест любимые баранки
Микки ищет закатившуюся баранку
Микки улыбается
Микки смеётся
Микки спешит уткнуться головой мне в ладонь
P. S. Микки прожил ещё 10 лет. Эти фотографии были сделаны в последний год миккиной жизни. В 2009 году его убили. Я почти была этому свидетелем... Но не поняла тогда, не догадалась, что его убивают — всего через два этажа от меня. Никогда не забуду этот день...
За это время Микки совсем отдалился от своих хозяев и практически переселился к нам на лестничную площадку. Он был сыном двора и подъезда, общий и ничей. За это время у меня умер Денди и появилась Линда.
Микки её охранял, сопровождал нас на всех прогулках, отгоняя «кавалеров». Мы чувствовали себя с ним в полной безопасности. Каждое утро под дверью раздавался его лай — пёс напоминал о своём завтраке. Мёл всё подряд, не глядя. Очень любил горошинки чаппи — так аппетитно хрустел ими. Подбегала Линда, я давала через раз и ей, и они, ревниво косясь друг на друга, хрустели ими на пару, словно соревнуясь.
Когда Микки встречал меня на улице, то, завидев ещё издали, мчался со всех ног навстречу, и в его стремительном беге, в развевающихся и трепещущих на ветру, как флажки, ушках, было столько порывистой, неудержимой, безграничной радости, столько беззаветной любви и счастья, что я не могла не броситься к нему в ответ. Ну кто из людей может так бурно, непосредственно, бескорыстно радоваться встрече с тобой, просто твоему существованию, тому, что ты есть!
Микки сопровождал меня всюду — в магазины, на базар, в аптеку, даже в парикмахерскую. Из последней никак не могли его выгнать — он наотрез отказался уходить, лёг в уголку в зале и терпеливо ждал, пока я освобожусь и пойду с ним обратно. Более верного и преданного пса я не встречала в своей жизни.
Его домом был двор, наш дом и подъезд, и он ревностно охранял их, неистово лая на чужих, - так он понимал свой собачий долг — сторожа и охранника. Но при своём бешеном темпераменте Микки никого не кусал, так, слегка только мог тяпнуть, играючи. Он мог оторвать помпончик с тапка соседки, мог прокусить пакет, вырвать из рук что-то съестное, но покусать — никогда. Все местные знали это и к суматошному шумливому Микки относились как к стихии, как к «неизбежному злу», смирясь, и, в основном, добродушно. Многие его любили.
Но в последнее время в подъезд въехало много новых жильцов, расплодились съёмщики квартир. Лай Микки на чужаков практически не умолкал, он гонял их по лестнице, нервировал, пугал, злил. В особо напряжённых моментах я выбегала, заводила пса к нам и тем разряжала ситуацию. Мне приводили его «подержать у себя» во время прихода гостей, врача, почтальона. Но обстановка тем не менее накалялась... Я недооценила, насколько это было серьёзно для Микки, что тучи сгущались над его бедовой лохматой головёнкой, а то непременно приняла бы какие-нибудь меры.
Этот день мне вспоминать очень тяжело до сих пор, хотя прошло уже три года. Где-то в два-три часа я поднималась по лестнице, и сзади меня поднимался выше какой-то незнакомый мужик с маленькой собачкой. Их обоих я видела впервые. Мелькнула мысль: там, на шестом — Микки, сейчас будет лаять, напугает гостей (решила, что это к кому-то в гости), может, забрать его от греха? Но не стала, подумала — обойдётся, в первый раз, что ли. Минут через пять я из кухни услышала собачий хнык, похожий на тихий плач маленького ребёнка. Подумала, что это Микки обидел чужую собачонку. Прислушалась: плач повторился. В нём было что-то странное — какая-то глубинная обида и детское недоумение: за что?! Но это я потом осознала, а тогда мне в голову не пришло, что это Микки — он обычно лаял громко, грубо, а тут такой жалобный плач-всхлип, который очень быстро прекратился. Я всё-таки выскочила в подъезд и крикнула в пролёт: «Микки!» В ответ — гробовая тишина. Мне это тоже показалось странным — обычно Микки нёсся стремглав на мой зов. Но и тут мне сердце ничего не подсказало, подумала — наверное, завели домой.
На другой день Микки не пришёл на утреннюю кормёжку, но это был день раздачи пенсии в подъезде, обычно в такие дни пёс сидел у них взаперти в ванной, и я списала его отсутствие на это. Но когда он не пришёл вечером, а потом и наутро, мне стало не по себе. Я поднялась к Олесиной бабке. Та на мой вопрос о Микки заявила, что он «убежал, гуляет где-то». Была осень, два дня лил проливной дождь, Микки не мог гулять в такую погоду, не мог не забежать к нам. Я заподозрила неладное. Стала внимательно осматривать лестницу между своим третьим и их шестым этажом. Около лифта между пятым и шестым заметила тщательно подтёртую лужицу и капли, похожие на кровь, тоже подтёртые.
Мне стало всё до ужаса ясно. Микки убили, скорее всего, шприцем, и это было обдуманное и запланированное убийство. Тот мужик с собачкой — возможно, тот самый дядя Володя, некогда выбросивший из машины Тэдди — вероятно, был исполнителем. Наверное, собачка послужила приманкой. А может быть, это сделала Лена — сестра Олеси, работавшая медсестрой. Во всяком случае, казнь совершилась если не ею с бабкой собственноручно, то с их ведома и согласия. Иначе они не уверяли бы меня и Олесю (та ничего не знала), что Микки сам убежал, нимало не озаботясь его длительным отсутствием. Я не говорила Олесе о своих подозрениях в отношении её родственников, пощадила девочку, дала ей на память фотографии Микки, которого — как чувствовала — сфотографировала за неделю до гибели. Она плакала.
Он мне часто снится. И на улицах — как увижу похожую серую шёрстку, лохматый силуэтик вдали — сжимается сердце. Как он плакал, господи, как ребёнок. Как будто силился спросить: «за что? Я же вас всех любил, я вас охранял... Я хочу жить! За что вы меня убиваете?» А я была рядом, я же могла помешать! Не догадалась, не почувствовала. Я могла взять его к себе, и он бы жил... Никогда себе не прощу.
Мне снятся милых горестные лики,
о чём-то сердцу тихо говоря.
И с ними рядом — наш дворовый Микки,
приконченный 8-го октября
2009-го... Залита
душа свинцом, и мокр от слёз платок.
И лужица кровавая у лифта,
и серенький пушистый завиток...
Жизнь переводит, высветив на плёнку,
как бы хозяев - в как бы палачи.
Но тонкий плач собачьего ребёнка
им вечно будет слышаться в ночи.
И, рассекая воздух, как картечью,
опережая сонмище погонь,
убитый Микки мне летит навстречу
и тыкается мордочкой в ладонь.
"Мне отпущено этого сверх меры..."
Когда был опубликован мой рассказ "Собачья страна", я получила на него много откликов. Один из них — от пенсионерки Нины Сергеевны Могуевой — меня особенно тронул. Вот что она писала:
"...так мы, оказывается, с Вами из одной страны, мы с Вами земляки. Сколько историй могла бы я рассказать Вам!
Много, много лет я кормлю всех приблудных собак и болею за них. И, наверное, какие-то флюиды излучают такие, как мы с Вами, иначе как объяснить, что на мой девятый этаж пришла собачина величиной с теленка (московская сторожевая) и легла около моей двери. Это был крайне истощённый пес. Мы с соседкой вывернули наизнанку все свои кастрюли, накормили его. И он не хотел уходить. Потом я нашла его хозяев — очень неблагополучная безработная семья на соседней улице. И я целые полгода ежедневно варила шестилитровую кастрюлю еды милому Ричарду. Как он меня встречал! Как он меня ждал!

Я полюбила его всей душой. А потом он пропал. Горю нашему не было конца.
Сколько Шариков и Бобиков прошло через мои руки и мое сердце! А малое количество "хеппи эндов" унесло много дней, а может быть, и лет моей жизни. Мне кажется, что мне отпущено этого сверх меры, это просто отравляет мне жизнь. Не могу видеть кучу шевелящихся раков на базаре, не могу проходить по Птичьему рынку, все зверюшки там причиняют мне боль — к кому они попадут, как будут складываться их судьбы? А уж бездомные... ужас!

Была бы богатой — обязательно сделала бы что-то лучшее, чем наш приют. Делаю, что могу. Всю зиму за окном в кухне висит сало (но стало таким дорогим! — не по карману) и кормушка для синичек и воробьёв. А на сало ко мне прилетал дятел. Такой красивый!
У меня есть подружка, такая же, как мы с Вами. (К ней тоже дятел прилетал.) Она кормит 12 уличных кошек. Дама она интеллигентная, очень следящая за собой, нарядная. Но два раза в день выходит с кастрюлей, бутылкой, тряпкой и зовет: "Жозефина, Матильда, Сильва!" Изо всех дырок выбегают кошки. Сосед внизу смотрел, смотрел на это, а потом спрашивает: "Наталья Владимировна, а как Вы узнали их имена?" Она серьезно отвечает: "А они мне сами рассказали".
Я иногда задаю себе вопрос: почему одни люди, встречая несчастное, никому не нужное животное, равнодушно проходят мимо, другие же останавливаются, спешно лезут в сумку, достают какой-нибудь кусок, стараются накормить, погладить, приласкать и долго тоскливо смотрят вслед. Чем объяснить такое разное отношение? Не тем же, что одни плохие, а другие хорошие люди? Но что тогда?..

Наверное, есть люди, которые обречены... обречены на сочувствие, сопереживание, они просто не могут пройти равнодушно мимо. Иногда мне кажется, что им свыше дано задание — помочь, накормить, ободрить, поддержать несчастную брошенную собаку, кошку, поддержать угасающую жизнь. И это не лёгкое задание.
Вспоминаю, как однажды я у входа в Торговый центр встретила такую жалкую, тощую собачонку. Шерсть на ней повисла клоками, она хромала и поминутно приседала. Я думала, мое сердце разорвётся от боли. Я забыла про все свои планы и бросилась искать что-нибудь съестное. Я бегала от ларька к ларьку — не было ничего подходящего, пришлось купить пирожное. Но собачонка исчезла. Я обошла весь Торговый центр в поисках ее, но так и не нашла. Вернувшись домой, я отдала пирожное нашим дворовым псам, и долго ещё ныло и болело сердце.

Наш двор, окружённый четырьмя многоэтажными домами, видел много печальных и страшных собачьих историй..."
Вот такое замечательное письмо от удивительной женщины, которой "сверх меры" отпущены сострадание, жалость и любовь ко всему живому, которой дано "задание свыше" помогать всем слабым, несчастным, обиженным на этой земле.
Мне хочется привести две собачьи истории, рассказанные Ниной Сергеевной — с плохим и хорошим концом.
Истории, рассказанные Н.С. Могуевой
Маша
Эта рыжая и очень симпатичная дворняга появилась у нас в начале лета, быстро став любимицей детей. Она бегала за ними, радостно лаяла. Многие подкармливали её. К осени она стала толстеть, и мы поняли, что будут кутята. Маша не входила ни в один подъезд, спала во дворе. Через некоторое время она исчезла. Дети быстро нашли тайник: Маша вырыла его под бревном около забора, и там родились шестеро чудесных кутят-толстячков. Как радостно было видеть заботу людей об этих подкидышах! Несли еду, несли тряпки, чтобы утеплить нору. Молодая женщина из соседнего дома принесла большой пушистый свитер.
Да, это были те самые люди — "с заданием" (так я их называла). Но были и другие — с хмурыми лицами они проходили мимо и бросали злобные слова: "Людям плохо, а они тут с собакой возятся!" Всякое было.
Кутята росли, им стала мала нора. Нужно было что-то предпринимать. Двое нашли своих хозяев, а четверых мы отправили в приют.
Наступила зима. Маша поселилась под лоджией соседнего дома, лежала на холодном асфальте. Дети постелили ей картонку. В это время сын подарил мне телевизор, он был в большой коробке, которую я ночью поставила под лоджию. Вскоре в ней появилось чье-то теплое старое пальто. Маша зажила по-барски. Мы радовались, глядя, как она, уютно свернувшись клубочком, спит в своем новом доме.
Но мне сказали, что женщина, под чьей лоджией устроилась Маша, хочет ее выгнать. Я взяла плитку шоколада и пошла, чтобы умилостивить эту женщину. Не тут-то было! Вот ей явно не было дано никакого "задания", да просто не было дано души. Она отвергла и мою просьбу, и мой подарок, и на следующий день коробка была выброшена, а несчастный рыжий комочек лежал, свернувшись на снегу, в продуваемом ветрами дворе.
Почти два года прожила Маша рядом с нами, но кому-то она очень мешала. Были вызваны собачники... Дети плакали и искали Машу.
Жучка
Жилец нашего дома, который шил шапки, привез на машине собаку, купленную на базаре. Я услышала страшный вопль, визг, выражавший беспредельный ужас. Подошла к машине и увидела, как новый хозяин пытается надеть ошейник на собаку, а она дико, как-то даже не по-собачьи визжит и воет. Я увидела красивую густую шерсть собаки, и страшная догадка пронзила меня. Но сильнее всего чувствовала это собака: она забилась в угол машины, рычала, визжала и выла. Я стала уговаривать соседа отпустить собаку. В конце концов он вынужден был это сделать.Собачонка выскочила из машины, пулей пронеслась по двору и забилась в густые заросли кустарника. Никакие уговоры, ласковые слова не помогали, она рычала и бросалась на людей, когда они протягивали к ней руку.
И стала жить чёрная Жучка в кустах. Выходила из своего укрытия она только ночью и быстро пряталась при появлении людей. В который раз я с благодарностью и радостью думала о человеческой доброте, видя утром расстеленные около кустов бумажки с кусочками колбасы, сыра, чашки с водой. Люди не остались равнодушными к этой несчастной, потерявшей веру, предательски проданной хозяевами собаке.
Каждый день я подходила к кустам и, присев на безопасном расстоянии, ласково говорила с бедной псиной, бросала ей вкусные кусочки. В ответ же раздавалось рычание, которое становилось все менее и менее злобным. Так продолжалось целый месяц.
Однажды я гуляю во дворе, и вдруг кто-то бросился ко мне, стал прыгать вокруг. Это была наша дикая Жучка. Доброта и терпение победили ее страх, боль и обиду. Она снова поверила человеку.
У этой истории был хороший конец. Приютила Жучку соседка Лариса, у которой уже была овчарка. И вот однажды приходит к Ларисе ее знакомая, и Жучка с разбега прыгает к ней на колени. Та обняла её и сказала: "Теперь это моя собака". Потом я часто спрашивала Ларису о Жучке и её новой хозяйке. "Живут душа в душу", — был счастливый ответ.
Эпилог
На эту тему у меня есть большое эссе «... тем больше люблю собак»: http://nmkravchenko.livejournal.com/196184.html
посты в ЖЖ: "Звериное тепло": http://nmkravchenko.livejournal.com/25472.html
«Собачьи поэты» - http://nmkravchenko.livejournal.com/37545.html
В начале этого года я получила письмо от незнакомой девочки:
Уважаемая Наталия Максимовна! Меня зовут Черкашина Арина, учусь в 5 «в» классе гимназии № 4 у Авдеевой Венеры Махмудовны. Мы облазили весь Интернет и обзвонили всех знакомых в поисках рассказов «Собачья жизнь». Даже Вас беспокоили по телефону! Но это того стоило! Большое Вам спасибо за ТАКУЮ книгу и ТАКИЕ истории из ЖИЗНИ!!! Читали с мамой до поздней ночи и рыдали. Спасибо за Вашу чуткость, «нечерствость», умение и ЖЕЛАНИЕ помогать. Долго потом думали, а смогли бы мы в семье проявить такую заботу по отношению к «братьям нашим меньшим». О многом пришлось задуматься ... Очень хочется по-настоящему помочь собакам, а не быть «Собачьей королевой». А Венера Махмудовна оценила мой труд чтения на 5 и 5!! СПАСИБО! ЗДОРОВЬЯ ВАМ! И огромного терпения!!! Будем читать дальше Ваши произведения!
Аря Черкашина, Саратов. 17.01.12.
Венера Махмудовна Авдеева, учительница гимназии № 4, ходила на мои лекции с 1995 года, нередко приводя на них своих учеников, не всех, как многие другие учителя, ради галочки проведённого мероприятия, а самых увлечённых, искренне любящих литературу.
учительница гимназии 4 В.М. Авдеева с ученицей Дашей Безменовой на моём вечере
Шестиклассникам было дано задание: написать сочинение по моей «Собачьей жизни».
Не могу удержаться, чтобы не привести хотя бы несколько выдержек из них, самых очаровательных:
«Эту книгу нельзя прочитать без горя, и когда её читаешь, у человека просыпается совесть». (Максим Никвисевич)
«Эта книга натолкнула меня на мысль, что собаки такие же существа, как и мы. Они ведь тоже хотят жить и наслаждаться». (Анастасия Аверина)
«Наталия Кравченко так убедительно передала чувства одиночества, грусти, что кажется, как будто она была одной из этих собак. И поняла, как сложно быть ею». (Алина Ченцова)
«Книга «Собачья жизнь» написана замечательной писательницей Н.М.Кравченко. Это добрый и благородный человек, который повидал всё на белом свете. Ни одну часть книги нельзя читать без слёз! Книга начинается с описания жизни животных, а заканчивается очень грустно и несправедливо». (Дарья Коробкина)
«Микки обладал человеческими качествами. Если бы в книге не было написано, что это собака, люди подумали бы, что это человек».
«Мне понравился рассказ «Микки». Сам герой Микки – оптимистичный пёс, надеющийся сам на себя. Наш друг пристроился на базаре – там его все знают, любят, кормят».
«Наталия Кравченко написала эту книгу особенно искренним языком». (Арина Загуменнова)
«Наталия Кравченко любит животных и доказывает это душой. Когда я читала эти рассказы, я рыдала, мне было очень жалко всех собак, поэтому у меня не нашлось эпизода, который мне понравился». (Анастасия Иванова)
«Мне не понравился ни один рассказ, потому что они жестокие». (Дарья Борисова)
«Наталия Максимовна участвует в жизни собак и играет большую роль. Я хочу, чтобы эту книжку прочитали те люди, которым не жалко собак. Возможно, эта книжечка поможет смягчить их каменное сердце, и, увидев очень слабую собачку или щенка, они поступят так же, как Н.М.Кравченко!!!» (Наталья Павлова)
«Главный герой – Наталия Кравченко. Её характер добрый и ласковый, но к хулиганам очень строгий. Рекомендую прочитать эту книгу всем тем людям, у которых нет совести по отношению к беззащитным животным». (Глеб Живоглазов)
«Мне бы очень хотелось, чтобы Наталия Кравченко написала ещё одну книгу, но только чтобы там пусть все собаки останутся в живых и будут счастливы». (Эвелина Алексеева)
Может быть, напишу... Только это уже была бы сказка. В реальности до хэппи энда нашим собакам далеко.
А это другая учительница, 41 школы, Л. С. Данилова:
Сочинения её семиклассников тоже доставили мне немало радостных минут:
"Когда я прочитал пару рассказов, меня тронуло за душу, и я не мог уснуть ночью, думая об участи тех собак. После того, как я прочёл эту книгу, я стал больше уделять внимания собакам. У нас во дворе мы нашли бездомных щенков. Сделали им домик из картонки и поставили миску с едой, которую они быстро опустошали. Каждый день я заходил после школы к питомцам... Если б у меня были бы деньги, то я открыл бы хороший приют для собак, pacпрocтpaнял бы листовки, призывающие помогать собакам, поднял бы этот вопрос на телевидении... Но это в мечтах. Люди лучше покажут по новостям про какое-нибудь убийство, они считают это интересней." (Федин Иван)
"Ощущение от прочитанного было ужасное, слезы наворачивались сами. Всю ночь я думала о несчастных животных и о той бомже, которая съела их. Да лучше бы она украла еду в магазине!.. Поразмышляв над этим, я решила помогать и опекать животных. Пусть не могут другие, зато я могу. Совесть моя будет чиста перед ними." (Харитонова Анастасия)
"Я не могла прочитать без слез эти бесхитростные рассказы. Мне показалось необычным, что собаки похожи на людей, иногда даже лучше. Я прочитала книжку за один день. Она заставила меня задуматься, насколько жесток этот мир... Приют – это не решение проблемы. Сейчас нет денег, чтобы создать нормальные условия, но есть выход: заботиться о собаках и не выбрасывать их на улицу. Лучше взять себе беспородистую собаку, она смышленее, чем породистая, красивее – это уже доказано." (Данилина Олеся)
"Эта книжка очень сильно затронула меня, ведь раньше я проходил мимо бездомных собак и не обращал на них внимания, а теперь возвращаюсь из булочной домой с половиной батона или буханки хлеба, потому что по дороге отдаю всё голодным собакам. У меня сердце разрывается на части, когда на моих глазах бьют или издеваются над животным. Ведь если бы люди не били, не выгоняли и не лишали жизни собак, то книга "Собачья жизнь" никогда не появилась бы на свет." (П. Маврин)
"Однажды я шёл с одним знакомым мальчиком по улице, и там часто бегает рыжая собака. Она никогда никому не делала ничего плохого, ко всем была ласкова. Вот Серёжа и говорит мне: "Хочешь посмотреть, как я сейчас её пну, а она мне ничего не сделает? Я уже пробовал." "А если тебя вот так же пнуть, тебе будет приятно?!" – ответил я. Я посмотрел ему в лицо, он замолчал. Мне стало понятно, что с таким человеком не стоит дружить... Мы много раз с друзьями обсуждали книгу "Собачья жизнь." Книга заставляет задуматься о жизни, о её смысле. Мне особенно больно, ведь истории написаны писателем по реальным событиям. Как люди могли превратиться в зверей?!.. Хочется быть добрее и внимательнее ко всему живому на земле." (Бесецкий Никита).
"Я не могу читать эту книгу без слез на глазах, без трепещущего от жалости сердца. Человек растёт, а его душа может остаться маленькой, если её не растить. Эта книга помогает растить душу. Я считаю, что каждая семья обязана иметь такую книгу в своей домашней библиотеке. ...Собаки как люди, а многие даже лучше людей. Собаки любят, и любят открыто, не пытаясь спрятать свою любовь, а хотя им не надо её прятать. Собаки любят не за красоту, не за положение в обществе, они любят за самое главное, за душевные качества. Собаки добрые и хорошие. Если собака на вас лает, не бейте её, не пинайте, просто жизнь научила её так делать, защищаться. Поймите и пройдите мимо.
Выражаем огромную благодарность автору потрясающей книги "Собачья жизнь". Это прекрасно, что хоть кто-то решился идти против трудностей и проблем. Обещаем идти по Вашим стопам и спасать гибнувшие души (собак) людей". (В. Померовченко).

Я думаю, эту летопись собачьих историй мог бы продолжить и ты, дорогой читатель. Вспомни, сколько Жучек, Бимов, Дружков встречалось тебе на дорогах твоей судьбы. Сколько раз ты прошел мимо, торопясь по своим вечным делам, не расслышав мольбы их голодных тоскливых глаз, не почувствовав дрожи их замёрзших одиноких фигурок, не попытавшись помочь, не захотев принять "задание свыше"?




Я верю, что теперь ты обязательно остановишься, не умножишь собачье кладбище еще на одну вину. Ведь если подумать — они такие же, как и мы. Только лучше. Чище, преданней, бескорыстней. Бесхитростные, беззащитные божьи дети, готовые, не помня зла, согреть нас своим теплом.



Будем же человеками в этой собачьей жизни.
Книжку "Собачья жизнь" можно прочитать здесь: https://www.liveinternet.ru/users/4514961/post227117530/
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/113282.html
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Собачья жизнь. Продолжение. |
Начало здесь

А вскоре Тоша пропала. Ее не было два с половиной месяца. Я уже мысленно похоронила и оплакала ее. И вдруг однажды она вернулась! Вернулась искалеченной, с раздробленной кровоточащей передней лапкой, как когда-то Лиза. Она была заметно мельче, худее своих уже чуть подросших сестёр и братьев. Видимо, жизнь не баловала ее. И нрав изменился: Тоша стала нервной, вспыльчивой, научилась огрызаться на других собак, уже умела постоять за себя.
Где она проходила свои жизненные университеты? Об этом можно было только гадать. Как, наверное, тяжело собакам, — думала я, — что не могут они поведать о том, что с ними приключилось, не могут, как мы, излить близким свою душу, поплакаться на горькую долю. Или этот их ночной вой на луну и есть то же самое?..

Вскоре один за другим пропали еще три щенка. Одного вроде бы взяла какая-то девочка. Другого всё носил с собой один мальчишка, мечтал взять, да мама не позволяла. Он назвал его Рэксом, играл с ним целыми днями, часто приносил ко мне покормить. Потом они оба куда-то исчезли. Может быть, все-таки мама согласилась? Хотелось думать, что это так.
О третьем щенке ходили страшные слухи. Будто кто-то видел, как отец Карташова, накинув веревку ему на шею, тащил упирающегося, скулящего пёсика в подвал. Об этом думать было невозможно, невыносимо, но всё время думалось.
Из шести подкидышей осталось только двое. О Тоше я уже рассказала. Теперь расскажу о Белышке. Вот только соберусь с силами. Самая любимая, самая лучшая собачка на свете, самая большая моя боль...
Белышка
Сначала я не знала, что она девочка, и мысленно окрестила этого щенка Белышом. Он был самый беленький, самый нежный. Даже какой-то деликатный.

Из-за этой деликатности Белыш часто оказывался вытесненным другими мордочками, тесным монолитным кружком толкавшимися над чашкой с едой, и оставался голодным. Я решила: раз такое дело — подкормить его отдельно. Принесла домой, поставила перед Дендиковой миской с кашей, предварительно заперев своего жадного и ревнивого пса. Тут и обнаружилось, что Белыш — девочка. "Ну, пусть будет тогда Белышка", — подумала я, уже привыкнув к этому имени и не желая его менять.
Белышка была очень робкой и пугливой. Она боялась есть чужую кашу. Забилась под стол и дрожала там в страхе. Другие собаки чувствовали себя у меня дома "как дома", всюду лазили, обнюхивали углы, а она боялась дома! Помню, меня это поразило тогда. Словно она предчувствовала, что именно в доме примет свою смерть...
Я вынесла на руках так и не наевшуюся Белышку и покормила ее во дворе. Помню, прижимаю к себе в лифте ее тепленькое трепетное тельце, а губы сами шепчут какие-то успокаивающие, ободряющие слова: "Ну уж ты как-нибудь, маленькая, постарайся, выживи... Жизнь, конечно, у тебя тяжелая, непростая. Но я буду здесь, рядом, буду тебе помогать..."

Самое поразительное, что Белышка услышала мои слова! Не просто услышала, а поняла и, если так можно выразиться, вняла им! Иначе как объяснить уже на другой день произошедшую перемену в её настроении, поведении, поступках? Или это Бог услышал мою молитву за неё? Так или иначе, но Белышка стала старательно "выживать". Она теперь ловчее всех ловила на лету куски мяса, которые я бросала собакам, причем ее деликатность осталась при ней: она никогда не вырывала у других еду, никогда не огрызалась, не отвечала на агрессию, а как-то весело уходила от скандала ("обращала все в шутку").
Белышку стало не узнать. Оживленная, шустрая, радостная, она всё время вертелась возле помойки и никогда не упускала свой счастливый шанс. Люди, которые несли туда мусор, просто не могли пройти мимо ее сияющих агатовых глазок и приветливо машущего хвостика. Белышке перепадало больше других. Она нашла подход к молочнице, и та поила ее молоком. Белышка стала заметно прибавлять в весе.
После кормёжки собаки по старой привычке гурьбой провожали меня до подъезда. Но для всех это было уже как бы ритуалом, формальностью: едва добежав до моего дома, убедившись, что еды больше не будет, они тут же поворачивали обратно. А Белышка бежала за мной дольше всех и по-прежнему долго ждала у подъезда. Она словно еще на что-то надеялась. Может быть, она еще помнила мой дом, миску Дендиковой каши, лифт, в котором я молилась за нее? Может быть, чувствовала, что я любила ее больше всех?

Наступила зима. Тоша с Белышкой ночевали в котельных, в подвалах, как-то приспосабливались к условиям своей бездомной жизни. Я каждый день покупала им дешёвые кости и мясные обрезки. Они радостно подбегали (лапка у Тоши зажила), уплетали их за обе щеки, но Белышка больше ласкалась, чем ела. Помню ее замёрзшую мордочку в сосульках, как я руками пыталась их растопить, отогреть...

Как-то в мороз я привела Белышку домой погреться. Она стояла в коридоре, как вкопанная, не решаясь пройти. (Деликатность? Боязнь?) Я говорила Давиду: "Ты посмотри, какая она красавица!" Давид пожимал плечами: "Собака как собака".
Вдруг она поверила, оттаяла и резво побежала за мной в спальню. А я испугалась, что она там наследит, и стала ее выпроваживать.
Обогрелась? Ну, теперь иди.

Но Белышка теперь уж не хотела уходить. Ей жалко было расставаться с надеждой на меня, на этот дом, который мог бы стать ей своим. Она упиралась, а я подталкивала ее к двери:
Ну иди же, иди...
Простить себе этого не могу.
Тоша ревновала Белышку ко мне и порой огрызалась на нее, но та лишь добродушно отбегала в сторону, пока не утихнет гнев сестры, и снова подходила как ни в чём не бывало, примиряюще помахивая хвостом: мол, ладно тебе, не сердись, не будем ссориться... Хотя была почти в два раза крупнее тощей Тоши и вполне могла бы дать сдачи. Это был белокурый ангел в собачьей оболочке. Веселая, ласковая, преданная душа. Вся ее пухленькая пушистая фигурка излучала светлую радость жизни и святую веру в людскую доброту.
Летом Белышка с Тошей "паслись" под боком у молочницы, а зимой их "приютила" сборщица бутылок. Это была для них какая-то иллюзия хозяйки. Они сторожили ей тару, когда та отлучалась, и за это она позволяла им спать в пустых ящиках для бутылок. Сестрички лежали, уютно свернувшись там клубочком, спинка к спинке, грея друг друга.
А потом для Белышки наступила пора любви. Или, вернее, борьбы за свою честь. Целыми днями во дворе стоял разноголосый лай: за моей красавицей тянулся длинный шлейф кобелей, настырно предлагающих, как у нас сказали бы, руку и сердце. Она весело отбивалась, огрызалась, убегала — защищалась, как могла. Я с сочувствием наблюдала из окна за ее стойкой обороной. Особенно выделялся один громадный кобель — чистопородная овчарка, причем с ошейником, но явно ничей. Он любил Белышку безответной рыцарской любовью: отгонял от нее чужих "женихов", охранял, когда она ела, не только не отнимая еду по праву сильного, но и не давая этого делать другим. Я в первый раз видела такого благородного бескорыстного пса.

Но сердце Белышки принадлежало другому. Кому? Да Счастливчику, тому самому рыжему, когда-то обижавшему маленькую Белышку и ее "однофургонников", изгнанному мной из их семейства. "Бутылочница" с уважением отзывалась о твердых моральных принципах "невесты": "Она не каждому дает. Только рыжему". Сердце Белышки не помнило зла.
Однажды, когда я, как всегда, кормила своих собачек, краем глаза заметила рядом со сборщицей бутылок какую-то испитую бабью морду. Она деловито о чём-то расспрашивала "бутылочницу". До меня донеслись ее слова в ответ:
— А это ничьи. Приблудные...
Почему мне сердце тогда ничего не подсказало, не почувствовало опасности! Дойдя до дома, оглянулась: за частоколом ящиков я увидела взлетающие лапки сестричек: они играли друг с другом, привставая на цыпочки, и мне видны были из-за ящиков только эти взмахи передних лапок. На душе стало так тепло. Это было последнее, что я видела: взмах этих лапок. Это было прощание, а я не поняла.
Шкурка
Как трудно об этом писать. Вспоминаю, и ком в горле.
В последнее время Белышка уже не была такой радостной. Агатовые глазки смотрели грустно, чуть растерянно, словно недоумевая. Она, казалось, пыталась понять, почему люди так злы и черствы, почему её, такую хорошую, добрую, готовую всех любить, никто не хочет полюбить в ответ, пустить в свой тёплый уютный дом? Чем она виновата? Чем хуже других, которых любят? Может быть, поэтому на замёрзшей мордочке Белышки теперь всегда были сосульки, и я, как ни старалась, не могла руками их растопить. Может быть, она предчувствовала свою участь?
Когда я наутро подошла к пивным ящикам, где обычно крутились мои собачки, чтобы покормить их, меня встретила одна Тоша. Бутылочница, подбежав, оживленно схватила меня за рукав, словно готовясь сообщить радостную весть:
— А я тебя "обрадую"! Собачки-то беременной больше нет! Женщина ее съела.
— Что?.. — Я, где стояла, там и села. Прямо на эти дурацкие бутылки. — Как это нет... — До меня не доходил пещерный ужас ее слов.
— Она ее цепочкой поймать хотела... А я говорю: "Ты же видишь, она к тебе не идет". Так она ее на руки подхватила...
— Как же Вы отдали?!!
— А что я могу? У меня одни бутылки... Я ей говорила: "Оставь". А она мне: "Ты жрать хочешь, и я хочу". Схватила и понесла.
— Где она живет?
— Где-то на Луговой... — Глазки бутылочницы забегали. — Нет, у Сенного...
В памяти всплыло вчерашнее опухшее бабье лицо. Так вот чего она тут вынюхивала... Ну почему, почему меня не было здесь в ту минуту?! Я бы не отдала, я бы вцепилась в эту гнусную красную рожу, запустила бы в неё первой попавшейся бутылкой...
Тошенька выглядела притихшей, испуганной. В первый раз она ночевала одна, без сестрички.
Я растерянно гладила ее, судорожно соображая: "Как быть? Как уберечь Тошу? Надо срочно позвонить Сергею Клавдиевичу, договориться с приютом... Завтра же отвезу ее туда".
Я долго еще пытала бутылочницу об адресе этой людоедки. Может быть, Белышка ещё жива? Я бы ее вырвала, выкупила, украла... Но та уверяла, что не знает, называла разные улицы, заметала следы. В сговоре они, что ли?
А на другой день меня ждал новый удар. Утром Тоши у ящиков не было. Та тварь пришла за ней еще с вечера. Бутылочница юлила, божилась, что ее в это время не было, была не её смена. Многие видели, как та баба уносила Тошу. Прохожие заподозрили неладное, пытались остановить, спрашивали: "Куда Вы ее несёте? Вы их едите, что ли?" Живодёрка отвечала: "Что вы, как можно... У меня дом полон скотины. Просто я вчера собачку взяла, а она по сестре так скучает, так скучает... Пришлось вот и вторую, чтоб ей веселее было на новом месте".
Как утопающий хватается за соломинку, я ухватилась за эту безумно-иллюзорную мысль: "А может, правда... Может, пожалела, оставила..." Я понимала, что этого не может быть, но отчаянно билась в мозгу мольба: "Боже, ну сделай, чтоб это была правда! Ну оставь мне хотя бы эту надежду..."
Я брела, не зная куда, наугад. Ноги сами привели меня к этому подвалу. Возле него топтался огромный кобель-овчарка, тот самый, с ошейником, но ничей. Я увидела, что он что-то теребит, какую-то шкурку. Пригляделась — Боже мой! — это была шкурка моей Белышки! Светленькая, с желтоватыми завиточками, которые я столько раз гладила. Это была она, я не могла ошибиться, мне знаком тут был каждый завиток. Шкурка была свежая, только что снятая, окровавленная. Кобель теребил ее, но, казалось, не кусал, а губами ласкал эту бывшую шубку той, кого еще позавчера так беззаветно и безответно любил.
Я шагнула ближе. Кобель схватил шкурку и бросился с ней бежать. Это было всё, что осталось у него от Белышки. А у меня — ничего... Даже фотографии. Я пришла домой сама не своя. Мучила мысль о Тоше. Я ведь могла спасти её, хотя бы её, ведь была уже предупреждена, могла отвезти в приют, если бы чуть раньше... Я могла бы спасти её второй раз.
Бедные сестрички. Добрые, ласковые, жизнерадостные. Кому они мешали? Они так хотели жить, любить. Они приспособились жить так — в подвалах, при помойках, обходясь малым, без людской заботы, без домашнего угла. Им не дали дожить до весеннего тепла, не дали отогреться замерзшей Белышкиной мордочке, не дали родить ей щеночков... Всего полгода отмерила им судьба. И никто не защитил, не спас, не отстоял.

Бедный носик замшеый,
глазоньки в шерсти...
Ах вы, люди, как же вы
не смогли спасти?!
Какими были их последние минуты? Как та гадина убивала их? Им было больно? Страшно? Наверное, плакали, звали маму? Бутылочницу, которая выдала их? Меня, которая не спасла?

Я плакала весь день. Варила кашу Денди, и слезы капали в нее. Потом понемногу успокоилась. По телевизору шел "Аншлаг". Юморист рассказывал забавный случай из спектакля "Василиса Прекрасная": "И вот сожгли уже её шкурку, и должен был Змей Горыныч..." Услышав слово "шкурка", я опять залилась слезами. Ведь только ещё позавчера я ее гладила, я ещё помнила тепло её шёрстки... Потом опять реприза — о какой-то дохлой кошке. Я не могла слышать это, любое напоминание было как прикосновение к ране, приносило боль.
Взяла в руки газету. Там сообщалось о митинге в защиту собак, который должен был состояться у цирка в знак протеста против волны собачьих расстрелов, что прошла недавно по городу. На нашем базарчике на Первой Дачной тогда тоже убили двоих: Черныша и Шарика.


Но я не могла идти. У меня не было сил протестовать. Ведь Белышки и Тоши больше нет, им уже ничем не поможешь. И никто мне их не заменит.
Вспомнились строчки Чичибабина:
В земле, травой поросшей,
Отлаявшись навек,
Она была хорошей,
Как добрый человек.
Куда ж ты улетело,
Куда ж ты утекло,
Из маленького тела
Пушистое тепло?

Хотелось выть, как собаке на луну. Где ты, собаченька моя?
P. S. Как-то весной на улице я встретила рыжего Счастливчика.

Он подбежал ко мне, с надеждой заглядывая в лицо и в руки. Как назло, у меня не было с собой ни сухарика, ни печенья. Я только погладила его по солнечной макушке. Мне хотелось спросить:
— Рыжик, ты помнишь Белышку? Она любила тебя...
Счастливчик смотрел так, как будто помнил.

Со дня нашей первой встречи прошел ровно год. Из пятнадцати щенков уцелел только он. Один. Счастливчик!

Дети подземелья
Этот подвал недостроенного дома, где я выкормила первых щенков, а потом нашла Белышкину шкурку, сыграл еще одну зловещую роль в моей жизни. Вскоре, проходя мимо, я услышала оттуда жалобный писк. Спустилась вниз по обледенелым ступенькам. Там, прижавшись друг к дружке, шебуршились два коричневых комочка, пища от голода. Щенки. Дети подземелья. Как они выжили здесь в такие морозы?

Теперь каждое утро я спешила сюда. Шла через силу, без радости, с предчувствием новой боли, зная наперёд, чем всё кончится, но не идти не могла. Я знала, что без меня их никто не покормит. Правда, у входа в подвал валялись брошенные кем-то заплесневелые горбушки хлеба, замёрзшие куски капусты, но всё это было несъедобно для таких маленьких. Я варила им супчики, вермишель, покупала фарш, молоко.
Комочки росли, и между ними уже намечалась разница. Тот, что поменьше, оказался девочкой. Она была робкой, с хорошенькой испуганной мордочкой, и вызывала большую нежность и жалость. А старший — я не успела узнать его пол — с более "крутой" мордашкой, почему-то я про себя его окрестила "мордвин", — словом, мордатенький. По праву более крупного он мог отобрать у сестрёнки кусок, и я старалась восстановить справедливость: давала вновь ей, а не ему, как следующему по очереди.
Большенький ел, виляя во все стороны хвостиком — "благодарил", а младшенькая — нет, хвостик робко торчал, не выказывая расположения. Я думала, что бы сие значило: не испытывает благодарности? Не доверяет? Боится? А может быть, она, как все женщины, острее предчувствовала свою судьбу и не видела повода для радости в той случайной кормёжке?
Щенки были совсем не похожи на тех, прежних, что я вырастила. Те были доверчивые, ласковые, а эти — настоящие дички. На зов они откликались не сразу — осторожно выжидали. И подходили к пище, только когда я удалялась на безопасное расстояние. Кем-то они были здорово напуганы. (Потом я узнала, что щенков вначале было четверо. Что сталось с двумя — догадаться нетрудно.) "Ну и правильно, — думала я, — так и надо. Пусть будут злые, не привыкают к ласке, пусть кусаются, царапаются, но не даются, пусть знают, что человек — враг. Так у них будет хоть какой-то шанс выжить".

Однажды, спустившись в подвал, я не застала щенков у входа и двинулась в поисках их вглубь этих "графских развалин". Там было темно, сыро и страшно. И в тот момент, когда кутята выбежали из каких-то своих потайных закутков, тонкий луч света, пробивавшийся сверху, вдруг перекрыла чья-то широкая темная фигура. Тяжёлые шаги спускались по ступенькам. Все ближе, ближе... Это был бомж с огромным мешком бутылок за плечами, которые он здесь, по-видимому, прятал. Я попала в логово зверя. Может быть, они едят тут не только собак?
Щенята бросились врассыпную. Я уже не могла зазвать их обратно, несмотря на еду.
— А они дикие, и всегда такие будут, — буркнул бомж.
И слава Богу. Я не хотела их приручать. Оставляла еду и убегала, чтобы они не привыкли ко мне и потом не перепутали с кем-то другим, кто причинил бы им зло. Это было противоестественно. Я давила в себе любовь к этим двум бурым комочкам с белыми лапками. Давила воспоминания, как они были голодны, как зарывались мордочками в газетный сверток, как молотили своими язычками, лакая молоко из консервной банки. Я чувствовала, что привязываюсь, и помимо воли рос страх за них, я знала, что они обречены. Ведь двух из четверых уже не было.
Я договорилась забрать щенков в приют. Но вот беда — они не давались в руки! Стоило мне протянуть ладонь, как они с визгом бросались прочь. Боже, что же страшное пережили эти детёныши, что уже в таком младенческом возрасте были так недоверчивы к людям? Может быть, смерть своих братишек на их глазах?
Зародилась робкая надежда, что они выживут, не дадутся тем палачам, раз не давались даже мне. Один раз мне удалось чуть прихватить за бочок маленького, но он так завизжал, словно я по меньшей мере проломила ему череп, и я в испуге отдёрнула руку.
— Ну и пусть, и молодцы, — пыталась я себя успокоить. — Так, глядишь, доживут до лета, а там уже большие вымахают, сумеют постоять за себя. Это не доверчивые ласкуши Тоша с Белышкой, такие выживут.
По утрам они меня ждали, выползая наружу.

Я, шикая, загоняла их обратно в "катакомбы", озираясь в поисках врагов, готовая сторожить и охранять их тут, сколько надо. Но ничто не спасло моих малышей.
Молочница видела, как рано-рано утром бежали они к помойке в надежде отыскать какой-нибудь лакомый кусочек и тут же — опрометью в свой подвал, пока их никто не заметил. В этих человеческих джунглях им было так страшно. Так хотелось сохранить свою маленькую, дрожащую, как фитилёк, жизнь.

Господи, им всего-то нужно было так мало: несколько глотков молока, кусочек хлеба. Господи, дай им дожить хотя бы до весны — молила я Бога. Но в глубине души знала, что они обречены, и каждый раз шла туда со страхом, что на этот раз их не обнаружу.
Как я не хотела, боялась к ним привязываться! Боялась этой уже знакомой невыносимой боли. ("Я любовь узнаю по боли всего тела вдоль". "Боль, знакомая, как глазам — ладонь, как губам — имя собственного ребенка".) Не хотела, не приручала, не гладила, уходила сразу. Но злодейка-судьба ждала коварно, пока я незаметно для себя привяжусь, и только тогда нанесла свой удар.
Я даже не успела никак назвать моих кутят. Они погибли безымянными. Этот черный понедельник я никогда не забуду.
Сварила им каши с фаршем, налила тёплого молочка. Стала звать, как всегда: "Кути, кути!" В ответ — зловещая тишина. Может, боятся? Кто-то напугал? Я звала их минут десять. Спустилась вглубь — нигде. Заметила чужую консервную банку — ее вчера не было. Какая-то большая чёрная лужа, впитавшаяся в землю, неизвестного происхождения. Может быть, их кто-нибудь взял на выходные? — теплилась надежда. Я оставила кашку на газете, налила молока в обе банки и ушла с тяжёлым чувством.
После обеда опять пошла туда. Ноги не шли. Нет, завтра... Завтра больше шансов.
Утром шла, как на голгофу. Заглянула вниз. Резануло по сердцу: замерзшее молоко в банках, ледяная горка нетронутой каши. Я робко позвала: "Кути, кути!" Плакать уже не было сил. В груди застыл какой-то ледяной ком, как та замерзшая каша, которой они уже никогда не попробуют. "Ничего, ведь я была готова. Справлюсь с этим как-нибудь".
Утром на негнущихся ногах — опять туда. А вдруг?.. И опять — замёрзшее молоко. "Кути!" "Крикну — а в ответ тишина..."
Бутылочница окликнула меня:
— Что-то щеночков твоих не видно. Молочница отозвалась:
— Да бомжи их едят.
— Господи! Таких маленьких... Скоро людей жрать будут...
Я долго не могла всё это записать. У меня начинало физически болеть сердце. Я обходила тот двор стороной. Старалась не смотреть в ту сторону. Не могла видеть бутылочницу, её ящики, этот злосчастный подвал. Все ждала, когда утихнет боль. Но она не утихала. Думала, напишу — может, станет легче? Никто не понимает. Когда я кому-то это рассказываю, читаю в глазах: "Нам бы твои заботы".
Если б я могла об этом написать так, чтобы людей проняло, чтобы они плакали над моими щенками, как плакали когда-то в детстве над "Муму", Белым Бимом, чтобы дошло до самого последнего бомжа, чтобы собачий кусок застрял у него в глотке, чтобы подавился он их сиротскими косточками!
Собачье кладбище у меня в душе. Тобик, Грэй, Тэдди, Люська, Эльза, Лиза, Тоша, Белышка, безымянные щеночки... Обласканные и оплаканные, тянут они ко мне свои детские голодные мордочки, просят, чтобы их помнили, чтобы хоть после смерти любили...
Бим
Это будет очень короткий и очень грустный рассказ. Чистокровный сеттер Бим (точь-в-точь как в рассказе Троепольского, так что даже сомнения не возникало, как его звать) появился в нашем дворе в самые морозные февральские дни. Говорили, что его бросили тут какие-то люди, приезжавшие в гости к родственникам. Бим был совсем молодой пёс — год-полтора от силы — и, по всему, очень домашний. Он сходил с ума от тоски по своему утраченному хозяину, от страха, что потерялся, и в ужасе бегал кругами вокруг дома, не в силах остановиться, круг за кругом, без остановки, весь день, всю ночь... Смотреть на этот смертельный марафон было настолько жутко, невыносимо, что равнодушных к судьбе Бима во дворе почти не было. Все стремились как-то ему помочь. Кормили, постелили ему в подъезде, обзванивали знакомых, давали объявления... Но Бим не ел, не спал, и всю ночь подъезд оглашал его тоскливый надрывный вой.

Невысыпавшиеся жильцы начали роптать, прогонять Бима. Кто-то даже поджёг под ним подстилку. Объявления уподоблялись гласу вопиющего в пустыне — таких брошенных в городе были чуть ли не сотни. Положение становилось тупиковым.
Мы с Сергеем Клавдиевичем и другими сочувствующими доставили Бима в приют. Но и там наш мученик не нашел себе пристанища. Бим отказывался принимать пищу, и его кормили с помощью шприца. У него открылась редкая форма нервно-паралитической чумы, отказали ноги, стали слепнуть глаза.
Как-то я навестила его. Бим сидел в кресле, как маленький сфинкс, и неузнавающе смотрел на меня затянутыми плёнкой глазами. Мне почудилась на его страдальческом лице (именно лице) маска смерти. Что же пережила эта маленькая, преданная, надорвавшаяся от непосильного предательства собачья душа?!

Раз в неделю я звонила ветеринарному врачу Оле из приюта, спрашивала, как там наш Бимка. В последний раз она сказала: "Надежды нет..."

Памятник собачьей преданности в Тольятти
СТИХИ О РЫЖЕЙ ДВОРНЯГЕ

Хозяин погладил рукою
Лохматую рыжую спину:
- Прощай, брат! Хоть жаль мне, не скрою,
Но все же тебя я покину.
Швырнул под скамейку ошейник
И скрылся под гулким навесом,
Где пестрый людской муравейник
Вливался в вагоны экспресса.
Собака не взвыла ни разу.
И лишь за знакомой спиною
Следили два карие глаза
С почти человечьей тоскою.
Старик у вокзального входа
Сказал:- Что? Оставлен, бедняга?
Эх, будь ты хорошей породы...
А то ведь простая дворняга!
Огонь над трубой заметался,
Взревел паровоз что есть мочи,
На месте, как бык, потоптался
И ринулся в непогодь ночи.
В вагонах, забыв передряги,
Курили, смеялись, дремали...
Тут, видно, о рыжей дворняге
Не думали, не вспоминали.
Не ведал хозяин, что где-то
По шпалам, из сил выбиваясь,
За красным мелькающим светом
Собака бежит, задыхаясь!
Споткнувшись, кидается снова,
В кровь лапы о камни разбиты,
Что выпрыгнуть сердце готово
Наружу из пасти раскрытой!
Не ведал хозяин, что силы
Вдруг разом оставили тело,
И, стукнувшись лбом о перила,
Собака под мост полетела...
Труп волны снесли под коряги...
Старик! Ты не знаешь природы:
Ведь может быть тело дворняги,
А сердце - чистейшей породы!
(Э. Асадов)

Эдуард Асадов со своей собакой
Дружок
Соседка зашла ко мне поздно вечером и взволнованно поделилась известием о новом подкидыше. У торца недостроенного дома возле автостоянки она обнаружила маленькую беленькую болонку, видимо, больную, она не могла ходить. Собачка дрожала от холода (стояли сильные морозы). Соседка укрыла ее какими-то тряпками, перенесла на сухое место, но душа у неё ныла и не давала покоя. Я была с мокрой головой, было поздно, и я никуда не пошла. Но мысль о собаке мучила меня всю ночь. Едва дотерпев до утра, я побежала к тому месту с одной мыслью: "Только бы жива!" Собачка была жива. Она безучастно смотрела на меня из-под вороха заснеженных тряпок и судорожно дышала.
Я обернула ее найденной у подъезда рваной фуфайкой и принесла в дом. (Естественно, заперла Дендика.) Положила под батарею. Собачка оказалась кобельком. Всё его тельце было жестоко израненным: порезы и кровоподтеки в паху, перелом двух ножек и, кажется, повреждения внутренних органов. Из ранки сочился гной. Что за палач над ним постарался? У какого ублюдка поднялась нога на такую кроху? Кто эти нелюди, что вышвырнули избитого до полусмерти пёсика на мороз? Когда же у нас, наконец, начнут судить за это?

Пришла соседка. Мы попытались его покормить — тщетно. Какая еда в таком состоянии! Я вспомнила про испытанное средство, что спасло Тошу: глюкозу. И стала впрыскивать ему в рот сладкую жидкость. Глюкоза вновь не подвела. Пёсик чуть ожил, отогрелся в тепле, стал подавать признаки жизни. Я пыталась с ним разговаривать: "Ну как ты, маленький? Как тебя зовут? Шарик? Малыш? Дружок?" Давид говорил: "Ну что ты спрашиваешь? Все равно он тебе не скажет". Но при слове "Дружок" пёс поднял ушки и повернул голову.
— Ага, вот и сказал! — смеялась я.
Но радовалась я рано. Дружок был ко всему безучастен. Казалось, он не хотел жить. Не верил, что ему хотят добра. Однажды он даже злобно тяпнул меня за палец, прокусив до крови, когда я попыталась впрыснуть ему глюкозу в очередной раз. Видимо, ему было очень больно.
Я не привыкла к такому собачьему отношению. Обычно собаки быстро проникались благодарностью, привязывались, ласкались. Дружок не хотел дружить со мной, не хотел оправдывать свое имя. Иногда мне даже казалось, что он меня ненавидит. Может быть, считал ответственной за все, что с ним произошло? Беспомощно распластанное на полу тельце вызывало жгучую жалость, желание подойти, приласкать, но ледяной взгляд пса замораживал порыв, останавливая на полпути.
Пребывание тяжело больной собаки в квартире значительно осложняло нашу жизнь. Когда Давид заходил в ту комнату, я в страхе следила, чтобы он не забыл защелкнуть за собой дверь, потому что Денди был тут как тут: чуял своим носом чужака в доме и жаждал расправы. Он бы не посмотрел на "лежачего", разорвал бы за милую душу. А Давид был рассеянный насчет двери, и я вынуждена была следить за каждым его шагом, постоянно была в напряжении.
Дружок лежал пластом, ничего не ел, ходил под себя. В комнате стоял удушливый запах мочи. Когда я переворачивала пса, чтобы вытереть пол, он всякий раз норовил укусить. От боли он чуть не перегрыз телефонный провод. К концу недели все это стало уже невыносимым. Давид стал поговаривать о том, что Дружка надо усыпить, что другого выхода он не видит.
Я позвонила в АТХ. Мне ответили, что можно приехать в любое время. Но я никак не могла решиться. К тому же там усыпляли током, а это, наверное, больно. Нет, ответили мне, это кошки умирают мучительно, а собаки обычно сразу. Тем более такой маленький. Но я не могла. Давид сказал, что в лечебнице при Детском парке усыпляют наркозом за 36 рублей. Дорого, конечно. Но зато умрет как человек. Но ведь за эти деньги можно нанять машину и отвезти Дружка в приют, где его хоть попытаются спасти... Давид уверял, что он все равно "не жилец". Пёс ничего не ел все эти дни и был очень слаб. Он даже не поднимал головы с пола.
— Ладно, последняя попытка, — решила я. — Если сейчас он поест — мы везем его в приют. А если нет — значит, судьба его такая. Усыпим, чтоб не мучался. — И понесла Дружку судьбоносную кашу.
— Ну поешь, миленький, — молила я его, — не заставляй брать на душу грех...
И — о чудо! — Дружок поднял головку, повел носом и — съел и вылизал всю тарелку. Словно понял, что от этого зависит его жизнь.
Я торжественно, как хоругвь, понесла в кухню вылизанную до блеска плошку.
— Видишь? — предъявила её Давиду как вещественное доказательство жизнеспособности Дружка. — Ест — значит, будет жить. Везём в приют!
Давид добыл в каком-то магазине коробку, я устелила ее тряпками, мы уложили на эти импровизированные носилки недвижимого пса, закутали старым одеялом и закололи булавкой под самым горлышком. Дружок был "упакован". Мы пустились в путь.
Приют был у черта на куличках. Шофер-калымщик долго плутал по незнакомым улицам, спрашивая дорогу в неположенных местах, за что был крепко оштрафован ГАИ, так что вся наша оплата его поездки была заранее обесценена. Мы чувствовали себя неловко, шофер злился. А виновник всех хлопот и неприятностей лежал на заднем сиденье в коробке из-под книг, свесив головку, и безучастно смотрел куда-то вдаль. Казалось, ему было всё равно, куда его везут, что с ним будет.
На калитке приюта нас встретила грозная надпись: "Злые собаки!" Пробившись сквозь кордон "злых собак" — слишком истощённых и пугливых, чтобы причинить какой-то реальный вред (я, впрочем, на всякий случай вооружилась палкой, а Давид высоко над головой нес драгоценную коробку с лежачим псом), мы встретили новый барьер — надпись теперь уже на двери дома гласила: "Приют переполнен. Приём животных временно прекращён. Оставленные во дворе животные будут выпущены на улицу".
Ну уж нет! Я в отчаянии заколотила в дверь. Потом в окна. Появилась девушка в белом халате. После недолгих переговоров удалось выхлопотать псу "вид на жительство".
Мы распаковали Дружка и отнесли его в новую обитель. Его тут же окружили, обнюхивая, такие же горемычные искалеченные собратья: полупарализованный серый пудель, тянувшийся к нему со своей лежанки, трёхногая дворняжка, облезлый кот, спрыгнувший с холодильника, предпочитавший, как оказалось, жить не с котами, а с собаками.
Дружку все были "до лампочки". Он лёг ничком, положил свою измученную головку на лапы и закрыл глаза. Не захотел даже с нами попрощаться. Видно, натерпелся в своей жизни от "человеконогих".

Изредка я звонила ветврачу Оле, справляясь о нашем подопечном. Она жаловалась, что он не давался колоть ("всех нас перекусал"). Потом до меня постепенно доходили радостные известия: Дружок встаёт, ходит "в туалет". Переломанные лапки срослись. Болячки зажили. Появился аппетит. Его искупали, он стал белоснежным, пушистым. Не кусается больше. Может, ещё оттает его замерзшее израненное сердечко?
Окончание здесь
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/112612.html
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю










































