-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Статистика
Записей: 871
Комментариев: 1385
Написано: 2520
"О, любовь моя незавершённая..." |
Начало здесь
17 сентября 1963 года умерла Наталья Крандиевская-Толстая.

Наталья Крандиевская-Толстая была долголетним спутником жизни и творческим помощником Алексея Толстого, именно она послужила прототипом для создания образа Кати Булавиной в «Хождении по мукам». Напомню небольшой отрывок:
«Каждый вечер сёстры ходили на Тверской бульвар слушать музыку. Духовой оркестр играл вальс «На сопках Маньчжурии». «Ту, ту, ту — печально пел трубный звук, улетая в вечернее небо. Даша брала Катину слабую, худую руку. «Катя, Катюша, - говорила она, глядя на свет заката, проступающий между ветвями, - ты помнишь: «О, любовь моя незавершённая, в сердце холодеющая нежность»? Я верю, - если мы будем мужественны, мы доживём — когда можно будет любить, не мучаясь... Ведь мы знаем теперь, - ничего на свете нет выше любви...»
Катя Булавина — это Наталья Крандиевская, и процитированные Дашей (её сестрой Дюной — Надеждой) строки — это отрывок из её стихотворения. Долгие годы мало кто знал, что Наталья Крандиевская — не только спутница и помощница своего великого мужа и хозяйка большого хлебосольного дома, но что она и сама по себе была наделена ярким поэтическим талантом.
«Мы возьмём от любви всё...»

А я опять пишу о том,
О чём не говорят стихами,
О самом тайном и простом,
О том, чего боимся сами.
Судьба различна у стихов.
Мои обнажены до дрожи.
Они — как сброшенный покров,
Они — как родинка на коже.
Но кто-то губы освежит
Моей неутолённой жаждой,
Пока живая жизнь дрожит,
Распята в этой строчке каждой.
Наталья Крандиевская родилась 21 января 1888 года в Москве в семье земского деятеля, прогрессивного публициста и издателя. Мать — писательница, автор двух книг рассказов. С детства Наталья (в семье её звали Тусей) в гостиной матери видела Глеба Успенского, Гаршина, Короленко. Стихи она писала с 7 лет. В 13 — уже печаталась в московских журналах. Горький называл её «премудрая и милая Туся» и спустя много лет признавался: «Симпатия моя к ней не остывает ни на единый градус в течение сорока трёх лет нашего с ней знакомства». В 15 лет — знакомство с Буниным, разглядевшим её незаурядный талант. «Я просто поражён был, - писал он, - её прелестью, её девичьей красотой и восхищён талантливостью её стихов, которые она принесла мне на просмотр».

Туся (слева) с отцом, сестрой и братом
***
Уже темно. Фонарик бледный
Во тьме затеплил жёлтый глаз,
Унылый сторож жизни бедной,
Бессонно стерегущий нас.
Вот бубенец звенит дорожный.
В пыли метельной пролетел
Ямщик с кибиткою. Запел
И - оборвался звон тревожный.
Звенит над полем высоко,
Всё тише, тише... Реже, реже...
Есть где-то жизнь, но далеко!
Есть где-то счастие, но где же?..
В 1906 году произошла её первая встреча с А.Толстым. Сначала Наталья познакомилась с его стихами, которые ей показали в редакции журнала. Стихи были декадентские, ей не понравились. Она сказала, что с «такой фамилией можно было бы и получше». Потом она увидела его в ресторане «Вена». «Мне указали на очень полного студента, затянутого в щёгольский мундир. Первое впечатление разочаровало меня. Его лицо показалось мне неитересным».

И была ещё одна встреча с Толстым — в Петербурге, в белую ночь, на Стрелке. Об этом у неё даже стихи есть:
Его узнать нетрудно мне было
в крылатке чёрной у парапета.
Я спутника своего спросила:
«Хотите модного видеть поэта?»
Цилиндр старинный приподнимая,
поклонился, как щёголь с дагерротипа.
Мой спутник сказал: «Не понимаю
успеха людей подобного типа».
Осенью 1907 года Толстой разошёлся со своей первой женой Юлией Рожанской.

Его второй женой стала художница Софья Исааковна Дымшиц, молодая черноглазая женщина восточного типа.

Наталья Крандиевская в это время поступает в художественную студию, где живопись преподавал Бакст, а рисунок — Добужинский. Её соседкой по мольберту оказалась Софья Дымшиц. Толстой часто заходил в мастерскую и, посасывая свою трубку, подолгу стоял за мольбертами, украдкой разглядывая Наталью. Они часто встречались на премьерах, концертах, на вечерах и вернисажах — где бы Крандиевская ни была — она всюду встречала Алексея. Она к этому времени была уже замужем за известным петербургским адвокатом Фёдором Волькенштейном, у них был маленький сын Федя.

В литературных кругах в те года усиленно и разнообразно развлекались: дионисийские вечера, пляски, маскарады, любительские спектакли сменяли друг друга. А.Толстой вместе с М.Кузминым сочинил гимн «Бродячей собаки», вписав туда свой куплет:
Дамы склонны на уступки,
лишь мгновения лови.
Взволновалися голубки
от волнения в крови.
И, поднявши свои кубки,
сокровеннейшие губки
подставляют для любви.
А. Ахматова писала тогда о «Бродячей собаке»: «Все мы бражники здесь, блудницы...» И позже, через десятки лет, в «Поэме без героя» воспевала богемные 10-е годы, изображая изысканную пикантную жизнь обитателей сих злачных мест: «Как-нибудь побредём по мраку мы отсюда ещё в «Собаку». Наталья Крандиевская в своих воспоминаниях предоставляет другое свидетельство о жизни того же круга, иной, более трезвый и строгий взгляд на развлечения петербургской богемы:
«Помню, однажды поэт Сологуб Фёдор Кузьмич попросил и меня принять участие в очередном развлечении, в своём спектакле «Ночные пляски», режиссировать который согласился В.Э. Мейерхольд. «Не будьте буржуазкой, - медленно уговаривал Сологуб загробным, глуховатым своим голосом без интонаций, - Вам, как и всякой молодой женщине хочется быть голой. Не отрицайте. Хочется плясать босой. Не лицемерьте. Берите пример с Софьи Исааковны, с Олечки Судейкиной. Они — вакханки. Они пляшут босые. И это прекрасно».
Но раздеться догола всё же казалось неимоверно глупым. Я отказалась от «ночных плясок», чем утвердила свою буржуазность. Ни на какие «действа» меня больше не приглашали».

В 1913 году выходит первая книга Натальи Крандиевской, всего на год позже ахматовского «Вечера» и на три — цветаевского «Вечернего альбома». Вышла под скромным названием «Стихотворения», но сразу была замечена и отмечена критикой. От её поэзии веяло редким нравственным здоровьем, в неё не попали экстравагантные реалии столичной жизни начала века, на них не повлияла сама пряная атмосфера всеобщего «раскрепощения», открыв перед женской поэзией новые возможности. В её стихах ощущалась душевная ясность, утренняя свежесть, радостное восприятие жизни.
* * *
Ах, мир огромен в сумерках весной!
И жизнь в томлении к нам ласкова иначе…
Не ждать ли сердцу сладостной удачи,
Желанной встречи, прихоти шальной?
Как лица встречные бледнит и красит глаз!
Не узнаю своё за зеркалом витрины…
Быть может, рядом, тут, проходишь ты сейчас,
Мне предназначенный, среди людей — единый!
В следующий раз Крандиевская и Толстой встретились в 1913 году в Москве на рождественском ужине у поэта Юргиса Балтрушайтиса. Толстой перетасовал все карточки на столовых приборах, чтобы сесть рядом с Натальей. Этот вечер перевернул их жизнь.
Из воспоминаний Натальи Крандиевской: «Мы разговаривали долго и так свободно, как будто знали друг друга давным-давно. От зажжённой ёлки в гостиной было золотисто-сумрачно и уютно. Все обходили нас, словно сговорились не мешать...»
В актёрском Доме учредительная комиссия под председательством Толстого решала вопрос: быть или не быть в Москве литературно-артистическому подвальчику «Подземная клюква». Единогласно решили, что Москва срочно нуждается в таком подвальчике.
«После ужина Толстой провожал меня домой. Усаживаясь в сани, я спросила, действительно ли нужна Москве «Подземная клюква» и кто выдумал её. - Я выдумал, - ответил Толстой. - А Москве эта «клюква» нужна, как собаке пятая нога. - Для чего же вся затея? - А чтобы с Вами встречаться».
Любовь захлестнула обоих. И сразу получили отставку и жена Толстого Софья Дымшиц, и муж Крандиевской Фёдор Волькенштейн. Нелегко ей было решиться на это объяснение.
«Неужели всё придётся сказать ему? Я чувствовала себя так, словно занесла нож над усталым человеком, отдыхающим у меня на плече. Жестокость неизбежного удара пугала меня, я сомневалась, хватит ли сил его нанести. Была даже враждебность какая-то к Толстому, в эту минуту участнику предательства — таким вдруг представлялось мне моё новое чувство».
К этому решению её подтолкнула сестра Дюна. (Помните сцену в «Хождении по мукам», когда Даша буквально заставляет Катю сказать мужу правду?) «Чудная моя сестра! - пишет Крандиевская. - Прямая, горячая, смелая — вероятно, она была права. О чём заботилась я, трусливая чистюлька? Пройти по жизни тенью, не толкнув никого, никого не обняв? Не взять ни самой счастья, не дать его никому?»
* * *
Моё смирение лукаво,
Моя покорность лишь до срока.
Струит горячую отраву
Моё подземное сирокко.
И будет сердце взрыву радо,
Я в бурю, в ночь раскрою двери.
Пойми меня, мне надо, надо
Освобождающей потери!
О час безрадостный, безбольный!
Взлетает дух, и нищ, и светел,
И гонит ветер своевольный
Вослед за ним остывший пепел.
Начинается Первая мировая война. Толстой уходит на фронт.

Перед уходом он сообщает Наталье, что разошёлся с женой. Она не спрашивает причину, ей кажется, что она её знает. Она боится поверить своему новому чувству.
* * *
Было всё со мной не попросту,
Всё не так, как у людей.
Я не жаловала попусту
Шалой юности затей.
Горностаевою шкуркою
Укрывал от холодов,
Называл меня снегуркою
С олонецких берегов.
И за то, что недотрогою
Прожила до этих пор,
Ныне страшною дорогою
Жизнь выводит на простор.
Шатким мостиком над пропастью,
По разорам пустырей…
Всё теперь со мною попросту,
Всё теперь, как у людей!
В это время Толстой пишет рассказ «Для чего идёт снег», в котором была художественно воспроизведена история их любви. В письмах к Наталье он пишет: «Мы возьмём от любви, от земли, от жизни всё, и после нас останется то, что называют чудом, искусством, красотой».
От лукавого
Отголоски тех семейных перипетий нашли отражение в следующем сборнике Крандиевской «От лукавого».
Не окрылить крылом плеча мне правого,
когда на левом волочу грехи.
Не искушай, я знаю, от лукавого
и голод мой, и жажда, и стихи.
Письма Толстого к ней наполнены любовью, нежностью и восхищением: "Моя нежная Наташа, весь день сегодня - как сон,томительный и радостный. Ты вошла в меня вся, со своими звездными мыслями...имя твое - Наташа - стало как заклинание... Я не причиню тебе боли никогда - пусть,если нужно страдание, дает его нам жизнь, но я только благословляю твой приход ко мне... Я никого никогда не любил, кроме тебя, я вижу теперь это ясно, Наташа. Как удивительно, что нам предстоит еще целая жизнь счастья...
Пойми, мы связаны навек. Так же, как я связан со своей жизнью...Нежно целую тебя, мой единственный ангел..."
На другой день после решающего объяснения с мужем Толстой тайно увёз Наталью в Москву. Она стала его третьей женой. Им суждено будет прожить 20 лет — с 1915 по 1935 год, 20 лет, прошедших в любви и счастье. 14 февраля 1917 года родился их общий сын Никита, позже, уже в эмиграции — Митя.

«Сейчас ночью читаю твои стихи — ты жизнь, мука, свет мой тёмный и ясный, с тобой бессмертие, вечное странствие, без тебя я труп. Жизнь моя, любовь, душа моя. Ты наполняешь меня болью и трепетом. Никогда так не страдал, не любил, не терпел. Всё, что есть живое на земле, всё только сон. Ты одна живая. Ты тело и дух и то, для чего я живу. А.Толстой», - это его надпись на книге стихов Натальи Крандиевской.
А вот её строки из этой книги:
* * *
Алексей — с гор вода!
Стала я на ломкой льдине,
И несёт меня — куда? —
Ветер звонкий, ветер синий.
Алексей — с гор вода!
Ах, как страшно, если тает
Под ногой кусочек льда,
Если сердце утопает!
Стихотворению предпослан эпиграф: «Алексей — Человек Божий, с гор вода. Календарь, 17 марта». Он как бы объясняет главную метафору — метафору ледохода. И всё же она несёт в себе предощущение грядущей катастрофы.
Жена
В мае 1917-го Наталья Крандиевская и Алексей Толстой обвенчались. Они были счастливы.
Покрой мне ноги тёплым пледом,
И рядом сядь, и руку дай,
И будет с ласковым соседом
Малиновый мне сладок чай.
Пускай жарок, едва заметный,
Гудит свинцом в моей руке, —
Я нежности ветхозаветной
Прохладу чую на щеке.
Крандиевская поэтизирует такие простодушные, сугубо домашние вещи, как «малиновый чай» - своего рода символ обыденной семейной жизни. Вспомним известные ахматовские строки о Гумилёве:
Он не любил, когда плачут дети,
не любил чая с малиной и женской истерики.
А я была его женой.
В начале века как никогда казалось, что нет на свете ничего скучнее, чем брачная форма отношений, своё как бы уже отжившая.
Как не бросить всё на свете,
не отчаяться во всём,
если в гости ходит ветер,
только дикий чёрный ветер,
сотрясающий мой дом, -
писал Блок. Цветаева писала: «Домом рушащимся &‐ слово «дом», выражая антидомостроевские, бунтарские тенденции. И если уж дом — то принципиально неуютный, необжитой, мало домашний: «не рассевшийся сиднем и не пахнущий сдобным, за который не стыдно перед злым и бездомным». Пути, которыми шла Цветаева, круша привычные каноны, давали принципиально новую модель жизни и творческого поведения. «Другие — с очами и личиком светлым, а я-то ночами беседую с ветром, не тем — италийским, зефиром младым, - с хорошим, с широким, российским, сквозным!» - пишет она, противопоставляя себя нежным красавицам былых времён. «Небось не растаешь — одна, мол, семья. Как будто и вправду не женщина я!» А Крандиевская — именно что женщина, именно что красавица, именно что другая. Она твёрдо шла по завещанной прабабками дороге, ни разу не позволив себе сойти на обочину, твёрдо держась традиций и испытанных ориентиров.
***
Мороз оледенил дорогу.
Ты мне сказал: «Не упади»,
И шел, заботливый и строгий,
Держа мой локоть у груди.
Собаки лаяли за речкой,
И над деревней стыл дымок,
Растянут в синее колечко.
Со мною в ногу ты не мог
Попасть, и мы смеялись оба.
Остановились, обнялись…
И буду помнить я до гроба,
Как два дыханья поднялись
Свились, и на морозе ровно
Теплело облачко двух душ.
И я подумала любовно:
И там мы вместе, милый муж!
В 1919 году Толстой с Крандиевской эмигрируют: переезжают в Париж, а оттуда — в Берлин. Жизнь на Западе была трудной. Наталья, окончив курсы кройки и шитья, подрабатывала шитьём платьев. Однако в её стихах эти трудные годы отражены как идиллия:
Я жёлтый мак на стол рабочий
В тот день поставила ему.
Сказал: «А знаешь, между прочим,
Цветы вниманью моему
Собраться помогают очень».
И дня рабочего покой,
И милый труд оберегая,
Сидела рядом я с иглой,
Благоговея и мечтая
Над незаконченной канвой.

Идиллия, предполагавшая отказ от личных притязаний на собственное творчество. В 1923 году Толстые возвращаются в Ленинград. Став женой знаменитого писателя, Крандиевская стала терять как писательницу себя. Она была секретарём, советчиком, критиком, часто даже переводчиком. «Я оберегала его творческий покой как умела. Плохо ли, хорошо ли, но я, не сопротивляясь, делала всё», - писала она. Вся её жизнь была положена на алтарь любви к мужу. Наталья целиком растворилась в нём.
А.Н. Толстой, «рабоче-крестьянский граф», набирал высоту, поднимаясь всё выше и выше, парил под самым куполом советской литературы, был вторым писателем Октября вслед за «буревестником» Горьким, демонстрируя чудеса высшего пилотажа, то есть ангажированности и конформизма по отношению к власти.

Пётр Кончаловский "А.Н.Толстой в гостях у художника"
Он получил от неё всё, что хотел: регалии, премии, материальный достаток. Мог кутить и бражничать, окружать себя приятными и дорогими вещами, шутить и балагурить. А его верная и обожаемая Туся оказалась в роли графской прислуги. После возвращения в Россию она практически перестала писать стихи — не было времени: надо было вести дом, хозяйство, воспитывать детей, помогать мужу. Она отдала ему всё, что у неё было: молодость, красоту, поэтический талант. И не считала это жертвой.

Если Ахматова, обращаясь к мужу, гордо восклицала: «Тебе покорной? Ты сошёл с ума! Покорна я одной Господней воле!», то Крандиевская, напротив, считала такую покорность благом, а всё остальное — от лукавого.
Мария Петровых писала о «цветаевской ярости» и «ахматовской кротости» (я бы сказала: не кротости, а гордости, кроткой Ахматова никогда не была, путь её - гордый, величественный, и уж никак не кроткий) — это две ипостаси женского характера в русской поэзии 20 века. И если Елизавета Кузьмина-Караваева, например, или Мария Шкапская прежде всего — Мать, живое её воплощение, то Наталья Крандиевская прежде всего - Жена. В древнем высшем смысле этого слова она оправдала всей жизнью это имя, это женское звание.
Разлучница
Когда Наталье Крандиевской исполнилось сорок семь — в её семью вошла разлучница, дочь наркома Крестинского Людмила Баршева, которая была на 21 год моложе её мужа.

Она была секретарём Толстого в их царскосельском доме — причём Наталья сама уговорила её помогать супругу в его писательских делах, пока была в городе. Людмила была умна, хорошо воспитана, знала французский, печатала на машинке. Какая горькая ирония судьбы! Крандиевская сама выбрала и привела в дом разлучницу. «Нанятая мной для секретарства Людмила через две недели окончательно утвердилась в сердце Толстого и в моей спальне».
Она и стала его четвёртой женой, на этот раз последней.

Однако Людмила утверждала, что заняла место, которое уже было «свободно и пусто». Раскол в отношениях Толстых назревал давно. Мы читаем об этом в воспоминаниях Крандиевской:
«Духовное влияние, «тирания» моих вкусов и убеждений, к чему я привыкла за 20 лет нашей общей жизни, теряло свою силу. Я замечала это с тревогой. Если я критиковала только что написанное им, он кричал в ответ, не слушая доводов: «Тебе не нравится? А Москве нравится! А 60 миллионам читателей нравится!» Если я пыталась, как прежде предупредить и направить его поступки в ту или другую сторону — я встречала неожиданный отпор, желание делать наоборот.
Мне не нравилась дружба с Ягодой, мне всё не нравилось в Горках. «Интеллигентщина! Непонимание новых людей! - кричал он в необъяснимом раздражении. - Крандиевщина! Чистоплюйство!» - терминология эта была новой, и я чувствовала за ней оплот новых влияний, чуждых мне, может быть, враждебных».
* * *
Мне снятся паруса,
Лагуна в облаках,
Песчаная коса
И верески в цветах.
Сквозь дрёму узнаю
За дымкой голубой
Твой путь в чужом краю
С подругой молодой.
Предчувствия и сны оправдались, став жестокой реальностью. Сначала воплощением их стала Надежда Пешкова, вдова сына Горького, потом — Людмила.

Из воспоминаний Натальи Крандиевской: «Я изнемогала. Я запустила дела и хозяйство. Я спрашивала себя: «Если притупляется с годами жажда физического насыщения, где же всё остальное? Где эта готика любви, которую мы с упорством маниаков громоздим столько лет? Неужели всё рухнуло, всё строилось на песке? Я спрашивала в тоске: «Скажи, куда же всё подевалось?» Он отвечал устало и цинично: «А чёрт его знает, куда всё девается. Почём я знаю?»

* * *
Он тосковал по мне когда-то
На этом дальнем берегу.
О том свидетельство я свято
В старинных письмах берегу.
Теперь другою сердце полно.
Он к той же гавани плывет,
И тот же ветер, те же волны
Ему навстречу море шлет.
И посетив мои кладбища,
В пыли исхоженных дорог,
Увы, он с новой жаждой ищет
Следы иных, любимых ног.
Зачем же сердцу верить в чудо
И сторожить забытый дом?
О, верность, — горькая причуда!
Она не кончится добром.
То, чего она страшилась и обречённо ждала, произошло летом 34-го. Она опишет это в стихотворении «Наш разрыв»:
* * *
Больше не будет свиданья,
Больше не будет встречи.
Жизни благоуханье
Тленьем легло на плечи.
Как же твоё объятие,
Сладостное до боли,
Стало моим проклятием,
Стало моей неволей?
Нет. Уходи. Святотатства
Не совершу над любовью.
Пусть — монастырское братство,
Пусть — одиночество вдовье,
Пусть за глухими вратами —
Дни в монотонном уборе.
Что же мне делать с вами,
Недогоревшие зори?
Скройтесь вы за облаками,
Больше вы не светите!
Озеро перед глазами,
В нем — затонувший Китеж.

Разрыв
В стихах Натальи Крандиевской мы читаем горькую и — несмотря ни на что — светлую историю её преданной любви и одинокой старости.
Как песок между пальцев, уходит жизнь.
Дней осталось не так уж и много.
Поднимись на откос и постой, оглядись, —
не твоя ль оборвалась дорога?
Равнодушный твой спутник идёт впереди
и давно уже выпустил руку.
Хоть зови — не зови, хоть гляди — не гляди,
каждый шаг ускоряет разлуку.
Что ж стоишь ты? Завыть, заскулить от тоски,
как скулит перед смертью собака...
Или память, и сердце, и горло — в тиски,
и шагать — до последнего мрака.

"Итак, всё было кончено. Сметено с пути всё, что казалось до сих пор нерушимым. Двадцать лет любви и сорок семь лет жизни. Таков свирепый закон любви. Он говорит: если ты стар — ты не прав. Если ты молод — ты прав и ты побеждаешь."
Разрыв с Толстым принёс Крандиевской большую боль. Она жалела, что отдала жизнь человеку, предавшему её, что уже поздно начать всё сначала. Почва ушла из-под ног. Вот когда постигаешь всю глубин/p p‐ style= pnbsp;у заповеди «Не сотвори себе кумира»!
Нет, это было преступленьем,
так целым миром пренебречь
для одного тебя, чтоб тенью
у ног твоих покорно лечь.
Воспоминания мучат её:
Мне снится твой голос над тихой рекой
И лунный свет.
Рука моя снова с твоею рукой.
Разлуки нет.
О, счастье моё! Я проснуться боюсь,
Боюсь вздохнуть.
Ты, призрак, ты, тень неживая, молю,--
Побудь, побудь!
Но тает твой облик, луной осиян,
Струится он.
Я только речной обнимаю туман,
Целую — сон!

Но Толстому было мало этой боли. Он опускался до такой мелочности, как делёжка вещей: «Милая Туся, - пишет он ей, - мне буквально не будет времени и денег на приобретение вещей...мне нужно вернуть в Детское: 1/ столовый сервиз, тот, что ты взяла теперь (серо-голубой). 2/ ковры, если ты их взяла. 3/ стулья и кресла, обитые бархатом. 4/ круглый шахматный столик из библиотеки. 5/ если ты взяла люстру из гостиной, то замени её новой. 6/ два петровских стула из столовой.7/ я не знаю, какие картины ты взяла, я хочу оставить у себя Греко «Христос и грешница», затем «Цереру» школы Фонтенбло, ту, что в столовой, «Марию Египетскую» Джампетрино, Тенирса (пейзаж), «Искушение Антония» и ту, что под ней («Крестный путь»), затем непременно «Женщину с лимоном». Я предлагаю тебе два итальянских натюрморта (с арбузом и с капустой) и картину с лисой и уткой. Затем я прошу привести в «Детское» «Корабли» (те, что у вас над диваном). Всё это я прошу вернуть до 14-го, так как 14-го я уже буду в Детском... Ты сама понимаешь, что разорённый дом, где негде сесть, с зияющими стенами, мало подходит для работы...»



Наталья резонно и достойно ему отвечает: «Что касается «торопливого разорения» детскосельского дома, то кто его разорил так торопливо? Неужели в этом я точно так же виновата? Во всяком случае, кабинет твой и спальня в таком виде, чтоб ты мог спокойно работать. Но уют, созданный в доме когда-то мною, ушёл вместе со мной из дома, разве это не естественно? Скажи? Разве не естественно, что новая твоя хозяйка должна внести в твою жизнь, в твою обстановку свои новые вкусы, свою индивидуальность, своё лицо? Прощай. Н.»

* * *
Я твоё не трону логово,
Не оскаливай клыки.
От тебя ждала я многого,
Но не поднятой руки.
Эта ненависть звериная,
Из каких она берлог?
Не тебе ль растила сына я?
Как забыть ты это мог?
В дни, когда над пепелищами
Только ветер закружит,
В дни, когда мы станем нищими,
Как возмездие велит,
Вспомню дом твой за калиткою,
Волчьей ненависти взгляд,
Чтобы стало смертной пыткою
Оглянуться мне назад.

Из дневника Крандиевской: «Случившееся с нами было неизбежно, и сетовать на это так же неумно, как грозить небу кулаком за то, что в нём совершаются космичекие процессы и в определённое время восходит и заходит солнце. Что же осталось от прошлого?»
***
Родинка у сына на спине
на твою предательски похожа.
Эту память ты оставил мне,
эта память сердце мне тревожит.
Родинка! Такая ерунда.
Пятнышко запёкшееся крови.
Больше не осталось и следа
от былого пиршества любови.

Одиночество
Она мужественно несла своё горе и одиночество, не опускаясь до дрязг, мести, сведения счётов в своих мемуарах. Она не уронила своей высоты и достоинства и продолжала его любить светло, прощающе, любить издалека.
Так тебе спокойно, так тебе не трудно,
если издалёка я тебя люблю.
В доме твоём шумно, в жизни — многолюдно.
В этой жизни нежность чем я утолю?
Отшумели шумы, отгорели зори,
день трудов окончен. Ты устал, мой друг?
С кем ты коротаешь в тихом разговоре
за вечерней трубкой медленный досуг?
Долго ночь колдует в одинокой спальне,
записная книжка на ночном столе...
Облик равнодушный льдинкою печальной
за окошком звёздным светится во мгле.
Милый, бедный, глупый! Только смерть научит
оценить, оплакать то, что не ценил.
А пока мы живы, пусть ничто не мучит,
только бы ты счастлив и спокоен был.

Как часто для нас признаком мужества служит непокорность судьбе, пресловутая борьба за своё чувство. Но разве меньше напряжения душевных сил, меньшего мужества и благородства требует решение уйти со сцены, в одиночку принять удар судьбы, выстоять, не зачеркнув прошлого, на запятнав его ничем, даже ревностью?
Зачем когтишь ты, старая, меня,
бессонницей мне изнуряешь тело,
ожогами нечистого огня?
Не им светила я, не им горела...
В стихах из цикла "Разлука" отчаяние, смятение, боль уступают перед доводами разума, перегорают в нелёгкой борьбе с самой собой, давая место врачующему покою, мудрой просветлённости чувства:
Глаза, распахнутые болью,
глядят на мир, как в первый раз,
дивясь простору и раздолью
и свету, греющему нас.
А мир цветёт, как первозданный,
в скрещенье радуги и бурь,
и льёт потоками на раны
и свет, и воздух, и лазурь.

* * *
Люби другую, с ней дели
Труды высокие и чувства,
Её тщеславье утоли
Великолепием искусства.
Пускай избранница несёт
Почётный груз твоих забот:
И суеты столпотворенье,
И праздников водоворот,
И отдых твой, и вдохновенье,
Пусть всё своим она зовет.
Но если ночью, иль во сне
Взалкает память обо мне
Предосудительно и больно,
И сиротеющим плечом
Ища плечо моё, невольно
Ты вздрогнешь, — милый, мне довольно,
Я не жалею ни о чём!

Наталью не смогла сломать эта страшная личная драма, лишившая её жизнь главного смысла.
Виноградный лист в моей тетради,
очевидец дней былых и той
осени, что в спелом винограде
разлилась отравой золотой.
Выпито вино того разлива
уж давно. И гол, и пуст, и чист
виноградник, где он так красиво
пламенел, засохший этот лист.
Те стихи, в которые закладкой
вложен он, — боюсь перечитать.
Запах осени, сухой и сладкий,
источает старая тетрадь.

В осаде
А потом грянула война. Наталья Крандиевская оказалась в блокадном Ленинграде и испытала все ужасы осаждённого города. Чуть не умерла голодной смертью — её чудом спасла подруга, пришедшая с кружкой киселя. А ещё ей помогали выжить стихи. Из сборника «В осаде»:
***
На салазках кокон пряменький
Спеленав, везёт
Мать заплаканная в валенках,
А метель метёт.
Старушонка лезет в очередь,
Охает, крестясь:
«У моей, вот тоже, дочери
Схоронён вчерась.
Бог прибрал, и слава Господу,
Легше им и нам.
Я сама-то скоро с ног спаду,
С этих со ста грамм».
Труден путь, далёк до кладбища.
Как с могилой быть?
Довести сама смогла б ещё,
Сможет ли зарыть?
А не сможет, сложат в братскую,
Сложат, как дрова,
В трудовую, ленинградскую,
Закопав едва.
И спешат по снегу валенки, -
Стало уж темнеть.
Схоронить трудней, мой маленький,
Легче – умереть.
Стихи Натальи Карандиевской из цикла «Блокадный дневник» поражают удивительной силой духа, выраженных не в прямых заявлениях и клятвах, не только в правдивых картинах блокадного быта, но и в уцелевшем чувстве юмора, направленном в первую очередь на самоё себя:
***
В кухне жить обледенелой,
Вспоминать свои грехи,
И рукой окоченелой
По ночам писать стихи.
Утром снова суматоха.
Умудри меня, Господь,
Топором владея плохо,
Три полена расколоть!
Не тому меня учили
В этой жизни, вот беда!
Не туда переключили
Силу в юные года.
Печь дымится, еле греет.
В кухне копоть, как в аду,
Трубочистов нет – болеют,
С ног валятся на ходу.
Но нехитрую науку
Кто из нас не превозмог?
В дымоход засунув руку,
Выгребаю чёрный мох.
А потом иду за хлебом,
Становлюсь в привычный хвост.
В темноте сереет небо,
И рассвет угрюм и прост.
С чёрным занавесом сходна,
Вверх взлетает ночи тень,
Обнажая день холодный
И голодный новый день.
Но с младенческим упорством
И с такой же волей жить
Выхожу в единоборство –
День грядущий заслужить.
У судьбы готова красть я,
Да простит она меня,
Граммы жизни, граммы счастья,
Граммы хлеба и огня!

Перед нами — стихотворное исследование жизни в самых страшных её проявлениях, документ не только поэзии, но и документ в прямом смысле слова. Документ истории.
* * *
На стене объявление: «Срочно!
На продукты меняю фасонный гроб.
Размер ходовой. Об условиях точно –
Галерная, девять». Наморщил лоб
Гражданин в ушанке оленьей,
Протер на морозе пенсне,
Вынул блокнот, списал объявленье.
Отметил: «справиться о цене».
А баба, сама страшнее смерти,
На ходу разворчалась: «Ишь, горе великое!
Фасо-о-нный еще им, сытые черти.
На фанере ужо сволокут, погоди-ка».

Наталья Крандиевская выживет и станет поэтом ленинградской блокады. Самым страшным и прекрасным, первым её поэтом. Впрочем, читатель узнает об этом спустя десятилетия. Стихотворный блокадный дневник Крандиевской был опубликован впервые в журнале «Юность» в 1988 году, к столетию поэтессы.
***
Смерти злой бубенец
Зазвенел у двери.
Неужели конец?
Не хочу. Не верю.
Сложат, пятки вперёд,
К санкам привяжут.
«Всем придёт свой черёд», -
Прохожие скажут.
Не легко проволочь
По льду, по ухабам.
Рыть совсем уж не в мочь
От голода слабым.
Отдохни, мой сынок,
Сядь на холмик с лопатой.
Съешь мой смертный паёк,
За два дня вперёд взятый.
Последняя разлука
Годы постепенно стёрли обиду, залечили рану. И теперь Наталья молила Бога об одном: только бы он был жив, только бы знать, что он есть, дышит, счастлив. Её сверхчуткое сердце и здесь предугадало, предвидело новую разлуку, более грозную и непоправимую, чем та, что была. Она давно этого страшилась.
***
Подумала я о родном человеке,
Целуя его утомленные руки:
И ты ведь их сложишь навеки, навеки,
И нам не осилить последней разлуки.
Как смертных сближает земная усталость,
Как всех нас равняет одна неизбежность!
Мне душу расширила новая жалость,
И новая близость, и новая нежность.
И дико мне было припомнить, что гложет
Любовь нашу горечь, напрасные муки.
О, будем любить, пока смерть не уложит
На сердце ненужном ненужные руки!
* * *
Уж мне не время, не к лицу
Сводить в стихах с любовью счеты
Подходят дни мои к концу,
И зорь осенних позолоту
Сокрыла ночи пелена.
Сижу одна у водоёма,
Где призрак жизни невесомый
Качает памяти волна.
Сядь рядом. Голову к плечу
Дай прислонить сестре усталой.
О днях прошедших — я молчу,
А будущих осталось мало.
Мы тишины ещё такой
Не знали, тишины прощения.
Как два крыла, рука с рукой
В последнем соприкосновенье.
* * *
Не будет этого, не будет!
И перед смертью не простит.
Обиды первой не забудет,
Как довод он её хранит,
Как оправданье всех обид.
А может быть, всего вернее,
На ложе смерти долго тлея,
Не вспомнит вовсе обо мне
В одной мучительной заботе
Ещё спасти остаток плоти,
Ещё держаться на волне.
Но знаю, что пути сомкнутся,
И нам не обойти судьбу:
Дано мне будет прикоснуться
Губами к ледяному лбу...
Ещё в декабре 1942 года Толстому врачами был поставлен безнадёжный диагноз — рак лёгкого. Умер он 23 февраля 1945 года в санатории «Барвиха», похоронен на Новодевичьем кладбище.

***
Мне всё привычней вдовий жребий,
Всё меньше тяготит плечо.
Горит звезда высоко в небе
Заупокойною свечой.
И дольний мир с его огнями
Тускнеет пред её огнём.
А расстоянье между нами
Короче, друг мой, с каждым днём.
***
Торжественна и тяжела
Плита, придавившая плоско
Могилу твою, а была
Обещана сердцу берёзка.
К ней, к вечно зелёной вдали,
Шли в ногу мы долго и дружно.
Ты помнишь? И вот — не дошли.
Но плакать об этом не нужно,
Ведь жизнь мудрена, и труды
Предвижу немалые внукам:
Распутать и наши следы
В хождениях вечных по мукам.

* * *
Там, в двух шагах от сердца моего,
Харчевня есть — «Сиреневая ветка».
Туда прохожие заглядывают редко,
А чаще не бывает никого.
Туда я прихожу для необычных встреч.
За столик мы, два призрака, садимся,
Беззвучную ведём друг с другом речь,
Не поднимая глаз, глядим — не наглядимся.
Галлюцинация ли то, иль просто тени,
Видения, возникшие в дыму,
И жив ли ты, иль умер, — не пойму…
А за окном наркоз ночной сирени
Потворствует свиданью моему.
«Недуги старости и бремя слепоты»
В конце жизни Крандиевской выпало ещё одно испытание, ещё одна проверка на мужество. Надвигающаяся слепота растворила всё окружающее в "бесформенном скоплении теней". Но она не сломлена. Она готова принять без ропота "недуги старости и бремя слепоты". Она напишет книгу стихов о старости, на удивление оптимистичных. Вот одно из них:
Вещи есть совсем обычные,
незаметные, привычные,
и не думаем о них.
Например, вот эта палочка,
путевод и выручалочка,
Антигона всех слепых.
Мне она отныне спутница,
от любой беды заступница,
шепчет: "Стой, не торопись,
осторожно, помаленечку
отыщи ногой ступенечку
и на ней не оступись!
Я в пути твоём разведчица,
я за каждый шаг ответчица,
шарю, шарю впереди...
Здесь ложбинка, здесь обочина,
здесь тропа дождём источена,
ну а здесь — смелей иди!"
И она идёт. Она верит в свою звезду и надежду. И об этом её стихотворение, написанное в 71 год:
Давно с недугами знакома,
и старость у меня как дома,
но всё же до сердцебиения
хочу весны, её цветения,
её пленительных тревог
и радостей (прости мне Бог).
Со сроками вступаю в спор.
И до каких же это пор?
Пора бы знать, что эти сроки
неоспоримы и жестоки.
Они — как длительный конфуз
для престарелых старых муз.
Стихами горбится подушка.
Стыдись, почтенная старушка,
и "поэтических затей",
и одержимости своей!
Усни. Сложи на сердце руки,
и пусть тебе приснятся внуки,
не элегический сонет.
Увы! Сонетов больше нет.
Но есть молчанье у порога,
где обрывается дорога.

***
Я не прячу прядь седую
В тусклом золоте волос.
Я о прошлом не тоскую--
Так случилось,так пришлось.
Все светлее бескорыстье,
Все просторней новый дом,
Все короче,проще мысли
О напрасном,о былом.
Но не убыль, не усталость
Ты несешь в мой дом лесной,
Молодая моя старость
С соучастницей-весной!
Ты несешь ко мне в Заречье
Самый твой роскошный дар:
Соловьиный этот вечер
И черемухи угар.
Ты несешь такую зрелость
И такую щедрость сил,
Чтобы петь без слов хотелось
И в закат лететь без крыл.
Закат жизни всегда печален, но как молодо и светло звучит голос поэта:
Давно отмерена земного счастья доза,
давно на привязи табун былых страстей,
но, Боже мой, как пахнет эта роза
над койкою больничною моей!
Сразу на память приходит ахматовское, тоже написанное на закате жизни:
Всё возьми, но этой розы алой
дай мне свежесть снова ощутить!
* * *
Мне не спится и не рифмуется,
И ни сну, ни стихам не помочь.
За окном уж с зарею целуется
Полуночница — белая ночь.
Все разумного быта сторонники
На меня уж махнули рукой
За режим несуразный такой,
Но в стакане, там, на подоконнике,
Отгоняя и сон, и покой,
Пахнет счастьем белый левкой.
Она сокрушённо называет свои стихи «виденьями идеалистки», а потом как бы невзначай добавляет: «но всё ж... они кому-то близки. И внучка не иронизирует, когда стихи мои цитирует в своей любовной переписке».

Татьяна Толстая, внучка Крандиевской
И мы не удивляемся этому, мы сами готовы их цитировать, их хочется переписать, заучить наизусть, они удивительно современны.
Неискажённый лик души
Наталья Крандиевская-Толстая скончалась 17 сентября 1963 года в возрасте 75 лет.
* * *
Стрела упала, не достигнув цели,
И захлебнулся выстрел мой осечкой.
Жила ли я? Была ли в самом деле,
Иль пребывала в праздности доселе, —
Ни чёрту кочергой, ни Богу свечкой,
А только бликом, только пылью звèздной,
Мелькнувшей в темноте над бездной?
Она похоронена в Петербурге на Серафимовском кладбище.

За десять лет до смерти Наталья Крандиевская написала стихотворение «Эпитафия»:
Уходят люди и приходят люди
Три вечных слова — было, есть и будет—
Не замыкая, повторяют круг.
Венок любви, и радости, и муки
Подхватят снова молодые руки,
Когда его мы выроним из рук.
Да будет он, и лёгкий и цветущий,
Для новой жизни, нам вослед идущей,
Благоухать всей прелестью земной,
Как нам благоухал. Не бойтесь повторенья.
И смерти таинство, и таинство рожденья
Благословенны вечной новизной.

В молодости она дала что-то вроде поэтической клятвы:
И есть ли что мудрее, люди, -
так, молча, пронести в тиши
на приговор последних судей
неискажённый лик души!
И клятву сдержала: с каждой страницы глядит на нас неискажённый лик этой прекрасной русской женщины, большого русского поэта.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/221411.html
|
|
Процитировано 6 раз
Понравилось: 6 пользователям
Неживое моё дитя |
Начало здесь
7 сентября 1952 года умерла Мария Шкапская.

***
Расчет случаен и неверен –
что обо мне мой предок знал,
когда, почти подобен зверю,
в неолитической пещере
мою праматерь покрывал.
И я сама что знаю дальше
о том, кто снова в свой черед
из недр моих, как семя в пашне,
в тысячелетья прорастет?
***
О, сестры милые, с тоской неутолимой,
В вечерних трепетах и в утренних слезах,
С такой мучительной, с такой неукротимой
С несытой жадностью в опущенных глазах.
Ни с кем не вяжут вас невидимые нити,
И дни пустынные истлеют в мертвый прах.
С какою завистью вы, легкие, глядите
На мать усталую, с ребенком на руках.
Стекает быстро жизнь, без встречи, но в разлуке...
О, бедные, ну как помочь вам жить,
И темным вечером в пустые ваши руки
Какое солнце положить?
***
Я остро не люблю сближающего “ты” –
Оно как комната, в которой всё знакомо.
Как нераскрытые, как ждущие цветы –
Почтительного “Вы” мне сладостна истома.
За этим строгим “Вы” всегда тонка печаль,
Но не исчерпана бездонная возможность,
За ним скрывается в печальную вуаль
Касаний ласковых пьянительная сложность.
Почтительное “Вы” кладу, как талисман,
У входа строгого души моей чертога. –
Кому не сладостен его живой обман –
Не перейдёт заветного порога.
Мария Шкапская (урождённая Андреевская) родилась в Петербурге в 1891 году. Детство её прошло в достоевских питерских трущобах.
Она очень любила свой город, отражённый во многих её стихах.
***
Петербуржáнке и северянке,
Люб мне ветер с гривой седой,
Тот, что узкое горло Фонтанки
Заливает Невской водой.
Знаю, будут любить мои дети
Невский седобородый вал,
Оттого, что был западный ветер,
Когда ты меня целовал.
Отец был душевнобольным, получал грошовую пенсию, мать — парализована, будущей поэтессе с 11 лет приходилось зарабатывать на жизнь семье из семи человек. Свалка городского мусора была источником существования для городской бедноты. Девочка собирала там кости, тряпки, жестянки, строительный мусор на продажу, стирала бельё соседям. На трудовые копейки умудрилась выучиться, писала письма на почте, надписывала адреса, позже давала уроки. Окончив два курса медицинского факультета, дежурила в больницах, психиатрических клиниках. Никогда не жаловалась, даже благодарна была этой школе жизни: она закалила характер, приучила к труду.
В 1910 году Мария Андреевская окончила гимназию и вышла замуж за студента. Тогда и стала Шкапской – по мужу.

В поэзию Мария Шкапская пришла со своей отчётливой неповторимой интонацией. Стихи она обычно записывала в строчку, как прозу, словно стыдясь искусственности, неприродности говорения в рифму. Ей казалось: писать стихи стыдно. Не стыдно писать стихами только о том, о чём стыдно говорить иначе.
Я вся из острых углов,
всегда, для всех — недотрожка.
Боюсь завершённых слов
и правды боюсь немножко.
Куда-то ведут — куда? —
следы на спутанном плане.
Безумье и жизнь всегда
на острой, как бритва, грани.
Шкапская вся — на грани. Может быть, поэтому её услышали немногие, и немногие из услышавших — не испугались. Имя Шкапской всегда было известно в тесном кругу поэтов и любителей поэзии, но упоминание этого имени обычно вызывало не только восхищение её стихами, но и некоторую иронию, мужскую усмешку. Считалось, что женщине всё-таки неприлично доходить до такой степени откровенности.
Мария Шкапская - вторая слева
Она писала о том, о чём говорить было в обществе не принято: об утрате девственности, о половой любви, деторождении, абортах, выкидышах, женских разочарованиях.
Да, говорят, что это нужно было...
И был для хищных гарпий страшный корм,
и тело медленно теряло силы,
и укачал, смиряя, хлороформ.
И кровь моя текла, не усыхая —
не радостно, не так, как в прошлый раз,
и после наш смущённый глаз
не радовала колыбель пустая.
Вновь, по-язычески, за жизнь своих детей
приносим человеческие жертвы.
А ты, о Господи, Ты не встаёшь из мёртвых
на этот хруст младенческих костей!
"До Вас женщина не говорила так о себе", — писал ей несколько обалдевший от прочитанного Горький. Михаил Кузмин нашёл её стихи чересчур физиологичными (странно, вообще-то, слышать подобное от автора полупорнографических "Крыльев", но, вероятно, непристойной Кузмину казалась только женская физиология). М. Гаспаров в предисловии к "Избранному" М.Шкапской пишет, что о её стихах упоминать как бы не принято. И то сказать, это не самое приятное чтение. Тут много крови, много натурализма. Один салонный критик даже назвал её стихи "менструальной поэзией".
Было тело моё без входа
и палил его чёрный дым.
Чёрный враг человечьего рода
наклонялся хищно над ним.
И ему, позабыв гордыню,
отдала я кровь до конца
за одну надежду о сыне
с дорогими чертами лица.
С поэзией Шкапской впервые в целомудренную русскую литературу вошла очень интимная, а потому и несколько скандальная, как говорили тогда остряки сомнительного толка, «гинекологическая тема», тема женского пола и плоти: «зачатного часа», беременности и аборта, крови, рожденных и зачатых, но не рожденных, детей, истории библейских женщин и праматери человеческого рода Евы. Счастье и трагедию женской натуры Шкапская передает изнутри, психологически тонко и глубоко. Не боясь показаться примитивной и неэлегантной, она показывала материнство как чудодейство, как акт женского творчества.
О тяготы блаженной искушенье,
соблазн неодолимый зваться "мать"
и новой жизни новое биенье
ежевечерне в теле ощущать!
По улице идти как королева,
гордясь своей двойной судьбой.
И знать, что взыскано твоё слепое чрево,
и быть ему владыкой и рабой,
и твёрдо знать, что меч Господня гнева
в ночи не встанет над тобой.
И быть как зверь, как дикая волчица,
неутоляемой в своей тоске лесной,
когда придёт пора отвоплотиться
и стать опять отдельной и одной.
В её стихах оживает истина женской судьбы. Вот как описывал её Александр Бахрах:
«В её облике было что-то от запоздалой народоволицы, от Софьи Перовской, в лучшем случае, от немного лубочного изображения революционерки начала века, от «вечной курсистки» предреволюционных лет. Довольно высокая, в юбке до полу, с закрывающими уши буклями калачиком, без тени малейшего внешнего кокетства, казалось, что ей неведомо понятие «косметика». Если судить по её лирике, несмотря на присутствие темперамента, она была совершенно чужда «вечной женственности», но зато никогда не забывала о материнстве и почти с каким-то вызовом не переставала о нём говорить».

У Шкапской в то время был страстный, бурный роман. Тогда же она пережила аборт, оказавшийся для неё едва ли не главным, страшнейшим переживанием: почти все стихи из книги "Матерь Долороза" (1921) — книги, сделавшей ей имя, посвящены нерождённому сыну.
Неживое моё дитя,
в колыбель мы тебя не клали,
не ласкали, ночью крестя,
губы груди моей не знали.
На кладбище люди идут —
дорогая сердцу задача, —
отошедшим цветы снесут
и живыми слезами плачут.
Обошла бы кругом весь свет —
не найду дорогой могилки.
Только в сердце твой тихий след,
плоть от плоти, от жилок жилка.
Неживое моё дитя,
в колыбель мы тебя не клали,
не ласкали, ночью крестя,
губы груди моей не знали.

Не ставшее плотью — стало словом. И на этом искусство кончилось, их место заступили почва и судьба ... Гибель сына и гибель тысяч нерождённых детей, и всех, кто был когда-то детьми — вот главная тема Марии Шкапской. И всех этих мёртвых, как и своих мёртвых, Шкапская, с её изначально трагическим мировоззрением, чувствует кровно близкими, своими. Здесь и происходит её отождествление с Россией, которая должна была родить новое и великое, а вместо этого захлёбывалась собственной кровью.
Ах, дети, маленькие дети,
как много вас могла б иметь я
вот между этих сильных ног —
осуществлённого бессмертья
почти единственный залог.
Когда б ослеплена миражем
минутных ценностей земных,
ценою преступленья даже
не отреклась от прав своих.
"Вот между этих сильных ног", — да, это сильно сказано. И у самой Цветаевой, известной своей лирической дерзостью, немного найдётся подобных физиологизмов, поскольку Цветаева мыслила себя всё же прежде всего воплощённой душой, Психеей, которую плоть только обременяет. В стихах Шкапской всё иначе: тут не дух воплощён, а плоть одухотворена, и главное её оправдание — в деторождении, продолжающем род и делающем женщину сопричастной бессмертью.
Под сердцем тепло и несмело
оно шевелилось и жило.
Но тело, безумное тело,
родной тяготы не сносило.
И мне всё больней и жальче
и сердце стынет в обиде,
что мой нерождённый мальчик
такого солнца не видит.
Не снись мне так часто, крохотка,
мать свою не суди.
Ведь твоё молоко нетронутым
осталось в моей груди.
Ведь в жизни — давно узнала я —
мало свободных мест.
Твоё же местечко малое
в сердце моём как крест.
Что ж ты ручонкой маленькой
ночью трогаешь грудь?
Видно, виновной матери —
не уснуть!
Эта боль о нерождённом ребёнке не покидала её никогда, даже когда родила и вырастила двух сыновей и дочь. Она кричала в своих стихах о том, о чём все женщины обычно молчат. Душа её кричала.
В землю сын ушёл — и мать
от земли не может встать.
Был он нежный, был родной,
был он ей, лишь ей одной, —
нежный тёплый голышок,
в теле розовый пушок.
Станут старше, взрослее дети,
и когда-нибудь Лелю и Ате
расскажу я о старшем брате,
который не жил на свете.
Будут биться слова, как птицы,
и томиться будут объятья.
Опустив золотые ресницы,
станут сразу серьёзны братья.
И, меня безмолвно дослушав,
скажут: "Как ты его хотела!
Ты ему отдала свою душу,
а нам — только тело".
И тогда только, милый Боже,
я пойму, что всего на свете
и нужней, и теплей, и дороже
мне вот эти, живые дети.
И Тебе покорна и рада,
и прощу того, неживого,
вот за эти Твои лампады,
за Тобой рождённое слово.

памятник нерождённым детям в Словакии. Скульптор Martin Hudacek.
Мы рождаем их в муках сами,
Но берешь Ты их в райский сад.
Разошью цветными шелками
Богородице белый плат.
Ведь в Твои поля без возврата
Раньше дня никто не сойдет.
Если встретишь мое дитя Ты -
Оботри ему смертный пот.
И скажи ему, сжав ручонку,
Что Тебе позволила мать
Отошедшему в ночь ребенку
За себя этот долг отдать.
Она не могла сказать, как Цветаева: "Мной совсем ещё не понято, что дитя моё в земле", потому что именно с этого понимания Шкапская и начинается. Она не могла сказать, как Ахматова: "Отыми и ребёнка, и друга, и таинственный песенный дар", она, всегда молившая Господа об обратном:
До срока к нам не протягивай
тонких пальцев своих,
не рви зелёные ягоды,
не тронь колосьев пустых.
Ткани тугие, нестканные,
с кросен в ночи не снимай.
Детям, Тобою мне данным,
вырасти дай.
В отличие от Цветаевой и Ахматовой, для Шкапской главное — не мужчина, не муж, не любовь, главное — это счастье быть матерью.
Справилась бы со жгучей жаждой,
сердце терпеливо и звонко.
Милого может заменить каждый,
но кто даст мне его ребёнка?

Как много женщин ты ласкал
и скольким ты был близок, милый.
Но нёс тебя девятый вал
ко мне с неудержимой силой.
В угаре пламенных страстей
как много ты им отдал тела,
но матерью своих детей
ты ни одну из них не сделал.
Какой святой тебя хранил?
Какое совершилось чудо?
Единой капли не пролил
ты из священного сосуда.
В последней ласке не устал
и до конца себя не отдал.
Ты знал? О, ты, наверно, знал,
что жду тебя все эти годы!
Что вся твоя, и вся в огне,
полна тобой, как мёдом чаша.
Пришёл, вкусил, и — весь во мне,
и вот дитя — моё и наше.
Полна рука моя теперь,
мой вечер тих и ночь покойна.
Господь, до дна меня измерь, —
я зваться матерью достойна.
Один за другим выходят сборники ее стихов. «Mater dolorosa» (1921), «Кровь-руда» (1922), «Час вечерний» (1922), «Барабан строгого господина» (1922), «Ца-Ца-Ца» (1923), «Земные ремесла» (1925). Она готовит новый сборник стихов «Кесарево сечение», которому не суждено было выйти.
И вдруг наступает катастрофа. В письме от 25 декабря 1925 года Шкапская пишет о том, что только что потеряла близкого человека, с которым прожила 10 лет, отца ее второго сына: он стрелял в себя и умер у нее на руках. Она сама находится на грани самоубийства, но считает, что не имеет права покончить с собой из-за детей. «Я не могу больше писать, я никогда не буду больше писать... С отчаяния взяла работу, которая мне подвернулась, поступаю с начала января фабричной работницей к станку». Несколько позже этому же адресату она напишет, что «получила предложение от Красной газеты поехать корреспондентом на три недели в Белоруссию. Это уже какой-то выход и работа, хотя и не очень вкусный и желательный, но дети больны, раздумывать некогда. Я такая потерянная сейчас». Так, собственно, она ушла в журналистику и никогда больше не вернулась к стихам, твердо и решительно «наступив на гордо собственной песне» .

«Может быть, я не настоящий поэт. Меня всегда больше заботит — как бы не помешало мое творчество — моей живой реальной жизни » — это ее признание 1923 года помогает лучше понять, почему она, когда реальная жизнь захлестнула ее со страшной силой, бросила писать стихи. Но были, конечно, и другие причины. А самое главное — общая социально-идеологическая установка, когда за равенство в правах с мужчиной и за свою гражданскую независимость женщина расплачивалась потерей сознания о своем первородном даре, о своей естественной и исключительной роли в жизни мужчины.
Тайна любви, опыт ее познания, смысл женского предназначения были поставлены вне интересов нового общества. Поэт Шкапская не могла согласиться с такой подменой, ее лирика всегда возвращала в другой, интимный мир:
Ты стережешь зачатные часы,
Лукавый Сеятель, недремлющий над нами, —
и человечьими забвенными ночами
вздымаешь над землей огромные весы.
Но помню, чуткая, и — вся в любовном стоне,
в объятьях мужниных, в руках его больших —
гляжу украдкою в широкие ладони,
где Ты приготовляешь их —
к очередному плотскому посеву —
детенышей беспомощных моих, —
слепую дань страданию и гневу.
Выведенная из самых тайников женской натуры, подобная тематика вытеснялась со страниц ее книг всем складом современной жизни, «многоэтажной и жестокой», «скудной» и трагической, которая не оставляла место для индивидуального самоопределения, для самосознания о «чудесной и особенной» игре — рождении и воспитании собственных детей:
Под шагами тяжкими и важными,
как былинки впутались они
в наши жесткие, многоэтажные,
в городские наши дни.
Забываем мы о них неделями
и с утра отводим в детский сад,
их — невоплощенных Рафаэлями,
не таких, что пел Рабиндранат.
Нет у нас чудесных и особенных,
и они такие же, как мы,
дети той же скудной родины,
узники одной тюрьмы.
Как же сделать их могли бы мы
непохожими на нас,
если не с кем было быть счастливыми
матерям в зачатный час.
Дальнейшая судьба Шкапской вписывается в общую картину трагедии поколения, которое не только растратило своих поэтов, но которому было суждено потерять многих своих детей.
В 1937 году был арестован брат. Без вести пропал на фронте ее сын. Он вернется из плена, переживет лагерь. Мать так и не узнает о том, что он остался жив.
Мария Шкапская была одинока тем пронзительно студящим душу одиночеством, которого не понять непоэту. Её строки шокируют, даже пугают:
Гроб хочу с паровым отоплением,
на парче золотые отливы,
жидкость ждановскую против тления
и шопеновские к ней мотивы.
Калорифер от топки нагреется –
и в гробу отворяется дверца.
Пусть хоть кости в могиле согреются,
если в холоде умерло сердце.
При жизни она выпустила пять сборников стихов и оказалась прочно, капитально забыта. А между тем в 1923 году Флоренский ставил её вровень с Цветаевой, выше Ахматовой.
У Шкапской есть два стихотворения, которые, продолжая ее инвариантную тему матери и ребенка, имеют прямое отношение к Блоку. Одно, с посвящением Блоку, было написано в 1920 году: «Детей от Прекрасной Дамы // Иметь никому не дано». Второе стихотворение «Что ты там делаешь, старая мать?» было написано на смерть поэта для матери Блока, с которой Шкапскую связывала большая дружба.
– “Что ты там делаешь, старая мать?”
– “Господи, сына хочу откопать,
только вот старые руки мои
никак не осилят чёрной земли”.
– “Старая мать, неразумная мать,
сын твой в Садах Моих лёг почивать”.
– “Господи, я только старая мать,
надо бы прежде меня было взять”.
– “Будет твой срок и исполнится день.
Смертная к сердцу наклонится тень”.
– “Господи, рада бы в землю я лечь,
да будет ли радость чаянных встреч?
Сможешь ли землю заставить опять
матери милое тело отдать?”
– “Дух его – Мне, а земле только плоть,
надо земное в себе обороть.
Что же ты делаешь, старая мать?”
--Господи, сына хочу откопать”.
Последний сборник Шкапской вышел в 1927 году. Больше до самой смерти в 1952-ом она стихов не писала. “Стихов сейчас не пишу, – сообщает она в своей автобиографии. – Поэт я лирический, а нашей эпохе нужны иные, более суровые ноты. И потом кажется мне, что и поэт я ненастоящий, и в литературе тоже такой же случайный странник, как и во всех других областях жизни”.
Господи, всё я приемлю –
вышла в назначенный срок,
в час предначертанный в землю
лягу в сырой уголок.
Полной отмеренной мерой
груз моей боли несу,
сею с надеждой и верой
в жизни свою полосу.
Надежды не оправдались. В 50-е годы репрессировали младшего сына. Больше она его не видела. Подступили старость, болезни, одиночество.
***
Не читай листков пожелтелых.
Твердо помни о них одно:
Это только бумажное тело,
А душа умерла давно.
***
Не смерть страшна. Перед её косою
душа чиста.
Нет, страшно то, что даль передо мною
пуста.
Заряд ее материнского инстинкта, не растраченный до конца в творчестве и в жизни, дал знать о себе в той страсти, с которой она стала разводить собак после войны — Москва до сих пор помнит ее как умелого собаковода и заядлую собачницу.
В последние годы жизни её главным утешением стали собаки. В доме всегда жили пудели.
Шкапская вошла в совет московского клуба собаководов, как когда-то в президиум Петроградского союза поэтов. Она даже готовила к печати книгу «Судьба собаки в СССР» .
Умерла она странной и нелепой смертью. На выставке собак в сентябре 1952-го года к ней кто-то подошёл и сказал, что пудели, прошедшие её контроль, неправильно повязаны. Она упала прямо на арене, где проходил этот собачий парад. Разрыв сердца.
Сегодня солнце всё в морщинках
и небо – как писал Каррьер.
Со мною томик Метерлинка
и неразумный фокстерьер.
И след того, за чем бессмертье,
в собачьих светится глазах, –
любви, поднявшейся над смертью,
любви, преодолевшей страх.

Из шестидесятилетнего забвения Марию Шкапскую вызвал Е. Евтушенко, напечатав её стихи в своей “Антологии” в “Огоньке” 1987-го года. В 1996 году в Москве вышло “Избранное” Шкапской, изданное её дочерью Светланой Глебовной за свой счёт тиражом в 150 экземпляров.
Мне удалось лет десять назад достать её сборник 2000-го года «Час вечерний», изданный в Петербурге, и с тех пор я с ним не расстаюсь. В 2002 году проводила о ней вечер в областной научной библиотеке. Услышав или прочитав однажды стихи Шкапской — забыть их уже невозможно.
Как писала Мария Шкапская!
И откуда взялось такое?!
Что-то плотское, чисто бабское,
изболевшееся, людское...
Не узнавшая счастья женщина,
с детства мыкалась, стиснув зубы.
Дома — полная достоевщина:
мать недвижна, отец безумен...
Не страшась никакого жупела, -
ни помоек, ни катафалка -
в сумасшедших домах дежурила,
собирала тряпьё на свалках.
И в словесность влилась бездонную
не каким-то путём окольным -
на кресте распятой мадонною,
со своею тоской и болью.
И писала о детских саванах,
колыбельках пустых, абортах -
но такими словами кровавыми -
как Господь не восстал из мёртвых?!
Всех грехов земных искуплением
как измучено её сердце!
И в гробу с паровым отоплением
нипочём ему не согреться.
Не боюсь о стихи пораниться.
Чем горчее строка — тем слаще.
«Я в поэзии — только странница.
И поэт я — ненастоящий». -
Так писала Мария Шкапская,
но не ведала своей силы.
Вот читаю — и слёзы капают.
А душа говорит: спасибо.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/141955.html#comments
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 2 пользователям
Стихи об осени |
***
А небо беременно радугой,
лежит на верхушках леса.
Губами ловлю, как патоку,
последнюю ласку лета.
Зелёное братство сосновое,
берёзово-белое царство, -
о древнее, вечно новое,
единственное лекарство!
Лишь ты не обманешь доверия,
не ведая собственной власти.
К деревьям — моим поверенным -
спешу нашептаться всласть я.
Зелёное, жёлтое, алое
в прощальном кружит карнавале.
Недаром когда-то ангелы
вас кронами короновали.
Ах, лето, мой рай потерянный...
Прощай, колдовство факира!
И ветер суровый, северный
холодной взмахнёт секирой.
Но вновь зарубцуются раны те,
и всё будет, как вначале...
Я ваша сестра по радости,
по кротости и печали.
Не все ещё корни вырваны
из прошлого в жизни новой.
О сердце! Ещё не вырублен
твой розовый сад вишнёвый!

***
Последние взгляды лета
ловлю влюблённо.
Сыграет мне флейта леса
ноктюрн зелёный.
Пока ещё холод редок,
но блёкнут краски.
Скажите же напоследок
хоть слово ласки.

***
Осенний лист упал, целуя землю.
Деревьев целомудренный стриптиз...
И все мы занимаемся не тем ли,
в какие мы одежды ни рядись?
Я изучаю ремесло печали,
её азы читаю по складам,
усваиваю медленно детали
того, что неподвластно холодам.
Того, что неспособны опровергнуть
хорал ветров и реквием дождя.
Того, что учит: если очень скверно,
ты улыбнись, навеки уходя.
Я приглашаю Вас на жёлтый танец,
прощальный вальс в безлиственной тиши.
И не пугайтесь, если вам предстанет
во всей красе скелет моей души.
***
Осыпается лес. Засыпает, шурша...
Конфетти устилает мой путь.
Облетает с деревьев и душ мишура,
остаётся лишь голая суть.
Как воздетые руки в пролёты небес -
задрожавшие струны осин.
И звучит осиянней торжественных месс
тот осенний лесной клавесин.

О концерт листопада, листопадный спектакль!
Я брожу до упаду, попадая не в такт
этой азбуке музык, попурри из надежд,
изнывая от груза башмаков и одежд.
Смесь фантазии с былью, холодка и огня, -
листопадные крылья, унесите меня
вихрем лёгкого танца далеко-далеко,
где улыбки багрянца пьют небес молоко.
***
Осень, осень, розовое небо!
Твой закат надрывен и багрян.
Всё бледней, грустней улыбка Феба
в обрамленье охры октября.
Осень, осень, музыка прощанья...
Твоя ласка, нежно-холодна,
растворилась в воздухе печально,
птичьим клином клича из окна.
Осень, осень, золотое сердце!
Холодок ладоней на виски.
Отвори в свои чертоги дверцу,
разожми тиски моей тоски.
Осень, осень, ранние морозы.
Поцелуи, тронутые льдом.
И деревья гнутся, как вопросы.
Но ответ узнаешь лишь потом.

***
Я осень люблю и в природе, и в людях,
когда успокоятся жаркие страсти,
когда никого не ревнуют, не судят,
и яркое солнце глаза уж не застит.
На кроткие лица гляжу умилённо,
их юными, дерзкими, детскими помня.
А жёлтые листья красивей зелёных,
и лунная ночь поэтичнее полдня.
* * *
Душа не стареет, как мудрые книги,
но освобождается, как от одежд.
И, словно цветы, осыпаются миги
разлук и свиданий, обид и надежд.
Всё то, что когда-то держало под током,
сгорело, спалив за собою мосты.
Душа, приближаясь к исконным истокам,
с себя понемногу снимает пласты.
Как листья роняет последние роща,
спадает всё то, что влекло в суете.
Всё к старости станет яснее и проще,
приблизится к истине и чистоте.

***
А на пороге осень -
трефовая, бубновая...
Бросает карты в просинь -
на жизнь гадает новую.
А может, то не карты,
а золото монет,
то, что в огне азарта
готова свесть на нет?
Что лето накопило,
собрав в одной горсти,
вмиг в горечи распыла
всё по ветру пустив?
А может, и не деньги,
а что ценнее клада,
и что ей, словно Стеньке,
швырнуть в пучину надо?
А может, то листовки
с призывом жечь и рушить,
стволы дерев — винтовки,
разделанные туши...
Мне осень ворожила,
учила меня вздорному:
разбрасываться жизнью
на все четыре стороны.

***
Мокрая осень
стучится в окно.
Золото с охрой
облезли давно.
Слышится тонко:
«Пусти, обогрей!»
Осень с котомкой
стоит у дверей.
Пусто в котомке,
дыряво бельё.
Где же, мотовка,
богатство твоё?
Осень-растратчица,
где же твой дом?
Плачется, плачется
ей за окном...

***
Как слёзы по лицу, струятся годы,
покуда их источник не иссяк.
В них что-то от бессмертия природы,
когда из праха воскресает всяк
для жизни новой... Листья желтолицы,
напоминая лик немолодой.
Как я сейчас хотела б с ними слиться,
совпав с травою, небом и водой.
По жизни плыть, не зная сроду броду,
вдыхая этот воздух голубой,
сливаясь с равнодушною природой,
с землёй, с народом... только не с толпой.
***
Осень в душе и очки на носу -
я их давно уж по жизни несу.
Что ещё к этому могут добавить
морось и темень в девятом часу?
Всё-таки лета ушедшего жаль.
Мёртвые листья уносятся вдаль.
Катятся годы и хмурятся своды,
и умножают печаль на печаль.

***
Листья падают – жёлтые, бурые, красные – разные.
Все когда-нибудь мы остаёмся на свете одни.
Одиночества можно бояться, а можно и праздновать.
Я иду на свиданье с тобою, как в давние дни.
Я иду на свиданье с собою – далёкою, прошлою.
Вон за тем поворотом... туда... и ещё завернуть...
И хрустит под подошвами пёстрое кружево-крошево,
как обломки надежд и всего, что уже не вернуть.
Не встречается мне. Не прощается. Не укрощается.
В чёрном небе луна прочитается буквою «О».
Не живётся, а только к тебе без конца возвращается.
Одиночество. Отчество. О, ничего, ничего...

***
Нa деревьях осенний румянец.
(Даже гибель красна на миру).
Мимо бомжей, собачников, пьяниц
я привычно иду поутру.
Мимо бара «Усталая лошадь»,
как аллеи ведёт колея,
и привычная мысль меня гложет:
эта лошадь усталая – я.
Я иду наудачу, без цели,
натыкаясь на ямы и пни,
мимо рощ, что уже отгорели,
как далёкие юные дни,
мимо кружек, где плещется зелье,
что, смеясь, распивает братва,
мимо славы, удачи, везенья,
мимо жизни, любви и родства.
Ничего в этом мире не знача
и маяча на дольнем пути,
я не знаю, как можно иначе
по земле и по жизни идти.
То спускаясь в душевные шахты,
то взмывая до самых верхов,
различая в тумане ландшафты
и небесные звуки стихов.
Я иду сквозь угасшее лето,
а навстречу – по душу мою –
две старухи: вручают буклеты
с обещанием жизни в раю.

***
Лес в ноябре. Осыпавшийся, чёрный,
как лепрозорий рухнувших надежд.
Графический рисунок обречённых.
Скелет без тела. Кости без одежд.
Отбушевало лиственное пламя
и превратилось в пепел, прах и дым.
Прорехи света робко меж стволами
сквозят намёком бледно-голубым.
Лес в ноябре. Обугленные души.
Заброшенность. Пронзительность осин.
Но ты всмотрись и жадно слушай, слушай,
что этот лес тебе всё тише, глуше
бескровно шепчет из последних сил.

***
Золотая моя природа!
А зима уже на носу.
Словно перекись водорода,
обесцветит твою красу.
Обессмертит твои творенья
в изваяниях снеговых,
затушует твоё горенье,
заморозит живой порыв.
Не меняй же своё обличье
на величье, безгрешья спесь.
Будь неприбранной, пёстрой, птичьей,
замарашкой, какая есть!
Расстилай лоскутный ковёр свой,
дли роскошную нищету.
Не спеши в это царство мёртвых,
в эту звёздную мерзлоту.

* * *
Увядая, облетая,
листьев кружится метель.
Золотая, золотая,
золотая канитель.
Я нисколько не тоскую,
не устану я смотреть
на красивую такую
листьев золотую смерть.
Осени конец летальный…
Как бы, прежде чем умру –
научиться этой тайне
красной смерти на миру.
***
Средь облетевшего и голого,
заиндевевшего едва,
природа поднимает голову
и шепчет: «Я ещё жива!»
Жива – назло унылым мистикам,
пугавшим полночью часам,
покуда хоть единым листиком
ещё стремится к небесам.
И я, над рощей сиротливою
следя полет нездешних Сил,
учусь у ней, как быть счастливою,
когда на это нету сил.

***
И нависло звёздною улыбкой,
дымчатой, игольчатой и зыбкой,
надо мною прошлое моё.
Птичьим кликом оглашая дали,
нажимая враз на все педали,
бытиё ушло в небытиё.
Время листопада, звездопада.
Ропщет роща посреди распада,
но ветра берут её в кольцо.
Я стою одна как на ладони,
больше не спасаясь от погони,
подставляя холоду лицо.

***
Когда наступает осень –
тепла отступает власть.
– Как жизнь? – при встрече он спросит.
– Спасибо. Не задалась.
Как стук отдалённой трости –
всё ближе грома стихий.
– Как жизнь? – однажды Он спросит. –
И я предъявлю стихи.
|
|
Процитировано 3 раз
Понравилось: 1 пользователю
После смерти |
3 сентября 1883 года умер Иван Сергеевич Тургенев.

Моя самая любимая вещь у него - «После смерти» (Клара Милич). Я прочитала её впервые в 13 лет и — буквально заболела: поднялась температура, била лихорадка, такое было потрясение. Перечитываю её постоянно и в каждом возрасте открываю всё новые пласты и нюансы.
"Клара Милич" - последняя и самая загадочная повесть И.С. Тургенева. Он закончил ее осенью 1882 года на своей французской вилле в Буживале, за год до кончины, зная, что неизлечим.
С первого же появления в "Вестнике Европы" и доныне критики и читатели дают ей самое разное толкование: в ней находят и отголоски личной драмы автора, и библейские мотивы, и мистицизм. Что, кстати, Тургенев и предвидел. Опасаясь обвинений в спиритизме, он и переименовал повесть, в рукописи названную "После смерти". А самой смерти Тургенев не боялся: "Пока я не отказался от всякой надежды - было хуже, - писал он друзьям, - мне 64 года; пожил в свое удовольствие, а теперь - надо и честь знать. И работать теперь могу, - именно с тех пор, как я бросил все думы о будущем..."
Умирая, Тургенев написал повесть о любви. О любви, во имя которой отказываются от жизни. О любви, которая побеждает смерть.

И.Анненский из книги «Отражения»:
«О, теперь я отлично понимаю ту связь, которая раз навсегда сцепила в моей памяти похороны Тургенева с его последней повестью.
Тургенев написал "Клару Милич" в Буживале в октябре 1882 г., а меньше чем через год после этого ученый ботаник в распушенных сединах говорил над его могилой речь о давно погасших звездах; и слова его падали старчески-медленно, а рядом также медленно падали с дрожащих веток желтые листья.
Вот и в то утро, когда Тургенев дописывал свою "Клару Милич", - в окно, верно, смотрела осень, южная, может быть золотая, но все же осень, и притом последняя, - и он это чувствовал. - В цветах, но уже осужденная; еще обаятельная, но уже без зноя... Еще не смерть, но уже мечта, которая о ней знает и которую она застит, - эта осень и была его последней повестью: то серой, то розовой, еще старательно-четкой и в мягких, но уже застывших контурах.
С Кларой Милич в музыку тургеневского творчества вошла, уже не надолго, новая и какая-то звенящая нота. Это была нота физического страдания. "Все мешается кругом - и среди крутящейся мглы Аратов видит Клару в театральном костюме: она подносит склянку к губам, слышатся отдаленные "браво! браво!" - и чей-то грубый голос кричит Аратову на ухо: "А ты думал, это все комедией кончится? Нет, это трагедия, трагедия!"
Сцена из спектакля харьковского театра "Любви прекрасная звезда" по повести Тургенева "Клара Милич"
Пушкин писал в одном из писем Александре Смирновой: «Мне кажется, мёртвые могут внушать нам свои мысли».
«После смерти» Тургенева — как иллюстрация к этим пушкинским словам. Это мистическая история любви молодой девушки, талантливой актрисы Клары Милич к юноше, который не понял её любви. И тогда она приняла яд во время спектакля, где играла главную роль и, доиграв до конца, умерла, когда опустился занавес. А юноша полюбил её после смерти так, что ушёл вслед за ней, умер от горячки, «воспаления сердца».
В основу этой повести была положена реальная история самоубийства провинциальной актрисы Евлалии Кадминой, которую Тургенев услышал от семьи Полонских. Кадмина приняла яд во время спектакля «Василиса Мелентьева», где играла главную роль, а некий Аленицин, магистр зоологии, увидев её там в первый раз – влюбился в неё. После смерти актрисы эта любовь вспыхнула с неожиданной силой, приняв форму психоза. Тургенева чрезвычайно заинтересовал этот психологический факт – посмертная влюблённость, и он с необычайной силой воплотил её в этой повести.

…Случайная, казалось бы, встреча на литературном утре 25-летнего Якова Аратова, застенчивого, замкнутого, сосредоточенного в себе, почти отшельника, с молодой актрисой вызвала в его душе тревогу и неясное волнение. После трагической гибели Клары в нем растет неосознанное прежде чувство. Он вдруг понял, какого счастья он лишился. Мучается угрызениями совести, раскаянием и гибельной невозможностью что-либо исправить, вернуть ее с того счета. Он возвращает Клару в своих снах, видениях, ночных кошмарах, непостижимым образом общается с нею. Ему открывается иной мир, куда она неодолимо манит его. Торжествующая власть Клары над ним делается огромной, он счастлив от сознания этого духовного плена.

Тургенев так виртуозно сближает миры - обыденный и ирреальный, сон и явь. И всему фантастическому вроде бы есть объяснение, а может, и нет. Такая зыбкая, тревожащая двойственность, в которую легко верится. Причем, верится с наслаждением в эту невидимую грань между таинственным, сверхъестественным и реальной жизнью. И жутко и странно и при этом все объяснимо, если ты даже нуждаешься в толковании, почему на устах мертвого Якова застыла блаженная улыбка счастья, а в ладони зажата прядь черных волос Клары.
Повесть "После смерти" - блестящий род психологической фантастики. Она вся полна страстной верой в жизнь за гробом.

Евлалия Кадмина


Любовь Аратова к Кларе, вполне осознанная им только после утраты этой женщины, до тех пор любимой бессознательно, – чувство, которое оказалось сильнее смерти. Оно до такой степени овладевает всем существом человека, что тот уже не в состоянии осознавать, что любимого существа нет более в живых.
«Встречу – возьму», – вспомнились ему слова Клары, переданные Анной... вот он и взят. Да ведь она – мёртвая? Да, тело её мёртвое... а душа? Разве она не бессмертная? разве ей нужны земные органы, чтобы проявить свою власть? Вон магнетизм нам доказал влияние человеческой души на другую человеческую душу... Отчего ж это влияние не продолжится и после смерти – коли душа остаётся живою? Да с какой целью? Что из этого может выйти? Но разве мы – вообще – постигаем, какая цель всего, что совершается вокруг нас?»
«Мысли о бессмертии души, о жизни за гробом снова посетили его. Разве не сказано в библии: «Смерть, где жало твоё?»
А у Шиллера: «И мёртвые будут жить!» Или вот ещё, кажется, у Мицкевича: «Я буду любить до скончания века... и по скончании века!» А один английский писатель сказал: «Любовь сильнее смерти».

В.Э. Борисов-Мусатов "Призраки"
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/32643.html
|
|
Процитировано 1 раз
Иннокентий Анненский |
Начало здесь
1 сентября 1855 года родился Иннокентий Анненский.

Великий аутсайдер
"Великий аутсайдер" – так назвала я свой прошлогодний вечер из цикла "Поэзии серебряные струны", посвящённый ему (к 155-летию со дня рождения):
http://rutube.ru/video/7fd140c053c67a923f5ff80fed20c32a/#
Но дело не только в круглой дате. Блестящий представитель Серебряного века, "последний из царскосельских лебедей", как назвал его Н. Гумилёв, Анненский был и остаётся трагической фигурой в русской поэзии: не получил признания и славы в своём времени, не был понят и узнан при жизни. "А тот, кого учителем считаю,/ как тень прошёл и тени не оставил..." – сказала о нём Ахматова. Однако в этом поэте, далеко опередившим своих современников, уже угадывались будущие интонации Блока, Хлебникова, Маяковского, Пастернака. Владимир Корнилов писал об Анненском:
Пастернак, Маяковский, Ахматова
от стиха его шли и шалели,
от стиха его, скрытно-богатого,
как прозаики от "Шинели".
Этим в какой-то степени компенсировалась непризнанность Анненского при жизни – реваншем грядущих голосов в поэзии, в которых звучали его интонации, его ноты.
Филолог-эллинист по специальности, педагог по профессии, директор гимназии, член учёного комитета Министерства просвещения, чиновник, загруженный канцелярской работой, – наедине с собой он был поэтом.

Но в праздности моей рассыпаны мгновенья,
когда мучительны душе прикосновенья,
и я дрожу средь вас, дрожу за свой покой,
как спичку на ветру загородив рукой...
Пусть это только миг... В тот миг меня не трогай.
Я ощупью иду тогда своей дорогой.
Гимназисты обожали его (среди них были Николай Гумилёв, художник Юрий Анненков). Курсистки восторженно переписывали в тетрадки стихи своего учителя:
Ещё не царствует река,
но синий лёд она уж топит.
Ещё не тают облака,
но снежный кубок солнцем допит.
Через притворенную дверь
ты сердце шелестом тревожишь.
Ещё не любишь ты, но верь:
не полюбить уже не можешь.

Нерадостный поэт
Иннокентий Анненский считается представителем символизма в поэзии, но он был необычным символистом. Может быть, даже не вполне им был. Он не вмещался в русло этого течения. Поэзия Анненского при всей её интеллектуальной сложности и аллегоричности никогда не страдала невнятицей, оторванностью от жизненных реалий, чем грешат многие символисты. И ещё он отличался от них тем, что никогда не считал себя пупом земли, центром вселенной, и обида куклы была для него жалчей его собственной.
Эта тема кажется мне главной в его поэзии: жалость к людям. Она проявляется у Анненского не прямо, а как-то стыдливо, опосредованно, через жалость и сочувствие к вещи: к кукле, ради забавы брошенной в струю водопада, старой шарманке, "что никак не смелет злых обид", выдыхающемуся воздушному шарику("всё ещё он тянет нитку и никак не кончит пытку"). Мы открываем в его стихах "вещный мир", больно и страстно сцепленный с человеческим существованием. Старая кукла, смычок и струны, шарманка, маятник и часы, "шар на нитке тёмно-алый" выступают в лирике Анненского не просто как образы, аллегории, а как соучастники и свидетели скрытого трагизма жизни. Человек жалеет вещь, и она отвечает ему взволнованно-страстным рассказом о его же, человека, страданиях, приоткрывая всю темноту и глубину муки – так глубоко, как Анненский, – до него и после него – не заглядывал ни один поэт.
...Но когда б и понял старый вал,
что такая им с шарманкой участь,
разве б петь, кружась, он перестал,
оттого, что петь нельзя, не мучась?
...Смычок всё понял. Он затих,
а в скрипке эхо всё держалось...
И было мукою для них,
что людям музыкой казалось...
Вот уже век, как мы слышим эту мистическую музыку недосказанности человеческого сердца. Вся его поэзия – это летопись одинокой души человека. Но не нужно пугаться "мрачности" и всего того, что причиняет нам боль в искусстве. Есть такое прекрасное слово: "катарсис". Стихи Анненского дают нам пережить его.

Биография Иннокентия Анненского предельно скудна и незамысловата. Глубокая и сильная жизнь творилась в нём самом. Но и в этой несложной биографии были примечательные события, без знания которых не постигнуть ни его личности, ни творческого пути, ни странной судьбы поэта.
Закончив гимназию в 1875 году, он поступает в Петербургский университет на историко-филологический факультет, где избрал своей основной специальностью классическую филологию.

Ещё в гимназии он увлекался древними языками, потом греческой мифологией, римской историей и литературой. Античный мир обладал для него особым очарованием, и он скоро ушёл в него с головой.
Из-за стеснённого материального положения Анненский был вынужден заниматься репетиторством. Он стал домашним учителем двух сыновей-подростков Надежды Хмара-Барщевской, вдовы, которая была старше его на 14 лет.

Разница в возрасте не помешала поэту пылко влюбиться. Он женится на ней и усыновляет её детей. Через год у них рождается сын. Однако эта женщина ничем не обогатила музу Анненского, не стала для него источником тех сильных переживаний, что вносили в жизнь других поэтов их подруги. Сергей Маковский рисует в своих воспоминаниях почти сатирический её портрет:
"Семейная жизнь Анненского осталась для меня загадкой. Жена его была совсем странной фигурой. Казалась гораздо старше его, набеленная, жуткая, призрачная, в парике, с наклеенными бровями. Раз за чайным столом смотрю — одна бровь поползла кверху, и всё лицо её с горбатым носом и вялым опущенным ртом перекосилось. При чужих она всегда молчала. Анненский никогда не говорил с ней. Какую роль сыграла она в его жизни?.."
О семейной жизни Анненского нам известно очень мало. Сам он не писал ни мемуаров, ни дневников, и лишь в стихах изредка встречаются редкие отголоски этой жизни.
Вот как, например, в этом, одном из ранних его стихотворений:
Нежным баловнем мамаши
то большиться, то шалить...
И рассеянно из чаши
пену пить, а влагу лить...
Сил и дней гордясь избытком,
мимоходом, на лету
хмельно-розовым напитком
усыплять свою мечту.
Увидав, что невозможно
ни вернуться, ни забыть...
Пить поспешно, пить тревожно,
рядом с сыном, может быть,
под наплывом лет согнуться,
но, забыв и вкус вина...
По привычке всё тянуться
к чаше, выпитой до дна.
Он был хорош собой. Большие печальные глаза, немного припухлый рот, выдававший в нём мягкость и природную доброту. Чёрный шёлковый галстук он завязывал по-старомодному широким, двойным бантом. В его манерах — учтивых, галантных, предупредительных, было что-то от старинного века.
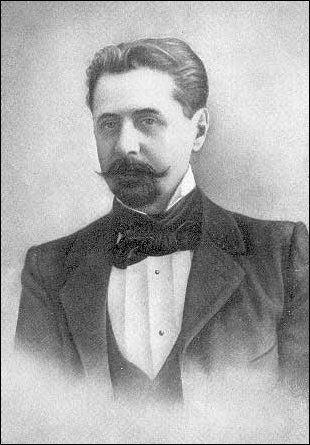
К творчеству он относился трогательно:
Но я люблю стихи — и чувства нет святей.
Так любит только мать и лишь больных детей.
Имена корифеев символизма гремели тогда не только благодаря их стихам, но и в значительной степени за счёт поведения поэтов, их образа жизни, творимой на глазах биографии и легенды. Анненский же, хоть и повторял не раз: "Первая задача поэта — выдумать себя", сам себя выдумать не умел. Он был подлинным, и в стихах, и в жизни. А тогда это было немодным.
Я люблю на бледнеющей шири
в переливах растаявший свет...
Я люблю всё, чему в этом мире
ни созвучья, ни отклика нет.
Ему тоже не было отклика в этом мире. Эстеты восхищались изысканной формой стихов Анненского, не замечая, не слыша их мучительной человеческой драмы. Это всё равно что на крик боли удовлетворённо констатировать, что у человека прекрасные голосовые связки. Этой нравственной глухотой эстетов возмущался В.Ходасевич:
"Что кричит поэт — это его частное дело, в это они, как люди благовоспитанные, не вмешиваются. А между тем каждый его стих кричит о нестерпимом и безысходном ужасе жизни". "Ведь если вслушаться в неё — вся жизнь моя не жизнь, а мука".
Одно из его стихотворений называется: "Мучительный сонет":
Едва пчелиное гуденье замолчало,
уж ноющий комар приблизился, звеня...
Каких обманов ты, о сердце, не прощало
тревожной пустоте оконченного дня?
Мне нужен талый снег под желтизной огня,
сквозь потное стекло светящего устало,
и чтобы прядь волос так близко от меня,
так близко от меня, развившись, трепетала.
Мне нужно дымных туч с померкшей высоты,
круженья дымных туч, в которых нет былого,
полузакрытых глаз и музыки мечты,
и музыки мечты, ещё не знавшей слова...
О дай мне только миг, но в жизни, не во сне,
чтоб мог я стать огнём или сгореть в огне!

М. Волошин писал об Анненском: "Это был нерадостный поэт". Это действительно так. Мотив одиночества, отчаяния, тоски — один из главных у поэта. Он даже слово Тоска писал с большой буквы. Ажурный склад его души казался несовместимым с жестокими реалиями жизни.
В тоске безысходного круга
влачусь я постылым путём...
В своей статье "Что такое поэзия?" Анненский говорит: "Она — дитя смерти и отчаяния". Навязчивую мысль о смерти отмечал у него и Ходасевич, который назвал его "Иваном Ильичом русской поэзии". Неотвязная мысль о смерти была вызвана отчасти сердечной болезнью, которая постоянно держала поэта в ожидании конца, смерть могла настигнуть в любой момент. Но всё-таки трагизм его поэзии вряд ли проистекал от биографических причин (в частности, от болезни). Ходасевич слишком упростил пессимизм Анненского, объясняя его поэзию страхом перед смертью. Люди такого духовного склада не боятся физической смерти. Его страх — совсем иного, метафизического порядка.
Сейчас наступит ночь. Так чёрны облака...
Мне жаль последнего вечернего мгновенья:
там всё, что прожито — желанья и тоска,
там всё, что близится — унылость и забвенье.
Как странно слиты сад и твердь
своим безмолвием суровым,
как ночь напоминает смерть
всем, даже выцветшим покровом.

Невозможно
Анненский боится смерти, но не меньше боится и жизни. И не знает: в жизнь ли ему спрятаться от смерти — или броситься в смерть, спасаясь от жизни. У него почти нет стихов о любви в обычном смысле, какие есть у Блока, Бальмонта, Брюсова. Есть стихи, обращённые к женщинам, большей частью нерадостные, печальные. Женский образ в них всегда зыбкий, бесплотный, не поддающийся портретному описанию. Тем не менее под ним нередко скрывался реальный прототип.
С Екатериной Мухиной Анненский познакомился вскоре после того, как получил назначение на должность директора в Царскосельской гимназии. Муж её, преподаватель истории нового искусства, был сослуживцем поэта. Историю их отношений можно представить в самых общих чертах — по письмам и стихам.
"Но что же скажу я Вам, дорогая, Господи, что я вложу, какую мысль, какой луч в Ваши открывшиеся мне навстречу, в Ваши ждущие глаза?"
Наяву ль и тебя ль безумно
и бездумно
я любил в томных тенях мая?
Припадая
к цветам сирени
лунной ночью, лунной ночью мая,
я твои ль целовал колени,
разжимая их и сжимая,
в тёмных тенях,
в тёмных тенях мая?
Или сам я лишь тень немая?
Иль и ты лишь моё страданье,
дорогая,
оттого, что нам нет свиданья
лунной ночью, лунной ночью мая.

Это стихотворение "Грёзы" Анненский напишет в вологодском поезде в ночь с 16 на 17 мая 1906 года. А через день, 19 мая, он отправит Мухиной уже из Вологды письмо, которое трудно определить иначе, как любовное, хотя о любви в нём не говорится ни слова:
"Дорогая моя, слышите ли Вы из Вашего далека, как мне скучно? Знаете ли Вы, что такое скука? Скука — это сознание, что не можешь уйти из клеточек словесного набора, от звеньев логических цепей, от навязчивых объятий этого "как все". Господи! Если бы хоть миг свободы, безумия... Если у Вас есть под руками цветок, не держите его, бросьте скорее. Он Вам солжёт. Он никогда не жил и не пил солнечных лучей. Дайте мне Вашу руку. Простимся."
Что счастье? Чад безумной речи?
Одна минута на пути,
где с поцелуем жадной встречи
слилось неслышное прости?
Или оно в дожде осеннем?
В возврате дня? В смыканьи вежд?
В благах, которых мы не ценим
за неприглядность их одежд?
Ты говоришь... Вот счастья бьётся
к цветку прильнувшее крыло,
но миг — и ввысь оно взовьётся
невозвратимо и светло.
А сердцу, может быть, милей
высокомерие сознанья,
милее мука, если в ней
есть тонкий яд воспоминанья.

Внутренне одинокий и осознающий трагизм своего одиночества, Анненский напряжённо искал выхода из него. Но не находил в себе сил для жизни. Он с безумной завистью и страхом смотрел на живую жизнь, проходившую стороной, и с горечью писал:
Любовь ведь светлая — она кристалл, эфир...
Моя ж — безлюбая, дрожит, как лошадь в мыле!
Ей — пир отравленный, мошеннический пир...
Это человек с раздвоенным сознанием, рефлектирующий, неуверенный в себе, мечтающий о счастье, но не решающийся на него, не признающий за собой на него права.
Даже в мае, когда разлиты
белой ночи над волнами тени,
там не чары весенней мечты,
там отрава бесплодных хотений.
Это целомудренно-пугливое сердце понимало любовь только как тоску по неосуществившемуся. Грустной нотой сожаления звучат многие стихи поэта, сожаления о неправильно прожитой жизни, в сущности, — непрожитой жизни.
Развившись, волос поредел.
Когда я молод был,
за стольких жить мой ум хотел,
что сам я жить забыл.
Любить хотел я, не любя,
страдать — но в стороне.
И сжёг я, молодость, тебя,
в безрадостном огне.
Сердце его было создано любящим и — как это свойственно людям глубоко чувствующим — стыдливо робким в своей нежности. Сам он шутливо называл его "сердцем лани". Небогатая внешними событиями, неяркая размеренная жизнь Анненского скрывала глубоко спрятанные страсти, лишь изредка вырывавшиеся наружу трагичными, полными боли стихами. Сейчас уже не вызывает сомнений, что поэт был страстно и тайно влюблён в жену старшего пасынка Ольгу Хмара-Барщевскую, часто и подолгу гостившую в Царском Селе. Это ей адресованы его строки:
И, лиловея и дробясь,
чтоб уверяло там сиянье,
что где-то есть не наша связь,
а лучезарное слиянье.
Сохранилось её письмо-исповедь, адресованное В.Розанову и написанное через 8 лет после смерти Анненского:
"Вы спрашиваете, любила ли я Иннокентия Фёдоровича? Господи! Конечно, любила, люблю... Была ли я его "женой"? Увы, нет! Видите, я искренне говорю "увы", потому что не горжусь этим ни мгновения... Поймите, родной, он этого не хотел, хотя, может быть, настояще любил только одну меня... Но он не мог переступить... Его убивала мысль: "Что же я? прежде отнял мать (у пасынка), а потом возьму жену? Куда же я от своей совести спрячусь?" И вот получилась "не связь, а лучезарное слиянье". Странно ведь в 20 веке? Дико? А вот — такие ли ещё сказки сочиняет жизнь?.. Он связи плотской не допустил... Но мы повенчали наши души..."
Семья Хмара-Барщевских. Слева — Ольга с мужем.
Документ этот всплыл чудом. Письма Анненского Ольга Хмара-Барщевская сожгла. Но в одном из стихотворений "Кипарисового ларца" под названием "Прерывистые строки" с подзаголовком "Разлука" Анненский прерывистым голосом, выдаваемым ломающимся ритмом, поведал об этой тайной любви, рисуя драму расставания на вокзале с любимой женщиной.

Этого быть не может,
это — подлог...
День так тянулся и дожит,
иль, не дожив, изнемог?
Этого быть не может...
С самых тех пор
в горле какой-то комок...
Вздор...
Этого быть не может.
Это — подлог.
Ну-с, проводил на поезд,
вернулся, и соло, да!
Здесь был её кольчатый пояс,
брошка лежала — звезда,
вечно открытая сумочка
без замка,
и так бесконечно мягка,
в прошивках красная думочка...
Зал...
Я нежное что-то сказал,
стали прощаться,
возле часов у стенки...
Губы не смели разжаться,
склеены...
Оба мы были рассеяны,
оба такие холодные, мы...
Пальцы её в чёрной митенке тоже холодные...
"Ну, прощай до зимы.
Только не той, и не другой,
и не ещё — после другой...
Я ж, дорогой, ведь не свободная..."
— Знаю, что ты — в застенке...
После она
плакала тихо у стенки
и стала бумажно-бледна...
Кончить бы злую игру...
Что ж бы ещё?
Губы хотели любить горячо,
а на ветру
лишь улыбались тоскливо...
Что-то в них было застыло, даже мертво...
Господи, я и не знал, до чего она некрасива...
Теперь очевидно, что волшебные строки Анненского, написанные за шесть дней до смерти, про дальние руки — о ней:
Мои вы, о дальние руки,
ваш сладостно-сильный зажим
я выносил в холоде скуки,
я счастьем обвеян чужим.
Но знаю...дремотно хмелея,
я брошу волшебную нить,
и мне будут сниться, алмея,
слова, чтоб тебя оскорбить.

(Позже под впечатлением этого стихотворения Блок напишет свои строчки, где слышен тот же мотив:
О, эти дальние руки!
В тусклое это житьё
очарованье своё
вносишь ты даже в разлуке.)
А окружающие думали: человек в футляре. Герой из чеховских сумерек. Персонаж без поступков, личность без судьбы, зато с порядочным трудовым стажем. Но с какой силой вырывается порой из его строф голос именно любви, в таких, например, стихах, как "Трилистник соблазна", или "Трилистник лунный", или "Струя резеды в тёмном вагоне":
Так беззвучна, черна и тепла
резедой напоённая мгла...
В голубых фонарях,
меж листов, на ветвях,
без числа
восковые сиянья плывут.
И в саду
как в бреду
хризантемы цветут...
Пока свечи плывут
и левкои живут,
пока дышит во сне резеда —
здесь ни мук, ни греха, ни стыда...
Вот она, эта эротика Анненского, недоговорённая, но так много говорящая:
В марте
Позабудь соловья на душистых цветах,
только утро любви не забудь!
Да ожившей земли в неоживших листах
ярко-чёрную грудь!
Меж лохмотьев рубашки своей снеговой
только раз и желала она —
только раз напоил её март огневой,
да пьянее вина!
Только раз оторвать от разбухшей земли
не могли мы завистливых глаз...
И, дрожа, поскорее из сада ушли...
Только раз... в этот раз...
В цикле стихов о поэтах у меня есть стихотворение об Анненском, в котором я нарисовала его портрет, каким он мне виделся:

Нерадостный поэт. Тишайший, осторожный,
одной мечтой к звезде единственной влеком...
И было для него вовеки невозможно —
что для обычных душ бездумно и легко.
Как он боялся жить, давя в себе природу,
гася в себе всё то, что мучает и жжёт.
"О, если б только миг — безумья и свободы!"
"Но бросьте Ваш цветок. Я знаю, он солжёт".
Безлюбая любовь. Ночные излиянья.
Всё трепетно хранил сандаловый ларец.
О, то была не связь — лучистое слиянье,
сияние теней, венчание сердец...
И поглотила жизнь божественная смута.
А пасынка жена, которую любить
не смел, в письме потом признается кому-то:
"Была ль "женой"? Увы. Не смог переступить".
Невозможность осуществления мечты, надежд поэт возводит в ранг творческой силы, делает своей печальной привилегией. Самоограничение, самообуздание, отречение почти от всего, чем манит белый свет — вот сквозная линия судьбы и творчества И.Анненского. Поэт творит красоту иллюзии. Оттого и прекрасно, что невозможно: Невозможно — тоже с большой буквы, как и Тоска.
Ключевым для своего лиризма Аннеский назвал стихотворение "Невозможно" — это как бы апофеоз этой темы, ведь любовь в его стихах — всегда "недопетое", подавленное чувство. "Невозможно" — элегическое стихотворение, печальное и светлое, посвящается его заглавному слову и сочетает в себе три мотива: мотив любви, смерти и поэзии. Обращаясь к этому слову, поэт говорит:
Не познав, я в себе уж любил
эти в бархат ушедшие звуки:
мне являлись мерцанья могил
и сквозь сумрак белевшие руки.
Но лишь в белом венце хризантем,
перед первой угрозой забвенья,
этих "в", этих "з", этих "эм"
различить я умел дуновенья.
Если слово за словом, что цвет,
упадая, белеет тревожно,
не печальных меж павшими нет,
но люблю я одно — "Невозможно".
Стоит здесь привести слова Ю. Нагибина:
"Анненский, как никто, должен был ощущать многозначное слово "невозможно", ибо для него существующее было полно запретов. Но это же слово служит и для обозначения высших степеней восторга, любви и боли, всех напряжений души. И что-то ещё в этом слове остаётся тайной поэта, и проникнуть в неё невозможно".
Смерть на вокзале
13 декабря (30 ноября) 1909 года Иннокентий Анненский скоропостижно умер от разрыва сердца на ступенях Царскосельского вокзала.

Незадолго до этого он подал прошение об отставке. 35 лет отдал Анненский делу отечественного просвещения, но служба эта всегда тяготила его, он мечтал о начале новой литературной жизни, свободной от бумаг, от нудных разъездов по непролазной Вологодчине и Оленецкому краю, когда можно будет наконец быть поэтом, а не поэтом-чиновником, маскирующим главное в себе. Но этим мечтам не суждено было осуществиться.
В тот вечер в обществе классической филологии был назначен его доклад, и кроме того он ещё обещал своим слушательницам-курсисткам побывать перед отъездом в Царском на их вечеринке. Курсистки долго ждали Анненского. Ждали и после того, как им разрешили разойтись по домам. Почти все они были влюблены в красивого меланхоличного педагога, о котором им было известно, что он пишет стихи, и у многих эти стихи были переписаны в альбомы. Они прождали около двух часов, а потом появился расстроенный директор и сказал, что Инокентий Фёдорович уже больше никогда не придёт...
Первым о смерти Анненского узнал Блок, который был в тот вечер на Варшавском вокзале — ехал к умирающему отцу в Варшаву. И услышал, как сказал об этом один железнодорожник другому — весело, как о каком-то курьёзе... И Блок зло произнёс вслух, громко и отчётливо: «Ну вот, ещё одного проморгали...»
Я думал, что сердце из камня,
Что пусто оно и мертво:
Пусть в сердце огонь языками
Походит — ему ничего.
И точно: мне было не больно,
А больно, так разве чуть-чуть.
И все-таки лучше довольно,
Задуй, пока можно задуть...
На сердце темно, как в могиле,
Я знал, что пожар я уйму...
Ну вот... и огонь потушили,
А я умираю в дыму...

Анненского хоронили 4 декабря 1909 года на Казанском кладбище Царского села. Хоронили не как великого поэта, а как генерала, статского советника. В газетных заметках о его смерти поэзия вообще не упоминалась. Лишь Корней Чуковский проницательно заметил: «Как будут смеяться потом те, кто поймут твои книги, узнав, что когда-то, в день твоей смерти, в огромной стране вспомнили только твой чин, а богатых даров поэтической души не только не приняли, но даже и не заметил никто, - мой милый, мой бедный действительный статский советник...»
Отпевание вышло неожиданно многолюдным. Его любила учащаяся молодёжь, собор был битком набит учениками и ученицами всех возрастов. Он лежал в гробу торжественный, официальный, в генеральском сюртуке министерства народного просвещения, и это казалось последней насмешкой над ним — поэтом.
Талый снег налетал и слетал,
Разгораясь, румянились щеки,
Я не думал, что месяц так мал
И что тучи так дымно-далеки...
Я уйду, ни о чем не спросив,
Потому что мой вынулся жребий,
Я не думал, что месяц красив,
Так красив и тревожен на небе.
Скоро полночь. Никто и ничей,
Утомлен самым призраком жизни,
Я любуюсь на дымы лучей
Там, в моей обманувшей отчизне.

Его душа
Мало кто знает, что у Анненского есть ещё стихотворения в прозе, которые ничем не уступают тургеневским. Одно из них называется «Моя душа». Там он описывает собственную душу, увиденную им во сне. Душа была в образе носильщика, который тащил на себе огромный тюк, сгибаясь под этой тяжестью.
«...И долго, долго душа будет в дороге, и будет она грезить, а грезя, покорно колотиться по грязным рытвинам никогда не просыхающего чернозёма... Один, два таких пути, и мешок отслужил. Да и довольно... В самом деле — кому и с какой стати служил он?.. Мою судьбу трогательно опишут в назидательной книжке в 3 копейки серебра. Опишут судьбу бедного отслужившего людям мешка из податливой парусины. А ведь этот мешок был душою поэта — и вся вина этой души заключалась только в том, что кто-то и где-то осудил её жить чужими жизнями, жить всяким дрязгом и скарбом, которым воровски напихивала его жизнь, жить и даже не замечать при этом, что её в то же самое время изнашивает собственная, уже ни с кем не делимая мука».

Прошли годы. Иннокентий Анненский прошёл самое ужасное испытание — испытание забвением, его не просто забыли, его не помнили. Однако почти в каждом крупном русском поэте 20 века жил Иннокентий Анненский, жил и влиял на качество жизни и мысли. Тишайший, глубинный мир Анненского, знак его стиха оставлен и на поэзии Ахматовой, и Пастернака, он был одним из самых близких поэтов А. Тарковского, А. Кушнера. Оправдались его слова, сказанные в письме к другу: «Работаю исключительно для будущего». И оказалось, что этот мнимый неудачник — счастливейший из счастливых: своей жизнью и творчеством он победил время. Это удаётся единицам.

Среди миров, в мерцании светил
Одной Звезды я повторяю имя...
Не потому, чтоб я Ее любил,
А потому, что я томлюсь с другими.
И если мне сомненье тяжело,
Я у Нее одной ищу ответа,
Не потому, что от Нее светло,
А потому, что с Ней не надо света.

Хочется сказать, чуть изменив его стихи: «Не потому, что от него светло, а потому, что с ним не надо света».
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/32213.html
|
|
Процитировано 9 раз
Понравилось: 6 пользователям
«Мир — это стены. Выход — топор» |
Начало здесь
31 августа 1941 года повесилась Марина Цветаева.

Ты была буревестной и горевестной,
Обезуме-безудержной и неуместной.
Твои песни и плачи росли не из сора –
Из вселенского хаоса, моря, простора!
В эмпиреях парящей, палящей, природной,
Просторечьем речей – плоть от плоти народной,
Ты в отечестве, не признававшем пророка,
Обитала отшельницей, подданной рока.
Ты писала отчаянно и бесполезно
По любимому адресу: в прорву и бездну.
Я люблю твою душу, души в ней не чаю.
Я сквозь годы сквозь слёзы тебе отвечаю.
Поэт не вмещается в прокрустово ложе земного существования. Марине Цветаевой было тесно в телесной оболочке. «В теле – как в трюме, в себе – как в тюрьме». И – совсем ясно: «Мир – это стены. Выход – топор». «Жизнь и смерть давно беру в кавычки, как заведомо пустые сплёты». И – как итог всего – «Поэма Воздуха», в которой она попыталась прикоснуться к потустороннему миру, передать ощущение от полёта в Ничто (в смерть).

Она пишет её в 1927 году, в 35 лет. Поэму, которую можно было бы назвать поэмой удушья, самоубийства. Это вопль одиночества и безутешности, исторгнутый из души, которой нечем больше дышать.
В ней Цветаева как бы репетирует свою смерть.

Поводом к написанию поэмы послужило следующее событие. 21 — 22 мая 1927 года американский лётчик Чарльз Линдберг впервые совершил беспосадочный перелёт через Атлантический океан. Шесть тысяч километров он преодолел за тридцать три с половиной часа, достигнув по тем временам сенсационного рекорда.
Твердь, стелись под лодкою
Леткою — утла!
Но — сплошное лёгкое —
Сам — зачем петля
Мёртвая? Полощется…
Плещется… И вот —
Не жалейте лётчика!
Тут-то и полёт!
Не рядите в саваны
Косточки его.
Курс воздухоплаванья
Смерть, и ничего
Нового в ней. (Розысков
Дичь… Щепы?.. Винты?..)
Ахиллесы воздуха
— Все! — хотя б и ты,
Не дышите славою,
Воздухом низов.
Курс воздухоплаванья
Смерть, где всё с азов,
За́ново…
Это потрясающее прозрение о всемогуществе духа, победившего плоть. Это самая отвлечённая и трудная для восприятия поэма Цветаевой. Ахматова назвала её «заумью». Она кажется закодированной, зашифрованной. Её фабула – цепь последовательных переходов из одного состояния, которое может испытать умирающий, – в другое, показ, что может чувствовать задыхающийся в петле человек. Каждый этап, пройденный умираюшим, описан подробно, почти физиологично.
«Поэма воздуха» – это своеобразный философский трактат о посмертном блуждании духа, вобравший в себя отдельные элементы различных идеалистических систем, из Канта, В.Соловьёва, Шопенгауэра. И всё же модель мира, представленная здесь Цветаевой, – её сугубо индивидуальная поэтическая гипотеза.
В её понимании мир разделён на земной, плотский и мир занебесный, мир идеального несуществования, свободный от любой тяжести, в том числе и от тяжести души, ибо душа, по Цветаевой, есть вместилище чувств и желаний, связанных с землёй и плотью. Там же – мир чистой мысли, почти безжизненное отвлечённое пространство некоего мирового стерильно чистого разума.
Слава тебе, допустившему бреши:
Больше не вешу.
Слава тебе, обвалившему крышу:
Больше не слышу.
Солнцепричастная, больше не щурюсь
Дух: не дышу уж!
Твёрдое тело есть мёртвое тело:
Оттяготела.
Легче, легче лодок
На слюде прибрежий.
О, как воздух лёгок:
Реже — реже — реже…

За несколько месяцев до «Поэмы Воздуха» те же темы смерти-несмерти и вознесения являлись в поэме на смерть Рильке "Новогоднее" (там "нет ни жизни, нет ни смерти: третье, / Новое", здесь - "смерть, и ничего / Смертного в ней").
Её манила эта тайна, неуловимая грань, отделявшая небытиё от бытия. У неё всю жизнь был роман со смертью, с небытиём, с запредельностью. Рано или поздно она должна была уйти. Вопрос был только в сроках.
В январе 1925 года, с нетерпением ожидая рождения горячо желанного сына, она пишет стихи о... смерти:
...Расковывает
смерть – узы мои! До скорого ведь?
Предсмертного ложа свадебного
последнее перетрагиванье.

Марина Цветаева, великий поэт, была создана природой словно бы из иного вещества: всем организмом, всем своим человеческим естеством она тянулась прочь от земных измерений в миры иные, о существовании которых знала непреложно. («Верующая? Нет. Знающая из опыта»). С ранних лет она знала и чувствовала то, чего не могли чувствовать и знать другие. Знала, что поэты – пророки, что стихи сбываются, и ещё в ранних стихах предрекала судьбу Мандельштама, Сергея Эфрона, не говоря уже о своей собственной. Это тайновидение с годами усиливалось, и существовать в общепринятом «мире мер» становилось всё труднее.

Что же это было? Вероятно, страдание живого существа, лишённого своей стихии: человеку не дано постичь мучения пойманной птицы, загнанного зверя, это страдание, непостижимое для окружающих. Разумеется, страдание не было единственным чувством, цветаевских чувств и страстей, её феноменальной энергии хватило бы на многих и многих. Однако трагизм мироощущения поэта идёт именно от этих, не поддающихся рассудку мук.
Мятущемуся естеству Цветаевой было тяжко, душно в телесной оболочке. «Из тела вон хочу» – это не литература, это состояние. Что ей было делать «с этой безмерностью в мире мер»? Её страшный быт и высокомерное бытие, которые всю жизнь противостояли друг другу, 31 августа 1941 года слились воедино.
Уже и не светом,
каким-то свеченьем светясь...
Не в этом, не в этом
ли... И – обрывается связь.

***
Доживать – дожёвывать горькую полынь...
Лучше – след ножовый уж, мертвенная стынь.
Нет вопроса вздорного – быть или не быть.
Точит мысль упорная – где бы крюк забить.
Заглянув бестрепетно в прорези зари,
Ты ушла бессмертною, в небо воспарив,
В тишину упавшую строки прохрипя,
удавить не давшая Родине себя.
***
Страна её убивала.
Затягивала петлю,
Скамью из-под ног выбивала.
Никто не сказал: «люблю».
Никто не раскрыл объятья,
Никто не расправил крыл.
И розового платья
Никто ей не подарил.
Но силу в себе растила,
Отринув и смерть, и страх.
Страна её не вместила
И вытеснила в астрал.

***
Не чета она роду людскому,
Заскорузлым его племенам,
А небесному или морскому,
Занесённая бурею к нам.
Ни в телесной земной оболочке
Не вмещала просторы свои,
Ни в пределы написанных строчек,
Ни в прокрустово ложе семьи.
Ни приюта себе, ни ночлега,
Ни единства с душою родной.
На шестые сорта человека
Выносило шальною волной.
И не души – а слабые душки
Ей встречались на тропах земных,
Что парили в пространстве воздушном,
Лишь пока она дула на них.
Наступала разлука, разруха,
Неизбежный для смертных предел.
На высоты вселенского духа
Вместе с нею никто не взлетел.

***
«Всю жизнь напролёт пролюбила не тех», –
Мне слышится вздох её грешный.
Что делать с тоской безутешных утех,
С сердечной зияющей брешью?
Что делать с расплатой по вечным счетам,
С ознобом нездешнего тела?
Любила не тех, и не так, и не там...
Иначе она не умела.
У гения кодекс иной и устав.
Он золото видит в отбросах.
Любить... Но кого же? – мы спросим, устав.
Пред ней не стояло вопросов.
Ей жар безответный в веках не избыть.
Любой Гулливер с нею – хлюпик.
О, если бы так научиться любить!
С тех пор так никто уж не любит...

Подробнее — в моей поэме «Марина Цветаева и её адресаты»: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post280191715/
в телепередаче о проведённом вечере о ней в библиотеке:
31 августа 1941 года Марина Цветаева повесилась в доме, куда вместе с сыном была определена на постой в Елабуге.

Оставила три предсмертные записки: тем, кто будет её хоронить («эвакуированным», Асеевым и сыну). Оригинал записки «эвакуированным» не сохранился (был изъят в качестве вещественного доказательства милицией и утерян), её текст известен по списку, который разрешили сделать Георгию Эфрону.
Записка сыну:

"Мурлыга! Прости меня, но дальше было бы хуже. Я тяжело больна, это уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что любила их до последней минуты и объясни, что попала в тупик".

Записка Асеевым:

"Дорогой Николай Николаевич! Дорогие сестры Синяковы! Умоляю вас взять Мура к себе в Чистополь — просто взять его в сыновья — и чтобы он учился. Я для него больше ничего не могу и только его гублю. У меня в сумке 450 р. и если постараться распродать все мои вещи. В сундучке несколько рукописных книжек стихов и пачка с оттисками прозы. Поручаю их Вам. Берегите моего дорогого Мура, он очень хрупкого здоровья. Любите как сына — заслуживает. А меня — простите. Не вынесла. МЦ.
Не оставляйте его никогда. Была бы безумно счастлива, если бы жил у вас. Уедете — увезите с собой. Не бросайте!"
Записка «эвакуированным»:
"Дорогие товарищи! Не оставьте Мура. Умоляю того из вас, кто сможет, отвезти его в Чистополь к Н. Н. Асееву. Пароходы — страшные, умоляю не отправлять его одного. Помогите ему с багажом — сложить и довезти. В Чистополе надеюсь на распродажу моих вещей. Я хочу, чтобы Мур жил и учился. Со мной он пропадет. Адр. Асеева на конверте. Не похороните живой! Хорошенько проверьте".
Последний день
Знаю, умру на заре! - Ястребиную ночь/
Бог не пошлет по мою лебединую душу!
...Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!
А зато... А зато — Всё.
М. Цветаева
Нет, не на утренней, не на вечерней заре...
Это случилось меж часом-двумя пополудни.
Все разошлись кто куда. Ни души на дворе.
Ты торопилась — не будет минуты безлюдней.
Выход был найден. Скорее же... Нужно спешить...
Скоро с воскресника должен был сын воротиться.
Не поддавались рассудку метанья души -
загнанность зверя, мучения пойманной птицы.
Что вспоминала, от нас навсегда уходя?
Пальцы вцепились в виски... Умолкающий Кафка...
Год примерялась к крюкам, но хватило гвоздя
в час, когда смертной тоски затянулась удавка.
Нет ни надежд, ни иллюзий — одна пустота.
Выжженный взор прикрывали усталые веки.
«Скоро уеду — куда не скажу». Вот и та
станция, имя которой запомнят навеки.
Пряничный город. Бревенчатый домик. Тупик.
Кама, как Чёрная речка, как чёрная яма...
Кто тебе виделся в твой умирающий миг?
Что твои губы шептали: «Любимые»? «Мама»?
Было душе твоей тесно в телесном плену.
Но до последней минуты, пока не убита -
жарила рыбу для Мура, глотая вину, -
эту последнюю дань ненавистному быту.
«Это не я», - ты писала. «Мурлыга, прости».
Звал за собою в высоты простор лебединый.
Жизнь, не держи и домой в небеса отпусти!
Быт с бытиём наконец-то слились воедино.
Ужаса крик и ликующий радости гимн
перемешались в стихе твоём исповедальном.
Взгляд напоследок вокруг — что оставишь другим?
Что от тебя остаётся и ближним, и дальним?
Старый набитый стихами тугой чемодан
и сковородка, где наскоро жарила рыбу.
Пища земная и пища духовная. Дар
сыну прощальный и миру - души своей глыбу.
Вот твой, Создатель, билет, получи, распишись!
Волчья страна, где и небо затянуто тиной...
Царство Психеи, душа, занебесная жизнь -
вот твоё Всё, за которое ты заплатила.
Прорезь улыбки на белом блаженном лице.
В фартуке синем качается тело у входа.
Ждёт её Комната в потустороннем Дворце,
та, что заказывал Рильке за год до ухода.
(из моих стихов, вошедших в лонг-лист международного конкурса "45 калибр")
Марина Цветаева похоронена 2 сентября 1941 года на Петропавловском кладбище в Елабуге. Точное расположение её могилы неизвестно. На южной стороне кладбища, у каменной стены, где находится её затерявшееся последнее пристанище, в 1960 году сестра Анастасия Цветаева между четырёх безвестных могил 1941 года установила крест с надписью «В этой стороне кладбища похоронена Марина Ивановна Цветаева».

В 1970 году на этом месте было сооружено гранитное надгробие. Позднее, будучи уже в возрасте за 90, Анастасия Цветаева стала утверждать, что могила находится на точном месте захоронения сестры и все сомнения являются всего лишь домыслами. С начала 2000-х годов место расположения гранитного надгробия, обрамлённое плиткой и висячими цепями, по решению Союза писателей Татарстана именуется «официальной могилой М. И. Цветаевой».


Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/137791.html
|
|
Процитировано 11 раз
Понравилось: 4 пользователям
Мятеж Бодлера |
Начало здесь.
31 августа 1867 года умер один из величайших поэтов 19 века Шарль Бодлер.
В этом году — 190 лет со дня его рождения.

Мятеж Бодлера
Шарль Бодлер — одно из ключевых имён французской литературы 19 столетия. По Бодлеру равнялся серебряный век России, из его декадентства вырос русский символизм. У нас его переводили Брюсов, Бальмонт, Вячеслав Иванов, Мережковский, Цветаева, А. Эфрон. Наибольшее влияние Бодлера испытали Бальмонт и Брюсов. Бальмонт писал о нём:
Как страшно-радостный и близкий мне пример,
ты всё мне чудишься, о царственный Бодлер,
любовник ужасов, обрывов и химер!
Ты, павший в пропасть, жаждавший вершин,
ты, видевший лазурь сквозь тяжкий жёлтый сплин,
ты, между варваров заложник-властелин!
И в то же время он был всем чужд — и тоской своей, и пороками, и поиском союза возвышенного и низменного. Точнее других об этом сказал Блок: «В своей преисподней Бодлер грезил о белоснежных вершинах».
Мятежнице Цветаевой был понятен и близок характер Бодлера, и тот раздел его «Цветов зла», что называется «Мятеж», не говоря уже о стихотворении «Мятежник», которое она переводила под псевдонимом Адриан Ламбле. В Феодосии она напишет стихотворение «Чародей», страстно пропагандирующее Бодлера, где есть такая строфа:
Две правды — два пути — две силы -
две бездны: Данте и Бодлер!
О, как он, по-французски, милый,
картавил «эр»!
А вот строки из её перевода бодлеровского стихотворения «Плаванье»:
Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!
Нам скучен этот край! О, Смерть, скорее в путь!
Пусть небо и воды — куда черней чернила,
знай — тысячами солнц сияет наша грудь!
Обманутым пловцам раскрой свои глубины!
Мы жаждем, обозрев под солнцем всё, что есть,
на дно твоё нырнуть — Ад или Рай — едино! -
в неведомого глубь — чтоб новое обресть!

Бодлеровское «Плаванье» вдохновило Рембо и других европейских поэтов на множество великих реминисценций, к коим, помимо «Пьяного корабля», можно отнести «Рождественский романс» Бродского, «Заблудившийся трамвай» Гумилёва, ряд стихов Цветаевой. Во всех этих вещах неизменно наблюдается тождество движения и смерти: «Смерть-капитан» у Бодлера, мёртвый экипаж и полумёртвый корабль у Рембо, «мёртвые головы» у Гумилёва, «мертвецы в обнимку с особняками» у Бродского.
Брюсов считал Бодлера «первым поэтом современности», который «посмел воплотить в поэзии всю сложность, всю противоречивость души современного человека», который «создал поэзию современного города, современной жизни, её мелочей, её ужаса, её тайны».
А Г. Адамович высказал такое, может быть, спорное в чём-то мнение: «Если бы надо было дать понять рускому читателю, не знающему французского языка, что такое Бодлер, следовало бы сказать: «смешайте Некрасова и Анненского, пламенную, цельную силу одного с сомнением, ясновидением, безутешностью и изощрённостью второго. Смесь составляется легко, так как оба элемента по составу одинаковы, а различаются лишь по темпераменту и окраске».
Что-то в этом сравнении, безусловно, есть, но мне всё же кажется, что поэзия Бодлера совсем иная по составу, по группе крови.
Как и всякое буржуазное семейство, семья Шарля хотела для него карьеры достойной, спокойной и доходной. Отчим настойчиво предлагал выбрать между дипломатией и армией, мать мечтала его видеть в чине атташе посольства. Оба уверяли, что их связи помогут подняться по иерархической лестнице. Но Шарль, как человек, начисто лишённый здравого смысла, упрямо повторял, что хочет быть поэтом. И как ни пытались родители объяснить ему, что это не настоящая профессия, что все поэты — бездельники и пустые мечтатели, он упорно стоял на своём. Глухая семейная борьба длилась несколько лет. Это по её поводу было написано Бодлером полное горечи и торжества «Благословение», стихотворение, которым открываются его знаменитые «Цветы зла»:
Когда веленьем сил, создавших все земное,
Поэт явился в мир, унылый мир тоски,
Испуганная мать, кляня дитя родное,
На Бога в ярости воздела кулаки.
«Такое чудище кормить! О, правый Боже,
Я лучше сотню змей родить бы предпочла,
Будь трижды проклято восторгов кратких ложе,
Где искупленье скверн во тьме я зачала!.."
Но ангелы хранят отверженных недаром,
Бездомному везде под солнцем стол и кров,
И для него вода становится нектаром,
И корка прелая - амброзией богов.
Он с ветром шепчется и с тучей проходящей,
Пускаясь в крестный путь, как ласточка в полёт
И Дух, в пучине бед паломника хранящий,
Услышав песнь его, невольно слезы льет.
Но что ж Поэт? Он тверд. Он силою прозренья
Уже свой видит трон близ Бога самого.
В нем, точно молнии, сверкают озаренья,
Глумливый смех толпы скрывая от него.
«Благодарю, Господь! Ты нас обрек несчастьям,
Но в них лекарство дал для очищенья нам,
Чтоб сильных приобщил к небесным сладострастьям
Страданий временных божественный бальзам.
Я знаю, близ себя Ты поместишь Поэта,
В святое воинство его Ты пригласил.
Ты позовешь его на вечный праздник света,
Как собеседника Властей, Начал и Сил.
Я знаю, кто страдал, тот полон благородства,
И даже ада месть величью не страшна,
Когда в его венце, в короне первородства,
Потомство узнает миры и времена.
Возьми все лучшее, что создано Пальмирой,
Весь жемчуг собери, который в море скрыт.
Из глубины земной хоть все алмазы вырой, -
Венец Поэта все сиянием затмит.
Затем что он возник из огненной стихии
Из тех перволучей, чья сила так светла,
Что, чудо Божие, пред ней глаза людские
Темны, как тусклые от пыли зеркала».
(перевод В. Левика)

На семейном совете решили на время удалить Шарля из Парижа, изобилующего соблазнами. Приятель отчима, капитан дальнего плавания, согласился взять юношу к себе на судно, отправлявшееся в Индию. Однажды во время этого путешествия капитан подстрелил альбатроса, кружившего над кораблём. Птицу втащили на борт. Это был великолепный экземпляр с размахом крыльев в 12 футов. Птица была лишь легко ранена, и матросы, привязав её за ногу, забавлялись, мучая её, когда она с трудом пыталась уйти, подтягивая свои длинные крылья, волочившиеся по палубе. Один из них поднёс к клюву зажжённую трубку. Шарль набросился на матроса и стал бить его кулаками и ногами, пока капитан не разнял их. Птицу наконец добили, и кок приготовил из неё паштет. Происшествие это произвело на Бодлера такое сильное впечатление, что он посвятил ему в сборнике «Цветы зла» одно из лучших своих стихотворений «Альбатрос»:
Когда в морском пути тоска грызет матросов,
Они, досужий час желая скоротать,
Беспечных ловят птиц, огромных альбатросов,
Которые суда так любят провожать.
И вот, когда царя любимого лазури
На палубе кладут, он снежных два крыла,
Умевших так легко парить навстречу буре,
Застенчиво влачит, как два больших весла.
Быстрейший из гонцов, как грузно он ступает!
Краса воздушных стран, как стал он вдруг смешон!
Дразня, тот в клюв ему табачный дым пускает,
Тот веселит толпу, хромая, как и он.
Поэт, вот образ твой! Ты также без усилья
Летаешь в облаках, средь молний и громов,
Но исполинские тебе мешают крылья
Внизу ходить, в толпе, средь шиканья глупцов.
(Перевод П. Якубовича)

«Цветы зла».
Глядя на эту небольшую книжку, итог более чем 15-летней работы, Бодлер предчувствовал негодование читательской массы, воспитанной на приторно-сладких стишках.

Вся эта книга — от первой до последней строки — являлась исповедью странного человека, находящегося в постоянных метаниях между светом и мраком. Меньше всего она похожа на изящное литературное упражнение, задуманное, чтобы понравиться публике. Это взволнованная автобиография поэта, мечтающего о прекрасном и находящего удовольствие в уродливом, желающего добра — и отступающего перед злом. Это грубое самообнажение отпугивало робких, словно их заставляли присутствовать при хирургической операции. Сколько крови, сколько гноя, но над этим, в вышине — сколько небесного света!
Глубочайшая правдивость, исповедальность «Цветов зла» сочетается с изысканнной утончённостью и зрелым мастерством автора. Это картинки души, отлитые в строгие классические формы.
Его собственная оценка этой книги: «Что такое «Цветы зла?» Документ, запечатлевший невиданную схватку человека с миром и с самим собой. В эту жестокую книгу я вложил всё моё сердце, всю мою нежность, всю свою религию (замаскированную), всю мою ненависть».
Из письма матери: «Книга полна холодной и мрачной красоты. Написана она с яростью и терпением. Книга приводит людей в бешенство. Мне плевать на всех этих дураков, поскольку я знаю, что этот томик, со всеми его достоинствами и недостатками, оставит свой след в памяти образованной публики, наряду с лучшими стихами Гюго, Готье и даже Байрона».
Так, собственно, и случилось. Но — значительно позже. А поначалу книга «Цветы зла» вызвала огромный скандал в консервативном французском обществе. Следователь парижского трибунала завёл личное дело на Бодлера и издателей его книги, а министр внутренних дел подписал ордер на арест и изъятие тиража.
20 августа 1857 года во Дворце правосудия состоялся один из самых громких процессов 19 века. В качестве прокурора выступил знаменитый Эрнест Пинар, прославившийся незадолго до этого тем, что поддержал обвинение в деле Флобера, судимого за «Госпожу Бовари». Это ему принадлежала формула, облетевшая всю тогдашнюю прессу: «Искусство без правил — это больше не искусство, оно подобно женщине, которая сбросила с себя все одежды». Такова была логика фарисея, на которую поэт не преминул ответить: «Отныне мы станем писать только утешительные книги, доказывающие, что человек от рождения хорош и все люди счастливы».
Но если Флобера лишь слегка пожурили и дело закончилось оправдательным приговором, то вердикт Бодлеру вынесли однозначно обвинительный. Суд приговорил изъять из сборника шесть наиболее возмутивших его стихотворений: «Украшения», «Лета», «Той, которая слишком весела», «Лесбос», «Дельфина и Ипполита», «Метаморфозы вампира». На издателей и автора был наложен штраф в 500 франков.
Однако, согласно законам Второй империи, осуждённая книга в обязательном порядке подлежала... переизданию с внесением исправлений, указанных в приговоре. В новом издании автору следовало заменить шесть изъятых стихов равным (или большим) количеством новых. Что Бодлер охотно и сделал, выпустив в 1861 году второе издание «Цветов зла», добавив в него 35 новых произведений, значительно обогатив содержание и тематику.

Новые «Цветы зла» несут отпечаток глубочайшей метафизичности, экзистенциальности поэтического мира Бодлера. Бодлеровский Париж — город тайн и странностей, призраков и химер. Одно из самых ярких произведений этого цикла — стихотворение «Семь стариков»: призрачное видение дряхлых старцев, идущих друг за другом «в жёлто-грязном тумане». Это кошмарный сон, наполненный таинством абсурда человеческого существования, упреждающий тематику Камю и Кафки.

Семь стариков
Мир фантомов! Людской муравейник Парижа!
Даже днем осаждают вас призраки тут,
И, как в узких каналах пахучая жижа,
Тайны, тайны по всем закоулкам ползут.
Ранним утром, когда занавесила дали
На актерскую душу похожая мгла,
И дома фантастически в ней вырастали,
И, казалось, река между ними текла, —
В желто-грязном тумане, в промозглости мутной,
Закаляя стоически нервы свои,
Собеседник своей же души бесприютной,
Я под грохот фиакров бродил в забытьи.
Вдруг я вздрогнул: навстречу, в лохмотьях, похожих
На дождливое небо, на желтую мглу,
Шел старик, привлекая вниманье прохожих, —
Стань такой подаянья просить на углу,
Вмиг ему медяков накидали бы груду,
Если б только не взгляд, вызывающий дрожь,
Если б так рисовать не привыкли Иуду:
Нос крючком и торчком борода, будто нож.
Согнут буквою «Г», неуклюжий, кургузый,
Без горба, но как будто в крестце перебит!
И клюка не опорой казалась — обузой
И ему придавала страдальческий вид.
Глаз угрюмых белки побурели от желчи —
Иудей ли трехногий иль зверь без ноги,
Враг всему, он печатал шаги свои волчьи,
Будто мертвых давили его сапоги.
Вслед за ним, как двойник, тем же адом зачатый, —
Те же космы и палка, глаза, борода, —
Как могильный жилец, как живых соглядатай,
Шел такой же — откуда? Зачем и куда?
Я не знаю — игра наваждения злого
Или розыгрыш подлый, — но, грязен и дик,
Предо мной семикратно — даю в этом слово! —
Проходил, повторяясь, проклятый старик.
Ясно ль вам, обделенным, глухим от природы,
Не сумевшим почувствовать братскую дрожь:
Пусть от немощи скрючились эти уроды,
Был на сверстника Вечности каждый похож.
Может быть, появись тут восьмой, им подобный,
Как ирония смерти над миром живых,
Как рожденный собою же Феникс безгробный,
Я бы умер — но я отвернулся от них.
Как пьянчуга, увидевший черта в бутылке,
Я бежал, я закрылся, я лег на кровать
Весь дрожащий, измученный, с болью в затылке,
Непостижную тайну стремясь разгадать.
Словно буря, все то, что дремало подспудно,
Осадило мой разум, и он отступил.
И носился мой дух, обветшалое судно,
Среди неба и волн, без руля, без ветрил.
(Перевод В. Левика)
Собирая свои «Цветы», Бодлер не останавливался ни перед какими красками и образами, какими бы ужасными и горькими они ни были. Он хотел сорвать покров тайны с ночных демонов. И проделал это тонко, умно, с редким талантом, отбирая изысканные выражения, нанизывая детали, одну за другой, словно жемчуг, создавая впечатление, словно он забавлялся и писал просто играючи. А ведь он страдал, мучился, описывая свои горести, кошмары, моральные пытки.

В объятиях любви продажной
жизнь беззаботна и легка,
а я — безумный и отважный -
вновь обнимаю облака.
«Я знаю, - пишет Бодлер, - что я из тех, которых люди не любят, но которых они вспоминают! Высшее назначение искусства — не понравиться, но выразить гордое страдание, полноту и правду, «души отчаянной протест».
«Жестокая мегера»

Таким Бодлер был в юности: худощавый, тонкий, изысканно-просто одетый во всё чёрное. С его обликом в истории литературы связан термин «дендизм». Он любил одеваться, мог часами просиживать у модных портных, поражая всех строгой элегантностью своего вида. Но при всех этих аристократических привычках Шарль постоянно афишировал своё пристрастие к презренным, грязным и уродливым женщинам.
Я помню, было мне приятно, малолетке,
«мой ангел» - ворковать в ушко одной кокетке,
хоть пятеро других имели дело с ней.
Блаженные! Мы так на ласку эту падки,
что я опять любой подстёге без оглядки
«мой ангел» - прошепчу средь белых простыней.
Когда однажды собратья по перу попросили Бодлера что-нибудь прочесть, он шокировал слушателей своими бестыдными эротичными стихами. «В первой же строке, - записал Луи Ульбаш, - речь шла о «вонючей рубашке Манон», и всё остальное было в том же духе. Грубейшие слова в великолепной оправе и смелые описания следовали одно за другим, а мы, покраснев до ушей, сидели, ошеломлённые, свернув наши ангельские стишки и чувствуя, как испуганно бьют крыльями наши ангелы-хранители, возмущённые этим скандалом. Впрочем, по форме всё это было великолепно, но так сильно отличалось от наших литературных принципов, что все мы почувствовали пугливое восхищение этим превосходным и развращённым поэтом».
В 17 лет Бодлер подхватил сифилис. Он не огорчился, а даже склонен был гордиться этим обстоятельством. Ему казалось, что такая болезнь — своеобразный диплом мужчины, повидавшего жизнь. «В тот день, когда молодой писатель читает гранки своего первого произведения, он преисполнен гордости, как школьник, только что заразившийся сифилисом», - писал он в книге автобиографических заметок «Моё обнажённое сердце». Подобно большинству своих современников, Бодлер считал, что сифилис необязательно заразен и что вылечиться можно очень просто, принимая пилюли с ртутью и йодистый калий. Судя по всему, болезнь не излечили, а загнали вглубь, и с тех пор она начала разрушительную работу, в конце концов сведя поэта в могилу в 46 лет. Заразила его известная на весь Париж раскосая проститутка Сара. Бодлер «воспел» её в своих «Цветах зла»:
С еврейкой бешеной, простёртой на постели,
как подле трупа труп, я в душной комнате
проснулся...
Ты на постель свою весь мир бы привлекла,
о женщина, о тварь, как ты от скуки зла!

Что же прельстило его в этой некрасивой и больной девке? Да как раз её уродство, её несчастливая судьба, её порок! Ему нравилось эпатировать респектабельное общество, попирая его правила хорошего тона и устоявшиеся эстетические каноны. Вот какие стихи посвящал Бодлер своей первой женщине — и это были отнюдь не восторги любви:
Ей только двадцать лет, но пылкая красотка -
уже владелица двойного подбородка.
И все же что ни ночь ей падаю на грудь
и по-младенчески спешу лизнуть, куснуть.
Бывает, ни гроша нет у моей бедняжки,
Чтоб вдосталь умастить свои бока и ляжки,-
Но я безудержней целую эту плоть,
Чем Магдалина встарь - стопы твои, Господь!
Созданье бедное - и радость ей не в радость:
Хрип раздирает грудь и заглушает сладость;
В ее мучительном дыханье слышу я
Глухие отзвуки больничного житья.
Несмотря на элегантную внешность и аристократические манеры, Бодлер даже не пытался завязать роман с дамой из приличного общества. Робость, гипертрофированная рефлексия заставляли его искать партнёршу, по отношению к которой он мог бы чувствовать своё полное превосходство. Такой партнёршей стала Жанна Дюваль, статистка в одном из парижских театриков. Это была рослая мулатка с дерзким взглядом, толстыми губами и чёрной гривой курчавых волос.

Кто изваял тебя из темноты ночной,
Какой туземный Фауст, исчадие саванны?
Ты пахнешь мускусом и табаком Гаванны,
Полуночи дитя, мой идол роковой.
Ни опиум, ни хмель соперничать с тобой
Не смеют, демон мой, ты - край обетованный,
Где горестных моих желаний караваны
К колодцам глаз твоих идут на водопой.
Но не прохлада в них - огонь, смола и сера.
О, полно жечь меня, жестокая Мегера!
(Перевод А. Эфрон)
Художник Э. Мане изобразил Жанну Дюваль на картине, которой потом дали название «Любовница Бодлера»: мулатку в летнем платье с перемежающимися лиловыми и белыми полосами.

Эта «чёрная Венера» (Жанна была квартеронкой) не отличалась ни особой красотой, ни умом или талантом. И хотя она проявляла открытое презрение к литературным занятиям Бодлера, постоянно требовала у него денег и изменяла при каждом удобном случае, её страстность и чувственность пленяли поэта и отчасти примиряли его с жизнью.
Бездушный инструмент, сосущий кровь вампир,
Ты исцеляешь нас, но как ты губишь мир!
Куда ты прячешь стыд, пытаясь в позах разных
Пред зеркалами скрыть ущерб в своих соблазнах?
Как не бледнеешь ты перед размахом зла,
С каким, горда собой, на землю ты пришла,
Чтоб темный замысел могла вершить Природа
Тобою, женщина, позор людского рода, -
Тобой, животное! - над гением глумясь.
Величье низкое, божественная грязь!
Никогда ещё поэты не описывали подобных ощущений. Неприязнь к возлюбленной могла появиться в результате ревности, её измены или охлаждения к ней. Но Бодлер первый осмелился проклясть её в минуты объятий. Ярость мужчины вспыхивает не только от сознания женской порочности, её лживости или глупости, но и от сознания бессилия перед её чарами, невозможности избавиться от наваждения, зависимости от той, кого он презирал.
Бодлер первым осмелился сбросить с пьедестала существо, во славу которого было сложено столько гимнов. Позднее женщину стали изображать как роковое зло, губящее всё вокруг: это и «Нана» Золя, и «Саломея» Уайльда, и многие произведения Мопассана. Из русских авторов можно назвать Брюсова: роман «Алтарь победы», сборник рассказов «Земная ось», многие стихотворения.
Любовница вульгарна, агрессивна, глупа, но стоило ей покачать пышными бёдрами, как Бодлер вновь начинал видеть в ней античную колдунью, жрицу зла, без которой он не может жить. И эта дьяволица вдохновляла его на божественные строки:
Пусть искажен твой лик прелестный
Изгибом бешеных бровей -
Твой взор вонзается живей;
И, пусть не ангел ты небесный,
Люблю тебя безумно, страсть,
Тебя, свободу страшных оргий;
Как жрец пред идолом, в восторге
Перед тобой хочу упасть!
Пустынь и леса ароматы
Плывут в извивах жестких кос;
Ты вся - мучительный вопрос,
Влияньем страшных тайн богатый!
Непредсказуемая, она олицетворяла в его глазах всех женщин.
Я люблю тебя так, как ночной небосвод...
Мой рассудок тебя никогда не поймёт,
о печали сосуд, о загадка немая!..
Цикл Жанны в любовной лирике «Цветов зла» - один из высших образцов поэтического воспевания плотской, земной любви.

Нега Азии томной и Африки зной,
Мир далекий, отшедший, о лес благовонный,
Возникает над черной твоей глубиной!
Я парю ароматом твоим опьяненный,
Как другие сердца музыкальной волной!
В эти косы тяжелые буду я вечно
Рассыпать бриллиантов сверкающий свет,
Чтоб, ответив на каждый порыв быстротечный,
Ты была как оазис в степи бесконечной,
Чтобы волны былого поили мой бред.
«О, Евы бедные 80-ти лет!..»
Бодлер прожил со своей «чёрной Венерой» почти 20 лет. Он уже тяготился связью с ней, ненавидел её крикливый голос, вульгарные манеры, пьяные выходки. Её смуглое тело, когда-то приводившее в восторг, теперь вызывало у него лишь отвращение и жалость. Кошечка-мулатка превратилась в костлявую морщинистую дылду с шершавой кожей и винным перегаром изо рта. Она уже не очаровывала его, а обременяла. Но он так и не смог окончательно порвать с Жанной. Когда она тяжело заболела — он поместил её в лучшую клинику, постоянно навещал, содержал до конца её дней, хотя самому денег постоянно не хватало, он был вечно в долгах, - не потому, что любил, его поступками двигала жалость и признательность за те минуты радости, что она когда-то ему дарила. И угрызения совести, природу которых он сам не понимал до конца.

Вообще, получивший широкое распространение «демонический, сатанинский, мизантропический» образ Бодлера весьма далёк от действительности. Марсель Пруст писал о нём: «В действительности поэт, которого считают бесчеловечным, склонным к несколько глуповатому аристократизму, был самым нежным, самым сердечным, самым человечным, самым «простонародным» из поэтов». Об этой его человечности говорят многие стихи Бодлера. Например, трогательное стихотворение, посвящённое няне, которая его воспитала:
Служанка скромная с великою душой,
Безмолвно спящая под зеленью простой,
Давно цветов тебе мы принести мечтали!
У бедных мертвецов, увы, свои печали...
Холодным декабрем, во мраке ночи синей,
Когда поют дрова, шипя, в моем камине, -
Увидевши ее на креслах в уголку,
Тайком поднявшую могильную доску
И вновь пришедшую, чтоб материнским оком
Взглянуть на взрослое дитя свое с упреком, -
Что я отвечу ей при виде слез немых,
Тихонько каплющих из глаз ее пустых?
Или стихотворение «Маленькие старушки»:
В изгибах сумрачных старинных городов,
Где самый ужас, все полно очарованья,
Часами целыми подстерегать готов
Я эти странные, но милые созданья!
Уродцы слабые со сгорбленной спиной
И сморщенным лицом, когда-то Эпонимам,
Лаисам и они равнялись красотой...
Полюбим их теперь! Под ветхим кринолином
И рваной юбкою от холода дрожа,
На каждый экипаж косясь пугливым взором,
Ползут они, в руках заботливо держа
Заветный ридикюль с поблекнувшим узором.

А заканчивается оно так:
Стыдясь самих себя, вы бродите вдоль стен,
Пугливы, скорчены, бледны, как привиденья,
Еще при жизни - прах, полуостывший тлен,
Давно созревший уж для вечного нетленья!
Но я, мечтатель, - я, привыкший каждый ваш
Неверный шаг следить тревожными очами,
Неведомый вам друг и добровольный страж, -
Я, как отец детьми, тайком любуюсь вами...
Я вижу вновь рассвет погибших ваших дней,
Неопытных страстей неясные волненья;
Чрез вашу чистоту сам становлюсь светлей,
Прощаю и люблю все ваши заблужденья!
Развалины! Мой мир! Свое прости вам вслед
Торжественно я шлю при каждом расставанье.
О, Евы бедные восьмидесяти лет,
Увидите ль зари вы завтрашней сиянье?..

Сам Бодлер писал об этом стихотворении: «Боюсь, что я просто-напросто сумел превзойти здесь границы, отведённые для поэзии». Да, это больше чем стихи. Это сама жизнь.
И вот мы приходим к парадоксальному выводу: этот сноб, возвёдший в идеал своей жизни и поэзии бесстрастный индивидуализм, сердечный холод и презрение к толпе, на самом деле был человеком, сплетённым из нервов и страстей, который через всё своё творчество пронёс глубокое сочувствие к отверженным судьбой, а через всю свою жизнь — безграничную преданную любовь к одной женщине.
Раздвоение души
Бодлер отнёсся к поэзии как исследователь, вошёл в неё, как завоеватель. Он был первопроходчиком нового искусства, построенного на точности, горечи и мрачности. Это был новый взгляд на искусство, когда не отвратительно никакое безобразие, когда красота извлекается из уродства, когда вера настолько горяча, что граничит с богохульством.
Лишь глянет лик зари и розовый и белый,
и строгий идеал, как грустный, чистый сон,
войдёт к толпе людей, в разврате закоснелой, -
в скоте пресыщенном вдруг Ангел пробуждён.

Поэзия Бодлера — это поэзия контрастов и оксюморонов: неподдельное переживание отливается здесь в подчёркнуто отделанные, классические формы, волны чувственности загоняются в гранитные берега безупречной логики, искренняя нежность соседствует с едкой язвительностью, а благородная простота стиля взрывается разнузданными фантазмами и дерзкими кощунствами. Мечущийся между восторгом жизни и ужасом перед ней, влачащийся во прахе и тоскующий по идеалу, Бодлер как нельзя лучше воплощает феномен, названный Гегелем «несчастным сознанием», то есть сознанием разорванным, и оттого пребывающим в состоянии бесконечной тоски».
Я — нож, проливший кровь — и рана,
удар в лицо — и боль щеки,
орудье пытки, тел куски,
я — жертвы стон — и смех тирана!
Человеческая природа порочна и божественна одновременно, в любом человеке уживаются два одновременных порыва: к Богу и к Сатане. В письме к Флоберу Бодлер писал: «Меня всегда преследовало ощущение невозможности объяснить некоторые внезапные поступки или мысли человека, не допустив предположения о вмешательстве какой-то злой, внешней по отношению к нему силы». В стихотворном предисловии к «Цветам зла» поэт прямо заявляет, что человек безволен, что им руководит Сатана, который держит в своих руках все нити, движущие человеком:
О мудрейший из Ангелов, дух без порока,
Тот же Бог, но не чтимый, игралище рока,
Вождь изгнанников, жертва неправедных сил,
Побежденный, но ставший сильнее, чем был,
Исцелитель страдальцев, обиженных мститель,
Все изведавший, бездны подземной властитель,
Из любви посылающий в жизни хоть раз
Прокаженным и проклятым радостный час,
Сатана, помоги мне в безмерной беде!

Само обращение Бодлера к образу Дьявола — продолжение давней литературной традиции, восходящей к Данту и Мильтону, наирелигиознейшим поэтам мира. Бодлеровские поношения Бога являются, по сути, молитвами, вывернутыми наизнанку. В «Отречении Святого Петра» он пишет:
А Бог — не сердится, что гул богохулений
В благую высь идет из наших грешных стран?
Он, как пресыщенный, упившийся тиран,
Спокойно спит под шум проклятий и молений.
Для сладострастника симфоний лучших нет,
Чем стон замученных и корчащихся в пытке,
А кровью, пролитой и льющейся в избытке,
Он все еще не сыт за столько тысяч лет.
Эти стихи будут потом приговорены судом к изъятию.
А в стихотворении «Авель и Каин» звучит не только яростный бунт против Бога, но и «компенсация» исторической несправедливости, ответственности сыновей за преступления отцов:
1
Род Авеля, блаженный в Боге,
Тебе даны и сон и снедь.
Род Каина, тебе, убогий,
Во прахе ползать и истлеть
.
Род Авеля, ты к Серафимам
Возносишь благовонный дым.
Род Каина, ты был гонимым,
Доколь страдать сынам твоим?
Род Авеля, тебе во благо
Тучнеет злак, плодится скот.
Род Каина, как пес-бродяга,
Скулит голодный твой живот.
Род Авеля, твой дом - чертоги,
Тебя согрел очаг родной.
Род Каина, в своей берлоге
Ты, как шакал, дрожишь зимой.
Род Авеля, дай волю страсти,
Обогатишь потомством дом
Род Каина, страшись напасти,
Что будешь делать с лишним ртом?
Род Авеля, владея садом,
Пасешься ты, подобно тле.
Род Каина, тебе и чадам
Блуждать бездомно по земле.
2
Род Авеля, ты удобренье,
Твой прах ростки полей сожрут.
Род Каина, в своем боренье
Будь стоек, твой не кончен труд.
Род Авеля, тебя ждет плаха
И вскинутых рогатин лес.
Род Каина, восстань из праха
И сбрось всевышнего с небес!

В письме матери Бодлер признавался: "Я всей душой хочу верить, что некое внешнее и невидимое существо интересуется моей судьбой, но как сделать, чтобы поверить в это?" Он догадывается о существовании высшей и неизмеримой тайны, но его не устраивают упрощённые догматичные объяснения, сердце влечёт его к вере, а рассудок удерживает, и он завидует верующим, которые не задаются вопросами.
Его отношения с Богом - особого рода. Главная особенность религиозности Бодлера - не обретение Бога, но вечный поиск, бесконечность богоискания. В дневнике он писал:"Клянусь самому себе каждое утро молиться Богу как вместилищу всякой силы и справедливости". И пояснял: "Человек, совершающий ввечеру молитву - всё равно что офицер, выставляющий часовых. Он может спать спокойно".
Однако этот мистический порыв, эта почти монашеская дисциплина прекрасно уживались в Бодлере с аномальным поведением, осуждаемым религиозной моралью. Он хотел верить в Бога и пребывать в грехе. Считал, что настоящий человек, каким задумал его Бог, с неизбежностью соединяет в себе небеса и грязь.
Бодлер постоянно терзался внутренней раздвоенностью. «Я виновен перед самим собой». «Моя жизнь всегда будет состоять из недовольства самим собою». «Какая пустота вокруг меня! Какая чернота! Какие духовные потёмки и какой страх перед будущим!» - подобные фразы встречаются чуть ли не в каждом его письме.
В груди у всех, кто помнит стыд
и человеком зваться может,
живёт змея, и сердце гложет,
и «нет» на все «хочу» шипит.
«Проклятый поэт», будь то Бодлер, Верлен, Малларме, Рембо — это и есть терзающийся певец «несчастного сознания», и потому понять Бодлера означает, может быть, найти ключ к целому пласту современной европейской литературы.
О светлое в смешенье с мрачным!
Сама в себя глядит душа,
звездою чёрною дрожа
в колодце истины прозрачном.
Дразнящий факел в адской мгле
иль сгусток дьявольского смеха,
о, наша слава и утеха -
вы, муки совести во зле!
Мораль поэта — правда жизни
Чем привлекала поэзия Бодлера? Новаторством, жизненной правдой и полнотой, душевными контрастами, экзотикой свободы, многоплановостью чувства, силой страдания. Книга «Цветы зла» сразу сделала его знаменитым.

Когда книга вышла, она была подвергнута разносу в печати. Её обвиняли в скабрезности, в оскорблении религии, в сотрясении устоев общественной морали. Но Бодлер был убеждён, что поэзия не должна быть прислужницей морали, и тот, кто пишет для поучения современников, может быть отличным проповедником, но непременно окажется плохим поэтом.
Моральность поэта — не в «моральке», говорил он, но в полноте изображаемой жизни. Аморально искажать жизнь, лгать, лицемерить. Поэт не должен преследовать определённую этическую цель, которая ослабляет его поэтическую силу. Мораль художника — правда жизни, глубина изображения.
В книге «Моё обнажённое сердце» Бодлер проводит параллель между общественным лицемерием и поведением потаскухи: «Все эти тупые буржуа, без конца твердящие слова «безнравственно, безнравственность, нравственное искусство» и другие глупости, напоминают мне Луизу Вильдье, шлюху ценой в пять франков, которая однажды за компанию со мной отправилась в Лувр, где никогда прежде не была, и там принялась краснеть, прикрывать лицо руками и, поминутно дёргая меня за рукав, вопрошала перед бессмертными статуями и полотнами: да разве можно выставлять на всеобщее обозрение такие неприличности ?»
А.Франс писал в защиту Бодлера: «Я отнюдь не утверждаю, что у него душа апостола. Я охотно признаю, что в его морали есть нечто аморальное. Но, думается мне, в мире никогда и не бывало морального поэта, во всяком случае, таким нельзя назвать ни Вергилия, ни Шекспира, ни Расина. Все они были безразличны к морали, как безразлична к ней природа, говорящая их устами».
Искусственный рай
В 1857 году во французской печати стали появляться «Стихотворения в прозе» Бодлера, вышедшие уже после его смерти отдельным томом под названием «Парижский сплин». Это ряд свободных, не связанных сюжетом, миниатюр. В одном из писем Бодлер признаётся: «В общем, это те же «цветы зла», но гораздо более свободные, детализированные, насмешливые».
"Стихотворения в прозе" были восприняты как новое слово во французской лирике. В них воплощено бодлеровское понимание прекрасного как таинственного, шокирующего, дерзкого. Вот одно из таких стихотворений.
Опьяняйтесь
Всегда надо быть пьяным... В этом всё, это единственная задача. Чтобы не чувствовать ужасной тяжести времени, которая сокрушает ваши печали и пригибает вас к земле, надо опьяняться без устали. Но чем же? Вином, поэзией или добродетелью, чем угодно. Но опьяняйтесь.
И если когда-нибудь, на ступенях ли дворца, на зелёной ли траве оврага или в угрюмом одиночестве вашей комнаты вы почувствуете, очнувшись, что ваше опьянение слабеет или уже исчезло, спросите тогда у ветра, у волны, у звезды, у птицы, у часов на башне, у всего, что бежит, у всего, что стонет, у всего, что катится, у всего, что поёт, у всего, что говорит, спросите, который час; и ветер, волна, звезда, птица, часы на башне ответят вам: «Час опьянения!» Чтобы не быть рабами, которых терзает время, опьяняйтесь, опьяняйтесь непрерывно! Вином, поэзией или добродетелью, чем угодно.

Бодлер представлял собой тип человека, не приспособленного к жизни в обществе. Он страдал врождённым, органическим пороком: отсутствием тяги к земным благам, постоянными сомнениями в смысле жизни, ностальгией по вчерашнему дню и отвращением ко дню завтрашнему.
Единственный способ уйти от пошлости мира — это укрыться в мечте, с помощью, если надо, наркотиков и алкоголя. Всё прекрасно, кроме обыденности. Фантазии Бодлера частично объяснялись регулярным употреблением наркотиков, в основном, опиума. Шафранно-опийная настойка, прописанная ему от болей, вызванных прогрессирующим сифилисом, размягчала мозг и разрушающе действовала на организм, но помогала творчеству.

Раздвинет опиум пределы сновидений,
бескрайностей края,
расширит чувственность за грани бытия,
и вкус мертвящих наслаждений,
прорвав свой кругозор, поймёт душа твоя.

Он ищет не свинских услад, но редких, необыкновенных, исключительных ощущений — точек наивысшего напряжения мира, точек соприкосновения посюстороннего и потустороннего, где возможен прорыв из одного измерения в другое.
В 1860 году вышла книга Бодлера «Искусственный рай». Это произведение, посвящённое анализу воздействия некоторых наркотиков на мозг человека. В первой части, «Поэме о гашише», автор объясняет, что употребление «зелёного варенья» втягивает человека в некое безудержное веселье, вскоре сменяющееся приятным оцепенением, а затем — лихорадочной активностью воображения, позволяющей этому человеку прожить несколько жизней за час, после чего он изнемогает, чувствует себя разбитым, плавающим в каком-то тумане, не зная, кто он такой и чего хочет.

Во второй части - «Опиоман» - описывалось наслаждение от опиума, ощущения наркомана на всех фазах наркотического опьянения. С учётом собственного печального опыта наркотической зависимости, Бодлер ярко изобразил расплату за наслаждение:
«Я хотел сделаться ангелом, а стал зверем, в данный момент могущественным зверем, если только можно назвать могуществом чрезмерную чувствительность при отсутствии воли, сдерживающей или направляющей её. Я походил на лошадь, которая понесла и мчится к пропасти, она хочет остановиться и не может. Поздно! - повторял я всё время с глубоким отчаянием». Но хотя Бодлер постоянно называет наркотики ядом и много пишет о болезненном состоянии и нравственном опустошении после «кайфа», его описания наркотической эйфории столь сочны и заманчивы, что могут оказаться опасными для романтических ищущих натур.

В отличие от романтиков Бодлер — поэт города, урбанист. Он — антируссоист, не любит природы. Природа по Бодлеру — это не благо, а огромная опасность, первородный грех. Природный человек — это Каин, негативные, врождённые свойства человека — природны. Добродетель — свойство не природы, но порождение культуры и искусства.
В одном из писем он пишет: «Мне всегда казалось, что в Природе, цветущей и молодящейся, есть нечто удручающее, грубое и жестокое — нечто граничащее с бесстыдством». Бодлер говорил, что не переносит свободно текущей воды: «Я желаю видеть её обузданной, взятой на поводок, зажатой в геометрические стены набережной».
Он вообще не любил ничего естественного, натурального. Мясо любил в маринаде, консервированным, женщин — лишь приправленных ароматами, нарядами, в косметике, в духах и мехах. Женской наготы не переносил и всегда заставлял их одеться, прежде чем заняться любовью.
Природа как таковая, не озарённая воображением, для Бодлера мертва: она ровным счётом ничего не может сказать человеку и потому попросту неинтересна: «Если пейзаж прекрасен — то отнюдь не сам по себе, а лишь благодаря мысли и чувству, которые я с ним связываю».
Вот такой вот любопытный, парадоксальный и удручающий взгляд на мир.
Опасен для самого себя
В последние годы жизни Бодлера всё чаще посещает мысль о самоубийстве. Впервые он попытался покончить с собой в 24 года, написав письмо, где объяснял причины своего решения: «Я убиваю себя, потому что не могу больше жить, потому что устал и засыпать, и пробуждаться, устал безмерно. Я ухожу из жизни, потому что я никому не нужен и опасен для самого себя».
Прочитав такое, мало мальски искушённый в психологии человек без труда поставит диагноз: депрессия. Тогда это называли: хандра, сплин. Классический сплин. Бодлер сам себе ставит этот диагноз, причём четыре раза подряд: именно четыре стихотворения в «Цветах зла», расположенные одно за другим, называются одинаково: «Сплин» - случай в мировой литературной практике беспрецедентный... А после учетверённого «Сплина», как заключительный аккорд, обжигающая ледяным дыханием, «Жажда небытия»:
Когда-то скорбный дух, пленялся ты борьбою,
но больше острых шпор в твой не вонзает круп
надежда! Что ж, ложись, как старый конь, будь туп, -
ты слабых ног уже не чуешь под собою,
О, дух сражённый мой, ты стал на чувства скуп:
нет вкуса ни к любви, ни к спорту, ни к разбою...
«Прощай!», - ты говоришь литаврам и гобою;
там, где пылал огонь, стоит лишь дыма клуб...
Весенний нежный мир уродлив стал и груб.
Тону во времени, его секунд крупою
засыпан, заметён, как снегом хладный труп,
и безразлично мне, Земля есть шар иль куб,
и всё равно, какой идти теперь тропою...
Лавина, унеси меня скорей с собою!

Написав завещание, в котором оставлял всё своё имущество Жанне, Бодлер нанёс себе удар ножом в грудь. Рана оказалась неглубокой, он выжил.
Не осуществив самоубийство, Бодлер просто растянул его во времени, превратив в двадцатилетний процесс медленного саморазрушения.
Бодлер стареет, опережая годы. Волосы рано седеют. Лицо покрывается глубокими морщинами. Запавший рот приобретает желчное, саркастичное выражение. Глаза из-под седых бровей глядят пронзительно и недобро. Современник пишет, что в 46 лет Бодлер походил на дряхлого старика.

В 1858 году у поэта начинают прогрессировать симптомы невылеченного сифилиса: он уже не может обходиться без наркотиков, лишь усиливающих разрушение организма. Развязка наступила 4 февраля 1866 года: во время посещения собора Сен Лу в Намюре Бодлер потерял сознание, упав прямо на каменные ступени. Ему поставили диагноз: правосторонний паралич и тяжелейшая афазия, позже перешедшая в полную потерю речи. Только через пять месяцев разбитого параличом поэта перевезут в Париж, где ему предстоит умирать ещё долгие 14 месяцев. 31 августа 1867 года поэта не стало. Его прах похоронен на кладбище Монпарнас.
Могила Бодлера довольно скромна.
Но в 1892 году неподалёку от могилы поэта был установлен памятник работы скульптора Жозе де Шармуа: из стелы поднимается поясная фигура некого демона, склонённого над лежащим человеком, спелёнутым наподобие мумии.
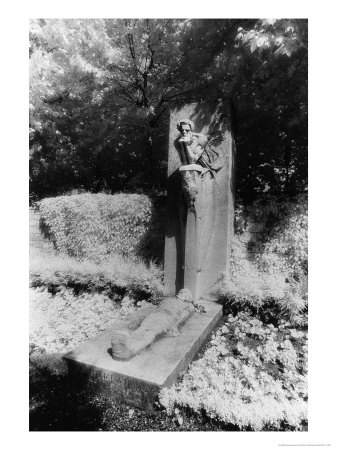
Прошло 145 лет со дня смерти Бодлера, а слава его из поколения в поколение всё растёт. Она перешагивает границы и вызывает отклики на всех языках. Но чем больше его комментируют, тем загадочнее выглядит личность самого Бодлера.
Кого он хотел напугать, взывая к Дьяволу — читателя или себя? Вполне ли он был искренен, крича о своей ненависти к человечеству? Какую часть его творчества составляет искусный вымысел, а какую — личный опыт? Был ли он утончённым комедиантом, сыгравшим свою жизнь, или бессильной жертвой собственных страстей? И, в общем, хорошо, что на эти вопросы так и нет ответа. Когда намерения писателя остаются неразгаданными, у его творчества больше шансов на долгую жизнь.

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/31977.html
|
|
Процитировано 2 раз
Как демон, с гордою душой... |







|
Метки: лермонтов дуэль мартынов эмилия верзилина первая и последняя любовь поэта |
Процитировано 3 раз
Памяти Вениамина Блаженного |
31 ИЮЛЯ умер великий русский поэт Вениамин Блаженный (15.1921 — 31.1999). В этом году исполнилось 90 лет со дня его рождения.

Я не вовсе ушел, я оставил себя в каждом облике -
Вот и недруг, и друг, и прохожий ночной человек, -
Все во мне, всюду я - на погосте, на свалке, на облаке, -
Я ушел в небеса - и с живыми остался навек.
Почему я должен был писать стихи? Я, дитя витебских улиц? Я и окончил-то всего восемь классов, и не успевал почти по всем предметам...
Почему мне это дано? Дано было Блоку, Белому, Пастернаку - сыновьям профессоров, академиков. Почему мне дано?
Я сумел что-то сказать. Своими словами. На своем тарабарском языке, на котором больше никто не говорит.
(Из интервью с В. Блаженным (В.М. Айзенштадтом)
Вениамин Михайлович Айзенштадт родился в 1921 году в белорусском местечке под Оршей в нищей еврейской семье. Бедствовал. Бродяжничал. 23 года трудился в инвалидной артели, ибо официально был признан "убогим" с соответствующим заключением ВТЭКа. Был помещен в сумасшедший дом, где полностью подорвал здоровье, но не утратил огромной духовной мощи.
В советские времена о публикации глубоко трагических и мистико-религиозных стихов В. Блаженного не могло быть и речи. Однако выдающиеся поэты-современники: Пастернак (который Айзенштадта собственно и открыл), Тарковский, позднее - Липкин, Лиснянская, Межиров - знали эти стихи в рукописях и высочайшим образом оценивали их в переписке с поэтом-изгоем.
В 80-е годы В.Блаженного начали потихоньку публиковать. Появились и критические (в основном восторженно-недоуменные) отклики на эту поэзию, не вписывающуюся ни в какие рамки традиций. Его творчество сравнивали с наследием Даниила Андреева, сопоставляли с религиозными лирическими опытами Зинаиды Миркиной, проводили аналогию с духовно-публицистическими поисками Бориса Чичибабина, с поэтической метафизикой Арсения Тарковского.
Сам Блаженный уже в зрелые годы признавался: "Я до сих пор не знаю, что такое стихи и как они пишутся. Знаю только, что рифмованный разговор с Богом, с детством, с братом, с родителями затянулся надолго. На жизнь".
* * *
...И есть язык у кошек и собак,
И был язык единственный у мамы,
Его не заменил мне Пастернак,
Не заменили песенные ямбы.
И был язык у мамы небогат,
Слова простонародные затерты,
Но, слыша маму, пробуждался брат —
И забывал на время, что он мертвый.
И кошка знала разумом зверья
(И уши шевелились осторожно),
Что мама, кошка тощая и я —
Мы все на небе будем непреложно...
***
– Господи, вот я, ослино-выносливый,
И терпеливый, и вечно-усталый, -
Сколько я лет твоим маленьким осликом
Перемогаюсь, ступая по скалам?..
Выслушай, Господи, просьбу ослиную:
Езди на мне до скончания века
И не побрезгуй покорной скотиною
В образе праведного человека.
Сердце мое безгранично доверчиво,
Вот отчего мне порою так слепо
Хочется корма нездешнего вечности,
Хочется хлеба и хочется неба.
Стихи этого круга В.Блаженный очень точно назвал "письмами к Богу."
Бог для него – совершенно свой, никогда не канонический, не церковный и не закоснело-статичный. Поэт неустанно ищет Бога, теряет и обретает вновь.
ДОМ
Прийти домой, чтоб запереть слезу
В какой-то необъятный сундучище,
Где все свои обиды прячет нищий,
А письма к Богу - где-то там внизу...
Да, есть и у меня на свете дом,
Его сработали мне стаи птичьи,
И даже жук работал топором,
И приседал на лапы по-мужичьи.
Прийти домой и так сказать слезе:
- Вот мы одни в заброшенной лачуге,
И всех моих Господь прибрал друзей,
Убил котенка, смял крыло пичуге...
Но я не сетую и не ропщу,
Ведь мертвые меня не забывали,
И проходили парами, как в зале,
Не обходилось даже без причуд...
И я даю вам адрес на земле:
Мой дом везде, где нищему ночевка,
У птицы недобитой на крыле
Он машет Богу детскою ручонкой...
Мой дом везде, где побывала боль,
Где даже мошка мертвая кричала
Разнузданному Господу: - Доколь?..
...Но Бог-палач все начинал сначала.
* * *
Я к Богу подойду на расстоянье плача,
Но есть мышиный плач и есть рыданье льва,
И если для Христа я что-либо да значу, -
Он обретет, мой плач, библейские права…
Я к Богу подойду в самозабвенье стона,
Я подойду к нему, как разъяренный слон,
Весь в шрамах грозовых смятенья и урона, -
Я подойду к нему, как разъяренный стон…
Но есть и тишина такой вселенской муки,
Как будто вся душа горит в ее огне, -
И эта тишина заламывает руки,
Когда ничто, ничто ей не грозит извне.
«Меня часто упрекают в фамильярном отношении к Богу, - говорил он.- Но когда кошка трется о ноги хозяина - разве это фамильярность? Это полное доверие. Это родство».
* * *
Опять я нарушил какую-то заповедь Божью,
Иначе бы я не молился вечерней звезде,
Иначе бы мне не пришлось с неприкаянной дрожью
Бродить по безлюдью, скитаться неведомо где.
Опять я в душе не услышал Господнее слово,
Господнее слово меня обошло стороной,
И я в глухоту и в безмолвие слепо закован,
Всевышняя милость сегодня побрезгала мной.
Господь, Твое имя наполнило воздухом детство
И крест Твой вселенский — моих утоление плеч,
И мне никуда от Твоих откровений не деться,
И даже в молчаньи слышна Твоя вещая речь.
* * *
Блеснет Господний свет во мраке преисподней...
– Господь, – я вопрошу, – не тот ли это свет,
Что всюду разлился по милости господней,
Которому нигде преграды в мире нет?...
Не тот ли это свет, что пронизает душу,
Всем горестным ее соблазнам вопреки,
И все ее грехи торчат в душе наружу,
Как у зверей торчат разбойные клыки...
«Если бы мне сказали, что я написал удачное стихотворение, я бы оскорбился. Это все равно, что сказать: "Ах, как хорошо ты плакал". Для меня поэзия - это исповедь, это плач, это – моление».
Вечный мальчик седеет душой —
И бредет сквозь страданье и сон...
— Я из мира еще не ушел, —
Говорит мне страдальчески он. —
Я еще притаился во мгле,
Где собачьи мерцают глаза,
И мне столько же, мальчику, лет,
Сколько было полвека назад.
Я еще побираюсь, кляня
Тех, кто сытые ест калачи...
Подзаборный котенок меня
Окликает в голодной ночи.
«Конечно, и метафора, и эпитет – мощные рычаги восприятия поэзии, но не эти же побрякушки определяют силу духовного устремления, совершенно не эти...»
* * *
Когда бы так заплакать радостно,
Чтобы слеза моя запела
И, пребывая каплей в радуге,
Светилось маленькое тело.
Чтобы слеза моя горчайшая
Была кому-то исцеленьем,
Была кому-то сладкой чашею
И долгой муки утоленьем.
Когда бы так заплакать бедственно,
Чтобы смешались в этом плаче
Земные вздохи и небесные,
Следы молений и палачеств.
Заплакать с тайною надеждою,
Что Бог услышит эти звуки —
И сыну слабому и грешному
Протянет ласковые руки...
В стихах его есть потрясающая своей свежестью и лирической новизной метафора: Бог это хлебная корка, которую надо прожевать, размочив собственной слюною, чтобы тот стал съедобным для человека хлебом. Как просто, буднично – и как глубоко! Метафора не кощунственная, а нелицемерно и неханжески точная: путь к Богу требует личных усилий каждого отдельного существа.
На каком языке мне беседовать с Богом?..
Может быть, он знаком только зверям и детям,
Да еще тем худым погорельцам убогим,
Что с постылой сумою бредут на рассвете...
Может быть, только птицам знакомо то слово,
Что Христу-птицелюбу на душу ложится,
И тогда загорается сердце Христово —
И в беззвездной ночи полыхает зарница...
И я помню, что мама порой говорила
Те слова, что ребенку совсем непонятны,
А потом в поднебесьи стыдливо парила,
А я маму просил: — Возвращайся обратно...
Характерно, что В. Блаженный никогда не пишет «иллюстраций» к Библии, не говорит от имени ее персонажей – у него это всегда незамаскированный и прямой авторский монолог, молитвенно взывающий к Богу или исповедующийся в сокровенных таинствах собственного религиозного "я". Он не стыдится признаться в самых тёмных и страшных страницах своей биографии. («Я пребываю в сумасшедшем доме, Негласный сын Христа...»).
ДУРДОМ
...Тогда мне рваный выдали халат
И записали имя Айзенштадта.
Я сразу стал похож на арестанта.
А впрочем я и был им - арестант.
Окно в решетке, двери на ключе,
Убогость койки и убогий разум...
Свирепость отчужденная врачей,
Свирепость санитарок яроглазых.
Расталкивая шваброй и ведром
Понурых, словно обреченных казни,
Они на нас обрушивали гром
Своей исконной бабьей неприязни.
Обед с нехваткой места за столом...
Но удавалось сбоку примоститься,
А кто и стоя - этаким столбом -
Ладони обжигал горячей миской.
И каждый был и лишний, и ничей...
Мы были сыты - с голоду не пухли:
С капустой обмороженною щи
Казались блюдом королевской кухни.
"Налопались?.. Теперь айда во двор..."
Я пёр, как все, зачем-то шагом скорым...
– О, Боже, как ужасен твой простор,
Темничным огороженный забором!..
Стихи Блаженного о сумасшедшем доме написаны человеком, абсолютно трезвым и умственно здоровым. Он переиначивает известную идиому - «не все дома». Не так, говорит поэт, - "все дома, но в доме бушует огонь", помещая в эту яростную метафору всю драму современного сознания.
В том доме я могу, блуждая до поры
В сообществе живых, но жалуясь умершим,
С Ахматовой вздыхать, с Цветаевой курить
И прочие творить немыслимые вещи.
Кстати, молодой Пастернак, которым Блаженный в ранние годы буквально бредил и с которым здесь возникает, видимо, невольная перекличка, "с Байроном курил и пил с Эдгаром По" вне всякого сумасшедшего дома.
* * *
Так явственно со мною говорят
Умершие, с такою полной силой,
Что мне нелепым кажется обряд
Прощания с оплаканной могилой.
Мертвец - он, как и я, уснул и встал -
И проводил ушедших добрым взглядом...
Пока я жив, никто не умирал.
Умершие живут со мною рядом.
ДЕВОЧКА
Та девочка, — а я ей был смешон, —
Ходила, как мальчишка, в грубых гетрах.
Она дружила с ветром, и с мячом,
И с веслами, и с теннисной ракеткой.
И странно: столько лет и столько зим —
Событья, перемены, годы, лица, —
А девочка мерещится вблизи,
А девочка хохочет и резвится…
Она стоит, откинувшись слегка,
Беспечная, у сетки волейбольной,
И сквозь нее проходят облака,
Проходят дни, и годы, и века…
Ей хоть бы что — ни холодно, ни больно.

* * *
Это ты, это ты,
Та, кого когда-то называли царевной,
Я узнал тебя по походке,
Вот во что превратили тебя мастера своего дела,
Мастера сцены, мастера экрана, мастера секса,
Рыцари ордена распутников.
Но где-то остался от тебя
Осколок печального зеркала
С золотистой прядью
И доверчивыми глазами деревенской русалки...
1990
* * *
– Господь, – говорю я, и светлые лица
Стоят на пороге, как птицы в дозоре,
И вот уж отец мой — небесная птица,
И матери в небе развеяно горе...
И тот, кто дыханья лишился однажды,
По смерти становится трепетным духом,
И это есть миг утоления жажды,
Он в небе порхает блуждающим пухом.
– Господь, – говорят мне собака и кошка,
И обе они на себя не похожи, –
Мы тоже летаем, хотя и немножко,
Хотя и немножко, мы ангелы тоже...
– Господь, – говорит мне любая былинка,
Любая травинка возлюбленной тверди,
И я не пугаюсь господнего лика,
Когда прозреваю величие смерти...
Живые для В. Блаженного – это не только люди, это и звери, птахи, жуки... Если Есенин – его предшественник и лирический предтеча – ставил себе в заслугу, что «зверьё, как братьев наших меньших никогда не бил по голове» и призывал в закадычные собеседники пса Джима, то Блаженный идёт дорогой «зверолюбия» ещё дальше: "Я изъяснялся, сумасшедший, на языке зверей и птиц". Он ощущает животных как защиту от людской жестокости, как врачевателей: "Может, долей моей не побрезгает сумрачный волк. ...Может, боли мои лекариха залечит лисица..." И сам выступает их защитником перед Богом.
Так, мандельштамовское "но не волк я по крови своей" получает в поэзии В.Блаженного совершенно новый поворот:
Но не волк я, не зверь – никого я не тронул укусом:
Побродивший полвека по верстам и вехам судьбы,
Я собакам и кошкам казался дружком-Иисусом,
Каждой твари забитой я другом неназванным был.
***
Если Бог уничтожит людей, что же делать котенку?..
"Ну пожалуйста, - тронет котенок всевышний рукав, -
Ну пожалуйста, дай хоть пожить на земле негритенку, -
Он, как я, черномаз и, как я, беззаботно лукав...
На сожженной земле с черномазым играть буду в прятки,
Только грустно нам будет среди опустевших миров,
И пускай ребятишек со мною играют десятки,
Даже сотни играют – и стадо пасется коров.
А корова – она на лугу лишь разгуливать может,
Чтобы вымя ее наполнялось всегда молоком...
Ну пожалуйста, бешеный и опрометчивый Боже, –
Возроди этот мир для меня – возроди целиком.
Даже если собаки откуда-то выбегут с лаем,
Будет весело мне убегать от клыкастых собак,
Ибо все мы друг с другом в веселые игры играем, –
Даже те, кто, как дети, попрятались в темных гробах..."
Более всего Блаженный привязан к кошке – этому зверю посвящены многие его буквально любовные стихи: "Кошка свой хвост распушила лохматая, Словно дымок над родительской хатою".
* * *
По какому-то следу, по ниточке бреда предсмертного
Доберусь я до детства, до тех и широт и высот,
Где я жил не тужил, и на Господа Бога не сетовал,
И смотрел, как на старой трубе умывается кот.
И я думал, что кот восседал на трубе не из удали,
А спустился с высот по своим поднебесным делам,
И сидел на кресте колокольном во городе Суздале,
И во городе Пскове похаживал по куполам.
Что-то было в том звере хвостато-усато-крылатое
И такое волшебное, столько святой старины,
Словно взмахом хвоста истребил он все воинство адово
И теперь на трубе снова видит домашние сны.
***
А те слова, что мне шептала кошка, -
Они дороже были, чем молва,
И я сложил в заветное лукошко
Пушистые и теплые слова.
Но это были вовсе не котята
И не утята; в каждом из словес
Топорщился чертенок виновато,
Зеленоглазый и когтистый бес.
...Они за мною шествовали робко -
Попутчики дороги без конца -
Собаки, бяки, божии коровки,
А сзади череп догонял отца.
На ножке тоненькой, как одуванчик,
Он догонял умершую судьбу,
И я подумал, что отец мой мальчик,
Свернувшийся калачиком в гробу.
Он спит на ворохе сухого сена,
И Бог, войдя в мальчишеский азарт,
Вращает карусель цветной вселенной
В его остановившихся глазах.
* * *
Моление о кошках и собаках,
О маленьких изгоях бытия,
Живущих на помойках и в оврагах
И вечно неприкаянных, как я.
Моление об их голодных вздохах...
О, сколько слез я пролил на веку,
А звери молча сетуют на Бога,
Они не плачут, а глядят в тоску.
Они глядят так долго, долго, долго,
Что перед ними, как бы наяву,
Рябит слеза огромная, как Волга,
Слеза Зверей... И в ней они плывут.
Они плывут и обоняют запах
Недоброй тины. Круче водоверть –
И столько боли в этих чутких лапах,
Что хочется потрогать ими смерть.
Потрогать так, как трогают колени,
А может и лизнуть ее тайком
В каком-то безнадежном исступленье
Горячим и шершавым языком...
Слеза зверей, огромная, как Волга,
Утопит смерть. Она утопит рок.
И вот уже ни смерти и ни Бога.
Господь – собака и кошачий Бог.
Кошачий Бог, играющий в величье
И трогающий лапкою судьбу -
Клубочек золотого безразличья
С запутавшейся ниткою в гробу.
И Бог собачий на помойной яме.
Он так убог. Он лыс и колченог.
Но мир прощен страданьем зверя. Amen!
...Все на помойной яме прощено.
1963
***
Почему, когда птица лежит на пути моем мертвой,
Мне не жалкая птица, а мертвыми кажетесь вы,
Вы, сковавшие птицу сладчайшею в мире немотой,
Той немотой, что где-то на грани вселенской молвы?
Птица будет землей – вас отвергнет земля на рассвете,
Ибо только убийцы теряют на землю права,
И бессмертны лишь те, кто во всем неповинны, как дети,
Как чижи и стрижи, как бездомные эти слова.
Ибо только убийцы отвергнуты птицей и Богом.
Даже малый воробушек смерть ненавидит свою.
Кем же будете вы, что посмели в величье убогом
Навязать мирозданью постылое слово "убью"?
Как ненужную боль, ненавидит земля человека.
Птица будет землей – вы не будете в мире ничем.
Птица будет ручьем – и ручей захлебнется от бега,
И щеглиные крылья поднимет над пеной ручей.
...Где же крылья твои, о комок убиенного страха?
Кто же смертью посмел замахнуться на вольный простор?
На безгнездой земле умирает крылатая птаха.
Это я умираю и руки раскинул крестом.
Это я умираю, ничем высоты не тревожа.
Осеняется смертью размах моих тягостных крыл.
Ты поймешь, о Господь, по моей утихающей дрожи,
Как я землю любил, как небо по-птичьи любил.
Не по вашей земле – бродил по господнему лугу.
Как двенадцать апостолов, птицы взлетели с куста.
И шепнул мне Господь, как на ухо старинному другу,
Что поет моя мертвая птица на древе креста.
И шепнул мне Господь, чтобы боле не ведал я страха,
Чтобы божьей защитой считал я и гибель свою.
Не над гробом моим запоет исступленная птаха -
Исступленною птахой над гробом я сам запою!..
* * *
Мне сказали, что слишком их много в стихах —
И собак бесприютных, и кошек,
И что мне бы покаяться лучше в грехах,
А не тешить собою прохожих.
Мне сказали, что нет у зверей божества, —
Кто накормит, тому они служат,
Но я знаю, что это пустые слова
И что пес о хозяине тужит.
Мне сказали, что, если похож я на пса
И кошачьи во мне настроенья,
Мне бы лучше, изгою, не лезть в небеса
И умерить хвостатое рвенье...
Ничего я в ответ простакам не сказал,
Но в своей затаенной печали
Заглянул я, как прежде, в собачьи глаза —
И они обо всем мне сказали...
И я видел в таинственных этих глазах,
Что и ангелы плачут в загоне
И что Бог на престоле томится в слезах,
Как в собачьем убойном фургоне.
И я понял, что звери собрата спасут
И в загробном пути не оставят...
Вот они — мое мёртвое тело несут,
Мою душу бессмертную славят...
Каждый зверь — он и праведен, и родовит,
И в душе своей знает об этом,
И играет на арфе, как древле, Давид,
Перед всем расступившимся светом...
1997

Поэт умер в Минске, где жил в последнее время. Его жизнь оборвалась в ночь с 30 на 31июля 1999 года.
СТИХИ УХОДА
Больше жизни любивший волшебную птицу – свободу,
Ту, которая мне примерещилась как-то во сне,
Одному научился я гордому шагу – уходу,
Ухожу, ухожу, не желайте хорошего мне.
Ухожу от бесед на желудок спокойный и сытый,
Где обширные плеши подсчитывают барыши...
Там, где каждый кивок осторожно и точно рассчитан,
Не страшит меня гром – шепоток ваш торгаший страшит.
Ухожу равнодушно от ваших возвышенных истин,
Корифеи искусства, мазурики средней руки,
Как похабный товар, продающие лиры и кисти,
У замызганных стоек считающие медяки.
Ухожу и от вас - продавщицы роскошного тела,
Мастерицы борщей и дарительницы услад,
На потребу мужей запустившие ревностно в дело
И капусту, и лук, и петрушку, и ляжки, и зад.
Ах, как вы дорожите подсчетом, почетом, покоем -
Скупердяи-юнцы и трясущиеся старички...
Я родился изгоем и прожил по-волчьи изгоем,
Ничего мне не надо из вашей поганой руки.
Не простит мне земля моей волчьей повадки сутулой,
Не простит мне гордыни домашний разбуженный скот...
Охромевшие версты меня загоняют под дула
И ружейный загон – мой последний из жизни уход.
Только ветер да воля моей верховодили долей,
Ни о чем не жалею – я жил, как хотелось душе,
Как дожди и как снег, я шатался с рассвета по полю,
Грозовые раскаты застряли в оврагах ушей.
Но не волк я, не зверь – никого я не тронул укусом;
Побродивший полвека по верстам и вехам судьбы,
Я собакам и кошкам казался дружком-Иисусом,
Каждой твари забитой я другом неназванным был.
...Если буду в раю и Господь мне покажется глупым,
Или слишком скупым, или, может, смешным стариком, –
Я, голодный как пес, откажусь и от райского супа –
Не такой это суп – этот рай – и Господь не такой!..
И уйду я из неба – престольного божьего града,
Как ушел от земли и как из дому как-то ушел...
Ухожу от всего... Ничего, ничего мне не надо...
Ах, как нищей душе на просторе вздохнуть хорошо!..
* * *
Я стою, приготовившись к смерти,
Слышу гул нестерпимый вдали...
Так береза, схватившись за ветер,
Отрывает себя от земли.
ВОЗВРАЩЕНИЕ К ДУШЕ
Где б ни был ты, в толпе или в глуши,
Погряз ли в дрязгах грешного расчета,
Тебя пронзит звериный крик души,
Стучащей, словно нищенка, в ворота.
Ты жил, уйти от вечности спеша,
Греша в своей беспамятной дороге...
И вот она - стоит твоя душа
У смерти на затоптанном пороге.
* * *
В эту землю хотел бы сойти я живым,
Я бы плыл под землей, как плывут океаном,
Созерцая глубокие корни травы
И дыша чем-то диким, и вольным, и пьяным.
Я бы плыл под землею в неведомой мгле,
Узнавал мертвецов неподвижные лица,
Тех, кто были живыми со мной на земле,
С кем тревогой своей я спешил поделиться.
Я бы плыл под землею, тревожно дыша,
Уходил в ее недра и тайные глуби,
Ибо только земное приемлет душа,
Ибо только земное душа моя любит.
* * *
...И в кого же я должен теперь превратиться,
Почему на исходе страдальческих лет
Должен я, как гороховый шут, нарядиться
В свой изношенный и неопрятный скелет?..
Я хотел бы по смерти остаться визгливым
И пронзительным голосом гробовщика,
Переливом рулад соловья торопливым
Или сливою сладкой в руке дурачка.
Дурачок я и есть, говоря откровенно,
Но я все же особых кровей дурачок:
Я нашел свое место на древе вселенной -
Неприметный такой и засохший сучок...
На сучке неприметном сидит воробьишка,
Он мгновенного мира мгновенный жилец,
И щебечут пичужки: "Плутишка, плутишка,
Мы теперь распознали тебя наконец..."
* * *
Боже, как хочется жить!.. Даже малым мышонком
Жил бы я век и слезами кропил свою норку
И разрывал на груди от восторга свою рубашонку,
И осторожно жевал прошлогоднюю корку.
Боже, как хочется жить даже жалкой букашкой!
Может, забытое солнце букашкой зовется?
Нет у букашки рубашки, душа нараспашку,
Солнце горит и букашка садится на солнце.
Боже, роди не букашкой - роди меня мошкой!
Как бы мне мошкою вольно в просторе леталось!
Дай погулять мне по свету еще хоть немножко,
Дай погулять мне по свету хоть самую малость.
Боже, когда уж не мошкою, - блошкою, тлёю
Божьего мира хочу я чуть слышно касаться,
Чтоб никогда не расстаться с родимой землею,
С домом зеленым моим никогда не расстаться...
* * *
И не то, чтобы я высотой заколдован от гроба —
Знаю, мне, как и всем, суждено на земле умереть,
Но и смертью я Господом буду помечен особо
И, быть может, умру я не весь, а всего лишь на треть.
Только руки умрут, только руки — приметы бессилья,
Что с бескрылою долей моею навеки сжились,
Но зато вместо рук из ключиц моих вырастут крылья —
Вот тогда-то меня не отвергнет вселенская высь...
Только высь! Только высь! Я о выси мечтал, как о небе,
Я о небе мечтал, как о Боге, — и вот высота
Заприметила мой одинокий скитальческий жребий, —
Где-то птицею стала земная моя суета...
* * *
Я, нищий и слепец, Вениамин Блаженный,
Я, отрок и старик семидесяти лет, -
Еще не пролил я свой свет благословенный,
Еще не пролил я на вас свой горний свет.
Те очи, что меня связали светом с Богом,
Еще их не раздал я нищим ходокам,
Но это я побрел с сумою по дорогам,
Но это я побрел с сумой по облакам.
И свет мой нерушим, и свет мой непреложен,
И будет этот свет сиять во все века,
И будет вся земля омыта светом божьим -
Сиянием очей слепого старика...
Просто не нахожу слов, до чего хорошо. Мурашки восторга. Низкий ему поклон от всех живых за бесконечно прекрасные строки. Я выбрала лучшие, на мой взгляд, стихи, которые неизменно заставляют чаще биться моё сердце. А это — безошибочный критерий истинной поэзии.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/121176.html#comments
|
Метки: поэт гений изгой вениамин блаженный богоборец айзенштадт |
Процитировано 3 раз
Понравилось: 2 пользователям
Литературный дневник Наталии Кравченко |
Родилась и живу в Саратове. Филолог, литературовед, публицист. Читаю публичные лекции о поэтах разных стран и эпох. Автор 18 книг стихов, литературных эссе и критических статей. Публиковалась в литературно-художественном альманахе "Саратов литературный" (2000), в приложении к журналу "Арзамас" "Зелёная лампа" (Нью-Йорк, 2003), в журнале "Эдита" (Германия, 2010), в Интернет-альманахе "Порт-фолио" (Монреаль, Канада, 2010), в журнале "Русское литературное эхо" (Израиль, 2011), в журнале "Сура" (Пенза, 2011). Лауреат 13-го Международного конкурса поэзии " "Пушкинская лира" (Нью-Йорк, 2003). Победитель конкурса юмористической миниатюры (Интернет-портал "Планета писателя", 2010). Финалист 5-го Международного конкурса поэзии им. Владимира Добина (Ашдод-Израиль, 2010). Номинант Международного конкурса "Согласование времён" на Турнир поэтов (Киев, 2010). Дипломант Международного конкурса на соискание Большой поэтической премии "Серебряный стрелец" (Лос-Анджелес, США, 2011)
|
|




































