-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Статистика
Записей: 871
Комментариев: 1385
Написано: 2520
Он выбрал свободу |
19 октября 1918 года родился Александр Галич.

Он родился в день Пушкинской лицейской годовщины - возможно, каким-то таинственным образом это сказалось на его выборе пути. Выборе свободы. Свобода автора песенок, переливавшаяся прямо в кровь, раздражала власть.
Сердце моё заштопано,
в серой пыли виски,
но я выбираю Свободу,
и - свистите во все свистки!

Первую свою лекцию о Галиче я прочитала в 1988 году. Это вообще была моя первая публичная лекция — 23 года назад. Несмотря на то, что вроде бы шла перестройка, местные власти мне запрещали её читать, как и позже — лекцию о Бродском, мотивируя тем, что они - «антисоветчики». Тем летом я услышала о Галиче передачу по радиостанции «Свобода», и его стихи и песни так потрясли меня, что я стала тут же собирать о нём материал, очень захотелось поделиться этим богатством с другими. Какие-то публикации уже появлялись — в «Авроре», «Даугаве», но наши органы культуры ориентировались ещё на старые ценности и прежние источники. Разрешили только через год, в 1989-ом, а до этого времени я читала свои крамольные «антисоветские» лекции полуподпольно, что имело для меня вполне понятные идеологические последствия.
Возвращались песни Галича, и вместе с ними возвращалась Правда. Что это не предатель, не подонок, а большой поэт. Не уехавший, а изгнанный. И в стихах его не клевета, не очернительство, а боль за страну и ненависть к тем, кто её погубил. Он был в одном строю с Солженициным, Сахаровым, Растроповичем. Тогда это считалось позором, а сейчас эти люди - совесть и печаль страны. Благодаря этим песням люди вспомнили, что они люди, а не рабы. В конце концов всегда выясняется, что времени нужны не те, кто ему, времени, поддакивает, а совсем иные собеседники.

Песни Александра Галича и через полвека ничуть не устарели, а обрели второе рождение. Канули в Лету единомыслие, цензура, политическая эмиграция, другие реалии советского периода. Но тем не менее нет ни малейшего ощущения архаики, когда слушаешь эти песни. Не оттого ли, что, пройдя круг, мы парадоксальным образом вернулись к тому, от чего надеялись уйти навсегда? Вроде бы получили свободу ("свободочку слова" - Евт.), но не имеем возможности воспользоваться её плодами. Да, теперь можно ругать власть, президента. Но "свободу не слушать" они оставили себе. "Даже если я ору ором - не становится мой ор громче". И душа вздрагивает от чувства узнавания реалий, ибо многие из тех бед, болей, пороков и язв нашего общества живы и по сей день.
Этот поэт всегда современен. Потому что опять "те кто выбраны - те и судьи", "посторонним вход воспрещен", и опять в России "непротивление совести - удобнейшее из чудачеств", а друзья уходят "одни в никуда, а другие в князья", и "кремлёвская охота гуляет по пороше..."
Опять над Москвою пожары
и грязная наледь в крови.
Но это уже не татары,
похуже Мамая - свои! -
написаны эти строки больше 30 лет назад, но время снова сделало их актуальными.
Лекцией о Галиче я и завершила свой прошлый цикл вечеров в Областной научной библиотеке. Полностью её можно прослушать здесь (запись из зала):
http://rutube.ru/tracks/4203506.html?v=bcf846ab5e0bfed0c5492e4b4fb46d47&autoStart=true&bmstart=1000
А это фотографии, сделанные на том вечере:
Из книги отзывов областной библиотеки:
Уважаемая Наталия Максимовна! Спасибо, что на одном дыхании Вы, а я, затаив дыхание (с открытым ртом), боясь пропустить хоть пол-слова, так в напряжении впитывала всё новое и великое для себя. Неужели у Вас каждый из поэтов (целый мир) всё интереснее и интереснее, и, кажется, что уже нет выше, правдивее и сильнее, и такого же ранимого, такого родного и близкого, как Галич. Он, то есть Вы нам объясняете нас самих, нашу душу, Россию, её трагедию и величие.
Спасибо за такие высокие моменты, за сопереживание, думаю, всего зала. Это редко всё же бывает. Здоровья, дальнейших успехов и для нас - встреч с Вами!
Любовь Ивановна Силантьева
Рожченко Людмила Николаевна. 12 марта 2011г.
Стихи Бориса Чичибабина «Запоздалая благодарность Галичу» как нельзя лучше выражают сейчас чувства всех, кому дорог этот поэт и бард:
Чем сердцу русскому утешиться?
Кому печаль свою расскажем?
Мы все рабы в своём отечестве,
да с революционным стажем.
Во лжи и страхе как ни бейся я,
а никуда от них не денусь.
Спасибо, русская поэзия:
ты не покинула в беде нас.
В разгар всемирного угарища,
когда в стране царили рыла,
нам песни Александра Галича
пора абсурдная дарила.
Как смог он, не по воле случая
испив испуг смерторежимца,
послать к чертям благополучие,
на подвиг певческий решиться?
Не знаю впредь, предам ли, струшу ли:
жить научились, предавая, —
но как мы песни эти слушали,
из уст в уста передавая!
Как их боялись — жгло тогда-то ведь -
врали, хапужники, невежды!
Спасибо, Александр Аркадьевич,
от нашей выжившей надежды.
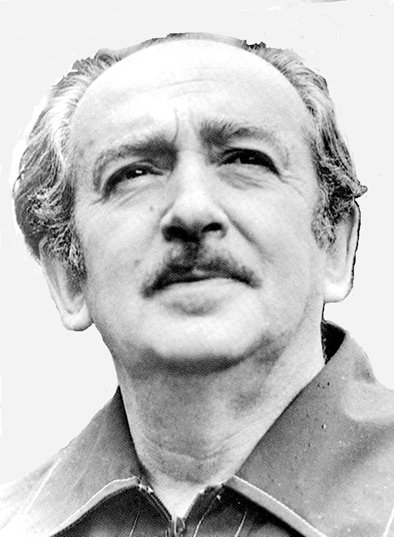
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/44553.html
Подробнее здесь: http://nmkravchenko.livejournal.com/218158.html,
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 2 пользователям
Певец петербургской богемы |
Сегодня день рождения Михаила Кузмина.

Начало на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/44327.html
«Я сам родился ведь на Волге...»
Михаил Кузмин родился в Ярославле (6)18 октября 1872 года в многодетной семье старинного дворянского рода.

Отец – отставной морской офицер, мать –правнучка знаменитого французского актёра, приглашённого в Россию при Екатерине. В стихотворении “Мои предки” Кузмин поднимает их всех из забвения, а вместе с ними – целый срез русской жизни. Вскоре семья Кузминых переезжает в Саратов, где прошло детство и отрочество поэта. В Госархиве Саратовской области хранится “формулярный список о службе члена Саратовской судебной палаты А.А. Кузмина” – отца Михаила, который в феврале 1874 года приказом министра юстиции был назначен на службу в Саратов.
В Саратове действительный статский советник А.А. Кузмин служил до начала 80-х годов. Жила семья Кузминых в доме №21 по Армянской (ныне Волжской) улице. Дом, к сожалению, не сохранился.
Михаил Кузмин посещал ту же гимназию, что и Чернышевский.
Впечатлений от Саратова в стихах и прозе Кузмина почти не сохранилось, если не считать беглого пейзажа в неоконченном романе “Талый след”: “От Саратова запомнил жары летом, морозы зимой, песчаную Лысую гору, пыль у старого собора и голубоватый уступ на повороте Волги-Увека. Казалось, там всегда было солнце”.
И знаю я, как ночи долги,
Как яр и краток зимний день,—
Я сам родился ведь на Волге,
Где с удалью сдружилась лень,
Где все привольно, все степенно,
Где все сияет, все цветет,
Где Волга медленно и пенно
К морям далеким путь ведет.
Я знаю звон великопостный,
В бору далеком малый скит,—
И в жизни сладостной и косной
Какой-то тайный есть магнит.

«У меня не музыка, а музычка...»
После гимназии Кузмин поступает в петербургскую консерваторию по классу композиции (был учеником Лядова и Римского-Корсакова). Первые стихи возникают исключительно как тексты к собственной музыке — операм, романсам, сюитам, вокальным циклам. Консерваторию не окончил, но всю жизнь продолжал музицировать. В 1906 году по просьбе Мейерхольда он напишет музыку к «Балаганчику» Блока и будет оценен поэтом.

«У меня не музыка, а музычка, - говорил Кузмин, - но в ней есть свой яд, действующий мгновенно, благотворно, но недолго...»
Его песенки сразу сделались популярными в петербургских богемных кругах. В литературных светских салонах от них были без ума.
Из воспоминаний И. Одоевцевой «На берегах Невы»:
«Кузмин поет. Голоса у него нет. Он пришепетывает, и, как рыба, округлив рот, глотает воздух:
Любовь расставляет сети
Из крепких силков.
Любовники как дети
Ищут оков…
Я слушаю и чувствую, как мало- помалу в мои уши, в мое сознание, в мою кровь проникает яд его «музычки». Обольстительный, томный и страшный яд, идущий не только от этой «музычки», но и от его лукавых широко-открытых глаз, от его томной улыбки и жеманно взлетающих пальцев. Яд — неверия и отрицания. Яд грации, легкости и легкомыслия. Сладкий обольщающий, пьянящий яд.
Вчера ты любви не знаешь,
Сегодня — весь в огне,
Вчера ты меня презираешь,
Сегодня клянешься мне.
Полюбит - кто полюбит,
Когда настанет срок,
И будет то, что будет,
Что уготовил нам рок.
Кузмин прищуривает глаза. Лицо его принимает чуть-чуть хищное выражение. Сознает ли он власть над душами своих слушателей?.. Рядом со мною на диване хорошенькая студистка в волнении кусает губы и я вижу,насколько ей кружит голову этот пьянящий яд».
«Дух мелочей, прелестных и воздушных...»
Для ранних стихов Кузмина характерна жизнерадостность, эллинская привязанность к жизни, любовное восприятие каждой мелочи. В 1890 году он пишет в письме: «Боже, как я счастлив. Почему? Да потому что живу, потому что светит солнце, пиликает воробей, потому что у прохожей барыни ветер сорвал шляпу... посмотри, как она бежит за ней – ах, смешно! потому что... 1000 причин. Всех бы рад обнять и прижать к груди». И в другом письме: «Так радостен, что есть природа и искусство, силы чувствуешь, и поэзия проникает всюду, даже в мелочи, даже в будни!» Последняя цитата точно предсказывает строфу знаменитого стихотворения Кузмина, которое стало буквальным символом всего его творчества:
Дух мелочей, прелестных и воздушных,
Любви ночей, то нежащих, то душных,
Веселой легкости бездумного житья!
Ясный, безмятежный взгляд на мир, который сквозит в этом стихотворении, ляжет потом в основу программной статьи Кузмина 1912 года «О прекрасной ясности», где он выскажет своё творческое кредо.
К. Сомов. Портрет М. Кузмина
На фоне глубокомысленного символизма, проповедующего поэзию оттенков и полутонов, Кузмин первым заговорил о простых и доступных вещах внешней жизни. Его стихи наполнены конкретными понятиями и жизненными реалиями:
Где слог найду, чтоб описать прогулку,
Шабли во льду, поджаренную булку
И вишен спелых сладостный агат?
«Я не могу не чувствовать души неодушевлённых вещей», - пишет он в дневнике. Кузмин вслед Пушкину любил земную жизнь, стремился к гармонии. «Дух мелочей» предстаёт в его поэзии синонимом лёгкости, домашности, небрежного изящества и какой-то нечаянной нежности. Мы не встретим у него гипертрофированного выражения чувств и страстей, как у Цветаевой. В качестве доказательств любви у Кузмина мы неожиданно встречаем:
Я жалкой радостью себя утешу,
купив такую ж шапку, как у Вас.
Это вместо привычных нам эпитетов «бледнею, дрожу, томлюсь, страдаю». До чего по-домашнему просто и как выразительно! А дело в том, что не придумано, правдиво.
Это был период влюблённости Кузмина в художника Судейкина, о котором он пишет в дневнике: «Ездил покупать шапку и перчатки. Купил фасон «гоголь» и буду носить, отогнувши козырёк, как Сергей Юрьевич».

художник С. Судейкин
На «крыльях» любви
Потом Судейкина у Кузмина отобьёт Ольга Глебова, ставшая его женой, героиня ахматовской «Поэмы без героя».


Ольга Судейкина
Ольга Судейкина дважды «перейдёт дорогу" Кузмину — второй раз из-за неё его оставит Всеволод Князев, молодой поэт, который из-за той же Ольги покончит с собой.

Всеволод Князев
Михаил Кузмин немало измен пережил в своей жизни, но самая непоправимая измена для него была — с женщиной. В жизни Кузмина вообще не существовало другого пола.

В литературных кругах за Кузминым закрепилось амплуа рокового соблазнителя, от которого родители должны прятать своих сыновей. Блок писал: «Кузмин сейчас один из самых известных поэтов, но такой известности я никому не пожелаю». Русские гомосексуалисты практически впервые получили произведения, описывавшие не только переживания, но и быт себе подобных, выражающие дух сугубо мужской любви. Это послужило причиной того, что к Кузмину в его квартиру на Спасской тянулись самые разные люди, искали с ним знакомства и какое-то время занимали в его жизни определённое место.

Дом на Спасской 11 (ныне Рылеева 10), где жил М. Кузмин
Если я перечислю только самых известных гостей Кузмина, то многие будут весьма шокированы: Гордеев, Сомов, Дягилев, Бенуа, Бакст, Вячеслав Иванов, Ремизов, Ауслендер. Кто не верит — отсылаю к монографии Богомолова «Статьи и материалы» (М., Новое лит. обозрение», 1995) и Джона Малмстада «М. Кузмин. Искусство, жизнь, эпоха», к дневникам самого поэта.
Любовь у Кузмина представлена не только в её возвышенных, но и в «низких», плотских аспектах. Таков цикл стихов «Занавешенные картинки» (первоначальное название «Запретный сад»), не раз именовавшиеся в печати «порнографическим».

Обложка книги "Занавешенные картинки"
После революции 1905 года была отменена цензура и первыми плодами свободы печати были пушкинская «Гаврилиада», «Опасный сосед» Пушкина, вольные стихотворения римских поэтов. К этому ряду можно отнести и «Занавешенные картинки», которые дали Кузмину возможность показать весь диапазон эротических переживаний человека. Вот одно из наиболее «приличных» стихотворений этого цикла:
Кларнетист
Я возьму почтовый лист,
Напишу письмо с ответом:
«Кларнетист мой, кларнетист,
Приходи ко мне с кларнетом.
Чернобров ты и румян,
С поволокой томной око,
И когда не очень пьян,
Разговорчив, как сорока,
Никого я не впущу,
Мой веселый, милый кролик,
Занавесочку спущу,
Передвину к печке столик.
Упоительный момент!
Не обмолвлюсь словом грубым...»
Мил мне очень инструмент
С замечательным раструбом!
За кларнетом я слежу,
Чтобы слиться в каватине
И рукою провожу
По открытой окарине.
Первое прозаическое произведение Кузмина «Крылья» получило скандальную известность из-за затронутой там темы однополой любви.

Повесть была понята как прославление порока, как «мужеложный роман» (З. Гиппиус), большинство читателей восприняли её лишь в качестве физиологического очерка, не заметив там ни философского содержания, ни ориентации на платоновские «Диалоги» (прежде всего на «Пир» и «Федр»).
«Это старый чудит Калиостро...»
Наиболее удачным в прозе Кузмина считается его роман «Необыкновеная жизнь Иосифо Бальзамо, графа Калиостро» (1919), в котором проявился его интерес к оккультизму и магии. Самого Кузмина многие современники сравнивали с Калиостро — итальянским авантюристом, так замечательно изображённым им в этой повести.

На деле, конечно, Кузмин ничем не напоминал своего литературного героя, «тучного и суетливого итальянца». Возможно, имелось в виду то нечто сатанинское, магическое, адское, что виделось многим во внешности поэта.
После революции он как-то внезапно постарел и, когда-то красивый, стал страшен со своими ставшими ещё громаднее глазами, сединой в редких волосах, морщинами и выпавшими зубами. Это был портрет Дориана Грэя. Довольно близок к этому описанию акварельный портрет Кузмина работы Ю. Анненкова 1919 года.
Сатанинское начало увидела в Кузмине А. Ахматова, запечатлевшая в «Поэме без героя» его зловещий портрет:
Не отбиться от рухляди пестрой,
Это старый чудит Калиостро —
Сам изящнейший сатана,
Кто над мертвым со мной не плачет,
Кто не знает, что совесть значит
И зачем существует она.
Кузмин глазами Ахматовой и Цветаевой
Когда-то Кузмин «вывел в люди» Ахматову, одним из первых уловивший своеобразие и прелесть её ранних стихов, написавший предисловие к её первому сборнику. Ахматова подарила ему свой «Подорожник» с надписью: «Михаилу Алексеевичу, моему чудесному учителю».

Однако к концу жизни Кузмина, в 30-х годах Ахматова перестала с ним встречаться, решительно от него открещивалась. Лидия Чуковская в «Записках об А. Ахматовой» записала её слова о Кузмине: «Одни делают всю жизнь только плохое, а говорят о них все хорошо. В памяти людей они сохраняются как добрые. Например, Кузмин никому ничего хорошего не сделал. А о нём все вспоминают с любовью». Ахматова с осуждением говорила: «Кузмин был человек очень дурной, недоброжелательный, злопамятный».
А вот у Цветаевой о Кузмине было совершенно противоположное мнение. Она посвятила ему эссе «Нездешний вечер», где передала свои впечатления от первой встречи с Кузминым у него в гостях.

Её эссе — воспоминания о Бальмонте, Белом, Волошине, как и о Кузмине — это не литературные портреты в обычном смысле, - каждый раз это портреты души поэта и её самой. Не перестаёшь поражаться благодарной памяти Цветаевой, десятилетиями хранившей тепло человеческих отношений. Её «мифы» о современниках рождались из этого тепла, оно придавало им зримость и осязаемость реальности. Я не сомневаюсь, что все эти герои её мифов были такими, какими их воссоздавала Цветаева. Она умела почувствовать и увидеть важнейшее в человеке, то, что дано видеть немногим.
У Ахматовой же в оценке Кузмина есть момент сведения личных и литературных счётов. Он сама была очень злопамятным человеком.

Так, она не могла простить Кузмину того, что тот в домашнем кругу, посмеиваясь, называл Анну Андреевну «бедной родственницей» за то, что та, после развода с Пуниным продолжала жить с ним в одном доме по соседству с бывшей и новой его женой (что было удобно ей по бытовым соображениям, которые она предпочла нравственным). Это злая острота кое-что может объяснить в позднейшей ахматовской неприязни к Кузмину, излившейся на страницах её «Поэмы без героя».

Однако — вот такой любопытный нюанс: поэма написана особой строфой, уже получившей название «ахматовской строфы». Шестишные строфы состоят как бы из двух трёхстиший. А ведь эта своеобразная строфика, как и самый ритм, взяты из кузминской «Форель разбивает лёд». Исследователи находили этому объяснение: «поэма Ахматовой направлена против Кузмина, он её главный «антигерой» (Калиостро, Владыка мрака), поэтому возникает и его ритм». Но факт остаётся фактом: «ахматовская строфа» на самом деле является строфой Кузмина.
«Наш ангел превращений отлетел...»
Поздняя поэзия Кузмина — поэзия 20-х годов — становится всё более сложной, преломляясь через призму искусства, философских систем. Его сборники «Парабола» и «Форель разбивает лёд» создали представление о нём как об одном из самых загадочных и эзотерических поэтов 20 века. Внешне отдельные стихотворения выглядят простыми и ясными, но вдруг неожиданные соединения образуют странные картины, которые оказывается почти невозможным расшифровать, не прибегая к сложным методам анализа.
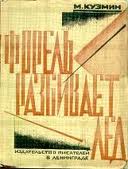
В поэме «Форель разбивает лёд» речь идёт, в частности, о том, что происходит с человеком, утратившим объёмное восприятие мира, свойственное влюблённому. Главное в воспеваемых Кузминым любовно-братских отношениях — духовный «обмен» и «подкрепленье» душевным теплом, возникающие в общении близких людей. Результат утраты этого восприятия — обескрыливающая однозначность мира, утратившего полноту и тайну:
Наш ангел превращений отлетел.
Еще немного — я совсем ослепну,
И станет роза розой, небо небом,
И больше ничего! Тогда я, прах,
И возвращаюсь в прах! Во мне иссякли
Кровь, желчь, мозги и лимфа. Боже!
И подкрепленья нет и нет обмена?

(Так и происходит в поэме с буквальностью натуралистического гротеска: он и «тонет», и иссыхает, и превращается в какое-то фантастическое жалкое существо).
Стук хвоста форели о лёд откликается 12-тью ударами часов в новогоднюю ночь. Эта ночь несёт с собой окончательное завершение поединка форели со льдом:
То моя форель последний
разбивает звонко лёд...

«Прекрасная ясность»
Кузмин не делил жизнь на высокую и низкую. Для него не было низких предметов, недостойных того, чтобы встать в стихотворный ряд. Оказывается, и шабли во льду, и поджаренная булка, запах пыли и скипидара, голландская шапка, картонный домик — подарок друга и прочие «милые мелочи» нисколько не мешают присутствию божественного начала в поэзии. Такое ощущение, что Кузмин любил землю и небо больше рифмованных и нерифмованных строк о земле и небе, вопреки утверждению Блока, что сочинитель всегда предпочтёт второе. Кузмин любил жизнь.

Надо сказать, что появление такого поэта было как бы подготовлено самой почвой серебряного века. После утончённостей символизма, дерзаний футуризма, хотелось простоты, лёгкости, обыкновенного человеческого голоса. Так заявил о себе акмеизм, ярким представителем которого был Михаил Кузмин. На смену высокому слогу пришла «прекрасная ясность»:
Светлая горница — моя пещера,
Мысли — птицы ручные: журавли да аисты;
Песни мои — веселые акафисты;
Любовь — всегдашняя моя вера.
Приходите ко мне, кто смутен, кто весел,
Кто обрел, кто потерял кольцо обручальное,
Чтобы бремя ваше, светлое и печальное,
Я как одёжу на гвоздик повесил.
Любовь — главная его тема, основа творчества.
***
Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,
все мы четыре любили, но все имели разные
"потому что":
одна любила, потому что так отец с матерью
ей велели,
другая любила, потому что богат был ее любовник,
третья любила, потому что он был знаменитый
художник,
а я любила, потому что полюбила.
Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,
все мы четыре желали, но у всех были разные
желанья:
одна желала воспитывать детей и варить кашу,
другая желала надевать каждый день новые платья,
третья желала, чтоб все о ней говорили,
а я желала любить и быть любимой.
Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,
все мы четыре разлюбили, но все имели разные
причины:
одна разлюбила, потому что муж ее умер,
другая разлюбила, потому что друг ее разорился,
третья разлюбила, потому что художник ее бросил,
а я разлюбила, потому что разлюбила.
Нас было четыре сестры, четыре сестры нас было,
а может быть, нас было не четыре, а пять?
* * *
Как странно,
что твои ноги ходят
по каким-то улицам,
обуты в смешные ботинки,
а их бы нужно без конца целовать.
Что твои руки
пишут,
застегивают перчатки,
держат вилку и нелепый нож,
как будто они для этого созданы!..
Что твои глаза,
возлюбленные глаза
читают "Сатирикон",
а в них бы глядеться,
как в весеннюю лужицу!
Но твое сердце
поступает, как нужно:
оно бьется и любит.
Там нет ни ботинок,
ни перчаток,
ни "Сатирикона"...
Не правда ли?
Оно бьется и любит...
больше ничего.
Как жалко, что его нельзя поцеловать в лоб,
как благонравного ребенка!
***
Я вижу твой открытый рот,
Я вижу краску щек стыдливых
И взгляд очей еще сонливых,
И шеи тонкой поворот.
Ручей журчит мне новый сон,
Я жадно пью струи живые-
И снова я люблю впервые,
Навеки снова я влюблен!
Это любовь непосредственная, естественная, любовь без пафоса. Любовь открывает наши глаза на красоту божьего мира, она делает нас простыми, как дети:
Пастух нашёл свою пастушку,
а простачок свою простушку.
Весь мир стоит лишь на любви.
Она летит: лови, лови!

Жизнь даётся единожды, тело тленно, радости любви преходящи, надо ценить каждый счастливый миг, дарованный нам природой. Вот нехитрая философия Кузмина. А может, в этом и есть высшая мудрость жизни?
***
Запах грядок прян и сладок,
Арлекин на ласки падок,
Коломбина не строга.
Пусть минутны краски радуг,
Милый, хрупкий мир загадок,
Мне горит твоя дуга!

Это, наверное, единственный не трагический поэт у нас в России.
Слез не заметит на моем лице
Читатель плакса,
Судьбой не точка ставится в конце,
А только клякса.
Как это характерно для Кузмина — вместо стенаний и слёз — лёгкая тонкая ироническая улыбка понимания.

М. Кузмин. Литография О. Верейского
Жизнь сердца
Вместо духовности с её прямым обращением к Богу Кузмин предложил поэтическому вниманию душевную жизнь, жизнь сердца.
Сердце, сердце, придётся
вести тебе с небом счёт.
Эта душевная жизнь совсем не проста. Он раскрывает нам её нюансы, тонкости:
Не знаешь, как выразить нежность!
Что делать: жалеть, желать?
Или:
Вы так близки мне, так родны,
что кажетесь уж нелюбимы.
Наверно, так же холодны
в раю друг к другу серафимы.
У него есть поразительное стихотворение, где он говорит о неустанной созидающей работе сердца, действующей как бы помимо ленивого и сонного повседневного существования:
Какая-то лень недели кроет,
Замедляют заботы легкий миг, -
Но сердце молится, сердце строит:
Оно у нас плотник, не гробовщик.
Веселый плотник сколотит терем.
Светлый тес - не холодный гранит.
Пускай нам кажется, что мы не верим:
Оно за нас верит и нас хранит.
Оно все торопится, бьется под спудом,
А мы - будто мертвые: без мыслей, без снов,
Но вдруг проснемся пред собственным чудом:
Ведь мы все спали, а терем готов.
Одна из главных тем творчества — путь души через ошибки и страдания к духовному просветлению:
О чём кричат и знают петухи
из курной тьмы?
Что знаменуют тёмные стихи,
что знаем мы?
За горизонтом двинулась заря.
Душа слепая ждёт поводыря.

Изысканная простота
Кузмин - поэт совершенно открытый и очень искренний. В его стихах есть «что-то до жуткости интимное», - писал И. Анненский.
«Сознательная небрежность и мешковатость речи» - определил особенность стиля Кузмина Мандельштам. Это вызывает ощущение лирической взволнованности. Его дольник похож на безыскусственный детский разговор:
Любовь сама вырастает,
Как дитя, как милый цветок,
И часто забывает
Про маленький, мутный исток.
Не следил ее перемены -
И вдруг... о, боже мой,
Совсем другие стены,
Когда я пришел домой!
Какая изысканная простота! Оттого, что здесь высказаны отнюдь не детские чувства и наблюдения, они задевают особенно сильно. В этом — весь Кузмин, с его мягкостью, теплотой и нежностью.
Если для символистской поэзии характерно было требование музыкальности («музыка — прежде всего» - Верлен), то Кузмин ввёл в стихи разговорную интонацию (в основном благодаря вариациям сложных дольников). Но эта разговорность не прозаическая, сохраняя естественность живой речи, она не теряет и свою стиховую мелодичность:
Может быть, и радуга стоит на небе
Оттого, что Вы меня во сне видали?
Может быть, в простом ежедневном хлебе
Я узнаю, что Вы меня целовали.
Когда душа становится полноводной,
Она вся трепещет, чуть ее тронь.
И жизнь мне кажется светлой и свободной,
Когда я чувствую в своей ладони Вашу ладонь.
Не ко двору
Однако постепенно стихи Кузмина начинают восприниматься как обломок прошлого, явный архаизм в литературе 20-х годов. Он ещё переводит (Кузмин переводил Шекспира, Гёте, Байрона, Мериме, Апулея, Бокаччо, Франса), сотрудничает с театрами, беседует с молодёжью, время от времени заходящей в его комнаты в коммуналке на улице Рылеева,

но это уже очень мало похоже на блестящую жизнь одного из самых притягательных для многих поэтов в Петербурге человека.
Г. Адамович пишет: «Если можно сказать, что кто-либо из старых писателей пришёлся не ко двору новому режиму, то о Кузмине — в первую очередь. Был это человек изощрённейшей и утончённейшей культуры, замкнутый в себе, боявшийся громких слов: в теперешнем русском быту он должен был остаться одинок и чужд всему».
.
Ещё в 1920 году это понял Блок, когда в приветственной речи на юбилее Каверина сказал: «Михаил Алексеевич, я боюсь, чтобы в нашу эпоху жизнь не сделала Вам больно».
Последние пять лет жизни Кузмин потратил на труднейший перевод « Дон Жуана», и не получил за это ни копейки. К этому времени он был уже тяжело болен. Нечем было платить за квартиру, лечение. Кузмин продаёт книги, иконы, картины друзей, собственные рукописи. Из его последних стихов:
* * *
Декабрь морозит в небе розовом,
нетопленный чернеет дом,
и мы, как Меншиков в Берёзове,
читаем Библию и ждем.
И ждем чего? Самим известно ли?
Какой спасительной руки?
Уж вспухнувшие пальцы треснули
и развалились башмаки.
Уже не говорят о Врангеле,
тупые протекают дни.
На златокованном архангеле
лишь млеют сладостно огни.
Пошли нам долгое терпение,
и легкий дух, и крепкий сон,
и милых книг святое чтение,
и неизменный небосклон.
Но если ангел скорбно склонится,
заплакав: "Это навсегда",
пусть упадет, как беззаконница,
меня водившая звезда.
Нет, только в ссылке, только в ссылке мы,
о, бедная моя любовь.
Лучами нежными, не пылкими,
родная согревает кровь,
окрашивает губы розовым,
не холоден минутный дом.
И мы, как Меншиков в Берёзове,
читаем Библию и ждем.
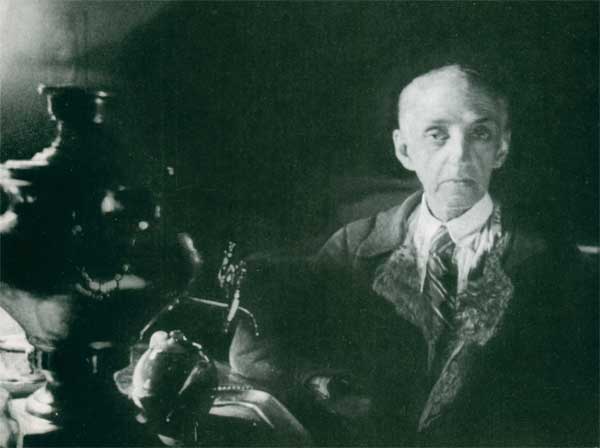
***
Мне не горьки нужда и плен,
И разрушение, и голод,
Но в душу проникает холод,
Сладелой струйкой вьется тлен.
Что значат «хлеб», «вода», «дрова» -
Мы поняли, и будто знаем,
Но с каждым часом забываем
Другие, лучшие слова.
Лежим, как жалостный помет,
На вытоптанном, голом поле
И будем так лежать, доколе
Господь души в нас не вдохнет.
От неизбежных репрессий Кузмина спасла смерть. Как ни парадоксально и чудовищно это звучит, но Кузмину действительно «повезло» - он успел умереть своей смертью.
Поэт скончался 1 марта 1936 года в Мариинской больнице Ленинграда от воспаления лёгких.. Похоронен на Волковском кладбище.

Из письма Э.Ф. Голлербаха Е.Я. Архипову от 15 марта 1936 года: «5 марта я стоял у гроба М.А., смотрел в его строгое, восковое лицо, которое когда-то освещали чуть лукавые, а иногда чуть сонные глаза, и думал о том, какое своеобразное, неповторимое явление литературы воплощал этот исключительный человек, мало понятый и недооцененный. Ушёл человек, слабый и грешный, но остался прекрасный, нежный поэт, остался писатель тончайшей культуры, подлинный художник, чьё благоволение, ироничная мудрость и удивительная душевная грация (несмотря на изрядный цинизм и как бы вопреки ему!), чарующая скромность и простота — незабываемы»
 .
.
Этими словами, как бы определяющими внутреннюю суть поэта, можно было бы закончить. Но завершить рассказ мне хочется строчками самого Кузмина:
Все схемы — скаредны и тощи,
Освободимся ль от оков,
Окостенеем ли, как мощи,
На удивление веков?
И вскроют, словно весть о чуде,
Нетленной жизни нашей клеть,
Сказав: «Как странно жили люди:
Могли любить, мечтать и петь!»
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/44327.html
|
|
Процитировано 7 раз
Понравилось: 4 пользователям
"И во сне, и наяву с восхищением живу..." |
Начало здесь
14 октября 1990 года умерла Ирина Одоевцева.

Как она была хороша тогда! Вот как писал о ней Георгий Иванов:
Я даже вспоминать не смею,
какой прелестной ты была
с большой охапкою сирени,
вся в белом, в белых башмачках.
Как за тобой струились тени
и ветра ласковый размах
играл твоими волосами
и теребил огромный бант...

Ирина Одоевцева. Портрет работы Ю. Анненкова.
А сама она говорила о себе так:
Нет, я не буду знаменита.
Меня не увенчает слава.
Я — как на сан архимандрита
На это не имею права.
Ни Гумилев, ни злая пресса
Не назовут меня талантом.
Я — маленькая поэтесса
С огромным бантом.

Из воспоминаний Георгия Адамовича: «Кто из посещавших тогда петербургские литературные собрания не помнит на эстраде стройную, белокурую, юную женщину, почти ещё девочку, с огромным чёрным бантом в волосах, нараспев, весело и торопливо, слегка грассируя, читающую стихи, заставляя улыбаться всех без исключения, даже людей, от улыбки в те годы отвыкших».

Ей как будто всегда было 18. «Восемнадцать жасминовых лет», - как скажет она в одном из своих пленительных стихотворений. Как сказала об Ирине одна её подруга, объясняя, в чём её очарование: «Она, знаете, всегда была женщина-девочка, немножко Лолита».
Одоевцева была выше среднего роста, очень тонкая, хрупкая, изящная. У неё были светлые, с рыжинкой, волосы, веснушки на носу и необыкновенно яркие, как две вспышки, глаза, которые блестели даже в глубокой старости. Гумилёв называл их «лунно-звёздными».

Снова бредём мы садами
в сумерках летнего дня.
Снова твоими глазами
смотрит весна на меня, -
писал он ей в альбом.
Ирина была полна жажды жизни, веселья, умела радоваться каждому дню. Она, казалось, была создана для счастья. Это её умение превращать будни в праздники привлекало к ней людей, но для кого-то и давало повод считать легковесной, беззаботной, пустой. Злословили, сплетничали. В эмиграции достаточно было злого языка Гиппиус. Одна из записей её дневника от 14 июля 1939 года гласила: «Пили кофе в тихом кафе. В Колонном зале духота, вонь, стрекочущая с кем-то пигалица , в роскошной шубе...».

Ну что это, как не обычная женская зависть старой и уже не красивой женщины? Дело-то ведь было вовсе не в шубе. Ирина Одоевцева всегда была роскошной — и в холодном голодном Петербурге в парижских платьях своей умершей матери, наскоро для себя переделанных, и в эмиграции в разные времена. Люди, знавшие её, рассказывали, что она всегда была необыкновенно красиво одета, в каких-то сиренево-голубых тонах...

Ей не прощали ничего. Не прощали по-бунински «лёгкого дыхания», её женского изящества, очарования. Не прощали счастливого брака с Георгием Ивановым, обожавшим её все 37 лет совместной жизни, не простили и относительного благополучия в эмиграции, и, конечно же, её таланта. Сплетни, наветы, непонимание сопровождали эту женщину невероятной доброты и щедрости всю её долгую и отнюдь не безоблачную жизнь, начинавшуюся, казалось бы, так счастливо:

Да, бесспорно, жизни начало
много счастья мне обещало
в Петербурге над синей Невой -
то, о чём я с детства мечтала,
подарила судьба мне тогда,
подарила щедро, сполна,
не скупясь, не торгуясь: - На!
Ты на это имеешь право. -
Всё мне было удача, забава
и звездой путеводной — судьба,
мимолётно коснулась слава
моего полудетского лба...
вспоминала Ирина Одоевцева уже в эмиграции.
Она умела быть счастливой и в старости, и всегда говорила: "Возраста не существует". До 90 лет она оставалась Женщиной: маникюр, духи, туфли на высоком каблуке...

В 80 лет Одоевцева раскатывала по Парижу в собственном автомобиле, и у неё были ещё поклонники и обожатели. Она не молодилась, она была молодая. Георгий Иванов любил её до конца жизни и всегда восхищался ею. Говорил: "Если бы ты даже превратилась в жабу, я бы всё равно тебя любил, носил бы за пазухой и был счастлив..." Он продолжал любить жену и в старости с той же страстью, мучительной нежностью и тоской, что и в молодые годы. И в его поздних, предсмертных стихах ему удалось с удивительной непосредственностью и убедительностью передать то мучение любви, сплетённое со счастьем, то "блаженство и безнадежность", которые в старости, по Тютчеву, может быть, и обостряются до крайности, но по существу друг от друга неотделимы:
В этом томном, глухом и торжественном мире — нас двое,
больше нет никого. Больше нет ничего. Погляди:
потемневшее солнце трепещет, как сердце живое,
как живое влюблённое сердце, что бьётся в груди.
Для чего, как на двери небесного рая,
нам на это прекрасное небо смотреть,
каждый миг умирая и вновь воскресая,
для того, чтобы вновь умереть.
Для чего этот лёгкий торжественный воздух
голубой средиземной зимы
обещает, что где-то — быть может, на звёздах —
будем счастливы мы.
Утомительный день утомительно прожит,
голова тяжела, и над ней
розовеет закат — о, последний, быть может, —
всё нежней, и нежней, и нежней...

Всем известна счастливая поэтическая пара Георгия Иванова и Ирины Одоевцевой, проживших долгие эмигрантские годы в любви и согласии.

Три с половиной десятка лет длилась их совместная жизнь и совместная творческая деятельность, до смерти Г. Иванова, скончавшегося во Франции в 1958 году. Тогда, в 19-м, в Петербурге никто не ожидал, что между ними возникнет серьёзное чувство. У Георгия Иванова была репутация избалованного женским вниманием сердцееда, пресыщенного и слишком ленивого, чтобы терпеливо ухаживать за юной девушкой, и Николай Гумилёв опрометчиво познакомил с ним Ирину Одоевцеву, не считая опасным себе соперником. Он просчитался. И понял это, когда Г. Иванов прочёл ему свои новые стихи:

Не о любви прошу, не о весне пою,
но только ты одна послушай песнь мою.
Но разве мог бы я — о посуди сама —
в твои глаза взглянуть и не сойти с ума!
Гумилёв сразу понял, о каких глазах идёт речь, — сам не раз посвящал им восторженные строки. А Г. Иванов сам себя не узнавал, он никогда не думал, что способен на такой порыв душевной теплоты, такую сумасшедшую нежность:
Отзовись, кукушечка, яблочко, змеёныш,
весточка, царапинка, снежинка, ручеёк,
нежности последыш, нелепости приёмыш,
кофе-чае-сахарный потерянный паёк.
Отзовись, очухайся, пошевелись спросонок,
в одеяльной одури, в подушечной глуши,
белочка, метёлочка, косточка, утёнок,
ленточкой, верёвочкой, чулочком задуши...
А она? Любила ли и она его так же самозабвенно? Вряд ли. Вот Ирина Одоевцева описывает их первое свидание в Летнем саду:

Я пришла не в четверть второго,
как условлено было, а в пять.
Он с улыбкой сказал: "Гумилёва
Вы бы вряд ли заставили ждать".
Я смутилась. Он поднял высоко,
чуть прищурившись, левую бровь.
И — ни жалобы, ни упрёка.
Я подумала: это любовь.
Но если и любовь, то она явно уступала чувству её спутника жизни. Иначе бы Г. Иванов не говорил ей с упрёком спустя много лет: "Почему ты со многими бываешь так мила, так добра, только не со мной?" Он, видимо, так и не смог до конца добиться её любви.

И. Одоевцева всегда умела и хотела нравиться, до преклонных лет её окружали поклонники. И был такой драматический эпизод в их жизни в эмиграции. Однажды в неё влюбился красивый успешный богач и сделал ей предложение. Она не устояла перед соблазном шикарной жизни (с Г. Ивановым в то время они жили довольно неустроенно) и цинично (другого слова не подберу) испросила у мужа разрешения на этот брак. Г. Иванов не стал её удерживать и тут же дал развод. Однако, когда освободившаяся от брачных уз Одоевцева приехала в другой город к своему новому избраннику, оказалось, что тот ещё не был разведён. И предложил ей самой провести переговоры с его женой. Одоевцева была так поражена и оскорблена этим предложением, что тут же села в поезд и вернулась домой. Г. Иванов радостно встретил её и ни разу ни словом не упрекнул. Только сказал: "Я сходил с ума..."

Однако этот кратковременный уход жены стоил ему сердечного приступа, спровоцировавшего предсмертный инсульт, от которого он уже так и не оправился. Фактически он стал причиной его смерти.
Страсть? А если нет и страсти?
Власть? А если нет и власти
даже над самим собой?
Что же делать мне с тобой?
Только не гляди на звёзды,
не грусти и не влюбляйся,
не читай стихов певучих
и за счастье не цепляйся —
счастья нет, мой бедный друг.
Счастье выпало из рук,
камнем в море утонуло,
рыбкой золотой плеснуло,
льдинкой уплыло на юг.
Счастья нет, и мы не дети.
Вот и надо выбирать —
или жить, как все на свете,
или умирать.

Георгий Иванов. 1957 г.
Его переживания отразились впоследствии в романе "Распад атома":
"Женщина сама по себе вообще не существует. Она тело и отражённый свет. Но вот ты вобрала мой свет и ушла. И весь мой свет ушёл от меня. Ты уносила мой свет, оставляя меня в темноте. В тебе одной, без остатка, сосредоточилась вся прелесть мира. А я мучительно жалел, что ты будешь стара, больна, некрасива, будешь с тоской умирать, и я не буду с тобой, не солгу, что ты поправляешься, не буду держать тебя за руку. Я должен был бы радоваться, что не пройду хоть через эту муку. Между тем здесь заключалось главное, может быть, единственное, что составляло любовь. Ужас при одной этой мысли всегда был звездой моей жизни. И вот тебя давно нет, а она по-прежнему светит в окне.
Я хочу заплакать, я хочу утешиться. Я хочу со щемящей надеждой посмотреть на небо. Я хочу написать тебе длинное прощальное письмо, оскорбительное, небесное, грязное, самое нежное в мире. Я хочу назвать тебя ангелом, тварью, пожелать тебе счастья и благословить, и ещё сказать, что где бы ты ни была, куда бы ни укрылась — моя кровь мириадом непрощающих, никогда не простящих частиц будет виться вокруг тебя".

Угрозы ни к чему. Слезами не помочь.
Тревожный день погас, и наступила ночь.
Последний слабый луч, торжественно и бледно
сиявший миг назад — уже исчез бесследно.
Ночь — значит, надо спать. Кто знает — в смутном сне,
быть может, жизнь моя опять приснится мне.
И, сердце мёртвое на миг заставив биться,
наш первый поцелуй блаженно повторится.
Мучила ли Ирину Одоевцеву совесть по поводу своего легкомысленного — как считала она, а по сути — жестокого и предательского поступка? Скорее всего, нет.

Натура одарённая, но неглубокая, она продолжала легко идти по жизни "на высоких гнутых каблучках", радуясь её щедрым дарам: новым поклонникам, нарядам, автомобилям. После Г. Иванова у неё было ещё двое мужей, значительно моложе её, которых она пережила. И только одно стихотворение даёт надежду считать, что минуты тоски и раскаяния всё-таки приходили и к ней:
Скользит слеза из-под усталых век,
звенят монеты на церковном блюде...
О чём бы ни молился человек,
он непременно молится о чуде.
Чтоб дважды два вдруг оказалось пять
и розами вдруг расцвела солома.
И чтоб к себе домой прийти опять,
хотя и нет ни у себя, ни дома.
Чтоб из-под холмика с могильною травой
ты вышел вдруг весёлый и живой.
Ирина Одоевцева на могиле Георгия Иванова
В 92 года Ирина Одоевцева вернулась из Франции в Россию, в свой родной Петербург, единственная, кажется, из всех поэтов-эмигрантов, осуществив мечту, выраженную Бродским: "На Васильевский остров я приду умирать".


В этом доме жила Ирина Одоевцева
Её спрашивали корреспонденты: "Как Вы смогли в таком возрасте решиться на такой шаг, так круто изменить свою жизнь?" — "Только в таком возрасте и можно рискнуть!" — шутила она.

"Как Вы смогли пережить своё возвращение в этот город, где прошла Ваша юность? Как у Вас не разорвалось сердце от картин былого?" Одоевцева отвечала: "Я полностью отрешилась от прошлого. Да, оно было, но сейчас его нет. Я живу только сегодняшним днём. И я счастлива".
Умерла она 14 октября 1990 года в возрасте 95 лет, прожив три года на родине. Похоронена на Волковском православном кладбище.

Вот строки одного из последних её стихотворений:
Хоть, бесспорно, жизнь прошла,
песня до конца допета,
я всё та же, что была:
и во сне, и наяву
с восхищением живу.
Стихи Ирины Одоевцевой, написанные в эмиграции:
***
Ненароком,
Скоком-боком
По прямой
И по кривой
Время катится назад
В Петербург и в Летний сад.
Стало прошлое так близко,
Тут оно - подать рукой -
И проходят предо мной
Друг за другом, чередой,
«Я» помянутые ниже:
«Я - подросток», «Я - студистка»
С бантом, в шубке меховой,
«Я - невеста», «Я - жена»
(Это, впрочем, уж в Париже)
И печальна, и грустна,
До прозрачности бледна,
Молча в чёрное одета,
Вот проходит «Я - вдова
Знаменитого поэта»...
Только было ли всё это?
Или это лишь слова?
Лишь игра теней и света?
Хоть бесспорно жизнь прошла,
Песня до конца допета,
Я всё та же, что была,
И во сне, и наяву
С восхищением живу.
1961 - 1973
***
Но была ли на самом деле
Эта встреча в Летнем саду
В понедельник, на Вербной неделе,
В девятьсот двадцать первом году?
Я пришла не в четверть второго,
Как условлено было, а в пять.
Он с улыбкой сказал: - Гумилёва
Вы бы вряд ли заставили ждать.
Я смутилась. Он поднял высоко,
Чуть прищурившись, левую бровь.
И ни жалобы, ни упрёка.
Я подумала: это любовь.
Я сказала: - Я страшно жалею,
Но я раньше прийти не могла.
Мне почудилось вдруг - на аллею
Муза с цоколя плавно сошла.
И бела, холодна и прекрасна,
Величаво прошла мимо нас,
И всё стало до странности ясно
В этот незабываемый час.
Мы о будущем не говорили,
Мы зашли в Казанский собор
И потом в эстетическом стиле
Мы болтали забавный вздор.
А весна расцветала и пела,
И теряли значенья слова,
И так трогательно зеленела
Меж торцов на Невском трава.
1964
***
Каждый дом меня как-будто знает.
Окна так приветливо глядят.
Вот тот крайний чуть-ли не кивает,
Чуть-ли не кричит мне: Как я рад!
Здравствуйте. Что вас давно не видно?
Не ходили вы четыре дня.
А я весь облез, мне так обидно,
Хоть бы вы покрасили меня.
Две усталые, худые клячи
Катафалк потрёпанный везут.
Кланяюсь. Желаю им удачи.
Да какая уж удача тут!
Медленно встаёт луна большая,
Так по- петербургски голуба,
И спешат прохожие, не зная,
До чего трагична их судьба.
***
Я помню только всего
Вечер дождливого дня,
Я провожала его,
Поцеловал он меня.
Дрожало пламя свечи,
Я плакала от любви.
- На лестнице не стучи,
Горничной не зови!
Прощай... Для тебя, о тебе,
До гроба, везде и всегда...
По водосточной трубе
Шумно бежала вода.
Ему я глядела вслед,
На низком сидя окне...
...Мне было пятнадцать лет,
И это приснилось мне...
***
Потомись ещё немножко
В этой скуке кружевной.
На высокой крыше кошка
Голосит в тиши ночной.
Тянется она к огромной,
Влажной, мартовской луне.
По кошачьи я бездомна,
По кошачьи тошно мне.
1950
***
В этот вечер парижский, взволнованно-синий,
Чтобы встречи дождаться и время убить,
От витрины к витрине, в большом магазине
Помодней, подешевле, получше купить.
С неудачной любовью... Другой не бывает -
У красивых, жестоких и праздных, как ты.
В зеркалах электрический свет расцветает
Фантастически-нежно, как ночью цветы.
И зачем накупаешь ты шарфы и шляпки,
Кружева и перчатки? Конечно, тебе
Не помогут ничем эти модные тряпки
В гениально-бессмысленной женской судьбе.
- В этом мире любила ли что-нибудь ты?..
- Ты должно быть смеёшься! Конечно любила.
- Что? - Постой. Дай подумать! Духи, и цветы,
И ещё зеркала... Остальное забыла.
1950
***
Ночь глубока. Далеко до зари.
Тускло вдали горят фонари.
Я потеряла входные ключи,
Дверь не откроют: стучи, не стучи.
В дом незнакомый вхожу не звоня,
Сколько здесь комнат пустых, без огня,
Сколько цветов, сколько зеркал,
Словно аквариум светится зал.
Сквозь кружевную штору окна,
Скользкой медузой смотрит луна.
Это мне снится. Это во сне.
Я поклонилась скользкой луне,
Я заглянула во все зеркала,
Я утонула. Я умерла...
1950
***
По набережной ночью мы идём.
Как хорошо - идём, молчим вдвоём.
И видим Сену, дерево, собор
И облака... А этот разговор
На завтра мы отложим, на потом,
На после-завтра... На когда умрем.
***
Он сказал: - Прощайте, дорогая!
Я, должно быть, больше не приду.
По аллее я пошла, не зная,
В Летнем я саду или аду.
Тихо. Пусто. Заперты ворота.
Но зачем теперь идти домой?
По аллее чёрной белый кто-то
Бродит, спотыкаясь, как слепой.
Вот подходит ближе. Стала рядом
Статуя, сверкая при луне,
На меня взглянула белым взглядом,
Голосом глухим сказала мне:
- Хочешь, поменяемся с тобою?
Мраморное сердце не болит.
Мраморной ты станешь, я - живою.
Стань сюда. Возьми мой лук и щит.
- Хорошо, - покорно я сказала, -
Вот моё пальто и башмачки.
Статуя меня поцеловала,
Я взглянула в белые зрачки.
Губы шевелиться перестали,
И в груди не слышу тёплый стук.
Я стою на белом пьедестале,
Щит в руках, и за плечами лук.
Кто же я? Диана иль Паллада?
Белая в сиянии луны,
Я теперь - и этому я рада -
Видеть буду мраморные сны.
Утро... С молоком проходят бабы,
От осенних листьев ветер бур.
Звон трамваев. Дождь косой и слабый.
И такой обычный Петербург.
Господи! И вдруг мне стало ясно -
Я его не в силах разлюбить.
Мраморною стала я напрасно -
Мрамор будет дольше сердца жить.
А она уходит, напевая,
В рыжем, клетчатом пальто моём.
Я стою холодная, нагая
Под осенним ветром и дождём.
1922

Баллады Ирины Одоевцевой:
ТОЛЧЕНОЕ СТЕКЛО
Солдат пришел к себе домой -
Считает барыши:
"Ну, будем сыты мы с тобой -
И мы, и малыши.
Семь тысяч. Целый капитал
Мне здорово везло:
Сегодня в соль я подмешал
Толченое стекло".
Жена вскричала: "Боже мой!
Убийца ты и зверь!
Ведь это хуже, чем разбой,
Они умрут теперь".
Солдат в ответ: "Мы все умрем,
Я зла им не хочу -
Сходи-ка в церковь вечерком,
Поставь за них свечу".
Поел и в чайную пошел,
Что прежде звали «Рай»,
О коммунизме речь повел
И пил советский чай.
Вернувшись, лег и крепко спал,
И спало все кругом,
Но в полночь ворон закричал
Так глухо под окном.
Жена вздохнула: "Горе нам!
Ах, горе, ах, беда!
Не каркал ворон по ночам
Напрасно никогда".
Но вот пропел второй петух,
Солдат поднялся зол,
Был с покупателями сух
И в «Рай» он не пошел.
А в полночь сделалось черно
Солдатское жилье,
Стучало крыльями в окно,
Слетаясь, воронье.
По крыше скачут и кричат,
Проснулась детвора,
Жена вздыхала, лишь солдат
Спал крепко до утра.
И снова встал он раньше всех,
И снова был он зол.
Жена, замаливая грех,
Стучала лбом о пол.
"Ты б на денек, — сказал он ей,-
Поехала в село.
Мне надоело — сто чертей!-
Проклятое стекло".
Один оставшись, граммофон
Завел и в кресло сел.
Вдруг слышит похоронный звон,
Затрясся, побелел.
Семь кляч дощатых семь гробов
Везут по мостовой,
Поет хор бабьих голосов
Слезливо: «Упокой».
— Кого хоронишь, Константин?
— Да Машу вот, сестру -
В четверг вернулась с именин
И померла к утру.
У Николая умер тесть,
Клим помер и Фома,
А что такое за болесть -
Не приложу ума.
Ущербная взошла луна,
Солдат ложится спать,
Как гроб тверда и холодна
Двуспальная кровать!
И вдруг — иль это только сон?-
Идет вороний поп,
За ним огромных семь ворон
Несут стеклянный гроб.
Вошли и встали по стенам,
Сгустилась сразу мгла,
"Брысь, нечисть! В жизни не продам
Толченого стекла".
Но поздно, замер стон у губ,
Семь раз прокаркал поп.
И семь ворон подняли труп
И положили в гроб.
И отнесли его туда,
Где семь кривых осин
Питает мертвая вода
Чернеющих трясин.
БАЛЛАДА ОБ ИЗВОЗЧИКЕ
К дому по Бассейной, шестьдесят,
Подъезжает извозчик каждый день,
Чтоб везти комиссара в комиссариат -
Комиссару ходить лень.
Извозчик заснул, извозчик ждет,
И лошадь спит и жует,
И оба ждут, и оба спят:
Пора комиссару в комиссариат.
На подъезд выходит комиссар Зон,
К извозчику быстро подходит он,
Уже не молод, еще не стар,
На лице отвага, в глазах пожар -
Вот каков собой комиссар.
Он извозчика в бок и лошадь в бок
И сразу в пролетку скок.
Извозчик дернет возжой,
Лошадь дернет ногой,
Извозчик крикнет: «Ну!»
Лошадь поднимет ногу одну,
Поставит на земь опять,
Пролетка покатится вспять,
Извозчик щелкнет кнутом
И двинется в путь с трудом.
В пять часов извозчик едет домой,
Лошадь трусит усталой рысцой,
Сейчас он в чайной чаю попьет,
Лошадь сена пока пожует.
На дверях чайной — засов
И надпись: «Закрыто по случаю дров».
Извозчик вздохнул: «Ух, чертов стул!»
Почесал затылок и снова вздохнул.
Голодный извозчик едет домой,
Лошадь снова трусит усталой рысцой.
Наутро подъехал он в пасмурный день
К дому по Бассейной, шестьдесят,
Чтоб вести комиссара в комиссариат -
Комиссару ходить лень.
Извозчик уснул, извозчик ждет,
И лошадь спит и жует,
И оба ждут, и оба спят:
Пора комиссару в комиссариат.
На подъезд выходит комиссар Зон,
К извозчику быстро подходит он,
Извозчика в бок и лошадь в бок
И сразу в пролетку скок.
Но извозчик не дернул возжей,
Не дернула лошадь ногой.
Извозчик не крикнул: «Ну!»
Не подняла лошадь ногу одну,
Извозчик не щелкнул кнутом,
Не двинулись в путь с трудом.
Комиссар вскричал: "Что за черт!
Лошадь мертва, извозчик мертв!
Теперь пешком мне придется бежать,
На площадь Урицкого, пять".
Небесной дорогой голубой
Идет извозчик и лошадь ведет за собой.
Подходят они к райским дверям:
«Апостол Петр, отворите нам!»
Раздался голос святого Петра:
«А много вы сделали в жизни добра?»
— "Мы возили комиссара в комиссариат
Каждый день туда и назад,
Голодали мы тысячу триста пять дней,
Сжальтесь над лошадью бедной моей!
Хорошо и спокойно у вас в раю,
Впустите меня и лошадь мою!"
Апостол Петр отпер дверь,
На лошадь взглянул: "Ишь, тощий зверь!
Ну, так и быть, полезай!"
И вошли они в Божий рай.
БАЛЛАДА О ГУМИЛЕВЕ
На пустынной Преображенской
Снег кружился и ветер выл...
К Гумилеву я постучала,
Гумилев мне дверь отворил.
В кабинете топилась печка,
За окном становилось темней.
Он сказал: "Напишите балладу
Обо мне и жизни моей!
Это, право, прекрасная тема",-
Но я ему ответила: "Нет.
Как о Вас напишешь балладу?
Ведь вы не герой, а поэт".
Разноглазое отсветом печки
Осветилось лицо его.
Это было в вечер туманный,
В Петербурге на Рождество...
Я о нем вспоминаю все чаще,
Все печальнее с каждым днем.
И теперь я пишу балладу
Для него и о нем.
Плыл Гумилев по Босфору
В Африку, страну чудес,
Думал о древних героях
Под широким шатром небес.
Обрываясь, падали звезды
Тонкой нитью огня.
И каждой звезде говорил он:
— «Сделай героем меня!»
Словно в аду полгода
В Африке жил Гумилев,
Сражался он с дикарями,
Охотился на львов.
Встречался не раз он со смертью,
В пустыне под «небом чужим».
Когда он домой возвратился,
Друзья потешались над ним:
— "Ах, Африка! Как экзотично!
Костры, негритянки, там-там,
Изысканные жирафы,
И друг ваш гиппопотам".
Во фраке, немного смущенный,
Вошел он в сияющий зал
И даме в парижском платье
Руку поцеловал.
"Я вам посвящу поэму,
Я вам расскажу про Нил,
Я вам подарю леопарда,
Которого сам убил".
Колыхался розовый веер,
Гумилев не нравился ей.
— "Я стихов не люблю. На что мне
Шкуры диких зверей"...
Когда войну объявили,
Гумилев ушел воевать.
Ушел и оставил в Царском
Сына, жену и мать.
Средь храбрых он был храбрейший,
И, может быть, оттого
Вражеские снаряды
И пули щадили его.
Но приятели косо смотрели
На георгиевские кресты:
— «Гумилеву их дать? Умора!»
И усмешка кривила рты.
Солдатские — по эскадрону
Кресты такие не в счет.
Известно, он дружбу с начальством
По пьяному делу ведет.
Раз, незадолго до смерти,
Сказал он уверенно: "Да.
В любви, на войне и в картах
Я буду счастлив всегда!..
Ни на море, ни на суше
Для меня опасности нет..."
И был он очень несчастен,
Как несчастен каждый поэт.
Потом поставили к стенке
И расстреляли его.
И нет на его могиле
Ни креста, ни холма — ничего.
Но любимые им серафимы
За его прилетели душой.
И звезды в небе пели: -
«Слава тебе, герой!»
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/43737.html
|
|
Процитировано 8 раз
Понравилось: 3 пользователям
Чары Андрея Белого |
14 (26) октября 1880 года родился Андрей Белый.

А.П. Остроумова-Лебедева. Портрет Андрея Белого.
В ранних стихах Белого мы встречаем строчки, которые как бы предвещают молодого Маяковского, и сам Маяковский приводил их, оказавших на него влияние:
Голосил низким басом,
в небеса запустил ананасом.
Недаром многие называли Белого «отцом футуризма», хотя общеизвестно, что Белый — ортодоксальный символист. А поэма «Про это» была подсказана Маяковскому книгой стихов А. Белого «После разлуки», посвящённой Асе Тургеневой. Маяковский и столбиком начинает записывать свои стихи под воздействием Белого, что стало потом канонической нормой у Асеева, Кирсанова, раннего Пастернака. Цветаева развивает введённую ранее Белым технику деления строк на куски посредством тире, перенимая его приёмы. Пастернак признавался, что испытал влияние «музыки Белого», и ритмика стихов Пастернака связана с ритмикой этого поэта. Несомненную связь с Белым отмечают критики у Есенина, Северянина, Мандельштама. У С. В . Поляковой (автора книг о Цветаевой и Парнок) есть целая работа об использовании Мандельштамом в своих стихах специфической лексики Белого.
Следы поэтики А. Белого без труда можно обнаружить и в произведениях прозаиков 20-х годов Бабеля, Булгакова, Пильняка. Шкловский писал о Белом: «Вся современная русская проза носит на себе его следы».
Литературные симфонии Белого
В статье «О себе как о писателе» Белый (тогда ещё Борис Бугаев) писал: «Я себя чувствовал скорее композитором, чем поэтом. Долгое время музыка заслоняла мне писательский путь».

Первые его произведения возникли как попытки проиллюстрировать юношеские музыкальные композиции. То есть сначала было не Слово, а музыка. Первые свои произведения Белый назвал не стихами или повестями, а «литературными симфониями». Это совершенно новый жанр необычной формы, не имеющий аналогов в мировой литературе. Полу-литература, полу-музыка, тема в них развивалась по законам музыки — путём нарастания и спада ритмических оборотов, лексических повторов. По форме это нечто среднее между стихами и прозой. От стихов их отличает отсутствие рифмы и размера, от прозы — особая напевность строк.
Белый переводил музыку на язык литературы. В этом отношении симфонические опыты Белого оказываются в одном ряду с «музыкальными» живописными полотнами Чурлёниса (ряд его картин так и называется: «Солнечная соната», «Морская соната», «Соната змей»), «световыми» симфониями Скрябина, малоизвестными стихами раннего Александра Добролюбова, ориентированными на музыкальное прочтение, великими музыкальными драмами Вагнера, мелодичными стихами Верлена.
Первую литературную симфонию Белый написал в 1900 году ( в 20 лет). Он назвал её «Северной или Героической»: фантастические образы легендарной романтики, навеянные музыкой Грига. Короткие ритмические фразы, местами переходящие в рифмованные стихи:
Леса шумели. Шумели...
Одинокая королевна долго горевала.
Долго горевала.
Слёзы как жемчуг катились по бледным щекам.
Катились по бледным щекам.
И показалось молодой королевне, что она — одинокая.
Одинокая.
А на улице бродили одни тени, и то лишь весною.
Лишь весною.

Красиво. Волшебно. Белым было написано четыре литературные симфонии. Мне хотелось бы остановиться на третьей, написанной в 1903 году, где он разрабатывает тему теургии — так называемого «вечного возвращения», возврата человека к своим истокам. Она так и называется: «Возврат».

Возврат в прабытиё
Здесь была сделана попытка отразить существование человека после смерти и даже до его рождения, его инобытие, где скучной логике и бессмысленности обыденной жизни противопоставлялась неисчерпаемость космического бытия:
«Ему казалось, что Вселенная заключила его в свои мировые объятия… Все опрокинулось вокруг него. Он светился над черной бездной, в неизмеримой глубине которой совершался бег созвездий... Его тянуло в эти чёрные, вселенские объятия. Он боялся упасть в бездонное…»
Я поставила бы к ней эпиграфом строчки Ходасевича:
Как всадник на горбах верблюда,
назад в истоме откачнись.
Замри – или умри отсюда,
в давно забытое родись.

В этой вещи Белого ощутимо влияние Канта, Шопенгауэра, Ницше, работами которых он увлекался. Особенно яркое воздействие оказал на Белого Ницше, в частности, его идея о неизбежном воскрешении человека в будущей жизни, повторение индивидуума.
Первая часть её представляет собой своеобразный вариант библейского предания о потере рая согрешившим человеком. Некий доисторический невинный ребёнок играет на берегу моря.

Это прекрасная счастливая жизнь, вся «вселенная заключила его в свои мировые объятия».

У ребёнка есть могущественный благодетель и защитник – «особенный старик», который воплощает Вечность и обладает божественной властью.

Однако ребёнка совращают злые силы, подстрекая его любопытство к иной жизни.

Во второй части «Возврата» ребёнок просыпается на земле, в новой своей ипостаси. Теперь он – Евгений Хандриков, сотрудник химической лаборатории. Он влачит жалкое существование в убогих условиях с некрасивой больной женой, дефективным ребёнком, злыми сослуживцами. Всё это чуждо ему. Зачем-то люди спешат в «притоны работы», в чад лабораторий, в неволю. Окружающие напоминают ему зверей, фавнов, кентавров...
Существование Хандрикова делится по времени суток: днём он – погрязший в быту, в мелочных заботах «маленький человек», существо жалкое и несчастное, а ночью, в сновидениях, когда вскрывается резервуар подсознания, он снова живёт полнокровной природной жизнью «ребёнка», резвящегося на берегу океана, где много солнца, ветра, чистого песка, тепла, где он охраняем стариком – временем, Богом.

Происходит как бы проникновение двух миров: прошлое, миллионолетнее давнее вторгается в настоящее, в современную жизнь молодого человека и отравляет её. Он хочет сорвать путы быта, выйти за сферу эмпирического существования. Но для этого ему надо слиться с океаном вечности, вернуться в стихию, в которой он пребывал в своих грёзах. Затравленный рутиной, изнуренный тоской по своему прошлому, Хандриков в третьей части симфонии попадает в санаторий для душевнобольных.

И там, в безумии, находит освобождение, вырываясь из тесных пределов этой беспросветной жизни.

Сойдя с ума, он бросается с лодки в озеро и погибает,

сливаясь уже навечно с водной стихией, из которой он некогда вышел, с океаном бытия. И обретает себя прежнего, подлинного, настоящего.

«Бриллиантовые узоры созвездий неподвижны в черном, мировом бреду, где все несётся и где нет ничего, что есть. Земля кружится вокруг Солнца, мчащегося к созвездию Геркулеса! А куда мчится созвездие Геркулеса? – Сумасшедшая пляска бездонного мира. Куда мы летим? Какие пространства пересечем, улетая? Летя, улетим ли? Кто полетит нам навстречу? И то тут, то там, подтверждая странные мысли, золотые точки зажигаются в небесах; зажигаются, сгорают в эфирно-воздушных складках земной фаты. Зажигаются, тухнут – и летят, и летят прочь от Земли сквозь бездонные страны небытия, чтобы снова через миллионы лет загореться. Хочется крикнуть минутным знакомым: Здравствуйте! Куда летите?.. Поклонитесь Вечности!..»

Истинная родина человека, – утверждает Белый, – космические миры. Это наш духовный материк. Совершая путь жизненной судьбы, человек неизбежно возвращается к своим праистокам.
Эта мысль о двуплановости, двубытийности всего сущего станет отныне центральной мыслью А. Белого, которая ляжет в основу не только его поэтических взглядов, но и философских, антропософских, исторических, социальных. Пограничное положение человека – не между добром и злом, как думал Достоевский, – а между бытом и бытиём – вот что ещё до Цветаевой увидел Белый и сделал предметом своего изображения. Он стремился разбудить в человеке человека, то есть вывести его за пределы быта, дать ему возможность ощутить связь с бытиём, с Вечностью, выявить в нём природные, духовные, естественные качества натуры.
Под впечатлением этой симфонии у меня родились тогда такие строчки:
Прародина

Сквозь волны туманностей, Млечных путей,
Галактик бесчисленных мимо
летит голубая планета людей,
космическим вихрем гонима.
А мы – лишь песчинки, что оторвались
от тьмы мировой океана,
чтоб после вернуться в родимую высь,
в свою праисторию канув.
Как в зной раскалённый прохлады питьё,
как хлеб или воздух, насущен
возврат в изначальное, в прабытиё,
в дремучие дебри и кущи.
Вернуться, сияньем нездешним светясь,
в стихию, откуда мы родом,
и встретить иную свою ипостась,
себя побеждая уходом.
Пыталась к земле прилепиться душа,
но было ей чуждо и серо.
Как будто наполненный воздухом шар,
тянуло её в ноосферу.
Сдержи из глубин твоих рвущийся крик.
И смерть ещё тоже – не вечер!
Нас ждёт несказанный родной материк,
божественных родин предтеча.
Там смысл сокровенный покажется прост,
бессмысленным – опыт, что нажит.
И ангел в венке из серебряных звёзд
нам что-нибудь нежное скажет.

Сапфировый юноша
В поэме «Первое свидание" А. Белый выражает своё неприятие бескрылой и бездуховной обывательщины:
Благонамеренные люди,
Благоразумью отданы.
Не им, не им вздыхать о чуде,
Не им - святые ерунды...
О, не летающие! К тверди
Не поднимающие глаз!
Вы - переломанные жерди:
Жалею вас - жалею вас!
Не упадет на ваши бельма
(Где жизни нет - где жизни нет!) -
Не упадет огонь Сент-Эльма
И не обдаст Дамасский свет...
Жена - в постели; в кухне — повар;
И - положение, и вес;
И положительный ваш говор
Переполняет свод небес:
Так выбивают полотеры
Пустые, пыльные ковры...
У вас - потухнувшие взоры...
Для вас и небо - без игры!..
По поводу взора самого Белого, вернее, его необыкновенных глаз, написано очень много. Ни один мемуарист не обошёл стороной эту тему. Надо сказать, у самого Белого были стихи, написанные, конечно, не о себе, но очень подходившие к его портрету:
Речь твоя — пророческие взрывы,
а глаза — таимые прозоры:
синие, огромные разрывы
в синие огромные просторы.

Ольга Форш назвала его «сапфировым юношей» (в наш век несколько двусмысленно звучит, но тогда воображение людей, видимо, не было таким испорченным): «Не оставалось ничего, кроме сапфирового сияния глаз, всё затоплявших. А руки казались почти крыльями, так взлетали».
«Пленный дух» - это определение Марины Цветаевой как нельзя лучше к нему подходило. Этот дух словно порывался освободиться из плена, от материальных уз и целиком выявить свою серафическую природу. Илья Эренбург в своём мемуарном романе «Книга для взрослых» пишет: «Андрей Белый хотел прикрепиться к жизни, но он подымался вверх, как детский шарик. Когда он читал стихи, он привставал, казалось, он испаряется».

Казалось, он причалил к нашей планете из космоса, где иные соотношения мысли и тела, неведомые нам формы жизни.
Первый его сборник назывался «Золото в лазури». Золото и лазурь — два определяющих цвета в стихах Белого. Лазурь, голубизна в символистских кругах во всех её оттенках ощущалась как синоним вечного, непреходящего, оторванного от земли, божественно-поэтического.

Вячеслав Иванов, например, подолгу дискутировал с Бальмонтом, серьёзно обсуждая, кто из них «бирюзовый», а кто — «вечеровый». Бирюзовый — один из любимых эпитетов Белого.
Поэт, ты не понят людьми.
В глазах не сияет беспечность.
Глаза к небесам подними:
С тобой бирюзовая Вечность.
«Бирюзовый учитель», - сказал о нём Мандельштам.

Белый исступлённо экспериментировал, создавал новые формы, темы, новую поэтику, создавал свою концепцию человека, разрабатывал свою стилистическую манеру. Ни один русский писатель не производил таких бесстрашных экспериментов со словом, как Белый. Масса неологизмов: «синероды», «зарея», «смолнилась»... Новые необычные ритмы, синтаксис.
Критика писала: «Белый довёл почти до предела издевательство над русским языком и русским читателем», обвиняя его в эстетическом нигилизме. Люди, нападавшие на «невнятицы» Белого, не понимали, что все туманности и путаницы этого изумительного художника суть явления высоты, до которой нужно подняться. К чтению такого писателя необходим навык внутреннего слуха, как необходима перекоординация слуховых центров от трепака к Девятой симфонии.
Белый был обречён видеть мир «не так, как мы — иначе». Помните, как иной раз по ночам, особенно в детстве, видятся разбросанные по комнате предметы? Круглый абажур лампы на столе, рядом на стуле бельё, и вот — дух захватывает от страха: в кресле у постели сидит скелет в саване... Белый всю жизнь все абажуры видел и изображал в момент их превращения в черепа, а все стулья с брошенным на них бельём — в момент их превращения в саваны.

В каждом человеке он открывал какую-нибудь особую, другим невидимую точку, а затем рождал и развивал магической силой воображения свои образы-фантомы. Это был язык таинств, эзотерический, непонятный пигмеям... «О, не понять вам, гномы, гномы...»
Пепел надежд
Всё личное, самое малое приобретало в его гипертрофированном восприятии чуть ли не эпохальное значение, каждую личную драму он переживал как драму эпохи. Точно так же и драму эпохи он переживал как личную, кровную беду. Так получилось с его вторым сборником «Пепел» (1908), написанным в несколько необычных для символиста традициях — некрасовских. Он посвящён памяти Некрасова, с некрасовскими строками в качестве эпиграфа. С Некрасовым Белого роднит и необычный для символиста жанр: поэма о России, о России народной.
Мать Россия! Тебе мои песни, -
о немая, суровая мать!
Здесь и глуше мне дай, и безвестней
непутёвую жизнь отрыдать.

Россия из этих стихов возникает как страна страшного прошлого и беспросветного будущего.
Просторов простертая рать:
В пространствах таятся пространства.
Россия, куда мне бежать
От голода, мора и пьянства?
...Где в душу мне смотрят из ночи,
Поднявшись над сетью бугров,
Жестокие, желтые очи
Безумных твоих кабаков, -
Туда, - где смертей и болезней
Лихая прошла колея, -
Исчезни в пространстве, исчезни,
Россия, Россия моя!

Лейтмотив всей книги — скорбный плач по Родине.
...Роковая страна, ледяная,
Проклятая железной судьбой -
Мать-Россия, о родина злая,
Кто же так подшутил над тобой?

«Его «пепел», - писал Вячеслав Иванов, - крик отчаяния, доходящий до кощунства — ропота на родину-мать, который не вменится в грех любящему сыну». К сожалению, эту мучительную, саднящую любовь, эту боль за страну не способны понять наши горе-патриоты, которые любовь к Родине воспринимают лишь как плакатную, восхваляющую, лубочную. Когда встречаешь в их патриотических стихах привычное клише, включающее обязательный набор берёзок, коровок на лугу, лошадок, травки-муравки, понимаешь, что это не любовь, а, в сущности, равнодушие. А ведь Некрасов ещё сказал: «Кто не знает печали и гнева — тот не любит отчизны своей».
Жемчужная заря не выше кабака
Белый демонстративно заявлял, что художнику-символисту не возбраняется обращаться к любым сторонам жизни: «Да, и жемчужные зори, и кабаки, и надзвёздные высоты, и страдания пролетария — всё это объекты художественного творчества. Жемчужная заря не выше кабака».
Для «Пепла» в целом характерны тенденции к житейскому, бытовому правдоподобию, демократизация языка — стихи изобилуют прозаизмами, грубой лексикой, просторечиями. Немало читателей, знавших прежнее творчество Белого, было шокировано, встретив, например, такие строки:
Руки в боки: ей, лебедки,
Вам плясать пора.
Наливай в стакан мне водки —
Приголубь, сестра!
Где-то там рыдает звуком,
Где-то там – орган.
Подавай селедку с луком,
Расшнуруй свой стан.
Ты не бойся – не израню:
Дай себя обнять.
Мы пойдем с тобою в баню
Малость поиграть.
Революция 1905 года принесла Белому ощущение реальной жизни, вдохнула эту жизнь в его строки. Он вдруг по-новому увидел и ощутил простоту действий, простоту вещей.
День-деньской колю дрова,
отогнав тревогу.
Все мудрёные слова
позабыл, ей-богу!
(Помните, у Блока: «Работа везде одна: что печку сложить, что стихи написать!»)? По поводу стихотворения Белого «Тройка» народник Малофеев написал ему приветственное письмо, видя в нём отказ от прежнего безумия: «Это молодо, просто и ясно: Борис Николаевич, с новым здоровьем!»
Астральный роман
В 1916 году А. Белый создаёт роман «Петербург» - главное своё произведение, один из самых значительных романов 20 века. Роман-апокалипсис, роман-трагедия. Ошеломляла новизна, новаторство поэтики Белого. Он продемонстрировал на страницах «Петербурга» совершенно невероятную вещь, не имеющую аналогов ни в одной литературе мира.
Белый берёт хорошо известные всем классические произведения и выводит их героев в совершенно другую эпоху, делая их героями своего романа и тем самым как бы продлевая в историческом времени. В данном случае это пушкинский «Медный всадник». Герои — Пётр Первый и бедный разночинец Евгений, преображённый фантазией Белого в террориста Александра Дудкина. Действие романа происходит в 1905 году. Через три четверти века снова встретились их судьбы, но уже в совершенно иной исторической обстановке.
Город Петра изображён Белым как сплошной морок, злое наваждение.
«Петербург, Петербург! Осаждаясь туманом, и меня ты преследовал праздною мозговою игрой: ты -- мучитель жестокосердечный...
О, большой, электричеством блещущий мост! Помню я одно роковое мгновенье; чрез твои сырые перила сентябрьской ночью перегнулся и я: миг -- и тело мое пролетело б в туманы. О, зеленые, кишащие бациллами воды! Еще миг, обернули б вы и меня в непокойную тень...»
В романе явственно ощущается перекличка с «Братьями Карамазовыми» (мотив отцеубийства), «Бесами» Достоевского (провокация и терроризм). Отличие в том, что, как пишет Бердяев, Белый более космичен по своему чувству жизни, Достоевский же более психологичен и антропологичен. Достоевскому открывались бездны в душевной глубине человека, Белый же погружает этого человека в космическую безмерность. Это художник астрального плана. Герои пребывают на грани быта и бытия, в нескольких измерениях сразу. В европейской литературе предшественником творческих приёмов Белого можно назвать Гофмана, в гениальной фантастике которого так же нарушались все грани, все планы перемешивались, всё двоилось, одно переходило в другое.
«Петербург» Белого — это поистине «астральный роман», как назвал его Н. Бердяев. С великим трудом пробираясь сквозь стилистические дебри и угловатости «Петербурга», мы начинаем лучше понимать себя, своё время, свою историю.
Симфоническая повесть о детстве
В 1917 году Белый заканчивает роман «Котик Летаев» - первую часть из задуманной им автобиографической трилогии «Моя жизнь». Как и все произведения Белого, он автобиографичен. Белый вообще не умел писать не о себе. Но в «Котике Летаеве» это внутренняя жизнь индивида, начиная с подсознательных рефлексов и первых пульсаций сознания у младенца, открывающего мир. Это «симфоническая повесть о детстве», по авторскому определению. Это повесть о мальчике, которая начинается ещё до его рождения, хотя и ведётся от первого лица. К ней ниспослан эпиграф из «Войны и мира»:
«Знаешь, я думаю, - сказала Наташа шёпотом, - что когда вспоминаешь, вспоминаешь и до того довспоминаешься, что помнишь то, что было ещё прежде, чем я была на свете».

«Пучинны все мысли: океан бьётся в каждой и проливается в тело — космическою бурею; восстающая детская мысль напоминает комету; вот она в тело падает — и кровавится её хвост, и — дождями кровавых карбункулов изливается в океан ощущений; и между телом и мыслью — пучиной воды и огня, кто-то бросил с размаху ребёнка, и страшно ребёнку. Помогите... Нет мочи... Спасите... - Это, барыня, рост».
Вот первое событие бытия. Дотелесная жизнь одним краем своим обнажена в факте памяти. Цитирую дальше, из середины главы «Горит, как в огне». Здесь дана мотивировка образов бредом ребёнка во время болезни:
«Сперва образов не было, а было им место в навислости спереди; очень скоро открылась мне: детская комната, сзади дыра зарастала, переходя — в печной рот (печной рот — воспоминание о давно погибшем, о старом: вот воет ветер в трубе о довременном сознании)... Предлиннейший гад, дядя Вася, мне выпалзывал сзади: змееногий, усатый, он потом перерезался; он одним куском к нам захаживал отобедать, а другой — позже встретился: на обёртке полезнейшей книжки «Вымершие чудовища»; называется он «динозавр», говорят — они вымерли; ещё я их встречал: в первых мигах сознания... Взрезал мне всё это голос матери: «Он горит, как в огне!»
Повесть о детстве оказывается повестью о специфическом младенческом сознании, которое связано с «дотелесной жизнью», с космосом и с Христом. И «в 35 лет, - признаётся автор, - самосознание разорвало мне мозг и кинулось в детство; я с разорванным мозгом смотрю, как дымятся мне клубы событий; как бегут они вспять… Прошлое протянуто в душу; на рубеже третьего года встаю пред собой; мы – друг с другом беседуем; мы – понимаем друг друга...»
Для Белого возвращение к детскому сознанию — не деградация, а, наоборот, постижение истины, полноумие.

Повесть „Котик Летаев“ (одни именовали это произведение повестью, другие – романом) – необычайное явление не литературы только, но всего нашего самосознания. Быть может, впервые нашелся человек, задавшийся дерзкою мыслью подсмотреть и воспроизвести самую стихию человеческого духа. И если искусство во все века стремилось вскрывать глубины, – то в самую сердцевину бытия никто ещё не пытался проникнуть, по крайней мере сознательно. Андрей Белый – первый художник, который поставил себе эту цель. В этом произведении он приблизился (а в чем-то даже опередил) ту актуальную проблематику, которой позже безраздельно завладеют фрейдисты.

Сергей Есенин назвал этот роман «гениальнейшим произведением нашего времени».
«В своем романе, – писал он, – Белый… зачерпнул словом то самое, о чем мы мыслили только тенями мыслей, наяву выдернул хвост у приснившегося ему во сне голубя и ясно вырисовал скрытые в нас возможности отделяться душой от тела, как от чешуи».
В «Котике Летаеве» всё насыщено глубочайшими смыслами, далекими от рационального понимания.
«Самосознание, как младенец во мне, широко открыло глаза. Вижу там: пережитое – пережито мной; только мной; сознание детства, – сместись оно, осиль оно тридцатидвухлетие это, – в точке этого мига детство узнало б себя: с самосознанием оно слито; падает все между ними; листопадами носятся смыслы слов: они отвалились от древа: и невнятица слов вкруг меня – шелестит и порхает; смыслы их я отверг; передо мной – первое сознание детства; и мы – обнимаемся: „Здравствуй ты, странное!“»
Магия слова и жеста
Лекции А. Белого — это тема отдельного разговора. Это были лекции-импровизации, лекции-концерты, театр одного актёра. Он органически не способен был сказать ничего банального. Его речь вспыхивала зарницами неожиданных мыслей, парадоксов, которые он связывал путём ассоциаций. При этом каждое слово он изображал, каждую мысль пояснял мимикой своего подвижного и вдохновенного лица. Из воспоминаний Михаила Чехова: «Говорил ли он об искусстве, о законах истории, о биологии, физике, химии — тотчас же сам становился тяготением, весом, ударом, толчком... В готике он возносился, в барокко круглился, жил в формах и красках растений, цветов, гремел, бушевал и сверкал...»

А вот строки из дневника Оксмана (15 окт. 1917 г.): «Вчера в пушкинском кружке читал доклад Андрей Белый — это было нечто поразительное, незабываемое никогда. Доклад назывался «О ритмическом жесте», но по существу был вдохновенной импровизацией о магической сущности лирического творчества. В течение 1,5 часов он держал всех на такой высоте духовного подъёма, какой я никогда не испытывал».
Белый мог написать пять страниц о том, как человек чиркнул спичкой. Он заговаривал людей до обморока. Однажды Белый говорил до утра с Ходасевичем, вернее, говорил один Белый, а Ходасевич слушал. Под утро Ходасевич молча встал с кресла и - упал в обморок. Пока его приводили в чувство в другой комнате, Белый рвался в дверь и пытался договорить, что ещё не сказал.
Разлука со звездой
Один из сборников Белого - «Звезда» - навеян образом его первой жены Аси Тургеневой.
Слышу вновь твой голос голубой,
до тебя душой не достигая.
Как светло, как хорошо с Тобой,
ласковая, милая, благая...

Её любовь была недолгой. И следующий сборник (1922), посвящённый ей, назывался «После разлуки». Он долго не мог освободиться от этого чувства.
Ты -- тень теней...
Тебя не назову.
Твое лицо --
Холодное и злое...
Плыву туда -- за дымку дней,-- зову,
За дымкой дней,-- нет, не Тебя: былое --,
Которое я рву (в который раз),
Которое,-- в который Раз восходит...

Чувство тоски и безысходности, вызванное разлукой, душевный надрыв особенно проникновенно переданы Белым в нервном, взвинченном, изломанном строе стихотворения, которое называется: «Маленький балаган на маленькой планете «Земля». Если это и балаган, то балаган трагический. Стихотворение снабжено эпиграфом: «Выкрикивается в форточку». Это были последние стихи, «выкрикнутые» Белым на земле.
И --
--Ты
-- С искренней дрожью уходишь
Навеки,
Злой друг,
От меня --
-- Без --
-- Ответа...
И --
-- Я --
-- Никогда не увижу
Тебя --
-- И --
Себя
Ненавижу:
За
Это.
Проклятый --
--Проклятый -- проклятый --
Тот диавол,
Который --
-- В разъятой отчизне
Из тверди
Разбил
Наши жизни -- в брызнь
Смерти,--
Который навеки меня отделил
От
Тебя --
-- Чтобы --
-- Я --
-- Ненавидел за это тебя --
И --
Себя!
Под влиянием этого стихотворения Маяковский напишет поэму «Про это».
Пленный дух
В 1922 году в Берлине произошла встреча Белого с Мариной Цветаевой.

Это был очень трудный период его жизни. Он приехал туда в надежде вернуть Асю. Но она его отвергла, не захотела даже говорить, у неё уже был другой. Белый очень страдал.
Сирый, убогий, в пустыне бреду.
Всё себе кров не найду.
Плачу о дне.
Плачу... Так страшно, так холодно мне.

Строки так искренни, непосредственны, что требовали, казалось, уже не вмешательства космических сил, а простого человеческого участия.
Боль сердечных ран,
И тоска растёт.
На полях – туман.
Скоро ночь сойдет.
Страшен мрак ночной,
Коли нет огня…
Посиди со мной,
Не оставь меня!..
Марина сразу и горячо приняла его — приняла таким, каким он был — ранимым, безмерно одиноким и беззащитным. Между ними не было никаких личных отношений: Цветаева-женщина, Цветаева-поэт как бы самоустранилась в этой дружбе. Она любила в нём Дух Поэта, представший ей в его земной оболочке. Марина позже так и назовёт своё эссе памяти Андрея Белого: «Пленный дух». Это лучшее, что написано из мемуаров о Белом. Одинокий дух поэта — смятенный и мятущийся, не способный ни слиться с окружающим, ни вырваться из него — таким предстаёт Белый в «Пленном духе».

На тебя надевали тиару — юрода колпак,
Бирюзовый учитель, мучитель, властитель, дурак!
Как снежок на Москве заводил кавардак гоголек:
Непонятен-понятен, невнятен, запутан, легок...
Собиратель пространства, экзамены сдавший птенец,
Сочинитель, щегленок, студентик, студент, бубенец...
Конькобежец и первенец, веком гонимый взашей
Под морозную пыль образуемых вновь падежей. -
это из стихов Мандельштама о Белом, которые он написал в день его похорон.

Меж тобой и страной ледяная рождается связь —
Так лежи, молодей и лежи, бесконечно прямясь.
Да не спросят тебя молодые, грядущие те,
Каково тебе там в пустоте, в чистоте, сироте...

Но лучшей эпитафией Андрею Белому могли бы стать его собственные строки:

Золотому блеску верил,
А умер от солнечных стрел.
Думой века измерил,
А жизнь прожить не сумел.
Не смейтесь над мертвым поэтом:
Снесите ему цветок.
На кресте и зимой и летом
Мой фарфоровый бьется венок.
Цветы на нем побиты.
Образок полинял.
Тяжелые плиты.
Жду, чтоб их кто-нибудь снял.
Любил только звон колокольный
И закат.
Отчего мне так больно, больно!
Я не виноват.
Пожалейте, придите;
Навстречу венком метнусь.
О, любите меня, полюбите -
Я, быть может, не умер, быть может, проснусь -
Вернусь!

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/43398.html
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю
Метаморфозы Николая Заболоцкого |
Начало здесь.
14 октября 1958 года умер Николай Заболоцкий.

Голография наивного зрения
Феномен этого поэта — в разительном внутреннем несходстве, которое он явил в начале и в конце своего пути. Это как бы два разных поэта. Подобную эволюцию можно сравнить разве что с ранним и поздним Пастернаком. «Как мир меняется! И как я сам меняюсь!» - воскликнул Заболоцкий в одном из стихотворений. Мне хотелось бы проследить эти перемены, эти метаморфозы поэта на примере его произведений.
Родился Н.А. Заболоцкий 7 мая 1903 года. Его юность совпала с 20-ми годами — временем создания новой литературы, когда в поэзию вливалось поколение молодых, ищущих, экспериментирующих талантов. Заболоцкий сближается с поэтической группой «Левый фланг», куда входили Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Олейников и Константин Вагинов.
В их поэзии, склонной к парадоксальности, отмеченной иронией, замысловатой фантазией, Заболоцкий находил много близкого своим собственным творческим поискам. Позже они организуют ОБЕРИУ — объединение реального искусства. В их декларации утверждалось право поэтов на интуитивное постижение мира, видение жизни сообразно внутреннему чувству художника. Поэту предлагалось посмотреть на окружающую действительность «голыми глазами», свежим, незамыленным взглядом. Обериуты многому учились у Хлебникова, который изображал мир, увиденный как бы глазами наивного ребёнка. И первые стихи Заболоцкого чем-то напоминали хлебниковские строчки:
Старухи, сидя у ворот,
хлебали щи тумана, гари.
Тут, торопяся на завод,
шёл переулком пролетарий.
А некоторые его строчки своей кажущейся косноязычностью, стремлением заглянуть в суть вещей и явлений, напоминали платоновские фразы:
Тут стояли две-три хаты
над безумным ручейком.
Идёт медведь продолговатый
как-то поздно вечерком.
А над ним, на небе тихом,
безобразный и большой,
журавель летает с гиком,
потрясая головой.
Необычные сочетания слов: «безумный ручеёк», «медведь продолговатый» дают возможность увидеть всё это словно впервые.
Лес качается, прохладен,
Тут же разные цветы,
И тела блестящих гадин
Меж камнями завиты.
Солнце жаркое, простое,
Льет на них свое тепло.
Меж камней тела устроя,
Змеи гладки, как стекло.
Прошумит ли сверху птица
Или жук провоет смело,
Змеи спят, запрятав лица
В складках жареного тела.
И загадочны и бедны,
Спят они, открывши рот,
А вверху едва заметно
Время в воздухе плывет.
(«Змеи»)
Это детски-наивное восприятие мира — видеть предметы так, как их видел впервые Адам. Оголить суть. Пустить слово в строку голым, освобождённым от замусоленных связей, пусть оно заново набирает значения. Это голография наивного зрения, интуитивно угаданная реальность, - в этом суть обериутства.
Выступления обериутов обычно носили театрализованный характер. Чтение стихов сопровождалось цирковыми эффектами: один выезжал на сцену, крутя педали трёхколёсного велосипеда, другой декламировал со шкафа, который вносили на сцену двое дюжих рабочих, и при этом на голове у него была затейливая шапочка, а на щеке нарисована зелёная собачка, третий имитировал обморок, и его уносили со сцены санитары.
Николай Заболоцкий в своих круглых очках, напоминающий счетовода или бухгалтера, с его степенностью, обстоятельностью, какой-то добропорядочностью всего облика, совершенно не вписывался в этот богемный цирк.

В его внешности не было ничего богемного, ничего «поэтического». Его можно было принять за кого угодно: молодого учёного, служащего, студента, фармацевта — но никак не за избранника муз. Стихи свои он читал спокойно и внятно, без всяких признаков музыкального самозабвения, без фокусов и выкрутасов. И мало кто знал, что эта невыразительная невозмутимая внешность скрывала целый вулкан озорного юмора, блестящего остроумия, бешеного темперамента. У С. Липкина есть посвящённые Заболоцкому стихи, где он отмечает это несоответствие его внешнего логически-упорядоченного облика — той парадоксально-взрывчатой силе, что была в его стихах:
Заметили ли вы, что выглядит порой
Насельник вятский, вологодский
Германцем истинным? Казался немчурой
И аккуратный Заболоцкий.
Но чисто русское безумье было в нем
И бурь подавленных величье,
Обэриутский бред союзничал с огнем
И зажигал глаза мужичьи...

Однако вскоре Заболоцкий отойдёт от обериутов, как в своё время Есенин без сожаления расстался с имажинистами. Ему внутренне чуждо было всё это хохмачество, трюкачество, словесная эквилибристика и шаманство. Отдав дань этому в молодые годы, Заболоцкий быстро из него вырос, и позже убеждал обериутов, что метафора, звукопись, выдумывание новых слов, чем они увлекались, - это не самоцель, а лишь приём, помогающий обнажить реальность. Позже Заболоцкий сформулирует своё кредо в поэзии:
И в бессмыслице скомканной речи
изощрённость известная есть.
Но возможно ль мечты человечьи
в жертву этим забавам принесть?
«Природа в стройном сарафане...»
При всей эксцентричности своих образов и алогичности некоторых метафор, Заболоцкий всегда старался подчинить слово мысли.
Певец был строен и суров.
Он пел, трудясь, среди дворов,
Средь выгребных высоких ям
Трудился он, могуч и прям.
Вокруг него система кошек,
Система окон, ведер, дров
Висела, темный мир размножив
На царства узкие дворов.
На что был двор? Он был трубою,
Он был тоннелем в те края,
Где был и я гоним судьбою,
Где пропадала жизнь моя.
Где сквозь мансардное окошко
При лунном свете, вся дрожа,
В глаза мои смотрела кошка,
Как дух седьмого этажа.

Он был отделен и отделён от всех своей индивидуальностью. Невозможно найти в Заболоцком следы соседства по эпохе ни с Маяковским, ни с Пастернаком, ни с Твардовским, ни даже с близким ему по духу Л. Мартыновым. Может быть, лишь в прозе Платонова да Зощенко обнаружим некоторый параллелизм в одинаково услышанном характерном звуке времени.
Природа в стройном сарафане,
Главою в солнце упершись,
Весь день играет на органе.
Мы называем это: жизнь.
Мы называем это: дождь,
По лужам шлепанье малюток,
И шум лесов, и пляски рощ,
И в роще хохот незабудок...
(«Поэма дождя»)
В стихах 30-х годов Заболоцкого чётко просматриваются натурфилософские корни его будущего творчества. В стихотворении «Лодейников» (1932) и более позднем продолжении его «Лодейников в саду» (1934) он поднимает тему двойственности природы и её несовершенства. Поэт видел в ней одновременно вместилище хаоса, жестокости и — носителя мудрых законов, направленных на утверждение гармонии.
В своей избушке, сидя за столом,
Он размышлял, исполненный печали.
Уже сгустились сумерки. Кругом
Ночные птицы жалобно кричали.
Из окон хаты шел дрожащий свет,
И в полосе неверного сиянья
Стояли яблони, как будто изваянья,
Возникшие из мрака древних лет.
Дрожащий свет из окон проливался
И падал так, что каждый лепесток
Среди туманных листьев выделялся
Прозрачной чашечкой, открытой на восток.
И все чудесное и милое растенье
Напоминало каждому из нас
Природы совершенное творенье,
Для совершенных вытканное глаз.
Лодейников склонился над листами,
И в этот миг привиделся ему
Огромный червь, железными зубами
Схвативший лист и прянувший во тьму.
Так вот она, гармония природы,
Так вот они, ночные голоса!
Так вот о чем шумят во мраке воды,
О чем, вдыхая, шепчутся леса!
Лодейников прислушался. Над садом
Шел смутный шорох тысячи смертей.
Природа, обернувшаяся адом,
Свои дела вершила без затей.
Жук ел траву, жука клевала птица,
Хорек пил мозг из птичьей головы,
И страхом перекошенные лица
Ночных существ смотрели из травы.
Природы вековечная давильня
Соединяла смерть и бытие
В один клубок, но мысль была бессильна
Соединить два таинства ее.

«Не то, что мните вы, природа», - эти слова Тютчева мог бы повторить и автор «Ладейникова», полемически обращая их к своим великим предшественникам. В критике отмечалась определённая близость Заболоцкого Пришвину, который изображал в своих записях природу, далёкую от пасторальных представлений о ней, фиксируя жестокую борьбу, что в ней постоянно происходила. Об этом и стихотворение Заболоцкого «Прогулка»:
У животных нет названья.
Кто им зваться повелел?
Равномерное страданье -
Их невидимый удел.
Бык, беседуя с природой,
Удаляется в луга.
Над прекрасными глазами
Светят белые рога.
Речка девочкой невзрачной
Притаилась между трав,
То смеется, то рыдает,
Ноги в землю закопав.
Что же плачет? Что тоскует?
Отчего она больна?
Вся природа улыбнулась,
Как высокая тюрьма.
Каждый маленький цветочек
Машет маленькой рукой.
Бык седые слезы точит,
Ходит пышный, чуть живой.
А на воздухе пустынном
Птица легкая кружится,
Ради песенки старинной
Нежным горлышком трудится.
Перед ней сияют воды,
Лес качается, велик,
И смеется вся природа,
Умирая каждый миг.
Осознавая дарвиновские конкурентные отношения в природе, Заболоцкий в то же время стремился найти нечто противостоящее эгоистической борьбе за выживание. Природа в его стихах - это чудное тело, вместившее всё сущее в мире, которое вечно живёт и развивается по своим, высшим законам, основанным на нравственной чистоте и гармонии:
О сад ночной, таинственный орган,
Лес длинных труб, приют виолончелей!
О сад ночной, печальный караван
Немых дубов и неподвижных елей!
Он целый день метался и шумел.
Был битвой дуб, и тополь — потрясеньем.
Сто тысяч листьев, как сто тысяч тел,
Переплетались в воздухе осеннем.
Железный Август в длинных сапогах
Стоял вдали с большой тарелкой дичи.
И выстрелы гремели на лугах,
И в воздухе мелькали тельца птичьи.
И сад умолк, и месяц вышел вдруг,
Легли внизу десятки длинных теней,
И толпы лип вздымали кисти рук,
Скрывая птиц под купами растений.
О сад ночной, о бедный сад ночной,
О существа, заснувшие надолго!
О вспыхнувший над самой головой
Мгновенный пламень звездного осколка!

Идея бессмертия
Меня всегда занимала его идея бессмертия, которую он развивал в своих натурфилософских поэмах, аккумулируя в них, в свою очередь, идеи Вернадского, Циолковского, Филонова, Хлебникова – о кровной связи всего живого: людей, животных, растений. Заболоцкий утверждал, что смерти не существует. В основе этого утверждения лежала мысль, что если каждый человек – часть природы, а природа в целом бессмертна, то и каждый человек бессмертен. Смерти нет, есть только превращения, метаморфозы. В стихотворении «Кузнечик» он писал:
Настанет день, и мой забвенный прах
вернётся в лоно зарослей и речек.
Заснёт мой ум, но в квантовых мирах
откроет крылья маленький кузнечик.
Довольствуясь осколком бытия,
он не поймёт, что мир его чудесный
построила живая мысль моя,
мгновенно затвердевшая над бездной.

Идея метаморфоз и бессмертия занимала Заболоцкого ещё в юные годы и возникла под влиянием сочинений Лукреция и Гёте. Он отрицал принципиальное различие между живой и неживой материей – и та, и другая в равной степени составляет целостный организм природы. Пока существует этот необъятный организм, человек, носитель его разума, орган его мышления, не может исчезнуть бесследно. Посмертно растворившись в природе, он возникает в любой её части – в листе дерева, птице, камне – передавая им хотя бы в небольшой степени свои индивидуальные черты и соединяясь в них со всеми живущими ранее. А с другой стороны в процессе своей жизни человек объединяет в себе все предшествующие формы бытия. В человеке – весь мир, но и человек – во всём мире. Заболоцкий писал об этом в стихотворении «Метаморфозы»:
Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь, –
на самом деле то, что именуют мной, –
не я один. Нас много, я живой.
Чтоб кровь моя остынуть не успела,
я умирал не раз. О, сколько мёртвых тел
я отделил от собственного тела!
И если б только разум мой прозрел
и в землю устремил пронзительное око,
он увидал бы там, среди могил, глубоко
лежащего – меня! Он показал бы мне –
меня, колеблемого на морской волне,
меня, летящего по ветру в край незримый, –
мой бедный прах, когда-то так любимый,
а я всё жив!

На Заболоцкого сильное впечатление произвели слова Гёте: «Я не сомневаюсь, что наше существование будет продолжаться, ибо природе не обойтись без того, что понимают под энтелехией (целенаправленной жизненной силой). Но бессмертны мы не в равной мере, и для того, чтобы в грядущем проявить себя как великую энтелехию, надо ею быть». То есть, бессмертны те люди, которые в жизни проявили себя как творцы, мыслители, созидатели, великие личности. Их душа, их мысли, аура остаются в природе. С этими словами Гёте перекликаются стихи Заболоцкого:
Вчера, о смерти размышляя,
ожесточилась вдруг душа моя.
Печальный день! Природа вековая
из тьмы лесов смотрела на меня.
И нестерпимая тоска разъединенья
пронзила сердце мне, и в этот миг
всё, всё услышал я – и трав вечерних пенье,
и речь воды, и камня мёртвый крик.
И я, живой, скитался над полями,
входил без страха в лес,
и мысли мертвецов прозрачными столбами
вокруг меня вставали до небес.
И голос Пушкина был над листвою слышен,
и птицы Хлебникова пели у воды.
И встретил камень я. Был камень неподвижен,
и проступал в нём лик Сковороды.
И все существованья, все народы
нетленное хранили бытиё,
и сам я был не детище природы,
но мысль её! Но зыбкий ум её!

Жизнь, переливаясь из формы в форму посредством материальных превращений, не теряет своих основных свойств, а проявляет их в каждой форме. Мир подобен сложному организму, в котором каждая клетка несёт информацию о строении целого. Вот почему, например, в птице можно различить человека:
Вращая круглым глазом из-под век,
летит внизу большая птица.
В её движенье чувствуется человек,
по крайней мере, он таится
в своём зародыше меж двух широких крыл.
А в кристалле уже предсуществует человеческая мысль:
Я на земле моей впервые мыслить стал,
когда почуял жизнь безжизненный кристалл.
То есть человек начинает жить задолго до рождения. («Я разве только я? Я – только краткий миг //чужих существований...»).
Николай Чуковский, с которым Заболоцкий как-то поделился своими сокровенными мыслями о бессмертии, иронически к ним отнёсся и даже попытался в пародийном стихотворении разоблачить, с его точки зрения, эти беспочвенные иллюзии. Он думал, что Заболоцкий боится смерти и все его философские построения предназначены только для того, чтобы обрести защиту от этих страхов. На самом деле взгляды поэта были далеко не столь утилитарны. В один из последних своих дней он спокойно говорил жене: «Ещё и не такие люди, как я, умирали. Природа не зря создала человека, и природа не допустит, чтобы её лучшие творения исчезали бесследно».

Однажды зимой Заболоцкий гулял с ребёнком и вышел к реке. Долго смотрел на тёмную воду, по которой уже плыли чешуйки прозрачного льда. Река замерзала, и ему показалось, что перед ним умирает разумное существо. Более того, он остро почувствовал, что уловил отобразившийся в замерзающей речке отблеск внечеловеческого сознания природы.
Когда уже в сумерках поэт вернулся домой, жену поразило его просветлённое и торжественное лицо — он был полон ощущения причастности к великой тайне жизни. Впечатление было настолько сильным, что он долго помнил его и через три года описал в одном из самых любимых своих стихотворений «Начало зимы»:

Зимы холодное и ясное начало
Сегодня в дверь мою три раза простучало.
Я вышел в поле. Острый, как металл,
Мне зимний воздух сердце спеленал,
Но я вздохнул и, разгибая спину,
Легко сбежал с пригорка на равнину,
Сбежал и вздрогнул: речки страшный лик
Вдруг глянул на меня и в сердце мне проник.
Заковывая холодом природу,
Зима идет и руки тянет в воду.
Река дрожит и, чуя смертный час,
Уже открыть не может томных глаз,
И все ее беспомощное тело
Вдруг страшно вытянулось и оцепенело
И, еле двигая свинцовою волной,
Теперь лежит и бьется головой.
Я наблюдал, как речка умирала,
Не день, не два, но только в этот миг,
Когда она от боли застонала,
В ее сознанье, кажется, проник.
В печальный час, когда исчезла сила,
Когда вокруг не стало никого,
Природа в речке нам изобразила
Скользящий мир сознанья своего.
И уходящий трепет размышленья
Я, кажется, прочел в глухом ее томленье,
И в выраженье волн предсмертные черты
Вдруг уловил. И если знаешь ты,
Как смотрят люди в день своей кончины,
Ты взгляд реки поймешь. Уже до середины
Смертельно почерневшая вода
Чешуйками подергивалась льда.
И я стоял у каменной глазницы,
Ловил на ней последний отблеск дня.
Огромные внимательные птицы
Смотрели с елки прямо на меня.
И я ушел. И ночь уже спустилась.
Крутился ветер, падая в трубу.
И речка, вероятно, еле билась,
Затвердевая в каменном гробу.

Любопытно, что некоторые свои строчки Заболоцкий сочинил во сне. Бывали случаи, когда он, проснувшись, среди ночи записывал строки стихотворения и снова засыпал. Таковы «Фигуры сна», «Бегство в Египет», «Можжевеловый куст», «Сон». Заболоцкий говорил: «Во сне удивительная чистота и свежесть чувств. Самая острая грусть и самая сильная влюблённость переживается во сне».
***
Я увидел во сне можжевеловый куст,
Я услышал вдали металлический хруст,
Аметистовых ягод услышал я звон,
И во сне, в тишине, мне понравился он.
Я почуял сквозь сон легкий запах смолы.
Отогнув невысокие эти стволы,
Я заметил во мраке древесных ветвей
Чуть живое подобье улыбки твоей.
Можжевеловый куст, можжевеловый куст,
Остывающий лепет изменчивых уст,
Легкий лепет, едва отдающий смолой,
Проколовший меня смертоносной иглой!
В золотых небесах за окошком моим
Облака проплывают одно за другим,
Облетевший мой садик безжизнен и пуст...
Да простит тебя бог, можжевеловый куст!

Посмотрите видеоклип на эти стихи:
И ещё одно стихотворение Заболоцкого я не могу не привести, «Лесное озеро», в котором изображена душа природы, торжество этой души:
Опять мне блеснула, окована сном,
хрустальная чаша во мраке лесном.
В венце из кувшинок, в уборе осок,
В сухом ожерелье растительных дудок
лежал целомудренной влаги кусок,
Убежище рыб и пристанище уток.

Но путь человека к этой хрустальной чаше, к полноте идеала лежит через «давильню» природы, через «битвы деревьев» и «волчьи сраженья», так же, как и путь человека к счастью и гармонии — через жизненные испытания и тяжкий опыт.
Сквозь битвы деревьев и волчьи сраженья,
Где пьют насекомые сок из растенья,
Где буйствуют стебли и стонут цветы,
Где хищными тварями правит природа,
Пробрался к тебе я и замер у входа,
Раздвинув руками сухие кусты.
Бездонная чаша прозрачной воды
Сияла и мыслила мыслью отдельной,
Так око больного в тоске беспредельной
При первом сиянье вечерней звезды,
Уже не сочувствуя телу больному,
Горит, устремленное к небу ночному.
И толпы животных и диких зверей,
Просунув сквозь елки рогатые лица,
К источнику правды, к купели своей
Склонились воды животворной напиться.

Я опускаю большой кусок жизни Заболоцкого, связанный с его заключением и пребыванием в ГУЛАГе, - это тема отдельного разговора. Но хочу привести лишь два фрагмента из его стихов, где в нескольких строчках о природе так много сказано о нём самом! В стихотворении «Дуб» поэт, ассоциируя себя с дубом, старым, покалеченным, но крепко пустившим корни в землю, пишет:
Вглядись в него: он важен и спокоен
среди своих безжизненных равнин.
Кто говорит, что в поле он не воин?
Он воин в поле! Даже и один.

Поражает внутренняя стойкость, с которой Заболоцкий относился к постигшим его несчастьям.
В стихотворении «Гроза идёт» он обращается к разбитому молнией кедру:
Вот он - кедр у нашего балкона.
Надвое громами расщеплен,
Он стоит, и мертвая корона
Подпирает темный небосклон.
Сквозь живое сердце древесины
Пролегает рана от огня,
Иглы почерневшие с вершины
Осыпают звездами меня.

Пой мне песню, дерево печали!
Я, как ты, ворвался в высоту,
Но меня лишь молнии встречали
И огнем сжигали на лету.
Почему же, надвое расколот,
Я, как ты, не умер у крыльца,
И в душе все тот же лютый голод,
И любовь, и песни до конца!
Один из последних снимков, сделанный в 1958 году дочерью поэта. Под ним выразительная надпись: «Не сдамся!»

«Огонь, мерцающий в сосуде»
Поздняя поэзия Заболоцкого носит отпечаток той благородной сдержанности, которой обладает его собственная личность. «Я считаю, что стихи и поэзия должны быть холодными, - говорил он. - Стихотворение подобно человеку: у него есть лицо, ум и сердце. Если человек не дикарь и не глупец, его лицо всегда более-менее спокойно. Так что спокойно должно быть и лицо стихотворения. Умный читатель под покровом внешнего спокойствия отлично видит всё игралище ума и сердца. Я рассчитываю на умного читателя».
Неподалёку отт ж/д станции Заболоцкий встречал слепого старца, который медленно продвигалася, подняв вверх лицо и ощупывая палкой дорогу. Старец останавливался, пел «Лазаря», и в жестянку из-под консервов ему бросали монеты. Заболоцкий заметил его ещё в первые свои приезды в Переделкино и запечатлел в стихотворении «Слепой»:
С опрокинутым в небо лицом, с головой непокрытой,
Он торчит у ворот, этот проклятый Богом старик.
Целый день он поёт, и напев его грустно-сердитый,
Ударяя в сердца, поражает прохожих на миг.
А вокруг старика молодые шумят поколенья.
Расцветая в садах, сумасшедшая стонет сирень.
В белом гроте черёмух по серебряным листьям растений
Поднимается к небу ослепительный день...
Что ж ты плачешь, слепец? Что томишься напрасно весною?
От надежды былой уж давно не осталось следа.
Чёрной бездны твоей не укроешь весенней листвою,
Полумёртвых очей не откроешь, увы, никогда.
Да и вся твоя жизнь — как большая привычная рана.
Не любимец ты солнцу, и природе не родственник ты.
Научился ты жить в глубине векового тумана,
Научился смотреть в вековое лицо темноты...
И боюсь я подумать, что где-то у края природы
Я такой же слепец с опрокинутым в небо лицом.
Лишь во мраке души наблюдаю я вешние воды,
Собеседую с ними только в горестном сердце моём.
О, с каким я трудом наблюдаю земные предметы,
Весь в тумане привычек, невнимательный, суетный, злой!
Эти песни мои — сколько раз они в мире пропеты!
Где найти мне слова для возвышенной песни живой?
И куда ты влечёшь меня, тёмная грозная муза,
По великим дорогам необъятной отчизны моей?
Никогда, никогда не искал я с тобою союза,
Никогда не хотел подчиняться я власти твоей, —
Ты сама меня выбрала, и сама ты мне душу пронзила,
Ты сама указала мне на великое чудо земли...
Пой же, старый слепец! Ночь подходит. Ночные светила,
Повторяя тебя, равнодушно сияют вдали.
Как-то это стихотворение Заболоцкий прочёл Фадееву. Тот слушал со слезами на глазах, а потом сказал совершенно уже другим тоном: «Такие стихи мы сейчас печатать не будем. Может когда-нибудь, в будущем, через много лет...» И строго спросил: «И почему Вы, собственно, пишете: «Я такой же слепец с опрокинутым в небо лицом»? Как Вы можете в нашем обществе и в наше время сравнивать себя со слепым?»
Заболоцкий не стал объяснять, что все мы бываем слепы в предвидении своей судьбы и в проникновении в великие тайны природы. Он помрачнел, на вопрос не ответил и заговорил о другом. Возвращаясь, шёл по безлюдной дороге среди весенней слякоти, гомона грачей, тихих переделкинских дач, жадно вбирая в себя токи весенней жизни, и в нём рождались вдохновенные строки:

Уступи мне, скворец, уголок,
Посели меня в старом скворешнике.
Отдаю тебе душу в залог
За твои голубые подснежники.
И свистит и бормочет весна.
По колено затоплены тополи.
Пробуждаются клёны от сна,
Чтоб, как бабочки, листья захлопали.
И такой на полях кавардак,
И такая ручьёв околесица,
Что попробуй, покинув чердак,
Сломя голову в рощу не броситься!
Начинай серенаду, скворец!
Сквозь литавры и бубны истории
Ты — наш первый весенний певец
Из берёзовой консерватории.

Открывай представленье, свистун!
Запрокинься головкою розовой,
Разрывая сияние струн
В самом горле у рощи берёзовой.
Я и сам бы стараться горазд,
Да шепнула мне бабочка-странница:
«Кто бывает весною горласт,
Тот без голоса к лету останется».
А весна хороша, хороша!
Охватило всю душу сиренями.
Поднимай же скворешню, душа,
Над твоими садами весенними.
Поселись на высоком шесте,
Полыхая по небу восторгами,
Прилепись паутинкой к звезде
Вместе с птичьими скороговорками.
Повернись к мирозданью лицом,
Голубые подснежники чествуя,
С потерявшим сознанье скворцом
По весенним полям путешествуя.

По-прежнему мы встречаем в стихах Заболоцкого его излюбленную героиню — природу. Он пишет её как Рембрандт — Саскию, во всех позах, во всех одеяньях, с радостью открывая новую красоту, казалось бы, до мелочей изученного лица. В первый год переделкинской жизни он написал стихотворение «Читайте, деревья, стихи Гезиода», в котором провозгласил сближение человеческой культуры со всем живым миром.
Берёзы, вы школьницы! Полно калякать,
Довольно скакать, задирая подолы!
Вы слышите, как через бурю и слякоть
Ревут водопады, спрягая глаголы?
Вы слышите, как перед зеркалом речек,
Под листьями ивы, под лапами ели,
Как маленький Гамлет, рыдает кузнечик,
Не в силах от вашей уйти канители?

Опять ты, природа, меня обманула,
Опять провела меня за нос, как сводня!
Во имя чего среди ливня и гула
Опять, как безумный, брожу я сегодня?
В который ты раз мне твердишь, потаскуха,
Что здесь, на пороге всеобщего тленья,
Не место бессмертным иллюзиям духа,
Что жизнь продолжается только мгновенье!
Вот так я тебе и поверил! Покуда
Не вытряхнут душу из этого тела,
Едва ли иного достоин я чуда,
Чем то, от которого сердце запело.
Мы, люди, – хозяева этого мира,
Его мудрецы и его педагоги,
Затем и поёт Оссианова лира
Над чащею леса, у края берлоги.
Окно комнаты Заболоцкого выходило в берёзовую рощу. Рано утром он открывал окно и вглядывался в скопление белых стволов, пронизанных лучами утреннего солнца. Ему казалось, что берёзы каким-то тайными нитями связаны с его судьбой.

А берёзовые рощи сопутствовали ему всю жизнь. Они окружали его в раннем казанском детстве, он помнил старые свящённые рощи Сернура и свои юношеские свидания в уржумской роще. И теперь перед ним снова возвышались берёзы, в которых то и дело звучали мелодичные переливы иволги. И сами собой на ходу складывались строки: «В этой роще берёзовой...»

Поёт Вячеслав Тихонов.
Однажды ненастным днём, стоя у окна своей комнаты, Заболоцкий увидел, как среди облетающих тополей, шаркая ногами по мокрым бурым опавшим листьям, от соседнего корпуса идёт к нему его друг юности Н. Л. Степанов. Голова Николая Леонидыча была уныло опущена, холодный ветер шевелил седые волосы. И Заболоцкий подумал, что подававший в молодости блестящие надежды его друг теперь придавлен жизнью и пишет как-то многословно, конъюнктурно и неинтересно. Больно было за него, за себя, за всю русскую современную литературу. И в сознании поэта возникали стихи:
Облетают последние маки,
Журавли улетают, трубя,
И природа в болезненном мраке
Не похожа сама на себя.
По пустынной и голой аллее
Шелестя облетевшей листвой,
Отчего ты, себя не жалея,
С непокрытой бредешь головой?
Жизнь растений теперь затаилась
В этих странных обрубках ветвей.
Ну, а что же с тобой приключилось,
Что с душой приключилось твоей?
Как посмел ты красавицу эту,
Драгоценную душу твою,
Отпустить, чтоб скиталась по свету,
Чтоб погибла в далеком краю?
Пусть непрочны домашние стены,
Пусть дорога уводит во тьму, -
Нет на свете печальней измены,
Чем измена себе самому.

Все знают стихотворение Заболоцкого «Некрасивая девочка», но мало кто знает, что во многом оно выросло из стихотворения С. Надсона «Дурнушка», где поднимается тема любимого сюжета Заболоцкого — несоответствия неприметной внешности внутреннему миру.
Дурнушка

Бедный ребенок - она некрасива!
То-то и в школе, и дома она
Так не смела, так всегда молчалива,
Так не по-детски тиха и грустна.
Зло над тобою судьба подшутила:
Острою мыслью и чуткой душой
Щедро дурнушку она наделила, -
Не наделила одним - красотой!
Ребёнок поначалу радуется жизни, но не знает своего весьма горестного будущего: из-за своей некрасивости девочка обречена на одиночество:
Дурнушка! Бедная, как много унижений,
Как много горьких слез судьба тебе сулит!
Дитя, смеешься ты… Грядущий ряд мучений
Пока твоей души беспечной не страшит. …
Семья, ее очаг и мир ее заветный
Не суждены тебе…

Впрочем, в следующей "Дурнушке" Надсон предсказывает девушке не столь мрачное будущее, хотя цена возможного благополучия – отказ от личного счастья – слабое утешение для героини:
Гляди же вперед светло и смело;
Верь, впереди не так темно,
Пусть некрасиво это тело,
Лишь сильно было бы оно;
Пусть гордо не пленит собою
Твой образ суетных очей,
Но только мысль живой струею
В головке билась бы твоей.
Заболоцкий "заимствовал" у Надсона для своей "Некрасивой девочки" саму идею. Но не будем упрекать его за это, - как сказал кто-то из классиков: «Не важно, кто сказал раньше, важно — кто сказал лучше». У Заболоцкого — безусловно лучше:
Ни тени зависти, ни умысла худого
Еще не знает это существо.
Ей все на свете так безмерно ново,
Так живо все, что для иных мертво!
И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
Мне верить хочется, что сердце не игрушка,
Сломить его едва ли можно вдруг!
И в конце – тот же "роковой вопрос":
И пусть черты ее нехороши
И нечем ей прельстить воображенье, –
Младенческая грация души
Уже скользит в любом ее движенье.
А если это так, то что есть красота
И почему ее обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?

Последняя любовь
У Заболоцкого есть стихи, проникнутые удивительной нежностью к людям: «Старая актриса», «Старость», Детство», «Это было давно», «Казбек», «Городок», «Стирка белья», в которых раскрываются маленькие человеческие драмы. Заболоцкий любил наблюдать за лицами людей и угадывать по их чертам их судьбы. Подтверждением этого могут служить стихи «В кино», Старая актриса», «Детство», «Некрасивая девочка», «О красоте человеческих лиц».

Есть лица, подобные пышным порталам,
Где всюду великое чудится в малом.
Есть лица — подобия жалких лачуг,
Где варится печень и мокнет сычуг.
Иные холодные, мертвые лица
Закрыты решетками, словно темница.
Другие — как башни, в которых давно
Никто не живет и не смотрит в окно.
Но малую хижинку знал я когда-то,
Была неказиста она, небогата,
Зато из окошка ее на меня
Струилось дыханье весеннего дня.
Поистине мир и велик и чудесен!
Есть лица — подобья ликующих песен.
Из этих, как солнце, сияющих нот
Составлена песня небесных высот.
Ни в молодости, ни в зрелые годы Заболоцкий не писал стихов о любви. Эта странная особенность отличала его от всех поэтов мира. Любовные стихи он начал писать в конце жизни. Почему так получилось? Во-первых, его внимание художника вначале было целиком обращено на внешний мир, на эксцентрическую, причудливо живописную его сторону. В этом насмешливо изображённом вещном и конкретном мире не находилось места для любви.

Вторая причина была в его целомудренно-скрытном характере: ни в стихах, ни в разговорах с друзьями он никогда не говорил о том, что касалось его одного. Нужна была трагедия, нестерпимая боль, чтобы вынудить его прорвать это молчание, чтобы открылись потайные шлюзы в его душе.
Это произошло, когда любимая жена Катя, с которой они прожили 20 лет, ушла к их соседу по дому — писателю Василию Гроссману.

Заболоцкий очень страдал. Молча, ни с кем не делясь, не подавая виду. Но эта боль и тоска выплёскивалась в стихах. Одно из первых, обращённых к жене стихотворений - «Чертополох». Поэту поставили на стол букет чертополоха, и великолепное изображение этих прекрасных и страшных цветов с клинообразными шипами он заканчивает так:

Снилась мне высокая темница
И решётка, чёрная как ночь.
За решёткой - сказочная птица,
Та, которой некому помочь.
Но и я живу, как видно, плохо,
Ибо я помочь не в силах ей.
И встаёт стена чертополоха
Между мной и радостью моей.
И простёрся шип клинообразный
В грудь мою, и уж в последний раз
Светит мне печальный и прекрасный
Взор её неугасимых глаз.

Позднее к этому стихотворению добавилось ещё девять и все они составили цикл «Последняя любовь».
Это и «Голос в телефоне»:
Раньше был он звонкий, точно птица,
Как родник, струился и звенел,
Точно весь в сиянии излиться
По стальному проводу хотел.
А потом, как дальнее рыданье,
Как прощанье с радостью души,
Стал звучать он, полный покаянья,
И пропал в неведомой глуши.
Сгинул он в каком-то диком поле,
Беспощадной вьюгой занесен...
И кричит душа моя от боли,
И молчит мой черный телефон.
И - «Посредине панели...»:
Посредине панели
Я заметил у ног
В лепестках акварели
Полумертвый цветок.
Он лежал без движенья
В белом сумраке дня,
Как твое отраженье
На душе у меня.

Шло время. Он продолжал жить один со взрослым сыном и почти взрослой дочерью. Много работал, казался спокойным. И только в стихах прорывалось потаённое:
Кто мне откликнулся в чаще лесной?
Старый ли дуб зашептался с сосной,
Или вдали заскрипела рябина,
Или запела щегла окарина,
Или малиновка, маленький друг,
Мне на закате ответила вдруг?
Кто мне откликнулся в чаще лесной?
Ты ли, которая снова весной
Вспомнила наши прошедшие годы,
Наши заботы и наши невзгоды,
Наши скитанья в далеком краю,—
Ты, опалившая душу мою?
Кто мне откликнулся в чаще лесной?
Утром и вечером, в холод и зной,
Вечно мне слышится отзвук невнятный,
Словно дыханье любви необъятной,
Ради которой мой трепетный стих
Рвался к тебе из ладоней моих...

Пытаясь заглушить душевную боль, Заболоцкий позвонил почти незнакомой красивой молодой женщине, с которой иногда встречался в литературных кругах, Наталье Роскиной, и попросил её о встрече. Она согласилась. Во время второй встречи в ресторане он сделал ей предложение.

Две-три недели короткого счастья. Потом всё расстроилось... Но остались стихи.
Признание
Зацелована, околдована,
С ветром в поле когда-то обвенчана,
Вся ты словно в оковы закована,
Драгоценная моя женщина!
Не весёлая, не печальная,
Словно с тёмного неба сошедшая.
Ты и песнь моя обручальная,
И звезда моя сумасшедшая.
Я склонюсь над твоими коленями,
Обниму их с неистовой силою,
И слезами, и стихотвореньями
Обожгу тебя, горькую, милую.
Отвори мне лицо полуночное,
Дай войти в эти очи тяжёлые,
В эти чёрные брови восточные,
В эти руки твои полуголые.
Что прибавится - не убавится,
Что не сбудется - позабудется...
Отчего же ты плачешь, красавица?
Или это мне только чудится?
Посмотрите видеоклип на эти стихи:
http://video.mail.ru/inbox/innaf/4155/5094.html
Такой откровенный всепоглощающий порыв страсти был нехарактерен для Заболоцкого, для его сдержанной художественной манеры, что свидетельствовало о его ещё нереализованных лирических возможностях. Роскиной же было повящено и стихотворение «Последняя любовь»:
Задрожала машина и стала,
Двое вышли в вечерний простор,
И на руль опустился устало
Истомлённый работой шофёр.
Вдалеке через стёкла кабины
Трепетали созвездья огней.
Пожилой пассажир у куртины
Задержался с подругой своей.
И водитель сквозь сонные веки
Вдруг заметил два странных лица,
Обращённых друг к другу навеки
И забывших себя до конца.
Два туманные лёгкие света
Исходили от них, и вокруг
Красота уходящего лета
Обнимала их сотнями рук.
Были тут огнеликие канны,
Как стаканы с кровавым вином,
И седых аквилегий султаны,
И ромашки в венце золотом.
В неизбежном предчувствии горя,
В ожиданье осенних минут,
Кратковременной радости море
Окружало любовников тут.
И они, наклоняясь друг к другу,
Бесприютные дети ночей,
Молча шли по цветочному кругу
В электрическом блеске лучей.
А машина во мраке стояла,
И мотор трепетал тяжело,
И шофёр улыбался устало,
Опуская в кабине стекло.
Он-то знал, что кончается лето,
Что подходят ненастные дни,
Что давно уж их песенка спета, -
То, что, к счастью, не знали они.
Чтобы вечно пылала свеча
На возвращение жены Заболоцкий не надеялся и не делал никаких попыток вернуть её. Но острота тоски и нежность не проходили. И она вскоре понимает, что тоже не может без него. Слишком многое их связывало. Слишком большие испытания выдержала их любовь в прошлом. И она вернулась. Об этом его стихотворение «Встреча»:

Встреча
И лицо с внимательными
глазами, с трудом, с усилием,
как отворяется заржавевшая
дверь,- улыбнулось...
Л. Толстой. Война и мир
Как открывается заржавевшая дверь,
С трудом, с усилием,- забыв о том, что было,
Она, моя нежданная, теперь
Свое лицо навстречу мне открыла.
И хлынул свет - не свет, но целый сноп
Живых лучей,- не сноп, но целый ворох
Весны и радости, и вечный мизантроп,
Смешался я... И в наших разговорах,
В улыбках, в восклицаньях,- впрочем, нет,
Не в них совсем, но где-то там, за ними,
Теперь горел неугасимый свет,
Овладевая мыслями моими.
Открыв окно, мы посмотрели в сад,
И мотыльки бесчисленные сдуру,
Как многоцветный легкий водопад,
К блестящему помчались абажуру.
Один из них уселся на плечо,
Он был прозрачен, трепетен и розов.
Моих вопросов не было еще,
Да и не нужно было их — вопросов.
Последнее стихотворение Заболоцкого было: «Не позволяй душе лениться!»:

Не позволяй душе лениться!
Чтоб в ступе воду не толочь,
Душа обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!
Гони ее от дома к дому,
Тащи с этапа на этап,
По пустырю, по бурелому,
Через сугроб, через ухаб!
Не разрешай ей спать в постели
При свете утренней звезды,
Держи лентяйку в черном теле
И не снимай с нее узды!
Коль дать ей вздумаешь поблажку,
Освобождая от работ,
Она последнюю рубашку
С тебя без жалости сорвет.
А ты хватай ее за плечи,
Учи и мучай дотемна,
Чтоб жить с тобой по-человечьи
Училась заново она.
Она рабыня и царица,
Она работница и дочь,
Она обязана трудиться
И день и ночь, и день и ночь!

В этих стихах Заболоцкий отчётливо и сильно выразил главную черту своего характера. Все беды, которые наваливала на него судьба, он побеждал, заставляя свою душу трудиться. Только этим он её и спас — и во время травли 30-х годов, и в лагерях, и потом, когда его оставила жена.
Он пережил уход жены. Но пережить её возвращение не смог. Сердце его не выдержало. Инфаркт. После него Заболоцкий прожил ещё полтора месяца. Жизнь его оборвалась 14 октября 1958 года. Ему надо было лежать, а он встал и пошёл в ванную комнату, чтобы почистить зубы. Не дойдя до ванной, упал и умер.

могила Н. Заболоцкого на Новодевичьем кладбище
Как и все великие поэты, он предсказал эту смерть в стихах:
Я боюсь, что наступит мгновенье,
И, не зная дороги к словам,
Мысль, возникшая в муках творенья,
Разорвет мою грудь пополам.
Промышляя искусством на свете,
Услаждая слепые умы,
Словно малые глупые дети,
Веселимся над пропастью мы.
Но лишь только черед наступает,
Обожженные крылья влача,
Мотылек у свечи умирает,
Чтобы вечно пылала свеча!

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/43179.html
|
|
Процитировано 6 раз
Понравилось: 6 пользователям
«О, говори же ты со мной...» |
Начало здесь
7 октября 1864 года умер Аполлон Григорьев.

Последний романтик
Родился Аполлон Александрович Григорьев 16 (28) июля 1822 года в Москве. Вот этот дом на Малой Полянке.

Фото 1915 года. Дом был снесён в 1962 году.
Дед Аполлона, безвестный провинциал, приехавший в Москву на заработки, благодаря уму и старанию дослужился до высоких чиновничьих должностей, получил дворянство. Отца его, выпускника московского университета, могла бы ожидать блестящая чиновничье-дворянская карьера, если бы он не полюбил дочь крепостного кучера и, преодолев сопротивление родных, не обвенчался с нею. Но мальчик родился прежде свадьбы и потому считался незаконнорожденным. Это во многом определило его будущую судьбу и характер: мучительная раздвоенность, мятежные метания — всё это было родом из детства. Внебрачный ребёнок, Аполлон и в поэзии, и в критике был бастардом, «последним романтиком», как он себя называл. С ощущением именно последнего, изгоя.
«Чем сильнее лирический поэт, тем полнее судьба его отражается в стихах», - писал Блок. Судьба А. Григорьева отражена в его стихах с необычайной полнотой. Автобиографическое начало доминирует в его поэзии, прозе, публицистических статьях, не говоря уже о мемуаристике. Каждый поворот его жизни был отмечен стихами. Ю.Нагибин называл его «самым личным поэтом из всех существовавших на Руси».

Таким он был на заре своей молодости. «Юноша с профилем, напоминавшим профиль Шиллера, с голубыми глазами и с какой-то тонко разлитой по всему лицу его восторженностью или меланхолией» – так описал его поэт Яков Полонский. Действительно, восторженность была характерной чертой Аполлона Григорьева, и она быстро сменялась меланхолией, переходящей в жестокую хандру. И пить начал, причём сразу, круто — от полноты жизни. Многие грехи Аполлона вырастали из его страстной натуры художника. Он был человеком минуты, настроения, вдохновенного порыва. Когда Григорьев входил в вечерний салон — стремительный, взъерошенный, не входил, а врывался, как вихрь, то всем в первую минуту хотелось его спросить: где пожар?!
...и билася действительно во мне
какая-то неправильная жила
и в страстно-лихорадочном огне
меня всегда держала и томила,
что в меру я — уж так судил мне Бог -
ни радоваться, ни страдать не мог!
Все без меры, всё через край! Это был человек чисто русский по своей природе — какой-то стихийный мыслитель, невозможный ни в одном западном государстве. Как сказал Достоевский, «быть может, из всех своих современников он был наиболее русский человек, как натура».
Может быть, в этом и было его главное назначение — не страстные стихи, не умная критика, а в том выразить себя, чтобы явить русскую натуру во всех крайностях, яростности и бесшабашности, готовности к высочайшему взлёту и нижайшему падению. И во всех его загулах, дебошах, эксцентрических выходках — был вызов той удручающей европейской безликости, которую сторонники западного развития пытались навязать самобытному русскому укладу.
Какой-то странник вечный я...
Меня оседлость не прельщает.
Меня минута увлекает...
Ну хоть минута, да моя!
А там... а там суди, Владыко!
Я знаю сам, что это дико,
что это к ужасам ведёт...
Но переспорить ли природу?
Я в жизни верю лишь в свободу,
неведом вовсе мне расчёт...
Я вечно, не спросяся броду,
как омежной, кидался в воду... -
писал он в поэме «Вверх по Волге». Григорьев считал себя последним романтиком, лишним человеком, «ненужным человеком» (под псевдонимом «ненужный человек» опубликовал несколько статей). Всё, чем он жил, на чём строил свою жизнь, было не нужно обществу. Григорьев первым ввёл это словосочетание, изобразив таковым героя своей повести «Один из многих» Александра Брагу (смесь будущих героев Тургенева (Рудин) и Гончарова (Обломов), на четыре года опередив тургеневский термин, ставший крылатым после повести Тургенева «Дневник лишнего человека». Сам Аполлон представлял собой такого жизненно типичного лишнего человека. Откликаясь на рассказ Тургенева «Гамлет Щигровского уезда» из его «Записок охотника», Григорьев, который чувствовал близость и к образу Гамлета, и к образу Дон Кихота, пишет цикл стихотворений под названием «Монологи Гамлета Щигровского уезда»:
Имею честь явиться перед вами:
пришёл сменить я брата Дон Кихота.
Известно всем, что у него с тенями
была бороться смертная охота...
Крупнейший театральный критик России
С детства влюблённый в театр, А. Григорьев, где бы ни был, не мыслил себя без посещения шедших в том городе спектаклей: драма, опера, балет в постановках отечественных трупп, иностранцев, постоянных исполнителей и гастролёров. Импульсивная натура, он стихийно отдавался течению пьесы и игре актёров, неистово аплодировал, вскакивая на спинку кресла, и кричал одобрительные слова, когда был доволен пьесой и игрой, и так же неистово выражал свой протест и неудовольствие. Известны случаи, когда администраторы или даже вызванная полиция выводили разбушевавшегося зрителя из зала. Известна и ходячая острота по этому поводу: «Что же это за театр, из коего Аполлона не вывели!»
Тем не менее к концу 40-х годов А. Григорьев считался ведущим театральным критиком России. Его перу принадлежат глубокие и тонкие разборы игры Щепкина, Мартынова, Садовского.

Во второй половине 19 века этот портрет Аполлона Григорьева висел в фойе Александринского театра.
Как он мужественно и бескомпромиссно плыл против течения, утверждая дорогие ему идеи! Как не боялся быть трагически одиноким в своём новаторстве и в своём консерватизме!
В 1854 году Григорьев напишет стихотворение «Искусство и правда», жанр которого определит как «элегия-ода-сатира». Первая часть его посвящена воспоминаниям об игре П. С. Мочалова, вторая — пьесе Островского «Бедность не порок» и образу, бесконечно близкому Григорьеву — Любиму Торцову, прекрасно сыгранному Провом Садовским.
Послушайте отрывок из него в исполнении Давида Аврутова: http://rutube.ru/video/f7d926ea8205b92cd7c0d3183afe33a7/?bmstart=0
Как страстно он воспринимал искусство, пропуская через своё сердце, насколько это непохоже на многих нынешних критиков, снобов и эстетов с рыбьей кровью, которые через губу цедят свои мёртворождённые опусы, в глубине души равнодушные к тому, о чём пишут! Насколько иначе видел искусство Аполлон Григорьев.
«Безумного счастья страданье»
Личная жизнь приносила Григорьеву мало радостей. Он долго не мог создать семью. Ему, умному и остроумному собеседнику, красивому мужчине, яркой личности, фатально не везло в любви: любимые предпочитали ему респектабельных, состоятельных, практичных... Видимо, этих положительных, приличных женщин отталкивал и отпугивал его энтузиазм, незаземлённость, нестандартность, невмещаемость в обычные рамки. Они понимали, что жить с таким человеком — как на вулкане.
Вся первая половина 40-х годов прошла у Григорьева под знаком отчаянно безнадёжной любви к Антонине Корш.

Тогда она была значительно моложе, чем на этой фотографии. Живая, неглупая, образованная в литературе и музыке, красивая, она запала в сердце поэта. Одно из наиболее известных и выразительных стихотворений А. Григорьева, адресованных ей, - «Обаяние»:
Безумного счастья страданья
Ты мне никогда не дарила,
Но есть на меня обаянья
В тебе непонятная сила.
Когда из-под темной ресницы
Лазурное око сияет,
Мне тайная сила зеницы
Невольно и сладко смыкает.
И больше все члены объемлет
И лень, и таинственный трепет,
А сердце и дремлет, и внемлет
Сквозь сон твой ребяческий лепет.
И снятся мне синие волны
Безбрежно-широкого моря,
И, весь упоения полный,
Плыву я на вольном просторе.
И спит, убаюкано морем,
В груди моей сердце больное,
Расставшись с надеждой и горем,
Отринувши счастье былое.
И грезится только иная,
Та жизнь без сознанья и цели,
Когда, под рассказ усыпляя,
Качали меня в колыбели.
Один из первых в русской и мировой литературе, Григорьев заговорил о важности страдания для человека. Когда Белинский встретил у него эти слова, они ему не понравились своей алогичностью: «Безумное счастье страданья» - вещь возможная, но это не нормальное состояние человека... Есть счастье от счастия, но счастие от страдания — воля Ваша — от него надо лечиться...» Между тем подобная противоречивость была одним из глубинных признаков художественного мировоззрения А. Григорьева. Это тот противовес, который стал типичным для русской поэзии 19 века. У Пушкина: «Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать...» У Тютчева: «О Господи, дай жгучего страданья и мертвенность души моей рассей...» У Некрасова: «Но мне избыток слёз и жгучего страданья отрадней мёртвой пустоты...» Отсюда возникает и григорьевское понятие «счастья муки», «счастья страданья» - это трагическое счастье возвышенного чувства, насыщенной страстями жизни.
Вскоре у Аполлона появился соперник — некий К. Кавелин, впоследствии известный историк и юрист, и Антонина отдала ему руку и сердце. И у потрясённого молодого поэта (ему был тогда 21 год) возникает идея — бежать! Бежать подальше от несчастной любви, от кредиторов, неинтересной работы, домашней опеки. Появился фантастический план: в Сибирь! Он решил отпроситься у начальства на небольшой отпуск в Петербург, а оттуда добиться перевода в Сибирь. Но вскоре Сибирь отпала: северная столица заманила молодого человека.

Уехал он в тайне от родителей, без гроша в кармане, в никуда, очертя голову, поручив Фету — приятелю юности — сообщить им, когда уже уедет. Петербург поразил его не своей величественной красотой, а какой-то созвучностью своему душевному настрою:
Да, я люблю его громадный, гордый град
Но не за то, за что другие;
Не здания его, не пышный блеск палат
И не граниты вековые.
Я в нем люблю, о нет! Скорбящею душой
Я прозреваю в нем иное, -
Его страдание под ледяной корой,
Его страдание больное.
Пусть почву шаткую он заковал в гранит
И защитил ее от моря,
И пусть сурово он в самом себе таит
Волненье радости и горя,
И пусть его река к стопам его несет
И роскоши и неги дани, -
На них отпечатлен тяжелый след забот,
Людского пота и страданий.
И пусть горят светло огни его палат,
Пусть слышны в них веселья звуки -
Обман, один обман! Они не заглушат
Безумно-страшных стонов муки!
Страдание одно привык я подмечать,
В окне ль с богатою гардиной,
Иль в темном уголку, - везде его печать!
Страданья уровень единой!

Бунтарь-одиночка
С этого отъезда началась скитальческая, отчасти цыганская жизнь Григорьева. Недаром свои автобиографические записки, к сожалению, неоконченные, он назвал «Мои литературные и нравственные скитальчества».
Своеобразный анархический романтизм А. Григорьева делал его бунтарём-одиночкой, враждебным чуть ли не всем общественным группам 60-х годов, радикальным и консервативным. Поэтому он не задерживался ни в одном журнале более чем на год, невольно вступая в резкий конфликт с редакцией, и переходил в другой печатный орган. Даже с относительно близким ему Достоевским, в журналах которого «Время» и «Эпоха» Григорьев активно и долго печатался, у него непрерывно возникали напряжённые отношения. А причина конфликтов была в том, что в журналах, по мнению Аполлона, поиск «абсолютной правды» подменяли кружковым и журнальным политиканством.
«Да, я не деятель, Фёдор Михайлович! - восклицал Григорьев. - Я способен пить мёртвую, нищаться, но не написать в свою жизнь ни одной строки, в которую я бы не верил от искреннего сердца». Он пишет об этом и в стихах:
Наш путь иной... Любить и верить -
судьба твоя.
Я не таков, и лицемерить
не создан я.
Да, этой гордостью одной
страдал я... Слабый и больной,
её я свято сохранил
и головы не преклонил
ни перед чем: печален, пуст
мой бедный путь, но ложью уст
я никогда не осквернил...
В быту Григорьев был донельзя непрактичным, беспомощным человеком. Вечный бессребренник, из всего имущества он возил с собой лишь гитару (но её имуществом не считал — а продолжением своего сердца), несколько книг и ночной горшок — фарфоровую посудину, единственное своё движимое имущество, которое он сохранил во всех передрягах кочевой жизни. Когда он с этим узелком — вроде тех, с которыми бабы носят в церковь святить куличи — являлся на очередную квартиру, хозяйка подозрительно спрашивала: «А имущество где?» - «Вот оно, всё здесь!» - отвечал он с наивной гордостью, искренне считая, что горшок служит гарантией его добропорядочности, привязывая к миру основательных людей, владеющих собственностью.
«С голубыми ты глазами, моя душечка...»
В Москве у Григорьева снова вспыхнула прежняя любовь, его снова потянуло к семье Коршей. От тоски, с отчаянья, а не по любви, он женится в ноябре 1847 года на младшей сестре Антонины Лидии. Та не могла сравниться с Антониной ни по уму, ни по начитанности, ни в красоте, немножко косила, немножко заикалась. Резче всего её охарактеризовал своих воспоминаниях С. Соловьёв: «Хуже всех сестёр — глупа, с претензиями и заика». Но — сестра любимой. В замужестве Лидия Корш стала скандальной, распутной и крепко пьющей бабёнкой. Брак оказался неудачным, фактически распался в первые же годы совместной жизни. Григорьев тяжело переживал измены жены и однажды поделился подробностями семейной жизни с Тургеневым, а тот воплотил их в «Дворянском гнезде» в образе Лаврецкого.
Из воспоминаний К. Н. Леонтьева: «Я был несколько раз у него. Жилище его было бедно и пусто. Я сначала думал, что он живёт не один. Я знал ещё прежде, что он женат, и раз на Святой неделе спросил у него: «Отчего у Вас, славянофила, не заметно в доме ничего, что бы напоминало русскую пасху?» - «Где мне, бездомному скитальцу, праздновать пасху так, как её празднует хороший семьянин!» - сказал Григорьев. «Я думал, Вы женаты» - заметил я. «Вы спросите, как я женат!» - воскликнул горько Аполлон. Я замолчал и вспомнил о том, что слышал прежде о его семейной жизни...»
Раздоры в молодой семье начались почти сразу. Лидия Федоровна совершенно не умела вести хозяйство и вообще не была создана для семейной жизни, а муж и подавно. Впоследствии Аполлон Григорьев обвинял жену в пьянстве и разврате, увы, не без оснований. Но ведь и сам он не был примером добродетели, бывало, уходил в загул. Однако мужьям такие вольности прощались, женам – нет. Когда появились дети, двое сыновей, Григорьев подозревал, что они «не его». В конце концов он оставил семью, иногда присылал деньги, впрочем, не часто, потому что сам вечно был в долгах.
В это время, то есть в начале 50-х годов — в 30 лет — Григорьев знакомится с незаурядной женщиной, встреча с которой сыграла исключительную роль в его жизни и творчестве. Это была дочь обрусевшего швейцарца Леонида Визард. Она была очень хороша: изящна, умна, талантлива, превосходная музыкантша. У неё были густейшие с синеватым отливом как у цыганки волосы и большие голубые глаза. Но характер был сдержанный и осторожный. Григорьев с досадой называл её пуританкой. Он был безумно влюблён в эту женщину. Надежды на брак у него не было: она была очень молода для него, к тому же он был женат. А развод тогда получить было очень трудно, практически невозможно. И влюблённому оставалось лишь говорить Леониде о своих чувствах и писать ей в девичий альбом. Но даже если бы Григорьев был бы свободен от цепей брака — ответила бы Леонида на его страстное чувство? Скорее всего, нет. Он и сам понимал это.
Но если б я свободен даже был...
Бог и тогда б наш путь разъединил.

Сквозь все стихи Аполлона, адресованные Леониде, проходит её светлый, возвышенный образ: «тихая девочка», «воздушная гостья», «ангел», «ребёнок чистый и прекрасный»...
Но то, что не удалось Григорьеву, легко удалось второразрядному актёру и драматургу, эффектному и пустоватому Михаилу Владыкину. Не уплатив дани мук, слёз, страдания, тоски и стихов, он с непостижимой быстротой сделал её своей перед Богом и людьми и увёз в своё имение — в пензенскую деревню. Они умчались, не заметив, что колёса свадебного возка переехали сердце поэта...
Басан, басан, басана,
басаната, басаната,
ты другому отдана
без возврата, без возврата...
Что же ноешь ты моё
ретиво сердечко?
Я увидел у неё
на руке колечко!
Басан, басан, басана,
басаната, басаната!
Ты другому отдана
без возрата, без возврата!..
Поёт Николай Сличенко:
http://rutube.ru/video/84df36a4a65ec7ddc134550b5e7487b8/?bmstart=0
В 1856 году А. Григорьев создаёт потрясающей силы цикл из 18 стихотворений, адресованный Леониде Визард, который назвал «Борьба». Это вершина поэтического творчества Григорьева. Название отражает борьбу поэта с судьбой, с роком, с нелюбовью любимой, борьбу за её сердце, а больше всего — с собою, со своими страстями.
Чего ты хотела? Чтоб вовсе с ума
сошёл я? Чтоб всё, что кругом нас, забыл?
Дитя, ты сама б испугалась, сама,
когда бы в порыве я искренен был.
Я измучен, истерзан тоскою...
Но тебе, ангел мой, не скажу
никогда, никогда, отчего я,
как помешанный, днями брожу.
Есть минуты, что я не умею
скрыть безумия страсти своей...
О, молю тебя — будь холоднее
и меня, и себя пожалей!

***
«Я вас люблю... что делать - виноват...»
Я вас люблю... что делать - виноват!
Я в тридцать лет так глупо сердцем молод,
Что каждый ваш случайный, беглый взгляд
Меня порой кидает в жар и холод...
И в этом вы должны меня простить,
Тем более, что запретить любить
Не может власть на свете никакая;
Тем более, что, мучась и пылая,
Ни слова я не смею вам сказать
И принужден молчать, молчать, молчать!..
Я знаю сам, что были бы преступны
Признанья или смысла лишены:
Затем, что для меня вы недоступны,
Как недоступен рай для сатаны.
Цепями неразрывными окован.
Не смею я, когда порой, взволнован,
Измучен весь, к вам робко подхожу
И подаю вам руку на прощанье,
Сказать простое слово: до свиданья!
Иль, говоря, - на вас я не гляжу.
К чему они, к чему свиданья эти?
Бессонницы - расплата мне за них!
А между тем, как зверь, попавший в сети,
Я тщетно злюсь на крепость уз своих.
Я к ним привык, к мучительным свиданьям...
Я опиум готов, как турок, пить,
Чтоб муку их в душе своей продлить,
Чтоб дольше жить живым воспоминаньем...
Чтоб грезить ночь и целый День бродить
В чаду мечты, под сладким обаяньем
Задумчиво опущенных очей!
Мне жизнь темна без света их лучей.
Да... я люблю вас... так глубоко, страстно,
Давно... И страсть безумную свою
От всех, от вас, особенно таю.
От вас, ребенок чистый и прекрасный!
Не дай вам бог, дитя мое, узнать,
Как тяжело любить такой любовью,
Рыдать без слов, метаться, ощущать,
Что кровь свинцом расплавленным, не кровью,
Бежит по жилам, рваться, проклинать,
Терзаться ночи, дни считать тревожно,
Бояться встреч и ждать их, жадно ждать;
Беречься каждой мелочи ничтожной,
Дрожать за каждый шаг неосторожный,
Над пропастью бездонною стоять
И чувствовать, что надо погибать,
И знать, что бегство больше невозможно.
Из новеллы Ю. Нагибина «Злая квинта»:
«С голубыми ты глазами, моя душечка...» Почему он так назвал её в песне? Она никогда не была его душечкой. Чистая, невинная, с прозрачно голубым взором и гладким, бестревожным лбом, источающая какой-то эфирный холодок, она была недоступна для его страсти и то ли не догадывалась о ней, то ли искусно изображала неведение. Потом, когда она уже принадлежала другому, появились стихи, громкие и откровенные, но ни единым словом не отозвалась она его мучительным признаниям. Ни на миг не потревожилось её чистое и спокойное сердце его бурной, неопрятной страстью. Он лгал в стихах, утверждая противное. Нет, в стихах всё было правдой, но то другая правда, не равная скудной истине дневной очевидности. А как сладко, как нежно и больно было сказать ей, недоступной: « С голубыми ты глазами, моя душечка!» Тут и прощение, хотя она никогда ни о каком прощении не просила, да и не признала бы его права прощать её. Но перед Богом — разве не нуждается в прощении человек, причинивший столько зла другому человеку?
И он простил ей свою сломанную судьбу, простил безмятежность мраморного лба, не отозвавшегося хоть морщинкой беззвучному вою, каинской тоске его души, простил холодную жестокость невинности, не замечающей на белой своей одежде крови распятого.
Да какая она душечка? Душечка — тёплая, слабая, нежная, готовая, даже не любя, по одной бабьей жалости приникнуть сердцем к больному любовью сердцу. А эта Леонида — имя-то какое на русский слух нелепое! - льдышку, казалось, носила в груди, куда ей в душечки!
И всё же, утраченная навсегда, никогда ему не принадлежащая, в каком-то высшем смысле она принадлежала ему — жгучей памятью, болью, стихами, созданными в нём ею».
Цыганская венгерка
Кульминационная вершина цикла «Борьба» - это 13-ое стихотворение «О, говори хоть ты со мной...» и следующее за ним последнее «Цыганская венгерка». Блок называл их «единственными в своём роде перлами русской лирики» и считал, что они "приближаются уже каким-то образом к народному творчеству". Эти стихи стали популярными песнями, с конца 19 века вошли в репертуар эстрадных певцов и музыкантов. Потом имя автора забылось, и они стали воистину народными, фольклорными песнями.
Почему «венгерка»? Мелодии венгерских танцев были популярны в России задолго до 19 века. Григорьев начинает её строкой: «С детства памятный напев...»

Цыганские хоры в эти годы уже исполняли зажигательный танец «венгерка», цыганский вариант какого-то мадьярского танца, возможно, чардаша.
Мелодия «венгерки», прототип будущей «Цыганочки», состояла из двух или более частей, исполнявшихся в разных темпах. Поэтому и строфы «Цыганской венгерки» Аполлона Григорьева написаны в разных ритмах.
Увлечение русских поэтов, писателей и музыкантов цыганским пением и плясками, вообще цыганской темой началось еще в пушкинскую эпоху. Позднее ездить к цыганам стало модой, даже купцы езживали. Но Григорьев любил цыган не из моды, а «по родству бродяжьей души». Говорят, русский человек умирает дважды: первый раз – за родину, второй – когда слушает цыган. Аполлон Григорьев писал: « Если Вы бездомник, если Вы варяг в этом славянском мире, если обоймёт Вас хандра неодолимая... Благо Вам, бездомному и беспокойному варягу, если у Вас есть две, три, четыре сотни рублей, которые Вы можете кинуть задаром, - о! Тогда, уверяю Вас честью порядочного зеваки, - вы кинетесь к цыганам, броситесь в ураган диких, странных, томительно странных песен...»

Хор цыган
Поэт растворялся в цыганской стихии, он знал обычаи и искусство цыган, собирал и исполнял их песни, даже выучился немного говорить по-цыгански. Он часто надевал красную рубаху-косоворотку, плисовые шаровары заправлял в сапоги с напуском, на плечи набрасывал поддевку и отправлялся в табор – тогда кочевые цыгане разбивали шатры прямо за Серпуховской заставой. Там Григорьева знали и принимали как истинного «романэ чаво» – цыганского парня. Или ехал в Марьину рощу, где в неприглядных домишках жили и выступали перед гостями несколько цыганских хоров.
Вот на этом народном фольклоре и была построена песня Аполлона Григорьева, где он использует мотивы и приёмы цыганских песен. Поскольку в стихотворении описывается пребывание героя в цыганском таборе, в тексте содержатся прямые цитаты из цыганской песни:
Чибиряк, чибиряк, чибиряшечка!
Басан, басан, басана. Басаната, басаната, -
что на цыганском диалекте означает: «играйте, пойте!»
Стихи эти безмерно, беспредельно страстны. Если Пушкин своим мимолётным влюблённостям дарил бессмертие (а так ли уж любил он Керн, над которой сам потом посмеивался «у дамы Керны ноги скверны?)» - то для Григорьева подобное немыслимо: у него всё всерьёз, всё - на разрыв аорты. Его строки — это действительно, как он сам о себе пишет, «клочки живого мяса, вырванные с кровью из живого тела».
Поёт Валентин Баглаенко:
http://rutube.ru/video/6e3aea8b25177eeb2c97e7fbd6dc0717/?bmstart=0
"Из тьмы греха, из глубины паденья..."
Григорьев вёл неправильный, неряшливо-разгульный образ жизни. Его называли литературным Любимом Торцовым. Вот как писал о нём Блок в своей статье «Судьба Аполлона Григорьева»:
«Пьянство уже идёт безудержно, так сказать, привычное. Пьют, за неимением водки, чистый спирт, одеколон и керосин. В пьяном виде Григорьева одолевает «безудержность». То из театра выведут (за неуместное подсказыванье роли певцу громовым голосом, на весь зал), то Боборыкин застанет его спящим на биллиарде в клубе... В конце концов до того опустился, что если у него не было на что выпить, являлся в чей-нибудь знакомый дом, без церемоний требовал водки и напивался до положения риз...»
Однако знобко... Сердца боли
Как будто стихли... Водки что ли?
В Москве, в Петербурге, в Италии, в Сибири – он нигде не укоренился, кочевал по съемным квартирам, убегая от несчастий и кредиторов. Но они всегда настигали его. Григорьев то сорил деньгами, словно ухарь-купец, то сидел в долговой яме.
Сердце его так и не согрелось ответной любовью. В последние годы сошелся, по собственным словам, со «жрицей любви». Женщина с искалеченной душой и мужчина с израненным сердцем – что их связало?
Человек 40-х годов, Григорьев выступил в классической роли шестидесятника. Не было, правда, ни швейной машинки, ни фиктивного брака. Но была неудавшаяся попытка семейной жизни, попытка спасти эту падшую женщину, поднять её до себя, попытка, закончившаяся крахом. Этот изнурительный роман был запечатлён потом Григорьевым в поэме «Вверх по Волге»:
Зачем, несчастное дитя,
Ты не слегка и не шутя,
А искренне меня любила?
Ведь я не требовал любви:
Одно волнение в крови
Во мне сначала говорило.
...И мы расстались. Нам была
Разлука та не тяжела;
Хотя по-своему любила
Она меня, и верю я...
Ведь любит борова свинья,
Ведь жизнь во всё любовь вложила.
А я Манфреда мукой адской,
Своею памятью дурацкой
Наказан... Иль совсем до дна,
До самой горечи остатка
Жизнь выпил я?.. Но лихорадка
Меня трясет... Вина, вина!
Эх! Жить порою больно, гадко!
Это были чёрные дни. Безденежье. Порой нечего было есть. Когда у них родился ребенок, в комнате стоял холод – не было дров, у матери пропало молоко. Младенец умер. Отцу пришлось пережить, как он говорил потом, «некрасовскую ночь», имея в виду похожий сюжет из известного стихотворения Некрасова «Еду ли ночью по улице тёмной...»

И снова в памяти моей
Из многих горестных ночей
Одна, ужасная, предстала...
Одна некрасовская ночь,
Без дров, без хлеба... Ну, точь-в-точь,
Как та, какую создавала
Поэта скорбная душа,
Тоской и злобою дыша...
Ребенка в бедной колыбели
Больные стоны моего
И бедной матери его
Глухие вопли на постели.
Всю ночь, убитый и немой,
Я просидел... Когда ж с зарей
Ушел я... Что-то забелело,
Как нитки, в бороде моей:
Два волоса внезапно в ней
В ту ночь клятую поседело...
Вскоре они разошлись, но Григорьев жалел несчастную и просил друзей:
...Коль вам ее
Придется встретить падшей, бедной,
Худой, больной, разбитой, бледной,
Во имя грешное мое
Подайте ей хоть грош вы медный...
Однажды, когда Григорьев был в Италии, в галерее Питти Флоренции его поразила «Мадонна» Мурильо. Он был потрясён совершенством этой картины. Из письма к Е. С. Протопоповой:
«По целым часам не выхожу я из галерей, но на что бы ни смотрел я, все раза три возвращусь к Мадонне. Этакого высочайшего идеала женственности я во сне даже не видывал».

К мадонне Мурильо в Париже
Из тьмы греха, из глубины паденья
К тебе опять я простираю руки...
Мои грехи — плоды глубокой муки,
Безвыходной и ядовитой скуки,
Отчаянья, тоски без разделенья!
На высоте святыни недоступной
И в небе света взором утопая,
Не знаешь ты ни страсти мук преступной,
Наш грешный мир стопами попирая,
Ни мук борьбы, мир лучший созерцая.
Тебя несут на крыльях серафимы,
И каждый рад служить тебе подножьем.
Перед тобой, дыханьем чистым, Божьим
Склонился в умиленье мир незримый.
О, если б мог в той выси бесконечной,
Подобно им, перед тобой упасть я
И хоть с земной, но просветленной страстью
Во взор твой погружаться вечно, вечно.
О, если б мог взирать хотя со страхом
На свет, в котором вся ты утопаешь,
О, если б мог я быть хоть этим прахом,
Который ты стопами попираешь.
Но я брожу один во тьме безбрежной,
Во тьме тоски, и ропота, и гнева,
Во тьме вражды суровой и мятежной...
Прости же мне, моя Святая Дева,
Мои грехи — плод скорби безнадежной.
Из письма к Е. С. Протопоповой: «В ней проглянули черты моей неотвязной мучительницы... Ведь любила же она меня, то есть знала, что только я её всю понимаю, что только я ей всей молюсь... Всё во мне как-то расподлым образом переломано — нет! Глубокие страсти для души хуже всякой чумы — ничего после них не остаётся, кроме горечи их собственного осадка, кроме вечного яда воспоминаний...»
К последней правде
В последние годы безалаберного поэта снова терзали кредиторы. Один из них в сентябре 1864 года сажает Аполлона в долговую тюрьму, откуда его выкупила генеральша Бибикова. Однако на свободе Григорьев прожил лишь несколько дней и 25 сентября (7 октября) скончался от апоплексического удара (сейчас это называется инсульт). Ему было 42 года. Смерть была мгновенной, чуть ли не с гитарой в руках. Последнее стихотворение Григорьева, написанное 26 июля 1864 года, было посвящено Леониде Визард, той неизбывной драматической любви, которую он пронёс через все города, тюрьмы, зигзаги своей изломанной судьбы. Через всю жизнь.

В. Борисов-Мусатов. Дама в голубом.
И все же ты, далекий призрак мой,
В твоей бывалой, девственной святыне
Перед очами духа встал немой,
Карающий и гневно-скорбный ныне,
Когда я труд заветный кончил свой.
Ты молнией сверкнул в глухой пустыне
Больной души... Ты чистою струей
Протек внезапно по сердечной тине,
Гармонией святою вторгся в слух,
Потряс в душе седалище Ваала -
И все, на что насильно был я глух,
По ржавым струнам сердца пробежало
И унеслось - "куда мой падший дух
Не досягнет" - в обитель идеала.
Григорьева хоронили на Митрофаньевском кладбище, за Варшавским вокзалом.

Сейчас это кладбище в Петербурге не существует. Прах поэта позже был перенесён на Волково кладбище.


Почитатели А. Григорьева на его могиле
Похороны были грустно-жалкие. Пришли Достоевский, Страхов, Боборыкин, несколько товарищей по долговым тюрьмам. Из рассказа Ю. Нагибина:
«Начались речи. Никто не мог поймать нужный тон. Страхов неловко и долго бормотал что-то о высоких запросах души покойного, который, обрываясь в своих усилиях, сразу впадал в противоположное: в беспорядок жизни, погубивший в конце концов его крепкую натуру.
И тут маленький, колышущийся от горя, слабости, пьянства, поднялся Иван Иваныч и заговорил, расплёскивая водку дрожащей крапчатой ручонкой:
«Нельзя об Аполлоне Алексаныче так... холодно, рассудительно. Он ведь ни в чём края не знал. Шёл, шатаясь, падая, расшибаясь до крови, но шёл... шёл к идеалу, к последней правде. Да, он никогда не был могуч, но всегда был прекрасен и силу ему давала вера в земское дело, в народность...»
Слёзы закапали из маленьких воспалённых глаз помощника смотрителя. «И вы.. вы увидите, господа, как всем нам будет не хватать этой жизни. Он сам себя называл ненужным человеком, а мало кто был так нужен, как бедный Аполлон Александрыч. Радость наша, красавец, светик наш!... «
Иван Иваныч не мог договорить и, зарыдав, упал на стул».

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/41856.html
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
"Двадцатый век его не отпустил..." |
Начало здесь.
5 октября 1947 года родился Евгений Блажеевский

Я маленький и пьяный человек.
Я возжелал в России стать пиитом,
нелепый, как в музее — чебурек
или как лозунг, набранный петитом.
Семидесятник
Евгений Блажеевский — семидесятник, как назвал его Станислав Рассадин. Семидесятник и по поэтической психологии, и по литературной судьбе. Это уже отнюдь не поэт стадионов и Политехнического, его литературное созревание пришлось на глухую пору застоя. Родился он в 1947 году, в азербайджанском городе Гянджа (тогдашнем Кировабаде).

Кировабадский юноша, приехавший покорять столицу своим талантом. "Дитя времени, когда по немытым подъездам, нечищеным улицам и даже пустым магазинам всё-таки шлялся бродячий дух поэзии. Когда быть талантливым и одухотворённым было гораздо важнее, чем сытым и богатым" (Ефим Бершин).
Безвременье семидесятых, обокравшее своё несостоявшееся поколение, легендарное поколение сторожей, дворников, истопников, лишив его надежд, характера, будущего, даже имени — термин «семидесятники» так и не прижился — всё же дало Евгению Блажеевскому шанс. Литературная судьба его на первых порах складывалась относительно благополучно: он печатался в “Юности” и в “Новом мире”, был участником Всесоюзных совещаний молодых писателей, в 1984 году вышел первый сборник его стихов “Тетрадь” (вторая же и последняя прижизненная книга — “Лицом к погоне” — увидела свет только через одиннадцать лет, в 1995). Однако со временем поэт все больше убеждался, что его реальное положение в литературе не соответствует масштабу его дарования.
А мой удел, по сути, никакой.
Во мраке человеческих конюшен
Я заклеймён квадратною доской,
Где выжжено небрежное "не нужен".
Не нужен от Камчатки - до Москвы,
Неприменим и неуместен в хоре
За то, что не желаю быть как вы,
Но не могу - как ветер или море...
Достаточно узкая известность Блажеевского (если не считать ставшего популярным романсом сонета “По дороге в Загорск…”) объясняется не только спецификой жестокого и глухого времени. Евгений презирал гонку за премиями и гнушался угождать невзыскательному читателю. “Для литературной известности часто важна маска, подменяющая собою живое лицо. Или, как теперь говорят, имидж. — Бессмысленно ставить телегу впереди лошади, но имидж впереди таланта можно, да еще как…” — с горечью говорил он.
Блажеевский не умел делать карьеры. Об этом очень точно сказал Олег Хлебников, предваряя посмертную его публикацию: “Литературной славы он достичь не мог — не по причине недостатка таланта… Он никогда не отличался большой ловкостью, чтобы протискиваться в узкие щели, или наглостью, чтобы открывать двери ногой… ”
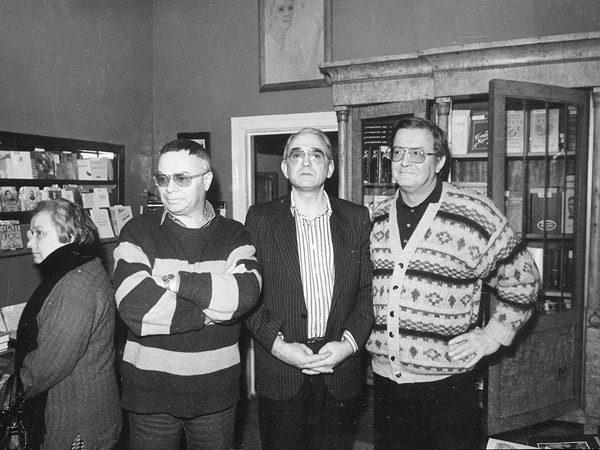
С. Рассадин, Ю. Кувалдин, Е. Блажеевский (слева направо)
«Когда подступает тоска...»
Отец Блажеевского, военный врач, умер, когда сыну исполнилось три с половиной года: Женя его почти не помнил. Мальчика воспитывала мама — ее он боготворил и уход ее горько оплакал в стихах:
Маме
I
Сознанье распадалось на куски:
По черепку, по камню, по осколку...
Беспамятство моё страшней тоски,
Которую приписывают волку.
Сквозь этот голый нищенский пейзаж,
Сквозь строй венков, поставленных у входа,
Мерещится какой-то странный пляж,
И с ветром, набирающим форсаж,
Ревёт над крематорием свобода!..
И к сердцу подступает пустота
Большая и ритмичная, как море.
И, словно рыба, судорогой рта
Хватая воздух, выдыхаю горе...
А блёклый день ползёт за парапет,
И надо мной плывёт моя утрата
В осенний мир, где растворился свет,
И некому уже послать привет,
И не найти другого адресата...
2
Ушла и, словно не бывало
Тебя, родная, среди нас...
Ни материнского овала,
Ни серых материнских глаз
Уже не встречу в мире этом,
Но мне всё чудится, что ты
Под нестерпимо-лунным светом
Стоишь в провале немоты...
В своей торгсиновской беретке,
С небрежной сумкой на боку
На фоне первой пятилетки
Стоишь одна в ночном Баку.
И голос оживить не может
Былые дни, былые сны.
И силы мраморные множит
Кладбищенский зрачок луны...

3
Эта ночь не имеет конца;
Ты засмейся в стекло и аукни
Своему отраженью лица
И неясному контуру кухни.
Эта ночь лишена перспектив
Обернуться румяной зарёю.
Я уйду, ничего не простив,
И таланта в сугроб не зарою.
И туда поспешу наугад,
Где деревья худы, как подростки,
Где во тьме шелестит снегопад
И пространство в накрапах известки,
Где вечернего света пузырь
Темнотою окраин распорот,
И открывшийся разом пустырь
Объясняет, что кончился город,
Что пора прикусить удила
В этом поле и зябком, и жутком,
Где на мусорной свалке зола
Между нами легла промежутком,
За которым земной небосвод
Растворяется в призрачной бездне
И души одинокий исход
Обрывает и мысли, и песни.
И в тебе поселяется он -
Твой последний посредник в юдоли...
Что ему суета похорон
И сквозное январское поле!..
Он... снежинкой уйдет в пустоту,
Не заботясь о брошенном теле,
И заменят портрет в паспарту
На картинку "Грачи прилетели".
Он... вернется в обличье ином,
Что ему погребальная яма
И забрызганный красным вином
Рубаи из Омара Хайяма?!
Он... влетевший в московский подъезд,
Невесомый почти и незримый
Старожил неизведанных мест,
Для которых величие Рима
Было б скопищем жалких камней
В мишуре самодельной рекламы,
И меня посетит, и ко мне
Долетит извещенье от мамы,
Что не только она, но и я,
Забывая ненужное знанье,
Обрету в темноте бытия,
Как бессмертье, другое сознанье...
Орфей
И я обернулся, хоть было темно,
На голос и нежный, и тихий...
И будет во веки веков не дано
Увидеть лицо Эвридики.
Но это не слабость меня подвела,
Не случай в слепом произволе,
А тайная связь моего ремесла
С избытком и жаждою боли.
Мне больше лица твоего не узреть,
Но камень в тоске содрогнется,
Когда я начну об утраченном петь:
Чем горше -- тем лучше поется...

Бабушка поэта была дочь предводителя дворянства, которой сам Репин давал уроки живописи. По-видимому, от бабушки он унаследовал и дар прекрасного рисовальщика (свои картины он бескорыстно раздавал и близким друзьям, и случайным знакомым, а многие его живописные работы, как свидетельствуют знающие в этом толк, по силе дарования не уступают стихам), и от нее же — никогда не подчеркиваемый, но всегда заметный аристократизм, редкое душевное благородство какого-то “старорежимного” пошиба. У него есть изумительное стихотворение "Памяти бабушки":

За стёклами хлопья витали,
Разъезжая площадь пуста.
В ночные безбрежные дали
Вокзал отпустил поезда.
И с Богом!.. Когда отъезжали
Тоску за границей лечить, -
Дома Петербурга бежали,
Стремясь на подножку вскочить.
Красавица в шубке, ужели
Грядущего груз по плечу?..
Железной верстою Викжеля
За вашим составом лечу.
А вы улыбаетесь тонко
Какому-то звуку в себе...
Всего вам, родная, но только
Не думайте о судьбе.
Живите в беспечном угаре
На грани любви и греха...
Пусть после на грязном базаре
И кольца уйдут, и меха.
Летите сквозь промельк нечастый
Огней за кромешной чертой...
Пусть после ваш мальчик несчастный
Оставит меня сиротой.
Я буду амуром сусальным
Незримый полет совершать,
Над вашим сидением спальным
Стараясь почти не дышать.
Живите, пока ещё рано
Платить за парчу и атлас...
Я после Ахматову Анну
Прочту как посланье от вас.

К своему делу, к поэзии Евгений Блажееский относился очень серьезно. “Самое главное, чтобы писать стихи только по очень серьезному поводу”, — повторял он, как заклинание. И даже чтение своих стихов превращал в некое торжественное театральное действо — не важно, читал ли их в аудитории Политехнического музея или с похмелья по телефону, разбудив невыспавшегося, с ним же накануне выпивавшего приятеля, готового в этот миг проклясть всю поэзию мира.

Когда подступает тоска,
Когда я и замкнут, и скован,
И, как от забора доска,
Оторван от мира людского…
«Любовь моя, моя беда...»
С женщинами Блажеевскому не везло. Об этом — его неподражаемая «Ироническая элегия»:
***
О, я хотел бы стать таким, как тот повеса -
Московский Дюруа из винных погребов,
Что женские сердца на ниточку повеся,
На Пушкинской стоял, как продавец грибов.
О, я хотел бы стать и гордым, и бесстрастным -
Надменные глаза, вишнёвый "шевроле"...
Чтоб женщинам вокруг и сытым, и прекрасным,
Внушать любовь, держа ладони на руле.
Но вышло всё не так. Я не того замеса,
Иду на поводу раздумий, а не фраз.
И женщины во мне не видят интереса -
Им нужен легкий смех, витиеватый фарс.
И не нужны стихи - волшебные названья.
Желаннее всегда гусар или пошляк.
У женщин есть свои большие основанья
Не понимать, увы, поэзию никак.
Им надобно спешить на собственном рассвете
Затем, чтоб разменять невинности жетон.
За дурости свои они всегда в ответе
И трудною судьбой, и круглым животом.
Но то, что есть они - какое это чудо!..
Пускай во мне тоска, пускай сомненья жгут -
Я верую в любовь и не умру, покуда
Надеждою богат, хотя меня не ждут.
И пусть я не кумир для милых, а поклонник,
Который "ничего", который "все равно".
Кладу, пока темно, цветы на подоконник
И помогает мне приятель Сирано...

С первой женой они расстались. Но память об этом чувстве долго не оставляла его...
***
Прощай, любовь моя, сотри слезу...
Мы оба перед богом виноваты,
Надежду заключив, как стрекозу,
В кулак судьбы и потный, и помятый.
Прости, любовь моя, моя беда...
Шумит листва, в саду играют дети
И жизнь невозмутимо молода,
А нас - как будто не было на свете...
* * *
В том мире, где утро не будит тебя
Надеждой в оконном квадрате,
В том мире, где больше не будет тебя
На старой арабской кровати,
В той жизни, которую выстроил сам
Своей утомленной рукою
И время течет по моим волосам
Незримой осенней рекою,
Нам больше встречаться уже ни к чему,
Привыкни к дурдому, который
Под "Сникерсы", "Мальборо" и ветчину
Киоски отдал и конторы.
Я больше к тебе никогда не приду --
Любовь не имеет возврата.
Мы встретимся, может, в последнем году
В долине Иосафата.

Из блокнота
Позабудется имя и отчество
и удвоится водки количество
в беспощадной гульбе.
Как тоске твоей — одиночество,
как свече твоей — электричество -
я не нужен тебе.
Из цикла "Песок и мрамор"
***
Благословенна память,
Повёрнутая вспять.
Ты будешь больно падать,
Да редко вспоминать.
Осядет снегом горе,
Дитя увидит свет...
В естественном отборе
Для боли места нет.
Лишь память о хорошем,
О том, что стало прошлым,
О нежности, которой
Еще принадлежу,
О голосе любимом,
О том,что стало дымом,
Необъяснимым дымом,
Которым дорожу...

***
Денек появился и сник,
Как наше свиданье, короткий.
Лиловый исхоженный снег —
Грязцою на наши подметки.
“Не надо, — шепчу, — не винись...”
И так от себя отпускаю,
Как будто высокий карниз
Ослабшей рукой отпускаю...

Записная книжка
Всего полжизни за спиной,
А сколько пустоты и хлама!..
В потёртой книжке записной -
Умерший, съехавшая дама.
Мужская дружба на века,
Без видимой на то причины,
И семизначная тоска,
И семизначные личины.
Толпятся цифры, но уже
Ни радости, ни интереса.
Что говорят моей душе -
Марина... Михаил... Агнесса?..
Иль вот, к примеру, телефон
Записанный на всякий случай, -
Не верится, что прежде он
Затменьем был и страстью жгучей,
Что в трубку я шептал: "Люблю..."
Когда вокруг спала столица...
Такой инфляции рублю
Не снилось да и не приснится.
Толпятся номера друзей
Забывших и забытых нами, -
Какой-то числовой музей,
Перемежённый именами.

Женился, развелся, скитался по разным коммуналкам (в его стихах скрупулезно воссоздан неповторимый быт той эпохи):
А жил я в доме возле Бронной
Среди пропойц, среди калек.
Окно - в простенок, дверь - к уборной
И рупь с полтиной за ночлег.
...Я жил затравленно, как беженец,
Летело время кувырком,
Хозяйка в дверь стучала бешено
Худым стервозным кулаком.
Казалось бы, чистый быт, не свыше того, - если бы "чистый" не звучало двусмысленно. Но в нем неотвратимо проступает бытие:
И я, любивший разглагольствовать
И ставить многое на вид,
Тогда почувствовал, о Господи,
Как эта грязь во мне болит,
Что я, чужою раной раненный,
Не обвинитель, не судья -
Страданий страшные окраины,
Косая кромка бытия...
Отщепенец
Блажеевский так и не вписался в новые, предлагаемые веком обстоятельства, не сумел приспособиться к “этому страшному времени безлицых”.
«Двух станов не боец, а только гость случайный», он не мог примкнуть ни к победителям — мародёрам от демократии, ни к изуродованному сталинизмом и советизмом лагерю патриотов.
***
Уже не надо вразнобой
таранить стену.
В проломе видим мы с тобой
немую сцену:
Башкой пробившие дыру
и зло, и слепо
Бодают лбами на юру
родное небо...
Мечтанья обратились в дым,
в морскую пену.
Как пусто в этой жизни им -
пробившим стену!
Они на фоне синевы
почти уроды,
Не осознавшие, увы,
своей свободы.
А где-то звякают ключи,
проводят сверку.
И ожидают палачи
отмашки сверху.

* * *
Лагерей и питомников дети,
В обворованной сбродом стране
Мы должны на голодной диете
Пребывать и ходить по струне.
Это нам, появившимся сдуру,
Говорят: "Поднатужься, стерпи..."
Чтоб квадратную номенклатуру
В паланкине носить по степи.
А за это в окрестностях рая
Обещают богатую рожь...
Я с котомкой стою у сарая,
И словами меня не проймешь!
“Невесело в моей больной отчизне…” — так начинает Блажеевский одно из своих лучших гражданских стихотворений и, развивая тему, продолжает:
Невесело, куда бы ни пошел, —
Везде следы разора и разлада.
Голодным детям чопорный посол
В больницу шлет коробку шоколада…
В то же время его душа терзалась собственным “разором и разладом”. Поэзия Блажеевского — это, прежде всего, поэзия метафизического отчаяния, а ее социальная составляющая подобна лишь видимой части айсберга.
В осеннем парке мечется Борей,
Пестрит в глазах от желтой круговерти,
Ложащейся к подножью фонарей
В глухом порыве коллективной смерти...

***
Я просыпаюсь в час самоубийц,
в свободный час, когда душа на воле
и люди спят, а не играют роли,
и маски спят, отлипшие от лиц...
Я просыпаюсь в час, когда метла
Еще не шарит по пустым бульварам,
И ужас бытия ночным пожаром
Тревожит жизнь, сгоревшую дотла.
Он вспоминает благословенные шестидесятые, которые успел ещё захватить, когда только начинал жить.

Веселое время!.. Ордынка... Таганка...
Страна отдыхала, как пьяный шахтер,
И голубь садился на вывеску банка,
И был безмятежен имперский шатер,
И мир, подустав от всемирных пожарищ,
Смеялся и розы воскресные стриг,
И вместо привычного слова "товарищ"
Тебя окликали: "Здорово, старик!"
...А что еще надо для нищей свободы? -
Бутылка вина, разговор до утра...
И помнятся шестидесятые годы -
Железной страны золотая пора....

«Страна отдыхала, как пьяный шахтер», - скажет поэт о шестидесятых. Раз так, семидесятые, значит, - похмелье? Выходит, что - да. И, точно по Пушкину, "смутное".
Он любил свою страну. И жил между этой любовью и отвращением к тому, что в ней происходило в последние десятилетия века. Он не то чтобы выпадал из чего-то сложившегося и цельного, он - не совпадал, не совпал. Ни с одним временем, ни с другим.
Не совпадая с временами безвременья, Блажеевский отстаивал, создавал свое время. Свое!
Пожалуй, можно сказать, что он продолжил в русской поэзии традицию отщепенства.
"...И ношусь, крылатый вздох, / Меж землей и небесами", - писал Баратынский. Блажеевский словно вторит ему:
Родившись между небом и землей,
Жить в облаках, не зная про порядки...
Растаять без дубового креста
В осенней дымке, в придорожной луже...
Или невольно откликаясь еще одному из поэтов, выбравших долю духовного изгойства, Вяземскому: "Я жить устал, - я прозябать хочу!"
И всё бы ничего, да только вот
душа - сиротка, беженка, простушка -
потерянная на большом вокзале,
не знает где приткнуться, как войти
безденежным,безликим существом
в холодные потемки мирозданья.

Супротив века
В своем поколении Блажеевский — наиболее гражданский поэт. И не опосредованно, как какой-нибудь “певец родных осин”, а в самом что ни на есть рылеевско-некрасовском смысле.
Фантазии сюрреалиста,
Где машет флажками урод,
Где баба кричит истерично…
И входит несчастный народ
В кровавую реку вторично.
Его отстаивание себя “супротив века” давало ему право ставить веку беспристрастный диагноз:
И вот совсем немного лет
Осталось до скончанья века,
В котором был один сюжет:
Самоубийство Человека…
***
Сжимается шагрень страны,
И веет ужасом гражданки
На празднике у Сатаны,
И оспа русской перебранки
Картечью бьет по кирпичу,
И волки рыщут по Отчизне,
И хочется задуть свечу
Своей сентиментальной жизни…
Век для Блажеевского тоже был “волкодавом”, и вслед за Мандельштамом он мог бы повторить: “Не волк я по крови своей…”
Читая Блажеевского, замечаешь, что чаще других в его стихах встречается слово"свобода".
***
Мы - горсточка потерянных людей.
Мы затерялись на задворках сада
И веселимся с легкостью детей -
Любителей конфет и лимонада.
Мы понимаем: кончилась пора
Надежд о славе и тоски по близким,
И будущее наше во вчера
Сошло-ушло тихонько, по-английски.
Еще мы понимаем, что трава
В саду свежа всего лишь четверть года,
Что, может быть, единственно права
Похмельная, но мудрая свобода.
Свобода жить без мелочных забот,
Свобода жить душою и глазами,
Свобода жить без пятниц и суббот,
Свобода жить как пожелаем сами.
Мы в пене сада на траве лежим,
Портвейн - в бутылке, как письмо - в бутылке.
Читай и пей! И пусть чужой режим
Не дышит в наши чистые затылки.
Как хорошо, уставясь в пустоту,
Лежать в траве среди металлолома
И понимать простую красоту
За гранью боли, за чертой надлома.
Однако с годами свобода в его стихах приобретает совсем иной, зловещий смысл.
***
Обратно листаются годы,
И вдруг понимаются как
Российская сущность свободы -
Распад, растворение, мрак...
Это не та свобода, к которой мы все стремились, на которую так надеялись...
***
Освободясь от лошадиных шор,
Толпа берет билеты до америк,
И Бога я молю, чтоб не ушел
Под нашими ногами русский берег...
Надежды обманули. И тогда осталось последнее...
***
Когда я верить в чудо перестал,
Когда освободился пьедестал,
Когда фигур божественных не стало,
Я, наконец-то, разгадал секрет, -
Что красота не там, где Поликлет,
А в пустоте пустого пьедестала.
Потом я взял обычный циферблат,
Который равнодушен и усат
И проявляет к нам бесчеловечность,
Не продлевая жалкие часы,
И оторвал железные усы,
Чтоб в пустоте лица увидеть вечность.
Потом я поглядел на этот мир,
На этот неугодный Богу пир,
На алчущее скопище народу
И, не найдя в гримасах суеты
Присутствия высокой пустоты,
Обрел свою спокойную свободу.

Блажеевский писал: «Лично мне неуютно ещё и потому, что мы, по всей видимости, находимся на том витке человеческого познания и сознания, которые мне уже не преодолеть. Мы присутствуем на процессе, когда изменяется мышление, переоценивается культура, умирает книга. Уже сейчас многие поэты называют свои стихи текстами. Всё это печально... Мне, честно говоря, несмотря на все ужасы и кровопролития, хотелось бы чуть-чуть подольше задержаться в 20 веке с его пониманием традиций, эстетики и красоты. То, что грядёт в грядущем столетии, мне чуждо». Он задержался там навечно. Да и стихи его, похоже, в новый век не пускают.
Представить себе сегодня Блажеевского живым трудно. С такой открытостью, с такой душой нараспашку в наши дни уже не живут.

Это автопортрет поэта. И лирика его так же «автопортретна»: человек безвременья, представитель нереализовавшегося поколения, напористый и сентиментальный, застенчивый и бескомпромиссный. А главное, видно, какая чистая в своей основе это душа, неприкаянная, но глубокая, не циничная. Гордая, неконъюнктурная, не продажная. Мужественная, болезненно реагирующая на фальшь и несправедливость и готовая постоять за правду.
За чертой
Есть простые, добросовестные, трудолюбивые люди. Есть карьеристы и гедонисты. А есть — Поэты, проживающие свою жизнь. И чаще всего — не длинную. Но горький свой жребий, выстраданное своё Слово они не променяют ни на какую удачу.
Мои просторы, как декабрь, наги,
но мне знакома зоркость зверолова.
И боль, как пёс, присела у ноги,
и вместе мы выслеживаем Слово.
После смерти Блажеевского выяснилось, что он перенес на ногах два микроинфаркта. Но в ночь на восьмое мая 1999 года сердце его все-таки не выдержало…
"Московский комсомолец" (№ 86 от 11 мая 1999 года) откликнулся некрологом:
"Умер Евгений Блажеевский. Поэт, трагический голос которого со временем, безусловно, станет одним из символов русской поэзии конца века. Почти не замеченный критикой, ибо не участвовал в игрищах на ярмарке тщеславия, он, Поэт милостью Божьей, достойно прошел свой крестный путь, творя Красоту и Поэзию из всего, к чему бы ни прикасался. Те, для кого русская поэзия - смысл жизни, знают, кого они потеряли. Иным еще предстоит открыть для себя этого блистательного лирика...»
Его похоронили в Кунцево на Троекуровском кладбище.
Я вернусь в ноябре, когда будет ледок на воде,
Постою у ворот у Никитских, сутулясь в тумане,
Подожду у "Повторного" фильма повторного, где
Моя юность, возможно, пройдет на холодном экране.
Я вернусь в ноябре, подавившись тоской, как куском,
Но сеанса не будет и юности я не угоден.
Только клочья тумана на мокром бульваре Тверском,
Только желтый сквозняк - из пустых подворотен...
1975

Последнюю, третью книгу, выхода которой в свет он так и не дождался, Блажеевский пророчески назвал: «Черта». Вот эпоха и подвела черту под ним, а он, в свою очередь, - под эпохой, под веком, под целым тысячелетием.
Послушайте изумительный, пленительный романс на стихи Евгения Блажеевского "По дороге в Загорск" в исполнении Александра Подболотова (видеоклип):

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/41502.html
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 2 пользователям
Оскорблённая любовь |
Начало здесь

Одесса-Житомир-Петербург
Саша Чёрный (Александр Гликберг) родился в Одессе, городе, подарившем нам немало весёлых талантов. Одесса помнит, что в ней родились Бабель и Катаев, Ахматова и Ильф и Петров. Но самым-то первым из знаменитых писателей в ней родился Саша Чёрный.

Потом волею обстоятельств Саша очутился в Житомире - городе, ставшем для него второй родиной.

Там он сотрудничал в газете "Волынский вестник". Тогда-то и начал писать стихи, где поведал о скуке и рутине провинциальной жизни.
Чем в следующем номере
Заполнить сотню строк?
Зимою жизнь в Житомире
Сонлива, как сурок.
Живет перепечатками
Газета-инвалид
И только опечатками
Порой развеселит.
Ах, жизнь полна суровости,
Заплачешь над судьбой:
Единственные новости —
Парад и мордобой!
Потом Гликберг, обуреваемый честолюбивыми мечтами, перебирается в Петербург, где удалось устроиться на Службу сборов Варшавской железной дороги. Канцелярская работа: балансы, счета — всё это мало увлекало его. В канцелярии Саша исподтишка наблюдал типы - персонажей своих будущих сатир и памфлетов.

Духовной жаждою томимый,
Он грыз перо по вечерам…
Язык мечты невыразимый
Мешал балансам и счетам…
Утратив сон, худой и бледный,
Он стал хулить весь божий свет,
А про него шептались: «Бедный,
Плохой конторщик и поэт». -
так он писал тогда о себе.
Первая слава к Саше Чёрному пришла в 1905 году, когда он стал сотрудничать в петербургском еженедельнике «Зритель». Первое же опубликованное там под никому не ведомым литературным именем стихотворение «Чепуха» было подобно разорвавшейся бомбе и разошлось в списках по всей России. Номер этот тут же был конфискован «за подрыв государственных устоев и оскорбление личности государя», а сам поэт только потому не подвергся репрессиям, что ему чудом удалось бежать за границу.
Возвратившись через 3 года, Саша Чёрный становится постоянным сотрудником «Сатирикона», редактором которого был Аркадий Аверченко. Здесь-то и расцвёл его талант.


В первом номере еженедельника под никому не известным литературным именем были напечатаны то ли смешные, то ли грустные стихи:
Все в штанах, скроённых одинаково,
при усах, в пальто и в котелках.
Я похож на улице на всякого
и совсем теряюсь на углах.
Но всем сразу стало ясно: такой не затеряется.
Вот несколько ранних юмористических миниатюр Саши Чёрного из цикла «Вешалка дураков»:
***
Ослу образованье дали.
Он стал умней? Едва ли.
Но раньше, как осел,
Он просто чушь порол,
А нынче - ах злодей -
Он, с важностью педанта,
При каждой глупости своей
Ссылается на Канта.
***
Дурак рассматривал картину:
Лиловый бык лизал моржа.
Дурак пригнулся, сделал мину
И начал: «Живопись свежа...
Идея слишком символична,
Но стилизовано прилично».
(Бедняк скрывал сильней всего,
Что он не понял ничего).
Узнаваемо, не правда ли?
Почему Чёрный, а не Белый?
Для многих имя Чёрного ассоциировалось тогда с автором известного романса «Ох, эти чёрные глаза...» Кто-то связывал его с чёрными днями России. И в самом деле, почему Чёрный, а не Белый?
Белый в литературе уже был. Андрей Белый к тому времени был хорошо известен как символист, то есть поэт, весьма далёких от проблем не только Житомира, но и самого Петербурга. А поэт Александр Гликберг был близок к этим проблемам. Так, может быть, для контраста с возвышенным — Андреем Белым — возникло это приземлённое, будничное, не из книг, а из житейских разговоров.
Кругом, кругом
зрю отблеск золотистый
закатных янтарей,
а над ручьём
полёт в туман волнистый
немых нетопырей.
Это А. Белый.
Жизнь всё ярче разгорается:
двух старушек в часть ведут.
В парке кто-то надрывается -
вероятно, морду бьют.
А это, конечно, С. Чёрный.
Эпохе черной нашей нужен
не демон Лермонтова - нет,
он только б ею был сконфужен, -
ведь гордый демон был эстет.
Веселый немец Мефистофель,
попав в российские пески,
брезгливо сморщив умный профиль,
пожалуй, запил бы с тоски.
О нет, эпохе нашей жалкой
совсем особый нужен чёрт -
чёрт Геркулес с железной палкой,
с душою жёсткой, как ботфорт.
Особое обаяние стиху Саши Чёрного придаёт доверительность тона, умение устанавливать доверительные, чуть ли не закадычные отношения с читателем. Поэт запросто, по-свойски приглашает его в гости:
Кто желает объясненья
этой странности земной,
пусть приедет в воскресенье
побеседовать со мной.
Венедикт Ерофеев в эссе, посвящённом Саше Чёрному, выделил в нём именно эту особенность: «Все мои любимцы начала века все-таки серьёзны и амбициозны... Когда случается у них у всех, по очереди, бывать в гостях, замечаешь, что у каждого чего-нибудь нельзя. Ни покурить, ни как следует поддать, ни загнуть не-пур-ля-дамный анекдот, ни поматериться. С башни Вячеслава Иванова не высморкаешься, на трюмо Мирры Лохвицкой не поблюешь. А в компании Саши Черного все это можно: он несерьезен, в самом желчном и наилучшем значении этого слова».
Читатель, может статься, потому доверился Саше Чёрному, что едва ли не впервые в отечественной поэзии тот заговорил от его имени — самого обыкновенного, заурядного, ординарного человека, человека «как все».
Всё течёт и ничего не меняется
Главная книга Саши Чёрного - «Сатиры». Первый том его «Сатир» вышел в 1910 году и в течение 7 лет выдержал 4 издания. Поэт надел в них на себя маску ненавистного ему обывателя и стал писать от имени этой отвратительной маски. Кто были объектами этой сатиры? Так называемый интеллигент новой формации:
Квартирант и Фекла на диване.
О, какой торжественный момент!
"Ты - народ, а я - интеллигент,-
Говорит он ей среди лобзаний,-
Наконец-то, здесь, сейчас, вдвоем,
Я тебя, а ты меня — поймем..."
(«Крейцерова соната»)
Антисемит:
Они совершают веселые рейсы
По старым клоакам оплаченной лжи:
«Жиды и жидовки... Цибуля и пейсы...
Спасайте Россию! Точите ножи!»
Надевши перчатки и нос зажимая
(Блевотины их не выносит мой нос),
Прошу мне ответить без брани и лая
На мой бесполезный, но ясный вопрос:
Не так ли: вы чище январских сугробов
И мудрость сочится из ваших голов, —
Тогда отчего же из ста юдофобов
Полсотни мерзавцев, полсотни ослов?
(«Юдофобы»)
Эмансипированные дамы («Городская сказка»), жертвы политизированного отношения к жизни («Жалобы обывателя»), мещанский быт («Обстановочка»), лицемерие и ханжество («Факт»), продажная любовь («В Александровском саду»)...
Надо сказать, что многие сатиры Чёрного на злобу дня вовсе не однодневки, раз они способны вызвать в сердцах читателей иных исторических эпох горячий эмоциональный отклик и сопереживание. Метил-то он в конкретную цель, но подлинная сатира потому и жива, и актуальна в веках, что затрагивает явление в целом. Вот что он писал в 1906 году:
Дух свободы... К перестройке
Вся страна стремится,
Полицейский в грязной Мойке
Хочет утопиться.
Казалось бы, больше ста лет прошло!
Но это ещё не всё. У Саши Чёрного, оказывается, не только знание нашей сегодняшней жизни, но и сегодняшние наши опасения. Сообщив, что полицейский, узнав о перестройке, хочет утопиться, автор успокаивает его:
Не топись, охранный воин, -
воля улыбнётся!
Полицейский! Будь спокоен -
старый гнёт вернётся...
Всё течёт, всё изменяется. Но сатира неизменна во все времена.
В 1911 году Саша Чёрный сатирически вопрошал: «Во имя чего казнокрады гурьбою бегут в патриоты?» Вопрос о патриотах злободневен и сейчас, поскольку многие из них оказались обычными казнокрадами.
На стихи С.Чёрного, хлёстко высмеивающие мещанский быт и интеллигентного обывателя, Д. Шостакович в 60-е годы создал музыкальный цикл из пяти сатир. Правда, цензура — даже в то оттепельное время не разрешила композитору назвать цикл именно так. Он вышел с подзаголовком: «Картинки прошлого», хотя у Чёрного этой надписи не было. Вроде бы всё это было не у нас, давно и неправда. Но всё правда и посейчас.
В книгах гений Соловьевых,
Гейне, Гете и Золя,
А вокруг от Ивановых
Содрогается земля.
На полотнах Магдалины,
Сонм Мадонн, Венер и Фрин,
А вокруг кривые спины
Мутноглазых Акулин.
Где событья нашей жизни,
Кроме насморка и блох?
Мы давно живем, как слизни,
В нищете случайных крох.
Спим и хнычем. В виде спорта,
Не волнуясь, не любя,
Ищем бога, ищем черта,
Потеряв самих себя...
(«Под сурдинку»)
Поёт Ефим Шифрин:
От любви до ненависти...
Критик П. Пильский писал о Чёрном: «В этом тихом с виду человеке жила огненная злоба».
Но далеко не все догадывались, что «заклятие смехом» - не что иное, как рыцарская защита своих идеалов. Саша Чёрный писал в статье о Бунине: «Иногда его страницы неожиданно жестоки, но такая ненависть не родная ли сестра поруганной любви, встающей над щитом? Пора бы это понять». Эти слова могли бы быть отнесены и к нему самому.В стихотворении «В пространство» - своего рода визитной карточке поэта — Чёрный пишет:
Конечно, это свойство взоров!
Ужели мир так впал в разврат,
Что нет натуры для узоров
Оптимистических кантат?
Вот редкий подвиг героизма,
Вот редкий умный господин.
Здесь — брак, исполненный лиризма,
Там — мирный праздник именин...
Но почему-то темы эти
У всех сатириков в тени,
И все сатирики на свете
Лишь ловят минусы одни.
Ужель из дикого желанья
Лежать ничком и землю грызть
Я исказил все очертанья,
Лишь в краску тьмы макая кисть?
Я в мир, как все, явился голый
И шел за радостью, как все...
Кто спеленал мой дух веселый —
Я сам? Иль ведьма в колесе?
А в другом стихотворении он сам дал предельно чёткую и поэтически ёмкую формулу своего необычного дарования:
Кто не глух, тот сам расслышит,
сам расслышит вновь и вновь,
что под ненавистью дышит
оскорблённая любовь.
В сущности, всё творчество Саши Чёрного — это изъявление любви, и надо только уметь разглядеть её. И недаром поэт уподоблял свою лирику райской птице, привязанной на цепочке, которую «свирепая муза» сатиры хватает время от времени «за голову и выметает её великолепным хвостом всякого рода современную блевотину».
Время «огарков»
Понятия «чёрного юмора» тогда ещё не существовало, но самого чёрного юмора в стихах Саши Чёрного, что называется, хоть отбавляй.
Как молью изъеден я сплином...
Посыпьте меня нафталином.
За лёгкий миг плачу глухой тоской.
Не упрекай меня, что я такой.
«Скучно жить на белом свете!» - это Гоголем открыто,
до него же — Соломоном, а сейчас — хотя бы мной.
Россия напоминает ему «Жёлтый дом»:
Семья - ералаш, а знакомые - нытики,
Смешной карнавал мелюзги.
От службы, от дружбы, от прелой политики
Безмерно устали мозги...
... Каждый день по ложке керосина
Пьем отраву тусклых мелочей...
Под разврат бессмысленных речей
Человек тупеет, как скотина...
Петр Великий, Петр Великий!
Ты один виновней всех:
Для чего на север дикий
Понесло тебя на грех?
Восемь месяцев зима, вместо фиников - морошка.
Холод, слизь, дожди и тьма - так и тянет из окошка
Брякнуть вниз о мостовую одичалой головой...
Негодую, негодую... Что же дальше, боже мой?!
Есть парламент, нет? Бог весть.
Я не знаю. Черти знают.
Вот тоска - я знаю - есть,
И бессилье гнева есть...
Люди ноют, разлагаются, дичают,
А постылых дней не счесть...
Эпоху, последовавшую за крушением революции 1905-1907 годов, именовали временем «огарков»: одни бросились прожигать жизнь, другие не видели иного выхода, как загасить свою свечу. Эпидемия самоубийств захлестнула в первую очередь учащуюся молодёжь. Газетные страницы той поры пестрели сообщениями о самоубийствах, публикаций посмертных записок и досужих рассуждений по этому поводу. Саша Чёрный пишет стихотворение «Больному», где пытается удержать самоубийц от гибельного шага, напоминая им о ценности жизни:
Есть горячее солнце, наивные дети,
Драгоценная радость мелодий и книг.
Если нет — то ведь были, ведь были на свете
И Бетховен, и Пушкин, и Гейне, и Григ...
Есть незримое творчество в каждом мгновенье —
В умном слове, в улыбке, в сиянии глаз.
Будь творцом! Созидай золотые мгновенья —
В каждом дне есть раздумье и пряный экстаз...
Оставайся! Так мало здесь чутких и честных...
Оставайся! Лишь в них оправданье земли.
Адресов я не знаю — ищи неизвестных,
Как и ты неподвижно лежащих в пыли.
Если лучшие будут бросаться в пролеты,
Скиснет мир от бескрылых гиен и тупиц!
Полюби безотчетную радость полета...
Разверни свою душу до полных границ.
Будь женой или мужем, сестрой или братом,
Акушеркой, художником, нянькой, врачом,
Отдавай — и, дрожа, не тянись за возвратом:
Все сердца открываются этим ключом.
Многими современниками в эпоху повальных самоубийств эти стихи были восприняты как панацея. Их посылали тем, кто готов был наложить нас себя руки, с настоятельной просьбой прочесть и образумиться. Я их тоже отложила в свою «копилку».
Это — из тех стихотворений-рецептов, как я их называю, которые очень помогают в критические моменты. После лекции ко мне многие подходили, переписывали их...
Оптимизм пессимизма
Сашу Чёрного считали пессимистом, но когда поэт говорит о себе, что он «как семь аллигаторов зол», или что в гости к нему пришёл человек «чужой, как река Брахмапутра», сама неожиданность этих озорных и энергичных сравнений — а их у Саши множество — свидетельствует, что наряду с негодованием и болью, его творчество обильно питается юмором, а юмор — это животворящая сила, несовместимая с душевной депрессией. Это был оптимистический пессимист.

Бодрый туман, мутный туман
Так густо замазал окно -
А я умываюсь!
Бесится кран, фыркает кран...
Прижимаю к щекам полотно
И улыбаюсь.
Здравствуй, мой день, серенький день!
Много ль осталось вас, мерзких?
Все проживу!
Скуку и лень, гнев мой и лень
Бросил за форточку дерзко.
(«Утром»)
Вот это великолепное чёрно-юморное «много ль осталось вас, мерзких — все проживу!» так бодрит — вы не представляете, сколько раз эти строчки в разные моменты жизни меня за волосы вытаскивали. Никакие «оптимистичные» стихи мне не помогали так.
Карикатура на «любовь»
Ненавистные формы зла часто у Саши Чёрного выступают в женском обличье. Торжествующую пошлость он любил воплощать в монументальном образе омерзительно-наглой и уродливой женщины:
Лиловый лиф и жёлтый бант у бюста.
Безглазые глаза как два пупка.
К теме любви Саша подходил как бы с тыла: это чаще всего карикатура на «любовь», суррогат любви, её обывательская имитация. В этом деформированном, «нормальном» мире первое амурное признание более походит на деловой сговор партнёров о сожительстве: «Мой оклад полсотни в месяц, Ваш оклад полсотни в месяц, - на сто в месяц в Петербурге можно очень мило жить». Пучина страстей сводится к сытому, равнодушному удовлетворению похоти:
Как жизнь прекрасна
с тобой в союзе! -
рычит он страстно,
копаясь в блузе.
Всего ужасней, что при этом стираются неповторимые черты любимого существа, и вот нет уже ни его, ни её, а вместо любвеобильного франта на скамейке в Александровском саду донжуанствует безликий «котелок», склоняющий «шляпку с кокаду» - известно, к чему:
На скамейке в Александровском саду
Котелок склонился к шляпке с какаду:
«Значит, в десять? Меблированные "Русь"...»
Шляпка вздрогнула и пискнула: «Боюсь».
— «Ничего, моя хорошая, не трусь!
Я ведь в случае чего-нибудь женюсь!»
Засерели злые сумерки в саду,
Шляпка вздрогнула и пискнула: «Приду!»
Мимо шлялись пары пресных обезьян,
И почти у каждой пары был роман.
Падал дождь, мелькали сотни грязных ног,
Выл мальчишка со шнурками для сапог.
«О любовь, земное чудо, приспособили тебя!» - в сердцах восклицает поэт. Надо было обладать непосредственностью андерсеновского мальчика, чтобы, отбросив покров привычного, во всеуслышание крикнуть: «А король-то голый!»
«Горький мёд» - так назвал один из стихотворных циклов Саша Чёрный, посвящённый этой теме. Это как бы вариант блоковского «разве так суждено меж людьми?!» В этих стихах звучит обида за попранный идеал — воистину «оскорблённая любовь». И в первую очередь это горько-смешная «Колыбельная», которая была положена тогда на музыку А. Вертинским, в 30-е годы — В. Козиным, а в наши дни — французским композитором Ги Беаром (в переводе на французский Эльзой Триоле).
Это песня о незадачливом муже неверной жены, укатившей от него в Париж к любовнику. Её любил исполнять в домашней обстановке Шаляпин. Поёт её и А. Градский.
Без любви
Сашу Чёрного при жизни часто обвиняли в женоненавистничестве (уж очень много непривлекательных женских типов встречалось в его стихах). В критических статьях пускались в ход такие выражения, как «душевный дальтонизм», учёные словечки типа «мисогиния». Обвиняли поэта в том, что у него вообще нет любовной лирики. Так ли это?
Да, стихов о любви у Чёрного очень мало. Есть о мечте полюбить, встретить свою единственную. В 1914 году (в 34 года) он пишет стихотворение «В Тироле», где описывает немецкое кладбище:
Над кладбищенской оградой вьются осы...
Далеко внизу бурлит река.
По бокам – зелёные откосы.
В высоте застыли облака.
Крепко спят под мшистыми камнями
кости местных честных мясников.
Я, как друг, сижу, укрыт ветвями,
наклонясь к охапке васильков.
Не смеюсь над вздором эпитафий,
этой чванной выдумкой живых –
и старух с поблёкших фотографий
принимаю в сердце, как своих.
Но одна плита всех здесь мне краше –
в изголовье старый тёмный куст,
а в ногах, где птицы пьют из чаши,
замер в рамке смех лукавых уст...
Вас при жизни звали, друг мой, Кларой?
Вы смеялись только 20 лет?
Здесь в горах мы были б славной парой –
Вы и я – кочующий поэт...
Я укрыл бы Вас плащом, как тогой,
мы, смеясь, сбежали бы к реке,
в Вашу честь сложил бы я дорогой
мадригал на русском языке.
Вы не слышите? вы спите? – Очень жалко...
Я букет свой в чашу опустил
и пошёл, гремя о плиты палкой,
вдоль рядов алеющих могил.
Значит ли это стихотворение, что Чёрный не надеялся встретить любимую здесь, на этом свете, что она навсегда осталась для него несбыточной мечтой?
Мария Ивановна - жена Саши Чёрного — была старше поэта, став ему не столько женой, сколько матерью, нянькой, наставницей, пожертвовав ради него своей научной карьерой, и Саша был ей благодарен, признателен, но любви не было.
Он как-то обмолвился в шутку в стихах:
Ты, Господь, хотя бы в праздник
мог столкнуть меня с другой.
Ах, ты, жизнь, скупой лабазник,
хан жестокий и нагой!
Фокусы-покусы
Многие сатиры Саши Чёрного на литературные темы и сейчас не потеряли актуальность. Например, те, где он высмеивал «словесные тонкие-звонкие фокусы-покусы» декадентов, считавших, что писать нужно не для толпы, а для избранных, умеющих понимать туманный язык символов:
Стилизованный осёл
(ария для безголосых)
Голова моя - темный фонарь с перебитыми стеклами,
С четырех сторон открытый враждебным ветрам.
По ночам я шатаюсь с распутными, пьяными Феклами,
По утрам я хожу к докторам.
Тарарам.
Я волдырь на сиденье прекрасной российской словесности,
Разрази меня гром на четыреста восемь частей!
Оголюсь и добьюсь скандалёзно-всемирной известности,
И усядусь, как нищий-слепец, на распутье путей.
Я люблю апельсины и все, что случайно рифмуется,
У меня темперамент макаки и нервы как сталь.
Пусть любой старомодник из зависти злится и дуется
И вопит: "Не поэзия - шваль!"
Врешь! Я прыщ на извечном сиденье поэзии,
Глянцевито-багровый, напевно-коралловый прыщ,
Прыщ с головкой белее несказанно-жженой магнезии,
И галантно-развязно-манерно-изломанный хлыщ.
Ах, словесные, тонкие-звонкие фокусы-покусы!
Заклюю, забрыкаю, за локоть себя укушу.
Кто не понял - невежда. К нечистому! Накося - выкуси.
Презираю толпу. Попишу? Попишу, попишу...
Попишу животом, и ноздрей, и ногами, и пятками,
Двухкопеечным мыслям придам сумасшедший размах,
Зарифмую все это для стиля яичными смятками
И пойду по панели, пойду на бесстыжих руках...
И таких ли «стилизованных ослов» на инетпорталах подчас встретишь! Только теперь всё это, давно отошедшее, высмеянное и Сашей Чёрным, и Ходасевичем, и Бродским, и Кушнером — вновь поднимает голову под гордым именем «авангарда», «перворманса», «сейшна», «новой современной поэтики». Поистине амбициозная бездарность бессмертна.
А вот ещё одно на близкую всем пишущим тему:
Переутомление
(Посвящается исписавшимся "популярностям")
Я похож на родильницу,
Я готов скрежетать...
Проклинаю чернильницу
И чернильницы мать!
Патлы дыбом взлохмачены,
Отупел, как овца,-
Ах, все рифмы истрачены
До конца, до конца!..
Мне, правда, нечего сказать сегодня, как всегда,
Но этим не был я смущен, поверьте, никогда -
Рожал словечки и слова, и рифмы к ним рожал,
И в жизнерадостных стихах, как жеребенок, ржал.
Паралич спинного мозга?
Врешь, не сдамся! Пень — мигрень,
Бебель - стебель, мозга — розга,
Юбка - губка, тень — тюлень.
Рифму, рифму! Иссякаю -
К рифме тему сам найду...
Ногти в бешенстве кусаю
И в бессильном трансе жду.
Иссяк. Что будет с моей популярностью?
Иссяк. Что будет с моим кошельком?
Назовет меня Пильский дешевой бездарностью,
А Вакс Калошин - разбитым горшком...
Нет, не сдамся... Папа — мама,
Дратва - жатва, кровь — любовь,
Драма - рама — панорама,
Бровь - свекровь - морковь... носки!
Эпиграммы
Саша Чёрный писал и эпиграммы: в 1924-м, в Париже. В России они никогда бы не были опубликованы — настолько дерзки и хлёстки.
Вот эпиграмма на М. Горького:

Пролетарский буревестник,
укатив от людоеда,
издаёт в Берлине вестник
с кроткой вывеской «Беседа».
Анекдотцы, бормотанье, -
(буревестник, знать, зачах!) -
и лояльное молчанье
о советских палачах.
На Есенина:

«Я советский наглый «рыжий»
с красной пробкой в голове.
Пил в Берлине, пил в Париже,
а теперь блюю в Москве.
На А. Толстого:
В среду он назвал их палачами,
а в четверг, прельстившись их харчами,
сапоги им чистил в «Накануне».
Служба эта не осталась втуне:
граф, помещик и буржуй в квадрате -
нынче издаётся в «Госиздате».
Любимая аудитория
В эмиграции главной и любимой аудиторией Саши Чёрного становятся дети. Он практически полностью посвящает себя детской теме: пишет сказки, стихи, рассказы для маленького читателя.

Не имея своих детей, Саша любил их безумно, и они отвечали ему такой же любовью. Об этом — одно из самых прелестных его стихотворений «Мой роман»:
Кто любит прачку, кто любит маркизу,
У каждого свой дурман, —
А я люблю консьержкину Лизу,
У нас — осенний роман.
Пусть Лиза в квартале слывет недотрогой, —
Смешна любовь напоказ!
Но всё ж тайком от матери строгой
Она прибегает не раз.
Свою мандолину снимаю со стенки,
Кручу залихватски ус…
Я отдал ей всё: портрет Короленки
И нитку зелёных бус.
Тихонько-тихонько, прижавшись друг к другу,
Грызём солёный миндаль.
Нам ветер играет ноябрьскую фугу,
Нас греет русская шаль.
А Лизин кот, прокравшись за нею,
Обходит и нюхает пол.
И вдруг, насмешливо выгнувши шею,
Садится пред нами на стол.
Каминный кактус к нам тянет колючки,
И чайник ворчит, как шмель…
У Лизы чудесные тёплые ручки
И в каждом глазу — газель.
Для нас уже нет двадцатого века,
И прошлого нам не жаль:
Мы два Робинзона, мы два человека,
Грызущие тихо миндаль.
Но вот в передней скрипят половицы,
Раскрылась створка дверей…
И Лиза уходит, потупив ресницы,
За матерью строгой своей.
На старом столе перевёрнуты книги,
Платочек лежит на полу.
На шляпе валяются липкие фиги,
И стул опрокинут в углу.
Для ясности, после её ухода,
Я всё-таки должен сказать,
Что Лизе — три с половиною года…
Зачем нам правду скрывать?

Четвероногое утешение
И ещё одна особенностей музы Саши Чёрного — это его тяга ко всяческой живности, к братьям нашим меньшим. Один из его циклов называется «Утешение»: в нём собраны стихи о детях и животных — тех, в ком поэт всегда находил утешение и отраду, особенно на чужой стороне. Открывается раздел стихотворением «К пуделю»:
Черный пудель, честная собака!
Незнаком тебе ни Кант, ни Лев Толстой,
И твое сознанье полно мрака:
Кто учил тебя быть доброй и простой?
Любишь солнце, человека, игры,
К детворе во всю несешься прыть…
Если люди стали все, как тигры,
Хоть собаке надо доброй быть...
"Человек - звучит чертовски гордо" -
Это Горький нам открыл, Максим.
Ты не веришь? Ты мотаешь мордой?
Ты смеешься, кажется, над ним?
А в 1927 году выходит книга Саши Чёрного «Дневник фокса Микки» - одна из самых светлых и улыбчивых его книжек.

Повествование здесь ведётся от имени собачьего недоросля. Разве неинтересно узнать, что думают о нас наши четвероногие друзья? Это ещё одно из перевоплощений поэта.
Надо сказать, что литературный Микки имел своего прототипа — небольшую шуструю собачку из породы гладкошёрстных фокстерьеров, которая стала равноправным членом семьи Саши и сопровождала хозяина во всех прогулках и поездках.

Саша Чёрный посвятил любимому щенку много стихов. Вот одно из них:
Иногда у консьержки беру напрокат
Симпатичного куцего фокса.
Я назвал его "Микки", и он мой собрат -
Пишет повести и парадоксы.
Он тактичен и вежлив от носа до пят,
Никогда не ворчит и не лает.
Лишь когда на мандоле я славлю закат, -
"Перестань!" - он меня умоляет.

***
В углу сидит в корзинке фокс -
Пятинедельный гномик.
На лбу пятно блестит, как кокс.
Корзинка - теплый домик.
С любой туфлей вступает в бокс
Отважный этот комик.
В корзинке маленький апаш
Зарыл свои игрушки:
Каблук, чернильный карандаш,
Кусок сухой ватрушки,
И, свесив лапки за шалаш,
Сидит, развесив ушки.
Понять не может он никак, -
Притих и кротко дышит:
Там у окна сидит чудак
И третий час все пишет
Старался фокс и так и сяк,
Но человек не слышит…
Рычал, визжал, плясал у ног
И теребил за брюки,
Унес перчатку за порог
И даже выл от скуки,
Но человек молчит, как дог,
К столу приклеив руки.

Жить на вершине голой...
Всю жизнь Саша Чёрный мечтал переехать из города в какую-нибудь тихую, мирную, живописную глушь. Когда-то давно он выразил затаённое желание, казавшееся несбыточным:
Жить на вершине голой,
писать простые сонеты
и брать у людей из дола
хлеб, вино и котлеты.
И вот на склоне лет его мечтам было суждено исполниться. Они с женой приобрели клочок земли на юге Франции в посёлке Ла Фавьер близ Средиземного моря, где обосновалась колония русских эмигрантов.

Вскоре на холме вырос домик, ставший последними пенатами поэта.

Жизнь, казалось бы, налаживалась.

Но недолго длился этот спокойный и относительно благополучный период жизни Саши. Трагическое происшествие послужило причиной его внезапной смерти.
Случилось это 5 августа 1932 года. Саша Чёрный помогал тушить лесной пожар (это было не редкостью в Провансе в жаркую пору). Уставший и взволнованный, он после этого ещё трудился на своём участке, на самом солнцепёке, не прикрыв голову неизменной шляпой-канотье.
Соседские дети заметили, что он упал, помогли внести его в дом, где Александр Михайлович скончался до прибытия доктора. Хоронили Сашу Чёрного всем посёлком — и русские, взрослые и дети, и местные фермеры-французы. Даже теми, кто знал Сашу только по книгам, эта утрата была воспринята как личное горе.
Обстоятельства скоропостижной кончины поэта вскоре обросли домыслами и мифами. Говорили, что Саша Чёрный спасал из горящего дома ребёнка. Будто фокс Микки с горя бросился на грудь хозяину и тоже умер от разрыва сердца. Но легенды на пустом месте не рождаются...
Тихое народное горе
Похоронили Сашу Чёрного на небольшом сельском кладбище Лаванду. Могила его была уничтожена фашистами в годы войны. Это фото 1933 года.

А в 1978 году друзья и поклонники поэта водрузили памятную доску на том месте, где предположительно он был похоронен.
Мне хочется закончить отрывком из заметки А. Куприна 1932 года «О Саше Чёрном»:
«Но вот пришла по телеграфу нежданная и горькая весть: «Саша Черный скоропостижно скончался». И ходят по Парижу русские люди и говорят при встречах: «Саша Черный умер — неужели правда? Саша Черный скончался! Какое несчастье, какая несправедливость! Зачем так рано?» И это говорят все: бывшие политики, бывшие воины, шоферы и рабочие, женщины всех возрастов, девушки, мальчики и девочки — все!
Тихое народное горе. И рыжая девчонка лет одиннадцати, научившаяся читать по его азбуке с картинками, спросила меня под вечер на улице:
- Скажите, это правду говорят, что моего Саши Черного больше уже нет?
И у нее задрожала нижняя губа.
Нет, Катя,— решился я ответить.— Умирает только тело человека, подобно тому как умирают листья на дереве. Человеческий же дух не умирает никогда. Потому-то и твой Саша Чёрный будет жить ещё много сотен лет, ибо сделанное им — сделано навеки и обвеяно чистым юмором, который — лучшая гарантия для бессмертия».
В.Набоков в прощальном слове сказал с грустью и нежностью: «Осталось несколько книг и тихая прелестная тень».
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/40320.html
|
|
Процитировано 7 раз
Понравилось: 3 пользователям
Марина Цветаева и её адресаты |
Начало здесь.
26 сентября (8 октября) 1892 года родилась Марина Цветаева.
Из записной книжки в год смерти: «Сегодня, 26 сентября, мне 48 лет. Поздравляю себя — тьфу, тьфу — с 1) уцелением; 2) с 48 годами непрерывной души».
В письме A.Тесковой Цветаева с горечью признавалась: «Меня не любили. Так мало! Так — вяло! По-мужски не любили...» А в поэме «Тезей» она пишет:
Любят — думаете? Нет, рубят
Так! нет — губят! нет — жилы рвут!
О, как мало и плохо любят!
Любят, рубят — единый звук
Мертвенный! И сие любовью
Величаете? Мышц игра —
И не боле! Бревна дубовей
И топорнее топора.
Она понимала любовь по-другому. Из письма Петру Юркевичу: «Мне не нужно любви, мне нужно понимание. Для меня это — любовь. Я могу любить только человека, который в весенний день предпочтёт мне — берёзу. Это моя формула».

И не спасут ни стансы, ни созвездья.
А это называется — возмездье
за то, что каждый раз,
Стан разгибая над строкой упорной,
Искала я над лбом своим просторным
Звезд только, а не глаз.
Из записной книжки: «Я так стремительно вхожу в жизнь каждого встречного, который мне чем-нибудь мил, так хочу ему помочь, «пожалеть», что он пугается — или того, что я его люблю, или того, что он меня полюбит и что расстроится его семейная жизнь. Мне всегда хочется крикнуть: «Господи Боже мой! Да я ничего от вас не хочу. Вы можете уйти и вновь прийти, уйти и никогда не вернуться — мне всё равно, я сильна, мне ничего не нужно, кроме своей души!.. вся моя жизнь — это роман с собственной душой, с городом, где живу, с деревом на краю дороги, с воздухом. И я бесконечно счастлива».
Из письма Волошину: «Я, Макс, уже ничего больше не люблю, ни-че-го, кроме содержания человеческой грудной клетки».
Из письма Пастернаку: «Мой любимый вид общения — потусторонний — сон, видеть во сне. А второе — переписка».
Пётр Эфрон
Бурной, шквальной натуре Цветаевой было всегда тесно в рамках мирного семейного счастья. Огонь, бушевавший в её груди, требовал всё новой пищи. Роковая «незнакомка с челом Бетховена» - как она называла в стихах Софию Парнок, нанесла сокрушительный удар по их «семейной лодке» с Сергеем Эфроном. Но этот удар был не первым. Ещё до появления Парнок в жизни Марины — в первый год их семейной жизни — она полюбила брата Сергея — Петра Эфрона, внешне напоминающего мужа и в то же время так непохожего на него.
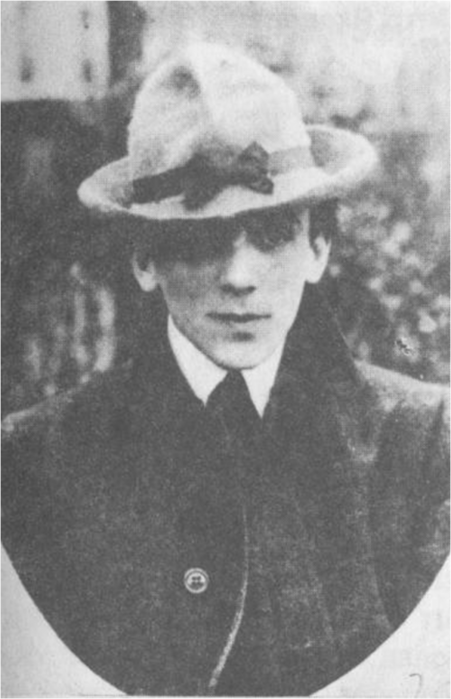
Тонкие черты лица, большие глаза, производившие впечатление полузакрытых, высокий лоб, впалые щёки и чрезмерная худоба придавали его внешности романтическую завершённость.
Впервые увидев его в Коктебеле, Цветаева была очарована.
И было сразу обаянье.
Склонился, королевски-прост. --
И было страшное сиянье
Двух темных звезд.
И их, огромные, прищуря,
Вы не узнали, нежный лик,
Какая здесь играла буря-
Еще за миг.
Я героически боролась.
-- Мы с Вами даже ели суп! --
Я помню заглушенный голос
И очерк губ.
И волосы, пушистей меха,
И -- самое родное в Вас! --
Прелестные морщинки смеха
У длинных глаз.
Цветаева посвятит Петру Эфрону 10 стихотворений. Она мифологизирует его образ, превратив в романтического героя. Но в жизни всё оказалось иначе. Приехав в Москву в 1914 году, Марина увидела Петра тяжело больным, умирающим от чахотки. Он лежал в лечебнице, сёстры дежурили около него. Дни его были сочтены. И в душе Марины вспыхнули горячее сострадание и жалость, желание уберечь, защитить.
Из письма от 10 июля 1914 года: «Я ушла в 7 часов вечера, а сейчас 11 утра, — и всё думаю о Вас, всё повторяю Ваше нежное имя. (Пусть «Пётр» - камень, для меня Вы — Петенька!) Откуда эта нежность — не знаю, но знаю, куда — в вечность!
Слушайте, моя любовь легка. Вам не будет ни больно, ни скучно. Я вся целиком во всём, что люблю. Люблю одной любовью — всей собой — и берёзку, и вечер, и музыку, и Серёжу, и Вас. Я любовь узнаю по безысходной грусти, по захлёбывающемуся «ах!»
Вы — первый, кого я поцеловала после Серёжи. Бывали трогательные минуты дружбы, сочувствия, отъезда, когда поцелуй казался необходимым. Но что-то говорило: «Нет!» Вас я поцеловала, потому что не могла иначе. Всё говорило: «Да!»

Была такая тишина,
Как только в полдень и в июле.
Я помню: Вы лежали на
Плетёном стуле.
Ах, не оценят — мир так груб! —
Пленительную Вашу позу.
Я помню: Вы у самых губ
Держали розу.
Не подымая головы,
И тем подчёркивая скуку —
О, этот жест, которым Вы
Мне дали руку.
Великолепные глаза
Кто скажет — отчего — прищуря,
Вы знали — кто сейчас гроза
В моей лазури.
Цветаева, как всегда, не делала тайны из своих влюблённостей. Именно тогда Сергей Эфрон и решает уйти на фронт — чтобы самоустраниться в этих драматических обстоятельствах, приносивших ему глубокие страдания.

Но назревавшая драма скоро разрешилась: 28 июля 1914 года Пётр Эфрон скончался. Марина не может смириться с этой смертью. Она продолжает писать ему стихи, как будет потом писать на тот свет Рильке.
Осыпались листья над Вашей могилой,
И пахнет зимой.
Послушайте, мертвый, послушайте, милый:
Вы всe-таки мой.
Смеетесь! -- В блаженной крылатке дорожной!
Луна высока.
Мой -- так несомненно и так непреложно,
Как эта рука.
Опять с узелком подойду утром рано
К больничным дверям.
Вы просто уехали в жаркие страны,
К великим морям.
Я Вас целовала! Я Вам колдовала!
Смеюсь над загробною тьмой!
Я смерти не верю! Я жду Вас с вокзала --
Домой.
Пусть листья осыпались, смыты и стерты
На траурных лентах слова.
И, если для целого мира Вы мертвый,
Я тоже мертва.
Я вижу, я чувствую,-чую Вас всюду!
-- Что ленты от Ваших венков! --
Я Вас не забыла и Вас не забуду
Во веки веков!
Таких обещаний я знаю бесцельность,
Я знаю тщету.
-- Письмо в бесконечность. -- Письмо в беспредельность-
Письмо в пустоту.
В июне следующего года Марина вновь вспомнит своего друга. Последнее стихотворение, посвящённое ему — необычное и сложное по ритмике, отвечающее той скорби, с которой она провожает человека в последний путь, как бы напевая про себя слышную только ей одной мелодию: не торжественного траурного марша, но печальной прощальной песни:
Милый друг, ушедший дальше, чем за море!
Вот Вам розы -- протянитесь на них.
Милый друг, унесший самое, самое
Дорогое из сокровищ земных.
Я обманута и я обокрадена, --
Нет на память ни письма, ни кольца!
Как мне памятна малейшая впадина
Удивленного -- навеки -- лица.
Как мне памятен просящий и пристальный
Взгляд -- поближе приглашающий сесть,
И улыбка из великого Издали, --
Умирающего светская лесть...
Милый друг, ушедший в вечное плаванье,
-- Свежий холмик меж других бугорков! --
Помолитесь обо мне в райской гавани,
Чтобы не было других моряков.
Однако «моряков» ещё будет множество. Такой уж она была. С этой «безмерностью в мире мер».
Осип Мандельштам
В конце января 1916 года в Москву приезжает Осип Мандельштам. Цветаева дарит ему Москву. 5 февраля он уезжает. Она пишет стихи ему вслед:
Никто ничего не отнял!
Мне сладостно, что мы врозь.
Целую Вас — через сотни
Разъединяющих вёрст.
Я знаю, наш дар — неравен,
Мой голос впервые — тих.
Что Вам, молодой Державин,
Мой невоспитанный стих!
На страшный полёт крещу Вас:
Лети, молодой орёл!
Ты солнце стерпел, не щурясь,
Юный ли взгляд мой тяжёл?
Нежней и бесповоротней
Никто не глядел Вам вслед…
Целую Вас — через сотни
Разъединяющих лет.

Мандельштам пишет стихотворение «В разноголосице девического хора...», обращённое к Цветаевой, где подаренная ему Москва сливается в его сознании с дарительницей:
В разноголосице девического хора
Все церкви нежные поют на голос свой,
И в дугах каменных Успенского собора
Мне брови чудятся, высокие, дугой.
... И пятиглавные московские соборы
С их итальянскою и русскою душой
Напоминают мне - явление Авроры,
Но с русским именем и в шубке меховой.

К ней же обращено и его стихотворение «Не веря воскресенья чуду, на кладбище гуляли мы...» Строгие, изящные, «воспитанные» строфы Мандельштама, по-видимому, в глазах Марины не очень гармонировали с их творцом, с его человеческой сущностью. Капризный, инфантильный нрав и облик нежного, красивого, заносчивого юноши, - таким запечатлён Мандельштам в цветаевских стихах:
Ты запрокидываешь голову —
Затем, что ты гордец и враль.
Какого спутника веселого
Привел мне нынешний февраль!
Мальчишескую боль высвистывай
И сердце зажимай в горсти…
— Мой хладнокровный, мой неистовый
Вольноотпущенник — прости!
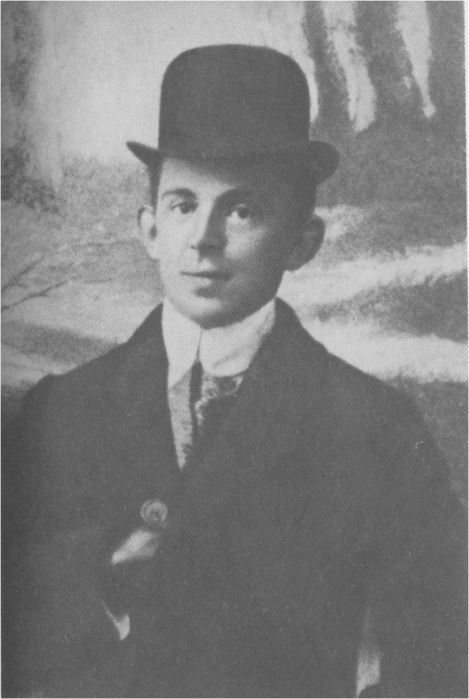
«Вольноотпущенник» - ибо она не берёт его — отпускает.
Откуда такая нежность,
и что с нею делать — отрок
лукавый, певец захожий,
с ресницами — нет длинней!
Откуда такая нежность?
Не первые — эти кудри
разглаживаю, и губы
знавала темней твоих...
Рядом с такой нежностью — нет места ревности.
Чьи руки бережные трогали
Твои ресницы, красота,
Когда, и как, и кем, и много ли
Целованы твои уста —
Не спрашиваю. Дух мой алчущий
Переборол сию мечту.
В тебе божественного мальчика, —
Десятилетнего я чту.
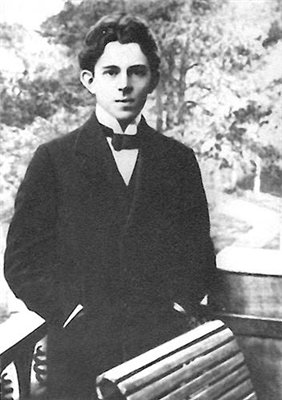
Так в поэзии Цветаевой появляется лирический герой, который пройдёт сквозь годы и годы её творчества, изменяясь во второстепенном и оставаясь неизменным в главном: в своей слабости, нежности, ненадёжности в чувствах. Не муж — защита и сила, а сын — забота и боль.
Александр Блок.
15 апреля 1916 года Цветаева пишет своё первое стихотворение к Блоку.
Имя твоё — птица в руке.
Имя твоё — льдинка на языке.
Одно-единственное движение губ.
Имя твоё — пять букв...
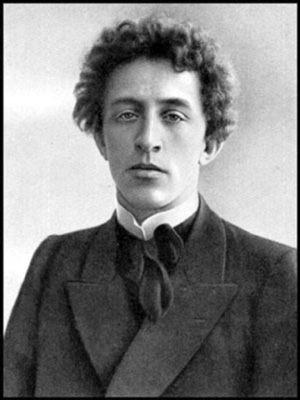
С 1-го по 18 мая она пишет ещё 7 стихотворений Блоку. Трудно однозначно определить их жанр: прославления? песни? молитвы? Восторг, восхищение, прославление — постоянное явление лирики Цветаевой. Но обожествление, с которым она обращается к Блоку — уникально. Блок был для неё современным Орфеем, воплощением идеи Певца и Поэта. Ведь Орфей не был человеком, а существом из мифа, сыном Бога и Музы, хотя и смертным.
С романтической пристрастностью Марина рисует своего Блока. Это нездешний, бесплотный «нежный призрак», «рыцарь без укоризны», «снеговой певец», «снежный лебедь», «вседержитель души». Ангел, случайно залетевший к людям. Дух, принявший образ человека, призванный помочь им жить, нести им свет, но... трагически не узнанный людьми и погибший.
Думали — человек!
И умереть заставили.
Умер теперь. Навек.
— Плачьте о мертвом ангеле!
О поглядите — как
Веки ввалились темные!
О поглядите — как
Крылья его поломаны!

Это попытка иконописи в стихах, изображение «Лика» Поэта. «В руку, бледную от лобзаний, не вобью своего гвоздя», «восковому святому лику только издали поклонюсь». Торжественно звучит стихотворение «Ты проходишь на запад солнца», где Цветаева перелагает в стихи православную молитву:
Ты проходишь на Запад Солнца,
Ты увидишь вечерний свет,
Ты проходишь на Запад Солнца,
И метель заметает след.
Мимо окон моих - бесстрастный -
Ты пройдешь в снеговой тиши,
Божий праведник мой прекрасный,
Свете тихий моей души.
И, под медленным снегом стоя,
Опущусь на колени в снег,
И во имя твое святое,
Поцелую вечерний снег. -
Там, где поступью величавой
Ты прошел в гробовой тиши,
Свете тихий - святыя славы -
Вседержитель моей души.
В августе 21-го года пришла весть о смерти Блока. Марина пишет ещё 4 стихотворения на его кончину, которые могли бы быть озаглавлены: «Вознесение». Это вознесение души поэта, не просто много страдавшей, но и божественной, чья жизнь на земле была случайностью.
Было так ясно на Лике его -
царство моё не от мира сего.

Цветаева дважды слышала Блока на его вечерах в Москве за год до смерти — 9 мая в Политехническом и 14-го — во Дворце искусств. Но не осмелилась тогда подойти, лишь передала ему через Алю посвящённые ему стихи. Блок прочёл их про себя и улыбнулся.
В 1935 году Цветаева будет читать доклад о Блоке, который назовёт «Моя встреча с Блоком», хотя в земном, житейском смысле никакой встречи не было. Их встреча — в ином измерении. Марина знала, что её любовь несбыточна:
Но моя река — да с твоей рекой,
но моя рука — да с твоей рукой
не сойдутся, радость моя, доколь
не догонит заря — зари.
Но о своей невстрече с Блоком она говорила: «Встретились бы — не умер».
Никодим Плуцер-Сарна
Весной 1915 года в жизни Цветаевой появляется человек по имени Никодим Плуцер-Сарна. Анастасия Цветаева в своих воспоминаниях рисует его портрет: «Лицо узкое, смуглое, чёрные волосы и глаза. И была в нём сдержанность гордеца, и было в нём одиночество, и что-то было тигриное во всём этом... был он на наш вкус романтичен до мозга костей — воплощение мужественности того, что мы звали авантюризмом, то есть свободой, жаждой и ненасытностью».

Он старше Марины на несколько лет, европейски образован, доктор экономики. В конце 16-го года Плуцер-Сарна становится вдохновителем совершенно новых страниц цветаевской лирики, в которой никто не узнавал прежнюю Цветаеву. Эти стихи можно причислить к жанру под условным названием «Романтика». Новое увлечение Марины завершится в 1919 году циклом, названным этим словом.
Искательница приключений,
искатель подвигов — опять
нам волей роковых стечений
друг друга суждено узнать...
Цикл «Даниил», пьесы «Приключение», «Фортуна», «Конец Казановы» - все они были навеяны этим человеком. Так же как и стихи «Дон-Жуан», «Кармен», «Любви старинные туманы», «Запах, запах твоей сигары...», «В огромном городе моём — ночь...», «Вот опять окно...», «Бог согнулся от заботы.... Главное, чем полны эти стихи — своего рода модуляция не пережитых, а воображаемых переживаний. Игра в любовь, представление о ней в её разных аспектах, любовь не как состояние души, а как настраивание на неё: ещё не свершившуюся, но ожидаемую, призываемую и неотвратимую:
И взглянул, как в первые раза
не глядят.
Чёрные глаза — глотнули взгляд.
Всё до капли поглотил зрачок.
И стою.
И течёт твоя душа
в мою.
Позже Цветаева скажет, что Плуцером-Сарна вдохновлены все стихи из книги «Вёрсты», вышедшей в 1922 году: «Все стихи отсюда написаны Никодиму Плуцер-Сарна, о котором — жизнь спустя — могу сказать, что — сумел меня любить, что сумел любить эту трудную вещь — меня».
Юрий Завадский
Конец 1917-го года принёс Цветаевой новую дружбу. Павел Антокольский — тогда «Павлик», поэт и актёр, ученик Вахтангова. Ему 21 год, он маленького роста, с горящими чёрными глазами, с чёрными крупными кудрями, с громким голосом, которым вдохновенно читал стихи. В глазах Марины «Павлик» предстал поэтом поистине пушкинского жара души.

Весной 19-го года в стихах, обращённых к нему, она напишет:
Дарю тебе железное кольцо:
бессонницу - восторг - и безнадежность.
чтоб не глядел ты девушкам в лицо,
чтоб позабыл ты даже слово: нежность.
Чтобы опять божественный арап
нам души метил раскалённым углем,
носи, носи, Господень верный раб,
железное кольцо на пальце смуглом.

Антокольский познакомил Цветаеву со своим другом и полнейшим антиподом Юрием Завадским — актёром, тоже учеником Вахтангова — высоким худым красавцем с карими глазами и вьющимися каштановыми волосами, мягким овалом лица и красивым рисунком губ, с чарующим вкрадчивым голосом, с неторопливыми плавными движениями...

Таким увидела Марина молодого Завадского, и сразу в её стихах возник поэтический образ неотразимого, избалованного вниманием любимца женщин.
Короткий смешок,
Открывающий зубы,
И легкая наглость прищуренных глаз.
- Люблю Вас! - Люблю Ваши зубы и губы,
(Все это Вам сказано - тысячу раз!)
Еще полюбить я успела - постойте! -
Мне помнится: руки у Вас хороши!
В долгу не останусь, за все - успокойтесь -
Воздам неразменной деньгою души.

С ноября 18-го по март 19-го Цветаева напишет цикл из 25 стихотворений под названием «Комедьянт». Комедьянт — это их вдохновитель Юрий Завадский. Толчком к рождению стихов послужила постановка Вахтанговым в 1918 году драмы Метерлинка «Чудо Святого Антония». Антония сыграл Завадский. Роль героя Метерлинка и облик актёра слились в воображении поэта воедино. Антоний — это ангел, святой, сошедший с небес, чтобы воскрешать людей из мёртвых. Но эта добрая миссия, однако, не подтверждена ни силой чувства, ни силой слова. Ибо святой Антоний пассивен, малословен и равнодушно покорен обращённому на него злу. Характер его не выявлен, облик же — благодаря внешности актёра — неотразим. Итог: красота, требующая наполнения, оказалась пустопорожней: ангельская внешность «не работала». Так выкристаллизовывался образ «комедьянта» - обаятельного бесплотного ангела. Человек-призрак, человек-мираж.

Я помню ночь на склоне ноября.
Туман и дождь. При свете фонаря
Ваш нежный лик - сомнительный и странный,
По-диккенсовски - тусклый и туманный,
Знобящий грудь, как зимние моря...
Ваш нежный лик при свете фонаря.
"Диккенсова ночь". Пленительнейшая песня на эти стихи, посвящённые Завадскому, Эльмиры Галеевой.
Поёт Эльмира Галеева: http://www.youtube.com/watch?v=4TlTn9lSSUM
Портрет героя почти бесплотен:
Волосы я - или воздух целую?
Веки - иль веянье ветра над ними?
Губы - иль вздох под губами моими?
Не распознаю и не расколдую.
...Не поцеловали — приложились.
Не проговорили — продохнули.
Может быть, Вы на земле не жили?
Может быть, висел лишь плащ на стуле?
Манящая, обольстительная пустота. Призрак. Можно ли его полюбить? Влюбиться — да. Полюбить — нет.
Не любовь, а лихорадка!
Легкий бой лукав и лжив.
Нынче тошно, завтра сладко,
Нынче помер, завтра жив.
Рот как мед, в очах доверье,
Но уже взлетает бровь.
Не любовь, а лицемерье,
Лицедейство - не любовь!

Юрий Завадский на сцене
«Лёгкий бой». «флирт», кокетство, игра — категории, чуждые героине Цветаевой. И, однако, она попала в их стихию, других измерений здесь нет. В зыбком неустойчивом мире комедьянта она тоже становится непостоянной:
Шампанское вероломно,
А все ж наливай и пей!
Без розовых без цепей
Наспишься в могиле темной!
Ты мне не жених, не муж,
Твоя голова в тумане...
А вечно одну и ту ж -
Пусть любит герой в романе!
***
Скучают после кутежа.
А я как веселюсь - не чаешь!
Ты - господин, я - госпожа,
А главное - как ты, такая ж!
Не обманись! Ты знаешь сам
По злому холодку в гортани,
Что я была твоим устам -
Лишь пеною с холмов Шампани!
Есть золотые кутежи.
И этот мой кутеж оправдан:
Шампанское любовной лжи -
Без патоки любовной правды!

Ей трудно принять эти правила игры. Ведь она — иная. Слова нестерпимой нежности и — сомнения в своём чувстве: «Любовь ли это — или любованье? Пера причуда иль первопричина?» Нарочито откровенное: «Ваш нежный рот — сплошное целованье!» И внезапный отказ: «Нет, дружочек, мне тебя уже не надо». И — пылкое восклицание: «Солнце моё! Я тебя никому не отдам!» И — отчаянное:
Да здравствует черный туз!
Да здравствует сей союз
Тщеславья и вероломства!
На темных мостах знакомства,
Вдоль всех фонарей - любовь!
Я лживую кровь свою
Пою - в вероломных жилах.
За всех вероломных милых
Грядущих своих - я пью!
Да здравствует комедьянт!
Да здравствует красный бант
В моих волосах веселых!
Да здравствуют дети в школах,
Что вырастут - пуще нас!
И, юности на краю,
Под тенью сухих смоковниц -
За всех роковых любовниц
Грядущих твоих - я пью!
Временами героиня прозревает, вспоминая свою вечную суть:
Бренные губы и бренные руки
Слепо разрушили вечность мою.
С вечной Душою своею в разлуке -
Бренные губы и руки пою.
Рокот божественной вечности - глуше.
Только порою, в предутренний час -
С темного неба - таинственный глас:
Женщина! - Вспомни бессмертную душу!

Духовное начало всё же побеждает. В последнем стихотворении героиня Цветаевой кается:
О нет, не узнает никто из вас
- Не сможет и не захочет! --
Как страстная совесть в бессонный час
Мне жизнь молодую точит!
Как душит подушкой, как бьет в набат,
Как шепчет все то же слово...
- В какой обратился треклятый ад
Мой глупый грешок грошовый!
Обаяние личности — красоты — пустоты. Этот мотив выльется в выстраданную многообъемлющую цветаевскую тему. Слабый, неотразимый «он» и сильная, страдающая «она» - это конфликт поэм «Царь-девица», «Молодец», отчасти «Поэмы Конца», трагедии «Ариадна», лирики 22-23 годов. Образ Завадского оживёт и в прозе Цветаевой — в её знаменитой «Повести о Сонечке»:
«Юрочка у нас никого не любит, - говорит его старая нянечка. - Отродясь никого не любил, кроме сестры Верочки да меня, няньки. - («И себя в зеркале» - зло добавляет Марина.) - Прохладный он у нас. - ласково говорит нянечка».
Э. Радзинский в своих «Загадках любви» опишет потом всю эту историю — как в 70-х годах в «Новом мире» впервые появилась «Повесть о Сонечке», как все говорили тогда о Завадском, саркастически описанным в ней, как Радзинский пришёл к нему якобы по поводу своей пьесы — но на самом деле пьеса была лишь предлогом, главное, что его интересовало — была история с Цветаевой.

Он пишет, как Завадский достал из стола пачку цветаевских писем и читал ему вслух — как в них были те же интонации, то же отчаянье и проклятия обманутой женщины, что и в её «Попытке ревности». И - как он навсегда запомнил последнюю фразу Завадского: «Никаким скандалом и оскорблением вы не сможете так обидеть женщину, как благородным равнодушием. Равнодушия при расставании она вам не простит! Никогда! За равнодушие мстят!»
Радзинский так и назвал эту свою очередную «Загадку любви»: «Месть (Марина и Юрочка)».
Николай Вышеславцев
В конце апреля 1920 года Цветаева создаёт цикл стихотворений, обращённых к «Н.Н.В.» - 30-летнему художнику-графику Николаю Николаевичу Вышеславцеву, работавшему библиотекарем во Дворце искусств. Это был человек высокой культуры, много повидавший и переживший. Он учился живописи в Москве, потом в Париже, в Италии. Потом — фронт, ранение и контузия. Вышеславцев расписывал панно и плакаты, делал обложки книг для разных изданий. Он был талантливым портретистом, рисовал портреты поэтов, людей искусства, исторических лиц прошлого. Обладал энциклопедическими знаниями, свободно владел французским, был интереснейшим собеседником.
Цветаева увлеклась. В её тетради одно за другим рождались стихотворения (всего 27 — некоторые не завершены), - целая поэма неразделённой любви.
Как пьют глубокими глотками -
непереносим перерыв! -
так в памяти, глаза закрыв -
без памяти любуюсь Вами.
Это был высокий человек с безукоризненными манерами, приятными чертами лица и мягким взглядом каре-зелёных глаз под красиво изогнутыми бровями.

Времени у нас часок.
Дальше - вечность друг без друга!
А в песочнице - песок -
Утечет!
Что меня к тебе влечет -
Вовсе не твоя заслуга!
Просто страх, что роза щек -
Отцветет.
Ты на солнечных часах
Монастырских - вызнал время?
На небесных на весах -
Взвесил - час?
Для созвездий и для нас -
Тот же час - один - над всеми.
Не хочу, чтобы зачах -
Этот час!
Только маленький часок
Я у Вечности украла.
Только час - на
Всю любовь.
Мой весь грех, моя - вся кара.
И обоих нас - укроет -
Песок.
Встреча (невстреча!) двоих. Не «лёгкий бой», как в «Комедьянте», а игра совсем нешуточная, притом односторонняя: действует только она. О «нём» известно немного: от него веет «Англией и морем», он «суров и статен». В его глазах она читает свой приговор: «Дурная страсть!» Он почти бессловесен и недвижим:
На бренность бедную мою
взираешь, слов не расточая.
Ты каменный, а я пою.
Ты памятник, а я летаю! -
говорит она, обращаясь всё к тому же «Каменному ангелу», «Комедьянту», чья душа недосягаема, подобно камню, брошенному в глубокие и тёмные воды. А именно до его души, что «на все века — схоронена в груди», ей страстно и безнадёжно хочется добраться: «И так достать её оттуда надо мне. И так сказать я ей хочу: в мою иди!»
Вышеславцеву посвящены «Кто создан из камня...», «Вчера ещё в глаза глядел...», «Проста моя осанка...»
Из письма Цветаевой:
«И ещё моё горе, что Вы, нежный руками — к рукам моим! - не нежны душою — к душе моей! Это было и у многих (вся моя встреча с Завадским — с его стороны!), но с тех я души не спрашивала. Конечно — руками проще! Но я за руками всегда вижу душу, рвусь — через руки — к душе, даже когда её нет. А у Вас она есть (для себя!) - и ласковость только рук — от Вас! - для меня — оскорбление».
В мешок и в воду - подвиг доблестный!
Любить немножко - грех большой.
Ты, ласковый с малейшим волосом,
Неласковый с моей душой.
Грех над церковкой златоглавою
Кружить - и не молиться в ней.
Под этой шапкою кудрявою
Не хочешь ты души моей!
Вникая в прядки золотистые,
Не слышишь жалобы смешной:
О, если б ты - вот так же истово
Клонился над моей душой!

Он не ласков с её душой. Она чувствует, что он мысленно осуждает её — за вольность её порывов, презирает как женщину. Она видит себя его глазами:
Так ясно мне -
до тьмы в очах!
Что не было в твоих стадах
черней овцы.
Однако осудить и унизить её невозможно. Ибо она знает нечто большее и важнейшее:
Суда поспешно не чини:
непрочен суд земной!
И голубиной не черни
галчонка белизной.
Есть иной мир, недоступный ему, но ведомый ей, мир, где всё переосмыслится: чёрное будет белым, а то, что принято считать белым — чёрным. Есть высший суд, который только и может судить её, и тогда она восторжествует: «Быть может в самый чёрный день очнусь — белей тебя!»
И, удивленно подымая брови,
Увидишь ты, что зря меня чернил:
Что я писала - чернотою крови,
Не пурпуром чернил.
(Цветаева писала в то время красными чернилами).
Пригвождена к позорному столбу
Славянской совести старинной,
С змеею в сердце и с клеймом на лбу,
Я утверждаю, что - невинна.
Я утверждаю, что во мне покой
Причастницы перед причастьем.
Что не моя вина, что я с рукой
По площадям стою - за счастьем.
Пересмотрите всe мое добро,
Скажите - или я ослепла?
Где золото мое? Где серебро?
В моей руке - лишь горстка пепла!
И это всe, что лестью и мольбой
Я выпросила у счастливых.
И это всe, что я возьму с собой
В край целований молчаливых.

Она пишет о «великой низости любви» во всей её беспощадности:
Всё сызнова: коленопреклоненья,
оттолкновенья сталь.
Я думаю о Вашей зверской лени, -
и мне Вас зверски жаль!
И в другом стиховорении:
Когда отталкивают в грудь,
ты на ноги надейся — встанут!
Стучись опять к кому-нибудь,
чтоб снова вечер был обманут.

Примерно к осени 1920-го пришло время истаять и этому мифу. Его герой, как и все предыдущие, как все последующие, обернулся для поэта всего лишь временным равнодушным спутником. Именно под этим названием Цветаева 13 лет спустя напечатает 3 стихотворения, обращённых к «Н.Н.В.» А несколько стихотворений в 1923-м перепосвятит другому человеку. Перепосвящения тоже были одной из форм развенчания...
Дарила ли Цветаева стихи адресату, писала ли ему? Мы никогда не узнаем об этом: архив Вышеславцева (бумаги, книги) во время войны погиб. Но остались рисунки, в том числе портрет Цветаевой 1921 года. Он даёт нам совсем неизвестную Цветаеву.

В портрете мало реального сходства, это портрет человеческой сути. Художник наделил его жёсткостью, резкостью, может быть, излишней. За обострёнными чертами лица угадывается вулкан страстей. Отсюда — сознательное нарушение пропорций глаз — они слишком велики, рта — он чересчур мал, точнее, плотно сжат: дабы не выпустить наружу клокочущие бури. Но главное — отрешённый, «сны видящий средь бела дня» близорукий цветаевский взгляд, который не в силах передать ни одна фотография. Взгляд поэта, всматривающегося, вслушивающегося в себя. Это портрет-озарение, единственный в своём роде.
Абрам Вишняк
Аля Эфрон писала: «Мама за всю свою жизнь правильно поняла одного единственного человека — папу, то есть, понимая, любила и уважала, всю свою жизнь. Во всех прочих очарованиях человеческих (мужских) она разочаровывалась».
Но и Сергей Эфрон был тем единственным человеком, встретившимся на пути Марины, который действительно её любил: и чтил в ней Поэта, и любил её самою, чего ей в жизни так всегда не доставало. Он был единственным, кто её понял, а поняв, любил, кого не устрашила её безмерность.
«Мой Серёженька! - пишет она ему. - Если от счастья не умирают, то во всяком случае каменеют. Только что получила Ваше письмо. Закаменела. Не знаю, с чего начинать: то, чем и кончу: моя любовь к Вам...»
И это совсем не важно, что за годы его отсутствия у неё было столько увлечений! Она рвётся к Сергею, она живёт мечтой о встрече с ним... И вот наконец она в Берлине. Он не сумел приехать встретить её, он задерживается в Праге, опаздывает на несколько дней, и... она уже увлечена! И оставляет нам в наследство берлинский цикл стихов.
Позже Сергей Эфрон с горечью напишет Волошину, что когда он в июне 1922-го приехал в Берлин, он уже тогда почувствовал, что «печь была растоплена не мной». «На недолгое время», - добавляет он. И с обречённостью произносит слова, которые мог бы сказать едва ли не 10 лет назад: «В личной жизни Марина — это сплошное разрушительное начало».

Всё, всё он знал и... остался. Ибо есть узы, которые тысячекратно сильнее страстей.
Кто же был новый герой Цветаевой, герой романа с её душой? Это был издатель журнала «Геликон» Абрам Григорьевич Вишняк, с которым её познакомил И.Эренбург в первые дни приезда. Его так и называли: «Геликон». Сухопарый, черноволосый, он смутно напомнил Марине Плуцера-Сарна и сильно затронул её сердце и воображение. В её тетради появляются стихи, как сказал некогда Брюсов о её первой книге, «жуткой интимности». В них — сладостная, мучительная, обречённая «юдоль любви»: бренной, преходящей, жестокой, земной и грешной.
Ночные шепота, шелка
разглаживающая рука.
Ночные шепота: шелка,
разглаживающие уста.
Ничто. Тщета. Конец. Как нет.
И в эту суету сует
сей меч: рассвет.
Так началось новое мифотворчество, новое обольщение, новое (в который раз!) обаяние слабости, против которого Марина была бессильна... Цветаева признается адресату в том, что он покоряет и умиляет её своими «земными приметами» (именно так назовёт она цикл стихов, к нему обращённых).
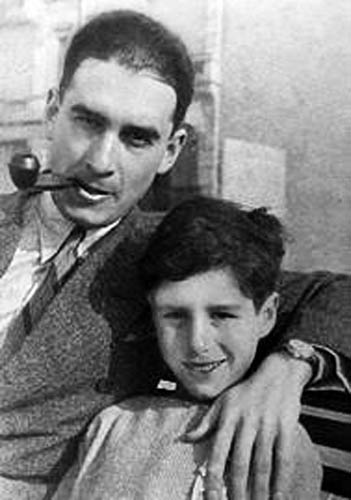
С 17 июня по 9 июля Марина написала Вишняку 9 писем. Писала по ночам, едва расставшись после ежедневной вечерней встречи, дорисовывая её в своём воображении. С нетерпением и тщетно ждала ответа на каждое письмо. Наконец ответ пришёл, вежливый, «плавный». А как могло быть иначе, если Геликон целиком был поглощён своим горем: изменой жены, о чём Цветаева знала, но не желала замечать. Его письмо разочаровало её: теперь она пишет Геликону чуть иронически. Её увлечение начало остывать, хотя прошло всего 2 недели. Последнее, десятое письмо Марина Ивановна напишет в последний день своего пребывания в Берлине.
Из этих писем 10 лет спустя, в 30-е годы Цветаева, переведя их на французский, сделает эпистолярный роман под названием «Флорентийские ночи»: 9 писем героини, единственный ответ «его» и — убийственный финал, в котором герой окажется начисто забыт: описано, как «она» не узнала его на каком-то балу.
И в жизни это увлечение, как только воплотилось в стихи и письма, остыло. Вскоре Цветаева отозвалась о недавнем своём вдохновителе достаточно презрительно. Великолепная забывчивость, царственная неблагодарность поэта отслужившему материалу...
Александр Бахрах
В деревне под Прагой Цветаева прочтёт рецензию молодого критика Александра Бахраха на свою книгу «Ремесло». Эта рецензия показалась ей глубокой и понимающей, почудилась в авторе родная душа, и она окликает его благодарным письмом. Потом — письмо вслед за письмом. С этой заочной дружбой (встреча их так и не состоялась) связаны стихи, написанные Цветаевой с июня до середины сентября 1923 года. Её душе нужно было новое горючее, новый «повод к самой себе». Марина пишет незнакомому 20-летнему критику (ей — 31): «Ваш голос молод, это я расслышала сразу... Ваш голос молод. Это меня умиляет и сразу делает меня тысячелетней, - какое-то каменное материнство, материнство скалы...»
Материнское - сквозь сон - ухо.
У меня к тебе наклон слуха,
Духа - к страждущему: жжет? да?
У меня к тебе наклон лба,
Дозирающего вер - ховья.
У меня к тебе наклон крови
К сердцу, неба - к островам нег.
У меня к тебе наклон рек,
Век...

Александр Васильевич Бахрах за свою долгую жизнь знал очень многих из русского литературного зарубежья: Бунина, Зайцева, Ремизова, Белого, Тэффи, Сирина-Набокова... Во время войны жил у Бунина в Грассе, где тот прятал его, как еврея, от фашистов. Прелестная лёгкая книга Бахраха «Бунин в халате» явилась своего рода данью посмертной благодарности последнему русскому классику. А тогда, в 23-м, он, начинающий критик, неравнодушный и вдумчивый, доброжелательный и тонкий, привлёк живой интерес Цветаевой. И хлынул поток её писем, написанных с той же поэтической мощью, с какой она будет писать потом Пастернаку и Рильке. В них было всё, что мог дать поэт своему адресату, - вся цветаевская безмерность.
«Я не знаю, кто Вы, я ничего не знаю о Вашей жизни, я с Вами совершенно свободна, я говорю с духом... Я хочу от Вас — чуда. Чуда доверия, чуда понимания, чуда отрешения. Я хочу, чтобы Вы в свои 20 лет были 70-летним стариком и — одновременно — семилетним мальчиком, я не хочу возраста, счёта, борьбы, барьеров... Безмерность моих слов — только слабая тень безмерности моих чувств...»
Идёт волшебная игра. Марина творит заочный миф о Бахрахе. Она с нетерпением ждёт ответа на свои письма.
Так писем не ждут,
Так ждут — письма́.
Тряпичный лоскут,
Вокруг тесьма
Из клея. Внутри — словцо.
И счастье. И это — всё.
Так счастья не ждут,
Так ждут — конца:
Солдатский салют
И в грудь — свинца
Три дольки. В глазах красно́.
И только. И это — всё.
Не счастья — стара!
Цвет — ветер сдул!
Квадрата двора
И чёрных дул.
(Квадрата письма:
Чернил и чар!)
Для смертного сна
Никто не стар!
Квадрата письма.
Мы не знаем, отвечал ли ей Бахрах, как он вообще отнёсся к этой обрушившейся на него «органной буре». Но до конца жизни он сохранил чрезвычайную скромность, ни словом не намекнув на свою личную заслугу в том, что вызвал к жизни эту лавину писем. В 1960 году А. Бахрах напечатает все письма Цветаевой к нему, но — из скромности — с большими сокращениями.
Марина творила героев своих романов. Не то чтобы она не считалась с их природой — она её не знала, всё затмевали несколько слов, показавшихся созвучными её душе. По ним создавался образ человека: брата по духу, родного в помыслах, единомышленника в отношении к миру. Эти сотворённые ею образы часто оказывались весьма далеки от оригинала, но любила она их по-настоящему, радовалась и горевала, каждому готова была отдать всю себя — только так могли возникнуть стихи. И потому герои её любовных циклов так непохожи один на другого — в основу своих фантазий она брала нечто присущее именно этому адресату. Так, стихи, обращённые к Бахраху, строились на его молодости и чистоте.
Сквозь девственные письмена
Мне чудишься побегом рдяным,
Чья девственность оплетена
Воспитанностью, как лианой.
Дли свою святость! Уст и глаз
Блюди священные сосуды!
Марина даёт волю фантазии, своей неутолённой мечте о сыне, и в стихах Бахраху создаёт образ сына своей души, «выкормыша», которого она выпустит в мир, досоздав:
«Я не сделаю Вам зла, я хочу, чтобы Вы росли большой и чудный и, забыв меня, никогда не расставались с тем — иным — моим миром!»
А.Бахраху посвящён цикл стихов «Час души».

В глубокий час души и ночи,
Нечислящийся на часах,
Я отроку взглянула в очи,
Нечислящиеся в ночах...
В них — ощущение, что стихи и письма — лишь прелюдия к чему-то иному, что должно начаться вот-вот, чтобы продолжить жаждущий выхода накал страсти... И оно началось — с другим.
Константин Родзевич
«Час души» с Бахрахом оборвался на самой высокой ноте. И виновником этого обрыва стал Константин Родзевич, студент пражского университета, товарищ и однокашник Сергея Эфрона. Он был невысокого роста, с тонкими чертами лица, фотографии донесли выражение мужества и лукавства.

Он пользовался большим успехом у женщин, и Эфрон называл его «маленьким Казановой». Но, хотя, судя по воспоминаниям современников, особым интеллектом и эмоциями новый избранник Марины не обладал, но был смелым и решительным человеком, не раз смотревшим смерти в лицо.

В 1936 году он будет сражаться в Испании, станет участником французского сопротивления, испытает ужасы фашистских лагерей. А в годы гражданской войны в России он был приговорён белыми к расстрелу, как красный командир. Но от расстрела его спас генерал, знавший его отца, военного врача царской армии, и с остатками разбитой белой армии Родзевич попадает в Галлиполи, где и встретится с Эфроном. Они жили в одном общежитии-казарме для студентов-эмигрантов.
Из письма Цветаевой Бахраху: «Как это случилось? О, друг, как это случается?! Я рванулась, другой ответил, я услышала большие слова, проще которых нет, и которые я, может быть, в первый раз за жизнь слышу. «Связь»? Не знаю. Я и ветром в ветвях связана. От рук — до губ — и где же предел?...Знаю: большая боль. Иду на страдание».
Так в жизнь Цветаевой входил Константин Родзевич. Час души уступил место часу эроса.
Жжет.. Как будто бы душу сдернули
С кожей! Паром в дыру ушла
Пресловутая ересь вздорная,
Именуемая душа.
Христианская немочь бледная!
Пар! Припарками обложить!
Да ее никогда и не было!
Было тело, хотело жить...

Из бури страстей разгорается пламя бессмертной лирики. Счастье оказалось очень коротким, налетело расставание, принёсшее горе и — две замечательные поэмы.
«Поэма Горы» - поэма любви, в момент наивысшего счастья знающей о своей обречённости, предчувствующей неизбежный конец. Гора у Цветаевой — символ высоты духа, высоты чувства, бытия над бытом, высота отношений героев над уровнем обыденности.
Но семьи тихие милости,
но птенцов лепет — увы!
Оттого, что в сей мир явились мы
небожителями любви.
«Поэма Конца» - воплощение этой неизбежности разрыва, гора — рухнувшая, и горе, обрушившееся на героиню.
Прости меня! Не хотела!
Вопль вспоротого нутра!
Так смертники ждут расстрела
В четвертом часу утра...
Любовь, это плоть и кровь.
Цвет, собственной кровью полит.
Вы думаете - любовь -
Беседовать через столик?
«Всё врозь у нас — рты и жизни». «Я — не более, чем животное, кем-то раненное в живот», - говорит она о себе. Да, Цветаева, как и её героиня, была счастлива, - это видно по той боли, с которой она расставалась — отрывала от себя любимого. И по той жестокости, с которой она посвящала в свою новую любовь Бахраха. Она многого ждала от этой любви.
Письмо от 22 сентября 1923 года — откровеннейший, интимнейший документ — и одновременно непреходящее литературное произведение. «Песнь песней» на цветаевский лад:
«...Арлекин! — Так я Вас окликаю. Первый Арлекин за жизнь, в которой не счесть — Пьеро! Я в первый раз люблю счастливого, и может быть в первый раз ищу счастья, а не потери, хочу взять, а не дать, быть, а не пропасть! Я в Вас чувствую силу, этого со мной никогда не было. Силу любить не всю меня — хаос! — а лучшую меня, главную меня.
Мой Арлекин, мой Авантюрист, моя Ночь, мое счастье, моя страсть. Сейчас лягу и возьму тебя к себе. Сначала будет так: моя голова на твоем плече, ты что-то говоришь, смеешься. Беру твою руку к губам — отнимаешь — не отнимаешь — твои губы на моих, глубокое прикосновение, проникновение — смех стих, слов — нет — и ближе, и глубже, и жарче, и нежней — и совсем уже невыносимая нега, которую ты так прекрасно, так искусно длишь.
Прочти и вспомни. Закрой глаза и вспомни. Твоя рука на моей груди, — вспомни. Прикосновение губ к груди ...
Друг я вся твоя. М.»
Это письмо — сама жизнь, сама любовь, её торжество, её сияние, её счастье. В первый — и, вероятно, в последний раз в её любви соединились доселе несоединимые земля и небо. То, к чему устремлялись, но так редко — так почти никогда! - не достигали, в сущности, поэты. Мираж, на миг обернувшийся явью...
Родзевич был ошеломлён и испуган нахлынувшей на него лавиной цветаевской безудержности и малодушно бежал от грозы и грома в тихую пристань буржуазного брака.

Он устал от её постоянных требований и от накала чувств, от непомерной высоты этих отношений. Оба знали, что роман окончен. Цветаева пишет эпитафию их страсти:
Ты, меня любивший фальшью
Истины — и правдой лжи,
Ты, меня любивший — дальше
Некуда! — За рубежи!
Ты, меня любивший дольше
Времени. — Десницы взмах!
Ты меня не любишь больше:
Истина в пяти словах.
Версию о том, что Цветаева подарила подвенечное платье невесте Родзевича, решительно опровергала сама Мария Булгакова. Марина сделала ей другой свадебный подарок — гораздо более цветаевский. Этот подарок трудно назвать добрым. Он должен был нанести рану. Цветаева подарила Булгаковой маленькую, переписанную от руки книжечку. Это была «Поэма Горы». Поэма, написанная на самом пике любви к Родзевичу, может быть, самая прекрасная поэма о любви, созданная в 20 веке.
Из записной книжки Цветаевой: «А жить — нужно. (Серёжа, Аля). А жить — нечем. Вся жизнь на до и после. До — всё моё будущее. Моё будущее — это вчера, ясно? Я — без завтра. Остаётся одно: стихи. Стихии: моря, снега, ветра. Но всё это — опять в любовь. А любовь — опять в него!»
Замкнутый круг одиночества поэта, обречённого в конце концов только на самого себя: на своё творчество.
Продолжение здесь
|
|
Процитировано 39 раз
Понравилось: 10 пользователям
Если справиться сил нет с осенью... |
***
Запиши на всякий случай
телефонный номер Блока:
шесть– двенадцать – два нуля.
А.Кушнер
Что-то вспомнилось между бедами,
с неба хлещущими плетьми,
как Рубцов выпивал с портретами
как с единственными людьми.
К Блоку ночью врывалась в логово
Караваева-Кузьмина…
Богу – Богово, Блоку – Блоково,
нам – портреты их, письмена.
Если справиться сил нет с осенью
и не впрок нам судьбы урок,
если предали или бросили –
есть заветные шифры строк.
На странице ли, на кассетнике, –
оживляя мирскую глушь, –
собутыльники – собеседники –
соглядатаи наших душ.
Если слёз уже нету, сна ли нет,
покачнется ль в бреду земля –
повторяю как заклинание:
шесть, двенадцать и два нуля.

***
Нa деревьях осенний румянец.
(Даже гибель красна на миру).
Мимо бомжей, собачников, пьяниц
я привычно иду поутру.
Мимо бара «Усталая лошадь»,
как аллеи ведёт колея,
и привычная мысль меня гложет:
эта лошадь усталая – я.
Я иду наудачу, без цели,
натыкаясь на ямы и пни,
мимо рощ, что уже отгорели,
как далёкие юные дни,
мимо кружек, где плещется зелье,
что, смеясь, распивает братва,
мимо славы, удачи, везенья,
мимо жизни, любви и родства.
Ничего в этом мире не знача
и маяча на дольнем пути,
я не знаю, как можно иначе
по земле и по жизни идти.
То спускаясь в душевные шахты,
то взмывая до самых верхов,
различая в тумане ландшафты
и небесные звуки стихов.
Я иду сквозь угасшее лето,
а навстречу – по душу мою –
две старухи: вручают буклеты
с обещанием жизни в раю.
***
И по гроба, как по грибы,
теперь хожу все чаще…
О, что там зреет у судьбы
в непроходимой чаще?
В объятьях милых или книг,
или стихи кропаем –
но каждый день и каждый миг
мы что-то погребаем.
Зияют ямы на пути,
пустоты и провалы
глухим предвестием в груди,
что всё, мол, миновало.
Но вот уж сколько зим и лет –
отпетый, забубённый –
маячит в зарослях скелет
любви непогребённой.
И ждет она сквозь все нельзя
у гробового входа –
когда настигнет, вознеся,
последняя свобода.

***
О фраза-смерть: «Ничто не предвещало...»
Не помню вещих снов того ночлега,
и утро только радость обещало,
когда мой брат на рельсы лег с разбега.
Мне не был виден позже ужас дальний,
когда смеялись с мамой, пив текилу,
за день до той простуды тривиальной,
что вскорости сведёт её в могилу.
Отец по телефону скажет мельком, –
беспечен будет тон его, обыден, –
что он в больницу ляжет на недельку,
и из нее вовек уже не выйдет.
С тех пор боюсь лица благополучья.
Мне страшен вид безоблачного неба.
Весенний луч предчувствием измучит.
Чревата бурей благостная нега.
Когда сгустились тучи над тобою –
ты защищен, вооружён, ты в стане.
Коварно безмятежье голубое,
когда гроза врасплох тебя застанет.
Удары грома – как удары в спину,
при этом утро ясно и слащаво.
И примешь ты смертельную дробину,
когда ничто её не предвещало.

***
День в деревьях и в птицах над ними,
солнце щурится через листву.
Может, всё это боль мою снимет,
причастив к мировому родству.
А когда уж особенно метко
рок оставит следы кулаков –
мне протянет акация ветку,
как соломинку из облаков.

***
Мир дождливый за окном
сер, бессолнечен, неярок.
Но зато сейчас на нём
незаметен след помарок.
Неказистей серый цвет –
но удобнее гораздо.
Меж землей и небом нет
вопиющего контраста.
Серый цвет не так уж плох:
скромен и дипломатичен.
Он – спокойствия залог,
выдержан, аполитичен.
Всех всегда он примирял…
Но его не любят дети.
Он недаром в словарях –
знак бездумья и бесцветья.
Пусть на белом от машин
черный след кричаще ярок –
никогда живая жизнь
не бывает без помарок.

***
Нереальное утро. Туманный мираж.
Дождь стоит за окном, как невидимый страж.
Заунывный поток, бесконечный мотив
переходит из шёпота в речитатив.
Словно нервы, натянуты струны дождя.
Я устала разгадывать знаки Вождя.
Что мне делать в заплаканном этом краю?
Для чего сберегаешь Ты душу мою?
Вдруг блеснуло, как золотом кто-то прошил,
и, казалось, поддался неведомый шифр.
Мне сказали любимые этим дождём:
«Не волнуйся, мы ждём тебя. Мы подождём».

***
Я вижу всегда чуть больше того, что вижу.
Не только лишь вещь, но то, что за ней и в ней.
Наверное, потому и больше завишу
не только от дней – от призраков их, теней.
Что вам увидится толстой земною коркой –
то мне откроется кладом из-под земли.
Наверное, потому, что я дальнозорка
и ясно вижу лишь то, что уже вдали.

***
Нe с Богом, не с иконой древнею,
не с тёмной мудростью талмуда –
я буду говорить с деревьями.
Лишь им я верю почему-то.
У каждого – своя история,
свой путь неведомый и дальний.
Мой лес – моя консерватория,
мой храм, моя исповедальня!
Днём одаряют лаской плюшевой,
ночами стражей окружают.
Кто так сочувственно нас слушает,
так безутешно утешает?
Я знаю – но оно во благо ли,
не в умноженье ли печали –
о чём сегодня ивы плакали,
дубы таинственно молчали.
Гляжу в Твои просветы синие,
и кажется, я знаю, знаю,
о чём трепещет лист осиновый,
куда нас манит даль лесная...

***
Средь облетевшего и голого,
заиндевевшего едва,
природа поднимает голову
и шепчет: «Я ещё жива!»
Жива – назло унылым мистикам,
пугавшим полночью часам,
покуда хоть единым листиком
ещё стремится к небесам.
И я, над рощей сиротливою
следя полёт нездешних Сил,
учусь у ней, как быть счастливою,
когда на это нету сил.

|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 2 пользователям






































