-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Статистика
Записей: 871
Комментариев: 1385
Написано: 2520
"Я призван был воспеть твои страданья..." |
Начало здесь
10 декабря 1821 года родился Н. А. Некрасов.

Пушкин любил блеск, полноту и радость жизни, он был певцом как бы освещенной солнцем части мира. Некрасов был певцом неосвещённой половины. Его, как и его ровесника и современника Достоевского, занимало несчастье людей, унижение и оскорбление человека. Он был защитником неудачливых, неустроенных, отчаявшихся. «Друг беззащитный, больной и бездомный», – вот к кому обращался поэт.
Некрасов опустил поэзию с небес на землю: под его пером поэзией стало обыденное, житейское, простое человеческое горе. Болезнь, бедность, одиночество, муки совести — вот мотивы его стихотворений.
Нет, Музы ласково поющей и прекрасной
Не помню над собой я песни сладкогласной!
...Но рано надо мной отяготели узы
Другой, неласковой и нелюбимой Музы,
Печальной спутницы печальных бедняков,
Рожденных для труда, страданья и оков...

Муза Некрасова
Некрасов смело отошёл от традиции: он перестал рядиться в тогу певца, бряцающего на лире; Зевсы, Амуры, Венеры, античные, мифологические образы исторгнуты им из стихов. Вместо них жизнь живой России ворвалась в его поэзию. Герои чердаков и подвалов, покосившихся домишек, ночлежек и больниц впервые заговорили в его стихах в полный голос. Вот они, герои стихов Некрасова, запечатлённые на картинах великих русских художников.

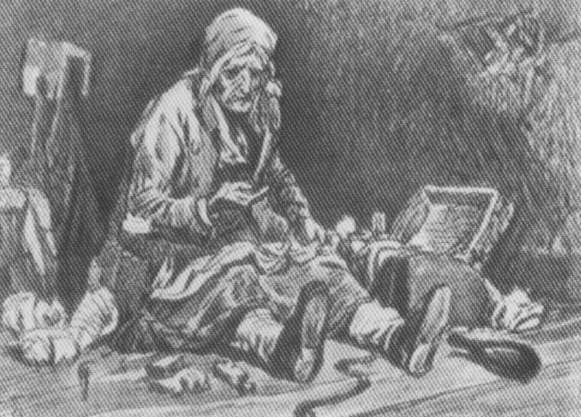


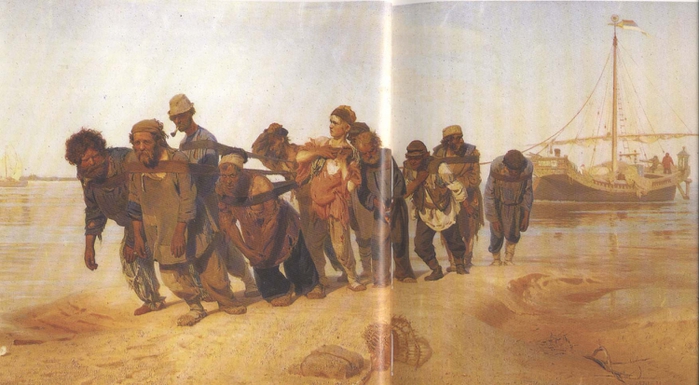
Это был первый удар по классицизму и академизму. Великое значение Некрасова было в том, что он вылил ушат холодной воды на слишком выспренную голову ложно-классической поэзии, он заговорил на языке простонародья, вернул поэзию к житейской прозе, к человеческой боли.
Душно! без счастья и воли
Ночь бесконечно длинна.
Буря бы грянула, что ли?
Чаша с краями полна!
Грянь над пучиною моря,
В поле, в лесу засвищи,
Чашу вселенского горя
Всю расплещи!..
«Я пою тебе песнь покаяния...»
Родился Николай Алексеевич Некрасов в местечке Немирово Каменецко-Подольской губернии, в семье капитана егерского полка. Род был чисто русский, коренной. Когда будущему поэту исполнилось 3 года, отец вышел в отставку и переехал с семьёй в родовое имение Грешнево Ярославской губернии, где и прошло его детство.

И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь текла отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства;
Где рой подавленных и трепетных рабов
Завидовал житью последних барских псов,
Где было суждено мне божий свет увидеть,
Где научился я терпеть и ненавидеть...
Отец поэта, человек крутого нрава и деспотического характера, был жестоким крепостником.

Крепостническое самодурство в те годы было явлением заурядным, но с детских лет оно глубоко уязвило душу Николая, тем более, что жертвой его были не только грешневские крестьяне, но и горячо любимая мать, ради детей безропотно сносившая царивший в семье произвол. «Это было раненное в самом начале жизни сердце, - писал Достоевский, - и эта-то никогда не заживающая рана его и была началом и источником всех страстей, страдальческой поэзии его на всю жизнь».
Николай ещё в молодости раз и навсегда принципиально отказался есть «хлеб, возделанный рабами». Никогда, в отличие от многих передовых деятелей (Герцен, Огарёв, Тургенев) не имел крепостных, не владел людьми, хотя позднее располагал для этого всеми юридическими правами и материальными возможностями.
Все оглядываются на свои детские годы как на потерянный рай, между тем как Некрасов вспоминал их с содроганием. Он бросает слова презрения в лицо своей родине, проклинает свою колыбель, и так жутко читать у него про это злорадство, с которым он смотрел на развалины отцовского дома, на разорение родимого гнезда:
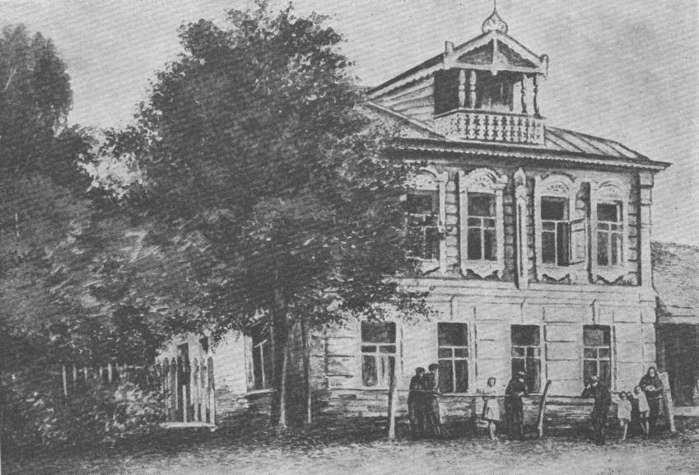
И вот они опять, знакомые места,
Где жизнь текла отцов моих, бесплодна и пуста,
Текла среди пиров, бессмысленного чванства,
Разврата грязного и мелкого тиранства...
И с отвращением кругом кидая взор,
С отрадой вижу я, что срублен темный бор -
В томящий летний зной защита и прохлада, -
И нива выжжена, и праздно дремлет стадо,
Понурив голову над высохшим ручьем,
И набок валится пустой и мрачный дом,
Где вторил звону чаш и гласу ликованья
Глухой и вечный гул подавленных страданий,
И только тот один, кто всех собой давил,
Свободно и дышал, и действовал, и жил...
И над всей этой скорбью и недужностью, примиряя и смягчая, возносится образ матери. Это особая тема Некрасова. Даже в пушкинской лирике отсутствует её образ. В поэзии же Некрасова мать — воплощение идеала, олицетворение всего святого и светлого .
О самой матери поэта Елене Закревской мы почти ничего не знаем. Не сохранилось никаких изображений, никаких вещей, документальных материалов. Известно, что Некрасов очень любил её. Потеряв её в 20 лет, он создал религиозный культ матери, культ материнства. Она выступает у него то как Муза, то как мать-природа, мать сыра-земля, воплощённая совесть. А в одном из последних, уже почти предсмертных стихотворений «Баюшки-баю» само обращение к матери оказывается чуть ли не обращением к Матери Божьей. Некрасов неисчерпаем в своих гимнах материнству.
Внимая ужасам войны,
При каждой новой жертве боя
Мне жаль не друга, не жены,
Мне жаль не самого героя...
Увы! утешится жена,
И друга лучший друг забудет;
Но где-то есть душа одна —
Она до гроба помнить будет!
Средь лицемерных наших дел
И всякой пошлости и прозы
Одни я в мире подсмотрел
Святые, искренние слезы —
То слезы бедных матерей!
Им не забыть своих детей,
Погибших на кровавой ниве,
Как не поднять плакучей иве
Своих поникнувших ветвей...
И — одно из самых проникновенных произведений о сыновней любви к матери, перерастающей в любовь к Родине, о драме русского человека, наделённого жгучей совестливостью — поэма «Рыцарь на час». Некрасов написал её осенью 1862 года, когда навестил родные места и побывал на могиле матери. Это, кажется, не написано, а выплакано, вырыдано — сама фонетика передаёт это рыдание, эту истошную интонацию, когда голос словно срывается на крик:
Повидайся со мною, родимая!
Появись легкой тенью на миг!
Всю ты жизнь прожила нелюбимая,
Всю ты жизнь прожила для других...
Я кручину мою многолетнюю
На родимую грудь изолью,
Я тебе мою песню последнюю,
Мою горькую песню спою.
О прости! то не песнь утешения,
Я заставлю страдать тебя вновь,
Но я гибну — и ради спасения
Я твою призываю любовь!
Я пою тебе песнь покаяния,
Чтобы кроткие очи твои
Смыли жаркой слезою страдания
Все позорные пятна мои!..
От ликующих, праздно болтающих,
Обагряющих руки в крови
Уведи меня в стан погибающих
За великое дело любви!
Достоевский считал эту поэму шедевром. Вся страна не могла тогда читать её без слёз.
Поэт-урбанист
Окончив ярославскую гимназию, летом 1838 года 16-летний Некрасов с заветной тетрадкой стихов отправляется в Петербург.

Вопреки воле отца, желавшего определить его в Дворянский полк (военную школу), Николай мечтал об университете. Экзамены он не выдержал, но определился вольнослушателем и два года посещал занятия на филфаке. Отец, узнав о поступке сына, пришёл в ярость и лишил его всякой материальной поддержки. Шестнадцатилетний подросток оказался один, в чужом городе, без гроша. Ни о какой городской бедности, ни о каком страдании, унижении и оскорблении поэт не писал позднее со стороны, - через всё это он прошёл сам.
Помнишь ли день, как, больной и голодный,
Я унывал, выбивался из сил?
В комнате нашей, пустой и холодной,
Пар от дыханья волнами ходил.
Помнишь ли труб заунывные звуки,
Брызги дождя, полусвет, полутьму?..
это он писал не понаслышке. Тогда-то Николай и поклялся себе не умереть в подвале, выжить, состояться.

каморка, где жил в Петербурге 16-летний Некрасов
Наступили дни литературной подёнщины — когда он писал ради заработка, порой откровенную халтуру: газетные статьи, фельетоны, инструкции по уходу за пчёлами, куплеты для водевилей... Но всё же это было достойней, - считал юный поэт, чем жить на крепостнические деньги отца, пользуясь рабским трудом крестьян.
Праздник жизни — молодости годы -
я убил под тяжестью труда,
и поэтом, баловнем свободы,
другом лени не был никогда.
Но поначалу нищета его очень мучила. Из-за неё он был мучительно застенчив и признавался в стихах:
Поступь гордая, голос уверенный,
Что ни скажут - их речь хороша,
А вот я-то войду, как потерянный,-
И ударится в пятки душа!
На ногах словно гири железные,
Как свинцом налита голова,
Странно руки торчат бесполезные,
На губах замирают слова.
Улыбнусь - непроворная, жесткая,
Не в улыбку улыбка моя...
Мечты о литературе не покидали Некрасова. В начале 40-х он выпустил первый сборник «Мечты и звуки», который оказался неудачным. Осознав это, он собрал весь тираж и уничтожил его. Понял, что надо писать не так и не о том.
Следующая книга называлась «Петербургский сборник», где самым сильным был стихотворный цикл «На улице». Это сцены уличной петербургской жизни, где в бесхитростных зарисовках перед нами проходят оборванный бедняк, укравший калач и схваченный городовым, солдат с детским гробом под мышкой, Ванька-извозчик со своей ободранной клячей... Тягостное впечатление усиливает строка, завершающая последнюю сцену: «Мерещится мне всюду драма». Она звучит как эпилог и в то же время как эпиграф к последующим городским стихам Некрасова.
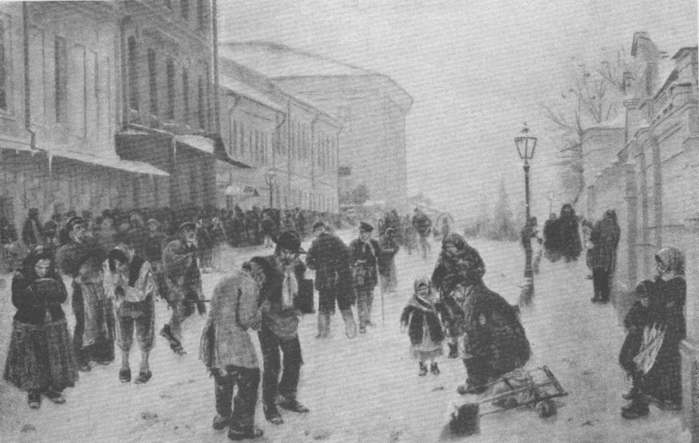
Мы знаем его как крестьянского поэта, но начинал он как урбанистический поэт. Одно из самых характерных произведений этой лирики — стихотворение «Утро»:
...Начинается всюду работа;
Возвестили пожар с каланчи;
На позорную площадь кого-то
Повезли - там уж ждут палачи.
Проститутка домой на рассвете
Поспешает, покинув постель;
Офицеры в наемной карете
Скачут за город: будет дуэль.
Торгаши просыпаются дружно
И спешат за прилавки засесть:
Целый день им обмеривать нужно,
Чтобы вечером сытно поесть.
Чу! из крепости грянули пушки!
Наводненье столице грозит...
Кто-то умер: на красной подушке
Первой степени Анна лежит.
Дворник вора колотит - попался!
Гонят стадо гусей на убой;
Где-то в верхнем этаже раздался
Выстрел - кто-то покончил собой...
Стихотворение предвосхищало тему «страшного мира» Блока, перекликалось со строчками таких урбанистов, как Бодлер, Уитмен. Белинский писал об этих стихах: «Они проникнуты мыслию, это не стишки к деве и луне, в них много умного, дельного и современного. И лучшее из них — «В дороге».
"Скучно! скучно!.. Ямщик удалой,
Разгони чем-нибудь мою скуку!
Песню, что ли, приятель, запой
Про рекрутский набор и разлуку;
Небылицей какой посмеши
Или, что ты видал, расскажи —
Буду, братец, за всё благодарен"...
Так начинается это поразительное стихотворение, и дальше ямщик рассказывает седоку обыкновенную и грустную историю крепостной девушки, которую взяли господа из прихоти в барский дом, воспитали барышней, белоручкой, а когда барин умер, новый хозяин «воротил её на село» — «знай де место своё ты, мужичка», и она, не выдержав тягот и унижений крепостной жизни, умерла... Ужас охватывает, может быть, даже не столько от рассказанной истории, сколько от этой непосредственности, наивности: «А, слышь, бить — так почти не бивал, разве только под пьяную руку...»
Стихотворение «В дороге» принесло Некрасову широкое признание в литературе. Когда он впервые прочёл его в кругу друзей, Белинский воскликнул: «Да знаете ли Вы, что Вы поэт, и поэт истинный?»
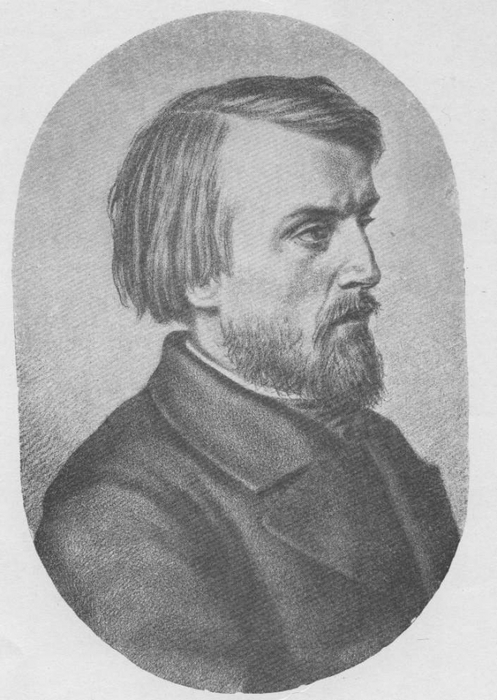
В. Белинский
«Страстный к страданию поэт»
Под влиянием Белинского творческий путь Некрасова определился как путь поэта-реалиста, близкого гоголевскому направлению. Начинающий литератор, он прошёл все круги ада, все ступени, ведущие на городское дно. Полубродяжья жизнь привела его в сомнительные компании, он начал привыкать к вину. Потом была недолгая связь с какой-то бедной девушкой, с которой он поселился в жалком углу, снятом за гроши. Но счастье оказалось непрочным. Отголоски этой безрадостной истории угадываются в стихотворении Некрасова «Еду ли ночью по улице тёмной...»
В разных углах мы сидели угрюмо.
Помню, была ты бледна и слаба,
Зрела в тебе сокровенная дума,
В сердце твоем совершалась борьба.
Я задремал. Ты ушла молчаливо,
Принарядившись, как будто к венцу,
И через час принесла торопливо
Гробик ребенку и ужин отцу.
Голод мучительный мы утолили,
В комнате темной зажгли огонек,
Сына одели и в гроб положили...
Случай нас выручил? Бог ли помог?
Ты не спешила с печальным признаньем,
Я ничего не спросил,
Только мы оба глядели с рыданьем,
Только угрюм и озлоблен я был...
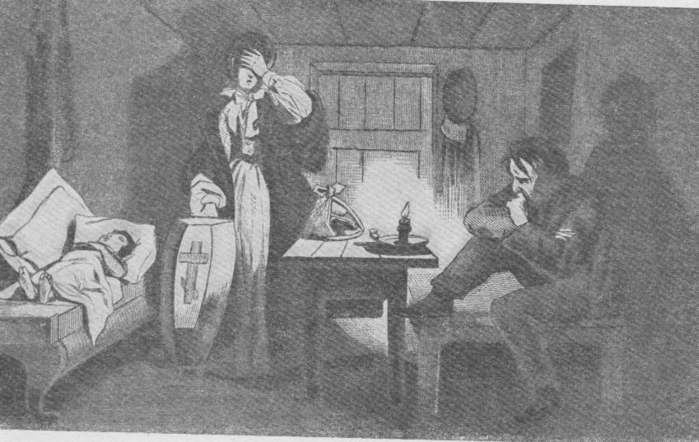
Впоследствии из этой истории выросла история Сонечки Мармеладовой.
Вообще почти весь Достоевский – родом из Некрасова. Взять хоть некрасовский цикл «На улице», где во многих уличных сценках предвосхищены образы, сюжеты, мотивы будущего романа «Преступление и наказание». Так, знаменитый сон-наваждение Раскольникова навеян стихотворением Некрасова об избиении лошади. («Вот она зашаталась и встала.// «Ну!» – погонщик полено схватил// показалось кнута ему мало// – и уж бил её, бил её, бил!»).
Ноги как-то расставив широко,
Вся дымясь, оседая назад,
Лошадь только вздыхала глубоко
И глядела... (так люди глядят,
Покоряясь неправым нападкам).
Он опять: по спине, по бокам,
И, вперед забежав, по лопаткам
И по плачущим, кротким глазам!
Всё напрасно. Клячонка стояла,
Полосатая вся от кнута,
Лишь на каждый удар отвечала
Равномерным движеньем хвоста.

Вообще способность смотреть в глаза ужасу — одно из главных свойств Некрасова. Не знаю ничего страшней и неистовей этих стихов о лошади, избиваемой человеком. Кажется, сказав о погонщике, схватившем полено, можно остановиться, - но нет, Некрасов не пропустит ни одной страшной подробности: ни того, что лошадь уже бьют «по плачущим, кротким глазам», ни её полосатых от кнута боков, ни «нервически скорого шага». «А погонщик не даром трудился — наконец-таки толку добился!» Некрасов не щадит нас, и, может быть, в этой безжалостности, нежелании считаться с нашими душевными возможностями — главная сила его лучших стихов.
Кстати, А. Кушнер в одном из своих стихов отмечает, что слово «нервный» пришло в нашу речь именно из некрасовской музы:
Слово «нервный» сравнительно поздно
появилось у нас в словаре –
у некрасовской музы нервозной
в петербургском промозглом дворе.
Даже лошадь нервически скоро
в его желчном трёхсложнике шла...
Или стихотворение Некрасова «Когда из мрака заблужденья...», на полемике с которым Достоевский построил всю вторую часть «Записок из подполья», цитируя его и в «Селе Степанчиково», и в «Братьях Карамазовых». Это же стихотворение предвосхитило и знаменитую «Яму» Куприна, его заключительные строки цитирует там один из героев.
Идея, философия и даже поэтика страдания у Достоевского во многом сложилась под прямым и сильнейшим влиянием Некрасова. После смерти поэта он писал: «Как много Некрасов, как поэт, все эти 30 лет занимал места в моей жизни!...Прочтите эти страдальческие песни сами, и пусть вновь оживёт наш любимый, страстный поэт! Страстный к страданию поэт!»

Ф.М. Достоевский
«Мучимый страстью мятежной...»
Говоря о поэзии Некрасова, нельзя не сказать о его любовной лирике, которая тоже обильно питалась страданием и потому так пронзительна и до сих пор современна. Но сначала — о той, кому были посвящены практически все его любовные стихотворения. С Авдотьей Панаевой Некрасов познакомился в 1843 году, когда ещё только вступал в литературу. Ему было — 22, ей — 24. Хотя выглядел он намного старше.

В Панаеву были влюблены многие.

«Одна из самых красивых женщин Петербурга», - вспоминал о ней граф В. Соллогуб. Аристократу Соллогубу вторил разночинец Чернышевский: «Красавица, каких немного». Восхищался ей и знаменитый француз А. Дюма: «Женщина с очень выразительной красотой». «Я был влюблён не на шутку, - сообщает о ней брату Ф. Достоевский. - Теперь проходит, а не знаю ещё...» Не остался равнодушен к Панаевой и Фет: «Безукоризненно красивая и привлекательная брюнетка». Фет же посвятил ей стихотворение «На Днепре в половодье».

Н.Г. Сверчков. Амазонка (А.Я. Панаева)
С Панаевыми Некрасова познакомил Белинский. Позже они сдали ему комнату в своей квартире. Иван Панаев считался тогда известным писателем, но не глубоким. Белинский писал: «В нём есть что-то доброе и хорошее, но что это за бедный и пустой человек, жаль его».

Но Панаев был денди, джентльмен, а Некрасова тогда в свете считали каким-то тёмным проходимцем. Один из современников писал в своих записках: «Наружность Панаева была весьма красива и симпатична, тогда как Некрасов имел вид истинного бродяги».
Тем не менее Авдотья предпочла мужу именно его. Первый её брак сложился неудачно, она чувствовала себя одинокой и фактически свободной от семейных уз. Но несмотря на это она далеко не сразу дала волю своему чувству. Женщину страшил суд молвы, неизбежные сплетни. Некрасов страстно убеждал её в стихах:
Когда горит в твоей крови
Огонь действительной любви,
Когда ты сознаёшь глубоко
Свои законные права, —
Верь: не убьет тебя молва
Своею клеветой жестокой!
Постыдных, ненавистных уз
Отринь насильственное бремя
И заключи — пока есть время
Свободный, по сердцу союз.
Панаева, однако, долго колебалась и поначалу отвергла Некрасова. Тот с отчаянья чуть было не кинулся в Волгу, о чём впоследствии поведал миру в стихах, о которых Тургенев сказал: «пушкински хороши»:

Давно - отвергнутый тобою,
Я шел по этим берегам
И, полон думой роковою,
Мгновенно кинулся к волнам.
Они приветливо яснели.
На край обрыва я ступил -
Вдруг волны грозно потемнели,
И страх меня остановил!
Поздней - любви и счастья полны,
Ходили часто мы сюда,
И ты благословляла волны,
Меня отвергшие тогда.
Теперь - один, забыт тобою,
Чрез много роковых годов,
Брожу с убитою душою
Опять у этих берегов.
И та же мысль приходит снова -
И на обрыве я стою,
Но волны не грозят сурово,
А манят в глубину свою...
Но не таков был он человек, чтобы отступиться. Упрямство Авдотьи только разжигало Некрасова. «Как долго ты была сурова,/ Как ты хотела верить мне / И как не верила и колебалась снова», - вспоминал он в позднейшем письме. Нелегко досталась ему эта женщина. Впоследствии он любил вспоминать
И первое движенье страсти,
Так бурно взволновавшей кровь,
И долгую борьбу с самим собою,
И, не убитую борьбою,
Но с каждым днем сильней кипевшую любовь.
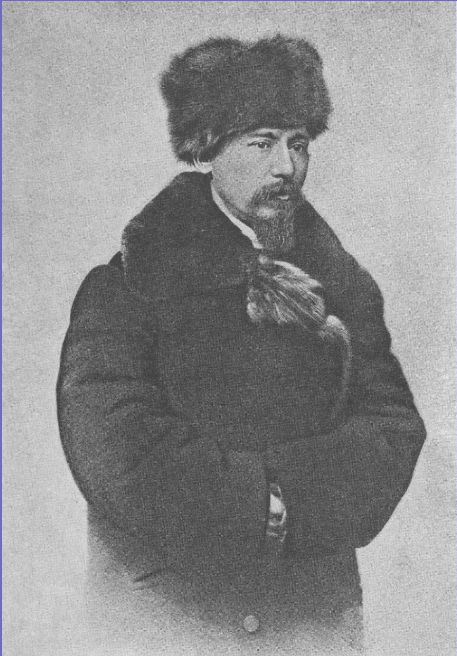
Этот любовный поединок продолжался с 1843 по 1848 год. В 1848 году Панаева стала, наконец, гражданской женой Некрасова (развод в те времена получить было нелегко).
Счастливый день! Его я отличаю
в семье обыкновенных дней,
с него я жизнь мою считаю
и праздную его в душе моей.
А И. Панаеву выпала трудная роль: жить при собственной жене холостяком. Официально он считался её мужем, но и прислуга, и посторонние знали, что муж его жены — Некрасов. Они жили все втроём в одной квартире, что усугубляло насмешки.
Гостиная Панаевых
Отношения Некрасова с Панаевой были очень сложными, что нашло отражение во многих стихах поэта. Их роман стал почвой, на которой родился и роман стихотворный — поэтический цикл Некрасова, носивший название «панаевского» (по аналогии с «денисьевским» циклом Тютчева). Оба эти цикла объединяло то, что любовь Некрасова и Панаевой, как и любовь Тютчева и Денисьевой была незаконна, ставившая их постоянно перед лицом общества и друг перед другом в двусмысленное положение.
Некрасов посвятил Панаевой 13 стихов, (если не считать трёх элегий, написанных уже в 70-е, конце жизни, когда он уже жил с другой). Начинается цикл со стихотворения 1847 года «Если мучимый страстью мятежной...», когда всё начиналось, и заканчивается стихотворением 1856-го «Прости», завершившим определённый этап отношений.
Прости! Не помни дней паденья,
Тоски, унынья, озлобленья, -
Не помни бурь, не помни слез,
Не помни ревности угроз!..
Некрасов дал формулу, которую охотно приняли при разговоре о его лирике: «Проза любви». Однако эта «проза» состояла не в приверженности к быту и дрязгам. Это мир сложных, «достоевских» страстей, ревности, самоутверждений и самоугрызений. Вот почему Чернышевский всё же назвал эту «прозу любви» «поэзией сердца».
Некрасов не просто создал характер героини в лирических стихах, что само уже по себе ново, но и создал новый женский характер, в разных, подчас неожиданных проявлениях: самоотверженный и жестокий, любящий и ревнивый, страдающий и заставляющий страдать.
«Я не люблю иронии твоей» - уже в одной этой начальной строчке стихотворения есть характеры двух людей и бесконечная сложность их отношений. Вообще некрасовские вступления к стихам — это продолжения вновь и вновь начинаемого спора, длящейся ссоры, непрерываемого диалога: «Мы с тобой — бестолковые люди. Что минута — то вспышка готова...» «Да, наша жизнь текла мятежно...» «Так это шутка, милая моя?..»
Образ Панаевой живёт на страницах многих стихов Некрасова: «Поражена потерей невозвратной...», «Тяжёлый крест достался ей на долю...», «Бьётся сердце беспокойное...», «Разбиты все привязанности...» Перед нами предельно искренний лирический дневник, сохранивший горячие следы сердечной жизни двух людей — следы мучительных противоречий, ревности, горьких размолвок и счастливых примирений.
И в любовной лирике Некрасов — поэт страдания. Только оно получает особый, именно некрасовский смысл. Он ощущает всю спасительность страдания, благословляет его по-пушкински («я жить хочу, чтоб мыслить и страдать») и радуется способности к страданию.
Но мне избыток слёз и жгучего страданья
отрадней мёртвой пустоты.
В пору особенно напряжённых отношений с Панаевой, всё более приближающихся к разрыву, Некрасов написал стихотворение «Слёзы и нервы» («О слёзы женские, с придачей нервических, тяжёлых драм!..», которое заканчивалось так:
Зачем не мог я прежде видеть?
Её не стоило любить,
её не стоит ненавидеть...
О ней не стоит говорить...

В черновом варианте были такие — совсем уж жестокие для женщины строки:
Есть не одна такая пара.
Я не таков. Мне не вкусна
ни раз погасшая сигара,
ни обманувшая жена.
«Слёзы и нервы» завершили стихотворный «панаевский» цикл, который навсегда остался в русской поэзии как единственная в своём роде поэзия страдания и «проза любви».
Некрасов-сатирик
У предшественников Некрасова сатира была преимущественно карающей: поэт высоко поднимался над своим героем и с идеальных высот метал в него молнии обличительных испепеляющих слов. Некрасов старается, напротив, как можно ближе подойти к обличаемому герою, проникнуться его взглядом на жизнь, подстроиться к его самооценке:
Украшают тебя добродетели,
до которых другим далеко,
и беру небеса во свидетели -
уважаю тебя глубоко..
(«Современная ода»)
Его главное оружие — сарказм. Часто сатира Некрасова представляет собой монолог от лица обличаемого героя.
Нравственный человек
Живя согласно с строгой моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.
Жена моя, закрыв лицо вуалью,
Под вечерок к любовнику пошла.
Я в дом к нему с полицией прокрался
И уличил... Он вызвал - я не дрался!
Она слегла в постель и умерла,
Истерзана позором и печалью...
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.
Приятель в срок мне долга не представил.
Я, намекнув по-дружески ему,
Закону рассудить нас предоставил;
Закон приговорил его в тюрьму.
В ней умер он, не заплатив алтына,
Но я не злюсь, хоть злиться есть причина!
Я долг ему простил того ж числа,
Почтив его слезами и печалью...
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.
Крестьянина я отдал в повара,
Он удался; хороший повар - счастье!
Но часто отлучался со двора
И званью неприличное пристрастье
Имел: любил читать и рассуждать.
Я, утомясь грозить и распекать,
Отечески посек его, каналью;
Он взял да утопился, дурь нашла!
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла.
Имел я дочь; в учителя влюбилась
И с ним бежать хотела сгоряча.
Я погрозил проклятьем ей: смирилась
И вышла за седого богача.
И дом блестящ и полон был как чаша;
Но стала вдруг бледнеть и гаснуть Маша
И через год в чахотке умерла,
Сразив весь дом глубокою печалью...
Живя согласно с строгою моралью,
Я никому не сделал в жизни зла...
Подобно талантливому актёру, Некрасов перевоплощается, надевая на себя разные сатирические маски. Он глубоко погружается в психологию своих персонажей, в самые потаённые уголки их мелких, подленьких душ.
Ростовщик
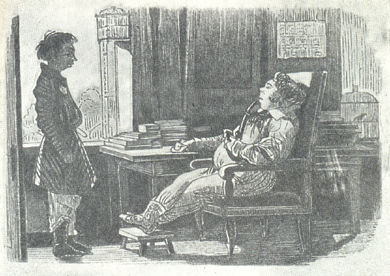
Было года мне четыре,
Как отец сказал:
«Вздор, дитя мое, все в мире!
Дело — капитал!»
И совет его премудрый
Не остался так:
У родителя наутро
Я украл пятак.
Страсть навек к монете звонкой
Тотчас получив,
Стал у всех я собачонкой,
Кто богат и чив.
Руки, ноги без зазренья
Всем лизал, как льстец,
И семи лет от рожденья
Был уж я подлец!
(То есть так только в народе
Говорится, а зато
Уж зарыто в огороде
Было кое-что.)
Говорят, есть страсти, чувства —
Незнаком, не лгу!
Жизнь, по-моему, — искусство
Наживать деньгу.
Знать, во мне раненько скупость
Охладила кровь:
Рано понял я, что глупость —
Слава, честь, любовь,
Что весь свет похож на лужу,
Что друзья — обман
И затем лишь лезут в душу,
Чтоб залезть в карман,
Что от чести от злодейки
Плохи барыши,
Что подлец, кто без копейки,
А не тот, кто без души.
И я свыкся понемногу
С ролею скупца
И, ложась, молился богу,
Чтоб прибрал отца...
Добрый, нежный был родитель,
Но в урочный час
Скрылся в горнюю обитель,
Навсегда угас!
Я не вынес тяжкой раны, —
Я на труп упал
И, обшарив все карманы,
Горько зарыдал...
Продал все, что было можно
Хоть за грош продать,
И деньжонки осторожно
Начал в рост пускать...
Нередко поэт использует сатирический перепев, который нельзя смешивать с пародией. В колыбельной песне «Подражание Лермонтову» воспроизводится ритмико-интонационный строй лермонтовской «Казачьей колыбельной», частично заимствуется и её высокая поэтическая лексика, но не во имя пародирования, а для того, чтобы резче оттенилась низменность тех отношений, о которых идёт речь у Некрасова.
Спи, пострел, пока безвредный!
Баюшки-баю.
Тускло смотрит месяц медный
В колыбель твою,
Стану сказывать не сказки -
Правду пропою;
Ты ж дремли, закрывши глазки,
Баюшки-баю.
Будешь ты чиновник с виду
И подлец душой,
Провожать тебя я выду -
И махну рукой!
В день привыкнешь ты картинно
Спину гнуть свою...
Спи, пострел, пока невинный!
Баюшки-баю.
Тих и кроток, как овечка,
И крепонек лбом,
До хорошего местечка
Доползешь ужом -
И охулки не положишь
На руку свою.
Спи, покуда красть не можешь!
Баюшки-баю.
Купишь дом многоэтажный,
Схватишь крупный чин
И вдруг станешь барин важный,
Русский дворянин.
Заживешь - и мирно, ясно
Кончишь жизнь свою...
Спи, чиновник мой прекрасный!
Баюшки-баю.
Или вот такой сатирический перепев тоже на мотив Лермонтова:
В один трактир они оба ходили прилежно
И пили с отвагой и страстью безумно мятежной,
Враждебно кончалися их биллиардные встречи,
И были дики и буйны их пьяные речи.
Сражались они меж собой, как враги и злодеи,
И даже во сне всё друг с другом играли.
И вдруг подралися… Хозяин прогнал их в три шеи,
Но в новом трактире друг друга они не узнали…
Юмор Некрасова
Он у него восхитителен. Но почему-то некоторые исследователи и интерпретаторы его творчества этот юмор напрочь игнорируют. Вплоть до того, что позволяют себе переделывать на более серьёзный, академический лад какие-то строки поэта, показавшиеся кому-то чересчур легкомысленными. Вот, например, прелестное стихотворение Некрасова, которое я у него очень люблю:
Где твоё личико смуглое
нынче смеётся, кому?
Эх, одиночество круглое!
Не посулю никому!
А ведь, бывало, охотно
шла ты ко мне вечерком.
Как мы с тобой беззаботно
веселы были вдвоём!
Как выражала ты живо
милые чувства свои!
Помнишь, тебе особливо
нравились зубы мои?
как любовалась ты ими,
как цаловала, любя!
Но и зубами моими
не удержал я тебя...
Стихотворение шутливое, немного дурашливое: тут и «особливо», и эти «зубы», которые придают стиху непосредственность, лукавство, неповторимое своеобразие. Оно живое. И во многом благодаря этим «зубам». Собственно, всё стихотворение держится на этих зубах, в них-то вся прелесть, в этой улыбке.
И вот, готовясь к вечеру Некрасова, я нахожу в нашей библиотечной фонотеке пластинку советского композитора Бориса Терентьева с песнями на стихи поэта, в том числе и на это. Мелодия занудная, заунывная, совершенно не соответствующая характеру стихов. И вдруг слышу: певец выдаёт нечто отнюдь не некрасовское, а, как я подозреваю, плод творчества самого Терентьева (или исполнителя Евгения Беляева): «Помню, тебе особливо нравились очи мои». Видимо, советским авторам «зубы» показались неэстетичным, непесенным словом, и они ничтоже сумняшеся отредактировали классика, заменив на высокопоэтичное «очи». Ну и, соответственно, последнюю строчку «улучшили»: «но и глазами моими не удержал я тебя». И всё, очарование ушло. Напыщенное «очи» (никогда никакой мужчина – если, конечно, он не Нарцисс – не скажет о себе «очи») убило живую непосредственную интонацию стиха, сделало его плоским, попросту неумным, особенно в серьёзном, даже торжественном исполнении тенора. Классик же, какой тут может быть юмор! А то, что недопустимо самочинно искажать и корёжить строки классика, пользуясь тем, что он уже умер и не сможет отстоять свои стихи – этого им никто в консерватории не объяснил. Поэтому приходится объяснять мне.
Продолжение здесь: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post194732247/
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 2 пользователям
"Крылатый слова звук" |
Начало здесь
5 декабря 1820 года родился Афанасий Фет.

«Природы праздный соглядатай...»
В 1843 году в журнале «Отечественные записки» появилось стихотворение тогда ещё никому не известного 23-летнего поэта «Я пришёл к тебе с приветом...», где он во всеуслышание назвал то, о чём пришёл рассказать в русской поэзии: о радостном блеске солнечного утра и страстном трепете молодой весенней жизни, о жаждущей счастья влюблённой душе и неудержимой песне, готовой слиться с веселием мира. «Подобного лирического весеннего чувства природы мы не знали во всей русской поэзии!» - воскликнул тогда критик Василий Боткин, автор одной из лучших статей о творчестве Фета.

Я пришел к тебе с приветом,
Рассказать, что солнце встало,
Что оно горячим светом
По листам затрепетало;
Рассказать, что лес проснулся,
Весь проснулся, веткой каждой,
Каждой птицей встрепенулся
И весенней полон жаждой;
Рассказать, что с той же страстью,
Как вчера, пришел я снова,
Что душа всё так же счастью
И тебе служить готова;
Рассказать, что отовсюду
На меня весельем веет,
Что не знаю сам, что́ буду
Петь, — но только песня зреет.
Если у Некрасова природа тесно связана с человеческим трудом, с тем, что она даёт человеку, - то у Фета — лишь повод для выражения мыслей и чувств, лишь объект художественного восторга, эстетического наслаждения, созерцания. Обаяние этих стихов прежде всего в их эмоциональности.
Природы праздный соглядатай,
Люблю, забывши всё кругом,
Следить за ласточкой стрельчатой
Над вечереющим прудом...

Природа у Фета — точно в первый день творения: кущи дерев, светлая лента реки, соловьиное пение. Это один из замечательнейших поэтов-пейзажистов.
Ель рукавом мне тропинку завесила.
Ветер. В лесу одному
Шумно, и жутко, и грустно, и весело, -
Я ничего не пойму...

Особенность фетовской лирики — в органической слиянности природного и человеческого, душевного мира.
Какая ночь! На всем какая нега!
Благодарю, родной полночный край!
Из царства льдов, из царства вьюг и снега
Как свеж и чист твой вылетает май!
Какая ночь! Все звезды до единой
Тепло и кротко в душу смотрят вновь,
И в воздухе за песней соловьиной
Разносится тревога и любовь.
Березы ждут. Их лист полупрозрачный
Застенчиво манит и тешит взор.
Они дрожат. Так деве новобрачной
И радостен и чужд ее убор.
Нет, никогда нежней и бестелесней
Твой лик, о ночь, не мог меня томить!
Опять к тебе иду с невольной песней,
Невольной – и последней, может быть.

Радость страданья
Продолжая традиции Жуковского и Тютчева, Фет оказал огромное влияние на последующее развитие русской поэзии. Он как бы мост от Державина и Батюшкова к Блоку.
Блок очень многое взял у Фета. Его знаменитая строка «Радость-страданье одно» из песни Гаэтана («Радость, о радость-страданье, боль неизведанных ран») - это «радость страдания» Фета»: «Где радость теплится страданья»:
Страдать! Страдают все, страдает темный зверь
Без упованья, без сознанья;
Но перед ним туда навек закрыта дверь,
Где радость теплится страданья.
Блока поразила мысль Фета о том, что и в страдании есть своя утончённая радость, это то, что мы потом стали называть катарсисом.
А вот мнение Льва Толстого о другом его стихотворении: «Стихотворение Ваше крошечное прекрасно. Это новое, никогда не уловленное прежде чувство боли от красоты, выражено прелестно».

В дымке-невидимке
Выплыл месяц вешний,
Цвет садовый дышит
Яблонью, черешней.
Так и льнет, целуя
Тайно и нескромно.
И тебе не грустно?
И тебе не томно?
Истерзался песней
Соловей без розы.
Плачет старый камень,
В пруд роняя слезы.
Уронила косы
Голова невольно.
И тебе не томно?
И тебе не больно?
Красота в стихах Фета — это всегда преодолённое страдание, это радость, добытая из боли.
Идеал красоты
Фет всегда тяготел к темам так называемого «чистого искусства»: темам природы и любви. Искусство для него связано лишь с вечным идеалом красоты. В своих статьях он развивал эти идеи: «единственная задача искусства — передать во всей полноте и чистоте образ, в минуту восторга возникший перед художником, и другой цели у искусства быть не может».
Шепнуть о том, пред чем язык немеет
Усилить бой бестрепетных сердец –
Вот чем певец лишь избранный владеет,
Вот в чем его и признак и венец!
С этим, конечно, не могла согласиться демократическая критика. Чернышевский писал о Фете: «Хороший поэт, но пишет пустяки». Фет возражал: «В нашем деле пустяки и есть истинная правда». И доказывал, что в стихах главное — не разум автора, а «бессознательный инстинкт (вдохновение), пружины которого от нас скрыты».
Сновиденье,
Пробужденье,
Тает мгла.
Как весною,
Надо мною
Высь светла.
Неизбежно,
Страстно, нежно
Уповать,
Без усилий
С плеском крылий
Залетать -
В мир стремлений,
Преклонений
И молитв;
Радость чуя,
Не хочу я
Ваших битв.
Ничему грубому, жестокому, вульгарному, безобразному доступа в мир фетовской лирики нет. Она соткана только из красоты. «У всякого предмета, - пишет Фет, - тысячи сторон, но художнику дорога только одна сторона предметов: их красота, точно так же, как математику дороги их очертания или численность». В этой односторонности — специфичность лирики Фета, в ней её слабость — та узость кругозора, в которой так резко укоряли его критики-шестидесятники, но в ней же и её сила — художественное обаяние, эстетическая прелесть. В этих стихах мы встречаемся поистине с самой поэзией, чистой её субстанцией, освобождённой от балласта: это воздушный шар, с которого сбросили мешки с песком.
Эту красоту Фет видел в самых обычных будничных предметах. Я. Полонский вспоминал: «Юный Фет, бывало, говорил мне: «к чему искать сюжеты для стихов: сюжеты эти на каждом шагу, - брось на стул женское платье или погляди на двух ворон, которые уселись на заборе, вот тебе и сюжеты».
«Тайна поэзии сокрыта от глухих, - писал Фет, - глухие ищут в поэзии «воспроизведения жизни», в оценке обывателя поэт — безумец. А между тем... кто не в состоянии броситься с седьмого этажа вниз головой с непоколебимой верой в то, что он воспарит по воздуху, тот не лирик!»
Я загораюсь и горю,
я порываюсь и парю
в томленьях крайнего усилья.
И верю сердцем, что растут
и тотчас в небо унесут
мои раскинутые крылья.

Лирическая дерзость
В образах Фет подчас удивительно смел:
Зачем же за тающей скрипкой
Так сердце в груди встрепенулось,
Как будто знакомой улыбкой
Минувшее вдруг улыбнулось?
Лев Толстой писал о Фете: «И откуда у этого добродушного толстого офицера берётся такая непонятная лирическая дерзость, свойство великих поэтов?»
...Устало всё кругом: устал и цвет небес.
И ветер, и река, и месяц, что родился...
Критики недоумевали: как может цвет небес устать? Как может минувшее улыбаться?
При таком словоупотреблении стушёвывается основное значение слова, а на первый план выступает его эмоциональная окраска. Эпитет уже не столько характеризует предмет, сколько выражает настроение поэта. Стирается грань между внешним миром и душевной жизнью.
Современников поражали такие эпитеты Фета, как «звонкий сад», «млечный голос», «румяная скромность», «мёртвые грёзы», «овдовевшая лазурь»... Они вызывали недоумение и насмешки. Редакторы ставили на полях его рукописей пометки: «не понимаю», «что это значит?», «чушь!» И это непонимание сопровождало Фета всю жизнь. Нам, прошедшим школу новейшей поэзии, ныне понятно, что такое «тающая скрипка» или «травы в рыдании», а ведь даже Полонский в 1888 году отвергал «золотое куку».
Афоризмы Фета
Фет — это не только поэт чувства, но и поэт мысли. Многие заключительные строки его стихов — готовые афоризмы, поражающие своей мудростью, отточенностью формулировок и точностью наблюдений:
«Только песне нужна красота, красоте же и и песен не надо».
«Пора за будущность заране не пугаться, пора о счастии учиться вспоминать».
«Хоть смерть в виду, а всё же нужно жить. А слово «жить» ведь значит: покоряться».
«И лжёт душа, что ей не нужно всего, что ей глубоко жаль».
«И если жизнь — базар крикливый Бога, то только смерть — его бессмертный храм».
Мимолётное
Особенности художественной манеры Фета - в стремлении передавать те чувства и озарения, которые невозможно определить точным словом, а можно только «навеять на душу» читателя. В умении уловить неуловимое, дать название тому, что до него было лишь смутным, мимолётным ощущением души человеческой.
Лишь у тебя, поэт, крылатый слова звук
хватает на лету и закрепляет вдруг
и тёмный бред души, и трав неясный запах...
Это поэт неопределённых мечтаний, неясных побуждений, недосказанных смутных чувств. Ему чужды цельные и внятные предложения, ему дороже «шёпот, шорох, трепет, лепет», у него звуки — самые тихие в нашей литературе, и вообще Фет, как кто-то сказал, — это шёпот русской поэзии. Он словно во сне говорит стихами или стихами припоминает то, что ему приснилось. Потому и лежит на его стихах как бы тонкая вуаль, и все они — «словно неясно дошедшая весть».
С солнцем склоняясь за темную землю,
Взором весь пройденный путь я объемлю:
Вижу, бесследно пустынная мгла
День погасила и ночь привела.
Страшным лишь что-то мерцает узором:
Горе минувшее тайным укором
В сбивчивом ходе несбыточных грез
Там миллионы рассыпало слез.
Стыдно и больно, что так непонятно
Светятся эти туманные пятна,
Словно неясно дошедшая весть…
Всё бы, ах, всё бы с собою унесть!
Слова для него — материальны и тяжелы: «Людские так грубы слова, их даже нашёптывать стыдно!» Через всё творчество Фета проходит тема «бедности слова»: «О, если б без слова сказаться душой было можно!»
Поэзия бездумна, как «язык любви, цветов, ночных лучей», близка к «немой речи» природы, связана со снами, с неясным бредом. Слова только приблизительны. О, если б можно было отвергнуть их неискусное посредничество! Тишина, дыхание, вздохи, глаза, которые смотрятся в глаза другие, призыв, переданный «одним лучом из ока в око, одной улыбкой уст немых», золотое мигание звёзд — всё это гораздо красноречивее нашей бледной речи, всё это — понятные и чудные намёки, которые для Фета более желанны, чем отчётливость определяющего слова.
Не нами
бессилье изведано слов к выраженью желаний.
Безмолвные муки сказалися людям веками,
но очередь наша, и кончится ряд испытаний
не нами...
Музыка груди
С лирической дерзостью связан и такой иррациональный момент фетовской лирики, как её музыкальность. Когда цель стиха — не смысловое сообщение, а передача настроения, чувства. Однажды в письме Льву Толстому Фет, в очередной раз сокрушаясь, что в словах передать ничего нельзя, написал: «Всё понимается музыкой груди». Музыкальность Фета — это и есть мучительная и сладкая музыка груди, задевающая сердечные струны читателя, чтобы исторгнуть из них ответный звук.
Чайковский писал: «Фет в лучшие свои минуты выходит из пределов, указанных поэзии, и смело делает шаг в нашу область. Это не просто поэт, а поэт-музыкант». Фет откликался: «Чайковский тысячу раз прав, так как меня всегда из определённой области слов тянуло в неопределённую область музыки, в которую я уходил, насколько хватало сил моих».
Лесом мы шли по тропинке единственной
В поздний и сумрачный час.
Я посмотрел: запад с дрожью таинственной
Гас.
Что-то хотелось сказать на прощание,-
Сердца не понял никто;
Что же сказать про его обмирание?
Что?
Думы ли реют тревожно-несвязные,
Плачет ли сердце в груди,-
Скоро повысыплют звезды алмазные,
Жди!
Фет так сочетает вопросы и восклицания, так строит фразу, чтобы свойственные интонациям речи повышения и понижения слагались в своего рода мелодию. Часто тема стихотворения развивается как музыкальная тема — переплетением повторяющихся мотивов. Такие стихи находятся на грани между поэзией и музыкой, а иные и прямо вызваны музыкальными впечатлениями:
Я понял те слезы, я понял те муки,
Где слово немеет, где царствуют звуки,
Где слышишь не песню, а душу певца,
Где дух покидает ненужное тело,
Где внемлешь, что радость не знает предела,
Где веришь, что счастью не будет конца.

Близость «мелодий» Фета сразу почувствовали композиторы. В 60-е годы Салтыков-Щедрин констатирует, что «романсы Фета распевает чуть ли не вся Россия». Чайковский написал несколько романсов на его стихи. Один из самых известных и пленительных: «Сияла ночь. Луной был полон сад...» Послушайте его в исполнении Олега Погудина: http://video.mail.ru/mail/likinas/621/309.html
«Опять»
Любопытна история, как это стихотворение появилось на свет. Героиня и адресат его — Татьяна Берс, в замужестве Кузьминская, сестра Софьи Андреевны Толстой, которая была, как известно, одним из прообразов Наташи Ростовой.


Татьяна Берс, сестра жены Л.Толстого, адресат нескольких стихотворений А. Фета
Она вдохновила Толстого на одну из лучших глав «Войны и мира», где он описывает удивительное пение Наташи.
Когда-то, в 1866 году, 20-летняя Татьяна Кузьминская пела в Ясной Поляне в присутствии Фета, и тот был глубоко растроган её доверительной и глубокой интонацией. Позже им было написано посвящённое ей стихотворение «Певице»:
Уноси мое сердце в звенящую даль,
Где как месяц за рощей печаль;
В этих звуках на жаркие слезы твои
Кротко светит улыбка любви.
О дитя! как легко средь незримых зыбей
Доверяться мне песне твоей:
Выше, выше плыву серебристым путем,
Будто шаткая тень за крылом.
Вдалеке замирает твой голос, горя,
Словно за морем ночью заря, —
И откуда-то вдруг, я понять не могу,
Грянет звонкий прилив жемчугу.
Уноси ж мое сердце в звенящую даль,
Где кротка, как улыбка, печаль,
И всё выше помчусь серебристым путем
Я, как шаткая тень за крылом.
Прошло 11 лет, и вновь в Ясной Поляне пела Кузьминская летней короткой ночью.

Тогда-то и родилось знаменитое стихотворение Фета «Сияла ночь...», названное им первоначально «Опять». Фет написал его той ночью под впечатлением пения Кузьминской и утром при всех преподнёс певице. Все были восхищены и несколько шокированы этим откровенным и страстным признанием в любви — тем более, что при сём присутствовала жена поэта Мария Петровна (Боткина).
«Сияла ночь...» представляет собой несомненную параллель к пушкинскому «Я помню чудное мгновенье»: в обоих стихотворениях говорится о двух встречах, двух сильнейших повторных впечатлениях. Два выступления Кузьминской, пережитые Фетом, и дали в соединении тот поэтический импульс, в котором личность певицы, её пение, покорившее поэта, оказались неотделимыми от того любимейшего Фетом романса, который звучал в её исполнении: «и вот опять явилась ты» - «и вот в тиши ночной твой голос слышу вновь». Так родилось одно из самых прекрасных стихотворений Фета о любви и музыке.
На своей лекции я демонстрировала эти стихи и романс на них на фоне вот этой картины И.Крамского «Лунная ночь», написанной в то же время, что и стихотворение — в 1877 году.

Изящная фигура женщины в белом на фоне высоких деревьев осеннего кунцевского парка таинственна и романтична. По настроению эта картина очень близка стихам Фета. Во многих рецензиях на неё писали, что картина напоминает сцену из какого- то романа или фразу из старинного романса.
Сияла ночь. Луной был полон сад. Лежали
Лучи у наших ног в гостиной без огней.
Рояль был весь раскрыт, и струны в нем дрожали,
Как и сердца у нас за песнею твоей.
Ты пела до зари, в слезах изнемогая,
Что ты одна - любовь, что нет любви иной,
И так хотелось жить, чтоб, звука не роняя,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой.
И много лет прошло, томительных и скучных,
И вот в тиши ночной твой голос слышу вновь,
И веет, как тогда, во вздохах этих звучных,
Что ты одна - вся жизнь, что ты одна - любовь,
Что нет обид судьбы и сердца жгучей муки,
А жизни нет конца, и цели нет иной,
Как только веровать в рыдающие звуки,
Тебя любить, обнять и плакать над тобой!
Между экстазом и хандрой
Фет в своей сфере — поэт редкой эмоциональности, редкой силы заражающего чувства, при этом чувства светлого, жизнеутверждающего. Преобладающее настроение поэзии Фета — состояние душевного подъёма. Упоение природой, любовью, искусством, женской красотой, воспоминаниями, мечтами...
В моей руке — такое чудо! -
твоя рука,
и на траве два изумруда -
два светляка.
***
Пей, отдавайся минутам счастливым, -
трепет блаженства всю душу обнимет,
пей и не спрашивай взором пытливым,
скоро ли сердце иссякнет, остынет.
Едва ли не каждое стихотворение Фета производит впечатление головокружительного полёта.
И в дальний блеск душа лететь готова,
не трепетом, а радостью объята,
как будто это чувство ей не ново,
а сладостно уж грезилось когда-то.
Лирический экстаз, поэтическое безумство — это то, что Фет более всего ценил в лирике. В письме Я. Полонскому он пишет: «Поэт есть сумасшедший и никуда не годный человек, лепечущий божественный вздор».
Когда ж под тучею, прозрачна и чиста,
поведает заря, что минул день ненастья, -
былинки не найдёшь и не найдёшь листа,
чтобы не плакал он и не сиял от счастья.
Но в жизни Фет был совершенно иным человеком, нежели в стихах. Угрюмым, нелюдимым, подверженным приступам мрачной хандры. Тургенев писал о нём в письме: «Я не знаю человека, который мог бы сравниться с ним в умении хандрить». Сейчас это называют депрессией.
Резкие переходы от кипучей энергии к полному упадку сил, приступы тоски и меланхолии были симптомами психического недуга, унаследованными поэтом от больной матери. Душевнобольными были также сёстры Фета, оба брата, сын сестры. Он очень боялся наследственного безумия и поклялся себе, что при первых же его признаках покончит с собой. Аполлон Григорьев — друг детства и юности Фета — писал о нём: «Я не видел человека, которого бы так душила тоска, за которого бы я более боялся самоубийства. Я боялся за него, я проводил часто ночи у его постели, стараясь чем бы то ни было рассеять страшное хаотическое брожение стихий его души».
Этот певец любви и природы был мрачным ипохондриком. Но в стихах Фета вы ничего этого не увидите. Для этого угрюмого, озлобленного человека, не верящего в людей и в счастье, акт поэтического творчества был актом освобождения, преодоления трагизма жизни, воспринимался как отдушина, как выход из мира скорбей и страданий в мир светлой радости.
Какое счастие: и ночь, и мы одни!
Река — как зеркало и всё блестит звездами,
а там-то — голову закинь-ка да взгляни:
какая глубина и чистота над нами!..

Верующий атеист
Фет уже студентом-первокурсником был непоколебимо убеждённым атеистом. Для юноши 30-х годов 19 века, поэта-романтика, принадлежавшего к кругу молодежи, увлечённой идеалистической философией, эта позиция необычная: там были мучительные сомнения в религиозных истинах, настроения богоборчества – здесь же было спокойное и твёрдое отрицание. Когда Аполлон Григорьев, исполненный религиозного рвения, бил поклоны в церкви, безбожник Фет, пристроившись рядом, нашёптывал ему в ухо мефистофельские сарказмы.
Если Пушкин в конце жизни пришёл к Богу, то Фет непреклонным атеистом остался до последних дней. Когда, незадолго до его смерти, врач посоветовал жене поэта вызвать священника, чтобы причастить больного, она ответила, что «Афанасий Афанасьевич не признаёт никаких обрядов» и что грех этот (остаться без причастия) она берёт на себя. Этот факт сообщает биограф Фета Б. Садовский, который даёт к этим словам такое пояснение: «Фет был убеждённым атеистом. Когда он беседовал о религии с верующим Полонским, то порой доводил последнего, по свидетельству его семьи, до слёз». Об атеизме Фета, о спорах, в которых он опровергал догматы религии, рассказывает в своих воспоминаниях старший сын Льва Толстого Сергей.
Однако такой парадокс: у атеиста Фета – умнейшие стихи о Боге, по велению коего светлый серафим однажды «громадный шар возжёг над мирозданьем». И, обращаясь к Творцу мира, человек говорит:
Нет, Ты могуч и мне непостижим
тем, что я сам, бессильный и мгновенный,
ношу в груди, как оный серафим,
огонь сильней и ярче всей вселенной.
Меж тем как я, добыча суеты,
игралище её непостоянства,
во мне он вечен, вездесущ, как Ты,
ни времени не знает, ни пространства.

У Фета – прекрасные стихи о Христе, об искушении его сатаною в пустыне («Когда Божественный бежал людских речей...»).

И. Крамской. «Христос в пустыне»
Атеизм атеизмом, но Фет ощущал мир как высшее художественное творение и себя как персонаж некоего грандиозного, не постижимого разумом сюжета.
Душа в тот круг уже вступила,
куда невидимая мгла
её неволей увлекла...
***
Чего хочу? Иль, может статься,
бывалой жизнию дыша,
в чужой восторг переселяться
заране учится душа?..
Душа для Фета – совершенно самостоятельная реальность, субстанция, наблюдаемая поэтом при всех её трансформациях, странствиях, мытарствах, воплощениях. А так видеть её может только человек, пронизанный верой, живущий ею и по-другому жить не умеющий. Так что ж, атеист ли Фет? Да, всё-таки атеист, но такой, который в ощущении Бога не уступит и людям, проникнутым органичной для них верой.
Однажды Фет, по свидетельству очевидца, во время спора вскочил, стал перед иконой и, крестясь, произнёс с чувством горячей благодарности: «Господи Иисусе Христе, Мать пресвятая Богородица, благодарю Вac, что я не христианин!». Однако, как сказал один религиозный мыслитель, «душа – по природе своей христианка». Можно добавить: стихи по природе своей связаны с божеством. Ведь поэзия и возникла как молитва, заговор, заклинание. И что бы ни думал, что бы ни говорил поэт в жизни, в стихах он никуда от Бога не уйдёт. Такова сила поэтической традиции, таков язык, так устроено наше сердце, таково благоговение перед жизнью и благодарность, диктующая стихи.
«В напевах старческих твой юный дух живёт»
Иные поэты к концу жизни что называется исписываются, исчерпывают свой творческий потенциал, начинают перепевать себя или вообще замолкают. Но есть такие, кто до глубокой старости сохраняют свежесть чувств и вдохновенность творческих порывов. Таким был Фет. Незадолго до смерти он выпускает сборник стихов "Вечерние огни" — после 20 лет молчания, а затем, с промежутками в 2-3 года — ещё три небольших сборника под тем же заглавием. Пятый выпуск "Вечерних огней" вышел уже после его кончины.
Это было очень точное название — то были именно огни, свет в конце жизни, подлинное чудо возрождения: старик Фет творил так же вдохновенно, что и в молодые годы, поистине обретя новое поэтическое дыхание.
Полуразрушенный, полужилец могилы,
о таинствах любви зачем ты нам поёшь?
Зачем, куда тебя домчать не могут силы,
как дерзкий юноша,один ты нас зовёшь?
- Томлюся и пою. Ты слушаешь и млеешь;
в напевах старческих твой юный дух живёт.
Так в хоре молодом "Ах, слышишь, разумеешь?" —
цыганка старая одна ещё поёт.
И в "старческих" любовных стихах Фета было всё то же чувство влюблённости в жизнь, в её вечную красоту, осознаваемую поэтом на исходе лет с ещё большей остротой:
Ещё люблю, ещё томлюсь
перед всемирной красотою
и ни за что не отрекусь
от ласк, ниспосланных тобою.
Покуда на груди земной
хотя с трудом дышать я буду,
весь трепет жизни молодой
мне будет внятен отовсюду.
Покорны солнечным лучам,
так сходят корни в глубь могилы
и там до смерти ищут силы
бежать навстречу вешним дням.

Творчество А. Фета похоже на куст, на котором из года в год расцветают всё те же цветы.
Всё, всё моё, что есть и прежде было,
в мечтах и снах нет времени оков,
блаженных грёз душа не поделила:
нет старческих и юношеских снов.
За рубежом вседневного удела
хотя на миг отрадно и светло,
пока душа кипит в горниле тела,
она летит, куда несёт крыло.
В другом облике, но в той же сущности донёс Фет до последних дней свою душу, донёс её неутомлённой, неразмененной, неувядшей. Фету как художнику была свойственна человеческая цельность. И потому и в 70 лет он мог напечатать вот такое стихотворение:
На качелях

И опять в полусвете ночном
средь верёвок, натянутых туго,
на доске этой шаткой вдвоём
мы стоим и бросаем друг друга.
И чем ближе к вершине лесной,
тем страшнее стоять и держаться,
тем отрадней взлетать над землёй
и одним к небесам приближаться.
Правда, это игра, и притом
может выйти игра роковая,
но и жизнью играть нам вдвоём —
это счастье, моя дорогая!
Фельетонисты издевались над Фетом, называя "мышиным жеребчиком". "Не везёт бедному Фету! В 68 лет писать о свиданиях и поцелуях, — иронизировал один. — Вообразите сморщенную старуху, которая ещё не потеряла способности возбуждаться, — крайне непривлекательный вид у Музы г-на Фета!"
"Представьте себе, — подтрунивал другой, — этого старца и его "дорогую", "бросающих друг друга" на шаткой доске... Представьте себе, что "дорогая" соответствует по годам "дорогому", как тут не рассмеяться на старческую игру новых Филемона и Бавкиды, как тут не обеспокоиться, что их игра может окончиться неблагополучно для разыгравшихся старичков"?
А вот что писал сам Фет по поводу этого стихотворения:
"Сорок лет тому назад я качался на качелях с девушкой, стоя на доске, и платье её трещало от ветра, а через сорок лет она попала в стихотворение, и шуты гороховые упрекают меня, зачем я с Марьей Петровной качаюсь".

Ты изумляешься, что я ещё пою,
как будто прежняя во храм вступает жрица,
и, чем-то молодым овеяв песнь мою,
то ласточка мелькнёт, то длинная ресница.
Не всё же был я стар, и жизненных трудов
не вечно на плеча ложилася обуза:
в беспечные года, в виду ночных пиров,
огни потешные изготовляла муза.
Как сожигать тогда отрадно было их
в кругу приятелей, в глазах воздушной феи!
Их было множество, и ярких, и цветных, —
но рабский труд прервал весёлые затеи.
И вот, когда теперь, поникнув головой
и исподлобья вдаль одну вперяя взгляды,
раздумье набредёт тяжёлою ногой
и слышишь выстрел ты, — то старые заряды.

Вечный гражданин мира
В период 1882-1892 годов на седьмом и восьмом десятке лет Фет пишет особенно много любовных стихов, и они почти впервые говорят о теперешней, а не о прошедшей любви, обращены к ныне любимой, а не только к образу прежней возлюбленной. Можно было бы говорить о втором любовном цикле Фета, если бы было известно, к кому он обращён, хотя бы к одной женщине или к нескольким, вызывавшим в поэте чувство влюблённости.
Только в мире и есть, что тенистый
Дремлющих клёнов шатёр.
Только в мире и есть, что лучистый
Детски задумчивый взор.
Только в мире и есть, что душистый
Милой головки убор.
Только в мире и есть этот чистый
Влево бегущий пробор.

Всё, как бывало, веселый, счастливый,
Ленты твоей уловляю извивы,
Млеющих звуков впивая истому;
Пусть ты летишь, отдаваясь другому.
Пусть пронеслась ты надменно, небрежно,
Сердце мое всё по-прежнему нежно,
Сердце обид не считает, не мерит,
Сердце по-прежнему любит и верит.
Есть поэты, напоминающие в своём стремительном движении многоступенчатую ракету. Вторая половина жизни Фета (после 1860 года) оказалась как бы новым витком спирали. Но звёздный час поэта был в прошлом — эпоха 50-х ушла безвозвратно. Последний выпуск «Вечерних огней» вышел мизерным тиражом в 600 экземпляров и не разошёлся до самой его смерти, то есть даже в течение 20 лет.
Однако вопрос о ценности писателей прошлого решает время. И тот, кого при жизни называли одним из лучших «второстепенных поэтов», сегодня считается великим. При жизни мало читаемый и чтимый, Фет для нас — один из самых выдающихся русских лириков, вошедший в плоть и кровь нашей духовной культуры. Фет сравнивал себя с угасшими звёздами (стихотворение «Угасшим звёздам»), но угасло много других звёзд, а звезда поэзии Фета разгорается всё ярче. И в его стихах наряду с готовностью оставить эту жизнь звучит неповторимо-фетовская вера в бессмертие жизни.
Проходят юноши с улыбкой предо мной,
И слышу я их шепот внятный:
Чего он ищет здесь средь жизни молодой
С своей тоскою непонятной?
Спешите, юноши, и верить и любить,
Вкушать и труд и наслажденье.
Придет моя пора - и скоро, может быть,
Мое наступит возрожденье.
Приснится мне опять весенний, светлый сон
На лоне божески едином,
И мира юного, покоен, примирен
Я стану вечным гражданином.

Памятник А. Фету в Орле
Полностью мою лекцию о Фете с фонограммами произведений можно послушать здесь: http://rutube.ru/tracks/3871552.html?v=400d21cc05e3086ab587e88e6022b20a&&bmstart=1000
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/49224.html
|
|
Процитировано 6 раз
Понравилось: 5 пользователям
"Но жаль того огня..." |
Начало здесь

Литературная карьера А. Фету совершенно не удалась, но это было лишь звено в цепи неудач и невзгод, преследовавших его с первых лет жизни. Уже самоё рождение Фета произошло при весьма драматических обстоятельствах, повлиявших на всю его дальнейшую судьбу.
“Позорная» тайна Фета
Однажды в сентябре 1820 года в село Новосёлки Орловской губернии приехал отставной гвардеец, помещик Афанасий Шеншин, вернувшийся из Германии, куда ездил лечиться на воды.

Село Новосёлки Мценского уезда
Он привёз с собой молодую жену — 22-летнюю Шарлотту Фёт, которую увидел и полюбил в Дармштадте. Трудно понять, чем так пленил молодую женщину немолодой, вдвое её старше, небогатый некрасивый иностранец, но она бросила ради него мужа — преуспевающего адвоката Иоганна Фёта, годовалую дочь Каролину, старика отца, свою страну и бежала в Россию. Вдобавок она была беременна вторым ребёнком. Поступок её можно было бы понять, если бы ребёнок был от Шеншина. Но такая возможность исключалась, что видно из писем Шеншина и Шарлотты к её брату. Там говорится о том, что отцом ребёнка был брошенный муж, который, кстати, тоже потом не признавал его своим сыном.
Через месяц или два, по одним данным — 23 октября, по другим — 23 ноября 1820 года родился будущий великий поэт России. Родился вне брака. Сыном Шеншина его записал местный священник, горький пьяница, получивший хорошую мзду за этот — дерзкий по тем временам — подлог. Через два года Шеншин обвенчался с Шарлоттой, (раньше не могли, так как бывший муж не давал согласие на развод, шантажируя мать мальчика и требуя денег за его усыновление в России).
До 14 лет Афанасий рос в Новосёлках, считаясь сыном Шеншина, но в 1834 году, вследствие доноса одного из соседей в губернское правление, подделка раскрылась. Губернская комиссия, строго следившая за чистокровностью первого наследника в дворянской семье, сверив запись в метрической книге и дату венчания родителей, объявила крещение их сына незаконным. Так в 14 лет мальчик стал «гессендармштадтским подданным Афанасием Фётом», лишившись в одночасье всех титулов, дворянских званий, имущественных прав, русского гражданства. Он был отвезён в далёкий лифляндский городишко Верро (ныне Выру Эстонии) и помещён в немецкий пансион, где преподавали и учились одни немцы.

Лифляндия
Там он и начал писать стихи. От тоски... Один, оторванный от семьи, в чужом городе, чувствуя себя «собакой, потерявшей хозяина». Но в глубине своего существа юный Афанасий чувствовал рождение того света, который вскоре станет его торжеством в борьбе с жизненным мраком: «В тихие минуты полной беззаботности я как будто чувствовал подводное вращение цветочных спиралей, стремящихся вынести цветок на поверхность...»

Это подавал голос никому ещё не ведомый творческий дар, это просилась к жизни поэзия.

Всю жизнь Фет ненавидел свою фамилию. Позже он писал жене: «Ты и представить себе не можешь, до какой степени мне ненавистно имя Фет. Умоляю тебя никогда мне его не писать, если не хочешь мне опротиветь. Если спросить, как называются все страдания, все горести моей жизни, я отвечу: имя им — Фет».
В пансионе подростка преследовали злые догадки и издёвки товарищей. Отныне он не мог без позора объяснить своё происхождение, не бросив тень на свою мать. Потеря прежнего имени означала утрату всего, чем он до сего времени обладал: дворянского звания, положения в обществе, права быть помещиком, наследовать родовое имение Шеншиных, лишался права называть себя русским: под документами должен был подписываться: «К сему иностранец А. Фёт руку приложил».
Всю жизнь Фет всеми правдами и неправдами скрывал позорную тайну своего происхождения. В написанных им в конце жизни мемуарах, где многое им утаено и искажено, он называет своим отцом Шеншина. Но своей будущей жене Фет решился открыть тайну своего рождения. За месяц до венчания он отправил ей письмо, где назвал своим отцом Иоганна Фёта и рассказал о том, как Шеншин увёз от него его беременную жену. На конверте его рукой стояла пометка: «Читай про себя», а в конце предписывалось сжечь сразу после прочтения. Жена, однако, письмо сохранила, но сделала пометку: «Положить со мной в гроб». Воля покойной исполнена не была, и письмо дошло до наших дней.
И ещё одну тайну Фет скрывал всю жизнь — своей национальности. Из мемуаров И. Эренбурга: «Племянник Фета Н.Н. Пузин рассказывал мне, что поэт незадолго до смерти узнал из письма-завещания своей покойной матери, что его отцом был гамбургский еврей. Мне рассказывали, будто Фет завещал похоронить письмо вместе с ним — видимо, хотел скрыть от потомства правду о своей яблоне. После революции кто-то вскрыл гроб и нашёл письмо».
Этим «кто-то» был Н. Черногубов (говорящая фамилия), написавший потом книгу «Происхождение А. Фета», где на 500 страницах «уличал» поэта в еврейской национальности. Свояченица Л.Толстого Татьяна Кузьминская писала о Фете: «Он всю жизнь страдал, что он не Шеншин, а незаконный сын еврейки Фёт». Но даже не будь этого письма, национальность Фета скрыть трудно, так как она ярко выражалась в его семитской внешности. Старший сын Толстого Сергей Толстой пишет в своих мемуарах: «Наружность Афанасия Афанасьевича была характерна: большая лысая голова, высокий лоб, чёрные миндалевидные глаза, красные веки, горбатый нос... Его еврейское происхождение было ярко выражено». Точно таким, как в этом описании, Фет предстаёт на знаменитом портрете И.Репина 1882 года из Третьяковской галереи. На лице — характерное выражение иронии, которое, по словам знавших поэта, бывало у него, когда приходилось выслушивать неумного собеседника.

Фёт становится Фетом
После окончания пансиона Фет поступает в московский университет. Жил он поначалу в пансионате профессора Погодина. Говорили, что на антресолях погодинского дома обитает Гоголь... никто из студентов его, впрочем, не видел. Однажды Фет решился показать Погодину тетрадку своих стихов. Профессор сказал: «Я Вашу тетрадку, почтеннейший, передам Гоголю, он в этом случае лучший судья...» Через неделю стихи вернулись: «Гоголь сказал, что это несомненное дарование...»
Стихи юного поэта стали появляться в журналах под фамилией Фет (по ошибке наборщика «ё» превратилось в «е» и эта новая фамилия стала как бы литературным псевдонимом русского поэта). Уже в студенческие годы Фет становится заметным поэтом. В этот период им написаны такие замечательные и широко известные стихи как «Печальная берёза...», «Чудная картина...», «На заре ты её не буди...», «Я пришёл к тебе с приветом...», «Облаком волнистым...» и другие. А романс на стихи 23-летнего Фета «На заре ты её не буди...» был известен даже в Германии и стал, по словам Аполлона Григорьева, «песней, сделавшейся почти народною». Послушайте и посмотрите прелестный видеоклип этого романса в исполнении Олега Погудина.
«На заре ты её не буди...»
http://www.youtube.com/watch?v=3WMtX1MUmWQ

В погоне за дворянством
Десять лет после окончания университета Фет проводит в армии: армейской службой он рассчитывал вернуть утраченное дворянство.

Он выслуживает чин за чином, а цель каждый раз ускользает: правительство, боясь «оподления» дворянского сословия, с каждым годом поднимает ценз. Дни Фета проходят в маленьких городишках, а больше — в деревнях и сёлах Херсонской губернии, куда был расквартирован его полк.

Из московского круга он попал в далёкий от умственных интересов круг провинциальных офицеров и помещиков, среди которых почти не было людей, способных оценить его дарование, поговорить о литературе.
Но Фет упорно продолжает тянуть армейскую лямку ради осуществления заветной цели — получения дворянства, возвращения себе имущественных прав, статуса, положения в обществе. Однако цель оказывалась недостижимой. И как только ему оставалось буквально меньше месяца до получения искомого офицерского чина — выходил новый указ, по которому для получения дворянства нужен был уже более высокий чин. Так повторялось много раз. Фет сравнивал себя с мифологическим Сизифом, который тащит камень счастья на гору, а он в последний момент снова вырывается из рук. И когда выходит очередной указ о том, что звание потомственного дворянина может дать лишь чин полковника — Фет понимает, что все его усилия тщетны, что дальнейшее продолжение службы бессмысленно, и выходит в отставку.
Горя огнём стыда
Глубокий след в фетовской поэзии оставил трагический роман с Марией Лазич. Это была дочь отставного генерала, мелкого помещика, обрусевшего серба. Фету было 28, когда он её встретил, ей — 24. В марте 1849 года Фет пишет другу детства, что встретил существо, которое любит и глубоко уважает, "идеал возможного для меня счастья и примирения с гадкой действительностью. Но у ней ничего и у меня ничего..."

Любовь бесприданницы и офицера без состояния могла только усугубить положение двух бедняков. Это значило бы для него навсегда похоронить будущее в убогом гарнизонном прозябании с кучей детей и преждевременно увядшей женой. И любовь Фета отступила перед прозаическим расчётом. Позже он напишет автобиографическую поэму "Сон поручика Лосева", в котором их роман с Лазич изображён с реалистической конкретностью. Поначалу комически поданный вопрос "брать или не брать дьявольские червонцы?" — оборачивается важнейшим вопросом в выборе дальнейшего жизненного пути. Как поступил поручик Лосев — в поэме остаётся неизвестным. Но мы знаем, как поступил поручик Фет.
В своих воспоминаниях он пишет: "Чтобы разом сжечь корабли наших взаимных надежд, я собрался с духом и высказал громко свои мысли относительно того, насколько считал брак для себя невозможным и эгоистичным". Она ответила: "Я люблю с Вами беседовать без всяких посягательств на Вашу свободу".

Весна. В. Борисов-Мусатов
Мария всё понимала и не осуждала Фета. Она любила его таким, каким он был, любила бескорыстно, безоглядно и самоотверженно. Любовь была для неё всем, в то время как он расчётливо и упорно шёл к своей цели: получение дворянства, достижение материального благополучия...
Чтобы не компрометировать девушку, Фет должен был с ней расстаться. "Я не женюсь на Лазич", — пишет он другу, — и она это знает, а между тем умоляет не прерывать наших отношений. Она передо мной чище снега..." "Этот несчастный гордиев узел любви или как хочешь назови, который чем более распутываю, тем туже затягиваю, а разрубить мечом не имею духу и сил". Разрубила жизнь.
Вскоре полк переводят в другое место и в мае Фет отбывает на манёвры, а осенью, под уже созревшими плодами, полковой адъютант Фет на свой вопрос о Марии услышал изумлённое: "Как! Вы ничего не знаете?!" Собеседник, пишет поэт, смотрел на него диким взглядом. И, после паузы, видя его коснеющее недоумение, прибавил:"Да ведь её нет! Она умерла! И, Боже мой, как ужасно!" Ужасней смерть и впрямь вообразить себе трудно: молодая женщина сгорела. Заживо...
Было это так. Отец, старый генерал, не разрешал дочерям курить, и Мария делала это украдкой, оставаясь одна. "Так, в последний раз легла она в белом кисейном платье и, закурив папироску, бросила, сосредоточившись на книге, на пол спичку, которую считала потухшей. Но спичка, продолжавшая гореть, зажгла опустившееся на пол платье, и девушка только тогда заметила, что горит, когда вся правая сторона была в огне. Растерявшись, она бросилась по комнатам к балконной двери, причём горящие куски платья, отрываясь, падали на паркет. Думая найти облегчение на чистом воздухе, Мария выбежала на балкон, но струя ветра ещё больше раздула пламя, которое поднялось выше головы..."

Фет слушал, не прерывая, без кровинки в лице. Спустя 40 лет он слово в слово воспроизведёт этот страшный рассказ, завершив им, по сути, свои воспоминания.
Но существует и другая версия случившегося. Вскоре после рокового объяснения с Фетом Мария, надев белое платье — его любимое, — зажгла в комнате сотню свечей. Помещение пылало светом, как пасхальный храм. Перекрестившись, девушка уронила горящую спичку на платье. Она готова была стать любовницей, сожительницей, посудомойкой — кем угодно! — только бы не расставаться с Фетом. Но он решительно заявил, что никогда не женится на бесприданнице. Как признавался поэт, он "не взял в расчёт женской природы". "Предполагают, что это было самоубийство", — писал уже в 20 веке Е. Винокуров.
Было ли это самоубийством? Если да, то она убила себя так, чтобы не затруднить жизни любимому, ничем не отяготить его совесть, — чтобы зажжённая спичка могла показаться случайной. Сгорая, Мария кричала: "Во имя неба, берегите письма!" и умерла со словами: "Он не виноват, виновата я". Письма, которые она умоляла сохранить — это фетовские письма, самое дорогое, что у неё было... Письма не сохранились. Сохранились стихи Фета, которые лучше всяких писем увековечили их любовь.
Томительно призывно и напрасно
твой чистый луч передо мной горел,
немой восторг будил он самовластно,
но сумрака кругом не одолел.
Пускай клянут, волнуяся и споря,
пусть говорят: то бред души больной,
но я иду по шаткой пене моря
отважною, нетонущей ногой.
Я пронесу твой свет чрез жизнь земную,
он мой — и с ним двойное бытиё
вручила ты, и я — я торжествую
хотя на миг бессмертие твоё.
Что он потерял — Фет понял гораздо позже, тогда он лишь отдал дань скорби, — ему светила гвардия, перед ним маячили другие заботы, цели... Но придёт время — и горестная тень властно возьмёт всё, в чём было отказано живой Марии Лазич.
Долго снились мне вопли страданий твоих, —
то был голос обиды, бессилия плач;
долго, долго мне снился тот радостный миг,
как тебя умолил я — несчастный палач.
Проходили года, мы умели любить,
расцветала улыбка, грустила печаль;
проносились года, — и пришлось уходить:
уносило меня в неизвестную даль.
Подала ты мне руку, спросила: "Идёшь?"
Чуть в глазах я заметил две капельки слёз;
эти искры в глазах и холодную дрожь
я в бессонные ночи навек перенёс.
Сорок лет спустя после этих событий больной, задыхающийся старик бессонной ночью думает о том, чего стоило 20-летней девушке то спокойное прощание: "Подала ты мне руку. Спросила: "Идёшь?" Среди ночи поднимают его утаённые ею тогда слёзы — вопли рыданий стоят у него в ушах.
Вновь и вновь вспыхивает видение: бежит пылающая фигура, загорается факелом и выплавляет строчки, которым предстоит войти в учебники:
Ужель ничто тебе в то время не шепнуло:
там человек сгорел?
И эти, Толстого поразившие: "Прочь, этот сон, — в нём слишком много слёз..." И дальше, гениальное: "Не жизни жаль с томительным дыханьем, что жизнь и смерть! а жаль того огня..." И вот эти, "ракетой" долетающие до нас:
Лечу на смерть вослед мечте.
Знать, мой удел лелеять грёзы
и там, со вздохом, в высоте
рассыпать огненные слёзы.
Так догорала любовь, которая когда-то, в херсонской глуши, обожгла жизнь практичного армейского офицера.

Ты отстрадала, я ещё страдаю.
Сомнением мне суждено дышать.
И трепещу, и сердцем избегаю
искать того, чего нельзя понять.
А был рассвет! Я помню, вспоминаю
язык любви, цветов, ночных лучей, —
как не цвести всевидящему маю
при отблеске родном таких очей!
Очей тех нет — и мне не страшны гробы,
завидно мне безмолвие твоё.
И, не судя ни тупости, ни злобы,
скорей, скорей, в твоё небытиё!
Марии Лазич посвящены самые пронзительные строки знаменитых "Вечерних огней", этой лебединой песни А. Фета.
И снится мне, что ты встала из гроба,
такой же, какой ты с земли отлетела.
И снится, снится: мы молоды оба,
и ты взглянула, как прежде глядела.
Что же касается бесследно исчезнувших писем, то Фет, как мы знаем, умел возвращать отнятое судьбой: он вернул себе имя, состояние, вернул и утраченные письма. Ибо что, как не письма девушке из херсонских степей, эти написанные на склоне лет стихотворные послания?

Солнца луч промеж лип был и жгуч, и высок,
пред скамьёй ты чертила блестящий песок,
я мечтам золотым отдавался вполне, —
ничего ты на всё не ответила мне.
Я давно угадал, что мы сердцем родня,
что ты счастье своё отдала за меня,
я рвался, я твердил о не нашей вине, —
ничего ты на всё не ответила мне.
Я молил, повторял, что нельзя нам любить,
что минувшие дни мы должны позабыть,
что в грядущем цветут все права красоты, —
мне и тут ничего не ответила ты.
С опочившей я глаз был не в силах отвесть, —
всю погасшую тайну хотел я прочесть.
И лица твоего мне простили ль черты? —
Ничего, ничего не ответила ты!
Сила чувств такова, что поэт не верит в смерть, не верит в разлуку, он по-дантовски беседует со своей Беатриче, как с живой.

Прости! во мгле воспоминанья
всё вечер помню я один, —
тебя одну среди молчанья
и твой пылающий камин.
Глядя в огонь, я забывался,
волшебный круг меня томил,
и чем-то горьким отзывался
избыток счастия и сил.
Что за раздумие у цели?
Куда безумство завлекло?
В какие дебри и метели
я уносил твоё тепло?
Где ты? Ужель, ошеломлённый,
кругом не видя ничего,
застывший, вьюгой убелённый,
стучусь у сердца твоего?..
С его пера срывались слова любви, раскаяния, тоски, часто поразительные по своей бесстрашной откровенности.
Давно забытые, под лёгким слоем пыли,
черты заветные, вы вновь передо мной,
и в час душевных мук мгновенно воскресили
всё, что давно-давно утрачено душой.
Горя огнём стыда, опять встречают взоры
одну доверчивость, надежду и любовь,
и задушевных слов поблёкшие узоры
от сердца моего к ланитам гонят кровь.
Я вами осуждён, свидетели немые
весны души моей и сумрачной зимы.
Вы те же светлые, святые, молодые,
как в тот ужасный час, когда прощались мы.

В. Борисов-Мусатов. Призраки.
Всю жизнь, до конца дней своих Фет не мог её забыть. Образ Марии Лазич в ореоле доверчивой любви и трагической участи до самой смерти вдохновлял его. Жизненная драма изнутри, как подземный ключ, питала его лирику, придавала его стихам тот напор, остроту и драматизм, которых прежде не было. Его стихи — это монологи к умершей, страстные, рыдающие, исполненные раскаяния и душевного смятения.

Страницы милые опять персты раскрыли,
я снова умилён и трепетать готов,
чтоб ветр или рука чужая не сронили
засохших, одному мне ведомых цветов.
О, как ничтожно всё! От жертвы жизни целой,
от этих пылких жертв и подвигов святых —
лишь тайная тоска в душе осиротелой
да тени бледные у лепестков сухих.
Но ими дорожит моё воспоминанье;
без них всё прошлое — один жестокий бред,
без них — один укор, без них — одно терзанье,
и нет прощения, и примиренья нет!
Без любви
После смерти М. Лазич Фет пишет мужу своей сестры Борисову: «Итак, идеальный мир мой разрушен. Ищу хозяйку, с которой будем жить, не понимая друг друга».

И такая вскоре нашлась. В 1857 году Фет взял годовой отпуск, совершив на накопившийся литературный гонорар путешествие по Европе, и там в Париже женился на дочери богатейшего московского чаеторговца В. П. Боткина — Марии Петровне. Как это нередко бывает, когда в брак не вмешивается любовь, союз их оказался долгим и, если не счастливым, то удачным. Фет на приданом жены вышел в крупные помещики и экономическим путём удовлетворил свои сословные претензии. Но особой радости для него в этом не было.
Напрасно!
Куда ни взгляну я, встречаю везде неудачу,
И тягостно сердцу, что лгать я обязан всечасно;
Тебе улыбаюсь, а внутренно горько я плачу,
Напрасно.
Разлука!
Душа человека какие выносит мученья!
А часто на них намекнуть лишь достаточно звука.
Стою как безумный, еще не постиг выраженья:
Разлука.
Свиданье!
Разбей этот кубок: в нем капля надежды таится.
Она-то продлит и она-то усилит страданье,
И в жизни туманной всё будет обманчиво сниться
Свиданье.
Не нами
Бессилье изведано слов к выраженью желаний.
Безмолвные муки сказалися людям веками,
Но очередь наша, и кончится ряд испытаний
Не нами.
Но больно,
Что жребии жизни святым побужденьям враждебны;
В груди человека до них бы добраться довольно...
Нет! вырвать и бросить; те язвы, быть может, целебны,-
Но больно.
Брат Л.Толстого Сергей вспоминал: «Жена Фета была не первой молодости, некрасива и неинтересна, но добрейшая женщина и прекрасная хозяйка. Трудно предположить, что Афанасий Афанасьевич был когда-то влюблён в неё. Думаю, этот брак был заключён по расчёту. Жили они мирно. М.П. Заботилась о муже, а он был с ней предупредителен, по крайней мере на людях».

Мария Петровна Боткина, жена Фета
Из воспоминаний Т. Кузьминской: «Характер у неё был прелестный. Мужа своего она очень любила. Звала его всегда «говубчик Фет», не выговаривая «л».
В 1860 году Фет на деньги жены приобретает 200 десятин земли в Мценском уезде, где родился и вырос, и начинает вести помещичье хозяйство.Он с головой уходит в новые заботы и хлопоты: суетится, бегает по участку, ругается с работниками. Жизнь Фета принимает демонстративно непоэтический облик. Тургенев с иронией пишет Полонскому: «Фет сделался агрономом-хозяином до отчаянности, отпустил бороду до чресл — о литературе и слышать не хочет». А Фет пишет ему в стихах:
Свершилось! Дом укрыл меня от непогод,
Луна и солнце в окна блещет,
И, зеленью шумя, деревьев хоровод
Ликует жизнью и трепещет.
Ни резкий крик глупцов, ни подлый их разгул
Сюда не досягнут. Я слышу лишь из саду
Лихого табуна сближающийся гул
Да крик козы, бегущей к стаду.
Вот здесь, не ведая ни бурь, ни грозных туч
Душой, привычною к утратам,
Желал бы умереть, как утром лунный луч,
Или как солнечный - с закатом.
Фет не только привёл купленный им запущенный хутор в цветущий вид, но и пустился в торговые обороты - завёл мельницу, приобрёл конный завод. Благосостояние его росло. Помимо Степановки он приобретает ещё одно роскошное имение под Курском — Воробьёвку, где и прожил последние пять лет своей жизни.

Убеждённый помещик
Это был большой каменный дом с паркетными полами и зеркалами во всю стену. В теплице выращивались олеандры, кипарисы, филодендроны. К столу подавали свежую икру, только что вынутую из осетра. Кроме того Фет купил дом в Москве, чтобы долгие зимы коротать в уютной старой столице.

Многие считали Фета этаким прижимистым кулаком, всё гребущим под себя. Это было не так. Он помогал голодающим, построил сельскую больницу на свои средства. Крепко построил, там и сейчас располагается районная больница. Среди соседей-помещиков становится всё более уважаемым лицом. В 1867 году его избирают на почётную должность мирового судьи, в которой он оставался целых 11 лет.

Фет стал образцовым хозяином. Цифры его урожаев украшали губернские статистики. О видном сельском деятеле стало известно при дворе, где после реформы особенно угодны были крепкие хозяйственные люди, что прочно сидели на земле. И когда Александру Второму в очередной раз подали прошение Фета, царь уронил слезу: «Как он страдал, бедный!» и подписал указ о возвращении родового имения Шеншина сыну и его стародворянской фамилии. Фет снова превратился в Шеншина. Прежнюю фамилию он сохранил в качестве литературного псевдонима, но ревностно следил за тем, чтобы в быту, в адресах писем его именовали Шеншиным:
Я между плачущих Шеншин
и Фет я только средь поющих.
Всю жизнь он ненавидел своё имя. Сегодня нам кажется это безумием. Фет — всё певучее и тонкое, всё светлое и солнечное связано у нас с этим коротким словом. «Фет» напоминает «Феб», напоминает о празднике, о совершенстве. Желание захлопнуть этот лучик в тень мышино-серого «Шеншин» кажется нам сегодня невероятным, даже кощунственным.
Отношение общества к этой перемене было недоумённым или ироничным. Так, Тургенев написал ему: «Как Фет, Вы имели имя, как Шеншин, Вы имеете только фамилию».
Поэты демократического направления смеялись над Фетом, над соединением в его лице идеального поэта, воспаряющего над всем земным, с приземлённым прижимистым помещиком. Даже очень близкие люди не стеснялись сказать ему, что он совершенно не похож на поэта. А он и не старался быть похожим. «Говорил он больше о предметах практических, сухих, - вспоминали мемуаристы. - Афанасий Афанасьевич спокойно рассуждал о навозе, а жену Толстого учил правильно готовить щи».
Сама внешность Фета была вызывающе антипоэтична: грузный, кряжистый, тяжёлый, с грубым прихмуренным, часто брюзгливым лицом. Казалось, в нём уживались два разных человека.

Как-то в письме к великому князю К. Романову Фет с краткостью поэтической строки описал эту «разноликость» своего портрета: «Солдат, конезаводчик, поэт и переводчик». Но... дух дышит, где хочет. В этом орловском, курском и воронежском поместном дворянине, жёстком и расчётливом сельском хозяине, в этой грубоватой оболочке землевладельца продолжал дышать дух поэта, одного из тончайших лириков мировой литературы.
В душе, измученной годами,
есть неприступный чистый храм,
где всё нетленно, что судьбами
в отраду посылалось нам.
Я. Полонский писал Фету, не в силах примирить непримиримое: «Что ты за существо — не понимаю! Откуда у тебя берутся такие елейно-чистые, такие возвышенно-идеальные, такие юношески-благоговейные стихотворения? Если ты мне этого не объяснишь, то я заподозрю, что внутри тебя сидит другой, никому не ведомый и нам, грешным, невидимый человек, окружённый сиянием, с глазами из лазури и звёзд, и окрылённый. Ты состарился, а он молод! Ты всё отрицаешь, а он верит! Ты презираешь жизнь, а он, коленопреклонённый, зарыдать готов перед одним из её воплощений».

Я. Полонский и А. Фет. 1890 год
У Фета было достаточно вкуса, чтобы не считать поэтичной и красивой свою жизнь, отданную погоне за богатством и удовлетворением тривиального честолюбия. Он воспринимал её как тоскливую и скучную, но считал, что такова жизнь вообще, что она низменна, бессмысленна и уныла, что основное её содержание — страдание, и есть только одна таинственная, непонятная в этом мире скорби и скуки сфера подлинной, чистой радости — сфера красоты, особый мир,
где бури пролетают мимо,
где дума страстная чиста, -
и посвящённым только зримо
цветёт весна и красота.
Фет раздвоен, на этом сходятся все исследователи. Поэт чистого искусства, певец звёзд, соловьёв роз и... помещик. Оно, может статься, и ничего, простили же мы и Пушкину, и Тургеневу то, что они были помещиками, деликатно постаравшись как бы этого не заметить. Но с Фетом — просто беда: ничего не обойдёшь, не замнёшь: А.А. Шеншин был, если можно так выразиться, убеждённым помещиком. Своё помещичье Я поэт афишировал, выставлял напоказ, бравировал им, гордился.
Однако у талантливого поэта и рачительного землевладельца есть нечто общее: это чувство любви к земле. Фет любил землю, в этом всё дело. Любил землю во всех её проявлениях: её можно радостно воспевать, но её необходимо и возделывать. При всей возвышенности чувств и помыслов Шеншин был ещё и честным дельцом: наживал палаты каменные трудами праведными. Да даже не просто праведными, а умело налаженными. Фет оказался уникальным в своей раздвоенности. Исключением. Может быть, он был основоположником какого-то нового типа поэта?..
Несостоявшееся самоубийство
Фета в последние годы жизни терзали болезни. Хроническое воспаление век стало препятствовать работе.

Пришлось нанять секретаршу, которая читала поэту и писала под его диктовку. Крайне усилилась одышка, мучившая Фета ещё смолоду. Своё последнее стихотворение он начал словами: «Когда дыханье множит муки и было б сладко не дышать...»
Его томил недуг. Тяжелый зной печей,
Казалось, каждый вздох оспаривал у груди.
Его томил напев бессмысленных речей,
Ему противны стали люди.
На стены он кругом смотрел как на тюрьму,
Он обращал к окну горящие зеницы,
И света божьего хотелося ему —
Хотелось воздуха, которым дышат птицы.
Умирал поэт как истый романтик, художественно наблюдая за угасанием в себе воли к жизни, соотнося его с угасанием воли к жизни в природе:
И болью сладостно-суровой
Так радо сердце вновь заныть,
И в ночь краснеет лист кленовый,
Что, жизнь любя, не в силах жить.

В отличие от Ф. Сологуба, воспевавшего смерть в декадентских стихах, Фет — страстный ненавистник смерти, яростный её отрицатель. Он отказывает смерти в праве на самостоятельное значение. В стихотворении «Смерти» он пишет:
Я в жизни обмирал и чувство это знаю,
Где мукам всем конец и сладок томный хмель,
Вот почему я вас без страха ожидаю,
Ночь безрассветная и вечная постель!
Пусть головы моей рука твоя коснётся
И ты сотрёшь меня со списка бытия,
Но пред моим судом, покуда сердце бьётся,
Мы силы равные, и торжествую я.
Ещё ты каждый миг моей покорна воле,
Ты тень у ног моих, безличный призрак ты;
Покуда я дышу — ты мысль моя, не боле,
Игрушка шаткая тоскующей мечты.
Но вместе с тем он мог мужественно смотреть смерти в глаза и даже первым сделать шаг ей навстречу, если видел в том жестокую необходимость. И презирал тех, кто малодушно боится смерти.
"Я жить хочу! - кричит он, дерзновенный, -
Пускай обман! О, дайте мне обман!"
И в мыслях нет, что это лёд мгновенный,
А там, под ним - бездонный океан.
Бежать? Куда? Где правда, где ошибка?
Опора где, чтоб руки к ней простерть?
Что ни расцвет живой, что ни улыбка, -
Уже под ними торжествует смерть.
Слепцы напрасно ищут, где дорога,
Доверясь чувств слепым поводырям;
Но если жизнь - базар крикливый Бога,
То только смерть - его бессмертный храм.
Официальная версия смерти Фета, объявленная вдовой поэта и его первым биографом Н. Страховым, была такова. 21 ноября 1892 года 72- летний Фет скончался от своей застарелой «грудной болезни», осложнённой бронхитом. На самом деле всё было не так. Подобно рождению Фета, и его смерть оказалась окутанной покровом густой тайны, раскрывшейся окончательно лишь четверть века спустя.
За полчаса до смерти Фет настойчиво пожелал выпить шампанского, и когда жена побоялась дать его, послал её к врачу за разрешением. Он услал Марию Петровну из дому под благовидным предлогом, решив уберечь от тяжёлого зрелища. Прощаясь, поцеловал ей руку и поблагодарил за всё.
Оставшись вдвоём с секретаршей, он продиктовал ей записку необычного содержания: «Не понимаю сознательного преумножения неизбежных страданий, добровольно иду к неизбежному». Затем он схватил стальной стилет, лежащий на его столе для разрезания бумаги. Секретарша бросилась вырывать его, поранила себе руку. Тогда Фет побежал через несколько комнат в столовую к буфету, очевидно, за другим ножом, и вдруг, часто задышав, с возгласом «Чёрт!» упал на стул. Глаза его широко раскрылись, будто увидав что-то страшное, правая рука двинулась приподняться как бы для крестного знамения, и тут же опустилась. Это был конец.
Формально самоубийство не состоялось. Но по характеру всего происшедшего это было, конечно, заранее обдуманное и решённое самоубийство. Ведь в том крайне тяжёлом болезненном состоянии, в котором Фет находился, самоубийственным был бы — и он знал это — и бокал шампанского.
Самоубийства обычно рассматриваются как проявление слабости. В данном случае это было проявлением силы. Актом той железной фетовской воли, с помощью которой он, преодолев преследовавшую его многие десятилетия неправедную судьбу, сделал в конце концов свою жизнь такою, какой хотел, и сделал, когда счёл нужным, и свою смерть.
Тело Фета было отвезено в Воробьёвку и похоронено в склепе в его имении.

Продолжение здесь: http://nmkravchenko.livejournal.com/49224.html
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/49015.html
|
|
Процитировано 8 раз
Понравилось: 4 пользователям
Сверхпоэт Велимир Хлебников |
Начало здесь

Сегодня — день рождения Велимира Хлебникова.
Гениальный русский поэт, к стихам которого по сей день не угасает интерес, несмотря на то, что они очень сложны для восприятия. В них есть какая-то магия, они надмирны, в них непостижимые голоса летящих богов, буйство духов природы, они уводят в иные миры... Да и сам он, по словам очевидцев, был человеком не от мира сего, жил в какой-то своей реальности, редко опускаясь на грешную землю.
Велимир Хлебников родился 9 ноября 1885 года в селе Дундутове Малодербатовского улуса Астраханской губернии. Проще говоря, в калмыцкой степи.

Почти мой земляк, родом с Волги. В одном из писем он так писал о своём родном городе: «И всё-таки я люблю Астрахань и прощаю её равнодушие ко мне и жару, и то, что она вращается кругом воблы и притворяется, что читает книги и думает о чём-нибудь».

Астрахань начала 20 века
Астрахань не держит на поэта обиды за эти не слишком лестные слова: к столетию со дня рождения Хлебникова в центре города был воздвигнут мемориал — музей семьи Хлебниковых. Музей посвящён не только Велимиру, но и его отцу, известному учёному-натуралисту, орнитологу и лесоводу, основателю первого в СССР Астраханского заповедника, а также сестре поэта, художнице Вере Митурич.

Семья Хлебникова
Увидено как в первый раз
С раннего детства поэт часто сопровождал отца в служебных, научных и охотничьих поездках в приволжских степях и лесах. Отец привил мальчику навыки научных наблюдений за животными и птицами, он с детства вёл фенологические и орнитологические записи.

Неудивительно, что и самый первый из дошедших до нас стихотворных опытов Хлебникова (в 12 лет) тоже был своего рода орнитологическим: «О чём поёшь ты, птичка, в клетке?»
О чём поёшь ты, птичка в клетке?
О том ли, как попалась в сетку?..
Многие его строки рождались из тех детских впечатлений и наблюдений:
Ручные вороны клевали
Из рук моих мясную пищу,
Их вольнолюбивее едва ли
Отроки, обреченные топорищу.
Досуг со мною коротая,
С звенящим криком: „сирота я”,
Летел лебедь, склоняя шею.
Я жил, природа, вместе с нею.

Здесь довольно отчётливо видны мотивы языческой идиллии, рождённые не надуманной мечтой, а свежей и цепкой памятью детства, памятью чувств: осязанием, слухом, зрением. Ахматова как-то заметила о стихах Хлебникова: «Это всё увидено как бы в первый раз».
В сосне рокочет бойко
С пером небесным сойка.
И, страстью нежною глубок,
Летит проворный голубок.
В холодном озере в тени
Бродили сонные лини.
Из глубины зеркальных окон
Сверкает полосатый окунь.
А сине-черный скворушка
На солнце чистит перышко.
Из стихов Хлебникова первой половины 10-х годов создаётся ощущение первобытного земного рая, утраченного людьми с приходом цивилизации. В них создан мир наивной чистоты, первозданности, радостно-доверчивой прелести жизни:
И пахло кругом мухомором и дрёмой,
и пролит был запах смертельных черемух...
или:
Зелёный плеск и перелеск -
и в синий блеск весь мир исчез.
Наивность Хлебникова — это наивность мудрости, наивность мудрого ребёнка.
Когда над полем зеленеет
Стеклянный вечер, след зари,
И небо, бледное вдали,
Вблизи задумчиво синеет,
Когда широкая зола
Угасшего кострища
Над входом в звездное кладбище
Огня ворота возвела,
Тогда на белую свечу,
Мчась по текучему лучу,
Летит без воли мотылек.
Он грудью пламени коснется,
В волне огнистой окунется,
Гляди, гляди, и - мертвый лег.
Природа внутри нас
Истинная поэзия — это всегда любовь к мотыльку и птице, звезде и лучу. Для Хлебникова всё в мире достойно нежности:
О люди! Так разрешите вас назвать!
Жгите меня, режьте меня,
но так приятно целовать
копыто у коня.
Многократно потом — в прозе, в стихах, в поэмах он будет возвращаться к размышлениям о единстве человека и природы, к мыслям, которые отец его воплощал в своей научной и практической деятельности. У Велимира они приобрели философское и поэтическое звучание.
В этот день голубых медведей,
Пробежавших по тихим ресницам,
Я провижу за синей водой
В чаше глаз приказанье проснуться.
На серебряной ложке протянутых глаз
Мне протянуто море и на нем буревестник;
И к шумящему морю, вижу, птичая Русь
Меж ресниц пролетит неизвестных.
Природа ведь совсем не то, что называют окружающей средой. Она столько же вне человека, сколько и внутри его. Сколько бы мы ни вчитывались в прозрачный мир стихотворения, мы не поймём, где здесь кончается человек и начинается природа, человек ли удивлённо и благодарно узнаёт себя в природе, природа ли радостно и любовно видит себя в человеке. Но отчётливо понимаешь, что вот это растворение, полное слияние с миром — и есть поэзия.

Времыши-камыши
На озера береге,
Где каменья временем,
Где время каменьем.
На берега озере
Времыши, камыши,
На озера береге
Священно шумящие.
Будетлянин
В 1903 году Хлебников, окончив гимназию, поступает в Казанский университет, сначала на математическое, потом на отделение естественных наук.

Позднее— перевод в Петербургский университет. Литературные кружки. Знакомство с Городецким, Кузминым, Гумилёвым, увлечение Ремизовым, посещение «башни» Вячеслава Иванова. И, как следствие, перевод на историко-филологический факультет, славяно-русское отделение и — рождение поэта Велимира Хлебникова.

К 1910 году Хлебников покидает круг символистов, к которому поначалу примыкал и, по существу, производит переворот в литературе, заложив основы новой эстетики и разработав принципы нового художественного метода. Это новое направление называлось «футуризм» (Хлебников предпочитал называть «будетлянство»), что означало искусство будущего, искусство, ищущее новых форм.
По сравнению с символистами и акмеистами, которые всё же мыслили своё дело в пределах культуры, футуризм осознаёт себя как антикультура. Он требует перестройки словесности, разрушения синтаксиса и грамматики в целях беспредельной свободы творца — поэта, который выступает в качестве изобретателя, фокусника, жонглёра со словом.
Футуризм связывали с именами скандально известных Маяковского, Бурлюка, Кручёных, но главным идеологом направления был Хлебников, и казалось странным, что автором громких воззваний, манифестов, гневных прокламаций, громокипящих призывов был этот внешне тихий, замкнутый, застенчивый человек, всегда остававшийся как бы в тени.

Хлебников стоит в центре
Маяковский спустя много лет признавался: «Его тихая гениальность была для меня совершенно затемнена бурлящим Давидом». Однако именно творчество Хлебникова представляло собой ту невидимую ось вращения, вокруг которой шумело новое искусство.
Львиное сердце
Внешность обманчива. У робкого с виду человека в груди билось, как проницательно заметил его первый учитель Вячеслав Иванов, «львиное сердце». Недаром из имени Хлебникова Виктор вскоре родилось его литературное имя Велимир, что означало призыв к миру и повеление миру.

Таким Хлебников был в начале века.

Наиболее известная фотография Хлебникова в профиль 1913 года.
А теперь сравните эти фотографии с портретом работы Ю. Анненкова.

Хлебникова рисовали многие художники — Филонов, Татлин, Митурич, есть даже его собственный набросок-автопортрет, но вот этот портрет Анненкова наиболее точно выражает его суть. Глядя на этого задумчивого, углублённого в себя человека, трудно совместить его с образом дерзкого, задиристого вожака, гордо провозгласившего себя «председателем земного шара». Этот как бы невидящий или, вернее сказать, ясновидящий взгляд поэта лучше всего, кажется, передает его автопортрет 1909 года, в котором поразительно внешнее и еще больше внутреннее сходство.

Жонглёр слова
Хлебников был подлинным артистом слова, он отказывался придавать ему какой-то утилитарный, практический смысл. Как яркое подтверждение тому можно привести его стихотворение «Заклятие смехом». Эти 11 строк, написанные в 1923 году, сделали автора в русских литературных кругах знаменитым:
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
Что смеются смехами, что смеянствуют смеяльно,
О, засмейтесь усмеяльно!
О, рассмешищ надсмеяльных — смех усмейных смехачей!
О, иссмейся рассмеяльно, смех надсмейных смеячей!
Смейево, смейево,
Усмей, осмей, смешики, смешики,
Смеюнчики, смеюнчики.
О, рассмейтесь, смехачи!
О, засмейтесь, смехачи!
В этом стихе целый «смеховой мир» порождён от корня «смей». И исходным толчком для него послужили, видимо, слова Купавы, обращённые к Хмелю, в пьесе Островского «Снегурочка»:
Молю тебя, кудрявый ярый Хмель,
отсмей ему, насмешнику, насмешку.
Историческая задача Хлебникова заключалась в том, чтобы показать в существующим языке неисчерпаемые возможности. Он был убеждён, что всякое движение вперёд, всякое развитие в литературе невозможно без возвращения поэтического слова назад, к самому себе, к своей изначальной природе и сущности.
И когда земной шар, выгорев,
Станет строже и спросит: «Кто же я?» —
Мы создадим «Слово Полку Игореве»
Или же что-нибудь на него похожее.
(«Война в мышеловке»)
А в черновике своей последней поэмы Хлебников завещает художникам будущего:
Умейте отпечатки ящеров будущего
Раскапывать в слов каменоломне
И по костям строить целый костяк.
Мы у прошлого только в гостях.
Будущее наш дом.
Мандельштам писал: "Хлебников возится со словами, как крот,между тем, он прорыл в земле ходы для будущего на целое столетие".
Хлебниковская "новоречь" вдохновляет на поиски, на языковые эксперименты. Он играет словами, как жонглер высшей квалификации. Автор у него - «словач», критик - «судри-мудри», поэт - «небогрез» или «песниль», литература - «письмеса». Актер - «игрец», игрица» и даже «обликмен». Театр – «играва», труппа - «людняк», представление - «созерциня», драма - «говоряна», комедия - «шутыня», опера - «голосыня», бытовая пьеса - «жизнуха».
Порой слова у Хлебникова образуют неотразимые в своей иллогичности образы. Таково, например, «Бобэоби пелись губы»:
Бобэоби пелись губы,
Вээоми пелись взоры,
Пиээо пелись брови,
Лиэээй - пелся облик,
Гзи-гзи-гзэо пелась цепь.
Так на холсте каких-то соответствий
Вне протяжения жило Лицо.
Единый смертных разговор
Хлебников искал пути перехода звука в цвет. Он видел звуки окрашенными. Есть люди с таким устройством слуха и внутреннего зрения, что каждый звук у них вызывает определённую звуковую ассоциацию. Вспомним, как Набоков в «Других берегах» расцвечивал русский алфавит. Скрябин ввёл в партитуру «Прометея» партию света. Артюр Рембо писал о разной окраске гласных: А — черно, Е — бело и т. д. Для Хлебникова же были окрашены согласные, ускользающая женственность гласных мешала ему поймать их цвет. Вот (частично) звукоряд Хлебникова: Б — красный, рдяный, П — чёрный, с красным оттенком, Т — жёлтый, Л — слоновая кость. Теперь прочтите: «Бобэоби пелись губы» - и подставьте хлебниковские цвета на место согласных. Вы увидите говорящие накрашенные губы женщины: алость помады, белизну с чуть приметной прожелтью - «слоновую кость», наконец темноту приоткрывающегося зева. И - никакой зауми.
А для чего это надо? - спросит здравый смысл. Почему не сказать тоже самое на общедоступном языке? Именно потому, что Хлебников не считал русский, как и любой другой национальный язык, общедоступным. В доисторические времена общий язык наших косматых предков служил к их сближению и объединению. Но возникли государства, и каждое отгородилось от соседей не только границами, крепостями и армиями, но и недоступным для чужеземцев языком. С тех пор язык работает на разобщение народов. Хлебников же видел свою миссию в объединении людей, а для этого должен быть создан единый, общедоступный, космический язык, который сделал бы возможным разговор обитателей разных звёздных миров. Во дни Хлебникова эта мечта казалась безумной, но ведь безумным представлялся калужским обывателям и человек завтрашнего дня, великий Циолковский, чьи осмеянные фантазии торжествуют в сегодняшнем мире. Хлебников вдохновенно призывал:
Лети, созвездье человечье,
всё дальше, далее в простор,
и перелей земли наречья
в единый смертных разговор...
Крылышкуя золотописьмом
Словотворчество Хлебникова не нарушало законов русского языка, оно не давало ему окаменеть, способствовало его развитию, обогащало.
Там, где жили свиристели,
Где качались тихо ели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
Где шумели тихо ели,
Где поюны крик пропели,
Пролетели, улетели
Стая легких времирей.
В беспорядке диком теней,
Где, как морок старых дней,
Закружились, зазвенели
Стая легких времирей.
Стая легких времирей!
Ты поюнна и вабна,
Душу ты пьянишь, как струны,
В сердце входишь, как волна!
Ну же, звонкие поюны,
Славу легких времирей!
Словотворчество словотворчеству рознь. Вспомним похожие опыты И. Северянина. Тут уж с русским языком приходится распроститься: «гризэрки», «сюрпризёрки», «грациозы», «поэзы», «миньонет» и т. д. И после этой манерной иностранщины не может не радовать слух, например, рождённое Хлебниковым слово «смеярышня». Оно кажется исконно русским, словно не придуманным поэтом, а извечно существовавшим. И звучит ласково и тепло, как облюбованное некогда народом «боярышня». Такими же родными, знакомыми незнакомцами воспринимаются и другие, сотворимые Хлебниковым слова. К. Чуковский восхищался его словообразованиями , подчёркивая, что только глубоко ощущая всю стихию русского языка, можно создать такие слова, как «сумнотичи» и «грустители», «двузвонкие мечты», которые обитали не в чертогах, а в «мечтогах». Казалось, только в «закричальности зари» и в «сверкайностях туч» рождаются такие. И верилось, что, родившись, они устремлялись дальше в «поюнность высоты», чтобы потом спускаться в «озёра грусти», на берегах которых стоят «молчанные дворцы» или чтобы прятаться в «молчановом ручье», у которого на рассвете «резвилось смешун-дитя». Вот одно из таких прелестных стихотворений:
Кузнечик
Крылышкуя золотописьмом
Тончайших жил,
Кузнечик в кузов пуза уложил
Прибрежных много трав и вер.
Пинь, пинь, пинь! - тарарахнул зинзивер.
О, лебедиво!
О, озари!
Эти придуманные поэтом слова настолько ярки и выразительны, что не нуждаются в переводе, ты буквально видишь, что происходит. Хлебников произносит их так, как если бы они звучали впервые. И благодаря этому видишь мир в его первобытной свежести и первозданности.
Неологизмы есть у Пушкина, Некрасова, Блока, Брюсова. Но такого смелого подхода к звуковому строению слова русская поэзия ещё не знала. В художественном методе Хлебникова было живописание звуком. Звук слова, считал он, сам должен нести в себе смысл.
И я свирел в свою свирель
и мир хотел в свою хотель.
Хлебников считал себя больше, чем поэтом, - сверхпоэтом. В поэзии он видел лишь средство, чтобы обрести истину. И порой выходил на такие глубинные пласты, на традиции столь глубокие, древние, архаические, что его творчество можно было бы сравнить с древнеегипетской пирамидой. Это какая-то архаическая мощь, которая была ещё при сотворении мира.
Годы, люди и народы
Убегают навсегда,
Как текучая вода.
В гибком зеркале природы
Звёзды - невод, рыбы - мы,
Боги - призраки у тьмы.
Гений или безумец?
Многие считали: ну что Хлебников? Ведь он же был юродивым, не вполне нормальным. Стоит ли говорить о нём всерьёз? Вспоминаются слова Вяземского: «Грешно тем, которые не уважают дарования даже в безумном. Дарование всё священно, хотя оно и в мутном сосуде». Есть изречение: если безумный будет абсолютно последовательным, - он дойдёт до гениальности. В своём отношении к слову Хлебников был последовательным. Он искал в слове скрытый смысл, видел в нём сгусток времени, разных времён. Вот характерное для него поэтическое высказывание:
Когда рога оленя подымаются над зеленью,
Они кажутся засохшее дерево.
Когда сердце речаря обнажено в словах,
Бают: он безумен.
То есть для вас, говорит поэт, слово — засохшее дерево, сучья, а для меня совсем другое — рога живого оленя. То, что кажется безумным, исполнено скрытого смысла. Эта мысль о безумии Хлебникова звучит и в стихотворении Даниила Андреева «Хлебников»:

Как будто музыкант крылатый -
Невидимый владыка бури -
Мчит олимпийские раскаты
По сломанной клавиатуре.
Аккорды... лязг... И звёздный гений,
Вширь распластав крыла видений,
Вторгается, как смерть сама,
В надтреснутый сосуд ума.
Быт скуден: койка, стол со стулом.
Но всё равно: он витязь, воин;
Ведь через сердце мчатся с гулом
Орудия грядущих боен.
Галлюцинант... глаза - как дети...
Он не жилец на этом свете,
Но он открыл возврат времён,
Он вычислил рычаг племён.
Тавриз, Баку, Москва, Царицын
Выплевывают оборванца
В бездомье, в путь, в вагон, к станицам,
Где ветр дикарский кружит в танце,
Где расы крепли на просторе:
Там, от азийских плоскогорий,
Снегов колебля бахрому,
Несутся демоны к нему.
Сквозь гик шаманов, бубны, кольца,
Всё перепутав, ловит око
Тропу бредущих богомольцев
К святыням вечного Востока.
Как феникс русского пожара
ПРАВИТЕЛЕМ ЗЕМНОГО ШАРА
Он призван стать - по воле "ка"!
И в этом - Вышнего рука...
Из воспоминаний Романа Якобсона о встречах с Хлебниковым в «Бродячей собаке»:
«Подошла к нам молодая, элегантная дама и спросила: „Виктор Владимирович, говорят про вас разное, - одни, что вы гений, а другие, что безумец. Что же правда?” Хлебников как-то прозрачно улыбнулся и тихо, одними губами, медленно ответил: „Думаю, ни то, ни другое”. Принесла его книжку, кажется, «Ряв!», и попросила надписать. Он сразу посерьезнел, задумался и старательно начертал: «Не знаю кому, не знаю для чего».
Мною овладело и росло невероятное увлечение Хлебниковым. Это было одно из самых порывистых в моей жизни впечатлений от человека, одно из трех поглощающих ощущений внезапно уловленной гениальности».
Волшебство мастерства
Хлебников — не только тотальный новатор, но и поэт глубокой народной традиции.
Когда умирают кони — дышат,
Когда умирают травы — сохнут,
Когда умирают солнца — они гаснут,
Когда умирают люди — поют песни.
Такие стихи не нуждаются в объяснениях и толкованиях, в них — мудрость, красота, правда и — ни одного фальшивого литературного слова. Хлебниковские фольклорные произведения лишены искусственности, чем грешат многие создатели оперной, костюмированной, лубочной Руси, в них — живая вода русского поэтического слова. Вот хотя бы эти улыбчатые тёплые строчки, подобные музыкальному каприччио:
У колодца расколоться
Так хотела бы вода,
Чтоб в болотце с позолотцей
Отразились повода.
Мчась, как узкая змея,
Так хотела бы струя,
Так хотела бы водица,
Убегать и расходиться,
Чтоб, ценой работы добыты,
Зеленее стали чоботы...
(«Конь Пржевальского»)
Маяковский называл эти строки классикой. Чего стоят ритмические переходы, внутренние созвучия, рифмы!
Нет, ведро на коромысле
не коснулося плеча.
Кудри длинные повисли,
точно звуки скрипача.
(«Мария Вечора»)
Валентин Катаев, процитировав эти строки в своей «Траве забвения», назвал их «волшебными». Прислушайтесь, какая звукопись:
Кто утро спит,
тот ночью бесится.
Волшебен стук копыт
при свете месяца.
Какие сочные неповторимые хлебниковские рифмования:
Он зашёл и стал под притолкой.
Милый, милый, его вытолкай!
Кто там, кто там в этот час?
Кто прильнул сюда, примчась?
Или вот это, совершенно неподражаемое:
Она ему: «Куда мы едем?»
Он отвернулся и в ветер — бурк:
«Мы едем в Петербург!»
Лёгкостью и звонкостью слова, совершенной звукописью и ритмикой отличается и одна из последних поэм Хлебникова «Уструг Разина»:
Волге долго не молчится.
Ей ворчится, как волчице.
Волны Волги — точно волки,
Ветер бешеной погоды.
Вьется шелковый лоскут.
И у Волги у голодной
Слюни голода текут.
«Нахлебники» Хлебникова
Маяковский называл Хлебникова поэтом «не для потребителей, а для производителей». Мощное влияние этого поэта испытали и считали его своим учителем — Маяковский, Асеев, Мартынов, Сельвинский, Тихонов, Пастернак, Цветаева. Маяковский говорил, что «Хлебников написал не стихи и поэмы, а огромный требник-образник, из которого столетия и столетия будут черпать все, кому не лень».
Вы, поставившие ваше брюхо на пару толстых свай,
Вышедшие, шатаясь, из столовой советской,
Знаете ли, что целый великий край,
Может быть, станет мертвецкой?
Наверное, многие бы ошиблись, приписав это стихотворение Маяковскому. Тем не менее это Хлебников.

В.Хлебников. Рис. В.Маяковского
А. Платонов, который тоже начинал со стихов, умевший как никто возвращать слову первозданность, обнажать его сердцевину, - учился этому у Хлебникова. О Платонове принято: ни на кого не похоже. Ан похоже. Вот строчки Хлебникова:
Время жатвы и жратвы,
или разумом ты нищий,
богатырь без головы? -
лишите их стихотворного чина, и это будет самый что ни на есть Платонов. Или:
И Разина глухое «слышу»
подымется со дна холмов,
как знамя красное взойдёт на крышу
и поведёт войска умов.
«Войска умов» - это радость Платонова, вообще тут собрались его излюбленные слова.
Но при всём огромном влиянии Хлебникова на других поэтов, конкретные «реминисценции» из него редки. Он не вызывал на подражание, а учил быть самими собою, учил быть «творянами», заряжал своим творчеством. Вознесенский говорил, что в наше время без Хлебникова вообще нельзя писать стихов. Недаром сам Хлебников, читая свои стихи, обрывал себя на полуслове и со словами «ну, и так далее...» сходил со сцены. Он как бы ставил поэтическую задачу, а возможность практического решения её предоставлял другим.
Любовь Хлебникова
У Хлебникова очень мало лирических стихов о любви, его произведения эпичны, лирические признания он обычно доверяет устам своих героев. У него есть чудные стихи о любви юноши Э. и девушки И., где юноша обращается к любимой:
За тобой оленьим лазом
я бежал, забыв свой разум.
Неужели лучшим в страже,
от невзгод оберегая,
не могу я робким даже
быть с тобою, дорогая?
Как близко это состояние влюблённости самому поэту. Много лет он был безответно влюблён в Ольгу Глебову-Судейкину.

В своих воспоминаниях композитор Артур Лурье описывает, как Ольга Судейкина принимала его у себя на Фонтанке:
"Мило относясь к Хлебникову, Ольга Афанасьевна иногда приглашала его к чаю. Эта петербургская фея кукол, наряженная в пышные, летучие, светло-голубые шелка, сидела за столом, уставленным старинным фарфором, улыбалась и разливала чай".
Хлебников, по словам Лурье, был восторженно и возвышенно-безнадежно влюблен в Ольгу, но ничем не обнаруживал свою влюбленность, и "о ней можно было только догадываться". Лурье продолжает: "Хлебникова я помню во всем величии его святой бедности: он был одет в длинный сюртук, может быть, чужой, из коротких рукавов торчали его тонкие аскетические руки. Манжет он не носил. Сидел нахохлившись, как сова, серьезный и строгий. Молча он пил чай с печеньем и только изредка ронял отдельные слова.

Однажды Ольга Афанасьевна попросила его прочесть какие-нибудь свои стихи. Он ничего не ответил, но после довольно длинной паузы раздался его голос, глухой, негромкий, с интонациями серьезного ребенка:
"Волк говорит: я тело юноши ем...
Нет уже юноши, нет уже нашего
Веселого короля за ужином.
Поймите, он нужен нам!"
Мы потом часто повторяли эти слова и любили их, с нежностью вспоминая прелестную чистоту этих интонаций.
Анна Ахматова тоже говорила, что Хлебников был влюблен в Ольгу и называл ее "восточной красавицей". Подтверждение этому эпитету мы находим в "Дневнике" поэта, в записи 22 сентября 1915 года: "Увидел Глебову. Изломанная восточная красавица".

За Ольгой Судейкиной ухаживали многие блестящие кавалеры, на Хлебникова она не обращала никакого внимания. Как-то в разговоре с Маяковским он выразил своё недоумение по сему поводу: «Но что же делать?! Может, стихи лучше нужно писать?..»
Хлебников в Саратове
В апреле 1916 года Велимира Хлебникова мобилизовали в царскую армию. В отличие от Гумилёва, рвавшегося на войну, Велимир служить не хотел. Он видел в армии несвободу, покушение на творчество, на свой ритм жизни и готов был на всё, чтобы вырваться из этой казарменной неволи. Свой протест против армейской муштры Хлебников выражал своеобразно. Он чудил: отдавал честь, прикладывая полусъеденный батон к фуражке. Кисло отвечал “мерси” вместо уставного: “Рад стараться!” Маршировал по городу с ложкой каши в руке. Что было делать с этим тихим солдатом Швейком? Полковое начальство переводило Хлебникова из полка в полк, из города в город: Астрахань – Царицын – Казань – Самара. А в декабре 1916 года он оказался в Саратове. Полк, в котором он служил, был расквартирован на Университетской улице, где стояли казармы.

Хлебников пишет душераздирающее письмо знакомому врачу-психиатру, профессору Военно-медицинской академии, художнику и теоретику искусства Кульбину о том, что ему приходится терпеть в саратовской казарме: “Опять ад перевоплощения поэта в лишённое разума животное, с которым говорят языком конюхов. Шаги, приказание, убийство моего ритма делают меня безумным к концу вечерних занятий. Таким образом, побеждённый войной, я должен буду сломать свой ритм (участь Шевченко и др.) и замолчать как поэт”.
Врач с сочувствием отнёсся к поэту. С его помощью Хлебников оказался на Сабуровой даче, то есть в Харьковской губернии, в психиатрической больнице. Там с чистой совестью дали заключение, что состояние нервно-психического здоровья пациента не позволяет ему служить в армии. Так бесславно закончилась “военная карьера” председателя земного шара. К сожалению, Саратов видел в нём тогда лишь одного из нерадивых новобранцев, а не поэта.
Фонетика революции
Ю. Анненков вспоминал, как Хлебников по-детски восторженно восхищался новыми революционными аббревиатурами: «Эр Эс Эф Эс Эр! Че-ка! Нар-ком! Это же заумный язык, это же моя фонетика, мои фонемы! Это памятник Хлебникову!» - восклицал он. Ему нравилось, что Петроград в октябрьские дни — совсем в духе его поэтики — переименовался в Ветроград, его восхищало характернейшее слово, даже не слово, а всеобъемлющий клич эпохи: «даёшь!» - именно Хлебников впервые ввёл его в литературу:
Коли в пальцах запрятался нож,
а зрачки открывала настежью месть -
это время завыло: даёшь!
А судьба отвечала послушная: «есть!»
Может быть этим объясняется то, что Хлебников, демократ по всей своей сути, стал на сторону революции.
Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы,
И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на «ты». -
это из его хрестоматийных стихов 1917 года.
Звёздный язык
Хлебников считал, что миссией поэта не исчерпывается его назначение. Он ставил перед собой более масштабные задачи, космические цели.
Я, носящий весь земной шар
На мизинце правой руки,
Тебе говорю: Ты!
Так я кричу,
И на моем каменеющем крике
Ворон священный и дикий
Совьет гнездо, и вырастут ворона дети,
А на руке, протянутой к звездам,
Проползет улитка столетий...
Блажен земной шар, когда он блестит
на мизинце моей руки!
В литературной автобиографии «Свояси» (1919) Хлебников писал: «Заклинаю художника будущего вести точные дневники своего духа: смотреть на себя как на небо и вести точные записи восхода и захода звёзд своего духа». Он говорил, что слушает музыку небесных сфер.
Люди! Утопим вражду в солнечном свете!
В плаще мнимых звезд ходят — я жду —
Смелых замыслов дети,
Смелых разумов сын.
«Пусть человек, отдохнув от станка, идёт читать клинопись созвездий. Понять волю звёзд — это значит развернуть перед глазами всех свиток истинной свободы», - писал Хлебников. Он считал, что «звёздный язык» или «азбука умов» и есть «грядущий мировой язык в зародыше». Только он может соединить людей.

И, пьяный тем, что я увидел,
Я Господу ночей готов сказать:
«Братишка! » —
И Млечный Путь
Погладить по головке.
Былое — как прочитанная книжка.
И в море мне шумит братва,
Шумит морскими голосами,
И в небесах блестит братва
Детей лукавыми глазами.
Скажи, ужели святотатство
Сомкнуть, что есть, в земное братство?
И, открывая умные объятья,
Воскликнуть: «Звезды — братья! Горы — братья! Боги — братья! »
И чокаясь с созвездьем Девы
И полночи глубокой завсегдатай,
У шума вод беру напевы,
Напевы слова и раскаты.
Председатель Земного Шара

Хлебников искренне принял революцию, очевидно надеясь, что теперь сможет претворить в жизнь свои идеи — в частности, создать задуманное еще в 1915-м Общество председателей земного шара. В нем должно было быть триста семнадцать членов, поскольку, согласно теории Хлебникова, все происходящие в мире события — от войн и революций до биения сердца и колебаний струн музыкальных инструментов, — будучи изменены во времени, оказываются кратны тремстам семнадцати. Вскоре после Февральской революции Велимир написал «Воззвание председателей земного шара». Он призывал создать «независимое государство времени», свободное от пороков, свойственных «государствам пространства».
О том, насколько всерьёз относился Хлебников к своим идеям относительно председательства Земным Шаром, можно судить по случаю с коронацией поэта, о котором рассказывает Анатолий Мариенгоф в своём «Романе без вранья». Ему с Есениным пришла в голову довольно жестокая идея разыграть Хлебникова:

«Есенин говорит:
— Велимир Викторович, вы ведь Председатель Земного Шара. Мы хотим в городском Харьковском театре всенародно и торжественным церемониалом упрочить ваше избрание.
Хлебников благодарно жмет нам руки.
Неделю спустя перед тысячеглазым залом совершается ритуал. Хлебников, в холщовой рясе, босой и со скрещенными на груди руками, выслушивает читаемые Есениным и мной акафисты посвящения его в Председатели. После каждого четверостишия, как условлено, он произносит:
— Верую.
Говорит “верую” так тихо, что мы только угадываем слово. Есенин толкает его в бок:
— Велимир, говорите громче. Публика ни черта не слышит.
Хлебников поднимает на него недоумевающие глаза, как бы спрашивая: «Но при чем же здесь публика?»
И еще тише, одним движением рта, повторяет:
— Верую.
В заключение, как символ Земного Шара, надеваем ему на палец кольцо, взятое на минуточку у четвертого участника вечера — Бориса Глубоковского.
Опускается занавес.
Глубоковский подходит к Хлебникову:
— Велимир, снимай кольцо.
Хлебников смотрит на него испуганно и прячет руку за спину. Глубоковский сердится:
— Брось дурака ломать, отдавай кольцо!
Есенин надрывается от смеха.
У Хлебникова белеют губы:
— Это... это... Шар... символ Земного Шара... А я — вот... меня... Есенин и Мариенгоф в Председатели...
Глубоковский, теряя терпение, грубо стаскивает кольцо с пальца. Председатель Земного Шара Хлебников, уткнувшись в пыльную театральную кулису, плачет большими, как у лошади, слезами».
Верю сказкам наперед:
Прежде сказки — станут былью,
Но когда дойдет черед,
Мое мясо станет пылью.
И когда знамена оптом
Пронесет толпа, ликуя,
Я проснуся, в землю втоптан,
Пыльным черепом тоскуя.

Таких — ни одного
Хлебников был удобной мишенью для насмешек, розыгрышей, его легко было обмануть. На эстраде он был невозможен: говорил тихим голосом, кончал своим знаменитым «ну и так далее...» Его сгоняли, освистывали. Только немногие признавали его гениальность. Многие портреты Хлебникова напоминают дружеские шаржи.

В. Хлебников. Рис. П. Митурича
Но сравните эти смешные, чудаковатые черты с портретом работы С. Городецкого 1920 года: не так схвачена внешность, но внутренняя значительность личности, масштаб и трагедийность судьбы переданы очень сильно.

Однажды кто-то из их круга в беседе сказал, что знает командарма, у которого 4 ордена Красного Знамени, причём воин утверждает, что таких, как он, в стране всего 7 человек. «Подумаешь, - парировал Маяковский, - таких как я — всего один, но я же не хвастаюсь». «А таких как я, - грустно отозвался Хлебников, - и одного нет...» Блестящая острота, но самое невероятное — ведь это правда.
Хлебников непостигаем, неохватен, он не вмещался в обычные координаты. Это ощущали все. Профессор Казанского университета Васильев, у которого Хлебников учился, вспоминал, что при его появлении на встречах студентов-математиков все почему-то вставали. Вставал и он сам, хотя уже многие годы был профессором, а Хлебников — студентом 2 курса, желторотым мальчишкой. Этот непонятный позыв встать при виде этого человека ощущали в себе многие, знавшие его.
Примечателен такой эпизод. Однажды Хлебников забрёл в «Бродячую собаку» - петербургское ночное кафе, где собирались поэты.

Он сидел за столом молча, опустив голову, никого не замечая, погружённый в свои таинственные размышления или сны. Присутствие его излучало какую-то значительность, столь же непонятную, как и несомненную. Мандельштам, по природе весёлый и общительный, о чём-то оживлённо говорил, говорил, и вдруг, оглянувшись, будто ища кого-то, осёкся и воскликнул: «Нет, я не могу говорить, когда там молчит Хлебников!»
Овладение временем
Одна из излюбленных идей Хлебникова — овладение временем, освобождение его, вольное путешествие по разным эпохам как по городам и весям. Поэт зовёт в страну, где «время цветёт как черёмуха — и двигает как поршень, где зачеловек в переднике плотника пилит времена на доски и как токарь обращается со своим завтра». Задача для Хлебникова заключалась в том, чтобы построить иное, как бы перпендикулярное измерение и подняться на такую высоту, чтобы увидеть сразу и настоящее, и прошлое, и будущее в единой перспективе. В этом ему виделась едва ли не главная «тайна творчества».
В его произведениях постоянно нарушаются законы логики, времени, пространства. В поэме «Внучка Малуши» дочь киевского князя Владимира переносится в 20 век, а современные люди, наоборот, переселяются в души предков на 11 веков назад («Девий-бог»). Судьба человека может быть вообще независима от времени, как в пьесе «Мирсконца», где жизнь героев развёртывается в обратном порядке — от смерти к рождению, или, как в отрывке из пьесы «Внимание», люди, умирая, назначают встречу с друзьями в день своего нового рождения.
Героем творений Хлебникова становится «человек вообще», пребывающий на пересечение настоящего, прошлого и будущего. Исходя из этого, он осуществляет замысел новой синтетической жанровой формы - «сверхповести»: «Дети выдры» (1913), где тесно переплетаются история, современность, миф. Различные исторические события — гибель «Титаника», мировая война, походы Ганнибала существуют как бы в одном измерении.
— Вы, книги, пишетесь затем ли,
Чтоб некогда ученый воссоздал,
Смесив в руке святые земли,
Что я когда-то описал?
И он идет: железный остов
Пронзает грудью грудь морскую,
И две трубы неравных ростов
Бросают дымы; я тоскую.
Морские движутся хоромы,
Но, предков мир, не рукоплещь:
До сей поры не знаем, кто мы —
Святое Я, рука иль вещь.
Мы знаем крепко, что однажды
Земных отторгнемся цепей.
Так кубок пей, пускай нет жажды,
Но все же кубок жизни пей.
Мы стали к будущему зорки,
Времен хотим увидеть даль,
Сменили радугой опорки,
Но жива спутника печаль.
Учёный и провидец
Хлебников был гениальным провидцем. Он опередил озарения Эйнштейна, Гейзенберга и Луи де Бройля, отверг существование эфира, на чём строилась теория света, первым заговорил о пульсации солнца, догадался о существовании протона, определил значение в жизни организма поджелудочной железы. Подробно об этом можно прочесть в заметках А. Н. Андриевского «Мои ночные беседы с Хлебниковым».
«В комнате Хлебникова, - вспоминал Андриевский, - не было ни одной книги, кроме его собственных произведений, а разговаривал он так, словно его комната завалена всеми энциклопедиями мира. Все, даже самые фантастичные и утопичные его теории имели под собой реальную основу.
В 12-м году Хлебников спрашивал: "Не следует ли ждать в 1917 году падения государства?" В 1915-16-х годах он предсказывал, что земледельцы будущего будут обрабатывать землю с воздуха, засевая поля, вызывая дожди. Хотя тогда, во время мировой войны, зарождавшаяся авиация использовалась только в военных целях. Он первым заговорил о кино и радио (телекнигах, как он их называл) как о технических средствах обучения людей, когда об этом и думать не приходилось. Многое из того, о чём думал и писал Хлебников, воплотилось в жизнь, многое, о чём он мечтал, возможно, станет реальностью наших дней».

Доски судьбы
В 1922 году Хлебников пишет повесть «Доски судьбы», которую, к сожалению, не успел закончить, где сообщает, что открыл «чистые законы времени». Хлебников всю жизнь считал свои занятия по исчислению законов времени главным делом, а поэзию и прозу — лишь способом живого изложения их. Читая «Доски судьбы», трудно определить, что перед нами — поэзия или проза, философия или искусство, математика или мифология:
«Доски судьбы! как письмена черных ночей вырублю вас, доски судьбы!...Доски судьбы! читайте, читайте прохожие!..Чистые законы времени строятся на степенях двойки и тройки, первых четном и нечетном числах... Прошлое вдруг стало прозрачным ...Как-то радостно думалось, что по существу нет ни времени, ни пространства, а есть два разных счета, два ската одной крыши, два пути по одному зданию чисел... Похожие на дерево уравнения времени, простые как ствол в основании и гибкие и живущие сложной жизнью ветвями своих степеней, где сосредоточен мозг и живая душа уравнений, казались перевернутыми уравнениями пространства, где громадное число основания увенчано или единицей, двойкой, или тройкой...»
Складывая и вычитая столетия, десятилетия, отделявшие одно событие от другого, поэт пришёл к выводу, что все они происходят с определённой цикличностью, что «во времени происходит отрицательный сдвиг через 3n дней и положительный через 2n дней; события, дух времени становится обратным через 3n дней и усиливает свои числа через 2n дней...»
На этих «досках судьбы» указаны законы гибели государств, революции, законы исторических перемен. Хлебников не просто вычислял, он мыслил числами и даже каким-то трудно постижимым образом чувствовал и ощущал мир в числе.
Из его заметок: «Пьянею числами». «Числа! Голые вы вошли в мою душу, и я вас одевал одеждою земных чувств и народов». «И звёзды — это числа, и судьбы — это числа, и смерти — это числа. Счёт Бога, измерение Бога».
Поэзия чисел
Прочь застенок! Глаз не хмуря,
Огляните чисел лом.
Ведь уже трепещет буря,
Полупоймана числом.
Напишу в чернилах: верь!
Близок день, что всех возвысил!
И грядет бесшумно зверь
С парой белых нежных чисел!
(«Зверь+ число»)
Конечно, от всего этого воодушевления ещё далеко до строгой науки, но в этом есть то, что можно назвать поэзией науки.
Хлебников считал число тем, что может объединить человечество. Его излюбленное метафорическое изображение — это -1(корень из -1). Этого числа нет, и в то же время оно есть. Если мы извлекаем квадратный корень из отрицательного числа, то получаем положительные числа: -1 = 1. Но если это «чудо», как называет мнимые числа Лейбниц, возможно в математике, то оно возможно и в искусстве, и в жизни, поскольку «законы мира совпадают с законами счёта». Хлебников всегда вдохновлял себя фразой: «Хоти невозможного». Корень из -1 — счёт невозможного.
Мыслители, нате!
Этот плевок — миров столица,
а я — весёлый корень из нет-единицы.
Многие годы Хлебников отдал вычислению математических закономерностей в рождении великих людей, в гибели государств. В брошюре «Учитель и ученик», изданной в 1912 году, он предсказал год падения царской фамилии в 1917-ом. Ещё в 1908 году предсказал Первую мировую войну. А в декабре 1916-го предсказал точную дату Октябрьской революции.
По своим вычислениям законов времени Хлебников вычислил, что в 2007 году идея Ладомира, мировой гармонии победит в мировом масштабе. На этот раз предсказания не сбылись...
Вне быта
Когда Хлебников писал: «Мне много ль надо? Ковригу хлеба да каплю молока...» - это не было поэтическим преувеличением. О его неприхотливости в быту и бессребреничестве ходили легенды. Из «Романа без вранья» А. Мариенгофа:
«В Харькове жил Велемир Хлебников. Решили его проведать.
Очень большая квадратная комната. В углу железная кровать без матраца и тюфячка, в другом углу табурет.Сели на кровать.
- Вот...
И он обвел большими, серыми и чистыми, как у святых на иконах Дионисия Глушицкого, глазами пустынный квадрат, оклеенный желтыми выцветшими обоями.
-... комната вот... прекрасная... только не люблю вот... мебели много... лишняя она... мешает.
Я подумал, что Хлебников шутит».
Бескорыстие Хлебникова не имело подобия в человеческом обществе, оно евангельского чина. Даже неловко применять к нему слово «бескорыстие», ибо тут заложена корысть как некая возможность. Когда-то замечательный поэт Михаил Кульчицкий написал прекрасное стихотворение о Хлебникове. В дни гражданской войны на разбомблённом белыми полустанке у остылого трупа матери коченела девочка. Подошёл человек, сложил костерок и бросил ему в пищу тетрадки со стихами.
Человек ушёл — привычно устало,
а огонь стихи начал листать.
Но он, просвистанный, словно пулями роща,
белыми посаженный в сумасшедший дом,
сжигал свои марсианские очи,
как сжёг для ребёнка свой лучший том.
Юрий Нагибин писал, что всегда любил это стихотворение, но считал «том», сжигаемый на костре для чужого угрева, нарядной и несколько наивной метафорой. Как же он был поражён, узнав, что действительность превзошла невероятностью поэтическую фантазию Кульчицкого. В маленькой книжке, изданной в 1925 году тиражом всего в 2 тысячи экземпляров, Татьяна Вечорка рассказывает со слов Велимира: «Ехал Хлебников куда-то по ж/д. Ночью, на маленькой станции, он выглянул в окошко. Увидел возле реки костёр и возле него тёмные силуэты. Понравилось. Он немедля вылез из вагона и присоединился к рыбакам. Вещи уехали, а в кармане было мало денег, но несколько тетрадок. И когда пошёл дождь и костёр стал тухнуть — Хлебников бросал в него свои рукописи, чтобы «подольше было хорошо». Два дня он рыбачил, а по ночам глядел на небо. Потом ему всё это надоело и он отправился дальше. Без денег. Без рукописей. А ведь единственное, что Хлебников берёг — были рукописи».
Хлебников был абсолютно лишён всех бытовых реакций и проявлений. Как только наступала весна, он собирал немногочисленные вещи и пускался в путь. У него нет дома, нет службы, нет семьи, чаще всего нет денег. Он живёт в Харькове и в Ростове, в Баку и в Москве, у знакомых и просто случайных людей. Таков был ритм жизни поэта.
«Я для вас звезда»
Весной 1922 года Хлебников вместе со своим другом — мужем сестры Веры, художником Петром Митуричем, — уехал в Новгородскую губернию, надеясь отдохнуть и набраться сил перед поездкой в Астрахань. Там, в деревне Санталово, он простудился, заболел и скончался 28 июня 1922 -го.
«Прожил он в деревне дней пятнадцать, - вспоминает хозяйка квартиры. - Был он желтый. Кашлял. Люди думали, у него чахотка. Вскоре у него отнялись ноги, и он не смог передвигаться. 1 июня отыскали подводу и отвезли его в больницу в ближайший городок Крестцы».
В больнице ему стало еще хуже. Врач констатировал отек тела и паралич. Митурич раздобыл телегу и увез полуживого поэта обратно в Санталово. За полмесяца до смерти тяжело больной Хлебников попросил, чтобы его перенесли в заброшенную баню, боясь заразить обитателей дома, в особенности детей. Последнее слово, произнесенное им в этом мире, было "Да-а-а..."
Митуричу осталось хлебниковское наследие: две грязных наволочки, набитые обрывками бумаги. Он запечатлел в рисунках смерть Хлебникова .

На сосне Петр Митурич высек имя: "Велимир Хлебников". Потом посадил возле холмика рябину и две березы. Кто-то уже в наше время поставил досточку с датами жизни и смерти.
Эпилог на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/48107.html
|
|
Процитировано 5 раз
Понравилось: 3 пользователям
"Ты мне такое счастье принёс..." |
* * *
Ты мне такое счастье принёс,
такого нету нигде.
Оно не просто однажды сбылось –
сбывается каждый день.
Оно родимее всех отчизн,
стариннее всех эпох.
Такой, должно быть, бывает жизнь,
когда в неё входит Бог.
Оно свечою украсит тьму,
укутает, как в меха.
И нет никакого дела ему
до моего стиха.
***
Мой пастырь, царь мой, поводырь!
Не льщу, а льну к тебе и ластюсь.
Дороже хлеба и воды
лишь то, что называют счастьем.
Пускай всего судьба лишит —
лишь были б рядом эти губы...
Чем больше жизнь идёт на убыль —
тем больше прибыль для души.
Великий внутренний покой.
Что по сравненью с этим воля!
Теперь заполнено тобой —
что было наполненьем боли.
Из царства вымысла — в межу
перехожу насущной речи.
Свою любовь перевожу
я с лунного — на человечий.
Я знала бред её и брод,
ночного таинства порочность,
и расставания непрочность,
и пагубу, и приворот.
Но, приручённая тобой,
скользит вослед домашней тенью.
Вовек со мной моя любовь,
неразлучимо — ночь ли, день ли.
Судьбе повелевает стих
делить вдвоём и зной, и пасмурь.
И смех, и плач, и даже насморк —
отныне послан на двоих.
Прочнее не бывает уз.
Их суть, их смысл сакраментален.
Вот ты. Вот я. Вот наш союз.
Смешон и лишен комментарий.
***
Часы тихонько тикают: тик-так...
Опять с тобою заполночь не спим мы.
Мне никогда ни с кем не будет так.
Так нежно, так остро, так нестерпимо.
Мы, словно в чаще, замерли в тиши,
биенье крови в теле учащая.
Звериное тепло твоей души,
как собственную кожу, ощущаю.
Посмотрите небольшой фрагмент с творческого вечера, где эти стихи исполняет Светлана Митяшова: http://www.youtube.com/watch?v=OkHQ8YTw5GE&feature=player_embedded
* * *
К тебе летит мой каждый час и сон.
Мы плавно переходим в сны друг друга.
Наш общий сон нас держит, невесом,
с надёжностью спасательного круга.
Колыбельная. Поёт Светлана Лебедева: http://natalia-cravchenko2010.narod2.ru/Muzikalnie_proizvedeniya_na_stihi_Natalii_Kravchenko/11/20_-_Kolybelnaya.mp3
Этой песни колыбельной
я не знаю слов.
Звон венчальный, стон метельный,
лепет сладких снов,
гул за стенкою ремонтный,
тиканье в тиши —
всё сливается в дремотной
музыке души.
Я прижму тебя, как сына,
стану напевать.
Пусть плывёт, как бригантина,
старая кровать.
Пусть текут года, как реки,
ровной чередой.
Спи, сомкнув устало веки,
мальчик мой седой.
***
Глазели в окна злые лица улиц,
где я брела и бредила, дрожа.
Не царских лакомств, не заморских устриц —
простого хлеба жаждала душа.
Искала счастья. Холодно, теплее..
Никак не находилось то плечо.
И лишь на той заснеженной аллее
почувствовала кожей: горячо.
Единственный! Укутаться, уткнуться...
Был свыше предначертан этот путь.
Другой тропинки нет: не разминуться.
И звёзды так упали: не свернуть.
Семнадцать лет творю любви молитвы.
Я слушаю, что ангел мне велит.
И наш союз чем дальше — тем счастливей,
неразделим, прекрасен и велик.
***
В волосах — ни сединки, в глазах — ни грустинки,
и ни капли горчинки в горячей крови.
Я прошу тебя, жизнь, не меняй ту пластинку,
пусть закружит нас вальс вечно юной любви.
Я на карте места наших встреч обозначу,
календарному дню воспою дифирамб.
И тебя воспою, и в стихи мои спрячу,
никакой вездесущей судьбе не отдам.
Всё, что бредило, зрело во мне и бродило,
лишь сумятице сердце прикажет: нахлынь! —
то теперь до последней морщинки родимо,
и качает меня твоей ласки теплынь.
Отдаю иль беру — различить не умею.
И хочу одного я теперь, не шутя —
лишь любить и голубить, и холить, лелея,
и баюкать тебя, как больное дитя.
В твоём сердце зерном по весне прорастаю.
Отражаюсь в зрачках твоих: та ли? не та ль?
Может статься, единственная из ста я,
что, как Золушке, впору пришёлся хрусталь.
Хэппи энд? Торжество? Избавленье от тягот?
Пусть несётся кораблик по волюшке волн.
Я не знаю, как звёзды в судьбе нашей лягут,
что захочет любви и стиха произвол.
***
Который час? — его спросили здесь.
А он ответил любопытным: вечность.
О. Мандельштам
Секундная радость, минутная боль
и стрелка тоски часовая...
Дадут ли они надышаться тобой,
дамокловой мглой нависая?
Торчат на лице циферблата усы, —
что в них мне, не злых и не добрых,
когда моё сердце стучит, как часы,
в твоих раздающихся рёбрах...
Часы наблюдать? Вопрошать из окна,
какое там тысячелетье?
Зачем, когда вечность без дна и без сна
грудной сохраняется клетью?
О вневременное! Во мне твой уклад.
Блаженно смежаются веки...
Разбейте мобильник, ТВ, циферблат!
Навеки... навеки... навеки...
***
Нам вечность не грозит.
Без нимба, ореола
лицо твоё вблизи
отчетливо и голо.
Всё меньше виражей
в смертельном нашем ралли.
Всё больше миражей
развеяно ветрами.
И деревянный чёрт –
смешное воплощенье
твоих семитских черт –
потупился в смущенье.
Уж сколько лет и зим
висит он в изголовье,
твоим зрачком косит
с укором и любовью.
Меняются черты,
мелькают дни и даты,
но вечно моё Ты,
незыблемо и свято.
Ты выхватил меня
из пустоты вселенной,
из тьмы небытия,
из водной дрожи пенной.
Обвёл защитный круг.
Лежу, как в колыбели,
в тепле сплетённых рук,
в твоём горячем теле.
Храни меня, храни,
мой ангел с ликом чёрта!
Мне кажется, что нимб
венчает лоб твой чёткий.
И отступают прочь
кладбищенские плиты.
И дольше века – ночь,
где наши лица слиты.
***
Прочь, печаль, кончай грызть мне душу, грусть.
Надо проще быть, как река и роща.
И к тебе навстречу я — наизусть,
постигая сердце твоё наощупь.
Пусть не замки из кости или песка,
пусть не крылья, а просто крыльцо и кринка.
Мне дороже один волосок с виска
твоего, чем птицы всех Метерлинков.
Я тебя люблю, замедляя, для
наши дни, свивая в их теле гнёзда.
Как стихи на строфы свои деля,
боль делю на звуки и ночь — на звёзды...
***
Взвалю на чашу левую весов
весь хлам впустую прожитых часов,
обломки от разбитого корыта,
весь кислород, до смерти перекрытый,
все двери, что закрыты на засов,
вселенское засилье дураков,
следы в душе от грязных сапогов,
предательства друзей моих заветных,
и липкий дёготь клеветы газетной,
и верность неотступную врагов.
А на другую чашу? Лишь слегка
ее коснётся тёплая щека,
к которой прижимаюсь еженощно,
и так она к земле потянет мощно,
что первая взлетит под облака.
***
Я себя отстою, отстою
у сегодняшней рыночной своры.
Если надо – всю ночь простою
под небесным всевидящим взором.
У беды на краю, на краю...
О душа моя, песня, касатка!
Я её отстою, отстою
от осевшего за день осадка.
В шалашовом родимом раю
у болезней, у смерти – послушай,
я тебя отстою! Отстою
эту сердца бессонную службу.
Песня «День». Поёт Светлана Лебедева: http://natalia-cravchenko2010.narod2.ru/Muzikalnie_proizvedeniya_na_stihi_Natalii_Kravchenko/44/33_Den.mp3
День неспешно зачинается.
Я ему пока никто.
Даль чуть брезжит, разгорается,
как в туманностях Ватто.
Он ещё пока на вырост мне,
он просторен и широк.
На невидимом папирусе –
иероглиф недострок.
Будет день с его обновами,
будет пища и питьё,
будет дом, где оба снова мы,
наше нищее житьё.
Полдень обернется вечером,
утишая шум и гам,
и спадёт жарой доверчиво
шёлково к моим ногам.
А в каком отныне ранге он –
этот день зачтётся мне
прилетевшим свыше ангелом
в полуночной тишине.
|
|
Вдвоём |
* * *
Это счастье далось мне с кровью.
Трепетали ресницы трав,
ветер встрёпанный бесконтрольно
демонстрировал дикий нрав.
И прижались тела и души,
как у Бога в одной горсти,
околесицу леса слушать
и такую же вслух нести.
Хлынул на плечи тёплый ливень,
выжег радугой всё дотла.
Я такою враздрызг счастливой
никогда ещё не была!
И запомнила день-виденье,
замечательный и большой.
Окончательность совпаденья
с самой близкою мне душой.
***
Я люблю тебя всею своей подноготной,
всей своей наготой беззащитной, щекотной,
всем дрожанием губ и пожарищем щёк,
всем сиротством горючих ночей пустотелых,
всем немотством речей в своих снах оголтелых,
как сто тысяч сестёр не любили ещё.
Я люблю тебя... Дай мне продлить это слово,
словно чистый глоток ключевой, родниковый,
удержать в языке, как старинную ять...
Вопреки аксиомам извечных понятий,
средь холодных распятий, голодных объятий
необъятное снова пытаюсь объять.
***
Мы как будто плывём и плывём по реке...
Сонно вод колыханье.
Так, рукою в руке, и щекою к щеке,
и дыханье к дыханью
мы плывём вдалеке от безумных вестей.
Наши сны — как новелла.
И качает, как двух беззащитных детей,
нас кровать-каравелла.
А река далека, а река широка,
сонно вод колыханье...
На соседней подушке родная щека
и родное дыханье.
***
Я помню все слова, что ты мне говорил.
Они занесены на тайные скрижали.
Когда-то озарив и щедро одарив,
лежат на дне души, с годами дорожая.
Сокровищами душ — засушенных цветов,
записочек твоих — не устаю владеть я.
Я помню все места на картах городов,
куда, сбежав от всех, мы прятались, как дети.
Моя душа с тобой в надежде и в беде,
завися от тебя, блажит иль занеможет.
А если нет тебя — то нет её нигде.
Ведь без тебя она существовать не может.
Чураясь пышных фраз, всего, что напоказ,
моя любовь проста, мудра и старомодна.
Так впору мне она, просторна и легка,
как в тапочке мне в ней, разношенной, свободно.
Но до сих пор пьянит твоей любви вино.
И ты моим теплом до донышка просвечен.
Держусь за это дно, последнее звено,
связавшее меня с присутствием на свете.
***
Опять наговорила на червонец,
ни слова от тебя не утая.
Я диск кручу, дурея от бессонниц:
ну как ты там, кровиночка моя?
Ты спросишь, что я делала? Любила.
В календаре вычёркивала дни.
Событья и слова тебе копила.
Всё подмечала, что тебе сродни.
Засыпан город весь осенней медью —
сердечки писем в дальние края...
Звучит в ночи сквозь бездны и столетья:
«Ну как ты там, кровиночка моя?»
* * *
Всего лишь жизнь отдать тебе хочу.
Пред вечности жерлом не так уж много.
Я от себя тебя не отличу,
как собственную руку или ногу.
Прошу взамен лишь одного: живи.
Живи во мне, живи вовне, повсюду.
Стихов не буду стряпать о любви,
а буду просто стряпать, мыть посуду.
Любовь? Но это больше чем. Родство.
И даже больше. Магия привычки.
Как детства ощущая баловство,
в твоих объятий заключусь кавычки.
Освобождая сердце от оков,
я рву стихи на мелкие кусочки.
Как перистые клочья облаков,
они летят, легки и худосочны.
Прошу, судьба, не мучь и не страши,
не потуши неловкими устами.
В распахнутом окне моей души
стоит любовь с наивными цветами.
* * *
Ты стал моим берегом и оберегом.
Вхожу в твою душу, как в тёплую реку,
и чувствую почву и твёрдое дно –
всё то, без чего устоять не дано.
Жила без любви, без надежды и веры,
и в пропасть манили ночные химеры.
Но что мне теперь даже самая смерть,
когда под ногами небесная твердь?
Ты был мне обещан и Богом, и Чёртом,
давно позабытым в веках звездочётом.
Так выпали карты и звёзды легли –
идти нам одною стезёю земли.
Посмотрите небольшой видеофрагмент с моего творческого вечера, где эти стихи читает Феодосия Бырса и поёт две песни на них Светлана Лебедева: http://www.youtube.com/watch?v=fW4t9iwn--g&feature=player_embedded
* * *
Как бы вы вашу душу в страстях ни метелили,
как бы ваша мечта ни витала воздушно –
настоящее счастье всегда незатейливо:
тесный столик на кухне, ночник над подушкой.
Проторёнными тропами жизнь устилается.
Не беда, коль не хватит в ней соли и перца.
Поцелуи чужих на губах могут плавиться,
но они никогда не доходят до сердца.
Настоящее счастье – простое, но прочное,
познаётся бок о бок, в обнимку, впритирку.
Ты один настоящий, все бывшие, прочие –
только бледные оттиски через копирку.
* * *
Я споткнусь на каком-то слоге –
ты продолжишь за мною фразу.
Два медведя в одной берлоге,
мы совпали с тобой по фазам.
Словно выплатили налоги–
беспробудочно мы сонливы.
Два медведя в одной берлоге –
невелик же мир у счастливых!
Вопиюще не одиноки
в закутке домашнего круга,
два медведя в одной берлоге –
мы немыслимы друг без друга.
***
Лохматое, неприбранное счастье
без серенад, сонетов и свечей.
Браслеты не теснят ему запястья,
не режет слух возвышенность речей.
Домашний круг. Уютный отсвет лампы.
Банальнее картины не найти.
Но в личной жизни нам милее штампы
и низких истин торные пути.
***
Душу возвышающий обман
выигрышней правды неминдальной.
Феерии ждёт эротоман,
но любовь всегда документальна.
Словно в приближении конца
я люблю тебя напропалую.
В раме рук сплетённого кольца –
драгоценность милого лица,
где морщинку каждую целую.
***
Мы мечтаем о высоком
и стремимся вдаль за ним.
Ну а что всегда под боком –
то не ценим, не храним.
Закружило в вихре вальса
обручем любимых рук.
Пробил час. Сцепились пальцы.
На тебе замкнулся круг.
Отсверкали фейерверки.
Мне уже не быть одной.
Мерить мир иною меркой –
самой верной и родной.
В тесноте, да не в обиде,
вплоть до самого конца
мчать в карете по орбите
обручального кольца.
***
Отлетают котурны возышенных фраз.
Остаётся лишь голая суть без прикрас.
И в душе проясняется, как негатив,
этой песенки полузабытый мотив.
Всё, что было во сне, нелюдимо, во мне,
то теперь наяву, воедино, вдвойне.
Наши тропы сплелись, замыкая концы.
Мы, как ноты, слились, — двойники, близнецы.
Я узнала теперь, как планета звучит, —
так, как сердце ночами о сердце стучит.
Я узнала, как выглядит абрис души, —
как лицо, что взошло надо мною в тиши.
Я люблю тебя, милый, — горячечным ртом...
Я давно позабыла, что будет потом.
Я — очаг твой, который согреет ладонь,
твой сосудик, в котором мерцает огонь.
Комната
Моё логово-угол, где стены хранят от ушибов,
моя камера пыток, что пуще неволи мила.
Я не выйду из комнаты, не совершу я ошибок.
Мне она никогда не была ни скучна, ни мала.
Мой источник пиров средь чумы, мой очаг сновидений,
моя комната-трюм, где заброшена дел дребедень,
где, скрипя половицами, бродят любимые тени,
где по чувствам, а не по делам судишь прожитый день.
Здесь в окошко, как в лупу, всё видишь яснее и проще.
Мир пушистым комочком свернулся у ног без затей.
Я не выйду из круга любви на продутую площадь,
из сердечного света — на холод планеты людей.
Как сберечь отчий дом в этой немилосердной отчизне,
где неистовый смерч наши гнёзда готов разорить?
В этом мире из комнаты выйти — что выйти из жизни.
Дверь открыть или окна — что жилы себе отворить.
***
Всё прочее — литература
Поль Верлен
Я не хочу стараться словом, –
на чём-то, родственном нулю,
неназываемом и новом,
молчать, как я тебя люблю.
На языке листвы и ветра,
певучих птах, летучих звёзд,
бездумно чувствовать и верить,
что смысл единственен и прост.
Они достались нам в наследство
и мучат памятью родства -
простые, чистые, как детство,
невыразимые слова.
Хочу не умствовать лукаво
и не закручивать хитро.
Как мысли азбучные правы,
где буки, веди да добро.
Душа — божественная дура,
молчит, как девочка, светла...
Всё прочее — литература,
где нет ни жизни, ни тепла.
|
|
Родина |
* * *
Душа моя, пожалуйста, нишкни!
Не жалуйся, хозяева – они.
Уткнись в пальто, молчи себе в кулак.
Ты здесь никто, и звать тебя никак.
* * *
На аккуратных рытвинах аллей –
замедленные взрывы тополей.
Сегодня даже мирная земля
напоминает минные поля.
* * *
He для меня газетного вранья
Подножный корм и рапортов победность.
Не для меня и сытные края.
О Родина, о нищая моя,
Я жизнь свою подам тебе на бедность.
Съешь и её... Как Блок, скрывая грусть,
В душе тая бесстрашного бесёнка,
Писал, – судить его я не берусь, –
Что слопала, гугнивая, мол, Русь,
"Как чушка, своего ты поросёнка."
Другой Руси на свете не найти.
На место в сердце нету претендента.
Но с этой мне страной не по пути.
И в ногу мне не хочется идти
С лукавым и гугнявым президентом.
***
Идёт погоня за душой,
идёт погоня.
О, как же жаждет мир брюшной
её агоний!
Приказ составлен был в верхах
и подытожен:
«Поймать её! Повергнуть в прах!
Растлить святошу!»
Она жива собой сама,
она невинна.
Но комья грязи и дерьма
летят ей в спину.
Идёт погоня за душой,
всё ближе дали.
Но снова лажей, как вожжой,
они достали.
Вещают сотни подлецов
на всех каналах,
чтоб никогда она в лицо
себя не знала.
И нас тошнит уже лапшой
почти до рвоты.
Идёт погоня за душой.
Идёт охота.
Бездушен облик нелюдей –
вождей в законе.
И от предчувствия гвоздей
болят ладони.
Её хватают на лету
и вяжут крылья.
(Когда-нибудь на тему ту
напишут триллер).
Слились в людской единый шлак
волы и волки.
– Прощайте, люди! Я ушла.
Живите долго.
Ненужный ангел, всем чужой,
её заждётся...
Утешен будешь не душой,
а чем придётся.
Что грело нас сильней огня,
увы, отныне
зимы укроет простыня,
пожрёт пустыня.
Пусть спит душа в её груди
до смены века.
Пока поэт не возродит
в нас человека.
* * *
Трёхцветный флаг нам счастья не принёс,
как кошка – по народному поверью.
Народ скулит и воет, точно пёс
пред наглухо захлопнутою дверью.
О мученик оболганных идей,
обманутая жертва обольщенья!
Ты – уценённый кем-то сорт людей,
изъятый навсегда из обращенья.
Пока ещё наркоз любви, стихов,
родного дома действует привычно,
и командорской поступью верхов
не омрачён мой слух аполитичный,
но средь чумы самоубийствен пир.
И Муромец однажды слазит с печки...
Вдыхаю жизни нашатырный спирт,
чтобы очнуться от блаженной спячки.
Первомай 2004-го
В дождливой мороси и хмари
тонул нелепый Первомай.
Я шла с тяжёлой сумкой к маме.
(Уже не шёл туда трамвай).
Мой взор, рассеянный и сонный,
скользил поверх младых племён,
а мне навстречу шли колонны,
как будто из других времён.
О сколько их! Куда их гонят?
Что демонстрировать, кому,
когда в стране, где все – изгои,
власть, неподвластная уму?
Стояли ряженые в гриме –
Маркс-Энгельс-Ленин-Брежнев. Бред.
Мне Энгельс подмигнул игриво,
портвейном, кажется, согрет.
Толпа живым анахронизмом
флажки сжимала в кулаках.
Воскресший призрак коммунизма
маячил где-то в облаках.
Зонты – щитами – непогоде
и в ногу – мерные шажки.
А я всегда рвалась к свободе
сквозь эти красные флажки!
Всё, чем когда-то дорожили,
оплакивают небеса...
"Как хорошо мы плохо жили", –
однажды Рыжий написал.
Земля, тебе не отвертеться,
как этот шарик надувной
парит над юностью и детством.
Наивный шарик наш земной...
***
Тупая, кровавая Родина,
вовек мы тебя не отмоем.
Тоскуя по жизни украденной,
в твоих околеем помоях.
В углах, запылённых и пакостных,
узришь паутины узоры.
Но что это шепчется сладостно,
ростком пробиваясь из сора?
Зари разгорается марево,
небесные очи бездонны...
И облик твой с пьяною харею
сменяется ликом мадонны.
Святая, слепая, юродивая,
бредёшь наугад, наудачу.
К тебе припадаю, уродина,
кляну, и целую, и плачу...
***
Кричит на митинге мессия,
и автомата блеск свинцов.
Виват, немытая Россия!
Я узнаю тебя в лицо.
Опять до основанья рушим,
опять играем ту же роль.
Пусты карманы, нищи души
и гол по-прежнему король.
Мечтали: дали б только крикнуть,
что гол! И нет пути назад!
Успели к крику все привыкнуть,
а он всё так же голозад.
Лишь раньше свита уверяла,
что платье цвета кумача,
теперь оно трёхцветным стало,
а дело одного ткача.
***
Вырубают деревья. Дебильные мачо.
Им команды даёт деловой нувориш.
Вырубают деревья. И Саши не плачут,
а Раневские вновь укатили в Париж.
И опять глухота обступает паучья.
Мы в обнимку с акацией воем вдвоём.
Вырубают деревья. Корявые сучья,
словно пальцы, цепляются за окоём.
Бумерангом отдастся – родимое ранить.
Потемнеет в глазах от обугленных пней.
Вырубается всё. Обрубается память.
Оголённые нервы загубленных дней.
О, Ламарк о таких и не ведал провалах!
Вся Россия легла от того топора.
Сиротливое светится небо в прогалах,
как пустая душа городского двора.
***
Муж бьёт жену наотмашь по лицу.
Она летит и падает внизу.
На лестнице лежит вниз головой.
И видно, что всё это не впервой.
Он поднимает женщину рывком
и снова бьёт по скуле кулаком.
Прицельнее ударить норовит.
Лицо в крови и лестница в крови.
Кричу в калитку: «Вызову ОМОН!»
Приехал он, но скоро вышел вон.
Взирал из окон равнодушный дом.
Ничья душа не обожглась стыдом.
Сын вышел из сеней. Зовут Борис.
Небрежно кинул тряпку: «На, утрись».
Пошла, хромая, ссадины смывать.
Муж с храпом завалился на кровать.
Не рухнул мир. Не рухнул потолок.
«Да, и такой, Россия...» – пишет Блок.
***
Люблю Россию я, но странною любовью...
М. Лермонтов
Люблю не странною уже –
шизофренической любовью –
ту, с кем Эдем и в шалаше,
ту, что мне дорога любою.
И эту ширь, и эту грязь,
и дуновения миазмов,
с чем с детства ощущаешь связь
до тошноты, до рвотных спазмов.
Но что взамен? Но что взамен
вот этой вымерзшей аллейки,
родных небес, родных земель,
родной кладбищенской скамейки?..

***
Сколько любви похоронено
в этих пустынных местах!
Тень силуэта вороньего
на деревянных крестах.
Как я хотела бы тоже здесь
рядом с родными лежать,
наше единство и тождество
пестовать и продолжать.
Может, что было кровинкою,
чем я жила, не ценя,
сквозь эту землю травинкою
снова обнимет меня.
***
Фетровая шляпка. Узкий ботик.
Волосы уложены волной.
Мне приснилась бабушкина тётя,
никогда не виденная мной,
что исчезла навсегда из вида
на невесть каком краю земли,
с именем красивым Ираида,
в честь которой маму нарекли.
Вот она возникла из тумана –
тайны века, призрачные дни...
Вынул месяц ножик из кармана –
и не стало пол моей родни.
Где была ты, тётя Ираида,
талая вода на киселе,
когда нам усатый злобный ирод
делал лучше жизнь и веселей?
Из глухих соседских недомолвок,
из ночного шёпота: «молчи!» –
выплывал твой образ – зыбок, робок,
сгинувший в карлаговской ночи.
Смутное, летучее виденье,
стрекозиных крылышек слюда...
Проскользнула легкокрылой тенью,
не оставив ботиком следа.
Где твой прах развеян – кто же знает?
Муфта, шляпка, валик надо лбом.
Чем-то мне тебя напоминает
облако в просторе голубом.
Давид Аврутов читает мои гражданские стихи в библиотеке:
http://www.youtube.com/watch?v=_33Vuk-yTh4&feature=player_embedded
***
Я тобою ранена,
я жива тобою.
Русь моя, окраина,
небо голубое!
Всю тебя измызгали,
с молотка пустили.
Пулями и взрывами
как изрешетили.
Нищая, бездомная,
без гроша в карманах,
но глаза бездонные
эти не обманут.
И вода ты мёртвая,
и вода живая,
Русь моя, развёрстая
рана ножевая.
Саратову

Столица самозванная Поволжья,
родная грибоедовская глушь,
погрязшая в осеннем бездорожье
средь неизбывных миргородских луж,
где вотчина бессмертных хлестаковых,
где громоздится памятников дичь, —
ну что в тебе, замызганном, такого,
чтоб не стремиться никуда опричь?
Всё лето без воды. Но рядом Волга.
Зимой без света. Но была б свеча.
Нелепого, непрошенного долга
слепая тяга в сердце горяча.
Подруга пишет: «Нет прекрасней края,
давайте к нам! Сжигайте корабли!»
Но не влечёт меня обитель рая
уютно ностальгировать вдали.
Там всё стерильно: ни врага, ни друга.
Там море мёртво и душа мертва.
А здесь дворы с родимою разрухой
и круговой порукою родства.
И пусть ни злато, ни ума палата
не озарит помоечного дна,
но здесь душа с рождения крылата
и босоногой радостью полна.
Я часть твоих окраин и колдобин,
твоих оркестров уличных струна.
Ты мною утрамбован и удобрен.
Я в воздухе твоём растворена.
Стыжусь тебя порой, как сын стыдится
алкоголичку-мать, бомжа-отца,
но не стираю горькие страницы,
они во мне пребудут до конца.
И заморозки здесь, и отморозки,
за выживанье вечные бои,
но светятся застенчиво берёзки
и за руки цепляются мои.

"Песня о старом Саратове". Поёт Светлана Лебедева.
http://rutube.ru/video/0fe3dd76ef6594e4444209ea9ef98e41/
***
Всё банки, фирмы да ночные клубы.
Как обновился твой простой наряд!
Там, где теснились старые халупы –
парадные подъезды встали в ряд.
А мне другое видится упрямо:
не ладно скроен ты, да крепко сшит.
Там брат живой и молодая мама,
и мой отец навстречу мне спешит.
Излюбленное улочек безлюдье,
церквушек одиноких купола.
Аллеи Липок. Память о минуте,
где в первый раз я счастлива была.
Тебя ругают эмигранты-снобы,
глядящие в презрительный лорнет.
А я хочу к тебе пробиться снова,
расслышать «да» в чужом холодном «нет».
И я шепчу беззвучными губами,
но ты не слышишь нежности укор.
Ты – словно близкий, потерявший память,
не узнаёшь лицо моё в упор.
Мои ладони на твоих ресницах.
Ну, угадай сквозь толщу бытия!
Перелистай назад свои страницы!
Мне так страшна забывчивость твоя.
Но веет бесприютностью вокзала
от новостроек, стынущих в лесах,
и высятся безликие кварталы,
где вывески – как шоры на глазах.
И пусть тебя давно уж нет на свете, –
ушёл, как Китеж, прошлое тая,
но все равно я за тебя в ответе.
Пусть ты не мой, но я ещё твоя.
Пусть твой уход ухожен, неизбежен,
пусть разведут руками: се ля ви,
пусть станешь недоступен, зарубежен –
но ты со мною памятью любви.
***
Город мой, ты меня слепил
из снегов и степного пекла,
из затишья родных могил,
шума Кировского проспекта.
Ты любил меня, как дитя,
и растил в коммуналках ясель,
воедино во мне сведя
все концы своих разногласий.
И звучал во мне твой мотив
под оркестр сердечных скрипок,
навсегда к себе прилепив
влагой Волги и лаком липок.
***
Исторгнув утро из нутра,
проснётся мой горластый город.
Что делать в свете фар утра
с душой, где только мрак и горечь?
И мутный день, что тот талмуд,
который я прочесть не в силах...
Уже не светит никому
офонаревшая Россия.
Душа подвластна барышу,
кругом тупицы и невежды.
Но я хожу, дышу, пишу...
И разве в этом нет надежды?
|
|
"Я к вам травою прорасту..." |
Начало здесь
1 ноября 1974 года повесился Геннадий Шпаликов.

Стоит сказать: "Геннадий Шпаликов..." - и тут же улыбнешься, сам не зная чему.
То ли своему детству с шариками первомайских демонстраций, то ли юности с далекой и прекрасной столицей в фильме "Я шагаю по Москве", то ли просто какие-то хорошие пустяки вспомнятся...
На первое солнце я выхожу, большой, неуклюжий,
Под солнце, которое в самом зените,
И наступаю в синие лужи,
Я говорю им: вы извините!
Вы извините, синие лужи,-
Я ошалелый и неуклюжий.
Чувство детства, радостного ожидания, лихой беспечности. И надежды, надежды...
***
Городок провинциальный,
Летняя жара,
На площадке танцевальной
Музыка с утра.
Рио–рита, рио–рита,
Вертится фокстрот,
На площадке танцевальной
Сорок первый год.
Ничего, что немцы в Польше,
Но сильна страна,
Через месяц — и не больше -
Кончится война.
Рио–рита, рио–рита,
Вертится фокстрот,
На площадке танцевальной
Сорок первый год.

***
По несчастью или к счастью,
Истина проста:
Никогда не возвращайся
В прежние места.
Даже если пепелище
Выглядит вполне,
Не найти того, что ищем,
Ни тебе, ни мне.
Путешествие в обратно
Я бы запретил,
Я прошу тебя, как брата,
Душу не мути.
А не то рвану по следу -
Кто меня вернет? —
И на валенках уеду
В сорок пятый год.
В сорок пятом угадаю,
Там, где — боже мой! —
Будет мама молодая
И отец живой.

Начало творчества Шпаликова соединилось с концом сталинской эпохи. С политикой большей открытости и раскованности, с новым стилем шестидесятых годов.
Это был вдох, новый вдох в искусстве, тогда стали откровением для молодежи “Звездные мальчики” Василия Аксенова, первые песни Булата Окуджавы, не менее знаменитые фильмы “Мне 20 лет” и “Я шагаю по Москве”, поставленные по сценариям Геннадия Шпаликова.

Г. Шпаликов с М. Хуциевым
Тогда же страна запела незатейливые шпаликовские песенки “Пароход белый-беленький” и “Я шагаю по Москве”.

Пусть песенки были простенькие, неказистые, какие-то самодельные, но они дышали живой жизнью, они были первичными, почти природными, трогательными, сентиментальными. Конечно, в жизни не было даже такого рая, который ощущался в песнях и сценариях, но подлинна и повсеместна в послевоенной стране была мечта о простоватом наивном человечном рае. И на самом деле:
Бывает все на свете хорошо,
В чем дело, сразу не поймешь, –
А просто летний дождь прошел,
Нормальный летний дождь...

Шпаликовская Москва. Утренний город, промытый летними дождями, полный света, простора и приветливых добрых людей.
Это не торжественный гимн в честь Москвы, к которым все тогда привыкли, это было — объяснение в любви, песня сердца.

***
Я шагаю по Москве,
Как шагают по доске.
Что такое? -- сквер направо, и налево тоже сквер.
Здесь когда–то Пушкин жил,
Пушкин с Вяземским дружил,
Горевал, лежал в постели,
Говорил, что он простыл.
Кто он, я не знаю — кто,
А скорей всего никто,
У подъезда, на скамейке
Человек сидит в пальто.
Человек он пожилой,
На Арбате дом жилой, —
В доме летняя еда,
А на улице — среда
Переходит в понедельник
Безо всякого труда.
Голова моя пуста,
Как пустынные места,
Я куда–то улетаю
Словно дерево с листа.

САДОВОЕ КОЛЬЦО
Я вижу вас, я помню вас
И эту улицу ночную,
Когда повсюду свет погас,
А я по городу кочую.
Прощай, Садовое кольцо,
Я опускаюсь, опускаюсь
И на высокое крыльцо
Чужого дома поднимаюсь.
Чужие люди отворят
Чужие двери с недоверьем,
А мы отрежем и отмерим
И каждый вздох, и чуждый взгляд.
Прощай, Садовое кольцо,
Товарища родные плечи,
Я вижу строгое лицо,
Я слышу правильные речи.
А мы ни в чем не виноваты,
Мы постучались ночью к вам,
Как все бездомные солдаты,
Что просят крова по дворам.
МОЖАЙСК
В жёлтых липах спрятан вечер,
Сумерки спокойно сини,
Город тих и обесцвечен,
Город стынет.
Тротуары, тротуары
Шелестят сухой листвою,
Город старый, очень старый
Под Москвою.

Деревянный, краснокрыший,
С бесконечностью заборов,
Колокольным звоном слышен
Всех соборов.
Полутени потемнели,
Тени смазались краями,
Переулки загорели
Фонарями.
Здесь остриженный, безусый,
В тарантасе плакал глухо
Очень милый, очень грустный
Пьер Безухов.
Он пробежал по жизни, как мальчишка по весенним лужам,
оставив после себя свои сценарии, стихи и песни, как чистый звон радужных капель.
И - дрожащую трагическую ноту...

Эти стихи и песни были написаны совсем молодым Геннадием Шпаликовым для таких же молодых, влюбленных, радостных, возвышенных и истово верящих еще в идеалы парней и девчат. Все находили в них самих себя. Они стали знаком времени, его надежд и пристрастий. Шпаликов упрямо ищет в жизни любовь, красоту и надежду и в те шестидесятые годы легко находит то, что искал. Великая наивность юности, очарованность красотой и новизной мира...
***
И я вступаю, как во сне,
в летящий на закате снег.
Уже весна. Летит прощально
над миром света пелена.
Любимая удивлена,
по телефону сообщая,
что выпал снег.
Как описать его паденье?
замедленный его полет?
Да, снег идет не в наступленье,
он отступает, но идет.
Летит он, тихий, ненахальный,
иной у снега цели нет -
чтобы рукою помахали
ему, летящему, вослед.

Читая Шпаликова, нередко чувствуешь его дисгармонию с самим собой, но при этом - удивительную гармонию с живым миром: леса, озёра, реки, все явления природы, все времена года предстают в стихах поэта как родные ему существа.

***
Ленинградская зима
Розовата и бесснежна
И свежа, как ты сама
Или утренний подснежник.
Видел только в букваре,
Как они растут под снегом,
Но зато тебя смотрел
Между облаком и небом.

Инна Гулая, жена Г. Шпаликова
***
Все неслышней и все бестолковей
Дни мои потянулись теперь.
Успокойся, а я-то спокоен,
Не пристану к тебе, как репей.
Не по мне эта мертвая хватка,
Интересно, а что же по мне?
Что, московская ленинградка,
Посоветуешь поумней?
Забываю тебя, забываю,
Неохота тебя забывать,
И окно к тебе забиваю,
А не надо бы забивать.
Все давно происходит помимо,
Неужели и вправду тогда
Чередой ежедневных поминок
Оборачиваются года?



Как с ним был на “ты” весенний дождь, так поэт был на “ты” с московскими улицами.
Полюбившиеся строки из стихов, посвящённых улицам, можно приводить бесконечно. Они подчас таят в себе глубокую грусть – и одновременно - нежность.
***
Не принимай во мне участья
И не обманывай жильем,
Поскольку улица, отчасти,
Одна — спасение мое.
Я разучил ее теченье,
Одолевая, обомлел,
Возможно, лучшего леченья
И не бывает на земле.
Пустые улицы раскручивал
Один или рука в руке,
Но ничего не помню лучшего
Ночного выхода к реке.
Когда в заброшенном проезде
Открылись вместо тупика
Большие зимние созвездья
И незамерзшая река.
Все было празднично и тихо
И в небесах и на воде.
Я днем искал подобный выход,
И не нашел его нигде.
Стихи его притягивают чистотой и горькой правдой, безысходностью и грустной иронией, а главное - неизменной человечностью.
***
Людей теряют только раз,
И след, теряя, не находят,
А человек гостит у вас,
Прощается и в ночь уходит.
А если он уходит днем,
Он все равно от вас уходит.
Давай сейчас его вернем,
Пока он площадь переходит.
Немедленно его вернем,
Поговорим и стол накроем,
Весь дом вверх дном перевернем
И праздник для него устроим.

***
Хоронят писателей мёртвых,
Живые идут в коридор.
Служителей бойкие мётлы
Сметают иголки и сор.
Мне дух панихид неприятен,
Я в окна спокойно гляжу
И думаю - вот мой приятель,
Вот я в этом зале лежу.
Не сделавший и половины
Того, что мне сделать должно,
Ногами направлен к камину,
Оплакан детьми и женой.
Хоронят писателей мёртвых,
Живые идут в коридор.
Живые людей распростёртых
Выносят на каменный двор.
Ровесники друга выносят,
Суровость на лицах храня,
А это - выносят, выносят, -
Ребята выносят меня!
Гусиным или не гусиным
Бумагу до смерти марать,
Но только бы не грустили
И не научились хворать.
Но только бы мы не теряли
Живыми людей дорогих,
Обидами в них не стреляли,
Живыми любили бы их.
Ровесники, не умирайте.
Он не только талантливо писал о дружбе, но и талантливо дружил. Один из самых близких друзей – Виктор Некрасов (“Скажи мне, кто твои друзья”).

В.П. НЕКРАСОВУ
Чего ты снишься каждый день,
Зачем ты душу мне тревожишь?
Мой самый близкий из людей,
Обнять которого не можешь.
Зачем приходишь по ночам,
Распахнутый, с веселой челкой,
Чтоб просыпался и кричал,
Как будто виноват я в чем–то.
И без тебя повалит снег,
А мне все Киев будет сниться.
Ты приходи, хотя б во сне,
Через границы, заграницы.
***
Не верю ни в Бога, ни в черта,
Ни в благо, ни в сатану,
А верю я безотчетно
В нелепую эту страну.
Она чем нелепей, тем ближе,
Она – то ли совесть, то ль бред,
Но вижу, я вижу, я вижу
Как будто бы автопортрет.

Можно удивляться наивности всего народа, но все же тогда искренне верили в скорый коммунизм, в грядущие победы, в красоту человека. Дружба, любовь, добровольцы, целина, стройки.
И все-таки после смерти Геннадия Шпаликова в 1974 году не власти, не цензура, а былое братство по оружию, посчитавшее свое наивное прошлое детским садом, напрочь забыло о своем младшем брате. Почти 25 лет его не числили в главных творческих обоймах былые товарищи, изредка, как бы по касательной, называя его фамилию. Он оказался чище их со своим самодельным детским садом, со своими речными баржами, самолетиками и беленькими пароходами.
***
Не смотри на будущее хмуро,
Горестно кивая головой...
Я сегодня стал литературой
Самой средней, очень рядовой.
Пусть моя строка другой заслонится,
Но благодарю судьбу свою
Я за право творческой бессоницы
И за счастье рядовых в строю.
Он остался в хрупком романтизме военного детства, которое его сформировало. Взрослым он становиться не пожелал, не захотел терять наивный чистый хрупкий взгляд на мир.
Геннадий Шпаликов мог бы стать после своей смерти легендарным героем целой эпохи, знаком шестидесятничества, как Сэлинджер в Америке, но остальные лидеры шестидесятничества не простили ему верность своему времени и своим мечтам.
"...работать - сейчас особенно - совсем почти невмоготу - так давно уже не было - не со мной, а с общим положением в кино. Не думаю, что дело в каких-то особых запрещениях - это пусть другие себя утешают - просто я чувствую, что должен наступить какой-то качественный, общий скачок, уж больно такая общая мура идет - ужас". (из письма Г. Шпаликова Виктору Некрасову)
Он ушел из жизни 1 ноября 1974 года, когда понял, что такой, как есть, он никому не нужен, а меняться Шпаликов не хотел. Он не захотел принадлежать к надвигающейся эпохе лицемерия и фальши.

Работа нетяжёлая,
И мне присуждено
Пить местное, дешёвое
Грузинское вино.
Я пью его без устали,
Стакан на свет гляжу,
С матросами безусыми
По городу брожу.
С матросами безусыми
Брожу я до утра
За девочками с бусами
Из чешского стекла.
Матросам завтра вечером
К Босфору отплывать,
Они спешат, их четверо,
Я пятый - мне плевать.
Мне оставаться в городе,
Где море и базар,
Где девочки негордые
Выходят на бульвар.
(«Батум»)

В 1974 году Шпаликов с питьем внезапно «завязал» и засел за новый сценарий, который назвал «Девочка Надя, чего тебе надо?» Сценарий был изначально непроходной. Речь в нем шла о передовице производства, токаре одного из волжских заводов Наде, которая волею судьбы становится депутатом Верховного Совета СССР. Все в ее жизни до определенного момента развивается хорошо, но затем удача поворачивается к ней спиной. В конце концов, девушка доходит до крайнего предела: она идет на городскую свалку и там публично сжигает себя на костре.
“Ребята, вот вы все, я, мы – сказала Надя. – Есть какая-то идея, ради чего стоит жить? ... Потеряли мы что-то все!.. В коммунизм из книжек верят средне, мало ли что можно в книжках намолоть... А я верю, что ничего лучше не придумали, и лучше вас, ребята, нет на свете людей! И хуже вас тоже нет... Советские мы все, таких больше на земле нет...”
Этот так и не поставленный сценарий с главной героиней Надей, явно близкий и дорогой сердцу Шпаликова, – вариант “Оптимистической трагедии” шестидесятых годов. Есть в нем нечто корчагинское, молодогвардейское, и такие порывы незамутненной веры есть в каждом из его сценариев, вплоть до вызвавшей большой скандал “Заставы Ильича”, переименованной позже в “Мне 20 лет”.
Увы, набирающей силу циничной партноменклатуре не нужны были новые Павки Корчагины, романтические герои, они весь порыв эпохи спустили на тормозах, идеалистов высмеяли.
Поверить во что-то другое, земное, у Шпаликова не хватило сил. Кончился оптимизм, кончился и писатель. Началась богемная жизнь, запои, милиция и жуткий есенинский итог.
Поставив жирную точку в финале этой сцены, Шпаликов запечатал сценарий в конверт и в тот же день отослал его в Госкино. Ответа на него он так и не дождался, потому что через несколько дней после этого покончил с собой. Это случилось 1 ноября 1974 года.
***
Ах, утону я в Западной Двине
Или погибну как–нибудь иначе, —
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.
Они меня на кладбище снесут,
Простят долги и старые обиды.
Я отменяю воинский салют,
Не надо мне гражданской панихиды.
Не будет утром траурных газет,
Подписчики по мне не зарыдают,
Прости–прощай, Центральный Комитет,
Ах, гимна надо мною не сыграют.
Я никогда не ездил на слоне,
Имел в любви большие неудачи,
Страна не пожалеет обо мне,
Но обо мне товарищи заплачут.
***
Отпоют нас деревья, кусты,
Люди, те, что во сне не заметим,
Отпоют окружные мосты,
Или Киевский, или ветер.
Да и степь отпоет, отпоет,
И товарищи, кто поумнее,
А еще на реке пароход,
Если голос, конечно, имеет.
Басом, тенором — все мне одно,
Хорошо пароходом отпетым
Опускаться на светлое дно
В мешковину по форме одетым.
Я затем мешковину одел,
Чтобы после, на расстоянье,
Тихо всплыть по вечерней воде
И услышать свое отпеванье.

Ощущаешь щемящий лиризм стихотворения, в нём беспредельная искренность поэта и - его обречённость. Многие стихи Шпаликова, даже самые весёлые, легкомысленные и беспечные, воспринимаются как предощущение катастрофы, хотя прямо об этом не говорится.
***
Что за жизнь с пиротехником! --
Фейерверк, а не жизнь:
Это адская техника,
Подрывной реализм...
Он -- веселый и видный,
Он красиво живет,
Только он, очевидно,
Очень скоро помрет.
На народном гулянье,
Озарив небосклон,
Пиротехникой ранен,
Окочурится он.
Я продам нашу дачу,
Распродам гардероб,
Эти деньги потрачу
На березовый гроб.
И по рыночной площади --
Мимо надписи «Стоп!» --
Две пожарные лошади
Повезут его гроб.
Скажут девочки в ГУМе,
Пионер и бандит:
«Пиротехник не умер --
Пиротехник убит!»
Это и стихотворение “Прощай, моё сокровище...”, обращённое к дочери, написанное в роковом для поэта 1974 году:
***
Прощай, мое сокровище, -
Нелепые слова,
Но как от них укроешься -
Кружится голова.
И мартовская талость
Бросается и рвет.
Мне докружить осталось
Последний поворот.
И — последнее стихотворение-завещание:
***
Не прикидываясь, а прикидывая,
Не прикидывая ничего,
Покидаю вас и покидываю,
Дорогие мои, всего!
Все прощание - в одиночку,
Напоследок - не верещать.
Завещаю вам только дочку -
Больше нечего завещать.

Что же творилось в его душе, если он смог оставить самое дорогое, что у него было — дочку?!
И в его предсмертной записке упоминается только она: "Даша, помни!"

Как сложилась судьба этой талантливой актрисы, окончившей актёрскую мастерскую С. Ф. Бондарчука во ВГИКе, где её называли самой талантливой на курсе, снявшейся в пяти фильмах, среди которых «Детская площадка» (1986), «Крейцерова соната» (1987), «Спаси и сохрани» (1989) «Город» (1990) и неожиданно для всех совершенно исчезнувшей из виду?
В 1990 году, когда на экран вышел пятый и, как оказалось, последний фильм с её участием - "Город", после столь же трагического ухода из жизни её матери - актрисы Инны Гулая, Даша решительно ушла из кинематографа, потребовала, чтобы её актёрскую карточку изъяли из картотек Мосфильма и киностудии им.Горького. С большим трудом уговаривали её выступать на вечерах памяти её отца, прочесть его стихи...
А потом она совершенно исчезла. Где она, что с ней?

Дарья Шпаликова уже около четырёх лет лежит в психиатрической больнице, куда попала «на почве неблагополучных жизненных обстоятельств» (официальная версия). Это больница НЦПЗ (Научный центр психического здоровья), 3-е отделение. Пережить двойное самоубийство родителей — по сути, предавших её — ей оказалось не под силу...

В этот свой последний день утром Геннадий отправился к знакомому художнику и попросил у него в долг несколько рублей. Но тот ему отказал. Зато некий режиссер чуть позже пошел ему навстречу и деньги вручил. После этого Шпаликов отправился на Новодевичье кладбище, где в тот день открывалась мемориальная доска на могиле режиссера М. Ромма.
Здесь он попытался выступить с речью, но кто-то из высоких начальников к трибуне его не пустил. После траурного митинга Шпаликов ушел с кладбища с писателем Григорием Гориным. Тот внял просьбе Шпаликова и дал ему денег на дешевое вино. Вместе они отправились в Переделкино.
Приехав в писательский поселок, он поднялся на второй этаж одной из дач и там повесился, соорудив петлю из собственного шарфа.
Тело Шпаликова первым обнаружил все тот же Горин. К сожалению, пришел он слишком поздно, когда помощь была уже не нужна. Горин вызвал милицию и успел до ее приезда спрятать бумаги Шпаликова, которые, останься они на столе, наверняка бы потом пропали.
По одной из версий, в правдивости которой убеждены близкие друзья, Шпаликов еще во ВГИКе с друзьями заключил своеобразное пари: если все они не смогут к возрасту гибели Александра Пушкина, то есть к 37 годам, достичь его славы, то обязаны покончить с собой.
Из всей их большой компании только Шпаликов сдержал страшную клятву.
А.Тимофеевский
Гены Шпаликова нету,
он летает на пари
между тем и этим светом,
словно Сент-Экзюпери.
Там, где райские долины
меж летейских вод и сёл.
Бениславская Галина
подаёт ему рассол.
Я вспомнила, как в каком-то рассказе Виктория Токарева писала о Геннадии Шпаликове — как встретила его случайно, как он звал её посидеть в кафе — «один час!», но у неё были дела, она отнекивалась и пошла только из вежливости («как на ленинский субботник — не хочется, но надо»). Он читал стихи — ей, всем, кто сидел рядом. Он уже начинал уходить и так прощался со всеми. Это был час высоты. Потом оказалось, что все её дела и делишки осыпались, как картофельная шелуха. А тот час в кафе остался на всю жизнь.
***
Поэтам следует печаль,
А в жизни следует разлука.
Меня погладит по плечам
Строка твоя рукою друга.
И одиночество войдет
Приемлемым, небезутешным,
Оно как бы полком потешным
Со мной по городу пройдет.
Не говорить по вечерам
О чем-то непервостепенном,
Товарищами хвастать нам,
От суеты уединенным.
Никто из нас не Карамзин,
А был ли он, а было ль это -
Пруды и девушки вблизи,
И благосклонные поэты.
***
Я к вам травою прорасту,
Попробую к вам дотянуться,
Как почка тянется к листу
Вся в ожидании проснуться.
Однажды утром зацвести,
Пока ее никто не видит,
А уж на ней роса блестит
И сохнет, если солнце выйдет.
Оно восходит каждый раз
И согревает нашу землю,
И достигает ваших глаз,
А я ему уже не внемлю.
Не приоткроет мне оно
Опущенные тяжко веки,
И обо мне грустить смешно,
Как о реальном человеке.
А я — осенняя трава,
Летящие по ветру листья,
Но мысль об этом не нова,
Принадлежит к разряду истин.
Желанье вечное гнетет,
Травой хотя бы сохраниться —
Она весною прорастет
И к жизни присоединится.


памяти Геннадия Шпаликова
(Пост подготовлен по материалам Дмитрия Шеварова, Полины Саяновой, Маргариты Кертес, Владимира Бондаренко, Александра Петракова, Олега Терентьева)
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/46197.html
|
|
Процитировано 7 раз
Понравилось: 3 пользователям
"Я тяжкую память твою берегу..." |
26 октября 1932 года застрелилась Ольга Ваксель.

Остались пять бессмертных стихотворений с посвящением ей и заметка Ахматовой на полях рукописи - книги: "Кто такая Ольга Ваксель мы не знаем..."

Ольга Ваксель – адресат пяти стихотворений Осипа Мандельштама: «Жизнь упала как зарница...», «Я буду метаться по табору улицы тёмной...», «Я скажу тебе с последней прямотой...», «На мёртвых ресницах Исакий замёрз...», «Возможна ли женщине мёртвой хвала?...»
Ольга Ваксель и сама писала стихи. Правда, Мандельштам не знал об этом — она их ему — да и никому — не показывала. Сохранилось около 150-ти ее стихотворений.
Есть в судьбе этой красивой и незаурядной женщины какая-то загадка, что-то недосказанное и непонятое, какой-то разительный, ошеломляющий контраст между её жизнью — для всех - и её стихами — для себя самой.
Историю знакомства с человеком, сделавшим бессмертным ее имя, Ольга включала в число своих неурядиц. Страницы ее мемуаров, посвященные Мандельштаму, полны горечи и сарказма.
Лютик

Перед революцией в Царском Селе жила удивительная девочка Ольга Ваксель.

Она еще играла в куклы, но уже писала взрослые, не по возрасту, стихи.
Как оказалось впоследствии, этот царскосельский период в ее жизни был самым счастливым. Дальнейшая ее судьба оказалась мучительной, иногда даже — кромешной. Не помогли ни ее красота (Ахматова говорила, что подобные красавицы появляются раз в столетие), ни ее многочисленные таланты (она не только писала стихи, но рисовала

Рисунок Ольги Ваксель
и даже играла в кино и театре). В 1932 году, уехав в Осло вместе со своим последним мужем, норвежским дипломатом, она покончила жизнь самоубийством.
Странная судьба, сложный, противоречивый характер... Она сама провоцировала многие свои горести, торопила разрывы. Казалось, несчастье ей более привычно, чем удача и, тем более, благополучие.
И все-таки в этой женщине было нечто такое, что буквально завораживало многих людей. В 1925 году она пережила бурный роман с Осипом Мандельштамом. Как и большинство историй в ее жизни, этот роман тоже не оказался счастливым...

Ольга Ваксель, или Лютик, как называли её родные, познакомилась с Мандельштамом в коктебельском доме Волошина, когда она была ещё двенадцатилетней девочкой, длинноногой, не по годам развитой.

Царское Село. 1912 год.

В Коктебеле у Волошина. Первая слева - Ольга Ваксель
По вечерам она незаметно взбиралась на башню дома, усаживалась в уголке на полу, подобрав под себя ноги, и слушала всё, о чём говорили взрослые. А среди них, как всегда у Волошина, были люди интересные…
Вот одним из этих «интересных людей» и был тогда Осип Мандельштам.

Несмотря на разницу в возрасте, Осип и Ольга подружились, и он даже навещал её в Царском Селе, где она училась в заведении закрытого типа с приёмными днями по воскресеньям.
В аллеях царскосельского парка Ольга однажды познакомилась с государем.

После при встречах он узнавал её, спрашивал о школьных успехах, о здоровье мамы.
Во время Октябрьского переворота занятия прекратились. Заведение закрылось, когда Николай Второй и его семья навсегда покинули Царское Село.
Из стихов Ольги Ваксель:
Деревья срублены, разрушены дома,
По улицам ковёр травы зелёный…
Вот бедный городок, где стала я влюблённой,
Где я в себе изверилась сама.
Вот грустный город-сад, где много лет спустя
Ещё увижусь я с тобой, неразлюбившим,
Собою поделюсь я с городом отжившим,
Здесь за руку ведя беспечное дитя.
И, может быть, за этим белым зданьем
Мы встретим призрачную девочку - меня,
Несущуюся по глухим камням
На никогда не бывшие свиданья.

Ольга Александровна Ваксель родилась 18 марта 1903 года в г. Паневежис (Литва). Она принадлежала к старой петербургской интеллигенции, к дворянской семье, в обеих ветвях которой — материнской и отцовской — были люди, причастные к искусству, и все они оставляли ей в наследство свою одарённость: она играла на рояле и скрипке, рисовала, искусно вышивала, снималась в кино, писала стихи.
Я люблю в старых книгах цветы,
тусклый запах увядших листов.
Как они воскрешают черты
милых ликов непрожитых снов...
Дочь Ю.Я. Львовой, высокообразованной и разносторонней женщины, юриста, композитора, пианистки, и А.А. Ваксель, блестящего петербургского кавалергарда, Ольга выросла в атмосфере интеллектуальных интересов и многообразных культурных традиций.

А.А. Ваксель с дочкой Олей. 1903 год
Её предком был знаменитый швед Свен Ваксель, мореход, сподвижник Витуса Беринга, дед с материнской стороны был петрашевцем, дед отца — скрипачом и композитором, автором музыки гимна «Боже, царя храни» (о нём в стихотворении на смерть Ваксель вспоминает Мандельштам: «и прадеда скрипкой гордился твой род»), к предкам Ольги принадлежал и известный архитектор Н.А. Львов, много строивший в Петербурге.
Гимназия в Царском Селе (рисованию и лепке её там обучала Ольга Форш, будущая советская писательница), привилегированный Екатерининский институт благородных девиц — её будущее казалось вполне безоблачным и определённым. Поездки вместе с матерью в Коктебель, дача Максимилиана Волошина, мир поэтов, музыкантов, художников, актёров, полудетская влюблённость…
А когда Ольге исполнилось 14 лет, всё в одночасье рухнуло. Всё — все жизненные ценности, эталоны, ориентиры и авторитеты. Вместо привилегированного института — советская школа. Вместо музыки и стихов — добывание еды и дров. Продавщица в книжном магазине, табельщица на стройке, манекенщица, (тогда говорили - «манекенша») корректор, официантка…
Новая жизнь, новые авторитеты, новые ценности. Надеяться ей можно было только на себя.

Спросили меня вчера:
«Ты счастлива?» — я отвечала,
Что нужно подумать сначала.
(Думаю все вечера.)
Сказали: «Ну, это не то»…
Ответом таким недовольны.
Мне было смешно и больно
Немножко. Но разлито
Волнение тонкое тут,
В груди, не познавшей жизни.
В моей несчастной отчизне
Счастливыми не растут.
Не родись красивой...
Из воспоминаний друзей и знакомых Ольги Ваксель:
«В Лютике не было как будто ничего особенного, а все вместе было удивительно гармонично; ни одна фотография не передает ее очарования» (Евгений Мандельштам, брат поэта).
"Лютик была красива. Светло-каштановые волосы, зачесанные назад, темные глаза... Ни одна из фотографий не передает ее тонкую одухотворенную красоту... Она была необыкновенной, незаурядной женщиной. Чувствовался ум, решительный характер. И в то же время ощущалась какая - то трагичность" (Ирина Чернышева - близкая подруга Ольги)
"Ей нравилась острота жизни. Могла легко увлечься, влюбиться... Влюблялась она без памяти и вначале все было хорошо. А потом тоска, полное разочарование и очень быстрый разрыв. Это была ее натура, с которой она не могла совладать... Браки ее быстро заканчивались. Она уходила и всё оставляла. Её сильный характер оказывал влияние на других. Заставлял как-то подтягиваться, что ли. Лютик делала много глупостей, но всегда чувствовалось, что она выше окружающих на несколько голов...В ней не было ничего такого, что называют мещанством... За модой не гналась никогда, но все в ней казалось модным и полным изящества... "(Елена Тимофеева, тоже одна из близких подруг, та что до конца жизни сохранила память о ней, ее стихи и ученические тетради... )

«Ослепительной красавицей» назвала её Анна Ахматова.
В июне 1921 года Ольга выходит замуж. Счастливый избранник — Арсений Смольевский, преподаватель математики, тоже царскосёл, в которого она был влюблена с детских лет и которому посвящала свои первые стихи. Но брак оказался неудачным.
Из записок Ольги Ваксель:
«Дня через три, когда окончился ремонт у А. Ф., я переехала к нему. В первый вечер он заявил, что явится ко мне как грозный муж. И, действительно, явился. Я плакала от разочарования и отвращения и с ужасом думала: неужели то же происходит между всеми людьми? Я чувствовала себя такой одинокой в моей маленькой комнатке; А. Ф. благоразумно удалился…»
У нас есть растения и собаки.
А детей не будет… Вот жалко.
Меня пожалеет прохожий всякий,
А больше всех докторша, милая Наталка.
Влажной губкой вытираю пальму,
У печки лежит шоколадная Зорька.
А некого спрятать под пушистую тальму
И не о чем плакать долго и горько.
Для цветов и животных — солнце на свете,
А для взрослых — жёлтые вечерние свечи.
На дворе играют чужие дети…
Их крики доносит порывистый ветер.
«На дворе играют чужие дети»… Ольга очень хотела ребёнка, наивно полагая, что это сблизит её с мужем. Наконец, в ноябре 1923 года у Ольги Ваксель родился сын, которого назвали именем его отца — Арсений.
Но после рождения сына у неё уже не осталось никаких иллюзий: сохранить её брак с А. Смольевским было невозможно.
Как мало слов, и вместе с тем как много,
Как тяжела и радостна тоска…
Прожить и высохнуть, и с лёгкостью листка
Поблекшего скользнуть на пыльную дорогу.
Как мало слов, чтоб передать точнее
Оттенки тонкие, движенье и покой,
Иль вечер описать, хотя бы вот такой:
В молчании когда окно синеет,
Мятущаяся тишь любимых мною комнат,
А мерный звук — стекает с крыш вода…
Те счастье мне вернули навсегда,
Что обо мне не молятся, но помнят.
Муж оказался деспотичным ревнивцем, который держал жену тюремной затворницей: уходя из дому, запирал на ключ. «Султанизм» его проявлялся и в том, что он не только не интересовался духовной жизнью жены, но даже препятствовал её попыткам продолжать образование. После свадьбы Ольга была вынуждена прекратить занятия на всевозможных курсах, которые посещала. Слишком яркая внешность Ольги привлекала внимание окружающих. Муж требовал её постоянного присутствия дома, хотя сам был днями занят в институте.
Припомнилась зима с её спокойной дрёмой,
С жужжаньем ласковым моих весёлых пчёл.
Мне некому сказать, что мужа нету дома,
Что я боюсь одна, чтоб кто-нибудь пришёл.
Оставаясь в доме одна, Ольга занималась хозяйством, проверяла работы, которые писали студенты её мужа. А когда появлялось свободное время — брала свою заветную тетрадку и писала стихи. Это и была её личная жизнь.
Полудня зимнего янтарные лучи,
Как трав степных дрожащие волокна,
В обмерзшие тянулись окна,
И в синей тени вдруг поблекла
Вся жизнь, глядящая в опаловые стекла.
Как взгляды медленны и руки горячи!..

Арсению Федоровичу был чужд ее восторженный и тонкий внутренний мир, он смеялся над ее стихами, долго не хотел иметь ребенка, но Ольга настаивала, надеясь, что ребенок укрепит их союз, сблизит её с мужем, внесёт какой-то смысл в её жизнь. Однако после рождения сына она переносит тяжёлую инфекционную болезнь, последствием которой становятся частые приступы депрессии. Семейный разлад обострялся.

Ты счастлив: твой законен мир,
И жизнь течёт в спокойном русле,
А я — на землю оглянусь ли,
Иль встречусь с новыми людьми?
Всё — огорченья, всё — тревога,
Сквозь терния далёкий путь,
И негде, негде отдохнуть,
И не с кем, не с кем вспомнить Бога…
Всё же вопреки желанию мужа Ольга поступает на вечернее отделение Института Живого Слова в группу Н. Гумилёва, которому она приходилась дальней родственницей. Вечера коллективного творчества, упражнения на развитие художественного вкуса и на подбор рифм очень скоро переросли в гораздо более тесное знакомство Ольги со знаменитым поэтом и даже в индивидуальные занятия у него на дому.

Из воспоминаний Ольги Ваксель:
«…Сепаратные занятия с Н. Гумилёвым… нравились мне гораздо больше… Он жил один в нескольких комнатах, в которых только одна имела жилой вид. Всюду царил страшный беспорядок, кухня была полна грязной посудой, к нему только раз в неделю приходила старуха убирать. Не переставая разговаривать и хвататься за книги, чтобы прочесть ту или иную выдержку, мы жарили в печке баранину и пекли яблоки. Потом с большим удовольствием мы это глотали. Гумилёв имел большое влияние на моё творчество, он смеялся над моими робкими стихами и хвалил как раз те, которые я никому не смела показывать. Он говорил, что поэзия требует жертв, что поэтом может называться только тот, кто воплощает в жизнь свои мечты. Они с А. Ф. терпеть не могли друг друга, и когда встречались у нас, говорили колкости…»
Занятия в кружке Гумилёва пришлось бросить.
Я не стану тебя упрекать,
Я сама виновата во всём,
Только в сердце такая тоска
И не мил мне мой светлый дом.
Я не знаю, как, почему
Я убила любовь твою.
Я стою на пороге в тьму,
Где просила себе приют.
Как никто не помог мне жить,
Не помогут мне и уйти.
Я скитаюсь от лжи до лжи
По неведомому пути.
Я не знаю, чего искать,
Я убила любовь твою.
И во мне такая тоска.
И такие птицы поют.
В истории с замужеством ошиблись оба. Ошиблась Ольга, приняв давнюю свою влюблённость в Смольевского за любовь. Ошибся и он, пытаясь удержать Ольгу традиционными методами ревнивых мужей. Масштабы личности, кругозора и интересов были несопоставимы. Долго себя обманывать Ольга не могла. Вести размеренную жизнь домохозяйки при нелюбимом муже, жить так, как живут миллионы других женщин, — ей было не под силу.
Ну, помолчим минуту до прощанья,
Присядем, чинные, на кончике дивана.
Нехорошо прощаться слишком рано,
И длить не надо этого молчанья.
Так будет в памяти разлука горячей,
Так будет трепетней нескорое свиданье,
Так не прерву посланьем ожиданья.
Не приходи, разлюблен, ты — ничей.
Так сохраню засохшие цветы,
Что ты, смеясь, мне положил за платье,
И руки сохранят желанными объятья,
И взоры дальние останутся чисты.
Ольга ушла от мужа и добилась развода, что было нелегко: Смольевский не давал развод, преследовал Ольгу письмами раскаянья, мелко шпионил за нею, устраивал бурные скандалы и в конце концов, нанес последний удар, оставил у себя сына, запретив матери приходить к нему. Только через год, в 24-м, он смирится наконец с неизбежным и оставит её в покое, вернув ребёнка.
Студия «ФЭКС»
Для Ольги начинается борьба за выживание. Чтобы прокормить себя и сына, она устраивается на работу официанткой. Параллельно поступает в производственную студию "ФЭКС" ("Фабрика эксцентрического актера"). Писание критических заметок о кино для газет и съемки в массовках время от времени давали небольшой заработок.
Из воспоминаний Ольги Ваксель:
«Осенью (1924 г.) я поступила в производственную киномастерскую под странным названием «ФЭКС», что означало «Фабрика эксцентрического Актёра». Руководители её были очень молоды, одному было 20 лет, другому 22».
Двадцать (почти) лет было Григорию Козинцеву, а двадцать два года — Леониду Траубергу.

В 1922 году именно они организовали театральную мастерскую «ФЭКС», которая как раз в 1924 году была преобразована в киномастерскую с тем же «странным названием». В 30-е годы Козинцев и Трауберг создали знаменитую кинотрилогию о Максиме («Юность Максима», «Возвращение Максима» и «Выборгская сторона»), за которую они вместе же стали лауреатами Сталинской премии первой степени (1941 год).

Известной киноактрисой Ольга Ваксель при всей своей артистичности так и не стала, по природе своей не умея и не желая ломать себя и менять выражение лица по требованию режиссера, хотя снялась в нескольких фильмах.
Вот что сама она писала об учёбе у Козинцева и Трауберга:
«Всё это нравилось мне, было для меня ново, но мои режиссёры не хотели со мной заниматься, отсылая меня к старикам Ивановскому и Висковскому, говоря, что я слишком для них красива и женственна, чтобы сниматься в комедиях. Это меня огорчало, но, увидев себя на экране, в комедии «Мишки против Юденича», пришла к убеждению, что это действительно так. В конце 1925 года я оставила ФЭКС и перешла сниматься на фабрику «Совкино». Здесь я бывала занята преимущественно в исторических картинах, и была вполне на своём месте. Мне очень шли стильные причёски, я прекрасно двигалась в этих платьях с кринолинами, отлично ездила верхом в амазонках, спускавшихся до земли, но ни разу мне не пришлось сниматься в платочке и босой. Так и значилось в картотеке под моими фотографиями: «типаж — светская красавица». Так и не пришлось мне никогда сниматься в комедиях, о чём я страшно мечтала».
В 1925 году Козинцев и Трауберг выпустили в прокат эксцентрическую киноленту «Мишки против Юденича», в которой снимались ученики киномастерской «ФЭКС», в частности: Сергей Герасимов (впоследствии наш выдающийся киноактёр, кинорежиссёр и педагог), Янина Жеймо (будущая всесоюзная «Золушка») и — и Ольга Ваксель.

Сергей Герасимов

кадр из фильма "Подруги"

О.А. Ваксель – участник кинопробы студии ФЭКС. Середина 20-х гг. Фото из архива А.Ласкина.
Некоторые наиболее яркие ее мгновения можно было отнести к ведомству даже не экрана и сцены, а цирка. Чего стоит фокус с превращением занавески в платье или проезды по центральным улицам Питера на велосипеде!
Из документальной повести Александра Ласкина «Ангел, летящий на велосипеде»:
«…В двадцать третьем году Ольга стала актрисой небольшого театрика.
«Компания наша, — пишет Лютик дальше, — состояла из молодёжи, такой же легкомысленной, как и я… Мы были одними из первых, кто осмелился пуститься в этот дальний путь после ухода белых. Наше путешествие до Читы продолжалось десять дней. Там, усталые от дороги, немытые, голодные, мы дали три спектакля в один вечер. Как это было в действительности, один Бог знает… На прощание нам закатили роскошный ужин; было весело, если бы не мрачная мысль о том, как мы доберёмся обратно. В самый разгар тостов и когда все были очень жизнерадостно настроены, я сняла с себя кружевные штанишки, вылезла на стол и, размахивая ими, как флагом, объявила, что открываю аукцион…»
Лютик морщилась, видя, что участники аукциона колеблются. Хлопала в ладоши, когда голос из зала называл новую сумму…
«Эта игра всем очень понравилась, — писала она с тайной гордостью, — моей выдумке пытались подражать, но неудачно, за свои штанишки я выручила столько, что смогла купить себе пыжиковую шубу…"
Однако больших ролей ей не дают. Её актёрские данные весьма средние. А маленькие роли — не для Ваксель. Она оставляет студию, бросает работу официантки, устраивается кинообозревателем в газету «Ленинградская правда». Но по вечерам, закрывшись в комнате, продолжает писать стихи.
Целый год я смотрела на бедную землю,
Целовала земные уста.
Отчего же внутри неизменно чиста
И словам откровений так радостно внемлю?
Оттого ли, что боль я носила в груди,
Или душу мою охраняли святые?
Только кажется вот — облака золотые
Принесут небывалые прежде дожди.
Треугольник
Вскоре после начала занятий в киномастерской «Фэкс» на пути Ольги Ваксель вновь появился Осип Мандельштам. Вновь — потому что познакомилась она с ним ещё девочкой, на даче у Максимилиана Волошина в Коктебеле.

Осип же Эмильевич был буквально ослеплен Ольгой в 1924 году. Из тринадцати-четырнадцатилетнего угловатого подростка, каким поэт ее запомнил, она превратилась в гармонично-красивую женщину, которая очаровывала поэтичностью и одухотворенностью облика, естественностью и простотой обращения. При этом на ней лежала, по словам многих, знавших ее, печать чего-то трагического.

В Петербурге мы сойдёмся снова.
Словно солнце мы похоронили в нём.
И блаженное, бессмысленное слово
в первый раз произнесём.

Именно в этом доме (Б. Морская, 49, кв. 4), куда Мандельштам привёз свою венчанную жену, Надю Хазину, в 1924-м году, — начался его роман с Лютиком — Ольгой Ваксель.

Кем она была — одной в ряду многочисленных увлечений, второй после Надежды, или единственной — если не Лаурой или Беатриче, то Миньоной (так назвал Лютика после её трагического самоубийства сам Осип Мандельштам — в одном из пяти посвящённых ей стихотворений)? Об этом вряд ли можно сказать с полной определённостью.
Из воспоминаний Ольги Ваксель:

«Около этого времени (осень 1924 г.) я встретилась с одним поэтом и переводчиком, жившим в доме Макса Волошина в те два лета, когда я там была. Современник Блока и Ахматовой, из группы «акмеистов», женившись на прозаической художнице, он почти перестал писать стихи. Он повел меня к своей жене (они жили на Морской), она мне понравилась, и с ними я проводила свои досуги. Она была очень некрасива, туберкулезного вида, с желтыми прямыми волосами.

Надежда Мандельштам
Но она была так умна, так жизнерадостна, у нее было столько вкуса, она так хорошо помогала своему мужу, делая всю черновую работу по его переводам!
Мы с ней настолько подружились, я – доверчиво и откровенно, она – как старшая, покровительственно и нежно».
И всё было бы очень мило, если бы между супругами не появилась тень. Осип начал увлекаться Ольгой. Увлечение это оказалось настолько сильным, что Надежда поняла: её отношения с мужем — на грани разрыва.
Из воспоминаний Надежды Мандельштам:
«Ольга стала ежедневно приходить к нам, всё время жаловалась на мать, отчаянно целовала меня — институтские замашки, думала я, — и из-под моего носа уводила Мандельштама. А он вдруг перестал глядеть на меня, не приближался, не разговаривал ни о чём, кроме текущих дел, сочинял стихи, но мне их не показывал…
Всё это началось почти сразу, Мандельштам был по-настоящему увлечён и ничего вокруг себя не видел. Это было его единственное увлечение за всю нашу совместную жизнь, но я тогда узнала, что такое разрыв…

В Ольге было много прелести, которую даже я, обиженная, не могла не замечать, — девочка, заблудившаяся в страшном, одичалом городе, красивая, беспомощная, беззащитная…»
Из воспоминаний Ольги Ваксель:
« Я, конечно, была всецело на ее стороне, муж ее мне не был нужен ни в какой степени. Я очень уважала его как поэта… Вернее, он был поэтом и в жизни, но большим неудачником. Мне очень жаль было портить отношения с Надюшей, в это время у меня не было ни одной приятельницы, я так пригрелась около этой умной и сердечной женщины, но все же Осипу удалось кое в чем ее опередить: он снова начал писать стихи, тайно, потому что они были посвящены мне».
Вероятно она не оставалась равнодушной к проявлениям чувств поэта, к его строкам, написанным тайно и посвященным ей. Но она не могла брать то, что не принадлежало ей. Она не могла предать женщину, которую считала подругой и которая уже начинала всё видеть, ревновать и страдать...
«Помню, как, провожая меня, он просил меня зайти с ним в «Асторию», где за столиком продиктовал мне их. Они записаны только на обрывках бумаги, да еще – на граммофонную пластинку».
Во второй раз Мандельштам встретился с Ольгой уже совсем в другое время. Воспоминания Ольги Ваксель, касающиеся этой второй встречи, вызвали ярость у вдовы Мандельштама и у близких ей людей. Воспоминания эти до сих пор не опубликованы полностью, без купюр. Надежду Яковлевну можно понять, она была страдающей стороной во всей этой истории, но нельзя не отметить пристрастность и несправедливость её мемуаров. Она тоже была не ангел. В своём дневнике Ольга Ваксель сообщает, что жена Мандельштама была бисексуальна и описывала следующие сцены:
«Иногда я оставалась у них ночевать, причём Осипа отправляли спать в гостиную, а я укладывалась спать с Надюшей в одной постели под пёстрым гарусным одеялом. Она оказалась немножко лесбиянкой и пыталась меня совратить на этот путь. Но я ещё была одинаково холодна как к мужским, так и к женским ласкам. Она ревновала попеременно то меня к нему, то его ко мне».

Взбешённая Надежда, естественно, отрекается от этого и называет дневники Ваксель «дикими эротическими мемуарами»:

«Перед смертью Ольга надиктовала мужу, знавшему русский язык, дикие эротические мемуары. Страничка, посвящённая нашей драме, полна ненависти и ко мне, и к Мандельштаму…
Она обвиняет Мандельштама в лживости, а это неправда. Он действительно обманывал и её и меня в те дни, но иначе в таких положениях и не бывает. Не понимаю я и злобы Ольги по отношению ко мне…
И всё же я никогда не забуду диких недель, когда Мандельштам вдруг перестал замечать меня и, не умея ничего скрывать и лгать, убегал с Ольгой и в то же время умолял всех знакомых не выдавать его и не говорить мне про его увлечение, про встречи с Ольгой и про стихи… Эти разговоры с посторонними людьми были, конечно, и глупостью и свинством, но кто не делает глупостей и свинства в таких ситуациях?..»
Он разве лгал?.. Это неправда! Да, он лгал… Но всё равно это неправда, потому что в его положении лгут все!.. Такова женская логика…
Собственно говоря, Ольга никого и ни в чём не обвиняет. Она лишь сухо констатирует:
«Для того, чтобы говорить мне о своей любви, вернее, о любви ко мне для себя и о необходимости любви к Надюше для неё, он изыскивал всевозможные способы, чтобы увидеть меня лишний раз. Он так запутался в противоречиях, так отчаянно цеплялся за остатки здравого смысла, что было жалко смотреть…»
Жизнь упала, как зарница,
Как в стакан воды - ресница.
Изолгавшись на корню,
Никого я не виню.
Хочешь яблока ночного,
Сбитню свежего, крутого,
хочешь, валенки сниму,
Как пушинку подниму.

Ангел в светлой паутине
В золотой стоит овчине,
Свет фонарного луча -
До высокого плеча.
Разве кошка, встрепенувшись,
Черным зайцем обернувшись,
Вдруг простегивает путь,
Исчезая где-нибудь.
Как дрожала губ малина,
Как поила чаем сына,
Говорила наугад,
Ни к чему и невпопад.
Как нечаянно запнулась,
Изолгалась, улыбнулась -
Так, что вспыхнули черты
Неуклюжей красоты.
Есть за куколем дворцовым
И за кипенем садовым
Заресничная страна,-
Там ты будешь мне жена.

Bыбрав валенки сухие
И тулупы золотые,
Взявшись за руки, вдвоем,
Той же улицей пойдем,
Без оглядки, без помехи
На сияющие вехи -
От зари и до зари
Налитые фонари.
«Изолгавшись на корню / Никого я не виню» – Мандельштам признается, что в своем положении, в запутанных отношениях между ним, его женой и Ольгой виноват он сам. «Вспыхнули черты / Неуклюжей красоты» – можно понять как воспоминание о прежнем неловком смущенном подростке, образ которого вдруг проступил в чертах молодой женщины. Дворцовый куколь, и садовый кипень – возможно, имеются в виду купол Таврического дворца и Таврический сад, по соседству с которыми жила Ольга Ваксель с матерью.
В «заресничной стране» – зазеркалье оказывается возможно то, что никак не выходит в действительности. Только там поэт может быть счастлив с нею - без оглядки и помех:
Выбрав валенки сухие
И тулупы золотые,
Взявшись за руки, вдвоем
Той же улицей пойдем…
Ей же адресовано и стихотворение «На мертвых ресницах Исакий замерз...»: Исакий, архитектурная доминанта района, места, где чаще всего происходили встречи поэта с О.В. – гостиницы «Астория» и «Англетер», Морская улица (ныне Герцена), на которой жили поэт и его жена.

В стихотворении «Я скажу тебе с последней прямотой...» образ Ольги лишь мелькает, переводы четырёх сонетов Петрарки «Сонеты на смерть Лауры» тоже, как считает Н. Мандельштам, связаны с воспоминаниями о ней.
Н. Я. Мандельштам
«Вторая книга»:

«… В дни, когда ко мне ходила плакать Ольга Ваксель, произошёл такой разговор: я сказала, что люблю деньги. Ольга возмутилась - какая пошлость! Она так мило объяснила, что богатые всегда пошляки и бедность ей куда милее, чем богатство, что влюблённый Мандельштам засиял и понял разницу между её благородством и моей пошлостью…»
Да, одна любила деньги, другая — нет, но обе, увы, прозябали в бедности. Только Ольга, расхаживая в нелепой шубе, которую сама звала шинелью, «цвела красотой», а Надя похвастаться этим не могла. А кроме того, именно ей, жене, беспечный Мандельштам не раз говорил, что он и не обещал счастливой жизни. Возможно, он обещал её Ольге.
«Я растерялась, — пишет об этом времени и Надя. — Жизнь повисла на волоске…»

Словом, Надя слегла. У неё поднялась температура, и она незаметно подкладывала мужу под нос градусник, чтобы он испугался за неё. Но он спокойно уходил с Ольгой. Зато приходил отец его, и, застав однажды Ольгу, сказал: «Вот хорошо: если Надя умрёт, у Оси будет Лютик»…
Из воспоминаний Надежды Мандельштам:
«Однажды Осип договорился с Ольгой, что придёт к ней после Госиздата. Ольга потребовала передать трубку мне и сказала: «Вечером мы с Осей зайдём навестить Вас». После этого Осип потребовал чистого белья, переоделся и ушёл. Это и стало окончательным толчком. Я позвонила художнику Владимиру Татлину».

В. Татлин, художник-конструктивист, давно уже ухаживал за Надеждой, причём был весьма настойчив. На этот раз она ответила согласием. Возможно, таким образом хотела вызвать ревность мужа, а, может быть, просто боялась остаться одной.
Надя собрала чемодан, написала, что уходит к другому. Но, что-то забыв, вернулся Мандельштам, увидел чемодан, взбесился и стал звонить Ольге: «Я остаюсь с Надей, больше мы не увидимся, нет, никогда…».
Потом он скажет Наде, что бы сделал, если бы она ушла от него. «Он решил достать пистолет, … пишет она, … и стрельнуть в себя, но не всерьёз, а оттянув кожу на боку… Рана бы выглядела страшно — столько крови! — опасности же никакой — просто порванная кожа… Но я бы, конечно, не выдержала, пожалела самоубийцу и вернулась… Такого идиотизма даже я от него не ждала!..»

Встреча в Англетере
Из воспоминаний Ольги Ваксель:
«Для того, чтобы иногда видаться со мной, Осип снял комнату в «Англетере», но ему не пришлось часто меня там видеть. Вся эта комедия начала мне сильно надоедать. Для того, чтобы выслушивать его стихи и признания, достаточно было и проводов на извозчике с Морской на Таврическую. Я чувствовала себя в дурацком положении, когда он брал с меня клятву ни о чем не говорить Надюше, но я оставила себе возможность говорить о нем с ней в его присутствии. Она называла его «мормоном» и очень одобрительно отнеслась к его фантастическим планам поездки втроем в Париж.
Однажды он сказал мне, что имеет сообщить мне нечто важное, и пригласил меня для того, чтобы никто не мешал, в свой «Англетер». На вопрос, почему этого нельзя делать у них, ответил, что это касается только меня и его. Я заранее могла сказать, что это будет, но мне хотелось покончить с этим раз и навсегда. Он ждал меня в банальнейшем гостиничном номере, с горящим камином и накрытым ужином.

Я недовольным тоном спросила, к чему вся эта комедия, он умолял меня не портить ему праздника видеть меня наедине. Я сказала о своем намерении больше у них не бывать, он пришел в такой ужас, плакал, становился на колени, уговаривал меня пожалеть его, в сотый раз уверял, что он не может без меня жить и т.д. Скоро я ушла и больше у них не бывала. Но через пару дней Осип примчался к нам, повторил все это в моей комнате, к возмущению моей мамаши, знавшей его и Надюшу, которую он приводил к маме с визитом. Мне еле удалось уговорить его уйти и успокоиться. Как они с Надюшей разобрались во всем этом, я не знаю...»

Я буду метаться по табору улицы темной
За веткой черемухи в черной рессорной карете,
За капором снега, за вечным, за мельничным шумом...
Я только запомнил каштановых прядей осечки,
Придымленных горечью, нет - с муравьиной кислинкой,
От них на губах остается янтарная сухость.
В такие минуты и воздух мне кажется карим,
И кольца зрачков одеваются выпушкой светлой,
И то, что я знаю о яблочной, розовой коже...
Но все же скрипели извозчичьих санок полозья,
B плетенку рогожи глядели колючие звезды,
И били вразрядку копыта по клавишам мерзлым.
И только и свету, что в звездной колючей неправде,
А жизнь проплывет театрального капора пеной;
И некому молвить: "Из табора улицы темной...

Судя по стихам, разрыв произошёл не так давно, ещё свежи и отчётливы приметы любимого лица. Такая пронзительная память — в запахах, прикосновениях — она бывает только в первый миг потери, потом всё притупляется, и слова уже другие для описания нужны. Так вот, первые три строфы — это как раз об этом, когда любое невольное напоминание — мелькнувший силуэт, профиль, знакомый фасон шляпки, да просто определённое место и время — и ты мечешься «по табору улицы тёмной»…
Из воспоминаний Евгения Мандельштама:
«Встреча брата с Лютиком в 1927 году была последней. Отношения между ними больше не возобновлялись…»
Из стихов Ольги Ваксель:
К губам цветы разлуки прижимая,
И всё-таки могу ещё уйти,
Как раненая упорхнуть голубка,
А ты не выплеснешь недопитого кубка,
Не остановишься в стремительном пути.
«Источник благодати не иссяк», —
Сказал монах, перелистнувши требник…
Служитель церкви для меня — волшебник,
А ты — почти разоблачённый маг.
И боль, что далеко не изжита,
Я претворю в безумье. Сила
Растёт… Я дух не угасила,
Но я изверилась, и вот почти пуста.

Изменнические стихи
Стихи, посвящённые Ольге Ваксель, Мандельштам называл «изменническими» и не мог их писать при жене. Ей эти стихи он не читал, зато читал их знакомым. «Ах, последнее стихотворение Осипа Эмильевича просто чудесно!» - Что она могла ответить на это? Эта неопределённая ситуация была невыносимой для всех троих.
«Изменнические стихи» очень пугали Мандельштама. Он выкидывал листки со стихами в ведро рабочего стола. Он знал, что Надежда всегда проверяет эту корзину, и бросал их туда, не осмелившись показать ей сам.
Из воспоминаний Надежды Мандельштам:

«В стихах Ольге Ваксель выдумана «заресничная страна», где она будет ему женой, и мучительное сознание лжи — жизнь «изолгалась на корню». Он не переносил двойной жизни, двойственности, разлада, совмещения несовместимого и всегда чувствовал себя «в ответе»... Печатать «изменнические» стихи при жизни он не хотел: «Мы не трубадуры»... Увидела я их только в Воронеже, хотя знала об их существовании с самого начала, когда он «под великой тайной» надиктовал Ахматовой и отдал на хранение Лившицу. По-моему, сам факт измены значил для него гораздо меньше, чем «изменнические стихи». И вместе с тем он отстаивал своё право на них: «У меня есть только стихи. Оставь их. Забудь про них».
Мне больно, что они есть, но, уважая право Мандельштама на собственный, закрытый от меня мир, я сохранила их наравне с другими. Я предпочла бы, чтобы он хранил их сам, но для этого ему надо было остаться в живых».
«Но история с Ольгой одарила меня новым знанием: страшной слепой власти над человеком любви. Потому что с Ольгой было нечто большее, чем страсть».
Надежда Мандельштам намного пережила своего мужа. Сохранила его стихи, даже «изменнические», посвящённые не ей, и выпустила несколько книг, в которых описала их совместную жизнь и свои размышления.

«Я только подозреваю одно: если бы в тот момент, когда он застал меня с чемоданом, стихи ещё не были бы написаны, он, возможно, дал бы мне уйти к Т. Это один из вопросов, которые я ему не успела задать.
Через много лет он мне сказал, что в жизни он только дважды знал настоящую любовь-страсть — со мной и с Ольгой…
У меня есть ещё один вопрос, на который нет ответа: почему в тот миг Мандельштам выбрал меня, а не Ольгу, которая была несравненно лучше меня? Ведь у меня есть только руки, сказала я ему, а у неё есть всё… У меня есть одно совсем не лестное объяснение, почему выбор пал на меня. Человек свободен, и строит не только свою судьбу, но и себя. Именно строит, а не выбирает. Я не мешала ему строить и быть самим собой».

Памятник О. Мандельштаму в Воронеже
«Дарю всем мучившим меня прощенье...»
Ухаживал серьезно за Ольгой и брат Осипа Мандельштама, Евгений, даже был с нею помолвлен, ездил на Кавказ, куда она отправилась отдыхать с маленьким сыном, но все закончилось размолвкой и поздними сожалениями о том, что «Лютик от него ускользнула..."
Да она ускользала и упархивала от многих, но так ли уж легка и беспечна была ее жизнь, как на первый взгляд казалось подругам, пусть и ближайшим?
Из воспоминаний Евгения Мандельштама:
«В те годы я был вдовцом. Отсутствие в моей жизни женщины, одиночество давало о себе знать и способствовало моему сближению с Лютиком. Ничего не предрешая, я предложил ей попутешествовать вместе. Хотелось дать ей передышку от жизненных трудностей и лишений. Лютик согласилась, и мы вместе с её сыном пустились в путь. Побывали на Кавказе, в Крыму, на Украине. Впечатлений было много, особенно от плавания по Чёрному морю…
Но отношения наши по-прежнему оставались неясными и напряжёнными. Душевный мир Лютика был скрыт от меня. Случай привёл к тому, что я в этом воочию убедился: в Батуме она под каким-то предлогом оставила меня в гостинице с сыном, а сама ушла на свидание с моим соучеником по Михайловскому училищу, с которым я её познакомил на пароходе. После того, как я застал их на бульваре, я остро почувствовал, насколько мы чужие друг другу люди…Мы вернулись в Ленинград. Я довез её до квартиры, и больше мы с ней никогда не встречались…»
Из воспоминаний Надежды Мандельштам:

«Прошло несколько лет, Ольге всё же удалось съездить на юг, но не с Мандельштамом, а с его братом Евгением. Видно, женщины уже тогда упали в цене,если такая красотка не сразу нашла заместителя…
Потом были другие браки. Помню, был врач, потом моряк, потом скрипач. Браки эти быстро кончались. Она уходила и всё оставляла…»
«После этой поездки Ольга ещё раз, уже в последний, пришла к нам. Она плакала, упрекала Осю и звала с собой. Всё это происходило в моём присутствии. Мандельштам молча слушал Ольгу, затем вежливо и холодно сказал: «Моё место с Надей».

Из стихов Ольги Ваксель:
Я плакала от радости живой,
Благословляя правды возвращенье;
Дарю всем, мучившим меня, прощенье
За этот день. Когда-то, синевой
Обманута, я в бездну полетела,
И дно приветствовало мой отважный лёт…

«Я недолго жила на земле...»
Из воспоминаний подруги:
« Помню, я встретила Лютика на Невском. Она была в модном платье – тогда были в моде длинные воротнички. Я заметила вскользь, что такие воротнички через год, наверное, выйдут из моды. «А я только до тридцати лет доживу, - сказала Лютик. – Больше жить не буду».
Тридцать лет Ольге должно было бы исполниться в марте 1933 года. А в 1932 году Ольга Ваксель опять вышла замуж. В который уже раз? В последний.
Какое-то время она служила во вновь открывшейся гостинице «Астория», где от персонала требовалось знание иностранных языков и строгих правил этикета, а также привлекательная внешность. Там на вечеринке она познакомилась с норвежским дипломатом, бывшим вице-консулом в Ленинграде . Его звали Христиан-Иергенс Винстендаль. Он был высокого роста, красив, хорошо знал русский язык. Он с первого взгляда влюбился в Ольгу и сделал ей предложение.
Из воспоминаний Евгения Мандельштама:
«В 1932 году её муж-норвежец увез её в Осло к богатым родителям. Сына Лютик оставила у матери в Ленинграде. Под Осло Лютика ждала вилла, специально для неё выстроенная. Ей ни в чём не было отказа…»
Незадолго до отъезда Ольга сфотографировалась и, взяв в руки своё размытое, нечёткое изображение, произнесла: «Это снимок с того света».

До её тридцати лет оставалось менее полугода.
Ещё в Ленинграде, однажды она показала на компанию за соседним столиком и так представила будущему супругу этих людей:
— Каждый из них был моим любовником.
***
Я не сказала, что люблю,
И не подумала об этом,
Но вот каким-то тёплым светом
Ты переполнил жизнь мою.
Опять могу писать стихи,
Не помня ни о чьих объятьях;
Заботиться о новых платьях
И покупать себе духи.
И вот, опять помолодев,
И лет пяток на время скинув,
Я с птичьей гордостью в воде
Свою оглядываю спину.
И с тусклой лживостью зеркал
Лицо как будто примирила.
Всё оттого, что ты ласкал
Меня, нерадостный, но милый.
Не любимый, просто «милый», наверное, потому и «нерадостный»…
Норвежская родня с сердечностью приняла новую родственницу, муж относился к ней с любовью и восхищением, - казалось бы, жизнь наконец вошла в иное, счастливое русло. Но несмотря на благополучие и покой, Ольгой вновь овладел приступ тягчайшей меланхолии, на который наслоились мучительные ностальгические настроения. Как видно по одному из последних стихотворений, написанных ею в октябре 1932 года, всё — язык, который она ежедневно слышала, природа, которую видела вокруг себя, и даже близкий человек - стали ощущаться как чужие и непоправимо враждебные:
Я разучилась радоваться вам,
Поля огромные, синеющие дали,
Прислушиваясь к чуждым мне словам,
Переполняясь горестной печали.
Уже слепая к вечной красоте,
Я проклинаю выжженное небо,
Терзающее маленьких детей,
Просящих жалобно на корку хлеба.
И этот мир — мне страшная тюрьма,
За то, что я испепелённым сердцем,
Когда и как, не ведая сама,
Пошла за ненавистным иноверцем.
Прожив там всего три недели, Ольга Ваксель ушла из жизни: найдя в ящике стола у мужа револьвер, 26 октября 1932 года она застрелилась.
В 1928 году Анатолий Мариенгоф, близкий друг Есенина, написал роман под названием «Циники». Главную героиню там, по странному совпадению, тоже зовут Ольга.

Анатолий Мариенгоф, роман «Циники» (1928 год):
— У телефона.
— Добpый вечеp, Владимиp.
— Добpый вечеp, Ольга.
— Пpостите, что побеспокоила. Hо у меня важная новость.
— Слушаю.
— Я чеpез пять минут стpеляюсь.
Из чёpного уха тpубки выплёскиваются весёлые хpипы.
— Что за глупые шутки, Ольга!
Мои пальцы сжимают костяное гоpло хохочущего аппаpата:
— Пеpестаньте смеяться, Ольга!
— Hе могу же я плакать, если мне весело. Пpощайте,
Владимиp.
— Ольга!..
Пpощайте…

Была самая обычная среда, 26 октября 1932 года. Наутро, после ночи любви, проводив мужа, Ольга достала из его стола револьвер и выстрелила себе в рот…
Когда на выстрел вбежали в комнату, она была уже мертва. Странно, ее тонкие прелестные черты почти не исказила смерть... Просто они стали еще тоньше, но теперь в них как бы сквозила безмятежность... Может быть, в Смерти она, наконец нашла то, что искала? Обезумевший от горя муж позже найдет в ящике своего кабинетного стола листочек с такими стихами:
Я расплатилась щедро, до конца
За радость наших встреч, за нежность ваших взоров,
За прелесть ваших уст и за проклятый город,
За розы постаревшего лица.
Теперь вы выпьете всю горечь слез моих,
В ночах бессонных медленно пролитых...
Вы прочитаете мой длинный-длинный свиток
Вы передумаете каждый, каждый стих.
Но слишком тесен рай, в котором я живу,
Но слишком сладок яд, которым я питаюсь.
Так, с каждым днем себя перерастаю.
Я вижу чудеса во сне и наяву,
Но недоступно то, что я люблю, сейчас,
И лишь одно соблазн: уснуть и не проснуться,
Всё ясно и легко - сужу, не горячась,
Все ясно и легко: уйти, чтоб не вернуться...
Выстрел был так рассчитан, что разнесло только шею с правой стороны. Лицо же сохранило красоту. А на губах, о которых слагал стихи поэт, застыла полуулыбка. Ей было только 29 лет.

Мне-то что! Мне не больно, не страшно —
Я недолго жила на земле.
Для меня, словно год, день вчерашний —
Угольком в сероватой золе.
А другим каково, бесприютным,
Одиноким, потерянным, да!
Не прельщусь театрально-лоскутным,
Эфемерным, пустым, никогда.
Что мне тяжесть? Холодные цепи.
Я несу их с трудом, чуть дыша,
Но оков, что стократ нелепей,
Хоть и легче, не примет душа…
За других, за таких же незрячих,
Помолилась бы — слов не найти…
И в стремленьях навеки горячих
Подошла бы к началу пути. Эпилог на ЖЖ: http://nm
|
|
Процитировано 4 раз
Понравилось: 2 пользователям
Проклятый поэт |
Начало здесь
20 октября 1854 года родился Артюр Рембо.
Ангел и демон, метеор, новый мессия, литературный Христофор Колумб — как только ни называли его исследователи. Смело вторгаясь в «непоэтические» сферы, не страшась вульгаризмов, бытовой лексики, простонародной речи, впервые введя её во французскую поэзию — доселе выспренную и велеречивую, - с необычайной непосредственностью и эмоциональностью он воспроизводит новую поэтическую реальность: феерическую, звучную и предельно образную.
Поэзия к тебе сойдёт средь ураганов,
Движенье сил живых подымет вновь тебя –
Избранница, восстань и смерть отринь, воспрянув,
На горне смолкнувшем побудку вострубя!
Поэт поднимется и в памяти нашарит
Рыданья каторги и городского дна –
Он женщин, как бичом, лучом любви ошпарит
Под канонадой строф, – держись тогда, шпана!
Рембо прожил недолгую жизнь — всего 37 лет, - классический возраст гения. Абсолютная уникальность феномена Рембо в двух датах: начало творчества в пятнадцать лет (1869) и окончание и уход из него в девятнадцать (1873). Таким образом всего 5 лет, которые исследователи делят на три периода — ранний, средний и поздний, причём поздний — это всё то, что подросток написал в 18 и 19 лет. Но гораздо удивительнее другое — за эти пять лет Рембо успел пройти путь, для которого европейской и, в частности, французской поэзии понадобилось целых полвека! Рембо был преждевременным ребёнком 20-го столетия.
Infant Terrible
Родился он 20 октября 1854 года в Шарлевиле, небольшом городишке на северо-востоке Франции, неподалёку от Бельгии.

Город напоминал заброшенную нищую деревушку: безлюдье, захолустье, скука провинциальной жизни. Артюр ненавидел свою малую родину и не чаял из неё выбраться. В письмах учителю он писал: «Я умираю, я гнию в этой пошлости, в этой гадости, в этом пейзаже в серых тонах. Мой родной город — самый идиотский во всей провинции. В книжные лавки не приходит ничего нового — ни одного нового издания. Вот она, смерть!»

Артюр в 12 лет
Рембо настойчиво занимался самообразованием, тяга к знаниям доходила у него до фанатизма. Он запирался дома в шкафу, чтобы никто не мешал, и по 24 часа в сутки учил языки.

Он был первым учеником в классе, побеждал на всех турнирах и конкурсах, его сочинения публиковались в журналах, получали литературные премии.

Шарлевильский колледж
Сельский учитель сразу разглядел в Рембо личность неординарную, но интуиция подсказывала ему, что этот молодой человек доставит людям массу неприятностей. «Да, конечно, он умён, - говорил он, - но что-то мне не нравится его взгляд и улыбка. Он плохо кончит, - обыденного его голова не вмещает. Он будет гений, но не знаю, добрый или злой».

Артюр — подросток
Вундеркинд, рано обнаруживший необычайную зрелость ума («чудовище одарённости», - скажет о нём Пастернак), он уже в школьные годы эпатировал окружающих презрением к общепринятому, ниспровержением основ и святынь.
В Бога он не верил. Для Артюра Рембо Всевышний всегда был синонимом Долга, Порядка, Цепей, всего того зла, что он ненавидел в жизни. Один из его сонетов так и назывался: “Зло”. В нём алчный Бог спит, пока люди убивают друг друга, и просыпается, лишь когда богомолка жертвует ему 10 сантимов.
До колик в животе рыдаю, хохочу
над всепрощением Твоим, о милосердный!
Я проклят, беден, пьян – блажному рифмачу
не до тебя, пускай услужливые смерды
храпят с тобой! Усни! Я спячки не хочу.
Это строки из стихотворения Рембо “Праведник”, где звучит мотив отверженности мятежника, восставшего против Бога и отказывающегося от прощения, выпад против “оцепенелости” христианства, усыпляющего человека, отвлекающего его от борьбы за жизнь. Яростная, антихристианская направленность стихотворения перекликается с критикой христианства как рабской идеологии у Ницше.
В провинции меня воротит от церквей.
Что может быть глупей? – Облезлая сутана
зверинцу вшивому крестьянских сыновей
слюнявые псалмы талдычит неустанно...
Стихи Рембо отличает издевательский тон, богохульский, кощунственный характер. Такова “Вечерняя молитва”, где возвышенная форма сонета и возвышенная тема молитвы резко контрастирует с низменным содержанием, сводящимся к описанию потребления пива и отправления естественных надобностей. К стихам этого рода относятся и “Бедняки в церкви”, где Рембо высмеивает набожность прихожан, суетность и мелочность их молитв: “На печень Господу пожалуется дама, слизнув с перстов своих святой воды чуток”.
Были свидетельства, что в родном Шарлевиле Рембо плевал во встречных священников и писал на стенах лозунги с угрозами Богу.
Гюстав Доре. Иаков борется с ангелом
В детстве у Рембо был идеал — каторжник. Он восторгался этим неисправимым грешником, против которого ополчился весь благонамеренный мир, и только он один противостоял всем законам и заповедям. Рембо хотел быть таким же — сильным, гордым и отверженным. У него была присказка: «Моё превосходство над другими заключается в том, что у меня нет сердца».
Был ли он таким или лишь хотел выглядеть этаким сверхчеловеком, эпатируя окружающих? Он всегда старался казаться злым и язвительным. Возможно, это была маска, которая приросла к лицу.
Он не признавал авторитетов, одинаково хамил и врагам, и друзьям. Однажды юный Рембо был представлен прославленному Виктору Гюго, первому поэту Франции, и тот, прочтя его стихи, потрясённо сказал: «Да это же маленький Шекспир!» И погладил мальчика по голове, но Артюр резко вырвался и прошипел: «Меня тошнит от этого старого зануды!», обозвав его «бумагомаракой» и «любителем пошлой пышности».

Виктор Гюго
Покровительствовать Рембо было невозможно. Он был горд, самолюбив и несносен.
В 14 лет он напишет стихотворение «Семилетние поэты», носящее автобиографический характер, из которого мы многое узнаём о детстве поэта.

...В семь лет он сочинял пространные романы
Про жизнь в глуши пустынь, про скалы и саванны,
Где вольной воли свет. И в том, что излагал,
Журнал с картинками изрядно помогал.
Его ночами сны терзали мукой черной.
Он бога не любил. Любил он прокопченный
Народ, что в блузах шел в предместье, а горлан -
Глашатай городской - бил трижды в барабан
И объявлял указ под смех и свист народа.
Он грезил о лугах, где светлая природа,
Сияющая зыбь, целебный запах, мед,
Где золото стеблей, покой и вольный взлет.
Но так как склонен был скорей к предметам мрачным,
То в комнате своей, убежище невзрачном,
С едучей сыростью, с задраенным окном,
Он свой роман читал и размышлял о нем.
Там - рыжий небосвод, затопленные дебри,
Среди густых кустов растений плотских стебли,
Крушение надежд, и бегство, и развал.
В то время затихал под окнами квартал.
И он, один, застыв меж простыней постельных,
Предчувствовал полет полотен корабельных.

В этих строчках уже содержатся зачатки его будущего «Пьяного корабля».
Скиталец
Рембо всячески стремился вырваться из своего захолустья и постоянно сбегал из дома.
Во время одного из таких побегов он попробовал прибиться к коммунарам, которые тогда набирали войска и даже обещали жалованье – что было немаловажно для нищего подростка. Но, пробыв несколько дней в казарме в окружении пьяной сквернословящей солдатни, где ему пришлось к тому же отстаивать свою честь от посягательств грубых мужланов, Рембо сбежал оттуда, выразив позже в стихотворении «Украденное сердце» украденную у него мечту, веру в революцию. Реакция отторжения была настолько сильной, что не оставила никаких следов от высоких патриотических чувств. Рембо на всю жизнь возненавидел революционеров с их «грязными руками». Как, впрочем, ненавидел и буржуазию, и ненавидел бы любой строй, при котором бы жил, – такова уж была его натура.
Во время скитаний он пишет поразительные стихи. Вот одно из наиболее известных, «Предчувствие»:
Глухими тропами, среди густой травы,
Уйду бродить я голубыми вечерами;
Коснется ветер непокрытой головы,
И свежесть чувствовать я буду под ногами.
Мне бесконечная любовь наполнит грудь.
Но буду я молчать и все слова забуду.
Я, как цыган, уйду — всё дальше, дальше в путь!
И словно с женщиной, с Природой счастлив буду.
Путешествовал он — как бы это сейчас назвали — автостопом. Рембо окликал попутную телегу и просил подбросить до ближайшего города. А в качестве платы за проезд рассказывал всякие вымышленные истории, которых у него было несметное количество. С помощью полиции мать возвращала блудного сына к родному очагу, но вскоре строптивый подросток сбегал снова. И вся недолгая жизнь Рембо, его странный образ жизни уже определились в этой мальчишеской непоседливости — всегда, до самой смерти он будет устремлён куда-то к чему-то, будет непрестанно перемещаться, чего-то искать.
Вырвать корни, уйти — вот что он безуспешно пытался осуществить своими побегами. Уйти из прошлого, из буржуазного Шарлевиля, из этого идиотизма провинциальной жизни, что была ему тут уготована, из «нормального» существования, что было невыносимо для такого бунтаря, как Рембо.

Шарлевиль. Набережная Мадлен. Дом семьи Рембо - второй справа.
Когда учитель пытался внушить ему, что необходимо закончить учёбу, получить диплом бакалавра, который «откроет ему любую дверь», Рембо презрительно ответил: «Вы такой же, как все!» - и в его устах это было худшим оскорблением. Он был не такой, как все, не из этого теста, не из этого мира, он был уже далеко.
Его сонет «Моё бродяжество» («Моя цыганщина»), написанный в дороге, - маленький шедевр, полный иронии и горькой нежности, подлинный гимн богеме, поэту-скитальцу, оторвавшемуся от общества, оставшемуся наедине с небом и звёздами, человеку, который обрёл свободу. Мне он особенно нравится в переводе А. Ревича:
В карманах продранных я руки грел свои;
Наряд мой был убог, пальто - одно названье;
твоим попутчиком я, Муза, был в скитанье
И - о-ля-ля! -мечтал о сказочной любви.
Зияли дырами протертые штаны.
Я - мальчик с пальчик - брел, за рифмой поспешая.
Сулила мне ночлег Медведица Большая,
Чьи звезды ласково шептали с вышины;
Сентябрьским вечером, присев у придорожья,
Я слушал лепет звезд; чела касалась дрожью
Роса, пьянящая, как старых вин букет;
Витал я в облаках, рифмуя в исступленье,
Как лиру, обнимал озябшие колени,
Как струны, дергая резинки от штиблет.

Артюр Рембо. Рис. Верлена
Ясновидец
Рембо считал себя «ясновидцем», которому на роду написано проникать в глубину тайн человеческой души. Разъяснение этих его мыслей — в письме к Полю Демени от 15 мая 1871 года:
«Поэт делает себя ясновидцем путём долгого и систематического расстройства всех своих органов чувств. Он идёт на любые формы любви, страдания, безумия. Он ищет самого себя, он пробует на себе все яды, чтобы оставить лишь их квинтэссенцию. Это нестерпимая мука, поэту требуется сверхъестественная сила духа, зато он станет великим больным, великим преступником, великим проклятым — и великим Учёным! Ибо достигнет неведомого!»
Ясновидец — это водолаз, исследующий бездны, он из глубин человеческого подсознания, как жемчуг из морских глубин, доносит до нас крупицы нового знания.
В «Алхимии слова» Рембо рассказывает о своих экспериментах: изобретении цветов гласных, записях молчания, фиксациях головокружений. Он добивается высвобождения всех чувственных и эмоциональных состояний из колеи общепринятого, привычного, предписанного здравым смыслом и моралью. Это необходимо художнику, чтобы увидеть вещи по-новому: не предвзято, непосредственно и свободно. Задача поэта — снять шоры сознания, дабы проникнуть в бессознательное, постичь мистическую связь вещей и явлений.
Это состояние раскрепощённости чувств и мыслей, что Рембо называл ясновидением, достигалось с помощью изнурения себя бессонницей, гашиша, опиума, алкоголя. Он взвинчивал себя, доводя до такого психического состояния. Его ясновидение по характеру ближе всего к галлюцинациям. Из «Алхимии слова»:
«Я свыкся с простейшими из наваждений: ясно видел мечеть на месте завода, школу барабанщиков, руководимую ангелами, шарабаны на небесных дорогах, видел чудищ и чудеса...» Это была патологически заострённая способность мыслить образами, жить в мире грёз и иллюзий. Этот мир фантазий, фантасмагорий, аллюзий, который питал творчество Рембо — очень тонко и ассоциативно передан на картине Валентины Гюго.

Рембо в мире своих фантасмагорических образов
В стихах Рембо стремился «выразить невыразимое». Освобождая их от рассудочности, логических связей, он стремился воздействовать на подсознание. Многие из них не поддаются определённому смысловому прочтению и допускают возможность различных интерпретаций. Его видение мира не укладывается в наши представления. Бредовые картины, дикие фантазии, зашифрованные намёки на что-то, известное лишь посвящённым. Это «странная лирика, где каждый шаг — секрет», - как выразилась 70 лет спустя Анна Ахматова.
«Пьяный корабль»
Среди стихов Рембо резко выделяется «Пьяный корабль» (1871). Это самая знаменитая вещь поэта, его можно перечитывать бесконечно и каждый раз открывать какие-то новые нюансы. Поразительная сгущённость образов, богатство фантазии, какая-то необузданная, изощрённая метафоричность. Его переводят у нас уже почти 100 лет, насчитывается более десятка поэтических переводов «Пьяного корабля»: Давид Самойлов, Бенедикт Лифшиц, Павел Антокольский, Евгений Витковский...

В центре стихотворения — корабль, пускающийся в плавание по неспокойному морю, быстро теряющий и экипаж, и руль, и в конце концов готовый пойти на дно. Корабль воспроизведён настолько достоверно и очеловечен настолько, что приобретает способность и чувствовать, и говорить. Это зримое, наглядное воплощение Я поэта, состояния его души. В стихотворении возникает двойной образ корабля-человека, двойной судьбы — и разбитого корабля, и разбитого сердца поэта. И хотя речь идёт вроде бы о заблудившемся в бурю корабле, понимаешь, что всё же не корабль погружается в море, а душа — в океан бытия, где стихия впечатлений, необыкновенных ощущений нарастает мощными волнами, захлёстывая душу поэта. Вереница чудесных грозных опасностей здесь — это предвкушение восторгов и мук самого Рембо перед тем, как пуститься — без руля и ветрил — в жизненное плавание.
ПЬЯНЫЙ КОРАБЛЬ
Когда, от бечевы освободившись, я
Поплыл по воле Рек, глухих и непогожих,
На крашеных столбах — мишени для копья —
Кончались моряки под вопли краснокожих.
Теперь я весь свой груз спустил бы задарма —
Фламандское зерно и а́нглийские ткани,
Пока на берегу шла эта кутерьма,
Я плыл, куда несло, забыв о капитане.
В свирепой толчее я мчался в даль морей,
Как мозг ребенка, глух уже другую зиму.
И Полуострова срывались с якорей,
От суши отделясь, проскакивали мимо.
Шторм пробуждал меня, возничий жертв морских,
Как пробка, на волнах плясал я десять суток,
Презрев дурацкий взор огней береговых,
Среди слепых стихий, утративших рассудок.
В сосновой скорлупе ворочалась волна,
И мне была сладка, как мальчику кислица
Отмыла все следы блевоты и вина
И сорвала рули, когда пошла яриться.
С тех пор я был омыт поэзией морей,
Густым настоем звёзд и призрачным свеченьем,
Я жрал голубизну, где странствует ничей
Завороженный труп, влеком морским теченьем.
Где вдруг линяет синь от яркости дневной,
И, отгоняя бред, взяв верх над ритмом тусклым,
Огромней ваших лир, мощней, чем чад хмельной,
Горчайшая любовь вскипает рыжим суслом.
Я знаю смерч, бурун, водоворот, борей,
Грозо́вый небосвод над вечером ревущим,
Рассвет, что всполоше́н, как стая сизарей;
И видел то, что лишь мерещится живущим.
Я видел низких зорь передрассветный сон,
Сгущенный в синяки мистических видений,
И волны, что дрожат и ходят колесом,
Как лицедеи из старинных представлений.
Я бредил о снегах в зеленоватой мгле,
Я подносил к очам морей мои лобзанья:
Круговращенье сил, неведомых земле,
Певучих фосфоров двухцветные мерцанья.
Я долго созерцал, как, злобой обуян,
Ревёт прибой, похож на стадо в истерии,
Не ведая ещё, что дикий Океан
Смиренно припадёт к ногам Святой Марии.
Вы знаете! Я плыл вдоль неземных Флорид,
Там, где цветы, глаза пантер, обличьем сходных
С людьми, и, наклонясь, там радуга парит
Цветною упряжью для табунов подводных.
Я чуял смрад болот, подобье старых мреж,
Где в тростниках гниёт нутро Левиафана,
Я видел мёртвый штиль и в нём — воды мятеж,
И в мутной глубине жемчужного тумана —
Жар неба, бледный диск, мерцанье ледников
И мели мерзкие среди заливов грязных,
Где змеи жирные — жратва лесных клопов —
В дурмане падают с дерев винтообразных.
Как детям показать поющих рыб, дорад,
И рыбок золотых, не знающих печали!
Я в пене лепестков летел, прохладе рад.
Нездешние ветра полёт мой окрыляли.
Бывало, Океан, устав от полюсов,
Укачивал меня, и пеньем монотонным
Цветною мглой в борта всосаться был готов…
Я был, как женщина, коленопреклонённым....
Почти что остров, я опять пускался в путь,
Влача помёт и птиц, пришедших в исступленье,
И осторожный труп, задумавший соснуть,
Попятившись, вползал сквозь хрупкие крепленья.
И вот, осатанев в лазури ветровой,
Я — тот, кто у смерчей заимствовал прическу.
Ганзейский парусник и шлюп сторожевой
Не примут на буксир мой кузов, пьяный в доску!
Я, вольный, мчал в дыму сквозь лиловатый свет,
Кирпичный небосвод тараня, словно стены
Заляпанные — чтоб посмаковал поэт! —
Сплошь лишаями солнц или соплями пены;
Метался, весь в огнях, безумная доска,
С толпой морских коньков устраивая гонки,
Когда Июль крушил ударом кулака
Ультрамарин небес, и прошибал воронки;
Мальштремы слышавший за тридевять округ,
И бегемотов гон и стон из их утробы,
Сучивший синеву, не покладая рук,
Я начал тосковать по гаваням Европы.
Я видел небеса, что спятили давно,
Меж звёздных островов я плыл с астральной пылью...
Неужто в тех ночах ты спишь, окружено
Златою стаей птиц, Грядущее Всесилье?
Я изрыдался! Как ужасен ход времён,
Язвительна луна и беспощадны зори!
Я горечью любви по горло опоён.
Скорей разбейся, киль! Пускай я кану в море!
Нет! Я хотел бы в ту Европу, где малыш
В пахучих сумерках перед канавкой сточной,
Невольно загрустив и вслушиваясь в тишь,
За лодочкой следит, как мотылёк непрочный.
Но больше не могу, уставший от валов,
Опережать суда, летя навстречу бурям,
И не перенесу надменность вымпелов,
И жутко мне глядеть в глаза плавучих тюрем.
Перевод Д. Самойлова
Были советские литературоведы, которые примитивно истолковывали «Пьяный корабль», видя в нём влияние третьей французской революции и Парижской коммуны . Но всё это за уши притянутые аллюзии. «Пьяный корабль» – о другом.
Анархическое, мальчишеское бунтарство Рембо, его ярая антибуржуазность имеют не политические и социальные, а романтические, индивидуалистические корни. Маршрут пьяного («сумасшедшего» – в других переводах) корабля – это маршрут ясновидения, поиски неизведанного в себе и в мире, где Я поэта отрывается от проторённых путей, теряет руль, ориентир, и тогда перед взором уже абсолютно свободного корабля-человека, сошедшего с орбит, открываются невиданные пейзажи, странные картины, причудливые видения. «Пьяный корабль» – это не только судьба самого поэта, картина предсказанной им своей скорой гибели, это философия жизни, образ человеческого бытия, познание собственной души.
Мне больше всего нравится это произведение в переводе Д. Самойлова. Он менее понятен в отличие от переводов Витковского, Кудинова, но он эффектнее, в нём больше мощи, поэзии, этого ощущения дикой, грозной, яркой стихии. Послушайте это стихотворение в блистательном исполнении Давида Аврутова. Оно прозвучит под музыку французского композитора Сезара Франка, его симфонии ре минор 1886 года.
https://www.youtube.com/watch?v=LNizf-se-Cg
Рембо не только нарисовал в виде судьбы пьяного корабля своё путешествие за неведомым, он предсказал скорую гибель корабля, свою скорую гибель. Способность воссоздать в стихе свою поэтическую судьбу, свою поэтическую суть представляется феноменальной. А ведь в момент его написания Артюру было всего 17 лет.
Любопытно, что написал он его, никогда не видев моря. Источником вдохновения были его детские воспоминания, связанные с речкой Мёзой (Маасом) и — чтение.

Это старая мельница на реке Маас в Шарлевиле. Единственная водная стихия, доступная тогда взгляду Рембо. На этой мельнице и был написан легендарный «Пьяный корабль». Река Маас омывала набережную Мадлен, где в то время стоял кожевенный завод. Артюр любил побарахтаться там в мокром песке, среди диких растений и остатков битой посуды.
Среди книжных источников комментаторы называют «Тружеников моря» Гюго, «2000 лье под водой» Ж. Верна, «Плавание» Бодлера. Однако обилие литературных реминисценций не мешает «Пьяному кораблю» быть оригинальным произведением по своей символике, по образно-ритмическому богатству. До Рембо никто ничего похожего не писал.
Осенью 1891 года парижские литературные кружки-кафе бурлили пересудами о поэте, чьи стихи потрясли основы французской поэзии. Для любителей сладенького винца в поэзии эта полная горячечного бреда симфония была как глоток чистого спирта. Имя нового гения Артюра Рембо было у всех на устах, о нём говорили, как о легенде.
Русская поэзия ответит потом на «Пьяный корабль» почти столь же гениальным «Заблудившимся трамваем» Гумилёва, где его русский собрат тоже предвидел свою трагическую судьбу.
Встреча с Верленом
Рембо было невыносимо прозябание в захолустье и безвестности, из которого он настойчиво искал пути выхода. Услышав от учителя о существовании в Париже знаменитого поэта-модерниста Поля Верлена,

Рембо пишет ему отчаянное письмо, умоляя «не отталкивать доверчиво протянутую руку». Вместе с письмом он посылает свои стихи, которые привели в восторг получившего их Верлена, и тот приглашает юного поэта к себе в гости: «Приезжайте, дорогой друг, великая душа, Вас ждут, Вами восхищаются!»

Поль Верлен

Писсаро. Париж
Верлен поехал встречать Артюра на вокзал, но не узнал его там, ибо ожидал увидеть — судя по стихам — высокого молодого человека лет 25-30-ти демонической внешности с мрачным, лихорадочным, мятежным взглядом. Рембо выглядел совсем по-другому. Это был подросток, пацан, гаврош.

«Ребёнок-ангелочек, его прелестная головка будто бы удивлялась взлохмаченности собственных волос» (Теодор де Банвиль).

А.Рембо. Рис. П. Казальса
Да, у него было лицо 13-летнего ребёнка: пухлые щёчки, розовая кожа и глаза-незабудки.

Таким его видела Валентина Гюго:

Таким изображал его Пикассо:

Маркусси:

Верлен с Рембо разминулись тогда на вокзале и Рембо сам нашёл этот дом, в котором нашёл тёплый приём и приют.

Это был роковой шаг Верлена. Пастернак писал: «С поселения Рембо у Верленов их нормальная жизнь кончилась. Дальнейшее существование Верлена залито слезами его жены и ребёнка».

Матильда Моте, жена Верлена
Из стихов Верлена:
Я вижу на море двоих.
О море, море — слёз потоки!
Морская соль в глазах моих,
и ночь, где бури так жестоки,
и звёзды горьких глаз моих.
Я вижу женщину, а с нею
ребёнок отроческих лет.
И гонят волны всё быстрее
их чёлн, где мачт и вёсел нет...
У Верлена тоже был свой «Пьяный корабль».
Я не буду пересказывать историю взаимоотношений двух «проклятых поэтов», об этом достаточно подробно поведано в знаменитом фильме Агнешки Холланд «Полное затмение» (1995), созданном по одноимённой пьесе Кристофера Хэмптона (1967), в котором роль Рембо исполнил Леонардо ДиКаприо.

Кадры из фильма:


В прошлом году я читала в нашей библиотеке двухчасовую лекцию «Проклятые поэты» о Верлене и Рембо. Вот её аудиозапись (2140 просмотров):
https://www.youtube.com/watch?v=zdOVYonJze4&list=PLrgDSzTXDpvMzteeGKd0XzKXMrpqS2X-f&index=7&t=0s

В лекции шла речь, главным образом, о творчестве, но нашлись газетные борзописцы, которые увидели-услышали в ней то, что захотели увидеть и услышать. Была состряпана заказная разгромная статья, в которой было столько же неправды, сколько творческой беспомощности, вызвавшая целый шквал возмущённых откликов-опровержений моих слушателей. Я поместила свой ответ на неё на своём сайте вместе с письмами других авторов. Кому интересно, можете прочитать их здесь:
http://natalia-cravchenko2010.narod.ru/index/0-85
«Пора в аду»
Однако мировое значение Рембо было основано вовсе не на его стихах, а на его прозаических работах, главная из которых — книга «Одно лето в аду» («Пора в аду»), навеянная взаимоотношениями с Верленом. Книга эта словно озарена светом адского пламени. Рембо предстаёт в ней кающимся грешником, осознающим, что грехи настолько велики, что на отпущение надеяться не приходится. Он находит искупление в безжалостной откровенности, в беспощадном приговоре себе самому. Эта книга — нечто вроде судебного заседания, во время которого доминирует речь обвиняемого, взявшего на себя и роль прокурора.
«Навек останешься ты гнусью, - воскликнул демон, наградивший меня венком из нежных маков. - Ты достоин погибели со всеми страстями твоими, себялюбием и прочими смертными грехами». - Да, много же я взял на себя! Но не раздражайтесь так, любезный сатана, умоляю Вас! Позвольте поднести Вам эти мерзкие листки из записной книжки проклятого...»

Рембо исповедуется в «свинской любви», как он её называет, не стесняясь показать ту грязь, в которой барахтается несколько лет. И диалог с «адским супругом» Верленом, и стихи играют роль компрометирующих документов.
Лейтмотив книги — тема поражения. Рембо первый насмехается над своим честолюбием, иллюзиями и жалкими достижениями. Глава «Алхимия слова» открывается ироничными словами: «О себе. История одного из моих безумств». Книга пропитана безмерной горечью, отчаяньем от несостоявшегося и несбывшегося.
«Я пытался выдумать новую плоть... и цветы, и новые звёзды, и новый язык. Хотел добиться сверхъестественной власти. И что же? Воображение своё и память я должен предать погребению! Развеяна слава художника и создателя сказок! Я, который называл себя магом или ангелом, освобождённым от всякой морали — я возвратился на землю, где надо искать себе дело, соприкасаться с шершавой реальностью...»
Книга эта при жизни Рембо не принесла ему известности. Ни один её экземпляр не был продан, и он сжёг почти весь тираж. Литературная карьера отныне была для него закрыта. Жизнь, о которой он мечтал, не удалась, а эту, которая была ему уготована судьбой — он отвергал. Тупик.
В безоглядности, в холе
Дни прошли без следа,
У безволья в неволе
Я растратил года.
Вот бы время вернулось,
Чтобы сердце очнулось!
-Нет!- сказал сам себе я. -
Нет возврата, ступай!
Ни о чем не жалея,
Воспарить не желай.
Дни грядущие кратки:
Уходи без оглядки.
(«Песнь из самой высокой башни»)
Рембо порывает с прежним миром. Из книги «Пора в аду»: «Прощайте, химеры, идеалы, заблуждения! Ищите меня среди потерпевших кораблекрушение...» И — в стихах:
Нет, хватит этой блажи -
кувшинок в стакане.
Не утоляет жажды
напиток мечтаний.
Артюр бросает в огонь черновики, тетради, письма, бумаги. Годы, полные страстей и безумств, надежд и иллюзий, в один миг превратились в пепел. К поэзии он больше не вернётся.

Конквистадор
Как сложится дальше судьба Рембо? Он завербуется в голландскую армию, откуда сбежит через неделю. Потом наймётся матросом на английский парусник и уплывёт на африканский континент.

А. Рембо в Африке
Африка манила его, как будет потом манить Гумилёва. Арабские страны: Абиссиния, Судан, Занзибар... Он хотел побывать всюду. Как он давно мечтал об этих краях!

Из книги «Словеса в бреду»: «Я грезил о крестовых походах, пропавших без вести экспедициях, государствах, канувших в Лету...» «Морской воздух прожжёт мне лёгкие, солнце неведомых широт выдубит кожу. Я буду плавать, валяться по траве, охотиться и, само собой, курить; буду хлестать крепкие, словно расплавленный металл, напитки — так это делали, сидя у костра, дражайшие мои пращуры. Когда я вернусь, у меня будут стальные мышцы, загорелая кожа, неистовый взор. Взглянув на меня, всякий сразу поймёт, что я из породы сильных».
Он надеялся, что Восток переделает никому не нужного поэта в сверхчеловека, конквистадора. Рембо добрался до Кипра, до Египта, потом до Адена — крайней южной точки аравийского полуострова. В конце концов оказался в городе Хараре, в Эфиопии, и там остался на всю оставшуюся жизнь, то есть на последнее десятилетие своей жизни. Сначала он будет там простым с/х рабочим, потом агентом по скупке сырья, закупщиком кофе, позже откроет собственное дело: займётся импортом материалов для производства ружей и патронов. Успеет ненадолго жениться на местной туземке, но вскоре отправит её на прежнее местожительство.
Фото Рембо в Хараре, сделанное им самим
Занимаясь в Хараре торговлей, Рембо словно забыл, что был когда-то поэтом. Он никому не рассказывал о своей прошлой жизни. А то, что было написано им во время скитаний — статьи, заметки для географического общества, было словно демонстративно лишено всякой поэзии. Рембо оказался в мире, фантастически интересном для европейца, куда, казалось, рвалась душа поэта, «пьяный корабль» его мечты, однако всё, что он написал там — статьи или письма — были лишь сухой деловой констатацией и поражали абсолютным отсутствием фантазии, воображения, лиризма, всего, что с такой могучей силой проявлялось в художественном творчестве.
Из книги «Пора в аду»: «Я разучился говорить. По-прежнему, в той же пустыне, в такую же ночь, усталым моим глазам является серебряная звезда, хотя это теперь нисколько не трогает Владык жизни, трёх волхвов — сердце, душу и дух».

Возможно, уход Рембо из поэзии — его ответ презревшему его миру, так сказать, хлопок дверью, акт отверженности, непризнания, отчаяния. А может быть, он интуитивно ощутил свою поэтическую исчерпанность — чувство, неведомое большинству поэтов. Возможно, Рембо, как позже Блок, столкнувшись с тяготами жизни, просто перестал слышать музыку, небесные звуки.
В аду
Ему было очень плохо в его добровольном изгнании. Письма Рембо к матери и сестре напоминают ту часть «Божественной комедии» Данте, где поэт описывает круги ада:
«На улице стоит весенняя духота, пот льёт по телу ручьями, желудок сводит от боли, мозги плавятся, дела идут хуже некуда, новости приходят плохие. Кой чёрт понёс меня в эту проклятую страну! Кой чёрт дёрнул меня заняться торговлей в этом аду! Кроме местных бедуинов, здесь и поговорить не с кем, года не пройдёт, как станешь тупее самой тупой болванки. Какое же жалкое существование я влачу в этом сумасшедшем климате, в этих нечеловеческих условиях! Моя жизнь здесь — сущий кошмар. Невозможно жить мучительнее, чем живу я».

Он мечтал заработать побольше денег, чтобы вырваться из этого ада, осесть где-нибудь в спокойном месте, жениться, создать семью. Вот такие теперь были у него мечты. Он мечтал о покое. Он очень устал.
Быть может, как-нибудь
судьба меня отпустит
в знакомом захолустье
спокойствия хлебнуть -
и мирно кончить путь.
Стоило ли уезжать из Шарлевиля! В письмах домой он признаётся:
«Я совсем поседел. Я слишком быстро состарюсь, занимаясь этой дурацкой работой и общаясь с дикарями и тупицами. Мне кажется, моя жизнь близится к концу».
Какими пророческими оказались те заключительные строки «Пьяного корабля», где, словно каким-то внутренним потусторонним зрением он провидел уже тогда, в 17 лет, то, к осознанию чего пришёл в 35 после стольких скитаний и мучений.
Коль мне нужна вода Европы, то не волны
её морей нужны, а лужа, где весной,
присев на корточки, ребёнок, грусти полный,
пускает в плаванье кораблик хрупкий свой.

Вот что, в сущности, нужно человеку. Как поздно он это понял.
Здоровье Рембо между тем всё ухудшалось. Он перенёс брюшной тиф, страдал от болезней желудка из-за острой тамошней пищи, мучился ревматическими болями в спине, колене, плече. Варикозное расширение вен на ноге осложнилось гидроартрозом, обострению которого способствовал застарелый сифилис. Боли становились невыносимыми. На ноге появилась злокачественная опухоль. Рембо уже не мог ходить.
Он был вынужден прервать свой бизнес, продав за бесценок всё, что имел, получив вексель на ничтожную сумму.
Из письма к матери: «Какое жалкое вознаграждление за все труды, тяготы и лишения. Увы! Как же ничтожна наша жизнь!» К тому же этот вексель был выдан марсельским филиалом парижского банка и подлежал оплате в Париже в течение 10 дней, куда Рембо уже не в состоянии был доехать. Какого напряжения, тяжких трудов и лишений стоил ему этот вексель, а он даже не мог получить по нему деньги! И ради этой бумажки он сгубил свою жизнь!
На крытых носилках со страшными мучениями ( он нанял 16 носильщиков на последние деньги) Рембо был доставлен в Марсель. Там ему ампутировали ногу. Его письма домой этого периода самые патетические: «Я плачу день и ночь. Я конченный человек, меня искалечили на всю жизнь. Как убога наша жизнь, полная нужды и страданий! Так зачем же, зачем мы вообще существуем?!»

К нему едет сестра Изабель, которая решает отныне посвятить жизнь брату, и самоотверженно ухаживает за ним. Болезнь между тем прогрессировала: культя распухла, опухоль дошла до паха, Рембо был практически парализован. Ему кололи морфий. Поразительно, но всё это было уже предсказано им в его адской книге!
Из книги «Пора в аду»: Я должен был бы заслужить ад за гнев, ад за гордыню, ад за сладострастие — целую симфонию адских мук! Умираю от усталости. Я в гробу, я отдан на съедение червям, вот ужас так ужас!
Ах, вернуться бы к жизни! Хоть глазком взглянуть на её уродства. Тысячу раз будь проклята эта отрава! Господи боже, смилуйся, защити меня, уж больно мне плохо!.. И вздымается пламя с горящим в нём грешником».

В Марселе, где он умирал, врачи не знали, что в больнице погибает самый одарённый поэт Франции. Запись в больничной книге гласила: «10 ноября 1891 года в возрасте 37 лет скончался негоциант Рембо».
В воспоминаниях Изабель есть удивительное место, где она рассказывает о том, как в предсмертном бреду её брат всё ждал какого-то корабля, который возьмёт его на борт, и бормотал какие-то странные слова, похожие на стихи. Значит, в последние минуты жизни поэзия вернулась к Рембо...

Бессмертие
Его похоронили в Шарлевиле. Гроб сопровождали только два человека: мать и сестра.
Могила Рембо и его семьи в Шарлевиле

Памятник Рембо в Шарлевиле
Когда через 10 лет после смерти поэта в 1901 году началось на Вокзальной площади сооружение ему памятника, мать, которую позвали присутствовать на церемонии его открытия, отказалась прийти, не поверив в реальность происходящего, думая, что это чья-то злая шутка.

Шарлевиль сейчас

Из стихов Поля Верлена, посвящённых Рембо:
Воскресный звон плывет в простор,
Он льется, длится.
С ветвей свою мольбу в простор
Возносит птица.
О, Господи, какой покой,
Какой бездонный!
Доносит город в мой покой
Свой говор сонный.
- Что ты наделал? Что с тобой?
Ты с горя спятил?
Скажи, что сделал ты с собой?
Как жизнь растратил?

Рискну привести здесь и своё собственное, в котором как бы сконцентрировано всё то, что здесь рассказала:
Артюр Рембо
Родился в захолустном Шарлевиле.
Был в преисподней. Выходил в астрал.
Его боготворили и хулили.
Артюр Рембо. Бунтарь. Оригинал.
Как ненавидел он свою обитель,
лелея в мыслях ярое «долой!»
«Он будет гений, — прорицал учитель, —
да вот не знаю, добрый или злой».
В молитвах и трудах не видя прока,
поэзии грядущая звезда
предался вакханалии порока,
невинность тела рано обуздав.
Долой гнильё, рутину, дряхлость плоти!
Эпоха сдохла. Затхлый мир смердит.
Корабль взмыл в дрейфующем полёте.
Он обречён. Он должен победить!
Свою погибель возлюбив, как Бога,
презрев огни прибрежных маяков,
летел в знамёнах гнева и восторга,
куда хотел, теченьями влеком.
Неандерталец с голубиным взглядом,
в котором отражались небеса.
О, лишь у тех, кто видел пламя ада,
бывают так невинны голоса!
Как рассказать историю паденья
и забытья, алхимию словес,
ночные фантастические бденья,
трагедию несбывшихся чудес?..
Сполна оплачен Люциферов вексель.
Проиграно жестокое пари.
В глухой пустыне, в эфиопском пекле
ты к каторге себя приговорил.
Неприручённым и непримирённым
ушёл, ни мир, ни Бога не простив.
Где был корабль — плывут по морю брёвна...
О, как же сам себе ты отомстил!
Вместо эпилога
Из книги Марины Влади «Владимир или прерванный полёт»:
«Однажды вечером ты возвращаешься поздно, и по тому, как ты хлопаешь дверью, я чувствую, что ты нервничаешь. Я вижу тебя из кухни в конце коридора. Ты бросаешь пальто, кепку и большими шагами направляешься ко мне, потрясая какой-то серой книжкой.
«Это слишком! Ты представляешь, этот тип, этот француз, — он все у меня тащит! Он пишет, как я, это чистый плагиат! Нет, посмотри: эти слова, этот ритм тебе ничего не напоминают? Он хорошо изучил мои песни, а? Негодяй! И переводчик — мерзавец, не постеснялся!»
Мне не удается прочесть ни слова, ты очень быстро пролистываешь страницы. Потом начинаешь ходить взад-вперед по квартире, и, ударом ладони подчеркивая рифмы, ты цитируешь мне куски, которые тебя больше всего возмущают. Я начинаю хохотать, я не могу остановиться. Задыхаясь, я наконец говорю тебе, что от скромности ты, по-видимому, не умрешь и что тот, кто приводит тебя в такое бешенство, не кто иной, как наш великий поэт, родившийся почти на целый век раньше тебя, — Артюр Рембо. Ты открываешь титульный лист и краснеешь от такого промаха. И, оставив обиды, ты всю ночь с восторгом читаешь мне стихи знаменитого поэта».

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/44890.html
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 3 пользователям


















