-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Статистика
Записей: 871
Комментариев: 1385
Написано: 2520
"И оттого-то мой талант владеет вашею душою..." |

20 декабря 1941 года умер Игорь Северянин.
Первое, что вспоминается при упоминании имени этого поэта — знаменитая строчка: «Я - гений Игорь Северянин...»
Я, гений Игорь Северянин,
Своей победой упоен:
Я повсеградно оэкранен!
Я повсесердно утвержден!
От Баязета к Порт-Артуру
Черту упорную провел.
Я покорил литературу!
Взорлил, гремящий, на престол!

Эта строчка «Я гений», воспринятая вне контекста стихотворения и целой книги, ставшая своеобразной визитной карточкой поэта, во многом определила и основной тон отношения широкой публики к Игорю Северянину — этакую ироничную улыбку превосходства. Появился даже термин такой - «северянинщина» как некий апогей самомнения и самовосхваления. Однако в этом чуть ироничном самопризнании поэта — не только хвастовство (которого он отнюдь не был лишён), но и действительно внутреннее ощущение, выраженное им прямо и без обиняков: Северянин знал, что он талантлив и не считал нужным это скрывать. Н. Гумилёв позже в рецензии на первый сборник Северянина писал, что тот привлёк его своей непосредственностью, тем, что «первым из всех поэтов настоял на праве быть искренним до вульгарности».
Мой стих серебряно-брильянтовый
Живителен, как кислород.
"О гениальный! О талантливый!" -
Мне возгремит хвалу народ.
И станет пить ликёр гранатовый
За мой ликующий восход.
И всё же какая-то полудетская наивность и непосредственность этих стихов оправдывала грех самодовольства и безвкусия. Бриллиантик таланта бросал свой отблеск на дешёвую бижутерию.
Изысканна, как жительница Вены,
В венгерке дамской, в платье bleugendarme,
Испрыскав на себя флакон вервэны,
Идет она, – и в ней особый шарм.
К ней цужат золотые караваны
Поклонников с издельями всех фирм…
Лишь донжуаны, чьи карманы рваны,
Берут ее глазами из-за ширм…
Изящница, очаровалка, венка,
Пред кем и герцогиня – деревенка,
В ней что-то есть особое совсем!
Изысканка, утонченка, гурманка,
С весталковой душой эротоманка,-
Как у нее выходит: “Жду вас в семь…”!

«Король поэтов» - этого звания удостоился в 1918 году в Политехническом музее Москвы сын владимирского мещанина и питерской дворянки Игорь Северянин. Такой славы не знал ни один из когда-либо живущих поэтов. Ошеломляли сами названия его книг: «Громокипящий кубок», «Ананасы в шампанском», «Мороженое из сирени». Его имя было олицетворением всего «эстетного», «изячного» и скандального. Перехлёсты Северянина давали повод называть его позёром, пошляком и шарлатаном. Но суть его поэзии была не в этом...
«Романтизм, идеализация, самая прекрасная форма чувственности, сравнимая с рукопожатием — слишком долгим и поцелуем — слишком лёгким, - вот что такое Игорь Северянин», - восторженно писала в своих «Записных книжках» Марина Цветаева. Страсть к изысканности, к роскошным метафорам, все эти его гитаны, грациозы, триолеты — может быть, оттого, что сам он был безнадёжно беден, жил в убогой коммуналке и ему мечталась прекрасная сказка, которая когда-нибудь украсит его жизнь...
Мы живём будто в сне неразгаданном
на одной из удобной планет.
Много есть, чего в жизни не надо нам,
а того, чего хочется — нет...
Он как бы компенсировал своими нестерпимо красивыми строчками серость и скуку однообразных будней, щедро угощая публику пряной экзотикой своих поэз с их неизменными графинями, будуарами, коктейлями, файв-о-клоками и прочими атрибутами великосветской жизни, столь соблазнительными для мещанского вкуса.
В шумном платье муаровом, в шумном платье муаровом —
Вы такая эстетная, Вы такая изящная...
Но кого же в любовники? и найдется ли пара Вам?
Ножки пледом закутайте дорогим, ягуаровым,
И, садясь комфортабельно в ландолете бензиновом,
Жизнь доверьте Вы мальчику в макинтоше резиновом...

Ананасно-шампанская публика не воспринимала тонкой иронии этих северянинских строк, иронии изображения этого бензиново-резинового рая, восторженно принимая всё за чистую монету. Северянин потом всю жизнь открещивался от этого «идеала» и писал в стихах о самом себе:
Он тем хорош, что он совсем не то,
что думает о нём толпа пустая,
стихов принципиально не читая,
раз нет в них ананасов и авто.
Он пытается уверить, что он совсем не то, за что себя выдаёт (это роль, маска), - не певец ликёров и кремов де виолетт, а нечто большее. Думается, если бы суть его творчества в самом деле исчерпывалась только будуарно-ресторанным характером поэзии, то вряд ли так высоко оценили бы его в разное время Мандельштам, Горький, Маяковский, Гумилёв, Ахматова, Цветаева, Блок, А. Толстой. Блок подарит Северянину свою книгу «Ночные часы» с надписью: «Игорю Северянину, поэту с открытой душой».

Конечно, как поэт Северянин — далеко не самый мудрый, не самый глубокий, не самый художественный. Однако не только за это можно любить поэта и получать удовольствие от чтения его стихов. Есть милые вещицы и безделушки, которые созданы для того, чтобы приносить радость, создавать атмосферу праздника, дарить уют и душевный комфорт. Именно такие чувства остаются у нас после поэз Северянина. Возможно, именно этим умением — превращать серое в светлое, тревожное в беспечное, привычное в торжественное — он и нравился всем. Во всяком случае, очень многим. И своим современникам, и ныне живущим.
Сверкните, мысли! Рассмейтесь, грёзы!
Пускайся, Муза, в экстазный пляс!
И что нам — призрак! И что — угрозы!
Искусство с нами, и Бог за нас...
Нам всегда не хватает праздника, чтобы почувствовать себя в полной мере счастливыми. И потому мы так любим тех, кто дарит его нам — пусть даже одну только его иллюзию.

Это было у моря, где ажурная пена,
Где встречается редко городской экипаж...
Королева играла — в башне замка — Шопена,
И, внимая Шопену, полюбил ее паж...
Марина Цветаева была в восторге от этих строк и записывала в дневнике: «Обаяние Игоря Северянина так же непоправимо, как обаяние цыганских романсов. Это танго в поэзии. Пленительный мотив. Неотразимый соблазн. Это что-то такое, с чем нельзя бороться и, конечно, - не надо!»
Было все очень просто, было все очень мило
Королева просила перерезать гранат;
И дала половину, и пажа истомила,
И пажа полюбила, вся в мотивах сонат.
А потом отдавалась, отдавалась грозово,
До восхода рабыней проспала госпожа...
Это было у моря, где волна бирюзова,
Где ажурная пена и соната пажа.

Это был один Северянин — эстрадный, светский, богемный, манерный, которого знали все. А был ещё другой — грустный, простой и милый. Поэт пронзительной человечности, о котором знали немногие.
Я служу тебе, моя Единая,
Любви и преданности молебен,
И мной, кем спета песнь лебединая,
Не утрачен тон, который хвалебен.
Мне хочется сказать тебе, моя девочка,
Что любовь моя не знает изменений,
Что и на заутрени жизни, и на всенощной
Я люблю тебя, как умеет любить только гений!
Легендарные ананасы в шампанском порой заслоняют нам того, негромкого, но подлинного Северянина.
В парке плакала девочка: «Посмотри-ка ты, папочка,
У хорошенькой ласточки переломлена лапочка, —
Я возьму птицу бедную и в платочек укутаю…»
И отец призадумался, потрясенный минутою,
И простил все грядущие и капризы, и шалости
Милой маленькой дочери, зарыдавшей от жалости.
Здесь всё так наивно, сентиментально, почти пародийно, но трогательно тем, что проникнуто правдой авторских переживаний. У Северянина много таких стихов, написанных без претенциозных измышлений, языком простым, ясным, искренне взволнованным. И там где поэт не прячется под маской намеренной экстравагантности, где говорит о своих истинных тревогах, волнениях и печалях и от будуарных надуманных иллюзий уходит в мир простых человеческих чувств — там мы видим подлинное лицо Северянина.
Не старость ли это, — не знаю, не знаю, —
Быть может, усталость — души седина,
Но тянет меня к отдаленному краю,
Где ласковей воздух и ярче волна.
Мне хочется теплого и голубого,
Тропических фруктов и крупных цветов,
И звончатой песни, и звучного слова,
И грез без предела, и чувств без оков.
Я Север люблю, я сроднился с тоскою
Его миловидных полей и озер.
Но что-то творится со мною такое,
Но что-то такое завидел мой взор,
Что нет мне покоя, что нет мне забвенья
На родине тихой, и тянет меня
Мое пробудившееся вдохновенье
К сиянью иного — нездешнего — дня!
У Северянина есть цикл сонетов «Медальоны», где каждое стихотворение — это портрет в миниатюре какого-то поэта. Есть там и строки, посвящённые им самому себе:
Фокстрот, кинематограф и лото -
вот, вот, куда людская мчится стая!
А между тем душа его простая,
как день весны. Но это знает кто?
Главная мысль таких его стихов: мир, достойный любви, должен быть прост. Прост и ласков. Прост и мил. Как песня. Как душистый горошек. Как сердце поэта. Истина всегда проста.
Весенний день горяч и золот,-
Весь город солнцем ослеплен!
Я снова - я: я снова молод!
Я снова весел и влюблен!
Душа поет и рвется в поле,
Я всех чужих зову на "ты"...
Какой простор! Какая воля!
Какие песни и цветы!
Скорей бы - в бричке по ухабам!
Скорей бы - в юные луга!
Смотреть в лицо румяным бабам,
Как друга, целовать врага!
Шумите, вешние дубравы!
Расти, трава! Цвети, сирень!
Виновных нет: все люди правы
В такой благословенный день!
Уникальная драма Северянина - драма души, жаждущей всемирного братания и общего рая, и одновременно чувствующей, что это несбыточно. Отсюда - ирония, и прежде всего - ирония над собой.
Ведь все-таки я ироник
С лиризмом порой больным...
Смешное семейных хроник
Не может не быть смешным...
Так кто же такой Игорь Северянин? «Король поэтов» и «певец ликёров», заказывающий «шампанского в лилию» или - «совсем не то»? Но что же?..

Родился Игорь Васильевич Лотарев (таково настоящее имя поэта) 4 (16 мая) 1887 года в Петербурге. Отец — Василий Петрович Лотарев - из Владимирских мещан, отставной штабс-капитан полка, военный инженер, мать — Наталья Степановна Шеншина — принадлежала к дворянскому роду, в котором были Фет, Карамзин. Это было предметом гордости Северянина: «что в жилах северного барда струится кровь Карамзина». И ещё одна генеалогическая деталь: сестрой поэта по матери была Александра Коллонтай.
Стихи Северянина очень автобиографичны: можно детально и точно описать жизнь поэта, пользуясь только его стихами. «Родился я, как все, случайно, был на Гороховой мой дом...» («Роса оранжевого часа»)

Игорь Лотарев в детстве, здесь ему шесть лет. Детство и отрочество будущий поэт проведёт в Череповецком уезде Новгородской губернии, (ныне это Вологодская область), куда переехал с отцом после развода родителей.
Вот этот дом, где прошло его детство. Сейчас здесь музей Игоря Северянина. И. Лотарев — крайний слева в первом ряду, отец — крайний справа во втором ряду, рядом — тётя, в центре — дядя и другие родственники. Дом стоял на реке Суде близ Череповца.
Природа этого северного края осталась ярким впечатлением поэта на всю жизнь, став темой многих пленительных стихов.

На реке форелевой, в северной губернии,
В лодке, сизым вечером, уток не расстреливай:
Благостны осенние отблески вечерние
В северной губернии, на реке форелевой.
Это ранний Северянин. Так он писал в юности. Ничего общего с тем, как будет писать потом.
В Череповце он окончит четыре класса реального училища. Этим образование Северянина исчерпывалось.
В 1904 году (в 17 лет) будущий поэт вернулся к матери и поселился в Гатчине под Петербургом. Там он встретил свою первую любовь.
Девушка в сиреневой накидке

Идет весна в сиреневой накидке,
В широкой шляпе бледно-голубой,
И ландышей невидимые струйки
Бубенчиками в воздухе звучат...
Она, смеясь, мои щекочет нервы,
Кокетничает мило и остро...
Я к ней спешу, и золотою Златой
Вдруг делается юная весна,
Идущая в сиреневой накидке,
В широкой шляпе бледно-голубой...
Я беден был, и чем я был беднее,
Тем больше мне хотелось жить...
(Из автобиографического романа
в стихах «Падучая стремнина")
Девушку «в сиреневой накидке» звали Злата. Вернее, это имя придумал ей сам поэт, в реальной жизни её звали Женя Гуцан. Была она на редкость хороша собой: стройная, с роскошными золотыми вьющимися волосами. Игорь Лотарев познакомился с ней зимой 1905 года, в Гатчине, где жил вместе с матерью и старой няней. Женя же приезжала в Гатчину по воскресеньям — навестить и обиходить отца, спившегося после развода с её матерью, а в Петербурге снимала угол и зарабатывала шитьем. Ей посвящено не менее 30 стихотворений поэта, написанных в разные годы: "Ты ко мне не вернешься", Сонет", Аккорд заключительный", "Портниха", "Спустя пять лет", "Евгения", "Он и она", "Злата", цикл "Лепестки роз жизни", "Ушедшая весна", "Дуэт душ" и другие.

Игорь любил её. Ради неё он продал букинисту любовно собранную библиотеку и в Петербурге на Офицерской снял для них комнату. Денег хватило всего лишь на три недели счастья... Злата уехала в Гатчину, - шить заказчице платья, а любимому посоветовала нанять поблизости дачу, чтобы встречаться с ним. Он шел к ней за сорок три версты по шпалам (на транспорт не было денег) - как бы уподобляясь пилигриму, идущему к святым местам.
Идиллия, начавшаяся столь романтично, «хеппи-эндом» не увенчалась. Вскоре Злата призналась, что у неё будет ребёнок. О женитьбе не было речи: какой он отец? - восемнадцатилетний юнец, без образования, без специальности, без гроша в кармане. И девушка пошла в содержанки к богатому старику, который помог ей поднять ребёнка. Северянин увидит свою дочь Тамару впервые уже 16-летней.

(Тамара стала балериной и была очень похожа на него, ничего не унаследовав от красавицы-матери). Позже поэт напишет стихи, в которых будет упрекать Злату за её нынешнюю сытую жизнь, за бархат вместо платья из ситца, за роскошную дачу, за омаров к обеду, виня её в своём грядущем одиночестве:
Ты ко мне не вернешься даже ради Тамары,
Ради нашей дочурки, крошки вроде крола:
У тебя теперь дачи, за обедом - омары,
Ты теперь под защитой вороного крыла...
Ты ко мне не вернешься: на тебе теперь бархат,
Он скрывает бескрылье утомленных плечей...
Ты ко мне не вернешься: предсказатель на картах
Погасил за целковый вспышки поздних лучей!..
Ты ко мне не вернешься, даже... даже проститься,
Но над гробом обидно ты намочишь платок...
Ты ко мне не вернешься в тихом платье из ситца,
В платье радостно-жалком, как грошовый цветок.
Как цветок... Помнишь розы из кисейной бумаги?
О живых ни полслова у могильной плиты!
Ты ко мне не вернешься: грезы больше не маги,-
Я умру одиноким, понимаешь ли ты?!.
Он же ещё её упрекал!
«Я прогремел на всю Россию»
Стихи Северянин начал писать ещё восьмилетним мальчиком. Впервые их опубликовали, когда ему было 18, в солдатском журнале «Слово и дело». Больше его нигде не печатали. И тогда он сам стал переплетать свои стихи в маленькие сборнички и рассылать для отзывов в различные редакции. Но отзывов не было. В 1910 году одну из этих самодельных книг прочитал в Ясной Поляне Лев Толстой.

Писатель Иван Наживин, близко общавшийся с Толстым в те годы, вспоминал: «В один из вечеров писатель после удачно закончившейся для него карточной игры (выиграл 7 копеек) много смеялся, слушая чтение стихов из какой-то декадентской книжки. Но когда прозвучали строки об ананасах в шампанском и об упругости винной пробки — захлебнулся от негодования.
Вонзите штопор в упругость пробки,-
И взоры женщин не будут робки!..
Да, взоры женщин не будут робки,
И к знойной страсти завьются тропки.
Плесните в чаши янтарь муската
И созерцайте цвета заката...
Раскрасьте мысли в цвета заката
И ждите, ждите любви раската!..
Ловите женщин, теряйте мысли...
Счет поцелуям - пойди, исчисли!..
А к поцелуям финал причисли,-
И будет счастье в удобном смысле!..
Услышав подобное, великий старец пришёл в ярость: какая глупость! Какая пошлость! Какая гадость! И такую гнусность смеют считать за стихи! До какого падения дошла русская поэзия! Вокруг виселицы, полчища безработных, убийства, пьянство, а у них — упругость пробки!»
Об этом эпизоде Наживин рассказал в газете «Биржевые ведомости», полагая, что Толстой уничтожил Северянина, раздавил его как клопа. А на самом деле он подарил ему славу: строчки, процитированные самим Толстым, прогремели на всю Россию, и автором вдруг сразу стали интересоваться и издатели, и редактора, и читатели. Ни одна восторженная статья не смогла бы так вознести Северянина. С этого момента — то есть с января 1910 года - и пошла его фантастическая всероссийская слава. Журналы стали охотно печатать его стихи, устроители поэтических вечеров наперебой приглашали Северянина принять в них участие.

Я прогремел на всю Россию,
Как оскандаленный герой!..
Литературного Мессию
Во мне приветствуют порой.
Порой бранят меня площадно, —
Из-за меня везде содом!
Я издеваюсь беспощадно
Над скудомысленным судом.
Известность Игоря Северянина началась как скандальная: резкий отзыв Толстого и последовавшее за ним всероссийское улюлюканье прессы не только привлекли внимание к поэту — они же определили и направленность его будущего творчества.
В группе девушке нервных, в остром обществе дамском
я трагедию жизни превращу в грёзо-фарс...

Грёзо-фарс Игоря Северянина
В этот мир стихи Игоря Северянина вошли удивительно органично:
Элегантная коляска с электрическом биеньи
эластично шелестела по шоссейному песку...
Я в комфортабельной карете на эллиптических рессорах...
Лакей и сенбернар — ах, оба баритоны! -
встречают нас в дверях ответом на звонок...
Цилиндры солнцевеют, причёсанные лоско,
и дамьи туалеты пригодны для витрин...

Он писал о мещанском рае с красивыми машинами, замками и дачами, с любовными сценами на берегу моря, с чарующей музыкой, запахом духов и сигар, с вином, фруктами и устрицами... И люди, истосковавшиеся по хорошей, сытой, красивой жизни, принимали стихи Северянина на ура. Поэт точно угадал наступавшую моду общественных вкусов. «Поешь деликатного, площадь! Придётся товар по душе!»

Люблю лимонное с лиловым:
Сирень средь лютиков люблю.
Лимон фиалками томлю.
Пою луну весенним словом:
Лиловым, лучезарным, новым!
Луна -- подобно кораблю...
Люблю лиловое с лимонным:
Люблю средь лютиков сирень.
Мне так любовно быть влюбленным
И в ночь, и в утро, в вечер, в день,
И в полусвет, и в полутень,
Быть вечно жизнью восхищенным,
Любить лиловое с лимонным...

Он становится салонным поэтом, воспевающим изыски богемного быта. Это была маска. Личина. Она тяготила его.
Из меня пытались сделать торгаша.
Но торгашеству противилась душа.
Суть его поэзии не в этом. Когда-то, ещё в 20 лет, он выразил своё творческое кредо:
Не пой толпе! Ни для кого не пой!
Для песни пой, не размышляя — кстати ль?
Пусть песнь твоя — мгновенья звук пустой, -
поверь, найдётся почитатель.
Он пытается оправдаться перед собой:
Я лирик, а не спекулянт.
Я не делец, - дитя большое!
И оттого-то мой талант
владеет вашею душою.
Но торгашество затягивало, и душе поэта всё труднее становилось противиться ему.
Король Фокстрот пришел на землю править,
Король Фокстрот!
И я — поэт — его обязан славить,
Скривив свой рот…
А если я фокстротных не уважу
Всех потрохов,
Он повелит рассыпаться тиражу
Моих стихов…
Откровенно, ничего не скажешь. Северянин хорошо усвоил законы рынка. В сущности, та же продажа души Мефистофелю, обмена звезды на хлеб. Не каждый мог устоять перед сим соблазном. Не устоял и наш поэт. Ради популярности он принёс в жертву своё я дешёвым вкусам невзыскательной публики, творил на её потребу. В ресторанах, светских гостиных, на званых вечерах, где он выступал, Северянин исполнял роль гения: держался надменно, принимал как должное оказываемые ему почести. На ругань критиков огрызался эпиграммами: «Вы посмотрите-ка, вы поглядите-ка, какая подлая в России критика!» Одна из эпиграмм начиналась так: «Вдыхать ли запах ландыша клопу?»

Поэзоконцерты
Вечера поэта или — как он их называл — поэзоконцерты — проходили с неизменным успехом и аншлагами.

Северянин читал там свои «виртуозные» и «курьёзные» поэзы, рассчитанные скорее на слушателя, чем на читателя. Игорь Северянин — один из основоположников авторских читок перед многотысячным слушателем. До Северянина таких массовых выступлений не было. Он открыл новый жанр эстрадного искусства — авторское чтение стихов.
Современники вспоминали, как поэт появлялся на сцене в длинном узком сюртуке цвета вороного крыла. Держался прямо, глядел в зал свысока, изредка потряхивая нависающими на лоб чёрными подвитыми кудряшками. В руке у него была лилия на длинном стебле. Или пышная орхидея в петлице. Всё это — и сюртук, и орхидея, и поза напоминали провинциальную карикатуру на Оскара Уайльда.

(Северянин считал, что он на него похож и всячески стремился подражать писателю). Маяковский в одном из выступлений так охарактеризовал его: «Самый модный денди — вроде Оскара Уайльда из Сестрорецка».

Лениво помахивая лилией, раскачиваясь в такт словам, Северянин начинал нараспев, мертвенным голосом с подчёркнуто носовым, якобы французским произношением, читать, вернее, петь на вполне определённый мотив, напоминающий интонации псевдоцыганского, салонно-мещанского романса:
Позовите меня -
Я прочту вам себя,
я прочту вам себя,
как никто не прочтет...
Заунывно-пьянящая мелодия получтения-полураспева завораживающе, гипнотически действовала на толпу. «Наша встрэча — Виктория Рэгия: рэдко-рэдко, в цвету...» (Звук «е» он произносил как «э» - так ему казалось «шикарнее»). Однажды кто-то крикнул из зала: «Хватит корчить из себя Уайльда! Неужели Вы не понимаете, что ведёте себя глупо и неестественно?» «Да, неестественно!» - ответил Северянин и, вскинув голову, добавил: «Зато красиво!»

Пока не поздно, дай же мне ответ,
Молю тебя униженно и слезно,
Далекая, смотрящая мимозно:
Да или нет? Ответь — да или нет?
Поэзно «да», а «нет» — оно так прозно!
Слиянные мечты, но бьются розно
У нас сердца: тускнеет в небе свет...
О, дай мне отзвук, отзнак, свой привет,
Пока не поздно.
Ты вдалеке. Жизнь превратилась в бред.
И молния, и гром грохочет грозно.
И так давно. И так десятки лет.
Ты вдалеке, но ты со мною грезно.
Дай отклик мне, пока я не скелет,
Пока не поздно!..
В расцвете славы
Большую роль в раскрутке Северянина сыграл Ф. Сологуб. Он представил его петербургскому литературному миру в своём салоне, а потом пригласил поэта в турне по России, где ещё больше упрочилась слава поэзоконцеров Игоря Северянина.

Сологуб возил его по стране от Минска до Кутаиси — и всюду поэта сопровождал вечный праздник, торжество триумфатора. Залы, где он читал, ломились от восторженной публики, портреты его некрасивого лица украшали будуары светских дам и комнатки курсисток. Женщины ходили за Северяниным толпами, ночевали под окнами. Когда он выступал в зале под Думской каланчой, останавливали уличное движение. В Керчи, в Симферополе, на Волге были случаи, когда его лошадей распрягали, и поклонники везли его на себе. Купчихи бросали к его ногам бриллиантовые браслеты, серьги, брошки. Северянин с упоением вспоминал в стихах это время:
Там были церквы златоглавы
и души хрупотней стекла.
Там жизнь моя в расвете славы.
В расцвете славы жизнь текла...
Да, это был зенит его славы. Громадный зал Городской Думы на вмещал всех желающих попасть на его поэзовечера. Тысячи поклонниц, цветы, шампанское, поездки по России. Это была настоящая, несколько даже актёрская слава. Георгий Иванов писал, что когда он бывал на вечерах «божественного Игоря» и смотрел на тысячную толпу («ведь не из одних же швеек она состояла!»), рычащую от восторга на разные его «грёзовые эксцессы» и «груди как дюшес», он думал, что в даре Северянина при всей его пустоте было и впрямь нечто божественное. Это признавали даже те, кто не любил Северянина. Ходасевич, в частности, писал: «Пусть порой не знает он чувства меры, пусть в его стихах встречаются ужаснейшие безвкусицы, - всё это покрывается неизменной и своеобразной музыкальностью, меткой образностью и всем тем, что делает Северянина непохожим ни на одного из современных поэтов».
В 1913 году вышла первая книга Северянина «Громокипящий кубок» с восторженным предисловием Сологуба, где он сравнивал появление нового поэта с приходом весны. Книга имела ошеломляющий успех, выдержала за два года 7 изданий. Северянин упивался славой:
Мои поэзы – в каждом доме,
На хуторе и в шалаше.
Я действен даже на пароме
И в каждой рядовой душе.
Я созерцаю – то из рубок,
То из вагона, то в лесу,
Как пьют “Громокипящий кубок”-
Животворящую росу!
Вслед начали выходить новые сборники: «Златолира», «Ананасы в шампанском», «Поэзоконтракт», «Виктория Регия», «Тост безответный», «Ручьи в лилиях», все они расхватывались мгновенно. Всего им было выпущено37 книг.

«Каждая строчка — пощёчина»
С 1913 года Северянин объявляет себя основоположником новой литературной школы — так называемого эгофутуризма. Впервые это направление — футуризм — возникло в Италии и принадлежало школе Маринетти. В отличие от него Северянин к слову «футуризм» добавил приставку «эго» и — в скобках — (вселенский). "Эго" по латыни — я. Я — главное слово стихов Северянина.
Иду — и с каждым шагом рьяней -
верста к версте, к звену — звено.
Кто я? Я — Игорь Северянин,
чьё имя смело, как вино!
Своё поэтическое кредо он высказывал в таких строчках:
Поэза эго моего
В этом мире только я — иного нет.
Излучаю сквозь себя огни планет.
Что мне мир, раз в этом мире нет меня?
Мир мне нужен, если миру нужен я.
Это была по сути пропаганда вселенского эгоизма. И ещё одно из программных его стихов:
Каждая строчка - пощечина. Голос мой - сплошь издевательство.
Рифмы слагаются в кукиши. Кажет язык ассонанс.
Я презираю вас пламенно, тусклые Ваши сиятельства,
И, презирая, рассчитываю на мировой резонанс!
Это звучало как скандальный вызов всем общепринятым приличиям. Немало было здесь, конечно, и от саморекламы. Вместе с Георгием Ивановым Северянин разрабатывает "программу эго-футуризма".
А спустя несколько месяцев в Москве появляется новое ответвление футуризма: кубо-футуризм, зачинателями которого выступили Хлебников, Маяковский, братья Бурлюки, Кручёных и другие.

Эти два течения иногда враждовали между собой, иногда объединялись. С футуризмом Маяковского Северянина объединяло эпатирующее озорство, вызов обывательскому благоразумию, литературное хулиганство, разводило же их различное отношение к культуре прошлого. Если кубисты призывали сбрасывать всё старое с корабля современности, в том числе и классику, то эгисты провозглашали поиски нового без отвергания старого. «Не Лермонтова с парохода, а Бурлюков — на Сахалин!» - воскликнул однажды Северянин, чьей душе всегда были ближе классические розы, пусть и усеянные шипами иронии.
Эгисты не принимали внешне вызывающего вида кубистов, их жёлтые кофты, красные фраки, разрисованные лица. В отличие от бессмыслиц неологизмов кубофутуризма, которые через самый звук слова стремились донести их смысл, Северянин ратовал за осмысленные неологизмы. Сам он известен как создатель многих словесных диковинок («и что ни слово — то сюрприз»). Это и лесофея, и гризёрка, и мечты-сюрпризёрки, морево, златополдень, чаруйная боль, и даже такие как Берлинство, Лондонство, Нью-Йорчество. Вообще Северянин был пристрастен к словесной иностранщине. Не знавший ни одного иностранного языка, он был зачарован мнимой красивостью и великосветскостью этой лексики: «Гарсон, сымпровизируй блестящий файв-о-клок!». Он наслаждался, вводя в поэзию новые тогда слова «синема», «авто». Его причудливая высокопарность порой походила на пародию:
О, Лилия ликеров, — о, Creme de Violette!
Я выпил грез фиалок фиалковый фиал...
Я приказал немедля подать кабриолет
И сел на сером клене в атласный интервал.
Друзья-соперники
Особое место в жизни Северянина занимала дружба с Маяковским.

Маяковский был его единственным соперником на эстраде. «То ли дружий враг, то ли вражий друг» - называл он его в стихах. Это была дружба-соперничество. Они читали лучшие свои вещи, стараясь перещеголять друг друга в аудиториях, состоящих сплошь из женщин. Маяковский не раз читал с эстрады поэзы Северянина. Кстати, «Ананасы в шампанском», ставшие символом пряной, экзотической лирики Северянина, своеобразной визитной карточкой поэта, - мало кто знает, что эту первую строчку ему подсказал Маяковский.
Однажды в Крыму на званом вечере Маяковский, подцепив на фруктовый нож кусочек ананаса и окунув его в шампанское, крикнет Северянину через стол: «Ананасы в шампанском! Удивительно вкусно!» Северянин подхватит: «удивительно вкусно, игристо, остро!» Так и родится знаменитое стихотворение.

Ананасы в шампанском! Ананасы в шампанском!
Удивительно вкусно, искристо и остро!
Весь я в чем-то норвежском! Весь я в чем-то испанском!
Вдохновляюсь порывно! И берусь за перо!
Казалось бы, глупость и пошлость несусветная. Но как же вкусно, аппетитно это написано!
В декабре 1913-го — январе 1914-го Северянин с Маяковским уезжают в совместное турне по югу России. Гастроли закончились ссорой поэтов: Северянин прервал турне и вернулся в Петербург. Что лежало в основе их разрыва: творческие разногласия? Зависть к успеху другого? Любовный треугольник? Как говорят французы, шерше ля фам.
Позже в автобиографической поэме «Колокола собора чувств» Северянин рассказал о Сонке — Софье Шамардиной, которой Северянин и Маяковский были одновременно увлечены.

Им на совместных поэтических вечерах потребовался «женский элемент». Победительно красивая, Шамардина идеально подошла для эстрады. Северянин придумал ей театральное имя: Эсклармонда Орлеанская. Читая стихотворение «В коляске Эсклармонды», специально написанное Северяниным для неё, «златоблондая» Сонка сводила с ума переполненные залы.

Я еду в среброспицной коляске Эсклармонды
По липовой аллее, упавшей на курорт,
И в солнышках зеленых лучат волособлонды
Зло-спецной Эсклармонды шаплетку-фетроторт:
Взорвись, как бомба, солнце! Порвитесь, пены блонды!
Нет больше океана, умчавшегося в ту,
Кто носит имя моря и солнца - Эсклармонды,
Кто на земле любезно мне заменил мечту!
Казалось бы, победа (любовная) оказалась на стороне Игоря Северянина, ведь это он привез девицу в Петербург, он поселил ее у себя на Средней Подьяческой, и она там слегла, занемогла, пришлось отвезти в лечебницу: якобы воспаление почек. Но оказалось намного прозаичнее: аборт от Маяковского. Северянин был в отчаяньи. Он адресует ей стихотворение «Никчемная»:
Ты меня совсем измучила может быть, сама не ведая;
Может быть, вполне сознательно; может быть, перестрадав;
Вижусь я с тобой урывками: разве вместе пообедаю
На глазах у всех и каждого, - и опять тоска-удав.
Слушай, чуждая мне ближница! обреченная далечница!
Оскорбить меня хотящая для немыслимых услад!
Подавив негодование, мне в тебя так просто хочется,
Как орлу - в лазорь сияльную, как теченью - в водопад!
Много лет спустя Софья Шамардина опишет эту историю в своих воспоминаниях «Футуристическая юность».

А Северянин посвятит ей любовный цикл:
Люби меня, как хочется любить,
Не мысля, не страшась, не рассуждая.
Будь мной, и мне позволь тобою быть.
Теперь зима. Но слышишь поступь мая?
Мелодию сирени? Краски птиц?
Люби меня, натуры не ломая!
Бери меня! Клони скорее ниц!
***
Не избегай того, что быть должно:
Бесцельный труд, напрасные усилья, --
Ведь ты моя, ведь так предрешено!
О, страсть! расправь пылающие крылья
И за собой в безбрежность нас взорли.
И скажем мы, в восторге от воскрылья:
"Да, мы с собой бороться не могли".
И ещё одну женщину отбил у Северянина Маяковский (видимо, компенсируя свой меньший успех на эстраде успехом на этом поприще): Валентину. Это было ещё до Сонки.
Валентина, сколько счастья! Валентина, сколько жути!
Сколько чары! Валентина, отчего же ты грустишь?
Это было на концерте в медицинском институте,
ты сидела в вестибюле за продажею афиш…
Валентина Гадзевич и впрямь служила в Петербургском мединституте, что на Архиерейской улице. Под псевдонимом Солнцева писала стихи. У нее был роман с Северяниным.
А потом... Купэ. Деревня. Много снега, леса. Святки.
Замороженные ночи и крещенская луна.
Домик. Нежно и уютно. Упоенье без оглядки.
Валентина безрассудна! Валентина влюблена!..
Он был увлечен и всерьез подумывал о супружестве. Холодным душем обдал его Маяковский: эта девица, признался он, не только завлекала его, но и раздевалась перед ним догола. «Я верил её каждому слову, — вспоминал на закате дней Северянин, - и потому порвал с нею. Володя был верным другом...» Зла он на Маяковского не держал:
Ты помнишь нашу Валентину,
что чуть не стала лишь моей?!.
Благодаря тебе я вынул
из сердца «девушку из фей»...
И, наконец, ты помнишь Сонку,
почти мою, совсем твою,
такую шалую девчонку,
такую нежную змею?..

«Моя тринадцатая»
В 1915 году скончался старый муж Златы — первой любви Северянина. Женщина, у которой росла дочь поэта, ждала, что теперь-то Северянин женится на ней, теперь он благополучен, известен, у него появились деньги. Но увы, поэта цепко держала при себе опытная соблазнительница актриса Балькис Савская, в миру Мария Волнянская (Домбровская).

Мария Домбровская на сцене в одной из своих ролей.
Представляя свою пассию, Северянин говорил: «Прошу любить и жаловать. Моя тринадцатая». Однако сколько их было на самом деле — по его словам, «учёту не поддаётся». Он давно уже потерял счёт своим победам над женщинами. На обложках своих книг Северянин печатал часы приёма поклонниц. И они приходили, одна за другой, а иногда по нескольку сразу, завороженные его строчками, как змеи песней факира.
Северянин воспевал в стихах «грёзовое царство», некую волшебную страну Миррелию (названную так по имени Мирры Лохвицкой — рано умершей декадентской поэтессы, кумира Северянина).
Я — царь страны несуществующей,
Страны, где имени мне нет...
Душой, созвездия колдующей,
Витаю я среди планет.
Я, интуит с душой мимозовой,
Постиг бессмертия процесс.
В моей стране есть терем грезовый
Для намагниченных принцесс.
***
Опять себя вообрази
Такой, какой всегда была ты,
И в дни, когда блестят булаты,
Ищи цветочные стези.
Вообрази опять себя
Эстеткой, а не грубой бабой,
Жизнь, ставшую болотной жабой,
В мечтах, как фею, голубя.
Пусть Мир - вперед, а ты - всё вспять:
Не поддавайся прозным бредням...
Цветком поэзии последним
Вообрази себя опять!..
Корней Чуковский писал тогда о Северянине: «Его стих, остроумный, кокетливо-пикантный, жеманный, жантильный, весь как бы пропитан воздухом бара, кабаре, скетинг-ринга... И всё же, несмотря ни на что, стих его волнующе-сладостен: Бог дал ему певучую силу, которая, словно река, подхватывает тебя и несёт... богатый музыкально-лирический дар. У него словно не сердце, а флейта, словно не кровь, а шампанское!»
Кстати, о шампанском. Надо сказать, что хотя называть себя гением Северянин никогда не стеснялся, но в быту он был очень прост. Павел Антокольский был потрясён, когда Северянин в его присутствии заказал в ресторане не ананасы в шампанском, не мороженое из сирени, а штоф водки и солёный огурец. Он предпочитал еду простую и сытную: картошку, рыбу, кислую капусту, но ему, куда бы он ни приезжал, приносили, дарили и ставили перед ним на стол эти злосчастные ананасы в шампанском. «Как? Опять ананасы?!» - с разочарованием восклицал он и делал вид, будто ему нанесли жестокое оскорбление.

«Я поведу вас на Берлин!»
Когда началась Первая мировая война, Северянин поначалу даже в трагической теме войны оставался во власти своей эстетской программы: «Война войной, а розы — розами». В стихотворении «Ещё не значит быть изменником...» он защищает права обывателей, завсегдатаем Невского, на непричастность к военным событиям, на право жить своими личными интересами.
Пройтиться по Морской с шатенками,
свивать венки из хризантем,
по-прежнему пить кофе с пенками
и кушать за десертом крем.
Он не хотел расставаться с этой жизнью, к которой привык. Маяковский презрительно назвал тогда «маркитанткой русской поэзии» (сам, впрочем, воевать категорически не желавший: «я лучше в баре проституткам буду продавать ананасовую воду»). Северянин утверждал своё право быть вне политики, быть просто поэтом:
Я — соловей: я без тенденций
И без особой глубины...
Но будь то старцы иль младенцы,—
Поймут меня, певца весны.
Я — соловей, и, кроме песен,
Нет пользы от меня иной.
Я так бессмысленно чудесен,
Что Смысл склонился предо мной!
Но в то же время, как бы спохватившись, утешал общество такой броской строфой:
Друзья! Но если день убийственный
падёт последний исполин,
тогда, ваш нежный, ваш единственный,
я поведу вас на Берлин!
Эти строки воспринимаются особенно комично, если знать такой факт биографии Северянина: когда в юности он был призван для службы в армии, он оказался настолько непригодным для неё, что стал буквально посмешищем полка. Этот принц фиалок не поддавался никакой муштровке. Фельтфебель из сил выбивался, но никак не мог его заставить поворачиваться по команде направо, так как Северянин постоянно путал право и лево. В конце концов его определили в санитары на самую чёрную работу — мытьё полов и туалетов. Там и прошла вся его служба. И вот теперь в канун Первой мировой Северянин горделиво заявлял: «Я поведу вас на Берлин!», видимо, считая, что для похода на Берлин у него достаточная военная подготовка.
Мы победим! Не я вот лично -
в стихах великий — в битвах мал.
Но если надо — что ж, отлично, -
шампанского! Коня! Кинжал!
Позже, когда Северянин понял весь трагизм той эпохи, атмосфера которой напоминала Рим эпохи упадка, он выступил в роли обличителя времени. И это будет уже совсем другой Северянин:
К началу войны европейской
Изысканно тонкий разврат,
От спальни царей до лакейской
Достиг небывалых громад.
Как будто Содом и Гоморра
Воскресли, приняв новый вид:
Повальное пьянство. Лень. Ссора.
Зарезан. Повешен. Убит.
Народ, угнетаемый дрянью,
Безмозглой, бездарной, слепой.
Усвоил повадку баранью:
Стал глупый, упрямый, тупой.
А царь, алкоголик безвольный,
Уселся на троне втроем:
С царицею самодовольной
И родственным ей мужиком.
Был образ правленья беспутен,-
Угрозный пример для корон:
Бесчинствовал пьяный Распутин,
Усевшись с ногами на трон.
Упадочные модернисты
Писали ослиным хвостом
Пейзажи, и лишь букинисты
Имели Тургенева том.
Свирепствовали декаденты
В поэзии, точно чума,
Дарили такие моменты,
Что люди сбегали с ума.
Уродливым кактусом роза
Сменилась для моды. Коза
К любви призывалась. И поза
Назойливо лезла в глаза.
Но этого было все мало,
И сытый желудок хотел
Вакхического карнавала
Разнузданных в похоти тел.
И люди пустились в эксцессы,
Какие не снились скотам.
Изнервленные поэтессы
Кривлялись юродиво там.
Живые и сытые трупы,
Без помыслов и без идей,
Ушли в черепашие супы,-
О, люди без сути людей!
Им стало филе из лягушки
Дороже пшеницы и ржи,
А яды, наркозы и пушки -
Нужнее, чем лес и стрижи.
Как следствие чуши и вздора -
Неистово вверглись в войну.
Воскресли Содом и Гоморра,
Покаранные в старину.
(Из «Поэзы упадка»)
Он не принял Октября, его жестокости и насилия, осуждал братоубийственную гражданскую войну, подобно Цветаевой и Волошину, ставя ценность человеческой жизни выше политических интересов как белых, так и красных.
Ложный свет увлекает в темень.
Муза распята на кресте.
Я ни с этими и ни с теми,
Потому что как эти — те!
Сегодня "красные", а завтра "белые" -
ах, не материи, ах, не цветы! -
матрешки гнусные и озверелые,
мне надоевшие до тошноты...
Идеи вздорные, мечты напрасные,
что в их теориях — путь к Божеству?
Сегодня белые, а завтра красные , -
они бесцветные по существу.
Что делать в этих декорациях соловью, который привык обитать "нигде"? "Что делать в разбойное время поэту, поэту, чья лира нежна?" Куда податься - "мы так неуместны, мы так невпопадны среди озверелых людей..."
Король поэтов
В феврале 1918 года известный импресарио Ф. Долидзе взялся организовать в Москве в Политехническом музее выборы Короля русских поэтов. Всеобщим прямым, равным и тайным голосованием публика избирает "королем" Игоря Северянина — самого модного поэта дореволюционной России. Из ближайшего похоронного бюро был доставлен огромный миртовый венок, который был водружён на победителя. В этом свисающем до колен венке он читал стихи, упоённый своей победой.
Отныне плащ мой фиолетов,
Берэта бархат в серебре:
Я избран королем поэтов
На зависть нудной мошкаре.
В душе — порывистых приветов
Неисчислимое число.
Я избран королем поэтов —
Да будет подданным светло!
Второе место (с перевесом в 30-40 голосов) занял Маяковский, третье — Бальмонт. На вечере присутствовал и Александр Блок, но никакого титула удостоен не был.
Маяковский, раздосадованный тем, что он не первый, отшвырнул венок, который тоже пытались на него водрузить как на вице-короля и вышел на эстраду с криком: "Долой королей - они нынче не в моде! Не такое время, чтобы игрушками заниматься!"

Возмущённые поклонники Северянина схватились в жарком споре с поклонниками Маяковского. Дело чуть не дошло до драки. И кто бы мог тогда подумать, что эта головокружительная слава Северянина доживала последние дни. К середине 20-х годов он оказался почти забыт, а в 30-х-40-х уже мало кто помнил его имя.
Эмигрант поневоле
В 1918 году Северянин привозит свою больную мать в приморский посёлок Тойла на берегу Финского залива, где с 1912 года регулярно проводил дачные сезоны.

В марте 1919-го Эстония была оккупирована немецкими войсками и Северянин даже на несколько дней попал «в плен», а в феврале 1929-го после заключения Тартусского мира, утвердившего суверенитет Эстонии, неожиданно для себя стал гражданином буржуазной республики. Так и остался поэт за кордоном – захлопнулась дверка мышеловки.
Прощайте, русские уловки:
Въезжаем в чуждую страну...
Бежать нельзя: вокруг винтовки.
Мир заключен, и мы в плену.
Стремясь отмежеваться от эмигрантской среды, поэт писал:
Нет, я не беженец и я не эмигрант -
тебе, родительница, русский мой талант,
и вся душа моя, вся мысль моя верна
тебе, на жизнь меня обрёкшая страна!
Северянин очень страдал из-за невозможности вернуться на Родину.
Мой взор мечтанья оросили:
вновь - там, за башнями Кремля -
неподражаемой России
незаменимая земля...
Но он не знал ещё, что жена горячо обожаемого им поэта Сологуба Анастасия Чеботаревская, которую чиновники не выпускали из России, кинулась в отчаянии с моста в Неву. Не предвидел он и участи Мандельштама, Клюева, Бориса Корнилова, Павла Васильева, хотя уже был казнен Гумилев. Кто знает, какой удел был бы уготован Северянину, вернись он тогда. Скорее всего, пополнил бы список затравленных. Северянинские стихи не вписывались в советскую литературу предвоенных лет. Думается, его участь оказалась не самой худшей для поэта.
Вероятно, тогда ещё можно было вернуться в Петроград, но состояние матери ухудшилось, он не мог её оставить. В 1921 году она умерла. И в том же году Северянин знакомится с дочкой тойлаского плотника очаровательной Фелиссой Круут и женится на ней.
Это она
Это была изящная блондинка в стиле Ибсена, тонкая, стройная. Она писала стихи на русском и эстонском. Северянин был покорён. Он давно мечтал о такой.

Если вы встретите женщину тихую,
Точно идущую в шорохах сна,
С сердцем простым и с душою великою,
Знайте, что это - она!
Если вы встретите женщину чудную,
Женщину, чуткую, точно струна,
Чисто живущую жизнь свою трудную,
Знайте, что это - она!
Если увидите вы под запискою
Имя прекрасней, чем жизнь и весна,
Знайте, что женщина эта - мне близкая,
Знайте, что это — она!
Ей он посвятил около двухсот стихотворений, в том числе "Поэзу голубого вечера" и "Поэзу счастья".
Ты совсем не похожа на женщин других:
У тебя в меру длинные платья,
У тебя выразительный, сдержанный смех
И выскальзыванье из объятья.
А в глазах оздоравливающих твоих —
Ветер с моря и поле ржаное.
Ты совсем не похожа на женщин других,
Почему мне и стала женою.

Они обвенчались. С Фелиссой поэт прожил 16 лет и это был единственный законный брак в его жизни.

В 1922 году родился сын, которого поэт назвал Вакхом (сумел убедить батюшку, что есть в святцах такое имя). Вакх проживёт долгую жизнь (1922-1991) за границей, уехав в Швецию в 1944 году.
Продолжение: http://ww<
|
|
Процитировано 8 раз
Понравилось: 4 пользователям
Слепого века строгий поводырь, или Борис Чичибабин как зеркало советской перестройки |
Начало здесь
Продолжение на ЖЖ здесь
продолжение

«Бессмыслен русский национализм»
Борису Чичибабину было в высшей степени свойственно качество, которое составляет уникальную особенность русской культуры — всякую чужую боль он ощущал как свою собственную. А через собственную боль шёл к ощущению боли гражданской, общечеловеческой. Чувство личной вины и ответственности — родовые качества поэзии Чичибабина.
К ритуальным певцам»дружбы народов» он никогда не принадлежал, но фактически эта тема в её истинно человеческом, а не казённом значении всё время звучит в его стихах.
И тучи кровью моросили,
когда погибло пол-России
в братоубийственной войне,
и эта кровь всегда на мне.
...Вся-то жизнь наша в смуте и страхе
и, военным железом звеня,
не в Абхазии, так в Карабахе
каждый день убивают меня.
Он посвящает псалмы Армении, где пишет о её геноциде: «Армения, горе твоё от ума, ты — боли еврейской двойник». В стихах «Судакские элегии» и «Крымские прогулки» поэт, восхищаясь крымской природой, не может не думать о народе, некогда населявшем эти земли и выселенном с них нашими властями.
Шел, где паслись отары,
желтую пыль топтал,
«Где ж вы,— кричал,— татары?»
Нет никаких татар.
Родина оптом, так сказать,
отнята и подарена,—
и на земле татарской
ни одного татарина.
Ещё в 1948 году в «Вятлаге», в разгар сталинской политики травли народов он пишет стихотворение «Еврейскому народу»:
Не родись я Русью, не зовись я Борькой,
Не водись я с грустью, золотой и горькой,
Не ночуй в канавах, счастьем обуянный,
Не войди я навек частью безымянной
В русские трясины, в пажити и реки,
Я б хотел быть сыном матери-еврейки.
Такие откровения повергали в ярость чиновников от литературы. А Чичибабин, словно дразня их, писал:
Солнцу ли тучей затмиться, добрея,
Ветру ли дунуть –
Кем бы мы были, когда б не евреи –
Страшно подумать.
Порой в его голосе звучит отчаяние:
Всё погромней, всё пещерней
время крови, время черни...
Чичибабин яростно ненавидел антисемитов. Эта тема звучит во многих его лирических стихах, адресованных жене Лиле Карась, которая была еврейкой.
Ты древней расы, я из рода россов,
И хоть не мы историю творим,
Стыжусь себя перед лицом твоим.
Не спорь. Молчи. Не задавай вопросов.
Мне стыд и боль раскраивают рот,
Когда я вспомню всё, чем мой народ
Обидел твой...

Чичибабин пытается спасти честь народа русского. Его поэзия неотделима от совести, чувства вины. Это давняя традиция русской культуры: всегда быть на стороне обиженных, униженных, тех, кого травят, кому плохо. "Все поэты – жиды", – пишет Цветаева. "Кто в наши дни мечтатель и философ – тот иудей", – вторит ей Чичибабин.
Я самый иудейский меж вами иудей.
Мне только бы по-детски молиться за людей.
Для Чичибабина национализм – ругательное слово. Он не может быть спокоен, пока этот позор России лежит пятном на ней. Он любит Родину, но прежде всего служит совести, как родине нравственной.
От крови и от слез я слышу и не внемлю:
Их столько пролилось в отеческую землю,
Что с душ не ототрёт уже ни рай, ни ад их –
А нищий патриот всё ищет виноватых.
Вишь, умник да еврей – губители России,
И алчут их кровей погромные витии.
Вот стихотворение, написанное им в 69-ом, а как актуально!
Бессмыслен русский национализм,
Но крепко вяжет кровью человечьей.
Неужто мало трупов и увечий,
Что этим делом снова занялись?
Ты слышишь вопль напыщенно-зловещий?
Пророк-погромщик, осиянно-лыс,
Орёт в статьях, как будто бы на вече,
И тучами сподвижники нашлись.
"Всех бед – кричат – виновники евреи,
Народа нет корыстней и хитрее –
Доколь терпеть иванову горбу?.."
О как бы край мой засиял в семье народов!
Да чёрт нагнал национал-мордоворотов...
Снобы считают, что политизированные стихи быстро потеряют свою актуальность и устареют, надо де писать для вечности. Но это зависит от таланта их автора. Разве устареют когда-нибудь, перестанут трогать душу вот эти стихи Чичибабина, написанные в 1959-ом?
Однако радоваться рано -
и пусть орет иной оракул,
что не болеть зажившим ранам,
что не вернуться злым оравам,
что труп врага уже не знамя,
что я рискую быть отсталым,
пусть он орет,- а я-то знаю:
не умер Сталин.
Как будто дело все в убитых,
в безвестно канувших на Север -
а разве веку не в убыток
то зло, что он в сердцах посеял?
Пока есть бедность и богатство,
пока мы лгать не перестанем
и не отучимся бояться,-
не умер Сталин.

Пока во лжи неукротимы
сидят холеные, как ханы,
антисемитские кретины
и государственные хамы,
покуда взяточник заносчив
и волокитчик беспечален,
пока добычи ждет доносчик,-
не умер Сталин.
И не по старой ли привычке
невежды стали наготове -
навешать всяческие лычки
на свежее и молодое?
У славы путь неодинаков.
Пока на радость сытым стаям
подонки травят Пастернаков,-
не умер Сталин.

А в нас самих, труслив и хищен,
не дух ли сталинский таится,
когда мы истины не ищем,
а только нового боимся?
Я на неправду чертом ринусь,
не уступлю в бою со старым,
но как тут быть, когда внутри нас
не умер Сталин?
Клянусь на знамени веселом
сражаться праведно и честно,
что будет путь мой крут и солон,
пока исчадье не исчезло,
что не сверну, и не покаюсь,
и не скажусь в бою усталым,
пока дышу я и покамест
не умер Сталин!

Стихи эти были написаны уже на исходе оттепели, когда вновь завинчивались все гайки, и напечатаны быть тогда не могли. Лишь в 1987-ом Чичибабин решился послать их в «Правду». Оттуда пришёл отказ. Друг поэта отнёс эти стихи А. Межирову. Тот, прочитав, тут же позвонил Чичибабину и сказал: «Поздравляю Вас с бессмертием».
«Кому ж быть в ответе за век свой?»
«Позорный век позорного гражданства», - выносит он свой приговор веку. При этом не щадит и себя:
Весь мир захлюпав грязью наших душ,
мы — город Глупов, свет нетленных душ.
И я такой же праведник в родню, -
холопьей кожи сроду не сменю.
Как ненавистна, как немудрена
моя отчизна - проза Щедрина.

"Русофобия" да и только! Однако - лишь в глазах квасных лапотных патриотов. Таких беспощадно-патриотических стихотворений о России (в которых сама беспощадность и есть наивысшая мера патриотизма и сыновней пронзительной жалости к матери-родине) у Чичибабина немало.
Под старость не переродишься,
я сам себя не сочинил:
мне ближе Герцен и Радищев,
чем Петр Аркадьевич иным.
Он отказывается "славить" отчизну, неблагодарную к любящим ее пасынкам:

Тебе, моя Русь, не Богу, не зверю -
молиться молюсь, а верить - не верю.
Я сын твой, я сон твоего бездорожья,
я сызмала Разину струги смолил.
Россия русалочья, Русь скоморошья,
почто не добра еси к чадам своим?
От плахи до плахи по бунтам, по гульбам
задор пропивала, порядок кляла,-
и кто из достойных тобой не погублен,
о гулкие кручи ломая крыла.
Нет меры жестокости и бескорыстью,
и зря о твоем же добре лепетал
дождем и ветвями, губами и кистью
влюбленно и злыдно еврей Левитан.
Скучая трудом, лютовала во блуде,
шептала арапу: кровцой полечи.
Уж как тебя славили добрые люди
бахвалы, опричники и палачи.
А я тебя славить не буду вовеки,
под горло подступит - и то не смогу.
Мне кровь заливает морозные веки.
Я Пушкина вижу на жженом снегу.
Наточен топор, и наставлена плаха.
Не мой ли, не мой ли приходит черед?
Но нет во мне грусти и нет во мне страха.
Прими, моя Русь, от сыновних щедрот.
Я вмерз в твою шкуру дыханьем и сердцем,
и мне в этой жизни не будет защит,
и я не уйду в заграницы, как Герцен,
судьба Аввакумова в лоб мой стучит.
Он имел право на эти жестокие слова. Любовь давала ему это право. Свет для него сошелся узким клином именно на России. И, переживая "отрыв" близких людей ("не вправе клясть отчайный выезд, несу, как крест, друзей отъезд"), писал:
Не веря кровному завету,
что так нельзя,
ушли бродить по белу свету
мои друзья.
Пусть будут счастливы, по мне, хоть
в любой дали.
Но всем живым нельзя уехать
с живой земли.

Ещё в 1963 году, подводя итог своим горестным недоумениям, Чичибабин задавался вопросом:
Немея от нынешних бедствий
и в бегстве от будущих битв,
кому ж быть в ответе за век свой?
А надо ж кому-нибудь быть...
А в 1979-ом, в самый разгар брежневского застоя, призывал к решительным действиям:
Покуда есть охота,
покамест есть друзья,
давайте делать что-то,
иначе жить нельзя.
Ни смысла и ни лада,
и дни, как решето, -
но что-то делать надо,
хоть неизвестно что.
Ведь срок летуч и краток,
Вся жизнь - в одной горсти,
так надобно ж в порядок
хоть душу привести.
Давайте что-то делать,
чтоб духу не пропасть,
чтоб не глумилась челядь
и не кичилась власть.
Никто из нас не рыцарь,
Не праведник челом.
Но можно ли мириться
с неправдою и злом?
Давайте делать что-то
и - черт нас побери-
поставим Дон-Кихота
уму в поводыри!
Пусть наша плоть недужна
и безыcходна тьма,
но что-то делать нужно,
чтоб не сойти с ума.
Чичибабин не вписывался ни в какие стереотипы. С одной стороны, космополит, гражданин мира, писавший: «я — человек, вот всё моё гражданство», с другой — патриот, не представляющий себе жизни без России. Поэзия Чичибабина — живое доказательство, что гражданин мира может любить свою родину страстно и нежно, что патриотизм связан с чужеедством не по природе своей, а по подсознательному желанию найти предмет ненависти и излить на него свою злобу. В Чичибабине злобы нет. Есть вспыльчивость, горячность, а злобы нет. Слишком много любви, и любовь гасит вспышки гнева.

Она — в наших взорах, она — в наших нервах,
она нам родного родней,—
и нет у нее ни последних, ни первых,
и все мы равны перед ней.
Измерь ее бездны рассудком и сердцем,
пред нею душой не криви.
Мы с детства чужие князьям и пришельцам,
юродивость — в нашей крови.
Дожди и деревья в мой череп стучатся,
крещенская стужа строга,
а летом шумят воробьиные царства
и пахнут веками стога.
Я слушаю зори, подобные чуду,
я трогаю ветки в бору,
а клясться не стану и спорить не буду,
затем что я скоро умру.
Ты знаешь, как сердцу погромно и душно,
какая в нем ночь запеклась,
и мне освежить его родиной нужно,
чтоб счастий чужих не проклясть.
«Стою за правду в меру сил...»
В 1973 году Чичибабину исполнилось 50. Харьковская писательская организация устроила ему юбилейный вечер. Не умеющий лебезить перед сильными мира сего, не желающий приспосабливаться, верный своим принципам, поэт читал на вечере дорогие и важные для него стихи, которые не могли поравиться властям: «Отъезжающим», «С Украиной в крови я живу на земле Украины» и, наконец, «Памяти Твардовского», которое произвело впечатление разорвавшейся бомбы. Чичибабин открыто осмелился в нём сказать о тех, кто загнал Твардовского в могилу, изнав его из «Нового мира». Зал оцепенел. В гробовой тишине звучали гневные, одержимые, пророческие слова:

Иной венец, иную честь,
Твардовский, сам себе избрал ты,
затем, чтоб нам хоть слово правды
по-русски выпало прочесть.
Ты слег, о чуде не моля,
за все свершенное в ответе...
О, есть ли где-нибудь на свете
Россия - родина моя?
И если жив еще народ,
то почему его не слышно
и почему во лжи облыжной
молчит, дерьма набравши в рот?
Паника в верхах разыгралась незамедлительно. Эту апелляцию к массам, эту правду об оболваненном народе правители безнаказанной оставить не могли. Собрали экстерное заседание правления СП и Чичибабин был исключён из их рядов. Он огрызнулся:
Но останется после смерти
от поэта - живой огонь,
от чиновника, уж поверьте,
с позволенья сказать, лишь вонь.
***
Опять я в нехристях, опять
меня склоняют на собраньях,
а я и так в летах неранних,
труд лишний под меня копать.
Один в нужде скорблю душой,
молчу и с этими, и с теми, -
уж я-то при любой системе
останусь лишний и чужой.
Дай Бог свое прожить без фальши,
мой срок без малого истек,
и вдаль я с вами не ездок:
мой жданый путь намного дальше.
Совесть и отвагу Чичибабин считал таким же непреложным качеством писателя, как талант.
Стою за правду в меру сил,
да не падёт пред ложью ниц она.
Как одиноко на Руси
без Галича и Солженицина. -
писал он, когда власти выслали из страны своих пророков. Чичибабин не прощал нравственных компромиссов, моральной нечистоплотности. Мог врезать наотмашь:
Я грех свячу тоской.
Мне жалко негодяев -
как Алексей Толстой
и Валентин Катаев.
У него много стихов, адресованных писателям: Пушкину, Лермонтову, Пастернаку, Волошину, Ахматовой, Цветаевой, Паустовскому, Достоевскому, Грину, Маршаку, Галичу. Причём взгляд Чичибабина на поэтов был нередко далёк от традиционного. Вот, например, какие ошарашивающие многих стихи посвятил он всеобщему кумиру Сергею Есенину:

Ты нам во славу и в позор,
Сергей Есенин.
Не по добру твой грустен взор
в пиру осеннем.
Ты подменил простор земной
родной халупой;
не то беда, что ты хмельной,
а то, что глупый.
Ты, как слепой, смотрел на свет
и не со зла ведь
хотел бы славить, что не след
поэту славить.
И, всем заветам вопреки,
как соль на раны,
ты нес беду не в кабаки,
а в рестораны.
Смотря с тоскою на фиал —
еще б налили,—
с какой ты швалью пропивал
ключи Марии.
За стол посаженный плебей —
и ноги на стол,—
и баб-то ты любил слабей,
чем славой хвастал.
Что слаще лбу, что солоней —
венец ли, плаха ль?
О, ресторанный соловей,
вселенский хахаль!
Ты буйством сердца полыхал,
а не мечтами,
для тех, кто сроду не слыхал
о Мандельштаме.
Но был по времени высок,
и я не Каин —
в твой позолоченный висок
не шваркну камень.
Хоть был и неуч, и позер,
сильней, чем ценим,
ты нам и в славу, и в позор,
Сергей Есенин.
Борис Чичибабин как зеркало советской перестройки
Чичибабин был одним из тех немногих людей в стране, кто не поддавался никаким стадным веяниям. Началась перестройка. Рушились старые святыни. Напористо прокладывали себе дорогу идеи рынка, демократии, религиозного возрождения. Казалось бы, сама логика событий подсказывала поэту: закрепись на позициях, которые уже занял в преддверии перестройки, приветствуй наступление свободы и духовности. Но благостная утопия рыночного рая не застили глаза Чичибабину. В нём вновь проснулся поперечник, взыграла бунтарская кровь, во весь голос заговорило чувство кровного родства с малыми мира сего, которых переехал рынок.
Чичибабин всегда ощущал себя плотью от плоти народа, которого во все времена не учитывала власть.
Всю жизнь страшась кровопролитий,
крещен тюрьмою да сумой,
я связан тысячами нитей
с простонародною судьбой.
...Я был одно с народом русским.
Я с ним ютился по баракам,
леса валил, подсолнух лускал,
каналы рыл и правду брякал.
Это была не демагогия, зачастую звучавшая в стихах поэтов, говоривших от имени народа и при этом обжиравшихся на банкетах и бывших «страшно далеко от него». Чичибабин снова пошёл против течения: предав анафеме власть номенклатуры, он тут же одним из первых протрубил о новой беде, угрожавшей всем нам. Вот, например, его сонет «Всё не так»:
С тех пор как мы от царства отказались,
а до свободы разум не дорос,
взамен мечты царят корысть и зависть,
и воздух ждет кровопролитных гроз.
Уже убийству есть цена и спрос.
Не духу мы, а брюху обязались
и в нищете тоскуем, обазарясь,
что ни одной надежды не сбылось.
Какой же строй мы будущему прочим,
где ходу нет крестьянам и рабочим,
где правит вор, чему барышник рад?
Но, коль уж чтец страстей новозаветных
на стороне богатых, а не бедных,
тогда какой он к черту демократ?
Новый рыночный дух для него — удушье. Торжество пошлости, корысти, коррупции его ужасает.
Кто - в панике, кто - в ярости,
а главная беда,
что были мы товарищи,
а стали - господа.
Ох, господа и дамы!
Рассыпался наш дом -
Бог весть теперь куда мы
несемся и бредем.
Чичибабин не верил в перестроечную свободу. «У нас всех — ложное понимание свободы, - говорил он. - Ни одно государство не может быть свободным, если люди, живущие в нём, рабы». Он говорил, что в застойные годы был более свободен, чем сейчас, свободен той внутренней свободой, которая может быть присуща человеку даже в тюремной камере. И эту свободу у него никто не мог отнять — ни власти, ни партия, ни КГБ. Теперь он опять был несвободен. Он не может спокойно смотреть, как гибнет культура, как одна порочная мораль сменяется другой, всё подвергается уничтожению и осмеянию. Превыше всего ставится материальное, всё, что можно купить и продать, люди живут в суете, в грехе, в грязи, забыв о главном.
Конечно, и раньше были воры, убийцы и развратники. Но разница заключается в том, что преступник знал, что он преступник. Было чувство греха, понимания греха. Теперь же безнравственные люди в почёте, им завидуют, потому что они более других преуспели в материальной сфере.
Когда-то Блока убило отсутствие воздуха. Он физически это ощущал и не мог писать стихи. То же происходило теперь с нашей культурой. Концепт убивает культуру. Пришедшая к нам буржуазность - концептуальна. Отсюда чичибабинское отрицание буржуазности:

Над нами, нищими у храма,
как от зачумленных отпрянув,
смеется сытая реклама
с глумящихся телеэкранов.
Еще не спала чешуя с нас,
но, всем соблазнам вопреки,
поэзия и буржуазность -
принципиальные враги.
Как мученики перед казнью,
нагие, как сама душа,
стихи обходят с неприязнью
барышника и торгаша.
Корыстолюбец небу гадок.
Гори, сияй, моя звезда!
В России бедных и богатых
я с бедняками навсегда.
Отсюда - неприятие чуждого, навязанного американизма, заимствованных терминов и отношений между людьми. И - какая-то усталость, озабоченность в последние годы - от бессилия, как ему казалось, невозможности противостоять всему этому:
Зачем мне дан был дар певучий
и светопламенные муки,
когда повсюду мрак паучий
и музы, мрущие, как мухи?
Душе не свойственно теряться,
когда на ней судьбы чекан.
В России бунта и тиранства
я дух склонял к бунтовщикам.
О, дух словесности российской,
ужель навеки отмерцал ты?
А ты погнись-ка, попросись-ка:
авось уважут коммерсанты.
Тому ж, кто с детства пишет вирши
и для кого они бесценны,
ох как не впрок все ваши биржи,
и брокеры, и бизнесмены!
Но пусть вся жизнь одни утраты —
душе житьем не налякаться,
с меня ж — теши хоть до нутра ты —
не вытешешь американца!
Да знаю, знаю, что не выйти
нам из процесса мирового,
но так и хочется завыти,
сглотнувши матерное слово.
Ему была омерзительна не столько буржуазность, сколько культ буржуазности, ее зацикленность на брюхе, на разврате, ее жестокость и равнодушие к прочим смертным, не сумевшим или не успевшим украсть жар-птицу. Он не столько понял, сколько почуял еще в девяносто первом, что современная русская буржуазность - антихудожественна, бездуховна, способна поглотить все вокруг, пожрать самое себя, культуру, страну, наконец. Чичибабин об этом говорил - его не слышали. Кричал - не верили. Он не себя выражал, а говорил за всех нас, бессловесных:

Смелым словом звеня
в стихотворном свободном полёте,
это вы из меня
о своём наболевшем орёте.
Когда-то горькую правду о нашем времени нам говорили Галич, Высоцкий, Окуджава. В 90-е первым её провозгласил Чичибабин. Он не убоялся власть имущих, с точки зрения которых его стихи, можно сказать, стихи гражданского неповиновения, по-прежнему являлись «антисоветской агитацией», как и в 70-е, и в 80-е годы. Немногие тогда понимали, что удалось понять Чичибабину ещё в 91-ом, когда страна была в эйфории от Ельцина, когда огромные 100-тысячные толпы на площадях скандировали его имя. Даже лучшие и честнейшие, гордо именующие себя демократами. Чичибабин адресует стихотворение одной из них, поэтессе Лине Костенко, пытаясь открыть ей глаза на истинное положение вещей:

Лина, вы горимостью святы —
знать, стихии дочь Вы,
чьи стихи — как ливень с высоты
на сухие почвы.
Ливень тот — всеслышимая часть
духотворной воли.
Вот и дивно мне, что Вы за власть —
ту, что вор на воре.
Не добро поэту защищать,
кто в чинах да в сане,—
Вы от них же, ставящих печать,
претерпели сами.
Ведь народ и пастыри — совсем
не одно и то же:
гляньте, кто в начальниках засел —
да все те же рожи!
Глядя на происходящее, он не может удержаться от сарказма:
Уж так, Россия, велика ты,
что не одну сгубила рать,—
нам легче влезть на баррикады,
чем в доме чуточку прибрать.
Чичибабина трудно обвинить в том, что он защитник империи — он сам приложил руку к её разрушению. Но, видит Бог, не такого разрушения он хотел. Он хотел преображения, чтобы новая жизнь выросла из ростков того лучшего, что было в нашей прежней жизни. А мы опять всё разрушили и пытаемся строить на пустом месте самую бесчеловечную, самую бандитскую разновидность буржуазного государства.
Разбушевавшиеся национальные страсти разносят на куски «Союз нерушимый». Люди спорят, рассуждают о том, хорошо это или плохо, нужно или не нужно. Чичибабин не рассуждает, он кричит от боли. Украина, где он родился и жил, отделилась от России. Страна раскололась, и трещина прошла по его сердцу. И, как плач Иеремии на развалинах Иерусалима — его «Плач по утраченной родине»:
Я плачу в мире не о той,
которую не зря
назвали, споря с немотой,
империею зла,
но о другой, стовековой,
чей звон в душе снежист,
всегда грядущей, за кого
мы отдавали жизнь...
С мороза душу в адский жар
впихнули голышом:
я с родины не уезжал -
за что ж ее лишен?..
И, чьи мы дочки и сыны
во тьме глухих годин,
того народа, той страны
не стало в миг один.
При нас космический костер
беспомощно потух.
Мы просвистали свой простор,
проматерили дух.
К нам обернулась бездной высь,
и меркнет Божий свет...
Мы в той отчизне родились,
которой больше нет.
Стихи вызвали настоящий шквал. Чичибабин был обвинён в имперских амбициях, в желании реформировать прошлое. И никто из его обличителей не услышал, что стихи, собственно, о том, что человек, поэт, жив ещё, а времени его уже нет, и плач этот по утраченному времени, а не по государственной территории.
Чичибабина судили с высоты нового мировоззрения. Называли «красным». Но он не красный и не белый. Он — человечный. Он не вмещается в прокрустово ложе любой идеологии.
Во всю сегодняшнюю жуть,
в пустыни городские
и днем шепчу: Россия, будь –
и ночью: будь, Россия.
Еще печаль во мне свежа
и с болью не расстаться,
что выбыл я, не уезжав,
из твоего гражданства.
Когда все сущее нищо
и дни пустым-пустые,
не знаю, есть ли ты еще,
отечество, Россия.
Почто ж валяешь дурака,
не веришь в прорицанья,
чтоб твоего издалека
не взвиделось лица мне?
И днем с огнем их не достать,
повывелись давно в нас
твоя «особенная стать»,
хваленая духовность.
Во трубы ратные трубя,–
авось, кто облизнется,–
нам все налгали про тебя
твои славоразносцы.
Ты ж тыщу лет была рабой,
с тобой сыны и дочки,
генералиссимус рябой
довел тебя до точки.
И слав былых не уберечь,
от мира обособясь,
но остаются дух и речь,
история и совесть.
Пусть не прочтут моих стихов
ни мужики, ни бабы,
сомкну глаза и был таков –
лишь только ты была бы...
В ларьках барышники просты,
я в рожу знаю всех сам,
смешавших лики и кресты
с насилием и сексом.
Животной жизни нагота
да смертный запах снеди,
как будто неба никогда
и не было на свете.
Чтоб не завел заемный путь
в тенета воровские,
и днем твержу: Россия, будь! –
и ночью: будь, Россия!
Не надо храмов на крови,
соблазном рук не пачкай
и чад бездумных не трави
американской жвачкой.
В трудах отмывшись добела
и разобравшись в проке,
Россия, будь, как ты была
при Пушкине и Блоке.
Многие ли из наших сограждан сумели и захотели услышать поэта?
Первая жертва грязной войны
Чичибабин ничего не делал, чтобы снискать известность, славу. Она сама нашла его. Это произошло уже в последние годы жизни. Одна за другой выходили его книги. В 1990 году была присуждена Государственная премия, причём — беспрецедентный случай! - за книгу, выпущенную за счёт средств автора. Его приглашали в разные города на литературные вечера и праздники.

В Тарусе с М. Алигер. 1991.

На вечере в "Литературной газете"
Наконец-то появилась возможность побывать за границей, он съездил в Италию и в Германию, дважды побывал в Израиле.

В Иерусалиме. 1992 год
Во второй половине 80-х, в какой-то краткий миг бескровной перестройки показалось, что между поэтом и веком заключено перемирие. Казалось, что Чичибабин дождался своего часа: заслуженная награда, открытые встречи с читателями, журнальные публикации... Так показалось. Но ненадолго. Уже в самом начале 90-х стало ясно, что и новому времени поэт явно не ко двору, что и с этим наступившим грядущим он не собирается шагать в ногу.
Из письма Лилии Семёновны Чичибабиной-Карась от 4 февраля 1995 года: «Позвонила Марлена Рахлина и спросила, читал ли он статью в «ЛГ» о мафиозности всех властей, так он, сидя далеко (она со мной говорила по телефону) буквально заорал: «Я от этого и подыхаю!»
За несколько дней до смерти поэта танки России вторглись в Чечню. Услышав это по радио — рассказывала Лиля, - Борис весь как-то задёргался и не своим голосом заорал те слова, которых в стихах у него нет, которых не было в словаре, чтобы выразить всю степень его бессильного гнева и боли. Слаб тут наш великий и могучий.
Чичибабин умер, узнав о Чечне. Он стал первой жертвой этой грязной войны. 15 декабря 1994 года перестало биться его сердце.
Эпилог

вдова поэта Л.С. Чичибабина-Карась у памятной доски на улице Чичибабина
В январе на улицах вода, темень с чадом.
Не увижу больше никогда тебя рядом.
У меня из горла – не слова, боли комья.
В жизни так еще не тосковал ни по ком я.
Ты стоишь, как Золушка, в снегу, взгляд тревожен.
Улыбнись мне углышками губ, если можешь.
В январе не разыскать следов, сны холонут.
Отпусти меня, моя любовь, камнем в омут.
Мне не надо больше смут и бед, славы, лени.
Тихо душу выдохну тебе на колени.
Упаду на них горячим лбом, ох, как больно!
Вся земля – не как родильный дом, а как бойня.
В первый раз приходит рождество в черной роли.
Не осталось в мире ничего, кроме боли.
И в тоске, и в смерти сохраню отсвет тайны.
Мы с тобой увидимся в раю. До свиданья.
Когда он лежал — все считали, что без сознания, - Лиля отчаянно крикнула ему: «Боря, слышишь ли ты меня?!» И в ответ — еле различимое: «Слышу...» Потом это «слышу» помогало ей выжить, ощущая нерасторжимую связь с ним и после смерти.

Лиля давно не писала стихов. Но после его кончины и до сорока дней написала 12 плачей о своём горе и читала их ежедневно, после утренних и вечерних молитв.
И всё приняв, как ты мне Свет открыл,
я думаю, за что мне счастье было?
За что нас Бог двоих благословил?
И сделал так, чтоб я тебя любила,
чтоб жизнь моя прошла не в пустоте,
не в суете семейного базара,
а в таинстве священного пожара,
в прекрасной и суровой высоте.

Харьков устроил Чичибабину щедрые похороны, как бы стараясь пышностью прощания возместить и сгладить те удары и обиды, которые наносил при жизни. К мёртвым у нас, как известно, относятся с особой нежностью. Газеты опубликовали некрологи: «Этой потере противятся сердце и разум. Не стало Бориса Чичибабина — поэта милостью Божьей, отшельника и спорщика, смиренника и правдолюбца, вечного подростка и мудреца». Были опубликованы стихи Евтушенко, Окуджавы, Ковальджи, посвящённые умершему поэту, много соболезнующих писем и телеграмм от издательств, газет и журналов, отдельных писателей, в том числе и из-за рубежа. Такого количества печальных цветов и скорбных лиц, потрясённых общим несчастьем, Харьков давно уже не помнил.

Надгробие на могиле Б.Чичибабина. Скульптор Владимиров. Установлено в августе 1997 года при поддержке соотечественников, живущих за рубежом.
Но вопреки продуманному ритуалу траурного митинга, опередив литературное начальство и отцов города, из толпы вышел один из посетителей чичибабинских «сред» - знаменитых «чичибабников», и прочитал «Красные помидоры кушайте без меня...» И произнёс горькие слова вины и покаяния. А вслед за ним, уже стихийно, потянулись другие. Что это было? Оплакивание, отпевание, панихида? Эти понятия не выражали всей полноты происходившего. Незрячая эпоха прощалась со своим духовным трагическим поводырём.
К моей звезде, таинственной, далёкой,
иду на свет единственной дорогой,
слепого века строгий поводырь. -
Как это точно им было сказано!
Возле гроба Чичибабина стояли его последние книги. Он — уходил, они — оставались. И всем казалось, что на побледневших холодных губах ещё витают и теплятся его пророческие слова:
Я почуял беду и проснулся от горя и смуты,
и заплакал о тех, перед кем в неизвестном долгу,—
и не знаю, как быть, и как годы проходят минуты...
Ах, родные, родные, ну чем я вам всем помогу?
Хоть бы чуда занять у певучих и влюбчивых клавиш,
но не помнит уроков дурная моя голова,
а слова — мы ж не дети,— словами беды не убавишь,
больше тысячи лет, как не Бог нам диктует слова.
О как мучает мозг бытия неразумного скрежет,
как смертельно сосет пустота вседержавных высот.
Век растленен и зол. И ничто на земле не утешит.
Бог не дрогнет на зов. И ничто в небесах не спасет.
И меня обижали — безвинно, взахлеб, не однажды,
и в моем черепке всем скорбям чернота возжена,
но дано вместо счастья мученье таинственной жажды,
и прозренье берез, и склоненных небес тишина.
И спасибо животным, деревьям, цветам и колосьям,
и смиренному Баху, чтоб нам через терньи за ним,—
и прощенье врагам, не затем, чтобы сладко спалось им,
а чтоб стать хоть на миг нам свободней и легче самим.
Еще могут сто раз на позор и на ужас обречь нас,
но, чтоб крохотный светик в потемках сердец не потух,
нам дает свой венок — ничего не поделаешь — Вечность
и все дальше ведет — ничего не поделаешь — Дух.
Четыре года не дожил Борис Чичибабин до своего 75-летия. Одна из центральных харьковских улиц, бывшая «8-го Съезда Советов» переименована в «улицу Бориса Чичибабина».


Последнее публичное выступление поэта. 12 ноября 1994. «Когда я был счастливым»

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/53584.html
|
|
Процитировано 8 раз
Понравилось: 5 пользователям
Одиночная школа любви |
Начало здесь

15 декабря 1994 года умер Борис Чичибабин.
Родился он 9 января 1923 года на Украине в городе Кременчуге Харьковской области. Потом семья переехала в Харьков.

Чичибабин — это фамилия матери. Дядя матери — двоюродный дед будущего поэта, был известным академиком-химиком Чичибабиным, которого в 1936 году исключили из АН СССР за то, что он отказался возвращаться в Москву из лондонской командировки, протестуя против сталинской деспотии. Эту крамольную фамилию поэт бесстрашно взял себе в качестве псевдонима (настоящая его фамилия Полушин).

Борис Чичибабин с матерью, сестрой и отчимом
«Красные помидоры кушайте без меня»
Окончив школу, Борис поступил на истфак харьковского университета, но через год началась война. Он работал токарем на заводе, потом служил в авиационных частях Закавказского фронта.

После войны снова поступает в университет, на этот раз — на филфак.
Борис писал стихи, которые расходились в списках. Он доверчиво читал их всем, не разбирая людей. Вскоре случилось то, что должно было случиться. В июне 1946 года он был арестован. Когда потом его спрашивали: «За что?», он отвечал: «Ни за что. Как многие в те времена». В приговоре было сказано «За антисоветскую агитацию». Особым совещанием студент был осуждён на пять лет лагерей — по тем временам срок смехотворный. (Воистину, как в той зэковской байке: «За что 10 лет получил? - Да ни за что. - Врёшь, ни за что у нас пять дают!»)
Сказать ли пару слов об органах?
Я тоже был в числе оболганных.
Сидел в тюрьме, ишачил в лагере,
по мне глаза девчачьи плакали.
Причиной ареста послужили «неблагонадёжные разговоры», но главным образом, стихи. Роковую роль в его судьбе сыграло стихотворение «Мать моя посадница», к которому поэт ещё вернётся много лет спустя:
Жизнь наставшую не хай,
нам любая гожа, -
но почто одним — меха,
а другим — рогожа?
Ох, империя-тюрьма,
всех обид рассадница,
пропадаем задарма,
мать моя посадница!
На Лубянке Чичибабиным были написаны его знаменитые «Красные помидоры»:
Кончусь, останусь жив ли —
чем зарастет провал?
В Игоревом Путивле
выгорела трава.
Школьные коридоры —
тихие, не звенят...
Красные помидоры
кушайте без меня.
Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.
Лестницы, коридоры,
хитрые письмена...
Красные помидоры
кушайте без меня.

Внутренний монастырь
Татьяна Бек вспоминала, что они, студенты МГУ, пели на картошке эти «Красные помидоры» как свою любимую песню. Тогда, в 1967-ом, они ничего не знали об их авторе, какая биографическая реальность стояла за этими пронзительными строками.
Срок Чичибабин отбывал в Кировской области, все пять лет от звонка до звонка.

Работал на лесоповале, а здоровье было слабое: часто шла горлом кровь, сердечные приступы, обмороки. Его спасала надёжная внутренняя защита, как он говорил, «внутренний монастырь»: его мечты, книги, стихи, его духовная свобода, - этим он жил, а не страшным лагерным бытом.
В 1949 году родители Бориса отправили его стихи в «Огонёк». Консультантка редакции прислала ответ «по поручению т. Суркова», в котором уговаривала Чичибабина не писать. В «утешение» приводилась такая фраза: «Ведь Вы же работаете, т. Чичибабин, Ваш труд, кем бы Вы ни были, нужен, полезен стране и народу, ведь не только писатели и поэты нужны Родине». Фокус был в том, что именно в то время Чичибабин был «нужен Родине» в качестве заключённого Вятлага.

«Я родом оттуда»
Но стихи его знали, они ходили в списках, в магнитофонных записях. Лев Аннинский рассказывал, как впервые на магнитофоне Вадима Кожинова услышал поразившее его стихотворение «Смутное время»:
Знать, с великого похмелья завязалась канитель:
то ли плаха, то ли келья, то ли брачная постель.
То ли к завтрему, быть может, воцарится новый тать...
И никто нам не поможет. И не надо помогать.
«С великого похмелья» — как точно было подмечено поэтом это состояние отечества нашего, мутное и больное, длящееся уже полстолетия.
Я родом оттуда, где серп опирался на молот,
А разум на чудо, а вождь на бездумие стай,
Где старых и малых по селам выкашивал голод,
Где стала евангельем «Как закалялась сталь»...
Подлинную поэзию всегда чувствуешь ещё и по правде. И по тому, насколько сам человек похож на свои стихи. Чичибабин — один из правдивейших поэтов. И если он писал, например:
Не дешёвый пижон,
в драгоценные рифмы разоткан, -
был всего я лишён,
припадая к тюремным решёткам. -
то это было действительно так. Его стихи полностью совпадают с его жизнью и судьбой.
В моей дневной одышке,
В моей ночи бессонной
Мне вечно снятся вышки
Над лагерною зоной.
Не верю в то, что руссы
Любили и дерзали:
Одни врали и трусы
Живут в моей державе.
В ней от рожденья каждый
Железной ложью мечен,
А кто измучен жаждой,
Тому напиться нечем.
Страшные, горькие, выстраданные строки.
«Мой Бог начинается не «над», а «в»
В одном из последних интервью в «ЛГ» Чичибабин сказал, что в том хаосе, в котрый погрузилась Россия, его вера в Бога не выжила. Он не мог принять Божьих заповедей, по которым следовало любить грешников, злодеев, любить в них людей, наших братьев и сестёр. Он не мог этого принять ни умом, ни сердцем, не мог применить в жизни. В “Мыслях о главном” он пишет: “Я не могу любить мучителя, убийцу, насильника, не могу отделить их от страшных дел, их злодейств от них самих, не могу увидеть в них человеческого, Божьего. «Объединиться” с ними значило бы “объединиться” с их взглядами, которые, в моём представлении, являются злом; это значило бы полюбить не грешников, но сам грех, принять на дущу их грехи, то есть пойти против себя, против Бога”.
Не созерцатель, не злодей,
не нехристь всё же,
я не могу любить людей.
Прости мне, Боже!
Душа с землёй своё родство
забыть готова
затем, что нету ничего
на ней святого.
Как мало в жизни светлых дней,
как чёрных много!
Я не могу любить людей,
распявших Бога.
Он не был церковником, считая, что Бог присутствует во всём: в любой былинке, в любом проявлении жизни. «Мой Бог начинается не «над», а «в», внутри меня, в сокровенной глубине моей», - писал Чичибабин. «Не существует одного Бога на всех, ибо у каждого он свой. Все беды от этого первородного греха: мы каждый день предаём Бога, не желая слышать Божью волю. А её нельзя слушать стадом. Это всегда только личностный путь. Бог говорит всегда с одним человеком, наедине, один на один".

Я верен Богу одиноку
и, согнутый, как запятая,
пиляю всуперечь потоку,
со множеством не совпадая.
Он сам творил свои молитвы, не ища опоры у святых отцов, и эти молитвы становились стихами:
Молюсь небесности земной
за то, что так щедра,
а кто помолится со мной,
те — брат мне и сестра.
И в жизни не было разлук,
и в мире смерти нет,
и серебреет в слове звук,
преображенный в свет.
Молитва была для него не просьбой чего-то у Бога, а связью с Богом. Молитвенное чувство было главным чувством его души.

Ах, как дышит море в час вечерний,
и душа лишь вечным дорожит,—
государству, времени и черни
ничего в ней не принадлежит.
И не славен я, и не усерден,
не упорствую, и не мечусь,
и что я воистину бессмертен,
знаю всеми органами чувств.
Это точно, это несомненно,
это просто выношено в срок,
как выносит водоросли пена
на шипучий в терниях песок.
До святого головокруженья
нас порой доводят эти сны,—
Боже мой Любви и Воскрешенья,
Боже Света, Боже Тишины!
Как Тебя люблю я в Коктебеле,
как легко дышать моей любви,—
Боже мой, таимый с колыбели,
на земле покинутый людьми!
«И всё-таки я был поэтом»
В 1951 году Чичибабин освободился из Вятлага и вернулся в Харьков. Жил в нём до конца своих дней на улице «VIII съезда Советов", которая сейчас носит его имя.

Первые годы после освобождения были, по его признанию, пострашнее лагерных. Меченый политической статьёй, с тюремным клеймом отверженного, он не мог и помышлять о продолжении учёбы или устройстве на нормальную работу, да и специальности у него никакой не было. Борис служил рабочим сцены в театре, работал в таксомоторном парке, потом окончил курсы бухгалтеров и стал бухгалтером домоуправления.

Он, чей дух простирался к галактикам Данте и Гёте, Пушкина и Толстого, в своей бухгалтерской конторке должен был заниматься рутиной: составлять отчёты, делать заявки, писать деловые письма. Всё это было настолько далеко от его интересов и возможностей. Было что-то неразумное, неправильное, нерациональное в том, чтобы поэта такого уровня использовать то в качестве лесоруба, то в качестве счетовода. Всё равно что забивать гвозди хрустальной вазой. Как сказал Гумилёв о Блоке, мобилизованном на фронт: «Это всё равно что жарить соловьёв».
Я был простой конторской крысой,
знакомой всем грехам и бедам,
водяру дул, с вождями грызся,
тишком за девочками бегал.
И все-таки я был поэтом,
сто тысяч раз я был поэтом,
я был взаправдашним поэтом
И подыхаю как поэт.
Читает Борис Чичибабин: «Между печалью и ничем»:

Между печалью и ничем
мы выбрали печаль.
И спросит кто-нибудь "зачем?",
а кто-то скажет "жаль".
И то ли чернь, а то ли знать,
смеясь, махнет рукой.
А нам не время объяснять
и думать про покой.
Нас в мире горсть на сотни лет,
на тысячу земель,
и в нас не меркнет горний свет,
не сякнет Божий хмель.
Нам - как дышать,- приняв печать
гонений и разлук,-
огнем на искру отвечать
и музыкой - на звук.
И обреченностью кресту,
и горечью питья
мы искупаем суету
и грубость бытия.
Мы оставляем души здесь,
чтоб некогда Господь
простил нам творческую спесь
и ропщущую плоть.
И нам идти, идти, идти,
пока стучат сердца,
и знать, что нету у пути
ни меры, ни конца.
Когда к нам ангелы прильнут,
лаская тишиной,
мы лишь на несколько минут
забудемся душой.
И снова - за листы поэм,
за кисти, за рояль,-
между печалью и ничем
избравшие печаль.
Наступила оттепель. В 1966 году Чичибабина принимают в Союз Писателей. Одна за другой выходят его книги: «Молодость», «Мороз и солнце» «Гармония», «Плывёт Аврора». Но эти сборники, беспощадно ощипанные цензурой, в которые автор не мог включить самые важные и дорогие для него стихи, не принесли ему радости. Он подписывал их друзьям словами: «На память — со стыдом!»

При желтизне вечернего огня
как страшно жить и плакать втихомолку.
Четыре книжки вышло у меня.
А толку?
«Мы никогда друг другу не приснимся»
В 1953 году Борис соединяет свою судьбу с паспортисткой своего домоуправления, где служил бухгалтером, - Матильдой Якубовской. Многих харьковских друзей Чичибабина поражало, как человек такой тончайшей культуры и духовной организации избрал в подруги жизни женщину, которая по уровню развития недалеко ушла от Элизабет Дулитл первой сцены «Пигмалиона».

Среднего роста, крупная, с широкой крестьянской костью, не красавица, но что называется кровь с молоком, она была хозяйственна, по-своему заботилась о муже, но была равнодушна к его литературным занятиям, устраивала скандалы за житейскую нерасторопность, не понимала того, чем он жил, не понимала значения этого человека.
Они жили тогда на углу улицы Рымарской и Бурсацкого спуска, в её комнатке в 7-9 кв. метров под самой крышей. В этой комнатушке каждый вечер у Чичибабина собиралось столько друзей, что все не помещались в ней, и тогда открывалась дверь на лестницу. Читали стихи, спорили, философствовали, играли на гитаре, пели. Матильду всё это раздражало.
Потом эти чичибабинские посиделки, или, как их называли, "чичибабники", выросли в литературную студию, которой руководил Чичибабин при ДК работников связи.

Но чем известнее становился Борис, чем больше людей тянулось к нему, тем мрачней и требовательней становилась Матильда. Она заставляла его работать на даче: копать погреб, штукатурить, носить вёдра со строительным мусором. Итогом тех дачных мытарств стали стихи поэта:
Живу на даче. Жизнь чудна.
Свое повидло...
А между тем еще одна
душа погибла...
Покойся в сердце, мой Толстой,
не рвись, не буйствуй,-
мы все привычною стезёй
проходим путь свой.
Глядим с тоскою, заперты,
вослед ушедшим.
Что льда у лета, доброты
просить у женщин.
Какое пламя на плечах,
с ним нету сладу,-
Принять бы яду натощак,
принять бы яду.
И ты, любовь моя, и ты -
ладони, губы ль -
от повседневной маеты
идешь на убыль...
Они прожили вместе 13 лет и всё же расстались. Подытоживая жизнь с «Мотиком», как он её называл, Чичибабин пишет:
Уходит в ночь мой траурный трамвай.
Мы никогда друг другу не приснимся.
В нас нет добра, и потому давай
простимся.
Кто сочинил, что можно быть вдвоем,
лишившись тайн в пристанище убогом,
в больном раю, что, верно, сотворен
не Богом?..
А хуже всех я выдумал себя.
Как мы в ночах прикармливали зверя,
как мы за ложь цеплялись, не любя,
не веря.
Как я хотел хоть малое спасти.
Но нет спасенья, как прощенья нету.
До судных дней мне тьму свою нести
по свету.
Я все снесу. Мой грех, моя вина.
Еще на мне и все грехи России.
А ночь темна, дорога не видна...
Чужие...
Страшна беда совместной суеты,
и в той ничто беде не помогло мне.
Я зло забыл. Прошу тебя: и ты
не помни.
Возьми все блага жизни прожитой,
по дням моим пройди, как по подмостью.
Но не темни души своей враждой
и злостью.
«В стихах я более настоящий»
Как и у многих, их любовная лодка разбилась о быт. Вернее, виной было разное отношение к быту. Чичибабина никогда не интересовало ничто бытовое, такое важное для большинства людей. Это была его личная особенность: пренебрежение внешней стороной жизни.
Я ж гонялся не за этим,
я и жил, как будто не был,
одержим и незаметен
между родиной и небом.
Он говорил о себе: «Я бы никогда не смог стать прозаиком, поскольку абсолютно равнодушен и невнимателен к подробностям материального бытия. Я совершенно антибытовой человек. Меня остро интересует внутренняя жизнь человека, но я никогда не замечаю, как он одет, я не вижу, какая у него причёска».
От Чичибабина никогда нельзя было услышать разговора на бытовые темы, он всегда говорил о чём-то насущном для души: о друзьях, о стихах, о событиях в стране, о Боге. Вообще общение с ним было далеко не простым делом. Если при встрече он спрашивал кого-то: «Ну как вы живёте?» - рассказывать ему о внешней стороне жизни было бесполезно. Ему нужна была суть: чем живёт человек, что любит, ненавидит, к чему стремится. И говорить можно было только об этом или не говорить вовсе.

Я выменял память о дате и годе
на звон в поднебесной листве.
Не дяди и тёти, а Данте и Гёте
со мной в непробудном родстве.
Он писал о себе: «В стихах я более настоящий, чем я бытовой и житейский. Потому мы и не вполне совпадаем, что в житейском человеке много ложного, мнимого, искажённого жизнью, судьбой, обстоятельствами. Нужно отсоединять то «я», которое в стихах, от того, которое в быту и в жизни». Чичибабин блестяще раскрывает своё кредо в стихотворении «Защита поэта»:
И средь детей ничтожных мира,
Быть может, всех ничтожней он.
А. С. Пушкин
С детских лет избегающий драк,
чтящий свет от лампад одиноких,
я - поэт. Мое имя - дурак.
И бездельник, по мнению многих.
Тяжек труд мне и сладостен грех,
век мой в скорби и праздности прожит,
но, чтоб я был ничтожнее всех,
в том и гений быть правым не может.
Я - поэт, и мой воздух - тоска,
можно ль выжить, о ней не поведав?
Пустомель - что у моря песка,
но как мало у мира поэтов.
И, томим суетою сует,
и, как Бога, зовя вдохновенье,
я клянусь, что не может поэт
быть ничтожным хотя б на мгновенье.
Светлый рыцарь и верный пророк,
я пронизан молчанья лучами.
Мне опорою Пушкин и Блок.
Не равняйте меня с рифмачами.
Я - поэт. Этим сказано все.
Я из времени в Вечность отпущен.
Да пройду я босой, как Басё,
по лугам, стрекозино поющим.
И, как много столетий назад,
просветлев при божественном кличе,
да пройду я, как Данте, сквозь ад
и увижу в раю Беатриче.
И с возлюбленной взмою в зенит,
и от губ отрешенное слово
в воскрешенных сердцах зазвенит
до скончания века земного.
«После таких стихов не живут»
Последняя книжка Чичибабина выходит в 1968 году, на закате оттепели. И с тех пор — молчание, забвение на долгие годы.
В чинном шелесте читален
или так, для разговорца,
глухо имя Чичибабин,
нет такого стихотворца. -
с горечью говорит он о себе. Безвестность и опала — постоянные спутники Чичибабина на протяжении десятилетий. В 1966 году закрывают его литстудию. Он отказывается от издания своих книг, так как не хочет, чтобы они выходили в оскоплённом и искажённом виде. Он хотел говорить то, что хотел, а это было невозможно.
Чичибабин перестаёт посещать официальные литературные сборища, отлучает себя от публичных выступлений, уходит в себя.

Добровольное отшельничество даёт ему возможность писать то, что велит душа и диктует Бог.
Я на ветру продрог, я в оттепели вымок,
запутавшись в лесу, почуявши дымок,
в кругу моих друзей, меж близких и любимых,
о как я одинок! О как я одинок!
За прожитую жизнь у всех прошу прощенья
и улыбаюсь всем, и плачу обо всех —
но как боится стих небратского прочтенья,
как страшен для него ошибочный успех...
Уйдет вода из рек, и птиц не станет певчих,
и окаянной тьмой затмится белый свет.
Но попусту звенит дурацкий мой бубенчик
о нищете мирской, о суете сует.
Уйдет вода из рек, и льды вернутся снова,
и станет плотью тень, и оборвется нить.
О как нас Бог зовет! А мы не слышим зова.
И в мире ничего нельзя переменить.
Когда за мной придут, мы снова будем квиты.
Ведь на земле никто ни в чем не виноват.
А все ж мы все на ней одной виной повиты,
и всем нам суждена одна дорога в ад.
Это был 20-летний период затворничества и отлучения от читателя, период мучительный, кризисный. Да, он был внутренне свободен, между его словом и совестью сложилась гармония, но невостребованность временем и людьми доводила его до отчаянья, лишала смысла существования.

Из души нашей выжата воля,
к вечным книгам пропал интерес,
и кричу и не вижу того я,
кому нужен мой стих позарез.
И в зверином оскале и вое
мы уже не Христова родня,
и кричу и не вижу того я,
кто хотел бы услышать меня.
Не мои — ни пространство, ни время,
ни с обугленной вестью тетрадь.
Не под силу мне бренности бремя,
но от бесов грешно умирать.
Быть не может земля без пророка.
Дай же сил мне,— Кого-то молю,—
чтоб не смог я покинуть до срока
обреченную землю мою.
Это был очень тяжёлый период в его жизни, когда Чичибабин думал о самоубийстве, был близок к помешательству. Казалось, это предел безысходности, тупик. В это время он пишет одно из самых страшных и горьких своих стихотворений «Сними с меня усталость, матерь Смерть...» (читает Борис Чичибабин):

Сними с меня усталость, матерь Смерть.
Я не прошу награды за работу,
но ниспошли остуду и дремоту
на мое тело, длинное как жердь.
Я так устал. Мне стало все равно.
Ко мне всего на три часа из суток
приходит сон, томителен и чуток,
и в сон желанье смерти вселено.
Мне книгу зла читать невмоготу,
а книга блага вся перелисталась.
О матерь Смерть, сними с меня усталость,
покрой рядном худую наготу.
На лоб и грудь дохни своим ледком,
дай отдохнуть светло и беспробудно.
Я так устал. Мне сроду было трудно,
что всем другим привычно и легко.
Я верил в дух, безумен и упрям,
я Бога звал - и видел ад воочью,-
и рвется тело в судорогах ночью,
и кровь из носу хлещет по утрам.
Одним стихам вовек не потускнеть,
да сколько их останется, однако.
Я так устал! Как раб или собака.
Сними с меня усталость, матерь Смерть.

Эта усталость кажется какой-то всечеловеческой, вековой. Это уже не слова, это вселенский вздох. Лиля Карась, женщина, с которой позже связал свою жизнь Чичибабин, говорила: «Ведь после таких стихов не живут. А он начал новую жизнь".
«Ты одна для вечности»
Они познакомились в 1963 году на литературном вечере. И в жизнь Бориса сначала потаённо, конспиративно, а потом явно, открыто вошла Лиля — молодая, намного моложе его, близкая ему по строю чувств, по кругу интересов, готовая всю жизнь свою превратить в служение Поэту, Любимому, Учителю. Его Лилит, Лаура, Беатриче.

Не спрашивай, что было до тебя.
То был лишь сон, давно забыл его я.
По кругу зла под ружьями конвоя
нас нежил век, терзая и губя.
От наших мук в лесах седела хвоя,
хватал мороз, дыхание клубя.
В глуби меня угасло все живое,
безвольный дух в печали погребя.
В том страшном сне, минутная, как милость,
чуть видно ты, неведомая, снилась.
Я оживал, в других твой свет любя.
И сам воскрес, и душу вынес к полдню,
и все забыл, и ничего не помню.
Не спрашивай, что было до тебя.
Сибирская студенточка в трогательных нелепых лыжных ботиночках вошла в его жизнь, в его поэзию и — кто знает, может быть, теперь уже — в вечность.
Тебя со мной попутал бес
шататься зимней чащей,
где ты сама была как лес,
тревожный и молчащий.
В нем снег от денного тепла
лежал тяжел и лепок —
и стыли ножки у тебя
в ботиночках нелепых.
Мы шли по лесу наугад,
навек, напропалую,
и ни один не видел гад,
как я тебя целую.
Дышал любимой на виски
и молча гладил руки
и задыхался от тоски
и нестерпимой муки.
Он ушёл к Лиле в чём был. Всё оставил первой жене — квартиру, дачу. Они прожили вместе 26 лет — до самой его смерти. И до конца своих дней он не мог надышаться на любимую.
Для счастья есть стихи, лесов сырые чащи
и синяя вода под сенью черных скал,
но ты в сто тысяч раз таинственней и слаще
всего, что видел взор и что рассудок знал...
Ты в снах любви, как лебедь, белогруда,
но и слепым душа в тебе видна.
Все женщины прекрасны. Ты одна
божественна и вся добро и чудо,
как свет и высь. Я рвусь к тебе со дна.
Все женщины для мига. Ты одна
для вечности. Лицо твое на фресках...
Он в своей Лиле видит кроткое лицо, кроткую душу, принявшую в себя его угловатые страсти, со всеми срывами, взрывами, попойками (об этом и в застольных стихах: «Вечером с получки», в «Оде водке»). Всякое бывало. И сквозь все как родная гавань — Лиля.

Люблю твое лицо. В нем каждая черта —
от облачного лба до щекотных ресничек
стесняется сказать, как ландышно чиста
душа твоя, сестра деревьев и лесничих...
Чичибабин принимает счастливую любовь как причастие, как Божье благословление:
Мне без тебя — ни вздоха, ни глотка.
О, сколько жара тайного в тихоне!
Стыдишься слов? Спроси мои ладони,
как плоть твоя тревожна и гладка.
Отныне мне вовек не будет плохо.
Не пророню ни жалобы, ни вздоха,
и в радость боль, и бремя — благодать.
Кто приникал к рукам твоим и бедрам,
тот внидет в рай, тому легко быть добрым.
О, дай Господь всю жизнь тебя ласкать!
Порой в стихах его прорывается языческое, чувственное, рискованно-земное:
Ты в одеждах и то как нагая,
а когда все покровы сняты,
сердце падает, изнемогая
от звериной твоей красоты.
Но «звериное» здесь означает цельность и силу чувства. Ибо рождается из нежности и возвращается в нежность. Ибо одухотворено любовью.

Мне о тебе, задумчиво-телесной,
писать — что жизнь рассказывать свою.
Ты — мой собор единственный, ты — лес мой,
в котором я с молитвою стою.
Моим глазам, твое лицо нашедшим,
после тебя тоска смотреть на женщин,
как после звезд на сдобный колобок.
Меня тошнит, что люди пахнут телом.
Ты вся — душа, вся в розовом и белом.
Так дышит лес. Так должен пахнуть Бог.
Это было полное сращение душ, благословенный союз. Чичибабин писал о любви, как дышал — естественно, просто и очень глубоко. В наш век так о любви почти не пишут. Его сонеты к любимой полны света и гармонии.
«Кто сложит оду воробьям?»
Борис Чичибабин обожал природу и умел находить о ней удивительные, прозрачные, волшебные слова.
Что за беда, что ты продрог и вымок?
Средь мошкары, лягушечьих ужимок
протри глаза и в прелести омой,
нет ничего прекраснее кувшинок,
плавучих, белых, блещущих кувшинок.
Они — как символ лирики самой.
Или:
Во мне проснулось сердце эллина.
Я вижу сосны, жаб, ежа
и радуюсь, что роща зелена
и что вода в пруду свежа.
Всё, мимо чего проскользнёт, не заметив, чей-то равнодушный замыленный взгляд, Чичибабин воспринимает как первозданность, как Божье чудо. В красоте окружающего мира, в тишине и мудрости природы, в близости с любимой женщиной находит он успокоение и тепло:
Приветствуй всё и всё благодари,
а зло и боль останутся поодаль,
пока есть в небе крохотка зари,
и есть трава, и есть луна и тополь.
«В лесу соловьином, где сон травяной...» Читает Борис Чичибабин.

А какие трогательные у него стихи о животных! Стихотворение «На Жулькину смерть» невозможно читать без слёз:
Товарищи, поплачьте
один на свете раз
о маленькой собачке,
что радовала вас,
что с нами в день весенний,
веселья не тая,
перебирала всеми
своими четырьмя.
И носик нюхал воздух,
и задыхалась пасть,
и сумасшедший хвостик
никак не мог опасть.
Мы так её любили,
не знали про беду.
Её автомобилем
убило на ходу.
Мне кажется всё время,
что это только сон,
как жалобно смотрели
глаза под колесом.
Ласкали и купали,
на трудные рубли
ей кости покупали -
а вот не сберегли.
Проснёмся рано утром,
а боль ещё свежа.
Уже не подбежит к нам,
ликуя и визжа.
В земле, травой поросшей,
отлаявшись навек,
она была хорошей,
как добрый человек.
Куда ж ты улетело,
куда ж ты утекло,
из маленького тела
пушистое тепло?

А его «Ода воробью»! Мы привыкли к воспеванию красивых, «поэтичных» птиц — соловьёв, лебедей, ласточек, иволг, чаек, как бы входящих в стандартный набор поэтических образов стихотворцев. Чичибабин же сумел увидеть другими глазами эту маленькую неказистую неприметную птичку, тем самым уча нас замечать не показную красивость, лежащую на поверхности, а «огонь, мерцающий в сосуде», то есть в малом, неброском, обыденном уметь увидеть свою красоту.

Пока меня не сбили с толку,
презревши внешность, хвор и пьян,
питаю нежность к воробьям
за утреннюю свиристелку.
Здоров, приятель! Чик-чирик!
Мне так приятен птичий лик.
Я сам, подобно воробью,
в зиме немилой охолонув,
зерно мечты клюю с балконов,
с прогретых кровель волю пью
и бьюсь на крылышках об воздух
во славу братиков безгнездых.
Стыжусь восторгов субъективных
от лебедей, от голубей.
Мне мил пройдоха воробей,
пророков юркий собутыльник,
посадкам враг, палаткам друг,—
и прыгает на лапках двух.
Где холод бел, где лагерь был,
где застят крыльями засовы
орлы-стервятники да совы,
разобранные на гербы,—
а он и там себе с морозца
попрыгивает да смеется.
Шуми под окнами, зануда,
зови прохожих на концерт!..
А между тем не так он сер,
как это кажется кому-то,
когда из лужицы хлебнув,
к заре закидывает клюв.
На нем увидит, кто не слеп,
наряд изысканных расцветок.
Он солнце склевывает с веток,
с отшельниками делит хлеб
и, оставаясь шельма шельмой,
дарит нас радостью душевной.
А мы бродяги, мы пираты,—
и в нас воробышек шалит,
но служба души тяжелит,
и плохо то, что не пернаты.
Тоска жива, о воробьи,
кто скажет вам слова любви?
Кто сложит оду воробьям,
галдящим под любым окошком,
безродным псам, бездомным кошкам,
ромашкам пустырей и ям?
Поэты вымерли, как туры,—
и больше нет литературы.
Продолжение здесь: http://nmkravchenko.livejournal.com/53584.html
Переход на ЖЖ : http://nmkravchenko.livejournal.com/53384.html
|
|
Процитировано 10 раз
Понравилось: 2 пользователям
Зубная боль в сердце |
Начало на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/52772.html

13 декабря 1797 года родился Христиан Иоганн Генрих Гейне.
Родился он в в небогатой еврейской семье, в Дюссельдорфе — небольшом городке на Рейне.

А это — окрестности Рейна: Санкт-Гоар и знаменитая скала Лорелей, воспетая Гейне:

Были дни — я помню гору,
Рейн манил внизу меня.
Вся страна цвела в ту пору
предо мной в сиянье дня.
И под рокот мелодичный
волны свой свершали путь.
Дрожь услады необычной
мне закрадывалась в грудь.

дом, где родился Гейне
По желанию родителей мальчик поступает в коммерческую школу, после чего в крупнейшем центре страны, Франкфурте-на-Майне изучает банковское и коммерческое дело. Но эта стезя совсем не привлекала будущего поэта. Главной для него была другая жизнь — фантастическая, созданная его воображением:
Вот вызвал я силою слова
бесплотных призраков рать:
во мглу забвенья былого
уж им не вернуться опять.
Дочь палача
Большое влияние на раннюю поэзию Гейне оказала его первая любовь. Это была рыжая девушка по имени Зефхен, дочь палача. Им обоим было по 16 лет. Девушка была дикой, молчаливой, росла в одиночестве, так как работа её отца считалась презренным ремеслом, люди шарахались от всех членов семьи такого человека. В трактирах им подавали особую посуду, особые пивные кружки, а если таких не было — то хозяева спешили разбить стакан, из которого пил палач. Дочерью палача гнушались даже жалкие нищие, даже отпетые потаскушки. А Генрих любил Зефхен и гордился своей любовью к ней, отверженной всеми. Он презирал общественное мнение, эти самодовольно-добродетельные физиономии, брезгливо-поджатые рты. Уже тогда в сознании юного Гейне наряду со страстью к отверженной дочери палача зарождался вызов благонравному обществу.

Мальчишек, оравших ему на улице: «зять палача!», он презрительно не замечал. С насмешниками постарше жестоко дрался — и тогда он был рыцарем, защищавшим честь Прекрасной Дамы. Вопреки им поэт любил эту девушку, и в этой любви была двойная радость — хмельная радость первой ласки, первой мужской победы и — дерзкая радость мятежа, освободившего от власти чужих мнений, обычаев, предрассудков, что потом ярко проявится в его творчестве.
Генри увозил Зефхен к Рейну и там, когда они, утомившись, отдыхали в измятой траве, он клал голову ей на колени, и она расчёсывала маленьким гребнем его волосы и пела. Она знала множество волнующих народных песен, связанных с суевериями, обрядами и мрачным ремеслом палачей.

Именно Зефхен, как писал потом Гейне в своих мемуарах, пробудила в нём любовь к народной поэзии, и его первые стихи из первой книги «Сновидения» были навеяны теми её песнями. Рыжая Зефхен была его первая настоящая любовь и первый настоящий мятеж. И всё это стало поэзией.
Блестит волна морская,
луной озарена.
Я счастлив, тебя лаская.
Испугана ты, холодна.
И что это вдруг с тобою?
Едва переводишь дух.
Ты жадно внимаешь прибою,
ты вся обратилась в слух.
«То сёстры мои — русалки -
взывают с морского дна.
Их песни протяжны и жалки,
и слышу их я одна».

Где юная златоволосая фея,
чьи ласки впервые познал я, робея?
Тот дуб, в чьих ветвях находили мы кров,
давно стал добычей осенних ветров.
Ручей замирает со вздохом бессильным,
пред ним изваянием надмогильным,
как чья-то душа у подземной реки,
русалка сидит, онемев от тоски.
Дочь банкира
Весной 1816 года родители отправляют юного Гарри (так его звали в семье) к дяде — брату отца, Соломону Гейне, крупнейшему банкиру Гамбурга, одной из значительных фигур финансового мира тогдашней Германии.

Соломон Гейне
Дела отца Гейне шли неважно, и родители уповали на помощь могущественного родственника, надеясь, что такой покровитель поможет легкомысленному юноше стать благоразумным преуспевающим дельцом. Из патриархального романтического Дюссельдорфа Гейне попадает в большой торговый центр со 100-тысячным населением, куда корабли привозили товары со всех концов света, где царили заносчивые купцы-миллионеры, напыщенные дипломаты и высокомудрые сенаторы.
Дядюшка приобрёл для Гарри магазин для торговли тканями, дал деньги на товар, но тот больше занимался стихами, чем сделками, а вырученные деньги тут же спускал на дружеских пирушках. Фирма «Гарри и К» просуществовала три месяца и обанкротилась. Дядя терпеливо снова пытался помочь племяннику — отправлял его учиться в лучшие университеты Европы, выплачивал немалое ежемесячное пособие. Гейне учился в Боннском университете, потом продолжал учёбу в Берлинском и Геттингенском.

Геттингенский университет
Курсом юридических наук он более-менее успешно овладел, даже получил степень доктора прав, но юридической практикой никогда не занимался. Не имея никакой склонности к этой профессии, он с отвращением думал о том, что придётся выступать в суде, защищая плутни крупных бакалейщиков и нечистоплотных маклеров. Поэзия привлекала его куда больше.
В 1821 году выходит первая часть «Книги песен» Гейне, вошедшая в неё под названием «Юношеские страдания». Эти стихи восхищали Марину Цветаеву, которая писала потом ответные стихи «Памяти Гейне», навеянные этой книгой.
Поселившись в доме дяди, поэт с той поры в сущности до конца жизни пребывал в тягостной для него материальной зависимости от богатой гамбургской родни. В этом буржуазно-трезвом семействе его увлечение поэзией было принято с презрением и расценено как нечто неподобающее, способное лишь повредить репутации в обществе. Гейне угнетало сознание, что и он, и его родители живут на деньги благоденствующего самодовольного дядюшки, но обойтись без этих денег не мог. Особенно много страданий доставляла ему любовь к кузине Амалии, красивой, но холодной и расчётливой дочери Соломона. Когда Генрих впервые увидел двоюродную сестру, услышал её звонкий смех, прикоснулся братским поцелуем к её румяной щеке, он мгновенно влюбился и забыл Зефхен.

Эта несчастная любовь, горечь которой Гейне ощущал до конца своих дней, стала главной темой его ранних стихотворений.
Обещая, обольщая,
так вода чиста, светла!
Но могу ль не знать, какая
там, на дне, и смерть, и мгла.
Сверху свет и тьма в глубинах, -
ты, река, - её портрет:
кротких, чистых, голубиных
глаз подобных в мире нет!
Амалия с удовольствием принимала поклонение кузена, ей нравились его стихи, приятно было видеть восторженные, молитвенные взгляды. Но она не отвечала на его любовь. Она знала, что должна выйти замуж за того, кого выберет отец. У банкиров, как и у королей, браки заключались по высшим соображениям, а не по прихотям юных сердец.
Ты девушкой была изящной, стройной,
Такой холодной и всегда спокойной.
Напрасно ждал я, что придет мгновенье,
Когда в тебе проснется вдохновенье,
Когда в тебе то чувство вспыхнет разом,
С которым проза не в ладах и разум.
Но люди с ним во имя высшей цели
Страдали, гибли, на кострах горели.
Вдоль берегов, увитых виноградом,
Ты летним днем со мной бродила рядом,
Светило солнце, иволги кричали,
Цветы волшебный запах источали.
Пылая жаром, розы полевые
Нам поцелуи слали огневые;
Казалось: и в ничтожнейшей из трав
Жизнь расцвела, оковы разорвав.
Но ты в атласном платье рядом шла,
Воспитанна, спокойна и мила,
Напоминая Нетшера картину,-
Не сердце под корсетом скрыв, а льдину.

Каспар Нетшер. Портрет Сюзанны Гюйгенс
27 октября 1816 года Гейне писал другу: «...она меня не любит. Это словечко, дорогой Кристиан, надо произносить тихо, совсем тихо. В этом одном словечке заключено вечное блаженство, но в маленькой частице не — вечный ад».
Вскоре Амалия выходит замуж за сына богатого землевладельца. Гейне в отчаянье пишет:
Рокочут трубы оркестра
и барабаны бьют.
Это мою невесту
замуж отдают.
Гремят литавры лихо
и гулко гудит контрабас,
а в паузах ангелы тихо
вздыхают и плачут о нас.
Гейне потом ещё много раз влюблялся счастливо и несчастливо. И каждый раз его радости и мучения становились стихами и песнями. Но эта юношеская любовь, причинившая ему только боль, унижения и мучительные разочарования, навсегда осталась незаживающей раной.
Мой свет, у тебя алмазы,
наряды, деньги, почёт
и пара прелестных глазок.
Чего же тебе ещё?
Для этих прелестных глазок
давно потерял я счёт
отрядам песен и сказок.
Чего же тебе ещё?
Ты взглядом прелестных глазок
так больно мне сердце жжёшь!
Меня погубила сразу.
Чего же тебе ещё?
Основная тема ранних стихов Гейне — неразделённая любовь. Все они имеют реальную биографическую основу. Сам поэт признавался, что его первые стихи рождены горечью и нежностью к той, которая «ядовито и надменно унизила песни, слагавшиеся для неё».
Да, ты оправдана судом
Неумолимого рассудка.
"Ни словом, -- приговор гласит,
Ни делом не грешна малютка".
Я видел, корчась на костре,
Как ты, взглянув, прошла спокойно
Не ты, не ты огонь зажгла,
И все ж проклятья ты достойна!
Упрямый голос мне твердит,
Во сне он шепчет надо мною,
Что ты мой демон, что на жизнь
Я обречен тобой одною.
Поэт со своей любовью и творчеством оказался отвергнутым тем миром, в котором существовал. Девушка, отвергающая бедняка ради богатого и ничтожного человека — образ, настойчиво повторяющийся в лирике Гейне и воплощающий его личную любовную драму.
Юноша девушку любит,
А ей полюбился другой.
Но тот — не ее, а другую
Назвал своей дорогой.
За первого встречного замуж
Девушка с горя идет,
А юноша тяжко страдает,
Спасенья нигде не найдет.
История эта — не новость,
Так было во все времена,
Но сердце у вас разобьется,
Коль с вами случится она.
«Книга песен», вышедшая в 1827 году, сразу облетела и покорила всю Германию. Известность её с каждым годом возрастала, при жизни Гейне книга выдержала 13 изданий. Непосредственность чувств, простота и естественность интонации «Книги песен» привлекли многих композиторов. Музыку на них писали Шуберт, Шуман, Лист, Григ, в России — Чайковский, Римский-Корсаков, Рахманинов, Бородин.
Послушайте чудесный романс Чайковского на стихи Гейне «Хотел бы в единое слово...» в переводе Л. Мея. Поёт Сергей Тараненко.
http://www.youtube.com/watch?v=g3l8kteVPrc
Лорелея
Недалеко от городка Гоар Рейн сужает русло и делает поворот. Здесь возвышается 132-метровая Loreley. Само слово происходит от немецкого lureln (на местном диалекте — «шептание») и ley («скала»). Таким образом, «Лорелей» когда-то переводилась как «шепчущая скала». Эффект шептания производился водопадом, который существовал в этой местности вплоть до начала XIX века.

Гейне в 1824 году написал балладу «Лорелея», в которой сравнивал скалу с коварной девушкой, охраняющей подводные клады нибелунгов. Это самое знаменитое стихотворение Гейне и вообще, наверное, самое знаменитое стихотворение, когда-либо написанное на немецком языке. Прекрасная фея чарующим голосом завлекает мужчин-рыбаков на скалы, где они гибнут. По легенде, делает она это потому, что когда-то ее обманул и обесчестил местный дворянин, обещавший на ней жениться, но не сдержавший слова. Лорелея бросилась со скалы, и с тех пор часто сидит на этой скале, расчесывая свои золотые волосы золотым гребнем, и поёт.

Баллада о нимфе Лорелее, заманивающей своим пением рыбаков на скалы, известна была давно. Она переведена на множество языков (больше, чем "Фауст" Гёте). А русских переводов насчитывается более десятка. Но именно Гейне превратил скромную Лору ляй, придуманную Брентано, в роскошную Лорелею. Именно он, позаимствовав сюжет из античной мифологии, сделал из брошенной рейнской девы сирену-соблазнительницу. Именно он усадил ее на вечную скалу с золотым гребнем в руках. У Гейне образ Лорелеи становится символом победной, губительной, равнодушной силы красоты.
Балладу о Лорелее много раз перекладывали на музыку, она стала основой оперных и балетных либретто. Даже нацисты, сжигавшие книги Гейне и запрещавшие их, не решились вычеркнуть из истории немецкой поэзии это стихотворение. Его продолжали включать в школьные хрестоматии и во времена "третьего рейха" - правда, без имени автора.
Лучше всего читать «Лорелею» в переводе Вильгельма Левика, настолько точно воспроизводящем мелодию стихотворения Гейне, что с ним не могут сравниться другие варианты перевода таких мастеров, как Блок или Маршак.
Не знаю, что стало со мною,
Печалью душа смущена.
Мне все не дает покою
Старинная сказка одна.
День меркнет. Свежеет в долине,
И Рейн дремотой объят.
Лишь на одной вершине
Еще пылает закат.
Там девушка, песнь распевая,
Сидит высоко над водой.
Одежда на ней золотая,
И гребень в руке – золотой.
И кос ее золото вьется,
И чешет их гребнем она,
И песня волшебная льется,
Так странно сильна и нежна.
И, силой плененный могучей,
Гребец не глядит на волну,
Он рифов не видит под кручей, –
Он смотрит туда, в вышину.
Я знаю, волна, свирепея,
Навеки сомкнется над ним, –
И это все Лорелея
Сделала пеньем своим.
На самом кончике длинного мыса - памятник Лорелее.
«Романтик-расстрига»
Однако этот нежнейший лирик, как никто из современников умевший передать мимолётные чувства и мысли любящего и страдающего человека, мог быть и резким, хлёстким сатириком.
Он мастерски переосмысливает романтические образы с помощью иронии и сатиры, придавая им неожиданное, нередко совсем не романтическое звучание. В «Книге песен», особенно в последних циклах, Гейне выработал характерную для него манеру, в которой искренние порывы чувства сменяются нарочитым утрированием и высмеиванием. Сам он определил эту манеру как «сентиментально-коварную». Сочетание сентиментальности, чувствительности с иронией, нередко язвительной, которую поэт удачно назвал коварством, было его творческим своеобразием.
***
Ты мнила, что, в петлю толкая,
погубит меня твой отказ,
но это со мной, дорогая,
не в первый случается раз.
***
О, если ты станешь моей женой,
Тебе позавидуют всюду.
Ты радость и счастье узнаешь со мной,
И денег жалеть я не буду.
Ты можешь пилить меня - буду я тих,
Взорвешься - останусь я нежен,
Но если стихов не похвалишь моих,
Запомни: развод неизбежен.
Вот такой парадокс: романтик, он же и антиромантик. Теофиль Готье метко окрестил Гейне «романтиком-расстригой».
***
Юность кончена. Приходит
Дерзкой зрелости пора,
И рука смелее бродит
Вдоль прелестного бедра.
Не одна, вспылив сначала,
Мне сдавалась, ослабев,
Лесть и дерзость побеждала
Ложный стыд и милый гнев.
Но в блаженствах наслажденья
Прелесть чувства умерла.
Где вы, сладкие томленья,
Робость юного осла?
Ироническая концовка — замечательный приём Гейне.
Милый друг мой! ты влюблён,
новых мук познал ты жало,
в голове твоей темней
и светлее в сердце стало.
Милый друг мой! Ты влюблён,
не скрывай, мне всё открылось:
пламя сердца твоего
сквозь жилет уже пробилось.
Насмешка, ирония служат Гейне для снижения пафоса, для разрушения мнимой идиллии окружающего мира, давая почувствовать, что все бесплотные мечты — чепуха по сравнению с живой жизнью. «Зубную боль в сердце» он пытается заглушить иронической насмешкой над собой.
Тебя люблю я всю - и тело,
Твоей души наряд атласный,
И сноп волос, как ворон черных,
И глаз огромных пламень страстный.
Я женщину такого сорта
По всей земле искал доныне.
Такие дамы превосходно
Мне знают цену как мужчине.
Да и во мне того нашла ты,
Кого искала. Ты отлично
Сыграешь в чувства, в поцелуи,
А там изменишь, как обычно.
Лирическое интермеццо
Один из циклов «Книги песен» называется «Лирическое интермеццо». Это короткие стихотворения — по 8-12 строк. Как пояснял Гейне: «Из своих скорбей великих я делаю маленькие песни». Но в этих маленьких, но таких законченных миниатюрах поэт умел выразить целую гамму ощущений.
***
Не верую я в небо,
Ни в Новый, ни в Ветхий завет;
Я только в глаза твои верю,
В них мой небесный свет.
Не верю я в господа бога,
Ни в Ветхий, ни в Новый завет;
Я в сердце твое лишь верю,
Иного бога нет.
Не верю я в духа злого,
В геену и муки ее;
Я только в глаза твои верю
И в злое сердце твое.
***
Черт возьми твою мамашу
И папашу кстати тоже:
Из-за них вчера весь вечер
Я тебя не видел в ложе.
Впереди они сидели,
Развалясь, почти вплотную,
От моих влюбленных взоров
Скрыв малютку дорогую.
Созерцала эта пара
Двух влюбленных злоключенья,
И, когда они погибли,
Оба были в восхищенье.
***
Когда тебя женщина бросит - забудь,
Что верил ее постоянству.
В другую влюбись или трогайся в путь.
Котомку на плечи - и странствуй.
Увидишь ты озеро в мирной тени
Плакучей ивовой рощи.
Над маленьким горем немного всплакни,
И дело покажется проще.
романс на эти стихи в переводе С. Маршака:
http://www.playcast.ru/view/1696469/8d66aa52f55937cd2536be0a8640c5911a0069aapl
***
Как страстно в розу влюблён мотылёк,
кружит и порхает вокруг,
а солнечный луч в мотылька влюблён,
золотой неотступный друг.
А роза — в кого влюблена она?
О ком вспоминает с тоской?
О трелях сладостных соловья?
О вздохе звезды немой?
Не знаю... Я тоже влюблён, но кто
владеет любовью моей?
Все вместе: роза, звезда, мотылёк,
луч солнца и соловей.

Однако Гейне вовсе не был таким уж легкомысленным порхающим мотыльком, его слёзы и смех стоили ему недёшево, ему были близко знакомы жестокие внутренние бури и разрушительные душевные муки. Вот, например, стихотворение в переводе А. Толстого, которое приоткрывает завесу над тем адом, что творился у него в душе:
Довольно! Пора мне забыть этот вздор!
Пора мне вернуться к рассудку!
Довольно с тобой, как искусный актёр,
Я драму разыгрывал в шутку!
Расписаны были кулисы пестро,
Я так декламировал страстно.
И мантии блеск, и на шляпе перо,
И чувства — всё было прекрасно.
Но вот, хоть уж сбросил я это тряпьё,
Хоть нет театрального хламу,
Доселе болит ещё сердце моё,
Как будто играю я драму!
И что я поддельною болью считал,
То боль оказалась живая, —
О, боже! Я, раненый насмерть, играл,
Гладиатора смерть представляя!
Для человека, хоть сколько-нибудь способного понимать и чувствовать, невозможно не оценить чарующую прелесть гейневской поэзии. И прелесть эта состоит главным образом в неотразимом обаянии личности поэта, сильной, богатой, нежной, страстной. Его стихи, казалось бы, только любовные, выражали всё разностороннее мировосприятие автора. Это столь же любовная поэзия, сколь и философская.

Всё слишком поздно - вздох твой встречный,
Всё поздно - смех твой и привет.
Тобой отвергнутого чувства
Давным давно простыл и след.
Любовь твоя проснулась поздно!
Твой взгляд не властен надо мной,
На сердце падает он так же,
Как луч на камень гробовой.
О знать бы, где душа блуждает,
Когда приходит смертный час?
И где тот ветер, что отвеял?
И где тот пламень, что угас?
Песнь песней
Весной 1831 года Гейне уезжает в Париж в надежде обрести здесь более стабильное положение. В этом городе ему будет суждено прожить четверть века, до самой смерти.

Париж. Итальянский бульвар. 1840-е.
В 30-е годы Гейне пишет новые любовные стихи, которые составили цикл «Разные», вошедший потом в его книгу «Новые стихотворения». Эта книга заметно отличалась от «Книги песен». На смену лунным пейзажам старой романтической Германии пришли картинки большого города, а в качестве лирического героя вместо страдающего юноши предстал опытный насмешливый мужчина. Сменяющие друг друга образы женщин приобрели конкретные земные очертания и утратили ореол недосягаемости. Обилие женских имён: Серафина, Эмма, Анжелика, Диана, Клариса, Иоланта и т. д. говорит о многообразии и лёгкости увлечений поэта. Он с упоением прославлял в этих стихах чувственную свободную любовь.
Скажи, кто открыл нам времени счет,
Придумал часы и размерил год?
То хмурый был, зябкий чудак. За столом
Сидел он в зимние ночи с пером,
Считал - и слушал, как мыши пищали
Да как светлячки монотонно трещали.
Скажи, кто открыл поцелуям счет?
Блаженный, влюбленный, смеющийся рот.
И он не раздумывал - он целовал.
Кругом волшебный май ликовал,
Цветы расцветали, луга зеленели,
Сияло солнце, и птицы пели.
В Германии цикл «Разные» встретил отрицательный приём. Подобные стихи в немецкой поэзии того времени казались дерзким вызовом. Немецкий читатель привык считать, что в стихах неизбежны страдания от любви и разлуки. Впомним, что пушкинский Ленский «с душою прямо геттингенской» тоже «пел разлуку и печаль» и «поблёкший жизни цвет», подчиняясь тому же неписаному канону. А тут — не тоска, не страдания, а чувственная радость и наслаждение.

Немцы — как правило, добрые отцы семейств, супруги, педанты, идеалисты. Их мещанские добродетели были шокированы и оскорблены этими стихами Гейне. Издатели советуют ему отказаться от этой книги. Однако Гейне решительно отверг все моралистические упрёки. Он отвечает критикам, что речь здесь не о моральных потребностях женатого бюргера в каком-нибудь германском местечке, а об автономии искусства. «Мой девиз, - пишет он, - искусство — цель искусства, как любовь — цель любви и даже жизнь — цель жизни».
За столиком чайным в гостиной
Спор о любви зашел.
Изысканны были мужчины,
Чувствителен нежный пол.
— Любить платонически надо! —
Советник изрек приговор,
И был ему тут же наградой
Супруги насмешливый взор.
Священник заметил: — Любовью,
Пока ее пыл не иссяк,
Мы вред причиняем здоровью.
Девица спросила: — Как так?
— Любовь — это страсть роковая!
Графиня произнесла
И чашку горячего чая
Барону, вздохнув, подала.
Тебя за столом не хватало.
А ты бы, мой милый друг,
Верней о любви рассказала,
Чем весь этот избранный круг.
Гейне назло всем ханжам и аскетам пишет стихи о прелестях женского тела, о любви грешной и плотской, отнюдь не освящённой таинством брака, и называет этот цикл библейским именем «Песнь песней».

Женское тело — те же стихи!
Радуясь дням созиданья,
Эту поэму вписал Господь
В книгу судеб мирозданья.
Был у Творца великий час,
Его вдохновенье созрело.
Строптивый, капризный материал
Оформил он ярко и смело.
Воистину женское тело — Песнь,
Высокая Песнь Песней!
Какая певучесть и стройность во всем!
Нет в мире строф прелестней.
Один лишь вседержитель мог
Такую сделать шею
И голову дать — эту главную мысль
Кудрявым возглавьем над нею.
А груди! Задорней любых эпиграмм
Бутоны их роз на вершине.
И как восхитительно к месту пришлась
Цезура посредине!
А линии бедер: как решена
Пластическая задача!
Вводная фраза, где фиговый лист —
Тоже большая удача.
А руки и ноги! Тут кровь и плоть
Абстракции тут не годятся,
Губы — как рифмы, но могут при том
Шутить, целовать и смеяться.
Сама Поэзия во всем,
Поэзия — все движенья.
На гордом челе этой Песни печать
Божественного свершенья.
Господь, я славлю гений твой
И все его причуды,
В сравненье с тобою, небесный поэт,
Мы жалкие виршеблуды.
Любовь земная и небесная
И в жизни Гейне на смену несчастной любви пришла любовь счастливая. В 1834 году он познакомился с 19-летней Эжени Мира - Матильдой, как называл её Гейне. Эта молоденькая миловидная француженка приехала в Париж из провинции. Легкомысленная, расточительная, не знающая ни слова по-немецки, она ничего не смыслила в занятиях своего знаменитого возлюбленного, но Гейне очень любил её и посвятил ей немало стихов.

В мемуарной литературе о Матильде пишут обычно в негативном ключе: невежественная, недалёкая, ничего не понимала в творчестве поэта, он жил с чуждым по духу человеком, был несчастлив... Это не так. Весёлая, жизнерадостная, бойкая, Матильда была добра, верна и предана Гейне до самозабвения. Он очень привязался к этой девочке, для него жизненной потребностью стало видеть её ежедневно, слушать её беспечную болтовню. Он отдыхал возле неё душой и забывал хоть на время тяготы жизни.
Гейне было уже тридцать восемь, ей — вдвое меньше, он был избалован успехом у красивых, умных, образованных светских женщин, а Матильда — простая деревенская девчонка, почти неграмотная, с грубоватой речью, вульгарными манерами. На улице она хохотала во всё горло, переругивалась с хмельными прохожими, в ресторане, съев пирожное, облизывала пальцы, не замечая насмешливых взглядов. Она забавляла Гейне, но он понимал, что не может жениться на ней и пытался расстаться, чтобы не морочить ей зря голову. Уходил, надарив на прощание безделушек, цветов, конфет. Но проходило время и он чувствовал, что не может без неё и вновь возвращался. А она визжала и плакала от радости, повиснув у него на шее. Потом Гейне снял квартиру, где они жили в гражданском браке.
Самой серьёзной соперницей Матильды долго была Жорж Санд.

Она привлекала Гейне властью женского обаяния, сдержанной и неутомимой страстностью, силой мысли, щедростью таланта, - он был убеждён, что она — лучший прозаик Франции. А главное, что притягивало к ней Гейне — ощущение душевной близости и родственности их судеб. Оба были независимых взглядов, оба искали своё настоящее место в мире пёстрой мишурной суеты и, мечтая о всепоглощающей истинной любви, безоглядно бросались то в одни, то в другие объятия. Жорж Санд писала о Гейне в своём дневнике: «Сердце у Гейне столь же доброе, сколь язык его зол. Он нежен, самоотвержен, предан, в любви романтичен. Он такой же, как его поэзия — смесь возвышенной чувствительности и самой весёлой страсти к насмешкам».
Древние различали небесную и земную любовь. Матильда была, конечно, земной любовью. Она докучала грубой ревностью, даже набрасывалась на поэта с кулаками, оставалась глуха к тому, что было смыслом его жизни — поэзии, не прочла ни одного стихотворения Гейне. Жорж Санд понимала его самые тонкие и тайные мысли, улавливала его мгновенные настроения, она казалась во всём ему вровень. Но она и мучила его куда злее, чем добрая простушка Матильда — уходила от него сначала к Мюссе, потом к Шопену, к артистам, писателям, адвокатам, иногда любила одновременно двоих, ничего не скрывая. И Гейне, при всей широте его взглядов, вынести это было тяжело.
Устав от «высоких отношений» с Жорж Санд, он всё чаще возвращался к Матильде, которая встречала его радостным смехом, бранью, пинками и объятиями. Она была чистой, цельной натурой, для которой Гейне был единственным светом в окошке. Поэт шесть лет прожил с ней вне брака и наконец женился. Отпраздновал он свою свадьбу весьма необычно: пригласил только тех друзей, которые жили в свободном браке и которым он хотел подать достойный пример. С самым серьёзным видом Гейне умолял их жениться на своих возлюбленных.
А чтобы не стесняться невежественности и неотёсанности своей супруги, Гейне помещает Матильду в закрытый пансион для благородных девиц, где её обучали грамматике, бальным танцам, светскому этикету и хорошим манерам. Когда она гордо демонстрировала перед ним свежеприобретённые познания, Гейне чувствовал себя Пигмалионом. А в том, что она не имела понятия о его произведениях, он даже видел хорошую сторону, считая, что это свидетельствует о её искренней любви именно к нему, а не к его таланту и славе. И после восьми лет супружеской жизни писал брату: «Моя жена — доброе, искреннее, весёлое дитя, она не позволяет мне погружаться в меланхолические думы, к которым я так склонен. Вот уже 8 лет я люблю её с нежностью и страстностью, доходящими до беспамятства».

Гейне и Матильда. Художник Эрнст Венедикт Китц. 1851г.
Гейне-сатирик
При жизни Гейне завоевал себе прочную репутацию одного из самых остроумных людей своего времени. Его остроты и шутки, порой весьма язвительные и злые, были широко популярны в светских салонах и воспроизводились на страницах немецкой и французской прессы, порождая анекдоты и легенды, обрастая всё новыми вариантами. Но тем, кто утверждал, что Гейне — «сверкающий талант», способный лишь блистать остроумием, поэт решительно ответил:
Сверкать я молнией умею.
Так вы решили: я – не гром.
Как вы ошиблись! Я владею
И громовержца языком.
И только нужный день настанет –
Я должен вас предостеречь:
Раскатом грома голос грянет,
Ударом грозным станет речь.
И поэт сдержал слово. Он стал мастером политической сатиры.

Да, я смеюсь! Мне пошлый фат смешон,
Уставивший в меня баранье рыло.
Смешна лиса, что ухо навострила
И нюхает меня со всех сторон.
Принявшая судьи надменный тон,
Смешна высокомудрая горилла,
Смешон и трус, готовящий кадило,
Хотя кинжал и яд припрятан он.
Когда судьба, нарушив наш покой,
Игрушки счастья пестрые сломала
И в грязь швырнула, черни на потеху,
Когда нам сердце грубою рукой
Разорвала, разбила, растерзала, -
Тогда черед язвительному смеху.
В своих сатирических стихах он высмеивал политических шарлатанов, учёных педантов, убогих филистеров, продажных политиков.
Кто имеет много благ,
Тем, глядишь, ещё даётся.
Кто лишь малым наделён,
Тот с последним расстаётся.
А уж если гол и бос,
Лучше саван шей заране.
Тот имеет право жить,
У кого звенит в кармане.
В своих сатирах он нередко переводит действие в животное царство и тогда стихи напоминают басни и притчи. Такова, например, баллада «Ослы-избиратели», которая воспринимается в свете последних политических событий весьма актуально.
Свобода приелась до тошноты.
В республике конско-ослиной
Решили выбрать себе скоты
Единого властелина.
Предвыборная речь, которую произносит осёл, полностью воспроизводит пресловутую теорию исключительности немецкой расы:
Когда же кто-то осмелился вслух
Коня предложить в кандидаты,
Прервал его криком седой Длинноух:
«Молчи, изменник проклятый!
Ни капли крови осла в тебе нет.
Какой ты осел, помилуй!
Да ты, как видно, рожден на свет
Французскою кобылой!
Иль, может, от зебры род хилый твой.
Ты весь в полосах по-зебрейски.
А впрочем, тебя выдает с головой
Твой выговор еврейский.
Оратор гордится своим чистокровным ослиным происхождением:
Я не из римлян, не славянин,
Осел я немецкий, природный.
Я предкам подобен, — они как один
Все были умны и дородны.
Какое счастье быть сыном ослов,
Родиться в ослином сословье!
Я с каждой крыши кричать готов:
«Смотрите, осел из ослов я!»
Отец мой покойный, что всем знаком,
Осел был немецкий, упрямый.
Ослино-немецким молоком
Вскормила меня моя мама.
Осел я и сын своего отца,
Осел, а не сивый мерин!
И я заветам ослов до конца
И всей ослятине верен.
Я вам предлагаю без лишних слов
Осла посадить на престоле.
И мы создадим державу ослов,
Где будет ослам раздолье.
Мы все здесь ослы! И-а! И-а!
Довольно терзали нас кони!
Да здравствует ныне и присно — ура!
Осел на ослином троне!»
Оратор кончил. И грохнул зал,
Как гром, при последней фразе,
И каждый осел копытом стучал
В национальном экстазе.
Его увенчали дубовым венком
Под общее ликованье.
А он, безмолвно махая хвостом,
Благодарил собранье.
Над сатирой Гейне смеялись ещё и столетия спустя, смеялись в Германии и во Франции, в России и в Англии, во всех странах, где появлялись его переводы. И как ненавидели его те, кто узнавал себя в его жгуче-издевательских стихах, и все их сородичи и потомки, прямые и косвенные. И это ещё один из источников бессмертия его поэзии — их бессмертная ненависть.
Чужой среди своих
Рейнские земляки Гейне, добропорядочные пруссаки, возмущались его писаниями, видя в них безбожное, безнравственное зубоскальство, обвиняя его в антипатриотизме. И в декабре 1835 в Германии вышел закон, запрещающий издание и распространение всех сочинений Гейне. Доступ в Германию самому Гейне отныне был закрыт. Приказы о его аресте поджидали поэта на каждой станции, начиная от немецкой границы.
Гейне прожил во Франции четверть века, большую часть своей творческой жизни, за это время лишь дважды побывав в Германии. Но внутренне он неразрывно был связан с ней. Он любил свою родину «странной», то есть подлинной любовью. Франция так и не стала ему родной.

Тебя, Германию родную,
Почти в слезах мечта зовёт!
Я в резвой Франции тоскую,
Мне в тягость ветреный народ.
Сухим рассудком, чувством меры
живёт блистательный Париж.
О глупый бубен, голос веры,
как сладко дома ты звучишь!
Учтивы люди. Но с досадой
встречаю вежливый поклон.
В отчизне истинной отрадой
была мне грубость испокон.
Прелестны дамы. Как трещотки,
не знают устали болтать.
Милей немецкие красотки,
без слов идущие в кровать.
Здесь каруселью исступлённой
всё кружится, как дикий сон.
У нас — порядок заведённый
навеки к месту пригвождён.
В дубравах Шильды безмятежной
таким счастливым был поэт!
Там в звуки рифм вплетал я нежно
фиалки вздох и лунный свет.
И это писал человек, снискавший репутацию повесы, ветреника, насмешника, даже циника, а главное – явного французофила! С такой репутацией добиться любви немцев было невозможно, а за Гейне числились и другие «грехи» (ведь он был прирождённым возбудителем и нарушителем спокойствия), так что его любовь к Германии осталась неразделённой.
Прощание с Венерой
Тем временем здоровье Гейне, которым он и молодости не мог похвастаться (всю жизнь мучили головные боли, не мог выносить ни малейшего шума, болели глаза), стремительно ухудшалось. В мае 1848 года поэт, с трудом передвигаясь, в последний раз выходит из дома. На улице на него накатила дикая боль, он едва не потерял сознание. Так худо ему ещё никогда не было. «Может быть, это его последнее утро?» - подумал он. «И последние шаги?» Он лихорадочно соображал: куда идти? Что бы ему хотелось повидать в последний раз больше всего? Сену? Бульвары? Нотр-Дам? Сейчас надо повидать самое-самое... Ноги сами понесли его в Лувр. Каждый шаг отдавался болью. Он часто останавливался, цепляясь за чугунные прутья ограды и снова шёл, тяжело опираясь на трость.
Наконец Гейне добрался до Малого зала, где так часто бывал раньше, в котором на невысоком пьедестале стояла статуя Венеры Милосской. Он медленно поднимал веко (чтобы видеть, ему надо было поднимать их руками), и перед ним как в тумане открывались смутные очертания божественного женского тела. Великий жизнелюбец, Гейне со слезами на глазах прощался с миром красоты, в котором был своим человеком.

И богиня, казалось, сочувственно смотрела на него с высоты, но в то же время так безнадёжно, как будто хотела сказать: «Разве ты не видишь, что у меня нет рук и я не могу тебе помочь?» Он смотрел и плакал. Плакал от счастья, от боли и от бессилия.
Гейне едва помнил, как добрался домой. (По некоторым свидетельствам, его доставили туда на носилках). Больше он уже никогда не выйдет на улицу. Врачи поставят безнадёжный диагноз: прогрессивный паралич.
Заживо погребённый
Внешний мир Гейне сузился необычайно. Полуослепший, он едва различал контуры комнаты, к которой был пригвождён недугом. Тело его постепенно ссыхалось, костенело, отмирало, но дух продолжал жить — весёлый, азартный дух. Презирая физические муки, Гейне каждую свободную минуту использовал для творчества. Ему приходилось прибегать к помощи секретарей, диктовать им свои произведения или часами слушать чтение нужных книг и материалов. В этом состоянии он создал треть своего наследия.

Гейне, прикованный к постели. Неизвестный художник с рис. Шарля Габриэля Глейера. 1852.
Говорили, что на этом портрете Гейне похож на Христа.
Как медлит время, как ползет
Оно чудовищной улиткой!
А я лежу не шевелясь,
Терзаемый все той же пыткой.
Ни солнца, ни надежды луч
Не светит в этой темной келье,
И лишь в могилу, знаю сам,
Отправлюсь я на новоселье.
Быть может, умер я давно,
И лишь видения былого
Толпою пестрой по ночам
В мозгу моем проходят снова.
Иль для языческих богов,
Для призраков иного света
Ареной оргий гробовых
Стал череп мертвого поэта?
Из этих страшных, сладких снов,
Бегущих в буйной перекличке,
Поэта мертвая рука
Стихи слагает по привычке.
Сам Гейне так говорил об этих своих стихах: «Это как бы жалоба из могилы, это кричит в ночи заживо погребённый или даже мертвец, или даже сама могила. Да, да, таких звуков немецкая лирика ещё не слышала, да и не могла их слышать, ибо ни один поэт ничего подобного не пережил».
Для Гейне потянулись долгие годы мучительной агонии. Восемь лет он был прикован к своей «матрацной могиле», как он её называл: из-за острых болей в позвоночнике Гейне мог лежать только на широком и низком ложе, составленном из 12 тюфяков, сложенных на полу один на другой. Худой, как скелет, с закрытыми глазами, с парализованными руками, он ещё находил силы шутить...
О господи, пошли мне смерть,
Внемли моим рыданьям!
Ты сам ведь знаешь, у меня
Таланта нет к страданьям.
Прости, но твоя нелогичность, Господь,
Приводит меня в изумленье.
Ты создал поэта-весельчака
И портишь ему настроенье!
От боли веселый мой нрав зачах,
Ведь я уже меланхолик!
Кончай эти шутки, не то из меня
Получится католик!
Всё тело его ссохлось и скорчилось, так что сиделка легко поднимала его одной рукой, как ребёнка, перестилая постель. А он комментировал: «На родине, дескать,в благословенной Германии, исходят в ненависти к нему, а здесь — пожалуйста, на руках носят! и кто? - женщины!»
Ламентации
Последняя книга Гейне называлась «Ламентации» (то есть жалобы, сетования). Это и воспоминания о молодости, и скорбные размышления, философские раздумья, своей интимностью напоминающие дневник или исповедь. Через всю книгу проходит тема итога, конца. Вот, например, насмешливо-лирическое стихотворение «День поминовения», где поэт пытается представить свою скорую смерть, причём пишет об этом очень просто, без всякой патетической торжественности:
Не прочтут унылый кадиш,
Не отслужат мессы чинной,
Ни читать, ни петь не будут
В поминальный день кончины.
Но, быть может, на поминки,
Если будет день погожий,
На Монмартр моя Матильда
С Паулиной выйдет все же.
Гейне рисует бытовую картинку: в годовщину смерти на могилу поэта пришла его вдова с приятельницей. Толстушка Матильда устала — поэт лежит слишком высоко (Монмартровское кладбище расположено на возвышенности), но он не может, увы, предложить ей стула, и советует жене не возвращаться домой пешком:
К сожаленью, я теперь
высоко живу немножко.
Нету стульев для неё -
ах, устали милой ножки.
Прелесть толстая моя!
Уж домой ты, ради бога,
не ходи пешком. Фиакров
у заставы очень много.
И всё. И ничего — о смысле жизни, ничего о бессмертии... Смерть — просто житейский факт и не нуждается ни в каком философском оправдании и объяснении.
В часах песочная струя
Иссякла понемногу.
Сударыня ангел, супруга моя,
То смерть меня гонит в дорогу.
Смерть из дому гонит меня, жена,
Тут не поможет сила.
Из тела душу гонит она,
Душа от страха застыла.
Не хочет блуждать неведомо где,
С уютным гнездом расставаться,
И мечется, как блоха в решете,
И молит: «Куда ж мне деваться?»
Увы, не поможешь слезой да мольбой,
Хоть плачь, хоть ломай себе руки!
Ни телу с душой, ни мужу с женой
Ничем не спастись от разлуки.
«Жена моя — очаровательная баба»
Подводя итоги, Гейне говорил, что он прожил по-настоящему счастливую жизнь. «И самым высшим счастьем была моя жена», - признавался он. И писал в письме брату: «Жена моя — чудесная очаровательная баба, и когда она верещит не слишком громко, то голос её — бальзам для моей больной души. Я люблю её со страстью, которая превышает мою болезнь, и в этом чувстве я силён, как ни слабы и ни бессильны мои члены». И об этом — в стихах:
Меня не тянет в рай небесный,-
Нежнейший херувим в раю
Сравнится ль с женщиной прелестной,
Заменит ли жену мою?
Мне без нее не надо рая!
А сесть на тучку в вышине
И плыть, молитвы распевая,-
Ей-ей, занятье не по мне!
На небе -- благодать, но все же
Не забирай меня с земли,
Прибавь мне только денег, Боже,
Да от недуга исцели!
Я огражден от черни вздорной,
Гулять и трудно мне и лень.
Люблю, халат надев просторный,
Сидеть с женою целый день.
И счастья не прошу другого,
Как этот блеск лукавых глаз,
И смех, и ласковое слово, —
Не огорчай разлукой нас!
Гейне никогда не был верующим, был скептиком и вольнодумцем в вопросах религии, пародийно переосмыслял библейские темы, писал антиклерикальные стихи («Царь Давид», «Диспут»). Но вот трогательное стихотворение, обращённое к Матильде, которое иначе как молитвой не назовёшь:
Мое дитя, жена моя,
Когда тебя покину я,
Ты здесь, оставленная мной,
Вдовою станешь, сиротой,
Жена-дитя, что мирно так, бывало,
У сердца моего опочивала.
Вы, духи светлые в раю,
Услышьте плач, мольбу мою:
От зол, от бед и темных сил
Храните ту, что я любил;
Свой щит, свой меч над нею вы прострите,
Сестру свою, Матильду, защитите.
Во имя слез, что столько раз
Роняли вы, скорбя по нас,
Во имя слова, что в сердцах
Священников рождает страх,
Во имя благости, что вы таите,
Взываю к вам: Матильду защитите.
Мушка
Однажды в один из июньских дней 1855 года Гейне услышал в прихожей женский голос — молодой, мелодичный, с лёгким немецким акцентом. Поэт услышал родную немецкую речь, которая в его доме звучала так редко... Это была Элиза Криниц — так звали эту женщину — немецкая писательница и переводчица. К своим 27 годам она успела побывать замужем, разойтись и зарабатывала на жизнь, пописывая в газету под псевдонимом Камилла Зельден. Она выполняла просьбу некоего почитателя Гейне, который, узнав, что она едет в Париж, просил передать поэту несколько музыкальных пьес на его стихи. Гейне дёрнул за звонок и крикнул: «Войдите ко мне, сюда!» Он услышал быстрые лёгкие шаги, стук, испуганный возглас — она споткнулась о ширму.
- Подойдите ближе, ещё ближе, я хочу Вас разглядеть. Как Вас зовут? Сядьте ближе. Не бойтесь, я ещё не мёртв, это кажется только на первый взгляд. Но женщинам я уже не опасен!
А вот как вспоминала об этом она: «Позади ширмы на довольно низкой постели… больной, полуслепой человек… выглядел значительно моложе своих лет. Черты его лица были в высшей степени своеобразны и приковывали к себе внимание; мне казалось, что я вижу перед собой Христа, по лицу которого скользит улыбка Мефистофеля».
Это была среднего роста миловидная женщина. Вот как описывала её сестра Гейне, приехавшая его навестить: «скорее милая, чем красивая, каштановые волосы обрамляют лицо с плутоватыми глазами… маленький ротик,…при разговоре или улыбке обнажает жемчужные зубки. Ножки и ручки маленькие и изящные, все ее движения необычайно грациозны».
Она заговорила, и он всё больше радовался, прислушиваясь к её речи. Она говорила то по-немецки, то по-французски, вспоминала его стихи. Ещё девочкой она полюбила их. Она ему писала в прошлом месяце, хотела его видеть. Ах, он не получил её письма? Она хотела только увидеть любимого поэта, только поцеловать руку, написавшую «Книгу песен».
Он слушал и верил каждому слову, каждому колебанию взволнованного голоса и хотел слушать ещё и ещё, и не выпускать маленькую, нежную и сильную руку.
Так в его жизнь опять вошла любовь. И в этом не могли его изменить ни паралич, ни боли, ни близость смерти. Он любил страстно, безоглядно... И, как всегда, его любовь становилась поэзией.
Тебя мой дух заворожил.
И чем горел я, чем я жил,
тем жить и тем гореть должна ты,
его дыханием объята.
Давно в земле истлел мой прах,
но дух мой, старый вертопрах,
с мечтой о тёпленьком местечке
свил гнёздышко в твоём сердечке.
С тобой навеки сопряжён,
где будешь ты, там будет он,
и жить должна ты, чем я жил -
тебя мой дух заворожил.
Немудрено, что этот исполинский дух буквально заворожил молодую женщину. Гейне прозвал новую подругу «Мушкой». Она запечатывала свои письма к нему печатью с рисунком мухи. Это имя удивительно ей шло. Мушка стала его чтицей, первой слушательницей новых стихов. Она и сама сочиняла стихи, и он слушал их внимательно и придирчиво, поправлял и советовал. Она понимала его с полуслова. Никто ещё не говорил о его поэзии так умно и неподдельно взволнованно, как эта маленькая таинственная женщина. Она и впрямь была его тайной — его большой тайной радостью.
Матильда это вскоре учуяла и почти открыто ревновала. Она сердито уходила из комнаты, едва услышав голос Мушки, гневно фыркала при упоминании её имени, клокотала от злости, ревнуя полумёртвого, но жалела его и старалась сдерживаться. Гейне выбирал для свиданий с Элизой те дни, когда Матильда куда-нибудь уезжала. Мушка стала его секретарём, доверенным лицом, близким другом.
«Приходи поскорей, - писал он ей, - как только угодно будет Вашему благородию, как только будет возможно, приходи, моё дорогое швабское личико! Ах, эти слова получили бы менее платонический смысл, если б я ещё был человеком. Но, к сожалению, я уже лишь дух...» Он ждал её с таким нетерпением, что это ожидание становилось для него пыткой.
Пытай меня, избей бичами,
На клочья тело растерзай,
Рви раскаленными клещами, —
Но только ждать не заставляй!
Пытай жестоко, ежечасно,
Дроби мне кости ног и рук,
Но не вели мне ждать напрасно, -
О, это горше лютых мук!
Весь день прождал я, изнывая,
Весь день, — с полудня до шести!
Ты не явилась, ведьма злая,
Пойми, я мог с ума сойти!
Меня душило нетерпенье
Кольцом удава, стыла кровь,
На стук я вскакивал в смятенье,
Но ты не шла,— я падал вновь...
Ты не пришла, — беснуюсь, вою,
А дьявол дразнит: «Ей-же-ей,
Твой нежный лотос над тобою
Смеется, старый дуралей!»
В этих стихах — мучительная ирония поэта над собой — больным и влюблённым, над их запоздалым чувством.
Теперь я знаю: всех дороже
Была ты мне. Как горько, Боже,
Когда в минуту узнаванья
Час ударяет расставанья,
Когда, встречаясь на пути,
Должны мы в тот же миг «прости»
Сказать навек! Свиданья нет
Нам в высях, где небесный свет.
Элиза Криниц у постели Генриха Гейне. Гравюра Г.Лефлер. Музей д’Орсе, Париж.
Эта любовь осветила последние полгода жизни Гейне. Двадцать пять его записок к Элизе — это маленькая поэма о большой любви. Последние его стихи “Мушке” и “Лотос” (с подзаголовком "Мушке") обессмертили ее имя.
Цветок, дрожа, склонялся надо мной,
Лобзал меня, казалось, полный муки;
Как женщина, в тоске любви немой
Ласкал мой лоб, мои глаза и руки.
О, волшебство! О, незабвенный миг!
По воле сна цветок непостижимый
Преобразился в дивный женский лик, —
И я узнал лицо моей любимой...
В «Мемуарах» он пишет: «Когда кровь медленнее течет в жилах, когда любит только одна бессмертная душа… она любит неспешнее и уже не так бурно, зато… бесконечно глубже, сверхчеловечнее…»
Эпилог на ЖЖ: http
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю
"Когда Вы стоите на моём пути, такая живая, такая красивая..." |
Начало здесь.

Истории известны имена многих женщин - подвижниц, посвятивших себя безраздельному служению обществу. Среди них - Мать Мария, в миру - Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, известная русская поэтесса, публицист, философ, общественно-религиозный деятель. 21 декабря исполнилось 110 лет со дня её рождения.
«Он владеет моей тайной...»
Родилась Елизавета Кузьмина-Караваева (урождённая Пиленко) в Риге 21 декабря 1891 года в семье юриста.

Дом, где прошло детство Е. Кузьминой-Караваевой
В детстве она жила с семьёй в Анапе, в Ялте, и только в 1906 году переехала в Петербург, куда был переведён на службу отец. В этом же году он скоропостижно скончался, и эта смерть потрясла девочку. С этого момента кончилось её детство. Перед ней открылся, как она писала, «бедный мир, в котором нет Бога, в котором царствует смерть, горе, зло и несправедливость».

Ей 15 лет, она учится в гимназии, ей трудно привыкнуть к Петербургу с его короткими зимними днями, жить в окружении чужих и, как ей казалось, равнодушных людей. Она часто пропускала уроки, сбегая на пустыри, на городские окраины и бродила там часами.
«На улицах рыжий туман. Падает рыжий снег. Никогда, никогда нет солнца», - писала она в дневнике.

И сами собой складывались стихи:
Не то, что мир во зле лежит, не так, -
Но он лежит в такой тоске дремучей.
Всё сумерки - а не огонь и мрак,
Всё дождичек - не грозовые тучи.
За первородный грех Ты покарал
Не ранами, не гибелью, не мукой, -
Ты просто нам всю правду показал
И все пронзил тоской и скукой.
Из дневника Лизы Пиленко: «Я ненавидела Петербург. Самая острая тоска за всю жизнь была именно тогда и душе хотелось подвига, гибели за всю неправду мира, чтобы не было этого рыжего тумана и бессмыслицы. Я бродила часами, писала стихи, места себе не находила. Смысла не было не только в моей жизни, во всём мире безнадёжно утрачивался смысл».
Однажды старшая двоюродная сестра повела Лизу на литературный вечер. Там выступали поэты-декаденты. Всё, что звучало в зале, было ей малоинтересно, не задевало сердца. И вдруг…
Много лет спустя она вспоминала поразившего её чтеца, вновь и вновь переживая тот важный для нее вечер: «Очень прямой, немного надменный. Голос медленный, усталый, металлический. Темномедные волосы, лицо не современное, а будто со средневекового надгробного памятника, из камня высеченное, красивое и неподвижное. Читает «По вечерам, над ресторанами...", " Незнакомка"... ещё читает.
В моей душе - огромное внимание. Человек с таким далёким, безразличным, красивым лицом. Это совсем не то, что другие. Передо мной что-то небывалое, головой выше всего, что я знаю. Что-то отмеченное... В стихах много тоски, безнадёжности, много голосов страшного Петербурга, рыжий туман, городское удушье. Они не вне меня, они поют во мне самой, они как бы мои стихи. Я уже знаю, что ОН владеет тайной, около которой я брожу, с которой почти сталкивалась столько раз во время своих скитаний по островам этого города.
Спрашиваю сестру: " Посмотри в программе - кто это?" Отвечает:"Александр Блок".

Потом ей достали томик стихов Блока, и она поняла, что он — единственный, кто может ей помочь унять душевную смуту. «Стихи непонятные, но пронзительные, - от них никуда мне не уйти. "Убей меня, как я убил когда-то близких мне. Я всё забыл, что я любил, я сердце вьюгам подарил..." Я не понимаю... но и понимаю, что он знает мою тайну. Читаю всё, что есть у этого молодого поэта. Дома окончательно выяснено: я - декадентка. Я действительно в небывалом мире. Сама пишу, пишу о тоске, о Петербурге, о подвиге, о народе, о гибели, ещё о тоске и... о восторге!»
«Уходя с Галерной, я оставила часть души там...»
Она узнаёт его адрес и идёт к нему на Галерную 41, чтобы получить от него ответы на мучившие её вопросы. Не застаёт. Идёт во второй, опять не застаёт, не застаёт и в третий, но уже не уходит, а ждёт его бесстрашно в маленькой комнате с огромным портретом Менделеева, с какими-то большими вещами, с образцовым порядком во всём, пустынным письменным столом; ей кажется, что она в жилище не поэта, а химика.
Но вот появляется вернувшийся домой поэт «в чёрной широкой блузе с отложным воротником, очень тихий, очень застенчивый», и она выкладывает одним махом о тоске, о бессмыслице жизни, о жажде подвига. «Он внимателен, почтителен и серьёзен, он всё понимает, совсем не поучает и, кажется, не замечает, что я не взрослая». Сам Блок кажется ей страшно взрослым - «ему, наверное, лет 25». А она ещё гимназистка, ей едва исполнилось 16.
Блоку же в этот период было вовсе не до новых знакомств. По словам В.Пяста, «состояние духа Блока в ту пору было трагическое».

Из воспоминаний Е. Кузьминой-Караваевой:
«Наконец собираюсь с духом, говорю всё сразу. "Петербурга не люблю, рыжий туман ненавижу, не могу справиться с этой осенью, знаю, что в мире тоска, брожу по островам часами, и почти наверное знаю, что Бога нет". Всё это одним махом выкладываю.
Он спрашивает, отчего я именно к нему пришла? Говорю о его стихах, о том, как они просто вошли в мою кровь и плоть, о том, что мне кажется, что у него ключ от тайны, прошу помочь.
Мы долго говорим. За окном уже темно. Вырисовываются окна других квартир. Он не зажигает света. Мне хорошо, я дома, хотя многого не могу понять. Я чувствую, что около меня большой человек, что он мучается больше, чем я, что ему ещё тоскливее, что бессмыслица не убита, не уничтожена. Меня поражает его особая внимательность, какая-то нежная бережность. Мне этого БОЛЬШОГО ЧЕЛОВЕКА ужасно жалко. Я начинаю его осторожно утешать, утешая и себя одновременно.
Странное чувство. Уходя с Галерной, я оставила часть души там. Это не полудетская влюблённость. На сердце скорее материнская встревоженность и забота. А наряду с этим сердцу легко и радостно. Хорошо, когда в мире есть такая большая тоска, большая жизнь, большое внимание, большая, обнажённая, зрячая душа».

Галерная улица, дом 41 . Здесь, в дворовом флигеле особняка А. И. Томсен-Боннара Александр Блок жил с 1907 по 1910 год. Весной 1910 года Блок навсегда уехал с Галерной, 41, где в квартире № 4 прожил (исключая отлучки) два плодотворных, но «мрачных» года.

дворовый флигель дома, где жил Блок
К сожалению, мало кто из горожан об этом знает – на доме до сих пор нет памятной доски. Сейчас вы не увидите в нем никаких остатков былой роскоши – парадный вход заделан, а отделка была утрачена, когда комнаты приспосабливали под коммуналки.
«Женщина с деятельной любовью»
Через неделю Елизавета получает письмо в необычном ярко-синем конверте. В письме стихи:
Когда вы стоите на моем пути,
Такая живая, такая красивая,
Но такая измученная,
Говорите все о печальном,
Думаете о смерти,
Никого не любите
И презираете свою красоту -
Что же? Разве я обижу вас?
О, нет! Ведь я не насильник,
Не обманщик и не гордец,
Хотя много знаю,
Слишком много думаю с детства
И слишком занят собой.
Ведь я - сочинитель,
Человек, называющий все по имени,
Отнимающий аромат у живого цветка.
Сколько не говорите о печальном,
Сколько ни размышляйте о концах и началах,
Все же я смею думать,
Что вам только пятнадцать лет.
И потому я хотел бы,
Чтобы вы влюбились в простого человека,
Который любит землю и небо
Больше, чем рифмованные и нерифмованные
Речи о земле и о небе.
Право, я буду рад за вас,
Так как - только влюбленный
Имеет право на звание человека.
Её обидел, даже рассердил «поучающий», как ей показалось, тон стихотворения. Девочка, которая ощущала на сердце материнскую тревогу и заботу, не хотела, чтобы к ней обращались как к девочке. В письме была фраза, которая её задела: «Если не поздно, то бегите от нас, умирающих».
«Не знаю, отчего, но я негодую. Бежать - хорошо же. Рву письмо, и синий конверт рву. Кончено. Убежала. Так и знайте, Александр Александрович, человек, всё понимающий, понимающий, что значит бродить без цели по окраинам Петербурга и что значит видеть мир, в котором Бога нет. Вы умираете, а я буду бороться со смертью, со злом, и за Вас буду бороться, потому что у меня к Вам жалость, потому что Вы вошли в моё сердце и не выйдите из него никогда».
Совету Блока Лиза тогда не последовала: не перестала любить поэта, хотя встреч с ним больше не искала. Не по годам взрослая гимназистка произвела тогда сильное впечатление на Блока. Именно с такой девушкой могло быть связано ожидание действенной и жертвенной любви, о которой он мечтал в то тяжёлое для него время. И писал тогда жене, жизнь с которой не клеилась: «Кажется, ни один год не был ещё так мрачен, как этот, проклятый, начиная с осени... Мне надо, чтобы около меня был живой и молодой человек, женщина с деятельной любовью...»
Будет день, словно миг веселья.
Мы забудем все имена.
Ты сама придешь в мою келью
И разбудишь меня от сна.
По лицу, объятому дрожью,
Угадаешь думы мои.
Но всё прежнее станет ложью,
Чуть займутся Лучи Твои.
Как тогда, с безгласной улыбкой
Ты прочтешь на моем челе
О любви неверной и зыбкой,
О любви, что цвела на земле...
Он смутно почувствовал в этой девочке внутреннюю силу, которой ему так не хватало для жизни... Лиза Пиленко с юных лет была борцом по натуре. Она никогда не мирилась с косностью, злом, несправедливостью, она умела рисковать. И не случайно в одном из своих поздних стихотворений писала:
Не буду числить ни грехов, ни боли.
Другой исчислит. Мне же - только в бой.
Как это созвучно знаменитой блоковской фразе: «И вечный бой! Покой нам только снится".
«Я всё та же и так же люблю»
Время победило её тоску. В 1910 году Лиза Пиленко выходит замуж за известного в петербургском мире молодого юриста Дмитрия Кузьмина-Караваева.

Тот был дружен со многими столичными поэтами, и вместе с мужем молодая женщина стала часто посещать знаменитую башню Вячеслава Иванова, где знакомится с Ахматовой, Гумилёвым, Мандельштамом. На одном из вечеров муж сказал, что хочет её познакомить с Блоками.
 .
.
Из воспоминаний Е. Кузьминой-Караваевой:
«Но я заявила, что знакомиться не хочу, - и он ушёл. Я забилась в глубину своего ряда и успокоилась.
Вскоре муж вернулся, но не один, а с высокой, полной и, как мне показалось, насмешливой дамой... и с Блоком. Прятаться я больше не могла. Надо было знакомиться. Дама улыбалась. Блок протягивал руку. Я сразу поняла, что он меня узнал. Он произнёс: " Мы с Вами встречались". Опять я вижу на его лице знакомую, понимающую улыбку. Он спрашивает, продолжаю ли я бродить. Как "справилась" с Петербургом. Отвечаю невпопад. Любовь Дмитриевна приглашает нас обедать...
Встретились мы с Блоком, как приличные люди, в приличном обществе. Не то, что первый раз, когда я с улицы, из петербургского тумана, ворвалась к нему. Блок мог придти к нам в гости, у нас была масса общих знакомых, друзей, у которых мы тоже могли встретиться».
Но встречи эти всегда были на людях, светские, семейные, и поговорить, как тогда, наедине, представлялось невозможным... Тем не менее в одном из её стихов содержался довольно прозрачный намёк:
Хорошо, хорошо, отойду я теперь,
крепкий узел, смеясь, разрублю.
Но, Владыка мой тёмный, навеки, поверь,
что я та же и так же люблю.
Эти строки можно рассматривать как поэтическую перекличку с Блоком: «Я люблю Вас тайно, тёмная подруга юности порочной, жизни догоревшей...»
«Буду только зрячей, только честной»
В апреле 1911 года Лиза пишет Блоку письмо из немецкого курортного городка Наугейма, куда поехала подлечить сердце: « Мне хочется написать Вам, что в Наугейме сейчас на каштанах цветы, как свечи, зажглись, что воздух морем пахнет, что тишина здесь ни о жизни, ни о смерти не знает... Очень хочу порадовать Вас, прислать Вам привет от того, что Вы любили».
Наугейм, как известно, занимал в истории жизни Блока особое место, о чём он не раз говорил, в том числе и Елизавете. В этом городе поэт любил, отсюда он писал письма будущей жене. «Ей было 15 лет, но по стуку сердца невестой быть мне могла...» Два раза в стихах Блока возникает образ «пятнадцатилетней»: один раз - Любови Менделеевой, второй — Лизы Пиленко. Не поехала ли она в Наугейм именно потому, что это был город стихов, мыслей и чувств Блока?

Наугейм начала 20 века
Весной 1912 года выходит первый сборник Елизаветы Кузьминой-Караваевой «Скифские черепки», где поэтесса пыталась создать некую скифскую мифологию, открыть заповедную прародину славян. Многие стихи из этой книги можно рассматривать как своеобразное объяснение в любви Царевны «Владыке» - Блоку. Сборник не остался незамеченным. Имя Елизаветы Кузьминой-Караваевой получает известность в литературном мире, её ставят в один ряд с начинающими Ахматовой и Цветаевой. От неё ждали «продолжения». Но продолжения не последовало. Мир литературных кружков, светских салонов становится ей всё более тягостен и чужд.
Из воспоминаний Е. К-К.:
«Ритм нашей жизни нелеп. Встаём около трёх дня, ложимся на рассвете. Каждый вечер с мужем бываем в петербургском мире. Или у Вячеслава Иванова на "Башне", куда нельзя приехать раньше двенадцати-часа ночи, или в "Цехе поэтов", или у Городецкого, и т.д. Мы не жили, мы созерцали всё самое утончённое, что было в жизни, мы не боялись никаких слов, мы были в области духа циничны и нецеломудренны, а в жизни вялы и бездейственны... Какое-то пьянство без вина. Пища, которая не насыщает. Опять тоска.
НА ДУШЕ МУТНО!»
Посты и куличи. Добротный быт.
Ложиться в полночь, подниматься в девять.
Размеренность во всем - в любви и гневе.
Нет, этим дух уже по горло сыт.
Не только надо этот быт сломать,
Но и себя сломать и искалечить,
И непомерность всю поднять на плечи
И вихрями чужой покой взорвать, -
писала она со свойственной ей страстностью. «И странно, - вот все были за Революцию, говорили самые ответственные слова. А мне ещё больше, чем перед тем, обидно за НЕЁ. Ведь никто, никто за неё не умрёт. Мало того, если узнают о том, что за неё умирают, постараются и это расценить, одобрят или не одобрят, поймут в высшем смысле, прокричат всю ночь - до утренней яичницы. И совсем не поймут, что умирать за революцию - это значит чувствовать настоящую верёвку на шее. Вот таким же серым и сонным утром навсегда уйти, физически, реально принять смерть».
В ней было много энергии, она тяготилась бездействием. Ей хотелось какого-то живого, настоящего, большого дела. Она сочувствовала революционерам, которые жизни отдавали за счастье народа, за светлое будущее, а здесь, в их среде «ликующих, праздно болтающих» могли только умно и возвышенно говорить об их смерти.
Не укрыться в миросозерцанье,
Этот тканный временем наряд,
Ни к чему словесное бряцанье, –
Люди тысчелетья говорят.
Буду только зрячей, только честной, –
(У несчастья таковы права), –
Никаких полетов в свод небесный
И рассказов, как растет трава.
«Долой рыжий туман»
Крепнет решение: «Надо бежать, освобождаться». Она ищет себя. Ищет смысл жизни.
Смысл — он в вулкане, смысл — он в кометах,
В бешено мчащихся вдаль антилопах,
В пламенных вихрях, в слепительных светах,
Что наше сердце в безумии топят.
Смысл — он в стихах никогда не допетых,
Смысл — он на неисхоженных тропах.
Смысл — он крестом осененный погост.
Смысл — как крест, он прост.
Стихи Караваевой были глубоко личностными, внутренне ответственными, то есть человечески цельными. Уже в ранних её строках слышатся интонации будущей поэзии матери Марии:
И я, чужая всем средь гор,
С моею верой, с тайным словом,
Прислушалась к незримым зовам
Из гнезд, берлог земных и нор.
Эти зовы «из гнёзд, берлог земных и нор» - голоса человеческой немощи, нищеты, горя, на которые потом монахиня Мария откликалась, повсюду приходя им на помощь, - они определили и линию её дальнейшей жизни, и направление и тональность её поэзии.
Подобно Блоку, Елизавета Кузьмина-Караваева считает участников столичной эстетической элиты «умирающими», называет их «последними римлянами». Чтобы атмосфера распада и гибели окончательно её не отравила, она решает бежать «к земле», то есть в свою родную Анапу, к морю и виноградникам. В этом решении её укрепила ещё одна встреча с Блоком.
«И, наконец, ещё одна встреча. Но тоже на людях. В случайную минуту, неожиданно для себя говорю ему то, чего ещё и себе не смела определить и сказать:
- Александр Александрович, я решила уезжать отсюда, к земле хочу... Тут умирать надо, а я ещё бороться хочу и буду.
Он серьёзно и заговорщицки отвечает:
- Да, да, пора. Потом уж не сможете. Надо спешить».
На последнем вечере на "башне" (она решает, что он будет для неё последним), Лиза даёт бой хозяину салона Вячеславу Иванову.

Она говорит об их пустословии, о предательстве главного, о бессмысленной жизни. О том, что она — с землёй, с простыми русскими людьми, что она отвергает их культуру, что народу нет дела до их изысканных и неживых душ.
Осенью Лиза едет на юг, к морю. По-прежнему ведёт дневник:
«Осенью на Чёрном море огромные, свободные бури. На лиманах можно охотиться на уток. Компания у меня - штукатур Леонтий, слесарь Шлигельмильх, банщик Винтура. Скитаемся в высоких сапогах по плавням. Вечером по морскому берегу домой. В ушах вой ветра, свободно, легко. Петербург провалился. ДОЛОЙ КУЛЬТУРУ, ДОЛОЙ РЫЖИЙ ТУМАН. Долой "Башню" и философию. Есть там только один заложник. Это человек, символ страшного мира, точка приложения всей муки его, единственная правда о нём, а может быть, и единственное, мукой купленное, оправдание его - АЛЕКСАНДР БЛОК».

«Я Вам пишу...»
Блок стал совестью и голосом целого поколения. Поколение уже прочитало в конце 1914-го блоковское: «Мы — дети страшных лет России, забыть не в силах ничего» и восприняло это как сказанное за всех и за каждого. Пророческий пафос поэта, его страсть и тревога с необыкновенной силой действовали на наиболее чутких современников. Было в стихах Блока что-то такое влекущее и колдовское, и вместе с тем говорившее о самом важном, самом насущном, что заставляло тянуться к нему самых разных людей. Тогда не было ни одной думающей девушки в России, которая не была бы влюблена в Блока. Что же говорить о женщинах-поэтах! Цветаева, Ахматова, Одоевцева, Крандиевская-Толстая... И, религиозно настроенная, восторженная Лиза Караваева безоглядно бросается в омут этой любви.
Из письма Е.К. От 28 ноября 1913 года:
« Я не знаю, как это случилось, что я пишу Вам. Все эти дни я думала о Вас и сегодня решила, что написать Вам необходимо. А отчего и для кого - не знаю. Мучает меня, что не найду я настоящих слов, но верю, что Вы должны понять.
Сначала вот что: когда я была у Вас еще девочкой, я поняла, что это навсегда, а потом жизнь пошла как спираль. Кончался круг, и снова как-то странно возвращалась я к Вам. Ведь и в первый раз я не знала, зачем реально иду к Вам, и несла стихи как предлог, потому что боялась чего-то, что не может быть определено сознанием. Близким и недостижимым Вы мне тогда стали.
С мужем я разошлась, и было еще много тяжести кроме этого. Иногда любовь к другим заграждала Вас, но все кончалось всегда, и всегда как-то не по-человечески, глупо кончалось, потому что - вот Вы есть. Когда я была в Наугейме - это был самый большой перелом, самая большая борьба, и из нее я вышла с Вашим именем. Потом были годы совершенного одиночества. Дом в глуши, на берегу Черного моря. И были Вы, Вы. А месяц тому назад у меня дочь родилась,- я ее назвала Гайана - земная, и я радуюсь ей, потому что - никому неведомо,- это Вам нужно. Я с ней вдвоем сейчас в Москве, а потом буду с ее отцом жить, а что дальше будет - не знаю, но чувствую,- и не могу объяснить, что это путь какой-то, предназначенный мне, неизбежный; и для Вас все это нужно.
Если же Вы не хотите понять этого, то у меня к Вам просьба: напишите хоть только, что письмо дошло. Я буду знать, что не от случая все осталось без изменения, а от того, что мало муки моей, которая была, что надо еще многие круги спирали пройти, может быть, до старости, до смерти даже. Хорошо, что - самый близкий - Вы вечно далеко,- и так всегда».
Начинается I мировая война.

Поздней осенью 1914 года Елизавета возвращается в Петербург к матери с твёрдой, казалось бы, бесповоротной решимостью не видеть Блока. И в тот же день, не успев разобрать с дороги вещи, идёт к нему, она идёт к нему отчаянно, как шла в первый раз, и опять не застаёт его дома, и уходит в Исаакиевский собор, забивается в самый дальний угол и ждёт вечера. Опять к нему идёт, и он говорит ей, что днём был дома, но хотел, чтобы они оба «как-то подготовились к встрече».
Начинается самая высокая пора их отношений, устанавливается «мост», они сидят у него иногда до утра, обыкновенно в самых дальних углах комнаты («он у стола, я — на диване у двери») и говорят: о трагичности человеческих отношений, о стихах, «о доблестях, о подвигах, о славе», о смысле жизни. Эти разговоры очень помогали ей.

кабинет Блока
И я читаю книгу жития,
слежу дороги на предгорьях рая.
О, долгий путь. И как ничтожна я,
как слушаюсь, себя не понимая.
Одним Ты дал, как жизни знак, стрелу,
другим даёшь молитвы, пост, вериги.
Одним даёшь перо, другим — пилу.
Как вычитать своё в священной книге?
Последняя встреча
Последняя их встреча была весной 1915-го. Они говорили долго, до пяти утра. Он рассказывал ей о том, что теперь в литературном мире в моде общественность, добродетель и патриотизм, что Мережковские и ещё кто-то устраивают патриотические чтения стихов в закрытых винных магазинах, на углах больших улиц, для солдат и народа. Что его тоже зовут читать, потому что это гражданский долг. Он недоумевает. У него чуть насмешливая и печальная улыбка.

- Одни кровь льют, другие стихи читают. Наверное, не пойду, - всё это никому не нужно.
Она рассказывает ему о черноморских бурях, о диких утках и бакланах. Потом о том, что надо сейчас всей России искать своего Христа и в Нём себя найти. Потом - о нём, о его пути поэта, о боли за него..
- Вы символ всей нашей жизни. Даже всей России символ. Перед гибелью, перед смертью Россия сосредоточила на Вас все свои самые страшные лучи. И Вы за Неё, во имя её, как бы образом её сгораете. Что мы можем? Что могу я, любя Вас? Потушить - не можем, а если и могли бы, права не имеем. Таково Ваше высокое избрание - гореть! Ничем, ничем помочь Вам нельзя.
Он слушает молча. Потом говорит:
- Я всё это принимаю, потому что знаю об этом давно. Только дайте срок. Так оно всё само собою и случится.
"Александр Александрович неожиданно и застенчиво берёт меня за руку.
- Знаете, у меня к Вам есть просьба. Я хотел бы знать, что Вы часто, часто, почти каждый день проходите внизу под моими окнами. Только знать, что кто-то меня караулит, ограждает. Как пройдёте, так взгляните наверх. Это всё.
Я соглашаюсь. Быстро прощаюсь. ПО СУЩЕСТВУ ПРОЩАЮСЬ НАВСЕГДА».
Как ответ на эту его просьбу родились её стихи:
Смотрю на высокие стекла,
А постучаться нельзя;
Как ты замерла и поблекла,
Земля и земная стезя.
Над западом черные краны
И дока чуть видная пасть;
Покрыла незримые страны
Крестом вознесенная снасть.
На улицах бегают дети,
И город сегодня шумлив,
И близок в алеющем свете
Балтийского моря залив.
Не жду ничего я сегодня:
Я только проверить иду,
Как вестница слова Господня,
Свершаемых дней череду.
Я знаю, - живущий к закату
Не слышит священную весть,
И рано мне тихому брату
Призывное слово прочесть.
Смотрю на горящее небо,
Разлившее свет между рам;
Какая священная треба
Так скоро исполнится там.

Это стихотворение из сборника «Руфь» интересно сопоставить со стихотворением Цветаевой «Ты проходишь на запад солнца...». Внутреннее созвучие стихов обеих поэтесс несомненно. Стих-е Цветаевой явно навеяно рассказами Е.Ю. о Блоке, о виде из его окон (они встречались в Москве у матери Волошина).
Несовпаденье
Вскоре Блок был мобилизован на фронт. У Гумилёва тогда этот факт вызвал ужас: «Ведь это всё равно что жарить соловьёв». Елизавета же пишет восторженное письмо Блоку:
«Сегодня прочла о мобилизации и решила, что Вам придется идти. Ведь в конце концов это хорошо, и я рада за Вас. Рада, потому что сейчас сильно чувствую, какую мощь дают корни в жизнь.Теперь, когда Вам придется идти на войну, я как-то торжествую за Вас, и думаю все время очень напряженно и очень любовно; и хочу, чтобы Вы знали об этом...»
Она пишет ему в письме стихи:
Увидишь ты не на войне,
Не в бранном, памятном восторге,
Как мчится в латах на коне
Великомученик Георгий.
Ты будешь видеть смерти лик,
Сомкнешь пред долгой ночью вежды,
И только в полночь громкий крик
Тебя разбудит - Знак Надежды.
И алый всадник даст копье,
Покажет, как идти к дракону;
И лишь желание твое -
начать заутра оборону.
Пусть длится каждодневный ад -
Рассвет мучительный и скудный -
Нет славного пути назад
Тому, кто зван для битвы чудной.
И знай, мой царственный, не я
Тебе кую венец и латы:
Ты в древних книгах бытия
Отмечен, вольный и крылатый.
Смотреть в тумане - мой удел,
Вверяться тайнам бездорожья
И под напором вражьих стрел
Твердить простое слово: "Боже".
И Всадника вести к тебе,
И покорить надеждой новой,
Чтоб был ты к утренней борьбе
И в полночь - мудрый и готовый.
Блок ответил несколькими строками, не разделяя её восторга: «Я теперь табельщик 13-й дружины Земско-Городского союза. На войне оказалось только скучно».

Из письма Лизы Блоку от 10 июля 1916 года: «Ничего не разрушая и не меняя обычной жизни, существует посвященность, которую в Вас я почувствовала в первый раз. Я хочу, чтобы это было понятно Вам. Если я скажу о братовании или об ордене, то это будет только приближением, и не точным даже. Вот церковность,- тоже неточно, потому что в церковности Вы, я - пассивны; это слишком всеобнимающее понятие. Я Вам лучше так расскажу: есть в Малой Азии белый дом на холмах. И там живет женщина, уже не молодая, и старый монах. Часто эта женщина уезжает и возвращается назад не одна: она привозит с собой указанных ей, чтобы они могли почувствовать тишину, видеть пустынников. В белом доме они получают всю силу всех; и потом возвращаются к старой жизни, чтобы приобщить к своей силе и других людей. И все это больше любви, больше семьи, потому что связывает и не забывается никогда. Я знаю, что Вы будете в доме; я верю, что Вы этого захотите».
Елизавета Юрьевна ошиблась: Блок не захотел. Он не желал никакого стеснения своей свободы. Караваева звала Блока на путь христианского служения, но этот путь был чужд ему и он уклонился от разговоров на эту тему.
«Вы для меня — всегдашняя радость»
Из письма к Блоку: «Милый Александр Александрович, вся моя нежность к Вам, все то большое и торжественное чувство,- все указание на какое-то родство, единство источника, дома белого. Если Вам будет нужно, вспомните, что я всегда с Вами и что мне ясно и покойно думать о Вас. Господь Вас храни. Мне бы хотелось сейчас Вас поцеловать очень спокойно и нежно».
И всё-таки сквозь целомудренную святость и небесную ауру её любви прорывалась земная страсть и женская нежность: «Вы для меня - всегдашняя радость. Пусто на душе сейчас, и вокруг, кажется, куда ни посмотришь,- никого нет, никого.
Вот не хотела я Вам никогда о грустном своем говорить, хотела подходить к Вам только, когда праздник у меня, внутренне принаряженная. А теперь пишу о тоске. Может быть, и не сказала бы, а написать хочется. Так же, как только кажется мне, что если бы Вы были сейчас здесь, я бы усадила Вас на свой диван, села бы рядом и стала бы реветь попросту и Ваши руки гладить. И окажись Вы сейчас здесь, наверное, я начала бы убеждать Вас, что все очень хорошо, и только издали смотрела бы на Вас.
Милый Вы мой, такой желанный мой, ведь Вы даже, может быть, не станете читать всего этого. А я так хочу Вас, так изголодалась о Вас. Вот видеть, какой Вы, хочу; и голос Ваш слышать хочу, и смотреть, как Вы нелепо как-то улыбаетесь. Поняли? Даже я, пожалуй, рада, что Вы мне не говорите, чтобы я не писала: все кажется, что, значит, Вам хоть немного нужны мои письма. Любимый, любимый Вы мой: крепче всякой случайности, и радости, и тоски крепче. И Вы - самая моя большая радость, и тоскую я о Вас, и хочу Вас, все дни хочу.
Где Вы теперь? Какой Вы теперь?
Ваша Елиз. К.-К.»
С лета 1916 года переписка их носит уже «монологичный» характер. К этому времени «экзальтация», как она её называет, у неё прошла, всё стало «проще — ровно, крепко, ненарушимо». Лиза часто пишет поэту, но словно бы не ждёт ответа на свои письма (а Блок и не отвечает), ей важно выговориться. В этом отношении её письма во многом напоминают её стихи, они столь же «медитативны».
Из письма от 22 ноября 1916 года: «Только что вернулась из Новороссийска и Ростова, куда ездила по делам. Закладываю имение, покупаю мельницу, и кручусь, кручусь без конца. Всего нелепее, что вся эта чепуха называется словом "жить". А на самом деле жизнь идет совсем в другой плоскости и не знает, и не нуждается во всей суете. В ней все тихо и торжественно. Как с каждым днем перестаешь жалеть. Уже ничего, ничего не жаль; даже не жаль того, что не исполнилось, обмануло. Важен только попутный ветер; и его много».

Последнее письмо она напишет ему из Петербурга 4 мая 1917 года: «Дорогой Александр Александрович, теперь я скоро уезжаю, и мне хотелось бы Вам перед отъездом сказать вот что: я знаю, что Вам скверно сейчас; но если бы Вам даже казалось, что это гибель, а передо мной был бы открыт любой другой самый широкий путь,- всякий, всякий,- я бы все же с радостью свернула с него, если бы Вы этого захотели. Зачем - не знаю. Может быть, просто всю жизнь около Вас просидеть.
Мне грустно, что я Вас не видала сейчас: ведь опять уеду, и не знаю, когда вернусь».
Она опять уехала на юг и уже не вернулась никогда...
«Искусство от любимого отречься»
Блок не разделил любви Лизы. Временами он уставал от неё и тактично уклонялся от общения. Их жизненные и творческие пути расходились всё дальше. Но длительное время Кузьмина-Караваева была интересной собеседницей Блока. Она резко выделялась среди многих поклонниц поэта, разговоры их были душевными и доверительными. Его притягивало к ней сочетание широкой женской материнской души с аналитическим философским умом. Их многое сближало. Но когда один из исследователей спросил Ахматову, почему Блок не ответил на признания Караваевой, то получил ответ, исполненный женской беспощадности: «Она была некрасива — Блок не мог ей увлечься».

Искусство от любимого отречься
И в осень жизни в ветре холодеть,
Чтоб захотело сердце человечье
Безропотно под ветром умереть.
Лишь этот путь душе моей потребен,
Вот рассыпаю храмину мою
И Господу суровому молебен
С землей и ветром осенью пою.
Ну точно по-цветаевски - «доблестным званьем мирской жены...» Одна из основных тем поэзии Кузьминой-Караваевой — это забота о людях, жалость и жертвенная любовь к ним.
* * *
Братья, братья, разбойники, пьяницы,
Что же будет с надеждою нашею?
Что же с нашими душами станется
Пред священной Господнею Чашею?
Как придем мы к нему неумытые?
Как приступим с душой вороватою?
С раной гнойной и язвой открытою,
Все блудницы, разбойники, мытари
За последней и вечной расплатою?
Только сердце влечется и тянется
Быть, где души людей не устроены.
Братья, братья, разбойники, пьяницы,
Вместе встретим Господнего Воина.
***
Пронзила великая жалость
Мою истомленную плоть.
Все мы - ничтожность и малость
Пред славой Твоею, Господь.
Мне голос ответил: "Трущобы -
Людского безумья печать -
Великой любовью попробуй
До славы небесной поднять".
* * *
Припасть к окну в чужую маету
И полюбить ее, пронзиться ею.
Иную жизнь почувствовать своею,
Ее восторг, и боль, и суету.
О, стены милые чужих жилищ,
Раз навсегда в них принятый порядок,
Цепь маленьких восторгов и загадок, -
Пред вашей полнотою дух мой нищ.
***
Постучалась. Есть за дверью кто-то.
С шумом отпирается замок...
Что вам? Тут забота и работа,
Незачем ступать за мой порог.
Дальше. Дальше. Тут вот деньги копят.
Думают о семьях и себе.
Платья штопают и печи топят
И к привычной клонятся судьбе.
Бескорыстного ль искать меж нами?
Где-то он один свой крест влачит.
Господи, весь мир, как мертвый камень,
Боже, мир, как кладбище, молчит.
***
Пусть отдам мою душу я каждому,
Тот, кто голоден, пусть будет есть,
Наг - одет, и напьется пусть жаждущий,
Пусть услышит неслышащий весть.
От небесного грома до шепота,
Учит всё - до копейки отдай.
Грузом тяжким священного опыта
Переполнен мой дух через край.
И забыла я, - есть ли средь множества
То, что всем именуется - я.
Только крылья, любовь и убожество,
И биение всебытия.
***
И в эту лямку радостно впрягусь, —
Желай лишь, сердце, тяжести и боли.
Хмельная, нищая, святая Русь,
С тобою я средь пьяниц и средь голи.
О, Господи, Тебе даю обет, —
Я о себе не помолюсь вовеки, —
Молюсь Тебе, чтоб воссиял Твой свет
В унылом этом, пьяном человеке.
В безумце этом или в чудаке,
В том, что в одежде драной и рабочей,
Иль в том, что учится на чердаке
Или еще о гибели пророчит.
Хождения по мукам
Октябрьская революция застала Кузьмину-Караваеву в Анапе.

Анапа начала века
В феврале 1918 года она, в то время видный член партии эсеров, была избрана товарищем городского головы. А затем стала и городским головой Анапы. Когда к власти пришли Советы и городская дума была распущена, Елизавета вошла в Совет в качестве комиссара по делам культуры и здравоохранения. Но ее комиссарство длилось недолго: вскоре Анапа была захвачена белогвардейцами и над Кузьминой-Караваевой состоялся суд. За сотрудничество с большевиками и участие в национализации местных санаториев и винных погребов ей грозила смертная казнь. И лишь благодаря заступничеству группы русских писателей (М.Волошина, А.Толстого, В.Инбер и др.), которые в своем открытом письме величали Елизавету Юрьевну «русской духовной ценностью высокого веса и подлинности», ее приговорили лишь к двум неделям тюрьмы.
В 1923 году Елизавета, к тому времени вновь вышедшая замуж, с супругом, деникинским офицером Данилой Ермолаевичем Скобцовым, матерью и тремя детьми, Гаяной, Юрием и Анастасией, приехала с волной русских эмигрантов в Париж. Началась ее нелегкая жизнь в эмиграции, полная лишений и страданий.

На семью обрушилось горе: умерла младшая дочь Настя. "Похоронили ее на парижском кладбище, - вспоминает Елизавета Юрьевна.- И вот когда я шла за гробом , в эти минуты со мной это и произошло - мне открылось другое, какое-то особое, широкое - широкое, всеобъемлющее материнство... Я вернулась с кладбища другим человеком. Я увидала перед собой другую дорогу и новый смысл жизни: быть матерью всех, всех, кто нуждается в материнской помощи, охране, защите».
Странная монахиня
Кузьмина-Караваева принимает монашеский постриг. Накануне пострига она писала:
В рубаху белую одета...
О, внутренний мой человек!
Сейчас еще Елизавета,
А завтра буду - имярек.
Ее нарекли - Мария. С тех пор она жила, действовала и выступала в печати под именем монахиня Мария, Мать Мария. Одев монашеское одеяние, Елизавета Юрьевна целиком отдалась благотворительной работе. Она открыла общежитие и столовую для русских безработных; ездила на шахты и заводы, где работали русские, и поддерживала морально и материально тех, кто в этом нуждался; ходила по притонам и вызволяла со дна нищих и пьяниц, возвращала их к нормальной жизни, посещала психиатрические больницы и освобождала тех из своих соотечественников, кто попал туда случайно. «Каждая царапина и ранка в мире говорит мне, что я мать», - делилась она с близкими.

К каждому сердцу мне ключ подобрать.
что я ищу по чужим по подвалам?
Или ребёнка отдавшая мать
чует черты его в каждом усталом?
Она говорила: "Путь к Богу лежит через любовь к человеку, и другого пути нет... На страшном суде меня не спросят, успешно ли я занималась аскетическими упражнениями и сколько я положила земных и поясных поклонов, а спросят: накормила ли я голодного, одела ли голого, посетила ли больного и заключенного в тюрьме. И только это спросят".
Это была странная монахиня, постоянно конфликтовавшая с официальной церковью. Она умела столярничать, плотничать, малярничать, шить, вышивать, стучать на машинке, стряпать, доить коров, полоть огород. Она могла сутками не есть, не спать, любила физический труд, отрицала усталость, презирала опасность. Она вела жизнь суровую и деятельную: объезжала больницы, тюрьмы, сумасшедшие дома, сама мыла полы, красила стены, отдавая себя до конца делу помощи ближнему. У неё было широкое понимание христианства и того, чем должны заниматься истинные христиане.
Вот голый куст, а вот голодный зверь,
Вот облако, вот человек бездомный.
Они стучатся. Ты открой теперь,
Открой им дверь в Твой Дом, как мир, огромный.
О, Господи, я не отдам врагу
Не только человека, даже камня.
О имени Твоем я все могу,
О имени Твоем и смерть легка мне.

«Любите друг друга»
О кончине Блока Кузьмина узнала в Югославии, где тяжко бедствовала с семьёй. Горе её было беспредельным. При жизни Блока его судьба была её судьбой, дальше её собственная судьба становится частью посмертной судьбы Блока.
Во мне вселенская душа
с любовью тихой опочила.
И пусть ведёт, ведёт, спеша,
а в сердце зреет жизни сила.
В грядущем много крестных мук,
и скорбь без меры, и утрата.
Но новых не боюсь разлук
и в каждом встречном вижу брата.
А судьба била эту женщину безжалостно. В 1935 году Мать Мария проводила на родину с приезжавшим в Париж А.Толстым свою старшую дочь Гаяну (убеждённая коммунистка, та не мыслила жизни без России). Но в 1936 году Гаяна умирает в Москве от дизентерии. Стойко перенесла Мать Мария и этот удар судьбы. В 1937 году в Берлине вышел в свет очередной сборник ее стихотворений, в котором были пронзительные строки, посвященные проводам дочери и ее кончине:
Сила мне дается непосильная,
Не было б ее - давно упала бы,
Тело я на камнях распластала бы,
Плакала б, чтобы Услышал жалобы,
Чтоб слезой прожглась земля могильная.
Из записок Елизаветы Юрьевны Кузьминой- Караваевой:
"О чем и как ни думай - большего не создать, чем три слова: "любите друг друга", только до конца и без исключения, и тогда все оправдано и вся жизнь освещена, а иначе мерзость и тяжесть".

«И я воскресну вновь...»
Когда Германия напала на Советский Союз, по словам очевидцев, еще одно преображение произошло с Матерью Марией – она стала жить только Россией. В эти страшные дни она произносит вещие слова: «Я не боюсь за Россию. Я знаю, что она победит. Наступит день, когда мы узнаем по радио, что советская авиация уничтожила Берлин. Потом будет русский период истории… Все возможности открыты. России предстоит великое будущее, но какой океан крови!».
С началом оккупации Франции Мать Мария налаживает связь с французским Сопротивлением. Она оказывает помощь антифашистам, укрывает беглых, советских военнопленных, спасает детей, выдает евреям ложные свидетельства о крещении - всем окружающим она внушает веру в победу Советской Армии над фашизмом, а после войны мечтает вернуться на Родину. И все это, как обычно, сочетается у нее с большой творческой работой: она пишет автобиографическую поэму "Духов День", псалом-поэму "Похвала труду", пьесу "Солдаты", основанную на собственном опыте общения с борцами Сопротивления.
В феврале 1943 года гестапо арестовало Мать Марию и ее сына Юрия.
Юрия отправили в Бухенвальд, где он погиб, а Мать Марию- в концлагерь Равенсбрюк.

В женском бараке концлагеря Равенсбрюк
Выжившие узницы концлагеря вспоминали о ней как о необыкновенно бесстрашной женщине, у которой можно было учиться мужеству: в жутких лагерных условиях она находила силы, чтобы выстоять. Когда одна отчаявшаяся сказала Матери Марии, что у нее «притупились все чувства, и сама мысль закоченела и остановилась», та воскликнула: «нет, нет, только непрестанно думайте; в борьбе с сомнениями думайте шире, глубже; не снижайте мысль, а думайте выше земных рамок и условий». Она ухаживала за больными, делилась скудным пайком со слабыми. И читала стихи, свои и Блока. Любовь к нему она пронесла через всю жизнь...
За неделю до освобождения лагеря Красной Армией, 31 марта, в Страстную пятницу 1945 года, монахиня Мария, русская поэтесса и публицист Елизавета Кузьмина-Караваева, была казнена. Она пошла в газовую камеру вместо отобранной фашистами девушки, обменявшись с ней курткой и номером.
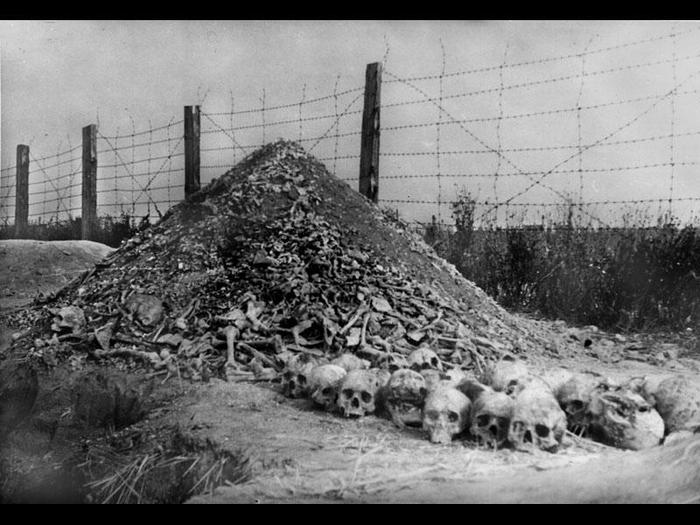
В последний день не плачь и не кричи:
он всё равно придёт неотвратимо.
Я отдала души моей ключи
случайно проходившим мимо...
Торжественный, слепительный подарок -
Ты даровал мне смерть. В ней изнемочь.
Душа, сожжённая в огне пожара,
медлительно навек уходит прочь.
На дне её лишь уголь чёрно-рыжий.
Ей притаиться надо, помолчать.
Но в сердце Ты огнём предвечным выжег
смертельного крещения печать...

От хвороста тянет дымок,
огонь показался у ног,
И громче напев погребальный,
И мгла не мертва, не пуста,
И в ней начертанье креста –
Конец мой, конец огнепальный.
Эти стихи она написала задолго до гибели. Кто сказал, что поэты — не пророки? Это уже не поэзия — это кровь, это сердце, это дух.
Заветом живым звучат ее стихи:
Я силу много раз еще утрачу;
Я вновь умру, и я воскресну вновь;
Переживу потерю, неудачу,
Рожденье, смерть, любовь.
И каждый раз, в свершенья круг вступая,
Я буду помнить о тебе, земля;
Всех спутников случайных, степь без края,
Движение стебля.
Но только помнить; путь мой снова в гору;
Теперь мне вестник ближе протрубил;
И виден явственно земному взору
Размах широких крыл.
И знаю, - будет долгая разлука;
Не узнанной вернусь еще я к вам.
Так, верю: не услышите вы стука,
И не поверите словам.
Но будет час, - когда? - еще не знаю;
И я приду, чтоб дать живым ответ,
Чтоб вновь вам указать дорогу к раю,
Сказать, что боли нет.
Не чудо, нет; мой путь не чудотворен,
А только дух пред тайной светлой наг,
Всегда судьбе неведомой покорен,
Любовью вечной благ.
И вы придете все: калека, нищий,
И воин, и мудрец, дитя, старик,
Чтобы вкусить добытой мною пищи,
Увидеть светлый Лик.
Подвиг Матери Марии золотыми буквами вписан на Скрижалях Вечности, как навечно вписано в историю человечества и ее Имя. Имя человека, беззаветно служившего людям...
Вместо эпилога
Несколько лет спустя один из ее друзей, Георгий Раевский увидел во сне, как мать Мария идет полем, среди колосьев, обычной своей походкой, не торопясь. Он бросился ей навстречу:
- Мать Мария, а мне сказали, что Вы умерли.
Она взглянула поверх очков, добро и чуть-чуть лукаво.
- Мало ли что говорят люди. Болтают. Как видите, я живая.
И это возвращает нас к первой строке посвящённого ей стихотворения Блока: «Когда Вы стоите на моём пути, такая живая, такая красивая...»

Встаёт зубчатою стеной
над морем туч свинцовых стража.
Теперь я знаю, что я та же
и что нельзя мне стать иной.
Идти смеясь, идти вперёд,
тропой крутой, звериным следом,
и знать — конец пути неведом,
и знать — в конце пути — полёт.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/52441.html
|
|
Процитировано 3 раз
Понравилось: 1 пользователю
"Волны, Марина, мы - море! Глуби, Марина, мы - небо!..." |
Начало здесь.

4 декабря 1875 года родился австрийский поэт Рене Карл Вильгельм Иоганн Йозеф Мария Рильке.
Когда-то Рильке считался у нас чуждым буржуазным поэтом. Известно мнение Фадеева 1950 года: «А кто такой Рильке? Крайний мистик и реакционер в поэзии». По одному-двум стихотворениям Райнер Рильке постепенно просачивался к русскому читателю. Сейчас число его переводчиков перевалило за сотню. У нас наиболее известны такие хрестоматийные стихотворения Рильке, как «Осень», «Осенний день», «О фонтанах».

Листва на землю падает, летит,
точь-в-точь на небе время листопада,
так падает, ропща среди распада;
и падает из звездного каскада
отяжелевшая земля, как в скит.
Мы падаем. И строчки на листы.
Не узнаю тебя среди смещенья.
И все же некто есть, кто все паденья
веками держит бережно в горсти.
( Перевод В. Летучего)

Я вдруг впервые понял суть фонтанов,
стеклянных крон загадку и фантом.
Они как слезы мне, что слишком рано –
во взлете грез, в преддверии обманов –
я растерял и позабыл потом...
(Пер. А. Карельского)

О святое мое одиночество – ты!
И дни просторны, светлы и чисты,
Как проснувшийся утренний сад.
Одиночество! Зовам далеким не верь
И крепко держи золотую дверь,
Там, за нею, желаний ад.
(пер. А. Ахматовой)
Или вот великолепное стихотворение «За книгой» в переводе Б. Пастернака. Послушайте его в исполнении Давида Аврутова:
https://www.youtube.com/watch?v=8Niz2xKcULw&list=PLrgDSzTXDpvM70JA2g2Jzm2N6z5kWkI7a&index=10

Путешествие в Россию
С Россией Рильке связывало многое.

В 1897 году (в 22 года) он встретился в Мюнхене с женщиной, вошедшей в историю как русская Муза поэта. Это была уроженка Петербурга, обрусевшая немка Луиза Андреас Саломе или, как её звали, Лу. Дочь русского генерала, рано уехавшая в Западную Европу, близкая подруга Ницше, жена депутата парламента Германии, впоследствии любимая ученица Фрейда, писательница, эссеистка, литературный критик — она была одной из наиболее ярких фигур своего времени.

Рильке увлёкся этой блестящей женщиной настолько, что стал на несколько лет её тенью. Он боготворил Лу (она была старше его на 15 лет), ловил каждое слово, не говоря уже о стихах — всё творчество Рильке с 1897 до 1902 года так или иначе обращено к ней. Вот один из самых сильных его сонетов тех лет:
Нет без тебя мне жизни на земле.
Утрачу слух - я все равно услышу,
Очей лишусь - еще ясней увижу.
Без ног я догоню тебя во мгле.
Отрежь язык - я поклянусь губами,
Отрежь мне руки - сердцем обниму.
Разбей мне сердце - мозг мой будет биться
навстречу милосердью твоему.
И если вдруг меня охватит пламя
И я в огне любви твоей сгорю -
Тебя в потоке крови растворю.
По совету Лу Рильке изменяет своё подлинное имя Рене на более мужественное Райнер. Под влиянием Луизы Саломе он полюбил Россию, куда она впервые привезла его в 1899 году. В ту поездку они побывали только в Москве и Петербурге, но на следующий год, в 1900-ом, они объездили чуть не всю Россию: побывали у Толстого в Ясной Поляне, посетили могилу Тараса Шевченко, побывали в Харькове, Воронеже, Ярославле, Саратове. Из письма Лу: «Приехав в Саратов, мы должны были сразу пересесть на пароход, но мы опоздали, и нам пришлось провести в этом городе весь день».
Вот как описывает Райнер их путешествие по Волге: «Путешествие по Волге, этому спокойно катящемуся морю. Широкое течение. Высокий-высокий лес на одном берегу, а с другой стороны — глубокая равнина, на которой большие города стоят как избы или шатры. Всё видишь в новом измерении. У меня такое ощущение, как будто я увидел работу Творца».
В России они встречались с Чеховым, А. Бенуа, Репиным, Леонидом Пастернаком, который тогда рисовал Рильке на глазах двухлетнего Бориса.

Тогда и завязалась их многолетняя дружественная переписка, в которой много позже примет участие и Борис Пастернак. Спустя много лет уже после смерти Рильке Л. Пастернак напишет его портрет, лучший из всего многообразия существующих. Никто ещё не сумел так психологически тонко и глубоко передать суть личности этого поэта.

Рильке влюбился в Россию, что называется, до беспамятства. Потом он даже своё жилище в Германии обустроит на манер русской избы. Райнер пишет стихи о России, в том числе и на русском языке, переводит русских поэтов: Лермонтова, З. Гиппиус, Фофанова, перевёл даже «Чайку» Чехова, но перевод был утерян. В 1901 году он собирался в Россию в третий раз, но произошёл разрыв с Лу, а вскоре Рильке женился на скульпторе Кларе Вестгоф.

Жена Рильке Клара

Бюст Рильке работы его жены К.Вестгоф
У них родилась дочь Рут. Они переезжают в Париж. Но семья вскоре распалась. С тех пор Рильке живёт в Европе. Россия для него воскреснет в 1926 году, когда бурная эпистолярная дружба с Мариной озарит последний год его жизни.
Реквиемы Рильке
Б. Пастернак перевёл и опубликовал в России «Реквиемы» Р. М. Рильке. Один из них под названием «Реквием по одной подруге» был посвящен памяти талантливого скульптора Паулы Модерзон-Беккер.

Некоторые биографы считают, что Рильке был влюблён в эту женщину. Этот реквием пронизан ощущением большой личной утраты.

Я чту умерших и всегда, где мог,
давал им волю и дивился их
уживчивости в мёртвых, вопреки
дурной молве. Лишь ты, ты рвёшься вспять.
Ты льнёшь ко мне, ты вертишься кругом
и норовишь за что-нибудь задеть,
чтоб выдать свой приход.
Приблизься к свечке. Мне не страшен вид
покойников. Когда они приходят,
то вправе притязать на уголок
у нас в глазах, как прочие предметы.
Я, как слепой, держу свою судьбу
в руках и горю имени не знаю.
Оплачем же, что кто-то взял тебя
из зеркала. Умеешь ли ты плакать?
Не можешь. Знаю...
Но если ты всё тут ещё, и где-то
в потёмках это место есть, где дух
твой зыблется на плоских волнах звука,
которые мой голос катит в ночь
из комнаты, то слушай: помоги мне.
Будь между мёртвых. Мёртвые не праздны.
И помощь дай, не отвлекаясь, так,
как самое далёкое порою
мне помощь подаёт. Во мне самом...

Портрет Рильке работы Паулы Модерзон-Беккер
Дуинские элегии
В начале 1912 года Рильке начинает писать нечто в европейской поэзии невиданное — цикл из 10 элегий, который назвал «Дуинские элегии» - едва ли не вершина творчества Рильке и, безусловно, самый смелый его эксперимент. Названы так элегии были по имени замка Дуино на Адриатике, где они были начаты.

Это имение княгини Марии Турн-и-Таксис, дружески относившейся к поэту. Бедствовавший всю жизнь Рильке нуждался в помощи меценатов. Хозяйка замка, с которой Райнер переписывался целых 17 лет после проживания в Дуино, вспоминала, что начальные строки "Дуинских элегий" возникли в день, когда дул бора – сильный, почти ураганный ветер. В его шуме поэту послышался голос, выкрикнувший первые слова.
В этих элегиях Рильке стремился развернуть новую картину мироздания – целостного космоса без разделения на прошлое и будущее, видимое и невидимое. Прошедшее и будущее выступают в этом новом космосе на равных правах с настоящим. Вестниками же космоса предстают ангелы – «вестники, посланцы», ангелы – как некий поэтический символ, не связанный – он подчёркивал это – с представлениями христианской религии.

Вильманн Михаэль Лукас Леопольд. Пейзаж со сном Иакова. Лестница ангелов.
Ангелы (слышал я) бродят, сами не зная,
где они – у живых или мёртвых.

Гюстав Моро. Ангел
Поэт воспевает здесь ключевые моменты человеческого существования: детство, приобщение к стихиям природы и — смерть, как последний рубеж, когда испытываются все ценности жизни:
Правда, нам странно знакомую землю покинуть,
все позабыть, к чему привыкнуть успели,
не разгадывать по лепесткам и приметам,
что случиться должно в человеческой жизни:
не вспоминать о том, что к нам прикасались
робкие руки, и даже имя, которым
звались мы, сломать и забыть, как игрушку.
Странно уже не любить любимое. Странно
видеть, как исчезает привычная плотность,
как распыляется все. И нелегко быть
мертвым, и ждать, покуда еле заметно
вечное нас посетит. Но сами живые
не понимают, как зыбки эти границы.
В 2003 году замок Дуино был открыт для туристов, проведения концертов и других мероприятий.


«Тропа Рильке». Она тянется на 2 километра, на ее обзорных площадках есть скамейки для отдыха. Именно по ней любил гулять знаменитый австрийский поэт, черпая вдохновение в окрестной природе.
Сонеты к Орфею
С 1919 года и до самой смерти Рильке почти безвыездно живёт в Швейцарии, где друзья покупают ему скромный старинный дом — замок Мюзо.

Здесь в 20-е годы Рильке переживает новый творческий взлёт: он создаёт прекрасный цикл «Сонетов к Орфею». Орфей — образ Бога-певца, к которому обращены все 55 стихотворений. В какой-то степени они могут считаться автобиографической исповедью поэта.
Читает Давид Аврутов:
https://www.youtube.com/watch?v=Kx_Sjessv8o&list=PLrgDSzTXDpvM70JA2g2Jzm2N6z5kWkI7a&index=11

Облики мира, как облака,
тихо уплыли.
Все, что вершится, уводит века
в древние были.
Но над теченьем и сменой начал
громче и шире
нам изначальный напев твой звучал,
Бога игра на лире.
Тайна любви велика,
боль неподвластна нам,
и смерть, как далекий храм,
для всех заповедна.
Но песня — легка и летит сквозь века
светло и победно.
(Г. Ратгауз)
Стефан Цвейг, хорошо знавший Рильке, оставил в своей книге воспоминаний «Вчерашний мир» замечательный портрет поэта: «Никто из поэтов начала века не жил тише, таинственнее, неприметнее, чем Рильке. Тишина как бы сама ширилась вокруг него... он чуждался даже своей славы. Его голубые глаза освещали изнутри его лицо, в общем-то неприметное. Самое таинственное в нём было — именно эта неприметность. Должно быть, тысячи людей прошли мимо этого молодого человека с немного славянским, без единой резкой черты лицом, прошли, не подозревая, что это поэт, и притом один из величайших в нашем столетии...»

Слова, всю жизнь прожившие без ласки,
непышные слова — мне ближе всех, -
писал Рильке. И эта несуетная скромность, непышность, неброскость, целомудренность слова были ему свойственны и в творчестве. Рильке, пишет Цвейг, принадлежал к особому племени поэтов. Это были «поэты, не требовавшие ни признания толпы, ни почестей, ни титулов, ни выгод и жаждавшие только одного: кропотливо и страстно нанизывать строфу к строфе, чтобы каждая строчка дышала музыкой, сверкала красками, пылала образами». «Песня есть существование», - читаем мы в его сонетах.

Рильке в своём кабинете
"Я принял тебя, Марина..."
Его невозможно было представить себе несдержанным. В каждом движении, в каждом слове — сама деликатность, даже смеялся еле слышно. У него была потребность жить вполголоса, и поэтому больше всего его раздражал шум, а в области чувств — любое проявление несдержанности. «Меня утомляют люди, которые с кровью выхаркивают свои ощущения, - сказал он как-то, - потому и русских я могу принимать лишь небольшими дозами, как ликёр». Это отличало его от стихийной, шквальной природы Марины Цветаевой. Но у них было и общее: оба были поэтами тоски, общим было отношение к религии, далёкое от ортодоксального, канонического христианства. Рильке был влюблён в Россию, а Марина с детства была очень близка немецкой культуре («Во мне много душ, но главная моя душа — германская», - писала она).
Рильке послал Марине свои книги «Дуинские элегии» и «Сонеты к Орфею». Они потрясли Цветаеву. Она пишет в своём первом письме о том, что Рильке для неё - «воплощённая поэзия», «явление природы», которую «ощущаешь всем своим существом». В своей коленопреклонённости (как некогда перед Блоком) она незаметно перешла с поэтом на ты, не как с равным, а как с божеством:
«Я жду Ваших книг, как грозы, которая – хочу или нет – разразится. Совсем как операция сердца (не метафора! каждое стихотворение (твое) врезается в сердце и режет его по-своему – хочу или нет). Знаешь ли, почему я говорю тебе Ты и люблю тебя и – и – и – потому что ты – сила. Самое редкое».

Цветаева стремительно сокращает дистанцию в разговоре, не смущаясь, что пишет малознакомому человеку. Она убеждена: сильные смотрят с улыбкой на переступающих границы — оборонительные тревоги им неведомы. И Рильке не только не смущён тональностью цветаевского письма — он зачарован им. С готовностью принимает он и перенимает её «ты» и делает со своей стороны огромный шаг навстречу.

« Сегодня я принял тебя, Марина, принял всей душой, всем своим сознанием, потрясённым тобою, твоим появлением... Что сказать тебе? Ты протянула мне поочередно свои ладони и вновь сложила их вместе, ты погрузила их в мое сердце, Марина, словно в русло ручья, и теперь, пока ты держишь их там, его встревоженные струи стремятся к тебе... Не отстраняйся от них! Я открыл атлас (география для меня не наука, а отношения, которыми я спешу воспользоваться), и вот ты уже отмечена, Марина, на моей внутренней карте: где-то между Москвой и Толедо я создал пространство для натиска твоего океана».
Элегия для Марины
Рильке посвящает Цветаевой элегию, в которой размышляет о незыблемости равновесия космического целого.

Послушайте фрагмент из неё в исполнении Давида Аврутова (перевод З. Миркиной) :
https://www.youtube.com/watch?v=cXNxR2x3kgg&list=PLrgDSzTXDpvM70JA2g2Jzm2N6z5kWkI7a&index=12

О, эти потери вселенной, Марина! Как падают звёзды!
Нам их не спасти, не восполнить, как бы порыв ни вздымал нас
ввысь. Всё смерено, всё постоянно в космическом целом.
И наша внезапная гибель
святого числа не уменьшит. Мы падаем в первоисточник
и в нём, исцелясь, восстаём.
Так что же всё это?.. Так что же тогда такое наша жизнь? Наша мука, наша гибель? Неужели это просто игра равнодушных сил, в которой нет никакого смысла? «Игра невинно-простая, без риска, без имени, без обретений?» На этот риторический вопрос Рильке отвечает не прямо, а как бы пересекая его внезапно вторгающимся новым измерением:
Волны, Марина, мы – море! Глуби, Марина, мы – небо!

Мы – тысячи вёсен, Марина! Мы – жаворонки над полями!
Мы – песня, догнавшая ветер!

О, всё началось с ликованья, но, переполняясь восторгом,
мы тяжесть земли ощутили и с жалобой клонимся вниз.
Ну что же, ведь жалоба – это предтеча невидимой радости новой,
сокрытой до срока во тьме...

То есть мы суть то, что наполняет нас. И если мы наполнились жизнью до края, она не исчезнет с нашей смертью. Она есть. Она накапливалась и зрела в нас, как цветок в бутоне, как плод в цветке. Бутон лопнул, но есть нечто иное – весь смысл жизни бутона – цветок, разливающий благоухание далеко за свои пределы. В нас тоже зреет этот благоухающий дух жизни, если мы наполняемся небом и морем, весной и песней. И любить в нас надо именно это, а не оболочку этого.
Любящие – вне смерти.
Только могилы ветшают там, под плакучею ивой, отягощенные знаньем,
припоминая ушедших. Сами ж ушедшие живы,
как молодые побеги старого дерева.
Ветер весенний, сгибая, свивает их в дивный венок, никого не сломав.

Там, в мировой сердцевине, там, где ты любишь,
нет преходящих мгновений.
(Как я тебя понимаю, женственный легкий цветок на бессмертном кусте!
Как растворяюсь я в воздухе этом вечернем, который скоро коснется тебя!)
Боги сперва нас обманно влекут к полу другому, как две половины в единство.
Но каждый восполниться должен сам, дорастая, как месяц ущербный, до полнолунья.

И к полноте бытия приведет лишь одиноко прочерченный путь
через бессонный простор.

Это трудно понять и трудно принять. «Каждый восполниться должен сам...» Сам? А не вместе? Значит, ему не нужно её рядом, слитой с ним воедино? Но что же тогда нужно?!.
Но это и есть тот самый огонь любви, в котором сгорает твоё малое «я» дочиста. Любить, ничего не присваивая. Сказать любимому не «будь моим!» - а «будь!» - и только. Мне не нужно ничего от тебя. Мне нужно только, чтобы ты был. В твоём бытие — моё.
Пропитанная мощным философским зарядом, элегия эта была близка Цветаевой всем своим духом. На долгие годы она станет её утешением, тайной радостью и гордостью, которые она ревниво оберегала от чужих глаз.

«Твоя Элегия, Райнер. Всю свою жизнь я раздаривала себя в стихах — всем. Поэтам — тоже. Но я давала всегда слишком много, я всегда заглушала возможный ответ. Я упреждала отклик. Потому-то поэты не писали мне стихов — и я всегда смеялась: они оставляют это тому, кто придет через сто лет. И вот твои стихи, Райнер, стих Рильке, Поэта, стихи — поэзии. И моя Райнер, немота. Всё наоборот. Всё правильно. О, я люблю тебя, я не могу это назвать иначе, первое явившееся и все же первое и лучшее слово".
.
Свиданье душ
Райнер жил уже теперь не в Мюзо, а в курортном местечке Рагац. Здесь его безрезультатно лечили в санатории от лейкемии. Ни сам Райнер, ни врачи и друзья не подозревали ещё, что жить поэту осталось всего полгода. Оттуда были написаны его последние письма Марине: «Последнее из твоих писем лежит у меня уже с 9 июля. Как часто мне хотелось написать! Но жизнь до странности отяжелела во мне, и я часто не могу её сдвинуть с места...»

«Райнер, я хочу к тебе, - откликалась Цветаева спустя два дня, - ради себя новой, той, которая может возникнуть лишь с тобою, в тебе». Она совершенно уверена, что их встреча принесёт Рильке радость. Тяжести состояния поэта она явно не понимает. Она вся во власти любви к нему, такой идеальной и такой земной, такой бескорыстной и такой требовательной, её чувства, изливаемые на бумаге — как стихи в прозе: она творит литературу из своей жизни, из своих переживаний.
«Райнер – не сердись, это ж я, я хочу спать с тобою – засыпать и спать. Чудное народное слово, как глубоко, как верно, как недвусмысленно, как точно то, что оно говорит. Просто – спать. И ничего больше. Нет, еще: зарыться головой в твое левое плечо, а руку – на твое правое, и ничего больше. Нет еще: даже в глубочайшем сне знать, что это ты. И еще: слушать, как звучит твое сердце. И – его целовать».
Эта мечта об идеальном соединении душ, когда ей хочется видеть его — спящим рядом, это поэтическое видение, образ — он не отпугнул Рильке, а встретил у него благодарное понимание. Ибо ничего «плотского» в этих строках не было. Нечто вроде заоблачной влюблённости, небесной страсти, её дано выражать только поэтам, и они прекрасно понимают друг друга с полуслова.
«Я всегда переводила тело в душу, - писала Цветаева Рильке. - Почему я говорю тебе все это? Наверное, из страха, что ты увидишь во мне обыкновенную чувственную страсть (страсть – рабство плоти ). «Я люблю тебя и хочу спать с тобою» – так кратко дружбе говорить не дано. Но я говорю это иным голосом, почти во сне, глубоко во сне . Я звук иной, чем страсть. Если бы ты взял меня к себе, ты взял бы les plus deserts lieux . Всё то, что никогда не спит, желало бы выспаться в твоих объятьях. До самой души (глубины) был бы тот поцелуй. (Не пожар: бездна.)»
Она непреложно знала, что в жизни не встретится с Рильке, что на земле нет места для «свидания душ» - об этом она написала поэму «Попытка комнаты» - и всё-таки ждала этой невозможной встречи, и требовала от поэта места и времени её.
«Райнер, этой зимой мы должны встретиться. Где-нибудь во французской Савойе, совсем близко к Швейцарии, там, где ты ещё никогда не был. В маленьком городке, Райнер».

…Я бы хотела жить с Вами
В маленьком городе,
Где вечные сумерки
И вечные колокола.
И в маленькой деревенской гостинице —
Тонкий звон
Старинных часов — как капельки времени.
И иногда, по вечерам, из какой-нибудь мансарды —
Флейта,
И сам флейтист в окне.
И большие тюльпаны на окнах.

И может быть, Вы бы даже меня не любили…
«Скажи: да, - пишет она ему — чтобы с этого дня была и у меня радость — я могла бы куда-то всматриваться...»
«Да, да, и ещё раз да, Марина, - отвечает ей Рильке, - всему, что ты хочешь и что ты есть — и вместе они слагаются в большое ДА, сказанное самой жизни... Но в нём заключены также и все 10 тысяч непредсказуемых «нет».
«Попытка комнаты» оказалась предвосхищеньем не-встречи с Рильке, невозможностью встречи. Отказом от неё. Предвосхищеньем смерти Рильке. Но Цветаева осознала это, только когда над ней разразилась эта смерть.
Их переписка неожиданно оборвалась в августе 1926 года. Рильке перестал отвечать на её письма. Кончилось лето. Марина с семьёй переехала из Вандеи в Бельвю под Парижем. В начале ноября прислала Рильке открытку со своим новым адресом: «Дорогой Райнер! Здесь я живу. Ты меня ещё любишь?» Ответа не было.
Впоследствии, в своём письме на тот свет, к своему вечному и, может быть, самому истинному возлюбленному — Рильке — она напишет — и это будет ещё один «вопль женщин всех времён»:
Верно лучше видишь, ибо свыше:
Ничего у нас с тобой не вышло,
До того так чисто и так просто -
Ничего, так по плечу и росту
Нам - что и перечислять не надо.
На земле, на этом свете — ничего не вышло. Но...
Или слишком разбирались в средствах?
Из всего того один лишь свет тот
Наш был, как мы сами - только отсвет
Нас - взамен всего сего - весь тот свет.

Великое Ничего. Всё или ничего. Всего нельзя в жизни. Значит — ничего. На этом свете, в мире тел, в мире страстей, желаний — всё разорвано на части и надо выбирать. И вот в одном случае она сама выбрала — ничего — с Родзевичем («Поэма Конца»), в другом — судьба выбрала. Смерть выбрала.
Письмо на тот свет
Рильке умер 29 декабря 1926 года. Последнее стихотворение позволяет понять, как мучительно протекала его болезнь.
Пусть завершит мученье тканей тела
последняя губительная боль.

Умирающий Рильке
Он был похоронен на маленьком кладбище неподалёку от замка Мюзо.

Цветаева узнала о смерти Рильке в самый канун Нового года. Её первыми словами были: «Я его никогда не видела. Теперь я никогда его не увижу».
В ту новогоднюю ночь она пишет ему письмо. Письменное слово – её спасательный круг в самые тяжкие минуты жизни – даже тогда, когда нет уже на земле человека, к которому оно обращено.

«Любимый, я знаю, что ты меня читаешь прежде, чем это написано», – так оно начиналось. Письмо почти бессвязное, нежное, странное. «Год кончается твоей смертью? Конец? Начало! Завтра Новый год, Райнер, 1927,7 – твоё любимое число... Любимый, сделай так, чтобы я часто видела тебя во сне – нет, неверно: живи в моём сне. В здешнюю встречу мы с тобой никогда не верили – как и в здешнюю жизнь, не так ли? Ты меня опередил и, чтобы меня хорошо принять, заказал – не комнату, не дом – целый пейзаж. Я целую тебя – в губы? В виски? в лоб? Милый, конечно, в губы, по-настоящему, как живого... Нет, ты ещё не высоко и не далеко, ты совсем рядом, твой лоб на моём плече... Ты – мой милый, взрослый мальчик. Райнер, пиши мне! (Довольно глупая просьба?) С Новым годом и прекрасным небесным пейзажем!».
Оплакивание. Заклинания. Предтеча будущих реквиемов – в стихах и прозе. Новый год Цветаева встречала вдвоём с Рильке. Она говорила не с умершим и похороненным Рильке, а с его душой в вечности. Она чувствовала его бездну своей бездной. Этого нельзя объяснить. Этому можно только причаститься.

Лучшие цветаевские произведения всегда вырастали из самых глубоких ран сердца. В феврале 1927-го ею была завершена поэма «Новогоднее», о которой Бродский скажет, что это «тет-а-тет с вечностью». Подзаголовком было проставлено: «Вместо письма». Это своеобразный реквием, нечто среднее между любовной лирикой и надгробным плачем. Письмо-монолог, общение «поверх явной и сплошной разлуки», поверх вселенной. Поздравление со звёздным новосельем, любовь и скорбь, бытовые подробности, которые А. Саакянц называет «бытовизмом бытия». Поверить в небытие Рильке для неё невозможно. Это значило бы поверить в небытие собственной души. Небытие бытия.
Что мне делать в новогоднем шуме
с этой внутреннею рифмой: Райнер – умер?
Если ты, такое око смерклось,
значит, жизнь не жизнь есть, смерть не смерть есть.
Значит, тмится, допойму при встрече!
Нет ни жизни, нет ни смерти, – третье,
новое...
Следом за «Новогодним», будучи не в силах расстаться с Рильке, Цветаева пишет небольшое произведение в прозе «Твоя смерть». «Вот и всё, Райнер. Что же о твоей смерти? На это скажу тебе (себе), что её в моей жизни вовсе не было. Ещё скажу тебе, что ни одной секунды не ощутила тебя мёртвым, себя – живой, и не всё ли равно, как это называется!» – строчки, почти дословно повторяющие строки стихотворения «Петру Эфрону»: «И если для целого мира вы мёртвы, я тоже мертва».
«С тех пор у меня в жизни ничего не было, - признается она потом в письме Борису Пастернаку. - Проще: я никого не любила — годы — годы — годы. На поверхности себя я просто закаменела».
Под впечатлением всей этой истории я написала стихотворение:
Райнер Мария Рильке

Старинный замок. Тихий сад.
В горах затерянная местность.
Светилась в голубых глазах
Таинственная неприметность.
Печаль полуприкрытых век.
Звучанье строк подобно флейте.
Кто – ангел? Богочеловек?
Орфей двадцатого столетья?
Их душ глубинное родство
Поэта сразу покорило.
На карте внутренней его
Была отмечена Марина.
Поверх барьеров и помех
О, как ей в грудь к нему хотелось!
Он был единственным из всех,
В котором всё сплелось и спелось.
Он был её живое Там,
Её заоблачное чудо.
И вновь несбыточным мечтам
Слепых надежд даётся ссуда...
Любви ненасытима суть.
Ей вечно платишь неустойку.
Сказать любимому: не «будь
Со мной», а «будь!» – и только.
Глаза в слезах, душа в цвету.
Длить даль и боль – её призванье.
Свиданье душ «на тем свету»
Без признаков существованья.
Ладони никогда уже
Не лягут на земные плечи.
Попытка комнаты в душе –
Предвосхищение невстречи.
В отчаянье во тьму одна
Глядит бессонными очами.
Куда? Зачем? За что?! Стена.
Власть рока. Далее – молчанье.
Растёт и ширится тоска,
Стремясь из тела, как из склепа.
Но из земного тупика
Есть выход: в беспредельность неба.
Пусть не дано им счастье двух,
Но даль всегда встречалась с далью,
Простор – с простором, с духом – дух,
Печаль вселенская – с печалью.
Горит в раю его звезда.
В зрачки светил глаза упёрты.
Но ни на миг она тогда
Его не ощутила мёртвым.
Где жало, смерть, твоё? Любви
Заоблачной сродни заочность.
Её небесный визави
Теперь читал её без почты.
И месяц, тайною томим,
Застыл в пространстве заоконном,
Как вечный памятник двоим,
Не встретившимся в мире оном.

Полностью мою лекцию о Цветаевой и Рильке можно послушать здесь:
https://www.youtube.com/watch?v=3TaqtskYcM4&list=PLrgDSzTXDpvMzteeGKd0XzKXMrpqS2X-f&index=11
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/51585.html
|
|
Процитировано 9 раз
"Сильнее смерти и страха смерти" |
Сегодня, 3 декабря - 85 лет со дня смерти Галины Бениславской.


На похоронах Сергея Есенина Галины Бениславской не было. М. Ройзман рассказывал: «Спустя немного после смерти Есенина я увидел Бениславскую за столиком в здании телеграфа. Перед ней лежал чистый бланк для телеграммы, она сидела задумавшись, с ручкой в руке. Я поздоровался с ней и увидел, что она похудела, даже постарела. Я спросил, не больна ли она?
Нет, я здорова, — тихо ответила она. — Но я каждую минуту думаю, что Сергея Александровича уже нет!»
После его смерти Галина запишет в дневнике: «Пришли страшная безысходность и невозвратимость потери. И такая же смертная тоска по нём у меня.Тому, кто видел его по-настоящему — никого не увидеть, никого не любить».

Она пробует как-то жить, заливать душу вином, бросается из стороны в сторону. Облегчения нет. И Галина принимает решение уйти из жизни.
Это произошло 3 декабря 1926 года на Ваганьковском кладбище рядом с могилой Есенина.

Могила Есенина в её первоначальном виде
«Женщина нервно курила папиросу за папиросой. Она ещё так молода, а жизнь, несмотря на трудности и несчастья, так прекрасна… Наконец она решилась. Достала листок бумаги, быстро, чтобы не раздумать, набросала несколько строк: «Самоубилась здесь, хотя и знаю, что после этого ещё больше собак будут вешать на Есенина. Но и ему, и мне это будет всё равно. В этой могиле для меня всё самое дорогое..."

Ещё некоторое время она стояла не шелохнувшись. Потом на коробке от папирос написала: «Если финка будет воткнута после выстрела в могилу — значит, даже тогда я не жалела. Если жаль — заброшу её далеко…».

Галина достала пистолет... Через некоторое время она на коробке папирос смогла кое-как дописать: «осечка». В Москве потом будут говорить, что осечек было несколько. Зато последовавший выстрел оказался точным. Женщина упала без сознания. Пистолет и финка выпали из её рук…
Выстрел услышали у сторожки. К месту происшествия, боязливо прячась за памятники и ограды, первым подоспел кладбищенский сторож. Смертельно раненая женщина в клетчатом кепи и тёмном поношенном пальто лежала на снегу и чуть слышно стонала. Сторож побежал к церкви поднимать тревогу. Скоро пришла милиция, приехала «Скорая помощь». Умирающую направили в Боткинскую больницу, но она уже не дышала. Повозка развернулась и повезла тело покойной на Пироговку, в анатомический театр. Так трагически оборвалась жизнь 29-летней Галины Бениславской, любовь и преданность которой к поэту была безграничной». (Эдуард Хлысталов. «Литературная Россия» № 50. 14.12.2001 г.)
Самоубийство Галины Бениславской потрясло всю Москву. Было принято решение похоронить её рядом с Есениным. Похороны состоялись 7 декабря. На памятнике начертали слова «Верная Галя». Теперь там выбиты слова Сергея Есенина из его письма к ней:
Какая же она была, эта загадочная и противоречивая женщина, не пожелавшая больше жить в мире, где не было ее Поэта, где не осталось уже смысла существовать, покинувшая его расчетливо и хладнокровно?
Галина Артуровна Бениславская родилась в Петербурге в 1897 году. Она — дочь обрусевшего француза и грузинки.

Росла в семье тётки, так как отец рано оставил семью, а мать лечилась в психиатрической клинике. Была в партии большевиков, побывала в плену у белых, в 1919-22 годах работала в ВЧК секретарём экономического отдела.

Разработчики версии об умышленном убийстве великого поэта распространяют домыслы о том, что Бениславская якобы «была приставлена ГПУ для наблюдения за поэтом» (Ф. Морозов. Журнал «Русь»). Это гнусная клевета. В экономическом отделе, где служила Галина в Особой межведомственной комиссии (ОМК), занимались «выработкой мер по борьбе со спекуляцией и усилению ответственности должностных лиц». Каких-либо агентурно-осведомительных задач комиссия перед собой не ставила. Жизнь писателей и поэтов по вполне понятным причинам ее не интересовала — то была епархия секретного отдела ВЧК. Поэтому очевидно, что «пристегивать» Бениславскую к Агранову можно было лишь с помощью фантазии.
Но, может быть, Агранов позднее привлек Галину Артуровну в секретный отдел ВЧК? И на этот вопрос существует отрицательный ответ, опять же исходя из ее личного дела.
В одной из справок читаем: «Прошу сотрудницу для поручений сельскохозяйственного отдела Бениславскую Г. А. как фактически в отделе не работающую около 4 месяцев откомандировать в административный отдел ГПУ». Этот документ датирован 27 апреля 1922 года, а уже через пять дней была подписана бумага с указанием, что Бениславская «уволена со службы ГПУ по личному желанию и направляется в подотдел учета и распределения рабочей силы гор. Москвы».
Таким образом, сам факт пусть короткой, но официальной службы на Лубянке исключал привлечение Бениславской в качестве секретного сотрудника ГПУ. В противном случае само понятие «секретный» теряло смысл.
Позднее Бениславская перешла работать в редакцию газеты «Беднота». Галина много читала, хорошо разбиралась в литературе, посещала знаменитое кафе «Стойло Пегаса», в котором в двадцатые годы читали свои стихи лучшие поэты Москвы. Но вся ее жизнь перевернулась 19 сентября 1920 года, когда в один из вечеров, проходивших в Политехническом музее, она услышала Сергея Есенина. В тот день она записывает в своём дневнике:
«Вдруг выходит тот самый мальчишка: короткая, нараспашку оленья куртка, руки в карманах брюк, совершенно золотые волосы, как живые. Слегка откинув назад голову и стан, начинает читать:
Плюйся, ветер, охапками листьев, —
Я такой же, как ты, хулиган.

Он весь — стихия, озорная, непокорная, безудержная стихия, не только в стихах, а в каждом движении, отражающем движение стиха. Гибкий, буйный, как ветер, о котором он говорит, да нет, что — ветер, ветру бы у Есенина призанять удали. И в том, кто слушает, невольно просыпается та же стихия, и невольно хочется за ним повторять с той же удалью: «Я такой же, как ты, хулиган»…
Что случилось после его чтения, трудно передать. Все вдруг повскакивали с мест и бросились к эстраде, к нему. Ему не только кричали, его молили: «Прочитайте еще что-нибудь». И через несколько минут, подойдя, уже в меховой шапке с собольей оторочкой, по-ребячески прочитал еще раз «Плюйся, ветер…».
Опомнившись, я увидела, что я тоже у самой эстрады. Как я там очутилась, не знаю и не помню. Очевидно, этим ветром подхватило и закрутило и меня. Что случилось, я сама еще не знала. Было огромное обаяние в его стихийности, в его полубоярском, полухулиганском костюме, в его позе и манере читать, хотелось его слушать, именно слушать еще и еще…»

С.Есенин читает свои стихи у памятника А. Кольцову.
В пору знакомства с Есениным (1919-1920 гг.) Бениславская выглядела девчонкой, в которой, когда она с задором спорила или азартно смеялась, проглядывало что-то мальчишеское. «Глаза у неё были замечательные! Большие, карие, с золотыми искрами, почти сросшиеся, вычурно изогнутые брови под прямым узким носом придававшим её узкому лицу особую значимость. Роскошные, загнутые наверх ресницы. Иронический рот и высокий лоб свидетельствовали об уме и силе воли». (Е. Стырская). Она была похожа на грузинку, отличалась своеобразной красотой и привлекательностью. Тогда у неё ещё были косы галочьего цвета — длинные, пушистые.

Потом остригла. Причесывала короткие волосы на прямой пробор. Беседуя, любила засовывать в обшлага рукавов руки.

Из дневника Галины Бениславской:
«Только удивилась: читала в романах, а в жизни не знала, что так «скоропостижно» вспыхивает это. Поняла: да ведь это же и есть именно тот «принц», которого ждала. И ясно стало, почему никого не любила до сих пор... В этот же вечер отчетливо поняла — здесь всё могу отдать: и принципы (не выходить замуж), и — тело (чего до сих пор даже представить не могла себе), и не только могу, а даже, кажется хочу этого…».

Есенин покорил Галину сразу и безвозвратно. Следующие две недели прошли под гипнозом его стихов. Она присутствует на всех выступлениях поэта и всегда оказывается в первых рядах слушателей, что не остается не замеченным Есениным. Необычная красота девушки притягивает поэта, но она «сдаётся» не сразу и не показывает виду, что безумно влюблена в него. Надо сказать, что Галина никогда не бегала за Есениным (как это было представлено в нашумевшем фильме по произведению Безрукова-старшего), она появлялась только тогда, когда это было необходимо и исчезала, когда отпадала надобность ее вмешательства.
Постепенно завязываются дружеские отношения между поэтом и подругами Галей и Яной Козловской.

Есенин очень интересовался статьями и заметками о нём самом и об имажинизме вообще. Яна, работая в газете «Беднота», и Галина, пользующаяся информбюро ВЧК, доставали ему много интересующего его материала.
Дальше, по словам Галины, началась сказка, которая стала смыслом её жизни и которая продолжалась до 1925 года. Она потянулась к Есенину, как к солнцу. Позднее в письмах она обращалась к нему : «солнышко мое!».

«Ничего не собиралась добиваться, я только не могла и не хотела не думать о нем, не искать возможности увидеть и услышать его. И позже, уже имея возможность всегда видеть его, когда он начинал читать стихи, я не раз думала, что кроме всего этого я могу еще слушать от него самого только что написанные стихи. В этот день пришла домой внешне спокойная, а внутри — сплошное ликование, как будто, как в сказке, волшебную заветную вещь нашла. С этого вечера до осени 1922-го (два года) я засыпала с мыслью о нем и, когда просыпалась, первая мысль была о С.А., так же как в детстве первой мыслью бывает: «Есть ли сегодня солнце?».

«Так любить, так беззаветно и безудержно любить. Да разве это бывает? А ведь люблю, и не могу иначе; это сильнее меня, моей жизни. Если бы для него надо было умереть — не колеблясь, а если бы при этом знать, что он хотя бы ласково улыбнется, узнав про меня, смерть стала бы радостью».
Дневник этот в конце века издан и в России, и в Америке, любовь Галины Бениславской вошла в историю. Люди помнят о её любви вот уже почти столетие. И вряд ли ещё можно найти пример такого спасительного самоотречения в любви, такого бескорыстного всепоглощающего чувства, которое приняли, но не разделили.
Она дождётся, что он скажет ей: «Галя, Вы потрясающий человек. У меня никого нет ближе Вас». Однако добавит: «Но простите. Я не люблю Вас как женщину». Она ответит: «Сергей Александрович, я не посягаю на Вашу свободу, Вам нечего беспокоиться». А в дневнике запишет: "Боже, как мучительно больно... Но я справлюсь с этим. Любить его всегда, всегда быть готовой откликнуться на его зов - и всё, и больше ничего!" И он это ценил и писал ей в письме: «Правда, это гораздо лучше и больше, чем чувствую к женщинам. Вы мне в жизни без этого настолько близки, что и выразить нельзя».

Где-то летом 1921 года Галина чувствует себя необыкновенно счастливой рядом с ним. «Да, март-август 1921-го — какое хорошее время». Есенин был близок с ней, он не мог не ответить на чувства преданного и горячо любящего его человека. Об этом есть упоминание в ее дневнике, датированное мартом 1922- го. «Нет унижения, на которое я не пошла бы, лишь бы заставить его остановиться лишь ненадолго около меня, но не только физически, от него мне нужно больше: от него нужна та теплота, которая была летом, и все!!!» Запись была сделана в начале уже завязавшихся отношений Есенина с Айседорой Дункан.

Зная, что у Есенина есть жена и дети, Галина вообще не помышляла о завоевании его сердца, хотя ее-то сердце уже стучало в высоком любовном ритме. Потом Есенин показался ей уже «доступным». «Как он «провожал» тогда ночью, пауки ползали, тихо, нежно, тепло. Проводил, забыл, а я не хочу забывать. Ведь Есенин один».

После ухода от жены поэт оказался в буквальном смысле слова на улице, поиски крыши над головой были его постоянной головной болью. Где он только не жил! Чаще всего приходилось искать убежище на квартирах разных друзей и знакомых, причем за ним обязательно увязывалась толпа прилипал и нахлебников. Он не мог работать в этих условиях. Галина приютила Сергея в своей коммуналке. Потом туда переехала его сестра Катя. Потом Шура...

Есенин за границей с Дункан.

Галина разрывается между ревностью и любовью. «Ведь она (Айседора) сберечь не сумеет? Не может огонь охранять дерево. Быть может, мы его навсегда уже проводили, не сумели сберечь?.. Как он мне дорог. Опять и опять чувствую это. И дорого все, что дорого ему…»
Приходит решение, несмотря ни на что, быть всегда рядом с ним, быть необходимой, быть другом и не требовать большего.
После возвращения из-за границы и ухода от Дункан Есенин окончательно поселяется в большом доме в Брюсовском переулке, так называемом «доме Правды», где жили сотрудники газет «Правда» и «Беднота», в коммунальной квартире на 7 этаже, где Галине принадлежали две маленьких комнатки. Из окна комнаты открывался вид на Кремль.

В этом доме в Брюсовом переулке (дом 2а, кв. 27) Есенин прожил около года... Эта квартира долго оставалась коммунальной, сейчас же её целиком купил кто-то из новых русских и охранник в неё не пускает. Экскурсии приводят во двор и там рассказывают о Есенине.
Добровольно и с великим энтузиазмом эта тихая подвижница взвалила на себя обязанности прислуги, няни, опекунши, литературного секретаря... Секретаря, пожалуй, в первую очередь. Едва ли не половина есенинских писем 1924 года адресовано ей. Но тщетно искать в них хотя бы одно интимное словечко — всё это дружеские, корректные по тону, с неизменным обращением на Вы (хотя и по имени) деловые послания. Она составляет и издаёт его сборники, держит корректуру, ведёт денежные дела, весьма запутанные, переписывает и хранит его рукописи. Секретарь, надёжный и верный, но не больше.
Из воспоминаний А. Мариенгофа: «После возвращения Есенина из Америки Галя стала для него самым близким человеком: возлюбленной, другом, нянькой. Нянькой в самом высоком, благородном и красивом смысле этого слова. Я, пожалуй, не встречал в жизни большего, чем у Гали, самопожертвования, большей преданности, небрезгливости и, конечно, любви. Она отдала Есенину всю себя, ничего для себя не требуя. И уж если говорить правду — не получая».
В последние годы Галина была чаще всего первой слушательницей его стихов. Она обладала тонким литературным вкусом, и Есенин всегда прислушивался к ее оценкам, не всегда совпадающим с его собственными, к её мягким советам. Галина действовала на него успокаивающе.
«В моем присутствии в течение двух лет произошел только один скандал. Успокаивало его мое спокойствие и моя ровность по отношению к нему; вскоре изучила до тонкости все его настроения. В отношении его настроения и состояния я была совершенно необычайно для меня чутка. Из постоянной тревоги за него выросла какая-то материнская чуткость и внимательность к нему». Она вспоминает случай:
«Вдруг что-то вынимает из кармана, со страхом и опаской. Как будто сломанная папироска — мундштук от гильзы. Нагибается и на ухо, с отчаянием — все, мол, кончено, — говорит. «Это Аксельрод дал, знаете — кокаин, я уже понюхал один раз, только ничего не почувствовал, не действует». Я от ужаса крикнула: «Сейчас же бросьте! Это еще что такое!». И что есть силы ударила его по руке. А он растерянно, как мальчишка, понявший, что балует чем-то нехорошим и опасным, со страхом растопырил пальцы и уронил. Вид у него был такой: избавился, мол, от опасности. Пробирала я его полчаса, и С.А., дрожащий, напуганный, слушал и дал слово, что не только никогда в жизни в руки не возьмет кокаина, а еще в морду даст тому, кто ему преподнесет».
Кто знает, если бы не встретилась на пути Есенина Галина Бениславская, не ушёл ли он от нас еще раньше, погибнув от наркотиков или в уличной пьяной драке, где жизнь его столько раз висела на волоске.
Привычное кабацкое окружение Есенина люто ненавидит Бениславскую. «…Я проходила сквозь строй враждебных, ненавидящих глаз. Чего только они не делали, чтобы устранить меня. К их величайшей ярости, они никак не могли раскусить наших отношений. Жена. Не жена. Любовница – тоже нет. Друг. Не видали они таких среди себя и не верили в мою дружбу. И потому не знали, с какой стороны задеть Сергея Александровича. И не понимали, чем же я так приворожила его, что никакими способами не удается поссорить нас».
Есенин предложит ей: «Галя, я живу у Вас. Ведь пойдут всякие разговоры. Если хотите, я могу жениться на Вас». Она откажется: «Нет, Сергей Александрович. Только из-за чьих-то разговоров — нет. Так — я не могу. Просто Вы всегда, во всём полагайтесь на меня».
В своих воспоминаниях Г.Бениславская пытается обвинить советское правительство в игнорировании поэта. Горько возмущается, что «оно не имело права не понимать, какая ценность находится на его попечении, и которое все же не только не способствовало возможности расти дальше дарованию Есенина, но даже не сумело сохранить его; пусть даже не сохранить, а хотя бы мало-мальски обеспечить бытовые возможности. А Собинову, Гельцер, Неждановой обеспечивают эти возможности, хотя их вклады в духовную культуру неизмеримо меньше, хотя бы уж потому, что их творчество с ними же умрет, а созданное Есениным переживет много поколений».

Есенин называл Бениславскую своей «заботницей». Галя — бесспорно была самым настоящим и верный другом С. Есенина. В письмах к ней он пишет: «Повторяю Вам, что Вы очень и очень мне дороги. Да и сами Вы знаете, что без Вашего участия в моей судьбе было бы очень много плачевного».

Не верьте тому, что говорят и пишут о Галине Бениславской в дурацких книгах и фильмах: была чекисткой, стучала на Есенина и прочий вздор. Больно смотреть и читать, как порочат память этой прекрасной женщины. Такой любви памятники надо ставить. Есенин, к сожалению, не посвятил ей ни одного стихотворения. Но если бы он не умер так рано, я думаю, он ещё вернулся бы к ней. «Лицом к лицу лица не увидать. Большое видится на расстоянье». Расстояния не хватило...

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/50819.html
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
"Не хочешь ли билет в театр души?.." |
Начало здесь
1 декабря 1918 года родился поэт Иван Елагин.

Не нужен ли кому-нибудь закат,
Какого нету у других поэтов, –
У горизонта дымно-розоват,
А выше в небе – темно-фиолетов?
Не надо ли кому-нибудь тоски?
Мы все живем, в тоске своей увязнув,
Но от моей тоски – твои виски
Засеребрятся серебром соблазнов.
Скорее, покупатель мой, спеши!
Я продаю товар себе в убыток.
Не хочешь ли билет в театр души,
Который я зову театром пыток?
Пускай спектакль слегка аляповат,
Пускай в нем декорации лубочны,
Но там слова на сцене говорят,
Которые неумолимо точны.
И может быть, то главное, о чём
Ты только вскользь догадывался глухо, –
Там на подмостках с площадным шутом
Разыгрывает площадная шлюха.
Я там веду с собою разговор,
В моем театре я распорядитель,
И композитор я, и осветитель,
И декоратор я, и режиссер,
И драматург я, и актер, и зритель.
Мир елагинской поэзии сам по себе предельно театрализован, тема сцены появляется в десятках стихотворений, а маленькая поэма «Нечто вроде сценария» полностью соответствует своему заглавию:
Так просто — декорации все снять,
И в черных сукнах ночи я опять.
Быть может, в русской поэзии нашего века вообще нет второго мастера, чей мир до такой степени был бы «размещен» на сцене.
Вверху хрусталем и хромом
В антракте зажгли звезду.
Раскланиваюсь со знакомым
В четырнадцатом ряду.
А сцена пуста. Не там ли,
Вперед наклонясь чуть-чуть,
Просил Офелию Гамлет
В молитве его помянуть?
Я страх почувствовал некий,
Что Гамлет просил о том
Уже в семнадцатом веке.
Попросит в двадцать шестом.
И перед этою тайной,
Что столько веков живет,
Я – только совсем случайный
Незначащий эпизод,
И что искусство мудрее
Во многом жизни самой,
И что костюм устареет
Не гамлетовский, а мой.
Что здесь, у самого края
Сцены, живущей века,
Зрителя я играю,
И роль моя коротка.
Точно я переломан,
Раздвоившийся весь,
Ни в гостях – и ни дома,
И ни там – и ни здесь.
От игры и от риска
Отказаться пора.
Нет, не бросить мне диска,
Не толкнуть мне ядра.
Нет, я веса не выжал
И победой не горд.
Просто выжил. Я выжил:
Это тоже рекорд.
Только этим едва ли
На параде блеснуть.
Никакой мне медали
Не навесят на грудь.
И написано строго
Было мне на роду,
Что торжественно в ногу
Я ни с кем не пойду.
До седьмого мне пота
Надрываться опять,
Пьедестала почета
Никогда не видать.
Ну, а если удача
Мне помашет рукой –
Музыкантам задача:
Гимн исполнить какой?
Я случайный бродяга:
Человек без корней,
И ни гимна, ни флага
Нет у музы моей.
Залик
Поэт Иван Елагин (Матвеев) родился 1 декабря 1918 года во Владивостоке. Отец – известный поэт-футурист Венедикт Матвеев дал сыну экзотическое имя: Уотт-Зангвильд-Иоанн-Март. Поскольку выговорить это было невозможно, близкие звали его Залик, а семейное прозвище было – Заяц. В документах же он был зафиксирован как Иван.
Я родился под острым присмотром начальственных глаз,
Я родился под стук озабоченно-скучной печати.
По России катился бессмертного «яблочка» пляс,
А в такие эпохи рождаются люди некстати.
Отец был русский, мать еврейка. Поэтесса Новелла Матвеева — двоюродная сестра Елагина, дочь младшего брата его отца, вспоминала, как детишки 20-х годов играли с маленьким Заликом в чудесную советскую игру «погром», хотели его как еврея, топить, он соглашался, но требовал, чтобы его, как полуеврея, топили только по пояс.

Детство Залика-Ивана, а точнее, 1929-30-е годы были связаны с нашим Саратовом и Энгельсом (Покровском). В эти города будущего поэта привели обстоятельства весьма драматические. Там отбывал ссылку его отец, а Залик беспризорничал в Москве (мать лежала в психиатрической клинике), пока друг семьи (впоследствии — писатель Фёдор Панфёров) не отловил Ивана на Сухаревке и не отправил к отцу в Саратов. Об этом мы читаем в его поэме “Память”:
Памяти экран опять потух.
Напрягаю внутренний я слух.
Вспыхнула картина в голове,
Как я беспризорничал в Москве.
Мой отец году в двадцать восьмом
В ресторане учинил разгром,
И поскольку был в расцвете сил –
В драке гепеушника избил.
Гепеушник этот, как назло,
Окажись влиятельным зело,
И в таких делах имел он вес –
Так бесшумно мой отец исчез,
Что его следов не отыскать.
Тут сошла с ума от горя мать,
И она уже недели две
Бродит, обезумев, по Москве.
Много в мире добрых есть людей:
Видно, кто-то сжалился над ней
И ее, распухшую от слез,
На Канатчикову дачу свез.
Но об этом я узнал поздней,
А пока что – очень много дней
В стае беспризорников-волков
Я ворую бублики с лотков.
Но однажды мимо через снег
Несколько проходят человек,
И – я слышу – говорит один:
«Это ж Венедикта Марта сын!»
Я тогда еще был очень мал,
Федора Панферова не знал,
Да на счастье он узнал меня.
Тут со мною началась возня.
Справку удалось ему навесть,
Что отцу досталось – минус шесть,
Что отец в Саратове, – и он
Посадил тогда меня в вагон
И в Саратов отрядил к отцу.
Это тоже город над рекой,
только над рекой совсем другой.
Вон мальчишка с удочкой в руке
по камням с отцом спешит к реке.
Мне пошёл одиннадцатый год.
За плотом плывёт по Волге плот.
Года два ещё придётся нам
прыгать по саратовским камням.

Покровск (Энгельс)
Снова Волга. Волга и паром.
Мы уже на берегу другом.
Чистенькие домики. Уют.
Немцы тут поволжские живут.
Был Покровском город наречён,
Энгельсом теперь зовётся он.
Отец поэта работал в свое время в Японии и в Китае. Он хорошо знал японский и китайский языки. Писал стихи в форме хокку и танки. Этого было достаточно, чтобы обвинить его в японском шпионаже. Он написал роман "Война и война", который никто не печатал. Когда его забирали, пошутил: "Вот наконец-то прочтут мой роман!" Взяли сундук, полный рукописей. Больше Венедикта Марта никто никогда не видел…
Переписка ворохом
Свалена – изъята.
Изъято всё, что дорого,
Изъято всё, что свято.
В протоколе пункт один,
Как железный стержень, –
Что задержан гражданин,
Гражданин задержан.
Гражданина уводил
В кителе детина,
И задержан бег светил
Был для гражданина.
Только сел в машину он –
Двинулась машина,
И задержан ход времен
Был для гражданина.
И пропал он, как в дыму,
На заре в июле,
И дыхание ему
Задержали пулей.
Брось на клок бумаги взгляд,
Только зубы стисни:
Прочитай, как был изъят
Гражданин из жизни.
Венедикт Март был арестован 12 июня 1937 года, после чего Иван остался в квартире с мачехой, Клавдией Ивановной, но 31 октября того же года арестовали и ее. Месяц за месяцем Иван ходил к тюремному окошку с передачей («Бельевое мыло / В шерстяном носке, / Банка мармелада, / Колбасы кусок, / С крепким самосадом / Был еще носок; / Старая ушанка, / Старый свитерок, / Чернослива банка, / Сухарей кулек» — так он сам описал ее в стихотворении «Передача»).
Я стою, как в дыму,
Чуть не плачу.
А принес я в тюрьму
Передачу.
Мы построились в ряд
Под стеною.
Предо мною стоят
И за мною.
Загибаясь, идёт
Та дорожка
От железных ворот
До окошка.
Не беседуют тут,
Не судачат,
Разве только вздохнут
Иль заплачут.
И стоит за окном
Небожитель.
Гимнастерка на нём
(Или китель).
Он стоит, как гранит, —
Обелиском!
И мизинцем скользит
Он по спискам.
У него, что ни взгляд,
Что ни слово,
Точно гири гремят
Стопудово!
Только даром три дня
Я потрачу.
Не возьмёт у меня Передачу.
Выйду. Лампы во мгле
У вокзала.
Жил отец на земле —
и не стало.
Но передачу не принимали, а вскоре следователь объявил: «десять лет со строгой изоляцией». Того, что это — эвфемизм расстрела, мальчик не знал; он продолжал ходить с передачами к тюрьме, хотя отца давно — между 12 и 15 июня 1937 года — расстреляли: в «расстрельном» списке этих дней киевского НКВД значится его имя. Иными словами, год ходил Ваня Матвеев с передачей к мертвому отцу.
Из посвящённой ему поэмы «Звёзды»:
…Полночь, навалившаяся с тыла,
Не застала в небе и следа.
Впереди величественно стыла
К рельсам примерзавшая звезда.
Мы живем, зажатые стенами
В черные берлинские дворы.
Вечерами дьяволы над нами
Выбивают пыльные ковры.
Чей-то вздох из глубины подвала:
— Господи, услышим ли отбой?
Как тогда мне их недоставало,
Этих звезд, завещанных тобой!
Сколько раз я звал тебя на помощь —
Подойди, согрей своим плечом.
Может быть, меня уже не помнишь?
Мертвые не помнят ни о чём.
Ну, а звезды. Наши звезды помнишь?
Нас от звезд загнали в погреба.
Нас судьба ударила наотмашь,
Нас с тобою сбила с ног судьба!
Наше небо стало небом чёрным,
Наше небо разорвал снаряд.
Наши звезды выдернуты с корнем,
Наши звезды больше не горят.
В наше небо били из орудий,
Наше небо гаснет, покорясь,
В наше небо выплеснули люди
Мира металлическую грязь!
Нас со всех сторон обдало дымом,
Дымом погибающих планет.
И глаза мы к небу не подымем,
Потому что знаем: неба нет.

Сам Ваня каким-то чудом арестован не был. Хотя вёл себя в те годы ох как неосторожно — писал, например, и читал друзьям такие частушки:
У меня матрас засален
От ночной поллюции.
Пусть живет товарищ Сталин,
Творец Конституции!
В конце 50-х отца Елагина, как водится, реабилитировали. Но сын не признавал этого права за нашими властями — реабилитировать, то есть как бы освобождать от вины, прощать. Он не нуждался в их реабилитации. Он не простил палачей отца и не собирался прощать. Его стихотворение «Амнистия» полно горечи и сарказма:
Еще жив человек,
Расстрелявший отца моего
Летом в Киеве, в тридцать восьмом.
Вероятно, на пенсию вышел.
Живет на покое
И дело привычное бросил.
Ну, а если он умер –
Наверное, жив человек,
Что пред самым расстрелом
Толстой
Проволокою
Закручивал
Руки
Отцу моему
За спиной.
Верно, тоже на пенсию вышел.
А если он умер,
То, наверное, жив человек,
Что пытал на допросах отца.
Этот, верно, на очень хорошую пенсию вышел.
Может быть, конвоир еще жив,
Что отца выводил на расстрел.
Если б я захотел,
Я на родину мог бы вернуться.
Я слышал,
Что все эти люди
Простили меня.

Знаю, не убьет меня злодей,
Где-нибудь впотьмах подкарауля,
А во имя чьих-нибудь идей
Мне затылок проломает пуля.
И расправу учинят, и суд
Надо мной какие-нибудь дяди,
И не просто схватят и убьют,
А прикончат идеалов ради.
Еще буду в луже я лежать,
Камни придорожные обнюхав,
А уже наступит благодать –
Благорастворение воздухов,
Изобилье всех плодов земных,
Благоденствие и справедливость,
То, чему я, будучи в живых,
Помешал, отчаянно противясь.
И тогда по музам мой собрат,
Что о правде сокрушаться любит,
Вспомнит и про щепки, что летят,
Вспомнит и про лес, который рубят.
Невстреча с Ахматовой
Елагину пришла идея показать свои стихи Ахматовой.

Приняла она его плохо, вернее сказать, выгнала. Елагин потом шутил: «Могу писать мемуары, как меня выгнала великая русская поэтесса!» В поэме «Память» он такие мемуары как раз и написал. Подробнее эту историю описывает жена Елагина Ольга Анстей в письме подруге: «Выгон Зайца был очень краток. Она объявила ему, что сына ее высылают, и у нее должно быть последнее свидание, и вообще она никаких стихов слушать не может, она совершенно не чувствует в себе способности руководить молодыми дарованиями, и вообще "не ходите ко мне, забудьте мой адрес и никого ко мне не посылайте. Это не принесет радости ни мне, ни вам». Одета она была в шелковое трикотажное, но совершенно драное, разлезшееся платье, длинное, темное. Над диваном у нее висит портрет девушки в белом платье. Заяц только на обратном пути догадался, что это – она в юности. Да, впрочем, вот его стихи, на днях написанные:

Я никогда не верил,
Что к Вам приведут пути.
Но Вы отворили двери,
К Вам можно было войти.
Даже казался странным
В комнате Вашей свет
И над простым диваном
Девушки в белом портрет.
Но Вам в тяжелых заботах
Не до поэтов — увы!
Я понял уже в воротах,
Что девушка в белом — Вы.
И, подавляя муку,
Глядя в речной провал,
Был счастлив, что Вашу руку
Дважды поцеловал»
Портрет девушки в белом — это знаменитый портрет Ахматовой работы А. Осмеркина под названием «Белая ночь», который сейчас находится в Государственном Литературном музее в Москве.

Надо сказать, что Ахматова вовсе не отказалась в то время полностью от общения с поэтической молодёжью. В записках Лидии Чуковской мы находим свидетельства её встреч с Галичем (тогда Сашей Гинзбургом), стихи которого ей очень нравились, с юным Солженициным, тогда пишущим стихи. Елагину не повезло: он не был ею не только признан, но даже выслушан. Может быть, сыграла роль непрезентабельная внешность Ивана — маленький, тщедушный, похожий на галчонка, это не рослый красавец Галич с барственными аристократическими манерами или ослепительно синеглазый Солженицин («светоносец», как Ахматова восхищённо его называла). Короче, приняли Елагина по одёжке, а до ума очередь не дошла. А жаль.
«По дороге оттуда»
Псевдоним «Елагин» Иван Матвеев взял ещё до войны. Скорее всего он выбрал это имя под влиянием щемящих блоковских строк:
Вновь оснежённые колонны,
Елагин мост и два огня,
и голос женщины влюблённый.
И хруст песка, и храп коня.

Во время войны Иван попадает с семьей в Киеве в оккупацию. Положение его было особенно опасным, приходилось скрывать, что мать его – еврейка. Недоучившийся студент-медик, он некоторое время работал в родильном доме, то есть мог быть обвинен в сотрудничестве с оккупантами. В 1943 году они с женой, поэтессой Ольгой Анстей, бежали на Запад. В дороге у жены родилась девочка, которая через два месяца умерла. Долгое время они жили в Германии, в казармах «для перемещённых лиц».

Веку убийства
Пришлись ко двору,
А я забился
В мою конуру.
В дверь не поверю!
Удар сапога
Вышибет двери –
И вся недолга.
Мой дом – моя крепость?
Что за нелепость!..
Мой дом – моя будка,
Мой дом – моя щель.
Вечером жутко
Ложиться в постель.
Какой я хозяин
Колу и двору?
Так вот припаян
Острожник к ядру.
Мой дом – берлога,
Мой дом – нора,
Где над порогом
Тень топора.
***
С перевала вновь на перевал
Без конца тащусь в каком-то трансе.
Я бы ноги ей переломал,
Этой самой Музе Дальних Странствий!
Мне б такую музу, чтоб была
Мудрой и спокойной домоседкой,
Чтоб сидела тихо у стола,
А в окно к ней клен стучался веткой.
Чтоб с порогом дома крепла связь,
Чтобы стен родных поила сила...
Мне б ту музу встретить, что, смеясь,
В гости к Карлу Ларсону ходила.
Рисовал он двор свой и забор,
Рисовал жену, детей, собаку,
Рисовал светло, наперекор
Всякому возвышенному мраку.
У меня есть тоже дом и сад
С вишнею, шиповником, сиренью.
Пусть они сейчас прошелестят,
Словно ветер, по стихотворенью.
Клен стоит почти что у дверей.
Я о нем хотел бы в строчке этой
Так сказать, чтоб шум его ветвей
Был услышан целою планетой...
В 1947 году в Мюнхене Елагин издаёт свою первую поэтическую книгу «По дороге оттуда», годом позже ещё одну - «Ты, моё столетие».
Нас раскидало по волнам,
по разным пристаням рассея...
И долго будет небо нам
железным небом Одиссея.
И океан под нами смят,
и гибнуть нам, как древним грекам...
Как боги хаоса шумят
над концентрационным веком!
«Где тоскуют и любят по-волчьи»
А в 1948 году жена уходит от Елагина к другому.

Поэт Ольга Анстей
Иван нашёл в себе силы подняться над своим чувством:
Отпускаю в дорогу, с Богом!
Отдаю тебя всем дорогам,
Всем обманывающим и сулящим,
По которым мы жизни тащим.
Отдаю и реке, и саду,
И скамье, где с тобой не сяду,
И кусту отдаю, и оврагу,
И траве, где с тобой не лягу,
И предутреннему перрону,
Где, прощаясь, тебя не трону.
Отдаю всем заливам синим,
Где мы в воду камней не кинем,
Всем перилам и всем оградам,
Где с тобой не застынем рядом.
Отпускаю в дорогу, с Богом!
Отдаю тебя всем дорогам,
Всем тревожным привалам нашим,
На которых свистим и пляшем,
На которых поем и плачем...
Всем удачам и неудачам.
Отдаю тебя на поруки
Ветру, счастью, дождю, разлуке –
Тем, что будут с тобой повсюду
Там, где я никогда не буду.
Отдаю тебя службам жадным,
Лифтам, лестницам и парадным,
Коридорам и кабинетам,
Разговорам, кивкам, газетам,
Папкам, подписям и печатям.
Так мы порознь жизнь растратим
За казенным и за поденным
Сумасшествием телефонным,
За столами и за дверями
С именами и номерами...
Отдаю тебя всем соблазнам,
Встречам легким, веселым, праздным,
И печальным горячим встречам
В час, когда защититься нечем.
В 50-е годы Елагин переезжает в США.

Свою жизнь там он описал в поэме «Нью-Йорк-Питтсбург». Дорвавшись до вожделённой американской свободы, он не знал, что с этой свободой делать.
Кому столицы, кому задворки,
А я остался в ночном Нью-Йорке.
Себя я вижу за стойкой в баре.
А за окошком – фонарь в угаре.
По виду скажут – бывалый малый,
Чуть-чуть сутулый, слегка усталый...
А сам себе я по всем приметам
Казался ветром, звездой, поэтом!..
Елагин, не знавший ни слова по-английски, оказался в чужом городе, в чужой стране. Ему было очень тяжело и одиноко.
Бредут влюблённые по скверу,
по листьям, как по янтарю,
а я шотландскому терьеру
о смысле жизни говорю.
И ты проходишь там
под звёздами один
в своём краю реклам,
в своём краю витрин.

Временами подступает отчаянье. Ему кажется, он один во враждебном мире, где всё говорит ему о смерти:
Где, как сумерки, улицы стары,
и на каждых воротах броня,
и смертельные жёлтые фары
отовсюду летят на меня.
Где сады багровеют от жёлчи
и спешат умереть облака,
где тоскуют и любят по-волчьи
и бросаются вниз с чердака.
Он очень тосковал, даже думал о самоубийстве.
Гибнет осень от кровопотерь,
улица пустынна и безлиства.
И не всё ли мне равно теперь -
грех или не грех самоубийство.
Если жизнь тут больше не при чём,
если всё равно себя разрушу,
если всё равно параличом
мне давно уже разбило душу.
То на улице мёрзну безлюдной,
то слоняюсь среди пустырей,
чтоб какой-нибудь смерти нетрудной
приглянулся бы я поскорей.
Что ты лжёшь мне, постылая жизнь!
Разве мало тебе идиотов?
Отцепись от меня, отвяжись!
Я тебя уже сбросил со счётов.
Об этом и его во многом автобиографическое жутковатое стихотворение «Поэт»:
Он жил лохматым зачумленным филином,
Ходил в каком-то диком колпаке
И гнал стихи по мозговым извилинам,
Как гонят самогон в змеевике.
Он весь был в небо обращен, как Пулково,
И звезды, ослепительно-легки,
С ночного неба, просветленно-гулкого,
Когда писал он, падали в стихи.
Врывался ветер громкий и нахрапистый,
И облако над крышами неслось,
А он бежал, бубня свои анапесты,
Совсем как дождь, проскакивая вкось.
И в приступе ночного одичания
Он добывать со дна сознанья мог
Стихи такого звездного качания,
Что, ослепляя, сваливали с ног.
Но у стихов совсем другие скорости,
Чем у обиды или у беды,
И у него с его судьбой напористой
Шли долгие большие нелады.
И вот, когда отчаяние вызрело
И дальше жить уже не стало сил, –
Он глянул в небо и единым выстрелом
Все звезды во вселенной погасил.
«Мир невыносимо-деловой»
Жизнь в Штатах складывалась нелегко. Первые два-три года Елагин работал на фабриках, на случайных работах. Затем стал фельетонистом в газете "Новое Русское Слово", сотрудничал в "Новом Журнале". В это же время он начал переводить стихи американских поэтов. Внешне вроде всё складывается нормально, но внутри назревает катастрофа. Ему не по нутру этот буржуазный, бездушно-деловой мир.
Я теперь живу в комфорте,
точно взятый напрокат,
изготовленный в реторте
человекофабрикат. -
горько усмехается поэт над своим бытиём. Ему невыносимо здесь, он не может найти себя, не может чувствовать себя человеком.
Каждым утром, сразу после сна
я выбрасываюсь из окна
и лечу на камни мостовой
в мир невыносимо деловой.

Его душа томится, задыхается от невозможности быть собой. Он не может вписаться в эту американскую действительность.
Послушай, я всё скажу без утайки.
Я жертва какой-то дьявольской шайки.
Послушай – что-то во мне заменя,
В меня вкрутили какие-то гайки,
Что-то вмонтировали в меня.
Впервые почувствовал я подмену,
Когда мне в окно провели антенну,
Когда приемник вносили сюда.
Как будто втащили Лондон, и Вену,
И Рим, и Москву – и все города!
И поползли на меня через стену
Змеями черными провода.
Послушай, сперва добрались до слуха
И стали мне перестраивать ухо,
Взялись сверлить, и долбить, и вертеть.
Что-то в ушах моих щелкнуло сухо:
Слух мой включили в общую сеть.
И вот в мои слуховые каналы
Вломились все позывные сигналы,
Разом крутиться пластинки пошли,
Заговорили вразброд, как попало,
Радиостанции всей земли.
И отключили от Божьего мира
Душу мою – моего пассажира.
Послушай, я скоро прибором стану,
Уже я почти что не человек,
В орбиты мне вставили по экрану,
И я уже не увижу поляну,
Я не увижу звезды и снег.
А будут на пленочной амальгаме,
Где-то под веками мельтеша,
Экранные люди в джазовом гаме
Выкидывать сплющенными ногами
Остервенелые антраша.
Пойми, мне помощь нужна до зарезу,
Пойми, я больше так не могу,
Меня опять готовят к протезу,
Уже протянут холод железа
Где-то в бедном моем мозгу.
Я знаю их адские выкрутасы,
Знаю, к чему это клонится всё,
Они мне сердце хотят из пластмассы
Вставить и вынуть сердце мое.
И никуда я от них не укроюсь,
От них никуда мне не увильнуть.
Мой пассажир оставляет поезд.
Порожняком я трогаюсь в путь.
Я даже смерти не удостоюсь.
Мне запретили отныне и впредь
По-человечески вспыхнуть, то есть
По-человечески умереть.
Ни ангельских крыльев, ни эмпиреев,
Ни райского сада, ни звездных люстр,
А просто иссякнет заряд батареи,
И я, как машина, остановлюсь.
Без любви
Елагин выпивал, играл в карты, заводил романы, от которых остались немногие грустные строки.
Я два слова знаю по-английски,
ты по-русски знаешь слова три.
Я под вечер пью с тобою виски
и с тоской смотрю на словари.

Стихов о любви у Елагина почти нет, как, видимо, не было и какого-то серьёзного чувства.
Многие мне страны
были в пути обещаны.
Но всё-таки самой странной
страною была женщина.
Томит миражем в пустыне,
пока не ляжем и не остынем
в её трясине, в её болоте,
в низинах её плоти.

Не очень-то возвышенные строки. Недаром критик В. Вейдле упрекнул Елагина в том, что он «не лирик».
Израсходовался дочиста,
разлетелся задарма.
Так что если очень хочется,
разжигай меня сама.

Такая вот любовь. По-американски.
В Гринвич Вилидж

Всю ночь музыкант на эстраде
Качался в слоистом дыму,
И тени по-волчьему сзади
На плечи кидались ему.
Себя самого растревожа,
Он несся в какой-то провал
И нежно во влажное ложе
Протяжные звуки вливал.
Здесь всякий приятель со всяким,
И всякий здесь всякому рад.
Артисты, пропойцы, гуляки
Толкаются, пьют, говорят.
Над столиком тонкий светильник
Мелькает в зеленом стекле.
Привет тебе, мой сомогильник,
Еще ты со мной на земле.
Привет тебе, мой современник.
Еще ты такой же, как я,
Дневной неурядицы пленник
Над рюмкой ночного питья.
Какая-то тусклая жалость
Из труб серебристых текла.
Какая-то дрянь раздевалась
На сцене ночной догола.
Картины кострами сложите
И небо забейте доской!
Не надо уже Афродите
Рождаться из пены морской.
Не всплыть ей со дна мифологий,
И пена ее не родит,
Здесь девка закинула ноги,
Тут кончился век афродит.
Я пальцами в такт барабаню,
Я в такт каблуками стучу,
Я тоже со всей этой дрянью
В какую-то яму лечу.

Без родины
Он пытался, подобно Набокову, стать американцем. Но у него это не получалось. Он был слишком русским душою. Писал он в отличие от Набокова и Бродского только по-русски. В 1963 году выходит его новый сборник «Отсветы ночные», в 1967-ом - «Косой полёт». В советской же культуре место Елагина было в самиздате.
Никто не заметит пропажи,
но знаю: сегодня уже
прописан я в русском пейзаже,
прописан я в русской душе.
В Московском университете
какой-нибудь энтузиаст
стихи перепишет вот эти
и дальше друзьям передаст.
Не в тёмном хлеву на соломе,
не где-нибудь на чердаке, -
как в отчем наследственном доме
я в русском живу языке.
Однако, кто такой Иван Елагин, читатели ещё не знали.
От слова и до слова
Перечитал подряд.
Послание готово,
А где же адресат?
Где современник дивный,
Где он, чудак такой,
Что на строку отзывной
В меня плеснет строкой?
Где собеседник милый?
В каком живешь краю?
У вод Мононгахилы
Я одинок стою.
А подо мною – зыби
Несущийся поток.
И сам я на отшибе,
И стих мой одинок.
По натуре Елагин оптимист. Ему всегда хотелось верить в сказку со счастливым концом.
Пошла твоя жизнь по-иному.
Хоть ты порывался потом
Дорогу отыскивать к дому,
Да сам ты не знаешь, где дом.
Идешь ты по жизни с опаской,
Идешь с постаревшим лицом,
А всё еще веришь, что сказка
Должна быть с хорошим концом.
К сожалению, его сказка оказалась с концом печальным. На родину Елагин так и не вернулся. При жизни у него там не напечатали ни строчки. А он так этого ждал!
В зале моих ожиданий сижу я – пока
Замертво, в темный мой час, не свалюсь я со стула.
Так и умру, ожидая, чтоб эта строка
Неизгладимо по сердцу тебя полоснула.

В 1973 году в Нью-Йорке у Елагина выходит книга «Дракон на крыше».
Там, в заоблачном Нью-Йорке,
скрыто логово моё...
А что есть Святой Георгий -
всё враньё! Всё враньё!
У меня горит пещера,
чудным светом залита.
У меня клубами сера
изо рта, изо рта!
Одно из самых сильных стихотворений этого сборника — об авторских правах поэта:

Я сегодня прочитал за завтраком:
«Все права сохранены за автором».
Я в отместку тоже буду щедрым –
Все права сохранены за ветром,
За звездой, за Ноевым ковчегом,
За дождем, за прошлогодним снегом.
Автор с общественным весом,
Что за права ты отстаивал?
Право на пулю Дантеса
Или веревку Цветаевой?
Право на общую яму
Право быть чистым и смелым,
Не отступаться от слов,
Право стоять под расстрелом,
Как Николай Гумилев.
Авторов только хватило б,
Ну, а права – как песок.
Право на пулю в затылок,
Право на пулю в висок.
Сколько тончайших оттенков!
Выбор отменный вполне:
Право на яму, на стенку,
Право на крюк на стене,
На приговор трибунала,
На эшафот, на тюрьму,
Право глядеть из подвала
Через решетки во тьму,
Право под стражей томиться,
Право испить клевету,
Право в особой больнице
Мучиться с кляпом во рту!
Вот они – все до единого, –
Авторы, наши права:
Право на пулю Мартынова,
На Семичастных слова,
Право как Блок задохнуться,
Как Пастернак умереть.
Эти права нам даются
И сохраняются впредь.
...Все права сохранены за автором.
Будьте трижды прокляты, слова!
Вот он с подбородком, к небу задранным,
По-есенински осуществил права!
Вот он, современниками съеденный,
У дивана расстелил газетины,
Револьвер рывком последним сгреб –
И пускает лежа пулю в лоб.
Вот он, удостоенный за книжку
Звания народного врага,
Валится под лагерною вышкой
Доходягой на снега.
Господи, пошли нам долю лучшую,
Только я прошу Тебя сперва:
Не забудь отнять у нас при случае
Авторские страшные права.
Завещание
В поздних стихах Елагина усиливается драматизм, трагизм восприятия мира и своего места в нём. Это стихи-декларации, стихи-завещания, где чуть ли не каждая строчка кажется высеченной на скрижалях. Этим стихам веришь. В них — то чувство внутренней правоты, о которой говорил Мандельштам.
Не в строчке хорошей тут дело,
Не в строчке плохой,
А том, чтоб душа молодела
От корки сухой,
А в том, чтобы, нищенской стайкой
Плетясь, облака
Тебе бы как теплой фуфайкой
Согрели бока.
И вовсе неважно, что мало
Ты мир понимал,
Но лужа тебе просияла
Как лунный опал,
Но ветка тебе постучала,
В окно поутру,
Но птица тебе одичало
Кричит на ветру,
И ты по вечернему логу
Идешь холодком,
И дерево машет в дорогу
Зеленым платком.
И что там какие-то тайны –
Секрет мастерства, –
Пусть будут, как звезды, случайны
Ночные слова,
Пусть падают криво и косо
В овраги стиха, –
Вот так же летят под колеса
Листвы вороха.
Но помни, что с болью, со стоном,
Как грех на духу,
Вот так же слова исступленно
Отдашь ты стиху,
Но помни, что ты настоящий –
Лишь всё потеряв,
Что запах острее и слаще
У срезанных трав,
Что всякого горя и смрада
Хлебнешь ты сполна,
Что сломана гроздь винограда
Во имя вина.

Елагин преподавал русскую литературу в Русской летней школе в Миддлберри, штат Вермонт, и отдал этому делу больше пятнадцати лет. В последние годы поэт был тяжело болен. У него была эмфизема лёгких. Его стихи о болезни очень мужественны и проникнуты горьким юмором.
Этот снег за стеною больничной –
Мой единственный друг закадычный,
Он, как слезы, течет и течет.
И душа по-некрасовски вволю
Опилась покаянною болью.
Вот и близится с жизнью расчет.
Умирать предназначены все мы,
Но кончаться в когтях эмфиземы –
Это очень унылый сюжет:
Ловишь воздух, как пойманный окунь,
Только он недоступен, далек он,
Только, в сущности, воздуха нет.
Что ты знал о Толедо, Охайо?
Что на свете земля есть такая,
Что бывают такие места?
Ты мечтал о ключе Иппокрены –
Ах, как эти мечты вдохновенны!
Только музыка вовсе не та!
А не хочешь ли розовой пены,
Что струей потечет изо рта?
* * *
Не надо слов о смерти роковых,
Не надо и улыбочек кривых,
И пошлостей, как пятаки, потертых.
Мы – тоненькая пленочка живых
Над темным неизбывным
морем мертвых.
Хоть я и обособленно живу, –
Я всё же демократ по существу
И сознаю: я – только единица,
А мертвых – большинство,
и к большинству
Необходимо присоединиться.
8 февраля 1987 года поэт Иван Елагин скончался от рака поджелудочной железы в Питтсбурге, там же был отпет и похоронен. На его могиле стоит камень с выгравированным по-английски именем и датами жизни; на том же камне – восьмиконечный православный крест.

кладбище в Питтсбурге
Здесь чудо всё: и люди, и земля,
И звездное шуршание мгновений.
И чудом только смерть назвать нельзя –
Нет в мире ничего обыкновенней.
Настоящее признание пришло к нему в России лишь после смерти, вместе с изданием его двухтомника (М., Согласие, 1998). Он всегда знал, что рано или поздно его стихи придут к российскому читателю:

Но знаю: меня они всё-таки вспомнят,
заглянут ко мне в аметистовый омут,
моим одиночеством тёмным звеня,
как груз потонувший, подымут меня.
А закончить мне хочется стихотворением Ивана Елагина «Завещание». Это его обращение ко всем нам, потомкам:

Пожалуйста, адвокат,
Составьте мне завещанье, –
Пора уже отвыкать
От жизни с ее звучаньем.
Все звезды от первой и до последней,
Все огни, что ночами светятся, –
Тебе завещаю я, мой наследник,
Тебе завещаю, моя наследница.
Чем одаряют и одаряли
Консерватории всех веков,
Все прогремевшие бури роялей
Все косые дожди смычков,
Всё, что в скитаниях тысячелетних
Людям пригрезилось и пригрезится, –
Тебе завещаю я, мой наследник,
Тебе завещаю, моя наследница.
Все фантазии, все капризы,
Все иллюзии, все мечты,
Театров светающие кулисы,
Музеев диковинные холсты,
Всех живописцев цветные бредни,
Всё, что блистательной кистью метится, –
Тебе завещаю я, мой наследник,
Тебе завещаю, моя наследница.
Эту грешную, эту старенькую,
Суматошную землю мою,
Утопающую в кустарнике
В парке каменную скамью,
Всю прохладу сумерек летних,
Когда легко разойтись и встретиться, –
Тебе завещаю я, мой наследник,
Тебе завещаю, моя наследница.
Этот снег, только что выпавший,
И развеселого босяка –
Вот он, нескладный, немного выпивший,
Идет, покачиваясь слегка, –
Февральской ночи шумящий ледник,
Все фонари, что звенят в гололедицу, –
Тебе завещаю я, мой наследник,
Тебе завещаю, моя наследница.
Был я поэт, бедняк,
Бился, язык высуня,
Ценнее ценных бумаг
Бумага была исписанная.
Не затевал я дел,
Не заправлял финансами,
А все-таки я владел
Вот этой луной фаянсовой.
И, без копейки сиживая,
Я не терял мужества:
В небе мое недвижимое
И движимое имущество.
Знал я, зубами клацая,
Знал я, ремень прикручивая,
Что у меня акции
Самые наилучшие.
Что я, по воле дивного
Случая и неслучая, –
Акционер правдивого
Великого и могучего.
Отстаньте с книжкой чековой,
Когда я с книжкой Чехова!
Зачем мне ваш текущий счет?
Мой счет неиссякаемый!
Ко мне не золото течет,
А Пастернак с Цветаевой.
Пускай сегодня я не в счет,
Но завтра может статься,
Что и Россия зачерпнет
От моего богатства.
Пойдут стихи мои, звеня,
По Невскому и Сретенке.
Вы повстречаете меня,
Читатели-наследники.
Текст подготовлен по материалам собрания сочинений в двух томах Ивана Елагина (М., Согласие, 1998, составитель и автор вступительной статьи Е.В. Витковский).
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/50220.html
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 3 пользователям
Чудо по имени Белла |
Начало здесь.
29 ноября 2010 года умерла Белла Ахмадулина.

Предутренний час драгоценный
спасите, свеча и тетрадь!
В предсмертных потемках за сценой
мне выпадет нынче стоять.
Взмыть голой циркачкой под купол!
Но я лишь однажды не лгу:
бумаге молясь неподкупной
и пристальному потолку.
Насильно я петь не умею,
но буду же наверняка,
мучительно выпростав шею
из узкого воротника.
Какой бы мне жребий ни выпал,
никто мне не сможет помочь.
Я знаю, как Грозен мой выбор,
когда восхожу на помост.
Погибну без вашей любови,
погибну больней и скорей,
коль вслушаюсь в ваши ладони,
сочту их заслугой своей.
О, только б хвалы не восстраждать,
вернуться в родной неуют,
не ведая - дивным иль страшным -
удел мой потом назовут.

"О том, чем мне так страшно быть»
У Ахмадулиной не встретишь стихов на злобу дня, она пишет только о том, что ей дорого, что её саму задевает. Мир её поэзии — это условный мир, созданный ею самой из себя. Он интересен и притягателен не значительностью сюжетов, а подлинностью переживания. Впрочем, она и не претендует на звание народного поэта. Когда Беллу спросили в интервью, хочет ли она, чтобы люди её читали, она ответила: «Я хочу, чтобы люди жили хорошо. А читать меня не обязательно».
...Вот Павел, Матвей и Кузьма попрощаться пришли.
"Прощай, — говорят, — мы-то знаем тебя не по книжкам.
А всё же для смеха стишок и про нас напиши.
Ты нам не чужая — такая простая, что слишком..."
Ну что же, спасибо, и я тебя крепко люблю,
заснеженных этих равнин и дорог обитатель.
За все рукоделья, за кроткий твой гнев во хмелю,
ещё и за то, что не ты моих книжек читатель.
И всё же вот такие «нечитатели» её стихов, простые не мудрствующие лукаво рабочие люди были ей гораздо ближе учёных снобов, «исследователей» её творчества, которых она так хлёстко, сатирически обрисовала в стихотворении «Описание обеда»:

Я пред бумагой не робею
и опишу одну из сред,
когда меня позвал к обеду
сосед-литературовед.
Он обещал мне, что наука,
известная его уму,
откроет мне, какая мука
угодна сердцу моему.
С улыбкой грусти и привета
открыла дверь в тепло и свет
жена литературоведа,
сама литературовед.
Пока с меня пальто снимала
их просвещенная семья,
ждала я знака и сигнала,
чтобы понять, при чем здесь я.
Но, размышляя мимолетно,
я поняла мою вину:
что ж за обед без рифмоплёта
и мебели под старину?
Всё так и было: стол накрытый
дышал свечами, цвел паркет,
и чужеземец именитый
молчал, покуривая "кент".
Литературой мы дышали,
когда хозяин вёл нас в зал
и говорил о Мандельштаме.
Цветаеву он также знал.
Он оценил их одаренность,
и, некрасива, но умна,
познаний тяжкую огромность
делила с ним его жена.
Я думала: Господь вседобрый!
Прости мне разум, полный тьмы,
вели, чтобы соблазн съедобный
отвлек от мыслей их умы.
Скажи им, что пора обедать,
вели им хоть на час забыть
о том, чем им так сладко ведать,
о том, чем мне так страшно быть.

Узколобость мещанства, его сытое самоуверенное благополучие, которое она узнавала в любом интеллигентном обличье, всегда отвращали и ранили её. Самодовольство и сытость души — что может быть страшнее для поэта?
Храни меня, прищур неумолимый,
в сохранности от всех благополучий!

Ей претит всё ординарное. Даже здоровью как нормальному состоянию она предпочитает нездоровье, будь то грипп или озноб. Помню своё потрясение от первого прочтения стихотворения «Вступление в простуду». Никогда не думала, что о такой противной вещи как банальный грипп, насморк, можно было сказать так поэтично и возвышенно:
Грипп в октябре - всевидящ, как Господь.
Как ангелы на крыльях стрекозиных,
слетают насморки с небес предзимних
и нашу околдовывают плоть.
Вот ты проходишь меж дерев и стен,
сам для себя неведомый и странный,
пока еще банальности туманной
костей твоих не обличил рентген.
Еще ты скучен, и здоров, и груб,
но вот тебе с улыбкой добродушной
простуда шлет свой поцелуй воздушный,
и медленно он достигает губ.
Отныне болен ты. Ты не должник
ни дружб твоих, ни праздничных процессий.
Благоговейно подтверждает Цельсий
твой сан особый средь людей иных.
Ты слышишь, как щекочет, как течет
под мышкой ртуть, она замрет - и тотчас
определит серебряная точность,
какой тебе оказывать почет.
Творчество для неё — это «ненормальное» состояние человека, своего рода болезнь, озноб. Талант — всегда ощущение дискомфорта, своей непохожести на других, простых смертных.
При мне всегда стоял сквозняк дверей!
При мне всегда свеча, вдруг вспыхнув, гасла!
В моих зрачках, нависнув через край,
слезы светлела вечная громада.
Я — все собою портила! Я — рай
растлила б грозным неуютом ада.

Да, портила, то есть разрушала привычный круг представлений. Так ребёнок неожиданно звонким голосом возвещает о голом короле, ошеломляя слепые умы и души внезапным светом истины.
«Я думала, что ты мой враг...»
В 50-е годы юная Белла знакомится с Евгением Евтушенко.

О том счастливом времени их любви он расскажет потом в своей книге «Не умирай прежде смерти»:

«Мы часто ссорились, но быстро и мирились. Мы любили и друг друга, и стихи друг друга. Одно новое стихотворение, посвящённое ей, я надел на весеннюю ветку, обсыпанную чуть проклюнувшимися почками, и дерево на Тверском бульваре долго махало нам тетрадным, трепещущим на ветру листком, покрытым лиловыми, постепенно размокающими буквами.
Взявшись за руки, мы часами бродили по Москве, и я забегал вперёд и заглядывал в её бахчисарайские глаза, потому что сбоку была видна только одна щека, только один глаз, а мне не хотелось потерять глазами ни кусочка любимого и потому самого прекрасного в мире лица. Прохожие на нас оглядывались, ибо мы были похожи на то, что им самим не удалось…»

Они были очень молоды. Евтушенко немного робел перед своей любимой:
Ты большая в любви, ты смелая.
Я — робею на каждом шагу.
Я плохого тебе не сделаю,
а хорошее — вряд ли смогу.
Её любовь была смелей, безоглядней. Вот строчки, написанные ею в восемнадцать:

Дождь в лицо и ключицы,
и над мачтами гром.
Ты со мной приключился,
словно шторм с кораблем.
То ли будет, другое...
Я и знать не хочу -
разобьюсь ли о горе,
или в счастье влечу.
Мне и страшно, и весело,
как тому кораблю...
Не жалею, что встретила.
Не боюсь, что люблю.
Об этой отваге влюблённой юности, о слепом риске в любви — и песня на стихи Ахмадулиной из «Жестокого романса» «Снегурочка» (видеоклип в исп. В.Пономарёвой):
Их любовь была недолгой.

Я думала, что ты мой враг,
что ты беда моя тяжелая,
а вышло так: ты просто враль,
и вся игра твоя - дешевая.
На площади Манежной
бросал монету в снег.
Загадывал монетой,
люблю я или нет.
И шарфом ноги мне обматывал
там, в Александровском саду,
и руки грел, а все обманывал,
всё думал, что и я солгу.
Кружилось надо мной вранье,
похожее на воронье.
Но вот в последний раз прощаешься.
В глазах ни сине, ни черно.
О, проживешь, не опечалишься,
а мне и вовсе ничего.
Но как же всё напрасно,
но как же всё нелепо!
Тебе идти направо.
Мне идти налево.

«Но до сих пор, - пишет Евтушенко, - когда я вижу её вблизи или издали или просто слышу её голос, мне хочется плакать...»
Прощай, любимая! Я твой угрюмо, верно,
и одиночество - всех верностей верней.
Пусть на губах моих не тает вечно
прощальный снег от варежки твоей...

Белле адресованы многие его стихи: «Со мною вот что происходит...», «Ты спрашивала шёпотом...», «Моя любимая приедет...», «Обидели. Беспомощно мне, стыдно...», «Стихотворенье я надел на ветку...», «Вальс на палубе», «Любимая, спи...»
А она писала о нём:
Из глубины моих невзгод
молюсь о милом человеке.
Пусть будет счастлив в этот год,
и в следующий, и вовеки,
не ведая, как наугад
я билась головою оземь,
молясь о нём — средь неудач,
мне отведённых в эту осень...

«А напоследок я скажу...»: http://video.mail.ru/mail/alsanales/1942/5801.html
Божественный кореш
Ошибаются те, кто принимает плетение узоров речи Ахмадулиной («брюссельские кружева») и стильную хрупкость её облика за характер, - Белла куда твёрже и решительней, чем видится поверхностному взгляду.
Не плачьте обо мне - я проживу
счастливой нищей, доброй каторжанкой,
озябшею на севере южанкой,
чахоточной да злой петербуржанкой
на малярийном юге проживу.
Не плачьте обо мне - я проживу
той хромоножкой, вышедшей на паперть,
тем пьяницей, поникнувшим на скатерть,
и этим, что малюет Божью Матерь,
убогим богомазом проживу.
Не плачьте обо мне - я проживу
той грамоте наученной девчонкой,
которая в грядущести нечёткой
мои стихи, моей рыжея чёлкой,
как дура будет знать. Я проживу.
Не плачьте обо мне - я проживу
сестры помилосердней милосердной,
в военной бесшабашности предсмертной,
да под звездой моею и пресветлой
уж как-нибудь, а всё ж я проживу.

Она гораздо жизнеустойчивей, жёстче, чем это может показаться по её утончённым стихам. Одним из первых это понял Антокольский, назвав её дарование «недюжинным, по-мужски сильным». Сам склад её ума скорее мужской — проницательный и трезвый. Она совершенно лишена слезливой сентиментальности. В её стихах удивительное — вопреки реальным обстоятельствам жизни — отторжение от всего женского. То есть с одной стороны — она всегда знала, чего должна желать женщина:
Хочу я быть невестой,
красивой, завитой,
под белою навесной
застенчивой фатой. -
писала не без иронии. Но свой удел представляла иначе:
Завидна мне извечная привычка
быть женщиной и мужнею женою,
но уж таков присмотр небес за мною,
что ничего из этого не вышло.
В метафизическом смысле это так и есть — она не женщина. У неё нет любовной лирики в общепринятом смысле этого слова. «Ни слова о любви! И я о ней — ни слова», - так сказала она в стихах, и так оно и есть на самом деле. В. Ерофеев квалифицировал это как странность и, может быть, даже изъян, но мне видится в этом не недостаток темперамента, а инстинктивное целомудрие художника, реакцию на некий лирический переизбыток. Эта ахмадулинская сдержанность - как бы ответ на знаменитое ахматовское: «Я научила женщин говорить. Но, боже, как их замолчать заставить!»
Ахмадулина сразу отвергла традиционную роль «возлюбленной» в качестве главной своей роли. Хотя восхищается «красавицами столетий», признаёт:
Люблю, когда, ступая, как летая,
проноситесь, смеясь и лепеча.
Суть женственности вечно золотая
и для меня священная свеча.
Но она как бы отмежёвывается от этой роли. Её тема — иная. В этом мире мужчину и женщину связывает не «поединок роковой» (Ахматова), но простые дружеские чувства, возведённые ею в ранг самых таинственных и сильных: «Свирепей дружбы в мире нет любви».
В час осени крайний - огонь погасить
и вдруг, засыпая, воспрянуть догадкой,
что некогда звали тебя погостить
в дому у художника, там, за Таганкой.
И вот, аспирином задобрив недуг,
напялив калоши, - скорее, скорее
туда, где, румяные щеки надув,
художник умеет играть на свирели.
Не случайно здесь это «напялив калоши», которое окрашивает встречу в подчёркнуто дружеские тона. Ахмадулиной важно сделать свою героиню смешной, неуклюжей, - нейтрализовать таким образом пол, чтобы он не вмешивался в её отношения с миром. Но порой её женская суть ропщет, бунтует:
Довольно мне чудовищем бесполым
быть, другом, братом, сводником, сестрой,
то враждовать, то нежничать с глаголом,
пред тем, как стать травою и сосной.
Но тут же смеётся над собой, как бы позарившейся на чужой удел, вышучивая собственные мечтания. «Божественный кореш», - так определил суть её характера А. Вознесенский.


Если Ахматова досконально разработала поэтику несчастной любви, то Ахмадулина разработала поэтику дружбы, причём дружбы счастливой. Разработала поэтику её клятв, заповедей, вещих снов, встреч и разлук. «А я люблю товарищей моих!» - вот её девиз.


По улице моей который год
звучат шаги: мои друзья уходят...
http://history-life.ru/post142259293/?upd
«О Господи! Какая доброта!..»
В 2000 году у Ахмадулиной вышел поэтический сборник «Друзей моих прекрасные черты», состоящий из длинного ряда посвящений друзьям, ушедшим и живущим, и из стихов памяти великих, от Пушкина и Лермонтова до Мандельштама, Цветаевой, Пастернака. В любви для неё нет преград во времени и пространстве. «Что мальчик мой, великий человек?..» «А я его кормлю// великой сладостью и плачу...»
Любовь к любимому есть нежность
ко всем вблизи и вдалеке, -
пишет она. Это именно та любовь, которая «не ищет своего», которая идентична красоте души, призванной спасти мир.
Я знаю истину простую:
любить — вот верный путь к тому,
чтоб человечество вплотную
приблизить к сердцу и уму.
Ахмадулина широко раздвигает горизонты понятия «любовь», вмещая в него по своей системе координат и добро, и бескорыстие, и дар понимания, чистоту помыслов, совесть...
Я делаюсь все больше, все добрей.
Смотрите - я уже добра, как клоун,
вам в ноги опрокинутый поклоном!
Уж мне тесно средь окон и дверей!
О, Господи, какая доброта!
Скорей! Жалеть до слез! Пасть на колени!
Я вас люблю! Застенчивость калеки
бледнит мне щеки и кривит уста.
Что сделать мне для вас хотя бы раз?
Обидьте! Не жалейте, обижая!
Вот кожа моя - голая, большая:
как холст для красок, чист простор для ран!
Я вас люблю без меры и стыда!
Как небеса, круглы мои объятья.
Мы из одной купели. Все мы братья.
Мой мальчик Дождь! Скорей иди сюда!
В одном из интервью Белла Ахатовна призналась:
«… Душевная щедрость, которая распространяется на все живые существа, обязательно входит в устройство совершенной человеческой личности. Себя я не отношу к таковым, но в этом вопросе я полностью солидарна с Анастасией Ивановной Цветаевой, которая говорила: слово «собака» пишу большими буквами. Взаимоотношение с живыми существами обязательно для человека, хотя оно причиняет много страданий: всю жизнь с детства меня преследует боль за бездомных животных, и вечно я кого-то подбираю и приношу домой, а теперь вот ещё и дочерям отдаю…»

О ней говорили, что она привечала всех собак в округе. И каждая собака у неё носила особенное поэтическое имя: «Ямб», «Хорей», «Дактиль»,«Анапест».
«Вокруг неё ходили огромные стада кошек и собак со всего Комарова и Репина, которых она кормила. - вспоминали соседи. -Каждое утро все коты и псы бездомные сидели возле её домика, и все накормленные с утра до ночи. Она разговаривала с ними, с птицами, с деревьями, с дождём...»

...Очнуться живою на свете,
где будут во все времена
одни лишь собаки и дети
бедней и свободней меня.
Сентябрь
В канун 60-летия Беллы муж Борис Мессерер сделал ей роскошный подарок — издал полное собрание сочинений (массивный трёхтомник с добавлением фотоальбома).

Стоил он тогда — в 1997 году — от 170 до 190 тысяч (деньги были другие, но всё равно отнюдь не дёшево), причём достать было невозможно — рвали из рук. Мне удалось тогда в Москве купить его, но вскоре моя безумная радость сменилась горьким разочарованием: в трёхтомник не вошли многие мои любимые стихи, преимущественно те, что были адресованы Евтушенко, Нагибину, Вознесенскому, даже такое хрестоматийное как «Моим товарищам» отсутствовало. Так что «полным собранием» издание назвать было, конечно, нельзя. Можно понять Мессерера как любящего и ревнивого мужа, который оставил там лишь посвящения себе, но, мне кажется, в таких вещах всё же надо быть выше, - когда дело касается всеобщего культурного достояния.

Я чувствовала себя ограбленной. Особенно было жалко «Сентябрь» - мой самый любимый цикл Беллы.
В 1959 году судьба свела Ахмадулину с Юрием Нагибиным. Она посвятила ему цикл из пяти стихотворений «Сентябрь». Именно в сентябре произошла их встреча.

И мы увиделись. Ты вышел из дверей.
Всё кончилось. Всё начиналось снова.
До этого не начислялось дней,
как накануне рождества Христова.
И мы увиделись. И в двери мы вошли.
И дома не было за этими дверями.
Мы встретились, как старые вожди,
с закинутыми головами …
Мы встретились, как дети поутру,
с закинутыми головами —
от нежности, готовности к добру
и робости перед словами.
Он писал в своём «Дневнике»: «Видит Бог,не я это затеял. Она обрушилась на меня,как судьба... Я понял,что негаданное свершилось, лишь когда она запрыгала передо мной моим черным придурком-псом с мохнатой мордой и шерстью, как пальмовый войлок; когда она заговорила со мной тихим, загробным голосом моего шофера; когда кофе и поджаренный хлеб оказались с привкусом ее;когда лицо ее впечаталось во всё, что меня окружало. Она воплотилась во всех мужчин и во всех животных,во все вещи и во все явления. Но, умница, она никогда не воплощалась в молодых женщин, поэтому я их словно и не видел. Я жил в мире, населенном добрыми мужчинами, прекрасными старухами, детьми и животными,чудесными вещами, в мире, достигшем совершенства восходов и закатов, рассветов и сумерек,дождей и снегопадов, и где не было ни одного юного женского лица. Я не удивлялся и не жалел об этом. Я жил в мире, бесконечно щедро и полно населенном одною ею...»

Прозрели мои руки. А глаза —
как руки, стали действенны и жадны.
Обильные возникли голоса
в моей гортани, высохшей от жажды
по новым звукам. Эту суть свою
впервые я осознаю на воле.
Вот так стоишь ты. Так и я стою —
звучащая, открытая для боли.
Сентябрь добавил нашим волосам
оранжевый оттенок увяданья.
Он жить учил нас, как живёт он сам, —
напрягшись для последнего свиданья…
«...Мы были тут, чтобы любить. И мы любили с таким доверием и близостью,словно родили друг друга, с ревностью, ненавистью, с боем, с чудовищными оскорблениями и обвинениями,с примирением,лучше которого ничего нет,с непрощением и всепрощением. Мы говорили ужасные слова в глаза друг другу, мы били друг друга только по лицу, мы лгали, но только чтобы причинить боль, потому что правда давала нам счастье, ничего, кроме счастья, и каждую ночь, рядом или поврозь, мы снились друг другу... Когда сейчас ночью обрывается во мне сердце, я уже не испытываю страха, не вскакиваю со стоном, ведь я знаю, что оно стремится к тебе в ладонь, и зачем мне его удерживать?..»
Темнеет наше отдаленье,
нарушенное, позади.
Как щедро это одаренье
меня тобой! Но погоди —
любимых так не привечают.
О нежности перерасход!
Он все пределы превышает.
К чему он дальше приведет?
Так жемчугами осыпают,
и не спасает нас навес,
так — музыкою осеняют,
так — дождик падает с небес.
Так ты протягиваешь руки
навстречу моему лицу,
и в этом — запахи и звуки,
как будто вечером в лесу.
Так — головой в траву ложатся,
так — держат руки на груди
и в небо смотрят. Так — лишаются
любимого. Но погоди —
сентябрь ответит за растрату
и волею календаря
еще изведает расплату
за то, что крал у октября.

«...Ты пролаза, ты и капкан. Ты всосала меня, как моллюск. Ты заставила меня любить в тебе то,что никогда не любят... И я так полюбил эту скрытую жизнь в тебе! Что губы, глаза, ноги, волосы, шея, плечи!Я полюбил в тебе куда более интимное, нежное, скрытое от других: желудок, почки, печень, гортань, кровеносные сосуды, нервы. О легкие, как шелк, легкие моей любимой...
Самое же скверное в тебе: ты ядовито, невыносимо всепроникающа. Ты так мгновенно и так полно проникла во все поры нашего бытия и быта, в наши мелкие распри и в нашу большую любовь, в наш смертный страх друг за друга, в наше единство,способное противостоять даже чудовищному давлению времени...»
Сентябрь, не отводи твоё крыло,
твоё крыло оранжевого цвета.
Отсрочь твоё последнее число
и подари мне промедленье это.
Повремени и не клонись ко сну.
Охваченный желанием даренья,
как и тогда, транжирь свою казну,
побалуй все растущие деревья...
Они прожили вместе восемь лет, с 1959 по 1967. А потом она стала женой сына Кайсына Кулиева Эльдара.

Последняя совместная фотография
«Прощай! Прощай!..»
«...На прекрасной скрипке оборвалась тоненькая струна, и то, что пело, стонало, молилось, плакало, мелко задребезжало: новая квартира... наладить жизнь... С кем? С длинным мальчиком, выросшим из всех штанишек, но так и не ставшим взрослым... Ей, у которой в циркульно-чистом девичьем овале творится порой такая печаль, такая беззащитность, такая понимающая нежность, что доступны лишь человеку, измочалившему себя о жизнь. Ей, которой взрослость сердца и ума даны от Бога, словно дар провидения...»

И мы причастны к этой краже.
Сентябрь, все кончено? Листы
уж падают? Но мы-то — краше,
но мы надежнее, чем ты.
Да, мы немалый шанс имеем
не проиграть. И говорю:
— Любимый, будь высокомерен
и холоден к календарю.
Наш праздник им не обозначен.
Вне расписания его
мы вместе празднуем и плачем
на гребне пира своего.
«..Если бы разбился твой самолет,я бы до конца узнал,чем ты стала во мне. Но бьются лишь мои самолеты. А твой в назначенный день и час доставил тебя, целую и невредимую, в руки твоего замызганного мальчика, - длинные, слабые руки, способные тискать, мять, шарить, но не обнимать. Сейчас я стараюсь не думать об этом, а думать так, как если бы твой самолет разбился...»
Прощай! Прощай! Со лба сотру
воспоминанье: нежный, влажный
сад, углубленный в красоту,
словно в занятье службой важной.
Прощай! Всё минет: сад и дом,
двух душ таинственные распри
и медленный любовный вздох
той жимолости у террасы.
Прощай! Но сколько книг, дерев
нам вверили свою сохранность,
чтоб нашего прощанья гнев
поверг их в смерть и бездыханность.
Прощай! Мы, стало быть, — из них,
кто губит души книг и леса.
Претерпим гибель нас двоих
без жалости и интереса.
Он представлял себе её, летящую в самолёте, который вдруг терпит аварию в воздухе. За те 5-7 минут, пока он падает, в человеке просыпается всё низкое, тёмное, животное. Нагибин представил себе эту орущую, визжащую, дерущуюся, кусающуюся давильню, которая закупорила сама себе прорыв в хвост самолёта и сама же задыхалась в ней. Это клубок цепляющихся за жизнь, обуянных звериными инстинктами людей. И только одна фигура — пишет он — останется неподвижной, вовлечённой лишь в падение самолёта, а не в человеческое падение. Это будет она, Белла. «Только побледнеет, только покраснеет твоё дорогое гибнущее лицо, только сожмутся некрасивые детские пальцы, чуть вскинется рыжая голова, но ты не покинешь своей высоты.

А ведь в тебе столько недостатков! Ты распутна, в 22 года за тобой тянется шлейф, как за усталой шлюхой, ты слишком много пьёшь и куришь до одури, ты лишена каких бы то ни было сдерживающих начал, ты мало читаешь и совсем не умеешь работать, ты вызывающе беспечна в своих делах, надменна, физически нестыдлива, распущена в словах и жестах. Но ты не кинешься в хвост самолёта!»

Это была та внутренняя высота, что не позволила ей подписать письмо, клеймящее Пастернака, которое требовали подписать всех студентов Литературного института. Она знала, что поплатится за это отчислением — и поплатилась, но, подобно своему учителю Пастернаку, не способна была «жертвовать лицом ради положения». Эта высота заставляла её подписывать письма в защиту арестованных Синявского и Даниэля, обращаться к Андропову с просьбой облегчить участь сидевшего в тюрьме Параджанова, участвовать во многих рискованных затеях — от «Синтаксиса»(1959) — до знаменитого Метрополя»(1979).

Хрупкая рука Беллы Ахмадулиной подписала все письма, которые только можно припомнить, в защиту диссидентов и многих других попавших в беду людей. Она ездила в ссылку к Сахарову, сумев пробиться сквозь милицейский кордон. Все эти поступки требовали мужества, независимости, совестливой честности и - той духовной высоты, перед которой в ней трепетал и преклонялся не один Нагибин.
Он долго не мог её забыть.
«Вот она мелькнула росчерком своей и девичьей, и женской фигуры в заснеженных кустах возле колодца, а вон она на ветке с московками и снегирями, вон прямо из сугроба улыбнулось её скуластое, милое, нежное и вызывающее лицо. Ничего мне не поможет. Она проникает в комнату, её так много, и это многое так властно, что сразу становится всем: столом, креслом, радиолой, тахтой, листом бумаги, карандашом и моей пишущей ручкой... Мне некуда деваться от неё, и я опять плачу».

Нас одурачил нынешний сентябрь
с наивностью и хитростью ребенка.
Так повезло раскинутым сетям,
мы бьемся в них, как малая рыбешка.
Нет выгоды мне видеться с тобой,
и без того сложны переплетенья.
Но ты проходишь, головой седой
оранжевые трогая растенья.
Я говорю на грани октября:
- О, будь неладен предыдущий месяц.
Мне надобно свободы от тебя,
и торжества, и празднества, и мести.
В глазах от этой осени пестро.
И, словно на уроке рисованья,
прилежное пишу тебе письмо,
выпрашивая расставанья.
Гордилась я, и это было зря.
Опровергая прошлую надменность,
прошу тебя: не причиняй мне зла!
Я так на доброту твою надеюсь!
Она зря надеялась. Нагибин говорил и писал о ней страшные вещи.
Евгений Евтушенко отозвался на это в 2005 году строками стихотворения «Белла Первая»:

Он любил тебя, мрачно ревнуя,
и, пером самолюбье скребя,
написал свою книгу больную,
где налгал на тебя и себя.
Но хотя в «Дневнике» Нагибина полно жутких, запредельно откровенных подробностей, а в романе Евтушенко «Не умирай прежде смерти» — масса восторженных эпитетов и сплошное преклонение перед Беллой, - пьяная, полубезумная, поневоле порочная Гелла у Нагибина — неотразимо привлекательна, даже когда невыносима, а эфирная Белла у Евтушенко слащава и пошла. Любовь, даже оскорблённая, даже переродившаяся в ненависть, всё же даёт сто очков вперёд самому искреннему самолюбованию…
В 1968 году Нагибин и Ахмадулина развелись. Нагибин, описывая в своём дневнике этот день, отмечает, какой до мозга костей литературный человек его жена. Он чувствовал, как она уже готовила стихотворение из их встречи-расставания.

Он бросает ей последний упрёк: «Основа нашего с ней чудовищного неравенства заключалась в том, что я был для неё предметом литературы, она же была моей кровью». Скорее всего, это было именно так, но мне как-то по-человечески ближе позиция Беллы, которая и в разрыве, и в расставании сумела сохранить верность чистоте и высоте своего прежнего чувства.
Наладится такая тишина,
как под водой, как под морской водою.
И надо жить. У жизни есть одна
привычка — жить, что б ни было с тобою.
Изображать счастливую чету,
и отдышаться в этой жизни мирной,
и преступить заветную черту —
блаженной тупости. Но ты, мой милый,
ты на себя не принимай труда
печалиться. Среди зимы и лета,
в другие месяцы — нам никогда
не испытать оранжевого цвета.
Отпразднуем последнюю беду.
Рябиновые доломаем ветки.
Клянусь тебе двенадцать раз в году:
я в сентябре. И буду там вовеки.
Эпилог
В конце 1999 года Белле довелось пережить, по её признанию, «глубокий обморок», то есть клиническую смерть и пробыть в реанимации целых шесть дней — шесть дней небытия. Она со скепсисом относилась к рассказам о «жизни после смерти», что получили хождение с лёгкой руки Раймонда Моуди. Она пишет об этом очень сдержанно и целомудренно.
Шесть дней небытия не суть нули.
Увидевшему “свет в конце тоннеля”
скажу: — Ты иль счастливец, иль не лги.
То, что и впрямь узрело свет, то — немо.
Прозренью проболтаться не дано.
Это поразительное стихотворение-исповедь стоит особняком в творчестве Беллы, да и во всей нашей поэзии последних 10-летий после «Новогоднего» Цветаевой.
Жизнь, что ушла, не знает, что ушла,
впервые не страдая, не волнуясь.
Душа — бессмертна, но моя душа
отведала бессмертья и вернулась
туда, где смертны, пусть не вы, но я,
где я целую день зимы пред-первый.
Учёна я блаженству бытия
разлуки с ним несбывшейся примеркой.
Примерка состоялась. Её душа оказалась впору бессмертию.

Читает Белла: http://www.youtube.com/watch?v=jIt9dn5Zpeg&feature=player_embedded
В Тарусе открыт памятник Белле Ахмадулиной работы Бориса Мессерера.

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/50117.html
|
|
Понравилось: 2 пользователям
Два лика Некрасова (продолжение) |
Начало здесь

Великий предприниматель
В 1847 году журнал «Современник», несколько захиревший после смерти Пушкина, попал в руки выкупившего его И. Панаева. Но расцвёл он по-настоящему только с приходом в него Некрасова, сплотившего вокруг журнала лучшие литературные силы 40-60-х годов. Кажется, до сих пор не постигли, какой это был трудовой подвиг. Если бы Некрасов не написал ни строки, а только создал журнал «Современник», он и тогда был бы достоин монументов.
Дом на Литейном проспекте, где помещалась редакция «Современника»
Тургенев публиковал здесь «Записки охотника», Гончаров - «Обыкновенную историю», Герцен - «Сороку-воровку», Белинский — поздние критические статьи. Некрасов, редактор и издатель, «вывел в люди» чуть ли не всю русскую литературу второй половины 19 века: нашёл и сразу напечатал Л. Толстого, открыл и представил Белинскому как «нового Гоголя» Достоевского, обнаружил и вызвал из долгого небытия Тютчева. А Чернышевский и Добролюбов? А Фет? У Некрасова был безошибочный нюх на талант.
Некрасов, Добролюбов и Чернышевский
Никогда не было и никогда более в русской литературе не будет такого объединения и сосредоточения буквально всех литературных сил вокруг одного центра. И центром этим был Некрасов — привлекавший, миривший, редактировавший, исправлявший, хорошо плативший, через цензуру пробивавшийся. Он стремился во что бы то ни стало привлечь Толстого, удержать Тургенева, не упустить Островского. А всё это были крупные, самобытнейшие личности, нравные и своенравные, тянувшие каждый в свою сторону. И, конечно, эффект лебедя, рака и щуки рано или поздно должен был сработать. Остаётся лишь поражаться силе и умению Некрасова, довольно продолжительный период удерживавшего всю эту колоссальную разнонаправленную энергию и направлявшего её в русло одного журнала.

Редакция «Современника»: Гончаров, Тургенев, Дружинин, Островский, Л.Толстой, Григорович
Это хрестоматийная, известная и единственная в своём роде фотография 19 века. Позднее свершится крупнейший литературный скандал-тяжба Гончарова с Тургеневым и дуэльный вызов Толстого — Тургеневу. Но здесь, как зримое отражение мира и согласия — эта уникальная группа, где все они пока вместе...
Вскоре «Современник» стал лучшим отечественным журналом, а недавний обитатель петербургских углов сделался законодателем художественного вкуса, вождём целого направления, символом неслыханного доселе литературного и издательского успеха.

Сотрудники "Современника"
К середине 50-х, к 35-ти годам Некрасов стал влиятельной персоной в Петербурге — член аристократического Английского клуба, издатель лучшего в России демократического журнала, любимый радикальной молодёжью поэт, друг высоких сановных особ. У него повара, егеря и лакеи, он выигрывает и проигрывает тысячи.

Панаева помогала ему во всём: читала рукописи, сверяла корректуры, прикармливала нужных сотрудников. Некрасов давал обеды — самые разнообразные для самых разных людей: цензорам и генералам — одни, картёжникам-сановникам — другие, сотрудникам-нигилистам — третьи. Для каждого обеда требовалось другое меню, иная сервировка, особый стиль.
Некрасову часто предъявляли обвинения в том, что он был литературный барышник, гостинодворец, торгаш. Тургенев уличал его в том, что он купил у него «Записки охотника» за 1000 рублей и тотчас перепродал другому издателю за 1,5 тысячи. Достоевский ещё в 1845 году писал брату: «Некрасов — аферист от природы, иначе он не мог бы и существовать». Многим до такой степени бросалась в глаза коммерческая сторона его личности, что они искренне изумлялись, когда знакомились с его произведениями: «Как такой человек мог писать такие стихи?»
Две правды Некрасова и Фета
Некрасов, кажется, единственный великий поэт, который был ещё и великим предпринимателем — обычно эти качества сочетаются плохо. Только один аналог есть ему в литературе — это Фет. Они оказались, хоть и в разных сферах, самыми практичными людьми из всех русских литераторов, только самим себе, своей воле, хватке и деловому умению обязанными завоёванным в жизни местом и наживным богатством: более умеренным — в сфере сельской, хозяйственной - у Фета и очень большим — в сфере более «поэтической» - журнальной и газетной — у Некрасова. Хотя по духу они — совершенные антиподы.
Молчи, поникни головою,
Как бы представ на страшный суд,
Когда случайно пред тобою
Любимца муз упомянут.
На рынок! Там кричит желудок,
Там для стоокого слепца
Ценней грошовый твой рассудок
Безумной прихоти певца. -
так отчитал Фет Некрасова в стихотворении «Псевдопоэту», в письме назвав его стезю «тесной и грязной». Говоря при этом, что он, Фет, выучил всех грустить, в то время как Некрасов — проклинать. Но у Некрасова тоже была своя правда.
В 1852 году он откликается на смерть Гоголя стихотворением, где речь не столько о Гоголе, но больше — о себе и своей судьбе:
Блажен незлобивый поэт,
В ком мало желчи, много чувства:
Ему так искренен привет
Друзей спокойного искусства;
Ему сочувствие в толпе,
Как ропот волн, ласкает ухо;
Он чужд сомнения в себе -
Сей пытки творческого духа;
Любя беспечность и покой,
Гнушаясь дерзкою сатирой,
Он прочно властвует толпой
С своей миролюбивой лирой.
Дивясь великому уму,
Его не гонят, не злословят,
И современники ему
При жизни памятник готовят...
Но нет пощады у судьбы
Тому, чей благородный гений
Стал обличителем толпы,
Ее страстей и заблуждений.
Питая ненавистью грудь,
Уста вооружив сатирой,
Проходит он тернистый путь
С своей карающею лирой.
Его преследуют хулы:
Он ловит звуки одобренья
Не в сладком ропоте хвалы,
А в диких криках озлобленья.
И веря и не веря вновь
Мечте высокого призванья,
Он проповедует любовь
Враждебным словом отрицанья, -
И каждый звук его речей
Плодит ему врагов суровых,
И умных и пустых людей,
Равно клеймить его готовых.
Со всех сторон его клянут
И, только труп его увидя,
Как много сделал он, поймут,
И как любил он — ненавидя!
В 1856 году вышел сборник Некрасова «Стихотворения». Успех у книги был огромный. Чернышевский пишет ему: «Восторг всеобщий. Едва ли первые поэмы Пушкина, «Ревизор» или «Мёртвые души» Гоголя имели такой успех, как Ваша книга. Вы теперь — лучшая надежда, единственная прекрасная надежда нашей литературы». В книге было всего 73 стихотворения: стихи о городской бедноте, сатирические стихи, поэма «Саша», стихи о призвании поэта, антикрепостнические стихи автобиографического характера, лирика «панаевского» цикла... Будучи собраны вместе, эти стихи как бы усилили друг друга и дали неожиданный эффект лучевого пучка. Это сразу понял чуткий Тургенев, сказавший, что стихи Некрасова, собранные вместе, «жгутся». Это были такие простые, всем понятные стихи о жизни, о людях, о людском горе, что невозможно было читать их равнодушно.
Но некоторые писатели начали доказывать Некрасову, что он на ложной дороге, что «нельзя описывать гнойные раны общественной жизни», не в этом задача поэта. Как-то, в редакции «Современника», слушая эти разговоры, Некрасов долго ходил, понуря голову, а потом резко ответил: «Вы, господа, забыли одно — что каждый писатель передаёт то, что он глубоко прочувствовал. Так как мне выпало на долю с детства видеть страдания русского мужика от холода, голода и всяких жестокостей, то мотивы для моих стихов я беру из их среды. И меня удивляет, что вы отвергаете человеческие чувства в русском народе! Пусть не читает моих стихов светское общество, я не для него пишу!»
Гений уныния
Трудно найти поэта, который бы с такой беспощадностью изображал бы в стихах самого себя: «Погрузился я в тину нечистую мелких помыслов, мелких страстей...», свой день: «Я проснулся ребёнка слабей. Знаю, день проваляюсь уныло, ночью буду микстуру глотать...», свой характер: «Мне совестно признаться: я томлюсь, читатель мой, мучительным недугом... Недуг не нов(но сила вся в размере), его зовут уныньем...»

Уныло мы проходим жизни путь,
Могло бы нас будить одно - искусство,
Но редко нам разогревает грудь
Из глубины поднявшееся чувство,
Затем что наши русские певцы
Всем хороши, да петь не молодцы,
Затем что наши русские мотивы,
Как наша жизнь, и бедны и сонливы,
И тяжело однообразье их,
Как вид степей пустынных и нагих.
О, скучен день и долог вечер наш!
Однообразны месяцы и годы,
Обеды, карты, дребезжанье чаш,
Визиты, поздравленья и разводы -
Вот наша жизнь. Ее постылый шум
С привычным равнодушьем ухо внемлет,
И в действии пустом кипящий ум
Суров и сух, а сердце глухо дремлет...
Уныние, которое в Библии считается одним из тяжких грехов, очень часто овладевало поэтом, этим энергичнейшим и чрезвычайно предприимчивым в жизни человеком, так много сделавшим для себя и для других. Некрасов слишком хорошо знал жизнь, всю её негативную изнанку, а многие знания, как известно, умножают печаль.
Бог старости - неутолимый бог,
(От юности готовьте ваш итог!)
Приходит он к прожившему полвека
И говорит: "Оглянемся назад,
Поищем дел, достойных человека..."
Увы! их нет! одних ошибок ряд!
На Некрасова то и дело нападали приступы лютой хандры. Из делового и азартного человека он превращался в такие дни в полутруп, валился на диван и лежал там сутками, не вставая. Все так и знали: «Некрасов в хандре», и старались не заговаривать с ним — пусть отлежится в молчании. Панаева вспоминала: «Он иногда по целым дням ни с кем не говорил ни слова. Он по двое суток лежал у себя в кабинете в страшной хандре, твердя в нервном раздражении, что ему всё опротивело в жизни и, главное, он сам себе противен». «Мне самому, как скрип тюремной двери, противны стоны сердца моего». В такие минуты он хотел одного — умереть.

«Поглядываю на потолочные крючки, - писал он в порыве откровенности Тургеневу. - В день 20 раз приходит мне на ум пистолет, и тотчас делается от этой мысли легче. Чувствую, в такие дни могу убиться».
С отчаянья Некрасов чуть было не ушёл на войну, чуть было не бросился в Волгу. И когда по каким-то ничтожным поводам его вызывали на дуэль, он с радостью принимал вызовы, объясняя встревоженным близким: «Я рад этому случаю. Лучше разом покончить с жизнью». Но, видно, была не судьба.
Потом он напишет поэму «Уныние», где с клинической точностью изобразит один из припадков хандры, случившийся с ним в Грешневе, в Ярославской губернии, где прошли его детские годы, и куда он часто возвращался уже будучи петербуржцем.
День свечерел. Томим тоскою вялой,
То по лесам, то по лугу брожу.
Уныние в душе моей усталой,
Уныние - куда ни погляжу.
Вот дождь пошел и гром готов уж грянуть
Косцы бегут проворно под шатры,
А я дождем спасаюсь от хандры,
Но, видно, мне и нынче не воспрянуть!
Упала ночь, зажглись в лугах костры,
Иду домой, тоскуя и волнуясь,
Пишу стихи и, недовольный, жгу.
Мой стих уныл, как ропот на несчастье,
Как плеск волны в осеннее ненастье,
На северном пустынном берегу...

Это был гений уныния. В его душе звучала великолепная заупокойная музыка, и слушать в себе эту музыку и передавать её людям и значило для него - творить. Излюбленный стихотворный размер Некрасова — расслабленный дактиль, в котором есть что-то панихидное. Если бы его не было раньше — Некрасов сам изобрёл бы его, чтобы хоть как-то выразить ту звериную, волчью тоску, которая всю жизнь выла в нём.
Я кручину мою многолетнюю
На родимую грудь изолью,
Я тебе мою песню последнюю,
Мою горькую песню спою.
Эти его пристрастия к дактилическим окончаниям и рифмам объясняются тем, что эти окончания в русской речи дают впечатление изматывающего душу нытья, плача, причитания. Некрасов умел писать как-то так, что гласные звуки у него тянулись дольше, чем у всякого другого поэта. И в этой особой протяжности гласных — своеобразие и очарование его лирики. «Еду ли ночью по улице тёмной, бури заслушаюсь в пасмурный день...»
Если бы от всей поэзии Некрасова не уцелело бы ни единого слова, а осталась бы только эта мелодия, только напев стиха, мы знали бы и тогда, что перед нами угрюмейший во всей литературе поэт. Каково ему было носить этот ритм в душе? Ведь этим ритмом он не только писал, а и жил, этот ритм был биением его крови, темпом его походки и дыхания.
Две России Некрасова
Какая же Россия была ближе Некрасову — петербургская, городская или сельская, крестьянская? Видимо, вторая. В эту Россию уходит поэт, чтобы лечиться от петербургской хандры и туманов.
Всё рожь кругом, как степь живая,
ни замков, ни морей, ни гор...
Спасибо, сторона родная,
за твой врачующий простор!

Двум темам, двум мирам Некрасова соответствуют два стиля, две манеры. Если петербургским свойствен заунывный напев, то крестьянским — в основном, мотив песенный, удалой. Истоки крестьянских стихов в фольклоре — присказки и прибаутки, как самоцветы, сверкают на страницах его книг.
Есть и овощ в огороде -
хрен да луковица,
есть и медная посуда -
крест да пуговица!
Как он подчас бывает точен и смачен в слове, как крепок и ядрён его стих!
Эй, вы павы, павы, павы!
Шевелись живей!
В Ваньке пляшут все суставы
с ног и до ушей!
Если в петербургских стихах нет метафор, они суховатые и монотонные, то в стихах крестьянских — целая россыпь зрительных образов, богатство языковых оборотов, смелых народных речений. Не случайно, что Кустодиев иллюстрировал именно стихи этого плана — за стихи городские он не взялся бы.
Б.М. Кустодиев «Ярмарка»
Там шла торговля бойкая,
с божбою, с прибаутками,
с здоровым громким хохотом,
и как не хохотать?
(«Сельская ярмонка»)
Все весёлые стихотворения Некрасова — о народе. Даже больше, чем весёлые — радостные. Первые главы «Коробейников», «Дядюшка Яков», «Сельская ярмонка», «Крестьянские дети» - везде мы чувствуем эту улыбку.

Крестьянам Некрасов всегда помогал: пала ли у кого лошадь или корова, сгорел ли дом, он всегда давал, сколько мог, да и просто помогал без всякого повода, причём делал это всегда очень деликатно, маскируя под плату за услугу. Из воспоминаний односельчан: «Бывало, соберёмся на охоту, Некрасов во все карманы жилета и пиджака накладёт денег: где полтинник, где рубль, где три, и дорогой, кто попадётся плохо одетый, остановит встречного, дорогу спросит, которую отлично сам знает, а то спросит, не проезжал ли здесь такой-то охотник, и с последующим ответом даёт на чаёк. И таких помощей он делал очень много».
Всё чаще и чаще он уезжал в деревню.
Опять она, родная сторона
с её зелёным, благодатным летом!
И вновь душа поэзией полна...
Да, только здесь могу я быть поэтом!
Всё здесь родное, знакомое, бесконечно любимое с детства: Волга, простор родных полей, и дорога, что теряется за косогором, и крутой берег с покосившимися над кручей домишками и заборами, и первое пробуждение русской весны, и яркая зелень лесов...

О Волга!.. колыбель моя!
Любил ли кто тебя, как я?
Один, по утренним зарям,
Когда еще всё в мире спит
И алый блеск едва скользит
По темно-голубым волнам,
Я убегал к родной реке.
Иду на помощь к рыбакам,
Катаюсь с ними в челноке,
Брожу с ружьем по островам.
То, как играющий зверок,
С высокой кручи на песок
Скачусь, то берегом реки
Бегу, бросая камешки,
И песню громкую пою
Про удаль раннюю мою...

Это не поэтический оборот, но точное обозначение роли, которую сыграла эта река в жизни Некрасова и в его поэтическом становлении; «Колыбель»! Действительно, никто не любил её так, как он, во всяком случае, в русской литературе. Твардовский имел все основания сказать: «Волга — река Некрасова». И правда, если есть, например, пушкинский Петербург и Петербург гоголевский, Петербург Достоевского и, кстати, некрасовский Петербург тоже, то уж Волга — только некрасовская. Она вошла в русскую поэзию лишь с Некрасовым.

Волга! Волга!.. Весной многоводной
Ты не так заливаешь поля,
Как великою скорбью народной
Переполнилась наша земля,-
Где народ, там и стон... Эх, сердечный!
Что же значит твой стон бесконечный?
Ты проснешься ль, исполненный сил,
Иль, судеб повинуясь закону,
Всё, что мог, ты уже совершил,-
Создал песню, подобную стону,
И духовно навеки почил?..
Так кому же на Руси жить хорошо?
Зимой 1866 года подписчики «Современника» стали первыми читателями нового произведения Некрасова «Кому на Руси жить хорошо?» В русской поэзии со времён Пушкина не появлялось стихотворной вещи такого масштаба. Писал он её более десяти лет и так и не успел закончить.

В каком году — рассчитывай,
В какой земле — угадывай,
На столбовой дороженьке
Сошлись семь мужиков:
Семь временнообязанных,
Подтянутой губернии,
Уезда Терпигорева,
Пустопорожней волости,
Из смежных деревень:
Заплатова, Дырявина,
Разутова, Знобишина.
Горелова, Неелова —
Неурожайка тож,
Сошлися — и заспорили:
Кому живется весело,
Вольготно на Руси?
С самого начала мы ощущаем особый, почти былинный тон повествования: неторопливого полурассказа-полупесни. Некрасов сказал однажды, что свою поэму он собирал 20 лет «по словечку», («какого не придумаешь — хоть проглоти перо»). Некрасовские словечки таковы, что их действительно надо было собрать, подслушать у народа. Почти каждое опирается на какую-то пословицу или поговорку, песню или легенду, впитало многовековой опыт народной жизни, так что поэма кажется произведением не одного поэта, а народа в целом. Недаром сам Некрасов называл её «эпопеей крестьянской жизни».
«Начиная, - говорил поэт, - я не видел ясно, где конец поэмы...» Вряд ли он видел, где её конец, и заключая. Да и возможен ли в такой поэме конец? Интересное наблюдение сделал Брюсов: «Она не кончена, но есть какое-то обаяние в этой незаконченности». Впрочем, есть свидетели того, как Некрасов хотел эту поэму закончить, кого признать счастливым на Руси. Об этом пишет Глеб Успенский в своих воспоминаниях: «Однажды я спросил его: а каков будет конец? Кому на Руси жить хорошо?» И тогда Николай Алексеевия, улыбнувшись, произнёс с расстановкой: «Пья-но-му!» Затем он рассказал, как именно предполагал окончить поэму. Не найдя на Руси счастливого, странствующие мужики возвращаются к своим семи деревням: Горелову, Неелову и т. д. Деревни эти стоят близко друг от друга, и от каждой идёт тропинка к кабаку. Вот у этого-то кабака встречают они спившегося с кругу человека, «подпоясанного лычком», и с ним, за чарочкой, узнают, кому жить хорошо».
Некрасов-картёжник
Всю жизнь Некрасов боялся хандры и придумывал всевозможные средства, чтобы спастись от неё. Числе этих средств и охота, и бурная издательская и журнальная деятельность, и даже карточная игра. Эта тема не раз возникает в его стихах:
Друзья мои, картёжники! Для вас
придумано сравненье на досуге...
...Но первые шаги не в нашей власти!
Отец мой был картёжник и игрок,
и от него в наследство эти страсти
я получил.

Страсть к картам Некрасов склонен был считать своей наследственной «слабостью». Отец поэта, рассказывая ему их родословную, резюмировал: «Предки наши были богаты. Прапрадед ваш выиграл 7 тысяч душ, прадед — две, дед — одну, я — ничего, потому что нечего было проигрывать, но в карточки поиграть тоже люблю». И уже только сын его, Николай Алексеевич, первым, так сказать, переломил судьбу. Последний в этом ряду игравших, он стал первым — не проигрывавшим. Все проигрывали — он один отыгрывал. И отыгрывал очень много. Если не на миллионы, то уж на сотни тысяч счёт шёл. Карточными партнёрами Некрасова были такие влиятельные люди, как генерал А. Адлерберг, министр двора и личный друг императора Александра Второго, А. Абаза, министр финансов. В своих автобиографических заметках Некрасов не без иронии выражает им благодарность за то, что те проиграли ему «много денег в карты».
Ещё в 1854 году Некрасов стал членом петербургского Английского клуба и много зим провёл за его зелёными столами. Картины клубной жизни «безумной игры», которая велась в этих стенах, фигуры игроков, среди которых были генералы, министры и сановники, банкиры и помещики — всё давало пищу для его сатиры, всё позднее запечатлелось в стихах и поэмах (задуманный цикл «клубных» сатир, поэма «Недавнее время»)
Некрасов был, по выражению Тургенева, настоящим «головорезом карточного стола». «У картишек нет братишек», - приговаривал тот, нещадно обыгрывая всех подряд без всякого снисхождения к друзьям и знакомым. Неслыханный случай за всю историю мировой литературы: поэт, который никогда не проигрывал в карты! Рассказывали, что благодаря своей уникальной памяти, - а Некрасов, к примеру, знал наизусть до сорока тысяч стихотворений — он выигрывал невероятные суммы денег — целые состояния. В это трудно поверить, но даже свою вторую жену — Зину — он выиграл в карты! (Зина была содержанкой купца Лыткина, который, проиграв, предложил её поэту в качестве своего долга).
Однако двигала Некрасовым вовсе не жажда наживы. Азарт, страсть, адреналин! Достоевский, сам азартный игрок, но далеко не такой удачливый, говорил брату о Некрасове: «Дьявол, дьявол в нём сидит! Страстный, беспощадный дьявол! Одержимые — они всегда такие. Ему померяться, чья возьмёт, нужно. Другие из такой страсти убивают, а он направо и налево мечет. Не будь этого — его бы в клочья разорвало, выжгло бы всего...»
Известно шуточное стихотворение Некрасова на эту тему, написанное в духе пародийного подражания Лермонтову:
И скучно, и грустно, и некого в карты надуть
В минуту карманной невзгоды...
Жена?.. но что пользы жену обмануть?
Ведь ей же отдашь на расходы!
Засядешь с друзьями, но счастия нет и следа —
И черви, и пики, и все так ничтожно.
Ремизиться вечно не стоит труда,
Наверно играть невозможно...
Крепиться?.. Но рано иль поздно обрежешься вдруг,
Забыв увещанья рассудка...
И карты, как взглянешь с холодным вниманьем вокруг, —
Такая пустая и глупая шутка!..
Однако на деньги, выигранные Некрасовым у людей, которым ничего не стоило их проиграть, он поддерживал многих неимущих. Он платил щедрые гонорары талантливым писателям, своей материальной поддержкой выведя в люди чуть ли не всю русскую литературу второй половины 19 века. Написав своего «Школьника», Некрасов тут же открывает у себя на родине школу для крестьянских детей, взяв на себя все расходы. После смерти Добролюбова он содержал его малолетних братьев, после ареста Чернышевского — помогал деньгами его семье. Были даже случаи, когда он анонимно помогал деньгами семьям своих врагов, если им совсем уж приходилось туго. Из воспоминаний В. Немировича-Данченко:
«Откуда Вы?» - встретил он меня в воротах дома, где жил один мелкий юморист, преследовавший его когда-то довольно глупыми и подлыми стихами. «От Х». Поморщился. «Охота Вам с такой свиньёй знаться?» - «Нуждается... В доме ни копейки. Больной. Жена плачет». «Да?» - Прошёл со мной молча до своего дома. - «У него дети, говорите?» - «Двое».
Нахмурился. - «Дрянь он большая. А всё-таки... Жена не при чём. Вот что, садитесь на извозчика и слетайте к нему». - «Зачем?» - Вложил в конверт две сторублёвки. - «Только дайте мне слово: ни гугу, от кого. Если проговоритесь — никогда не прощу Вам. А через неделю Вы ему ещё отвезёте».
Некрасов-барин
Некрасов любил комфорт, роскошь, исполнял все свои прихоти, не задумываясь о деньгах. Когда ехал на охоту — брал запасы дорогих вин, закусок, провизии, сервизы, брался повар, лакеи, складная постель, халат, туфли.
Не знаю, как созданы люди другие -
мне любы и дороги блага земные, -
признавался в стихах.
Я милую землю, я солнце люблю,
желаю, надеюсь, страстями киплю.
И жаден мой слух, и мой глаз любопытен,
и весь я в желаньях моих ненасытен.
Самая обстановка дома Некрасова соответствовала его склонностям. Кто вошёл бы к нему в квартиру, не зная, кто в ней живёт, ни за что бы не догадался, что это квартира литератора, к тому же певца народного горя. Скорее можно было подумать, что зесь обитает какой-то спортсмен, охотник: во всех комнатах — огромные шкафы, в которых вместо книг красовались штуцера и винтовки, на шкапах — чучела птиц и зверей.

В прихожей стояло чучело огромного, вставшего на дыбы медведя.

В доме Некрасова всегда жили собаки. Может, оттого, что Бог не дал Некрасову детей (у Панаевой они умирали во младенчестве), он перенёс свою родительскую заботу на четвероногих. Любимцу поэта ирландскому пойнтеру по кличке Кадо позволялось всё: он мог безнаказанно таскать по всем коврам и диванам жареную курицу, специально для него готовящуюся, лакать суп из миски хозяина во время его трапезы, грызть ботинки гостя. Когда собаки обедали, им прислуживал лакей, подавая им особые блюда на салфетке. А когда любимого пса случайно убила жена на охоте, Некрасов поставил ему гранитный памятник.

Блок сказал о Некрасове: «Это был барин». Но это было барство особого рода. Вспомним у Гончарова классическую картинку русского барского утра: «В Гороховой улице, в одном из больших домов лежал утром в постели Илья Ильич Обломов. Лежанье у Ильи Ильича не было ни необходимостью, как у больного или как у человека, который хочет спать, ни наслаждением, как у лентяя: это было нормальным состоянием».
А вот это уже не роман, и не Гончарова, а мемуары Чернышевского. Действие — в том же Петербурге, правда, в Литейной улице: «Проснувшись, Некрасов очень долго оставался в постели. Пил утренний чай в постели, если не было посетителей, то оставался в постели и до самого завтрака. Он и читал рукописи, и корректуры писал, лёжа в постели».
Но на этом сходство заканчивается. «В кабинете-спальне русского барина Обломова лежали 2-3 развёрнутые книги, валялась газета, на бюро стояла и чернильница с перьями, но страницы, на которых развёрнуты были книги, покрылись пылью и пожелтели, видно было, что их бросили давно: нумер газеты был прошлогодний, а из чернильницы, если обмакнуть в неё перо, вырвалась бы только с жужжанием испуганная муха».
В кабинете-спальне русского барина Некрасова были развёрнуты десятки книг на самых горячих страницах, лежали нумера последних газет, а в соседнюю умывальную, как пишет Чернышевский, случалось заходить «тогда, когда надо было отмыть слишком запачканные чернилами руки: чернила там, не переставая, лились рекой».

Иначе говоря, барин, валявшийся на Литейной доподлинным Обломовым, работал, если вспомнить романного его антипода, как настоящий Штольц.
Двуличие или двуликость?
Если суммировать все обвинения против Некрасова, то они выразились бы в одном слове: двуличие. Все они говорили о том, что Некрасов не похож на свои стихи, что Некрасов-человек и Некрасов-поэт — это две разные личности. В стихах он пишет о чердаках и подвалах, а сам живёт в великолепном бельэтаже. В стихах призывает к революционной борьбе, а сам, как вельможа, разъезжает в каретах, играет в карты с министрами, выигрывает тысячные куши. В стихах он проповедует жертвы и подвиги, а сам... В стихах печалится о горе народном, а сам построил винокуренный завод!
Это «а сам» преследовало его на каждом шагу. Да, черты его личности никак не гармонировали с тем шаблонным образом певца народного горя, к которому мы привыкли. Певец народного горя, конечно же, должен быть Козьмою-бессребренником, сидеть на чердаке и бряцать на лире впроголодь или же ходить по деревенским хатам, прислушиваясь к стонам народного горя и заливаясь слезами. И вдруг этот самый певец народного горя является перед вами в образе то ли игрока, то ли браконьера.
Но всё это не значит, что Некрасов был двуличный. Двойной, двуликий, но не двуличный. И не потому он был двойной человек, что был лицемер, тартюф, а потому что с самой юности его общественное положение было двойное. Он был, так сказать, парадоксом истории, ибо одновременно принадлежал к двум противоположным формациям общества — помещичьей и разночинной. В этом вся разгадка его двойственности. Он был порождением двух борющихся между собой общественных групп. Это-то и раскололо его личность.
Некрасов ненавидел в себе эту двойственность, считал её чуть ли не преступной:
Жестокий бог! он дал двойное зренье
Моим очам; пытливое волненье
Родил в уме, душою овладел.
"Я даром жил, забвенье мой удел",-
Я говорю, с ним жизнь мою читая.
Прости меня, страна моя родная:
Бесплоден труд, напрасен голос мой!
И вижу я, поверженный в смятенье,
В случайности несчастной - преступленье,
Предательство в ошибке роковой...
Всю жизнь Некрасов-плебей проклинал Некрасова-барина. Оба жившие в нём человека постоянно ссорились друг с другом.
Что враги? Пусть клевещут язвительней,
я пощаду у них не прошу.
Не придумать им казни мучительней
той, которую в сердце ношу.
Строже всех он судил себя сам. В предсмертных стихах Некрасов горько каялся и молил родину о прощении:
За то, что я остался одиноким,
Что я ни в ком опоры не имел,
Что я, друзей теряя с каждым годом,
Встречал врагов все больше на пути —
За каплю крови, общую с народом,
Прости меня, о родина! прости!
Я призван был воспеть твои страданья,
Терпеньем изумляющий народ!
И бросить хоть единый луч сознанья
На путь, которым бог тебя ведет,
Но, жизнь любя, к ее минутным благам
Прикованный привычкой и средой,
Я к цели шел колеблющимся шагом,
Я для нее не жертвовал собой.
И песнь моя бесследно пролетела,
И до народа не дошла она,
Одна любовь сказаться в ней успела
К тебе, моя родная сторона!
За то, что я, черствея с каждым годом,
Ее умел в душе моей спасти,
За каплю крови, общую с народом,
Мои вины, о родина! Прости!..

Некрасов в наши дни
Сейчас Некрасов не моден. Не вписывается в канву нового времени. Ну что за атавизм, в самом деле, это «Поэт и гражданин»! Кто всерьёз способен сегодня внять тем призывам кануна 60-х позапрошлого века: «Иди в огонь за честь Отчизны, за убежденья, за любовь!» А ведь как не хватает нам сейчас этой высокой нравственной установки. Ибо у многих ныне, к нашему стыду, акцент в любви сместился на себя, вся активность направлена на загребание под себя, на самообогащение. И нас уже не раздражает чья-то циничная ухмылочка, с которой всуе превращают в расхожие – строки: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан», низводя до протокольно-милицейского смысла слово, которое обозначало высокое служение Родине и таковым было завещано нам.
Некрасова многие воспринимают с колоссальным предубеждением. Дескать, хрестоматийная фигура. А между тем это не хрестоматийный поэт, а явление куда более глубокое и масштабное.
Пуская нам говорит изменчивая мода,
что тема старая «страдания народа»
и что поэзия забыть её должна.
Не верьте, юноши! Не стареет она.
О, если бы её могли состарить годы!
Процвёл бы Божий мир!..
Да уж, действительно. Тема эта, видимо, никогда не устареет. И вообще многое в стихах Некрасова – как будто перекличка с нашими днями. Вырубаются леса, по которым мы уже не плачем. Всё так же стонут Орины, солдатские матери. Всё так же безуспешно ходоки обивают пороги Парадных подъездов.
Толпе напоминать, что бедствует народ,
в то время, как она ликует и поёт,
к народу возбуждать вниманье сильных мира –
чему достойнее служить могла бы лира?
Где они – наши народные заступники, наши новые Некрасовы? Хотя всё новое – это, как известно, лишь хорошо забытое старое. Поэзия Некрасова и сейчас – стоит лишь вчитаться повнимательней – ощущается как живое, насущное явление. Причин для этого много. И, может быть, главная – высота нравственного примера. Темы, как бы значительны они ни были, устаревают, отменяются. Но нравственные критерии, и, прежде всего, сострадание к чужим несчастьям – остаются.
Ах, как всё это, право, печально!
В нашем сердце некрасовский стих
Разгулялся рыдально-кандально
И еще до сих пор не затих. -
писал Иван Елагин.
Словом, Некрасов – сегодня приходится это признать, – ещё один прекрасный забытый поэт – и хорошо, что забытый! С него сошёл хрестоматийный глянец, и он готов опять послужить поэзии, избавившись от литературных чинов и школьных ярлыков.
Вернуться на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/49747.html
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю






















