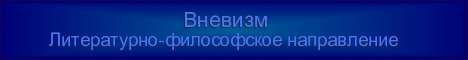-Рубрики
- Поэзия (94)
- Метафизика (43)
- Критика (32)
- Стихотворения (11)
- Проза (8)
- Полемика (6)
-Музыка
- The Clouds
- Слушали: 1699 Комментарии: 0
-Друзья
-Постоянные читатели
-Сообщества
-Статистика
Ауэзхан КОДАР. ОШИБКА АХУРАМАЗДЫ. Продолжение |
- Знаешь, - улыбнулся Агзамов. – Мы – восточные люди, а на Востоке мир скорее подтекст, а не текст. И я думаю, что это правильно.
- Оригинальнейшая трактовка теории Дерриды! – осклабился гигант.
- Да он о нем скорее ни сном, ни духом, - грустно констатировал Танат.
Агзамыча оскорбило, что эти, по всему видать, пауперизованные элементы еще смеют посягать на его интеллектуальную экипировку.
- Слушайте, молодой человек, - весьма вежливо обратился он к книгочею. – что вы имеете против подтекста?
- Да ради бога! – широко махнул рукой Танат, - только сначала текст, а потом подтекст, сколько угодно подтекстов. Но если нет текста, извините, никакого подтекста не будет.
- Ну, хорошо! – хитро улыбнулся Агзамыч. – Вы хотите отсюда выйти?
- Хотим! – сказал гигант.
- Тогда зови начальство.
Гигант заколотил в дверь. К зарешеченной двери подошел сержант.
- Чего надо?
Но тут к двери подошел Агзамыч и что-то шепнул на ухо сержанту. Сержант как говорится не повел и ухом. Тогда он вынул из кармана минииздание своего отца Агзамова и показал милиционеру.
- Ну, знаешь, кто это? – и указал на фамилию своего отца.
- Аг-зам Аг-за-мов, - прочитал по слогам сержант.
- Знаешь, кто он такой?
- Не-а.
- Лауреат Государственной премии СССР. А я его сын. Понимаешь?
- Ну и что?
Тут к Агзамычу подошел гигант и дыша ему в лицо перегаром, спросил:
- Ты че ему мозги паришь? Ты же не Агзамов.
- Как не Агзамов? – возмутился Агзамов.
- Ты на себя посмотри – нет в тебе никакого лоска, гонора, какой же ты Агзамов? Между прочим, вчера по «ящику» передавали, что сегодня он летит в Америку, - выказал немалую осведомленность гигант. – Знаешь че? – еще плотнее придвинулся он к Агзамову. – У тебя бабки есть?
- Есть немного, - попытался уклониться Агзамов.
– Дай ему бабки и всего делов, - усмехнулся гигант. Тогда он и тебя отпустит и нас тоже отпустит. Мы ж не дадим пропасть друг другу? - обратился он к стражу закона и не успел тот что-то ответить всунул ему весомые купюры, охотно предложенные Агзамовым.
- Вещи при вас? – спросил он для порядка. Но тройка уже бодро мчалась к выходу.
- Пойдешь с нами? – сказал гигант, когда они вышли во двор.
- А куда с вами?
- В царство Аида, к Танатосу.
- Это где?
- В микрах, где еще?
Агзамыч задумался. Он понимал, что идти ему некуда, но и с этими идти не хотелось.
- Знаете, у меня столько дел. Вот держите на такси и до свидания.
- Слушай, друг, шланги горят, ты бы дал на похмелье-то?
- А ты я гляжу не прост, палец дашь, руку откусишь! На вот бери, что даю и будь доволен, - Агзамов вручил гиганту всякую мелочь и заспешил подальше от этих сомнительных личностей.
- А все-таки подтексты твои не помогли, - бросил ему в след гигант и они с Танатосом не спеша зашагали в сторону микрорайонов. «Бабло оно и в КПЗ бабло!» - прозвучало напоследок в пространстве.
Агзамов шел и думал: «Куда я иду? Этих я и за людей не посчитал, а самому мне и идти-то некуда. Нет, надо обратно в милицию. Я им должен заявить, что я потерялся, что я это я!».
Он нехотя повернул в сторону опорного пункта. После утреннего пробуждения в «отстойнике» ему не хотелось иметь дела со стражами порядка. Как-то не верилось, что это учреждение для установления истины, или для сочувствия человеку.
Его мысли потекли в другую сторону.
«…Но как они меня опознают? Ведь паспорт-то дома. Фу, какую чушь я несу! Не знал, что так трудно, удостоверить других в том, что ты это ты. За сорок лет в казахской культуре я стал знаменитым как пропись. И вот, пожалуйста, теперь меня никто не узнает».
Он подошел к полупустой остановке и сел на скамейку. Раньше все сбежались бы к нему, стали бы просить автограф, говорили бы как его любят, чтят, обожают, как любят его телепрограмму. Теперь людям нет до него дела, каждый ждет своей маршрутки или автобуса.
Агзамов тяжело поднялся и пошел куда глаза глядят.
Немного подумав Агзамов вспомнил Радика, или Радия Гадикова, «главу голубого экрана» как называли его друзья. Как он не подумал раньше, вот кто не ошибется в идентификации! Еще со времен Кунаева повелось, что если не того выдал в эфир, сам эфир будешь нюхать.
Агзамов сошел с троллейбуса и задумался, то ли перейти улицу на светофор, то ли по подземному переходу. По светофору, конечно, быстрее, но Агзамову нужна была стопроцентная безопасность.
Спустившись в подземку, он очень пожалел о принятом решении, ведь в последний раз он пользовался переходом лет двадцать назад, тогда это было приятно, особенно летом, здесь было прохладно, в киоске можно было купить газету, стояли автоматы с газированной водой. Зато теперь через каждые пять шагов сидели нищие, кто-то кинув на пол шляпу, пел под гитару. Какой-то поэтишка, приставая к прохожим читал стихи, дородная бабка продавала пирожки, безногий инвалид катил на плоской каталке и толпы прохожих, порой нарядных, порой не очень, шли вместе с Агзамовым, торопясь выбраться из этого подземелья.
Агзамову бы тоже побыстрее убраться отсюда, но тут его внимание привлек плакат царя в парадной царской одежде с булавой в правой руке и с шаром – в левой, над завитыми кудрями царя стояло сияние.
«Так это же фарн, хварна», - мелькнуло в мозгу у Агзамова. Он когда-то занимался этим вопросом, но тогда это была запретная тема. Тираж изъяли, книгу сожгли, выдвижение на премию ленинского комсомола сорвалось. В одно мгновение он стал еретиком и диссидентом. А теперь это тема – достояние массового сознания. Вон к плакату тянут шеи и старик в берете, и молодая стильная женщина в модных очках, и худосочный интеллегентик бомжеватого вида.
- Так, что же там написано?
|
Метки: проза |
Ауэзхан КОДАР. ОШИБКА АХУРАМАЗДЫ. Продолжение |
В казино
Они поехали по аль Фараби, переехали Фурманова и только тогда Агзамов заметил как изменился город, когда-то роскошная Алма-Ата, а теперь неудобоваримое, какое-то куцее Алматы. Однако несмотря на невыразительное название, в бывшей столице выросло множество суперсовременных высотных комплексов, которых можно было видеть с любой точки города. Если ранее единственной высоткой кунаевской столицы была 25-этажная гостиница «Казахстан», на фоне новеньких «куатовских» высоток, она смотрелась эдаким архитектурным динозавром, мирно доживающим свои дни на чужом празднике жизни, на фоне пятизвездочных отелей с чудными иностранными наименованиями типа «Рахат-Палас», «Анкара», «Сингафредо». Но в то же время состояние дорог было такое, как будто по ним каждый день катаются на танках. Разметки куда-то делись, асфальтовое покрытие было латано-перелатано, рытвины имперского размера сочетались с новоявленными «скрытыми полицейскими». В общем, Агзамова так растрясло, что он с тоской вспоминал об индийских рикшах, бережных к каждому своему пассажиру.
И еще Агзамычу бросилось в глаза то, что город превратился в как бы огромную лавку: первые этажи некогда бесцветных многоэтажок пестрели разными вывесками на чудовищной смеси английского, казахского и русского сленга. Там располагались всякие бутики, магазинчики, закусочные, а рядом под красочными переносными зонтами зазывали к себе пивные и кафе-мороженое. Но больше всего в городе оказалось даже не кафешек и ресторанов, хотя и их тоже развелось видимо-невидимо, но всяких казино и игровых автоматов. Казалось, что за неимением лучшего, или, вернее, вследствие потери всяких разумных оснований для воспроизводства и смыслопроизводства, люди надеются только на выигрыш в лотерею, неважно какую, лишь бы повезло. Будет ли это выигрыш в рулетку или покер, в «наперсточек» или Джек-пот, все равно, лишь бы слепая игра случая выбрала меня, любимого. Такая настроенность невидимых людских масс оскорбляла Агзамова, всегда привыкшего надеяться на свой интеллект и на свое влияние в обществе. Ведь механизм славы – самая загадочная вещь на свете, однажды потрудившись заработать авторитет, всю остальную жизнь ты можешь почивать на лаврах, твоя слава будет работать на тебя лучше любого продюсера. Но теперь кто он, бывший Агзамов? Агзамова поразило, что он подумал о себе в прошедшем времени, как о бывшем. А это кто едет с русской красоткой на заднем сиденье, с толстой мошной в кармане?! Правда, они уже побывали в трех казино с похожим названием и все еще не нашли Айхана. Ну и что? Как сказал когда-то Горбачев: «Процесс пошел!». Пусть Агзамыча выкинуло из прошлой жизни, но ведь он еще жив и, главное, его интеллект еще при нем, вон он как рефлексирует все это время, пока они по бывшей Ленина спустились на все еще Гоголя и поехали по нему прямо. Когда авто переехало улицу Фурманова Агзамов на противоположной стороне улицы увидел казино «Шахерезада», построенное в виде сверкающей, трехлучевой короны. Перед казино были выставлены, видимо, в качестве выигрыша, три автомобиля – «БМВ», «Мерседес-500» и «Тойота-Лэндкрузер». Этот джип очень понравился Агзамову, ибо напомнил ему о его собственной машине, которая так неожиданно и безвозвратно ушла из его жизни. Но ушла ли? А может, попробовать ее вернуть? И тут Агзамов совсем неожиданно для себя решил зайти в казино и попытать свое счастье.
- Братишка, останови вон у того казино, - сказал он шоферу-казаху.
- Но тогда надо будет развернуться…
- Ну, так развернись.
- Эй, эй, погоди! – раздался сзади голос Маша. – Ты что, лохушник, что ли? – зашептала она на ухо Агзамову. – Тебя же облапошат как Буратино. Ты что, наших не знаешь?
- Это ты меня не знаешь! – ворчливо буркнул Агзамыч.
- Я тут катаю его по всему городу. Думаю, он меня в кабак пригласит. А ты вишь, что удумал, спустить все деньги? Нет, так не пойдет.
- Не слушай его, сверни вон к кабаку, - повернулась она к таксисту.
- Вот тебе деньги на кабак, - сказал Агзамов и дал ей сьопку новеньких долларов, - а я пошел! – буркнул он сходя с такси.
- Нет, я с тобой! – Маша уже шла за ним.
- Эй, а мне кто заплатит? – выскочил из машины таксист.
Агзамов рассчитался с таксистом и пошел к казино.
Когда они входили, путь им преградили два охранника.
- Сейчас нельзя. Вон видите 12 часов. У нас время молитвы.
- Ничего себе казино! – воскликнула Маша. – У вас что – игорное заведение или мечеть?
- А тебе вообще не стоит вякать, - сказал один из охранников. – Женщин мы вообще сюда не пускаем.
- Вы знаете, - с достоинством произнес Агзамов, - она – со мной, я заплачу сколько запросите.
- Ладно, - сказал старшой из охраны, отправляя в карман стодолларовую купюру. – Только пусть она наденет вот этот хиджаб и протянул что-то вроде мешка с пустым овалом для лица. – вот, накидывай.
- Я тебе не лошадь с попоной! – возмутилась было Маша, но увидев гневное лицо Агзамова, покорно полезла в хиджаб. Ее увели в раздевалку и вскоре она вернулась в черном мешковатом платье до пят.
После этого их провели в молельную комнату, где с полсотни человек колотились лбами о молитвенные коврики, потом садились на колени и шептали что-то невразумительное, затем выставив разнокалиберные зады, опять валились на коврик. Зрелище было не из приятных, но Агзамову с Машой пришлось проделать все это вместе со всеми. Отец когда-то научил Агзамова формуле исламской веры и одной молитве, содержание которой он давно уже не помнил. Зато помнил слова и шептал их с неожиданно проснувшейся жаждой веры. Такое чувство было удивительным для Агзамова, поскольку он был закоронелым атеистом и никогда не ощущал потребности в боге. Он, как говорится, не нуждался в этой гипотезе. Его удовлетворяла научная картина мира. Но в последнее время он с замиранием сердца отмечал, что в этой картине никто не нуждается. Напротив, все теперь кинулись в религию, мистику, гороскопы, составление родословий и прочую хиромантию. Когда-то Агзамыч споткнулся о фразу автора «Так говорил Заратустра» о том, что культура – это скорее исключение, чем правило в жизни человечества, что это тонкая наружная пленка, под которой все также торжествуют дикие первобытные инстинкты. Агзамычу, тонкому интеллектуалу и моралисту до мозга костей не хотелось в это верить. Это что же, значит, нет в истории никакого прогресса, а возможно и нет никакой истории? И что - мы также беззащитны перед вопросами бытия и веры как миллионы лет назад? Агзамов отказывался в это поверить. И, тем не менее, он сейчас вместе со всеми отбивал поклоны, и, мало того, пытался направить свои мысли в нужное русло, т.е. в религиозном направлении, стараясь понять хотя бы логику такого образа мысли, при котором ты несравненно ниже верховного существа, но пытаешься обратить его взор на свою скромную персону, донимаешь его всяческими просьбами, хотя от тебя требуется лишь то, чтобы ты полностью предался его воле и только тогда Он, возможно, снизойдет до тебя. Но как ни старался Агзамов, он так и не проник в эту логику и ему ничего не оставалось, как повторять то, что повторяли другие. Он не читал Бодрийяра и не знал, что мир страдает перепроизводством символов, теряющих свое содержание, но продолжающих существовать и в этом своем существовании, способных убить то новое и актуальное, что рождается параллельно, но не обладает, к примеру, авторитетом многовековой исламской традиции.
|
Метки: проза |
Ауэзхан КОДАР. ОШИБКА АХУРАМАЗДЫ. Продолжение |
В тусклом предутреннем свете показалась однокомнатная квартира, где у стены сидел в кресле рослый русский мужик с длинными волосами и допивал остатки водки из 200-грамового стакана, а рядом свернувшись в калачик, валялся темноволосый казах, рядом с которым лежал огромный фолиант, раскрытый где-то посередине. На проигрывателе образца 70-х годов повизгивала виниловая пластинка, с иглой застрявшей на последнем обороте. Русский парень был похож на шведского шкипера или на Иисуса Христа, или на хиппи, которые в Алма-Ате нет-нет, да промелькивали. Приглядевшись Агзамов признал в нем русского гиганта из «шлакушника».
- Я этого, кажется, видел, - неуверенно произнес Агзамов.
- Я даже вам скажу, где вы его видели, - веско сказал Нуриев. – В КПЗ, или как говорят в народе, в «шлакушнике».
- Да, а вы откуда знаете? – наивно спросил Агзамыч и осекся при одной мысли, что все это время тоже был под наблюдением.
- Нет-нет, что вы, за вами слежки не было, - успокоил его Нуриев, как будто угадав его мысли. – Просто у них такой образ жизни, что их постоянно загребают менты. – Это самая несчастная порода людей, я их называю «гении-кустари». Они, надо сказать, очень талантливы, но не умеют ладить с обществом, вписываться в конъюнктуру. Ведь талантом надо делиться, знать под кого лечь, а эти мнят себя уже готовыми оракулами, непризнанными пророками. У них на все есть свое суждение, их никогда нельзя переубедить. Даже между собой каждый раз начиная во здравицу, кончают за упокой. В общем, грызутся как собаки, но друг без друга не могут. Они действительно единственные, которые в наших условиях разбираются в модернизме и постмодернизме.
- А нам это нужно?
- Кто его знает? По крайней мере, надо что-то знать об этих вещах. Вообще-то не мне бы вам об этом говорить.
- А по мне, все это говно, словесный мусор, нам надо нациестроительством заниматься.
- Уау, слово-то какое сложное! Это даже не выговорить. Вы нациепатриоты – очень странные, кто вам сказал, что нация – это соответствие прошлому? Вы же именно оттуда черпаете свои представления о нации, из прошлого! И кто вам сказал, что вообще возможно соответствие чему-то?
- Но ты же сам чему-то соответствуешь?
- Ничему я не соответствую! Я расставил игорные столы и очищаю карманы игроков, разбивая их мечты на соответствие каким-то заветным, сакральным числам. Я как раз богатею там, где люди хотят меня обанкротить! Так кто умнее? И дело даже не в уме, а в образованности. И знаете, кто меня образовал? Вот эти двое! Я прикинулся «шмурдяком»-алкаголиком, таскался с ними по пивбарам, злачным местам, по всяким конференциям, ведь они иногда переодеваются в чистое и выступают на ученых собраниях. И однажды от кого-то из них я услышал слова Гераклита: «Мир – ребенок играющий в кости!». И для меня сразу все встало на свои места, что нет ни бога, ни черта, ни смысла, ни бессмыслицы, я не стал лезть в политику, я открыл казино.
- Зачем тогда теперь лезешь? – неприветливо спросил Агзамов.
- Я понял, что у нас нет чистого рынка. Это стало моим вторым открытием. Рынок – это свободная конкуренция товаров, а у нас нет этого. У нас все управляется оттуда, - он кивнул на потолок. – А там сидит мой папа и держит в своих руках нити всех интриг. Слышал, недавно Бекжанов умер. Ну, этот наш Леви-Строс или скорее Миклухо-Маклай. Он и в самом деле из казахов хотел сделать что-то вроде папуасов.
Нуриев нажал на кнопку пульта и на экране появился высокий, худощавый Бекжанов, известный писатель и этнограф. Агзамов не любил его, они были антиподами. Агзамыч искал величие казахов в глубокой древности, в сакской, тюркской предистории, а этот дальше 19 века оплеванного Абаем и Левшиным не забирался. Между тем на экране возник кабинет президентского любимца Акбасова. Там сидели Акбасов и Бекжанов и о чем-то жарко спорили, размахивая руками и брызгая слюной. Вдруг Акбасов полез в ящик стола и вытащил оттуда кинжал. Бекжанов выхватил у него кинжал и полоснул себя по горлу. Кровь фонтаном брызнула в лицо Акбасову. Нуриев выключил монитор.
- Вот такое вот харакири, - подытожил Нуриев, положив пульт на стол. – Думаете, это все просто так, что, Бекжанову жить надоело? Это Папа приказал ему исчезнуть из жизни, ибо тот все время лез с идеей Казахстан для казахов, а как это возможно в наше время, остальные народы ведь тоже не букашки. И Папа это прекрасно понимает, а вот вы, писатели, вечно воду мутите. Но Папа ошибался насчет Бекжанова, он-то как раз был не опасен, всего лишь демагог и позер, но в его верноподданичестве не приходилось сомневаться. Вот кто опасен! – Нуриев снова схватился за пульт и включил монитор. Показался большой ресторан. Видимо, там шел чей-то юбилей. Вскоре Агзамов стал узнавать присутствующих.
За центральным столом сидел Бакай Жакаимов, живой классик казахской литературы, автор бессмертной эпопеи «Нескончаемая даль». О нем говорили, что он появился на свет сразу со своей многообещающей трилогией, да так и не расстается с ней до сих пор, все исправляет, исправляет, добивается невиданного совершенства. Добился он этого совершенства или нет, никто так и не понял, но все понимали, что надо хвалить его уже за саму попытку. Вот и хвалили его все, начиная с Луи Арагона, который почему-то добровольно взвалил на себя шефство над киргиз-кайсацкой литературой. В этом году юбиляру исполнялось восемьдесят пять, а его нетленному шедевру – пятьдесят пять. Агзамову вспомнилась притча про пройдоху-алкаша, который выходил из своей каморки с тремя копейками, но благодаря своей незаурядной общительности к обеду уже сидел в ресторане, а ночью засыпал в самой дорогой гостинице в объятиях самой роскошной девицы, какая только возможна. Вот и Жакаимов обладал не то что обаянием, а какой-то железной хваткой, из тисков которой невозможно было вырваться ни гению, ни титану, ни самому Господу Богу, если автор неувядаемой эпопеи хотел их использовать в свою пользу. Возможно, поэтому вещичка кое-как исполненная в стиле соцреализма, верно служила своему хоязину вот уже более полувека. Агзамов повернулся к Нуриеву.
|
Метки: проза |
Ауэзхан КОДАР. ОШИБКА АХУРАМАЗДЫ. Продолжение |
«А может, прав Такен: хварна – это всего лишь внутреннее свойство, тогда я ее никак не могу потерять. Она всегда будет при мне. Возможно, со мной не будут носиться, как раньше, но живет же, к примеру, Такен. Его никто не осыпает милостями, не превозносит, он еле выживает, смотря по этой скромной мастерской, но спокойно продолжает творить и как творит – свежо, самобытно, национально. Все что мы с Адоевым едва намечали в теории, он полновесно воплотил в искусстве. И возможно даже пошел дальше нас. Ибо для него национальное неотделимо от общечеловеческого».
Напротив Агзамова висело два зеркала – одно обычное, другое вогнутое. Агзамов только было направился к зеркалам, как к нему подбежала Манька и потащила совсем в другую сторону.
У входа на небольшом квадратном возвышении стояло что-то вроде стеклянного судна для больных. Приглядевшись Агзамов увидел, что это не судно, а что-то напоминающее человеческий, как сказали бы медики коитально-дефекационный комплекс. Но штука была в том, что внутри прозрачной вагины был длинный полый мужской член впечатляющих размеров, плавно переходящий снаружи в женские половые губы. Такену удалось невероятное, он обнажил самое сокровенное, то, что на протяжении тысячелетий было окружено чуть ли не сакральной тайной.
- Уау! – воскликнула Манька. – Неужели такие бывают?
- Какие «такие»? – спросил Такен
- Ну, члены… - растерянно сказала Манька.
- А хотелось бы? - улыбнулся Такен.
Все рассмеялись.
- Мне кажется этой своей штукой я разрешил всю гендерную проблематику. Нет проблемы равенства или неравенства, нужно соитие, нужен коитус, вот и все. Мы, земные люди, созданы для плотствования, но как раз до этого мы никак не дойдем, так любим рассуждать на абстрактные темы, хлебом не корми.
- Такеша, я не могу сдержаться! А ну, пойдем со мной.
Манька обняв за шею Такена, потащила к двери. Такен попытался было вырваться, но она была выше него и вскоре они исчезли за дверьми.
Агзамов оставшись один, постоял еще некоторое время возле прозрачно-бесстыдного шедевра, зачем-то сунул палец в полость фаллоса или вагины и прошел потом к зеркалам, которые его давно заинтересовали.
Одно зеркало было обычное, другое – вогнутое. Но лучше бы он к ним не подходил. Как бы он ни вставал на цыпочки, какие бы потом не корчил рожи, он не отражался ни в одном из них! «Так, значит, я действительно исчез? Достиг нирваны? Саморазрушился? Но ведь вот же я стою, вот у меня руки, ноги». Агзамов высунул язык. Все было напрасно. В зеркале ничего не отразилось. Тогда он плюнул в зеркало. Плевок тоже бесследно исчез. Боже мой? Что происходит? Чего же я лишился – души или плоти? Или они на самом деле одно и я лишился всего сразу?
Дверь тихо открылась, и, обнявшись вошли Такен и Маша, счастливые, умиротворенные.
Смотря с упоением на повернувшегося к ним Агзамова, Такен сказал:
- Поздравь меня, друг, я женюсь на ней! А со своей я развожусь. Я, наконец-то, все решил!
Но тут Маша-Манька-Обманка разжала объятия и отпрянула от Такена.
- С какой стати, Такеша! Я же не давала согласия! Я отдалася тебе, но это не значит, что я буду твоей женой! Я отдамся еще десяткам других!
- Да пожалуйста! Но будь моей женой!
- Быть женой для меня презренно! Быть женой – это то, что убило женщину в женщине! Быть женой – это значит стать рабыней одного мужчины. Это значит запереть на кухне все свои влечения и страсти! Это значит, что ты не можешь быть язычницей и вакханкой, что ты не можешь отдаться тому, кому захочешь! Это значит, навеки лишить себя выбора! И что взамен всему этому? Только штамп в паспорте и лицемерное уважение общества и сплошное лицемерие с мужем, когда ты ему изменяешь и когда он изменяет тебе? Нет, я не могу так лгать – ни себе, ни обществу!
Такен:
- Но ты не можешь так просто покинуть меня, после того, что было? А было ведь потрясающе!
- Поэтому я и покидаю тебя! Потрясающее не повторяется! Эй, рохля, пошли! – и она подхватив за руку Агзамыча оттолкнула Такена, пробежала с Агзамычем сквозь дверной проем и они помчались вниз по лестнице.
Немного погодя они, вмиг оказавшись на улице, лихорадочно открыли калитку и вскоре ловили такси.
После оргии
- Почему ты с ним так поступила? – спросил на улице Агзамыч, - еле переводя дух.
- Я не говорила ему, что буду его женой. Он талантливый человек, но как мужик – самый элементарный. Он бы запер меня и выбросил ключ.
- Как сказала Дебора из «Однажды в Америке»?
- Какая разница? Мы одно онтологическое тело.
Тут подъехала иномарка и они побежали к дверце машины.
- Куда едем-то? – обернулся к Маше Агзамыч.
- Да есть у меня одни хухрики…Подкармливаю их иногда.
- Саина – Жубанова, - сказала она, наклонившись к дверце.
- Знаешь, есть такая порода людей, - сказала она, когда они уселись в машину и поехали, – несвоевременные, ну, пасынки какие-то, или незаконнорожденные (как будто детей зачинает закон, а не фаллос!), вечно не к месту, ни к селу, ни к городу, но вечно в движении и размышлениях. Это началось еще с Сократа. Мы ж его вечно видим на чужих пирах, а в собственном доме не видим. Так и у меня есть два дружка, один – поэт, другой – философ, которые забили на этот мир широко и окончательно. Поэт какое-то время делал успешную карьеру, работал на телевидении, издал свои переводы «Биттлз» и «Пинк Флойда», поехал в Москву, думал произведет там фурор, но никто даже и бровью не повел. Все ниши были заняты. Пришлось ему вернуться в Алма-Ату, но и здесь уже все ниши были забиты. Ведь талант у нас не ценится по номиналу, а по количеству и, главное, качеству связей. А с философом случилось так, что он вообще появился раньше времени, люди еще барахтались в марксизме, а его потянуло к постмодерну, о котором тогда еще и в России не знали. Представляешь, он написал диссертацию о хайдеггеровском понимании истины, а его зарубили на том основании, что ему некому оппонировать. - Слушай, сказала она таксисту, - останови возле магазина, я пойду, затарюсь.
Взяв у Агзамыча деньги, она пошла в магазин и вскоре вернулась с двумя пакетами, полными продуктов.
«Опять везет в какой-то шлакушник», - подумал Агзамов. Но то, что он увидел, поднявшись на четвертый этаж, превзошло все его ожидания. На звонок Маши дверь открыл какой-то казах с зелеными пьяненькими глазами и кривой ухмылкой, почему-то показавшейся Агзамову знакомой. И только увидев за ним русского гиганта, Агзамыч признал старых знакомцев из милицейского КПЗ. Но приглядевшись, Агзамыч удивился еще больше – его старые знакомцы были одеты чуть ли не с иголочки. Гигант был во фраке, а книгочей в сюртуке и даже чисто выбрит и даже шрам, казалось, не так выделялся, скорее похожий на довольную кривую ухмылку.
- Машка! Откуда тебя занесло? – обрадовался гигант.
- Игоречек! А я к тебе с гостем и с харчами.
Маша зашла сама и затащила за собой Агзамыча.
- Вообще-то это моя квартира, - проронил книгочей отступая.
- Ну, значит, и тебя обслужим, - многообещающе заявила Маша. – Слушай, - повернулась она к Игорю. – Никак вы на банкет идете или собрались читать свою Нобелевскую лекцию, но я вас впервые вижу в полном параде. По какому поводу вы так намарафетились?
- Талант не пропьешь! – осклабился в улыбке Игорь. – У нас сегодня проект должен пройти в фонде образования. Вот ждем Костыляныча с вестями. Если пройдет, он поведет нас на прием в американское посольство, а через неделю мы все едем в Америку! Читать лекцию по теме: «Аполонийское и дионисийское начала в казахской культуре». Я – Аполлон, Костыляныч - сатир, а вот это наш Дионис, или Танат по прозвищу «Доброе утро!», ибо уже к восьми утра он стоит у магазина в еще не начавшейся очереди за водкой!
- Но слушай, может, мы тогда не вовремя? – замежевалась Манька.
- Люди с водкой у нас всегда вовремя! – с пафосом сказал Игорь и перехватив у Маньки пакеты, занес их в зал.
Смеясь, они вошли в комнату, Агзамыч – за ними. Он еще в прихожей обратил внимание на то, что обои в доме как на плавках Макмерфи из фильма Милоша Формана «Полет над гнездом кукушки» – с резвящимися на волнах дельфинами. Это настраивало на довольно фривольный лад.
Квартира явно была холостяцкой. В центре стоял потрепанный журнальный столик с диванчиком и двумя креслами, в углу, у окна довольно компактный письменный стол, над ним навесные книжные полки с такими огромными фолиантами, что казалось, они сейчас рухнут. Напротив стола ютилась солдатская односпальная койка – вот и все содержимое комнаты. Агзамову предложили сесть, но он пошел к полкам. Фолианты оказались словарями – французские, английские, арабские. Но больше всего впечатлили Агзамыча словари греческие и латинские. Но мало того, на полках не оказалось ни одной книги на русском.
|
Метки: проза |
Ауэзхан КОДАР. ОШИБКА АХУРАМАЗДЫ. Окончание |
Агзамов никак не ожидал такой агрессии к себе, ведь это он сделал этого человека человеком. Не выбей он тогда ему квартиры, ему пришлось бы уехать в свою грязную железнодорожную станцию, или же откинуть копыта в одной из пивнушек Алма-Аты. И этот парень, который каждым шагом продвижения здесь обязан ему, променял его на этих полубомжей, развратников, циников, в общем, дела-а-а-а… Но погоди, погоди, кажется он припоминает… Как-то приехал из Калифорнии Ларри Джонс, руководитель международного Пен-клуба, Агзамов познакомил его с Айханом и они почему-то так спелись, что тот захотел пригласить его в Америку, но не просто так, а чтобы он прочитал лекции о казахской культуре. Агзамов нисколько не возражал бы против этого, но Айхан пристегнул к себе еще кого-то, как оказалось, эту сладкую парочку. Этого Агзамыч простить не мог. Он продумал тонкую комбинацию со своим отъездом в Америку и приговором проекту Айхана, который должен был произнести Председатель Правления, славный парень, известный как правозащитник. Так оно, видимо, и получилось. Агзамов иронично хмыкнул.
- Так что это у нас сегодня – трибунал?
- «То Высший Суд – наперсники разврата!» - напряженно заржал Игорь.
- Можно мне слово? – буднично сказал Танат. – Я считаю, что этот человек ни в чём не виноват. – И, кроме того, - обратился он к Игорю, - он сегодня спас нас от этого дикаря. – Я очень уважаю Агзама Агзамовича, - обратился он потом к Айхану. – Он – сын великого писателя, среди нас должны быть аристократы, а он единственный кто здесь аристократ по праву рождения.
Но с хварной вы хватили лишку, - повернулся Танат к шаману. - Это чушь собачья! Нет никакой хварны. Если Бог умер в эпоху Ницше, какая может быть хварна? Как говорили античные скептики: это не более чем то. Агзамыч такой же, как мы: в меру глуп, порой не в меру самодоволен. А то, что его отовсюду убрали, так устарел, пора и честь знать. Вон Делёз когда устал от страданий, взял и спрыгнул с восьмого этажа вниз головой, как Эмпедокл в жерло вулкана. Вот это смерть философа! Вообще, я вам скажу, что только философы предназначены для смерти, а все остальные предназначены только для прозябания.
- Я тоже думаю, что этот ваш шаман или явно чем-то обкурился, или действует по твоему сценарию, - сказал Агзамов, жестко посмотрев на Айхана. – Я никогда не нуждался в какой-то хварне, верил только себе и своим знаниям. Я и тебя когда-то оценил, - продолжал Агзамов, обращаясь к Айхану, - из уважения к твоему интеллекту и силе характера. Но со временем характер стал в тебе самодовлеть, ты стал подчинять себе окружающих, стремиться к лидерству.
- А не кажется тебе, что всё происходило само собой? Просто я стал актуален для людей, я говорил то, о чем они думали, буром шел вперед, не сворачивал с избранного пути, вот люди и потянулись ко мне. И только тебе это почему-то стало не в радость. Ты мне помогал, когда меня никто не знал, видимо, тебе нравилось тешить свое самолюбие тем, что ты такой благодетель, но стоило мне проявить себя самостоятельно, это сразу тебе не понравилось. А ведь ты считал себя продвинутым парнем, уникальной личностью, далеко опередившей своих соплеменников! Так в чем твоя уникальность, в том, что ты строишь козни против ближайших своих друзей, тянешь их за ногу обратно в яму? Чем же ты лучше самых заурядных казахов еще в утробе матери зачатых с комплексом неполноценности, в котором зависть – самое определяющее чувство. Уж мне-то чего завидовать, я с четырех лет заболел полиемиелитом, в шесть лет потерял отца, в двадцать лет умерла от рака мать, и, тем не менее, я шел вперед. Рожденный в станционном тупике, теперь я – кумир своего поколения! Я изначально решил, что раз мне отказано в одном, превзойти людей в другом – в знании, образованности, культуре. Я сам себя сделал человеком, состоялся вопреки всему – происхождению, здоровью, отсутствию блата. В цивилизованных странах обычно поддерживают таких людей, вспомните хотя бы Джека Лондона или Тулуз-Лотрека, но у нас, чем больше я становился известным, тем более сгущался вокруг меня заговор молчания. Правда, был краткий период, когда мы работали с тобой вместе: создали журнал, стали создавать среду. Но тут твои друзья, все эти старые хмыри, настроили тебя против меня. И вот когда ты отошел от меня, вокруг меня образовалась пустота. Ведь у нас не общество, а какое-то преступное исмаилитское братство, каста убийц всего живого и творческого. И тогда со мной остались только эти двое и видит Бог, они столько же сделали для меня, сколько я – для них! Их считали алкашами, отбросами общества, а я изумлялся их свободе, независимости, эрудиции. Их отовсюду изгоняли с позором, я их приблизил к себе! Это не прибавило мне авторитета в глазах общества, зато я вырос в собственных глазах. Ибо я считаю, что все богатства этого мира не стоит одной фразы Хайдеггера, взятой им в свою очередь у Гельдерлина: «Поэтически обитает на земле человек». Поэтически, а не политически, как это происходит со многими из нас. В них меня восхищало то, что они сделали свой выбор. Кафка писал, что с определенного момента в духовном развитии человека наступает точка невозврата и что ее не надо бояться, ее надо достичь. Так вот, ты никогда не достигал такой точки, всегда оставлял лазейку, чтобы вернуться в реальность. Ты так и живешь, как оборотень – засыпаешь волком с мыслью о мясе молодых ягнят, а проснувшись, сдираешь когти и лезешь ногами в мягкие тапочки, чтобы не выдать свою звериную сущность. Духовным существом можно назвать того, у кого есть двери восприятия, кто может впустить в себя соблазны этого мира и найти отдохновение в ярком языческом танце. И чем больше участников, тем насыщенней танец, но твои двери, увы, давно закрыты. Они у тебя выполняют не функцию входа, а функцию барьера, или преграды.
- Что ты знаешь обо мне? – презрительно процедил Агзамов. - Ты думаешь мне впервой выпасть из времени, примерить отребье изгоя? Только стоило мне подняться, как на меня стучали и я вновь уходил на дно, вел растительное существование. Однажды меня представили к очень высокой премии, но только для того, что назавтра вычеркнуть из списков. Я нигде не задерживался на работе больше года или двух, и вот, когда наконец настало мое время, вылезаете вы, хотя самим вам и сказать-то нечего этому миру!
- Мы, по крайней мере, не придумываем мифов, а вот ты этим занимался всю жизнь. Ведь вся твоя жизнь – это мифотворчество. Чего только стоит твоя книга «Тюркская хварна». Хварна – это изобретение иранского мира, продукт зороастризма, «Авесты». Нельзя же в пылу патриотизма попирать очевидные вещи. У тюрков божья благодать называется «кут» и он одинаков для всех смертных!
- Надо же, открыл Америку! Между прочим, я первым написал о тюркском боге Тенгри и тенгрианской благодати – «куте»!
- А мне больше нравится Ахурамазда. Все степные боги всего лишь его отрыжка! Ахурамазда – самое великодушное божество, это первый монотеистический бог в мире. Но он был столь неревнив и не завистлив, что делил свою власть и с Митрой, и с Анахитой, и со многими другими богами и очень возможно, что среди них был и Тенгри! Когда другие боги с остервенением, достойным разве что кухарок, грызлись за власть, Ахурамазда то и дело раздавал ее лакомые куски почти кому придется. В результате, через много веков пришлось родиться Заратустре, чтобы власть вновь сосредоточилась в руках Ахурамазды. Но мне почему-то нравится божественная рассеянность этого небесного властителя, она идет не от слабости, а от силы, не от недостатка, а от избытка, не от изьяна, а от совершенства. Мне этот бог нравится в любом своем проявлении – от грозного божества до мелкого демона, ибо он непредсказуем как сама действительность, а, как сказано Аристотелем, бытие мира проявляется многообразно. Особенно мне нравятся Гаты Заратустры, его разговоры с Богом. Заратустра – пророк-богохульник, он хочет лишить своего бога жертвоприношений. Но как милостив с ним Ахурамазда!
- Да что ты пристал к нему, - опять встрял между собеседниками Танат. – Хварна, кут, Тенгри, Ахурамазда – какая разница. Это все та же метафизическая мистическая белиберда и место ей – на свалке истории.
- Тебе явно хочется понравиться Агзамову, - задумчиво произнес Айхан. – Но не ты ли мне всегда жаловался на него, говорил, что это позавчерашний день, прошлогодний снег, что он элементарен как пропись, что он зажимает наше поколение. Мне ради тебя пришлось расстаться с ним, хотя он не сделал мне ничего плохого.
- А я и говорю, что не надо расставаться, он – хороший, - спокойно продолжал Танат, - только из другого поколения.
- Но из-за него мы не едем в Америку! Он провалил наш проект!
- А это надо нам – ехать в Америку! Кому мы там нужны? Проект! Значит, не созрел наш проект!
Метки: проза |
БЕЛОЙ БАБОЧКИ ПАРЕНЬЕ. Кира САПГИР (Франция) |

«Поэт идет до последней черты правдивейшего отношения к себе. Его итог – «откровение духовного мира» - как писал Андрей Белый о творчестве Ходасевича.
И начало нашего тысячелетия – самоновейшее время, когда особенно чувствуется острота эстетического запроса, вызванная духовным голодом предшествовавших десятилетий. Это новое время выдвигает требование новой правдивой ноты, новой, реалистической (в серьезнейшем смысле) поэзии:
Нацелено солнце в мишень паутины,
без промаха бьёт! И ослепшим глазам
мерещатся – в яркой палитре куртины –
Борисов-Мусатов, Ван-Гог и Сезанн.
Какое скопленье оттенков и цвета!
В траве изумрудной – росы холодок –
в сто раз увеличенный линзою света
и вправленный в лето хрустальный глазок…
(В. Коробов, «Пейзаж»)
Передо мной изящно оформленный стихотворный сборник необычного формата: квадратная тетрадь, похожая, скорее, на альбом для набросков, летучих пейзажных зарисовок. И именно таким видится мир поэзии Владимира Коробова – это стихи, где все еще различим звон струн Серебряного века.
Тем не менее, Коробов – не архаист, он поэт сегодняшнего дня, постоянный автор «толстых» журналов. И, если уже существует в истории литературы понятие «царскосельские поэты», «ахматовские сироты» (по выражению Д. Бобышева), то В. Коробова, пожалуй, стоит отнести к «переделкинской плеяде» – к «пастернаковским пасынкам». И здесь метафоричность, элегичность, точность интонации – неотъемлемая черта лучших стихов поэта:
И море остыло. И лодки забыты.
И пляжи до лета фанерой забиты.
Так, значит, как раньше, так, значит, как прежде
вдвоём не бродить на пустом побережье,
так, значит, уже не сбежать нам с тобою
к весёлому морю весёлой тропою,
не плыть, не лежать на заброшенном пляже,
касаясь волны, словно пенистой пряжи…
Что было – прошло. И всё реже и реже
мне верить погоде и верить надежде.
То хрупкое лето волною разбито.
И море остыло. И гавань размыта.
…………………………………….
В стихотворении «Заденет бабочка крылом…» – лирико-драматический отблеск, заставляющий вспомнить о поэзии Ходасевича. Здесь та же духовность и благородная сдержанность. Этот сплав, который высоко ценили великие писатели прошлого, в кругу литераторов начала ХХ1 века, с их поспешным, часто сумбурным вдохновением, смотрится, по меньшей мере, необычным. Ведь литературная разнузданность в наше время выглядит едва ли не главным симптомом таланта, осев в обывательском сознании в виде пышного, но, увы, искусственного цветка.
Похоже, что Коробов, оставаясь поэтом для немногих, ищет и находит читателя, в чем-то главном равного себе. Сознательно сторонясь спекулятивных моментов в искусстве, он не хочет ни удивлять, ни мистифицировать читателя. В такой позиции можно ошибочно усмотреть высокомерие, которое есть ничто иное как независимость. Эта независимость в литературе предполагает некоторый пассеизм – поиск точки опоры в прошлом, без которого равно непонятны настоящее и будущее:
«Тем ягодам не зреть на сломленных ветвях…» –
запомнил я сквозь сон навязчивую строчку
и тут же позабыл, оставив второпях
пометку на листке – пустую оболочку.
И вот, пока я жил, блуждал в чужих краях,
надежды растеряв и старясь в одиночку,
строка вдруг проросла –
«…на сломленных ветвях
тем ягодам не зреть», – в судьбе поставив точку.
Чем глубже в прошлое проникает осмысляющий взгляд художника, тем жизнеспособнее и долговечнее его творчество.
Юрий Кублановский, автор предисловия к сборнику «Сад метаморфоз» цитирует Василия Розанова: «Кто воспел русскую осень – уж будь уверены, есть в то же время и глубоко чувствующий русский гражданин, способный к подвигу, к долгу, к терпению и страданию за родину». Эти слова замечательно точно обозначают четкую непосредственную связь между духом творчества и его темой в стихах Владимира Коробова – будь то осенние крымские холмы либо – московские подворотни в мусорных окурках. Ибо в саду метаморфоз всё возможно, всё взаимосвязано, всё проистекает по замыслу Творца – и окровавленные крылья птицы, случайно угодившей под колёса автомобиля, и паренье белой бабочки над благоухающим весенним оврагом.
Впервые опубликовано в газете «Русская мысль» (Париж) № 47, 12-18 декабря 2008 г.
|
Метки: критика |
БРОНЗА ЛИСТОПАДА. Лев АННИНСКИЙ |

То ли боги от нас отступились,
то ли нам наплевать на богов.
Владимир Коробов
Уже настолько привыкли мы, что стихотворение – это непременно «эксцесс», «удар по нервам» (можно продолжить ряд: «эффектный жест», «шедевр», «кунстштюк», «самоутверждение мастера», а в другом ряду: «плевок в небеса», «экстатическое покаяние» и т.д.), – настолько, повторяю, привыкли мы к такого рода эффектности, что отсутствие ее у поэта делает его в наших глазах неуловимым ловцом ускользающих бликов, исповедником тихих радостей, наблюдателем мерцающих в невесомости метаморфоз духа.
Мало того, что Владимир Коробов пару раз помянул такие метаморфозы, так еще и книгу свою новую назвал: «Сад метаморфоз». Тут уж ясно, к каким шепотам, к чьему робкому дыханью надо его пристроить, каких соловьев помянуть среди предтеч. Юрий Кублановский поминает Тютчева, слышавшего подземный гул там, где другие весело внимали грозе в начале мая; поминает Анненского, которому в самосветящейся тьме не нужно было иного света…
И никакого желания кроиться миру в черепе? Никакого. Даже Брюсов гравюрно четкий помянут у Коробова исчужа, даже Блок далековат от него в поле катастрофических предзнаменований. И уж, конечно, это вам не Бродский! То есть – никаких претензий на место в иерархии гениев. Тихий свет, и только…
А Хлебников?! Помянут же! И в отзвуках иногда слышен: «Звезды сбились в стаи, как мальки, в пригоршне недремлющего бога». Ну и что? Чехов тоже помянут. Естественно: человек, получивший диплом Литературного института, имеет Хлебникова в ближайшем ассоциативном фонде. Человек, проработавший пять лет в ялтинском Музее Чехова, чувствует обаяние «краткости» метаморфоз. Чехов-то тут, в общем, родной, чего не скажешь о Хлебникове.
Батюшков? Помянут – по смежности. В Крыму лечился.
Фофанов? Помянут из жалости, как отодвинутый во второй ряд русской лирики.
Из современников – Жигулин, у которого Коробов учился в Литинституте. Соколов…
Вот Владимир Соколов – самый точный ориентир. Простота ясности. Классическая прозрачность стиха. И сквозь эту подкупающую прелесть – смертоносные вехи истории. У Соколова вехи кровью мечены: 1941 год врезан в память, Павел Коган отзывается.
А у самого Коробова какие вехи? Родился в 1953 рубежном году. Сталина не застал. Не застал уже той крутой эпохи. Из Тобольска в двухлетнем возрасте вывезен в Крым. Но и сибирской «крутости» в себе не осознал. Произрос в метаморфозах всесоюзного курорта. А что в столицу подался на изломе от 80-х к 90-м – так кто тогда не подался? Кто не поддался метаморфозам большой политики, кого тогда не закружили ее метаморфАзы?
Но Коробов-то тут при чем? Никакой у него в стихах явной политики. Никаких поколенческих манифестов.
Однако вопрос неизбежен: какую мироориентацию принимает человек, появившийся на свет на переломе эпох, на грани поколений, на повороте: от послевоенных скептиков – к тем «детям Застоя», для которых и либеральная Оттепель 60-х уже стала детской сказочкой.
Так ведь и до Оттепели этим слушателям сказочек надо было еще дожить. Надо было расстаться с тем сказочным вождем, который к моменту их появления на свет был богом. А потом канул во тьму.
Осознание этого падения – через десять лет. Когда бронзового кумира ночью тайком сволакивали с пьедестала, распиливали на куски, закапывали по частям, и надо было как-то отнестись к низвергнутому главнокомандующему (это пришлось сделать старшим: либо проклясть за аресты и расстрелы, либо сохранить верность победителю, либо, на крайний случай, подергать за усы…).
А Коробов? Да ничего такого «эксцессивного» – ни за, ни против. Смыслы обрушены. Бронза опала. Видны веревки и «край литого сапога». Десятилетний мальчишка плачет надрывно не потому, что может осознать что-то в этом переворачивающемся мире, а от ужаса, что мир вообще вот так запросто переворачивается.
Очередной переворот – перестройка.
И тут кое-что сказано впрямую. И резко. Тут редкий у Коробова врез в политику на фоне садовых метаморфоз настолько эксцессивен, – что стих сам за себя скажет больше, чем любой к нему комментарий.
Итак, исповедь поколения:
Мы жаждали правды, искали успеха –
нам в лица бросали булыжники смеха!
Пока на парадах палили из пушек,
мы души сгноили в подвалах пивнушек.
Какие мы, к черту, поэты, пророки –
мы кожей впитали эпохи пороки,
и, не протрезвев от повальной попойки,
вскочили случайно в трамвай перестройки.
Все-таки откомментирую.
Так чего вы жаждали? Правды или успеха? Правда – она, как я вообще понимаю, от успеха не зависит. И не потому ли над вами слегка посмеивались (а вам эти легкие смешки казались булыжниками), что вы еще не успели решить, что вам важно? Успех или правда?
Ладно. Те, кто сделали выбор, были не лучше. Отказались «палить из пушек» (то есть работать в составе Системы, Державы, Структуры) и развернулись к Системе задом. Не обязательно чтобы пойти в диссиденты (как самые крутые из идеалистов-«шестидесятников»), но – как тогда говорилось: чем в Систему, так лучше в сторожа и дворники.
«Подвалы пивнушек» – где-то рядом. Но уже с некоторым сдвигом в сторону сомнения: все ж сам стих Коробова, лишенный всякой патетики и тронутый налетом горечи, – свидетельствует о том, что из пивнушек надо было выйти на свет божий. Не в пророки, черт бы их побрал вместе с поэтами, – а в трезвеющие после коммунистического опьянения ряды борцов за демократию.
Опохмелялись ряды, как мне уже приходилось писать, пепси-колой. Учились отличать по оттенкам родное дерьмо от заграничных пищевых добавок. Оттенки различать того и другого.
Коробовский стих обходится без этих добавок и без ассенизационного гурманства. Он чист. Он – между эскапистами послевоенных залежных неудобий и эксцессистами оттепельной клумбы.
«Вскочили случайно в трамвай перестройки…»
А где оказались?
Ну, сказано же: в саду метаморфоз.
Про перестройку и ее социопсихологические метаморфозы в стихах более никаких сигналов. Смысл того, что зафиксировано в стихах, шире. Контуры размытее. И Творец – загадочен в своем бытии-небытии.
Лишь только лист земли коснется,
свой волен замысел стереть
Творец...
И значит – остается
в небытие перелететь.
Листопад. Сад. Жасмин. Сирень.
Казалось бы, эти мотивы навеяны Крымом, где Владимир Коробов, привезенный младенцем из Сибири, прожил тридцать лет и три года.
Но что от Крыма осталось в поэтической памяти? Богоданная Таврида? Сад грез? Да ничего похожего! Заледенелый зимний берег. Стеклярус волн. Из новейших примет – щегольской «Мерседес» у щегольского коттеджа. Гривны: с одной «свисает ус Богдана», с другой «таращится Тарас». Вынужден извиниться за коробовские формулировки: видать, очень ему обидно, что «умыкнули хохлы» эту землю. Но и то, что виднеется сквозь узор этих смушек, – все равно чужое. Потерянное. Нереальное.
Так вот она – мечта, так вот она – Таврида:
какой-то шум в ушах, бессонница и бред,
губернский городок, трактир, кариатида,
сквозь пыльное стекло – татарский минарет.
Губернский городок – тоже знаковая метаморфоза: образ этого утло-жалкого русского места жительства – важнейший мотив у Коробова, и выведен сильно и горько. Городок-голубятня. «Облезлый плакат и продмаг с каланчою пожарной». Провинциальное убожество. Базарная баба, торгующая грибами и рябиной, сплевывает лузгу и доверчиво поглядывает на заезжего столичного профана, который думает о чем-то своем.
О чем думает этот столичный профан?
Друзья судачат о Париже,
о визе грезят, о турне,
хоть выросли в навозной жиже
в глухой российской стороне.
Из них зовет домой не многих
распутица родных дорог...
Прости нас, сирых и убогих,
провинциальный русский Бог!
Бог нас забыл или мы его забыли?
Горше всего Коробову тогда, когда метаморфоза запустения вырастает до образа страны. Страна – нищенка. Страна – пепелище. Страна, бредущая в бреду. Теряющаяся в потемках. Пропадающая в пурге.
«В московской пурге», – уточняет лирический герой, со времен перестройки переселившийся в столицу. Так что нечего вешать собак на перестройку. Не в ней беда, а в вековечном российском ощущении невоплотимости рая, который маячит в тумане и манит в обман.
Зачем? Об этом знает Бог,
что жнет и сеет нас, как травы,
и властно манит за порог,
где нет ни родины, ни славы...
За какой уж там «порог»? За крымский, что ли? Пути теряются в тумане! Сад метаморфоз качается в глазах. Огни и воды едва не поглотили душу – и зачем? Медные трубы не маячат в будущем. Поколение, подцепившееся за поручень перестройки и угодившее из Застоя в Распад, ищет, на что бы опереться душой.
А если не на что? Если пустота?
Поэзия может опереться и на пустоту.
Да как же это? Ведь стихов люди больше не воспринимают! «При полном зале – ни души живой!» Где читатели? Как жить, когда в газетах — сплошная ложь?
Но бог-то – есть. Он и сеет, и жнет. А мы – трава.
Талант – от бога? Куда с талантом-то? Что делать человеку, которому выпал от бога – талант? Какой сад выращивать?
Больничный сад зарос травою.
Сжигают мусор у оград.
И над опавшею листвою
кружит последний листопад.
Больной ребенок сквозь толстые стекла очков наблюдает этот бронзовый листопад.
Потом, когда больное зренье
устанет всматриваться в тьму, –
души ранимые прозренья
помогут мир открыть ему.
Поколению Владимира Коробова – уже шестой десяток. Увидят середину нового века?
А что увидят их дети, пытающиеся сейчас восстановить историческое зрение? Они увидят то, на что мы их зрение настроим. Может, бронзу. А может, прах.
Вот такие метаморфозы.
Впервые опубликовано в журнале «Дружба народов» № 1, 2009 г.
|
Метки: критика |
БЕСЕДЫ О ВНЕВИЗМЕ |
Приглашаем на круглый стол нашего вне-направления!
В.Зимнев

http://pixdaus.com/single.php?id=273996
|
Метки: вневизм |
УСКОЛЬЗАЮЩЕЕ БЫТИЕ. Юрий КУБЛАНОВСКИЙ |
Тем ценнее поэзия тех, кто полагает, что стихотворение не эксцесс, а событие, откровение, кто не растерял в хаосе жизни культурного нравственного отсчета. Есть у Владимира Коробова стихотворение «В больничном саду» – о ребёнке, следящем за листопадом: «…И там, в осеннем запустенье, // За лёгкой дымкой пустоты, // Ребёнок, напрягая зренье, // Следит, как падают листы. // Ему так хочется запомнить // До бесконечных мелочей // И сад болезненно огромный, // И листопад, совсем ничей…»
Статься, поэт ставит перед собой ту же задачу: до мелочей запомнить ускользающее, уходящее бытие, лучшее в нём. И не предать память рано сгоревших друзей. Не поддаться циничной рутине жизни. Его стихи теплы теплом сердца, которое передаётся читателю доверчиво и убеждённо, что тому это нужно. В маленьком этюде, вослед Тютчеву и Анненскому, он умеет передать то огромное, что хоть раз в жизни, да испытал каждый:
Золоточешуйчатая ночь,
влажнофиолетовая глыба
ты из рук выскальзываешь прочь
и ныряешь в бездну, словно рыба.
Облаков колебля плавники,
ты луны выкатываешь око…
Звёзды сбились в стаи, как мальки,
в пригоршне недремлющего Бога.
А читая пейзажные стихи «Сада метаморфоз», я вспомнил замечательно точные слова Василия Розанова: «Кто воспел русскую осень – уж будьте уверены, есть в то же время и
глубоко чувствующий русский гражданин, способный к подвигу, к долгу, к терпению и страданию за родину».
И впрямь: есть ясная и короткая связь между духом творчества, его темой – и нравственно-поведенческими возможностями поэта. В нашем отечественном сознании ещё и по сегодня поэзия не секуляризирована, неотделима от высоких духовных ценностей и религии, стихотворение – это всегда раскаяние:
Язык мой нем, глаза незрячи,
душа убога и пуста,
когда беру я в церкви сдачу
от купленного мной креста.
В полупустом холодном храме
я озираюсь, словно вор,
и медными звеня деньгами,
гляжу в глаза святых в упор.
Как недоступны эти лики!
Какая бездна пролегла
между носившими вериги
и тем, кто чужд добра и зла!
А рядом – молятся старухи
за тех, кто жалок и убог…
И милостыню ждёт безрукий,
ушанку притулив у ног.
И я стою, сутуля плечи,
как будто в мир попал другой,
и машинально ставлю свечи
за упокой, за упокой…
Поэзия – быть может, самый хрупкий из всех родов творчества, менее других зависящий от волевого желания и успешно реализуемой задумки. Феномен написания стихотворения, феномен вдохновения – не подлежит рациональному объяснению. Но убеждён: наша, по крайней мере, поэзия, возникающая на русском, себя ещё покуда не исчерпала. Одно из свидетельств тому – эта книга.
Впервые опубликовано в еженедельнике «Литературная Россия» № 41,
10.10.2008.
|
Метки: критика |
В ПОТОКЕ СВЕТА. Юрий МАМЛЕЕВ |
«Ад» и «сад» (иными словами «рай») существуют в мире поэзии Владимира Коробова одновременно. В этом, на мой взгляд, одна из существенных черт его новой книги «Сад метаморфоз», в которой находим такое стихотворение о бабочке:
Заденет бабочка крылом –
ты отшатнешься с непривычки:
она впорхнула с ветерком
в окно летящей электрички.
И ты замрешь, едва дыша
среди дорожного надсада.
Лугов нарядная душа,
как ты попала в ад из сада?
И за какой невинный грех
тебе судьба – стать горсткой пыли?
Я выпущу тебя при всех,
чтобы не мучилась в бессилье.
Пока еще не так темно,
пока еще в разгаре лето,
лети и ты, душа, в окно
за бабочкой в потоке света.
Казалось бы, неприметный случай. Но истинность поэтического дарования и состоит в том, чтобы рядовое явление жизни суметь наполнить мощной, реально ощутимой символикой. Внимание поэта привлекают мельчайшие приметы сегодняшней жизни – от уличного скрипача в московских подворотнях (стихотворение «Блаженна калеки улыбка…») – до российской глубинки (стихотворение «Городок»), которые служат ему отправной точкой для поэтических медитаций.
Стихи Коробова – это трепетная, проникновенная поэзия, и в то же время глубокая, порой наполненная отзвуками Серебряного века, хотя в целом это совершенно современный поэт, постоянный автор журналов «Новый мир», «Дружба народов», «Континент», «Грани»… В его стихах – озарения, открытость, русская обнаженность души сталкиваются с реалиями нашего жестокого времени. Но он не выпячивает эти реалии, а дает знать о них косвенно, отдельными деталями, что не нарушает целостного лирического настроя, пронизанного нежным сочувствием всему живому, - «что пришло процвесть и умереть», - полного яркими ассоциативными образами. Отсюда – драматизм и отсвет печали, лежащий на большинстве стихотворений сборника:
Я люблю эту осень в полёте,
в напряжённых разводах ветвей,
словно том в золотом переплёте
с серебристым тисненьем дождей,
с фронтисписом укромного сада,
с вензелями чугунных оград,–
эту книгу любви и распада,
эту книгу надежд и утрат.
Несомненно, книга стихотворений «Сад метаморфоз» станет заметным явлением современной поэзии. Лирика Владимира Коробова по своему духу, по своему настрою, по своей способности к состраданию глубоко укоренена в традиции русской литературы. Вся поэтическая аура его творчества говорит об этом.
Впервые опубликовано в «НГ-EXLIBRIS» № 236, 30 октября 2008 г.
|
Метки: критика |
«…У ДРЕВА ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ». Сергей ГОНЦОВ |
О поэзии, как мы её умеем видеть вот здесь, в начале нового тысячелетия,
то есть захватившей век двадцатый и мощную, хаотическую часть века предыдущего, говорить вроде бы несложно. Почему так? Да потому, что она есть.
И от этого никуда не деться. И вот он, уже бесценный дар, от присутствия которого многое меняется вопреки всему, что противостоит гармоническому порядку.
Если в начале девяностых кто-то из даровитых (впрочем, едва ли так уж даровитых) литераторов не без сокрушения говорил, и вполне серьёзно, что время – непоэтическое, неизвестно что под этим положением вещей имея в виду, то сейчас подобные инвективы и невозможны, и неуместны. Да в то время – тоже. Тогда я не стал выяснять, а как же широко и глубоко простирается вот эта «дефективность времени»,– задачи такой не было. «В толпе всё кто-нибудь поёт…» когда-то довольно резко сказал Александр Блок, точно возражая разнообразным помыслам о времени для чего-то непригодном. А вот как умеем видеть и слышать «поющего, чающего, говорящего», это другой разговор.
Как раз в то, «непоэтическое время» я прочёл впервые стихотворения Владимира Коробова. Это были настоящие стихи, вне всякого сомнения. Большой цикл в одном из лучших журналов страны («Литературная учёба»– так традиционно смиренно, а вовсе не в учебно-пролетарском духе именовался богатый и многозвучный религиозно-философский журнал). Тематически это были стихотворения, созвучные «Столбцам» Николая Заболоцкого. Вернее, в них было что-то, напоминающее любимого и Заболоцким, и Коробовым художника Павла Филонова. Технически же всё было устроено Коробовым так, как он сам хотел. Девять стихотворений, среди которых – «Базар», мощный, лироэпический «монументальный фрагмент» то ли Юга как такового, то ли некое детализированное видение внезапной перемены всего состава жизни. И тут уже стороны света ни при чём. Мы остаемся наедине с изощренной живописью и голосом, который на фоне картинного колорита звучит несколько приглушенно, несколько отрываясь, то ли вперёд, то ли обратно, что и создает какую-то удивительную музыкальную яму. Или нишу, это звучит более фундаментально, в греко-римской манере. Но все-таки, вот оправдание «ямы». Пол Маккартни когда-то рассказал, как Бог умудрил его написать легендарный хит «Вчера». Тогда в процессе сочинения или рождения мелодии как раз и возникла «музыкальная яма», которую пришлось заполнить совершенно не предусмотренными до этого звуками скрипки. Что-то подобное происходит в стихах Владимира Коробова. Правда, тут звучат уже самые разные, как рукотворные так и нерукотворные инструменты, от флейты до завывания ветра. А часто звучит просто ландшафт. Возможно, именно это и дало право поэту Виктору Лапшину – автору послесловия к подборке В. Коробова («ЛУ» № 5, 1991) сказать о собрате так: «Владимир Коробов подчас развертывает перед нами широкую панораму, и сквозит в ней земная глубина, и реет свет небесный – не только сочетаемо, но и нераздельно…»
По прошествии лет, это сочетание «земной глубины» и «света небесного» в книге «Сад метаморфоз» воплотилось в полной мере:
Сшивай небесное-земное
своими нитями, снежок,
воображение ночное
и тот, из детства, бережок,
где в синеве маячил парус
и обещал, не то что б рай, –
волны разбившийся стеклярус,
Тавриды богоданный край…
«Крымских стихотворений», кстати сказать, как и самой Тавриды, в сборнике немало (а эта часть мирового круга значительна, многоукладна и совершенна сама по себе и безыскусная встроенность в неё сулит удачу говорящему о вещах важных). «Музы Сицилии петь начинаем важнее предметы…», да, тут как раз вспомнится и Вергилий, и другие античные штудии, хотя живём мы тут в обстоянии ином. Говоря же о Крыме, нельзя не отметить, что Владимир Коробов один из тех, кто блистательно перевёл «Крымские сонеты» Мицкевича, издал и составил лучшую на сегодняшний день антологию стихов о Крыме (М., 2000). И хотя в «Саде метаморфоз» нет переводов из Мицкевича, запомним, что скрытый опыт той работы незримо присутствует и здесь.
Вообще название сборника из числа монументальных, два слова, сочетающиеся так, что образуется некое безразмерное пространство. Сад метаморфоз. Книга перемен. Европейская ночь. Приветствие духа. В сборнике множество и перемен, и внезапного мрака, однако надо всем господствует свет, всякого извода, вплоть до реликтового, приходящего из гигантского далека. Потому что с одной стороны – сад, некое творение рук человеческих, а с другой – деятельность стихий, самых разнообразных, вплоть до ужасающих космических циклов, в сетях которых и терпит земные страдания Божье творение, исказившее Замысел Творца. Эти размышления подвижников первых веков христианства не то, что не устарели, они только сейчас и начинают действовать – для нас.
…Как в разговоре с Владимиром Коробовым я заметил, не собираясь умышленно делать это, что в качестве сжатого, но многозначительного комментария к его стихотворениям можно рассматривать замечательное эссе Юрия Мамлеева – «Опыт восстановления». О чем эти несколько страниц, что стоят иных книг? Да о выходе из какой-то своеобычной бездны, насельниками которой все мы были. И о выходе – куда? А это вопрос. Вроде бы отчасти это возврат в точку, где эта бездна не разверзлась (не миротворная, но всепоглощающая), то есть в каком-то смысле – в культурный слой начала прошлого века. Но в этот дом нет полного возврата. Мы на другой земле, и опыт восстановления тут совершенно иной. Опять же два слова Опыт и Восстановление, образующие сверхобычное пространство.
Необходимо процитировать Мамлеева, старшего современника Коробова (хотя, на мой взгляд, они в более широком смысле представляют одну генерацию): «В Москве еще сохранилось несколько глубоко интеллигентных стариков и старушек, которые знали Блока, Белого, Сологуба, встречались со Шмаковым, Успенским и т.д. мы не раз задавали им вопрос: «на кого мы похожи?» (конечно, в смысле духа поколения»). Единственная ассоциация, которая приходила на ум, это начало двадцатого века. «Здесь, в самих ваших спорах, в поведении, – твердили они, – есть что-то общее».
Моё мнение: да, действительно, общее есть, но только до определенной степени. По ту сторону этой степени – широкое поле, гуляют невиданные ветры, и поют соловьи не из блоковского «Соловьиного сада». Даже очень странные соловьи: наполовину соловьи, наполовину зловещие птицы. Восстановление состоялось; немного вкривь, немного вкось; но главное – вполне невидимо. Так оно, пожалуй, и лучше». Что значит невидимо? Да как тут разобраться с великолепьем нового ландшафта? Разве что одним только творческим усилием и возможно придать ему некие черты, не попадая в старинные ловушки и хитроумно устроенные «мясорубки» и «ведьмины студни» нового извода.
Вот этим и занят Владимир Коробов… «Ад» и «сад» (иными словами «рай») существуют в мире его поэзии одновременно. В этом, на мой взгляд, одна из существенных черт его новой книги» (Ю. Мамлеев, НГ, 30.11.08.). И еще: «Стихи Коробова – это трепетная, проникновенная поэзия и в то же время глубокая, порой наполненная отзвуками Серебряного века (курсив мой – С. Г.).
Мне кажется, что тут в помощь творцу «сада метаморфоз» девятнадцатый век, который никуда не делся, а опять же «невидимо» действует, как некий совершенный мотор. Вероятно, прав академик Гаспаров, по-жречески говоривший, что творения девятнадцатого века мы читаем, принимая элегии, стансы или поэмы того времени за что-то иное, чем они вообще никогда не являлись. В каком-то смысле это так. Но лишь в каком-то. А как же это по-другому читается тут «Смерть дщерью тьмы не назову я…» Да и прочие избранные шедевры.
А что такое «культурная ловушка» начала прошлого века, да и она здесь же.
Но уже в ином качестве.
Блок не СЮДА ли говорил, что следует убрать из его творений «яды» и увидеть… грядущее… Да не будущий ли век? А к этим словам следует отнестись крайне серьезно. Как он говорил тогда же, о «духе пытливости и духе скромности…»
Кажется, что всё это передумал и по-новому воспринял Владимир Коробов.
«Наполовину зловещие птицы» мелькают иногда на страницах его книги (стихотворение «Вороны»). В том смысле, что они птицы ровно наполовину, а другой частью существа иной реальности, пожиратели пространства. Но и эти существа описаны им и зафиксированы как неизбежное зло. То есть пойманы в поэтический силок:
С помоек городских, с веселых похорон,
попарно, стаями, как будто на параде,
торжественно летят, летят со всех сторон
вороны мрачные на пепельном закате.
Им свалка – родина. Трухлявый тополь – трон.
Есть что-то вещее в их траурном наряде,
когда кричат они, срываясь грозно с крон.
И страх растет в душе: их видел мой прапрадед…
Стиль – это человек. Высказывание давнее и точное. И, отдавая дань «потустороннему», даже если это завораживает и чарует, поэт находится в мире здешнем, творимом им из вещей и понятий всем известных. Но делает он с привычным для своей генерации норовом, иногда ворчлив как Петр Вяземский, иногда упрям и насмешлив как Роберт Фрост, несмотря на всю христианскую грусть. А порой сложен и классичен как-то по-бунински, несмотря на внешнюю «наготу» письма.
Как браслет, с твоей руки
ящерица соскользнула…
Вечер. Тлеют огоньки
саклей старого аула.
И как сотни лет назад –
запах дома, хлеба, дыма,
до земли склоненный сад
спелых звезд степного Крыма.
Или:
КУПАЛЬЩИЦА
Клянусь, рожденная волной
на берегу она стояла,
и волосы перебирала –
на струнах арфы золотой
себя, как музыку, играла.
– Вот это «клянусь», внезапно делающее стильный живописный фрагмент
и сюжетным, и жанровым, и незавершенным.
Я люблю эту осень в полёте,
в напряженных разводах ветвей,
словно том в золотом переплёте
с серебристым тисненьем дождей.
С фронтисписом укромного сада,
с вензелями чугунных оград –
эту книгу любви и распада,
эту книгу надежд и утрат…
– А здесь всё выстроено столь мастерски, что вот эти две последние строки и эти венчающие окончания строк «и распада», «и утрат» – как ни странно – действуют неотразимо с обратной силой, обращая к любви и надеждам, сколь ни была бы привычней несравненная скорбь, заброшенность и прочие состояния, обыденные для могучей адской (в каких-то частях) эпохи, которая завершилась. Потому что композиционно впереди и книга жизни, и сад, и классические чугунные ограды, точно светящийся столп, отменяющий печальный исход.
Критикой отмечалось (в частности Владимиром Славецким, обладавшим уникальным слухом) что Коробов (условно, конечно) принадлежит к «бунинской школе». Хотя, на мой взгляд, такой школы не было и нет.
Тут парадокс.
Принадлежит ли к этой школе (как мастер прозы) Виктор Лихоносов, к примеру? Вряд ли. Но тот же Лихоносов писал, что жил, как бунинские герои. То есть многое тут опять же оттуда, из цветущей сложности, что развилась на рубеже 19 и 20-го столетий.
Да что тут гадать! Как некий Моисей, кто-то очень много лет водил большой народ по пустыне, далеко не сорок, а без меры долго, если вести божественный счёт…То есть тут уникальная сложность сменилась уникальной же простотой.
А что сейчас? Да некий баланс неслыханной простоты (от неё теперь так просто не избавишься, да и не нужно этого делать) и новой сложности, динамично развивающей то, что было счастливо устроено на русском Приволье когда-то.
И ни к чему спрашивать, ЧЕГО-ЖЕ тогда не хватило, чтоб удержать этот изумительный расцвет. Ответ может быть дан только здесь. Да и то не в виде окончательной формулировки, мол, вот так-то и так-то, а энергетически.
Как в этом стихотворении В. Коробова, вернее в том ландшафте, который схвачен «неким словесным лучом, незримым никому»:
Мне чувство тревожное это знакомо:
сады зацветают, весна невесома,
и небо набухло дождями, как парус,
развесив на ветках туман и стеклярус;
всё смешано мартом и ветром разрыто,
и пристань волной ошалелой разбита,
и горечью тянет из старого сада…
Но память тревожить напрасно не надо!
Не лучше ли так, в освещенье двояком,
смотреть на маяк, зарастающий мраком,
на грани едва уловимого чувства,
когда вспоминать о прошедшем не грустно…
Откуда это говорится? Да из очарованной точки, в которой время сказочно и неделимо. Простор его темен, дремуч, глубок, но вот как раз тут полон жизни, блеска и силы. Тут и сакральный Тобольск, где поэт родился, и Таврида, в которой происходило «расширение души», говоря в манере Пушкина, и Москва, где многое сразу – и терпение скорбей и неизбежное отсечение их.
Впервые опубликовано в журнале «Город» (Тольятти) № 25, 2009 г.
|
Метки: критика |
САД МЕТАМОРФОЗ. Продолжение. Владимир КОРОБОВ |
* * *
Ветка сирени склонилась в поклоне,
Преобразив красотой
Пыльные стёкла, окно, подоконник
Комнаты полупустой.
Светом залиты тетради и книжки,
Нищенски скудный уют,
Скарб коммунальный. О Господи, слишком
Ярко лучи твои бьют!
Лучше какой-нибудь угол медвежий,
Свиток бескрайней зимы,
Чем этот запах тревожный и нежный,
Веющий властно из тьмы.
Стала пуглива душа и безлика,
Прежний умерился пыл,
И красота – как прямая улика:
Слаб человек и бескрыл.
А за окном разбежались дорожки –
В ад? или, может быть, в рай?
Господи, ветку сирени в окошке
Нищему духом подай.
ЛАСТОЧКА
Вот опять она летает
Над беседкою в саду,
Домик сломанный латает,
Воду черпая в пруду.
И пока шумят народы,
Грозно спорят кто про что, –
С чувством счастья и свободы
Лепит ласточка гнездо.
ВГЛЯДЫВАЯСЬ В НАСТОЯЩЕЕ
1
Поляны,
На которых мы играли в детстве,
Стали кладбищами.
Деревья,
Которые мы посадили,
Заслонили свет окнам – их спилили.
Голуби,
Которых мы гоняли, стали плакатной символикой.
Свисти, не свисти, – им уже никогда не взлететь в небо.
Любимые
Превратились в домохозяек. Ты дожил до седин,
И тебе иногда уступают место в общественном транспорте.
Сядь и смотри:
На мальчика, играющего на поляне,
На дерево, цветущее впервые,
На голубей, летающих в небе,
На девушку, смотрящую мимо тебя…
Вглядываясь в настоящее,
Ты видишь прошлое и будущее одновременно.
2
Возможно,
Однажды кто-то уже написал стихи, подобные твоим,
И тебе об этом скажут,
Возможно.
Возможно,
Однажды кто-то уже признавался в любви, как ты,
И тебе об этом скажут,
Возможно
Возможно,
Однажды кто-то уже увидел мир почти таким же,
И тебе об этом скажут,
Возможно.
Возможно,
Всё уже было… Но молчать, не петь и не плакать,
Не признаваться в любви вновь –
Невозможно!
* * *
Цикада, бабочка, кузнечик,
Холмы полуденные, зной…
Цикория зубчатый венчик,
Сияющий голубизной, –
Приют и отдых стрекозиный,
Звезда над домом муравья,
Когда склонится тенью длинной
Прохладный вечер у ручья.
И ты дорогою земною,
В сандалях, стоптанных до дыр,
Благоговейно стороною
Обходишь хрупкий этот мир,
Под небом звёздным – человечек,
Бредущий горною тропой…
Цикада, бабочка, кузнечик
На равных говорят с тобой.
* * *
Л.
Какой неторенной тропой,
Восстав из тлена,
На Страшный суд пойдём с тобой
Во тьме вселенной?
Всё, чем мы жили – нашу плоть,
Объятья, взгляды
Испепелит в свой час Господь,
Не жди пощады.
Но ты и на краю земли,
В саду распада
Расслышишь голос мой вдали
Сквозь муки ада:
– Любимая, как я любил
Мир этот грешный,
Не променяв на пару крыл
Наш полдень вешний!
* * *
Ты сбросишь платье, словно кокон,
Прильнёшь, забыв о суете, –
Так бабочка у чьих-то окон,
Быть может, бьётся в темноте.
Её страшат заботы утра,
Ей нужен свет запретных свеч,
Чтоб крылья цвета перламутра
На том огне беспечно сжечь.
* * *
В Москву! В Москву!
А что в ней делать?
Москва такая ж глухомань…
Заря за окнами зарделась –
Больная чахлая герань.
Об этом грезилось нам разве
В лугах, где травы и цветы?
В столице суетной погрязли
Провинциальные мечты.
Нет, лучше бы, чем здесь скитаться,
Лысеть и стариться, друг мой, –
В цветущей юности болтаться
В петле курчавой головой.
* * *
На улице метелица
Гуляет, мельтеша…
Глядишь, ещё шевелится,
Болит ещё душа.
Заблудшая? пропащая? –
Прохожим невдомёк,
На самом дне таящая
Небесный огонёк,
Что с силою нездешнею
Несёт бессмертный свет
Сквозь плоть окоченевшую
И жизни этой бред,
Чтоб совесть в ярком пламени
Сияла, горяча, –
В пустой и зябкой храмине
Последняя свеча.
* * *
Н.А.
Всё это не беда,
Мелкая брань товарок…
Вызревшая звезда
В небе и есть подарок
Нищим на Рождество
В зябком проёме арки,
Там, где их божество
Переполняет чарки.
Всё это пустяки,
Грёзы, тоска по Югу…
Рыжие огоньки
Белкой снуют по кругу,
Продребезжит трамвай,
Брызнув на перекрестке
Искрами. Что ж: «Бывай!»
Окон погаснут блёстки.
Всё это, боже мой,
Было всегда и будет…
В юность бы нам, домой –
Кто за сей грех осудит
Пленников здешних мест,
Где бомжевать не просто…
Светит нам Южный Крест
В небе, как средь погоста.
ПОЭТЫ
Кричали с эстрады о вечном,
Горланили спьяну стихи,
А сами, как стадо овечье,
Пугались любой чепухи.
Метались, толкаясь в загоне,
Терпели и стужу, и грязь…
Им снились крылатые кони,
Что мчали их к славе, клубясь.
Но время, листая страницы,
Развеяло многое в прах,
Лишь слов золотые крупицы
Лежат на Господних весах.
|
Метки: поэзия |
САД МЕТАМОРФОЗ. Владимир КОРОБОВ |
Владимир Борисович Коробов родился в городе Тобольске 24 апреля 1953 года. С 1955 по 1988 год жил в Крыму. Окончил Литературный институт имени А.М. Горького (семинар Анатолия Жигулина) и аспирантуру при Литературном институте. В 1983 – 1988 годах работал научным сотрудником Дома-музея А.П. Чехова в Ялте. В 1988 году переехал в Москву. Работал научным сотрудником в ИМЛИ, журналистом, литературным редактором. С 1992 года – член Союза Российских писателей; с 2004 – член Правления Союза российских писателей. Автор книг стихов «Взморье» (М., 1991), «Сад метаморфоз» (М., 2008). Автор-составитель книг: «Путешествие к Чехову» (М., 1996); «Прекрасны вы, брега Тавриды: Крым в русской поэзии» (М., 2000); «А.П. Чехов. Избранные сочинения» (М., 2003); «Лёд и Пламень: современная русская проза и поэзия в 2-х томах» (М., 2009). Перевёл «Крымские сонеты» А. Мицкевича.
Пишет рассказы, эссе, пьесы. Постоянный автор журналов: «Новый мир», «Дружба народов», «Континент» и др. Стихи и рассказы переведены на иностранные языки. Лауреат популярного молодежного журнала «Литературная учеба» (1991) и Международной Артийской премии (1996, 2000). Живет в Москве.
ПЕЙЗАЖ
Нацелено солнце в мишень паутины,
Без промаха бьёт! И ослепшим глазам
Мерещатся – в яркой палитре куртины –
Борисов-Мусатов, Ван-Гог и Сезанн.
Какое скопленье оттенков и цвета!
В траве изумрудной – росы холодок –
В сто раз увеличенный линзою света
И вправленный в лето хрустальный глазок.
Пейзаж онемел, гениально наивен,
Меняя на солнце, как ящер, тона, –
То монументален и декоративен,
То смутно воздушен, как сон и весна.
А там, где природы исчерпаны тубы,
Такие объёмы провидит творец,
Что круглые кроны формуются в кубы,
Взяв зрение мастера за образец.
БАБОЧКА
Как будто вырезана, сшита
Перстами лёгкими, она
Спешит присесть на куст самшита,
Благословляя жизнь. Весна!
Господнее благодаренье –
Благоухающий овраг,
И белой бабочки паренье,
Когда она вступает в брак.
Белянка? Бархатница? Кто ты?
Как безупречен твой узор!
Спеши! Заполнит скоро соты
Июль, и пожелтеет бор.
Лишь только лист земли коснется,
Свой волен замысел стереть
Творец… И значит – остаётся
В небытие перелететь.
БАЗАР
Не лжёт календарь: вот и прожита осень,
Подсчитан доход за базарным лотком.
И дни, словно яблоки, падают оземь
И зимним на вкус отдают холодком.
Окончен сезон. За прилавками пусто.
Распродан «за так» залежалый товар.
И частник глядит безнадежно и грустно
На редких зевак: мол, какой с них навар?
Истлело в садах плодоносное лето,
Сгорело в кострах и рассыпалось в прах!
Грядущего года составлена смета,
Минувшая осень горчит на губах.
На ржавый засов закрывают ворота –
До лета лишился пристанища пёс.
И дворник с похмелья ворчит на кого-то,
Сметая метлой ворох высохших роз.
А были деньки, когда чрево базара
С рассветом росло не по дням – по часам,
И склады ломились, треща от товара,
И трудно держать было тару весам,
И прыгали гирьки, и звякали миски,
И падал, звеня, к пятачку – пятачок,
И влажные груды упругой редиски
В чудесный увязаны были пучок.
О, как над прилавками ловко и быстро
Мелькали ножи! О, как было пестро!
И рыба сияла в сетях серебристо,
И цинковым солнцем слепило ведро!
И прямо у ног, ускользая от жара,
Змеёю ползла, извивалась лоза,
И жёлтая дыня, как жаркая фара,
Пронзительно била прохожим в глаза.
Смотреть на товар просто не было мочи!
Как гейзер, вскипал, завлекая, базар,
Торговки толклись, толковали о Сочи,
И бронзой на лица ложился загар.
А грузчики, злясь, изнывали от пота,
Толпе преподав сквернословья урок.
И в лавке мясной шла такая работа –
Аж брызгала кровь мяснику на сапог!
Вонзался топор, ладно спорилось дело,
Сочилось нутро освежёванных туш,
Лишь мальчик, бледнея, глядел оробело,
Забыв от испуга про золото груш.
Здесь крупною солью на солнце блистало
Копчёное сало с лавровым листом,
Хозяйка купюры, как книгу, листала,
Лиловая печень лежала пластом;
Здесь царствовал торг и ценился обычай
Собакам бросать, хохоча, потроха;
Здесь связки ещё не ощипанной дичи
Томились на крючьях уликой греха.
Роилась толпа и всходила, как тесто,
Рябило в глазах от нарядов и лиц –
Так в клетке, пожалуй что, не было тесно
От пленных щеглов, канареек, синиц.
Там круг знатоков цепенел, созерцая
Свой бойкий, живой, голосистый товар.
Хлопушкой взрывались, взлетев, попугаи!
Казалось, немного – и вспыхнет пожар.
Как нежно сачком извлекались из банки
Мальков и ракушек цветных леденцы!
Дельцы рассуждали о свойствах приманки,
На цены клевали наивно юнцы.
Ныряли в аквариум красные рыбки,
Чьи зыбки казались и хрупки тела,
И смутным подобием детской улыбки
Светились сквозь мутную зелень стекла.
Тут молча, без слов, заключались все сделки,
Скреплялся за первым углом договор,
Тут моря дары превращались в поделки
И ходким товаром был раковин сор,
Тут вольный любитель подводного лова,
Шутя продавал за рапаном – рапан,
И, ухо приставив, вы слышали снова,
Как гулко за трёшку шумит океан.
Вздымались горой привезённые грузы,
И впрок заготовлены были сполна
В короткие сроки: мешки кукурузы,
Орехи, инжир, помидоры, хурма,
Урюк, алыча, кабачки, баклажаны,
Чеснок и маслины, капуста и лук,–
Как будто сошлись все державы и страны,
Края и республики съехались в круг…
О, рынок земной! Допотопность базара,
Кричащая яркость, возвышенный быт,
Обыденность чуда, божественность дара,
Твой смысл не банален и стиль не избит!
Пусть в небе летят над тобой самолёты,
Проносятся мимо, свистя, поезда,–
Устройство твоё совершенно, как соты,
Прекрасна людская твоя суета!
Люблю, затерявшись в толпе, бесконечно
Глазеть на базар, словно в калейдоскоп,
Где звёзды узоров, меняясь беспечно,
Не знают повторов, как в детстве… И чтоб
Тянулось блаженство, где всё не случайно,
Где каждый прохожий – желаемый гость.
О, только б не верить упрямо, что тайна –
Лишь зренья обман, жалких стёклышек горсть!
* * *
Как браслет, с твоей руки
Ящерица соскользнула…
Вечер. Тлеют огоньки
Саклей старого аула.
И как сотни лет назад –
Запах дома, хлеба, дыма,
До земли склоненный сад
Спелых звезд степного Крыма.
КУПАЛЬЩИЦА
Клянусь, рождённая волной
На берегу она стояла,
И волосы перебирала –
На струнах арфы золотой
Себя, как музыку, играла.
* * *
Я люблю эту осень в полёте,
В напряжённых разводах ветвей,
Словно том в золотом переплёте
С серебристым тисненьем дождей,
С фронтисписом укромного сада,
С вензелями чугунных оград,–
Эту книгу любви и распада,
Эту книгу надежд и утрат.
В ЦЕРКВИ
Язык мой нем, глаза незрячи,
Душа убога и пуста,
Когда беру я в церкви сдачу
От купленного мной креста.
В полупустом холодном храме
Я озираюсь, словно вор,
И медными звеня деньгами,
Гляжу в глаза святых в упор.
Как недоступны эти лики!
Какая бездна пролегла
Между носившими вериги
И тем, кто чужд добра и зла!
А рядом – молятся старухи
За тех, кто жалок и убог…
И милостыню ждёт безрукий,
Ушанку притулив у ног.
И я стою, сутуля плечи,
Как будто в мир попал другой,
И машинально ставлю свечи
За упокой, за упокой…
МОЁ ПОКОЛЕНИЕ
Мы жаждали правды, искали успеха –
Нам в лица бросали булыжники смеха!
Пока на парадах палили из пушек,
Мы души сгноили в подвалах пивнушек.
Какие мы, к чёрту, поэты, пророки –
Мы кожей впитали эпохи пороки,
И, не протрезвев от повальной попойки,
Вскочили случайно в трамвай перестройки.
Метки: поэзия |
Светлой памяти Юрия Шестакова |
Он был одним из первых, кто откликнулся на наше новое вне-течение и предложил свои строки для публикации:
http://www.liveinternet.ru/users/vnevizm/post120928147
http://www.liveinternet.ru/users/vnevizm/post123698902
Ирина Важинская написала о его творчестве эссе, также опубликованное в нашем блоге:
"Поэзия синтеза. О поэзии Ю.Шестакова"
http://www.liveinternet.ru/users/vnevizm/post123699177
|
Метки: юрий шестаков |
ОДИННАДЦАТОЕ СЕРЕБРЯ. Алексей Филимонов |
проступает лик иной:
словно кто-то небо пашет,
зачарован синевой.
Лик подводный и надводный,
земляной и огневой,
с расстояния подробный,
а вблизи почти живой.
Настигающий лавиной,
эхом "вечно" и "тогда".
Воскресающий невинных,
лиц, смотрящих сквозь года:
от воздушного погоста
до проталины земной, -
небо пусто и межзвёздно,
башни тают под луной.
2001-2010
|
Метки: поэзия |
УНИКАЛЬНОСТЬ, КАК ПРИНЦИП МИРОЗДАНИЯ. Михаил Куденко |
Мини-эссе к вопросу о создании Новой Цивилизации.
Правду говорить легко и приятно
М.А.Булгаков. “Мастер и Маргарита”
Всего превыше: верен будь себе.
Тогда, как утро следует за ночью,
Не будешь вероломным ты ни с кем
У.Шекспир. “Гамлет”
В классическом христианском богословии принято говорить о трех унижениях человека, которыми наука противопоставила себя Богу – Верховному Художнику, как Его величал Леонардо да Винчи.Но кроме Н. Коперника, Ч. Дарвина и З. Фрейда, можно говорить и о других унижениях человека. Например, К. Маркс показал, что классы значимее, больше и важнее личности, и потому общественное благо следует ставить выше блага персонального.Но пионеров «движения унижения» следует искать в Ветхом Завете: праотец Адам унизил нас, во-первых. Каин, убивший своего брата Авеля, во-вторых. Тот, кто первым принудил другого человека к рабству, в-третьих.
Есть ли философская надежда выйти из этого унижения? Или в эгоизме своем Человечество совсем уж безнадежно? И следует спокойно, с молитвой и предвкушением Вечного блаженства, ожидать Апокалипсиса?
Надежда есть, и эту надежду следует связывать с Уникальностью и ни с чем иным, кроме неё.
Вглядываясь в философскую категорию «Уникальность», мы начинаем в начале 3-го тысячелетия от Р. Х. понимать её высшую, по сравнению с исторически привычным для нас философским уровнем, иерархию и, в этом новом качестве, обнаруживаем тотчас её поражающие наше воображение восхитительные свойства.
Уникальность – это Принцип Мироздания – и, как принцип, она приводит сначала к постепенному, а затем и к полному, окончательному исчезновению пренебрежения, высокомерия, зависти, чванства, хамства, соперничества, злости, иронии, оскорблений, унижений, претензий, небрежности, эгоизма, страстей, самонадеянности, самолюбования.
Уникальность неожиданно для нас самих начинает, как добрый дядюшка, подталкивать нас тактично и ненавязчиво к лучшему, к Десяти заповедям Моисеевым: лгать становится ненужным, скучным и пустым занятием; убивать – бессмысленным; завидовать – некому; желать чужого – не к чему. Высвобождается громадное, беспримерное в историческом измерении количество свободного времени – всё время! – для занятий наукой и искусствами, для любви и познания гармонии. И всё потому, что сама Уникальность – составная часть Гармонии Вселенской!
И внимать – по своей глубокой сути – воплю Господа Иисуса Христа со креста Своего: «Люди! Любите-любите-любите друг друга!», – становится вдруг легко и приятно, понятно и действенно.
Исчезает всякая, любая(!) почва для конфликта и на общественном, и на производственном, и на бытовом уровнях!
Исчезает перед другой личностью чувство превосходства любого рода и любого происхождения, но также убегает-улетает-растворяется чувство ущербности или самоуничижения по отношению к кому-либо – как сахар в горячем чае становится вдруг невидимым. Вдруг, тотчас, как туман науки в голове недоросля при дневном, солнечном свете от солнечных же лучей-пояснений старичка профессора, исчезает-уносится дух состязательности. Почему это? Потому что вдруг и тотчас Принцип Бинарности – еще один из Принципов Мироздания – встает во весь свой гигантский рост и заявляет о себе и своих фундаментальных правах в самой резкой и категоричной форме – в уникальности вы остаетесь наедине с Богом. Вы и Бог – чудесная пара-бинарность и великолепный во всей своей фундаментальной красе пример. Вам не остается в своей уникальности ничего другого как соревноваться только самим собой, не с Богом, лишь спрашивая Его – Альфу и Омегу, Первого и Последнего, Высшую Высоту и Низшее Самоуничижение, строгого Бога Отца и милосерднейшего Господа Иисуса Христа и Главного Утешителя- Святого Духа – насколько вам удается соответствовать и развивать ваши, данные Ими вам при рождении, таланты? Интересуясь лишь одним – насколько вы своею жизнью и послушанием соответствуете Их замыслу? И всё, и больше ничего другого! И разве это не прекрасно, хочу спросить я вас? Разве это не найдет отклика в вашей душе? В вас, созданных по образу и подобию Божьему? В вас, созданных только для любви и гармонии? В вас, сотворенных только для занятий науками и искусством? Думайте, выбор-то за вами…
На уровне психологии семейных отношений уникальность не работает,
не играет; потому, что на том уровне она является чужеродной; потому что на том уровне совсем другие доминанты: материальный достаток, физическое здоровье, сексуальная удовлетворенность, культурная высота, эмоциональная совместимость, чип образованности, – которые у каждой уникальной семейной пары имеют свою уникальную иерархию и свою же приоритетную последовательность. И эти милые доминанты вышибают уникальность, как мы не будем стараться её туда засунуть, и наши желание и усилия добиться требуемого результата будут сродни попытке впихнуть теленка в малогабаритный холодильник. Если это и удается, то лишь на короткое время – пока мы подпираем плечом дверцу. Как мы не будем превозносить уникальность и философию, но когда хочется кушать, тянет не к метафизике, а к мясу и хлебу. Уникальность в быту чрезвычайно похожа на хрустальную туфельку Золушки, которая была немного великовата и самой падчерице, и с трудом одевалась на ногу старшей сестрице, непременно слетая с ножки и доброй девушки, и с ноги девушки не доброй. Уникальность здесь воспринимается позитивно весьма непродолжительное время – пока мы о ней говорим друг другу, пока сидим и надеваем туфельку на ногу, а как только у нас возникает потребность или необходимость пройтись немного или потанцевать – теряем её.
Всякой истине своё место под солнцем, а всякой вещи своё место в шкафу, а всякой коробке своё место на стеллаже склада, как и всякому продукту питания своего размера своё место на полке в холодильнике. Ничего особенного…
Уникальность слегка вмешивается в семейные отношения, в одном единственном и исключительном для современного общества случае, – когда она покоится на «геркулесовых столбах»: культуре, воспитании и знании; большой жизненный опыт выступает тогда в качестве и свойстве “первой производной” при дифференциальном исчислении, как выразился бы математик. Она начинает «работать» тогда, когда в ней отпадает большая надобность, когда в ней отсутствует практический смысл, когда смешно и невозможно её практическое применение – в старости. А советы мудрецов и родителей об уникальности и о чем-либо другом – любые советы! – девочкам и мальчикам, развесёлым слушателям, малоинтересны, если только большой «мудрец» – не ваш научный руководитель, или дело не идет об очень или очень-очень большом наследстве.
Уникальность на семейно-бытовом возвышении – это Гулливер в стране Великанов – его никто не замечает, а заметив, всерьез не обращает внимания; это медоносная пчела, залетевшая на кухню. Она и красива и полезность её известна, но от неё отмахиваются – мешает варить варенье.
А.Линкольн был не успешен в своей политической деятельности до тех пор, пока не был избран на должность президента США. Он один из самых выдающихся президентов за всю историю США и общепризнанная полная посредственность во всех предшествующих политических должностях.
А. Линкольн и Уникальность – производят большое впечатление только на своём месте!
Уникальность же в основании Мироздания – это один из тех Китов, на которых, по мнению древних, и покоится Земной шар, никак иначе.
УНИКАЛЬНОСТЬ, КАК КАЧЕСТВО ДУШИ,
– КОСТНЫЙ МОЗГ НОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ.
КТО УЧАСТВУЕТ???
|
Метки: вневизм |
Процитировано 2 раз
Вечер памяти И.Ф.Анненского, предвосхитившего Вневизм |
1 декабря 2010 г. в Доме писателя состоялся литературно-музыкальный вечер, посвящённый 155-летию Иннокентия Анненского (1855-1909).
С докладом о жизни и творчестве И.Ф.Анненского, на фоне репродукции Бенуа, выступил прозаик и переводчик, профессор Университета ЛИТМО Александр Новиков, рассмотревший особенности стихотворных переводов поэта Серебряного века.
О мистическом Петербурге в творчестве И.Анненского рассказал известный критик и литературовед Михаил Коносов.
Редактор альманаха «Синь апельсина» поэт и переводчик Ольга Соколова зачитала эссе на тему: «Иннокентий Анненский и новейшее направление пост-символизма ВНЕВИЗМ».
Выступали также: Татьяна Грачёва, Сергей Стукало, Марина Марьян и другие участники памятного вечера.
Фотографии
|
Метки: вневизм |
К теме "теней" Иннокентия Анненского |
ЗАКАТ В ПОЛЫНЬЕ
Повторяю фамилию: – Анненский, –
черный дождь и асфальт-антрацит
отражает осколки державинских
од, близ коих мерцает Коцит.
За реку проплывают вагоны,
дотлевает закат в полынье.
Гумилева блеснули погоны,
растворяясь в блокадном огне.
БЕЗЛИКИЕ ТЕНИ
Теней между дерев
я слышу лёгкий ропот.
Надежда или гнев?
Кому их нежный опыт?..
Скользящие извне
по сумеркам апреля,
где белка в полусне
восходит в сини хмеля.
...Стеная, сквозь меня
проходят в укоризне,
губами шевеля,
близ предстоящей жизни.
ПЕРЕВОДЫ
Так любит мать, и лишь больных детей…
И.Анненский
Непонятая фраза – как монгол
базальтовый – опять в себя сместилась.
Парк Чёрен, недвижим, точнее, гол, –
как слово угадать, что только снилось?
Да, ночью лишь он ощущал слова,
готовые родиться… Но уродом
стих вышел… Вдруг упала голова,
и голоса: – Подушку с кислородом!
Теперь он дышит: воздухом высот,
на островах, среди лугов альпийских.
Не помнит краткосрочный перелёт
сюда, к стихам – родным своим и близким…
Я ВСТРЕТИЛ ТЕНЬ
Гуляя по задумчивому саду,
я встретил тень, похожую на сон,
и в сырости сквозного листопада
похищен ей и в бездну занесен.
А здесь все те же сумерки сквозные,
все реже выбираюсь я сюда,
где выкликаю средь деревьев имя,
чтобы похитить сердце навсегда.
Перенеся в забвение без боли,
в предчувствии осенних холодов,
ту синеву, где безымянны роли
шута и принца траурных веков.
АНГЕЛ-СЕРДЦЕ
Вода, босая, шлёпала по лужам,
и алый сумрак проступал везде,
и ангел окрылённый был не нужен
томительному странному Нигде.
Никто дрожал у синего подъезда,
зияла бездна на восьми ветрах,
и ангел, потаенный и не местный,
свет окровавил у людей впотьмах.
Так им казалось - он заправил сердце,
в лампаду снов он превратил сосуд,
и масло неземного иноверца
любовь творило и вершило суд.
Сиянием надмирным и пристрастным,
и претворяло в вечности вино,
то, что дождём казалось беспристрастным,
и ткало манны саван-полотно.
13 ДЕКАБРЯ
Анненского голос чуткий,
красота развоплощений.
И кондуктор песнопений
в неземные промежутки.
Не о тех и ниоткуда,
но, двойник сереброкрылый,
тень объемлет на перилах –
и уже предвидит чудо.
Откровений и предместий
вдруг откроется шлагбаум,
и знамением усталым
озарит презренья вестник.
Где из вечности токката –
гул перрона нелюдимый,
обретается в едином
венчике строфы распятой.
Алексей ФИЛИМОНОВ
|
Метки: поэзия |
СМЕРТЬ БЕЛЛЫ АХМАДУЛЛИНОЙ. Евгений Вербицкий. |
как повелел Господь...
оцепененье
при извещеньи вызывает шок
и паралич безмолвного смятенья.
Поэт ушел... но где-то, в небесах,
воркуют ангелы, справляя тризну,
и в Храме, в Переделкине, монах
готовит душу для загробной жизни.
30.11.2010
Констанц, Германия
|
Метки: поэзия |
ЯВЬ И МИСТИКА АЛЕКСАНДРА БЛОКА |
О, я хочу безумно жить…
А.Блок.
Существует почти неопровержимое мнение о Блоке, что он поэт-мистик. Лик его музы – Незнакомки, Девы Революции, Девушки из Spoleto – всегда в дымке, словно различаемый им за вуалью в духовидении: «Дыша духами и туманами, Она садится у окна». Но полагал ли так сам поэт, вглядываясь «В холод и мрак грядущих дней» и преодолевая распад мира в предощущении, когда «…мир опять предстанет странным, / Закутанным в цветной туман» открытий и новизны? Такие мгновения гармонии – радуга счастья, преломляющая сонные испарения Петрограда – некая оптическая линза, не затемняющая, но отворяющая истинный свет, когда грядёт «звонко-синий час» пробуждения духа. Блок, по выражению Ахматовой, «трагический тенор эпохи», чьи образы тревожны, многозначны и просветляющи – один из немногих символистов по своей сути. Столкновение полярных начал – мистики и метафизики – высекает искру гармонии «Из равновесья диких сил» (Боратынский) в блоковской лирике.
Блок словно оттуда, из иных миров, жаждущий мгновения, «Когда божественный глагол / До слуха нежного коснётся» (А.Пушкин), чтобы преобразить лучом отвне искусство и жизнь:
Простим угрюмство – разве это
Сокрытый двигатель его?
Он весь – дитя добра и света,
Он весь – свободы торжество!
Даниил Андреев поведал о трагическом «падении вестника», но такова была судьба России, разделённая поэтом «У стен Московского Кремля» и в небесной отчизне «На поле Куликовом»:
Испепеляющие годы!
Безумья ль в вас, надежды ль весть?
От дней войны, от дней свободы –
Кровавый отсвет в лицах есть.
«Было так ясно на лике его: / Царство моё не от мира сего», – писала Марина Цветаева о поэте, которому судьбою было дано «…поднять внешние покровы, чтобы открыть глубину» и пересотворить музыку вечности в полнозвучие чаши стиха: «От знака, которым поэзия отмечает на лету… никто не может уклониться, так же как от смерти», - свидетельствовал Блок в статье «О назначении поэта».
Сто лет назад произошел кризис символизма как литературного направления, во многом противоречивого. Но поэзия Блока продолжилась, ибо символистом можно только родиться, как написал он. Блок никогда не рвал связь с миром реальности, в этом его отличие от декадентов – никакого своеволия и смешения понятий добра и зла. Природа у него, как у Тютчева, «не слепок, не бездушный лик». Блок одним из первых поднял проблему саморазрушающейся технократической цивилизации, провидя драму единения и разлада человека с миром техники, в строках о «летуне»:
О стальная, бесстрастная птица,
Чем ты можешь прославить творца?
В серых сферах летай и скитайся,
Пусть оркестр на трибуне гремит,
Но под лёгкую музыку вальса
Остановится сердце – и винт.
Блок вопрошал и судил человеческое начало, прежде всего себя, слыша неумолимые «Шаги Командора». Один из его нередких образов – луч, несущий весть от всадника смерти Апокалипсиса, простирающийся к бездне и ожидающий отклика, «Когда оттуда ринутся лучи» запредельной свободы, – но всегда возвращающийся озарением в «страшный мир»: «И опять мы к тебе, Россия, / Добрели из чужой земли».
Магия очарования блоковских строф, которые устремляются к нам просветляющим потоком, – в той первозданной созвучности мировой душе, какие бы мрачные тему не поднимал поэт, говоря о надломе, усталости, грядущих катастрофах. Некрасовская тема «страданий народа» пересотворена в поэме «Двенадцать»: матросы целятся во Христа, что сулит погибель миру, следующему за «музыкой революции».
Критик Георгий Адамович вспоминал, что всегда сдержанный: «…Ходасевич сказал: “Что тут говорить, был Пушкин и был Блок… Всё остальное – между!”». Блок вобрал в себя всю поэзию послепушкинскую – от гневной лиры Некрасова до тютчевско-фетовского тайнослышанья, и жизни гибельный пожар» преследовал его с нотами Аполлона Григорьева и тенями героев Достоевского. «Но достойней за тяжёлым плугом / В свежих росах поутру идти!» - восклицал поэт, над кем «не властен хоровод».
Этот прозрачный мистицизм был загадкой Блока. Его арфы и скрипки примиряли два начала – пурпур духовного посвящения и бледно-серое марево петербургской почвы – разрушительные для человека. «Твой неяркий, пурпурово-серый, / Не однажды мной видимый круг». Такой он видел Музу, и на своём двойнике – «Печать забвенья иль избранья».
Блок словно написал о себе самом в статье «Рыцарь-монах», посвященной памяти духовидца, автора «Трёх свиданий» с Софийностью, Владимира Соловьёва: «Во взгляде Соловьёва, который он случайно остановил на мне в тот день, была бездонная синева: полная отрешённость и готовность совершить последний шаг; то был уже чистый дух: точно не живой человек, а изображение: очерк, символ, чертёж. Одинокий странник шествовал по улице города призраков…». В городе «Медного всадника» вечны блоковские ямбы: «Ночь, улица, фонарь, аптека», и «сияющая пустота» отчаяния преодолеваема музыкой его строк, хранящих «к людям на безлюдьи / Неразделённую любовь»!
Метки: критика |