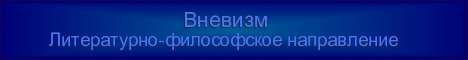-Рубрики
- Поэзия (94)
- Метафизика (43)
- Критика (32)
- Стихотворения (11)
- Проза (8)
- Полемика (6)
-Музыка
- The Clouds
- Слушали: 1699 Комментарии: 0
-Друзья
-Постоянные читатели
-Сообщества
-Статистика
Памяти НИКОЛАЯ ГУМИЛЁВА. |
ТРАМВАЙ НИОТКУДА
Памяти Н.Гумилёва
Сгустившись, воздух, неприкаян
оставил в сумраке сыром
сквозные контуры трамвая –
сей остов, канувший в былом.
Где пассажиры? Где кондуктор?
Звонок лишь глухо дребезжит,
да искры сыплются, как будто
в небесных струнах ток бежит.
И проплывает Всадник Медный
по стёклам зыбким, над Невой,
и купол вознесён победный
Исаакия – над синевой.
Открыты двери – и подножка
зовёт ушедшего – сойти
на землю, в полдень позапрошлый,
остановившийся в пути
на поднебесье…
И забравший
с собой поэта навсегда,
трамвай, проржавленный и страшный,
восходит снова – в никуда…
18 августа1998
КОРНИЛОВ
Он с Африки - далекой стороны.
Б.К.
Говорит с Гумилевым в раю:
- Мне без Африки той невозможно.
Абиссинскую бездну пою,
синеву, что близка и тревожна.
За арапскую землю мою,
за стихи о пустынном пророке,
я погибну - в небесном бою,
но воскресну - сквозь дивные строки.
Африканские бьют барабаны
сквозь игольчатые века.
И на берег отчизны туманной
возвращаются два рыбака.
К тайне пушкинского пророка,
чьи глаголы пылают глубоко.
08.02.2007 17:14
НОЧНЫЕ СТЕПИ
Памяти Льва Гумилева
Степная сухость языка.
Звезда, мерцавшая в гортани.
– Сей путь прочерчен сквозь века,
гремя еще при Тамерлане.
Иное воинство – у врат
Небесных – жаждет искупленья. –
Вдали кровавился закат –
непокорённые владенья.
Нога ступала в миражи,
что в беспредельности повисли.
Теперь не стекла – витражи
хранят стихи, века и мысли.
ТЯЖБА
Блок будто спорил с Гумилёвым,
о чём–то глухо и тайком.
Одним пронизанные словом,
пред смертью мыслили – о Ком?
О слове вечном и едином,
пред нелюдимым Алтарём.
То был за Слово поединок,
или моление – о Нём?
21 октября 2004
БЛИЗ ГУМИЛЁВА
Внезапно лёгкий лоскуток
оттенков рдяно-первобытных
мгновенно на душу мне лёг
и - был таков, бездонный свиток.
В холодном воздухе ещё
под бледностью очарованья,
где солнце влажно-горячо,
и нет мелькнувшему названья.
Где бродит странный Гумилёв -
в щемящем парке без эпохи,
мечтая отраженья слов
сложить в неповторимом вдохе.
И на мгновение застыв
перед мерцавшим аполлоном,
увидеть, как слова просты
в грядущем мареве зелёном.
ЗАКАТ В ПОЛЫНЬЕ
Повторяю фамилию: – Анненский, –
чёрный дождь и асфальт-антрацит
отражает осколки державинских
од, близ коих мерцает Коцит.
За реку проплывают вагоны,
дотлевает закат в полынье.
Гумилёва блеснули погоны,
растворяясь в блокадном огне.
30 октября 2008
ТРАМВАЙ НАД ОХТОЙ
Нагие сумерки трамвая,
дрожат плакатные дома,
и в нерастраченности тая,
и по булыжнику звеня,
роняя искры провозвестья,
и не подхваченный пока,
кондуктор лагерный воскреснет,
где рельсы тянут облака.
Над Большеохтинским, Литейным,
полубессмертным, слюдяным,
и свет фонарный, безраздельный
на небесах пребудет с ним.
Мелькают бабочек гирлянды -
реклама бездны в пустоте,
трамвай опять застудит гланды
в незатворимой высоте.
Где ответвления незримы,
и шпал воскресных чешуя,
и пассажиры-пилигримы
острожники небытия.
Метки: поэзия |
Валентин КУРБАТОВ. РОЛИ ИСПОЛНЯЛИ... |
РОЛИ ИСПОЛНЯЛИ…
Прочитал у Томаса Манна в «Докторе Фаустусе» про то, как «исхищренная, вещая сверхутонченная музыка (герой пишет цикл песен на стихи К.Брентано) в непрестанных муках домогается народной мелодии», и остановился в смятении. Какая это трудная и какая сегодняшняя правда, что высокое искусство только бьется в поисках народной простоты и обессиленно отступает. И дальше у Манна уже почти формула: «Это можно назвать эстетически эффектным парадоксом культуры: поворачивая вспять естественную эволюцию, сложное духовное уже не развивается из элементарного, а берет на себя роль изначального, из которого и силится родиться первозданная простота», ив другом месте еще решительнее о «деградации от детски-народного к причудливо-призрачному».
Это немножко по-немецки громоздко и на первый взгляд относится к одним тонкостям искусства. А на деле-то – ко всему происходящему сегодня с человеком, да и с человечеством (пишет-то немец). Чтобы поестественнее выйти из музыки на просторное поле повседневности, вспомню еще, как давно прочитал у старого русского писателя Владимира Сологуба в его мемуаре о Глинке и подчеркнул для себя: «В его музыке не было ничего вульгарного, грубого, недоделанного, изысканного». Какой странный ряд, и как у него рядом грубое и изысканное. А мы-то «изысканное» чуть не к похвалам относили, чуть не по аристократии проводили. А он, аристократ-то (граф Сологуб) вон как! И, видите, как близко к манновской «исхищренной музыке». Скоро и догадаешься, что изысканность – только знак глухоты к подлинному, знак неумения пробиться к существу явления.
Художник кружит в словах (давайте о слове – тут все понятнее и роднее), преследуя явление или чувство, но не умеет ухватить его зерна, косточки в нем, и вместо того, чтобы сказать нам о сердце того, что мучает его, предлагает набор платьев, гардероб приблизительных одежд. И ему-то вот, как манновскому композитору Леверкюну кажется, что он ухватил ключ, родник первомузыки, а выходит одна «сверхутонченность». И происходит это именно потому, что «сложное духовное уже не развивается из элементарного, а берет на себя роль изначального».
Как мы действительно долго живем со словом и в слове! И уж столько раз подвергали его испытаниям разных контекстов, что оно постепенно расшаталось. Вот и тут как-то почти обидно: неужели «сложное духовное» должно развиваться «из элементарного» - так мы успели унизить и презреть «элементарность», тогда как она только первоначало мира, та самая косточка, адамово название. Вон даже и Толстому пушкинская «Капитанская дочка» кажется написана «голо как-то» и хочется потоньше и посложнее. И сравнить сейчас родниковую простоту Пушкина с изобретательной, порой прямо прустовской образностью «Анны Карениной», так и увидишь, как Толстой уже преследует паутинные оттенки чувства, так что хочется при чтении увернуться, словно он и тебя видит насквозь. Хотя они оба еще там - в жизни, в изначальности, в «первозданной простоте», так что Б.Зайцев и о Толстом сказал, что он «взял и голыми руками написал «Войну и мир». И настоящий поворот «естественной эволюции» начнется все-таки позже.
Что же это за поворот, тревоживший Манна в своем герое и который, когда мы как следует поглядим, и нас уже настиг, а мы только обманываем себя, что с нашей эволюцией все в порядке и никакая она не обратная. Поворот тут же у Манна и сформулирован именно в словах «берет на себя роль изначального». Безжалостно и точно: «берет роль». Все мы теперь «в роли». Без «изначального-то» никуда не деться – куда душе без основы? А основы-то там уже и нет. Там уж вместо почвы давно одни слова о ней. Вот и приходится притворяться, что все на месте, что крестьянин по-прежнему крестьянин и креста с себя не снимал, а рабочий – рабочий.
Никак не забуду, как летом, когда мы плыли по Ангаре, по ложу будущего водохранилища Богучанской ГЭС, старухи в беседе с Распутиным умело изображали старух, потому что уже из литературы знали, чего ждет от них русский писатель. А он только мрачнел и отворачивался, потому что «роль» эту видел. И их-то, правда, особенно не обвинишь – их топят кого второй, а кого и третий раз, перевозят из «старости» в «новость». И они, уже потерявшие родину и читавшие «Матеру», рады обещанному городу, чтобы не сидеть на чемоданах. А в печаль по уже умершему в их сердце давно опустевшему селу уже только искренне играют.
Мы, кажется, и все уже давно и незаметно съехали в игру, и кто умело, а кто так себе играем в чиновников, законодателей, членов партии (ни за что не поверю, что в России возможна теперь строгая, готовая на смерть за свое дело и идею партия - а без этого она одна бесстыдная жажда власти).
Как это почувствовал еще перед войной умный нидерландец Йохан Хёйзинга, увидевший механизм игры во всей мировой культуре. Он в философии, а рядом с ним в те же годы не менее ярко в прозе тот же Т.Манн, Г.Гессе в «Игре в бисер» и М.Булгаков в «Мастере и Маргарите».
Да только мы говорим о другом. Всегда человек играл, настолько, что и в войне умудрялся видеть «театр военных действий» и в низкой политике – «арену». Но там это еще была игра опасная, потому что ее материей была жизнь. Игра была формой усвоения и приручения жизни, способом её называния, продолжением длящейся работы по словесному определению мира. Но уже формой беспокойной, раз художники и философы разом «заметили» её. Почему и «Доктор Фаустус», и «Игра в бисер», и «Мастер» воспринимались так горячо, так всеобще и так тревожно. В них была граница. Дальше слово разрывало с Творцом и уверялось в собственной власти. Слово было уже не в начале, а в конце и уже только притворялось начальным. Хотело быть жизнью, но уже не умело быть ею.
Слово перестало быть плотью. Это страшно договаривать до конца, потому что в первом значении оно было сказано о Боге – «стало плотью и обитало с нами» и было Христос. Неизбежным следствием разрыва слова с небом, как оно до этого уже разорвало связи с землей, явилось естественное множество сект, пустившихся в игру на полях Евангелия. Со словом, лишенным корней, стало можно обращаться как угодно. За него уже не надо было отвечать на Страшном суде, потому что и сам Страшный суд стал только метафорой.
Вот почему манновский Леверкюн из «Доктора Фаустуса» со своей «исхищренной музыкой» кончил прямым договором с чертом, переняв этого иронического собеседника Ивана Карамазова в свои «соавторы». И Йозеф Кнехт, великий магистр из «Игры в бисер», почувствовав опасность холодной виртуозности самовластного ума, попытался выйти из игры, но уже не мог сделать этого и Бог знает, по своей ли воле ушел на дно горного озера. И Мастер летел на крылатом коне с темным Воландом в объятия ночи, чтобы возвестить пятому прокуратору Иудеи Понтию Пилату «Свободен! Свободен!» и чтобы кто-то за это отпустил и самого Мастера на свободу в пустоту покоя с потухшей памятью. И, думаю, что этот кто-то не был Спаситель.
…И тут я неожиданно останавливаюсь в смущении, потому что вспоминаю, что уже писал об этом в старых своих дневниках в 1988 году, когда, читая Хомякова, дивился, что уже и его тревожило, что на место национально целостного живого существования, да и просто жизни приходит «вера в художество, в славу, в прекрасное», хотя он еще и думать не думал, как далеко зайдет в нас эта «вера в художество и в славу». Тогда же я, оказывается, уже подчеркивал у О.Михайлова, что «никакая общая мысль не связует более народов и жизнь иссякает в своих источниках» и в 1993-м страшился «мертвого наступательного и внутреннее неуверенного интеллектуализма» (ах, когда бы «неуверенного»). А уж в 95-м и не дивился, когда «живым классиком, символом новой русской культуры» числился Д.А.Пригов, вздыхавший, что вот уже и постмодернизм клонится к кризису, хотя «идущие во главе колонны лучшие современные художники Рубинштейн, Сорокин, Пепперштейн и отчасти Кибиров еще как-то пытаются найти выход из кризиса постмодернизма».
Пора было привыкнуть, читая Д.Бавильского и А.Бузулукова, В.Пелевина и Б.Евсеева, В.Микушевича и М.Палей, Д.Пригова и о, Славникову, что мир давно только повод к тексту. Да и не повод даже, а сам текст, постмодернистское произведение, которое так весело переписывать «от руки», уже не обременяясь, как комплексующие старики Т.Манн, Г.Гессе или М.Булгаков тоской по «первозданной простоте».
А вот отчего-то не привыкается к оскорблению организма жизни, обращению его в механизм. Жизнь вскидывается, ища защиты. И живой человек в тебе сопротивляется ссылке в симулякры и плоские персонажи для забавы литературных своевольников. Ты-то, может, себя и предашь, да Бог еще за тебя постоит, и ты узнаешь благословенную тоску по «элементарному» и «детски-народному». И «обратная эволюция» еще подождет с окончательным торжеством.
Помните, что было сказано ученикам в Гефсиманском саду: «Бодрствуйте и молитесь!» Но сон был сильнее их. Они еще не знали, чем обернется их сонливость.
Но мы-то знаем! Что же сон всё смежает нам веки?
Валентин Курбатов
Псков
Метки: критика |
Валентин КУРБАТОВ. ВЁРСТЫ ПОЛОСАТЫ... |
ВЁРСТЫ ПОЛОСАТЫ...
Не хочет и всё русская история слушать умных людей. Я давно и простодушно думаю об этом, иногда срываясь в досаду, а чаще уже просто качая головой, словно перед явлением природы: ну что скажешь, если дожди некстати или морозы невпопад – не тогда, когда людям надо. Смирись и приноровись – вот и всё. Может быть, и тут надо только смириться и приноровиться?
Вот ты, дорогой читатель, заметил, что мы все живем в разных историях? Коснись, скажем, последнего русского государя и спроси десяток человек разного возраста: кто он: Палкин, мученик, святой, безвольный, милосердный, кровавый? Или о Сталине – злодей, умный вождь, спаситель и строитель страны, разрушитель, палач? Все по-разному и ответят, будто говорят о разных, не знакомых друг с другом персонажах.
А люди, которые, которые живут в разных историях, не могут быть народом. Мы пустили историю на кулачные забавы для ток-шоу и, значит, играем судьбами детей. А раз детей, то и будущего. И ведь об этом почти невозможно по-человечески сказать, обсудить с терпеливой серьезностью тотчас «передовая журналистика» вскинется: а-а, вы опять за старое, опять затыкать рот плюрализму?
Сто лет назад вышел сразу с колыбели знаменитый сборник «Вехи» и в первый же год выдержал пять изданий. Столько, значит, было читателей, столько остро заинтересованных людей! Немудрено. Его авторы (П.Струве, С.Булгаков, С.Изгоев, С.Франк, М.Гершензон) коснулись самых существенных и уже не отвлеченных, а «поджимающих» проблем: революции, церкви, интеллигенции. Наконец, просто жизни – быть ли ей человеческой или погибнуть в хаосе? Оттого, подумаешь, и пять изданий – выходит, задумались люди. А только задумались-то они, оказывается, вовсе не о жизни, Боге, революции и смерти, а за интеллигенцию обиделись. И разом обвинили авторов в предательстве её святого дела, в мракобесии и непонимании путей русской истории, которой, де, только интеллигенция и служит и которая эту историю и «двигает». И обвинили как-то все сразу. Все оказались «передовее» осмотрительных мыслителей. Не один навсегда осмеянный Петр Боборыкин («ну что там набоборыкал наш Пьер Бобо?»). Хотя и он по нынешним временам был бы не последним на литературном небосклоне с его пятью языками, обширной эрудиций и общей читательской любовью. Выступили высокие историки, профессора литературы со всеобще известными тогда именами Овсянико-Куликовский, Туган-Барановский, Градескул, готически образованный Милюков. Они ждали от времени прогресса, умного преобразования человека, уверенные, что его надо только по-европейски одеть и накормить, а не теснить консервативной осмотрительностью.
И я все думал: ну эти понятно – «серебряный век» и профессорскую мысль успел сделать вполне «серебряной» - тонко изящной, европейской, грассирующей. А вот Толстой с его трезвостью и умением всё видеть насквозь. Он-то что? Неужели не читал? Неужели ни одна сорока не принесла на хвосте, когда только и разговору вокруг? Принесла, слава Богу. Читал. Вот запись в дневнике 23 апреля 1909 года:
«Читал «Вехи». Удивительный язык. Надо самому бояться этого. Нерусские выдуманные слова, означающие подразумеваемые новые оттенки мысли, неясные, искусственные, условные и ненужные. Могут быть, нужны эти слова только когда речь идет о ненужном. Слова эти употребляются и имеют смысл только при большом желании читателя догадаться и должны сопровождаться всегда прибавлением: «ведь ты понимаешь, мы с тобой понимаем это».
Конечно, не без этого, ведь авторы дети того же серебряного века и язык действительно кастовый. И читатель, в общем, «догадывался» без труда. Хуже было, что он «догадывался» в другую сторону и хотел не думать, а действовать. И действовать своевольно, без удерживающих институтов уже обреченного государства. И тут и профессора литературы, и Боборыкин, и Милюков, прочитай они эту запись дневника, поторопились бы поддакнуть Толстому в его убеждении: «Писателю нельзя вступать в какие-либо добровольные соглашения с тем сбродом заблудших и развращенных людей, называемых у нас правительством». Впрочем, он ведь это и не только в дневнике и не раз писал.
Ну, приговорили с разных сторон «Вехи», не дали русскому человеку поверить в путеводительность этих верстовых столбов. И что же? Так и канула книжка в примечание? В мимолетный литературный курьез? Да ведь нет! Были же зачем-то потом и «Смена вех», и «Из-под глыб», которые все оглядывались, оглядывались на «Вехи». Кажется, последний раз интерес к ним вскинулся было в 1989 году, на их восьмидесятилетие, когда время кипело теми же вопросами, но тут грянула реформа, страна заметалась в небывалых потрясениях, стало не до того и интерес погас. А уж столетие «Вех» мы просто перемолчали. Решили больше не беспокоить свою «поотъевшуюся» мысль. А заноза все-таки осталась. И об этом хорошо думать как раз в Ясной Поляне.
Кажется, мир пошел против Толстого - по пути «ненужного». И хотя бы по языку («нерусские, выдуманные слова») следовал больше «Вехам», чем Льву Николаевичу. Народ, grand mond, как писатель его с уважительной улыбкой называл, понемногу исчез, сошел на нет. Скажешь «народ» и провалишься в какое-то общее место с туманными границами. Интеллигенция в старом либеральном понимании (где по краям Боборыкин и Милюков), кажется, тоже ушла навсегда – в эмиграцию, в лагеря, в неизбежность смерти. А вот эта – «веховская», чье дело как будто сразу провалилось, тем не менее, живет и, меняя фамилии, продолжает договаривать тогдашние мысли.
История тороплива. Ей не до глубоких мыслей. Ей некогда вслушиваться в касания вечности. На ее знамени не только сегодня, а и всегда было написано «Всё и сразу!». Тогда как настоящая долгая подлинная жизнь, которая только и вправе ею называться, вершится как раз в этих касаниях. Вот и возвращаемся где прямо, где позабыв первоисточник, к «Вехам». И не хотим, а додумываем – жизнь заставляет. И язык уже не кажется перемигивающимся и выдуманным, а словно наполняется временем и тревогой. И читаем мы уже, кажется, в тех же текстах, да не то. Уже не общественно-политические смыслы беспокоят нас, а малые личные тревоги. И потому, что никакой политики и общественности давно нет (мы распустили их «на каникулы», чтобы по своей воле пожить), и потому, что не загороженные империей, оказались наедине с собой и Богом. И только учимся отвечать на главные вопросы жизни. Ну, вот что, скажем, темного и подмигивающего в словах С.Н.Булгакова: «Интеллигенция отвергла Христа. Она отвернулась от Его Лика, исторгла из сердца Его образ, лишила себя внутреннего света жизни и платится вместе со своей родиной за эту измену, за это религиозное самоубийство. Но, странно, она не в силах забыть об этой сердечной ране, восстановить душевное равновесие, успокоиться после произведенного над собой опустошения. И эта мятущаяся тревога, эта нездешняя мечта о нездешней правде кладет на нее особый отпечаток, делает ее такой странной, исступленной, неуравновешенной, как бы одержимой».
Что если бы тогда услышали? Если бы выучились слушать свою лучшую мысль. А ведь тогда разве один Булгаков и разве только «Вехи»? Вся, вся русская религиозная мысль, всем светом, печалью, тревогой – об этом, об этом (Бердяев, Франк, Ильин, Эрн). Еще вроде вчера Чехов писал «Интеллигенция пока только играет в церковь. И главным образом от нечего делать», а время потемнело так стремительно, что стало не до забав и стало уже неотменимо ясно, что мир действительно на пороге «религиозного самоубийства».
Метки: критика |
Валентин КУРБАТОВ. В ЗЕРКАЛЕ ДНЯ |
В ЗЕРКАЛЕ ДНЯ
Получил сегодня от своего старого товарища из Петербурга письмо. Он с улыбкой пишет, что был в Александринке на Чехове. Смотрел «Дядю Ваню». И определил стилистику - «мягкое порно», где все или домогаются друг друга или уже «домоглись». Ну, что ж. Пора бы привыкнуть. Теперь уж умные люди заранее звонят в театр: «Что сегодня?» и, даже если это Чехов или Шекспир, на всякий случай спрашивают: «С дамой можно?» Вопрос не лишний. Мог бы и мой товарищ спросить. Нет, пошел с женой. И весь искраснелся.
А я вот ловлюсь на романе Януша Леона Вишневского «Одиночество в Сети». Ага, думаю, попались! Уже и в Сети (везде она у них с большой буквы), где все говорят хором, где ты все время на площади – и там, значит, одиночество. Ну, ну, почитаем. Тем более роман с порога именуется мировым бестселлером, переведенным чуть не на все языки мира. А герои с первой главы только успевают раздеваться и одеваться и демонстрируют все тонкости любовных игр. Меж тем книга представлена как романтическая, и славные герои часто плачут от нежности и печали, но делают это в перерыве между «этим»… Конечно, одной досадой не отделаешься – психологическая основа, может, и верна – вон и Томас Манн говорит, что пол и ум тесно связаны, да только то беда, что герои Вишневского только этим связыванием и живут.
Я прячу книгу от жены и детей и понимаю, что это напрасно, потому что если не эта, придет другая – еще «круче». Ты наткнешься на эти «пол и ум» в театре, кино, интернете. Включишь этот интернет для безобидной справки, а на тебя бросится порок во всех видах, так что только зажмуришься и скорее вон! И почему-то все думаешь о школе, о детях.
Можно спрятаться, притвориться, сделать вид, что мир читает только «Как закалялась сталь», «Два капитана» и «Алые паруса». А он не читает их. Во всяком случае, не читает в школе. Там даже и в деревенской школьной библиотеке (я видел это в селе Подволочная на Ангаре) ученика ждут Пелевин и Петрушевская, Сорокин и Ерофеев (библиотеку комплектует районо).
Тут, наверно, строгий учительский голос оборвет меня: не обобщайте! Есть прекрасные ученики! Да я разве об учениках? Я и сам вижу прекрасных детей, когда прихожу в церковь (я читаю там «часы» и «апостол»), радуюсь их светозарным лицам и вспоминаю, что отец Сергий Булгаков говорил, что девичьи лица красит Святой Дух. Но Он красит их только в церкви. В других местах их красят Диор и Шварцкопф. И ведь в церкви-то только дети пяти - девяти лет. А уж после двенадцати не ищи – разве из послушания родителям раз в полгода и то со смущением – не увидели бы одноклассники.
И пока я еду на службу, порой могу наслушаться на улице, а то и в автобусе от девочек (девочек!) таких фигур красноречия, что, не удержавшись, подойду и напомню, что в автобусе есть и мужики, а они народ тонкий и ранимый – им трудно слушать эту крутую речь. Девочки хмыкнут, на минуту смутятся, но уже за дверью автобуса, словно в отместку, возвратят всё в еще более резкой форме. И ребята уже говорят с ними, нарочито подчеркивая «отвагу» выражения.
А у меня всё нейдёт из памяти мысль М.М.Бахтина, который еще юношей написал у нас в Невеле в 1919 году статью «Искусство и ответственность», где сказал, что, если вам не нравится ваше искусство, взгляните в зеркало: не вы ли дали ему повод быть таким низким. А если вы не понравились в зеркале сами себе, вспомните, что прочитали вчера – не дурная ли книга исказила ваше лицо. Мы связаны с книгой, кино, телевидением смертельной связью и если одно звено окажется повреждено, исказится вся цепь. И я бессильно развожу руками, не зная, как прокричать Министерству образования, Думе, Правительству, что никакие запретительные меры не чрезмерны, когда речь идет о духовном здоровье нации.
Да и прокричишь – никто не услышит, потому что мы разговариваем на разных языках. Прочитал вот в «Независимой» перед украинскими выборами с улыбкой сказанное Путиным, что идеологически нам ближнее Янукович, а правительственно - Тимошенко. Попробуй, свяжи это в одном сердце и скажи на обыкновенном человеческом языке. А мне все простодушно кажется, что обыкновенный-то язык - единственный, на котором в России может быть построено именно русское государство, да и просто государство. А мы вот скоро научились говорить как бы в две стороны сразу – и простодушными притвориться, и расчета не позабыть. Равно в Думе, в Общественной палате, Правительстве. И скоро уж замечаешь по себе, что и сам готов думать на этом языке, что в нас успели взойти ядовитые семена «двуязычия». Тем более, что внешне эти языки почти неразличимы. Только один действительно искренне человечен – что человек думает, то и говорит, а другой вроде и тот же и порой прямо дословен с первым, а вот в дело никак не переводится. И никак ты его не ухватишь. Речь в нем для тебя, а смысл и дело для себя. А мы, как дети своей традиции всё за саму одежду слова и простим. И опять поверим говорящему, потому что никогда не посмеем предположить, что говорить можно одно, а в уме держать другое. И звать это другое «свободой» и «правами человека».
А я вдруг прямо посреди этой фразы «открываю» для себя, что свобода – понятие взрослое, так что до 30 лет его, может, и не следовало употреблять, как давать детям спички. Впервые сказав его, ты словно даешь присягу, принимая на себя ужас ответственности за его употребление. Оно не имеет частного значения, а сразу общее. Свобода – это мера моей ответственности перед обществом и больше ничего.
Бисмарк как-то сказал, что войны выигрывают не солдаты, а учителя. Это касается не только войны. Учителя выигрывают или проигрывают жизнь. Но они такие же дети общества, как всякий человек. И если государство потеряло систему координат, если в нем, говоря словами Гамлета «распалась связь времен» и человек не отвечает за прошлое, то он не определит системы для настоящего и будущего.
Мы, кажется, впервые за историю страны живем даже не одним днем, а мгновением, тем «здесь и сейчас», «всё и сразу», к каким зовет человека реклама, ибо только в этом тесном пространстве и действенна и тотчас теряет власть, когда человек видит на шаг вперед. В таком «точечном» существовании и не может быть системы координат – ей там просто негде поместиться. А нравственность – «дело» просторное. Духовная ясность и красота требуют «расстояния», хороших исторических легких, требуют долгой, во все стороны видной жизни, где человек не один, где он связан с другими людьми и Родиной небесной связью.
Мы впервые попали в мир, где совесть перестала иметь значение, ибо «здесь и сейчас» человек свободен только в самом дурном смысле.
Это только кажется философией, а является горестной жизнью, полной насилия и нечистоты, зла и неправды, которые разом выходят на поверхность, когда умолкает Бог. А нравственность – это хорошо знал и об этом уже кричал Шукшин – есть правда. Правда и бодрствование и постоянное слышание другого. Когда человек остается наедине с собой вне истории и закона, мир искривляется, и в литературе, театре и кинематографе становится возможно вывести в свет и на общее обозрение то, что вершится ночью и что во все века было целомудренной тайной.
В результате становится доблестью обворовывать стариков, продавать ордена, оплаченные победной и кровью, насиловать детей интернетом, зарабатывать «любовью» и брезговать тяжелым трудом. Жизнь выворачивается изнаночной стороной. В Турции я был почти физически ранен, что русских проституток (а там, кажется, других и нет) зовут нарицательными «наташками», после чего тебе уже трудно увидеть Наташу Ростову в Отрадном, когда она, подхватив себя потуже под коленки, рвется полететь. И все труднее услышать речь Алеши Карамазова у камня, когда он убеждает мальчиков после смерти их товарища, что надо хранить святые, прекрасные детские воспоминания и тогда «спасен будет человек на всю жизнь». А так хочется, чтобы он был «спасен», чтобы взрослый человек жил с ежеминутным сознанием, что он живет в мире детей и они всегда смотрят на него.
«Спасение» непременно понадобится, потому что сломан механизм долгого существования, механизм естественно длящейся истории. И впервые, наверно, люди и в одной семье живут сегодня разным пониманием прошлого: деды привычной неприязнью к царскому прошлому и почтением к Сталину, атеистические отцы сожалением о царском слабоволии, приведшем страну к катастрофе, их модно православные дети молитвой за царя-мученика, а большинство просто равнодушием к тому и другому.
Отсутствие единой истории и три раза переписанный до полной смысловой противоположности одним и тем же человеком государственный гимн, изгнанные и осмеянные памятники вчерашней империи, искаженный чужими вторжениями язык обращают народ в пестрое, взаимно равнодушное население без общего сердца, без которого государство – одно пустое механическое образование.
Я пишу это от обыкновенного отчаяния – хоть прокричать, чтобы тебя не сочли потакающим и согласным, чтобы тебя услышал другой человек и вы были вместе, чтобы звездное небо еще не меркло над головой, а нравственный закон не исчезал хотя бы в воспоминании.
Валентин Курбатов
Псков
Метки: критика |
Сергей ГОНЦОВ. О ТАИНСТВЕ БЕСЕДЫ. |
О ТАИНСТВЕ БЕСЕДЫ
Три дуба в сумерках весенних
И разговор достойный на просёлке,
Не стоящий вниманья, если б только
Не вторглась эта вольная картина
Опять, – как будто только что узрел
Двух путников, да только не случайных,
А тут начертанных как будто навсегда,
И в раму вставленных такую, что понятно, –
Тут разговор не завершён, а продолженье
В столетьях близких.
Те двое говорили, как услышал
Иль как постиг – о тайнах мирозданья,
Что всякий раз иль даже через раз
Почти доступны, только на рожон
Не лезь, не то сполна получишь
Совсем иное, – как бы этот дар
(конечно дар, тут нечего и спорить)
Ни называл.
Я только разобрать не мог, – откуда
Они взялись, чтоб толковать об этом, –
Как власть имеющие и со знаньем дела
Таким, что впору мыслить о Земле
Как о сокровище живом, многоочитом,
И начерно доступном, вот как сейчас.
Тут время как извилистый ручей,
Струится мимо только для того,
Чтоб по камням могли пробраться
В другие сумерки. А то, что трех дубов
Там нет, – так что-нибудь там есть,
Ничуть не хуже, дом продолговатый,
Дым вьющийся, десятка три-четыре
Овец в роскошных шубах, а вот очаг
Среди живых камней, и пламя в очаге,
И строгий гул горы.
Похоже, что Творец,
Из рамы взяв участников беседы,
В другом краю, как тайну, водворил,
Но также – разрешенье тайны,
Я рамы не заметил никакой,
Но чудная и ясная картина
Предполагала, что не просто так
Тут каждая деталь благоуханна…
А лишнее – да если где найдешь, –
Творец избыточен. И впору догадаться.
Метки: поэзия |
"ЛЁД И ПЛАМЕНЬ". Рецензии на антологию. |

Книга жива читателем. Истина эта очевидна: только появилась на книжных прилавках России великолепно изданная антология современной русской прозы и поэзии в 2-х томах «ЛЁД и ПЛАМЕНЬ» (М., Союз российских писателей, 2009) как тут же попала в список изданий, имеющих высокий читательский спрос. И это не удивительно – стильный двухтомник, дающий срез современной русской литературы, где представлены не только широко известные прозаики и поэты – Виктор Астафьев, Руслан Киреев, Валерий Попов, Алексей Варламов, Евгений Рейн, Анатолий Жигулин, Владимир Соколов, Олег Чухонцев, Иван Жданов, но и талантливые авторы из российской глубинки: Олег Ермаков, Светлана Кекова, Алиса Поникаровская, Нина Горланова, Владимир Краковский, Олег Глушкин, Владимир Мисюк, Борис Скотневский, Владимир Макаренков, Александр Лейфер, Владимир Крюков и многие другие. Издательский проект вполне себя оправдал: антологии всегда в цене, всегда в моде. Составителями тома «ЛЁД» стали мастера современной прозы Светлана Василенко, Борис Евсеев, Михаил Кураев; тома «ПЛАМЕНЬ» - мастера современной поэзии Людмила Абаева, Владимир Коробов, Юрий Кублановский.
Положительные отзывы на антологию появились в периодических изданиях Москвы и Санкт-Петербурга, Тольятти и Смоленска, Омска и Калининграда, Красноярска и Владивостока… Мы предлагаем вниманию читателей избранные высказывания об этом уникальном издании – эссе Михаила Кураева (Санкт-Петербург), Юрия Кублановского (Москва), Светланы Романенко (Смоленск), Ольги Валенчиц (Тольятти), Дмитрия Пэна (Джанкой, Автономная Республика Крым).
* * *
Михаил КУРАЕВ
КТО – МЫ?
Где та литература, что ведет сегодня честный, прямой разговор с читателем о жизни подлинной, не выдуманной, литература, стяжавшая в иную пору авторитет, к примеру, журналу «Новый мир» времен Твардовского и Залыгина?
Вот она - перед тобой, уважаемый читатель.
Никуда она не делась, совестливая отечественная литература. И не случайно, конечно, в обширном списке авторов, участвующих в томе прозы антологии «ЛЁД И ПЛАМЕНЬ», читатель узнает тех, с кем не раз встречался на страницах «старого» «Нового мира»: Виктор Астафьев, Андрей Битов, Светлана Василенко, Руслан Киреев, Алексей Варламов…
После знакомства с составом этого сборника я пришел к убеждению, что едва ли не большинство включенных в него рассказов и небольших повестей могли бы занять достойное место на страницах литературных журналов, в трудную пору поддерживающих честь и достоинство нашей литературы.
«Уж не собрание ли сочинений литературных «староверов» предлагает мне эта книга?» - подумает осторожный читатель, ожидающий трезвого и проницательного писательского взгляда в день сегодняшний, а не вчерашний, ищущий новых впечатлений, ищущий новой жизни на страницах выходящих сегодня книг и журналов.
Она и есть в этой антологии – новая жизнь!
Та жизнь, что простирается за пределами следственных кабинетов и тюремных камер, банкирских контор и вилл скороспелых миллионеров, не оглушающая криминальными сюжетами, эротическими приключениями и странствиями в краях, где никто никогда не жил и жить не будет.
А вот за пределами пространств, ставших полем литературной экзотики, как раз и лежит огромная, поистине необозримая территория, где живем мы с вами, дорогой читатель.
Кто – мы?
Да те, кто живет не на проценты с чужой глупости и доверчивости. Те, кто не покупает на падающие с неба деньги нефтяные скважины и морские порты, кто не нанимает киллера, чтобы расправиться с соседом, не желающим выносить мусор дальше парадного… Мы не покупаем самолет, чтобы лететь к коварной красавице на свидание на Майорку, а берем у соседки по общежитию брюки и кофточку и мчим на край света за своим единственным на всю жизнь (Светлана Василенко «Откуда у тебя этот шрам?»)… Мы – это те, кто помнит свою вину перед близкими и дальними (Александр Ягодкин «Жизнь невпопад»), кто хранит память о наших стариках и старухах, без ропота на судьбу доживающих свой нелегкий век (Надежда Васильева «Три копейки, две копейки – пятачок»). Те, кто день за днем несёт и сегодня бремя одиночества и не позволяет тирании будней властвовать над душой (Марина Шляпина «Близь и даль»). Те, кто улыбкой, обращенной и на себя, защищается от навала житейской пошлости (Павел Басинский «Исповедь графомана», Валерий Попов «Автора!», Нина Горланова «Водоканальи…»). Мы – это те, кто в занесенном снегом приволжском городке внутренним взором вместе со снежными вихрями летит, обнимая остывшую бесприютную землю, готовый согреть ее свои дыханием, теплом своего сердца (Николай Смирнов «Метель в уездном городе»)…
Может быть мы – это и есть Россия?
Не слишком ли горделивое и чрезвычайно обязывающее предположение?
Да ведь как сказать?..
Может быть, именно сейчас, когда столько сил и уменья прикладывается к тому, чтобы размыть, объявить историческим недоразумением, а потом, глядишь, и смыть, и вовсе вытравить из сознания само понятие «Россия», - самое время оглянуться на себя самих, серьезно и не суетливо обозреть пространство наших душ, заглянуть в глаза наших доверчивых мужиков (Юрий Некрасов «Пьяные сны Леонида Гуляева»), приглядеться к браконьерам, расхитителям земных даров (Виталий успенский «Бобры») и даров небесных (Татьяна Тайганова «Придет понедельник)…
И не на пустырях родилась эта литература, вот мелькнула тень Гоголя (Лариса Оленина «Сутенки»), уроки Юрия Тынянова блестяще освоены Владиславом Отрошенко («Дело об инженерском городе»). Не дает зарасти тропам, натоптанным Юрием Казаковым в российских междуречьях, младший брат по перу Виталий Успенский. Арсен Титов («Гератская дорога») так освоил теряющиеся за горными хребтами дороги Кавказа, словно проводником его в этих горах был сам Фазиль Искандер…
И вихри новых литературных веяний, сметающих прежние «табу», то нескромно приподнимающие края одежд, то кружащие голову причудливой вязью слов, достают и Рязань, и Владимир, и Тольятти. Всем нормам современной европейской новеллы отвечает беспощадная в своей искренности повесть Алисы Поникаровской «Свадебный марш из Матросской Тишины».
Рядом с именами давно известными читатель встретит немало новых для себя имен, а главное, как мне кажется, получит редкую по нынешним временам возможность обозреть обширные пространства, где произрастает и поныне достойная русская проза.
Вот «география» тома «ЛЁД».
Тридцать из сорока авторов живут не в Москве, только двое в Питере, Трое в Тольятти, по двое авторов представляют Владимир, Воронеж, Омск, Смоленск, Вологду, еще по одному – Красноярск, Петрозаводск, Пермь, Калининград, Иркутск, Ростов-на-Дону, Владивосток, Челябинск, город Мышкин (Ярославская область) и город Кораблино (область Рязанская)…
Что же объединяет авторов, придерживающихся каждый своей писательской манеры, разделенных и возрастом, и судьбами, и обширным пространством?
Ответ прост: сборник представляет читателю Союз российских писателей, представляет не в декларациях, не в программных заявлениях и манифестах, не в опровержении своих оппонентов, не в литературной междоусобице, до которой дела нет ни читателям, ни издателям. Лицо каждого творческого Союза – да, конечно, это имена, но в первую очередь, так сказать, продукт, в данном случае – литература. И читателю самому судить о качестве этого продукта.
Признаться, нам и самим интересно обозреть свои ряды, попытаться вот так, воочию, увидеть и понять, что же нас объединяет и объединяет ли, кроме членских билетов и приверженности принципам добра и справедливости, верности не шуточному назначению литературы.
Мне кажется, читатель непременно заметит в представленных сочинениях достаточно строгий вкус, отсутствие пошлости, ставшей непременной приманкой для невзыскательного обывателя, игры на низменных инстинктах. И еще. Как ни пытаются объявить интеллигенцию и интеллигентность анахронизмом, но вот же – целый сборник прозы, удовлетворяющий именно этому интеллигентному стилю жизни и творчества. А интеллигентность – это прежде всего уважение к «другому», отсутствие агрессии, назидательности, наставничества в отношениях с читателем.
Сегодня нас с вами, и пишущих, и читающих, пытаются уверить в том, что в литературе уже «все было», не было разве что безоглядной свободы, когда все дозволено и ничего не запрещено.
Ну что ж, предположим, что в литературе «все было», но пусть над сочинительством небывалого и невозможного трудятся, кто умеет… Наверное, здесь все-таки речь о литературе производной от другой и других литератур – да, там все было.
Но пока жизнь не остановилась, пока она преподносит нам день за днем новые испытания, новые печали и радости, пока человеческое сострадание, сочувствие, любовь и долг, способность разделить чужую боль будут для людей не только словами, - останется литература, не убегающая от жизни, но идущая рядом с читателем реальными земными путями, помогающая спасти душу живую, устоять под напором всяческого рода нежити.
* * *
Юрий КУБЛАНОВСКИЙ
…СЛОВО ОТЗОВЕТСЯ
Стоит ли жаловаться, что время для поэзии сейчас не простое. Впрочем, «простым» оно было разве что в Серебряном веке. Тогда агонизирующее в канун исторической катастрофы общество буквально упивалось – словно напоследок – поэзией, порой весьма ядовитой. Другой вариант столь же лихорадочного поэтического ажиотажа повторился через полвека – в начале 60-х годов. Можно заметить, что при такой массовости аудитории и спросе на лирику, каждый раз словесная бутафория сгоряча принималась порой за живое слово…
А те процессы, что в современной поэзии не просто настораживают, но уже и вызывают культурный протест, народились еще давно, еще при советской власти. В 1984 году в замечательном эссе о Пушкине Александр Солженицын предупреждал: «Уже целая литературная ветвь практически “работает на снижение”, развалить именно то, что в русской литературе было высоко и чисто. Распущенная и больная своей распущенностью, она силится представить всеиронию, игру и вольность самодостаточным Новым Словом».
Однако в ту пору совковая цензура, больше всего, как известно, ценившая в искусстве «борьбу хорошего с лучшим», заодно с искренним и бескорыстным свободным творчеством попридерживала под своим намордником и ту литературную гарь, на которую указал Солженицын.
Но намордник вдруг отвалился – и, как чуть ли не единственная альтернатива соцреалистической лжи, на поверхность выскочили именно чертики постмодернизма, беззастенчивые, крикливые, карьерно спешащие наводить мосты с простодушными и либеральными западными славистами (которые сами, будучи, в основном, детьми анархичной «сексуальной революции» 1968 года, клюют как раз на такое). Прежде всего потребовали они тогда избавить нашу литературу от «бациллы учительства», насадить «русские цветы зла», а свои потуги самонадеянно выдавали за свежее и монопольное слово новой литературы. Плоский сарказм, богохульство, матерок и брезгливое отношение к духу отечественной истории – компоненты данного литературно-коммерческого движения в никуда. Такая литература, в которую не надо вдумываться и вчитываться, как раз и пришлась по вкусу массмедиа, болтливым критикам и околоолигархической тусовке в целом. Аляповатая картина посттоталитарной культуры…
Утвердиться ей оказалось тем проще, что на другом полюсе – добросовестный лирический традиционализм все стремительней вырождался в эклектику. От «благонамеренности» лирических текстов в патриотических литературных изданиях сводило скулы: настолько были они – в своей основной массе – не интересны, беспомощны. Рушатся, можно сказать, миры, а данная поэтика делает вид, что ничего не случилось. Прямо скажем, постмодернисты оказались все же пассионарнее, а потому энергичнее, при этом сообразуясь с мировой конъюнктурой.
Но всегда были и есть поэты – которые, следуя своему дару, почитали ниже своего достоинства подлаживание к житейской и культурной реальности, а уж тем паче самопиар. Ведь и в самые неблагоприятные для поэзии времена в отечестве нашем теплилась независимая литературная жизнь, не ушла атмосфера литобъединения, студии, семинара, не была забыта русская классика, а поиски нового не связывались с непременным успехом. Географический и стилеобразующий диапазон поэтического тома антологии «Лёд и Пламень» – верное тому подтверждение. Культурная жизнь России, как сердце, бьется даже и под бессовестным наплывом масскультуры и тех образцов, которые порой назойливо навязывает столица.
Время для поэзии еще и потому не простое, что стихотворение требует, ждет неспешного, многократного прочтения, требует не навязчиво, – деликатно, с верной перспективой наслаждения гармонией, красотой – но все-таки это требование, необходимое для полноценного постижения. А современный обыватель ищет, чтобы его развлекали, не требуя ничего кроме натуральной платы за удовольствие. Его сознание становится все более клиповым, не способным к протяженному постижению. Он ищет ставших необходимыми адреналинчика и порнографического момента. Он уже позабыл, отвык (а, точней, по молодости уже и не привыкал), что искусство ждет чистого жара сердца, закаляет, а не разрыхляет характер, делает личность моральнее и духовно сильнее. Поэт приходит в «мир» с искренним самоотверженным словом, драматичным, порою тяжким – но, несомненно, с целительным. Словом, зовущим верить Богу, любить Отечество. И чувствовать ответственность каждого перед всеми. Всё это не архаичные «русские комплексы» – а сущностные, необходимые составные настоящей нашей поэзии. Вспомните пушкинские «Маленькие трагедии» или «Медного всадника» – как там неспокойно; там такая бездна смысла, что туда страшно заглядывать. А все равно –
с в е т л о.
Вот она, высшая тайна поэзии!
Но разве культура ХХ1 века предполагает такое? Она последовательно моделирует
с в о е г очеловека. А бескорыстные, искренние поэты в ее координатах – нелепый анахронизм. В современных потребительских обществах, к которым в общем-то и примкнула Россия в послесоветское время, не представим уже лирик глубины Эдгара По, Лермонтова, Бодлера. Измельчал человек, превратился в автоматическую марионетку прогресса.
Хотя правда и то, что в России – поэзии всего лишь два с небольшим века; словесные по крайней мере, ресурсы ее до конца не вычерпаны.
Но с другой стороны – катастрофически подорван поэтический генофонд. Со сколькими мастерами расправился советский режим! Скольких подмяли 90-е годы! Думаю, едва ли не любой интеллигент согласится, что читает теперь стихов много меньше, чем раньше, что относится к ним без прежнего жара. И порой ловишь себя на мысли: да существует ли еще читающая Россия как культурное целое? Быстро уходит из сознания непоколебимая прежде убежденность в предназначении. А без нее какая ж поэзия?
Убережется ль в такой катастрофической ситуации лирическое слово? Я, например, нашу родину без поэзии просто не представляю. То будет совсем, совсем другая страна, жесткая, нехорошая.
Данный том можно рассматривать еще и как смотр лирических сил – прощальный? Или многообещающий? – покажет будущее. Найдутся ль, придут ли те, кто возьмется подхватить эстафету? Во всяком случае в объеме этих страниц ничего не преувеличено и не преуменьшено, добросовестная поэзия наших дней именно такова. Есть, разумеется, еще немало ярких самобытных поэтов и вне этой книги. Как важно нам всем чувствовать солидарность…
Уже подзабыто слово – ответственность. Но мы с нею в доле.
* * *
Светлана РОМАНЕНКО
ЗОЛОТЫЕ КРУПИЦЫ СЛОВ
Уже в названии томов антологии Союза российских писателей, отсылающем читателя ко второй главе «Евгения Онегина» (книга прозы называется «Лёд», поэзии – «Пламень»), угадывается заявка на определённый уровень. Уровень вошедших в антологию произведений действительно высокий, несмотря на то, что здесь представлены не только известные писатели – Виктор Астафьев, Андрей Битов, Руслан Киреев; поэты – Анатолий Жигулин, Владимир Соколов, Юрий Кублановский, Евгений Рейн, Олег Чухонцев, но и новые для читателя имена. Из сорока прозаиков, произведения которых составили первый том, в Москве живут лишь десять. Остальные – из Воронежа, Тольятти, Петербурга, Омска, Челябинска, Владимира, Смоленска, Вологды, Красноярска, Перми, Калининграда, Петрозаводска, Иркутска, Владивостока, Ростова-на-Дону и других городов России. То же самое – в томе поэзии. Литературные школы и направления также разные. Формально всех объединяет принадлежность к одной творческой организации – Союзу российских писателей. Но не только это. Сознательно или невольно составителями антологии предпринята попытка, как пишет в предисловии к первому тому петербургский прозаик Михаил Кураев, «оглянуться на себя самих, серьёзно и не суетливо обозреть пространство наших душ…», с тем, чтобы ответить на давно назревший вопрос, имеем ли мы право сегодня говорить о некой духовной общности, обозначаемой понятием «Россия»…
Однажды, в начале 90-х годов прошлого столетия, примерно в то время, когда в стране внезапно проснулось дремавшее доселе национальное самосознание, когда горячо обсуждались фильмы Станислава Говорухина «Так жить нельзя», «Россия, которую мы потеряли» и «Великая криминальная революция», мне довелось услышать объяснение, что означает каждый из цветов российского триколора. До сих пор не знаю, было такое толкование когда-либо официально принято или это легенда, но в память мне врезалось, что белый цвет российского флага символизирует чистоту души русского человека…
Так ли уж он изменился в главном, сегодняшний герой русской литературы? Однозначно сказать трудно. Вот молодой мужик Петька, тракторист и комбайнёр, на все руки мастер, из рассказа смоленского прозаика Вилена Сальковского «Вода». Взявшись было выполнить предсмертную просьбу старика-тестя – привезти родниковой воды из той криницы, что в бывшей деревушке, где старик родился, он останавливается на полпути и поворачивает обратно: «Порюсь попусту, а старик, когда хочешь коньки отбросил… Кому будет вода? Пёхом – это мне час туда, час оттуда! Приволоку – да и зря… Наберу в посёлке, в колодце у речки… Погоняй! А то хуже наделаешь: ни своей не попьёт, ни этой…» Старик однако воды дождался, и голос совести тревожит Петьку, хотя и недолго. Или взять главного героя рассказа Левона Осепяна «Коммерческий рейс» водителя первого класса Егора Прончука. Честный и правдивый человек, вынужденный по слабости характера подчиняться алчной своей жене, идти против собственных жизненных правил, он воспринимает автомобильную катастрофу на горной магистрали и собственную гибель как избавление и возвращение на круги своя. С другой стороны, симпатичные, положительно характеризующиеся по месту службы милиционеры, при виде больших денег в руках предпринимателя-азербайджанца, который едет за товаром, не задумываясь о возможных последствиях, решаются на вымогательство, а встретив противостояние, и расправу (Михаил Кураев «Спальный вагон прямого сообщения»).
А вот кузнец Гуляев - герой повести Юрия Некрасова «Пьяные сны Леонида Гуляева» с его простодушием и привычкой во всех бедах винить только самого себя вполне мог бы быть персонажем Куприна или Лескова. Лишь новые «хозяева жизни», всеми правдами и неправдами скупающие в черте города старенькие дома, да бомжи на помойках свидетельствуют о том, что действие происходит в наши дни. Чистая душа – и безымянная героиня рассказа Татьяны Тайгановой «Придёт понедельник» с её надеждой на простую человеческую радость.
Одна из примет сегодняшней российской жизни - «ушибленные» локальными войнами персонажи. Это относящийся ко всему подчёркнуто серьёзно, ретиво муштрующий студентов майор Мамыкин (Алексей Варламов «Присяга»). Или обитающий в подмосковных Мытищах глухой полусумасшедший гастарбайтер из бывшей Югославии по прозвищу Рабсила (Борис Евсеев «Мясо в цене!») с его размышлениями об очищающей сути Великого поста и острозаточенным колбасным ножом, который он, не задумываясь, пускает в ход: будь то ряженый по случаю Масленицы налётчик или вдруг показавшиеся лишними собственные пальцы. Россия в его восприятии - это карнавал нищих, вороватых, убогих, который одновременно и отталкивает, и притягивает к себе.
А Владимир Кантор в рассказе «Библиофил» затрагивает во все времена важную для литературы тему взросления героя: не столько воспитания чувств, сколько, если можно так сказать, идентификации личности. Сюда же примыкают «Лионский дилижанс» Владимира Краковского – отрывок из романа «Боря. Жизнеописание» и рассказ «Другой город» Руслана Киреева.
Поразили блистательные дневниковые заметки на темы искусства Юрия Карякина. В полном соответствии с названием («Уколы мысли») в них много примечательного. В частности, два письма о духовно-художественном родстве Достоевского и Микеланджело, автором которых является внук М.И. Кутузова – Феофил Матвеевич Толстой, музыкальный критик и высокий чиновник цензурного ведомства. А особенно хороша главка о «Чукоккале», название которой «Весёлое и трагическое завещание последнего возрожденца».
Словом, полновесная, качественная современная проза.
Ещё более разнообразны темы поэтического тома антологии. В предисловии к нему Ю. Кублановский пишет: «Поэт приходит в «мир» с искренним самоотверженным словом, драматичным, порою тяжким – но, несомненно, с целительным. Словом, зовущим верить Богу, любить Отечество. И чувствовать ответственность каждого перед всеми. Всё это не архаичные «русские комплексы» - а сущностные, необходимые составные настоящей нашей поэзии». Но это так должно быть. Отнюдь не склонный к обольщениям относительно сегодняшней культурной ситуации в России, автор предисловия продолжает: «Думаю, едва ли не любой интеллигент согласится, что читает теперь стихов много меньше, чем раньше, что относится к ним без прежнего жара. И порой ловишь себя на мысли: да существует ли ещё читающая Россия как культурное целое? Быстро уходит из сознания непоколебимая прежде убеждённость в предназначении. А без неё какая ж поэзия?»
Невольно зацепившись за эти слова, я читала книгу «Пламень» под определённым углом зрения - проследить, насколько вообще сегодняшнюю поэзию занимает вопрос о своём предназначении. Как оказалось, занимает. Выражается это разными способами. Осмыслением себя в ряду знаковых для отечественной литературы имён. Ощущением, говоря словами Давида Самойлова, «рукоположения в поэты». Взять, к примеру, «У могилы Ахматовой» Людмилы Абаевой, «Куда как мы звонкоголосы…» Леонида Григорьяна, «Какая грусть! Но, впрочем, это…» Александра Трунина и др.
Или обращение к «пресловутой» теме родины, её исторического значения, её унижения и защиты (Виктор Домбровский «Казаки», Сергей Галкин «Куликово поле», Николай Панченко «К России», Анастасия Харитонова «Истерзанная, нищая страна» и др.). Такая же роль отведена вплетённым в ткань стиха реминисценциям, как у Владимира Крюкова:
Вот, смотрите, на этих листах
Нашей жизни странная музыка.
Или – выбранные места.
Встречаются и прямые суждения о предназначении:
Кричали с эстрады о вечном,
горланили спьяну стихи,
а сами, как стадо овечье,
пугались любой чепухи.
Метались, толкаясь в загоне,
терпели и стужу, и грязь…
Им снились крылатые кони,
что мчали их к славе, клубясь.
Но время, листая страницы,
развеяло многое в прах,
лишь слов золотые крупицы
лежат на Господних весах.
(Владимир Коробов «Поэты»)
… И темень цветная шумела в саду
О том, что и ливень – стена мирозданья.
Под чёрным сердечком таила беду:
Художнику – смерть, а поэту – страданье.
(Анастасия Харитонова«И темень цветная шумела в саду»)
Свободолюбы и поэты…
В России нам предрешено
Считать последние монеты
И пить не царское вино.
И воплощать своё призванье
В ночи за кухонным столом,
Когда метафора в сознанье
Мелькает крупным мотыльком.
(Владимир Макаренков «Мечтатель я, и ты мечтатель»)
Я полжизни смиренно прожил,
сочинял свои «ахи» и «охи»,
оказалось – тем самым крушил
постамент большевистской эпохи.
Он несётся, как бурный поток,
он по-прежнему чист и простужен,
сокрушительный мой шепоток,
что отечеству всё-таки нужен!
(Георгий Булатов «Мне покоя уже не вернуть…»)
Остается надеяться, что «сокрушительный шепоток» большинства авторов из российской глубинки, обретший на страницах антологии «Лёд и Пламень» свой неповторимый голос, отечеству и читателям «все-таки нужен».
* * *
Ольга ВАЛЕНЧИЦ
АНТОЛОГИЧНЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
Я из российской глубинки.
Отсюда о температуре кипения столичной литературной жизни можно судить только опосредованно.
Например, по стихам некоренных москвичей:
В Москву! В Москву!
А что в ней делать?
Москва такая ж глухомань…
(В. Коробов)
Или некоренных петербуржцев:
По московскому времени нынче живет
разве только что армия, космос и флот
с мавзолеем.
(И. Дуда)
По разговорам с приезжающими нас навестить «известными поэтами современности». По их заботе о наших больших и малых публикациях, о выступлениях нас, малоизвестных авторов, в ЦДЛ, об установлении творческих контактов с литераторами зарубежья. Забота - есть.
Некоторые детали привносят рассказы выпускников Литинститута им. А.М. Горького и Высших литературных курсов при оном. Субъективность взгляда здесь налицо, но не о том речь.
Какие бы отношения – деловые, творческие, приятельские и даже сердечные – не объединяли «российскую глубинку» с «капитанским мостиком» современной русской литературы, судить о жизнеспособности и силе литературного объединения будут не столько по нашим «мемуареальным» запискам и перепискам, сколько по публикациям в жанре мегатекста, т.е. антологии.
Отсюда максимальная ответственность и сложность поставленной перед составителями антологии задачи.
Литературный Интернет допускает предельный демократизм публикаций, демократизм гипертрофированный, свалкообразный, как говорится, есть азарт – ищите иголку в стоге сена.
Антология – это квинтэссенция. Что ни голос – игла. Так должно быть.
Получилось ли? Пусть решают читатели. Я готова к тому, что повального одобрения не дождаться. И не только потому, что почти всегда обиженно и злорадно звучат голоса тех, кто остался за кадром ввиду ограниченности объема издания. Уровень подборок действительно не вполне ровный. Некоторые авторы представлены не самыми своими показательными стихами (с их собственной точки зрения; с точки зрения их «по-читателей»). Некоторые авторы не дотягивают до «средней температуры» по союзу – быть может, у них еще все впереди? Их задача на данный момент – представить собственное региональное отделение – выполнена исправно.
…Пожалуй, самую злую шутку с авторами и составителями «Пламени» сыграло то явление, которое я называю «русской поэтической доминантой»:
Есть в российской природе особая грусть,
Без которой не стать бунтарем и поэтом…
(Г. Булатов)
Да, чуткий голос русского поэта (так же как и музыканта, и художника!) не возможно представить без устойчивых тональных связей с тоской, вечностью и обличением состояния собственной державы. Да, «за державу обидно». И конца края этой обиде (а уж этой вечности и подавно!) не видно. И берет сия обида за горло, и сдавливает его, иногда до полной потери естественности интонации…
Чем более открытым текстом подается авторское отношение к моральным ценностям, тем уязвимее поэзия. Исключение составляют те исторические времена, когда «народ безмолвствует», когда пафосное обличение равносильно подвигу, ибо ставит на жизни поэта и его творчестве властный крест… Но и тогда поэт рискует подлинностью человеческой интонации.
Я не агитирую за дезориентацию в моральных ценностях! Подчеркиваю: поэзия бежит риторики. Не стану здесь приводить отрицательные примеры. Бегло – великолепные образцы выраженной, но вместе с тем не выпячивающей себя моральной позиции автора, которой удалось остаться высокой поэтической позицией:
В обширном здании вокзала
С полуночи и до утра
Гармошка тихая играла:
«та-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра».
……………………….
Зачем же, дурень и бездельник,
Играешь неизвестно что?
Живи без курева и денег
В надетом наголо пальто.
Надрывы музыки и слезы
Не выноси на первый план –
На юг уходят паровозы.
«Уходит поезд в Магадан!»
(Б. Рыжий)
Что с рожденьем ребенка теряется право на выбор,
И душе тяжело состоять при раскладе таком,
Где семейный сонет исключил холостяцкий верлибр,
И нельзя разлюбить, и противно влюбляться тайком…
(Е. Блажеевский)
Друг друга криками повторяя,
выравниваясь и опять ныряя –
так каждый в Царствие Божье внидет.
Вот что во сне, очевидно, видит
раб, из которого вьют веревки,
иль сталкер после командировки.
(Ю. Кублановский)
Какая мгла, какая нежность!
Полночный сад прохладен, пуст.
И кто сказал, что безнадежность –
Не лучшее из наших чувств?
(А. Харитонова)
Страна лесов,
страна полей,
упадков и расцветов,
страна сибирских соболей
и каторжных поэтов.
Весь мир хранит твои меха,
но паче – дух орлиный:
он знает стоимость стиха
и шкурки соболиной.
И только ты, страна полей,
предпочитаешь сдуру
делам своих богатырей
их содранную шкуру.
(Н. Панченко, 1949 г.)
Любимая, в такие времена,
в такую сучью непогодь и замять,
не дай нам Бог кичиться и лукавить,
и выяснять, чья большая вина –
твоя вина, или моя вина,
иль родины злопамятные вины
у нас в крови. Без слез и без запинок
забудь вражду, и да пошлет нам сына
глухая ночь в такие времена.
(А. Пахомов)
Превосходная степень дара, мастерства – сохраняя коллективную память нации – не пережать, не переписать прошлое под копирку, не сорвать голос. «Чем тише, тем горячее» – говорят музыканты о силе извлечения звука.
Как горячи строки Анатолия Жигулина, Евгения Блажеевского, Бориса Викторова, Бахыта Кенжеева, Юрия Кублановского, Аркадия Пахомова и многих других поэтов! Столь же, сколь и тихи. Свободны от внешних эффектов и заламывания ручек, естественны и непринужденны в отношении формы и интонации высказывания. Им удается совместить музыкальность и повествовательность русской речи.
Субъективный признак талантливой поэзии – умение из крохотной незатейливой жизненной картинки («стоп-кадра») невидимым трамплином выбросить читателя в обостренное восприятие бытия, «понимание толка» в…:
Раз под осень в глухой долине,
Где шумит Колыма-река,
На склоненной к воде лесине
Мы поймали бурундука.
………………..
Каждый сытым давненько не был,
Но до самых теплых деньков
Мы кормили Тимошу хлебом
Из казенных своих пайков.
А весной, повздыхав о доле,
На делянке под птичий щелк
Отпустили зверька на волю.
В этом мы понимали толк.
(А. Жигулин)
Почему субъективный? Потому что множество современных авторов виртуозно владеют реалистичными методами бытописания в рифму и без, верлибром, дольником, ямбом и анапестом, а вот нащупать «красную кнопку» перехода в «высокие слои атмосферы» не получается. К счастью, антология балует нас положительными примерами.
…Смелая метафоричность русской поэзии, богатство подтекстов всегда были ее сильной стороной. «Пламень» в избытке демонстрирует нам образное мышление авторов, показывая весь диапазон – от метафоры бережной, деликатной:
…чтоб в эту слепую равнину
попасться, как в сети Ловца,
и жизни своей паутину
легко отвести от лица.
(Л. Абаева)
Так что же мы для неба значим?
В чаду эмоций и страстей
Мы от себя сомненья прячем,
Как спички прячут от детей.
(Л. Бессонова)
Любовь отбрасывает тень тоски и торжества,
как это делает сирень – цветы ее, листва,
и узловатый узкий ствол, и ветви на весу,
как я тягчайшее из зол в груди своей несу.
(С. Кекова)
И ты замрешь, едва дыша
среди дорожного надсада.
Психея, бабочка, душа,
как ты попала в ад из сада?
(В. Коробов)
…до метафоры «навороченной», на грани фола:
…вспомнишь Блока – столкнешься со сплином,
кликнешь Баха – и чуть не собьет
представлявшийся днесь муравьиным
соловьиный горячечный пот.
(А. Кобенков)
(обращаясь к Москве)
Что оба мы срослись в кентавра,
пересекаясь, словно крест,
и я – твоя абракадабра,
а ты – заумный мой протест.
(Е. Рейн)
Из артезианского бювета
выскочит подземная гроза,
внутренний, слепой источник света
рыжим пеплом выдавит глаза.
(А. Чернов)
…Русская пейзажная лирика, изрядно потесненная в антологии стихами другого плана, все-таки дарит читателю самые живые картинки и эмоции! Особо хотелось бы отметить двух «соседей» по антологии – Ивана Переверзина и Владимира Пучкова, у которых «балом правит природа».
Гощу у матушки в деревне,
где сразу у крыльца деревья –
сирень, березки, тополя
купаются в лучах рассвета
и, взявшись за руки как дети,
уходят погулять в поля.
Поля от края и до края,
где рожь на солнце – золотая,
как грива конская, густа.
Где полнозвучно, словно голос,
звенит о сытой жизни колос,
и даль до донышка чиста.
Я – в этой дали пропадаю,
лежу в траве, стихи читаю,
плывут, как мысли, журавли…
Не верится, что днями раньше
я был от смертных бурь не дальше,
чем незабудка от земли.
(И. Переверзин)
Кто заучил молчанье на зубок,
Тому и воздух кажется опорой!
Здесь раз в неделю пролетает скорый,
И трещина ползет на потолок…
А утром всюду тонкая пыльца,
Как будто время выпало в осадок,
И воздух густ, и снег летящий падок
На шаткие ступени у крыльца.
(В. Пучков)
В лучших своих образцах пейзажная лирика не просто погружает читателя в состояние автора – она делает его очевидцем происходящего, звенящим колосом…
А случаются и такие нестандартные обращения с читателем, или обращения читателя в…:
Узкоглазая степь размотает тебя как клубок,
не зацепишь, никак не поймать в объектив этот снимок.
И твой завтрашний день начинается позавчера, как урок,
и кончается, как поединок.
Неубитый лежишь, опрокинутый степью в полынь,
как не знавшая руки Творца бессловесная глина.
Если б холод ночной не сменял бы дневную теплынь,
здесь была бы твоя Палестина.
Если ты расположишь в пространстве себя, как штатив,
и смахнешь забивающий оптику мелкий суглинок…
Если б выпитым спиртом еще протереть объектив…
Вот тогда б получился хороший и правильный снимок.
(Н. Михайлова)
Русская поэзия насквозь диалогична – будь то обращение к самому себе прошлому или будущему, к сопереживающему слушателю, или собеседование человека и природы, или самой природы голоса – в человеке… Диалогичность (по большей части не выписанная зрительно) сообщает поэтической плоти обмен энергией с духом и компенсирует экзистенциальное одиночество человека:
Две старых сосны обнялись и скрипят,
вот-вот упадут.
И дождь их стегает, и гнет снегопад,
но жить – это труд.
Лесбийские сестры, почти без ветвей,
жилички высот.
Одна упадет и другая за ней,
но твердь не дает.
Я ночью не сплю, и они меж собой
о чем-то не спят.
Проснусь – а они уже наперебой –
ну как? – говорят.
Щади их ненастье, храни их в жару
и в стужу, Творец.
О, скоро и я напрямик разберу
их речь, наконец.
(О. Чухонцев)
Современная русская поэзия практически «всеядна» в отношении форм и стилей. Мнение ряда современных авторов о том, что она давно себя обглодала и обречена на искусственный диссонанс - атональность, аритмичность, эпатирующую анархию ума – не разделяю. Подозреваю, что за таким мнением неудачно скрывается бесчувственность к языку. «Пламень» еще раз доказывает, что русский язык пластичен, его ресурсы в метрическом и звукописном отношении безграничны.
Но… обнимать необъятное всегда проще с позиции наблюдателя. Убеждена, что избранная читательская аудитория (превышает ли она количество пишущей?) не уйдет со страниц «Льда и пламени» с пустыми руками. Того содержания, что кропотливо отобрано составителями в антологию, с лихвой хватит на месяц бессонных ночей дегустации. Полноценно проникнуть, понять, сравнить, прорасти – пожалуй, и нескольких лет не достаточно. А судьбы?..
Мы все у Господа в горсти,
Но нам судьбы хватает.
Бывает тошно на Руси –
Но скучно не бывает.
(Б. Скотневский)
Категорически разделяю мнение поэта.
Кстати, на страницах антологии «Лед и Пламень» тоже временами «бывает тошно». «Но скучно не бывает». Ибо – Россия.
* * *
Составление, подготовка текстов Л.Н. Абаевой, В.Б. Коробова
Метки: критика |
"ЛЁД И ПЛАМЕНЬ". Рецензия |

Дмитрий ПЭН
ЦВЕТЫ ЛЬДА И ПЛАМЕНИ
Не льдисты ль мещут огнь моря?
Се хладный пламень нас покрыл!
М.В. Ломоносов
Впервые Союз российских писателей представляет читателю свои творческие силы столь широко. Добротное выставочное издание привлекательно пестротой живого разнообразия, естественной необязательностью и непосредственностью своего обаяния. По хрестоматиям учатся. Сборниками пользуются. Антологиями приобщаются. "ЛЁД" и "ПЛАМЕНЬ" рекомендуются авторами предисловий на правах "честного, прямого разговора" и слова "искреннего". Они приобщают к неуловимому в своей быстротечности потоку современности, не отвлекая вместе с тем от незыблемых ценностей российской словесности. Название двух увесистых томов офсета декларирует переосмысление знаменитых пушкинских слов из тринадцатой строфы второй главы "Евгения Онегина", позволяет вспомнить определённую классическую традицию, в контексте которой авторы антологии видятся на авансцене большой литературной истории, масштабы которой не ограничить пограничными столбиками десятилетий и даже веков. Образ антологии "ЛЬДА" и "ПЛАМЕНИ" вызывает в памяти название знаменитых одноимённых альманахов прошедших столетий, в которых и почитали, и печатали автора "Евгения Онегина". Это "Северные цветы" (Санкт-Петербург, 1825 – 1831; Москва, 1901 – 1905). С будущим редактором первого Пушкин дружески переписывался, работая над второй главой Евгения Онегина, из которой составители и взяли образ льда и пламени. Редактор второго Валерий Брюсов – авторитетный комментатор "Евгения Онегина". Ассоциации эти закономерны. Ведь само слово "антология" в переводе с древнегреческого – это "собрание цветов". Что тогда собрание российских цветов словесности, как не "ЛЁД" и "ПЛАМЕНЬ"? Однако "Северные цветы" – не единственный поэтический образ-ассоциация. Есть ещё один, который спасительно уводит нас от рокового поединка сошедшихся подобно льду и пламени вначале в дружеском союзе, а затем и в поединке роковом романтиков, английского и немецкого, остриженного на английский манер скептика Онегина и геттингенски одухотворённого, с кудрями чёрными до плеч Ленского. Не доводит до гибельной дуэли образ-ассоциация из хрестоматийного "Размышления о божием величестве при случае великого северного сияния". "Размышление о божием величестве при случае великого северного сияния" – так называлась полная почти юношеского восторга элегия Михаила Васильевича Ломоносова, предвосхищающая и российский романтизм задолго до первых его провозвестников Гавриила Романовича Державина, Василия Андреевича Жуковского, Константина Николаевича Батюшкова, и российский экзистенциализм задолго до его зачинателей Евгения Абрамовича Баратынского, Владимира Фёдоровича Одоевского, Фёдора Ивановича Тютчева. Образами хладного пламени и огненного льда, юный помор, приобщающийся к наукам, ох, как не чужд и сладкоголосому царскосельскому отроку. делающему предметом романа не одну только любовь, но и дружбу. И думается, что эта ассоциация допустима, приемлема и даже верна для характеристики духовных поисков авторов новейшего собрания российских цветов словесности:
Песчинка как в морских волнах,
Как мала искра в вечном льде,
Как в сильном вихре тонкий прах,
В свирепом как перо огне,
Так я в сей бездне углублён,
Теряюсь, мыслью утомлён!
Антипод мадам де Помпадур Жермена де Сталь ещё не родилась для того, чтобы разделить всю мировую литературу на северную и южную, российский всеевропеец Иван Сергеевич Тургенев ещё не конкретизировал её теоретические постулаты в своей литфондовской речи "Гамлет и Дон Кихот", южанин Антон Павлович Чехов ещё не продолжил своей драматургией ни хладный пламень северной школы Генриха Ибсена, ни почти андерсоновскую сказку Мориса Метерлинка, а где-то в неведомых просторах мировых времён пылкий в жажде горнего знания студиозус тщится соединить в одной точке своего исполненного любви и трепета бытия юг и север, огонь и лёд, мыслит, приобщаясь к таинствам мировых стихий, думая одними категориями с Блэзом Паскалем и Сёреном Кьеркегором. Рукою Михаила Васильевича Ломоносова и приоткрылся перед зачарованным российским литератором занавес большой литературной сцены, на которой "...бездна, звезд полна; // Звездам числа нет, бездне дна".
Лучшие философические традиции тихой литературы продолжает новая двухтомная антология, литературы зачарованной трепетной сказкой бытия посреди невыразимого мрака небытия. Тихое очарование тихой жизни вводит нас пером признанного метра филологической прозы Андрея Битова в мир тихой лирики на первых страницах антологии. Вначале щемяще грустная увертюра Виктора Астафьева об утраченном в исторических далях волшебстве "русского алмаза" способного при гранке соединить блеском своих граней Европу и Азию. Затем фарсово эпатажная, в духе подпольного парадоксалиста антиувертюра Павла Басинского, словно и в жёлтом петербургском снегу готового до рези в глазах разглядывать, искать алмазы расколотого зигзагами времён горнего неба. И вот зазвучит слово Андрея Битова, его признание о боязни перед текстом, его голосом воспроизведённые строки Николая Рубцова, не те о сорванном букете, строки, которые сами врываются в память, словно велогонщик, обессиливающий на финише, другие, но здесь начинается песня тихой лирики, здесь пламень стиха вспыхивает посреди льда прозы. А во втором томе – Анатолий Жигулин, Владимир Соколов...
Своим тихим, сокровенным словом Виктор Астафьев, Анатолий Жигулин, Владимир Соколов, Николай Рубцов создают то напряжение и задают тот масштаб, в которых и случайно оброненная фраза обретёт полновесный смысл, зазвучит на художественной сцене театра современной словесности объёмно и зримо. К счастью, пестрота и разнообразие цветов льда и пламени не профанированы случайностью. Антология даёт живописную и разноголосую панораму литературного процесса двух десятилетий, которым выпал жребий соединить века и тысячелетья... Два увесистых тома в картонных глянцевых обложках составлены преимущественно из проверенных временем и неоднократной редактурой публикаций "Ариона", "Дружбы народов", "Звезды", "Знамени", "Нового мира", "Ясной поляны", множества провинциальных журналов и альманахов. Авторы и составителя видят себя в космических масштабах большой литературы скорее своеобразным млечным путём, чем яркой плеядой. Где-то рядом сияют стожары, в их свете млечный путь полон особого очарования... В художественном пространстве антологии есть обе российские столицы, провинциальная глубинка, экзотически заграничный Крым. Здесь по давней тургеневской традиции удачно соседствуют леса и степи. Здесь философически дополняют друг друга горы и воды. Здесь есть, на чём остановить взгляд любителю литературной социологии. Литературные имена и судьбы, встающие из строк оглавлений и комментариев, знакомы и близки современному российскому читателю, который преимущественно образован и знает, чем автор отличается от повествователя, натура и прототип от художественного материала и модели, артист и писатель от литературного героя и литературного персонажа, литературное мастерство журналиста и публициста от литературного искусства художника слова. Эротика и анималистика, маринистика и баталистика, этнографический и бытовой натурализм, сокровенные дневники и откровенно криминальный жанр, литературно-художественный психоанализ и философско-религиозные искания, словесность потока сознания и остановленного мгновения – придутся по вкусу "читателю газет, глотателю пустот" и привередливому библиофилу, непритязательному завсегдатаю художественного общепита и взыскательному гурману.
Метки: критика |
ХХХ-I. Сергей ГОНЦОВ |
Я думал, что начертаны заране
Дни, годы, чтоб в пустыне иль в раю,
В живой пучине или в мирной бездне
Идти послушно замыслу, как раньше
Корабль шел иль скифская повозка
Катилась по степи зелёной.
Всё так и есть. Да только с прибавленьем
Живого знанья, непонятной скорби,
И к замыслу не то чтоб отвращенья,
А разных притязаний, – что велик,
И требует вселенского расчёта,
И разум должен с этим управляться,
Как с кораблем, повозкой, а не то
Погаснет, как очаг. А чтоб зажечь
И заново хоть как-то разобраться
С происходящим, – стоит позабыть,
Что было прежде. Да едва ли было.
Да тут выходит, что нельзя мириться
С отсутствием каких-то там предметов, –
И что придется этот век неодолимый
Вдруг пересечь, вот как лесной ручей,
Угрязнув в белой или синей глине,
С прекрасным зверьим черепом в руке,
Который и поможет не сказиться,
Потом окажется, что вся эта забота
Была нужна сама себе. Да привела
Домой. А что я знал вчера об этом?
Метки: поэзия |
Сергей ГОНЦОВ. ЕДИНОЕ |
Алексею Грякалову
Веселье мира и плач камней
Тут сходятся как
враги,
Тут ясный день, там долина теней,
И всюду не видно ни зги.
А
если скажешь, что всё не так,
И распре положен предел,
Тебя захватит
божественный мрак, -
Да, верно, ты сам захотел...
В Тифлис иль обратно
на перекладных,
А то, - к иудейским камням,
И сам, что камень, и много
иных
Людей, что подобны камням.
Вернёшься с миром из древней
мглы
На сказочный карнавал,
А тут поют мирозданья углы
Не те, где вчера
пировал...
Тут вечно юный, и вечно сырой
Таинственный град
Петров,
Встает небесно-земной горой
И пламенем скифских шатров.
И
вольный рокот священной весны
Ты слышишь иначе, не так,
И даль неслыханной
кривизны,
И взгляд, точно тайный знак.
Видать, что затмение в Бытии,
-
Для прочих могучих страстей,
Что в нём роятся, как мысли твои
Иль
трепет вселенских снастей...
Метки: поэзия |
Сергей ГОНЦОВ. ХХХ |
ХХХ
И наша жизнь, что раем быть могла,
Раскинулась гигантским
котлованом.
Да все равно светящаяся мгла
Тут развернула мощные крыла,
Я
назову всё это - Океаном.
Все дыры и провалы вечных дней
Тут собрались,
чтоб сделалось видней
Вселенское зерцало за туманом.
А там непобедимый
Млечный Путь,
Над пропастью ведёт куда-нибудь,
Я назову все это -
Океаном.
Так я писал в неведомом краю,
Лет сто назад, причастный
Бытию,
Вот как сейчас - столетним ураганом,
Но ясный взгляд, что Крепкий
подарил,
И блеск, и трепет сказочных ветрил
Уже нашел в просторе
первозданном...
Отчасти в октябре 2010
|
Метки: поэзия |
Сергей ГОНЦОВ. Баллада |
Из <<СКИФСКИХ РИСУНКОВ>>
>
> БАЛЛАДА
>
>
То ли Граду и Миру конец,
> То ли распря, что тут, -
> Приготовила
славный венец
> За неслыханный труд.
>
> Над загадкой
таинственных дней
> Я не стану гадать,
> Мы проходим долиной
теней,
> Но теней не видать.
>
> Ад разрушен. В старинном
углу
> Только Левиафан,
> Мощный Зверь, источающий мглу
> И
всемирный туман.
>
> То не Граду и Миру конец,
> Мир
нетленный не тут,
> Где мы ходим, но весел Творец,
> И к нему
приведут, -
>
> Все пути, что приводят к Нему,
> А куда им
вести, -
> И спокоен, как дуб на крому,
> Проводник
впереди...
>
> Ясно светятся звездочки шпор,
> Легкий
слышится шаг,
> И античный доносится хор
> Сквозь начертанный
мрак.
>
> Мир таинственный тысячу раз
> Разбери,
перечти,
> Вот он, чудный, не скрытый от глаз,
> Но всегда
впереди.
>
> То ли зренье устроено так,
> Это взгляд с
корабля,
> Над которым таинственный стяг,
> А навстречу -
земля.
>
> То ли Граду и Миру конец,
> А Вселенной
изгиб,
> Тут готовит тяжелый венец
> Всем, кто так не погиб,
-
>
> То ли встреча-прощанье на всём
> Начерталась, как
знак
> Красоты, - ей-то всё нипочем,
> Даже времени мрак.
>
> То ли время - старинный предмет
> И утративший ход,
>
Подозренье, что времени нет,
> Век от века растёт...
>
> А
повсюду, и вместо него, -
> Разве хаос родной
> И начертанный прежде
всего,
> Даже мглы неземной.
>
> Нам недаром знаком каждый
клин,
> Каждый узел, а в нём
> Нить любая, но хаос един,
> И
придуман огнём.
>
> Что за зверь? Да порядок иной.
> Скифский
лук и колчан.
> Вот стрелок, и, одну - за одной,
> Стрелы мечет в
туман.
>
> Он из хаоса взял этот взгляд
> И движения
рук,
> Что мудры и немедля велят
> Взять извилистый лук.
>
> Триста пальцев на каждой руке,
> Как спартанцев живых,
>
Что во времени, словно в реке
> Всех затей мировых.
>
> Он
стреляет, не целясь, как Бог,
> Но любая стрела
> Без желанья
приносит оброк,
> То лису, то козла.
>
> А враги? А об этом
другой,
> Но живой разговор,
> Тетивы натяженье тугой
> И
великий простор.
>
> Кто такие? Откуда пришли?
> Провалиться
куда
> Им назначила воля земли
> Как живая руда?
>
> Я
заметил, что пепел вокруг,
> Это мрак догорел,
> Неизвестный и
полный заслуг,
> Точно тысячи стрел.
>
> Верный путь. Молодая
луна,
> То есть сказочный рог,
> Так выносит из бездны волна
>
Начертанья дорог.
>
> Я не думал, что именно так
> Мир
нетленный живёт,
> То в дырявый срывается мрак,
> То в пустыню
зовёт.
>
> Несказанно богат или нищ
> Добровольно, как царь,
-
> Не к лицу ему мрак пепелищ
> И не в меру, как встарь.
>
> Всё во мне, что увидел сейчас,
> И другое - во мне,
> Как
причудливый древний рассказ,
> Но приходит извне.
>
> Как
понять, что дорога моя, -
> Не моя, и ничья, -
> Непослушливых дыр
бытия
> В ней живая семья.
>
> Как понять, что загадочный
вид
> Исполинской горы
> И начертан, и к сердцу привит,
> И
молчит до поры.
>
>
> В октябре 2010 года
>
|
Метки: поэзия |
ТЫ ЗДЕСЬ ИЛЬ ТАМ? |
Изнанка вечности вневизм,
ямбические переливы,
волны призывы и отливы,
и переплеск солёных брызг.
Звезда морская светит вновь,
и опрозрачена волною,
в ночи беседует с тобою,
а днём перетекает в кровь.
Закат целует миражи,
и невесомостью окрашен,
вдруг отступает возле башен, -
ты здесь иль там, двойник, скажи?
|
Метки: поэзия |
Процитировано 1 раз
фамильный онлайн архив!!! Знаете ли Вы свои корни? |

Потомки Романовых, Пушкиных, Лермонтовых и других известных фамилий… Вы можете оказаться в их числе!Наверняка Ваши родители, бабушки или дедушки рассказывали Вам в детстве о прадедах и прапрадедах, о том далеком времени, когда Ваше рождение было еще в далеком будущем…
|
|
ОЗЁРНОЕ |
Не я течение замыслил -
оно придумало меня,
предвоплощённого из чисел,
от слова боли и огня.
Вне-направление сквозное,
налево - сон, а справа - лик,
переступившего в ночное,
и воля бездны - мой двойник.
А здесь река речёт в ладони,
и город в камень заточён,
где в лабиринте своеволья
я стать единым обречён.
Вневизм забвение предметов,
и опрокинутый трамвай
в озёрах суетного лета
струится за небесный край.
Метки: вневизм |
Лента Мебиуса и вневизм. |
http://www.liveinternet.ru/users/foxess/profile/
Идея совершает движение по ленте Мебиуса. Внезапно посетив нас
в точке пересечения, она уходит в невидимое развитие, и на половине петли
возвращается к нам извне, с обратной стороны, и здесь она готова к
воплощению, если мы в состоянии принять ее для реализации, уже обретшую
потенциал, где следующая петля - возвращение и реализация идеи. Она
вернулась по петле Мебиуса к первоначальной точке, с изнаночной стороны, возвратясь к прежнему почти состоянию, но уже реализованной, проявивишись в виде преображённой идеи, образа или материи, затянувшись в узел.

Метки: вневизм |
Обсуждение сборника критики и статьи "Новизна и традиция" |
Обсуждение не было бурным, тем не менее, тема новейшего направления, рожденного на семинарах Критики и Экспериментальной литературы, создавала естественное противопоставление тех, кому эти идеи близки, другим, кому по тем или иным причинам оно не близко или неинтересно. Поэтесса и критик Валентина Ефимовская призналась, что искренне хочет понять новое направление и авторов, которые в связи с ним цитируются: это Владимир Соловьев, Данте, Набоков, М.Хайдеггер, и другие деятели культуры.
На фото: проф. Герман Ионин и редактор издательства "Дума" Анатолий Белинский, а также наши вневисты в зале: Евгений Антипов, Алексей Ахматов, Александр Гущин, Михаил Куденко и другие.
Предполагается делать такое издание периодическим.


Метки: вневизм |
СГОРАЯ. Алексей ФИЛИМОНОВ |
он незрим, нелюдим,
сколь ни гляди -
только пыль перед ним.
Листья порой
прошуршат, или снег
синей метлой
устремляется вверх.
Чайка или ворон
отпрянут, кружа.
Воздух расколот
в тоске миража.
Он съединяет
былое, и впредь
предназначает
звенящую медь
долу иному,
простору извне,
дух потаённый,
сгорая во мне.
Метки: поэзия |
НОВИЗНА И ТРАДИЦИЯ. Алексей Филимонов |
НОВИЗНА И ТРАДИЦИЯ
О новейшем литературно-философском направлении вневизм
…И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг,
И случай, бог-изобретатель…
А.С.Пушкин
О новейшем литературно-философском направлении или вне-речении вневизм, презентации которого прошли на семинарах Экспериментальной литературы и критики Санкт-Петербургского отделения СП России на Звенигородской 22, говорить просто и нелегко одновременно. «Казалось бы, безумие в наше время раздробленности и хаоса заявлять о попытке целостного взгляда на мир, – отмечала «Литературная Россия» №7 от 19.02.2010 г.), – тем более взгляда извне, со стороны мира непроявленного, в мир материи. “Я не своё тебе открою, но бред пророческий духов”, – писал Тютчев, великий духовидец. Элементы вневизма существовали всегда: сюда можно отнести жанр пророческого откровения, медитативной лирики, философской поэзии.
Его проявление совпало со 100-летием кризиса идей символизма в России, когда Вяч. Иванов и А.Блок констатировали завершение его, оставляя заветы символизма как невоскресшее доселе зерно: «Впиваясь взором в высоту, найдём ли мы в этом пустом небе след некогда померкшего золота?.. Художник должен быть трепетным в самой дерзости, зная, чего стоит смешение искусства с жизнью, и оставаясь в жизни простым человеком» (А.Блок, «О современном состоянии русского символизма», Апрель 1910 г.).
Мне кажется, что я не здесь, а вне… –
написалось у автора статьи почти два десятилетия назад, когда казалось, что на смену позитивисткому взгляду на мир придёт новое видение, и поэзия непременно отразит горизонты беспредельного, путь к которому возможен при помощи «шестого чувства» (Н.Гумилёв). Тогда и был «задуман» – или «нашептан» – свыше путь к новому направлению, в котором, возможно, проявится несбывшееся, невоплощённое, отчасти предугаданное, как в русской сказке: пойди туда, не знаю куда, найди то, неизвестно что, ради чего – неведомо…
Вне – корневая суть, частица, и в то же время апостроф вневизма, в его названии – аббревиатура взгляда Из Вне В Мир. Он призывает искать новое как в традиции, так и вне её. Его термин – не «устойчивое» понятие, но сквожение, зияние вертикали духа. Элементы протовневизма существовали всегда – и для писателя, и для читателя, его со-творца. «Читал ли он их по скважинам, как надобно читать стихи?» – вопрошает набоковский персонаж в «Даре». Человек неведомо или осознанно стучится в синие стены бытия, и ему окликается на стук неведомое ещё зияние пустоты, «откуда, может быть, кое-что долетает до слуха больших поэтов, пронзая наше бытиё потусторонней свежестью – и придавая искусству как раз то таинственное, что составляет его невыделимый признак» (В.Набоков, «О Ходасевиче», некролог). Но существует и скважина в зиянии, отголосок двоимой бездны, «полость в полой пустоте» (А.Филимонов, «Больной проспект»), – мир вне, потусторонность, которая, возможно, никогда не будет проявлена. Дерзкий путь к ней, завещанный мировой культурой – через «Лазейки для души, просветы в тончайшей ткани мировой» (В.Набоков, «Как я люблю тебя»).
Новое направление парадоксально, ибо приотворяет неизрекаемую новизну на основе традиции, к «материи» нераскрытого пока художественного текста, и отсюда его новый, необычный порой язык. И в тоже время оно глубоко коренится в традиции всей русской и мировой культуры. Владислав Ходасевич писал в статье «Литература в изгнании»: «Дух литературы есть дух вечного взрыва и вечного обновления… Литературный консерватор есть вечный поджигатель огня, а не его угаситель». Именно такого импульса в развитии не хватает отечественной словесности, которая одним представляется органичным явлением, отражающим время, другим – тупиковым и безблагодатным, но большинство сходятся во мнении: дальнейшее развитие и движение невозможно, дескать, почти всё уже сказано и написано. «Провокаторская ирония» (Блок) постмодернизма, уравнивающего все детали и части мира в «карнавальности» разлагающихся материи и осколках мёртвой культуры, якобы тому подтверждение.
Причиной сегодняшнего кризиса литературы – царящего уже два десятилетия, на мой взгляд, является отрыв от традиции, от духовных корней русской литературы, от её больших задач и всеобъемлющих образов, которые не были статичны. Об утрате такого целостного видения и отражения мира сожалел Пушкин, восхищаясь стихами Державина. Оценивая роль символистов в воскрешении мёртвых слов, П.Флоренский писал: «язык стал у нас только вещью, системой условных знаков в раз навсегда отлитых, мёртвых и лишённых собственной жизни, собственного движения, собственной силы, собственной ценности формах. Вследствие это речь стала формальной: безжизненной, нетворческой, скучной. Символисты преувеличенным жестом указали на творческую стихию речи, на воссоздание слова в каждом единичном акте творения, на законность словотворчества, поскольку оно формируется согласно общему стилю и природе данного языка. Для многих с тех пор открылись жизнь слова, его красота, его ценность. Слово перестало быть только внешним знаком сообщения, сигналом, а приобрело характер художественного произведения («каждое слово есть художественное произведение» – А.Потебня) («Контекст», 1991, С. 93).
Как пишется в «Манифесте» и «Фрагментах» вне-течения («Эдита», Германия, вып. 2(40) 2010 г., там же представлены произведения вневистов), вневизм воссоединяет разрозненные части традиции в едином потоке обновления. Вневизм представляет ещё неявленные миру слова и идеи слов, но не чуждается архаизмов, ибо в здании русской поэзии важен каждый камень. Он вступает в диалог с лучшими представителями человеконеба. Так, Арсений Тарковский, прозревавший мир «С той стороны зеркального стекла», писал о своих горних соратниках:
Вы, жившие на свете до меня,
Моя броня и кровная родня
От Алигьери до Скиапарелли,
Спасибо вам, вы хорошо горели
Метки: критика |
Процитировано 1 раз
СИНИЙ КОНЬ. Лариса Бесчастная |
Быстры кони,
Без супони,
В синем звоне
Время гонят,
Понукаю я коня:
Унеси, умчи меня!
В Синь, на волю,
Где нет боли,
К лучшей доле,
Из юдоли
Поскорее унеси –
От самой себя спаси!
Мягки брыли,
Жёстка грива,
Я из были
Шаловливо
Улетаю на коне
В неизвестное – во вне.
Страница автора:
http://www.proza.ru/avtor/belani
Метки: поэзия |
Адам Мицкевич. КРЫМСКИЕ СОНЕТЫ. Переводы Владимира Коробова |

Адам Мицкевич
КРЫМСКИЕ СОНЕТЫ
Товарищам путешествия по Крыму.
Автор
ОТ ПЕРЕВОДЧИКА
«Крымские сонеты» Адама Мицкевича своей живописностью подстать величавой красоте крымской природы. Напомню, польский поэт совершил путешествие по Крыму в 1825 году. Итогом этой поездки стал цикл из восемнадцати сонетов. И хотя крымская тема уже полновластно звучала в русской поэзии благодаря «крымским» стихам Семёна Боброва, Батюшкова, Пушкина, – всё же «Крымские сонеты (переводы на русском языке появились вскоре после издания «Сонетов» Мицкевича в 1826 году) стали первым ярким циклом стихотворений о Крыме.
Традиция переводов «Крымских сонетов» в России имеет глубокие корни. Поэт Вяземский заложил “фундамент” этой традиции, сделав в 1827 году переводы сонетов в прозе, точнее – подстрочники к ним. Приятель Мицкевича Ф. Малевский писал в своём дневнике: «Вяземский закончил свой перевод Сонетов. Нельзя проявить большую, нежели он, осторожность в переводе. Дмитриев, Баратынский привлекались для поправок». Не вдаваясь в подробности, замечу, что мимо «Крымских сонетов» не прошли такие выдающиеся поэты как Дмитриев, Козлов, Лермонтов, Аполлон Майков, Бенедиктов, Ходасевич… Непревзойденными по сей день переводами, на мой взгляд, являются гениальные переводы Ивана Бунина (Аккерманские степи. Алушта ночью. Чатырдаг). Уверен, немалую услугу ему в этом оказала любовь к Крыму.
Традиция переводов «Крымских сонетов» Мицкевича органично сплетается с традицией создания сонетов о Крыме. Достойно продолжили ее – Максимилиан Волошин («Киммерийские сумерки»), Сергей Шервинский («Феодосийские сонеты»), а также другие поэты.
Свет сонета не меркнет, «и в наши дни пленяет он поэта». И вместе с ним – Крым, как птица Феникс, вновь и вновь возрождает в нетленных стихах свою величавую красоту и славу.
Владимир Коробов
1
АККЕРМАНСКИЕ СТЕПИ
Вплываем на волнах степного Океана
В просторы диких трав, где лодка – мой возок.
И пенится в цветах, и зыблется поток,
Минуя острова багряного бурьяна.
Смеркается. Ни тропки, ни кургана.
Жду путеводных звезд – шатер небес высок.
Что там горит? Заря? Зарницы ли цветок?
Мерцает млечно Днестр, маяк у Аккермана.
Как тихо! Постоим. Мне слышится вдали,
Как, скрытые от глаз, курлычут журавли,
Как выползает уж из логова ночного,
Как замер мотылек… Так сон глубок травы,
Что, кажется, смогу почуять зов с Литвы…
Молчание. Ни отзвука. Ни слова.
2
МОРСКАЯ ТИШЬ
На высоте Тарханкут
На море полный штиль. Бриз замер, изнемог.
Поник устало флаг. В зеркальной вижу глади
Купальщицы-волны светлеющие пряди,
Волшебной наготы не тронет ветерок.
Корабль оцепенел. Натруженный флагшток
И парус – после битв знамена на параде.
У спутников моих уверенность во взгляде,
К матросам капитан сейчас не очень строг.
О море! В глубине среди пугливых рыб
Во время страшных бурь гигантский спит полип,
Но щупальца в тиши он грозно расправляет.
О мысль моя! И ты – жилище для змеи:
Воспоминанья спят в дни бурные мои,
Но в безмятежный час змея меня терзает.
3
ПЛАВАНИЕ
Разверзлись небеса – на море грянул гром!
Как чудище, волна внезапно набежала,
Ударила о борт – корма заскрежетала,
Вскарабкался матрос на реи пауком.
Безумный ветер! Стон! И – волны кувырком!
Корабль, кружась, летит в метель седую шквала,
Вступив с прибоем в бой, сражаясь как попало,
Штурмует грудью шторм, таранит тучи лбом.
И я – ему вослед – лечу навстречу бездне!
Воображенье, вновь стань парусом – воскресни!
Мгновение – сольюсь с крылатым кораблем,
Из сердца рвется крик, и весело с толпою…
О, как легко парить над бездною морскою
И птицей проплывать в пространстве мировом!
4
БУРЯ
Все кончено… нет сил… сочится в трюм вода…
Волною вырван руль, и сорван ветром парус,
Зловещий помпы свист, матросов крики, ярость,
Померк кровавый диск надежды навсегда.
Тревожный слышен зов – трубит в рожок беда.
Встает за валом вал – растет до неба ярус.
Беря на абордаж, обрушив брызг стеклярус,
Смерть входит на корабль, как воин в города.
Одни лишились чувств. В предсмертный час разлуки
Друзья прощаются. Другие, вскинув руки,
Взывают к Господу и молятся в пути.
Был путник среди них… Он видел в жизни много
И думал: счастлив тот, кто свято верит в Бога,
Кому дано сказать последнее «Прости!»
5
ВИД ГОР ИЗ СТЕПЕЙ КОЗЛОВА
П и л и г р и м и М и р з а
П и л и г р и м
Там? Что за море льда Аллах воздвиг стеною?
Престол из мерзлых туч для ангелов сковал?
Или гигантский Див куском вселенских скал
Отрезал звездам путь, чтоб мир покрылся мглою?
Какое зарево цветет над крутизною!
Пожар на небесах? Царьград в огне ли пал?
Аллах в кромешной тьме лампады разбросал,
Открыв вселенной лик, что скрыла ночь чадрою?
М и р з а
Там? Я туда всходил… Зимой там царство льда,
Там воды горных рек срываются с разбега,
Там звери не живут, орел не вьет гнезда,
Там тучам места нет для мирного ночлега,
Там в мерзлой тишине горит одна звезда
Над самой головой. Она лучистей снега.
То Чатырдаг!
П и л и г р и м
А-а!..
6
БАХЧИСАРАЙ
Величествен и пуст дворец, где жил Гирей.
Роскошной жизни след заткала паутина.
Где пыль сметали лбом по воле господина –
Гнездится саранча, пристанище для змей.
Разросся дикий плющ в пролетах галерей
И чертит письмена… Унылая картина!
То Валтасара знак таинственный «РУИНА»
Природа нанесла на все дела людей.
Один фонтан журчит, как прежде, в полдень синий.
Роняя жемчуг слез над чашею резной,
Разносит голос он в безжизненной пустыне:
О слава, власть, любовь, что здесь текли рекой!
Иссякли скоро вы, а я струюсь доныне,
Тревожа – о позор! – безмолвия покой.
7
БАХЧИСАРАЙ НОЧЬЮ
Молитвы голос смолк, и опустел меджид,
Народ расходится, угас призыв изана.
К рубиновой заре – наложнице желанной –
В плаще из серебра царь полночи спешит.
Узором ярких звезд шатер небес расшит.
Там, посреди светил и млечности туманной,
Белеет облако с каймою златотканой, –
Так лебедь царственный по озеру скользит.
От минарета тень и тень от кипариса,
Сплетаясь, падают, Залит луною двор.
И полукружием, как дьяволы Эвлиса,
Чернеют выступы зубцов гранитных гор,
Где, пробудившись вдруг, с проворностью Фариса
Вонзает молния копье свое в простор.
8
ГРОБНИЦА ПОТОЦКОЙ
Среди густых садов, в расцвете юных лет,
Одна из лучших роз осыпалась, увяла!
Как стая мотыльков в дне золотом пропала,–
Так молодость прошла, оставив грусти след.
На севере горит над Польшей гроздь планет.
Откуда столько звезд так ярко засверкало?
Не твой ли это взор, который смерть украла,
Зажегся в небесах, преобразившись в свет?
О полька! Я, как ты, окончу жизни дни
От родины вдали… Найду я здесь забвенье,
И, может, кто-нибудь в кладбищенской тени
Беседой оживит немое запустенье:
Звучит родная речь – ты оживешь в ней, и
Воскресну в слове я хотя бы на мгновенье.
9
МОГИЛЫ ГАРЕМА
М и р з а – П и л и г р и м у
Здесь с гибких лоз любви был срезан виноград,
Который не дозрел по прихоти Аллаха.
Здесь жемчуг юных жен, став горсткой пыли, праха,
Лег в раковины тьмы из моря нег, услад.
Покрылся пеленой забвенья скорбный сад.
Гранитная чалма – как символ власти, страха.
Что начертал гяур, то не избегнет краха:
Поблекли имена – иссек их дождь и град.
О цвет эдемских роз! Подобно лепесткам
Опали вы в саду невинности до срока.
Никто не осквернит вас жадным взглядом там.
А ныне дочерей поблекшего востока
Тревожит киафир*… Поверил я слезам,
Впустив его сюда. Минуй нас гнев пророка!
_________
* Киафир – значит «неверный»
10
БАЙДАРЫ
Пускаю вскачь коня, взметая пыль дорог!
Без жалости в пылу сильней вонзаю шпоры –
Волною набегут леса, долины, горы.
Лечу! Вокруг меня бурлит цветной поток.
Разгоряченный конь от скачки изнемог.
Когда ж иссякнет свет и скроет мрак просторы,
Осколками зеркал мои дробятся взоры:
Как призрак, внешний мир в них зыбок и далек.
Покоится земля… Лишь я не сплю один,
Разверзнувшись вдали, зовет морское лоно,
Склоняюсь перед ним, тянусь к нему с вершин,–
Навстречу черный вал стеной встает со стоном.
О, если б мысль моя, как челн среди глубин,
Забвение нашла в той бездне непреклонной!
11
АЛУШТА ДНЕМ
Сползли к подножью гор покровы влажной мглы.
Шумят, намаз творя, колосья золотые.
Плоды роняет лес – рубины дорогие,
Что в свете дня горят, как четки у муллы.
Поляна вся в цветах. Прозрачны и светлы,
Как радуга, висят над ней цветы живые:
Цикады, мотыльки, стрекозы голубые,–
Природы пестрый мир, сокровища Аллы.
А там, где волн прибой у лысых скал кипит,
И, отраженный, вновь на берег напирает,
На пене солнца луч искрится и горит –
Зрачков тигриных блеск из глубины мерцает.
И в море далеко над парусом парит
Беспечно стая птиц. Корабль проплывает.
12
АЛУШТА НОЧЬЮ
Вечерней свежестью повеял ветерок.
Светильник мира пал на плечи Чатырдага,
Разбился – пролилась огнем пурпурным влага
И гаснет. Пилигрим один среди дорог:
Внезапно сумраком покрылся гор чертог,
Ручей залепетал в цветах на дне оврага,
Но музыку цветов и влажных трав из мрака
Расслышать в тишине я сердцем только смог.
В глубокий клонит сон. Созвездья зажжены.
Мгновенье – мрак пронзен стрелою метеора:
Дождь золотой осыпал лес, долины, горы…
О ночь восточная! Навеяв лаской сны,
Как одалиска, ты зовешь горящим взором
И страсти будишь вновь на ложе тишины.
13
ЧАТЫРДАГ
М и р з а
О гордость мусульман! К стопам твоей твердыни
Я с трепетом припал, великий Чатырдаг!
Ты – мачта корабля, гор крымских падишах,
Вселенной минарет в заоблачной пустыне.
Безмолвно, как Рамег у врат небесной сини,
Ты сторожишь эдем. Приходит в ужас враг:
Твой плащ – лиловый лес и серебристый мрак,
Чалма твоя из туч, на ней созвездий иней.
Палит ли солнце злак, гяур ли жжет селенья,
Промчится саранча, сжирая все дотла,–
Ты, Чатырдаг, молчишь, далёк добра и зла!
Бесстрастный драгоман, кому века – мгновенье,
Стоишь – у ног твоих лежит забвенья мгла,
Внимая лишь Творцу, как в первый день творенья.
14
ПИЛИГРИМ
У ног моих – страна невиданной красы.
Здесь ясен небосвод, смуглы от солнца лица,
Так отчего душа в ненастный край стремится,
В туманные леса прибрежной полосы?
О Родина, Литва! Песчаный кряж косы
И заросли болот. Нет, с ними не сравнится
Ни соловей Байдар, ни юная певица,
Ни райские сады в соцветиях росы.
Пусть странника манит в густую тень Салгир,
Я от него далек. Задумчиво вздыхаю
Об утре прежних дней, и сумрачен, и сир.
И в прошлое глядясь, я с грустью вспоминаю
Любимую свою – в ней заключен весь мир.
Она – в родном краю… Но помнит ли? Не знаю.
15
ДОРОГА НАД ПРОПОСТЬЮ В ЧУФУТ-КАЛЕ
М и р з а и П и л и г р и м
М и р з а
Молитву сотвори, закрой на миг глаза,
Рассудок вверь коню – оставь узду в покое.
Так чутко замер он, как будто перед боем.
Вот – прыгнул. Добрый конь! И цепкий, как лоза.
Вниз, путник, не смотри! Там – бездна. И гроза,
Метая молнии, не смерит дна собою.
В колодец Аль-Каир дотянешься рукою?
Рука ведь не крыло. Так думает мирза:
И в мыслях не дерзай познать глубины мрака!
Что мысль? Поманит в путь – в безбрежность заведет.
Как якорь, вниз скользнет… И ты добыча праха.
П и л и г р и м
Прости меня, мирза! Я заглянул вперед…
Что видел? Не скажу, но не из чувства страха:
Чему названья нет – то смерть лишь назовет.
16
ГОРА КИКИНЕИЗ
М и р з а
Взгляни на небеса, сорвавшиеся в бездну:
То море. Среди волн поверженным орлом
Распластана скала – сломал ей крылья гром,
Как радуга, они то вспыхнут, то исчезнут.
Сквозь дымку различать синь моря бесполезно.
Не остров-птица там, а тучи снежный ком.
Полмира погребла во тьму она крылом
И лентой-молнией опутала окрестность.
Но тихо, берегись! Коня замедли бег
И будь настороже. Здесь пропасть под ногами.
Я кинусь – так с вершин лавиной сходит снег.
Исчезну с глаз твоих – смотри на ближний камень,
Мелькнет перо чалмы – пусти коня в разбег,
А не мелькнет – прощай… Аллах пребудет с нами!
17
РАЗВАЛИНЫ ЗАМКА В БАЛАКЛАВЕ
В развалинах лежит стен крепостных громада,
Прославивших тебя, неблагодарный Крым!
Они – как черепа по склонам гор крутым,
В них поселился гад и люд ничтожней гада.
Взбираемся наверх. Кругом следы распада.
Среди надгробных плит зной полдня недвижим.
Разросся виноград над именем чужим,
Таится, словно червь, оно в укрытье сада.
Здесь прежде древний грек на стенах крепче скал
Афинские пиры для знати высекал,
И генуэзец здесь в бою не знал позора…
А ныне – пустоту крылами чертит ворон.
Он траурную тень над башней распластал,
Как черный флаг беды, погибели и мора.
18
АЮДАГ
Люблю смотреть в простор с вершины Аюдага,
Как толпы грозных волн идут на приступ скал:
Сомкнулся черный строй и брызги расплескал –
Искрится, словно снег, серебряная влага.
Прибой, как рать китов, влечет вперед отвага,
Таранит берега и вспять уходит вал,
Но мечет на песок то жемчуг, то коралл,
Когда перекипит волны взбешенной брага.
Подобная волнам, все красит в мрачный цвет
Бушующая страсть, о юноша-поэт!
Но перед Музою смирится непогода,
Пронесшейся грозы повыветрится след.
И вдохновение, и радость, и свобода,
Бессмертные в веках, украсят твой сонет!
ПЕРЕВОД ВЛАДИМИРА КОРОБОВА
---------------------------------------------------------------------
Переводы Владимира Коробова «Крымских сонетов» А. Мицкевича были опубликованы в следующих периодических изданиях:
1. Всемирная литература (г. Минск) № 9, 1997.
2. Иностранная литература № 11, 1998.
3. Крымский альбом (Феодосия-Москва), 1998.
4. Брега Тавриды № 1, 1994.
5. Меценат и Мир, № 6-7
6. Литературная учеба № 2, 1998.
7. Под Часами (альманах, г. Смоленск) № 7, 2008.
|
Метки: перевод |
Процитировано 2 раз