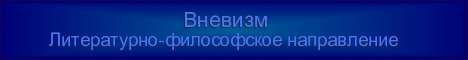-Рубрики
- Поэзия (94)
- Метафизика (43)
- Критика (32)
- Стихотворения (11)
- Проза (8)
- Полемика (6)
-Музыка
- The Clouds
- Слушали: 1699 Комментарии: 0
-Друзья
-Постоянные читатели
-Сообщества
-Статистика
Михаил Куденко. МУЖЧИНЫ И АНГЕЛЫ. Приглашение к дискуссии. |
Приглашение к дискуссии
Мужчины и Ангелы
12 заповедей для мужа и ко дню 8 марта, и на каждый Божий день
Обличай мудрого, и он возлюбит тебя; Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи правдивого, и он приумножит знание (Пр. 9: 8, 9).
В начале третьего тысячелетия от Р.Х. Церковь должна избавиться от мужского шовинизма и мужской тирании по отношению к Женщинам. И Женщины заслуживают того, чтобы о них поговорили немного более, чем это принято, например, в интернете.
Комплимент вместо предисловия. И китайская (их знаменитые инь и ян), и иудейская (Филон Александрийский), и христианская (Ориген, Амвросий Медиоланский, Петр Ломбардский) культуры предполагают в каждом человеке наличие одновременно и Женского и мужского начал.
Если и найдется в мировой истории или мировой научной и культурной практиках нечто: какой-либо блистательнейший аргумент или изысканное доказательство, изумительнейший факт или поразительное в своём великолепии событие, строгое в своей чистоте и логике умозаключение или сильный и увесистый в избытке своём довод, честный иезуитский пример или закостенелая богословская цитата, отполированный схоластически-казуистский тезис или окаменевший крылатый демагогический постулат, добрый философский афоризм или парадоксально красивая мысль, – являющееся или показывающее исключительной важности бесспорное преимущество мужского пола над полом женским, то свидетельствовать это будет только об одном – в мужчине победило его высшее Женское начало. Наконец-то. И никакого матриархата.
§ О некоторых терминах и аргументах
В современной богословской литературе вопросу взаимоотношения полов стали уделять все больше и больше внимания. Оно и понятно – ведь между мужчинами и женщинами и в Церкви, и вне Церкви ведутся постоянные, с небольшими перерывами на обед, «военные действия».
Так и в статье «10 заповедей для жены» (православная газета «Вечный зов» № 3, 2009), которая кратко пересказывает позицию С. Озборна, очень много бытовой психологии с небольшими библейскими вкраплениями. В таких и им подобных книгах и статьях, по сути, излагаются и правила поведения за кухонным столом, в ванной комнате и спальне, и рекомендации, как отвечать на звонки свёкра и свекрови, улыбаться, терпеть, где зажигать свечи и т.п.
А почему бы, размышляя о муже и жене, не попробовать-попытаться положить в их взаимоотношения не бытовое, не психологическое и не частичное, а полное, как полагает автор, библейское основание? Давайте вместе и попробуем поразмышлять над великой библейской загадкой: «Ибо Господь сотворит на земле нечто новое: жена спасёт мужа» (Иер. 31:22) – для того и предлагается дискуссия. Жена спасёт мужа в будущем, а как сегодня мужья спасают своих жен, как к ним сами относятся и как учат относиться других?
Возьмем для общего впечатления две книги современных, всемирно известных, евангелических авторов: М. Монро «Понимание предназначения и силы мужчины/женщины» и С. и Б. Аделаджа «Мужское счастье/ Женское счастье», – и приведем несколько цитат из них.
«Бог уже сделал мужчину и женщину равными». «Он [мужчина] один являлся лидером. На него была возложена ответственность за то, чтобы иметь вѝдение и быть лидером для тех, кто будет следовать за ним путями Божьими». «Он был лидером до того, как была сотворена женщина». «Женщина является совершенным дополнением мужчины» – это М.М.
«Мужчина призван быть лидером – в обществе, семье, служении». «Сначала Бог сотворил мужчин! Женщина – всего лишь помощница». «Предназначение женщины – быть помощником мужчины»; «женщина – всего лишь “часть мужчины”». «На самом деле, мужчина “ближе” к Богу, и потому именно он является главой семьи. Согласитесь, что голова всегда находится выше, чем тело» – это С.А.
Дополнить их следует постановкой вопроса: «Нужен ли России духовный лидер?», – который был сформулирован в передаче «Мост свободы» на телеканале «100ТВ» 27 марта
2009г. Вопросы лидерства, как видим, волнуют и светское общество.
Не вдаваясь в подробный и тщательный анализ книг, попробуем кратко и тактично возразить авторам с их очень странной логикой и еще более странной богословской избирательностью. Возразим и традиционной точке зрения на мужчин и женщин, сложившейся в христианстве за последние две тысячи лет: женщина не только не равна мужчине, но стоит невообразимо ниже его, а это не соответствует ни букве, ни духу Библии.
Метки: метафизика |
Процитировано 3 раз
Евгений Лейзеров. БУЛГАКОВ И НАБОКОВ... Эссе |
Констанц
БУЛГАКОВ И НАБОКОВ – ВЕРШИНЫ
РОССИЙСКОЙ СЛОВЕСНОСТИ ХХ-го ВЕКА
Доклад, прочитанный в Констанце 01.05.2010, в рамках международного фестиваля «РУССКИЕ ДНИ НА БОДЕНЗЕЕ»
В истории российской словесности Михаил Булгаков и Владимир Набоков стояли особняком. И это было, как при жизни обоих писателей, так и после их смерти. Они творили в одно и то же время, примерно 20 лет, охватывая целиком 20-е и 30-е годы 20-го века. Родившиеся в 90-е годы 19-го века (Булгаков в 91-м, Набоков в 99-м), они к концу 20-х годов стали признанными мэтрами литературы. Здесь нужно сделать существенную оговорку. Если Булгаков всё это время жил в советской России, где умер в своей постели в 1940-м году (что для советских писателей именно в тот предвоенный период репрессий было пиком благополучия), то Набоков, живший в Западной Европе и творивший большей частью на русском языке, в том же 40-м году эмигрировал из Франции в Америку. И там, в Америке, он принимает решение: ввиду малочисленности читающих по-русски, отказаться от русского языка и перейти на английский.
Обоих писателей в то время, когда они творили в русской литературе, нещадно ругала критика. Освещая этот период, мне бы хотелось остановиться на самом трагическом дне, как в жизни Булгакова, так и Набокова. Как это ни странно покажется, этот день совпал в календарном плане: 28 марта, правда, разные годы. Для Булгакова это 1930-й, для Набокова – 1922-й. Рассмотрим сначала, что же случилось с Булгаковым.
I
28 марта 1930 года Михаил Булгаков под давлением тяжелых, жизненных обстоятельств вынужден был обратиться в самые высшие инстанции страны.
ПРАВИТЕЛЬСТВУ СССР *
Михаила Афанасьевича Булгакова
(Москва, Б. Пироговская, 35-а, кв.6)
Я обращаюсь к Правительству СССР со следующим письмом:
1.
После того, как все мои произведения были запрещены, среди многих граждан, которым я известен, как писатель, стали раздаваться голоса, подающие мне один и тот же совет:
Сочинить «коммунистическую пьесу» (в кавычках я привожу цитаты), а кроме того, обратиться к Правительству СССР с покаянным письмом, содержащим в себе отказ от прежних моих взглядов, высказанных мною в литературных произведениях, и уверения в том, что отныне я буду работать, как преданный идее коммунизма писатель-попутчик.
Цель: спастись от гонений, нищеты и неизбежной гибели в финале.
Этого совета я не послушался. Навряд ли мне удалось бы предстать перед Правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее собой неопрятный и к тому же наивный политический курбет. Попыток же сочинить коммунистическую пьесу я даже не производил, зная заведомо, что такая пьеса у меня не выйдет.
Созревшее во мне желание прекратить мои писательские мучения заставляет меня обратиться к Правительству СССР с письмом правдивым.
2.
Произведя анализ моих альбомов вырезок, я обнаружил в прессе СССР за десять лет моей литературной работы 301 отзыв обо мне. Из них: похвальных – было 3, враждебно-ругательных – 298.
Последние 298 представляют собой зеркальное отражение моей писательской жизни.
Героя моей пьесы «Дни Турбиных» Алексея Турбина печатно в стихах называли «СУКИНЫМ СЫНОМ», а автора пьесы рекомендовали, как «одержимого СОБАЧЬЕЙ СТАРОСТЬЮ». Обо мне писали, как о «литературном УБОРЩИКЕ», подбирающем объедки после того, как «НАБЛЕВАЛА дюжина гостей».
Писали так:
«...МИШКА Булгаков, кум мой, ТОЖЕ, ИЗВИНИТЕ ЗА ВЫРАЖЕНИЕ, ПИСАТЕЛЬ, В ЗАЛЕЖАЛОМ МУСОРЕ шарит... Что это, спрашиваю, братишечка, МУРЛО у тебя... Я человек деликатный, возьми да и ХРЯСНИ ЕГО ТАЗОМ ПО ЗАТЫЛКУ... Обывателю мы без Турбиных вроде как БЮСТГАЛТЕР СОБАКЕ без нужды... Нашелся, СУКИН СЫН. НАШЕЛСЯ ТУРБИН, ЧТОБ ЕМУ НИ СБОРОВ, НИ УСПЕХА...» («Жизнь ИСКУССТВА»,
№ 44 – 1927 г.).
Писали «О Булгакове, который чем был, тем и останется, НОВОБУРЖУАЗНЫМ ОТРОДЬЕМ, брызжущим отравленной, но бессильной слюной на рабочий класс и его коммунистические идеалы» («Комс. правда», 14/Х.1926 г.).
Сообщали, что мне нравится «АТМОСФЕРА СОБАЧЬЕЙ СВАДЬБЫ вокруг какой-нибудь рыжей жены приятеля» (А.Луначарский, «Известия», 8/Х-1926 г.), и что от моей пьесы «Дни Турбиных» идет «ВОНЬ» (Стенограмма совещания при Агитпропе в мае 1927 г.), и так далее, и так далее...
Спешу сообщить, что цитирую я отнюдь не с тем, чтобы жаловаться на критику или вступать в какую бы то ни было полемику. Моя цель – гораздо серьезнее.
Я доказываю с документами в руках, что вся пресса СССР, а с нею вместе и все учреждения, которым поручен контроль репертуара, в течение всех лет моей литературной работы единодушно и С НЕОБЫКНОВЕННОЙ ЯРОСТЬЮ доказывали, что произведения Михаила Булгакова в СССР не могут существовать.
И я заявляю, что пресса СССР СОВЕРШЕННО ПРАВА.
3.
Отправной точкой этого письма для меня послужит мой памфлет «Багряный остров».
Вся критика СССР, без исключений, встретила эту пьесу заявлением, что она «бездарна, беззуба, убога», и что она представляет «пасквиль на революцию».
Единодушие было полное, но нарушено оно было внезапно и совершенно удивительно.
В №12 «Реперт. Бюлл.» (1928 г.) появилась рецензия П. Новицкого, в которой было сообщено, что «Багровый остров» - «интересная и остроумная пародия», в которой «встает зловещая тень Великого Инквизитора, подавляющего художественное творчество, культивирующего РАБСКИЕ ПОДХАЛИМСКИ-НЕЛЕПЫЕ ДРАМАТУРГИЧЕСКИЕ ШТАМПЫ, стирающего личность актера и писателя», что в «Багровом острове» идет речь о «зловещей мрачной силе, воспитывающей ИЛОТОВ, ПОДХАЛИМОВ И ПАНЕГИРИСТОВ...»
Сказано было, что «если такая мрачная сила существует, НЕГОДОВАНИЕ И ЗЛОЕ ОСТРОУМИЕ ПРОСЛАВЛЕННОГО БУРЖУАЗИЕЙ ДРАМАТУРГА ОПРАВДАНО».
Позволительно спросить – где истина?
Что же такое, в конце концов, - «Багровый остров»? – «Убогая, бездарная пьеса» или это «остроумный памфлет»?
Истина заключается в рецензии Новицкого. Я не берусь судить, насколько моя пьеса остроумна, но я сознаюсь в том, что в пьесе действительно встает зловещая тень и это тень Главного Репертуарного Комитета. Это он воспитывает илотов, панегиристов и запуганных «услужающих». Это он убивает творческую мысль. Он губит советскую драматургию и погубит ее.
Я не шепотом в углу выражал эти мысли. Я заключил их в драматургический памфлет и поставил этот памфлет на сцене. Советская пресса, заступаясь за Главрепертком, написала, что «Багровый остров» – пасквиль на революцию. Это несерьезный лепет. Пасквиля на революцию в пьесе нет по многим причинам, из которых, за недостатком места, я укажу одну: пасквиль на революцию, вследствие чрезвычайной грандиозности ее, написать НЕВОЗМОЖНО. Памфлет не есть пасквиль, а Главрепертком – не революция.
Но когда германская печать пишет, что «Багровый остров» это «первый в СССР призыв к свободе печати» («Молодая гвардия» № 1 – 1929 г.), - она пишет правду. Я в этом сознаюсь. Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что, если кто-нибудь из писателей задумывал бы доказывать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода.
4.
Вот одна из черт моего творчества, и ее одной совершенно достаточно, чтобы мои произведения не существовали в СССР. Но с первой чертой в связи все остальные, выступающие в моих сатирических повестях: черные и мистические краски (я – МИСТИЧЕСКИЙ ПИСАТЕЛЬ), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной и Великой Эволюции, а самое главное – изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя М.Е. Салтыкова-Щедрина.
Нечего и говорить, что пресса СССР и не подумала серьезно отметить все это, занятая малоубедительными сообщениями о том, что в сатире М. Булгакова – «КЛЕВЕТА».
Один лишь раз, в начале моей известности, было замечено с оттенком как бы высокомерного удивления: «М. Булгаков ХОЧЕТ стать сатириком нашей эпохи» («Книгоноша», № 6 – 1925 г.).
Увы, глагол «хотеть» напрасно взят в настоящем времени. Его надлежит перевести в плюсквамперфектум: М. Булгаков СТАЛ САТИРИКОМ, и как раз в то время, когда никакая настоящая (проникающая в запретные зоны) сатира в СССР абсолютно немыслима.
Не мне выпала честь выразить эту криминальную мысль в печати. Она выражена с совершеннейшей ясностью в статье В. Блюма (№ 6 «Лит. Газ.») и смысл этой статьи блестяще и точно укладывается в одну формулу:
ВСЯКИЙ САТИРИК В СССР ПОСЯГАЕТ НА СОВЕТСКИЙ СТРОЙ.
Мыслим ли я в СССР?
5.
И, наконец, последние мои черты в погубленных пьесах «Дни Турбиных», «Бег» и в романе «Белая гвардия»: упорное изображение русской интеллигенции, как лучшего слоя в нашей стране. В частности, изображение интеллигентско-дворянской семьи, волею непреложной исторической судьбы брошенной в годы гражданской войны в лагерь белой гвардии, в традициях «Войны и мира». Такое изображение вполне естественно для писателя, кровно связанного с интеллигенцией.
Но такого рода изображения приводят к тому, что автор их в СССР, наравне со своими героями, получает – несмотря на свои великие усилия СТАТЬ БЕССТРАСТНО НАД КРАСНЫМИ И БЕЛЫМИ – аттестат белогвардейца-врага, а, получив его, как всякий понимает, может считать себя конченым человеком в СССР.
6.
Мой литературный портрет закончен, и он же есть политический портрет. Я не могу сказать, какой глубины криминал можно отыскать в нем, но я прошу об одном: за пределами его не искать ничего. Он исполнен совершенно добросовестно.
7.
Ныне я уничтожен.
Уничтожение это было встречено советской общественностью с полною радостью и названо «ДОСТИЖЕНИЕМ».
Р.Пикель, отмечая мое уничтожение («Изв.», 15/IX – 1929 г.), высказал либеральную мысль:
«Мы не хотим этим сказать, что имя Булгакова вычеркнуто из списка советских драматургов».
И обнадежил зарезанного писателя словами, что «речь идет о его прошлых драматургических произведениях».
Однако жизнь, в лице Главреперткома, доказала, что либерализм Р.Пикеля ни на чем не основан.
18 марта 1930 года я получил из Главреперткома бумагу, лаконически сообщающую, что не прошлая, а новая моя пьеса «Кабала святош» («Мольер») К ПРЕДСТАВЛЕНИЮ НЕ РАЗРЕШЕНА.
Скажу коротко: под двумя строчками казенной бумаги погребены – работа в книгохранилищах, моя фантазия, пьеса, получившая от квалифицированных театральных специалистов бесчисленные отзывы – блестящая пьеса.
Р.Пикель заблуждается. Погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие и все будущие. И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о дьяволе, черновик комедии и начало второго романа «Театр».
Все мои вещи безнадежны.
Метки: критика |
Процитировано 4 раз
Евгений Лейзеров. СТРОФЫ К ПОЭТАМ |
…И погрузиться в светлое тепло
давнишних, младости воспоминаний,
где так вменяемы добро и зло,
где привкус счастья от сквозных страданий,
где небо выкрашено в синий цвет,
нет, голубой по праву первородства,
где так певучи двадцать с лишним лет
по существу разительного сходства
родной души с природою во всём,
где дух парит восторгов и закатов…
Как, право, славно возвратиться в дом,
нежданно став от младости богатым…
* * *
Я помню твой приход, растущий звон,
волнение, неведомое миру.
Луна сквозь ветки тронула балкон,
и пала тень, похожая на лиру.
Владимир Набоков, «К музе»
Да, с музой он на равных говорил, –
как Пушкин в Болдине, так он в Берлине,
когда немели к ночи фонари
в безоблачной, воздушно-летней сини,
когда звучал напев: «О будь верна
острожной правде откровенья»,
тогда всходила полная луна
предвестницей благого провиденья.
И он входил, неведом, не знаком,
ответа ждал, перебирая сроки,
и оживал его далёкий дом,
и муза подтверждала:
«Вы – Набоков!»
* * *
Забываются многие новости
и живешь в постоянном бреду
под напором довлеющей совести,
что когда-то опору найду.
Не важна подоплёка событий
и не важен грядущий итог,
всё равно – по веленью наитий
будет найден дарованный Бог.
И тогда по закону момента,
под воздействием страждущих сил
раскрывается суть инцидента
и зачем на земле этой жил?
СМЕРТЬ БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ
Поэт ушел из жизни…
точно в срок,
как повелел Господь…
оцепененье
при извещенье вызывает шок
и паралич безмолвного смятенья.
Поэт ушел…
но где-то в небесах
воркуют ангелы, справляя тризну,
и в храме, в Переделкино, монах
готовит душу для загробной жизни.
ЧИТАЯ «СОГЛЯДАТАЯ» НАБОКОВА
Что мы знаем о собственном ракурсе,
как мы смотримся в мире других;
и какие готовятся казусы,
исходя из зачатков благих?
Нелегко совладать с самомнением,
не разрушив гранита надежд,
оказавшись в смешном положении
соглядатая без одежд.
Нет, с одеждами – рваными, ветхими,
с эго-вектором розничной лжи,
наблюдая мгновения редкие,
что несет нам проказница-жизнь.
* * *
… А жизнь проходит плавной чередой
моментами запомнившихся фото,
и вот уже – «звонки» или «отбой»,
а жить «по полной» всё ещё охота.
Вот так противоречьями полна
история-наложница в своей тиши:
и вместо солнца зябкая луна,
и – апокалипсис встревоженной души.
* * *
Эту боль над отчизной горькой
сохрани, дорогой, сохрани.
Скольким жизнь опорочили, скольким
Окаянные (мерзкие) дни?
Сколько жизней погублено, сколько?
Счёта нет, да и нужен ли счёт
В той судьбине российски-прегорькой? –
(Где такую отыщешь еще?)
Век двадцатый, до жути жестокий,
большевистски-варварский век
всю Россию извел настолько,
что погас сострадания свет.
И теперь, подводя итоги,
век другой и к чему слова?
Помолись за неё, слава Богу,
что Россия ещё жива.
* * *
О, светлый праздник Рождества Христа,
когда в себе (заранее готовясь),
несешь охотно,
явно неспроста,
(чаруясь ей),
евангельскую повесть.
Как есть, волхвы собрались в дальний путь,
идут,
идут,
своей звезде доверясь,
и вот пришли,
освободясь от пут –
так Истиною побеждают ересь.
А Он лежал, малюткою в яслях,
(подарками волхвов в веках отмечен).
И отступал тогда постыдный страх,
чтобы Любовь торжествовала вечность!
* * *
Встречать рассвет в экспресс-вагоне,
когда свербит морозом путь,
и за окном леса в прогоне
под снегом ёжатся чуть-чуть,
когда войдёт в согласованье
со стуком сердца стук колёс,
тогда на свет взойдёт призванье
того, что будущим звалось…
Метки: поэзия |
Сергей ГОНЦОВ. Есть безысходность в красоте. Книга стихотворений |

СЕРГЕЙ ГОНЦОВ
ЕСТЬ БЕЗЫСХОДНОСТЬ В КРАСОТЕ
Книга стихотворений
Обложка художника А.Ю.Никулина
Москва, 2007
ВЕЧНАЯ БИТВА
(в духе древнерусских миниатюр)
Битва с драконами на мосту
Продолжается много лет, -
Синяя река играет внизу,
От листа к листу благоуханный свет
Течет, - вырастает лес,
Ряженые рубят вековые стволы,
Творец спускается с низких небес,
Озаряя мировые углы
Светом истины, добра, любви,
А на великолепном мосту
Дракон и герой по колено в крови
Бьются за неслыханную красоту.
Нагие зеленеют склоны
С невероятной быстротой,
Покров, чудесный и простой,
Не только этот цвет зеленый.
В нем обещание цветенья
И тайна древности живой,
Не камни только иль растенья
Живут порукой круговой.
Вот так из глиняного чрева
Выходит колокол, как Царь,
И мысль, отпавшая от гнева,
Свободой зыблется, как встарь…
ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ
Молчат и Сирины, и Алконосты,
Но некий чудный звук
Опять живит всемирные погосты,
И это сходит с рук.
Откуда взялся? Древние руины
Должно быть, занесли
В простор его, – и горы, и долины,
И вещий мрак Земли.
И семена живого мирозданья,
Как молнии, цветут,
Над повестью юдоли и страданья,
Как прежде, там и тут.
И турий рог в серебряной оправе
Над рощей вострубил,
Не мысля о забвении, о славе,
Он здесь Творца любил…
БОГАТЫРСКАЯ ОДА
Всё мрачней очертания мира,
Но таинственней каждый встречный,
То юродивый, то премудрый
По-другому, как дуб-подросток.
То старик ясноокий, могучий,
Но такие ресницы имеет,
Что поднять могут только вилы
Две чудесных живых завесы.
И тогда он как глянет сурово,
А потом рассмеётся, приметив,
Как малиновый круг за дорогой
Расцветает, не встретив преграды.
Кто он? Слышал, что Дух простора.
Плоть от плоти и кость от кости
Дней, веков и всего мирозданья,
Крепок, как богатырская ода.
Весел, как богатырская хата,
Что раздольно встаёт за дорогой,
Нет, не всё в этом свете прогнило,
И не всё в этих долах истлело.
Как увидит меня, так заноет:
– Где ходил? И почто не мыслил,
Как положено – небом, землёю,
А не мудростью человечьей?
Что отвечу? Да то и отвечу,
Разве в мудрости человечьей
Нет простора? И разве в просторе
Своего на находит повсюду…
ХХХ
Три Ангела вкруг чаши золотой,
И дом, и древо, и скала, —
Ты видишь мир божественно-простой,
И этим складкам несть числа.
Еще земная ткань напряжена,
И даль строптивей, чем онагр, —
Но милостью печаль разрешена,
Простор таинственен и наг.
Цветенье множества измерено теперь,
Могущество, как точка, стеснено,
Теченьем света приоткрыта дверь,
И светится горчичное зерно...
ВЗЯТИЕ ГОРОДА
(в духе древнерусских миниатюр)
Взятие города, – рубятся эти и те,
В золотой неподвижности обозначая край
Великого бытия, а на червленом щите
Лучшего ратника, – изображен рай, –
Несущий ключи встречает за ратью рать,
Птица Сирин, раскачиваясь на когтях,
Поет о том, как шли они умирать, -
А Богородица поднимает Дитя;
Кони совершенны, - шлемы горят
На солнце в виде отрубленной головы,
Взятие города, – вечен за рядом ряд,
И золотая ящерица глядит из травы...
ЛАСТОЧКА
В ней все угодья воплотились
И неизвестно – кто она, -
Столетья тут остановились,
Как белогрудая волна,
Сжимаясь в замысел мгновенный
И в этот полдень золотой,
С подбоем мрака, с высотой,
В которой низ благословенный,
Как это странное гнездо,
А в нем – и музыка и слово,
И свет, и мрак, и дней основа,
И звук вселенной молодой;
II
Ты, ласточка! В тебе виденья
Снуют, но без определенья;
Ты – это ты, хотя изгиб
Чудесных крыл из той эпохи,
Когда гнездились полубоги
На крыльях исполинских рыб;
В тебе все странно, все случайно,
И невозможно пренебречь
Ничем; ни явно и ни тайно;
А все понять – что в землю лечь
Или небес достичь лиловых -
Одновременно, - наша речь
На крыльях зыблется готовых…
НЕБЕСНО-ЗЕМНОЕ
Бедный мир отдыхает на всех,
Точно лютый Кащей на таланах,
Чуть прикопанных в древних курганах,
Но серебряный катится смех;
Кто-то вновь рассмеется в толпе
Над юдолью, сокрытой в пейзаже,
И над бедностью, зримой тебе,
Потому что всегда она та же;
Время вставлено в круг мировой
Просто так, не имея опоры, –
Ни в душе, безысходно-живой,
Ни в костях, где иные просторы;
Ведь сказал же вчера Августин,
Что великого мира касался:
«Как нашел я Тебя, Господин,
Если Сам Ты во мне не сказался…»
Метки: поэзия |
Есть безысходность в красоте. Продолжение |
Книга стихотворений
ВСТРЕЧА
Прощание с древностью то же, что странная встреча с ней,
Когда идешь наудачу в глухое царство теней, –
Орфей ты, а на дороге встречает тебя Плутон,
Оттуда несущий истину, поветрие и закон.
Тот путь твоим оказался, как только ты встретил его,
Идущего с пальмовой ветвью, не взвидевшего ничего, –
Смеющийся вполоборота рыжебородый гигант
В тебе уловил недаром свой гений и свой талант.
Признаешь себя во встречном, он весел, мудр и силен,
И картой извилистой ада, промеренной, не утомлен, –
Но путь его дальноконный, таинственный и простой,
Овеян почти безбожной, неизбранной красотой.
Два мира потусторонних на пыльной тропе сошлись,
Над каждым возобладала алмазная спелая высь;
Пьют пыль зловредные бесы и с той, и с другой стороны,
И грешники в передвиженьи и здесь и там стеснены.
И ты сатану не взвидел, а что для него сатана, –
Про то восхищенно глаголет идущая вслед стена,
Подобна стене китайской иль цареградской стене,
Но истина, как повсюду, живет в кипучем вине.
И ты бурдюк подвигаешь, и он достает бурдюк,
Ты видишь косматый Север, а он – впечатленный Юг, –
Два ветра гром раскатили, когда ты сделал глоток,
Тогда проявился Запад, и разом возник Восток.
Он пил за вашу удачу, но это же делал ты,
И были так странно знакомы невиданные черты,
Вы оба пришли из бездны, привел вас неведомый Бог
На это сплетенье стилей, дорог, просторов, эпох.
ОСЕНЬЮ И ВЕСНОЙ
Диких гусей переменчивый клик,
Вряд ли заслышатся звуки просторней, –
В области дольней, в области горней
Замысел ясный, но чудный язык.
В мире великом, где чистое зло
Терпит обиду от вольного света,
Песня ли эта, баллада ли эта
Плачет о том, как ничто не спасло.
Как одолела печаль и нужда,
А при корнях засверкала секира,
Как посреди исполинского мира
Всех пригвоздили века навсегда.
Но переменчив таинственный зов,
В том-то и дело, в том-то и дело,
Терпит нужду безысходное тело,
Царствует дух, как раскидистый кров.
И под могучим крылом тишины
Пламени чудный трилистник играет, –
Угли мерцают, – огонь умирает, –
Вольно струится с другой стороны…
НЕИЗВЕСТНАЯ БИТВА
За песнью старинной, за мыслью пустынной,
Не встретишь любимой, не встретишь невинной,
Зловещие лица мелькают в тумане,
И снится мне битва на Красной Поляне;
Прекрасные лица мелькают в тумане,
И снится мне битва на Красной Поляне,
Что скрыта от взора сияньем Полтавы,
И шумом, и блеском измеренной славы;
За песней старинной, за мыслью пустынной,
Найти невозможно твердыни срединной,
Но звук этой битвы тревожным раскатом
Расскажет о мире, живом и богатом;
Восточный гигант, как исчадие ада
Врагом привезенный в повозке особой,
Как дьявол, отмечен невиданной злобой,
Как башня стоит среди вражьего стада;
Он кинулся зверем на русское войско,
Едва ли желая победы геройской,
Он крови хотел, не желая сраженья,
Но в русских исхитил предел раздраженья;
Вот катится прочь голова великана,
Векам на прощанье мигнув из тумана,
И тело гигантское падает длинно,
За песней старинной, за мыслью пустынной;
Прекрасные лица мелькают в тумане,
Огонь умирает, огонь воскресает,
И помнит нас битва на Красной Поляне,
И свет благодатный на землю бросает…
ЗЕЛЁНОЕ ВЕЧЕ
Что нам делать, Творче, что нам делать?
Приступили к нам колдуны и маги,
Напирают со всех сторон, как статуи,
Каждый – злобен, как вымысел адский.
Что нам делать, Отче, как нам укрыться?
Как нам крепость удалую поставить
На тысячах наших рек, в океан бегущих,
Чтоб она держалась без всякой скорби?
Что нам делать, Крепкий, как нам молиться,
Чтоб эти, гремящие скарбом чародейским,
Провалились, как положено, расточились,
Яко тает воск, и чтоб впредь их не видеть?
Нет ответа три дня, на четвертый только
Догадался тот, кто во всём усумнился,
Что тут, да тут ни колдунов и ни магов,
А Господь попустил, чтоб лучше смотрели…
ХХХ
Дубовый листок, объятый тьмой,
Напоминает о Боге, - алмазной каймой,
Почти невидимый, он всесилен, -
Только проявившись, уже велик, -
Птица Алконост и птица Сирин
В раю склонили чудесный лик
Пред этой линией, - а отсюда
Видно, как Древо в тебе поет, -
И если молитва - желание чуда,
Творец тебе, - твое отдает...
ЛЕС И СТЕПЬ
В лесах ростовская финифть,
Но это зрелище – не диво.
Красиво! Некого винить,
Что в мире было так красиво.
Нагие сумерки земли
Всё собирают безысходно.
И даль, как дерево в пыли,
Встаёт, почти иноприродно.
А звуки дивные парят
По эту сторону печали,
И вот Холмов гигантский ряд
Открылся – в призрачные дали.
Всё тоньше золотая нить,
Та, к миру, вьющаяся тайно.
Все легче нас разъединить,
Но всё чудесно и случайно.
Вот дом, огромный, нежилой,
И куст, похожий монаха,
Да нет, монах, объятый мглой,
И голос, что не знает страха.
Всё – мрак, и не переменить,
Но кто-то подаёт огниво.
Красиво! Некого винить,
Что в мире было так красиво.
Но только вспыхнул камелёк
Как вдруг повеяло простором.
И злая весть, что путь далёк,
Другим явилась разговором.
А поутру – гигантский крест,
Из камня вытесанный Богом,
Пространство, зримое окрест,
Свернул, чтоб рассказать о многом.
А там, – незримая стезя
Вдруг разошлась дорогой чудной.
Ты, красота! И знать нельзя,
Как расцвела на почве скудной.
К ДРУГУ
Дьявольский персонаж, беседующий с тобой,
Такой же как ты, — изящен, смел, —
Не благословляющий ни воровство, ни разбой,
Он прямо глядит за последний предел.
Подрезая все корни мановеньем руки, —
Настолько легкой, что зависть берет,
Он прощает все злодеянья, грехи,
Не делая вид, что знает все наперед.
Дьявольская музыка сочиняется для него,
Нечаянный танец послушливых дьяволиц, —
Все настолько и совершенно от мира сего, —
От бедной лачуги до мировых столиц, —
Он камня на камне не оставит от них,
Да ты такой же, но поднимая глаза,
Видишь исполинский божественный стих,
А не просто людей, землю и небеса…
Метки: поэзия |
Есть безысходность в красоте. Продолжение |
Книга стихотворений
ПОХВАЛА КРАСОТЕ
(в которой не нуждается)
Есть безысходность в красоте
И что-то дикое, как воля,
Мы перед ней всегда не те,
Ветвясь, смущаясь иль глаголя.
В ней равновесье чудных дней,
Что не слыхали друг о друге,
И светлый круг, и ход теней,
Как мысль о Севере, о Юге.
Тут Микель-Анджело, Рафаэль,
Не только эти руки, ноги,
И лица честные, как хмель,
Иль цвет неизбранной дороги.
Не только мысль, что на лице
Начертанной, как тайна, Евы,
А Змей, что спит в своём кольце,
Колебля древние напевы.
Прощай, гражданская война,
За триста лет до завершенья
Ты красотой побеждена
И в даль уходишь без движенья.
Ты, мысль всемирная, прощай,
Всегда полна сама собою,
Ты с буйволицей к водопою
Ступай, случайно, невзначай.
Ты, красота, не то, чтоб весть,
А то, что в Замысле мерцает,
Что в лютне сказочной бряцает,
И то, что в каждой сакле есть…
ЭХО
Прибрежное эхо. Поющий тростник
Освобождает простор, пахнет водой, -
Гигантский ковчег, хранящий великие дни,
Вдали чернеет, как лес, прекрасной грядой.
Вот женщина в простом наряде, одна,
Смертельно больна, прекрасна, чиста;
Нет равного ей ничего, – лишь тишина,
Повелительница стихий, тайна и красота.
Профиль чеканный запоминаешь ты,
Царской походки принужденье, взъем
Легкой стопы, – как солнце из пустоты
Целым выходит миром, сказкой и житием.
Озеро, заросшее зыблемым тростником,
Видится ей чистым; несколько диких гусей
Взлетают скоро, унося в месте с ней
То, что не сказано мучительным языком…
ЗЕЛЁНЫЕ ХОЛМЫ
Шатер степного небосвода.
Весь мир как дерево в пыли.
Шумит неверная свобода.
Летают ангелы вдали.
Куда пойдешь? Повсюду та же
Отрада жизни мировой -
Юдоль господствует в пейзаже,
Но гулом радости живой.
Три пастуха на солнцепеке,
Храня спокойствие во всем,
Наверно, думают о Боге
Да о кресте, что мы несем.
Вино у них да сыр овечий,
Как это было до Христа,
На радость скорби человечьей,
Чьи несмыкаемы уста.
Но я приблизился, и горше
Надежд пленительных земных -
Громадный гриф, орел и коршун
Взлетели розно с трав степных.
И отвратительно, и страшно,
Едва поднявшись от земли,
Отягчены кровавым брашном,
Махали крыльями вдали.
Сайгак, разорванный когтями,
Лежал, как женщина, за ним
Холмы зеленые с цветами,
Ветвей сплетенья, блеск и дым.
Как в оны дни, где были новы
И всякий звук, и цвет любой,
Как бы оклад земной основы,
Куда и нам войти с тобой...
ДРУГОЙ ЯНВАРЬ
Полнощный бор известно чей.
Но тайнозрением ночей
Конь белоснежный на дороге
Не разберет: к чему в тревоге
Мы замерли у края мглы?
К чему глядеть во все углы
Глазами космоногих елей,
Окрестных гор иль зверьих келий?
Звук бубенца во мрак плывет,
Как будто церковка зовет
Отсюда, где мы только встали,
К себе, в невиданные дали.
Волшебный бор могуч и дик,
Нас ждут Домой, и путь велик,
Благословенный путь Возврата,
Сквозь даль без Неба – напрямик.
ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИХИЙ
(видение о Лермонтове)
Эта жизнь, что просторна на вид,
Начинается в келье старинной,
Где просторная свечка горит
В тесноте, золотой и пустынной.
Мне явился согбенный старик,
Весь до косточки вроде поклона, –
Потому что он сам – материк,
И свеча, и алмаз, и корона.
Но из тысяч великих корней,
Что сплетали мой дух без желанья,
Эти корни всего мудреней,
Этот взгляд, эта буря дыханья.
В этой буре утратило смысл
Все гнилое, что жизнью владело, –
Эта жизнь, это бренное тело,
Из других восстановлены числ…
ДВОЕ В КЕДРОВЫХ ЛЕСАХ
Утихла вьюга, слава Богу,
Полнощный бор я знаю чей.
Но волк могучий на дорогу
Выносит странный блеск очей.
Как я, на зрелища голодный.
Прекрасный древнерусский волк,
Как провидение свободный
И радости не взявший в толк.
Все уровни живого мрака
Он вынес из кедровой тьмы,
И, верно, никакого блага
Друг другу не внушили мы.
Мы разошлись, простив друг друга,
В алмазную зарылся высь
Один, и прочь ушел из круга
Другой, имея ту же мысль.
Да! На земле невероятной
Повсюду грезят зеркала,
И даль пространств не замела
Творящей мысли непонятной…
ЛЕСТВИЦА
Все равно – какое ненастье,
Век уходит, не дождь оплачет
Эти черно-зеленые склоны,
Покоренные нисхожденьем;
Все равно, какие печали
Принесет жемчужная осень
Века нового, – хуже не будет,
Потому что будет иное;
Нет, по лествице обоюдной
Поднимаются из пустыни,
И руки не дают сначала,
А потом нет речи об этом, –
Потому что в толпе вселикой
Мы смешались сами с собою…
ХХХ
Когда великий иерей,
Любивший спелые черешни,
По воле Господа воскресший,
Явился посреди степей, —
Идущий посреди сетей
Народ, таинственный и грешный,
Его узрел, и тьма страстей
Соединилась с тьмою внешней.
Народ кричит: Исчез герой!
Почто лежал в земле сырой?
Почто твоя истлела риза?
Где нимб округлый над челом?
Где твой магистерский диплом?
Где темный крест из кипариса?
Метки: поэзия |
Есть безысходность в красоте. Окончание |
Книга стихотворений
ВЕЧЕРНЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ
О ЕДИНОМ И МНОГОМ
Памяти Юрия Селивёрстова
Есть беспредельность мысли в тишине,
Но гулом странствий властвует она же, –
Не всё ль равно, – зелёный дуб в окне
Или раскрытый в мировом пейзаже.
Не всё ль равно – угрюмый Океан
Иль сказочные складки земляные,
Как тайный путь, что безупречно дан
В края теперь незримые, иные.
Тут полный список редкостных картин,
Со знаменитой фреской Леонардо,
Где посредине вечери, – Один, –
Как чудный Мореплаватель над картой.
Тут видится простой и ясный строй
Вселенной, обречённой на спасенье, –
Как мыслится повсюду – Воскресенье,
И плоти бренной, – и земли сырой…
Но та же беспредельность и в громах,
И взгляд со звёзд мгновенно возвратится,
Всё – странствие, всё – воля и размах,
И белый день, как век, не прекратится…
А развернётся тайно – на холмах, –
И гром гремит, и отдыхает птица…
МАЛЕНЬКИЕ ЛИСТВЕННИЦЫ
(область наибольшей красоты)
Без желанья увидишь, как дерево чудно растет,
Ветки тайно раскинув в нечаянной воле своей,
И мизгирь безмятежно, как мир, паутину плетет,
И нигде, как прерывность, над звуком живет соловей.
Перед летом в лесу все равно что без твердой земли,
Все вчерне, в становленьи, по-детски стоит на своем,
Как столетья живые, – стеснившись в алмазной пыли,
Или каменный мост над едва различимым ручьем.
Прежде времени, рядом, наместо безглавых рамен
И жилища кикиморы с грудой ненужных вещей, –
Веет чистое благо и ветер звучит перемен,
Что заране случились, раздольней, светлей и горчей.
Но тебя потрясет только мощь, воплощенная тут,
Безначальная мера, решенная кроной простой,
Что в пространстве встает, как в сосуде чудесный сосуд, –
Нерешенной загадкой и верной тебе красотой…
ПОХВАЛА ДРУГУ
В чем искусство прямой речи,
Как не в том, чтобы взъесться
На окрестные долы, на пламя
В очаге подорожном.
Только что скальпелем крылатым
Ты очистил рану гнилую,
И теперь разрыдаться впору
Над великой печалью.
Все набито плотью смердящей,
Как дубовые бочки рыбой,
И находит сплошным потоком
Гибель без воскресенья.
Ты войну проиграл со всеми,
Но теперь победил в одиночку
Древний хаос послевоенный
Тайнозреньем ужасным.
Как никто другой, ты увидел,
Что любое таит движенье
Некий свет, за которым тайна
И свободное слово.
Врач иль жрец ты, мне все едино,
Я речей не слыхал страшнее,
Но струился между словами
Путь из бездны широкой.
И на плечи своей столицы
Водрузил ты безглазый череп,
Но за каждой из дыр темных
Тут же свечку поставил.
ХХХ
Ты, красота, не мир, но меч,
Одно я понял в эти годы.
Но тайная живая речь,
Но крепкие ночные своды, —
Все расходилось, все рвалось
Парчой в просторе неготовом,
Да все же царственно звалось
Нечаянным и диким словом...
ХХХ
На кипучие мертвые воды
Я вставал посреди непогоды.
Но живая страшнее вода,
Но другая светлее звезда.
Все пустынно, раздольно, велико,
Знать, измерено дольнее иго,
Знать, выходит в сиянии дня
Та земля, что не знает меня.
Но единое крепится словом
И цветет на пути неготовом.
Да закутался в имя мое
Тот, другой, что не знает ее.
ДЕРВИШ
Всё стремительней дни иль годы
То мелькают, то исчезают,
Чтоб внезапно выйти из бездны
Вешнего мрака.
А не то из мощного цвета,
Всё укрывшего тайной крепкой,
Потому что цвет безначален,
Вечен и славен.
Я вчера говорил, что к миру
Не качнусь, хоть бы он проявился
В полном блеске и дивной силе,
В радости новой.
А сегодня промыслил такое,
Что цветами взялась пустыня,
По которой бродил как дервиш
Десять столетий.
Может быть, от Творца известье
Принесли? Но смотрю, дивуясь,
Как внезапно всё изменилось
В древности лютой.
То, что нет никакого времени
Я узнал не вчера, не сегодня,
А когда-то, – до этого мира
В том же мощном цветеньи…
В третий раз Творец добронравный
Говорит: – Что же, мира не видишь?
– Вижу, Господи, – я отвечу, –
Знаю, Господи, вот он…
СТОЛБЦЫ О ПОБЕДЕ
Разбудить лесную голубку
Не составит труда. Но это
Не иначе грозит спасеньем
Или победой.
С безысходно-извилистой ветви
Как подаст она дивный голос,
Так в душистом сумраке леса
Вьется загадка.
Я ни в чем спасенья не видел,
Ни в дорожном чудесном камне,
Ни в ключе, что прозрачней мира,
Дней и столетий.
Все страшней очертанья мира
И уступы гигантской Башни,
По которой вьется дорога
С хмелем небесным.
Я мотив какой-то счастливый,
То ли Моцарта, то ли Баха,
Стал насвистывать против чащи
Дымчато-серой.
Но пленительный звук согласья
Я услышал почти случайно,
И поставил божественный случай
Выше печали.
Выше радости безысходной,
Потому что радость не знает
Ни прерывности, ни продолженья,
Ни очертанья.
«Я проснулась. Я удивилась.
Где ходил? По какой дороге?
Отчего не окликнул раньше
Часом иль веком?»
«Я откликнулась ниоткуда,
Хоть сижу посредине мира
На извилистой ветке дубовой,
Словно на троне».
«Мне известно, что тебе надо.
Мне известно, что ты задумал.
И желанья твои с моими
Чудом совпали».
«А теперь ступай по дороге,
На которой забыть не сможешь
Ни меня, ни ключ придорожный
С каменем рядом».
ХХХ
Ты заметил, что время идет,
Как веселый палач после казни,
Не имея зловещей приязни
К эшафоту, где жертва встает.
Век за веком, не так ли прошли
Не коснувшись твердыни срединной,
Темный дуб золотится в пыли,
Лес темнеет дугою полынной.
ЛОМОНОСОВ
Могучих дней послушный собеседник,
Вcеликий, может быть, ты слишком одинок.
В твой светлый круг порою смотрит Бог,
Чтоб не вошел презрительный наследник.
Печалью двухсотлетья отягченный,
Не потускнел высокий блеск ума,
Духовный холм не затопила тьма,
Но погляди, как медлит посвященный.
Нет, ни один не двинулся от мира,
Не кинулся восторженно на зов, —
Туда! Туда! Там и весы, и лира,
И не отлична лира от весов.
Как на подъемный мост средневековый,
На тень свою ступая, все ж зови —
В раздольный мрак, багряный и лиловый,
На древний крест — рассудка и любви.
5.01.91
Метки: поэзия |
НЕ ТО |
огромней трещины в пространстве,
перемещающий собрат
меня в надмирном постоянстве.
Сквозь сон, и паводок, и тьму,
к столпу змеи в бессмертном поле,
и я распахнутым приму
сей камень, треснувший в ладони.
Где искупительнейший свет
восстанет из ночи бесстрастной,
и предрастраченный обет
о воскрешении средь странствий.
18 января 2011 г.
|
Процитировано 2 раз
Адресат книги Н.ГУМИЛЁВА "К СИНЕЙ ЗВЕЗДЕ" |
Маргарита Сосницкая
|
Я ИДУ К ГУМИЛЁВУ |

Маргарита Сосницкая
Николай Гумилёв

Об авторе картины:
ДЕЛЛА-ВОС-КАРДОВСКАЯ (урожденная Делла-Вос) Ольга Людвиговна
2 сентября 1875 (Чернигов) - 9 августа 1952 (Ленинград)
Живописец, график.
Метки: вневизм |
Поэт соблазна и тревоги. О поэзии Маргариты СОСНИЦКОЙ |
Розовых фламинго чужестранней,
Маревей прожилок перламутра,
Пробивается робкое, раннее,
Настороженное утро.
Клювиком долбит скорлупку
Замкнутого ночи яйца
С неизбежностью лютой
Первенца.
Оперясь облаками перистыми
И прорезавши голосок,
Полетит большекрылою птицею
На закат,
чтоб прийти на Восток.
В этом стихотворении как бы предсказана вся будущая судьба поэтессы. Чем дальше она удаляется от своей родины, родного края, детства и юности, тем более явственно в ней проступает национальное начало, или славянская идентичность – то она ощущает себя скифянкой на горячем коне, укрощающем степь, то плачет по «исконно снежно-белой Руси», которая стала «кумачово-красной», то чувствует себя белогвардейским офицером, навечно застрявшем в Париже. Здесь особо надо сказать о буйстве красок в поэзии М. Сосницкой и вообще о любви к многоцветию. Наверное, это чисто женское свойство - любовь к эстетизации окружающего мира, но у Маргариты все горит и «маревеет». Береза для нее царевна-лебедь, одетая в снежное серебро, даже на черно-белой фотографии она видит синие глаза своего отца. Это позволяет сказать, что у нее не мужской, надрывный патриотизм, а женский, мягкий, нежный, обволакивающий. И это даже не материнская любовь, а именно женская – одаряющая, сводящая с ума, как пение сирены. И здесь, наверное, уместно сказать еще об одной грани поэзии Маргариты – о ее метафизичности или связи с запредельным миром. Не зря в одном из своих стихотворений она встречается с самим Сатаной. Ее лирическая героиня способна к контакту с потусторонним миром, но ей больше нравится мир земной.
От скуки всепознанья я завяну,
А тайное короткой жизни интерес дает,
Суля минуты счастья и победы.
Но, на самом деле, как и всякой женщине, Маргарите хочется всего, она ощущает себя полубогиней, которая запросто станет Богиней в мире ином. С другой стороны, это положение полубогини, полуженщины не совсем отрадно для автора. Видимо, тут сказались и сама экзистенциальная ситуация Сосницкой – жизнь вне Родины, долгий путь к литературному признанию, отсутствие всякого надежного статуса.
Полубогиня. Поклоненья фимиам
Нужнее мне озона, кислорода.
Когда ж воздвигнется мне храм
От радостно прозревшего народа?
Полубогиня я пока живу,
Купаюсь, жажду кисти Васнецова,
А час придет и, наконец, умру,
Богиней стану снова.
В самом начале своих размышлений я сказал, что Маргарите дорого всё русское, но, занимая маргинальное положение между Россией и Европой, она как бы сводит в себе эти две культуры. В русской поэзии не так уж много поэтов европейского направления. Русская поэзия в основе своей самобытна, самостийна. Поэтому и у Сосницкой, хоть и встречаются образы Афродиты, Сапфо, Пигмалиона и Галатея, она определяет себя в полемике с ними.
Не жду у морей, не желаю
напева коварных сирен.
Сама песнопенья слагаю
и тем похищаю в плен.
Люблю не Улисса, а лес,
в лесу широко и свободно,
За брата мне зверь здесь,
пусть дикий, большой и голодный.
Вместе с тем, в стихах посвященных России, она далека от идеализации своей родины, ее многое в ней не утраивает. Она любит Россию, но «странною любовью».
Родина моя юродивая,
В белом подвенечном саване,
Ты досталася нам изуродованной,
Изнасилованной, в черных ссадинах.
Губы нежные уксусом вымыты,
Крестик сорван со впалой груди,
И мы, дети, в дому твоем сироты,
В мире некуда нам идти.
Россия, которую она могла бы любить, ей кажется потонувшей в катаклизмах истории. И современной своей родине она не может простить это поражение.
Не могу я любить – ненавижу,
Что сгубила ты силу свою.
И пустила измену под крышу,
И за ненависть трижды люблю.
Вот этот диапазон отношений – от ненависти до любви, заставляет автора постоянно расширять свой опыт, свои духовные горизонты. И в самом деле, в эпоху глобализации трудно довольствовать только одной культурой, даже если она родная. В наше время повсюду происходит сплавление своего и чужого. Но тут интересно, под каким углом зрения это происходит. В поэзии Сосницкой примечательно то, что не утихающая в ней полемика с Западом, или европейской культурой приводит ее к Востоку, в частности, к японской стихотворной форме хайку. Как известно, это японские трехстишия, которые не рифмуются, но в каждой строке сохраняют строгий порядок слогов. Идеальная формула хайку 5+7+5 слогов по очереди в каждом стихе. Но главная задача Сосницкой - чтобы от перестановки мест слагаемых сумма не менялась. А сверхзадача – сохранить традицию и передать дух древних хайку в наше электронное время, несмотря на Прокрустово ложе формы. И что самое удивительное, ей это удается. Но удается чисто формально, в виде стилизации. Этим самым она как бы отторгает себя от русской традиции, но на деле не пристает и к восточной. Это особое пространство поиска, эксперимента, растворения в ином. Не потому ли у нее вырывается восклицание:
О, если б душа
помещалась в хайку –
Как жилось бы легко!
Мое знакомство с творчеством Сосницкой началось с публикации в «Тамыре» ее хайку.
В лучах солнца
дым благовоний
клубится как будто дракон.
* * *
Трава колышется на ветру –
Всевышний гладит
шерсть земли.
* * *
Ящерицей юркнула молния,
скрылась
в расщелине туч.
Как известно, с эпохи Басё, а это 17 век, содержанием хайку стала пейзажная лирика. В приведенных мной трехстишиях мы видим великолепные ее образцы. Конечно, обращение Сосницкой к жанру хайку не уникально, европейские поэты уже со второй половины ХХ века активно осваивают этот жанр. Но, представляется, что для Маргариты это скорее способ донести структуру своего духа – изящную, жемчужную, женственную.
Если подытожить наши размышления, то главное в поэзии Сосницкой – это ее неповторимый женский взгляд – одаряющий и возвышающий, призывный и отталкивающий, за все тревожащийся и обо всем пекущийся. И в то же время – это взгляд личности, оказавшейся на маргиналиях, но и там на обочине, в сносках и примечаниях, честно выполняющей предназначение поэта – вносить в мир соблазн и тревогу, которые полны неизведанных смыслов.
Ауэзхан Кодар,
член Союза писателей Казахстана, кандидат философских наук
Метки: критика |
Маргарита СОСНИЦКАЯ. ПОДМАСТЕРЬЕ В "ЦЕХУ ПОЭТОВ" |
Об авторе
Звали её Маргарита,
а вот была она
Фаустом в юбке.
ПОДМАСТЕРЬЕ В «ЦЕХУ ПОЭТОВ»
Пуля у меня в желудке –
Коготь железный дракона, –
Но не в меня пальнули –
В Николая Степановича Гумилёва.
І
«Огнезарая птица победы
(чуть) коснулась крылом и меня» *
И я, точно мой вещий предок,
Отпустил на свободу коня,
Но к кудеснику или гадалке
Недосуг обращаться, чтоб
Знать в лесу, на опушке иль в балке
Пустят пулю мне в грудь или в лоб.
А пока огнезарая птица
И меня озарила крылом,
И погоны кавалериста
Золотым заиграли огнем.
ІІ
«на согретом солнцем утёсе
нежится», спит молодая «пантера»,
и ей снится весна на Родосе,
где была она черной гетерой.
Босиком на камнях танцевала,
Белоснежный роняя хитон, –
Будто чёрное пламя пылало,
Голубой подчеркнув горизонт.
И мечтала на дальнем Родосе
Чернокожая диво-гетера,
Как на солнцем согретом утёсе
Молодая заснула пантера.
ІІІ
«мне отрубили голову, и я
(весь) истекая кровью, аплодирую»,
«Палач» раскланивается гибкий, как змея,
Взмахнувши палочкой волшебною – секирою.
Я вижу, кровь моя размашисто, ветвисто
Течёт по солнцем обожженному песку,
С гуденьем сводов, пением и свистом
Выводит ярко за строкой строку.
Палач бледнеет. И взмахнув секирою,
Мне голову отрубывает вновь,
А я невозмутимо аплодирую:
Живой водою пишет моя кровь.
IV
«...я никогда не смог бы догадаться,
что от счастья и славы дряхлеет сердце».
Ради счастья я с Анной мечтал обвенчаться,
Ну а слава нашла нас в атаках на немцев.
Если б кто-то сказал, ни за что б не поверил,
Что от счастья и славы в сушёную грушу
Кавалер двух крестов, открыватель Америк,
Превратить может сердце и душу.
Счастье с Анной мне выпало адское,
Ну, от славы и мертвому мне уж не деться.
Лучше б мне никогда не пришлось догадаться,
Что без счастья дичает остывшее сердце.
V
«высокий, стройный, сильный
с закрученными русыми усами»,
Он гонок чемпион автомобильный,
Летающий еще на аэроплане.
А вечером, в кафе, где пурпур, позолота,
Шампанское с друзьями распивает он,
Рассказывая об опасностях полёта...,
Чтоб дама слышала поодаль за столом.
Она вздохнет, посмотрит замогильно,
Нагие плечи нежа соболями,
И он поклонится ей, стройный, сильный,
С закрученными русыми усами.
1992
* Первые две строки стихотворений этого цикла взяты из прозы Николая Гумилёва "Записки кавалериста" или "Африканская охота". Цикл написан в том возрасте, в котором Гумилёв был расстрелян.
**************************
***
Моя поэзия во многом блеф,
Игра в перевоплощенье,
Переносящее в качанье нараспев
В другие времена и измеренья.
Охотно я бываю Клеопатрой –
К утру любовник яд принять готов, –
Опять же Федрою побыть приятно:
Пусть муж – не пасынок – погибнет от быков.
Сильней всего, однако б, я желала
Быть дамой петербургского поэта,
Чтоб заговорщицей после провала
Стать вместе с ним под дуло пистолета.
И только иногда порывом свежим ветра
Срывает масок и нарядов пёстрых смесь,
И остаюсь в пятне белесом света
Бесстрастная и тихая, как есть.
15.05.1993
***
Памяти Н. Гумиёева
Напившись вина и зажегши свечу,
Склонилась над тусклою книгою,
И, как заклинанья, слова я шепчу,
Губами в забвении двигая.
Слова вдруг вздохнули, сверкнули огнём
Алмазов, сапфиров, граната –
Целует вот так океан окоём
В кольце подвенечном заката.
А строки иные – глубин жемчуга
С подвеской, как май, изумрудной
И рядом же здесь два живых василька
С их запахом свежим, приблудным.
И пламя трепещет. Смотрю сквозь бокал:
Дробится на искры и шпаги –
Пульсируют, слившись в единый кристалл,
Слова, как в ларце, на бумаге.
10 .02. 1992
Из цикла
ПРОСТРАНСТВО РАЯ
***
- О, Боже, на все Твоя воля!...
Но где ж, Милосердный, Ты был,
Когда Гумилёва вывели в поле
И пустили в распыл?
Божьи взоры закатно-алы,
Голос громом раскатисто дрогнет:
- Он мечтал о «сводах Валгаллы»,
А туда нет иной дороги.
2008
***
Вы можете представить Льва Толстого комиссаром?
Тогда б Москва не вспыхнула пожаром,
А зацвела б садами,
приняла французов
И смертью не своей преставился б Кутузов.
Но вижу я Льва Николаича Толстого
Не под расстрелом рядом с Гумилёвым –
В рядах Деникина, Кутепова, Дроздова:
Солдатам надо умирать в бою и с боем.
2009
Метки: поэзия |
ЛЮБОВЬ РОЖДЕСТВА. Алексей Филимонов |
ЛЮБОВЬ РОЖДЕСТВА
Вневизм учение Христа,
не искажённое доселе,
когда отверста высота
и дух подъят в бессонном теле.
И Рождество Его пути
ещё безгласно, но безбрежно.
Приотворив себя, найти
пытайся веру и надежду.
Тогда перепорхнёт извне
извечный вестник вне-теченья,
и в прорифмованном окне
увидишь истину прозренья.
7 января 2011 г.
ул. Танкиста Хрустицкого
Метки: поэзия |
Положение о литературной премии им. И.Ф.Анненского |
Премия будет присуждаться в трёх номинациях:
1. Поэзия
2. Литературная критика и эстетическая мысль
3. Художественный перевод
Членами редколлегии будут рассматриваться произведения, опубликованные на страницах альманаха, в других периодических изданиях, интернете и книжной периодике.
Подведение итогов за 2010 год состоится в мае 2011 года в Санкт-Петербурге.
|
Метки: премия |
Ауэзхан КОДАР. ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ. О ПОЭЗИИ Сергея ГОНЦОВА |
Ауэзхан Кодар о поэзии Сергея Гонцова
Сергей Гонцов. Восточные мотивы
Страница Ауэзхана Кодара:
http://www.zonakz.net/blogs/user/stranitsa_auezxana_kodara/7591.html
Восточные корни русской души (о поэзии Сергея Гонцова)
В русской поэзии, как это ни удивительно, редко встретишь стихи с восточной окраской. Вспоминаются разве что блоковское: «Да, скифы мы, да, азиаты мы…» или есенинское: «О, Азия, Азия, голубая страна / Посыпанная пылью, песком и известкой / Там так медленно катит по небу Луна, / Поскрипывая колесами как киргиз в повозке/».
Но даже эти стихи скорее декларативны, чем исповедальны, или исторгнуты подлинной потребностью духа. Однако поскольку Россия действительно совместное творение Азии и Европы, такой поэт должен был появиться и появился в последней четверти прошлого века. Не случайно также, что его дарование открыл сам Виктор Астафьев, самый взыскательный из русских писателей. Составляя антологию современной (на тот момент) поэзии (кроме литераторов Москвы и Ленинграда, тех он не брал в расчет) мэтр с особой теплотой отозвалсяв о подборке стихотворений молодого поэта Сергея Гонцова в альманахе «Поэзия» 1984 г. Потом была целая «книжка в журнале», или публикация в 1990 г. в очень популярной тогда «Литературной учебе».
С тех пор имя Сергея Гонцова - одно из значительных имен в российской поэзии. И хотя Гонцов родился в Южном Зауралье (он – потомок древнего боярского рода), его дед служил в крепости Верном (это современное Алматы), а отец, тоже, как и дед, офицер, исколесил Казахстан и Среднюю Азию от Кара-Кумов, Ферганы до Кушки. Как видим, будущий поэт уже своим рождением и происхождением был связан с Азией и Сибирью, которая и вовсе гремучая смесь евро-азиатского синтеза.Из всего этого со временем получилось так, что по существу, Гонцов стал открывателем азиатской Атлантиды в русской ментальности. Вот как писал о нем критик Владимир Славецкий: «Юный гигант, богатырь, великодушный и одновременно уверенный в неотразимости своего великанского обаяния, странствовал по миру. И странствие души развертывалось на слишком большом пространстве, чтобы всматриваться в детали». Возможно, так было в начале его пути. У Гонцова, действительно, встречаются стихи, написанные большими мазками, но меня привлекло к его поэзии как раз внимание к деталям и подробностям. Если хотите, эстетика персидской миниатюры, или китайской живописи. Давайте присмотримся к его стихотворению «Вечная битва».
Битва с драконами на мосту
Продолжается много лет, -
Синяя река играет внизу,
От листа к листу благоуханный свет
Течет, - вырастает лес,
Ряженые рубят вековые стволы,
Творец спускается с низких небес,
Озаряя мировые углы
Светом истины, добра, любви,
А на великолепном мосту
Дракон и герой по колено в крови
Бьются за неслыханную красоту. (Выделено мной – А.К.)
В этой картине столько света, цвета, запахов и оттенков, что возникает ощущение целого мира и твоей включенности в этот мир. И тебя не отталкивает даже то, что на этом великолепном фоне идет битва, или, по сути, война. Не отталкивает, ибо дракон и герой бьются «за неслыханную красоту». Примечательно, что автор не отказывает в притязании на красоту даже дракону, самому отрицательному персонажу всех сказок и мифов.
Когда я впервые прочитал это стихотворение, мне вспомнилась притча о Чингисхане и красавице Гюрбельджин, царице тангутов.
Говорят, что однажды великий каган выехал по первому снегу на охоту. Снег напоминал первый день творения, сверкал и искрился, восхищая своим великолепием. И до того это понравилось царственному охотнику, что он спросил у своего спутника:
- Что может быть белее этого снега?
- Только красавица Гюрбельджин… - вкрадчиво ответил спутник.
Это до того впечатлило грозного полководца, что он пошел и завоевал Тангут. В этой легенде Потрясатель Вселенной предстает вполне земным человеком, способным зачароваться красотой и природы, и земной женщины.
Так и Гонцов в своем стихотворении переносит событие из плоскости этики в пространство эстетического и добивается восхитительного эффекта погружения в героическую архаику, где нет ничего невозможного, где сосуществуют боги и люди, птицы и ангелы, где все говорит со всем и перетекает во все. Для Гонцова вообще не присуще соблюдение грани между реальным и ирреальным, сном и явью, настоящим и прошлым. Для него это все – огромное сегодня, удостоверяющее себя как раз тем, что ему ничего не чуждо. Однако все, что существует, подлежит именованию. В этом плане для Гонцова вся предыстория человечества есть история Востока. Это можно назвать настоящим открытием. И не только в поэзии. Поскольку для него Восток – не географическое понятие, а временное. Это стадия мифологического развития человечества, которая больше не повторится. На мой взгляд, понимание этой уникальности делает уникальной и поэзию самого Гонцова. Кроме того, в наше время, время всеобщего увлечения евразийской идентичностью России, Гонцов – абсолютно востребованный автор, реанимировавший в своей поэзии еле брезжущий древний облик своей великой страны.
СЕРГЕЙ ГОНЦОВ
ВОСТОЧНЫЕ МОТИВЫ
***
Встану и миром пойду,
Чуть заграждая рукой
Пламя свечи, как звезду.
Господи, кто я такой?
Ночь возвращает стада.
Вьется туман над рекой.
Крепче не видно моста.
Господи, кто я такой?
Запах цветов и травы.
Бор, точно царский покой.
Хоть не сносить головы,
Господи, кто я такой?
Зыблется тысяча лет.
Листья шумят под ногой.
Если ты знаешь ответ,
Господи, кто я такой?
Конь белоснежный впотьмах.
Дети, старуха с клюкой.
Страшный собор на холмах,
Да незнакомый, другой.
Понял я, скорбь не тая,
Горе на крепкой земле.
Господи, это же я
В городе или в селе...
ВЕЧНАЯ БИТВА
(в духе древних миниатюр)
Битва с драконами на мосту
Продолжается много лет, -
Синяя река играет внизу,
От листа к листу благоуханный свет
Течет, - вырастает лес,
Ряженые рубят вековые стволы,
Творец спускается с низких небес,
Озаряя мировые углы
Светом истины, добра, любви,
А на великолепном мосту
Дракон и герой по колено в крови
Бьются за неслыханную красоту.
ЧАША
Подожди, я не знаю, что будет со мной.
Дай вглядеться во мрак, рассеченный грозой,
Дай отпить на прощанье из чаши земной,
Из серебряной чаши с горючей слезой.
Навсегда! Навсегда! Это – надо понять.
Плещет мгла через край, как шумит Океан,
И рукою не двинуть, и глаз не поднять, –
Этот остров уходит, уходит в туман.
Этот дом островерхий в лиловом кольце.
Этот сад расцветающий, белый, пустой.
И таинственный лес, и отец на крыльце,
И тревожная мать под вечерней звездой.
Влажно-дымчатый вихрь налетает на склон
И торжественно, страшно скрывает от глаз
Все, что создал от века незримый Закон,
Безначальным прощаньем возвысивший нас…
ДВА ГОЛОСА
– Отдыхающей птице, – сказал, – не восстать
От всемирного сна, тяжела её ноша.
Этим сказочным крыльям печально блистать,
Над лесной тишиной, над дорогой полнощной.
– Отдыхающей птице, – сказал, – всё равно, –
Чем приволье богато, что в мире творится.
Всё, что птице приснится, – свершилось давно,
Разве древняя воля, – теперь повторится?
– Отдыхающей птице, – сказал, – сто веков,
Это ком Благодати, – Плуг, Молот, Твердыня, –
Всё, что здесь ты возьмёшь, только тайна оков,
Разве трудно понять, что достойней – Пустыня?
– Отправляйся на волю, где бродит Дракон, –
Где на каменных рёбрах миров первозданных,
Над поверхностью дней, – всё сплетает Закон,
Как Великий Паук, – для убогих и странных.
– Отдыхающей птице, – скажу, – равных нет, –
Всё, возьмёт, как булат, всё измерит, как злато,
Видишь, дремлет она для того, – чтоб стал свет,
А могучее Древо, – как Бездна, – крылато?
КРЕСТ В ГОРАХ
Я ничего не знаю об искусстве
И музыкой случайно дорожу, —
Как Ангелом, но даже в скорбном чувстве
Печали никакой не нахожу.
Любая вещь берется ниоткуда
И частью возвращается туда,
И трудно знать, в чем содержанье чуда, —
В том или в этом случае всегда
Мы числами замучены, как дети
Чужой заботой, но уже сейчас
Вселенная разбрасывает сети,
Которые случайно любят нас.
Наверно, есть какие-то приметы,
В которых Дух Творенья говорит, —
Нас окружают чудные предметы,
И часть из них потомков покорит.
САЖЕНЕЦ КЕДРА
Как-то дивно выходит на свет
Этот век, и соборный, и юный,
Точно саженец кедра, – в ответ
На утраченный, редкостный цвет,
Где шумели другие кануны.
Всё сойдётся в могучем стволе,
Даже то, что казалось потоком,
Безысходно гремящим во мгле.
А сейчас на старинной земле
Он стоит, укрепляемый Богом.
Не случайный, как новый канон,
Из стихий изготовлен великих,
Точно слово чудесных времен,
Точно ход неизвестных племён,
Перед сонмом, внезапных и диких…
Он с мизинец, но чудно широк,
Как дитя, что узрело когда-то
Вечный мир, чтоб исполнился срок,
Откатился нездешний оброк
И явилось тут всё, что крылато.
Метки: поэзия критика |
Ольга СОКОЛОВА. НАСЛЕДИЕ И.Ф.АННЕНСКОГО И ВНЕВИЗМ |
Ольга Соколова
НАСЛЕДИЕ И.Ф.АННЕНСКОГО И ВНЕВИЗМ
…Работаю исключительно для будущего.
И.Ф. Анненский, «Книги отражений».
Значение наследия Иннокентия Анненского для будущего русской поэзии, которое отчасти уже наступило, имеет провиденциальный характер. В своём творчестве он «опередил и свою школу, и своих современников, и даже, если хотите, самого себя – и в этом скрыта его удивительная жизненность и до сих пор полное его непризнание» – писал искусствовед Н.Н.Пунин (Проблема жизни в поэзии И.Анненского. «Апполон». 1914, № 10, С. 48). Ему вторил известный учёный-историк П. П. Митрофанов: «Анненский при жизни не был популярен и не дождался признания, но нет сомнения, что имя его постепенно с распространением истинной культуры дождётся у потомков заслуженной славы». (П.П.Митрофанов. Иннокентий Анненский. Русская литература ХХ века. М., 1915. Т.2, кн. 6. С. 296). Согласно Лидии Гинзбург, в творчестве Иннокентия Анненского «есть черты как-то предвосхищающие дальнейшее развитие русской лирики» (Лидия Гинзбург. О лирике. Изд. 2-е, доп. Л., 1974. С. 311).
В своем стихотворении «Закат в полынье» наш современник, поэт и критик Алексей Филимонов, основатель символизма вне в литературе, проницает постепенное понимание творчества поэта сквозь некую «полынью» развития традиции:
ЗАКАТ В ПОЛЫНЬЕ
Повторяю фамилию: – Анненский, –
чёрный дождь и асфальт-антрацит
отражает осколки державинских
од, близ коих мерцает Коцит.
За реку проплывают вагоны,
дотлевает закат в полынье.
Гумилёва блеснули погоны,
растворяясь в блокадном огне.
Державин, Гумилёв, Блок – корифеи, чей вклад в новизну несомненен и внеохватен. Будучи поэтом для поэтов, Анненский стал для нас –развивающих новое направление, вневизм – своеобразным зеркалом, в миражном мареве которого мы преломляемся в лучах изначальных.
О радости отражения, отражений вне, Иннокентий Анненский упоминает в своём стихотворении «Миражи»:
То полудня пламень синий,
То рассвета пламень алый,
Я ль устал от чётких линий,
Солнце ль самое устало –
Но через полог темнолистый
Я дождусь другого солнца
Цвета мальвы золотистой
Или розы и червонца.
Будет взорам так приятно
Утопить в сетях зелёных,
А потом на тёмных клёнах
Зажигать цветные пятна.
Пусть миражного круженья
Через миг погаснут светы…
Пусть я — радость отраженья,
Но не то ль и вы, поэты?
Не к нам ли обращается поэт-провидец? Не синий ли кристалл Вневизма прозревает он, говоря о «..другом солнце Цвета мальвы золотистой Или розы и червонца»?
Критерий истины, согласно Вл. Соловьёву находится вне. В своём стихотворении «Слова и вне» А. Филимонов свидетельствует о неизречённости:
Слово вне человека —
ты его не забудь,
прозревание века,
претворение в путь.
Там, где гаснут созвездья,
золотая мечта —
синевы бесполезней,
здесь, в гниенье холста.
И материи мимо
утекают слова,
оставляя незримо
на бессмертье права.
На ладони воскресшей,
в очертаниях снов.
Чуден паводок вешний,
растворитель оков.
Но для этого мы должны высветлиться сами. Стать логословами. И тогда нам удастся, быть может, высказать всё, что необходимо, новословами, ещё не проявленными ни в материи, ни в сознании (О.Н.Соколова. Взгляд извне. СПб., 2010, С. 179).
В основе творчества И. Анненского лежит идея невозможности. Эту идею он доводит до апофеоза в стихотворении «Невозможно». В очерке «Белый экстаз» поэт, «эпатируя», утверждает: «В основе искусства лежит … обоготворение невозможности и бессмыслицы. Поэт всегда исходит из непризнания жизни…» (И.Ф.Анненский. Книги отражений. С. 145). В «обоготворении невозможного» поэт видит сверхзадачу искусства, в «бессмыслице» – отрицание практицизма, в «непризнании жизни» – порыв к высшему идеалу.
НЕВОЗМОЖНО
Не познав, я в тебе уж любил
Эти в бархат ушедшие звуки:
Мне являлись мерцанья могил
И сквозь сумрак белевшие руки.
Но лишь в белом венце хризантем,
Перед первой угрозой забвенья,
Этих вэ, этих зэ, этих эм
Различить я сумел дуновенья.
И, запомнив, невестой в саду
Как в апреле тебя разбудили, –
У забитой калитки я жду,
Позвонить к сторожам не пора ли.
Если слово за словом, что цвет,
Упадает, белея тревожно,
Не печальных меж павшими нет,
Но люблю я одно — невозможно.
Называя три буквы — не о дуновении ли вне-в-изма мечтает И. Анненский? Не его ли дуновение он различает в миражах невозможного вне?
Иннокентий Анненский в своём творчестве пытается пробиться «сквозь камень привычки», становится ловцом забытых фраз «с мерцающих стран бытия». «Скопище литер унылых» – не для него. Они тревожат мрак, но они бескрылы, подобно «бабочке газа», которая «…всю ночь Дрожит, а сорваться не может». Об этом И. Анненский повествует в своём стихотворении «Бабочка газа»:
Скажите, что сталось со мной?
Что сердце так жарко забилось?
Какое безумье волной
Сквозь камень привычки пробилось?
В нём сила иль мука моя,
В волненьи не чувствую сразу:
С мерцающих строк бытия
Ловлю я забытую фразу…
Фонарь свой не водит ли тать
По скопищу литер унылых?
Мне фразы нельзя не читать,
Но к ней я вернуться не в силах…
Не вспыхнуть ей было невмочь,
Но мрак она только тревожит:
Так бабочка газа всю ночь
Дрожит, а сорваться не может…
Являя своим творчеством силу, способную «к такому отражению мира не-я, которое явится преодолением всего того, что враждебно в нём человеку, и не отступит перед дисгармонией окружающего» (И. Ф.Анненский. Стихотворения и трагедии. Л., «Советский писатель». 1990, С. 35), И. Анненский призывает нас к отражению вне-я, вне-мира, к символизму вне. Призывает нас сегодня, спустя 100 лет, к подлинному прозрению тайной сути вещей. Подобно «кондуктору песнопений», он ведёт нас в «неземные промежутки» внемира, мира теней и божественных сущностей. Об этом говорится в стихотворении А. Филимонова «13 декабря», о годовщине смерти поэта:
Анненского голос чуткий,
красота развоплощений.
И кондуктор песнопений
в неземные промежутки
не о тех и ниоткуда,
но, двойник сереброкрылый,
тень объемлет на перилах —
и уже предвидит чудо.
Откровений и предместий
вдруг откроется шлагбаум,
и знамением усталым
озарит презренья вестник.
Где из вечности токката
гул перрона нелюдимый,
обретается в едином
венчике строфы распятой.
Чуткий голос Анненского», «голос вне хора» (М. М. Бахтин) доносится до нас извне и по сей час.
Метки: критика |
Светлана Большакова. Эссе о Ultima Thule Владимира Набокова |
Незаконченный роман Solus Rex, глава первая «Ultima Thule»
Незаконченный роман, дошедший до нас в двух главах. Но такого пронзительного Откровения, которое дарует «Ultima Thule» не встречалось мне нигде. Одна глава, которая сметает, сжигает все сомнения, оставшиеся у Путника в темноте, нащупывающего Острие Меча.
«Камни, как кукушкины яйца. Кусок черепицы в виде пистолетной обоймы, осколок топазового стекла, что-то вроде мочального хвоста, совершенно сухое, мои
слезы, микроскопическая бусинка, коробочка из-под папирос, с
желтобородым матросом в середине спасательного круга, камень,
похожий на ступню помпеянца, чья-то косточка или шпатель,
жестянка из-под керосина, осколок стекла гранатового, ореховая
скорлупа, безотносительная ржавка, фарфоровый иверень, - и
где-то ведь непременно должны были быть остальные,
дополнительные к нему части, в я воображал вечную муку,
каторжное задание, которое служило бы лучшим наказанием таким,
как я, при жизни слишком далеко забегавшим мыслью, а именно:
найти и собрать все эти части, чтобы составить опять тот
соусник, ту супницу, - горбатые блуждания по дико туманным
побережьям, а ведь если страшно повезет, то можно в первое же,
а не триллионное утро целиком восстановить посудину -- и вот
он, этот наимучительнейший вопрос везения, лотерейного
счастья,-- того самого билета, без которого, может быть, не
дается благополучия в вечности».
С первых строк мы оказываемся лицом к лицу с Изначальной Трагедией, Трагедией Вечного, Нерукотворного. Дух, стоя на краю Бездны, заглянул в нее, увидел Свое Отражение и воскликнул… Сколько раз отразилось Изначальное в той водянистой поверхности, отразилось и разбилось на множество, как найти, собрать и составить в изначальном порядке разлетевшиеся осколки, воистину «каторжное задание». Как вернуться в тот Изначальный Источник, дарующий Свет. Кто он, тот, вытянувший счастливый билетик?
Что человек ищет? Что не дает ему покоя? Что хочет вспомнить? Как найти Память?
Память просыпается в минуты наивысшего страдания, когда нам думается, что все потеряно, весь Мир и вся Вселенная бессмысленны.
«Помнишь, мы как-то завтракали (принимали пищу) года за два
до твоей смерти? Если, конечно, память может жить без головного
убора. Кстатическая мысль: вообразим новейший письмовник. К
безрукому: крепко жму вашу (многоточие). К покойнику: призрачно ваш».
Ушедшая жена, с неродившимся ребенком. Это ли не высшая точка для пробуждения Памяти.
Адам Фальтер.
«В шелковой, цвета пареной репы рубашке, с клетчатым галстуком, в
широких гриперловых панталонах и пегих туфлях, он показался мне
ряженым, но большой нос был все тот же, и им-то он безошибочно
почуял тонкий запах прошлого, когда, подойдя, я хлопнул его по
мускулистому плечу и задал ему мою загадку».
Перед нами Шут. Во всем своем многообразии масок и одеяний. И все же в нем есть «не хрящи, а подшипники, карамбольная связность телодвижений, точность и орлиный холод». Качества, которые помогли ему выстоять и не погибнуть от удара Меча Мудрости.
На примере Адама Фальтера В. Набоков показывает истинную суть Вечной Мистерии, Суть Рождения Истины, Мудрости, Ребенка Камня.
«Минуло около получаса со времени его возвращения, когда
собранный сон небольшого белого дома, едва зыблившийся
антикомариным крепом да ползучим цветком, был внезапно -- нет,
не нарушен, а разъят, расколот, взорван звуками, оставшимися
незабвенными для слышавших, дорогая моя, эти звуки, эти ужасные
звуки. То были не свиные вопли неженки, торопливыми злодеями
убиваемого в канаве, и не рев раненого солдата, которого
озверелый хирург кое-как освобождает от гигантской ноги, они
были хуже, о, хуже... и если уж сравнивать, говорил потом м-сье
Paon, hфtelier (Содержатель гостиницы (франц.)), то, пожалуй,
они скорее всего напоминали захлебывающиеся, почти ликующие
крики бесконечно тяжело рожающей женщины, но женщины с мужским
голосом и с великаном во чреве».
Таковы родовые муки Адама Фальтера. Он появляется перед читателем в новом обличье, потеряв все свое былое шутовство. Казалось, что из него вынули костяк, а лицо выражало усталость, тупую усталость, но и животное облегчение после чудовищных родов.
После этого происшествия Адам Фальтер сделался вроде помешанного, совершая различные курьезные поступки, вроде сбора чужих шляп в кафе. Ни с кем не мог он поделиться той Истиной, что была ему открыта, лишь раз он дал исчерпывающий ответ итальянскому психиатру, которого после и нашли мертвым.
И все же Фальтер проговорился.
«- Погодите. Меня сейчас не столько интересует способ открытия, сколько ваша
уверенность в истинности находки. Другими словами, либо у вас есть способ проверить находку, либо сознание истины заложено в ней.
- Видите ли, - отвечал Фальтер, - в Индокитае, при розыгрыше лотереи, номера вытягивает обезьяна. Этой обезьяной оказался я. Другой образ: в стране честных людей у берега был пришвартован ялик, никому не принадлежавший; но никто не знал,
что он никому не принадлежит; мнимая же его принадлежность
кому-то делала его невидимым для всех. Я случайно в него сел.
Истин, теней истин, - сказал Фальтер,-- на свете так
мало, - в смысле видов, а не особей, разумеется,-- а те, что
налицо, либо так ничтожны, либо так засорены, что... как бы
сказать... отдача при распознавании истины, мгновенный отзыв
всего существа -- явление мало знакомое, мало изученное. Ну,
еще там у детей... когда ребенок просыпается или приходит в
себя после скарлатины... электрический разряд действительности,
сравнительной, конечно, действительности, другой у вас нет.
Возьмите любой трюизм, т. е. труп сравнительной истины.
Разберитесь теперь в физическом ощущении, которое у вас
вызывают слова: черное темнее коричневого, или лед холоден.
Мысль ваша ленится даже привстать, как если бы все тот же
учитель раз сто за один урок входил и выходил из вашего класса.
Но ребенком в сильный мороз я однажды лизнул блестящий замок
калитки. Оставим в стороне физическую боль, или гордость
собственного открытия, ежели оно из приятных,-- не это есть
настоящая реакция на истину. Видите, так мало известно это
чувство, что нельзя даже подыскать точного слова... Все нервы
разом отвечают "да" - так, что ли. Откинем и удивление, как
лишь непривычность усвоения предмета истины, не ее самой. Если
вы мне скажете, что такой-то - вор, то я, немедленно соображая
в уме все те вдруг осветившиеся мелочи, которые сам наблюдал,
все же успеваю удивиться тому, что человек, казавшийся столь
порядочным, на самом деле мошенник, но истина уже мною
незаметно впитана, так что самое мое удивление тотчас принимает
обратный образ (как это такого явного мошенника можно было
считать честным); другими словами, чувствительная точка
истины лежит как раз на полпути между первым удивлением и
вторым".
Когда говорит Память, человек мгновенно Слышит. Никакие гуру, наставники, ордена не смогут заменить или подменить Память, когда все нервы разом отвечают да.
Эту главу можно цитировать бесконечно. Здесь нет ни одного ненужного или лишнего слова.
«…можно ли рассчитывать на загробную жизнь. - Вам это очень интересно?
Во-первых, - сказал Фальтер, - обратите внимание на
следующий любопытный подвох: всякий человек смертен; вы (или я)
- человек; значит, вы можете быть и не смертны. Почему? Да
потому что выбранный человек тем самым уже перестает
быть всяким. Вместе с тем мы с вами все-таки смертны, но я смертен
иначе, чем вы».
Так кто же ОН, ТОТ, кто вытянул счастливый билетик?
Foxess: http://www.liveinternet.ru/users/foxess/profile/
Метки: критика |
Процитировано 2 раз
Андрей РОМАНОВ. Из книги "НАМ СУЖДЕНО ОТ СЧАСТЬЯ УМЕРЕТЬ..." |
Андрей Владимирович
НАМ СУЖДЕНО
ОТ СЧАСТЬЯ УМЕРЕТЬ
ИЗ КНИГИ СТИХОТВОРЕНИЙ
Санкт-Петербург, АПИ 2010
* * *
Притянет за голову,
скажет мне: «Доброе утро!»
Поступков и слов
потускнеет вчерашняя вязь.
А женские плечи близки мне
и так недоступны,
что в сердце,
как в сданную крепость
вступает боязнь...
Но солнце настало,
и гордиев узел развязан:
мне каждое утро
до завтра встречаться с тобой,
А все, что казалось вчера нам
случайною связью,
сегодня окажется
нашей внезапной судьбой.
НАД СУМРАКОМ ОБВОДНОГО КАНАЛА
1
Хмурый космос усмехнулся криво;
поскользнулось солнце на воде...
Помнишь ли,
Как ты была красива,
ты, что мне не встретилась нигде?
Нам в грядущий полдень нет возврата
даже по фальшивым паспортам,
Вновь тебя искать?
Пустая трата
времени, отпущенного нам.
Выставь телескоп своей квартиры
за пределы городских огней,
отыщи звезду в созвездье Лиры –
наши взгляды встретятся на ней.
И когда космическая вспышка
хлестко даст пощечину векам, –
астроном –
лысеющий мальчишка
честь открытья приберет к рукам.
2
Отражаясь в сумраке канала,
хмурый март приветлив стал опять.
Отложи таблетки веронала –
это блажь в такую полночь спать.
К нам звезда спустилась неспесиво
на пролет Литейного моста.
Ты в любых шелках была красива;
с возрастом сгустилась красота.
И, когда идешь ты утром рано,
кончики рассвета теребя,
парни, что вернулись из Афгана,
восхищенно смотрят на тебя.
3
Нарекли дорогу автострадой,
Проложили путь через жнивьё.
И за неположенной наградой
в Кремль слетелись словно вороньё.
Расхватали, напились, подрались,
взмыли в небо, солнце заслонив.
Не затем мы в той стране остались,
чтобы песни складывать про них.
Вдоль России сумрачной и строгой,
где проселки, как бикфордов шнур,
нам шагать нехоженой дорогой,
в стороне оставив Байконур.
Затянув потуже пояс Славы,
отряхнув чернобыльскую вонь,
мы кирзой в грязи напишем главы
жизни, отпылавшей, как огонь.
Чтоб сберечь
(как будущие всходы
спину распрямляющей Земли)
красоту,
которую ни годы,
ни невзгоды высечь не смогли.
4
День придет,
Верховный суд разбудит
совесть всех, кто взялся нас вести.
Жаль, что нас тогда с тобой не будет
На планете, сбившейся с пути.
Карусель крутых разоблачений
закружит, пружинами скрипя.
И вернутся правнуки с учений
Мир рукопожатием скрепя.
И, поняв, что были мы красивы,
что времен предугадали нить,
правнучки достанут негативы,
чтобы нас с тобою воскресить,
И с восторгом вглядываясь в лица
Улыбаясь людям молодым,
Мы пройдем по улицам столицы,
Что была лишь центром областным.
* * *
Волоча вдоль коломенской трассы
Похоронную муть на софе,
Я приполз к тебе с лунной террасы,
Где мы горькую пили в кафе,
Где, осилив хребет Альтаира,
Осквернитель Христова креста
При строительстве светлого мира
Обещал нам блатные места.
Но космической краской обляпан,
Я за эти две тысячи лет,
Не сдавался ни шлемам, ни шляпам,
Выполняя всевышний завет.
И теперь, прославляя Непрядву,
И бубновый распнув интерес,
Я бы смог рассказать тебе правду,
Испытав исторический стресс.
Что нам лунные эти отроги,
И сигнал водосточной трубы, –
Вдоль карельской железной дороги
Мы с тобой собираем грибы
И за собственных внуков в ответе
Понимаем, врагов хороня,
Что на белом чудовищном свете
Нет нигде ни тебя, ни меня.
* * *
– Возвращайся, ростральная фея,
Подари мне блокадный рассвет,
На котором твоя портупея
Сохранила трагический след.
Старый снимок расщедрится сходу,
Чтоб из времени вытряхнуть стресс.
Нам синоптик подарит погоду,
А Москва – транссибирский экспресс.
Серебро в грановитой породе
Станет ближе космической мгле,
Ведь недаром настурция бродит
По давно расселенной Земле.
Лимузин гарантирует встречу,
Звездолет – персональную ночь,
Где врачи приготовят нам лечо,
Если скальпель не сможет помочь.
Вот бы вновь отыскать киноленту,
Где победно ликуют друзья,–
Ту, что – даже назло президенту–
Предъявить на таможне нельзя;
Там, где с властною силой в обнимку,
Тормознув нас движеньем руки,
Спросят: «Как вы сошли с фотоснимка,
Исторической лжи вопреки?»
* * *
Не спеша воскрешать ни фиту, ни, тем более, ять, я –
Рядовой обитатель привычных маршрутных карет –
Заключаю тебя межпланетную фею в объятья,
И, признавшись в любви, доверяю бессмертья секрет.
Ой, когда ж это было? На Лиговку блажь накатила,
Уголовники вновь на три буквы послали конвой,
Потому что Москва за награды платить прекратила,
Открестившись от крови минувшей Второй Мировой.
С той поры осознав, что Россия с Европой рассталась,
Что хохочет Совмин, показав победителям нос,
Те, кто выжил в боях, согласились на самую малость:
Хоть десятку, хоть вышку, но лишь бы не в цех и колхоз.
И сегодня нам на уши вешает танцы и шманцы
Престарелая сволочь, чья грудь в орденах и крестах,
Что стреляла нам в спину, когда наступали германцы,
Чтоб – «Ни шагу назад!» – мы… А после спасалась в кустах.
Зерна правды ужасной ты в души, любимая, высей,
Чтобы даже на стендах усастый упырь не воскрес.
И маршрутка летит от «Крестов» до коломенских высей,
Возвращая солдат на священную почву с небес.
* * *
Мы были и раздеты, и разуты,
Осознавая, – если черт не съест,
Не выпадет нам счастья три минуты,
Пусть, – даже встав, – решенье примет съезд.
Ведь, если, демонстрируя немилость,
Свалился с неба мудрый Млечный путь,
Его тоска, всего лишь, нам приснилась,
И ты о ней, пожалуйста, забудь.
Настал черед сосулькам и аортам,
Заглушки ставить шелудивым ртам,
В чужом краю, что числится курортом,
Где мы живем по ложным паспортам.
Пора «линять»! Воздушных ям не будет…
Республиканский имидж невысок,
Культурная элита не осудит
Очередной вне времени бросок.
И в той межзвездной гонке неустанной
Мы попадем в компьютерную клеть,
Когда в подъезде, на углу Расстанной,
Свистит пацан, рискуя повзрослеть,
Ему плевать, что воробьишек стайку
Коты на свадьбе нашей помянут
И в президенты выдвинут всезнайку
На десять галактических минут.
Метки: поэзия |
Ауэзхан КОДАР. Об авторе |
Ауэзхан Абдираманович Кодар, поэт, культуролог, публицист, переводчик казахской национальной классики, кандидат философских наук, академик Народной Академии Казахстана «Экология».
Билингв, пишет на казахском и русском языках.
Автор книг на русском языке: «Крылатый узор» (1991 г.), герменевтического сборника «Абай (Ибрагим) Кунанбаев (1996 г.), поэтического сборника «Круги забвения» (1998 г.), монографий «Очерки по истории казахской литературы» (1999 г.), «Степное знание: очерки по культурологии» (2002), книги стихов с параллельным английским текстом «Цветы руин» (2004). Книги-компенидиума «Зов бытия» (2006) и «Антологии казахской поэзии в переводах Ауэзхана Кодара» (2006).
Автор поэтических сборников на казахском языке «Царство покоя» (1994) и «Возвращение» (2006).
Поэтические сборники Кодара переведены на английский и корейский языки.

|
Метки: ауэзхан кодар |
Ауэзхан КОДАР. ОШИБКА АХУРАМАЗДЫ. Повесть |
ОШИБКА АХУРАМАЗДЫ
Незаконнорожденному поколению, интеллигенции 90-х посвящается
Начиная с определенной точки, возврат уже невозможен. Этой точки надо достичь.
Ф. Кафка. Афоризмы.
Мифы не страшны, страшны современники, ставшие мифами.
Из интеллигентского фольклора.
В Америку!
Агзамов проснулся в прекрасном расположении духа. Голова чуть побаливала, но в теле была необыкновенная легкость. Сразу же вспомнился вчерашний банкет: чем больше пели ему дифирамбы, тем воздушней он себя ощущал и, под конец, окончательно впал в эйфорию. Банкетный зал был весь в зеркалах, и лысина Агзамова отражалась в них тысячекратно. Чем больше было славословий, тем больше витал он в облаках, как бог в жертвенном дыме и в какой-то момент почувствовал, что не существует, достиг нирваны. И это ощущение несуществования повторялось несколько раз: когда сам Кулмуратов поздравил его с орденом, когда с другого конца стола его бывшая жена Азалия, сияя, как дворцовая люстра, подняла большой палец и когда юная официантка, которую он приметил с начала банкета, подавая коктейль, кинула на него обворожительный взгляд, полный преданности и покорности.
Правда, когда они оживленной толпой выходили из ресторана, к нему бросился какой-то бродяга в куцем коричневом пальто, с лохматыми, давно немытыми волосами. Он размахивал какой-то книгой и кричал что-то нечленораздельное. Охрана быстро убрала его с дороги, но Агзамова неприятно поразила недобрая ухмылка, переходящая в косой шрам, как бы увеличивающий эту ухмылку до бесконечности.
«Как же звали этого беднягу из Гюго?», - подумал Агзамов. – Кажется, Гуинплен… Ну и рожа… Где-то я его видел», - бессильно ворохнулось в мозгу. Агзамова охватило чувство смутной тревоги. Однако когда он уселся на заднее сидение «Ландкрузера», салон которого окунал в благоухающую атмосферу комфорта, Агзамов опять впал в эйфорию, близкую к несуществованию.
И вот теперь, проснувшись после банкета, Агзамов был рад, что существует, что договор с жизнью не расторгнут, что кожа шелковиста, а тело сибаритствует в приятном предощущении утренней зарядки.
По обыкновению он встал и, хотел было приняться за зарядку, но вдруг заметил что-то странное: на подушке и вдоль нее были рассыпаны какие-то коричневые зерна или дробинки, или родинки. Да, кажется, родинки. Рука Агзамова невольно потянулась к шее, где у него с юношеского возраста была целая россыпь то ли папилом, то ли родинок, которых так и не удалось вывести в течение всей жизни. И вот, пожалуйста, теперь они сами выпали, все в один день. Шея стала гладкой как каток, пальцы так и скользили, не натыкаясь ни на что. Агзамову стало неуютно, как будто он лишился какой-то защиты, как будто маленькие славные гномики, преданно лепившиеся к его шее сегодня исчезли даже не попрощавшись. Агзамов принес с туалета совок, ладошкой ссыпал туда все родинки с подушки и постели, пошел в туалет и бестрепетно выкинул их в мусорницу. Это была особенность его характера. Странности не волновали его – то, что он не понимал, сразу выносил за скобки, выбрасывал из своей жизни.
Он подошел к окну, открыл форточку, сделал несколько взмахов руками и ногами, поповорачивал шею, покосил глазами, сделал несколько вдохов и выдохов, посидел, отдохнул и пошел в ванну. Там он разделся и принял душ. При этом он полностью отдавался под власть теплых, нежных струй, глотал и сплевывал воду, сунул руку в пах и несколько минут стоял, держа на весу одрябшие яйца. «Вот бы увидела меня Аделаида Николаевна, мой заместитель», - лукаво подумал Агзамов, - мгновенно убирая руку с срамного места. Скользнув в халат, он почистил зубы и стал бриться. Процедура бритья всегда освежала Агзамова. Ему было приятно видеть, как в зеркале вместо заспанного брюзгливого типа с мешками под глазами появляется бодрячок с розовеющими щечками и озорным взглядом ласкающих и ласкающихся глаз.
Вот и сейчас тщательно побрившись, он посмотрел в зеркало и… оторопел. Лицо продолжало оставаться небритым. Станок выпал из его рук, он нагнулся, поднял его и снова посмотрелся в зеркало. На этот раз все было в порядке. Он увидел свою гладко выбритую физиономию, пристально всматривающуюся в зеркало. Не обнаружив далее ничего необычного, Агзамов пошел на кухню и приготовил себе кофе. В задумчивости закончив утреннюю трапезу, Агзамов взял заготовленный с вечера портфель и вскоре выходил во двор, где его ждал служебный «Ландкрузер». По обыкновению, Агзамов закурил и стал ждать, когда к нему подбежит улыбающийся водитель, чтобы проводить до машины. Однако из машины никто не вышел. Докурив сигарету, Агзамов подошел к машине, открыл дверцу, и, поднял было ногу, чтобы сесть, но тут его остановил строгий водительский окрик: «Извините, Вы кто?».
|
Метки: проза |