-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Постоянные читатели
-Статистика
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://chto-chitat.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??ac108cb0, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
"Красавица" Рене Ахдие |
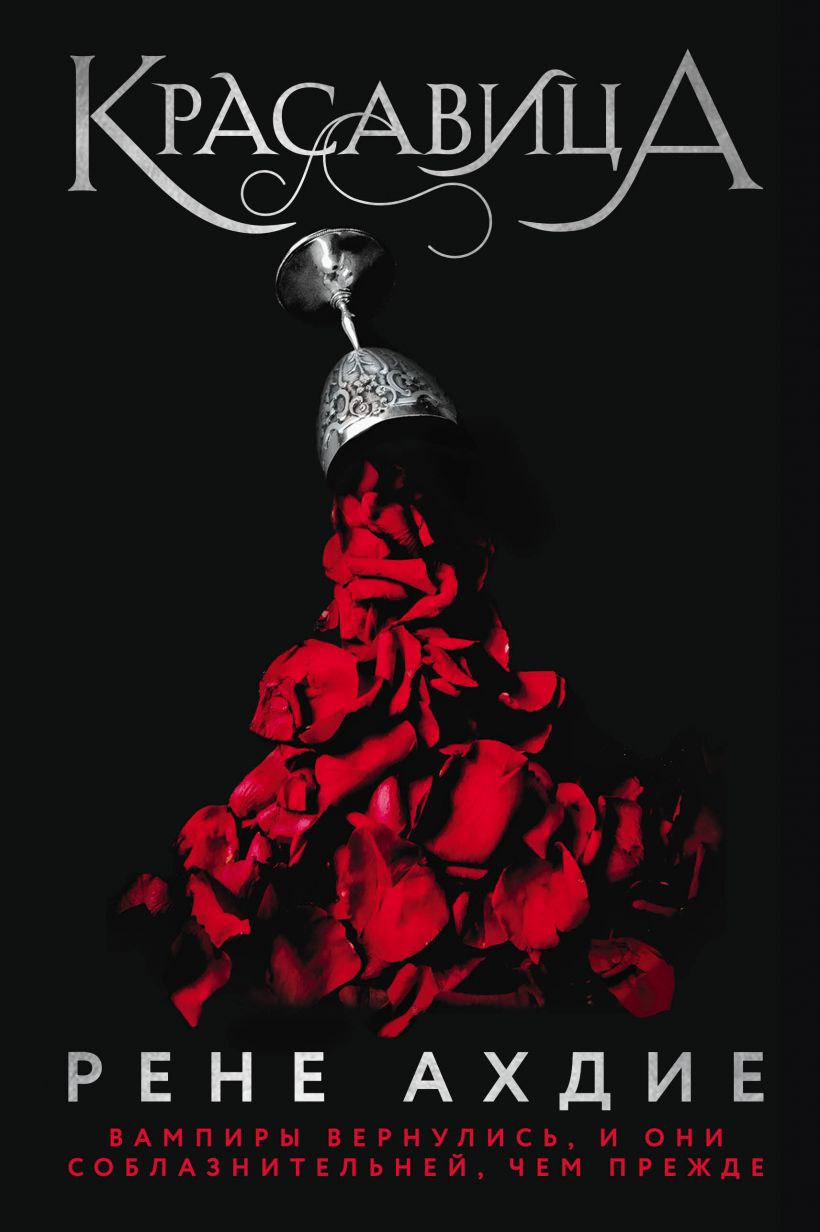
Девушка с железной душой сказала, что мне следует отправить ей стихи.
А вот кому вампирятинки? Третьей свежести, с душком? Не хотите? Зря, таких героев, как здесь. не на всяком кладбище (забытых книг) найдешь. Вот убей - не помню, почему заинтересовалась "Красавицей", не то контекстная реклама. не то какая-то из статей, типа: "10 книг, которые непременно нужно прочесть весной". Так или иначе, в читалке у меня она пролежала с месяц, все облизывалась на нее, оставляла на десерт, по формуле: "Как мысли черные к тебе придут, откупори шампанского бутылку и перечти "Женитьбу Фигаро".
Наивная, в комплекте с черными мыслями такое может подействовать исключительно по другой формуле: "Ну поставь "Ласковый май". Вырвет - полегчает". Не вырвало, буквами блевать затруднительно, но в целом ощущение примерно то. И не насторожили два эпиграфа, хотя есть правило: как дерьмовое чтиво, так автор непременно озаботится больше одного эпиграфа пихнуть в предвариловку.
И название не отпугнуло, как-то даже подумалось: гляди-ка, смелая какая авторка, не боится такую пошлятину в заглавие ставить, верно и впрямь что-то экстраординарно яркое, смелое, оригинальное, сокрушающее устои. Если книжка чего и сокрушает - так это беззащитный читательский мозг. Хотя, скорее выедает, подобно зомби из сериала, такому же медлительному, неуклюжему, полуразложившемуся.
Странно, имея в виду, что фактура изначально неплохая. Пусть это вторично, а скорее даже третично или четвертично, но удается же некоторым и из такого материала сваять вполне себе смотрибельные "Сумерки" (книг не читала, но фильмы все посмотрела с немалым удовольствием). А еще Новый Орлеан, конец XIX века, да блин, у Терри Пратчетта в этих декорациях "Ведьмы за границей". Хотя о чем я, Пратчетт был гений, а дама Ахдие с музой взаимодействует по формуле "меня сегодня Муза посетила. Немного посидела, и ушла."
Героиня, девица Селина, парижская полукровка эмигрантка белошвейка, вынужденно покинувшая Францию после того, как убила невзначай насильника. Девушка привлекательная и, без достаточных на то оснований, кажется себе умной. Найдя приют в монастыре Урсулинок, семнадцатилетняя красавица принимается лезть со своим уставом во всякую бочку затычкой и искать на хорошенькую задницу приключений. Это в городе, на минутку, где прямо сейчас орудует чудовищный маньяк.
Заводит сомнительные знакомства, держится в последней степени вызывающе, шляется по злачным местам. Удивительно ли, что с такой безголовостью она очень скоро привлекает внимание потусторонних страстей-мордастей. Некое незримое чудовище то и дело сообщает героине, что скоро она ему достанется, в преддверие единения убивая несчастных, имевших неосторожность оказаться рядом.
Что не мешает новым толпам поклонников и поклонниц всех оттенков кожи и ориентаций - а чего, у нас равноправие - стремиться в сферу притяжения лунной девушки (Селина - Луна, если что), вокруг которой мрак всегда гуще, чем в прочих местах. Под стать ненаглядной ее главная любовь, Бастиан, граф Сен-Жермен, сын темнокожей женщины и мексиканского индейца, круто, да? Он еще и вампир, если чо.
Перевод доставляет отдельное удовольствие. Обойдусь без цитат, но ощущение, что гнали прямиком из гугл-транслейта не оставляло на всем протяжении чтения. Что ж, отрицательный результат - тоже результат. Зато "Ярость и рассвет", вторую книжку прекрасной Рене Ахдие, я убила в читалке с огромной радостью..
|
Метки: мистика |
"Рэкетир" Джон Гришэм |
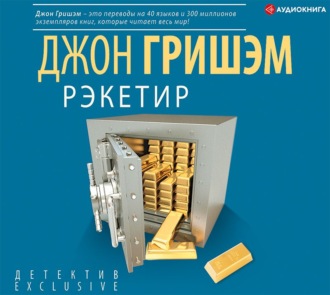
Мотоциклов рокот. Городок над речкой.
Из сберкассы вкладчика ведут взашей.
Милицейский рэкет, милицейский рэкет
раскошеливает торгашей...
...Но на то законы, чтоб срывать погоны
"Ров" Вознесенский
Здесь не те рэкетиры, которых мы помним по кино советских девяностых. Мне довелось в то время с этими мальчиками знаться (никогда не "рэкетиры", для торговли только "рэкеты" или "бандиты"). Сначала в Казахстане, потом в России. Особых притеснений от них не видела. В Азии Назарбаев как-то в одночасье прижал ОПГ к ногтю: вот ездили регулярно каждый месяц, потом рраз - и перестали, по городу только шли слухи, что заменил Алма-Атинского мэра, который крышевал бандюков, а новый опасается борзеть. Здесь, в Тольятти, одной из криминальных столиц при ельцинском бардаке, поначалу и тарифы выставляли покруче тех, к которым привыкла в КЗ. Потом, совпало с путинским временем, нашего бригадира Игорька убили, а новых я просто послала и больше не платила. Роль потрошителя предпринимательства тогда без особых усилий взяло на себя государство.
Так вот в американских реалиях, и это стоит понимать, приступая к чтению, понятие рэкета радикально отличается от нашего. В прошлом году закон против мафии RICO - The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act отметил полувековой юбилей. Он предоставляет прокуратуре право преследовать не за конкретные преступные действия, а за принадлежность к организации. С достаточно широким спектром нарушений. подпадающих под действие закона: от похищения людей и наркоторговли до финансового мошенничества и создания условий, способствующих вымогательству взяток - то есть, фактически, коррупции. Предусмотрено лишение свободы на срок до двадцати лет. То есть, очень жестко.
Вот под такой замес и попадает чернокожий адвокат Малькольм Баннистер, ставший пешкой в финансовой афере типа, известного как Подкупающий Барри. Главным образом из желания хорошего гонорара для фирмы, где был младшим партнером. Ну и статуса, конечно. Сыр в мышеловке и всякое такое, но на деле никто не отказывается от заманчивых предложений лишь по причине невозможности всесторонне проверить морально-этический уровень клиента, правда?
Начало кажется прямой отсылкой к "Побегу из Шоушенка": невинный человек арестован за преступление, которого не совершал, осужден на невероятный по длительности срок, потерял семью, имущество, друзей, статус - все, что составляет смысл жизни. Перестал быть человеком, как социальной единицей, став заключенным номер такой-то. С годами, благодаря профессионализму и дельным юридическим советам персоналу и заключенным добился для себя более-менее сносного существования в качестве библиотекаря. И вот, он получает информацию, которая может способствовать немедленному освобождению Один в один, да? Но это, и вправду, только начало. Дальше все закрутится совсем иначе и перевернется с ног на голову даже не один раз.
Это мое первое знакомство с творчеством Джона Гришема, он кажется интересным и заслуживающим внимания в силу многих причин. Во-первых четким пониманием государства (любого, даже самого демократического) как института, ориентированного на поддержание работоспособности своих систем и без колебаний сминающего отдельную личность. Во-вторых утверждением изначального неравенства тех, кто служит эргрегору обычным законопослушным гражданам. Ну и в-третьих, утопичной, однако такой заманчивой идеей, что систему можно обыграть на ее поле.
По поводу последнего, хочу предупредить: не пытайтесь повторить в домашних условиях. В остальном, хороший юридический детектив с немалым вниманием к законодательно-процессуальным тонкостям, которые детективы обычно обходят молчанием, и довольно сомнительной морально-этической составляющей. Хотя в качестве подтверждения максимы "закон что дышло - куда повернул, туда и вышло" - хорош. Исполнение аудиоверсии Игорем Князевым как всегда великолепно.
|
Метки: детектив американская |
Вадим Фролов "Что к чему" |
По книге снят фильм "Мужской разговор", и напоминание о нем мне попалось в интернете. Я смотрела его очень давно,
в детстве. И вот решила пробежаться по книге. Нахожусь в недоумении от одного момента. Главный герой ссылается на фильм
"Иван Васильевич меняет профессию" - типаж одного персонажа книги напомнил ему лицо из фильма. Меня это сразу резануло.
Фильм "Мужской разговор" я смотрела точно раньше "Ивана Васильевича". Причем на "Ивана Васильевича" мы ходили на премьеру...
Проверила себя - книга написана в 1966 году. Фильм "Иван Васильевич меняет профессию" - 1973 года....
Непонятно....
|
|
"Высокая кровь" Сергей Самсонов |
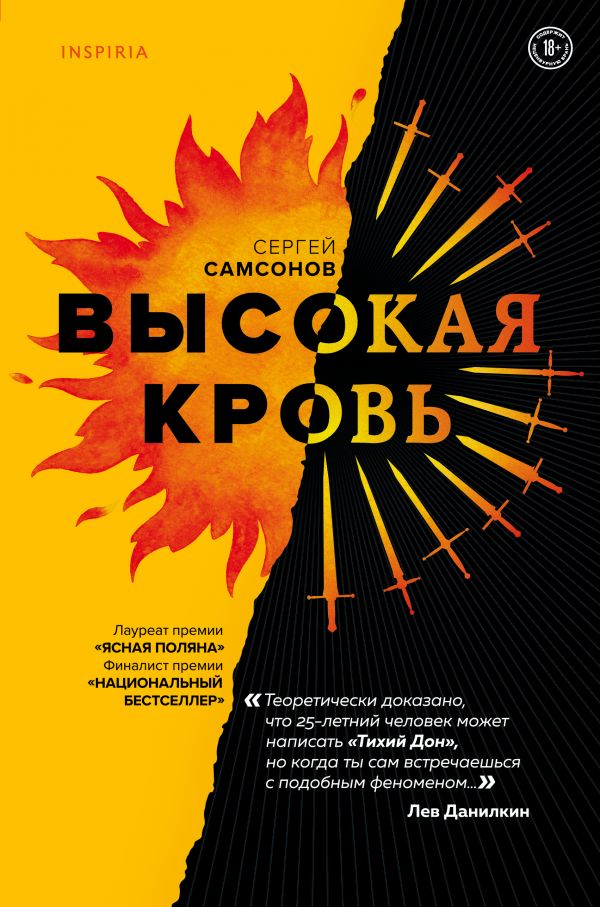
Белые рубят красных, Красные рубят белых.
Солнце восходит ясно, Много черешен спелых.
Мир далеко-далёко видит в окошках узких.
Русские рубят русских. Русские рубят русских.
Великая книга. Без преувеличений, самое яркое. умное, мощное, грандиозное, что было написано о Первой мировой и Гражданской за последние несколько десятилетий. Говорят, кратчайшая рецензия на книги Сергея Самсонова: "Самсонов - гений". Соглашусь, одного этого романа было бы достаточно для такой аттестации.
Что ж в нем такого замечательного? Все: эпический масштаб, в сочетании с тонким психологизмом; авантюрный и, неким диковинным образом, глубоко лиричный сюжет; сложнейшее сплетение судеб и простота; язык, являющий сплав диалектно-просторечных говоров с речью образованных героев, а над всем многообразием - великолепный авторский слог.
Что до эпоса, то мы же знаем, что по большому счету сюжетов всего два, война и странствие, "Илиада" и "Одиссея". Это самсоновская "Илиада", достойная стать вровень с лучшими образцами не только отечественной, но мировой прозы. В то время, как после, писать что бы то ни было на эту тему будет не то, чтобы трудно, но практически бессмысленно.
Сложная многофигурная композиция, где нет проходных персонажей, все герои заслуживают внимания и все через край наполнены жизненной силой. Пассионарный избыток, в который невозможно не влюбиться. Вопреки аннотации, молодой чекист Сергей Северин, назначенный комиссаром к комкору Леденеву, не главный герой, скорее один из основных. Достаточно значимый, персонаж, сочетающий истовую веру в идеалы революции с внимательным взглядом сыщика, от которого не ускользают подробности, скрытые от других.
Главных тут двое: Роман Леденев и Матвей Халзанов - соперники, друзья, враги, двойники. Тема противостояния двух лучших в сгущенной до экстракта реальности войны в творчестве Самсонова сквозная, достаточно вспомнить "Соколиный рубеж" пилоты-асы Зворыгин-фон Борх. Столь же постоянная для автора тема, как ницшеанский мотив сверхчеловека, которому многое дано, однако и многое спросится.
Роман Леденев с Дона. но не казак, мужик, в изначально третьесортном статусе пришлого, который "земли нашей захотел". Там была мощная незыблемая иерархия, согласно которой даже самый обеспеченный пришелец стоял много ниже коренного потомственного казака. В детстве терпел многие унижения, но овладел казацкими умениями, включая джигитовку, а призванный на солдатскую службу, сумел дослужиться до унтера. Во время Гражданской был красным командиром, проявил себя как замечательный тактик и стратег, у бойцов пользовался непререкаемым авторитетом.
Матвей Халзанов казак из числа зажиточных. Благороден, силен, умен, смел. Соперничал с Леденевым за атаманскую дочь Дарью, на которой женился. Воевал, был в австрийском плену, где снова встретил Леденева, бежал вместе с ним, стал героем. В Гражданскую воевал на стороне белых. С годами странное необъяснимое сходство с Леденевым, прежде видное лишь Дарье, становится пугающим до неотличимости.
Сергей Северин, красный комиссар. Докторский сын, книжный, но и спортивный мальчик, сызмальства постигший науку вольтижировки, его родной брат принял мученическую смерть. Верит в дивный новый мир, что удастся построить на обломках самовластья. Прекраснодушный мечтатель, проходящий на глазах читателя путь от апологета до сомневающегося, но не разуверившегося. Встретит в отряде свою любовь, сестру милосердия Зою, девушку одного с собой воспитания, хотя изначально далеко не одного круга - она, ну, в общем, такая потерянная принцесса. Не могу раскрывать всех хитросплетений, но линия Зои вносит в книгу яркую авантюрную составляющую.
По части женских персонажей, "Высокая кровь" не пройдет тест Бекдел, книга про войну, у которой не женское лицо. А все же, героини прекрасны. Дарья, ярчайший образ казачки - Аксинья и Наталья в одно время. Ася, понимаю, что эти вещи субъективны, но для меня она продолжает линию "Доктора Живаго, странным образом совмещая образы Лары и Тони, Как Дарья апофеоз "Тихого Дона". Зоя - Даша и Катя "Хождения по мукам". Вот как-то так.
Ярчайшая галерея второстепенных персонажей: царские офицеры, Мирон Халзанов, рядовые казаки и партизаны, родители, дети, блин, да одна только лошадь Леденева Аномалия чего стоит! Во всем через край перехлестывающая витальность, даже в смерти, даже в описании зверств, чинимых карателями с той и другой сторон. И при том удивительная внутренняя деликатность, сдержанность. Никогда не физиологизм ради пущего эффекта. Об этом больно читать, как больно было бы видеть.
Колоссальный объем плотного текста, в котором на своем месте каждая страница, всякий абзац - великолепная динамика и четкая структура, где события дня сегодняшнего объясняются и расшифровываются чередой флешбеков. И еще один немаловажный момент, количество обсценной лексики в романе стремится к нулю, даже припомнить не могу моментов, в которые тут ругались бы матом.
"Высокая кровь" гармонично сочетает военный, любовный, авантюрный роман с романом взросления, семейной сагой, взятой в классическом изводе "судьбы семьи в судьбе страны", но осмысленной свежо и ярко. Читая, вспомнишь "Тихий Дон", "Хождение по мукам", "Дни Турбиных", "Доктора Живаго", "Конармию", но книга ни в малейшей степени не компиляция. Совершенно оригинальный современный кинематографичный текст, достойный Большой книги 2021, в лонг-листе которой находится.
|
Метки: русская современная |
Посоветуйте книги о жизни, радости и тайнах) |
Я снова к вам с огромной благодарностью за ваши рекомендации к моим постам здесь. И отдельное огромное спасибо человеку, порекомендовавшему мне книгу Валери Перрен "Поменяй воду цветам". Впервые за долгое время нашла то, что не просто понравилось, а идеально мне подошло. И хочу ещё чего-то похожего по ощущениям от чтения.
Потому буду благодарна за рекомендации книг которые содержат в себе непростую историю жизни героя/героини + вкус любви к жизни (возможно - возвращение к жизни) + загадки, тайны, скрытые факты которые будут раскрываться в процессе чтения и "вотэтоповороты".
Люблю, когда история рассказывается сразу в нескольких временных пластах. Параллельные сюжетные линии, так или иначе перекликающиеся, тоже очень люблю. Обилие героев не пугает.
Охотно читаю как реализм, так и умное хорошее фэнтази.
И традиционно то, чего советовать НЕ надо: не смогу/не хочу читать детективы, книги с упоминанием жестокого обращения с животными, книги где в центре сюжета превозмогание тяжёлых болезней,выражено депрессивные книги с давящей атмосферой,не близка мне Викторианская Англия (да и вообще я не любитель английской литературы), не хочу научную фантастику,кровавые ужасы,книги про средневековье (и вообще, чем современнее антураж, тем лучше).
Очень прошу не советовать классику и широко известные произведения - их я скорее всего либо читала, либо уже знаю про них.
Спасибо!
|
|
Люси Фоли "Список гостей" |
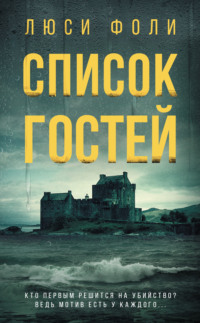
Джулия - успешная и состоятельная молодая женщина - выходит замуж за красавца-телезвезду. Она решает устроить роскошную свадьбу в весьма необычном месте: на маленьком ирландском острове, где нет ничего, кроме прекрасно отреставрированного старинного особняка, кладбища и заброшенной деревни.
Болота и туманы, пронзительные ветры, шторма и холодные воды залива - местечко то еще, и даже самый тихий солнечный день может быстро превратиться в погодный кошмар. В день свадьбы так и происходит, поднимается буря, отрубается электричество, а когда свет снова включается, раздается жуткий крик. Кажется, случилось что-то ужасное... но с кем и по чьей вине?
Это мы узнаем позже, а пока повествование отматывается назад, к дню, предшествуюшему свадьбе. Гости прибывают на остров, и повествование попеременно рассказывает то об одном фигуранте, то о другом - характеры, чувства, секреты, все, что может таить загадку или послужить мотивом для чего-нибудь этакого. Хорошо передана атмосфера острова, овеянного темными легендами - идеальные декорации.
По жанру это психологический триллер - не детектив, где ищут убийцу, а история о нарастающем и в итоге взрывающемся напряжении, о событиях, которые катятся, как снежный ком, и приводят к убийству. Читается легко, психологическая сторона, столь важная для сюжета, затянутости не вызывает.
Кто жертва, непонятно почти до финала, и вопрос "кто и кого? " интригует. Разгадка неплоха, правда, автор совсем уж разошлась, подкидывая мотивы для убийства и потенциальных убийц.
Но в целом интересный психологический триллер.
|
Метки: триллер |
"Семья Рэдли" Мэтт Хейг |

И упасть, опаленным звездой по имени Солнце
Вот ведь какая занятная штука, мне и в голову не приходило рассмотреть "Звезду по имени Солнце" с точки зрения вампирьей эстетики. Смотрите-ка: вечность и юная смерть, принявшие которую отчего-то не горемыки, но любимцы судьбы. Почему? Они что, получают что-то взамен той обыденности, какой живет скучное большинство? И красная красная кровь. И упасть, опаленным солнцем. Да еще эти граффити всюду "Цой жив!" Ведь сколько лет прошло, а все появляются, будто дыма без огня не бывает
Ну что за чушь, у Цоя это просто романтика, он и не дожил до волны книжного и киновампиризма. Конечно, хотя внешне эстетика самая та, а ведь были и смазливее его, и те, кто молодыми ушли, но никто не стал предметом культа, в отличие от него. Верно и впрямь что-то такое было, животный какой-то магнетизм. Тот самый, который герои "Семьи Рэдли" упорно в себе подавляют вот уже семнадцать лет. И никто не скажет, глядя на Питера и Хелен, что они не среднестатистическая, изрядно подуставшая друг от друга и от обыденности пара с двумя детьми подростками, но вовсе даже могучие вампиры.
А все потому, что однажды приняли осознанное решение не пить человеческой крови, что для вампиров означает стать как все. Ну и что? Да ничего. Кроме того, что пришлось отказаться от силы, скорости, привлекательности, умения летать и еще кое-каких, не столь зрелищных, сверхспособностей. Зато совесть их чиста, мда. И все же ведь ради детей было, чтобы воспитать их хорошими людьми. Какие дети, что за чушь? У вампиров не бывает. Вопросы к Мэтту Хейгу, которого почитываю время от времени, иногда с большим удовольствием, а иногда так - плечами пожать, как с этой книгой.
Что, нехороша? Да как сказать, скорее всего просто пришла ко мне не в то время и не в том настроении. Вот кстати о детях, тема подросткового буллинга красной нитью проходит через книги Хейга и думаю, он делает немалой важности дело, вселяя в одиноких подростков уверенность, что они не одни, что многие через подобное проходили, и все у них в результате хорошо сложилось, в то время, как звероподобным мучителям из числа бывших одноклассников прямая дорога - к заводскому конвейеру, если не вообще по тюрьмам.
Но как-то мне уже поднадоело, тем более, что здешние брат и сестра, Роуэн и Клара ощущают себя задротами единственно по причине собственной подавляемой природы, о которой знать ничего не знают, Клара так и вовсе объявила себя вегетарианкой и потихоньку угасает на морковных соках. Пока на вечеринке, отбиваясь от насильника, случайно не перегрызает ему горло - нет, чисто рефлекторно.
Вот тогда-то все и завертится. Не самое мое у Хейга, но кому-то может понравиться. и он всегда остроумен, литературоцентричен, занятен.
|
Метки: мистика |
"Записки из "Мёртвого дома" Достоевского |

Ещё одна книга, которая, будучи записана в список покупок год назад по другому поводу, после приобретения в этом году неожиданно стала актуальна. Я её выбрал из-за философских проблем и образов: улетевший от арестантов орёл, каторжник, которого расковали лишь после смерти. Это очень сильные страницы, но это не Преступление и наказание, тут философия ещё стоит на втором плане после реализма.
Задумана она автором была явно на основе собственного опыта, представляя нечто вроде рассказов Шаламова или Солженицына. В этом качестве, разумеется, "Мёртвый дом" выглядит бледной тенью того кошмара, который благодарные потомки устроили в XX веке. Но получился удивительный срез общества России конца "николаевской эпохи". Характерно полное отчуждение между дворянами и прочими арестантами, которые не считают, что могут быть друг другу товарищами. И это в середине XIX века, задолго до первых революционных событий! Много внимания уделено судьбам людей, многие из которых попадали на каторгу из-за собственной забитости и беспросветности нищенского существования. Для этого автор даже сделал отступление "Акулькин муж", в форме разговора описывающее драму в личной жизни одного из заключённых. Описание каторжных порядков, не впечатляюще жестоких, всё же неминуемо проецируется на всю систему власти в Российской империи, где за чёткими инструкциями терялась любовь к ближнему, процветали самодуры и казнокрады. В таких условиях и "исправительная рота" штамповала будущих преступников, и каторга, очевидно, не отличалась в лучшую сторону.
Каков же вывод? Поразительно, но Достоевский его не высказывает открыто. Хотя вдумчивому читателю всё ясно: тюремная система и телесные наказания – безусловное зло, а бороться с неразвитостью людей, толкающему тех на преступления, эффективнее через развитие просвещения. В какой-то мере эта программа проводилась в жизнь во второй половине XIX века, но принудительная система оказалась слишком живучей… Справимся ли мы с наваждением, или в XXI веке нас ждёт её реинкарнация?
|
Метки: Достоевский русская классика 19 век |
Луиза Пенни "Очень храбрый человек" (Арман Гамаш - 15) |
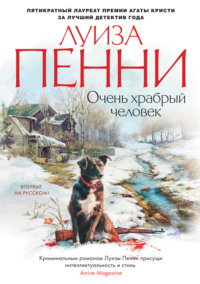
Арман Гамаш возвращается на службу после длительного отстранения. Он понижен в должности, но по-прежнему готов делать то, что умеет лучше всего - расследовать преступления. Его первым делом становится исчезновение Вивьен Годен - молодой беременной женщины, отец которой забил тревогу, подозревая, что к пропаже Вивьен мог приложить руку ее собственный муж. Вроде обычная история, однако многое в ней оказывается не тем, чем виделось на первый взгляд.
Тем временем на Квебек в целом и Три Сосны в частности надвигается весеннее наводнение, грозящее обернуться настоящей катастрофой, а в твиттере активизировались мудаковатые граждане: одни нападают на самого Гамаша, а другие - на художницу Клару Морроу из Трех Сосен.
Романы Луизы Пенни - это гармоничное сочетание классического и современного детектива. Это отсутствующая на карте канадская деревушка Три Сосны с потрясающе уютной атмосферой и интереснейшими обитателями, с которыми невозможно не сродниться. Это приятная неспешность, тонкий юмор, глубокий психологизм и манера изложения, благодаря которой повествование воспринимается как изящное кружево - каждое слово на своем месте и удовольствие от чтения обеспечено. Это запоминающиеся персонажи, каждый из которых интересен и хорош по-своему, и прекрасный главгерой - человек мудрый, хороший, но не идеальный. Детективная сторона в большинстве случаев хороша, а имеющиеся огрехи легко прощаются за все вышеперечисленные достоинства. Читать нужно обязательно по порядку, иначе многое не будет понятно.
"Очень храбрый человек" ближе классическим детективам, чем несколько предыдущих романов серии, в которых параллельно с "обычными" преступлениями активно фигурировали интриги в квебекской полиции. Здесь они тоже есть, но в куда меньшей степени.
Психологическая сторона, как всегда, хороша - тот случай, когда не просто читаешь, а погружаешься, чувствуешь, сопереживаешь. И, опять же как всегда, приятно вернуться в деревушку Три Сосны и встретиться с ее разношерстными обитателями. Правда, ярких диалогов и дружеских перепалок в этих главах на этот раз меньше, чем обычно, но в целом атмосфера та же - спокойствие, уют, доброта.
История с исчезновением женщины драматична, но весьма увлекательна. Сперва кажется, что все просто, даже слишком, ну и чего там столько страниц делать, топтаться вокруг одного и того же, что ли - ан нет, сюжет виляет туда-сюда, и в итоге мы получаем вполне неплохую разгадку.
Добротное продолжение серии.
|
Метки: детектив |
История Османского государства, общества и цивилизации. В 2-х тт. |

Глядя на заглавие сего весьма солидного по объёму двухтомника, поневоле испытываешь робость. Ну как даже в такой объём впихнуть настолько такой большой материал, касающийся и государства, и общества, и культуры? Особенно такой сложной страны, как Турция? В России на родном материале схожей смелостью обладают только Борис Акунин, да недавно почивший Андрей Сахаров, со всеми вытекающими из этой смелости последствиями.
Впрочем, это издание схоже с дежурными страноведческими монографиями, которые выпускала наша АН, вроде рецензируемой мною некогда «Истории Ирана» (1977). Однако тема слегка пошире. Если монографии АН обобщали итоги региональных исследований, сводя воедино выработанные марксистским (или псевдомарксистским) методом, то перед группой Эмеледдина Ихсаноглу, главного редактора двухтомника, встала другая задача. То, что изначально задумывалось лишь как подробный справочник, стало своего рода официальной версией истории Османской Турции, взгляд на империю глазами её наследников. В своём роде «История Османской империи…» являет собой попытку преподнесения позитивного взгляда на эту уже почившею страну, с выделением плюсов и без лишнего затушевывания минусов, причём без упора на противостояние с внешним миром, чем страдает, например, государственная российская историография.
Как правило, отечественные варианты истории Турции рассматривали, во первых, политическую, во вторых – институциональную историю, с редкими вкраплениями экономической и социальной проблематики. Главные редакторы этого издания решили поступить смелее, и в первый том упаковать всё, связанное с социально-политическими вопросами, второй же, не меньший по объёму, отвести культуре и науке, чтобы более ярко показать место Турции в мировой истории. Поэтому первый том содержит краткий очерк политической истории, объёмный раздел, посвящённый экономике, солидные главы о развитии государственных институтов и управлении, праве и военной организации… И удивительно куцый раздел по социальной истории. Второй том встретит нас обширными экскурсами в историю литературы, религиозных и научных учреждений и сообществ, а также познакомит с архитектурой и каллиграфией.
Что же вышло в итоге?
С одной стороны, авторы очень стараются придерживаться изначально заданного нейтрально-позитивного образа Османской империи. Достаточно сдержанно пишут об экспансии в Малой Азии и на Балканах, сдерживают душевные порывы, описывая противостояние с Австрией и Россией, стараются выделить позитивные черты каждого периода, причём отказываясь от традиционного разделения истории по правителям, отдавая предпочтение доминирующим трендам в политике. Это безусловный плюс. Даже правление Абдул-Хамида II (1978-1909), называемый русской историографией «зулюм» (в этом двухтомнике даже не упоминается), старается быть показанным как период попыток дальнейшего реформирования и развития, засилье же европейской деловой верхушки становится в их интерпретации инструментом модернизации гаснущей империи, а не элементом капиталистической экспансии, как писали советские турковеды. Описание внешних конфликтов весьма сдержанно, европейский концерт держав не слишком демонизирован на этих страницах, причём Россия для турецких историков фигурирует исключительно как европейская страна.
Конечно, когда речь заходит о болезненных точках истории, авторская попытка нейтральности отказывает. Безусловно, такой точкой является армянский геноцид, который острой занозой вонзился в сам образ Турции, став огромным пятном на её истории. Здесь эмоции изменяют историкам: саму главу, повествующую об этих событиях, они начинают с красочных описаний террористической деятельности армян, и их преступлений против центральной власти. Сам же факт геноцида, по факту, отрицается ими, и события в Восточной Анатолии рассматриваются как «обычные полицейские меры», которые были раздуты политиками для дискредитации младотурецкого правительства, и до сих пор служит разменной картой в политических играх, а также религиозной борьбе против ислама, угнетающего христиан-армян.
Однако не армяне, как ни странно, стали для авторов монографии главным триггером. Ну вы знаете, есть в национальной исторической памяти народ, чей негативный образ постоянно противопоставляется самому себе. В России таким народом являются поляки, которые, по словам ряда историографов, всю историю гадили нашей великой Родине. Для Турции таким народом являются греки. Именно обласканные, со слов авторов монографии, греки, защищённые правом зийймия и долгое время бывшие основной частью интеллектуальной элиты империи, в один прекрасный день попросту предали своих благодетелей, и вели подрывную деятельность весь XIX век.
Из существенных плюсов стоит выделит большой раздел, посвящённый экономике, в котором действительно содержится масса полезных сведений о её состоянии в разное время. Правда, один из самых важных вопросов – динамика внутреннего рынка – всё же остался на заднем плане, и мы не так много узнаем о товарообмене между различными регионами. Очерк же о социальной истории вышел слишком маленьким и контурным. Если в блоке, посвящённом экономике, мы видим не только структурированное описание институтов, связывающих государство с экономической жизнью регионов и попытки воздействия и контроля, но и диахронное движение этих процессов за полтысячелетия, то социальная история в трактовке авторов выглядит несколько статичной и обрывочной.
Более полными и насыщенными вышли разделы, посвящённые, собственно, институтам управления и военным силам Османской империи – здесь авторы потрудились по полной, показывая развитие государственного аппарата, разделив его историю на два больших периода – до реформ Танзимата и после.
Особенно удивляет отношение авторов к ильмие – учёному сословию, не только религиозного, но и светского толка. Здесь всё расписано очень подробно и обстоятельно, как будто составители пытались показать, что в Турции тоже развивались науки и было место идеям Просвещения. Это так, но и сами авторы признают, что свою негативную роль сыграли и процессы в обществе, в котором всё больший вес приобретали мистические секты, и идеи оторванности от тварного мира, и, во вторых, фрагментарная поддержка государства, которая далеко не всегда одобряла деятельность учёных, особенно с подачи шейх-уль-ислама.
Что до самой культуры, то бишь искусства и религиозных движений – здесь уже авторов охватила гигантомания. Представьте себе, что историю русской литературы излагают перечислением фамилий – «наиболее яркие представители русской литературы – поэты Пушкин и Лермонтов, прозаики Булгарин и Гоголь…». В такой вот примерно манере авторы изволят описывать собственную литературу, большая часть которых попросту неизвестна русскоязычному, а возможно, и европейскому читателю. Если изрядный корпус персидской поэзии давно переведён, а некоторые поэты, как Омар Хайам, имеют широкую популярность, то турецкие писатели так и остались для нас неизвестными, поэтому сухие характеристики почтенных авторов нисколько не меняют и не дополняют нашу картину. Так что, как ни удивительно, порадоваться особо нечему…
Что же в итоге? Любопытный двухтомник, солидная коллективная монография, одна из лучших в своём роде, но несущая ряд серьёзных… проблем, вряд ли недостатков. Однако для понимания самой исторической памяти идейных последователей страты «ильмие» эта монография просто необходима, и в какой то степени она отражает турецкую имперскую идею, которая весьма популярна в наше время.
|
|
Меган Миранда, Девушка из Уидоу-Хиллз |
20 лет назад ее история потрясла всю страну. Пропавший среди ночи 6 летний ребенок через три дня сумашедших поисков был обнаружен в подземных коммуникациях водостока - предположительно ее унесло ливневым потоком. Как она выжила - Бог весть. Девочка после пережитого ужаса напрочь забыла эти три дня. Потом девочка выросла.
От другой книги Миранды, которая произвела на меня, пожалуй, более сильное впечатление, "Все пропавшие девушки", эта книга существенно отличается.
В обоих случаях рассказ идет от первого лица и сосредоточен на точке, с которой картина видна рассказчице. В обоих случаях история расскрывается перед читателем постепенно, не сразу, вырастает из мыслей героини.
Но "Пропавшие девушки" - это книга в первую очередь о семье. О том, как люди одной семьи, пусть и имеющие друг к другу старые обиды, счеты и недовольство, встают друг за друга, когда дело доходит до ВАЖНОГО.
А "Уидоу-Хилз" - это тотальный распад семьи и близких связей. История начинается с того, что героиня узнает о смерти матери, с которой она, по видимому, разорвала отношения. И когда вокруг нее начинают происходить странные вещи, корень которых, вероятно, лежит в прошлом, ей не на кого опереться - ни на семью, ни на любовника... может быть на пару друзей. А может и нет.
История, несомненно, нестандартная и ярко написаная. Зацепит ли она читателя или останется "не тем, о чем хотелось бы прочесть" - это, вероятно, зависит от личного жизненного опыта.
ПС: если кто прочел уже, поделитесь впечатлениями!
|
Метки: 21 век детектив американская |
"Покров-17" Александр Пелевин |

Я нож в груди майора Денисова.
Я майор Денисов.
Я Харон Семенович, воткнувший паучью лапку мне в грудь.
Я полковник с червями на лице.
Я вещество Кайдановского.
Я Кайдановский.
Оно конечно не "Я царь — я раб — я червь — я бог!", ну так ведь и автор не Державин. И не Пушкин, хотя Александр Сергеевич. И даже не, сами знаете, кто. Он вообще больше похож на Златопуста Локонса, вопреки утрированной брутальности текстов и обилию обсценной лексики в постах Твиттера, где у Александра Пелевина, к слову, немыслимое количество подписчиков.
Но тут уж, не поверю, что сочетание фамилии со статусом "русский писатель" не сыграло определенной роли. От паблисити, хотя бы и несколько скандального, и окрашенного страдательным залогом: "Вот опять меня сравнивают с ним!" - кто же в наше время откажется? И даже приписка "не Виктор" звучит почти как лермонтовское "Нет, я не Байрон, я другой", после которого только и сказать: "Ты круче, бро, когда есть ты, кому он, на фиг, нужен, тот Байрон?"
Нет, я не отношу себя к числу поклонниц, не читала его. Четыре года назад, первое упоминание об авторе совпало с весьма нелестной аттестацией романа "Здесь живу только я" от читателя, в литературном вкусе которого не сомневаюсь. После примерно то же говорили о "Четверых", и снова два человека с безупречным вкусом. Но Большая книга-2021, в лонге которой "Покров 17", не оставила выбора - надобно составлять собственное мнение.
Читаю. Недурно. Стилистически основной пласт соединение пацанской прозы раннего Прилепина времен "Патологий" с Лазарчуком; линия Великой Отечественной - лейтенантская проза не самого худшего качества. Концептуальтно и методом построения хоррор-составляющей тяготеет к сгинь-бомбе Ника Харкуэя. Схема - компьютерная стратегия с тремя непременными группировками, каждая из которых преследует свои цели. Общий пафос: страна, которую мы потеряли. Умиляет, учитывая, что рожден этот Пелевин в восемьдесят восьмом, следовательно Союз мог видеть только в кино и на картинках.
Что ж, всякий, право, имеет право, пусть цветут сто цветов, и на обломках самовластья напишем (далее по тексту, простите, Александр Сергеевич, ваш тезка лучше всего умеет писать то, что обычно пишут на заборах). А о чем вообще? Ну, два временных пласта, 1993-й, в котором, собственно, все происходит в пределах закрытого административно-территориального образования (ЗАТО) Покров 17, и 1941 село Недельное, прежде бывшее тем самым Покровом.
Есть еще линия мальчика Саши, который слушает с дедушкой по радио репортаж о штурме Белого дома в том же 1993-м. Рискну предположить - камео. К финалу все три, как водится, сплетутся, а не особо испорченный интеллектом читатель получит чудеса самопожертвования в комплекте с идиллической картинкой парада Победы 2019 в альтернативной реальности, где все живы и счастливы, а огромная прекрасная страна по-прежнему занимает шестую часть суши.
Резюмируя: Пелевин для бедных, для очень бедных, которых будет Царствие небесное. Написано бойко, динамично, таровато, с вкраплениями в прозу стихотворных строк, из них внимательный читатель может сложить готовые четырехстишия, такой поэтический фастфуд "сделай сам". Но есть одна сцена, по-настоящему сильная, мужской вальс. Вот это было круто и из-за этого мне не жаль потраченного на книгу времени.
|
Метки: русская хоррор современная |
Елена Радецкая."Одинокий пастух". |
Книга петербургской писательницы Елены Радецкой «Одинокий пастух» произвела на меня сильное впечатление. Наверное, в том числе и потому, что описывает время перестроечное и постперестроечное - время моей молодости. Прочитав роман, я вспомнила про отпуск цен при переходе к рынку, про пустые магазины, про ваучеры. Похоже, я ровесница Лизы - главной героини книги. Лиза часто испытывает те же чувства, что и я, точнее, я испытывала те же чувства (отношение матери к дочери, отношение к мужчине), что и девушка Лиза. Книга написана замечательным языком, от чтения отрываться не хочется. От своего имени Лиза рассказывает об отсутствии материнской любви в своей жизни, о любви к мужчине, о своём сыне, родившимся аутистом.
Лиза обижается, что мать никогда не называла ее зайчиком, солнышком, она завидовала тем девочкам, которые имели рядом любящую мать. При всем при этом мать Лизы считалась образцово-показательной матерью. «Она никак не способствует воспитанию во мне чувства собственного достоинства и уверенности». «Мать сама не мечтает, поэтому ничего замечательного и не случается в ее жизни. Она хочет, чтоб и я была такой же». «Я боялась маму, хотя она никогда меня и пальцем не тронула, наказывала меня молчанием и презрением».
Лиза обычно влюблялась в умных мужчин, и хотела выйти замуж за ученого. На своем филфаке она познакомилась с профессором Филиппом Александровичем, специалистом «в кечуа, который вместе с испанским является государственным языком Перу». Профессор был увлечен инками и мечтал расшифровать их письменность. Фил рассказал Лизе о расшифрованной письменности майя, и сказал, что «это сделал наш русский гений». Фил считал, что узелковое письмо инков тоже со временем прочтут. Проблема в том, что настоящих кипу сохранилось очень мало (самая большая коллекция в Берлине- 300), католики - завоеватели сожгли кипу, как шаманскую и языческую ересь. У Фила были только копии с оригинала. Фил считал, что письменность инков - кипу - можно дешифровать с помощью математики. Он занимался любимыми инками всегда и всюду, в том числе в доме отдыха ученых в Сочи, куда никогда не брал свою молодую и преданную жену. Фил, профессор, был старше Лизы на 20 лет и имел двух дочек несовершеннолетних. Мать Лизы была против этого брака, она говорила, что «надо выходить замуж за студента-заочника, политехника». Лиза не послушалась матери и союз состоялся. Я понимаю Лизу –« Кто же слушает родителей, которые никогда не ласкали тебя в детстве». Фил в процессе семейной жизни говорил ей о Мачу- Пикчу, о традициях инков, а еще позволял себя любить, одевать, и ухаживать за собой.
Лиза тоже увлеклась инками и рассказывала истории об этом народе и детям в пионерлагере, и роженицам в роддоме. Мне тоже истории эти показались интересными, и не со всеми фактами, приведенными в книге Елены Радецкой, я раньше встречалась. Лиза стеснялась своего мужа, ей казалась, что она глупая, она боялась, что надоест ему. Она спрашивала его - «Вам скучно со мной». «Мне казалось, что Фил меня разлюбит, узнав, что я сдала античную литературу, прочитав лишь учебник».
Потом Лиза забеременела, но радости не испытала, «женщины уверяют, что оттого, что ты спокойная и веселая, зависит формирование сознание ребенка, закладывается программа поведения на всю жизнь. Как то не получалось все это организовать». «Я чувствовала себя жалкой, уродливой и униженной во время беременности». Лиза не понимала тех, кто был горд и счастлив в этот период, лично у нее, беременной, была тяжелая депрессия. Она почему-то» настороженно» относилась к тому, что росло в ней, «Я его не знала, он непонятно как завелся во мне». Лично я впервые узнаю тот факт, что беременная женщина может считать себя жалкой и уродливой. И очень удивляюсь. И сочувствую Лизе.
Ребенок Дима, или Митя, родился аутистом с синдромом Саванта. Он наизусть читал Пушкина, знал, сколько строчек и сколько слов в басне, легко собирал кубик Рубика, но никогда не звал ее мамой, он вообще Лизу никак не звал, а себя называл только в третьем лице. Он не умел ходить в туалет, был агрессивен, кричал в трамвае, боялся людей, на улицу выходил только в капюшоне. Сад детский для такого ребенка был невозможен. Фил ушел в свою квартиру, и приходил домой к Лизе в основном на выходные: у себя он работал, думал про своих инков, а Лиза боролась за сына, ей помогали в воспитании ребенка мать и соседка. Лиза говорила «я бы предпочла иметь безмозглого и бездарного, но самого обычного ребёнка». Но ребенок был необычный, его поставили на учет в псих диспансер с диагнозом УО и сказали, что вряд ли Митя сам сможет себя когда-то обслуживать». « Я себя не просто не люблю, я себя презираю»- такой вывод сделала мама мальчика. Хотя врачи говорили, что никакой вины Лизы в рождении такого ребёнка нет, она все равно чувствовала себя виноватой.
Неожиданно выясняется, что Митя, увидев кипу отца, стал говорить маме, о чем она повествует. Лиза запомнила его рассказ и пересказала его мужу, который был как всегда где-то далеко. Лиза пыталась понять, откуда ребенок знает то, о чем говорит, но тот твердил, - «Митя увидел», «Где?», «Митя не знает», « В воздухе написано?», «Митя не знает, Митя не знает». Папа ученый обрадовался этому известию, но тут Митя попал в аварию и долгое время пребывал в коме. После комы он впервые сказал слово « мама», начал называть себя « я», стал учиться ходить в туалет. Но вот замечательная память его исчезла, он с трудом мог запомнить самое простое стихотворение, и перестал успешно собирать кубик Рубика. Папа - ученый все звонил и просил Лизу, чтоб она записала все, что скажет сын про кипу. Но было уже поздно. А я, читательница, злорадно думала - если б отец занимался ребёнком, может, и стал бы, благодаря сыну, знаменитым навсегда, как тот наш русский ученый, расшифровавший письменность майя. Но отца рядом не было, и вдобавок «он не умеет любить» - так сказала подруга Лизы о Филе.
В общем, Лиза бросила Фила, встретив мужчину с громадной собакой, который любил детей. Почему она ушла от Фила? «Я тоже хочу быть такой, какая я есть, другой, чем с ним, потому что с ним я – не я».
Бедная девочка, как хорошо, что ей все же повезло встретить своего мужчину. Автор часто, говоря о людях, упоминает выражение – «другое дерево». Это словосочетание в романе встречается постоянно, как рефрен. «Мать - другая, она - другое дерево. И Фил другое дерево. Не говоря уже о моем несчастном сыне. Как жить в этом чужом и страшном лесу». Похоже, ее новый друг с собакой оказался деревом, которое подходит Лизе. И Мите.
Я хочу, чтобы вы прочли книгу и желаю вам, чтобы вы встретили в своей жизни друга, который, по терминологии Елены Радецкой, был бы «вашим деревом». Ну и сразу бежали от человека, находясь с которым вы дрожите от страха, - «Ах, он такой умный, вдруг он узнает, что я сдавала античную литературу только по учебнику?»
«Как же инки не знали колеса, когда их главный бог был в форме колеса? Я думаю, что использовать колесо для передвижения или работы было просто кощунственно. Инки ведь и гончарный круг не использовали»- говорил Филипп Александрович.
|
|
Эндрю Шон Грир "Лишь" |

Лишь (в оригинале Less, и я не представляю себе, сколько времени ушло на эту вот переводческую находку) – это фамилия. Артур Лишь – стареющий писатель средней известности, немного гламурный, немного нелепый, довольно одинокий человек, у которого на месте личной жизни какой-то кот Шредингера, а именно – некий юный аполлон, отношения с которым длятся несколько лет, но никакого постоянства и даже взаимной верности не предполагают. Однако же, когда упомянутый аполлон решает жениться (не на нем) и присылает Артуру приглашение на свадьбу, нашего героя накрывает экзистенциальный кризис грандиозного размаха. К нему добавляется кризис писательский: новый роман Артура не понравился даже его агенту. Не в силах выбрать между двумя унижениями – пойти или не пойти на злосчастную церемонию - Лишь устремляется по пути эскапизма: отряхнув от пыли все третьеразрядные приглашения туда и сюда, которые чудом избежали мусорной корзины, он устраивает себе писательское турне.
Гротескная завязка и легкий тон обещают комедию, и это обещание не обманывается. Мы следуем за этим обаятельным и эксцентричным литературным Паганелем в его путаном и безнадежно комичном вояже: вот Лишь рассекает пустыню на верблюде, целуется с незнакомцем на пьяной вечеринке, повреждает лодыжку, сорвавшись со своего собственного балкона, нежданно получает малоизвестную литературную премию, в качестве приглашенного профессора читает лекции на кошмарном "взволнованном" немецком и внезапно становится звездой университета – а параллельно переосмысливает собственное прошлое и настоящее, перепридумывает неудавшийся роман, прощается с первой любовью – человеком, для которого он когда-то сам был таким же аполлоном, покрытым золотой пыльцой жестокой юности, а теперь его бывший стар и умирает, и с этим ничего нельзя поделать… Рассказанная отличным, легким и изобретательным языком (которому к тому же весьма повезло с переводом), комедия положений ненавязчиво соседствует с меланхолией окончательно ушедшей молодости, а тонко разобранная изнанка писательства – с щемящей мелодрамой разбитого сердца. Пожалуй, больше всего мне нравится именно этот баланс: как повествование виртуозно лавирует в этой смеси, не сваливаясь окончательно ни в одну из ипостасей.
Ну и еще, конечно, то, как в середине книжка содержит саму себя: роман о метаниях стареющего гея, погрязшего в кризисе среднего возраста, который Лишь в некий счастливый миг додумывается сделать комедией. На самом деле, Грир в интервью рассказывал про свою книгу ровно то же самое, и эта вот рекурсия кажется мне бесконечно милой. А сама точка писательского озарения – тот миг, когда Артур отцепляет рукав льняного пиджака от заковыристой решетки балконного ограждения, и в эту секунду на него снисходит – о, это я храню в золотой коллекции духоподъемных моментов, чтобы доставать в трудную минуту!
Когда читать?
Когда хочется чего-то утешительного, чтобы пережить самую темную ночь перед рассветом, бесконечный внутренний ноябрь (ну вдруг он у вас и в апреле), нервное истощение или жаркие объятия простуды. И конечно, когда кажется, что у вас никогда, никогда не выйдет ничего путного ни с личной жизнью, ни с романом
Кому не читать?
Твердым апологетам догмата о спасительной разнополости в отношениях – вот в этом случае точно мимо. Возьмите лучше макьюэновскую «Сластену»!
|
Метки: 21 век современная американская |
"Белая Согра" Ирина Богатырева |
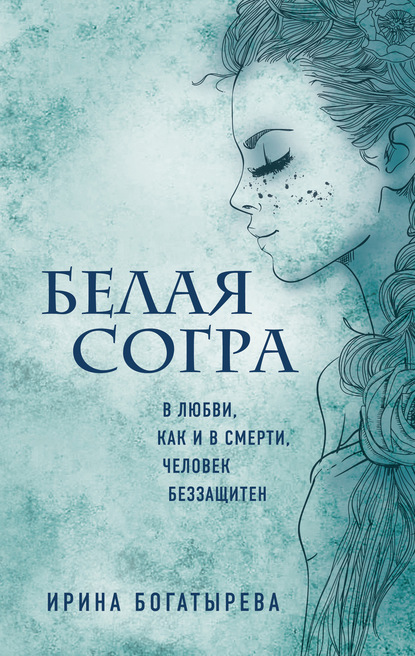
Дорогой мой воображаемый друг, ты уже семь дней
все молчишь в моей голове, и в глазах темней,
и, хотя слова - не более, чем слова,
иногда мне кажется, что взорвется моя голова,
если их не будет.
Лемерт
Девочка едет на каникулы к деревенской родне. То есть, даже не к родне, а к какой-то Марининой тетке. Ты ни малейшего понятия не имеешь, что за Марина но ассоциативный ряд, помимо воли, выстраивается: "Судьба барабанщика", с той же спокойно-отстраненной приязнью герой говорит о мачехе Валентине, которая укатила на море, бросив мальчишку. Нить, что свяжет "Белую согру" с самой пронзительной горько-нежной вещью Гайдара о взрослении, протянулась, и она не обманет.
Марина, в самом деле, мачеха, даже если официально еще не в этом статусе. Женщина ее отца. И она же психолог, помогавший Жу справиться с проблемами, которые возникли в результате серьезной психологической травмы. Что, скажете не бывает: врачебная этика и всякое такое? Ну, во-первых, она ж не с пациентом в отношения вступила, просто встретились два одиночества. Во-вторых, мы с вами не на в голливудском фильме, и Женя не курс психоанализа проходила, а едва не загремела в дурку, после того, как спасатели МЧС сняли ее с края крыши двадцатиэтажного дома.
Теперь они с братом сосланы на каникулы в эту глушь. Марина считает, что ей пойдет на пользу здоровая деревенская жизнь. Без интернета, потому что здесь даже связь не ловится (без телефона тоже, если вы еще не поняли). Ну, если брат, не так плохо. Да в том-то и дело, с братом явно что-то не то, об этом начинаешь догадываться очень скоро. То есть, когда рядом с тобой кто-то, кого другие не видят, вывод напрашивается. Я было подумала, что проблема связана с потерей брата: мальчик погиб, девочка не может смириться, пытается жить за себя и за того парня.
И нет, брат-близнец оказывается воображаемым другом, а переживает Жу смерть мамы, причины которой не объясняются. Вот была молодая кокетливая женщина, любила короткие юбочки и туфельки на каблучках, постила в инстаграмме букетики, подаренные папой с зашкварными подписями: "Пусечка принес. Чмоки-чмоки". А однажды легла в больницу и не вернулась. Папа страдал, но у него работа, друзья мужская привлекательность, наконец. Жу осталась со своим горем один на один, как большинство подростков эпохи интернета, не имея навыков реального общения.
Пока молодой симпатичный вдовец глушит горе работой, дочь, предоставлена сама себе, все глубже погружаясь в омут клинической депрессии. Осложненной снами о маме, приобретающими все более жуткий характер. Кто не мечтал, расставшись с любимым человеком, увидеть его во сне? Но когда из ночи в ночь и когда во сне знаешь, что мама мертва, это кошмар.
Вот тогда и появляется брат: дерзкий, безбашенный, уверенный в себе, какой Женя никогда не бывала, цинично остроумный, готовый дать отпор любому - как способ защиты. И эта психологическая, очень хорошо, кстати, выстроенная, линия книги, на самом деле второстепенная. То есть, фоном все время будет идти тотальное одиночество героини, желание стать незаметной, даже не намек на гендерную самоидентификацию, но жгучая тоска по сильному понимающему другу, которого за неимением создаешь из себя.
Главное здесь другое. Русский север, деревня в невероятной глуши, не потемкински изукрашенная сериалами, вроде "Участка" или "Жуков-2" (были, выходит, и первые). Но и не чернушное убожество абсолютного большинства обращений современной боллитры к деревенской теме. Они живут тут: бабки, тетки, мужики. Дети, есть даже четыре выпускника деревенской школы. Без спутниковых антенн и практически без интернета, хотя подозреваю, что, если забраться с мобильником на высокое дерево, как это делает герой "Осеннего солнца" Веркина, поймать сеть можно. Вопрос в том, что в контексте книги это становится ненужным, незначительным.
Потому что с первых страниц, с момента встречи городской девочки с этими странными, говорящими по-русски и словно бы не по-русски людьми, акающими, порой заменяющими "ч" на "ц": хоцу; "щ" на "ш" "ешшо", "в" на "у" "деука" погружаешься в иной мир. Сказать, что Ирина Богатырева хорошо передает строй диалектной речи, ничего не сказать. То, что она делает с речевыми характеристиками - не мастерство даже, но возможность пить из источника живой народной речи, естественная как дыхание. Данная в сопоставлении со строем мыслей и внутренней речью жителя мегаполиса. Не в противопоставлении, а именно параллельным потоком, имеющим не меньшую ценность. Есть это, а есть то, и ни одно не должно умереть, чтобы другое жило.
И конечно, повседневный бытовой мифологизм. Предельная, до кристаллизации насыщенность им здешних реалий, вообще характерная для Севера, где человеческая жизнь тесно связана со стихийными духами, а умение договориться с ними, наладить отношения - в немалой степени способствует процветанию, если не вовсе выживанию. В скандинавской, другой северной, литературе, между прочим, тема отношений людей с элементалями, без конфликта с религиозностью, тоже значима.
В наших рассказах Лоры Белоиван, "Вьюрках" Дарьи Бобыревой приоритет городского взгляда дачников. У Богатыревой погружение в деревенскость и то, как она это делает, чистое наслаждение. Одна эпопея с травиной чего стоит. Я читатель достаточно искушенный, но с такой мифологемой встречаюсь впервые. То есть, мы знаем цветок папоротника и разрыв-траву, которые во многом созвучны. Однако в том и другом случаях цель - богатство, от которого не отказались бы, но по большому счету во главу угла не ставим. У здешней травины роль утилитарная. Помогать в нахождении жизненно важного для тебя потерянного.
Всё, знашь, сложно жили, сложно, после войны-то – дело ли? Траву ели, всяку траву ели – эти вот, пистики. Ты знашь пистики-то? О, пистики – это… такие сладки! Нам казалось тогда: таки сладки, слаще ничего нету. А так, ну что мы видели, ни молодости, ничего не видели, хорошая моя, ничего. Двенадцати годов в колхозе за мужиков – и косить, и боронить, всё делали. С молоком бидоны возила, бидоны-ти тяжелей мине. Лес рубили, на сплав ходили, смолу курили. А сейчас – двадцать лет, а всё лялечки.
|
Метки: русская современная |
Рут Уэйр "Поворот ключа" |
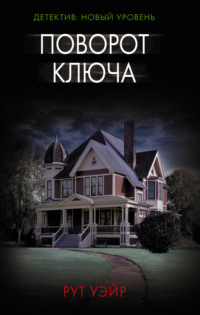
Молодая женщина по имени Роуэн, сидящая в шотландской тюрьме, пишет письма некоему юристу с отчаянной просьбой о помощи - ей нужно, чтобы он представлял ее в суде, потому что ей некуда и не к кому больше обратиться. Дабы убедить почтенного джентльмена в своей невиновности, в очередном послании Роуэн излагает все с самого начала: как она нанялась няней в семью с четырьмя детьми в живописной шотландской глухомани, как безупречная семья оказалась не такой уж безупречной, а вокруг творилась какая-то чертовщина и закончилось все гибелью одного из детей и арестом Роуэн. Но если она невиновна, кто же преступник?
Начало в виде первого письма адвокату затянутое и путанное, но как только Роуэн выныривает из этого потока сознания и начинает рассказывать свою историю, становится интересно. Атмосфера хороша, происходящее смахивает на современный вариант готического романа и довольно-таки интригует, а разгадка оказывается весьма неожиданной.
Неплохой триллер.
|
Метки: триллер |
"Сага о Щупсах" Том Шарп |

Должна же быть на этом пляже хоть одна нимфоманка. Но как ее обнаружить? Вряд ли уместно ходить по пляжу и выспрашивать у каждой.
При случае попробую читать его еще, но первое знакомство с Томом Шарпом не назову удачным. Может быть проблема в том, что "Щупсов" он написал в возрасте восьмидесяти лет, которые вряд ли кто рискнет назвать временем творческого расцвета? А может абсурдистский юмор просто не совсем мое. Не нахожу забавным ни того, что очередная #онажемать! превращает, и без того не блещущего красотой и талантами сыночка, в совершенно затурканное создание; ни того, что папаша, утомившись смотреть на отпрыска, как две капли воды похожего на себя самого, бросается на него с ножом. Это что вообще, это зачем?
Ну встречаются неудачные браки, и даже гораздо чаще, чем идеальные, и жены оказываются всей головой ударенными о романтические бредни a-la Барбара Картленд (то есть, читает этот хлам на определенном жизненном этапе каждая женщина. не всякая после в этом признается), так что с того? Ну назвала эта гипотетическая жена ребенка Эсмондом, уж и не знаю, какие неправильные ассоциации рождает имя у британцев, не думаю, что более непристойные, чем если бы какая русскоязычная поклонница Фандорина назвала сына Эрастом. Но живут люди и не с такими именами.
Пассаж про "дитя любви" оставил в недоумении, неужто у кого-то, знающего клушу миссис Ушли (с незнакомыми она, при всех странностях, вряд ли заговаривает) возникнут подозрения в незаконнорожденности Эсмонда, довольно взглянуть на него и на отца. Странно, что за семнадцать лет никто не объяснил даме неуместность словоупотребления. Да, дети порой не оправдывают родительских ожиданий - сплошь и рядом такое случается, но вынашивать на этом основании планы убить отпрыска, после растворив в кислоте, это уж какая-то совершенная клиника, воля ваша.
И не могу понять, в каком месте смеяться. Где несчастный Ушли бежит от семьи, полагаясь на скромные накопления, сделанные тайком от супруги, да паспорт похожего на себя покойника из числа бывших клиентов банка, которым управлял? Или где он скитается по городам и весям, останавливаясь в дешевых мотелях и постепенно теряя человеческий облик? Блин, мне его жаль. Мне всех их, несчастных, неказистых, глуповатых, ничуть - вопреки говорящим фамилиям - не ушлых и не похожих на щупальца, всех их жаль.
И прибандиченного братца той тетки, что перечитала Теккерея. Ну построил свой криминальный бизнес торговли подержанными авто на угоне машин, но владельцы получали страховку, страховые компании, точно не разорятся. Однако хотел ведь помочь сестре и уберечь от свихнувшегося папаши племянника. А ему такой афронт. Нет, нехорошо это.
Единственное, что по-настоящему круто - концепция злобного матриархата Щупсов, когда девицы столь уродливы и мужеподобны, что вынуждены женить на себе мужиков силой. Хотя обыкновение удушать собственных младенцев мужеска пола как-то не вызывает живого отклика. Такого рода профанно-живодерский феминизм за пределами моего чувства смешного. Резюмируя: не сложилось у песни начало.
|
Метки: английская юмор |
"Симон" Наринэ Абгарян |

В многолюбии ни порока, ни заслуги. Это как трава, которая зелена, потому что зелена.
В.Розанов
Помните тест, который сетевая молва приписывает Фрейду? Вы смотрите на море, какое оно? Идете по лесу и глядите под ноги, что видите? Чайки (ваше ощущение). Табун лошадей (то же самое). Идя по пустыне находите кувшин с водой, что станете делать? Заблудились в лесу и вдруг видите домик, ваши действия. Вы в тумане, что ощущаете?
Море - жизнь, лес - обстановка в семье, чайки - ваше отношение к женщинам, кони - к мужчинам. Вода - любовь, домик в лесу - готовность к семейной жизни. Туман - смерть. В новой книге Нарине Абгарян все время говорят о море: Симон сетует в разговоре с Сильвией, что на море-то и не побывал, персонажи то и дело чувствуют его запах, хотя по всему, не должны бы в своем горном городке. А разного рода туманностей, так любимых современной литературой, не случается вовсе.
Может быть, не последняя причина нашей любви к прозе армянской писательницы, делающей лучшую на сегодняшний день русскую литературу, в том, что она пронизана жизнью. Даже когда говорит о смерти. Смертью Айинанц Симона, лучшего в Берде каменщика, все начинается. Инсульт оборвав на восьмидесятом году жизнь этого патриарха, собрал под одной крышей его былых возлюбленных.
Стойте. это как? Патриарх - значит отец семейства. что как-то не вяжется с образом ловеласа. Да ну почему, у нас тут жизнь, не разбор театральных амплуа, а в жизни нет типажей в чистом виде, все перемешано. Таким и был: отцом-дедом-прадедом, всеми уважаемым мастером, надежным другом, любителем выпить и закусить. И да, женщин любил тоже. Нет-нет, не из тех, что за каждой юбкой волочатся, ключевое слово здесь "любить", а пять любовей за восемь десятков лет жизни - это ведь не много.
"Симоном" Абгарян взламывает канон, делая это с такой деликатной уважительностью, что мы, читатели, не то, что не возмущаемся: как это возможно не "Катя-Катя-Катерина, твоя пуховая перина нас собрала в одну мишпуху", не беспутная жизнь, увенчанная закономерным итогом одинокой заброшенности, но вполне себе пристойная тризна, которую вдова покойного справляет в обществе четырех его пассий. В волосы друг другу никто не вцепляется, в глаза не плюет. И то сказать, дамам хорошо за семьдесят - возраст мудрости.
Заодно уж и развеивая миф о тяготении к определенному типажу, все женщины Симона разные. Настолько, что нарочно такого сочетания не придумаешь. Бывшая золотая медалистка, что оплатила годами в психушке брак с сыном райкомовского папы. Дурнушка, на которой красивый парень женился с досады из-за размолвки с любовницей, попрекнув однажды, что от нее пахнет коровником, вся-то и вина ее была в том, что она не та, а вот поди ж ты, на всю жизнь отбил желание приближаться к людям. Балованная куколка из хорошей семьи, она привыкла, что все всегда случается по ее желанию, да вот родить никак не могла. Дивная красавица - из очень плохой, всегда хотела рисовать, да таланта не выпало.
Каждой отсыпано горечи своей мерой, но ни одну не миновала чаша, и это мы еще не говорим о жене, которая прожила с ним жизнь, родила сыновей, заботилась, периодически закатывала феерические скандалы, любила.
Послушать их – он каждую спас. Где он там кого спасал? Сам, как мог, спасался.
|
Метки: русская современная |
Звонок 3: Петля - Кодзи Судзуки |
 "Возвращение умерших к жизни не такое уж легкое дело. Для этого нужны основательные приготовления".
"Возвращение умерших к жизни не такое уж легкое дело. Для этого нужны основательные приготовления".
Можно ли вернуться с того света? На этот вопрос пытается ответить цикл романов "Звонок", не без помощи науки, выписывая цепочки нуклеотидов ДНК прямо на страницах художественной книги второй части триллогии, которая называется "Спираль". Третья часть "Петля" превращается в научную фантастику.
Когда в процессе эволюции водные организмы стали выходить на сушу, то большинство рыб погибло, а не эволюционировало. Раковые клетки бессмертны. Что если рак - это попытка эволюции сделать нас бессмертными? Как вы уже заметили, "японский Стивен Кинг" Кодзи Судзуки любит сумасшедшие идеи фикс.
И все же, причина произошедшего заражения не была понятна сразу. Возможно, это естественное течение процесса эволюции, деления клеток. Появился вирус, который вызывает рост раковых клеток, и быстро распространился по всей земле. Он непредсказуемо поражает любые органы. Он распространяется на все виды живых существ: людей, животный и даже растения.
В процессе повествования, автор часто задается вопросами. Как устроен мир? Что находится за пределами нашей личной вселенной? Как возникла жизнь на планете Земля? Жизнь зародилась случайно, естественным путем, или ее кто-то создал? Вопросы остаются открытыми.
|
Метки: книги ужасы триллер хоррор |
Вопрос возник: |
Интересует не "как победили", а что после.
|
|






