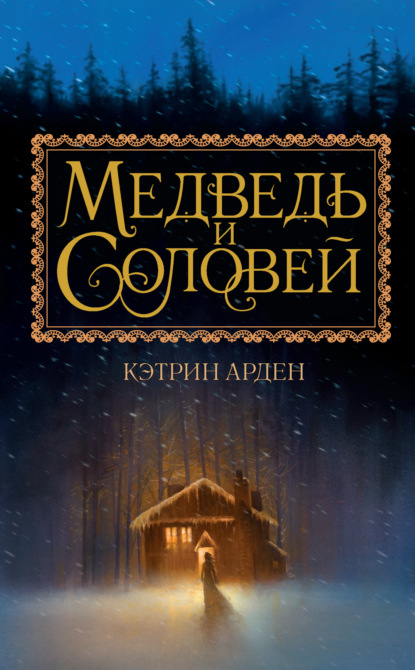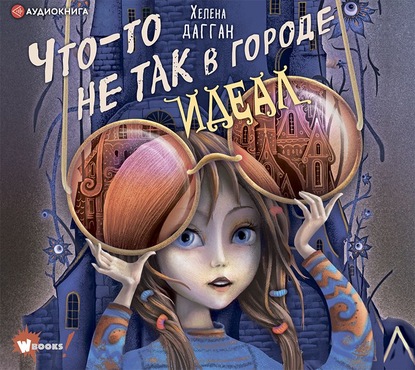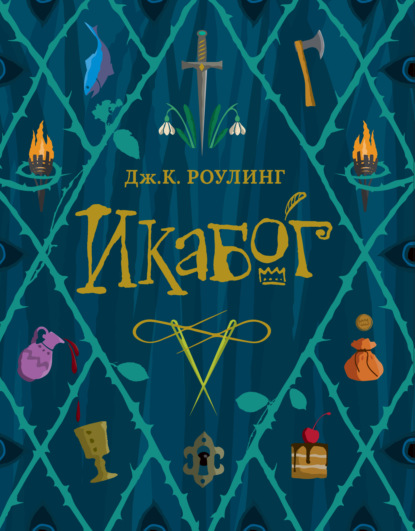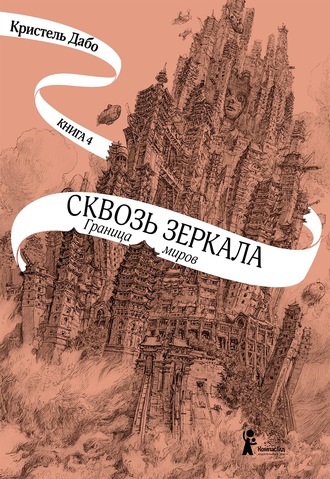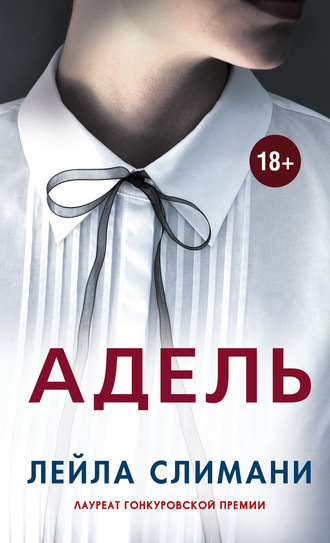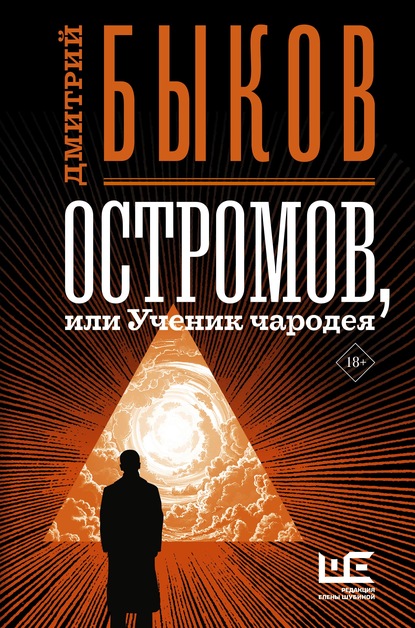-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Постоянные читатели
-Статистика
Добавить любой RSS - источник (включая журнал LiveJournal) в свою ленту друзей вы можете на странице синдикации.
Исходная информация - http://chto-chitat.livejournal.com/.
Данный дневник сформирован из открытого RSS-источника по адресу /data/rss/??ac108cb0, и дополняется в соответствии с дополнением данного источника. Он может не соответствовать содержимому оригинальной страницы. Трансляция создана автоматически по запросу читателей этой RSS ленты.
По всем вопросам о работе данного сервиса обращаться со страницы контактной информации.
[Обновить трансляцию]
"Медведь и Соловей" Кэтрин Арден |
Богат я, казны не считаю,
А все не скудеет добро
Я царство мое убираю
В алмазы, жемчуг, серебро.
Некрасов
От настороженного отношения к американкам, дерзающим обратиться к русскому фольклору, меня излечил "Бессмертный" Кэтрин Валенте, в которого насмерть влюбилась полтора года назад, очередной раз укрепившись в уверенности, что для хорошей истории нет границ и расстояний. Пожелав воплотиться, она найдет стоящего рассказчика, география не главное. И вот, Кэтрин Арден (да. снова Кэтрин) со своим вариантом истории о Морозе Ивановиче.
От мастера стилистических игр Валенте, она отличается, как день от ночи. Арден пишет просто, тяготея к уютной напевности, такое: "скоро сказка сказывается, да нескоро дело делается". Что отлично отражает перевод Татьяны Черезовой - комфортное чтение, которое детям можно рекомендовать в той же мере, в какой взрослым. Тем более, что героиня первой книги трилогии "Зимняя ночь", девочка.
Вася, отличный, кстати, выбор имени, правда? У наших сказочных героинь, кажется, их всего три: Марья, Елена и Василиса. Первая искусница, вторая прекрасная, что до Василисы, она всегда премудрая. До премудрости нашей Васе (забавно, что в романе ее ни разу не назовут полным именем) еще очень далеко. Девочка, чье рождение стоило матери жизни, большеротый лягушонок сорванец со способностью видеть чего другим не дано, вырастет на наших глазах. И, не прилагая специальных усилий, войдет в сердце.
Сказка о господине зимы, который вознаграждает хорошую девочку за честную службу и наказывает ленивую, не чисто русская - бродячий сюжет, который есть у многих народов. Да и здесь этот мотив не основной, Арден мастерски вплетет в "Медведя и Соловья" исторические реалии Руси времен ордынского ига, многочисленных фольклорных персонажей, вроде домового, лешего, банника, русалки (любящей отдыхать на древесных ветвях, мавки с ногами, не хвостатой западноевропейской ундины). Даже эпизоду с подснежниками из "Двенадцати месяцев" найдет место.
Но нет, это не производит впечатления солянки сборной. История удивительно цельная, от начала до конца. Захватывает и держит внимание так, что не продолжить знакомство никакой человеческой возможности.
|
Метки: фэнтези |
Помогите вспомнить книгу |
|
Метки: поиск книги |
Литература времен короновируса |
Лет восемь назад по экранам (и торрентам) промчался фильм "Облачный атлас" по роману Дэвида Митчелла, который не вызвал у меня ощутимых эмоций.
И вот ""Тысяча осеней Якоба де Зута". Молодой клерк желает заработать на свадьбу и в 1799 г. приплывает в бухту Нагасаки на островок фактории Ост-Индийской компании. Молодая японка, госпожа Аибагава, хочет стать врачом. Изящная любовная линия искусно прячется за плотными кимоно, робкими взглядами и разницей менталитетов. Переплетаются авантюрные сюжеты. Но это - не заезженный любовный роман с японским антуражем. Эта книга о том, как каждый миг, каждый сделанный и несделанный шаг часто переворачивают нашу жизнь. О щемящем звоне старых струн "любви и разлуки". И не только об этом...
"Лужок Черного Лебедя" - уже написана от лица 13-летнего мальчишки, и тут много конфликтов, анатомических подробностей, острых углов, вопросов совести. Жалко, что не была написана в годы моей юности (хотя уже тогда была "Над пропастью во ржи").
Другой автор - Филипп Мейер. Его "Сын" - это кровавая история Техаса. Главный плюс книги – хорошо прописанные и очень разные персонажи трех поколений семьи американских переселенцев. Очень сильно и без всяких прикрас показана жизнь одного из племен индейцев, в котором оказался один из героев. Но мне больше всего симпатичен Питер МакКалоу, разочарование отца и предатель семьи (с их точки зрения) – человек, не вписавшийся ни в свое время, ни в окружающие реалии, искренне страдающий от их жестокости и расстрелянной любви.
Наконец, Сухбат Афлатуни - псевдоним Евгения Абдуллаева.
"Рай земной" - это небольшой русский городок, на окраине которого дом, где живут главные героини, две очень разные девушки Плюша и Натали. Под их окнами - заброшенное кладбище землячества поляков, расстрелянных в 37-м просто потому, что НКВД удобно было "шить дело". И оно как морок висит над городом, над судьбами людей, высасывая покой душ и удовлетворение тел. "Мы все в ответе за тех, кого расстреляли".
Другой роман "Поклонение Волхвов" состоит из трех частей о трех совершенно разных эпохах, с тремя разными героями, но потомками одного семейства Триярских. Первая (1850) - молодой архитектор, сосланный в глухие среднеазиатские степи по делу петрашевцев. Вторая (1905-1917) художник, сменивший кисти на рясу, живет в Ташкенте и своими глазами видит смерть империи и создание нового режима. Третья (70-х годов 20 века) - композитор вынужден отправиться из Москвы в глухой городок Дуркент, где ему раскроются последние секреты Вифлеемской звезды. Нужно отметить завораживающую ткань (скань?) повествования - атмосферу чистого русского языка, изящно стилизованного под литературу каждой эпохи.
Первая часть "Волхвов" дает мне основание перечислить запомнившиеся прочитанные книги, посвященные российской истории 19 века (мы действительно ее потеряли?)
Степнова "Сад" - талантливо и нетривиально. Маленькая графиня, обожающая лошадей и говорящая только матом на конюшне. Немец-лекарь, яростно ее оберегающий. Мнимый потомок сербского королевского рода, поначески боящийся, что его обвинят в знакомстве с казненным Александром Ульяновым. И, наконец, сад, дающий всем жизнь, но вырубленный в конце концов, чтобы кормить лошадей.
В начале 80-х в "Новом мире" с интересом читал "Были и небыли" Бориса Васильева. А тут наткнулся на начальную книгу этой "офицерской" саги.
"Картёжник и бретёр, игрок и дуэлянт" - очень даже ничего. Приключения, дуэли, застенки царской жандармерии, интрига с вольнодумским стихотворением Пушкина, большая и трагичная любовь - что еще надо скучающему читателю эпохи короновируса. Продолжение саги ("Утоли мои печали") значительно слабее.
Дарья Дезомбре "Сеть птицелова" - детектив с традиционным для Дарьи маньячиной, убивающим девушек в антураже войны 1812 г. Но романтичная история любви русской дворянской девушки и французкого офицера вытягивает этот затасканный сюжет.
Акунинская "Мир и война" - очень похоже. Погубленных девушек поменьше, французский офицер заменен русским, но появилась забавная история с заготовкой овса для кавалерии.
Теперь краткая оценка прочитанных книг из разряда исторического науч-попа.
Смирнов "Арабо-израильские войны" (1947-1973) - прекрасная работа, без подтасовок и видимых исторических пристрастий. Очень информативный разбор интереснейшей фактической основы, выполненный без псевдо-академической зауми хорошим русским языком.
Шарый "Австро-Венгрия. Судьба империи". Эту империю мы знаем в основном по мелодрамам вроде "Майерлинг". А здесь неплохой исторический обзор. Настораживает только основной тезис: начиная с 1870 гг Австро-Венгрия была очень гармоничным и демократичным образованием. Любой гражданин империи, и хорват, и поляк, и немец, и русин, и венгр имел равные общественные и государственные права и формально и фактически. А империю погубили националисты... Как-то все очень знакомо.
Капущинский "Император. Шах". Польский дипломат пережил расцвет и крушение императора Эфиопии Хайле Селассие и шахиншаха Ирана Мохаммеда Реза Пехлеви. Записки и анализ этих событий. Очень симптоматично.
Манн "Темная сторона демократии. Объяснение этнических чисток". Попытка подвести некий теоретический базиз под понятия от национальной розни до геноцида на примерах 19-21 веков. Теоретизация мало вразумительна, но некоторый фактический материал весьма интересен.
Переслегин "Вторая Мировая Война". Автор исходит из того, что история принципиально альтернативна, и далеко не всегда Текущая Реальность складывается из самых вероятных событий. Неосуществленные варианты, не ставшие явью, продолжают существовать, образуя "подсознание" исторического процесса, "дерево вариантов" того Настоящего, в котором мы живем. Не торопясь и без всякого агитационного ража рассматривается, что могло случиться, если бы советское командование или генералы вермахта приняли иное решение, чем в действительности.
Обзор прочитанных книг из серии "легкого чтива" см. в следующем моем посте
|
Метки: политика историческая |
"Освобождение" Патрик Несс |
" Вот оно освобождение, - шепчет он себе, - Хотя к чему?" “I have found my release,” he whispers to himself. “Into what, though?”
"Какая все-таки гадость эта ваша заливная рыба," - хочется сказать вслед за Ипполитом. А казалось, ничто не предвещало. Патрика Несса знаю давно, хотя и не очень близко, но киноверсия его "Голоса монстра" с Фелисити Джонс и Сигурни Уивер в две тысячи семнадцатом стала моим фильмом года. Книга тоже оставила приятное впечатление. Потому, когда появилась возможность прочесть очередную книгу в оригинале, ждала немало радости.
Объясню, на английском, испанском, польском читаю и слушаю аудиокниги постоянно. Чтобы не терять навыка, позволяющего не зависеть от наличия перевода. Иногда случается читать в оригинале книгу, переведенную на русский, с последними двумя так и вышло, нестрашно. Так вот, "Освобождение" Release читала на языке, которым роман написан, и с сожалением констатирую - это тот случай, когда ни уму, ни сердцу. Язык, на самом деле, очень простой, но не прочесть того, что им написано, было бы лучше.
Итак, Адам Тёрн, подросток гей, живущий в ортодоксально религиозной семье в маленьком городке. В сути, книга описывает один день его жизни, когда все, что могло пойти не так, идет не так. Стоит ли говорить, что этот день довольно значим для героя - именно на сегодня назначена вечеринка по случаю отъезда его друга и бывшего любовника Энцо. Нет, теперь Адам в новых отношениях с куда более подходящим в интеллектуальном и, хм, духовном смысле Линусом, который, к тому же, гораздо ласковее и отзывчивее. Но от тяги к грубоватому Энцо, который использовал его, позволяя себя любить, до конца не избавился.
И потому, в цветочном питомнике, куда мама отправляет его поутру купить хризантем для сада (как посмела покуситься на святое - свободу нашего мальчика!?), кроме хризантем поносного цвета, самых дешевых, прикупает прекрасную алую розу с мыслью подарить Энцо. Но дарит Анджеле, лучшей подруге, которая, как выясняется, собирается уехать на год в Голландию. И как он теперь будет? Ведь родители Энджи любят его как родного и, в отличие от зашоренных собственных матери с отцом, лелеющих надежду как-нибудь излечить сына от неправильной ориентации, прекрасно его понимают.
А тут еще на работе начальник делает недвусмысленные намеки и поползновения. Ну, как бы, покушается. Давши отпор, юноша оказывается уволенным, блин! И двоюродный брат сообщает, что собирается в самом скором времени жениться на девушке. которая от него залетела. Не той,из Белоруссии, с которой встречался два года, а совсем даже другой. А что делать, там же будет ребенок. И это заставляет Адама погрузиться в новое болото рефлексий на тему: а что, если его любовь - ненастоящая, от нее ведь не может зародиться ребеночек!
Словно сознавая, что этих соплей маловато будет для удержания читательского внимания, автор вводит линию задушенной матамфетоминовым наркоманом бойфрендом девушки, тоже наркуши, которую любимый затем притопил в озере. Уловка с сокрытием трупа не помогла, тело нашли. Торчок в тюрьме, ожидает правосудия, а девушка воплощается в Королеву (персонификацию Природы и богиню мщения, надо полагать), сопровождаемую Фавном. Эта парочка таскается по округе, Королева неистовствует и рушит все вокруг, Фавн по мере сил восстанавливает и стирает память видевшим. Но к концу дня миру придет кирдык, потому что чаша терпения Королевы переполнилась.
Представляете, какая чушь? Если б я читала это на русском, сразу поняла бы, что имею дело с развесистой клюквой, но поскольку дело было на английском, списывала на несовершенство своего владения языком и столь же упорно, сколь безрезультатно, пыталась извлечь смысл из прочитанного. Что ж, никакой опыт не бывает лишним. Отрицательный результат - тоже результат. Вывод: Патрика Несса ничто не заставит меня читать. Ни под гипнозом, ни под наркозом.
|
Метки: подростковый |
Взрослые дети эмоционально незрелых родителей. Линдси Гибсон. |

Непростая книга во многом является развитием теории личности Карен Хорни: воспитание - это удовлетворение потребности ребенка в безопасности, а если этого нет, то имеем неврозы и зависимости. Линдси Гибсон раскапывает поле эмоциональной безопасности. От глубоких семейных установок (исцеляющих фантазий и ролевых «я») до взращивания в себе эмоционально зрелого человека.
Кто не слышал в свой адрес формулировки «Ты должна/должен», «Лучше бы ты...», «Тебе придётся». Это убеждения наших родителей (полученных от их родителей), знающих лучше нам самих, в чем мы якобы на самом деле нуждаемся.
Под катом несколько цитат.
«Эмоционально незрелые родители поддерживают отношения слияния, отказываясь видеть в своих детях отдельных личностей. Слияние происходит, когда родитель не уважает границы ребенка, проецирует на него свои неразрешенные проблемы и слишком активно вмешивается в его дела.»
«Свобода по-новому подходить к старым отношениям. Иногда в ответ на честность и нейтральное отношение родители начинают вести себя более искренне. Хотя это может показаться парадоксальным, но как только вы перестанете хотеть, чтобы они изменились. они могут открыться. Они могут начать общаться с вами, как общались бы с любым другим взрослым - с большим здравомыслием и уважением. Подвох здесь в том, что все это может произойти лишь в том случае, если вы искренне откажетесь от потребности в глубоких отношениях со своими родителями.»
«Послушав разговоры эмоционально незрелых людей, вы заметите, насколько рутинно и прямолинейно они думают. Обычно они разговаривают о том, что произошло, или о том, что они видели (погода, бытовые темы), а не об идеях или чувствах.»
«Несмотря на высокую эмоциональную реактивность, у эмоционально незрелых людей парадоксальные отношения с чувствами: они быстро приходят в эмоциональное возбуждение, но боятся своих самых искренних чувств. Причина: они выросли в семейной среде, где никто не помогал им справляться с эмоциями.»
|
Метки: психология |
Рассказ Шекли |
|
Метки: что читать - фантастика |
"Что-то не так в городе Идеал" Хелена Дагган |
Где розовые очки?
Моя ракета, где ты?
Мое кривое счастье.
Времена, когда упоминание ирландской литературы отзывалось в сознании русского человека единственно Джойсом и Беккетом давно в прошлом, нынче время ее победного шествия по нашим умам и сердцам. Джон Бойн хорош необычайно и столь же увлекателен, не портит его даже навязчивая гомоэротика, Салли Руни одаривает любовными историями с марксистским подтекстом; Тана Френч роскошными атмосферными детективами, тоже не без социальной составляющей, но больше по психологии. Для популяризации сегмента интеллектуальной литературы много хорошего делают Шаши Мартынова и Максим Немцов; "Молочника" Анны Бернс после присуждения Букера прочли все, кто есть кто-то. Янг-эдалт представлен дивной Шибон Доуд, пришло время детской литературы. Знакомьтесь, Хелена Дагган.
С дебютной книгой "Что-то не так в городе Идеал". Жесткое, порой до хардкорного детское фэнтези. В место с говорящим названием "Идеал", по приглашению отцов города, переезжает талантливый ученый офтальмолог с женой и дочерью. Жители Идеала теряют зрение и вынуждены постоянно носить специальные очки с розовым напылением - только в них они хорошо видят. Папа Вайолет должен разобраться в проблеме.
Для отца это предмет серьезных научных изысканий и возможность творческой самореализации, но совсем не нужно его жене и дочери. Впрочем, мама удивительно быстро осваивается и забывает недовольство. Город Идеал приводит на память одновременно "Степфордских жен", "Унесенных призраками" и "Проданный смех". Есть дивный городок, где все живут, не отступая от установленных правил. Есть девочка, с ужасом наблюдающая за странным превращением родителей. Есть тайна и злодеи, желающие отнять то, без чего человек перестает быть собой, подсунув взамен привлекательную пустышку.
Вайолетт, однако, не стремится влиться в городскую жизнь. В идеальном городе, где жестко регламентирован каждый шаг, все ее раздражает, найти здесь друзей девочке трудно: дети маленькие святоши, а педагоги ведут себя с ней довольно жестко, намекая на психическую неполноценность. И самое страшное, что мама с ними соглашается, а папа не заступается за дочь. Но главные неприятности начнутся, когда исчезнет папа, а мама словно бы этого не заметит.
Для меня поводом слушать явилось то, что аудиокнига прочитана Игорем Князевым. Замечательный выбор исполнителя, в повести звучит много детских голосов, которые отлично ему удаются. Стоит вспомнить хотя бы колоссальный объем книг Владислава Крапивина, подаренных им поклонникам писателя.
Что до художественных достоинств книги, стоит отметить довольно закрученный сюжет и неутомимость авторской фантазии, бестрепетно смешивающей науку с магией в пропорциях, несовместимых с жизнью. Приготовьтесь ко многим приключениям девочки Вайолетт и обретенного ею на сумеречной стороне города друга Мальчика (имя такое). Страхов и страстей будет много, психологической достоверности значительно меньше и нет, не говорите мне, что это же сказка.
Писать для детей не значит писать хуже, мировая литература знает многие примеры восхитительных детских книг, в которых дети чувствуют, мыслят и ведут себя как вели бы мы с вами, окажись в ситуациях, в какие попадают герои (не как обожравшиеся мухоморов берсерки или герои компьютерной игры, имеющие в запасе многие жизни). Только вчера я рассказывала о "Икабоге" Джоан Роулинг, а сегодня утром вспоминала дивные книги Владислава Крапивина и "Тубагач" Шамиля Идиатуллина. "Город Идеал" скорей хорошего качества компиляция. Но сделанная мастерски и довольно занятная.
|
Метки: аудиокниги сказки |
"Икабог" Джоан Роулинг |
– Поймите, нельзя обижать икабогов! – Люди молчали и внимательно слушали. – Если их обижать, каждое следующее поколение становится всё злее и злее!
Итак, очередной не Гарри Поттер от Джоан Роулинг, в очередной раз подтверждающий - таки да, она многогранный писатель (для тех, кто сомневался). Я не сомневалась, мне и Корморана Страйка хватило бы, чтобы убедиться. А потому, читать сказку, целевой аудиторией которой писательница назначила детей от шести до двенадцати лет, мне было не зазорно.
Не следила за развитием событий в Твиттере, куда главы книги выкладывались по мере написания - инициатива мамы Ро, призванная подбодрить детей и их родителей в период самоизоляции первой карантинной волны, но история создания поучительна и прекрасна. Отрывки тотчас переводились на разные языки, а дети по всему миру рисовали иллюстрации. Все доходы от бумажной, электронной и аудиокниг будут направлены на цели благотворительности. В русском переводе книга вышла, оформленная сорока тремя рисунками российских детей.
Нам в русскоязычном пространстве повезло с "Икабогом" больше других. Семантическое везение, если вы понимаете, о чем я. Так явно прочитываемого в русском варианте "бога" нет ни в германских, ни в романских языках. Название книги взято буквально, без перевода, и на русскую почву пересадилось идеально - просто такое редкое везение. А между тем, изначальное имя, от которого Роулинг отталкивалась, начиная писать сказку двадцать лет назад - Икабод - "бесславие", библейский персонаж Книги Царств, рожденный матерью преждевременно, когда она узнала о страшном поражении евреев в войне с филистимлянами и гибели мужа. "И-кабод - нет больше славы у Израиля, ибо взят Ковчег Божий" - сказала женщина, умирая.
К икабогу детской книги, все это не имеет прямого отношения, имеет косвенное. Мир как паутина, пронизан тончайшими нитями. Тронешь одну, зазвенит, отзовется другая. Чем больше знаешь, тем богаче полифония мелодии твоей жизни. Однако о чем книга. Действие происходит в сказочной стране Корникопия, то есть Счастье (буквальное значение Рог Изобилия), процветающей под властью своего короля Фреда, недалекого и тщеславного, но когда богатства возникают буквально из воздуха, солнечного света и земли, а жители державы добры и благонамеренны, отчего не править? Одно удовольствие.
Первое горе случается, когда лучшая портниха королевства, будучи нездоровой, но не посмев отказать королю в его желании иметь очередной нарядный камзол, умирает от переутомления, не пришив последней пуговицы. Скорбь ее мужа и дочери нагоняют на короля тоску, диссонируя с общим восторженным настроем, и вскоре, с его неявного одобрения, вдовца с девочкой переселяют из их красивого дома на пути следования королевских процессий на задворки города - к кладбищу.
А надо сказать, что к северу от Корникопии лежат бесплодные болота Смурланда. Вроде близко, а совсем другое дело: ничего не растет, жители едва концы с концами сводят, одеты кое-как и не едят досыта. И вот в этих мрачных местах зародилась легенда об Икабоге, который "придет серенький волчок и укусит за бочок", такая детская страшилка, в которую днем никто не верит, но темной ночью лучше бы не вспоминать. И вот когда из Смурланда является ко двору Фреда Справедливого крестьянин с жалобой на икабога, утащившего его пса, король решает возглавить охоту на мифическую бестию. Его, понимаете ли, грызет совесть за сотворенное с семьей белошвейки, он хочет оправдаться в собственных глазах и укрепить пошатнувшийся авторитет.
А уж с охоты начнутся большие беды. Джоан Роулинг с этой историей верна себе, она подлинный гуманист и борец с социальной несправедливостью, за права угнетенных, а "Икабог" в некоторые моменты поднимается до пафоса "Скотного двора" Оруэлла, оставаясь увлекательной сказкой. Несколько более мрачной и жестокой, чем ждешь от детской книги, но кто сказал, что с детьми непременно нужно сюсюкать, а отправляясь к ним, запасаться розовыми очками? Отличная книга для детей и взрослых. И таки да, мы сами творим богов, которые творят нас.
|
Метки: английская сказки |
Мелетинский Е. Поэтика мифа. |

Мелетинский Е. Поэтика мифа. Серия: Исследования по фольклору и мифологии Востока М Наука 1976г. 408с Твердый переплет, Чуть увеличенный формат.
Всё интеллектуальное бытие, так или иначе, испытало влияние, не важно, положительное или отрицательное, глубоких корней мифа. Миф – понятие до сих пор весьма расплывчатое и неопределённое, будто бы висящее в воздухе, это короткое слово может иметь самые разные интерпретации.
В основном, мне кажется, исследователи и люди искусства сходятся на мнении, что миф – попытка упорядочивания окружающего мира в своём сознании, придания первозданному хаосу чёткого и понятного облика картины мира. Древние видели в своём жилище центр мироздания, а таинственный лес рядом – краем мира, обиталищем невиданных страшилищ. Молнии были свидетельством чьего-то гнева, и сам огонь возник не просто так, а как дар некого загадочного покровителя. Не бывает ничего случайного – и жизнь человеческая имеет продолжение в потустороннем существовании, подводящем итоги всему его бытию – всё подчиняется циклу жизни и смерти…
Это не хорошо и не плохо. Миф – попытка «желающих странного» разобраться в окружающем ему мире, «дать всему имена». Это отображение окружающего мира в самом себе, и попытка его познания. Само собой, на том уровне, на котором находится «вопрошающий». Миф – это прежде всего упорядочивание. Конечно, концепция мифа как космогонии вызывает часто возражения, скажем, у саратовского филолога Вадима Михайлина, но такое представление имеет место быть.
И недаром отечественный филолог Елиазар Мелетинский (1918-2005), известный теоретик мировой литературы, пытается обратиться именно к «поэтике мифа», не к его жанровой структуре, не к миропостроению, и тем более не к образности, а именно к «поэтике». Слово не менее загадочное, но всё же имеющее более конкретное значение – «поэтика» занимается художественной форме построения текста, его внутренней языковой структуре, его эстетической форме. Если миф – отражение структурализации окружающего мира в мышлении человека, то его построение и образность соответствует общим законам психологии, преобразуясь в текст, становясь своего рода литературным произведением. Что же хочет сказать Мелетинский?
Как говорил на одних из «лотмановских чтений» филолог Сергей Неклюдов, монография «Поэтика мифа» (1976) писалась скорее «по плану», по заказу, и автору пришлось соблюдать множество формальностей – скажем, писать историографический обзор, или делать обобщающие обзоры. Как сотруднику ИМЛ, ему пришлось писать и о мировой современной литературе. Так это или нет, сложно сказать, но могла ли самая известная монография отечественного учёного быть исключительно заказной?
Мелетинский всю жизнь занимался архаичными формами повествования – фольклором, сказкой, эпосом, ранними формами жанровых произведений, по сути, его материал совпадает с материалом западной исторической и социальной антропологии. Именно поэтому основой его методологии является «структурализм», почти в том смысле, в котором его использует К. Леви-Стросс. Сам метод структурализма заключается в структурировании мира на системе определённых опорных точек, теоретическая основа которых взята из классической лингвистики. Существуют устойчивые системы мышления, «знаки», которые группируются в различные формы взаимоотношений друг с другом, образуя своего рода «правила», как в языке. Они существуют в двух плоскостях – развития, то бишь диахронии, и статики, то есть синхронии. Миф, стало быть, состоит из подобных «знаков», точек системы координат, образующих саму основу картины мира, и поэтика в данном случае обозначает структуру организации построения этих опорных точек.
Аппарат Мелетинского в данном случае вполне традиционный. Метод выявления бинарных оппозиций (хаос-космос, мы-они, мужчина-женщина, близко-далеко, день-ночь, и так далее), которые образуют все вместе огромные пласты описания действительности, группирующиеся по этим признакам оппозиций.
Само собой, мышление человека завязано не столько на самого себя, сколько на отображение коллектива и природы в самом себе. Миф – мышление человека, не выделенного до конца из структуры природы, из социальной структуры. Отсюда публичность закрепления определённых актов, то бишь ритуализация, взаимопроникновения социума в природу и наоборот, в виде анимизма и магических практик. Миф даже не просто модель построения мира в своём сознании, это форма отображения нормы его состояния, именно миф гармонизирует взаимоотношения между человеком и обществом, и в целом – с природой.
И ведь недаром автор «цепляет» мифологию как отчасти литературный жанр – в его интерпретации она переносится в область модерновой литературы XX века, и расцветает в романах Джойса, Манна, Кафки, Маркеса…
…И тут возникает у меня вопрос, на который автор прямо не стал отвечать: что же отображено в романах почтенных… уже классиков? Не стоит забывать, что они были интеллектуалами, и философскую, в том числе и мифологическую традицию знали хорошо. Так чего же в их произведениях больше? С одной стороны, да, в их произведениях немало структурировано по канонам мифа, особенно у Джойса («Ulyss» же), однако в этом случае их романы являют собой своего рода литературную игру. Но что они могли выстроить… неосознанно? Отображая интеллектуальный мифологизм, могли ли они встроить в свои произведения нечто неосознанное, глубинную поэтику мифа, встроенную в человеческое мышление? В конечном счёте, миф – отображение действительности, не могли ли они выстроить его по законам не усвоенным с литературным наследием, но по законам базовой психологии? Вспоминается пример Грегора Замзы, который живёт в сотворённом им мире представлений, который не слишком изменяется даже с превращением в жука, хотя и не стоит забывать, что в интерпретации Мелетинского произведения Кафки – это антимиф, оспаривание традиционного мифологизма.
Итак, один из главнейших вопросов: какова структура мифологического, можно сказать, базового мышления, который проходит через всю мировую литературу, через бесчисленные авторские и исследовательские рефлексии? Всё-таки у Мелетинского не представлено, скажем, ещё одной основы поэтической мифологии литературы – Библии и её миропостроения. Я думаю, что когда он в более поздние года обращается к средневековому роману (к этому наследию я ещё приобщусь) и, особенно, к творчеству Достоевского, он восполняет этот пробел, но пока мостик от Диодора и Снорри к Джойсу и Манну не выглядит очень обоснованным, по крайней мере, зазор между ними не заполнен.
Однако ясно, что для Мелетинского большее значение играет сама форма мифологического сознания, который, по факту, и отображается в произведениях названных классиков. Он приверженец «синхронии», а не «диахронии» для него имеет значение Данная форма, а не её истоки или эволюция интересуют исследователя, а формы эти однозначно присутствуют в литературе XX века, вне зависимости от того, как мифологическая поэтика проникла в них.
В любом случае, «Поэтика мифа» произведение прежде всего филологическое, а не историческое. Монография анализирует не историю, а форму, не развитие, а статику. Быть может, она и была заказной, как это утверждает Неклюдов, не важно – о мифе писать сложно, сложно подобрать нужную форму изложения, нужные реперные точки исследования, и «заказ» скорее придал монографии дополнительный костяк, на который Мелетинский и нанизал свой собственный, структурированный опыт изучения мифа.
Дискуссия, как всегда, продолжается.
|
|
Детские книги польского писателя/писательницы. |
Немного путанно, но может быть кто-то подскажет. В раннем детстве очень нравилось читать рассказы какого-то полского писателя (пистельницы) про приключения школьника из Польши. Вроде как звали его Яцек. Больше ничего не помню :-(
Может кто натолкнет на мысл - что за книга была?
Спасибо
|
|
"Адвент" Ксения Букша |
— А что будет в конце Адвента? — молча спрашивал пупс у лисички.
— Разве ты не знаешь, будет Рождество, — отвечала лисичка.
— А что такое Рождество?
— Это когда родился маленький Иисус, — отвечала лисичка. — Как только он родился, его положили в ореховую скорлупку, накрыли лепестком розы и пустили по течению реки.
Стеша была не сильна в священной истории. Младенца Иисуса она путала с Моисеем и, наверное, c Дюймовочкой.
Тот случай, когда название книги исчерпывающе раскрывает ее содержание. Новый роман Ксении Букши не Рождественский рассказ в общепринятом смысле. Непременные составляющие таких историй: героев подстерегают опасности, ситуация в определенный момент становится критической, и кажется нет спасения, но в финале все благополучно разрешается. Назидательный подтекст не то, чтобы обязателен, но приветствуется.
В православной традиции нет понятия адвента, потому нелишне объяснить. В католицизме и некоторых ветвях протестантизма это период времени, охватывающий четыре предрождественских воскресенья. Сейчас как раз он идет, "время радостного ожидания". Совпадает с Рождественским постом (для тех, кто держит), и для всех - время подумать о душе, о вечных ценностях, примириться, простить, исправить. Для детей есть традиция адвент-календаря - картонного домика с открывающимися на каждый день адвента окошками, за которыми ребенка ждет приятный сюрприз или сладость.
Так вот, "Адвент" не рождественская, а именно предрождественская история. Здесь нет накала страстей и выраженного экстрима, но есть самое темное время года, когда мир пронизан мелкой моросью из дождя и снега, а значение мелких пакостей, вроде простуд, муниципальных чиновников, недоброжелательно настроенных к тебе и твоему ребенку воспитателей - разрастается до космических размеров. Вспоминается то из прошлого, что хотелось бы забыть, мгла понемногу сгущается.
Они обычная семья питерских интеллигентов. Из тех, что понаехали, не вдруг были приняты надменной северной столицей, но в конце концов нашли в ней свое место. Аня музыковед, Костя математик, Стеша ходит в детский сад. И кто-то четвертый, которого пока еще нет. Ксения Букша не из тех авторов, кто балует читателя линейным нарративом "от забора до обеда" и четко прописанным сюжетом, ее проза это всегда мозаика фрагментов, из которых слово "Вечность" тебе предстоит составлять самостоятельно. Хотя в данном случае словом будет "Свобода".
"Адвент" представляется мне романом о свободе в самом широком смысле. Свободе уйти или остаться. Свободе сохранить в себе человеческое ценой отказа от многих радостей комфорта. Свободе позволить себе иногда непрактичное и неправильное с точки зрения здравого смысла поведение, подарив себе и ближним море радости. Свободе делать не то, что от тебя ждут, переиграв судьбу на ее поле.
Изменить прошлое не получится, но его можно отодвинуть, заместить настоящим, в котором любовь и забота, внимание и понимание, тепло семейного очага. И незримо за всем этим ожидание чуда, творимого своими руками. С божьей помощью. От книги, несмотря на несколько даже нарочитую фрагментарность, совершенно целостное впечатление и удивительно светлое и взлетное послевкусие, такое гумилевское "Бог в своих небесах, и в порядке мир"
|
Метки: русская современная |
Сквозь зеркала. "Граница миров" Кристель Дабо |
Человечество не имеет больше ничего общего с тем, которое мы знали. Оно стало миролюбивым. И больше нет никакого смысла жертвовать одной половиной мира ради спасения другой. И потом, кто мы такие, чтобы решать за них?
Тетралогия "Сквозь зеркала" закончена, последний роман вызвал такую бурю негодования среди поклонниц, что если бы собрать тапки, которыми они кидались в автора, можно было бы открыть магазин подержанной обуви (даже и не один, кажется). Рискуя попасть под раздачу, берусь объяснить, что книга вовсе не так плоха, как кажется на первый взгляд.
Итак, "Граница миров", заключительный роман цикла парящих в пространстве Ковчегов, на каждом из которых свое социальное устройство, более-менее подробно нас знакомят с тремя: Анима, родина героини, с капитализмом образца XIX века, феодальный Полюс и тоталитаризм Вавилона. Во главе каждого ковчега бессмертный и беспамятный относительно собственного детства предок, от которого ведут род все его жители. У всякого из сверхлюдей есть особые способности, в некоторой мере наследуемые его потомками. Так Артемида, хранительница Анимы, оживляет неживое и склонна к занятиям науками, эти ее свойства отражают все анимисты.
Офелия, героиня цикла, маленькая очкастая девушка с копной кудряшек, удивительно неуклюжая в быту, но умеющая прочесть историю вещи, коснувшись ее. Против воли выдана за Торна, интенданта с Полюса. Молодой человек очень высок и напрочь лишен светского лоска, отчасти аутист, но великолепный счетчик - не рвется в женихи, однако этот брак заключен волей владык, Артемиды и Фарука, противиться которой немыслимо. А дальше, вы наверняка догадались, такие непохожие внешне, но замечательно подходящие друг другу внутренними свойствами (порядочность, деликатность, интеллект) молодые люди полюбят друг друга.
Тут бы им жить-поживать, да добра наживать, но неладно что-то в Датском королевстве. В том смысле, что жестокие обстоятельства разлучают супругов, заставляя малютку Офелию разыскивать суженого по свету, проходя многие испытания. Такое, отчасти "Финист, Ясный сокол", частью "Амур и Психея" в декорациях достаточно жесткого фэнтези с чертами стимпанка. Однако к финалу третьего романа Офелия, истоптав девять пар железных башмаков и стерев девять железных посохов, находит мужа на Вавилоне. Он в статусе почти всемогущего властителя, его зовут здесь лордом Генри, в то время, как она всего лишь бесправная (кажется намек на особенность признания человека, прожившего во Франции не меньше десяти лет, ее гражданином).
Однако любящим сердцам не удается соединиться, начинаются масштабные "обрушения" - так называют исчезновения целых промежутков пространства со всеми постройками и людьми. Судя по всему, такое не на одном Вавилоне, но здешняя бюрократия действует привычными методами: ужесточает паспортный контроль, обязывает всех мигрантов пройти медицинские освидетельствования. В ходе своего, Офелия узнает о наличии у себя инверсии - все внутренние органы как в зеркальном отражении (положим, и так знала, случилось все в детстве, когда застряла в зазеркалье, впервые попытавшись использовать зеркало как портал, с тех пор у нее и эта фриковатая неуклюжесть). Но случай ее столь уникален, что явиться в Центр девиаций для обследования, ее прямая обязанность - говорит врач.
Одновременно с этим, Офелия и Торн понимают, что именно к Центру девиаций ведут нити, указывающие на корень зла, который угрожает всему миру. Девушка добровольно соглашается на роль подопытного кролика, и вот тут Кристель Дабо не может устоять перед соблазном написать интеллектуальный роман. Наскоро перелицовывая из авантюрного любовного фэнтези в квазинаучный оккультно-эзотерический. Что в первом качестве было замечательно умной оригинальной и яркой серей, во втором - унылая скучная, перегруженная неоправданным наукообразием, муть.
Вводится непомерное количество понятий, которые и человек, всей головой ударенный об эзотерику, не сразу поймет, что уж говорить о далеких от этого девочках фанатках. Немудрено, что аудитория негодует: брать билет на концерт, попасть на заумную лекцию - кому такое понравится? Да еще и жестокий к героям открытый финал, это уж совсем нехорошо, воля ваша. Но при всех недостатках четвертой книги, в ней очень здравая жизненная философия.
За все в жизни приходится платить, и желая что-то получить, спроси себя, потянешь ли ты цену?
Обеспечивать счастье немногих, обрекая на страдания многих, неправильно, хотя бы даже многие представлялись совершенным отребьем, а немногие были, ну такими душками.
Но мир движется в правильном направлении, войн. насилия и зла в нем становится меньше - и это главное. И значит, все было не зря.
|
Метки: фэнтези французская |
«СУДЬБА УБИЙЦЫ». Последняя книга трилогии Робин Хобб о бастарде-убийце. |
Из основных впечатлений:
Если кому-то нравится видеть в воображении подробные красочные фэнтезийные картинки, как будто материализовавшиеся из онлайн-игры с сюжетом фэнтези, то это чтиво для них. Прежде всего, следует учитывать, что это ооооооочень многословное повествование. Каждое движение героев расписано, как при замедленной съемке. Я прямо так и вижу Хобб сидящей в закрытой комнате и усердно расписывающей план сюжета: чем больше, тем лучше, тем книга пухлее, стало быть, издательство больше заплатит. Я просто за-му-чи-лась читать описания совершенно избыточных картин и действий. Но для практики английского оно ничего себе так. По частотности употребления предлога «as» Хобб, наверное, побила все мировые рекорды, как в свое время Хемингуэй по частотности употребления оборота «there is/are».
В этой части трилогии главный герой Фиц Чивел (то еще имечко!) путешествует со своими друзьями по разным краям, по преимуществу, на корабле, разыскивая дочку, украденную злодеями из отвратительной страны, управляемой какими-то мерзкими сектантами.
Украденная девочка, которую зовут Би (Пчелка), нужна сектантам из-за своего дара видеть чрезвычайно ценные пророческие сновидения. Для времени, когда книга была написана, этот сюжет, наверное, считался новаторским, но на сайтах, вроде Литнет, такие истории (благородный отец, спасающий дитя) нынче клепают пачками. Они там выделены в особый жанр. Самая распространенная вариация: «спецназовец попадает в мире Толкиена и в поисках пропавшей дочери спасает королевство от гибели и женится на королеве». Пишут о таком кстати, чаще всего мужчины в надежде завоевать женскую аудиторию псевдоженской тематикой, и под этим соусом подсунуть историю про похождения своего марти стью.
Мир продуман писательницей дотошно, из основных ее придумок я бы отметила, как наиболее удавшееся, описание острова, где стоит цитадель сектантов-мучителей. К замку можно попасть только во время отлива, к нему ведет дамба, которая во время прилива исчезает под водой. В замке есть четыре белые башни, вершины которых изваяны в виде, кажется, громадных черепов (уже немного подзабыла детали), в каждой башне сидит один из четырех правителей-жрецов. Все четверо (две женщины и двое мужчин) – мало того, что кровожадные и развратные, но еще и закатывают истерики на несколько страниц (ну ясное дело, за листаж автор маму родную продаст). Жрецы намерены сделать украденную девочку новой пророчицей, а если она не подойдет для этой цели, то в прямом смысле отдать ее на размножение, чтобы она, как носительница ценной крови, рожала детей, из которых могут выйти ясновидящие. Но они просчитались: во-первых, девочка, хоть с виду маленькая и забитая, сама не лыком шита, горит желанием отомстить и знает чертову кучу волшебных приемов; во-вторых, опять же, ее идет спасать очень накачанный и хорошо вооруженный папа, который, к тому же, принц-бастард одного из королевств этого мира. Папе, как я уже упомянула, помогает троица
Из других художественных приемов, которые стоит отметить: каменные колонны, через которые время от времени путешествуют герои – в прямом смысле втискиваются в камень, сидят там немного, рискуя быть раздавленными каменными глыбами, а потом выходят где-то в другом месте; магические корабли, с помощью которых можно плавать по кислотной реке и которые являются чем-то вроде куколок, откуда, на манер бабочек, вылупляются драконы; сами драконы, которым некоторые в мире Хобб поклоняются, как могущественным, почти божественным сверхсуществам. Писательница внесла немалую лепту в моду на антропоморфных драконов из современного фэнтези-чтиве, хотя ее драконы вовсе не антропоморфные, а вполне классические ящеры с крыльями, зато люди, которых они выбирают в качестве своих проводников в человеческом мире, сильно одракониваются – некоторые даже покрываются чешуей - и получают разные интересные магические свойства.
Хочу успокоить всех, кто волнуется за судьбу девочки Би: ее в конце спасают и возвращают обратно домой, во дворец (девочка же - принцесса и родственница королей и разных влиятельных особ). Дворец расположен где-то в окрестностях Ивового Леса, который, видимо, по совершенно случайному совпадению, неуловимо напоминает декорации в «Ветре в ивах» Кеннета Грэма. Я подозреваю, что англичане уже понемногу исписываются, раз начинают вставлять в повествование целые куски из матриц своих предыдущих сюжетов.
В результате операции спасения папа девочки погибает, но не совсем, я бы сказала, частично погибает, и в последней части книги пространно и с некоторой грустью описывается путь к его возрождению, которое тоже оказывается, если можно так выразиться, частичным. Хобб, наверное, думает, что ей удалось применить в концовке очень эффектный прием, но я так не считаю. Затрудняюсь без спойлеров рассказать об этом подробнее. Читайте и выясняйте сами.
И забыла добавить: рассказ в каждой главе ведется в модной нынче манере от первого лица того или иного персонажа. Главы предваряют глубокомысленные заставки в виде обрывочных цитат из воспоминаний, писем, хроник, которые на самом деле являются заготовками, которыми писательнице не удалось использовать по ходу текста, вот она их и приткнула для атмосферности в виде эпиграфов.
|
Метки: фэнтези |
"Адель" Лейла Слимани |
Быть красивой. Быть готовой. Неизбежно ошибаться с расстановкой приоритетов.
Стоит пожалеть, что не смотрела фильма фон Триера. Потому что тогда имела бы представление о том, что sexual addiction - такая же реальная проблема, как алкоголизм, наркомания, клиническая депрессия. Знала бы, что оценивать человека, имеющего несчастье быть подверженным, в категориях морали и нравственности - не совсем правильно. Скорее даже совсем неправильно.
Но "Нимфоманки" я не смотрела, потому до вчерашнего вечера, до этой книжки Лейлы Слимани думала, что чрезмерный интерес женщины к сексу объясняется единственно ее распущенностью. И это даже при том, что в юности такая приятельница у меня была, трахала буквально все, что движется, в остальном нормальная девочка. Мы с подружками об этой ее особенности знали, как и о том, что оказавшись с Аней в одной компании стоит быть внимательнее к ее перемещениям в обществе своего спутника. Но вот в чем фишка, даже узнав, что она успела-таки перепихнуться с другом или мужем одной из нас, не обрушивали на нее дубину народного гнева. Видно понимали в глубине души - больной человек.
Героине романа "Адель" с подругами везет меньше. Да их и нет, кроме одной, с партнером которой она слюбилась как-то в машине (подвозил домой). При этом абсолютное большинство окружающих убеждено, что Адель примерная жена и мать, серьезный журналист и вообще, несколько высокомерная недотрога. Муж, Ришар, души в ней не чает и готов брать в своей клинике сверхурочные дежурства, работая буквально на износ, чтобы побаловать любимую обновкой или украшением, свозить ее в отпуск. Трехлетний сын обожает маму, в три года они еще нас обожают, мда.
Она ненавидит себя, когда на нее "накатывает" и не может сопротивляться желанию схватить первого попавшегося мужика и отдаться в прыжке. Как алкоголик, наверно, не мог бы устоять перед зрелищем бутылок, налитых всеми возможными сортами спиртного, в непосредственной близости от себя. Такая у девушки беда.
Эта книга совсем не такая, какой кажется на первый взгляд. Довольно долго, примерно треть от объема, она представлялась мне очередной вариацией на тему "Эммануэль", непристойной и несвоевременной в нынешнем, оставившем сексуальную революцию далеко позади, времени. Удерживала от того, чтобы бросить единственно моя любовь к издательству "Синдбад". Знаю, они плохого не печатают.
И таки да, со второй трети щелчок, что-то происходит, включается магия настоящей литературы, пробуждая к героям горькую болезненную нежность. И вот уже она несчастная Эмма Бовари. Сживаешься с этим прекрасным фриком, жалеешь. А есть мнение. что пожалеть - значит полюбить.
|
Метки: французская современная |
"ПРОТИВОСТОЯНИЕ" СТИВЕНА КИНГА: ПАНДЕМИЯ БЕЗ МАСОК, АПОКАЛИПСИС, ПОСТ. |
Сложно не согласиться – с одной стороны так страшно, что скоро клоуны полезут из канализации, как в "Оно". С другой – "Противостояние", самый объемный и самый любимый мной роман Кинга – начинается с глобальной пандемии.
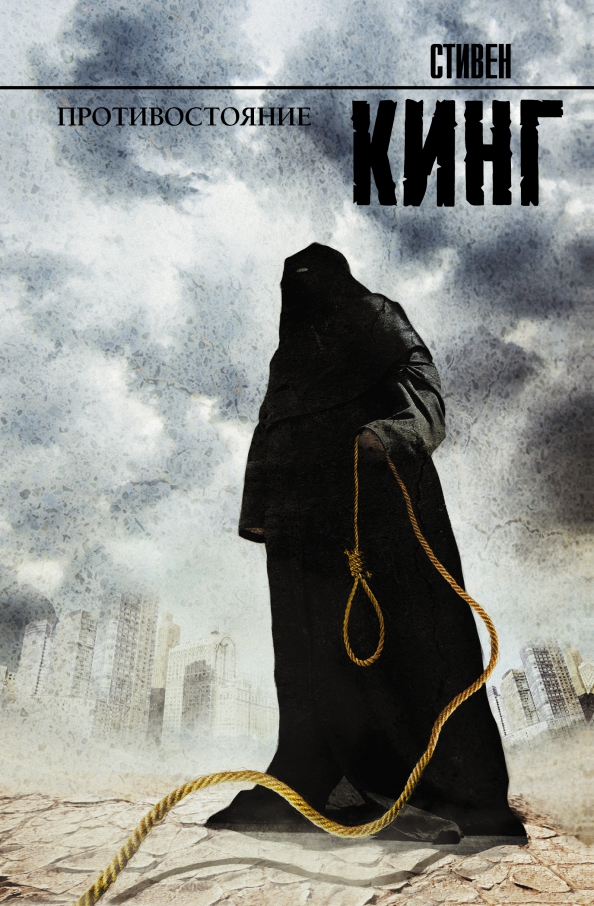
Злобный вирус вырывается из военной лаборатории и заражает все на своем пути. Через месяц 99% населения скошено. Оставшийся процент сначала бродит по опустевшему миру в полном ахере, а потом сбивается в две группы, которым суждено столкнуться в извечной борьбе добра и зла.
Роман можно охарактеризовать тремя словами: Эпично. Захватывающе. Охрененно.
Как всегда талантливо и детально, Кинг описывает, как цивилизация превращается в руины, чтобы потом восстать из пепла. 100 персонажей (вы только вдумайтесь – из персонажей книги можно собрать девять футбольных команд) идут своими дорогами в лучших традициях роад-муви.
Они ведут дневники, жгут мусорные баки, прячутся от торнадо, расстреливают мирных граждан, встречаются, влюбляются, ненавидят, оседают и снимаются с мест – постапокалиптическая жизнь бурлит ключом. Наблюдать за этим не просто интересно – книга погружает в себя и не отпускает, пока не прочитаешь все. Примерно на четверти романа появляются любимчики, за которых переживается в духе: ну Стивен, ну пожалуйста, ну не убивай Ларри Андервуда!
Претензии можно предъявить только к концовке. Возникает ощущение, что к тысячной странице Кинг подустал и слегка запутался, кто куда идет, чего хочет и что с этим всем делать. Поэтому конец – ну такой. Неважный.
В целом же "Противостояние" невыразимо прекрасно. В нем Кинг предлагает ответы на многие вопросы. Что такое добро и зло? За что стоит умереть? Страшен ли коронавирус? (спойлер – нет, по сравнению с тем, что происходит в The Stand, это вообще херня).
Роман, написанный в 1978-ом, в самом начале длинного творческого пути Кинга, до сих пор любим и высоколобыми критиками, и фанатами Стивена. Он вошел во всевозможные списки лучших книг и породил две экранизации. Вторая стартует уже вот-вот – 17 декабря. Еще есть десять дней, чтобы перечитать "Противостояние" и говорить: эх, книга лучше!
|
Метки: Кинг постапокалипсис |
За советом: научная фантастика |
|
Метки: фентези научная фантастика фантастика |
"Остромов, или Ученик чародея" Дмитрий Быков |
Это почерк дьявола, а не Бога,
Это дьявол под маской Бога
Внушает надежду там, где надежды нет.
В первый раз прочла два года назад. Осень две тысячи восемнадцатого была временем Дмитрия Быкова. И прежде о нем знала, но читать иногда стихотворение или статью - совсем не то же самое, что засыпать под лекции человека в наушниках, включать запись его ночного радиоэфира, едва проснувшись; в машине по дороге на работу слушать аудиокнигой роман, а в промежутках читать стихи, кое-что заучивая (ну, потому что хорошо ложится на память). И так почти всю осень, захватив начало зимы.
Нормально, метод глубокого погружения: влюбляешься в то как человек пишет, читаешь у него все подряд, пока ментальный голод не утоляется, а интерес переключается на другой объект. Или пока всего не перечитаешь. Дмитрий Львович оказался неисчерпаемым, одной осени для него явно мало. Я тогда решила прерваться на "Остромове", по Фаусту: "остановись, мгновенье, ты прекрасно". Потому что лучше этого просто ничего не могло быть.
Услышав, что в Редакции Елены Шубиной переиздается вся "О-трилогия": "Оправдание", "Орфография", "Остромов или Ученик чародея", не устояла перед соблазном перечитать любимый роман. Книги этого цикла автономны, объединены временем и местом, есть сквозные герои, но на второстепенных или эпизодических ролях. И да, впечатление не только не обмелело, но стало глубже, объемнее, дополнилось невзятыми прежде смыслами.
Итак, в основе книги реальные события "Дело ленинградских масонов" 1926 года. Фамилия главного фигуранта вынесена в заглавие с заменой одной только литеры (Астромов Кириченко-Ватсон действительная историческая фигура). Кружок изучения эзотерики и оккультизма, во главе которого стоял человек невероятного обаяния и такой же беспринципности, существовал в Ленинграде середины двадцатых, и закончилось для его членов все довольно скверно. Хотя, имея в виду суровость времен, можно подивиться мягкости приговоров - ссылка для большей части фигурантов.
Но то будет после, а в начале удивительная феерия, которая приведет на память Остапа, Хулио Хуренито и бытовую часть "Мастера и Маргариты". В неуютную хмурую Колыбель революции образца двадцать пятого года одновременно прибывают юноша крымчанин и чрезвычайно импозантный господин средних лет. Назвать такого товарищем язык не повернется, есть в нем вальяжная уверенность в собственном праве на место в мире никак не хуже партера, которая тотчас передается окружающим.
Чуткий от природы Даниил и вовсе проникается к незнакомцу, которого называет про себя астрономом, благоговейным доверием. Казалось бы, ненадолго, но нет, скоро их дорогам суждено сойтись снова, на сей раз на ролях учителя и ученика.
Роман в пяти частях, первые четыре озаглавлены по названиям времен года, и "Весна" - первая, просто фейерверк. Уморительно смешная сама по себе, пронизана референциями к Серебряному веку, расшифровка которых способна подарить много чистой радости. Читая в первый раз, не знала Вагинова, и историю балерины ни с чем не соотносила, теперь иначе. Таких открытий много, неленивый и любопытный читатель при желании найдет больше.
Деятельность кружка, собранного по типу "Союза меча и орала", посвящена прикладной эзотерике. В числе прочего, Остромов обещает научить адептов телекинезу и телепатии, экстериоризации (опыту выхода из тела),левитации. За тем и ходит сюда Даня. Какая ваша мечта? Ну, кроме мира во всем мире? Моя всегда была летать, как у него. Говорят - невозможно, потому что гравитация же, физические законы и всякое такое а я думаю, что есть способ, Непременно должен быть.
Жить, зная, что возможно. В определенном смысле, этот роман как левитация, несмотря даже на то, что являет собой сеанс магии с подробным разоблачением. В "Остромове" хорошо все. Оригинальный сюжет, одновременно авантюрный, забавный, трагический. Герои, живые, яркие и совершенно не сегодняшние - вообще предельно точное бытописательство, достигаемое не кропотливым восстановлением декора, но полным погружением читателя в атмосферу двадцатых прошлого века.
Стилистически превосходно, язык романа праздник ценителя хорошей прозы. А еще это в равной степени литературоведческая головоломка и путеводитель по истории русского оккультизма начала прошлого века, из которого вышла вся современная эзотерика. Быков говорит, что образ Дани сборный из трех Даниилов: Жуковского, Хармса и Андреева, но я совсем не знаю Даниила Жуковского и не люблю Хармса. Каждый видит, что он хочет видеть, для меня "Остромов" реквием по Даниилу Андрееву, чью "Розу Мира" до сих пор шельмуют невразумительной фэнтезятиной. Дочитала. Плачу. Быков лучший.
|
Метки: Быков |
Детектив/триллер в журнале «Звезда»: конец 70-х – начало 80-х |
|
Метки: 20 век поиск книги советская |
помогите опознать советскую книгу про двух подростков, оказавшихся в плену у немцев в бункере |
|
Метки: 20 век поиск книги |
"Падение или Додж в аду" Книга вторая Нил Стивенсон |
Это была карта Земли, нарисованная в детской манере. Здания и прочее непропорционально большие: Дворец на Столпе посередине, Твердыня на севере среди заснеженных вершин, города на западном побережье, различные замки и легендарные существа среди Осколья и дальше в океане.
Тот неудобный случай, когда очень хочется найти добрые слова для книги, и не находишь, блин! Ну почему он убил такое интересное начало этим невразумительным продолжением? Что за мутный гибрид квазибиблейской, греческой, скандинавской мифологии с легендами Артурова цикла? А главное, к чему это все? То есть, как раз "к чему" ясно, лавры Данте Алигьери и Джона Мильтона, подаривших миру живых исчерпывающе полное описание загробного мира, хочется примерить всякому творцу. Не у всякого хватает дерзости, но Нил Стивенсон из когорты первопроходцев, ему ли бояться?
Итак, со времени событий первой книги, отстоящей от дня сегодняшнего примерно на четверть века, прошли десятилетия. Реальность золотого миллиарда, не претерпев существенных изменений относительно современности, стала более комфортной для стариков и людей с ограниченными возможностями - замечательные умные экзоскелеты позволяют не ограничивать себя в активности, практически взяв нагрузку изношенных, поврежденных и/или недостающих конечностей.
Роботы-помощники стали реальностью, а машины, к примеру, эволюционировали в сторону компактности и той же роботизации. Теперь это скорее шагающие рикши. Колесный транспорт ушел в прошлое, потому нет необходимости в ремонте дорожного покрытия, сквозь трещины и колдобины которого прорастают молодые побеги. Такое себе "назад к природе"
А главное, смерти больше нет. Все, кто может себе позволить, обеспечивают посмертную оцифровку, переселяясь в виртуальный мир, чьи жители не связываются с живыми в силу полной амнезии, которую претерпевают с физической смертью, но наблюдать за ними отсюда можно. И таки да - живут. К слову. позволить теперь могут практически все, процесс подешевел и обеспечивается страховкой, наподобие медицинской, кроме того, значительная доля энергоресурсов добывается за пределами Земли. То есть, буквально, мощностей, потребных в свое время на переход Доджа и Софии теперь хватает для обеспечения посмертия сотне тысяч "душ".
Да, София погибла, и руку к ее смерти приложил жестокий миллиардер Эл Шеппард, протагонист романа, который вскоре тоже переместится в виртуальное загробье, свергнет и попытается уничтожить Ждода, разлучив с Весной (Софией). Ее сведет с ума и заставит скитаться. А в саду, являющем собой подобие эдемского, останутся мальчик и девочка, которых Эл не то, чтобы усыновит, но будет держать, посредством своего ангельского воинства, под контролем.
Однако совершенно отлучить Создателя от сотворенного им мира куда сложнее. чем может казаться деспоту, и эпизод с Доджем в роли Змея-искусителя, на сей раз принявшего облик червячка, выползшего из яблока, по настоящему обаятелен и забавен. Однако после того, как подросшие дети назовутся Адамом и Евой и, в соответствии со сценарием, будут изгнаны в мир, тут-то все хорошее и закончится.
Вот разве что эпизод рождения Евой двенадцати детенышей - свиноматка-рекордсмен, чес-слово. И тема Карвалиса Кавасаки, обратившегося вороном. Он моя любовь в этой книге и с ним связан единственный момент, заставивший смеяться:
Фигуры, вероятно, изображали Калладонов. По крайней мере, некоторые из них. Красивые на четвероногих животных – наверное, Калладоны. Уродливые, которых они убивают, – наверное, кто-то еще.
В остальном вторая часть назидательна, тяжеловесна, намеренно запутана, претенциозна и, по большому счету, скучна. Когда рассказывала о первой части "Доджа в аду", уже говорила, что прочла книгу в оригинале в начале года, и "виртуальная" часть показалась совершенной мутью, тогда списала на недостатки своего английского. Теперь вижу, что дело не во мне. Не спасает даже перевод Екатерины Михайловны Доброхотовой-Майковой, как всегда превосходный.
|
Метки: фантастика |