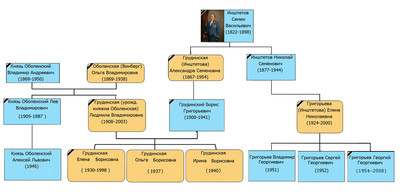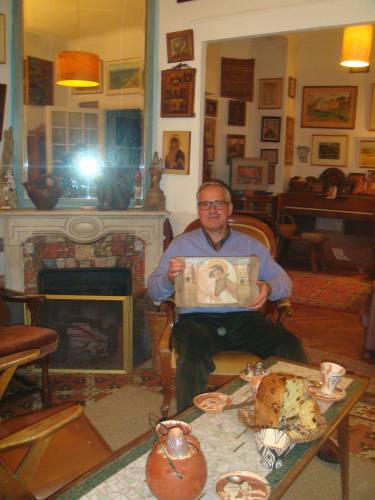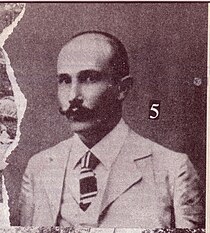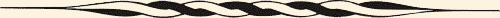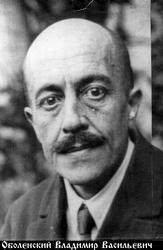Беженцы Первой мировой войны |
|
||||||||
|
|||||||||||||||||||
|
Метки: первая мировая война красный крест |
Вологодский край и Первая мировая война |



Вологодский край и Первая мировая война
Минаев Алексей Леонидович,
преподаватель БОУ СПО ВО «Вологодский педагогический колледж»,
руководитель Вологодского военно-исторического общества.
В год 100-летия со дня начала Великой войны 1914-1918 гг. важнейшей проблемой военно-патриотического воспитания становится нахождение в истории столь далеких и плохо изученных событий конкретных краеведческих оснований.
Фронты Великой войны 1914-1918 гг. разворачивались на западных и южных рубежах Российской Империи, вдалеке от центральных губерний. Но, несмотря на это, Вологодский край, как и во времена других военных испытаний для нашей Родины, не остался в стороне от событий, развернувшихся как на передовой, так и в тылу.
В первую очередь, это мобилизация и активность местных административных органов по отправке на фронт личного состава для формируемых воинских подразделений. Мобилизации затронули значительную часть мужского населения. Сегодня отсутствует точная статистика по числу призванных с территорий современной Вологодской области в годы войны, но, по аналогии с соседними регионами, это не менее 10-12 % населения.1
Вологжане верой и правдой служили Отечеству практически во всех частях и соединениях: от офицеров Лейб-гвардейских полков, подводников и авиаторов до рядовых стрелков и чинов государственного ополчения.
В войне приняли участие кадровые части, чье формирование было связано с Вологодской губернией. С 1910 года в г. Вологде стояли два батальона 198-го пехотного Александро-Невского полка. Уже в 1914 г. под командованием полковника К.И. Волькенау, впоследствии Георгиевского кавалера, полк сражался на Юго-западном фронте под Варшавой, потом были Прибалтика, тяготы отступления 1915 г., участие в Брусиловском прорыве и расформирование, постигшее все части Русской Императорской армии в 1918 г.
Кроме того, еще несколько частей русской императорской армии получили свое наименование от названий городов региона. Степень их укорененности в жизнь Вологодчины, конечно, различна. Так, 434-й Череповецкий полностью был сформирован на территории одноименного города. 296-й Грязовецкий, напротив, не базировался в крае, но комплектовался, судя по спискам личного состава преимущественно из уроженцев вологодских земель и, непосредственно, из жителей Грязовецкого уезда. Старейшие полки русской армии, 13-й Белозерский и 18-й Вологодский, а так же, сформированный в числе полков четвертой очереди в конце 1916 года 551-й Велико-Устюжский, имеют лишь номинальную принадлежность к краю. Но даже в этом случае духовная связь с Вологодчиной не прерывалась. Так, священник вновь созданного полка обращался к благочинному города с просьбой: «<…> Весьма желательно знать, для ознакомления солдат, подробности о шефе нашего полка. Более подробно историю города, чтимые святыни города, и его окрестностей и другие выдающиеся исторические и народно-бытовые памятники и события <…>». 2
Формировались в Вологде части государственного ополчения. Сотни вологжан пополнили ряды Вологодских пеших дружин и рабочих батальонов, о судьбах которых мы не знаем на сегодняшний день практически ничего. Только номера Вологодских дружин: 19-я, 87-я, 348-я мелькают в отдельных военно-исторических и краеведческих исследованиях, да некоторые материалы о судьбе 482-го пехотного Жиздринского полка, сформированного из дружин 66-й бригады ополчения Вологодчины.
Особое место занимает добровольчество в годы Первой мировой. В архивах Вологодской области сохранились тексты заявлений, подобные этому: «Имея неотъемлемое желание в настоящее время войны поступить в действующую армию в качестве добровольца, питая патриотизм, чувство постоять грудью за Веру, Царя и дорогое Отечество, я покорнейше прошу принять меня как добровольца …».3 Примечательно, что эта волна коснулась не только мужчин.
Если имя Бочкаревой М.Л., уроженки Кирилловского уезда известно многим, то выдающаяся история Александры Васильевны Паньчевой крестьянки Вологодского уезда лишь недавно стала широко известна. Под видом нижнего чина в полном обмундировании и снаряжении она появилась на позициях 24 Сибирского стрелкового полка 12 января 1915 г., где и находилась в составе 3-й роты 5 суток. В ночь с 12 на 13 января 1915 г. первой бросилась из окопа при атаке этой роты, желая увлечь собой нижних чинов, «чем явила собой пример храбрости и мужества». В этой атаке была убита осколком шрапнели и её Георгиевский крест 4 степени получали уже родственники.4
Массовыми стали побеги гимназистов и семинаристов «на фронт». В Государственном архиве Вологодской области хранится показательное в этом вопросе письмо протоиерея Николая Караулова, будущего новомученника, о своем сыне Анатолии, который добровольцем ушел на фронт, не был принят в Казанское военное училище по малолетству, но остался на службе шофером при штабе 10 армии. Отец его на это не просто благословил, а всемерно поддерживал, в том числе личными обращениями к губернатору за необходимыми для получения военного образования справками о политической благонадежности.5
Духовенство Вологодского края тоже рвалось к непосредственному служению делами для общей победы. Показательным является письмо иеромонаха Мартиниана, казначея Павло-Обнорского монастыря: «Объявленная война меня призывает на поле сражения для служения страждущим православным солдатикам, меня как верующего инока сильно влечет туда. При одном воспоминании, что я иду к православным солдатикам на войну, здоровье мое сделалось лучше, как будто с неба спустилось, да и в немощных телах пребывает благодать Божья помогающая. Владыка преосвященный Александр, благослови меня на это святое дело».6
На трудности военного времени и тяготы рутинного тылового обеспечения армии откликнулись государственные, земские, общественные организации, лица духовного звания. Шилась одежда, собирались денежные средства, проводились благотворительные концерты, организовывалась помощь семьям ушедших на фронт,
Поскольку Вологда являлась крупным тыловым центром и, одновременно, важным железнодорожным узлом, естественно, что в городах губернии массово размещались военные лазареты. Хотя документы отмечали, что «в отдаленный Вологодский край направляются почти исключительно легко-раненные воинские чины», это направление деятельности трудно признать малозначимым. На 1915 год только в губернском центре, с населением чуть больше 40 тысяч человек, располагалось 11 лазаретов Всероссийского земского союза помощи больным и раненым воинам, 5 лазаретов общества Красного Креста и 4 лазарета Всероссийского городского союза.7 Добавим к этому запасной госпиталь № 183 военного ведомства и функционировавший на станции Вологда сортировочный госпиталь при Вологодском Окружном Эвакуационном пункте. Кроме того, открылись лазареты в Грязовецком, Кадниковском, Тотемском уездах.8 Одни лазареты Красного Креста, статистика движения раненых в которых наиболее полно сохранилась, приняли около 5000 человек. Вологодская епархия уже в ноябре 1914 г. принимает решение об открытии в Павло-Обнорском монастыре совместно с Всероссийским земским союзом помощи больным и раненым воинам лазарета на 200 коек. Города отдавали для нужд военно-медицинской помощи все помещения, которые были пригодны, от учебных классов и колонии для малолетних преступников до канцелярии губернатора.9
В связи со всем вышесказанным сложно согласится со встречающимися на страницах краеведческих изданий высказываниями, подобными этому: «Что же касается Вологодской губернии, то здесь проявления патриотизма не выходили, как правило, за рамки обычной благотворительности в пользу раненых и семей, потерявших на поле брани своих кормильцев, лекций о германской агрессии и пафоса газетных заголовков в местной прессе». 10 Всего лишь, «обычная благотворительность» …
Можно относиться скептично к сообщению одной из церковных летописей г. Великий Устюг, ссылаясь на субъективизм автора, но под 1915 годом там отмечается, что «Великая вторая Отечественная и Европейская война с немцами и турками <…>, также уничтожение Государем Императором продажи вина и прочих хмельных напитков – эти два обстоятельства послужили к очищению нрава народа. Число преступлений сократилось во много раз. Хулиганство, драки, нескромные игрища, срамные песни и прочее, развившееся в последние пред войной годы в сильной степени распутство народа, почти совсем прекратилось. Число молящихся в храмах увеличилось. Поминовение на проскомидии и служение молебнов почти удвоилось. Количество исповедающихся также увеличилось. Народ сознал свои грехи и обратился к Богу с молитвой и покаянием».11
Несмотря на появление в последние годы темы Первой мировой в региональных изданиях, материалов пока явно недостаточно.
Осознание этого стало основанием для организации Вологодского военно-исторического общества. По благословению Архиепископа Вологодского и Великоустюжского Максимилиана в 2012 г. Вологодское военно-историческое общество стало структурным подразделением Вологодского Православного Духовного Училища. Для такого несколько необычного на первый взгляд сотрудничества были найдены конкретные исторические основания. В своем решении от 24 ноября 1914 г. Вологодская Консистория отмечала: «<…> сведения о прихожанах, положивших живот свой на поле брани, с возможною подробностью вносить в церковные летописи, отмечая в них и тех участников нынешней войны, которые останутся в живых и возвратятся в домы свои, дабы их имена были ведомы грядущим поколениям <..>»12
Основным направлением деятельности Общества является привлечение внимания к проблемам забытой военной истории и создание возможности для широкого круга общественности и специалистов работать с биографическими материалами участников Великой войны.
Оптимальным средством решения данных задач стало создание общедоступного интернет-ресурса с возможностью свободных поисковых запросов. При поддержке международного грантового конкурса «Православная инициатива» сегодня по адресу vologda-1914.ru уже функционирует проект «Побежденные, но незабытые», в базу которого заносится информация по уроженцам Вологодского края принимавших непосредственное участие в боевых действиях, запасных чинах, чиновниках военного времени, сестрах милосердия. Члены Вологодского военно-исторического общества надеются на то, что к реализации проекта подключиться как можно больше неравнодушных людей.
Увековечение памяти о войнах-вологжанах требует и дальнейшего материального воплощения. В уже упоминавшемся решении Вологодской духовной консистории от 24 ноября 1914 г. есть и такие строки: «<…> когда с Божьею помощью нынешняя кровопролитная война прекратиться и жертвы ея в каждом приходе с полною достоверностью определяться, то духовенству принять на себя почин в деле видимаго для всех увековечения памяти их среди местного населения сооружением на приличных местах часовен, памятников и крестов и постановкой в храмах особых памятных досок <…>»13 Думается, что сегодня настало время совершить то дело, которое в силу исторических обстоятельств так надеялись, но не смогли свершить наши предки.
1 Смирнов И.А. Кирилловский уезд в годы Первой мировой войны//Кириллов. Краев. Альманах. Вып.6. – Вологда, 2005. – С. 148
2 Кляповская А.А. Первая мировая война … С. 337
3 Кляповская А.А. Первая мировая война … С. 336
4 Государственный архив Вологодской области. ф.18 – оп. 1 – ед.х. 5713 – л.11-12
5 ГАВО ф.18 – оп. 1 – ед.хр. 6816 – л.92
6 ГАВО ф.18 – оп. 1 – ед.хр. 5713 – л.32
7 Старая Вологда. XII – начало XX в. Сборник документов и материалов. – Вологда: Легия, 2004. – С. 459-460
8 Голикова Н.И, Смелкова Т.Н. К вопросу о взаимодействии государственных учреждений и общественных организаций в годы Первой мировой войны (по материалам Вологодской губернии)//Историческое краеведение и архивы. Вып. 9. – Вологда, 2003. – С.137
9 ГАВО. ф. 496 – оп.1 – ед.хр. 19474 – л.162-163
10 Чистов Д.Л. Патриотизм на переломах истории. Итоги и опыт Первой мировой войны//Историческое краеведение и архивы. Вып.11. – Вологда, 2004. – С.151
11 Кляповская А.А. Первая мировая война … С. 338
12 ГАВО. ф. 496 – оп. 1 – ед.хр. 19499 – л.6-7об.
13 Там же
http://1914.military-vologda.ru/arkhiv/82-arkhiv/186-pervaya-mirovaya
|
Метки: первая мировая война красный крест вологда |
Аферист виртуоз царской России Николай Савин. |
Аферист виртуоз царской России Николай Савин.https://zen.yandex.ru/media/id/5b9cf2c3b76d9000aa0...savin-5c51fa149f20ac00ac190939
Николай в детские и юношеские годы был баловнем судьбы. Его отец, состоятельный помещик Калужской губернии Боровского уезда, безумно любил сына и потакал его бесконечным прихотям. Получив хорошее домашнее образование, Николай, как и подобало юноше из дворянской семьи, в 20 лет начал службу в гвардейской кавалерии в чине корнета. Несмотря на денежную поддержку отца, Савин, испытывая недостаток в средствах, совершил мелкое жульничество.
Николай оформлял на себя в двух мастерских две одинаковые пары туфель. При получении заказа в каждой мастерской он оставлял один ботинок на растяжку по причине того, что он жмет, а другой ботинок уносил с собой. Понятно, что из одной мастерской он забирал правый ботинок, а из другой – левый. И таким образом получал совершенно бесплатно новые туфли. В ресторанах подбрасывал засушенного таракана, за что получал бесплатно обед и бутылку вина в придачу. За поступки, несовместимые с офицерской честью, ему было предложено выйти в отставку.
Начавшаяся в 1877 году Русско-турецкая война вынудила правительство призывать из запаса и отставки офицеров, не особенно вникая в их послужной список. Но, тем не менее попытка отставного корнета, была отклонена. Ему удалось попасть добровольцем в корпус генерал-лейтенанта барона Криденера, штурмовавший на севере Болгарии занятый турками город Плевен (Плевна).
Сражаясь в первых рядах штурмующих войск, он получил тяжелое ранение левой руки и его отправили на излечение, от продолжения службы ему пришлось отказаться, и еще из-за обвинений в получении страховки за поджог собственного дома (по другим сведениям - за уничтожение долговых документов), он вновь оставляет службу, на этот раз уже окончательно.
Он окунулся в столичную жизнь «золотой» молодежи. Савин не был стеснен в средствах: после смерти отца он оказался владельцем нескольких имений, домов и другого имущества. Однако деньгам свойственно кончаться, и результат столь безудержного мотовства скоро сказался: через несколько месяцев от миллионного состояния остались лишь воспоминания и многочисленные векселя.
Карточка Николая Савина, сделанная в полиции Гамбурга
...В качестве богатого русского коннозаводчика он появляется в Италии, представляется итальянскому правительству и предлагает свои услуги по поставке орловских рысаков для итальянской армии. Для закупки лошадей ему выделяются огромные средства. Но в одно прекрасное утро Савин бесследно исчезает из Рима, прихватив с собой большую сумму денег.
Далее Савин появляется в Болгарии и председателю регентского совета управления Болгарией - Стефану Стамболову представляется крупным банкиром и в качестве государственного займа предлагает деньги, оставшиеся от итальянской аферы. Афера почти удалась, но Савина узнал знакомый парикмахер, пришлось спасаться бегством. И все - же его арестовали и этапировали в Россию в Петербург, где он доказал что невиновен и вышел не свободу.
Стефан Стамболов //Статьи выходят после 14.00 по Мск
В 1891 году присяжные заседатели Московского окружного суда признали бывшего корнета Николая Герасимовича Савина виновным в ранее совершенных крупных мошенничествах, и он был осужден на ссылку в Томскую губернию. На суде, помимо прочего, выяснилось, что у Савина вспыльчивый и опасный характер. Поэтому предписывалось при сопровождении Савина в Сибирь предпринять самые строгие меры по его охране. Особо рекомендовалось поселить его в таком месте губернии, где за ним мог быть обеспечен надежный надзор.
Томский губернатор, получив такое предписание, назначил местом жительства ссыльного самую отдаленную местность — Нарымский округ; там, среди дикой тундры и непроходимых болот, в свое время отбывали наказание декабристы.
Савина поселили в селе Кетском, на глухом и пустынном берегу Оби, где жили в основном остяки (ханты). Продумав ряд вариантов освобождения, и обманув зорко следивших за каждым его шагом полицейских чиновников, он бежал после нескольких месяцев ссылки. Несмотря на повсеместное оповещение о его побеге и преследование, Савин сумел разными способами преодолеть расстояние около 5 тысяч верст и оказался в Саратове, где имел небольшое поместье и мог раздобыть немного денег на первое время.
Еще по пути к Саратову Савин на пароходе познакомился с неким Минаевым, студентом Томского университета. Общительный и обаятельный бывший корнет узнал от собеседника, что его отец, постоянно живущий в Петербурге, содержит наемные экипажи и хорошо известен среди конских барышников и торговцев фуражом.
Николай Герасимович, приступая к афере, казалось бы, все подготовил и учел. Но аферист международного уровня, специалист по околпачиванию иностранцев из высшего света не знал и не понимал натуры русского купца, вроде бы тугодума, но очень расчетливого и практичного. Поэтому все его хитроумные планы потерпели крах.
В одном из номеров единственной в городе гостиницы с громким названием «Золотой якорь» расположился Николай Герасимович, даже мысли не допускавший, что его смогут найти в таком захолустье. Нашли, и вернули в тюрьму. Савин как опасный преступник содержался в отдельной камере под специальным надзором.
Совершенно случайно ему стало известно, что в тюрьме заболел брюшным тифом в тяжелой форме один заключенный и его отправили в земскую больницу, больной умер. Савин прикинулся больным тифом и попал в морг вместо умершего. Бывший корнет решил бежать, причем не только из тюрьмы, но и из России — этой мужицкой страны, где его преследовали сплошные неудачи.
В итоге он оказался на лайнере, идущим в Америку. Он снова обрел уверенность в себе, превратившись опять «по мановению волшебной палочки» в знатного вельможу князя Савина, графа Тулуз де Лотрека.
Это было в начале 1895 года, когда Савину было около 40 лет. Николай Герасимович, говоривший по-английски без акцента, представительный и прекрасно сложенный, вскоре перезнакомился со всеми пассажирами первого класса. Душа общества, он всю дорогу развлекал публику рассказами о своих многочисленных похождениях. С мужчинами он играл в карты. Хороший игрок, не брезговавший шулерством, Николай Герасимович заметно поправил свои денежные дела. С женщинами он флиртовал, увлекая их заманчивыми перспективами брака, Савин каждой предлагал руку и сердце с убедительной просьбой до приезда в Нью-Йорк сохранять все в секрете...
Продолжение похождений корнета Савина в статье "Аферист виртуоз
Савин часть 2".
В статье использованы материалы Р. В. Николаева “Аферы века”
|
Метки: российская императорская армия российская империя аферисты |
Мифы и легенды Мальты: Белая иммиграция на Мальте 1919 |
События проекта
/
Сегодня 19:30
Предпремьерный показ фильма «Юморист»
Мифы и легенды Мальты: Белая иммиграция на Мальте 1919
+T -

Продолжая рассказ о русских, которые попали на Мальту волей ураганных ветров октябрьской революции, вынуждена констатировать, что русскоязычный интернет бесполезен, скушен и запутан… Ни архивных материалов, ни фотографий, ни рассказов, ни дневников, ни писем.
Конечно, такую скудность информации в русском виртуальном мире легко объяснить той же революцией.
Хотите уничтожить что-либо, отрежьте корни, верхушка засохнет сама…
Вот корни большинству из нас революция и обрубила: нет у нас дома семейных альбомов двухсотлетней давности, нет в столовой или библиотеке выписанных маслом портретов далеких предков, да и столовых или библиотек тоже у большинства нет …
Помните гениальное у Булгакова:

— И где же я должен принимать пищу?
— В спальне!
— Очень возможно, что Айседора Дункан так и делает. Может быть, она в кабинете обедает, а в ванной режет кроликов. Может быть. Но я — не Айседора Дункан. Я буду обедать в столовой, а оперировать в операционной! Передайте это общему собранию.
Логика моя такова: если мы все же понимаем, что «обедать нужно в столовой, а оперировать в операционной», то давайте попробуем собрать то немногое, что удается найти в англоязычном интернете о наших соотечественниках, чтобы не только англоговорящие знали нашу историю, но и мы тоже.
Еще в 2014 году нашла сайт http://website.lineone.net/~stephaniebidmead/, но не смогла понять, кто автор сайта, как автора зовут, и откуда взята информация и фотографии.
Снова хочу оговориться, что я не перевожу дословно тексты сайтов, а вольно пересказываю то, что мне самой кажется интересным. Оригинальную версию каждый может найти на самом ресурсе.
"После свержения династии Романовых в 1917 году, в России началась гражданская война. Большевики занимали все большие территории, оттесняя Белую армию все дальше и дальше к югу."
Думаю, что каждый из вас хоть что-то, но знает о годах, когда Россия стала социалистической и народной, когда была расстреляна царская семья вместе с пятью детьми… Прошу понять меня правильно, я не против русского народа, но против действий отдельных исторических персонажей.
В английском языке есть хорошая поговорка: "We all have bad feelings; it's acting on them what makes Us bad" - У всех бывают плохие мысли, но только действия в угоду им делают Нас плохими".
Кстати, дневники и отчеты о ходе расстрела, расчленения и запрятывания останков убитых в русском интернете есть. Там даже можно найти сканированные документы «отличных» работников советской власти, которые прилежно воспроизводили все подробности последних двух дней царя, его семьи и подданных, а также не забывали рапортующие упомянуть о том, что сами делали, чем другие товарищи, то есть подельники занимались.


Я читала когда-то, но перечитывать не буду, омерзительно… Интересно, дети у этих «выполнявших долг» остались, внуки? Какие они выросли? Но это я не в ту сторону направилась, нижайше прошу простить…

Итак, английский крейсер Ее Величества под командованием капитана С.Д. Джонсона, прибыл в Севастополь в первую неделю апреля 1919 года. Корабль доставил личное сообщение Ее Величества Королевы Англии Александры своей сестре Вдовствующей Императрице Марии Федоровне – матери российского царя Николая II.

В послании Марию Федоровну просили срочно покинуть Россию и отправиться через Мальту в Англию на борту Королевского военно-морского флагманского корабля.

Мария Федоровна уже ответила отказом на подобное прошение, переданное ей 4 недели назад капитаном флагманского корабля Калипсо. Вдовствующая Императрица не хотела покидать страну, несмотря на то, что большевики занимали все большие территории и уже подступили к Крыму.
Капитаны военных кораблей Ее Величества встали на якорь в нескольких милях от Ялты, где проживала Вдовствующая Императрица. Двум капитанам удалось уговорить Марию Федоровну отправиться в Англию к сестре.
7 апреля корабль Мальборо встал в порту Ялты и начал принимать пассажиров. Изначально планировалось взять на борт 10-12 человек, но очень быстро выяснилось, что пассажиров получается гораздо больше.
Офицеры корабля освободили 35 кают, были установлены дополнительные койки, а капитан Джонсон уступил свою каюту Вдовствующей Императрице. Погрузка багажа, размещение людей длились до 11 апреля, когда крейсер Мальборо вышел в море, унося на себе 44 члена царской семьи и знатных особ, а также их гувернанток, нянек, экономок, слуг, не считая более 700 чемоданов и другого багажа.
Следующим утром крейсер пришел в порт острова Халки, расположенный в 12 милях от Константинополя. Здесь корабль простоял до 16 апреля, до момента, пока Великий князь Николай Николаевич с супругой Великой княгиней Анастасией, Великий князь Петр Николаевич с супругой Великой княгиней Милитсой, с княжной Марией, князем Романом, графом и графиней Тыжкевич, бароном и баронессой Штааль, господином Болдыревым и доктором Маламой с их слугами и свитами ни пересели на линкор Лорд Нельсон и отправились в Геную.
Их места заняли новые пассажиры: граф и графиня Дмитрий и София Менгден, граф и графиня Георгий и Ирина Менгден, графиня Вера Менгден, граф Николай Менгден, мадам Елена Эркофф, две служанки. Дредноут Мальборо отправился в сторону Мальты.




На Мальте готовились к встрече таких именитых беженцев. 12 апреля Лорд Метуен находился в королевском оперном театре в Валлетте, когда во время представления его вызвали к телефону и сообщили, что военный секретарь только что получил зашифрованную телеграмму, которую уже везет в театр мотоциклист.
Крейсер Мальборо появился у берегов Мальты 20 апреля 1919 года.

Губернатор Мальты поднялся на борт, чтобы засвидетельствовать почтение и приветствовать Вдовствующую императрицу, а также сообщить о готовности острова к Ее визиту.
Следующим утром на борту крейсера Мальборо, вытянувшись во фрунт, стоял весь экипаж, сбоку ожидала раскачивающаяся на волнах, укрытая подушками, баржа, а на берегу военный оркестр бравурно играл гимн Российской Империи.
Уже ко второй половине дня все пассажиры сошли на берег, все 712 мест багажа были выгружены, через два дня крейсер ушел в сторону Константинополя.
Мария Федоровна с небольшой свитой расположилась во дворце Сан-Антон, где в саду она посадила дуб, чтобы отметить свой 9 день пребывания на острове. Остальные благородные гости были размещены по разным отелям и особнякам.
Многие часы мать российского императора проводила в Русской часовне, которая расположена на территории дворца.
C часовней связана интересная легенда, которая еще ожидает своего опровержения или подтверждения. Но когда мы участвовали в реставрации Русской Часовни, которая была инициирована Президентом Мальты доктором Джорджем Абелой в 2010 году, я никакого рубина не нашла, хотя мы вскрыли полы, сняли потолки и даже поменяли вентиляцию и канализацию...
Но легенда красивая, поэтому пусть живет...
25 апреля на Мальту прибыл канадский корабль Бермудский, который доставил на остров еще 220 мужчин, 345 женщин и 133 ребенка – русских и английских беженцев.
Губернатору Мальты пришлось срочно искать места для их расселения. Бараки St. George’s, St. Andrew’s, Tigne и колледж St. Ignatius стали временными домами для несчастных.
31 декабря 1919 в церквях St. Luke’s, Tigne бараках были службы, которые переводились на русский язык. Во время службы органист исполнял гимн «Боже, Царя храни».
Определить точное количество русских беженцев в тот период невозможно, но по примерным оценкам, на Мальту прибыло около 800 человек.
Немногие остались и осели на Мальте, большинство продолжили свой путь дальше.
Представители царской семьи, которые прибыли на Мальту в апреле 1919:
- Ее Императорское Величество, Вдовствующая Императрица Мария Федоровна, урожденная Принцесса Дагмар, супруга императора Алексадра II.
- Великая княгиня Ксения Александровна, дочь Марии Федоровны и императора Александра II.
- Князь Федор Александрович, сын Великой княгини Ксении и Великого князя Александра Михайловича.
- Князь Никита Александрович, сын Великой княгини Ксении и Великого князя Александра Михайловича.
- Князь Дмитрий Александрович, сын Великой княгини Ксении и Великого князя Александра Михайловича.
- Князь Ростислав Александрович, сын Великой княгини Ксении и Великого князя Александра Михайловича.
- Князь Василий Александрович, сын Великой княгини Ксении и Великого князя Александра Михайловича.
Слуги царской семьи, прибывшие на Мальту:
-Камеристка Великой княгини Ксении – Афанасьева
- Камеристка Великой княгини Ксении – Балусиева
- Горничная Великой княгини Ксении – мисс Костер
- Горничная Вдовствующей Императрицы – мисс Гринвельт
- Слуга Великой княгини Ксении – Коломинов
- Слуга Великой княгини Ксении – Павлов
- Камеристка Великой княгини Ксении – Павлова
- Слуга Вдовствующей Императрицы – казак Поляков
- Камеристка Великой княгини Ксении – горничная Себолева
- Камеристка Вдовствующей Императрицы – Ольга Васильевна
- Слуга Вдовствующей Императрицы – Вигисс
- Слуга Вдовствующей Императрицы – казак Яцык
Другие русские иммигранты, прибывшие на Мальту в апреле 1919:




- Мадам Анатолис и 13-месячный ребенок, который заболел ветрянкой
- Князь Борятинский
- Ольга Батурина. Венчалась на Мальте в Греческой церкви St. George’s 15 июля 1919 с князем Владимиром Вяземским.
- Сергей Базаров (14 лет), прибыл на Мальту с ветрянкой.
- Наталья Бетикова, заложила свои драгоценности в компании Monte di Pieta (Валлетта).
- Мистер и Миссис Бирзе – артисты Императорского оперного театра в Одессе. На Мальте выступали на благотворительных концертах.
- Граф Андрей Александрович Бобринский
- Графиня Елизавета Петровна Бобринская (Шувалова)
- Наталья Брасова (Шереметьева) – первая жена купца Мармонтова, второй брак был с капитаном Владимиром Вульферт, третий (гражданский) брак был с Великим князем Михаилом Александровичем. В 1910 году она родила ребенка от Великого князя, а 29 октября 1911 в Вене состоялось венчание Великого князя и Натальи, которая получила титул графини Брасовой.
- Мисс Бонч-Бруевич.
- Лейтенант-полковник А. Бригер
- Генерал Шателейн с супругой и шестилетней дочерью
- Капитан Чириков (свидетель на свадьбе Батуриной и Вяземского 15 июля 1919)
- Надежда Кондатенко
- Павел Кондатенко (дворянин)
- Княгиня Ольга Петровна Долгорукая
- Князь Сергей Долгорукий – шеф-протокола двора Ее Императорского Величества
- Княжна Ольга Долгорукая
- Княжна София Долгорукая
- Елизавета Дубенская
- Капитан Николай Дубенский
- Елена Дубенская (родилась на Мальте 24 июня 1919)
- Генерал Дубенский
- Борис Эдвардс – скульптор, осел на Мальте, умер 12 февраля 1924 года, похоронен на кладбище Ta’ Braxia.
- Мисс Анастасия Эдвардс (племянница скульптора).
- Генерал Т. Елец
- Мисс София Еврейнова – фрейлина Великой Княгини Ксении
- Граф Фиерсон
- Генерал Фогул
- Профессор Федоров
- Князь Гагарин, капитал охраны
- Князь Галицин
- Княгиня Галицина
- Мисс Геребцова
- Мисс Малания Ивановна Гореченко, на Мальте вышла замуж за майора Стефана Самута Тальяферро.
- Дональд Готаррес-Дедара
- Мисс Григорьева
- Н. Холл (дворянин)
- Мисс Хорват и ребенок
- Граф Игнатьев
- Графиня С. Игнатьева
- Лейтенант Каминский
- Капитан Н. Карпицкий
- Княгиня Александрина Кяземскова
- Граф Кляйнмишель
- Графиня Кляйнмишель
- Мадам Колонина
- Господин Копыльцов
- Вензислав Кузмичев
- Профессор Николай Краснов (живописец, архитектор)

- Вера Краснова (вышла замуж на Мальте за телеграфиста Уильяма Аарона Альюистона 28 мая 1921 года)
- Н. Кульчитский (бывший министр образования)
- Капитан А. Леонтьев
- Миссис Леонтьева
- Леон Лихачев
- Мария Лихачева (вышла замуж на Мальте за лейтенанта Фредерика Генри Грин 13 апреля 1920)
- Князь Лобанов-Ростовский
- Ксения Ломакина (вышла замуж на Мальте 6 июня 1920 за лейб-командира Артура Эдварда Бадделей)
- Президент местного дворянского собрания г-н Маланин (свидетель на свадьбе Батуриной и Вяземского)
- Наталья Мармонтова (дочь Натальи Брассовой)
- Графиня Зинаида Менгден – фрейлина
- Граф Дмитрий Дмитриевич Менгден
- Граф Георгий Дмитриевич Менгден
- Графиня Ирина Дмитриевна Менгден
- Граф Николай Дмитриевич Менгден
- Графиня София Дмитриевна Менгден
- Графиня Вера Дмитриевна Менгден
- А. Мясоедов
- Мисс Мяшетский (заложил бриллиантовое колье в Monte di Pieta в Валлетте)
- Господин Нелидов
- Полковник Новосильцев
- Полковник князь Обеляни
- Княгиня Оболенская – фрейлина
- Княгиня Ольга Орлова
- Князь Николай Владимирович Орлов (проживал с семьей в отеле Imperial (Sliema)
- Княгиня Надежда Орлова (супруга Николая Вл.)
- Княжна Ирина Орлова
- Капитан Петрово-Солово
- Наталья Пышковская (вышла замуж на Мальте за Артура Эдвина Коатеса 12 октября 1919)
- Генерал Поляков
- Княгиня Катерина Путятина (супруга князя Михаила Путятина)
- Князь Михаил Путятин
- Княжна Наталья Путятина (вышла замуж на Мальте за Эдгара Табоне, основала на Мальте академию русского балета. Умерла 21 января 1984 года, похоронена на кладбище Ta’ Braxia)
- Княгиня Ольга Путятина (мама Натальи Путятиной), умерла на Мальте 14 апреля 1967, похоронена на кладбище Ta’ Braxia
- Константин Рудановский (сын)
- Татьяна Рудановская (супруга Василия Рудановского)
- Василий Рудановский (Консул императорского дома на Мальте)
- Мисс Шатт
- Граф Дмитрий Шереметьев, стал главой комитета по делам бежецев
- Мисс Симондс – няня детей графини Елены Михайловны Толстой
- Лейтенант А. Шидловский
- Мадам Сирокомская
- Алиса Страндман – экономка княжны Путятиной (умерла на Мальте 25 апреля 1977, похоронена на кладбище Ta’ Braxia
- Полковник Сроганов
- Борис Суворов – журналист
- Г-н Свечин
- Полковник Тирам
- Граф Дмитрий Иванович Толстой (бывший директор музея Эрмитаж)
- Графиня Елена Михайловна Толстая
- Зинаида Толстая (заложила ювелирные украшения в Monte di Pieta в Валлетте)
- Князь Цулукидзе
- Княгиня Цулукидзе
- Г-н Тютчев
- А. Тязан
- Протоирей Николай Владимирский (Александровского кафедрального собора в Ялте, совершал обряды бракосочетания, которые заключались на Мальте)
- Мисс Волгина (пианистка)
- Г-н Воеводский
- С. Войков
- Барон фон Ховен
- Баронесса фон Ховен
- Барон фон Траубенберг
- Адмирал князь Вяземский
- Княгиня Маргарита Вяземская
- Князь Владимир Вяземский (женился на Ольге Батуриной на Мальте)
- Генерал Константин Военский де Бризе (прожил на Мальте до 1928 года, похоронен на кладбище Ta’ Braxia)
- Г-н Волгин (императорский министр религий)
- Мисс Ольга Ярмонкина (Бирилева)
- Вера Ярмонкина (вышла замуж за лейтенанта Джузеппе Мифсуд 20 июля 1919)
- Князь Феликс Феликсович Юсопов Старший
- Княгиня Зинаида Николаевна Юсупова
- Князь Феликс Феликсович Юсупов (участвовал в убийстве Распутина)
- Княгиня Ирина Александровна Юсупова (супруга Феликса Феликсовича младшего)
- Княжна Ирина Феликсовна Юсупова


Слуги русских господ, которые прибыли на Мальту:
- Горничная Адель (Графиня Менгден)
- Горничная Антонина (княгиня Орлова)
- Горничная Апса (графиня Менгден)
- Слуга Чуриков (князь Долгорукий)
- Горничная Ольга Горпенченко (графиня Менгден)
- Слуга Харпин (Юсуповы)
- Горничная Анна Калнина (Юсуповы)
- Мисс Кинг (княгиня Долгорукая)
- Мисс Лата (Юсуповы)
- Горничная Левитон (Юсуповы)
- Горничная Луиза (княгиня Долгорукая)
- Горничная Озер (графиня Менгден)
- Слуга Пьеров (Юсуповы)
- Горничная Пракафиева (Юсуповы)
- Мисс Радкинс (Долгоруковы)
- Горничная Шуберина (княгиня Орлова)
- Слуга Тесфей (Юсуповы)
- Мисс Тёрк (княгиня Орлова)
Несколько слов о ломбарде, который располагался по адресу 46, Monte di Pietà Buildings, Merchant's Street, Valletta:

в этот ломбард русские иммигранты заложили в 1919-1922 годах большое количество фамильных украшений.
Политика ломбарда была простой: начислять небольшой годовой процент (5%) на сумму заема, но через три года, если долг не выплачивался обратно, ломбард распоряжался заложенным имуществом как собственностью.
Из этого ломбарда попадали на аукционы Кристи и Сотбис некоторые украшения и реликвии русских иммигрантов. Многие уникальные и музейного уровня шедевры, которые когда-то принадлежали семьям Юсуповых, Толстых, Орловых и многих других, потерявших страну и дом, дворян, распроданы в частные коллекции, хотя должны являться достоянием российского исторического наследия.

Сегодня здание ломбарда, которое само по себе является памятником архитектуры, реконструируют, но пока оно закрыто. Такая вот история…



Теги: iipmalta.net, Снежана Бодиштяну, Russian Empress in Malta, русские на Мальте, 1919, Мария Федоровна на Мальте, белая иммиграция, Краснов, история Лобанова-Ростовского и Бобринского, легенды Мальты, аккредитованный агент Мальты
|
Метки: эмиграция |
Прогулка XXI. Остатки барской Москвы на Пречистенке (продолжение) |
Прогулка XXI. Остатки барской Москвы на Пречистенке (продолжение)
Опубликовал admin - Декабрь 6th, 2013

Мы снова на Пречистенке.
На месте Пречистенского (Гоголевского) бульвара когда-то был овраг, по дну которого бежал в Москву-реку бурный ручей, который москвичи прозвали "Черторый". Местность назвали Зачертолье, а близлежащую улицу Большой Конюшенной слободы - Большой Чертольской. Но в 17 веке было велено переименовать улицу. Негоже было ездить на богомолье в Новодевичий монастырь или идти крестным ходом по улице с таким богомерзким названием.
И улицу назвали Пречистенкой в честь иконы Пречистой божьей Матери Новодевичьего монастыря.
Продолжим нашу прогулку по Пречистенке.
С правой стороны от угла Всеволожского пер., который соединяет Пречистенку с Остоженкой (назван так в 18 в. по усадьбе дворян Всеволожских*), лучше всего схватить общую картину прекраснейшего барского особняка с уходящими далеко в переулок службами и садом на Пречистенке, так называемого дома Селезневых (см. 1-ю картинку).
Ближе к середине 18 в. это место было владением Степана Степановича Зиновьева, обер-президента Главного Магистрата, после оно перешло к его брату, к концу 18 в. - камергеру В.С. Васильчикову, в 1798г. усадьба была куплена кн. Федором Сергеевичем Барятинским. Это был большой деревянный дом с антресолями на каменном подклете, а вдоль переулка тянулось 2-х этажное каменное здание. Во время большого московского пожара 1812 г. подклет главного дома, жилой флигель и старые палаты 18 в. уцелели и стали основой для восстановления усадьбы. Эти деревянные, лишь оштукатуренные барские хоромы в стиле Empire построены были в 1814 г. уже после московского пожара 1812 г. гвардии прапорщиком Александром Петровичем Хрущевым. Хрущевы - богатые помещики, были породнены с Нарышкиными. Елизавета Александровна Хрущева вышла замуж за Алексея Ивановича Нарышкина, сына тайного советника и сенатора Ивана Александровича Нарышкина, дяди Натальи Николаевны Гончаровой. Нарышкины жили недалеко, здесь же на Пречистенке, д. 16. В 1860-х г. владение Хрущевых на Пречистенке переходит "со всей обстановкою" к купцу Рудакову, а затем в 1862 г покупается отставным штабс-капитаном Дмитрием Степановичем Селезневым (ум. в 1884 г.), который поддерживал все в доме в том же виде, который был при Хрущевых, "даже старинные картины не переменили своих мест". Семья Селезневых владела домом до 1906 г. , последней владелицей была дочь Д.С. Селезнева, Екатерина Дмитриевна Матвеева, которая в 1896 г. заявила о желании пожертвовать дворянству Московской губернии свое владение на Пречистенке с целью устройства в нем благотворительного воспитательного заведения для детей. В главном доме усадьбы был организован "Детский приют и приготовительная школа Московского Дворянства имени Дмитрия Степановича и Анны Александровны Селезневых". Одним из условий пожертвования Е.Д. Матвеева поставила: "дом не должен быть снесен или перестроен до тех пор, пока это позволяют технические условия; стенная роспись и лепные украшения фасадов и интерьеров должны обязательно сохраняться и периодически реставрироваться". Детский приют имени Д.С. и А.А. Селезневых состоял в ведении МВД и имел своею целью призрение (приют) и начальное обучение малолетних дочерей потомственных дворян Московской губернии, преимущественно обедневших.
Итак, огромное владение Хрущевых с фасадами на Пречистенке и в двух переулках, представляет собой городскую усадьбу с устроенную с широким барским размахом. Дом богато орнаментирован, с гербом Селезневых на фронтоне фасада, выходящего на Пречистенку. Фасад по Хрущевскому пер*. еще наряднее и интереснее - очень хорош барельеф, типична балконная решетка из входящих колец. При доме старый сад с вековыми тополями. В него выходит открытый балкон, в глубине сада неизбежная беседка с тоненькими колоннами. На Пречистенке владение заканчивается на углу Царицынского пер. (теперь Чертольский пер) изящным домиком-"цветочным" павильоном.

Хрущев пер. на Пречистенке. Ц. Спаса Нерукотворного Образа что на Божедомке. Фото 1882.
В переулок выступает старинное строение, а за ним виднеется церковь Спаса Нерукотворного Образа, что на Убогих домах, иначе Пятница на Божедомке*.
Стоит она на бывшем дворе боярина А.П. Салтыкова, первое упоминание о церкви - в 1625 г. , каменная построена в 1694-1696 гг. на средства и стараниями царицы Марфы Матвеевны в вечное поминовение супруга ее царя Феодора Алексеевича (была надпись снаружи, на южной стене храма) . В 1730 году на средства Е. Н. Ладыженской была построена трапезная с приделом святителя Николая. В 1746 году устроен придел Параскевы Пятницы. Колокольня - начала 19 в., тогда же была выстроена новая ампирная трапезная с теми же приделами. Внутри были во всех трех алтарях прекрасные ампирные иконостасы.
Вдали уже виднеется на спуске конец Пречистенки, но мы попадем туда немножко обходным путем. Пройдя Хрущевский пер., выйдем в Гагаринский и на углу этих переулков увидим прелестный особняк в духе совершенного московского стиля Empire* (д. Лопатиных*, № 15 по Гагаринскому пер.), один из немногих в Москве, вполне сохранившихся скромных деревянных домиков, каких много было построено после пожара 1812 г., наверное, не без участия О.И. Бове, который активно способствовал после пожарному восстановлению города.
Особняк был построен бароном В. И. Штейнгелем, декабристом и адъютантом, правителем канцелярии московского главнокомандующего. Барон прожил в этом доме совсем мало времени. Меньше, чем через 10 лет дом был продан. В 1830 г. в нем проживала семья И. С. Тургенева. Затем в нем поселился Л. А. Суворов-Рымникский, внук. В 1872 — 1917 г. здесь живет семья юриста, проф. Михаила Николаевича Лопатина. Михаил Николаевич организовал кружок, который на протяжении нескольких лет играл заметную роль в духовной жизни Москвы.

На Пречистенке. Угол Хрущевского и Гагаринского пер. Дом Лопатиных
На «лопатинских средах» бывали славянофилы и западники, представители ученого мира и театра, общественные деятели и литераторы: И.С. Аксаков, И.Е. Забелин, А.Ф. Писемский, В.О. Ключевский, М.С. Корелин, С.М. Соловьев и его дети, В.И. Герье, А.И. Кошелев, М.П. Погодин, Л.Н. Толстой, Ф.И. Тютчев, К.С. Станиславский, В.И. Немирович-Данченко, М.М. Антокольский, М.С. Щепкин, П.С. Мочалов, М.П. Садовский, С. Мамонтов, братья Жемчужниковы, А.Н. Плещеев, Л.И. Поливанов, А.Ф. Кони, И.А. Бунин и др.
От дома Лопатиных хорошо видны купола Храма Христа Спасителя. Спустимся вниз к Пречистенскому бульвару (Гоголевскому), свернем вправо, попадеи к Пречистенским воротам. Там, где сходятся Пречистенка и Остоженка (на стрелке) в начале прошлого века стоял дом первой половины 19 в. Он был весь загорожен вывесками и имел непрезентабельный вид.
Теперь здесь открыты "Белые палаты" (д. № 1), которыми начинается Пречистенка и "Красные палаты" (д. № 2), которыми начинается Остоженка. Эти палаты были обнаружены случайно в 1972 г., когда сносились старые дома и открылась кладка 17 века.
"Красные палаты" - конца 17 в. , времени нарышкинского барокко - московского архитектурного стиля. Первым установленным владельцем этой усадьбы на Остоженке был боярин Б.Г. Юшков , в конце 17 в. усадьба поменяла владельца и стала принадлежать стольнику Н.Е Головину, а в 1713 г - перешла во владение зятя Головина, Михаила Михайловича Голицина-младшего, президента Адмиралтейств-коллегии. С 1760-х г. владельцами стали Лопухины. В 19 веке палаты переходили из рук в руки, в основном купеческие. И вскоре это уникальное строение изменилось до неузнаваемости и внутри и снаружи. В 1820-х годах перед палатами построили здания с лавками (см. картинки внизу стр.), которые закрыли палаты, сами палаты были перестроены для нужд нового владельца, Д.И. Филиппова. В советское время дом был приспособлен под коммунальные квартиры.
"Белые палаты"* датируются 1680-х годами. Это главный дом усадьбы князя Б.И. Прозоровского, управляющего Оружейным приказом. Здание палат перестраивалось в 1712 - 1713 гг. С 1730-х годов до начала 19 в. усадьбой владели Фаминцыны. В 19 в. стороны двора была сделана пристройка. Изменили и внешний вид здания, приспособив его под трактир, лавки и магазины. В начале 20 в. в здании открылся один из первых в Москве кинотеатров.

Справа дом Лопатиных в Гагаринском пер.
"Стрелка" Пречистенки и Остоженки. 1910.

"Стрелка" Пречистенки и Остоженки. 1913 г.

Красные палаты. Остоженка. Д. 2

Белые палаты на Пречистенке. Д. 1.
Основной источник: "По Москве" путеводитель. Изд. Сабашниковых.
1917 г.
----------------------
*Самый известный из них в 19 в. - Никита Всеволожский - историк, библиофил, издатель. Издал в 1813 г. "Собрание государственных грамот и договоров".
* усадьба сохраняла свой первоначальный облик вплоть до 1935 года, когда была снесена церковь Пятницы Божедомской и на ее месте появилась средняя школа, частично вклинившаяся на территорию усадьбы. В процессе строительства разрушили каменную полуротонду в саду, а в 1960-е снесли до белокаменного цоколя деревянный музыкальный павильон на углу Чертольского переулка (был восстановлен в 1986-1987 годах). В июне 1961 г. после масштабных внешних и внутренних реставрационных работ, в усадьбе Хрущеых был открыт музей А.С. Пушкина.
* раньше Хрущевский пер. назывался Барятинским, еще раньше - Зиновьевским. Барский характер этой местности всего лучше виден из этого обычая называть переулки по именам дворян-землевладельцев. На Пречистенке много таких примеров: Мансуровский (1793) - по дому вдовы бригадира Аграфены Алексеевны Мансуровой, раньше он же назывался Талызиным, еще раньше Мосальским пер. ; Лопухинский - по домовладельцу 1737 г. бригадиру Лопухину, прежде звался Языковским; Всеволожский - в 1780 г. по домовладельцу и тайному советнику, камергеру Всеволожскому (дом его выходил фасадом на Пречистенку) и т.д. Такие же примеры находим и в других районах барской Москвы: Ушаковский пер. (Хилков пер.) на Остоженке, Скарятинский - между Никитской и Поварской - прежде Сабуровский, Гагаринский - параллельный Пречистенке......
*Убогие дома - богадельни. Божедомы - работники богаделен, подбиравшие подкидышей, пропоиц и мертвые тела.
*Церковь снесена в 1934. Сейчас на ее месте - здание спецшколы.
*Егорова Е. Особняк на Гагаринском. // Декоративное искусство. 1987. № 7; Басманов А. Особняк с потайной дверью.
М., 1981. Дом № 15\7 - дом барона, декабриста В. И. Штейнгеля - Лопатина . Ныне — отделение архитектуры Академии художеств.
*Сейчас в здании Белых палат находится выставочный зал и культурный центр Департамента культурного наследия Москвы.http://valeria40.ru/progulka-xxi-ostatki-barskoy-moskvyi-na-prechistenke-prodolzhenie
|
Метки: москва пречистенка |
Прогулка XX. Остатки барской Москвы. Пречистенка. |
Прогулка XX. Остатки барской Москвы. Пречистенка.
Опубликовал admin - Декабрь 3rd, 2013

Пречистенка - одна из самых аристократических улиц Москвы. Пречистенка - единственно сохранившийся еще живой фрагмент бывшего великолепного ансамбля московского классицизма и ампира, особняков барского и вельможного типа. Пречистенка и окружающие ее переулки - это "Сен-Жерменское" предместье Москвы, где жило старое московское дворянство: Трубецкие, Хованские, Шаховские, кн. Кропоткины, Вяземские, Долгоруковы, Талызины, Шаховские, Тургеневы, графы Орловы, Гагарины, Гончаровы, Тургеневы, Яковлевы, Лопухины, Всеволожские, и др. семьи, чьими фамилиями пестрит "История..." нашего Отечества Карамзина.
Чтобы описать всю Пречистенку, найти историю всех ее уголков - жизни не хватит, настолько это московское сокровище богато памятными датами, архитектурными жемчужинами и личными впечатлениями от созерцания ее "старинностей", которые, увы, потихоньку исчезают.
На углу, напротив Троицы (см. прогулку XIX) стоит старинный барский особняк с небольшой колоннадой, а прямо перед ним великолепный дом с 8-мью канеллюрованными (от фр. cannelure - вертикальный желобок на стволе пилястры или колонны) колоннами и классическим фризом по фасаду, за колоннадой. В конце 18 века эта городская усадьба принадлежала гвардии корнету Павлу Яковлевичу Охотникову,

Пречистенка 32. Дом Охотникова-Пегова-гимназия Л. Поливанова
который в 1808 г. купил эту усадьбу у жены генерал-поручика Талызина. Сразу основательно перестроить усадьбу Охотников не успел. Началась война и пожар уничтожил деревянный дом, который строила еще Талызина. В 1816 г. был сделан проект нового дома из кирпича и белого камня. Главный дом стоит по красной линии Пречистенки, он строился в 1817-1820 -х годах, некоторые данные говорят о том, что автором проекта был был Ф.К. Соколов. Некоторые архитектурные детали дома - арки ворот на фасаде, дорический портик второго этажа, умелое разделение главного фасада с выделением центральной части дорическим 8-ми колонным портиком, пилоны первого этажа, фронтон, пропорции всего здания - делают этот усадебный дом единственным в своем роде среди московских барских особняков начала 19 в. Поздний московский классицизм этого сооружения не имеет в Москве аналогов.
В 1841 г. усадьба перешла по завещанию Василию Павловичу Охотникову, здесь жила вдова и их дочь Анна. В 1863 г. усадьба была арендована Францем Ивановичем Крейманом для устроения первой мужской частной гимназии, а потом и вовсе продана в 1879 г. В.В. Пегову, купцу и потомственному почетному гражданину г. Москвы. Вплоть до 1915 г. купцы Пеговы были владельцами этого дома и продолжали сдавать его частной мужской гимназии, теперь уже классической гимназии Л.И. Поливанова.
«В семидесятых годах прошлого века двумя выдающимися педагогами того времени — Софьей Александровной Арсеньевой и Львом Ивановичем Поливановым — были учреждены в Москве в районе Пречистенки две гимназии: Арсеньевская и Поливановская. Связь между этими школами была самая тесная; если сыновья учились у Поливанова, дочерей отдавали к Арсеньевой. Преподавание было в большинстве случаев общее, почти все учащиеся знали друг друга и, начиная с 6-го класса, между ними возникали юношеские романы. Бывали случаи пересылки записок в карманах пальто математика А.А.Игнатова, который, переходя с урока на урок, не подозревал, что играет роль почтового голубя». (Из воспоминаний Т.А.Аксаковой).
В гимназию Л. Поливанова закончили известные писатели, философы и поэты – В. Соловьев, В. Брюсов, А. Белый, М. Волошин, художник Александр Головин, чемпион мира по шахматам Александр Алехин. Здесь учились сыновья Л. Толстого.
А в 1915 г. дом переходит лесопромышленнице В.И.Фирсановой. Она его перестраивает (проект арх. А.И. Таманяна), Переделываются интерьеры и фасады. Устраивается и расписывается концертный зал (бывший рекреационный)* .
На углу Левшинского пер. д. Берхъ (не он ли? Берх или Берг, Николай Васильевич, переводчик напечатанных в „Московском Сборнике" 1847 г. сербских народных песен) принадлежал И.П. Тургеневу, директору Московского университета (1796-1802 гг.), отцу знаменитых в российской истории братьев Тургеневых (Александра и Николая -декабриста). Здесь ребенком бывал и И.С. Тургенев.

Александро-Мариинской кавалерственной дамы Чертовой институт.
Далее, по правой руке стоит д. 19 - "Александро-Мариинской кавалерственной* дамы Чортовой (Чертовой) институт", классическое здание конца 18 в. с величественным фасадом: в центре 6 ионических колонн, по бокам балконы-лоджии и колоннады из 6-ти коринфских колонн. Архитектор здания - Матвей Казаков.
Построен в 1788 г. первым владельцем, военным и политическим деятелем эпохи Екатерины II, генерал –аншефом и сенатором М. Н. Кречетниковым* (1729-1793).
В 1795 г. собственниками особняка становятся кн. Долгорукие. Дворец много раз перестраивался, увеличивалось число жилых помещений. После пожара 1812 г. изменялась отделка фасада. Фасад декорировался элементами стиля ампир. Барельефы приписываются Витали.
Здесь в начале 19 в. собирались масоны, и в орнаментировке фасада кое-где сохранились замаскированные масонские знаки. В этом доме родился князь Владимир Андреевич Долгорукий, московский генерал-губернатор*.
В 1863 этот дом был арендован приютом для бедных девочек-сирот, открытый в 1857 г. на средства жены генерала - В. Е. Чертовой, который в 1861 был переименован в Александро-Мариинское училище. В 1868 году усадьба на Пречистенке, перешла в полную собственность Александро-Мариинского училища Пречистенского отделения Попечительства о бедных в Москве. Позднее оно было преобразовано в Александро-Мариинский институт благородных девиц им. кавалерственной дамы В.Е.Чертовой. Его попечительницей была великая княгиня Елизавета Федоровна. В Институт на платные отделения и на казенный кошт принимали дочерей военных. Девушки получали право служить воспитательницами начальных училищ, домашними воспитательницами и учительницами начальных классов.

Пречистенка. Пожарное депо. 1912 г. Д. 22.
По левой стороне Пречистенки стоит Пожарное депо* с каланчей ( каланча с деревянными колоннами под стиль эпохи). Построенный в середине 18 в. (1764г. - арх. М. Казаков), как 2-х этажный, дом сначала принадлежал кн. Хованской, а затем, после 1812 г. родственникам генерала Ермолова (А.П. Ермолову) и, вероятно, по фасаду дом перестраивался. Фронтонная цифра 1835 г. относится, видимо, к году, когда дом начал перестраиваться под Пожарное депо, где располагалась также и полицейская часть. Этот дом, видимо, как-то связан и с именем А. Герцена. В его воспоминаниях "Былое и думы" есть такая строчка: ""Мы поехали в сопровождении двух казаков верхом. В частном доме не было для меня особой комнаты... Меня увезли к обер-полицмейстеру, не знаю зачем - никто не говорил со мною ни слова, потом опять привезли в частный дом, где мне была приготовлена комната под самой каланчой."
Историки спорят до сих пор, какая каланча какого дома имелась в виду, так как дата ареста А. Герцена - 21 июля 1834 г. - не совпадает с датой перестройки дома под Пожарную часть (1835 г.) .
На правой стороне стоит дом (№ 17) - изначально палаты первой половины 18 в. Во второй половине 18 века усадьба занимала квартал между двумя переулками: Дурновым (Барыковским) и Полуектовым (Сеченовским), в конце 18 в. усадьба становится собственностью Н.П. Архарова*, московского обер-полицмейстера, во время пожара 1812 г. дом горел, сильно пострадал, но был восстановлен. В 1830-х его надстроили мезонином с арочным окном, украсили коринфскими колоннами по бокам главного входа. После Архарова дом перешел во владение семейства генерала Г.И. Бибикова. Генерал, герой Отечественной войны 1812 г. был большим ценителем музыки, в доме устраивались музыкальные вечера и балы. Здесь бывал А.С. Пушкин с женой Натальей Николаевной. В 1835 г. его приобрел Денис Васильевич Давыдов, генерал-лейтенант, поэт и партизан. Здесь он прожил до 1837 г. и этот особняк в Москве иногда называли - "дом главного партизана".

Пречистенка. Дом Дениса Давыдова.
В 1841 г. дом приобрела баронесса Е.Д. Розен. В 1861 г. в одном из флигелей поместилась одна из первых в Москве фотостудий М.Я. Красницкого. В 1869-1874 гг. главный дом опять перестраивался арх. А. А. Обером. Позднее с 1873 г. в нем размещалась женская гимназия с пансионом. Основательница гимназии и ее бессменная директриса до 1913 г. (год смерти) - Софья Александровна Арсеньева, урожденная Витберг, родственница архитектора А.Л. Витберга (автора 1 проекта храма Христа Спасителя).
Последней владелицей дома была баронесса Мария Александровна Шеппинг.
С левой стороны, на углу Мертвого* пер.(Пречистенский) стоит дом (№ 16) А. И. Коншиной*(вдова текстильного промышленника И.Н. Коншина) , перегруженный богатым орнаментом в стиле Ампир.
Так же пышно и внутреннее убранство этого, теперь купеческого дома, в котором арх. А.О. Гунст пытался возродить (1910 г.) стиль начала 19 в. (неоклассицизм с элементами модерна и эклектики),

Пречистенка. Особняк А.И.Коншиной. Интерьер Зимнего сада. 1910.
но без былого изящества. В начале 1916 г., после смерти А. Коншиной, особняк покупает Алексей Иванович Путилов.
История этого местности и дома также богата событиями и именами. В 16 в. и позже была частью Большой Конюшенной слободы - 190 дворов. Здесь были поселены "стремянные, стадные стряпчие и задворные конюхи, конюшенные сторожа, конюшенные подковщики, государевы колымажники" и прочий дворцовый люд при конюшнях. Предполагается, что в основании первого усадебного дома, построенного в начале 18 в., есть остатки фундаментов основных палат Конюшенной слободы. Кому принадлежали эти земли до середины 18 в. - пока не установлено, но с конца 18 века до 1815 г. усадьба принадлежала военному губернатору Москвы И.П. Архарову, брату обер-полицмейстера Н.П. Архарова, его дом тоже располагался на Пречистенке (см. выше) . В 1812 г. усадьба горела и была восстановлена после пожара. В 1818 г. кн. И.А. Нарышкин купил усадьбу у Архаровых. В 1829 году, уже в отставке, он со своей семьей перебрался в Москву и постоянно жил в этом доме. И.А. Нарышкин - дядя Н.Н. Гончаровой и он был посаженным отцом на свадьбе Пушкина. Затем дом отошел к родственникам Нарышкиных, Мусиным-Пушкиным. В 1851 - 1852 годах во время своих нелегальных приездов в Москву из ссылки у них останавливался декабрист М.М. Нарышкин, племянник И.А. Нарышкина. Он был знаком с

Пречистенка. Особняк Коншиной. 1910.
Н.В. Гоголем, который бывал у него в этом доме. Затем усадьбой владели Гагарины и Трубецкие. И, наконец, в 1865 году ее купил фабрикант И.Н. Коншин на имя своей жены Александры. В 1867 году главный дом перестраивался. О наиболее радикальной перестройке (1908-1910) уже было сказано выше. Главный дом был полностью разобран и на его месте построили новый*.
Заглянув в Мертвый пер., увидим удачно использованный в архитектурном отношении угол Староконюшенного пер. : закругленный фасад дома Миндовского (арх. Н.Г. Лазарев), с плоским куполом и дорическими колоннами, придающими зданию несколько суровый, строгий вид.
Против дома А. Коншиной стоит дом Ф.В. Челнокова (№ 11)*, прежде принадлежал надворной советнице Е. И. Станицкой, а изначала - Лопухиным. Это прелестный (деревянный!!) Empire с колоннадой и очень интересным барельефом, который к сожалению страдает от частых побелок. В старину окна имели шесть одинаковых по размеру стекол, теперь они заменены цельными. Строителем этого уютного дома

Пречистенка. Дом Ф.В. Челнокова. 1913-1914. Фото Готье-Дюфайе.
был Афанасий Григорьевич Григорьев (1782-1868), ученик Кваренги и помощник Д. Джилярди, один из архитекторов, которые отстраивали Москву после пожра 1812 г. В его работе видна тонкая техника и умение найти хорошие пропорции. Этот дом, к счастью, сохранился без особых изменений. Только Екатерина Ивановна Станицкая (дом был в ее владении 1894-1911 гг.) его оштукатурила по деревянной поверхности. В 1895–1896 гг. арх. С.У. Соловьев спроектировал и заменил ограду вокруг усадьбы. Проезд во двор со стороны Пречистенки сохранился только слева от дома. От Стадницкой дом перешел брату московского городского головы Челнокову, а у него был куплен купцом С. Ф. Генч-Оглуевым.
Основной источник:
Путеводитель по Москве.
Изд. Сабашниковых. 1917 г.
«Ни один другой район Москвы не имеет такого обилия сохранившихся памятников
архитектуры времен высшего расцвета классицизма». А.В. Иконников, «Каменная летопись Москвы»
------------------------------
*В 1921 году в усадьбе размещается Государственная Академия художественных наук (ГАХН). А с конца 1924 года здание на Пречистенке связано с именем Михаила Булгакова. Сейчас здесь располагаются детские школы: художественная и музыкальная.
*имевшей знаки ордена св. Екатерины.
*Михаил Никитич Кречетников (1729-1793) - генерал-аншеф, управлял землями, присоединёнными к Российской империи в ходе первого и второго разделов Речи Посполитой (Белоруссии).
*сейчас здесь находится галерея искусств Зураба Церетели.
*сейчас - Управление Государственной противопожарной службы д. № 22., входящей в МЧС России.
*по одной из версий, его сотрудников-полицейских начали называть "архаровцами". С 1782 г. - московский губернатор.
*Название возможно по домовладелице начала 18 в. - Ф.Б. Мертваго, вдове, но есть и другая версия - название переулка связано с чумой во второй половине 18 в., когда в этих местах вымерло все население и было похоронено невдалеке у церкви Успения Пресвятой Богородицы "что на Могильцах" (первое упоминание в 1560 г.). "Могильцы"- небольшие холмы, кочки. Новый храм в стиле классицизма с двумя колокольнями построен в 1799—1806 гг. (арх. Н.И. Легран) на средства В.И. Тутолмина. Храм закрыт 12 июля 1932 г., в здании разместилось строительно-монтажное управление, интерьер перестроен, главы с крестами разрушены. Богослужения возобновлены 22 мая 2001 г. в Никольском приделе.
*Дом ученых на Пречистенке.
*В 1932 г. архитекторы Веснины пристроили новый объём с парадным входом и вестибюлем в формах позднего конструктивизма.
*Литературный музей Л. Толстого.
Поделитесь ссылкой с друзьями.
Похожая статья
- Похожая статьяПрогулка VII. Вокруг Земляного города (начало) Начало прогулки вокруг Земляного города Мы едем на трамвае "Б"...
- Похожая статьяПрогулка VIII. Вокруг Земляного города (продолжение) Вокруг Земляного города На прошлой прогулке мы доехали на...
- Похожая статьяПрогулка IX. Государевы слободы (начало) Государевы слободы - обширная территория за городской чертой, за Земляным валом....
- Похожая статьяПрогулка XI. Никольская ул.- улица просвещения старой Москвы (начало) Никольская улица старой Москвы Нашу прогулку по Никольской улице начнем...
- Похожая статьяПрогулка XVII. Остатки барской Москвы (общее) Что сохранилось от барской Москвы? Хамовнический плац - Б. Хамовнический...
- Похожая статьяПрогулка XVIII. Остатки барской Москвы (продолжение) Что осталось от барской Москвы: Хамовники, Зубовская площадь. Гуляя по...
- Похожая статьяПрогулка XIX. Остатки барской Москвы. Остоженка. Остоженка, Пречистенка, когда-то тихие уголки барской, дворянской Москвы. В 17...
 Опубликовано в рубрике Москва, которой нет. Прогулки
Опубликовано в рубрике Москва, которой нет. Прогулки  Метки: дворянская Москва, которой нет, Москва, Москва до 1917 г., остатки барской Москвы, Пречистенка, прогулки по Москве
Метки: дворянская Москва, которой нет, Москва, Москва до 1917 г., остатки барской Москвы, Пречистенка, прогулки по Москве
« Прогулка XIX. Остатки барской Москвы. Остоженка.
Прогулка XXI. Остатки барской Москвы на Пречистенке (продолжение) »
http://valeria40.ru/progulka-xx-ostatki-barskoy-moskvyi-p
|
Метки: москва пречистенка |
Т.А.Аксакова-Сиверс-"Штеры" |
ШТЕРЫ
В первой главе своих записок я вскользь упомянула, что у моего прадеда с материнской стороны Петра Афанасьевича Чебышёва, кроме моей бабушки Александры Петровны, была вторая дочь Валентина Петровна (мужского потомства не было).
Теперь мне предстоит более подробно рассказать об этой ветви моей семьи.
- 187 -
Валентина Петровна, несколькими годами моложе сестры, была невысока ростом, но красива лицом. Точеные черты, тяжелые золотистые косы и прекрасное здоровье она сохранила до последних дней, а умерла она семидесяти лет от случайной простуды.
Воспитание, полученное сначала в Парижском пансионе, а потом в Петербурге у m-me Troubat, дало ей прекрасное знание французского языка и, может быть, способствовало развитию того упрощенного взгляда на жизнь (черты не русской), который помог ей в перенесении тягот от неудачного брака. . Муж Валентины Петровны, Петр Петрович Штер, принадлежал к бюрократическому, веселящемуся слою петербургского общества. Сын цензора С.Петербургского почтамта, он окончил Александровский лицей (XXV курс), служил по ведомству Государственных имуществ, а потом состоял предводителем дворянства по назначению в Кобринском уезде Гродненской губернии, где у него было имение. Петр Петрович претендовал на щеголя-денди. Тон его был резок и неприятен. Все немодное, нефешенебельное вызывало в нем презрение, которое он не считал нужным скрывать. Так, если радушная хозяйка за чаем угощала его печеньем, добавляя: «возьмите, пожалуйста, это домашнее», Петр Петрович холодно отвечал: «Очень жаль! Покупное наверное было бы вкуснее», — чем повергал хозяйку сначала в недоумение, а потом в смущение.
Персонажи Оскара Уайльда могли бы, пожалуй, соревноваться с Петром Петровичем в области снобизма, но в России ему конкурентов не было.
Семейными добродетелями, как и все люди этого склада, Петр Петрович не отличался, и жизнь его жены могла бы быть трагичной, если бы Валентина Петровна имела склонность к трагическому восприятию действительности. В ранней молодости она напоминала пеструю порхающую бабочку, а потом перенесла свою любовь на детей и была «матерью-тигрицей», что давало повод бабушке говорить: «Преувеличенная любовь к детям свойственна несчастным в браке женщинам».
Чтобы не возвращаться больше к Петру Петровичу, скажу, что старость его была незавидной. Лет за десять до смерти он совершенно ослеп. Я помню его высоким, чрезвычайно гибким стариком с невидящими глазами и тщательно расчесанными бакенбардами. Интересы его были сосредоточены на тонкости подаваемых к столу блюд.
- 188 -
Детей Штер было трое: Наталья, Андрей и Николай. Метод их воспитания вызывал осуждение бабушки, которая говорила: «Valentine fait de ses enfants des jouisseurs».
Андрюша, как это показало будущее, устоял против коррупции среды и материнского баловства и был безупречен. Одним из первых он окончил Морской корпус, доблестно сражался на знаменитом «Новике», раненный в голову пешком пересек Сахалин и трагически погиб 17/Х-1907 г., командуя миноносцем «Скорый». Привлекательный внешне, он оставил прекрасную память о себе. (Эпизодически выведен под своей фамилией в романе Степанова «Порт Артур» в главе о гибели «Новика».)
Ната и Котя, с точки зрения бабушки, были jouisseur'aMH. Ната в меньшей, а Котя, как любимец матери, в большей степени.
С непокорностью и свободолюбием Наты бабушка впервые столкнулась, когда тетя Лина Штер, отправившись в 1899 г. вместе со своей матерью Юлией Григорьевной Чебышёвой на Всемирную Парижскую выставку, оставила детей на попечение сестры. Перемена воспитательного режима вызвала в 12-летней Нате столь бурный протест, что в ходе какого-то скандала, она вскочила на подоконник раскрытого окна (дело было на Николаевской улице) и закричала: «Вот сейчас брошусь вниз, и Вы будете отвечать перед моей матерью!»
Впоследствии резкость характера Наты сгладилась, и годам к 16 она стала хорошенькой, веселой барышней (тысяча слов в одну минуту!), имевшей большой успех в обществе. Даже заядлый холостяк дядя Кока Муханов не устоял против ее чар: встретив Нату в нашей детской, он подумал: «не посвататься ли?» В нашей семье считалось, что «Штеры любят дешевые удовольствия», что в их вкусах и развлечениях мало «солидности». Бабушка также не одобряла того, что тетя Лина при жизни отдала свою часть бриллиантов, доставшихся от Юлии Григорьевны, Нате. Бабушка никогда не шла по пути безрассудства короля Лира, и ее вещи во славу принципа целиком погибли в недрах Волжско-Камского банка.
Нату мало тревожила та или иная оценка ее образа жизни. Подобно стрекозе из басни, она «без души» пела, танцевала, играла в спектаклях, участвовала в загородных поездках, получая цветы, конфеты, стихи, романсы и прочие знаки внимания петербургской военно-морской молодежи.
В третьей главе я говорила, что мамина двоюродная сестра Ната училась вместе с Татьяной Константиновной (Тюлей)
- 189 -
Шиловской, что Тюля Шиловская вышла замуж за гусара П.М. Котляревского, который с размахом, достойным менее меркантильной эпохи, заказывал от времени до времени экстренный поезд и вез своих знакомых «на пикник» в Полтавскую губернию.
В одной из таких поездок участвовала Ната и братья хозяйки дома: похожий на цыгана Саша Шиловский и недавно женившийся на княжне Елизавете Васильевне Оболенской его младший брат Владимир*. На правах родственника последнего приехал также и его beau-frère кн. Василий Васильевич Оболенский, один из сыновей многочисленной, но обедневшей семьи московских Оболенских (так называемых «Кореневских»).
Вася Оболенский, поручик артиллерии в запасе, был крупным, плотным, добродушным малым, с коротко остриженными волосами и розовым лицом, что придавало ему вид новорожденного ребенка, рассматриваемого в микроскоп (появившись однажды на костюмированном балу в чепчике и с соской, он имел бурный успех!).
Встреча Наточки Штер с Васей Оболенским закончилась свадьбой, состоявшейся в Москве 29/IV-1899 г. Семья Оболенских приняла новую невестку очень благожелательно. Василий Васильевич получил место земского начальника в Московской губернии, и жизнь Штеровской семьи переключилась в орбиту Москвы.
В начале 900-х годов было продано Гродненское имение и куплена усадьба Овсянниково в 80 километрах от Москвы по Николаевской дороге. В Овсянникове был поместительный двухэтажный дом, куда и переехала вся семья, за исключением Андрея, бывшего на Дальнем Востоке, и Коти, служившего в Преображенском полку.
Младший сын Валентины Петровны, Николай, не проявлявший склонности к науке, 15 лет был отдан в Пажеский корпус, но и там продвигался с трудом. Вспоминая впоследствии годы учения, он рассказывал о каком-то легендарном паже (с которым несомненно имел много общего). Будучи спрошен на экзамене о семилетней войне, этот паж мог ответить только, что она длилась семь лет и была кровопролитна. О тридцатилетней войне он знал, что она длилась тридцать лет и была еще более
* Погиб в 1907 г. во время Быковского пожара.
- 190 -
кровопролитной. Когда же преподаватель задал вопрос о войне Алой и Белой Розы, паж обиделся и сказал: «Вы можете поставить мне единицу, но я старый паж и издеваться над собой не позволю. Причем тут цветы?»
Внешне Котя был строен, ловок и даже, может быть, красив. От бабушки Юлии Григорьевны (если верить ее портретам в молодости) он унаследовал миндалевидный разрез глаз. Черты лица у него были тонкие, рот капризный и во всем облике было что-то польское. Такими я представляла себе хлыщеватых шляхтичей-конфедератов.
В августе 1902 г. он был произведен в подпоручики, вышел в Преображенский полк и прослужил там 6 лет.
В первый раз я увидела Котю Штера, когда мне было лет двенадцать. Мы с мамой, будучи на Невском, зашли под вечер в ярко освещенный магазин хозяйственных принадлежностей Цвернера. У прилавка, к нам спиной, стоял офицер в шинели с бобровым воротником и рассматривал сверкающие никелевые кастрюли особой конструкции. Его вид и осанка почему-то поразили меня, и я даже выразила предположение, что это «великий князь». Мама поспешила меня разуверить словами: «Во-первых, это не великий князь, а во-вторых...» — тут офицер обернулся, — «это — Котя!» Последовали приветственные возгласы.
Странность нахождения Преображенского офицера в посудном магазине объясняется пристрастием Коти Штера к кулинарии. Он слыл мастером в этом деле и, ужиная у Кюба, спускался, говорят, в кухню, чтобы перенять у поваров секрет приготовления того или иного блюда и потом блеснуть своим искусством в кругу знатоков.
За годы петербургской жизни, он еще обучился дирижировать танцами. Непревзойденным дирижером придворных балов много лет подряд был лейб-улан Михаил Евгеньевич Маслов. Потом его начал сменять стрелок барон Притвиц. Котя Штер, знавший толк в балете и танцах, наблюдал приемы, и, обосновавшись в 1908 г. в Москве, получил признание опытного дирижера с петербургским стажем.
Эта, если не вполне счастливая, то во всяком случае беспечная атмосфера штеровской жизни была внезапно нарушена. 17 октября 1907 г. как удар грома пришла весть о гибели Андрея. Двумя неделями позднее, на ст. Сухиничи из Владивостока прибыл цинковый гроб с его телом для погребения в Субботниках, рядом с дедом Чебышёвым. При гробе был серебряный
- 191 -
лавровый венок от команды «Новика». Первой на серебряной ленте стояла подпись командира Эссена.
Получив известие о смерти сына, тетя Лина была очень близка к помешательству, от которого ее спасло сближение со спиритическим кружком А.И. Бобровой, а также беседы с Львом Михайловичем Лопатиным, другом Владимира Соловьева. Эти влияния направили ее помыслы в некое спиритуалистическое русло и заставили поверить в то, что «надо плакать над колыбелью и радоваться над могилой».
Вера эта еще более упрочилась после того, как она обнаружила в себе способность к автоматическому писанию. Я не знаю, какими видами рефлексов объясняет наука это явление, но я была свидетельницей того, как тетя Лина в темноте, совершенно бессознательно исписывала целые тетради философскими изречениями. Был такой случай: весь день тетя Лина провела у нотариуса. Вечером она села за свои тетради. Чувствует, что ее рука выводит «Not» и с досадой думает: «ну вот, отражается то, что я была у нотариуса!» Старается удержать руку, но рука помимо ее воли выводит фразу: «Notre devoir est de vous dire: méfiez-vous des charmes trompeurs des esprits ordinaires!»
Впоследствии то ли кружок Бобровой распался, то ли тетя Лина решила «se méfier des esprits ordinaires», но она отошла от спиритизма и стала ревностной прихожанкой церкви Покрова в Левшине.
Через год после смерти брата Котя вышел из полка, перевелся на какую-то должность при Владимире Федоровиче Джунковском* и женился на единственной дочери помощника управляющего Московской конторой импер. театров Сергея Трофимовича Обухова (управляющим в то время был Николай Константинович фон-Бооль, тот самый, про которого Шаляпин во время одной из своих «молодецких» выходок кричал: «Я сотру ему весь "фон" и останется одна боль!»).
Сергей Трофимович был старшим представителем многочисленного и не раз уже мною упоминавшегося семейства Обуховых. В молодости он готовился стать оперным певцом — из этого ничего не вышло, но, будучи знатоком теории пения, он руководил музыкальным образованием своей племянницы Нади, у которой безусловно «вышло» стать украшением Большого театра.
* Московском губернаторе.
- 192 -
Бывая у Востряковых, я всегда с интересом рассматривала висевшую на стене фотографию: молодой Сергей Трофимович Обухов в обстановке итальянского возрождения и в обличий Отелло, стоя в живописной позе, повествует восемнадцатилетней красавице Дездемоне — Ел. Кир. Востряковой — о своих похождениях. Эта фотография была воспоминанием о живых картинах, поставленных в Москве в 90-х годах.
В мое время С.Т. Обухов был высоким грузным человеком мрачного вида. Он и его брат Александр Трофимович были женаты на родных сестрах Хвощинских. Надежда Николаевна и Вера Николаевна были рослыми, спокойными женщинами с приятными лицами русского склада. Такую же внешность унаследовала и дочь Надежды Николаевны, Лиля, бывшая к тому же очень молчаливой.
Увидев в первый раз новую племянницу, бабушка довольно метко сравнила ее с мраморной кариатидой (чтоб не сказать «каменной бабой»), сошедшей с фасада здания.
Николай Штер и его невеста мало подходили друг к другу и по внешности и по внутреннему складу, что позволяло думать, что брак совершается, если не по расчету, то по разуму. Венчание, на котором я присутствовала, совершалось в домовой церкви Большого Кремлевского дворца. Молодые поселились в Малом Власьевском переулке, но тесная связь Елизаветы Сергеевны с родителями не порвалась. Когда же родился ее первый и единственный сын Николенька, ставший в центре внимания, Котя оказался как бы за флагом, на что он, кстати говоря, ничуть не жаловался. Не имея склонности к «пеленкам» и прочим «тихим радостям», он вполне довольствовался ролью второстепенного члена семьи.
Крестной матерью Николеньки была приятельница обуховской семьи кн. Лобанова-Ростовская. Выходивший на Собачью Площадку дом этой оригинальной особы почти всегда стоял заколоченным, т.к. хозяйка странствовала по Европе (в последние годы по следам тенора Смирнова). Один раз мне пришлось видеть эту меценатку в ложе Большого театра — это была немолодая, сверкающая бриллиантами женщина в открытом платье и рыжем парике. И вот, по завещанию этой умершей за границей международной дамы, маленький Штер унаследовал некоторую сумму денег в швейцарских франках. Упоминаю об этом факте, так как он сыграл известную роль в дальнейшей судьбе семьи. С отъездом из Москвы Николай Петрович Джун-
- 193 -
ковский перешел на открывшуюся вакансию полицмейстера Императорских театров, на которой и пребывал до 1917 г. Должность эта была необременительна и давала постоянное место в третьем ряду партера. Став лицом так или иначе причастным к театральной жизни Москвы, Котя Штер более интересовался делами балета, чем делами «дома Щепкина», однако сумел создать дружелюбное к себе отношение. Столь нелюбимый москвичами «петербургский тон» он применял лишь в умеренном количестве, и, сравнивая его с ненавистным Нелидовым, актеры находили, что Штер «хотя и бывший гвардеец, но веселый и безобидный малый».
На этом я заканчиваю главу о Штерах, а если они и будут входить в мое повествование, то уже как знакомые лица.http://asyan.org/potr/%D0%90%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%...0%B3%D0%B0%D1%85a/part-18.html
|
Метки: штеры |
Из воспоминаний княжны Н.П. Грузинской «Записки контрреволюционерки» |
Из воспоминаний княжны Н.П. Грузинской «Записки контрреволюционерки»
Из воспоминаний княжны Н.П. Грузинской «Записки контрреволюционерки» 1
[21.06.1920] [Вторая половина 1920-х гг.] 2
Предисловие
<…> Я исхожу из старинного рода царей Грузии, но мать моя была русская3, и я пережила три первых года революции в имении Орловской губернии Ливенского уезда, перешедшем ко мне из ее семьи (княжна Долгорукова4).
<…> Февраль трагичного 17-го года застал меня в Москве, на Собачьей площадке, в доме тетки, княгини Лобановой-Ростоцкой, жившей тогда в Швейцарии.
Вечером 28-го я находилась у подруги графини Белевской на Пречистенке, когда пришел ее зять и сообщил, что в продолжение всего этого дня телефон между Москвой и Петроградом не действовал и что еще не удалось узнать, по какой причине это произошло. На другое утро, часов в десять, я входила в контору нотариуса на Театральной площади, где я накануне заказала приготовить к подписи нужную мне бумагу. <...> В это время со стороны площади послышался сильный гул, как от многочисленных голосов, и какие-то крики.
Мы все бросились к окнам и увидели густую толпу студентов, проходивших по этой стороне площади, направляясь от Большого театра к Думе. Когда они совсем поравнялись с нами, мы увидели, что они идут правильными рядами, кричат что-то непонятное и бросают фуражки вверх, с глупо сияющими лицами. К моему негодованию, в рядах кое-где мелькали небольшие красные флаги. «Да здесь весь университет! – закричали вокруг меня. – Что они еще придумали, надо бы разузнать!»
Нотариус и его помощники были тоже полны любопытства и решили послать на разведку почему-то младшего мальчика 14-ти лет. Однако он был не бойкий, так как скоро вернулся, объявив, что это манифестация студентов, а по какому случаю, никто не знает. Я решила сама разузнать, в чем дело, и так как я могла пройти мимо Думы, чтобы достигнуть Арбата, то я и пошла вслед за студентами: конец их колонны был немного впереди меня, и я видела, как произошел маленький курьезный инцидент, удививший меня. Мимо студентов прошел патруль, четыре солдата с унтер-офицером во главе, мы все знали, что студенты высмеивали и оскорбляли всяким образом все военное и всех военных. А тут вдруг, когда студенты увидели патруль, они все сняли фуражки и стали с восторгом приветствовать солдат, стараясь оказать им как будто даже особый почет. <…> Решив добиться объяснения поведению студентов, я повернула направо к Городской думе<…>.
Я направлялась к Городской думе и вышла наконец на думскую площадь. Я остановилась в самом начале ее, всматриваясь в представившуюся картину: перед подъездом Думы собралась вся толпа студентов, а на подъезде, как известно, высоком, говорил им речь и жестикулировал человек в темном пальто и в темной шапке. Он кончил говорить, и громовое «ура» и восторженные крики студентов потрясли воздух. «Вероятно, Государь даровал им какую-нибудь особую милость», – подумала я, ни секунды не воображая, что крики восторга этих близоруких и неразумных юнцов могли относиться к страшной вести о совершении преступного переворота, повергшего в кровавый хаос родину, которую многие из них любили. Человек в черном объявил им о сделанной в Петрограде накануне революции, о низвержении царя, о сформировании Временного правительства и т.д. <…> Я медленно пошла по направлению к Арбату, стараясь прислушиваться к тому, что говорили люди, довольно многочисленные, проходившие и стоявшие на площади, но вдали от студентов и того человека. <…> Я прошла мимо трамвая, около которого теснилась, как всегда, маленькая толпа, и тут никто ничего не проявлял! Это еще больше укрепило меня в мысли, что все дело касается исключительно студентов, которые все еще бросали фуражки вверх и развевали абсурдные красные флажки, я спокойно пошла дальше. <…>
Пока я шла домой, я ничего не заметила необыкновенного, странного, только недалеко от Думы какой-то дворник затворил на ключ громадные железные ворота какого-то большого здания. И я дома застала ту же тишину и вечером, как всегда, пошла обедать к моей подруге на Пречистенку. Они тоже ничего не знали, и мы спокойно провели время. Нас немного удивило то, что моя кухарка Маша, баба из нашей деревни, которая приходила за мной по вечерам в 9 часов, в этот вечер пришла в 8 и сообщила, что дворник очень просил, чтобы княжна была домой раньше, т.к. из полиции прислали сказать, чтобы все ворота были на запоре в 81/2. Мы и это приняли спокойно, т.к. знали, что много хулиганов бродит по Москве и устраивают грабежи «немецких» имуществ.
На углу Пречистенки и какого-то переулка стоял на часах юнкер Александровского училища, с ним разговаривал штатский и спрашивал: «Что, у вас все тихо?» – «Да, тихо покамест», – отвечал тот. Они были, очевидно, знакомые, разговаривали дружелюбно, и опять страшные слова не были произнесены. <…>
II
Зато на другое утро грянул страшный удар грома, вселивший ужас и негодование в наши сердца. Я только что кончила одеваться, как Маша принесла мне газету от управляющей и с затаенным страхом стала говорить: «Ваша светлость, ваша светлость, государя больше нет, нет его больше! Революцию сделали!» Я выхватила газету у нее из рук и прочла известное объявление о том, что произошла революция. Государь подписал отречение за себя и за наследника и т.д. Негодование и ужас настолько охватили меня, что я не могла даже ясно думать о том, как поступать мне. <…>
На улицах было спокойно, и я безпрепятственно дошла до моей подруги. Там испытывали те же чувства, которые возмущали меня. Оказалось, что ночью вся Пречистенка перед Главным штабом была запружена автомобилями, приезжали арестовывать начальника главного штаба генерала Мрозовского. Он, говорят, спал, когда приехали, значит, ничего не знал! Таким образом, графиня узнала раньше меня про совершившийся ужас.
Движимая чувством глубокой преданности и сердечной привязанности, она с раннего утра отправилась узнавать, что происходило с великой княгиней Елизаветой Федоровной, у которой до замужества состояла личной фрейлиной. Как известно, в[еликая] к[нягиня] после трагичной смерти супруга своего в[еликого] к[нязя] Сергея Александровича посвятила свою жизнь и состояние на помощь русскому «великодушному» народу. В приобретенном ею доме на Ордынке, кроме церкви, был устроен даровой госпиталь, приют и школа для девочек, взятых часто с Хитрова рынка, а то просто с улицы. Достойный священник, служивший в ее церкви, часто приводил приезжих из деревни мужиков, встреченных на улице, которых кормили, поили, давали приют. <…>
В тот же день орда хулиганов наводнила «Ордынскую обитель», как эти учреждения назывались, и на вопрос, что им надо, объявили, что пришли смотреть, как поведут немку. А впоследствии, как известно, ее ввергли живую в заброшенную шахту, где вместе с другими несчастными она нашла праведную кончину. Где были тогда нагие, холодные, голодные, которых она одевала. <…>
Вечером я пошла к графине, и мы, взрослые, мрачно толковали о том, [что] думать и что делать. <…> Пока с тоской в душе мы перебирали всякие возможности, в столовой рядом раздались торжественные звуки «Боже, Царя храни». Я пошла посмотреть, что там происходит, и была глубоко тронута тем, что увидела. Младшие дети графини вместе с подругой расставили на большом столе все фотографии царской семьи, которые могли собрать, поставили пластинку «Боже, Царя храни» в граммофон и в благородном порыве лояльности чистых детских душ к тем, кто впал в несчастье, проходили церемониальным маршем перед фотографиями, делая им глубокие поклоны и реверансы. <…>
III
В купеческом банке у меня было около восьми тысяч рублей, и, не сомневаясь ни секунды, что деятели революции, судя по первым шагам, будут грабить нас всяким образом, я отправилась на следующее же утро в банк вынимать свои деньги. Я была уверена, что найду банк набитым народом, и потому накануне еще сказала Маше, которую брала с собой, что нам надо ехать совсем рано, к открытию банка, т.к. там будет такая толкотня, что придется долго ждать. Каково же было мое изумление, когда, войдя в банк, мы нашли его пустым! Служащие были на местах, солдат-часовой стоял у дверей, но он и раньше тут стоял, а публика отсутствовала. «Неужели они не понимают, что скоро будет? – подумала я. – Неужели не видят, какое направление принимает революция?» Свои деньги я получила безпрепятственно, оставив 120 рублей на счету, чтобы не закрывать его. <…> Дома мы застали двух солдат из нашей деревни, пришедших проведать Машу. Они стояли здесь в гарнизоне и объявили, что им теперь такое житье, о котором они и мечтать не могли никогда. Только дежурные остаются в казармах, а остальные целый день гуляют! Только чтоб в казармах быть в 8 часов, а то ни работы, ни учения! Что хочешь, то и делай. «Вот вы какие теперь счастливые, – сказала я, – значит, вы очень довольны?» «Да уж конечно», – отвечали они.
<…> Вечером у подруги я узнала, что означали девчонки и мальчишки с красными бантами, бегавшие по улицам с глупо сияющими лицами. Это была милиция, учрежденная, по объяснению новых властей, для «защиты» революции и куда принимались добровольцы обоего пола. <…>
Но когда мы узнали, в чем именно состояла их «служба» и каким образом они стали на защиту, мы исполнились к ним презрения. Оказалось, что они должны были арестовать тех, кто осмеливался не преклоняться мгновенно и безропотно перед всяким действием революционеров и при случае играть роль сыщиков, подслушивать, что говорили на улицах и в домах, и исполнять свою «обязанность». <…> Когда Воейков приехал в Москву, его арестовали на вокзале три девчонки с красными бантами и вели его через всю Москву, он впереди, а сзади вооруженный солдат. Говорят, он топнул ногой, когда увидел это издевательство над собою. <…>
IV
На следующий день я шла днем по Арбату, когда встретила знакомую даму, поздоровавшись с которой, стала разговаривать. Дама принадлежала к семье тогдашних либералов и должна была радоваться перевороту, но, будучи умной, развитой и вполне порядочной женщиной, она, оказалось, поняла, что события новой жизни все более и более принимали трагичную, нравственно фальшивую, окраску.
Так как вокруг нас шныряли «деятели» с красными бантами, то я стала говорить по-французски: «Я знаю, что ваши симпатии должны бы быть с тем, что произошло, но знаю также, что вы искренни. Скажите, как вы думаете о том, что сейчас происходит? А касательно бедного Государя?» К моему радостному изумлению, ее глаза наполнились слезами, и с содроганием в голосе она проговорила: «Я боюсь, боюсь за него. Какая подлость! Какая низость! Вчера пресмыкались перед ним, а сегодня рвут его на части, оскорбляют! Ужас, один ужас! И вся эта молодежь! Шпионы, доносчики! Где у них стыд! Что с ними сделалось! Страшно подумать!» <…>
По мостовой около панели шел небольшой отряд солдат не стройными рядами, как мы привыкли их видеть, а безпорядочной толпой, они кричали, хохотали, забегали вперед, шли назад, курили всячески, очевидно, преувеличивая свое новое положение, свои новые привилегии. Несчастный офицер, ведший их, стройный и красивый молодой блондин, сгорал от стыда. <…> Мне рассказали очевидцы, что в то же время происходили следующие сцены: как только солдаты видели, что в трамвае едет офицер, они входили туда, садились напротив него и, громко разговаривая, курили и пускали дым ему в лицо или открыто издевались над ним и другим военным начальством. Что претерпели эти мученики, сказать нельзя. Мы, как и вся разумная публика, недоумевали, какая могла быть цель у г-на Керенского разлагать армию? Мы еще не понимали, что он даже в первые дни не был тем властелином, которым себя мнил, и что над ним не в шутку уже тяготела зловещая сила, выпущенная переворотом на волю. В сущности, Временное правительство, захотев поиграть в правителей России, оказалось абсолютно неспособным, неумелым и скоро растерялось до того, что обратилось в позорное бегство.
V
<...> Вечером к подруге моей пришел один очень уважаемый нами и очень толковый деловой человек, друг графини. Он пришел успокоить ее и уверить, что все будет благополучно. Он сам не был сторонником революции, но считал, что против совершенного факта бороться поздно. Графиня сказала ему, что я того мнения, что дела пойдут плохо, и он с улыбкой успокаивал нас и просил ее не давать себя терроризировать. Керенский и другие люди – способные, они работают 12 часов в день и стараются, чтобы не было безпорядков, т.к. можно вообразить, что могло бы происходить в такие дни. «Оно и происходит, – подумала я, – странно, что такой практичный деловой человек ничего не замечает!»
«Скажите, – спросила я, – не слыхали ли вы, не говорят ли о земле, о том, чтоб раздавать ее крестьянам?» – «Да говорят, – ответил он. – Правительство будет покупать землю у самых богатых помещиков и продавать ее мужикам в кредит. Кому будет вред от того, что у миллионеров, имеющих сотни тысяч десятин, купят несколько сотен десятин и передадут их мужикам? Все это будет сделано спокойно и законно. Уверяю вас, что бояться нечего!»
Я сидела, пораженная ужасом, понимая, что мы осуждены на страшные бедствия. Я, как землевладелица, знала, что такое был земельный вопрос и на что во имя его можно было поднять народ. Не везде он нуждается в земле; у нас в деревне были богатые и те немногие дворы, которые имели мало земли, брали у нас в аренду краткосрочную сколько хотели десятин. Цена установленная была вообще 10 руб. за яровую десятину, [а также] шесть подвод до станции нашей, пять верст. За озимую, когда десятина оставалась у них в руках целый год5… руб. и тоже шесть подвод на станцию для подвоза нашего хлеба. Но везде мужики приобретали то чувствo… которое французы называют «страстью к земле». Мы были свидетелями без всякой революции тем кровавым драмам, происходившим при малейшей обиде касательно земли.<…>
Правительство, только что воцарившееся и еще шатавшееся на ногах, не могло ни купить земли для всех, ни войти в сделку с землевладельцами, не обидев их. Ведь у правительства не могло хватить денег на такое дело, сопряженное с громадными расходами, тем более что оно решило все сразу же менять и ломать с первой же секунды.
Оставался один выход – безвозмездное отобрание земель, что и произошло в недалеком будущем.
Не надо было трогать земельного вопроса, тогда переворот прошел бы спокойнее. Но Временное правительство, боясь оппозиции серьезных кругов, решило опереться на неразумные массы и темные силы страны, что из этого вышло – известно.
Прибавлю, что господин, который так успокаивал нас в тот вечер, давно уехал заграницу, бросив великолепную усадьбу в окрестностях Москвы, тогда как я еще продолжала мучиться в аду, образовавшемся в несчастной России.
VI
Вернувшись домой, я нашла письмо из имения от управляющего. Он сообщал, что мужикам известно о перевороте, но пока что они спокойны и приехать в деревню вполне возможно. Я сообщила радостную весть своим, назначила скорый день отъезда, и мы тотчас же стали собираться.
В Москве мне становилось душно, тяжело, хотелось не видеть этих нахальных солдат, эту молодежь, доносчиков и сбиров6 революции, не слышать выкриков газетчиков о царе и его несчастной семье. Тяжело было сознавать, что они арестованы, что на них надвигается опасность, еще тяжелее читать позорные фельетоны на них, плоды дикой фантазии, духовной низости и абсолютной безграмотности каких-то писак! Появилась масса листков дурного пошиба, и что в них говорилось про царскую семью – противно вспомнить! Помню одну такую гнусность, которую я прочла в случайно купленном листке. Вот ее содержание в общих чертах: «Ночь. Луна. Императорская яхта идет по морю. Молодой прекрасный лейтенант стоит на вахте. Вдруг из каюты выбегает в белом платье, кто бы вы думали? Ольга! И Ольга бросается к молодому лейтенанту и целуется с ним. И молодой лейтенант пылает к Ольге страстью, но тут является на палубе отец Ольги! И застав такую картину, бросается на молодого лейтенанта и одним взмахом руки сбрасывает его в море! Погиб молодой лейтенант, не видят более его глаза белый свет земной, закрыты они под темной волной. Отец Ольги стал убийцей!» <…> Ужасно было то, что чернь с жадностью читала всю эту мерзость, верила ей и клеймила императорскую семью позорными именами…
Вначале многие, даже разумные люди, сочувствовали перевороту, но едва ли не через неделю общественное мнение изменилось. <…> Жена и дочь профессора Трубецкого, узнав о перевороте по телефону, будто прыгали от радости тут же, у телефона. Любопытно, продолжают ли они прыгать и теперь, вспоминая этот день? Жена адвоката А., будучи вольнодумных настроений, телефонировала своей кузине: «Наконец я дожила до русской революции! Радуюсь, что мне пришлось увидеть это событие!» И еще много подобных новостей. Два года спустя эта же самая дама писала сестрам: «Кажется, у нас настает светопреставление! Ничего нет. Прислуги нет. Еды нет. Я хожу с внучкой в ресторан, где за 9000 рублей получаю тарелку какой-то жижи с несколькими листочками травы и соленые огурцы!» И эта же дама через сына советского служащего поспешила уехать за границу.
VII
Возвращаясь однажды из центра в город, где я делала покупки для деревни, я заметила довольно большое собрание женщин из простонародья, стоявших и оживленно галдевших, у начала Охотного ряда по направлению к Ильинке. Изумленная таким фактом, т.к. большей частью революционные женщины не появлялись теперь без сопровождения мужчин, я пошла и встала на некотором расстоянии. Женщины как будто ссорились, а впереди стояла хорошенькая молоденькая девушка, державшая в протянутых руках две короткие палочки, на которых была натянута узкая полоска красного кумача. «Что это такое? – спросила я мужчину, стоявшего недалеко от меня и с усмешкой наблюдавшего за толпой, – кто эти женщины?» «Кухарки, – открыто смеясь, ответил он, – митинг кухарок. Что им от революции нужно! Жаловаться собрались. Ишь прыть-то какая! Только вы, барыня, не подходите к ним и не ругайте их. Тут одна барыня только что проходила и стала их ругать, так они позвали милиционера, и ее увели туда». И он показал рукой на здание с колонной, где, оказывается, был пост солдат.
Я поблагодарила его за совет и пошла по Охотному, огибая кухарок как можно дальше, т.к. не имела никакого желания рассуждать с ними. Эти митинги и демонстрации кухарок дошли до какого-то абсурда. В следующие дни мы встретили процессии их, которые ходили по большим улицам молча, подобрав каких-то девчонок, которых они пускали во главе. Очевидно, они добивались каких-нибудь определенных целей, как жалованье, но не слышно было, чтоб получился какой-нибудь определенный результат от их хождений.<...>
Появилось глупое наименование «буржуй». Ведь по-французски «le bourgeois» никак не могло применяться к аристократии или к кому-нибудь, кроме самого мелкого элемента. <...> Поэтому мы много удивлялись, а затем много смеялись, узнав, что аристократию и военных подводят под понятие «буржуй», это стало несомненным завоеванием революции. Все эти абсурды, всякие глупости и подлости, которые чуть ли не каждый день становились известными изумлениями россиян, процветали благополучно под кровом крыл г-на Керенского и его банды. <...>
Документы ГАРФ о Февральской революции. 1917 г.
Документ №5
ГАРФ. Ф. 5881. Оп. 2. Д. 317. Л. 1–32. Подлинник. Машинопись.
|
Метки: москва пречистенка февраль 1917г |
Москва. Часть 40. Лазареты для раненых и больных воинов в Москве. 1914. |
Москва. Часть 40. Лазареты для раненых и больных воинов в Москве. 1914. Часть 1
11
4
2
Give 10
[прошлые выпуски]
01. Медицинский персонал и служащие распределительного госпиталя у прибывшего с ранеными санитарного поезда

02. Санитары распределительного госпиталя и солдаты санитарной команды выносят раненых из вагона санитарного поезда

03. Раненые офицеры в палате распределительного госпиталя,устроенного в помещении 1-го винного склада

04. Раненые солдаты в палате распределительного госпиталя, устроенного в помещении 1-го винного склада

05. Раненые солдаты в палате распределительного госпиталя,устроенного в помещении 1-го винного склада

06. Врачи и сестры милосердия за работой в операционнойраспределительного госпиталя,устроенного в помещении 1-го винного склада

07. Перевозка раненых в специально оборудованном трамвайном вагоне из распределительного госпиталя в постоянный лазарет

08. Раненые в палате распределительного госпиталя,устроенного в Пресненском трамвайном парке

09. Раненые в палате распределительного госпиталя,устроенного в Пресненском трамвайном парке

10. Раненые в палате распределительного госпиталя,устроенного в Покровской богадельне

11. Раненые в палате распределительного госпиталя,устроенного в Покровской богадельне

12. Раненые в палате лазарета,устроенного в Алексеевской психиатрической больнице

13. Раненые во время обеда в одной из палат лазарета при Старо-Екатерининской больнице

14. Медицинский персонал и раненые в одной из палат лазарета при Солдатенковской больнице

15. Группа врачей и сестер милосердия во время работы в операционной лазарета при Солдатенковской больнице

16. Раненые в палате лазарета при Морозовской больнице

17. Раненые в одной из палат лазарета при санатории имени Четверикова

18. Раненые в одной из палат лазарета при санатории имени Четверикова

19. Раненые в палате лазарета при Любимовском отделении Щербатовской больницы

20. Медицинский персонал и раненые в одной из палат лазарета при Университетских клиниках

21. Раненые в палате лазарета,устроенного при Высших женских курсах

22. Раненые в палате лазарета,устроенного при Высших женских курсах

23. Раненые в одной из палат лазарета при Женском медицинском институте

24. Раненые и сестры милосердия в одной из палат лазарета при Женском медицинском институте

25. Медицинский персонал и раненые в палате лазарета при Императорском Техническом училище

26. Медицинский персонал и раненые в палате лазарета при Императорском Техническом училище

27. Медицинский персонал и раненые в палате лазарета при Императорском Техническом училище

28. Общий вид операционной в лазарете при Императорском Техническом училище

29. Медицинский персонал и раненые в палате лазарета,устроенного на Пречистенских курсах

30. Сестры милосердия и раненые в палате лазарета,устроенного на Пречистенских курсах

Метки: Великая Война, Москва, Россия, история, лазареты, фото
|
Метки: москва первая мировая война красный крест |
Как погиб последний герой из рода Романовых. |
Как погиб последний герой из рода Романовых.
1 августа 1914 года началась Первая мировая война, принёсшая России огромные бедствия и гибель сотен тысяч солдат и офицеров.
Среди тех, кто сложил свою голову на полях сражений, был и один представителей императорского дома Романовых, менее других своих родственников подходивший для военной карьеры. Единственный из царского рода Романовых, веривший, что его пролитая кровь укрепит дух русских войск.
Олег был пятым ребенком в семье и четвертым сыном. Он родился в 15 ноября 1892 года. В июне 1905 года он писал в дневнике: " Я так люблю книгу «Юношеские годы Пушкина», что мне представляется, что я также в Лицее. Я не понимаю, как можно перестать читать эту книгу. В этой книге моя душа". В 1911 году князь Олег выступил с инициативой издания рукописей Пушкина, хранившихся в лицее.
Князь Олег занимался литературным творчеством, писал стихи и прозаические произведения, увлекался музыкой и живописью. Рассказ «Ковылин» и некоторые стихотворения были опубликованы в посмертном издании «Князь Олег», но большинство произведений остались в рукописях — в том числе поэма «Царство царя Крота», повесть «Отец Иван», роман «Влияния», очерки «Сценки из собственной жизни», пьесы. Планировал написать биографию своего деда, великого князя Константина Николаевича, который был для него образцом государственного деятеля.
Последующие великие потрясения стёрли память о последнем из династии Романовых, павшем за Родину в бою. Произведённый в 1913 году в корнеты лейб-гвардии Гусарского полка, он с первых дней войны оказался на Северо-Западном фронте.
Командиры, помня, что перед ними представитель царской фамилии, пытались уберечь его от опасности, предлагали должность при штабе, но князь Олег рвался в бой. Сослуживцы отмечали, что 21-летний князь буквально «жаждал подвига».
Смелый и решительный, Олег Константинович был одновременно в большей степени человеком гражданским. Отчаянная храбрость и готовность к самопожертвованию не заменяют военных навыков. Рвение князя беспокоило опытных офицеров, и тревоги эти оказались не напрасными.
В.кн.Олег Константинович, сын великого князя, поэта Константина Романова (К.Р.)
27 сентября 1914 года у деревни Пильвишки в районе Владиславова (территория современной Литвы) кавалерийская застава лейб-гвардии Гусарского полка наткнулась на германский конный отряд. Командир взвода Олег Романов повёл своих подчинённых в атаку. Согласно донесению, он первым вступил в схватку с противником. Столкновение закончилось победой русских — немцы были частично уничтожены, а частично взяты в плен. Бой уже подходил к концу, когда одному из немцев удалось выстрелом ранить князя Олега.
На следующий день раненого доставили в госпиталь в Вильну, провели операцию, но состояние князя оставалось крайне тяжёлым. За мужество и храбрость Олег Константинович Романов был награждён орденом Святого Георгия IV степени. Он гордился тем, что был ранен: " Я так счастлив, так счастлив. Это нужно было. Это поднимет дух. В войсках произведет хорошее впечатление, когда узнают, что пролита кровь Царского Дома". Пролитой им крови не хватило для того, чтобы укрепить дух русских солдат в войне, смысл которой они очень скоро перестали понимать.
Вечером следующего дня в Вильну прибыл отец князя Олега, который привёз ему орден святого Георгия, принадлежавший великому князю Константину Николаевичу. Этот орден прикололи к рубашке умиравшего князя, который в тот же вечер скончался.
25 декабря 1914 г. «Высочайше повелено: «1-й роте Полоцкого кадетского корпуса присвоить наименование: „роты Его Высочества Князя Олега Константиновича“, дабы сохранить на вечные времена среди кадет названного корпуса память об Августейшем Полочанине, положившем жизнь Свою на поле брани за Царя и Отечество».
По воспоминаниям одной из современниц, в траурной процессии приняло участие несколько тысяч человек. По дороге гроб почившего князя сопровождала масса крестьян. Люди плакали, стояли на коленях, несли на плечах его гроб 5-6 км от станции до Осташово. Он был похоронен с золотою шашкой. Когда началась революция, стали громить имение, все грабить, разграбили и могилу, вытащили его из гроба, утащили шашку, 5 или 6 дней труп валялся на дороге. Сына и дочь кладбищенского сторожа Санкритова взяли на работу в ОГПУ.
Фото взяты из открытого доступа в интернете.
Литература: Ю.Борисов "Князь императорской крови командовал
взводом".
|
Метки: романовы первая мировая война |
Красивые девушки на открытках до 1917 года. |
Красивые девушки на открытках до 1917 года.
Здравствуйте, читатели и подписчики моего проекта! Сегодняшняя статья посвящена фотографиям красивых девушек на почтовых открытках более чем столетней давности. Сравните, как изменилось представление о женской красоте за сто лет.
В XXI веке "нормативам" модельной внешности соответствуют девушки, носящие одежду 46-48 размера, тогда как на представленных изображениях фигуры красавиц не менее пятидесятого размера.
Потрясающая брюнетка с роскошными бутонами камелий в причёске сидит в кресле. На ней шикарное платье, открывающее левое плечо и длинный, золотистого цвета пояс с бантом на талии.
Художник Ф. Ворбинг, авторское название "Виктория". Русскоязычный интернет не даёт никакой информации по художнику, почему?
Вторая открытка - с изображением немецкой актрисы эпохи немого кино Гудрун Хиндельбранд. На открытке видны проколы от кнопок, видимо, предыдущие владельцы украшали свою комнату или рабочее место.
Про неё в сети тоже практически никакой информации, дескать снималась всего в одной ленте в далёком 1913 году. Только вот едва ли портрет актрисы одной роли стали бы помещать на открытки.
На третьей открытке молящаяся католичка, девушка лет двадцати, находящаяся, судя по одежде, в храме. Простое платье, на пальцах ни одного колечка, укрывающий голову платок в отличии от христианок не завязан. Кто же перед нами, прихожанка или монашенка?
Четвёртая открытка изображает принимающую или дарящую букет цветов девушку. Левой рукой она придерживает такие же цветы, так что, осмелюсь предположить, всё таки дарит!
Эта открытка в отличии от двух предыдущих цветная: различимы голубоватый цвет платья и розоватые лепестки цветов.
Обратите внимание, уважаемые подписчики и читатели, что ни на одной из четырёх открыток у девушек нет никаких (!) украшений - голые шеи и руки без браслетов и колец. Почему? Мода на скромность?!
Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал, ставьте классы и пишите в комментариях. Читайте мои предыдущие статьи, буду радовать интересными статьями и фотографиями в следующих выпусках!
https://zen.yandex.ru/media/id/5be5ec635d9d8200a98...-goda-5c665bae6021bf00ae375591
|
Метки: мода |
Княжна Оболенская Елизавета Николаевна |
Княжна Оболенская Елизавета Николаевна
Имя
Княжна Оболенская Елизавета Николаевна (Лили О.)


Девичья фамилия
Княжна Оболенская
Дата рождения
7 марта 1864 г.
Место рождения
Санкт-Петербург
Вероисповедание
Видимо, православная
Отец
Князь Николай Николаевич Оболенский (Симбирск, 10.11.1833 – Санкт-Петербург, 25.08.1898), герой русской турецкой войны 1877 – 1878 гг., командир Гвардейского корпуса (1897), генерал-лейтенант (1888), генерал-адъютант (1896).

Мать
Княгиня Мария Владимировна Оболенская, урожд. Храповицкая (23.09.1839 – Санкт-Петербург, 8.04.1911).
Брак с 1860-х гг.
Братья / сестры
В семье было три сына и две дочери:
- Князь Николай Николаевич (ум. в детстве);
- Княжна Елизавета Николаевна (Санкт-Петербург, 7.03.1864 – Сент-Женевьев-де-Буа, 5.11.1939), фрейлина;
- Князь Владимир Николаевич (Висбаден, 24.07.1865 – Париж, 24.10.1927), генерал-майор, командир лейб-гвардии Преображенского полка во время Первой мировой войны; с 1919 г. женат на княгине Елизавете Васильевне Черкасской, урожд. Шереметевой (Дрезден, 14.10.1885 – Шартр, Франция, 9.07.1955);
- Княжна Мария Николаевна (Санкт-Петербург, 20.11.1868 – Сент-Женевьев-де-Буа, 29.08.1943), фрейлина, с 1893 г. замужем за графом Николаем Николаевичем Граббе (Майкоп, 10.03.1863 – Санкт-Петербург, 27.09.1913), два сына и одна дочь;
- Князь Александр Николаевич (Санкт-Петербург, 2 или 24.02.1872 – Париж, 14.02.1924), губернатор Рязанской губ. (1908 – 1914), Петроградский градоначальник (1914 – 1916), генерал-майор Свиты; с 1897 г. женат на фрейлине княжне Саломее Николаевне Дадиани (Санкт-Петербург, 1.12.1878 – Аньер-сюр-Сен (Asnières), Франция, 11.12.1961), два сына и две дочери.



Владимир Николаевич Мария Николаевна Александр Николаевич
Учебное заведение
?
Дата выпуска
?
Муж
Нет
Дата вступления в брак
Нет
Дети
Нет
Дата назначения фрейлиной
23 мая 1883 г. В 1895 – 1914 гг. свитная фрейлина императрицы Александры Фёдоровны.
Награды
?
Дата смерти
5 ноября 1939 г.
Место смерти
Сент-Женевьев-де-Буа, под Парижем
Место захоронения
Сент-Женевьев-де-Буа
Обстоятельства смерти
Последние годы жила в Русском доме в Сент-Женевьев-де-Буа
Комментарии
В эмиграции жила во Франции, где состояла членом Дамского общества в память императрицы Марии Федоровны; член Союза ревнителей памяти императора Николая II (с 1936).
Ссылки
http://www.hrono.ru/biograf/bio_n/nik2all_o.php
http://historymaxs.blogspot.ru/2012/02/2.html
https://goo.gl/GQXGwl
http://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/obolensky.html
http://www.nasledie-smolensk.ru/pkns/index.php?opt...view&id=2355&Itemid=61
http://www.rgfond.ru/rod/27210
См. также Незабытые могилы, том. 5, стр. 182.
Возрождение. – Париж. 1939. 10 нояб.
Буду благодарен за любые дополнения, комментарии, замечания.
Метки: оболенская, фрейлины
|
Метки: оболенские фрейлины |
Башмаковы |
Башмаковы
Эта статья — о дворянском роде. О носителях фамилии см. Башмаков.
Башмаковы — три дворянских рода.
Первый — потомство Симона Африкановича, родоначальника Вельяминовых; один из потомков последнего, Даниил Васильевич, имел прозвище Башмак, откуда и фамилия Башмаковых. У него было пять сыновей и тринадцать внуков. Внук его, Василий Андреевич, был в 1580—1581 годах осадным головою в Велиже, а правнук, Афанасий Григорьевич, — дьяком земского приказа при Иоанне Васильевиче Грозном (в ОГДР не внесены). При отмене местничества, этот род подал документы на включение в Бархатную книгу, но в связи с чем, что Воронцовы-Вельяминовы и Аксаковы своих родословий не представили, поэтому родословие Башмаковых в БК внесено не было[1].
| Башмаковы | |
|---|---|
 |
|
| Описание герба
см. текст >>> |
|
| Том и лист Общего гербовника | Х, 38 |
| Часть родословной книги | II |
| Подданство | |
 Царство Русское Царство Русское |
|
 Российская империя Российская империя |
|
Второй — потомство Пимена Алексеевича, владевшего поместьями в Нижегородском уезде в 1621 году, имевшего двух сыновей: Ивана и Нефеда. Род записан во вторую часть родословных книг Ярославской и Тамбовской губерний России, по непризнанию древности герольдией правительствующего Сената. Герб внесен в Общий гербовник дворянских родов Российской империи, часть 10, стр. 38.
Третий — потомства Федора Афанасьевича, который умер от ран полученных при осаде Смоленска в 1634 году. В потомстве были: Арефа - дьяк холопьего приказа в 1646г.; Афанасий - дьяк земского, литовского, большого прихода и денежного сбора, ямском с 1661 по 1677г; Дементий Минич - думный дьяк, печатник, думный дворянин; Иван Башмаков - подполковник в 1696 году при взятии Азова; Иван Пименович, Иван Леонтьевич, Лукьян Иванович - стольники при Петре I, потомство стряпчего Лукьяна Ивановича Башмакова, верстанного поместьем в 1674 году. Дмитрий Евлампиевич, кавалергардского полка полковник, потом действительный статский советник, был женат на Варваре Аркадьевне Италийской, графине Суворовой-Рымнинской. От этого брака осталось несколько человек детей (Герб V. № 106)[2].[3]
Содержание
Описание герба
Герб рода Часть 10 № 38
Щит разделён на три части, из коих в первой в голубом поле серебряный якорь, во второй в серебряном поле выходящая из облака облечённая в латы и держащая меч рука, а в третьей пространной в красном поле золотой стоящий на задних лапах лев, обращённый в правую сторону и держащий в правой лапе серебряную стрелу остриём вверх.
Щит увенчан дворянским шлемом и короной с тремя страусовыми перьями. Намёт на щите голубой и серебряный, подложен серебром и красным. Герб рода Башмаковых внесён в Часть 10 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 38[4].
Герб рода Часть V № 106
Щит разделен диагонально с левого верхнего угла на две части, из которых в правом в голубом поле у подошвы щита видна половина серебряной крепости с башней о пяти зубцах, а в левой части в золотом поле рука в латах с саблей. Щит увенчан обыкновенным дворянским шлемом с дворянскою на нем короною, на поверхности которой изображена рука в латах с саблей. намет на щите голубой, подложен золотом[4].
Известные представители
- Башмаков Петр Афанасьевич - воевода в Малмыже в 1619г.
- Башмаков Василий Кузьмич - стольник в 1627г.
- Башмаковы: Яков Семенович, Василий Меркурьевич - стряпчий с платьем в 1627г.
- Башмаковы: Фома Константинович, Дмитрий Васильевич - патриаршие стольники в 1627-1629г.
- Башмаков Лукьян Федорович - письменный голова в Тобольске в 1630-1631г.
- Башмаков Филон Григорьевич - воевода в Бежецком-Верхе в 1631г.
- Башмаков Дементий Минич - думный дьяк в 1664г., дворовый и печати дьяк в 1684г.[5]
- Башмаков Осип Григорьевич - воевода в Твери в 1677-1678г[6].
- Башмаковы: Андрей Васильевич, Андрей Ильич, Иван Леонтьевич, Кузьма Филатович, Калина Яковлевич, Михаил Васильевич, Родион Григорьевич, Яков Васильевич, Борис Иванович. Дмитрий Федорович, Иван Васильевич, Михаил (большой) Петрович, Михаил (меньшой) Петрович, Моисей Романович, Никита Иванович - стольники в 1679-1692г[5].
Примечания
- А.В. Антонов. Родословные росписи конца XVII века. - Изд. М.: Рос.гос.арх.древ.актов. Археогр. центр. Вып.6. 1996г. Башмаковы. стр. 85. Сноска стр. 85. ISBN 5-011-86169-1 (Т.6). ISBN 5-028-86169-6.
- Князь П. Долгоруков. Российская родословная книга. Часть 4. С-Петербург. Типография III отделения Е.И.В. Канцелярии. 1857г. стр. 51-52.
- Сост. граф Александр Бобринский. Дворянские роды, внесенные в Общий Гербовник Всероссийской Империи: в 2-х т. – СПб, тип. М. М. Стасюлевича, 1890. Автор: Бобринский, Александр Алексеевич (1823—1903). Часть II. стр.86-87.
- П.А. Дружинин. Общий Гербовник Дворянских Родов. Части I-X. М., Изд. Трутень. 2009г. стр. 58-59. ISBN 978-5-904007-02-7
- Алфавитный указатель фамилий и лиц, упоминаемых в Боярских книгах, хранящихся в I-ом отделении московского архива министерства юстиции, с обозначением служебной деятельности каждого лица и годов состояния, в занимаемых должностях. М., Типогр: С. Селивановского. 1853г. Башмаковы. стр. 22-27.
- Чл.археогр.ком. А.П. Барсуков (1839-1914). Списки городовых воевод и других лиц воеводского управления Московского государства XVII столетия по напечатанным правительственным актам. - СПб. тип М.М. Стасюлевича. 1902г. Башмаковы. стр. 437. ISBN 978-5-4241-6209-1
Литература
- Башмаковы // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — СПб., 1890—1907.
- Часть 10 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 38
- Долгоруков П. В. Российская родословная книга. — СПб.: Тип. 3 Отд. Собств. Е. И. В. Канцелярии, 1857. — Т. 4. — С. 51.
|
Метки: башмаковы |
Беженцы Первой мировой войны |
 |
||||||||
 |
|
|||||||
|
Метки: первая мировая война |
Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта в период Первой мировой войны |
Андрей Кокорев, Владимир Руга Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта в период Первой мировой войны
Лазареты
Прав, кто воюет, кто ест и пьет,
Бравый, послушный, немой.
Прав, кто оправился, вышел и пал,
Под терновой проволокой сильно дыша,
А после – в госпиталь светлый попал,
В толстые руки врача.
Б. Ю. Поплавский
Русские войска еще только собирались вторгнуться в Восточную Пруссию и вступить в сражение с немцами, а Москва уже начала готовиться к приему раненых. В конце июля 1914 года в помощь существующим военным госпиталям по инициативе общественных организаций началось создание частных лазаретов. К шестому августа их насчитывалось уже несколько десятков с общим количеством 1220 мест.
Москвичка Р. М. Хин-Гольдовская в августе 1914 года записала в дневнике:
«В смысле помощи раненым общество ведет себя изумительно. Все дают без конца. Составляются маленькие группы, чтобы устроить хоть какой-нибудь лазарет. (И мы с Над[енькой] и Эвой вошли в такую группу – и в первое же заседание членские взносы определились 850 р. в месяц)».
В другом дневнике – княгини Е. Н. Сайн-Витгенштейн – в те же дни появилась запись, отражавшая настроения московской аристократии:
«Мне кажется, я скоро добьюсь своего: работать.
Все эти последние дни мы были без дела и мучились этим. Зная, что наши братья “там”, посылая их на все трудности и опасности похода, мы должны что-нибудь делать, должны работать, чтобы заглушить страхи и беспокойства. Мы не можем ничего не делать, это общий крик среди всех наших знакомых. Кажется, все наши знакомые и друзья сейчас работают целыми днями: Таня Лопухина все дни проводит в своем коннозаводстве, где она одна из главных заправительниц склада; Женя, Ольга Стаховичи, Соня и Марина Гагарины, Ольга Матвеева слушают медицинские курсы и от 7 до 3 часов работают в госпиталях; Наташа Бобринская и Соня Новосильцева уехали с санитарным поездом на австрийский театр военных действий. Все молодые люди ушли как добровольцы, кто санитаром»[16].
Миллионер Д. П. Рябушинский распорядился развернуть госпиталь на 250 коек в принадлежавшем ему аэродинамическом институте в Кучине. В доме хорвата М. И. Гаранига на Петербургском шоссе и в здании Купеческого собрания на Малой Дмитровке были готовы принять по сто раненых. Свой особняк на той же улице Н. М. Миронов передал под лазарет на пятьдесят мест.
Открылось много небольших госпиталей, на 15–20 коек. Один из них, разместившийся в Милютинском переулке, был создан вскладчину – на средства сразу нескольких польских общественных организаций: «Благотворительного общества вспомоществования бедным римско-католического вероисповедания в Москве», «Союза польских женщин», «Дома польского», общества любителей хоровой музыки и пения «Лютня», «Польского гимнастического общества».

В пользу раненых. Благотворительная продажа флажков России и союзных государств
На Арбате священник Н. А. Ромашков устроил лазарет на две койки.
Унтер-офицер Д. П. Оськин, попавший на лечение в один из небольших госпиталей, в своих «Записках солдата» описал его так:
«Лазарет, рассчитанный на восемь человек, содержался церковно-приходской общиной Знаменского района. Занимал он всего одну квартиру из семи комнат. Три из них были заняты кроватями для раненых, в четвертой жила фельдшерица Нина Алексеевна Марьева, а остальные были отведены под перевязочную, общую столовую и аптеку. (…) Жизнь в нашем лазарете была построена по-семейному. Мы все быстро познакомились друг с другом, часто вспоминали подробности различных боевых эпизодов, не задумываясь ни над характером войны, ни над тем, что предстоит нам в будущем».
Первый санитарный транспорт Москва встретила восьмого августа. Правда, торжественность момента немного испортило то обстоятельство, что среди прибывших воинов большинство были просто больны, и только четверо среди них – трое солдат и один офицер – получили настоящие боевые ранения на полях сражений.
Однако уже на следующий день москвичи увидели реальное лицо войны: к маленькой платформе станции Окружной железной дороги, откуда обычно отправляли поезда с арестантами, прибыл целый санитарный эшелон. По словам очевидца, паровозом с флагом “Красного Креста” у трубы была подтянута к дебаркадеру «длинная, кажущаяся бесконечной, цепь товарных вагонов».
«Кажется, весь Бутырский район собрался, – описывал встречу раненых репортер газеты „Утро России“. – Преобладают рабочие, их жены и матери. Серьезные, сосредоточенные лица, у женщин на глазах слезы.
С трудом пробираясь в толпе, подъезжают автомобили членов московского автомобильного общества, взявшего на себя перевозку раненых в госпитали, стройными рядами проходят санитары и студенты с повязками Красного Креста на руках – специальный студенческий санитарный отряд.
Платформа покрывается носилками. Возле них хлопочут сестры милосердия, приспосабливая подушки на носилках, предназначенных для тяжелораненых.
Двери вагонов открываются; собравшиеся на платформе представители города, заведующие эвакуацией раненых, приветливо здороваются с солдатами».
Стоит отметить, что первые санитарные эшелоны встречали по-настоящему представительные депутации во главе с членом Государственной думы М. В. Челноковым (с сентября 1914 года московский городской голова) и князем Н. С. Щербатовым, председателем Московского автомобильного общества Красного Креста. В сопровождении главноначальствующего над Москвой генерала А. А. Адрианова на Александровский[17] вокзал приезжала великая княгиня Елизавета Федоровна.
«Один за другим отъезжают от платформы автомобили, увозя раненых, – завершал рассказ корреспондент. – Тяжелораненых относят к остановке трамвая, в санитарные трамвайные вагоны. Толпа в благоговейном молчании обнажает головы.
Выносят раненого офицера. Приподнялся на локте, улыбается публике, но – видно ясно – нелегко дается ему эта улыбка…
Легко раненные солдаты поднимаются к автомобилям сами. По пути их встречает кн[ягиня] Щербатова, оделяет папиросами. Из публики раненым раздают конфеты, фрукты, папиросы, цветы…»
По сообщениям газет, громадная толпа москвичей встречала раненых на Александровском вокзале. Журналисты наперебой стремились передать мельчайшие детали пока что нового для Москвы явления, вроде сильного резкого запаха йодоформа при приближении санитарного поезда.

Прибытие санитарного поезда к распределительному госпиталю
Или привезенные ранеными трофеи: немецкие походные сумочки с алюминиевыми стаканами и ложками, фляжки «такие же, как у русских, но несколько меньшие по размеру», офицерские каски с германским или австрийским орлом, оружие. Вид вражеского военного имущества в руках нового владельца вызывал в публике однозначную реакцию – громогласные крики «ура».
Не осталось незамеченным и некоторое нарушение служебного долга железнодорожными жандармами. Вот зарисовка с натуры, сделанная репортером «Утра России» при встрече поезда с ранеными офицерами:
«– Куда? Не приказано пускать. – И рослый, бравый жандарм с рыжими усами загораживает дорогу к заветной платформе. (…)

Разгрузка санитарного поезда у распределительного госпиталя
К жандарму подходит бледная, измученная, с черными кругами под глазами, изящно одетая дама.
– Пропустите, пожалуйста, я… мне нужно… у меня муж на границе…
– Нельзя… – начинает жандарм, но потом вдруг поворачивается спиной и смотрит в другую сторону. Дама проскальзывает на платформу. Жандарм улыбается.
И много таких, ждущих с замиранием сердца:
– А может быть, и его привезли с этим поездом?»
Кто-то находил возможность «договориться» со стражем порядка, кто-то находил обходные пути, но в результате каждый раз на платформе было тесно от встречающих. Преобладали дамы с букетами роз или лилий и военные. Те, кому не удавалось пробраться на перрон, теснились в проходе к залам первого и второго классов.
Томительное, до глубокой ночи ожидание в конце концов вознаграждалось приходом поезда.
«Легко раненные офицеры вышли сами, – описывал корреспондент. – Появление первого из них, всего обмотанного повязками, вызывает в публике движение.
Дико вскрикивает какая-то дама, падает и бьется в истерике… Тяжелораненых приносят на носилках. Несмотря на раны, на испытанные лишения, вид у всех бодрый, веселый.
Оживленно рассказывают о том, как дрались, как гнали австрийцев. Публика слушает с замиранием сердца. Слышатся вопросы:
– Где такой-то?.. Встречались? Видели?
– Видел – жив, здоров…
– Такой-то?
– Не знаю, не видал…
– Нет, нет – вы знаете, вы должны знать… Неужели убит?.. Скажите, я не мать… я чужая…
Пожилая дама несказанно волнуется. Раненый офицер убеждает ее.
– Я сказал бы вам… Я не стал бы скрывать.
В ожидании отправки офицеров размещают в зале первого класса. И здесь их окружает толпа. Вопросы сыпятся один за другим».
После таких встреч кто-то из москвичей отправлялся домой, обнадеженный добрыми вестями от близких, но для кого-то слова раненых были первыми, до получения официального извещения, сообщениями о тяжелой утрате. Об одном из таких случаев – тягостном разговоре по телефону – рассказал московский журналист М. П. Кадиш:
«Говорила мать. Сын ее на войне.
– Мой Сережа… вы знаете… Я была на вокзале, встречала раненых. Там были из его полка… Спрашивала…
И опять:
– У нас, кажется, большое горе. Боюсь думать, не хочу верить…»

Студенты помогают раненым на Александровском вокзале
В громадной толпе, заполнявшей площадь у Александровского вокзала и тротуары Тверской улицы, царило иное настроение. Раненых встречали восторженными овациями, бросали в носилки цветы. В газетах утверждалось, что не только любопытство гонит москвичей каждый вечер взглянуть на раненых – «в этой толпе бьется народное сердце великой жалостью и вместе с тем великой гордостью». А в качестве примера фигурировала старушка в платочке, которая пробивалась к санитарному трамваю, зажав в руке два калача: «– На, родимый, ешь на здоровье, – сует она калачи в вагон.
Студент-санитар берет калачи и передает раненым.
Нельзя не взять. Смертельно обидишь старушку».
Но если бы только калачами ограничивался энтузиазм москвичей. На совместном совещании Городской управы и Комиссии по мероприятиям в связи с войной было отмечено, что на носилки раненым из толпы кидали пакеты с лакомствами, яблоки и даже арбузы! Попадая по ранам, такие «подарки» приносили раненым новые страдания. Некоторые врачи утверждали, что и восторженные крики толпы на Тверской имели на тяжелораненых вредное воздействие. В итоге было решено обратиться через печать к москвичам с просьбой умерить пыл.
Кроме того, сотрудники лазаретов со страниц газет доводили до сведения публики, что раненые нуждаются в вещах более простых, чем печенье или конфеты из дорогих кондитерских. В госпиталях остро не хватало постельного и носильного белья, посуды. Из-за отсутствия ванн пациентов приходилось мыть прямо на полу возле кроватей. Табак, папиросная бумага, кисеты, чай, сахар порадовали бы солдат больше фруктов и букетов цветов.
В огромном количестве требовалась раненым форменная одежда, поскольку их гимнастерки и брюки, иссеченные осколками или разрезанные санитарами для скорейшего доступа к ранам, представляли собой никуда не годные лохмотья. Не так уж редки были случаи, когда в Москву привозили раненых русских солдат, прикрывавших наготу трофейными мундирами вражеских армий.
Снабжать раненых новой формой взял на себя обязанность кружок дам из высшего общества, организованный княгиней С. Н. Голицыной. На две тысячи рублей, пожертвованных Кредитным обществом, была закуплена материя. Фирма «Зингер» предоставила несколько машинок, а Политехнический музей – одну из аудиторий. Закройщики из модных магазинов помогли раскроить ткань. Первые партии готовой одежды отправляли в госпитали, но уже очень скоро пошел такой наплыв просителей из числа легкораненых, что всю продукцию стали распределять на месте.

Раненые в санитарном вагоне трамвая
Впрочем, довольно скоро кружку княгини Голицыной пришлось сворачивать работу.
Средства заканчивались, а мануфактурные фирмы не спешили на помощь – зачем делать бесплатно то, за что можно было получить сверхприбыль? В то время на поставках в армию предприниматели богатели сказочно и в короткие сроки.
Менялось и настроение публики – уже к концу августа прибытие санитарных эшелонов, утратив новизну, превратилось в обыденное явление. Вместо изобилующих красочными подробностями репортажей газеты стали помещать хронику в две-три строчки: «Вчера с четырьмя поездами привезены в Москву раненые и больные воины. Раненых разместили в Москве». Эти поезда, приходившие главным образом по ночам, уже не встречала разряженная толпа, размахивавшая цветами и кричавшая «ура».

Отправление раненых на автомобилях и в автомобильных фурах из распределительных госпиталей в постоянные лазареты
Вот как описывал Константин Паустовский в мемуарной «Повести о жизни» разгрузку санитарных эшелонов в начале осени 1914 года:
«Каждую ночь, часам к двум, когда жизнь в городе замирала, мы, трамвайщики, подавали к Брестскому вокзалу белые санитарные вагоны. Внутри вагонов были устроены подвесные пружинные койки.
Ждать приходилось долго. Мы курили около вагонов. Каждый раз к нам подходили женщины в теплых платках и робко спрашивали, скоро ли будут грузить раненых. Самые эти слова – «грузить раненых», то есть втаскивать в вагоны, как мертвый груз, живых, изодранных осколками людей, были одной из нелепостей, порожденных войной.
– Ждите! – отвечали мы. Женщины, вздохнув, отходили на тротуар, останавливались в тени и молча следили за тяжелой вокзальной дверью.
Женщины эти приходили к вокзалу на всякий случай – может быть, среди раненых найдется муж, брат, сын или однополчанин родного человека и расскажет об его судьбе.
Все мы, кондукторы, люди разных возрастов, характеров и взглядов, больше всего боялись, чтобы какая-нибудь из этих женщин не нашла при нас родного искалеченного человека.
Когда в вокзальных дверях появлялись санитары с носилками, женщины бросались к ним, исступленно всматривались в почернелые лица раненых и совали им в руки связки баранок, яблоки, пачки дешевых рассыпных папирос. Иные из женщин плакали от жалости. Раненые, сдерживая стоны, успокаивали женщин доходчивыми словами. Эти слова простой русский человек носит в себе про черный день и поверяет только такому же простому, своему человеку.
Раненых вносили в вагоны, и начинался томительный рейс через ночную Москву. Вожатые вели вагоны медленно и осторожно».
Раненых, в зависимости от их состояния, везли с вокзалов либо сразу в лазареты, либо на специальные пункты, где их мыли, кормили, перевязывали, а затем распределяли по частным госпиталям.

Перевозка раненых в трамвайных вагонах в постоянные лазареты
Д. П. Оськин, прошедший через распределительный пункт, вспоминал увиденное:
«После обеда в зале воцарилось оживление: приехали посетители из различных лазаретов и госпиталей, чтобы выбрать новых раненых взамен уже излеченных.
Среди прибывших в большинстве были дамы различного возраста и вида. На мой взгляд, почти все они принадлежали к крупной буржуазии или аристократии. Многие из них имели в руках лорнеты и, задерживаясь подле какой-нибудь из коек, направляли их на раненых. Разговаривали они между собой и с сопровождающими их молодыми людьми на каком-то не русском языке и лишь изредка вставляли русское слово или замечание.
Около меня остановились две дамы. Рассмотрев мою грудь, украшенную крестом, они только после этого соблаговолили обратить внимание и на физиономию.
Одна из них обратилась к другой, лопоча что-то на непонятном мне языке.
– Мы возьмем его, – сказала она в заключение по-русски, оборачиваясь к какому-то маменькиному сынку, который приятно улыбался каждому ее слову.
Посетительницы прошли дальше. Видимо, им надо было выбрать не одного человека, а нескольких».
В начале четвертой недели войны стало очевидно, что Москва не справляется с невиданно огромным потоком раненых воинов. Эшелон за эшелоном прибывали санитарные поезда. Госпитали военного ведомства были забиты под завязку. Помещения лазаретов, находившихся в ведении общественных организаций, удовлетворяли едва ли десятую часть от реальных потребностей.

Городской распределительный госпиталь в 1-м казенном винном складе
«Москва оказывается недостаточно подготовленной для быстрого и рационального размещения прибывающих в нее раненых, – сообщала в передовице газета “Утро России”. – В необъятной Москве, с ее громадными пустующими дворцами, с ее монастырями, общественными зданиями и залами, вдруг оказывается недостаток в помещениях. В наличных лазаретах не хватает кроватей, и раненых приходится размещать вповалку, на соломе и древесных стружках».
В той же статье была указана одна из главных причин возникшего кризиса – нераспорядительность чиновной бюрократии, которая не ассигновала вовремя необходимые средства, понадеявшись, видимо, на добровольные пожертвования. Газетчики выяснили и то, что до войны Красным Крестом было заготовлено всего 15 тысяч кроватей. С началом военных действий дополнительной закупкой соломы и белья собирались удвоить количество мест. Столь скромные цифры объяснялись тем, что заботу об основной массе раненых должны были взять на себя городские и земские организации ближайших к фронту тыловых местностей. Но масштаб кровавой бойни оказался неожиданно велик, прифронтовые города очень быстро исчерпали свои невеликие возможности, поэтому основной поток раненых был направлен в Москву.
Положение усугублялось еще тем обстоятельством, что из рук вон плохо было налажено разумное распределение раненых по разным губерниям. Например, газета отмечала: в Полтаве медицинские учреждения тщетно ждут пациентов, зато в срочном порядке открывают госпитали в Челябинске и Екатеринбурге.
Заканчивалась передовица «Утра России» пророческими словами, обращенными к высшей бюрократии: «Духа недовольства нельзя развивать среди болезненных, нервно настроенных людей. В тылу армии не место духу недовольства».
В Москве тем временем началось лихорадочное развертывание новых госпиталей, под которые занимали любые мало-мальски пригодные помещения. Прежде всего в лазареты превратились различные учебные заведения.

На пороге госпиталя
Так, профессора, ассистенты и слушательницы Высших женских курсов трудились до изнеможения, но к полуночи 23 августа подготовили 600 коек. Не отстали их коллеги из университета Шанявского. С помощью добровольных помощников – уличных мальчишек, рьяно взявшихся за набивку соломой тюфяков, – они за три часа подготовились к приему нескольких сот раненых.
В квартире директора и в чертежной Императорского технического училища поставили 100 кроватей, а в студенческом общежитии – 350. Через два дня их количество увеличили до 500. Петропавловское училище превратилось в лазарет на 300 коек. Госпитали были открыты в Сельскохозяйственном институте, в Строгановском училище, в Училище зодчества и ваяния на Мясницкой, в здании Консерватории.

Лазарет при городском народном университете им. А. Л. Шанявского
Во Вдовьем доме в большой зале для торжественных собраний разместили больничные кровати. Старушки, помнившие еще Крымскую войну, застелили их белоснежным бельем. Срезав с клумб почти все астры, расставили по тумбочкам букеты. А когда привезли раненых, обитательницы Вдовьего дома с неожиданной энергией бросились за ними ухаживать.
«У каждого раненого явилось по нескольку хлопотливых сиделок, – умилялся увиденным корреспондент. – Когда старушки научились так ходить за больными? Неужели это у них осталось со времен все той же знаменитой Севастопольской кампании?
Настоящим к этому делу приставленным сестрам милосердия не остается работы. Старушки бегают, суетятся. Солдаты не знают, как выказать свою благодарность. (…)
Перевязки были сделаны раньше, чем доктор успел распорядиться, – и с каким искусством! Точно эти руки никогда не знали ничего другого, как только перевязывать раненых».
Раненых помещали везде, где только было возможно, – в московских монастырях[18], в народных домах, при музее Александра III, в популярных местах развлечений: Славянском и Купеческом клубах, Литературно-художественном кружке. При ресторане «Эрмитаж» был открыт госпиталь с полным оборудованием на 35 человек. Трактир «Тулон» в Зыковом переулке послужил приютом для сотни раненых солдат.
Главноначальствующий над Москвой предложил владельцам целого ряда популярных ресторанов и клубов: театра Зона, «Альказара», «Аполло», «Победы», ресторана Скалкина, «Аркадии», «Золотого якоря», «Тиволи», «Фантазии», Потешного сада, «Новых сокольников», Богородского сада-театра и Тестовского поселка – немедленно предоставить свои помещения в распоряжение городского головы для размещения раненых.

Лазарет при городском убежище для беспризорных детей и для престарелых им. И. А. Лямина. Офицерская палата
При этом администрация предупреждала, что в случае отказа заведения будут просто закрыты.
В один день, второго сентября, были освящены два лазарета служителей Мельпомены. Артисты Художественного театра на собственные средства открыли госпиталь на двадцать мест в бывшем доме Варгина на Тверской площади. Их коллеги, артисты Императорских театров (Большого и Малого), взяли на попечение сорок раненых. Поскольку из-за мобилизации в Москве ощущалась нехватка строительных рабочих, ремонт здания театрального училища в Неглинном проезде, отведенного под лазарет, провели сами артисты.

В лазарете артистов Императорских театров. Артистки – сестры милосердия за чаем
«Оригинальную картину представляла из себя, вчерне, внутренность ремонтируемого здания, походившего на улей, – отмечалось в “Обзоре лазарета Императорских театров для больных и раненых воинов”, – где как трудолюбивые пчелы с раннего утра до позднего вечера работали над окраской кроватей, столов, скамеек, дверей и окон не только артисты и артистки Императорских театров, но и ученики Императорского Московского театрального училища. Можно было видеть рядом с оперным певцом, преобразившимся в рабочего, окрашивающего двери, одну из звезд московского балета, стоящую на подоконнике и промывающую стекла окна, а дальше в запачканных краской передниках кордебалетные танцовщицы усердно красили эмалевой белой краской железные кровати, на которых они так еще недавно сами спали, будучи в интернате Училища.
Тут же артисты балета покрывали краской стены палат, а в свободные от занятий часы с разрешения начальства прибегали им помогать маленькие ученики балетной школы, сияя радостью, что и они могут послужить общему делу».

В лазарете Императорских театров. Врачебный обход
Финансирование госпиталя также взяли на себя артисты и служащие императорских театров, постановив отчислять на благое дело из заработной платы два процента. Балерина А. М. Балашова пожертвовала в госпитальный фонд 1000 рублей. Еще полтысячи рублей, свое ежемесячное жалованье, актриса распорядилась перечислять на содержание пяти кроватей. Кроме того, она обязалась до конца войны на собственные средства обеспечивать раненых чаем и сахаром. А художник К. А. Коровин, помимо двухпроцентного вычета из жалованья, отдал часть гонорара за декорации к опере «Евгений Онегин».
В ту же горячую пору было устроено несколько национальных лазаретов. Так, московское землячество эстов открыло при своем общежитии на Долгоруковской улице госпиталь на десять мест. Столько же раненых взялись содержать, арендовав помещение в доме Пастухова в Антипьевском переулке, члены украинского музыкально-драматического кружка «Кобзарь». На Поварской был развернут лазарет «Общества грузин в Москве». Видный член еврейского общества Я. М. Демент установил в своем доме на Большой Полянке 25 больничных коек.

Лазарет в доме владельца Трехгорной мануфактуры Н. И. Прохорова
В сентябре открыла госпиталь на 12 мест московская колония православных арабов-турецкоподданных.
Княгиня П. И. Щербатова приютила десять раненых офицеров в своем доме на Новинском бульваре, где на каждого героя приходилось по две сестры милосердия. Все они были из высшего общества. Другой представитель московской аристократии граф П. С. Шереметев выделил под госпиталь на сорок коек часть знаменитого дворца в усадьбе Кусково.
Другой дворец – Петровский подъездной, по традиции служивший на время коронаций резиденцией русским царям, а в остальное время стоявший пустым, – власти стали срочно приспосабливать под госпиталь на 274 койки. Проблема заключалась в том, что построенный в екатерининские времена архитектурный шедевр не был оборудован водопроводом, канализацией, электричеством. В срочном порядке творение М. Ф. Казакова стали оснащать этими достижениями цивилизации.
Журналисты с восторгом расписывали, каким великолепием будут окружены герои войны «в чертоге блеска и роскоши». Так, большую часть дня раненые могли проводить на примыкавшей к палате номер три террасе, откуда открывался вид на великолепный цветник. В палате номер шесть, помещавшейся в среднем большом зале, воображение вчерашних рабочих и крестьян должны были поражать гипсовые канделябры и знаменитые лепные потолки работы итальянских мастеров. В интерьерах остальных помещений сохранялись громадные зеркала в золоченых рамах и лепные камины.
Владимир Гиляровский посвятил госпиталю в Петровском дворце поэтические строки:
Близ белокаменной столицы
Стоит дворец. Стена, бойницы,
Старинных башен стройный ряд
О днях далеких говорят,
Когда сиял дворец огнями
Перед Высокими Гостями.
С тех пор прошло немало лет…
(…)
Не мало времени прошло,
Уже столетье протекло,
И снова гул войны священной
Грозой пронесся над вселенной.
Под боевой немолчный гром
Русь опоясалась огнем.
И перед вражескою тучей
Поднялся весь народ могучий —
От светлых, царственных палат
До закоптелых, бедных хат.
И во Дворце стоят кровати,
На них бойцы священной рати,
Врагом изранены, лежат,
О жарком бое говорят.
В конце сентября в другом дворце – кремлевском Потешном, находившемся в ведении Министерства императорского двора, для офицеров был открыт госпиталь императрицы Александры Федоровны.
Не уступала дворцам в роскоши зимняя дача А. И. Коншиной в Петровском парке, пожертвованная московской миллионершей под госпиталь. «Даже ряд простых железных кроватей, поставленных вдоль больших, светлых комнат, не может стереть отпечаток барской культуры, взлелеянной здесь долгими годами, – описывал увиденное репортер “Утра России”. – Зеркала занавешены, все лишнее убрано. Камины пока не топятся, только букеты свежих цветов украшают столовую, где больные собрались из всех палат попить чаек.
И все же люстры льют по вечерам такой мягкий, рассеянный свет; стены, отделанные под дуб, успокаивают нервы…»
Попав в непривычную обстановку барской усадьбы, нижние чины чувствовали себя не в своей тарелке. Один из них признавался корреспонденту: «Так хорошо, что даже первое время не верилось: для нас ли?» Поэтому раненые, сохранившие способность передвигаться самостоятельно, предпочитали больше времени проводить вне дома. Благо в их распоряжении был отгороженный от внешнего мира глухим забором обширный парк с уютными аллеями и прудом.
Надо полагать, не в худшей обстановке оказались пятьдесят раненых фронтовиков, размещенных в особняке Ф. И. Шаляпина на Новинском бульваре.
Лазареты появились не только в центре города, но и на его окраинах. Побывав на одной из них, журналист поделился впечатлениями с читателями газеты «Утро России»:
«Обычно такая сонная, захолустная Красносельская улица оживилась. Сделалась неузнаваемой. Она запружена народом.
Повсюду раненые. Воспользовались они ярким и теплым днем и появились на воздухе.
Больничные халаты, туфли и бескозырки. Кое-где начинает звучать смех, пока еще нерешительный и слабый.
Знакомая идиллия! Два солдатика любезничают с кухаркой.
– Вы не смотрите, что мы такие. Мы – гусары. Поправимся – и в седло.
Только руки у обоих обвязаны бинтами. И над воротами красуется свежая, блистающая еще непросохшей краской вывеска:
“Военный лазарет номер…”
Крупный номер. Трехзначное число.

Благотворительная продажа возле госпиталя. Раненые покупают флажки
Всюду жизнь, – и носы, приплюснутые к стеклам. Раненые на лавочках у ворот.
Каждую такую группу окружает почтительная, внимательная толпа. Раненые рассказывают о своих впечатлениях, и слушатели подбодряют:
– Так его!.. Ай да мы!.. Лихо!..»
Впрочем, эти островки благополучия только усугубляли общую неприглядную картину создавшегося положения. Главноуполномоченный Всероссийского земского союза князь Г. Е. Львов не скрывал, что общественные организации работают на пределе возможностей и готовы идти на крайние меры: «Пришлось занимать школы – заняли школы. Придется занимать частные дома – будем занимать и частные дома. Не хватает крытых помещений, и придется класть раненых на улице – нечего делать, будем класть на улице».
Все, кто напрямую занимался организацией помощи раненым, в один голос утверждали, что камнем преткновения является практическое отсутствие сортировки пострадавших в боях по тяжести полученных ран. «Москва едва ли в состоянии предоставить более 10–12 тысяч коек, – авторитетно заявлял профессор Л. С. Минор, – но эти койки “золотые”, ибо находятся при лучших в России больницах и лазаретах. Их нужно оставить только для тяжелораненых».
Положение осложнялось еще тем, что в тот период подавляющее большинство московских госпиталей были забиты пациентами с легкими ранениями. Газета «Утро России» писала 1 сентября 1914 года: «…громадное число прибывших, например, к нам, в Москву, раненых, целыми днями разгуливают по улицам города, так как не ощущают никакой потребности в лазаретном уходе и систематическом лечении».
Усугубляла и так сложную обстановку нераспорядительность военных чиновников. Переосвидетельствование выздоравливающих не было налажено должным образом, поэтому много мест занимали солдаты, уже не нуждавшиеся в медицинской помощи. «Очень туго движется эвакуация раненых из клиник, – делился наболевшим с журналистами профессор Н. Ф. Голубов. – У меня 120 мест, и все заняты ранеными; сорок человек из них совершенно выздоровели и даже годны в строй. Больные быстро поправились благодаря хорошему питанию и клиническому уходу. Но никак не можем добиться своевременной эвакуации этих выздоровевших раненых из клиник, несмотря на неоднократные обращения в разные учреждения, от которых зависит обратная эвакуация. Некоторые из выздоравливающих раненых ежедневно спрашивают: “Когда же нас к своим частям отправят?” “Скучно”, – говорят они. Ответить им никто не может, так как обратная эвакуация зависит не от клиник». Профессор Голубов предположил, что если такая же картина наблюдается в других московских госпиталях, то 25 процентов коек занимают вполне здоровые люди. Отчаявшись, некоторые заведующие лазаретами выписывали полностью излечившихся солдат.

Переноска тяжелораненого
В результате на улицах Москвы появилось множество праздношатающихся нижних чинов, которые по несколько дней обивали пороги воинских начальников, безуспешно пытаясь получить документы на проезд. Только после нелицеприятной критики со стороны общественных организаций военные власти наладили бесперебойную выписку из лазаретов годных в строй солдат.
По всей видимости, сложнее приходилось офицерам, лечившимся после ранений. Мемуарист Н. П. Розанов свидетельствует: «Родители раненых офицеров, привезенных для излечения в Москву, жаловались на то, что их сыновьям даже вылечиться как следует не дают, и плац-адъютанты разъезжают по квартирам больных офицеров, понуждая их поскорее отправляться на фронт. Так, прис<яжный> пов<еренный> Смирнов, с которым мне пришлось в эту пору быть в окружном суде присяжным заседателем, говорил мне, что его сына, капитана, уже шесть раз ранили на войне, и каждый раз, как он приезжал домой лечиться, у него “над душой стояли” архангелы из комендантства, спрашивая, скоро ли он отправится в свою часть на фронт…»
В начале декабря 1914 года командующий МВО издал приказ: офицеры, находившиеся на лечении в Москве, должны были каждые две недели являться на медицинскую комиссию. В автобиографическом произведении «Из писем прапорщика-артиллериста» писатель-философ Ф. А. Степун, попавший в госпиталь с контузией ноги и передвигавшийся только на костылях, описал, как это происходило на практике:
«Мое настроение, поскольку оно обусловлено не моим личным миром, а обстановкою войны в тылу, много хуже, чем на позиции. Госпитально-эвакуационный тыл решительно ужасен и отвратителен. Я не знаю более гнусного и подлого учреждения, чем 1-й московский эвакуационный пункт. Помещается он за городом, куда извозчик берет не менее пяти рублей в конец. Помещается на третьем этаже, на который ведет лестница без перил, обледенелая, скользкая и ничем не посыпанная. Ждать своей очереди приходится в грязном, узком коридоре, в котором стоит один рваный диван и очень ограниченное количество венских стульев. Многие раненые офицеры принуждены потому сидеть на подоконниках. При этом в спину так сверлит холодом, что, ей-богу, кажется, что у тебя в самом позвоночнике свистит ветер. Просиживать в такой обстановке доводится целые часы, пока старческая, шамкающая и, очевидно, бездельная комиссия соизволит тебя принять.
Кроме визита во врачебную комиссию приходится два раза в месяц, 1-го и 20-го, отправляться в канцелярию, в хозяйственную часть за получением жалованья. Канцелярия помещается, конечно, как нарочно не в том же громадном доме, и даже не на том же казарменном дворе, а в совершенно особо стоящем на другом конце площади офицерском собрании, и опять-таки во втором этаже. Нужно, таким образом, два раза подняться на костылях на второй этаж, два раза спуститься с него и два раза пересечь широкую, снежную площадь. Своего жалованья, однако, на эвакуационном пункте, несмотря на все эти мытарства, получить нельзя. После двухчасового ожидания, неизбежного потому, что десятки прошений толпы офицеров пишут за маленьким столом всего только в две ручки, ты снова получишь не деньги, а всего только аттестат, который надо везти в казенную палату, дабы после нового стояния в двух хвостах выручить наконец причитающиеся тебе 56 рублей. Таково обращение с офицерами, каково же с солдатами?
Скажите же на милость, что это все, как не прямое надругательство над теми людьми, которые как-никак жизнь свою отдавали за спасение родины и престиж русского государства. Ей-богу, удивляться надо и рабьей долготерпимости русского человека, и махровому хамству нашего административного аппарата…»
Непосредственный свидетель того, как военно-медицинская администрация обращалась с нижними чинами, Д. П. Оськин в своих «Записках» отразил это так:
«К концу недели нас всех вызвали на медицинский осмотр.
В одной из комнат административного корпуса заседала комиссия из нескольких врачей и офицеров. Солдаты, выстроившись в затылок друг другу, проходили через эту «комиссию», задерживаясь каждый буквально в течение нескольких секунд. Врач приказывал заранее снимать рубашки или шаровары, смотрел, кто куда ранен, взглядывал на лицо раненого, отмечал что-то в своей книге, и на этом “осмотр” заканчивался.
Это была не медицинская комиссия, а какая-то комедия, неизвестно для чего устроенная. Результат, впрочем, сказался довольно скоро – уже на следующий день в ротной канцелярии вывесили список, гласящий, что перечисленные в нем солдаты (человек сорок) признаны здоровыми и подлежат выписке на фронт».
Вернемся, однако, в лето 1914 года. Одним из способов разгрузки госпиталей в трудные августовские дни стал так называемый «патронаж». Суть его заключалась в том, что воинов с легкими ранениями размещали на частных квартирах – в семьях или в маленьких лазаретах, устроенных жильцами домов вскладчину в пустующей квартире. Пионерами в этом деле были квартиранты дома номер 14 на Чистых прудах, организовавшие «Первый кооперативный лазарет». В Фурманом переулке домовладелец Рабинович предоставил помещение, а содержание размещенных в нем десяти раненых взяли на себя жильцы дома.
Со страниц газет раздавались призывы обязать домовладельцев отдавать пустующие квартиры – их в Москве насчитывалось около 1500 – под лазареты. По приказу градоначальника полиция совершила обход и выявила все свободные жилые помещения. Однако Городская управа не стала спешить с мобилизацией жилого фонда. Хорошо зная характер московских домовладельцев, отцы города не хотели пробуждать их алчность. Арендная плата за госпиталь значительно превышала доход от жильцов, и у домовладельцев наверняка возникло бы желание избавиться от квартирантов ради отдачи помещений в казенный подряд.
В конечном итоге было решено ограничиться лишь призывом разобрать раненых по домам на добровольной основе. «Им будет хорошо в домашнем уюте», – утверждал председатель Московского комитета Красного Креста А. Д. Самарин. Еще дальше пошла в своем обращении к русской интеллигенции А. Р. Крандиевская. В лучших традициях чеховских героинь она призывала воспользоваться патронажем для единения с простым народом: «…со стороны, так сказать, выпуклости нашей душевности в делах, связанных с общим мировым горем, нет ничего более благодарного и более выгодного для нас, как то милосердие, которое должно спаять нас с нашим народом».
По мнению А. Р. Крандиевской, житье бок о бок с людьми «от сохи» должно было оставить в сердцах более сотни тысяч интеллигентов неизгладимые впечатления о том, «…как мы с ними роднились через наше добро, гостеприимство, как много это добро дало самим нам, какое нравственное удовлетворение дали нам временная теснота нашей квартиры, временное “неудобство”, как интересны, поучительны и для нас и для наших детей были у нас вечера, во время которых вели мы с гостями нашими такие душевные и такие хорошие беседы, как много узнали мы и наши дети из рассказов воинов о войне, о сражениях. Как много узнали о деревне, о народной нужде и горе, о народных чаяниях и надеждах».
Возможно, массовое превращение уютных квартирок в «коммуналки» позволило бы русской интеллигенции наконец-то познать «сермяжную правду». Однако беда была в том, что выходцы из народа без особой охоты шли на частные квартиры. Солдаты объясняли это тем, что в госпиталях есть «общество», т. е. там можно отвести душу в разговорах, особенно если встретить земляков. А главное, кроме таких тяжких испытаний, как прием пищи за «барским» столом и пользование ватерклозетом, выходцев из народа угнетала мысль о том, что они должны быть чем-то вроде приживальщиков у конкретного благодетеля. В моральном плане принимать благодеяния от общественной организации было гораздо легче.

М. Щеглов. Новый герой московских гостиных
Тем не менее, по сведениям из Всероссийского земского союза помощи раненым, к исходу первой недели сентября в патронат было оформлено 5643 легкораненых. А заявок от москвичей ежедневно поступало на 500 человек. Вот только у патроната оказалась другая сторона медали. Газеты отмечали, что «частные лица, взявшие себе на дом так называемых легкораненых, которые давно уже совершенно выздоровели, недоумевают, почему этих выздоровевших все еще не отпускают по домам или не возвращают в армию».
Кроме того, среди легкораненых оказалось довольно много специфической публики. «Когда к нам в семинарскую больницу привезли с фронта первых раненых солдат, – свидетельствовал Н. П. Розанов, – то я увидел, что у многих ранены были пальцы на руках, что, как объяснили мне опытные люди, было уловкой самих солдатиков, простреливавших себе пальцы, чтобы быть эвакуированными с фронта в тыл».
Эти «герои-фронтовики», разгуливавшие в больничных халатах поверх белья, настолько заполонили московские улицы, что в конце концов обратили на себя внимание военных властей. Не успели высохнуть чернила на воззвании госпожи Крандиевской, как шестого сентября стало известно о настоятельной просьбе командующего МВО: не отправлять легкораненых в патронаж, а если и отправлять, то партиями не менее четырех человек. А десятого сентября поступил окончательный запрет: «…ввиду того, что раненые продолжают появляться на улицах не в установленной форме, имея на себе халат и нижнее белье и не соблюдая правил воинского почитания, временно командующий войсками приказал совершенно воспретить раздачу раненых на квартиры».
В дополнительной телеграмме внимание руководителей лазаретов обращалось на то, что выписанных солдат следует направлять к воинским начальникам в чистом белье. Вскоре последовал приказ: наряжать из частей московского гарнизона «особые дозоры», которые должны были задерживать одетых не по форме солдат и препровождать их в ближайшие полицейские участки. Наконец, 14 сентября были обнародованы утвержденные штабом МВО «Правила для раненых»:
«1. Не допускать нижних чинов выходить для прогулок на улицу; тем из них, которые должны ходить на перевязку, надлежит выходить одетыми строго по форме; в халате и без сапог выход нижним чинам безусловно запрещается.
2. Выздоравливающих и не нуждающихся в коечном лечении нижних чинов не задерживать для отдыха в лечебных заведениях и патронатах, а безотлагательно направлять в управление московского воинского начальника.
3. Подтвердить нижним чинам, что согласно уставу внутренней службы им запрещается занимать места внутри вагонов трамвая и ходить по бульварам и скверам.
4. Для осмотра исторических памятников Москвы и поклонения московским святыням разрешается увольнять эвакуированных раненых и больных нижних чинов командами, при старшем и в сопровождении лица, могущего преподать им нужные сведения. В командах этих не должно быть нижних чинов, одетых не по форме».
Претворение в жизнь приказов командующего МВО облегчалось тем, что количество раненых в Москве заметно сократилось. То ли лучше заработала сортировка и распределение раненых по другим регионам, то ли удалось решить проблему с выпиской вылеченных солдат, но уже 12 сентября газета «Утро России» сообщила: «На улицах их <раненых> почти не видно». Тут же была приведена радостная статистика – в лазаретах из 35 тысяч коек уже свободны 16 тысяч, в том числе 5 тысяч в госпиталях военного ведомства.
Месяц спустя на страницах той же газеты председатель Всероссийского земского союза князь Г. Е. Львов констатировал:
«Мы можем теперь быть спокойны за наших раненых воинов. Слава Богу, чувство боли и мучительной тревоги за них сменилось теперь чувством полного спокойствия за их участь и уверенностью в том, что каждый больной и раненый, возвращающийся с поля сражения, найдет здесь дома, внутри империи, спокойную койку, братский уход, лечение. За два месяца один Всероссийский земский союз открыл 150 тысяч коек, а всех коек в России до 300 тысяч. Заготовлены громадные запасы белья, перевязочного материала, лекарств, и десятки тысяч сердобольных сестер и братьев могут принять теперь непосредственное участие в святом деле помощи раненым в стройно-организованной работе.
Дело сделано, работа пошла в широком русле могучего течения великих чувств великого русского народа. Его фарватер вместит и поднимет какие угодно грузы. Мы не боимся никакой перегрузки. Нам нечего сомневаться, русский народ поднимет и понесет легко всякое бремя, великую тяжесть судьбы. (…)
Спокойные за наших больных и раненых воинов, двинемся теперь всем миром на помощь нашей армии. Поддержим ее, нашу честь, нашу славу, нашу доблестную геройскую армию. Поддержим ее в великих страстях, трудах и подвигах. Дадим все, что надо ей на передовых позициях, в окопах, в открытом поле, в холоде и мокроте. Обвеем ее там духом любви матери, родной земли».
Итак, в октябре 1914 года в Москве заработала полностью отлаженная система приема, размещения и ухода за ранеными. Город предоставлял им благоустроенные лазареты с полными штатами персонала, полноценное питание и заботливый уход. От раненых только требовалось безоговорочно подчиняться установленному распорядку. Медицинские процедуры, прием пищи – все проходило строго по часам. Конечно, на первом для раненых месте стояли операции и перевязки.
Уровень медицины того времени превращал обработку самых простых ран в тяжелое испытание. Н. М. Гершензон-Чегодаева навсегда запомнила услышанный в детстве рассказ знакомого их семьи, раненного на фронте: «Он как-то пришел к нам (…) хромой, с палкой в руках и у нас в саду рассказывал о своей ране, о пережитых им ужасных страданиях. Никогда не забуду того потрясающего впечатления, которое осталось у меня от его слов, от рассказа о том, как ему через сквозную рану на ноге протаскивали тампон, пропитанный йодом».
Ф. А. Степун, испытавший на себе, что значит побывать в госпитале, писал о пережитом:
«Нигде война не производит такого страшного впечатления, как в лечебнице. Здесь у нас в “тяжелых” палатах царствует голое, тупое и совершенно беззащитное страдание. Мне никогда не передать вам того жуткого инквизиционного холода, который каждый раз леденит мою душу, когда я прохожу мимо светлых, чистых, теплых, белых операционных комнат. Верите ли, операционная много страшнее всякого окопа. Всякой опасности на войне вы можете оказать сопротивление своею свободною, нравственною личностью. Одним из главных элементов этой личности является ваша вера в вашу судьбу, которая, вам кажется, не хочет вашей гибели, вашего страдания. Если не хотите веры и судьбы, вопрос можно повернуть проще. В каждой опасности на войне есть элемент случайности. Всякая шрапнель, шумя на вас, может и не попасть в вас, и в этом, может, и коренится в значительной степени ваша сила противоборства и сопротивления.
В лазаретах нет ничего подобного. Над каждой душой, как ястреб над выводком, здесь висит обреченность. Каждый тяжелый, прислушиваясь к шагам санитаров по коридору, определенно знает, что сейчас придут за ним и возьмут на мучительную перевязку не его соседа по койке, а неизбежно его самого. Людей как субъектов воли и действия здесь почти нет, все они превращены в объекты воздействия чужой воли. Измученные и изнервничавшиеся, они почти не люди, а всего только придатки к своим раздробленным конечностям и кровоточащим ранам. То один, то другой восходит в свой “канун”, в свой последний вечер, тупо упираясь мыслью в неотвратимо тупой факт, что завтра его положат на стол, заставят задохнуться под зловонной маской и, превратив в тушу, отрежут ногу или продолбят череп, а быть может, отправят и на тот свет.

П. Першин. С перевязки. Набросок с натуры
Изо дня в день тяжелые живут исключительно нежеланием перевязок; изо дня в день они подымают одеяло и, морща нос, принюхиваются к своему зловонию, в страшной тоске боясь бича всех хирургических – заражения крови. Слава Богу, у нас в лазарете все эти страхи, благодаря исключительно хорошей постановке дела, только порождения мнительной фантазии больных.

Сестра милосердия

Перевязка раненого в лазарете
Но если бы вы знали, что делается в военных госпиталях, где больные мрут как мухи, а здоровые кутят и безобразничают».
Бывало, что во время перевязки проявить одинаковое мужество требовалось как раненым, так и сестрам милосердия. Дочь Льва Толстого Александра, добровольно поступившая во фронтовой санитарный отряд, вспоминала об одном из случаев в своей практике:
«Никогда не забуду одного раненого. Снарядом у него были почти оторваны обе ягодицы. По-видимому, его не сразу подобрали с поля сражения. От ран шло страшное зловоние. Вместо ягодиц зияли две серо-грязные громадные раны. Что-то в них копошилось, и, нагнувшись, я увидела… черви! Толстые, упитанные белые черви! Чтобы промыть раны и убить червей, надо было промыть их сильным раствором сулемы. Пока я это делала, раненый лежал на животе. Он не стонал, не жаловался, только скрипели стиснутые от страшной боли зубы.
Перевязать эти раны, чтобы повязка держалась и чтобы задний проход оставался свободным, – было делом нелегким… Не знаю, справилась ли я с этой задачей…»
Княжна Е. Н. Сайн-Витгенштейн, поступившая вместе с сестрой на курсы при Ново-Екатерининской больнице, описала в дневнике свое первое участие в перевязке:
«У меня даже дрожь по телу пробегает, когда я вспоминаю это утро. Нас с Татьяной поставили на самые страшные перевязки („Мнение новичка“. – Примечание автора дневника, сделанное в 1916 г.), и я удивляюсь той храбрости, с которой Татьяна присутствовала при всех, все время помогая. Я не выдержала: при первой же перевязке (раздробленный шрапнелью локоть), на которой я должна была держать таз, при виде громадной гнойной раны и осколков костей, которые доктор бросал в мой таз, мне сделалось дурно, глубокий обморок. Я помню, как я кому-то передала таз, отошла и прислонилась к стене, потом захотелось выйти из перевязочной, чтобы быть подальше от ее тяжелого запаха, вышла в коридор, а дальше – ничего. Оказалось, что я там упала на дверь перевязочной, которая открылась, и я с шумом влетела обратно в перевязочную. Должно быть, это было очень смешное зрелище! Я очнулась, лежа на койке в одной из палат, около меня стояли разные няни, сестры и доктор. Меня напоили валериановыми каплями и велели лежать смирно. Мне было скверно, и я клялась себе, что больше не вернусь в эту страшную комнату».
Менее чем через три месяца Е. Н. Сайн-Витгенштейн отметила в дневнике:
«Теперь, когда мы кончили наш курс ученья и создали себе известное положение, нам и легче и приятнее работать. Наш труд ценят и доктора, и больные: когда, отработав свои шесть недель, мы собрались уходить в частный лазарет, как это делают все, но нас не пустили, а принудили остаться в числе немногих избранных, оставленных при больнице. Скажу без хвастовства: мы, да еще двое, считаемся самыми лучшими сестрами в нашей больнице, а всего сестер было около двухсот».
Княгиня не зря гордилась достигнутыми успехами. Светские дамы, не умеющие толком ухаживать за ранеными, но в общем порыве ринувшиеся в лазареты, служили мишенями для острот. Вот как их изобразил автор фельетона «Сестры немилосердные»:
«Они работают почти в каждом лазарете и своими сверкающими белизной халатами, тончайшими повязками, бриллиантами в ушах и на руках напоминают каких-то экзотических бабочек.
В самые счастливые дни на одного прибывшего солдата приходится по десятку доброволиц, в самые несчастные – десятки солдат остаются без единой заботы их нежных ручек.
Я позволю себе рассказать о самых счастливых днях.
Когда привозят раненых, часто голодных, грязных и усталых, они тут, суетливые, ахающие, беспокойные.
И тотчас же пускают в ход все орудия своего туалетного стола – одеколоны, уксусы и прочие притирания.
Ну, конечно, это смущает солдата:
– Что вы, барышня?.. Да я бы сперва водицей.
– Молчи, пожалуйста, – мило возражают они. – Во-первых, одеколон гораздо гигиеничнее воды, во-вторых, это стоит всего полтора рубля, в-третьих…
И раненый уже не протестует, а только сопит, подставляя щеки:
– Фр-р-р!.. Вам лучше знать… Фр-р-р!.. Вы все произошли… Фр-р-р!.. Ух, духовитая эта штука…
Есть врачи… С ними беда… Не любят они таких доброволиц и всегда ужасно грубят и язвят.
Но ведь всем известно, что это за народ врачи – самый чудовищный народ.
Был, например, в одном лазарете такой случай.
Аристократка-доброволица увидала на халате врача одну из самых неприятных представительниц солдатской фауны. Громадная, серая, она ползла по рукаву халата, с усилием преодолевая ворсу ткани.
– Николай Петрович! – воскликнула с умиленным видом сверхнаивная девушка, – смотрите, какая у вас на рукаве милая… божья коровка!
Врач едва не умер от смеха, а за ним и весь лазарет смеялся несколько дней:
– Божья коровка!..
Но еще больше допекают
|
Метки: москва первая мировая война красный крест |
ГЕНЕРАЛИССИМУС ЖОФФР. № 37 ЖУРНАЛА «ИСКРЫ», ГОД 1914-Й |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||
| http://www.odin-fakt.ru/iskry/generalissimus_37_1914 | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Метки: первая мировая война москва красный крест |
Москва на службе России в годы Первой Мировой войны |
Москва на службе России в годы Первой Мировой войны
О.Л. Сорокина, к.и.н.
самолет Фарман русской армии
Мировой войне предшествовал балканский кризис, началом которого стало убийство 28 июня 1914 года в Сараеве австрийского престолонаследника Франца Фердинанда. Покушение осуществили члены организации «Млада Босна» (1912 г. возникновения) Данило Илич, Гаврило Принцип. Но тогда в июне 1914 года превращению его в мировую войну ничего не предвещало. «Первое время официальные отношения между Веной и Петербургом не вызывали каких-либо осложнений. В обеих столицах не собирались обострять обстановку, в Вене попытались даже воздействовать на легитимные чувства царя и Сазонова, убедив их в необходимости организации единого фронта монархической Европы против сербов-революционеров… Однако царское правительство не клюнуло на эту удочку. Монархические чувства царя отступили на второй план перед империалистическими интересами. После неудачи на Дальнем Востоке Петербург выдвинул доктрину: «Назад, в Европу!». Балканы стали играть все возрастающую роль в экономических, политических и военно-стратегических планах Российской Империи… Сербия, являвшаяся по образному выражению венгерской газеты «Уйвидеки хирлаа» воротами на Балканы, занимала важное место в экспансионистских замыслах Петербурга. Она, по расчетам царского министра иностранных дел С.Д. Сазонова, могла стать центром возрождения Балканского союза, в состав в перспективе предполагалось включить Турцию и Румынию». В этих условиях «российское правительство решило действовать при помощи давно испытанных средств – от скрытого давления до военных угроз и гласных посулов.» (Ю.А. Писарев. Тайны первой мировой войны. Россия и Сербия в 1914-1915 гг. – М.: Наука, 1990. – С. 58-59). С одной стороны, оно посоветовало Сербии вступить в переговоры с Австро-Венгрией, чтобы снять накал напряжения. С другой стороны в Петербурге дали ясно понять, что в случае нападения Австро-Венгрии на Сербию Россия не останется в стороне. Вот как вспоминал позднее в эмиграции об этих днях бывший военный министр В. Сухомлинов: «в русском военном министерстве войны не ожидали… Как обыкновенно, в мае все войска покинули свои казармы, артиллерия приступила к практической стрельбе. В июле – готовились к проектированным еще зимой маневрам». (Воспоминания. – Берлин, 1924 г. С. 283.) И в этой размеренной обстановке «неожиданностью стало предложение прибыть на заседание Совета в Красное Село 12(25) июля в разгар лагерного сбора».
И завертелось. 13(26) июля 1914 года вводится Положение о подготовительном к войне периоде, но без объявления непосредственной мобилизации. Это Положение предполагало принятия всеми ведомствами мер для подготовки и обеспечения мобилизации армии и флота, крепостей и сосредоточения армии к границам вероятных противников. (В.А. Авдеев. Пролог исторической трагедии. Русская мобилизация в июле 1914 г.// Военно-исторический журнал. 1994. №7. С. 40-41). А уже 15(28) июля С.Д. Сазонов передает начальнику Генерального штаба Высочайшее повеление об изготовлении двух указов: одного о частичной мобилизации и другого – на случай общей мобилизации за подписью Государя императора. Но утром 16(29) июля австрийцы переходят сербскую границу. И все мероприятия, переговоры с немецкой стороной отходят на второй план. По оценкам С.Д. Сазонова день 16(29) июля был «многознаменательным для переговоров, предшествовавших объявлению нам войны Германией. В этот день мы узнали доподлинно, что военное столкновение между Австро-Германией и Россией и Францией стало неизбежно… Австро-Венгрия объявила войну, (Сербии – С.О.) и на другой же день начала бомбардировку Белграда. Против нас ею было мобилизовано восемь армейских корпусов, что вызвало с нашей стороны ответные мобилизационные меры на австрийской границе…(С.Д. Сазонов. Воспоминания. М., 1991. С.234-235). События этих дней катастрофически приближали страну к войне.
Развязка наступила 18(31) июля 1914 года, когда после долгих колебаний Николай II дает согласие приступить к общей мобилизации, первым днем которой и должен был стать день 18 (31) июля. В военные округа стали уходить телеграммы. А в 7 часов 10 минут вечера 19 июля (1 августа) германский посол граф Пурталес на аудиенции у С.Д. Сазонова вручил русскому министру иностранных дел ноту с объявлением войны, ответственность за которую возлагалось на Россию. (В.А. Авдеев. Указ. Соч. С. 45). 3 августа война была объявлена германским правительством Франции. В тот же день, передовыми частями германской армии был оккупирован Люксембург. Первая мировая война стала реальностью. 2 августа 1914 года в Зимнем дворце было совершенно торжественное богослужение, на котором присутствовал единственный иностранец, французский посланник, «представитель союзниц России» — Морис Палеолог, запечатлевший в своих воспоминаниях «Царская Россия во время мировой войны» (М.-Л., 1923 г.) этот судьбоносный момент. Он писал: «Зрелище великолепное. В громадном Георгиевском зале… собрано пять или шесть тысяч человек. Весь двор в торжественных одеждах, все офицеры гарнизона в походной форме. По середине зала помещен престол и туда перенесли чудотворную икону Казанской Божьей Матери… В благоговейной тишине императорский кортеж проходит через зал и становится слева от алтаря… Божественная служба начинается тотчас же, сопровождаемая мощными и патетическими песнопениями православной литургии. После окончания молитв, дворцовый священник читает манифест царя народу…». А 4 августа Государь с семьей торжественно въезжает в Москву под звон колоколов, встречаемый, по словам генерала А.И. Спиридовича, еще с большим, чем раньше энтузиазмом. Было обстоятельство, внесшее нотку горечи в то пребывание в Москве. Наследник был болен. Не мог ходить. На выходах его носил на руках казак-конвоец. В народе много про это говорили… 8 августа Государь принял городских голов со всей России, собравшихся в Москву для разрешения вопросов о помощи раненым. В тот же день Государь покинул Москву и отправился в Троицко-Сергиевскую Лавру. Отслужили молебен, приложились к мощам Угодника. Архимандрит Товий благословил Государя иконой явления Богоматери преподобному Сергию. Его Величество повелел отправить икону в Ставку, а сам с семьей направился в Царское село…(А.И. Спиридович. «Великая Война и Февральская Революция 1914-1917 гг.», Нью-Йорк, 1960-62, С.3)
А.Н. Туполев
Наступившая реальность была намного прозаичнее. С первых же месяцев войны русское правительство на фронте сталкивается с недостатком снарядов и винтовок. Все предвоенные расчеты и нормы с первых же военных операций были опрокинуты. На юго-западном фронте норма снарядов была израсходована в 16 дней, а все запасы – в 4 месяца. Решить эту проблему русская промышленность не имела возможности. Восстановить израсходованное она могла только в течение года, так как к мобилизационной подготовке промышленности к большой и длительной войне никто не думал, и, наоборот, по выполнении «программы» заказы сокращались, хотя заказов до конца 1914 года было выдано более чем на 14 млн. снарядов, темпы их изготовления внутри страны отнюдь не ускорились. (А.Л. Сидоров. Экономическое положение России в годы первой мировой войны. М.: Из-во «Наука», 1973, С.20). Дело осложняло и то, что военная перестройка русской промышленности началась с опозданием и проходила без всякого плана, сравнительно медленно с колоссальной тратой средств, зачастую не соответствовавших результатам. И как следствие этих проблем стало положение дел на восточном фронте, где идя навстречу просьбам союзников, русское командование, не дожидаясь сосредоточения всех сил на театре военных действий (оно могло быть достигнуто лишь на 40-й день после начала всеобщей мобилизации), развернуло операции в Восточной Пруссии. В боях под Гумбиненом немецкие войска потерпели тяжелое поражение. Сняв значительные силы с Западного фронта, германское командование смогло осуществить частичное окружение в районе Танненберга 2-й армии генерала А.В. Самсонова. Около 30 тыс. человек попало в плен. В итоге русские войска были вытеснены из Восточной Пруссии. Тем не менее, немцам пришлось ослабить свои силы на Западном фронте, что позволило англо-французским войскам в кровопролитном сражении на Марне остановить германское наступление. План «молниеносной войны» провалился благодаря крови, пролитой русскими солдатами в Восточной Пруссии. В августе-сентябре 1914 года русские войска в грандиозной Галицийской битве нанесли тяжелое поражение австрийцам, потерявшим около 400 тыс. человек. Армии Юго-Западного фронта продвинулись на 280-300 км, захватив Галицию. Попытки немцев нанести поражение русским войскам в Польше (осенью 1914 года) не увенчались успехом. На Кавказе в ходе Сарыкамышской операции русская армия разгромила турок, потерявших 90 тыс. человек.
А в тыловые города России потекли эшелоны с ранеными и больными. Первый санитарный транспорт Москва встретила 8 августа. Правда, торжественность момента немного испортило то обстоятельство, что среди прибывших воинов большинство были просто больны, и только четверо среди них – трое солдат и один офицер–получили настоящие боевые ранения на полях сражений… Однако уже на следующий день москвичи увидели реальное лицо войны: к маленькой платформе Окружной железной дороги прибыл целый санитарный эшелон. «Москва оказывается недостаточно подготовленной для быстрого и рационального размещения прибывающих в нее раненых,- сообщала в передовице газета «Утро России». В необъятной Москве, с ее громадными пустующими дворцами, с ее монастырями, общественными зданиями и залами, вдруг оказывается недостаток в помещениях. В наличных лазаретах не хватает кроватей, и раненых приходится размещать вповалку, на соломе и древесных стружках». В той же статье была указана одна из главных причин возникшего кризиса – нераспорядительность чиновной бюрократии, которая не ассигновала вовремя необходимые средства, понадеявшись, видимо, на добровольные пожертвования…( В.Руга. «Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта в период Первой мировой войны /Владимир Руга, Андрей Кокорев. М.:АСТ, 2011, С. 104,116.).Прежде всего в лазареты превратились различные учебные заведения… Госпитали были открыты в Сельскохозяйственном институте, в Строгановском училище, в Училище зодчества и ваяния на Мясницкой, в здании Консерватории. В квартире директора и в чертежной Императорского технического училища (МВТУ имени Н.Э.Баумана) поставили 100 кроватей, а в студенческом общежитии – 350. Через два дня их количество увеличили до 500… Раненых помещали везде, где только было возможно, – в московских монастырях, в народных домах, при музее Александра III, в популярных места развлечений: Славянском и Купеческом клубах, Литературно-художественном кружке. При ресторане «Эрмитаж» был открыт госпиталь с полным оборудование на 35 человек. Трактир «Тулон» в Зыковом переулке послужил приютом для сотни раненых солдат. Главноначальствующий над Москвой предложил владельцам целого ряда популярных ресторанов и клубов: театра Зона, «Альказара», «Аполло», «Победы», ресторана Скалкина, «Аркадии», «Золотого якоря», «Тиволи», «Фантазии», Потешного сада, «Новых сокольников», Богородского сада-театра и Тестовского поселка – немедленно предоставить свои помещения в распоряжение городского головы для размещения раненых… При этом администрация предупреждала, что в случае отказа заведения будут просто закрыты… (Там же. С.117-120). Обычно такая сонная, захолустная Красносельская улица оживилась. Сделалась неузнаваемой. Она запружена народом. Повсюду раненые. В конце июля 1914 года в помощь существующим военным госпиталям по инициативе общественных организаций началось создание частных лазаретов. К 6 августа их насчитывалось уже несколько десятков с общим количеством 1220 мест. Москвичка Р.М. Хин-Гольдовская в августе 1914 г. записала в дневнике: «В смысле помощи раненым общество ведет себя изумительно. Все дают без конца. Составляются маленькие группы, чтобы устроить хоть какой-нибудь лазарет. (И мы с Над[енькой] и Эвой вошли в такую группу–и в первое же заседание членские взносы определились 850 р. в месяц)». (В.Руга. «Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта в период Первой мировой войны/Владимир Руга, Андрей Кокорев. М.:АСТ, 2011, С. 101».)
Временный госпиталь в частном училище Мазинга, Москва
В Москве в это время открылось много небольших госпиталей, на 15–20 коек. Инициаторами их были люди из разных социальных слоев: от крупных промышленников, до обычных обывателей, — каждый из них стремился внести свою лепту в дело помощи раненым. Один из них, разместившийся в Милютинском переулке, был создан вскладчину – на средства сразу нескольких польских общественных организаций: «Союза польских женщин», «Дома польского», «Благотворительного общества вспомоществования бедным римско-католического вероисповедания в Москве», общества любителей хоровой музыки и пения «Лютня», «Польского гимнастического общества». (Там же. С. 102). «Одним из способов разгрузки госпиталей в трудные августовские дни стал так называемый «патронаж». Суть его заключалась в том, что воинов с легкими ранениями размещали на частных квартирах – в семьях или в маленьких лазаретах, устроенных жильцами домов вскладчину в пустующей квартире. Пионерами в этом деле были квартиранты дома номер 14 на Чистых прудах, организовавшие «Первый кооперативный лазарет». В Фурманом переулке домовладелец Рабинович предоставил помещение, а содержание размещенных в нем десяти раненых взяли на себя жильцы дома…». Были и такие случаи, проводив павшего в бою воина в последний путь, некоторые из москвичей старались увековечить память о герое. Так, отец корнета А.Г.фон Кеппена назвал именем сына госпиталь на 25 раненых, открытый им на Ново-Басманной улице…». (В.Руга.«Повседневная жизнь Москвы. Очерки городского быта в период Первой мировой войны».). Начавшаяся война предопределила, с одной стороны, рост патриотизма в российском обществе, а, с другой стороны, взаимную ненависть народов воюющих стран. Эскалация военных действий летом-осенью 1914 года стимулировала рост враждебных настроений населения России к представителям Германии и Австро-Венгрии, которых к началу войны в Москве, согласно данным московской полиции, проживало примерно 7500 подданных Германии и Австро-Венгрии. (Там же. С. 428).
Нагнетание антигерманских настроений повлекло соответствующие результаты: из Москвы было выслано около двух тысяч германских и австро-венгерских подданных, начался повсеместный бойкот немецких товаров, лавок и магазинов. Распространялась практика отказов от делового сотрудничества с немцами, в ходе которой московские немцы сначала были вытеснены из представительных органов делового мира (из Московского биржевого комитета…), а позже над большинством «немецких» фирм был установлен контроль правительства. Роль координационного центра этой кампании играл образованный в Петрограде Особый комитет по борьбе с немецким засильем. 1 апреля 1915 года на территории России закрылись все без исключения немецкие гимназии. В августе-сентябре 1914 года прошла серия мер по переименованию населенных пунктов, носящих немецкое название. 3 сентября 1914 года город Санкт-Петербург был переименован в Петроград. (В. Дённингхаус. Немцы в общественной жизни Москвы: симбиоз и конфликт (1494-1941). Перевод. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2004. С. 325, 326). А «все без исключением проживающие в пределах Московского градоначальничества германские и австрийские подданные мужского пола в возрасте от 17 до 45 лет считаются военнопленными… Лица, кои окажутся виновными в неисполнении или нарушении сего обязательного постановления, подвергаются в административном порядке заключению в тюрьму или крепости на 3 месяца, или аресту на тот же срок, или денежному штрафу до 3 тысяч рублей…Следом за военнопленными должны были последовать члены их семей». Кроме этого запрещалась немецкая речь в общественных местах, штрафные санкции для нарушающих были идентичными, предыдущим нарушениям. Непатриотичным считалось и исполнение произведений немецких композиторов – Бах, Штраус. Весной 1915 года закрылись все немецкоязычные газеты, конфисковывались книги, издаваемые для этнических немцев. В газетах, речах государственных деятелей нагнетались антигерманские настроения.
Общим сигналом к началу интенсивной антинемецкой пропаганды в столице стала речь Николая II, произнесенная 4 августа 1914 года перед гласными Московской городской думы. Результатом выступления явился погром, учиненный толпой 5 августа в германском посольстве при полном невмешательстве полиции. Во время визита Николая II в Москву на улицы города вышли на национально-патриотическую манифестацию около миллиона москвичей. С этого времени столичные газеты и журналы усилили агитацию под германофобскими лозунгами, которые обосновывались «тевтонской опасностью» и жестокостями немцев в отношении населения оккупированных территорий, а позднее и военнопленных. С этого времени приметой Москвы периода первой мировой войны стал «…рост антинемецких настроений среди рабочих, вызванных оскорблениями национальных чувств и придирчивостью со стороны представителей фабричной администрации из числа немцев и австрийцев. Обида на немцев и уязвленное имперское самолюбие усилили германофобию и привели, на фоне массового патриотического подъема, к взрыву конфликта на бытовом уровне против членов немецкой колонии в Москве. 10 октября 1914 года, впервые с начала военных действий, в Москве были совершены нападения на предприятия германских и австро-венгерских подданных. В то время в городе насчитывалось189 торговых домов, обществ и фирм, в число владельцев которых входили немцы и австрийцы, а также более 300 их единоличных торговых, ремесленных, фабричных и других заведений. Группами протестующих обывателей в тот день были разбиты витрины и частично расхищены товары в кондитерских магазинах «Эйнем» в Верхних торговых рядах и на Ильинке, «Мандль» на Рождественке, «Дрезден» на Мясницкой и в некоторых других. Полиции удалось тогда разогнать погромщиков и предотвратить полный разгром торговых помещений, но взрывоопасная ситуация в городе сохранялась». (В.А.Любартович, Е.М. Юхименко. «Немецкий купеческий род Прове: два века с Москвой. М.:Издательский Дом ТОНЧУ, 2008. С. 175-176.».). «В конце мая 1915 года,…в Москве, произошел грандиозный погром. Били немцев»,– так…начал свои воспоминания об этом событии…статский советник Н.П.Харламов, посланный в 1915 году во вторую столицу для официального расследования.
Погромные настроения тлели там и ранее. Еще «осенью 1914 г. в Москве,– свидетельствовал полковник Кирасирского полка Г.А.Гоштовт,– истерически настроенная оголтелая толпа топила в реке старушку только за то, что она носила немецкую фамилию. Внешними причинами разразившегося в Москве погрома были военные неудачи на фронте. Погром в Москве продолжался три дня: с 27 по 29 мая. Еще 26 мая около полутора тысяч рабочих ситценабивной фабрики Гюбнера выдвинули перед администрацией коллективное требование: удалить всех служащих и рабочих из «немцев-эльзасцев». Не получив удовлетворения, толпы рабочих с флагами, портретами Государя, пением гимна и выкриками «Долой немцев!» вышли на улицы. На следующий день с утра все повторилось. Сотни рабочих заполнили улицы Замоскворечья. Толпа насчитывала до 10 тысяч человек. 28 забастовали все заводы Москвы. Толпы были еще гуще. Несли национальные флаги, Царские портреты, пели народный гимн. Кричали «Долой немцев!», «Да здравствует Государь Император и Русская Армия!». Утром 28 мая погромы вышли за пределы Москвы…Число погромщиков в самый пик погрома, 27-28 мая, превышало100 тыс. человек. Лишь прибывшие в город, по решению Московской городской думы… утром 29 мая регулярные воинские части прекратили погром. В ходе погрома было убито 5 человек немецкого происхождения, четверо из которых были женщины. Разгромлено 732 отдельных помещения, в число которых входили магазины, склады, конторы и частные квартиры. Официально было зафиксировано более 60 возгораний. Приблизительная общая сумма убытка – более 50 миллионов рублей. Расследование установило, что в результате трехдневных беспорядков пострадали не только 113 австро-германских подданных, но и 489 подданных Российской Империи с иностранными и 90 с чисто русскими фамилиями. (В. Дённингхаус. Там же. С. 334-336). С.Рябиченко в книге «Погромы 1915 г. Три дня из жизни неизвестной Москвы. М.: Глобус, С. 102-138.» в приложении дает список помещений, пострадавших от погромов 27-29 мая 1915 года в Москве с суммой, нанесенного ущерба. По Басманному району в списке значатся: «Армянский пер., д. 7 — «Акционерное общество «Сименс-Гальске» — убыток 3000; Басманная Старая улица, д. 15 – Учетно-ссудный Банк Персии (Берман) – 28000, д. 19- (Кудрявцев-Гиллерт) – 35000; д.15 — Учетно-ссудный Банк Персии (Кливанский) – 5000; Гороховский пер., д. 9 — (Берензон-Бауэр и Кук); д. Виллер — 50400; д.Зейберт (Граве А.-К.П.)– 13200; Елоховская ул., д. 15(Чеснокова) – 500; д. Руста – 20000; д. Лютера – 15000; Елоховская пл., д. 5 – (Чичкина) – 300, (Одерат) — 1.500; д.7– (Клингерт) – 60000, (Ауэ)- 3000, (Тейхерт) — 6000; Ирининская ул., д. Евангелийского об-ва – 75000; Козловский Б.пер., д. Аристархова– (Кемпор) – 5500, (Шуберт) –5500; Колпачный пер., д. 5 (Кноп) – 1150000; Машков пер., д. Каппело (Фрост) – 7500; Переведеновка Б. ул., д. 9 (Фроденфельд т/д «Францен и К) – 26200; Переведеновка М., ул.,д.7 (т/д «Р.А. Вентцелли) – 100000; Покровка ул, д. 16, 35, 38…; Посланников пер, д. 10 (насл. Калиной) – 5000, д.12 (Казаков) – 1000, д.7 (Спирин) – 2000, д. насл. Назарова («Браун и К) – 500000;Сыромятинская ул. д.16 (Шен)- 53000; Харитоньевский Б. пер., д.Тестова (Бромлинг) — 7500, (Крахт) – 16500, д. Рерих; Чистопрудный пер., д. церкви Св. Троицы, что на Грязях (Вильчус) – 300, там же (Гетлинг) –20000; Чистые пруды ул., д. Кабанова (Менталь) –2650…». Так, на Большой Спасской улице, неподалеку от Красных Ворот, толпа в несколько тысяч человек разгромила и сожгла типографию нотопечатных изданий с ее богатым архивом нотных записей, принадлежавшую купчихе II гильдии и российской подданной Прасковье Гроссе. (В. Руга. Там же. С. 457).
Всероссийский Земский Союз в годы Первой мировой
Большое количество актов насилия толпа учинила в Лефортово. Так, австрийский подданный Э.Ф.Гаек, арендовавший небольшую колбасную фабрику Гамбургера в 3-м участке Лефортовской части сообщил: «Сегодня, 29 мая, когда я приехал с квартиры, обнаружил, что моя мастерская, машинное отделение, мебель, находящиеся в квартире Гамбургера, разгромлены. Машины испорчены, товар разбросан, частью расхищен, разбросанный облит нефтью и керосином. Всего убытку мне причинено на 8860 рублей…(В.А. Любартович. Там же. С. 178). Случалось, что местные жители из немцев покидали свои дома в Лефортовской части и укрывались от погрома на Басманных улицах. Так, по рассказам крестьянина К.Менцеля, латыша… поступил хозяин кузнечно-слесарной мастерской, в которой он работал, располагавшейся на Хапиловской (ныне Большой Почтовой улице), в доме 10-12, Г.К.Шпонгольц: «Накануне, 28 мая сам Шпонгольц сказал около двух часов дня, что его предупредили по телефону, что громят немцев и будут громить его, а потому во избежание неприятностей он возможно, переселится с семьей на Басманную, а меня просил охранять дом и мастерскую…Часов около одиннадцати вечера со стороны Иноверческого кладбища я услышал крики «Ура!» и увидел приближающуюся толпу…Я хорошо запомнил, что за толпой, которая приблизительно состояла из пятисот человек, шло несколько городовых, не менее трех. Подойдя к воротам дома, толпа с криком разбила ворота и, ворвавшись в дом, начала погром. Я заметил, что городовые, шедшие за толпой, отошли при этом в сторону, разговаривая между собой и смеясь. Ни малейшей попытки остановить погром они не учинили.». На Покровской улице, в доме 84 была разгромлена и разграблена фабрика буровых инструментов «Московского товарищества повсеместного артезианского водоснабжения, орошения и осушки фон Вангель Б.И. и К» с убытком в 107 тыс. рублей. В числе пайщиков этого предприятия состоял А.А. Ценкер. Русский подданный и православный от рождения С.П. Цукерман, проживавший в доме №7 по Старой Басманной улице заявил околоточному надзирателю об убытке в 12 тыс. рублей, который он понес от разгрома принадлежащей ему красильни с магазином тканей на Покровской улице, в доме № 42. Другая же его красильная мастерская, располагавшаяся в доме №9 по Старой Басманной, к счастью для него, уцелела. Инспектор Евангелической богадельни в доме № 32 по Ирининской улице Рудольф Гоппе по просьбе 134 призреваемых при богадельне, заявил, что 28 мая толпа манифестантов разгромила все помещения благотворительного учреждения, уничтожила и похитила вещей и имущества на 200 тыс. рублей. (В.А. Любартович. Там же. С. 179-180). П.К.Чегодаев, заведующий резиноткацкой фабрикой Торгового дома «Браун А. и К», принадлежавшей российскому подданному и расположенной в Посланниковом переулке, в доме 5, заявил на допросе в полиции: «Я видел, как шла на фабрику толпа людей с палками и большей частью из них были пьяные. Толпа сперва стала громить фабрику, я был на улице и наблюдал со стороны за ней и мог видеть это, а потом подожгла в нескольких местах фабрику; приехали пожарные, но толпа сначала не давала тушить, а потом начала поспешно расходиться и пожарные приступили к тушению пожара. У нас сгорело два фабричных корпуса…, в фабричном корпусе все машины приведены в негодность…Убытки пока подсчитать в точности не представляется возможным, достигают же несколько сот тысяч рублей». (Там же. С. 179). «В результате в Москве было разгромлено 732 отдельных помещения: магазины, склады, конторы и даже частные квартиры с убытком на сумму более 50 млн. рубл. Из них 475 торговых предприятий, 207 квартир и домов. Пострадали следующие категории граждан: германские и австрийские подданные –113 человек; русские подданные с иностранными фамилиями – 489; русские подданные с чисто русскими фамилиями – 90 человек. По заключению московских властей в самочинных действиях и погромах приняло участие около 50 тыс. чел. Большинство демонстрантов-погромщиков составили рабочие и работники различных предприятий, их дети-подростки, люмпены- «хитрованцы», городская чернь. В беспорядках приняли участие и торговцы, студенты, учащиеся, служащие, чиновники, представители интеллигенции». Последствием пьяных погромов стали пожары, охватившие Москву с 28 по 31 мая. Было зафиксировано более 60 возгораний зданий, принадлежавших московским немцам. Их быстрое распространение повлияло на решение ввести в Москву 29 мая 1915 года регулярные войска. В этот же день выходит постановление, запрещающее населению появляться на улицах города с 10 часов вечера до 5 часов утра. (В.Дённингхаус. Там же. С. 355).
Перестройка экономики Москвы потребовала огромных усилий от всех государственных органов. В помощь им создаются Военно-промышленные комитеты, Особые совещания, общественные организации – «Земгор». Перестройка коснулась и научной базы академической науки, учебно-исследовательских центров. Так, ИМТУ (Императорское Московское Техническое Училище), с 1989 года Московский Государственный технический университет, ранее носивший имя революционера Н.Э. Баумана, обычное учебное заведение, вклад которого в укрепление оборонной мощи России в годы первой мировой войны, да и после революции, оказался неоценимым для оборонной мощи России. История училища началась 5 октября 1826 года, когда вдовствующая императрица Мария Федоровна издает указ, в котором «высочайше повелеть соизволила учредить большие мастерские разных ремесел» для мальчиков-сирот Воспитательного дома. С развитием отечественной промышленности потребность в искусных мастерах стремительно возрастала, и московский Воспитательный дом решил ответить на возросший спрос. С этой целью Воспитательному дому передается Слободской дворец, располагавшийся на улице Коровий брод (в конце XYIII в., потом улица Рыкова, теперь – 2-я Бауманская улица). В здании дворца предполагалось разместить 300 воспитанников, будущих учеников нового ремесленного заведения при Воспитательном доме. С этой целью Воспитательному дому передается Слободской дворец. Император Николай I пожаловал Воспитательному Дому каменные корпусы, оставшиеся после пожара в Слободском дворце. Императрица в свою очередь учредила специальную строительную комиссию, которая в 1827 году приступила к перестройке здания.
1 июля 1830 г. император Николай I утвердил «Положение о Ремесленном учебном заведении». С этого года и ведет свое летоисчисление нынешний МГТУ. Ремесленное училище, основанное в 1830 году, было преобразовано в 1868 году в Императорское техническое училище, готовившее высококвалифицированные кадры инженеров-механиков, строителей и технологов. В нем преподавали известные русские ученые Н.Е. Жуковский и С.А. Чаплыгин. С началом 1-й мировой войны директор училища В.И. Гриневецкий опубликовал статью «Технико-общественные задачи промышленности в связи с войной», начинается переориентация работы ИМТУ на нужды обороны России. Уже с 1914 года в химических лабораториях налаживалось производство медикаментов. На кафедре физики под руководством профессора П.П. Лазарева работал рентгеновский кабинет, Опыты «по приспособлению рентгеновского кабинета для перевозки на большие расстояния (100 верст и больше)» начались в лаборатории профессора П.П. Лазарева после его доклада во Всероссийском земском союзе. Руководил проектированием установки, а затем ее эксплуатацией сотрудник лаборатории Н.К. Щодро. Чтобы сэкономить бензин и удешевить эксплуатацию, автомобиль был оснащен дополнительным легким керосиновым двигателем, который применяли для приведения в действие динамо-машины. Рентгеновский аппарат располагался в деревянном ящике с ручками для переноски, 48-метровый электрический кабель, соединяющий автомобиль с рентген-аппаратом, накручивали на специальный вал и снабжали телефонным проводом, чтобы персонал мог поддерживать связь между автомобилем-кабинетом и вынесенной в лазарет станцией. Пятимесячный опыт работы позволил усовершенствовать конструкцию. Следующий рентгеновский аппарат, сделанный москвичами, стал портативнее и легче, стал легче и автомобиль с рентгеновским кабинетом. Для работы не требовались ни оборудованные комнаты, ни источники тока, что позволяло сделать рентгенографию вполне возможной во всякой земской больнице. Стоимость кабинета со всеми приспособлениями оценивалась в 7 тысяч рублей, в которые включены и 4,5 тыс. руб. стоимости шасси. Каждый снимок без учета амортизации оборудования обходился в 2 руб. Экипаж автомобиля состоял из 3-х человек: рентгенолога, санитара и шофера-механика. При работе в госпиталях в помощь экипажу придавались еще 2 санитара. В самом институте создается образцовый рентгеновский кабинет. Этот кабинет посетил В. И. Ленин и подвергался там просвечиванию и фотографированию после покушения в 1918 г. Петр Петрович руководит рентгеновской секцией Наркомздрава, организует в Москве Рентгеновский институт, руководит им в течение нескольких лет и принимает активное участие в организации московского завода рентгеновской аппаратуры. Медицинская рентгенотехника в СССР многим обязана П. П. Лазареву.
9 мая 1916 г. УВВФ (Управление Военно-Воздушного Флота) предложило Н.Е. Жуковскому «организовать в аэродинамической лаборатории ИМТУ систематические аэродинамические испытания военных самолетов», значительно расширив их «ввиду отсутствия специальных научных учреждений, занимающихся расчетом самолетов». 18 мая 1916 г. Н.Е. Жуковский одновременно с выполненным расчетом представил в УВВФ «соображения о вопросах, в которых Аэродинамическая лаборатория могла бы прийти на помощь Военному ведомству и организацию которых она могла бы на себя принять при его содействии». Заказчикам предложили следующую программу исследований:
«1. Выяснение запаса прочности в существующих системах самолетов при полете в спокойном воздухе и во время посадки. Выяснение недостатков в принятых системах военных самолетов и указание способов их исправления.
2. Выяснение вопроса о наивыгоднейших материалах для частей самолетов в смысле веса и лобового сопротивления при заданной прочности.
3. Вычисление расчетных таблиц и графиков для рационального построения самолетных винтов, с использованием созданной проф. Жуковским вихревой теории гребного винта.
4. Построение и лабораторные испытания целого ряда теоретических форм поддерживающих планов (профилей крыла) с целью найти новые формы, у которых лобовое сопротивление было бы в 2—3 раза меньше, чем у существующих планов.
5. Постановка полетов специального научного характера для выяснения аэродинамических качеств самолетов в полете и для сравнения их между собой при подъеме на высоту и при полете на больших высотах».
1 июля 1916 года Исполнительная комиссия при Военном ведомстве постановила создать при Аэродинамической лаборатории МТУ Авиационное расчетно-испытательное бюро (АРИБ) под руководством Н.Е. Жуковского. Ближайшими его помощниками стали: А.Н.Туполев—заведовал лабораторными установками, В.П. Ветчинкин—вычислительно-расчетной частью, Г.И. Лукьянов — аэродинамической частью, Н.И.Иванов— испытанием материалов. А.А.Архангельский, И.Н.Веселовский, В.Е.Лебедев, К.А.Ушаков, Г.М. Мусинянц и А.В.Раковский работали вычислителями и лаборантами. Финансировало и давало задания АРИБ военное ведомство. В основанных Н. Е. Жуковским лабораториях и кружках велись научные работы, направленные на улучшение летно-тактических качеств самолетов, решение вопросов аэродинамики и прочности конструкций. Указания и советы Жуковского помогали авиаторам и конструкторам в создании новых типов самолетов. Для этого были подготовлены авиационные инженеры-механики. Бюро сразу приступило к решению разнообразных практических задач, связанных с поверочными расчетами различных закупаемых за границей и строившихся в России самолетов: «Фарман-XXVH.-XXX», «Моска», «Анатра тип Д», «Ныопор X», «Hbionop-Xl.’XVll», «Сопвич» двухместный, «Виккерс», «Спад», DH-4 и других. Проделали аэродинамические расчеты самолетов Слесарева, братьев Касьяненко, Повалишина и многих других. АРИБ провело в своей Аэродинамической лаборатории все необходимые для военно-воздушного флота аэродинамические исследования—испытания моделей крыльев и фюзеляжей, определение качества тех или иных конструкций, исследования авиабомб и стрел. С участием АРИБ производились испытания самолетов в полете и исследования причин авиакатастроф. Частые аварии и катастрофы, привели к созданию в АРИБ возглавляемой Жуковским специальной комиссии. Исследования выявили конструктивный дефект, названный «игрой болта в трубе» малый момент инерции хвостовых стоек в перпендикулярном полету направлении вызывал их сильную вибрацию, «изъедая» и затем разрушая болты. Комиссия выдала заводу конструктивные, технологические рекомендации. Впервые установить нормативные требования к прочности самолета в АБИР попытались в конце 1916 г., тогда же создали Комиссию по вопросам норм прочности под руководством Жуковского в составе: Ботезат, Архангельский, Ветчинкин, Туполев, Тимошенко, Лукьянов и другие. Исследование прочности конструкций различных самолетов позволило уже летом 1916 г. определить первые наброски норм прочности. С начала своей деятельности АРИБ стало центром научных исследований по аэро- и гидродинамике, выполняло задания УВВФ по исследованию моделей самолетов Ижорского завода, самолетных лыж и различных типов винтов для Московского аэротехиического завода, крыльев и фюзеляжа гидроплана «К» для завода «Дуке»; проводило обследование Московских авиационных и моторных заводов; составило проект аэродинамической трубы для Николаевской физической обсерватории, проводило тарировку аэродинамических приборов для Киевской школы наблюдателей. Интересными исследованиями являлись работы по теории вариационных винтов, ставшие развитием вихревой теории гребного винта Жуковского.
За время своей работы Бюро выпустило много новых материалов по проектированию и расчету самолета, выработало новые профили крыльев, исследовало сопротивление фюзеляжей и хвостовых оперений существовавших тогда аэропланов. В 1916 г. Меллер пригласил Туполева возглавить отделение гидропланов «Дукса», и в АРИБ начали проектировать гидроплан и строить глиссер.
Главной заслугой деятельности АРИБ уже в 1916 г. явилось то, что при непосредственном участии его сотрудников были разработаны и 18 октября Техническим Комитетом ГВТУ одобрены новые «Правила испытаний аэропланов в полете». Теперь им должны были следовать летчики-сдатчики всех авиазаводов, поставлявших аэропланы военному ведомству. АРИБ активно функционировало на Ходынском поле в 1916— 1917 гг., пока в марте 1918 г не превратилось в «летучую лабораторию», а в декабре того же года основные работники Бюро под руководством Жуковского составили руководящее ядро вновь созданного Центрального аэрогидро динамического института (ЦАГИ). По сути, АРИБ вместе с Главным аэродромом явилось зародышем всех впоследствии созданных на Ходынке научных летно-испытательных организаций, таких как летный отдел Главвоздухофлота, Научно-опытный аэродром (позже—НИИ ВВС), Отдел эксплуатации, летных испытаний и доводок (ОЭЛИД) ЦАГИ и в 1940 г.— ЛИИ им. М.М. Громова в поселке Стаханово (ныне город Жуковский). На базе этой же лаборатории при ИМТУ были созданы теоретические курсы авиации, на базе которых впоследствии была организована Военно-воздушная академия им. Н.Е. Жуковского.
Мастерские училища изготавливали предметы военного снаряжения и обслуживали станки, изготовлявшие колючую проволоку в мастерских Главного Военно-технического управления. Госпиталь при ИМТУ функционировал в полном объеме, он размещался в студенческом общежитии и Политехническом обществе. С 14 апреля 1915 года по инициативе Н.Р. Брилинга начали функционировать при лаборатории двигателей внутреннего сгорания курсы по подготовке шоферов для службы во Всероссийском Земском Союзе. С апреля по инициативе полковника Д.В. Яковлева ИТУ по соглашению с акционерным обществом «Гном» предоставило последнему станки и персонал учебных мастерских для производства дефицитных деталей авиационных двигателей. К этим работам широко привлекались и студенты.
Грозные события лета 1915 года дали новое, более широкое направление работам ИМТУ на оборону. 20 июня директор В.И. Гриневецкий собрал экстраординарное совещание Учебного Комитета и частное совещание всех преподавателей Училища с обсуждением вопроса о привлечении всего коллектива ИМТУ к работам на оборону. Учебный Комитет ИМТУ после всестороннего обсуждения вопроса поручил А.Е. Чичибабину к осени 1915 года создать обширную лабораторию для производства взрывчатых веществ и других необходимых для армии веществ. Ф.К. Герке было поручено выехать на фронт для изучения проблем, связанных с удушливыми газами. Н.Ф. Чарновскому поручено расширить в учебных мастерских широкое производство снарядов с участием студентов. По инициативе В.И. Гриневецкого ученые и инженеры училища начали проектировать металлообрабатывающие станки для производства снарядов и деталей стрелкового оружия. В училище был организован ускоренный выпуск инженеров из студентов старших курсов. Учебный Комитет полагал, что все без исключения студенты ИМТУ должны были использоваться по военно-технической части и по возможности по своей специальности. Старшие и наиболее подготовленные студенты должны были использоваться в качестве инструкторов, а младшие – в качестве рядовых работников.
Учебным Комитетом ИМТУ была направлена «Записка о направлении сил и средств Императорского Московского Технического Училища по обслуживанию военно-технических потребностей», в которой говорилось о том, что высшая школа при некотором временном изменении учебных планов и учебного процесса может предоставить значительное число кадров со специальной научной и технической подготовкой из числа своих преподавателей и еще большее число в качестве исполнителей и инструкторов из студентов, которые могли бы использоваться при мобилизации промышленности, которая уже столкнулась с недостатком технических кадров при повышении интенсивности работы и создании новых специализированных предприятий. В этом документе указывалось, что «Временное введение работ для военных надобностей внутри высших школ, подготовка из студентов исполнителей и инструкторов таких работ, использование лабораторий и мастерских для работ научно-экспериментальных для учебно-инструктивных, наконец, использование свободных сил преподавателей для научно-технической и организационной работы в том же направлении – все это должно быть со стороны высших школ не только делом их гражданского долга, но и прямой педагогической задачей». 25 июня 1915 года во исполнение решений Учебного Комитета В.И. Гриневецкий поместил в московских газетах призыв к студентам Училища, желающих работать на оборону. Этот призыв нашел горячий отклик со стороны студентов, бросивших отдых, летние практики и явившихся в Училище с целью работать на снарядных заводах и готовиться в инструкторы. Избранная Учебным Комитетом Военно-Техническая Комиссия организовала краткосрочную подготовку и распределение этих студентов на такие заводы, как Брянский, Бежицкий, Коломенский, Сормовский и другие. В короткий срок к заводской работе были привлечены свыше 400 студентов ИМТУ, причем четвертая часть из них была подготовлена к инструкторской деятельности. Деятельность преподавательского состава концентрировалась в военно-общественных организациях: в Московском Военно-Промышленном Комитете, в Городском и Земском Союзах. Часть преподавателей ИМТУ приняли на себя руководство технической работой при Московском Уполномоченном по топливу, состояли членами Московского Заводского Совещания по обороне в качестве представителей Союзов и Военно-Промышленного Комитета.
К концу 1915 года почти 800 студентов 9более 30% списочного состава) принимали активное участие в работах на оборону. 225 студентов, пройдя автомобильные курсы, работали в тылу и на фронте в качестве водителей в автомобильном отделе Всероссийского Земского Союза и Главного по снабжению Армии Комитета Союзов. Более 50 студентов прошли школу летчиков при аэродинамической лаборатории. На заводах по снарядному производству по 15 декабря работало 397 студентов. На различных военно-технических работах Химического Отделения работало около 100 студентов.
Многими преподавателями и бывшими студентами ИМТУ сделан огромный вклад в развитие русской науки и техники России, их имена вписаны в историю мировой технической мысли. Современный МГТУ по праву стал преемником и наследником этих традиций. Так странно все переплелось в истории: Слободской дворец, расположенный в немецкой слободе, история которого началась в 1749 году, когда канцлер А.П. Бестужев-Рюмин начал строить здесь свой большой московский дом и огромный научный город XXI века, отстроенный вокруг этого дворца.
В истории первой мировой войны, в истории Москвы удивительным образом переплелись патриотизм, ничем не контролируемая ненависть, сила духа, милосердие ко всем обделенным и огромная вера в могущество своей страны, в ее непобедимости…
|
Метки: москва первая мировая война красный крест |
В День города в Москве снесен мемориальный объект Первой мировой войны – Госпиталь Красного Креста в Лефортове |
Пока столица веселится
В День города в Москве снесен мемориальный объект Первой мировой войны – Госпиталь Красного Креста в Лефортове
В начале сентября 2015 года в Департамент культурного наследия Москвы поступило заявление о включении в единый государственный реестр объектов культурного наследия мемориала Первой мировой войны – Военного госпиталя центрального распределительно-эвакуационного пункта раненых Российского общества Красного Креста в Анненгофской роще (современный адрес – Красноказарменная ул., 14А, стр. 20). Заявление подано Московским городским отделением Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, в его подготовке участвовала группа столичных градозащитников, в том числе и активисты «Архнадзора».
5 сентября в СМИ появилась информация, что вопрос о постановке здания на охрану будет рассмотрен Мосгорнаследием, а собственнику – девелоперской компании «Мортон» – направлено предписание о запрете проведения любых работ, способных причинить вред потенциальному памятнику.
Через несколько часов после публикации этой информации Госпиталь Красного Креста был снесен спешно подогнанными экскаваторами. Как обычно, без ордера на снос. Как обычно, в выходной день. Но на этот раз еще и в День Москвы.
Здание госпиталя поражало высокой степенью подлинности, хорошо сохранившимися интерьерами и конструкциями. Оно было построено на территории складов Красного Креста в Анненгофской роще в самом начале Первой мировой войны. Через располагавшийся здесь центральный распределительно-эвакуационный пункт прошли десятки тысяч раненых, доставлявшихся с фронта санитарными поездами по специально проложенной железнодорожной ветке.
Активное участие в создании «города раненых» в Анненгофской роще принял московский врач С.В. Пучков, один из основателей Братского кладбища Великой войны на Соколе. Сборный пункт в Анненгофской роще стал одним из важнейших центров оказания помощи раненым на полях Первой мировой. Помощь оказывалась и раненым из числа попавших в плен военнослужащих противника. Газеты того времени сообщают, что военный госпиталь в Анненгофской роще посещали император Николай II, императрица Александра с великими княжнами, а в домовом Никольском храме при госпитале молилась прославленная Русской православной церковью в лике святых великая княгиня Елизавета Фёдоровна.
В 2014 году, во время празднования столетия начала Первой мировой войны, представители московских властей и лично мэр Сергей Собянин произнесли много прочувствованных слов об уважении памяти защитников Отечества и мемориалах Первой мировой войны. Но этот истинный мемориальный объект Первой мировой оказался на территории, отданной Правительством Москвы под застройку группе компаний «Мортон», планирующей возвести здесь элитный жилой комплекс.
Группа «Мортон» известна своими «подвигами» в Подмосковье, где она проектирует многоэтажное жилье между усадьбами Архангельское и Ильинское, строит с нарушением законодательства в зоне охраны Бутовского полигона, нанесла ущерб Акатовскому археологическому комплексу в Балашихе. Теперь «Мортон» пришёл в Москву. И сразу показал, чего в глазах девелопера стоит память войн, прославленных имён и событий.
Прибывшие на место сноса инспекторы Объединения административно-технических инспекций и Мосгорнаследия вынуждены были останавливать работы с привлечением полиции. Департамент культурного наследия г. Москвы выразил намерение добиваться привлечения собственника к ответственности за противозаконное уничтожение объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия.
Общественное движение «Архнадзор» призывает городские власти отозвать у застройщика градостроительный план земельного участка 14А по Красноказарменной улице. Мы также призываем инициировать пересмотр мер денежного штрафа за несанкционированные строительные работы и снос, так как практикуемые в настоящее время размеры штрафов смешны по масштабам строительного бизнеса. Ответом девелоперу на знак полного презрения к городу и горожанам может стать лишь радикальная перемена отношения самих городских властей к культурному наследию столицы. Необходим законодательный запрет на снос исторических зданий Москвы, построенных до 1917 года.
С Днём города!
PS: Мосгорнаследие сочло снос госпиталя вопиющим нарушением закона.
http://www.archnadzor.ru/2015/09/07/poka-stolitsa-veselitsya/
|
Метки: первая мировая война москва красный крест |
Встреча с князем А.Л. Оболенским |
Встреча с князем А.Л. Оболенским
В последние годы у меня установились теплые отношения с моими троюродными сестрами - Ольгой Борисовной Грудинской и Ириной Борисовной Грудинской, проживающими, соответственно, в Париже и Милане, а также их кузеном – князем Алексеем Львовичем Оболенским.
Отец моих троюродных сестер - Борис Григорьевич Грудинский, женатый на княжне Людмиле Владимировне Оболенской, приходился двоюродным братом моей матери – Елены Николаевны Григорьевой (в девичестве – Инштетовой). Их бабка – Александра Семеновна Грудинская (в девичестве – Инштетова) и мой дед – Николай Семенович Инштетов были родными сестрой и братом.
Схема родственных связей Инштетовых, Грудинских, Оболенских и Григорьевых прилагается.
В ходе переписки по обычной и электронной почте обмениваемся материалами, журнальными статьями, фотографиями и сведениями семейного характера.
В ноябре 2014 года во время моего пребывания с супругой Ольгой Кожедуб на Лазурном берегу состоялась встреча с князем А.Л. Оболенским у него дома в Ницце.
Краткая биографическая справка А.Л. Оболенского и фотографии, сделанные во время встречи, прилагаются.
Сергей Георгиевич Григорьев, правнук Семена Васильевича Инштетова
(член Российского дворянского собрания и
Российского исторического общества, доктор технических наук, профессор)
ОБОЛЕНСКИЙ Алексей Львович, князь (родился 12 августа 1945 года в Борм-ле-Мимоза, департамент Вар).
Филолог, преподаватель, певец, художник, скульптор, деятель церкви.
Сын Л.В. Оболенского и Е.Г. Оболенской, брат Ивана Л., Михаила Л. Оболенских. Муж З.А. Оболенской, отец Лидии А. д'Алоизио, Григория А., Бориса А. Оболенских.
Окончил университет в Экс-ан-Провансе (департамент Буш-дю-Рон), изучал языки и русскую литературу. В 1967 защитил диссертацию по теме «Образ праведника в творчестве Н.С. Лескова» («L'image du juste dans les œuvres de I.S.Leskov»). Преподавал французский язык на филологическом факультете Московского университета (1968-1969), с 1971 по 2004 профессор русского языка в университете Ниццы.
С 1978 участник (высокий тенор) вокального ансамбля «Quatuor Vocal Russe de Nice», исполняющего русскую духовную музыку. Выступает с Квартетом на фестивалях духовной музыки, на церковных и светских торжествах, участвовал в записи более десяти дисков. С ранних лет занимался живописью.
С 1975 проводит персональные художественные выставки на Ривьере и в Париже.
С 1983 работает в жанре терракотовой скульптуры. В 1994 создал скульптурную серию евангельских сюжетов (50 работ), оформил (стенная керамика) четыре католических храма в Ниццкой области (2002-2005), православный храм в Сен-Рафаэле, департамент Вар (2007); продолжает работать над евангельскими и ветхозаветными сценами.
В начале 1980-х работал с М. Шагалом над второй частью его книги «Моя жизнь».
С 2004 являлся старостой кафедрального собора Св. Николая Чудотворца в Ницце, а после передачи последнего Московскому патриархату с 2012 года является старостой Церкви Св. Николая и мученицы Александры в Ницце.
1. У А.Л. Оболенского
2. У А.Л. Оболенского
3. А.Л. Оболенский
4. С.Г. в мастерской А.Л. Оболенского
5. С.Г. с работой А.Л. Оболенского
6. Оля Кожедуб в мастерской А.Л.
7. Оля - отель Boscolo
1. У А.Л. Оболенского
2. У А.Л. Оболенского
3. А.Л. Оболенский
4. С.Г. в мастерской А.Л. Оболенского
5. С.Г. с работой А.Л. Оболенского
6. Оля Кожедуб в мастерской А.Л.
7. Оля - отель Boscolo
nsted.clan.su/index/vstrecha_s_kn_a_l_obolenskim/0-1
|
Метки: оболенские |
Мария София Фредерика Дагмар: ей не было суждено стать женой Николая II, ей было суждено его родить |
Мария София Фредерика Дагмар: ей не было суждено стать женой Николая II, ей было суждено его родить
Знакомьтесь, мои дорогие читатели. Эта прелестная девушка и есть Мария София Фредерика Дагмар, принцесса датская
Здравствуйте, мои уважаемые читатели! Спасибо, что поддерживаете меня и мой канал.
Ее называли невестой двух цесаревичей. Она пережила гибель сына-императора. Она пережила гибель целой империи. Она стала очевидцем зарождения новой власти в том государстве, где некогда сама была императрицей. Она – Мария София Фредерика Дагмар: русская императрица Мария Федоровна, супруга императора Александра III.
Родилась Мария София Фредерика в семье принца Кристиана Глюксбурского, будущего короля Дании Кристиана IX.
Ее родная сестра Александра Датская была женой британского монарха Эдуарда VII.
Мария София Фредерика была невестой цесаревича Николая Александровича. О нем вы сможете прочесть в этой статье.
Николай Александрович должен был стать императором Николаем II. Однако смерть цесаревича изменила намеченный ход истории.
Претендентом на престол стал младший брат Николая цесаревич Александр III.
«Я чувствую, что могу и даже очень полюбить милую Минни (так звали Романова принцессу Дагмар), тем более что она так нам дорога. Даст Бог, чтобы все устроилось, как я желаю. Решительно не знаю, что скажет на все это милая Минни; я не знаю её чувства ко мне, и это меня очень мучает. Я уверен, что мы можем быть так счастливы вместе. Я усердно молюсь Богу, чтобы Он благословил меня и устроил мое счастье», - писал в своем дневнике цесаревич Александр Александрович.
В такую красавицу просто нельзя было не влюбиться
Между Александром и невестой его покойного брата вспыхнули чувства. Через год они объявили о помолвке и поженились.
Мария София Фредерика приняла православие и получила новое имя – княгиня Мария Федоровна Романова.
Бракосочетание было совершено 28 октября 1866 года. Жить молодые супруги стали в Аничковом дворце.
Мария Федоровна (давайте будем называть так будущую императрицу) была жизнерадостной девушкой. В столичном обществе ее полюбили сразу. В 1881 году Мария Федоровна стала императрицей.
Супруги Романовы Александр и Мария
Брак между супругами был удачным. Супруги прожили вместе 30 лет, сохранив привязанность друг к другу.
Мария Федоровна пережила мужа. Она стала вдовой в 1894 году.
На престол вступил ее старший сын цесаревич Николай Александрович. Его назвали в честь умершего дяди (читайте о цесаревиче Николае Александровиче выше).
После смерти супруга вдовствующая императрица покровительствовала искусству, в частности живописи. Она сама пыталась рисовать.
Покровительствовала Мария Федоровна Женскому Патриотическому Обществу, учебным заведениям, приютам для детей. Вдовствующая императрица активно участвовала в работе Российского общества Красного Креста (РОКК).
Об отречении своего сына, императора Николая II Мария Федоровна узнала, находясь в Киеве. Это был 1917 год. Мария Федоровна уже 2 года жила в Киеве, занималась созданием санаториев, госпиталей, где отдыхали и лечились раненые в Первую Мировую войну солдаты.
После смертей сына Николая и его семьи и сына Михаила Мария Федоровна не могла больше оставаться в России. В 1919 году императрица выехала с дочкой Ольгой и зятем, мужем дочери Ксении, Сандро в Крым. Оттуда Мария Федоровна отправилась на Родину, в Данию. Там она поселилась на вилле Видере.
Мария Федоровна, пережив своего сына-императора, не верила в то, что он и вся его семья были расстреляны большевиками. Также не верила она и в смерть сына Михаила.
Вдовствующая императрица Мария Федоровна
Представители российской эмиграции попытались вовлечь императрицу в политическую борьбу с большевиками. Однако Мария Федоровна пожелала остаться в тени всех политических интриг.
Императрица Мария Федоровна умерла 13 октября 1928 года. Была похоронена в королевской усыпальнице в городе Роскилле рядом с родителями.
Все фотографии взяты из свободного доступа сети Интернет.
Дорогие мои читатели, чтобы поддержать меня и мой канал жмите "палец вверх", а также не забывайте подписываться. И ждите от меня новых публикаций. Не забывайте, история так интересна и увлекательна!!! Особенно, если она альтернативная!
https://zen.yandex.ru/media/id/5a3e77e9581669d671d...rodit-5c4824bc06f75c07de12cdfd
Смотрите также публикации по темам
|
Метки: романовы |
Савинков, Борис Викторович |
-
Савинков, Борис Викторович
Перейти к навигации Перейти к поискуВ Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Савинков.
Борис Викторович Савинков 
Дата рождения 19 (31) января 1879 Место рождения Дата смерти 7 мая 1925[1][2][…] (46 лет) Место смерти Гражданство  Российская империя →
Российская империя →  Польша
ПольшаРод деятельности Образование Партия Отец Виктор Михайлович Савинков Мать Софья Александровна Савинкова (Ярошенко)  Борис Викторович Савинков на Викискладе
Борис Викторович Савинков на ВикискладеБори́с Ви́кторович Са́винков (19 [31] января 1879, Харьков — 7 мая 1925, Москва) — революционер, террорист, российский политический деятель — один из лидеров партии эсеров, руководитель Боевой организации партии эсеров. Участник Белого движения, писатель (прозаик, поэт, публицист, мемуарист; литературный псевдоним — В. Ропшин).
Известен также под псевдонимами «Б. Н.», Вениамин, Галлей Джемс, Крамер, Ксешинский, Павел Иванович, Роде Леон, Субботин Д. Е., Ток Рене, Томашевич Адольф, Чернецкий Константин.
Содержание
- 1 Биография
- 2 Семья
- 3 Савинков как писатель
- 4 В художественной литературе
- 5 Сочинения
- 6 Фильмы
- 7 Литература
- 8 Примечания
- 9 Ссылки
Биография
Детство и юность
Савинков в молодости
Отец, Виктор Михайлович — товарищ прокурора окружного военного суда в Варшаве, за либеральные взгляды уволенный в отставку, умер в 1905 в психиатрической лечебнице; мать, Софья Александровна, урождённая Ярошенко (1852/1855—1923, Ницца), сестра художника Н. А. Ярошенко — журналистка и драматург, автор хроники революционных мытарств своих сыновей (писала под псевдонимом С. А. Шевиль). Старший брат Александр — социал-демократ, был сослан в Сибирь, покончил с собой в якутской ссылке в 1904; младший, Виктор — офицер русской армии (1916—1917), журналист, художник, участник выставок «Бубнового валета», масон. Сёстры: Вера (1872—1942; в замужестве Мягкова) — учительница, критик, сотрудник журнала «Русское богатство»; София (1887/1888—после 1938; в замужестве Туринович) — эсерка, эмигрантка[4].
Савинков учился в гимназии в Варшаве (в один период с И. П. Каляевым), затем в Петербургском университете, из которого исключён за участие в студенческих беспорядках. Некоторое время получал образование в Германии.
В 1897 году Савинков был арестован в Варшаве за революционную деятельность. В 1898 году входил в социал-демократические группы «Социалист» и «Рабочее знамя». В 1899 арестован, вскоре освобождён. В том же году женился на Вере Глебовне Успенской, дочери писателя Г. И. Успенского, имел от неё двух детей. Печатался в газете «Рабочая мысль». В 1901 году работал в группе пропагандистов в «Петербургском союзе борьбы за освобождение рабочего класса». В 1901 году был арестован, а в 1902 выслан в Вологду, где непродолжительное время работал секретарём консультации присяжных поверенных при Вологодском окружном суде.
Лидер Боевой организации
Фрагмент коллективного фото: Савинков в апреле-мае 1903 г., в Вологде. Автор фотографии вологодский фотохудожник Ливерий Викторович Раевский, имел собственное фотоателье по адресу: Вологда, ул. Малая Петровка, д. 2.
В июне 1903 года Савинков бежал из ссылки[5] в Женеву, где вступил в партию эсеров и вошёл в её Боевую организацию. Принимал участие в подготовке ряда террористических актов на территории России: убийство министра внутренних дел В. К. Плеве, московского генерал-губернатора великого князя Сергея Александровича, покушения на министра внутренних дел И. Н. Дурново и на московского генерал-губернатора Ф. В. Дубасова.
Савинков стал заместителем руководителя Боевой организации Евно Азефа, а после его разоблачения — руководителем. Вместе с Азефом выступил инициатором убийства священника Георгия Гапона, заподозренного в сотрудничестве с Департаментом полиции[6].
В 1906 году Савинков в Севастополе подготавливал убийство командующего Черноморским флотом адмирала Чухнина. Был арестован полицией и приговорён к смертной казни, но бежал в Румынию. Адвокатом Савинкова был В. А. Жданов.
В ночь после побега Савинков написал следующее, отпечатанное в большом количестве экземпляров извещение[7]:

В ночь на 16 июля, по постановлению боевой организации партии социалистов-революционеров и при содействии вольноопределяющегося 57 Литовского полка В. М. Сулятицкого, освобождён из-под стражи содержавшийся на главной крепостной гауптвахте член партии социалистов-революционеров Борис Викторович Савинков. Севастополь, 16 июля 1906 г.

Эмиграция
Из Румынии через Венгрию переправился в Базель, потом в Гейдельберг в Германии. В Париже зимой 1906—1907 года Савинков познакомился с Д. С. Мережковским и З. Н. Гиппиус, ставшими его литературными покровителями. Основной литературный псевдоним Савинкова — В. Ропшин — был «подарен» ему Гиппиус, раньше выступавшей под ним. В 1909 году написал книгу «Воспоминания террориста», в том же году опубликовал повесть «Конь бледный», в 1914 — роман «То, чего не было». Эсеры скептически восприняли литературную деятельность Савинкова, видя в ней политические памфлеты, и требовали его изгнания из своих рядов.
После разоблачения Азефа в конце 1908 года Савинков, долгое время не веривший в его провокаторскую деятельность и выступавший его защитником на эсеровском «суде чести» в Париже, пытался возродить Боевую организацию (однако ни одного успешного теракта в этот период организовать не удалось) и занимался этим вплоть до её роспуска в 1911 году, после чего уехал во Францию и занялся прежде всего литературной деятельностью. В 1912 году от второго брака с Евгенией Ивановной Зильберберг у Савинкова родился сын Лев, впоследствии писатель, участник интербригад в Испании и Движения Сопротивления; после Второй мировой войны — масон, придерживался просоветских настроений, собирался вернуться на родину.
После начала Первой мировой войны Савинков «устремляется в Париж», где, «благодаря своим связям, получает удостоверение военного корреспондента»[8]. Его корреспонденция публиковалась в газетах «Биржевые ведомости», «День», «Речь». Годы войны Савинков провёл с ощущением политического бездействия и чувством, что у него «перебиты крылья» (из письма к М. А. Волошину).
1917 год. Несостоявшийся диктатор
Военный министр Керенский со своими помощниками. Слева направо: полковник В. Л. Барановский, генерал-майор Якубович, Б. В. Савинков, А. Ф. Керенский и полковник Туманов.
Генерал Корнилов и его военный персонал. Савинков — крайний слева
После Февральской революции Савинков вернулся в Россию 9 апреля 1917 года и возобновил политическую деятельность: он был назначен комиссаром Временного правительства в 7-й армии, а 28 июня — комиссаром Юго-Западного фронта. Савинков активно выступал за продолжение войны до победного конца. Был «всей душой с Керенским» (письмо Гиппиус от 2 июля). Поддержал генерала Корнилова в его решении 8 июля ввести смертную казнь на Юго-Западном фронте. В середине июля Савинков советовал Керенскому заменить генерала Брусилова Корниловым на посту Главковерха, обосновывая это тем, что Корнилов заслужил доверие офицерства.
В том же месяце Савинков стал управляющим военного министерства и товарищем военного министра (военным министром был сам премьер Керенский) и реальным претендентом на полноту диктаторской власти в стране. Волошин в письме к нему утверждал, что судьба хранит Савинкова для «чрезвычайной» роли и что он скажет «одно из последних слов в русской смуте».
22 августа 1917 года по указанию Керенского прибыл в Ставку для переговоров с Корниловым. Согласовав ряд вопросов, Савинков уехал в Петроград.
27 августа 1917 года при наступлении Корнилова на Петроград был назначен военным губернатором Петрограда и исполняющим обязанности командующего войсками Петроградского военного округа. Предложил Корнилову подчиниться Временному правительству, но 30 августа подал в отставку, не согласный с изменениями в политике Временного правительства.
Был вызван в ЦК партии эсеров для разбирательства по так называемому «корниловскому делу». На заседание не явился, посчитав, что партия больше не имеет «ни морального, ни политического авторитета», за что и был исключён из партии 9 октября 1917 года.
На Демократическом совещании 22 сентября Савинков был избран во Временный Совет Российской Республики (Предпарламент) как депутат от Кубанской области и вошёл в состав его секретариата.
Борьба с большевиками
Октябрьскую революцию встретил враждебно и считал, что «Октябрьский переворот не более как захват власти горстью людей, возможный только благодаря слабости и неразумию Керенского». Пытался помочь осаждённому в Зимнем дворце Временному правительству, вёл об этом переговоры с генералом М. В. Алексеевым. Уехал в Гатчину, где был назначен комиссаром Временного правительства при отряде генерала П. Н. Краснова. Позднее на Дону занимался формированием Добровольческой армии, входил в антисоветский Донской гражданский совет.
В феврале-марте 1918 года создал в Москве на базе организации гвардейских офицеров подпольный контрреволюционный «Союз защиты Родины и Свободы», включавший около 800 человек[9]. Целями этой организации было свержение советской власти, установление военной диктатуры и продолжение войны с Германией. Были созданы несколько военизированных группировок. В конце мая заговор в Москве был раскрыт, многие его участники арестованы.
После подавления мятежей против советской власти в Ярославле, Рыбинске и Муроме летом 1918 скрылся в занятую восставшими военнопленными чехами Казань, но там не остался. Некоторое время состоял в отряде В. О. Каппеля. Потом приехал в Уфу, некоторое время рассматривался в качестве кандидата на пост министра иностранных дел в составе Совета министров Временного Всероссийского правительства («Уфимской Директории»). По поручению председателя Директории Н. Д. Авксентьева уехал с военной миссией во Францию (длинным путём через Владивосток, Японию, Сингапур и Индию).
Состоял в масонских ложах в России (с 1917) и в эмиграции (с 1922)[10][11][12][13]. Масоном был и его брат Виктор[11]. Савинков был членом лож «Братство», «Братство народов», «Тэба», входил в предварительный комитет по учреждению русских лож в Париже.
В 1919 году вёл переговоры с правительствами Антанты о помощи Белому движению. Входил в руководство Русского политического совещания в Париже. Савинков искал всевозможных союзников — встречался лично с Юзефом Пилсудским и Уинстоном Черчиллем.
В 1919 году скрывался от большевиков на квартире родителей Юрия Анненкова на Петроградской стороне (угол Большой Зеленина и Геслеровского переулка). Портреты Савинкова на небольших плакатах с обещанием хорошего вознаграждения были расклеены советским правительством по всему городу[14].
В Польше
Во время Советско-польской войны 1920 года Савинков, обосновавшись в Варшаве (куда приехал по приглашению главы Польши Юзефа Пилсудского), создал под своим председательством так называемый Эвакуационный комитет, затем переименованный в «Русский политический комитет». В комитет, помимо Савинкова, входили Д. Философов, А. Дикгоф-Деренталь, В. Ульяницкий, Д. Одинец, В. Португалов и другие. Участвовал в создании 3-й русской армии и антисоветских военных отрядов под командованием Станислава Булак-Балаховича. Вместе с Мережковскими издавал в Варшаве газету «За свободу!». В этот период Савинков старался представить себя вождём всех антибольшевистских крестьянских восстаний, объединяемых под названием «зелёного» движения.
В октябре 1921 года был выслан из Польши.
10 декабря 1921 года в Лондоне Савинков тайно встретился с большевистским дипломатом Леонидом Красиным. Красин считал желательным и возможным сотрудничество Савинкова с коммунистами. Савинков сказал, что наиболее разумным было бы соглашение правых коммунистов с «зелёными» при выполнении трёх условий: 1) уничтожения ЧК, 2) признания частной собственности и 3) свободных выборов в советы, в противном же случае все коммунисты будут уничтожены восстающими крестьянами. Красин на это ответил, что ошибочно считать, что в РКП(б) существуют разногласия и «правое крыло», а крестьянское движение — не так страшно, но обещал передать мысли Савинкова своим друзьям в Москве. В последующие дни Савинков приглашался к Уинстону Черчиллю (в то время министру колоний) и премьер-министру Великобритании Дэвиду Ллойд Джорджу, которым рассказал о беседе с Красиным и сообщил свои соображения о трёх условиях, предлагая выдвинуть их в качестве условия признания Советского правительства Британией. О своих переговорах Савинков сообщил в длинном письме Пилсудскому, впоследствии опубликованном[15].
Порвав с белым движением, Савинков искал связей с националистическими течениями. Он встречался с итальянским лидером Бенито Муссолини в 1922—1923 годах. Однако в конце концов Савинков оказался в полной политической изоляции, в том числе и от эсеров. В это время он занялся работой над повестью «Конь вороной», осмысляющей итоги Гражданской войны.
Приезд в СССР, арест и смерть
Основная статья: Синдикат-2
Процесс над Б. В. Савинковым, 1924 г. (Савинков стоит слева, у стены сидит В. Р. Менжи́нский)
В начале августа 1924 года Савинков нелегально приехал в СССР, куда был завлечён в результате разработанной ОГПУ операции «Синдикат-2». 16 августа в Минске был арестован вместе со своей любовницей Любовью Ефимовной Дикгоф и её мужем А. А. Дикгофом. На суде Савинков признал свою вину и поражение в борьбе против советской власти. Свои показания он начал так:
Я, Борис Савинков, бывший член Боевой организации Партии социалистов-революционеров, друг и товарищ Егора Созонова и Ивана Каляева, участник убийств Плеве, великого князя Сергея Александровича, участник многих террористических актов, человек, всю жизнь работавший только для народа, во имя его, обвиняюсь ныне рабоче-крестьянской властью в том, что шёл против русских рабочих и крестьян с оружием в руках.
Военная коллегия Верховного суда СССР 29 августа 1924 приговорила его к высшей мере наказания — расстрелу. Верховный суд ходатайствовал перед Президиумом ЦИК СССР о смягчении приговора. Ходатайство было удовлетворено, расстрел заменён лишением свободы на 10 лет.
В тюрьме Савинков имел возможность заниматься литературным трудом, по некоторым данным имел гостиничные условия. В это время он писал:
После тяжкой и долгой кровавой борьбы с вами, борьбы, в которой я сделал, может быть, больше, чем многие другие, я вам говорю: я прихожу сюда и заявляю без принуждения, свободно, не потому, что стоят с винтовкой за спиной: я признаю безоговорочно Советскую власть и никакой другой.
Савинков написал и послал письма некоторым руководителям белой эмиграции с призывом прекратить борьбу против Советского Союза.
По официальной версии, 7 мая 1925 года в здании ВЧК на Лубянке Савинков покончил жизнь самоубийством. Воспользовавшись отсутствием оконной решётки в комнате, где он находился по возвращении с прогулки, Борис Савинков выбросился из окна пятого этажа во двор.
В книге Е. А. Кочемировской «50 знаменитых самоубийц»[16] приводится отчёт непосредственного свидетеля гибели Савинкова — В. И. Сперанского:
В комнате были Савинков, т. Сыроежкин и т. Пузицкий, последний из комнаты на некоторое время выходил… Я взглянул на свои часы — было 23 часа 20 минут, и в этот самый момент около окна послышался какой-то шум, что-то очень быстро мелькнуло в окне, я вскочил с дивана, и в это время из двора послышался как бы выстрел. Передо мной мелькнуло побледневшее лицо т. Пузицкого и несколько растерянное лицо т. Сыроежкина, стоявшего у самого окна. Т. Пузицкий крикнул: «Он выбросился из окна… надо скорее тревогу…» и с этими словами выбежал из комнаты…
Однако существует версия, согласно которой Савинков был убит сотрудниками ГПУ (эту версию, в частности, приводит писатель Александр Солженицын в своей книге «Архипелаг ГУЛАГ»).
Место захоронения Б. Савинкова неизвестно.
Семья
- первая супруга — Вера Глебовна Успенская (1877—1942), дочь писателя Глеба Успенского, сестра Бориса Успенского, также задействованного в террористической деятельности. С 1935 в ссылке. После возвращения умерла от голода во время блокады Ленинграда.
- сын — Виктор Борисович Успенский (Савинков) (1900—1934) арестован в числе 120 заложников за убийство Кирова, 29 декабря приговорен к высшей мере наказания, расстрелян.
- дочь — Татьяна Борисовна Успенская-Борисова (Савинкова) (1901—?)
- вторая супруга — Евгения Ивановна Зильберберг (род. 1883/5, Елисаветград, ум. 1942, Нейн-сюр-Сен, Франция), сестра террориста Льва Зильберберга. Савинков был её вторым мужем.
- сын — Лев Борисович Савинков (1912—1987), поэт, прозаик, журналист. Во время гражданской войны в Испании — капитан республиканской армии, был тяжело ранен (его упоминает Эрнест Хемингуэй в романе «По ком звонит колокол»). Во Второй мировой войне воевал во французском Сопротивлении. Похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
Савинков как писатель
Литературным творчеством Савинков начал заниматься с 1902 года. Его первые рассказы 1902—1903 гг. обнаруживают влияние Станислава Пшибышевского и вызвали отрицательный отзыв Максима Горького. Уже в 1903 году у Савинкова (рассказ «В сумерках») появляется его лейтмотив — революционер, испытывающий отвращение к своей деятельности, ощущающий греховность убийства. Впоследствии Савинков-литератор будет постоянно спорить с Савинковым-революционером, а две стороны его деятельности влиять друг на друга (так, отторжение эсерами своего бывшего вождя связано во многом именно с его литературным творчеством).
В 1905—1909 Савинков выступает как мемуарист, автор написанных по горячим следам очерков о товарищах по БО и знаменитых терактах; эти очерки составили основу книги «Воспоминания террориста» (первая полная публикация — 1917—1918, переиздавалась неоднократно). Революционер Н. С. Тютчев утверждал, что Савинков-литератор в мемуарах «убивает» Савинкова-революционера, критикуя за неправдоподобие ряд пассажей, например, когда убитый Сазонов «полулежал на земле, опираясь рукой о камни»[17]; «Воспоминания» обстоятельно критически разбирал М. Горбунов (Е. Е. Колосов)[18].
В 1907 году парижское знакомство с Мережковскими определяет всю дальнейшую литературную деятельность Савинкова. Он знакомится с их религиозными идеями и взглядами на революционное насилие. Под влиянием Мережковских (и при основательной редактуре Гиппиус, предложившей псевдоним «В. Ропшин» и заглавие) написана его первая повесть «Конь бледный» (опубликована в 1909). В основе сюжета — реальные события: убийство Каляевым (под руководством Савинкова) великого князя Сергея Александровича. Событиям придана сильная апокалиптическая окраска (заданная названием), проводится психологический анализ обобщённого типа террориста, близкого к «сильному человеку» Ницше, но отравленного рефлексией; стилистика книги отражает влияние модернизма. Повесть вызвала резкую критику эсеров, которые сочли образ главного героя клеветническим (это подпитывалось и тем, что Савинков до последнего выступал защитником разоблачённого в конце 1908 г. Азефа).
Роман Савинкова «То, чего не было» (1912—1913, отдельное издание — 1914; вновь схожая реакция радикальной критики и товарищей по партии) уже учитывает темати
|
Метки: савинковы |
Генерал царской армии в ссылке |
13 февраля
< 100 просмотров
Полная статистика будет доступна после того, как публикация наберет больше 100 просмотров.
Генерал царской армии в ссылке
Подробности пребывания на вологодской земле «московского душегуба» стали известны из рассекреченного областным управлением ФСБ уголовного дела 85-летней давности. Собранные под одной обложкой протоколы допросов и различные справки посвящены генералу царской армии Владимиру Гадону – человеку непростой и по-своему трагичной биографии.
Генеральскую форму Гадон примерил лишь в 43-летнем возрасте, став, правда, вскоре, командиром лейб-гвардии Преображенского полка – одной из самых прославленных гвардейских частей императорской России. Отцом-основателем этого полка считается сам Петр Великий.
Между из высочествами стоит адъютант князя Владимир Сергеевич Гадон.
Поэтому, когда в 1905 году в Москве вспыхнуло рабочее восстание, на его подавление в числе прочих отправили и «преображенцев» – они считались в числе наиболее лояльных к царскому режиму войск.
В первой же стычке с рабочими дружинами, построившими баррикады в районе Красной Пресни, полк понес потери убитыми и ранеными. После чего, на волне общего ожесточения, с противником уже не церемонился: «преображенцам», действовавшим в столице полуавтономными отрядами – ротами и полуротами – приписывают массовые расстрелы и жестокие расправы над попавшими в плен красногвардейцами.
За это командира полка за глаза даже стали называть «московским душегубом», но оскорбительное прозвище не прижилось. Выяснилось, что сам Гадон никого не расстреливал и приказов на это не отдавал, и вообще во время восстания, судя по воспоминаниям офицерского окружения, был чрезмерно осторожен и малоинициативен.
А тут еще год спустя в одном из батальонов вспыхнул локальный бунт. И Владимира Гадона уволили со службы, пусть и с сохранением мундира и пенсии. Затем, правда, восстановили в армии и даже причислили к свите наследника-цесаревича, но последние предреволюционные годы Владимир Сергеевич тихо жил в Санкт-Петербурге, а уже при советской власти был зачислен в штат научных сотрудников Государственного исторического музея.
Но эта самая новая власть участия Гадона в подавлении московского восстания ни забыть, ни простить, естественно, не могла. Отставного генерала несколько раз арестовывали, но, продержав за решеткой пару-тройку месяцев, благополучно отпускали.
Так продолжалось до апреля 1924-го, когда после очередного ареста и пребывания в Бутырской тюрьме Гадона приговорили к административной ссылке в Вологду.
На Вологодчине бывший царский генерал должен был находиться три года. Но когда срок ссылки уже подходил к концу, его снова арестовали, обвинив в клевете на советскую власть. Будучи допрошен, Гадон чистосердечно признался, что разговоры о политике вел и в прочности советского строя действительно сомневался. Но только, мол, исключительно с экономической точки зрения, имея ввиду, что еще не отошедшая от разрухи отечественная экономика пока еще слаба по сравнению с европейской или американской.
Удивительно, но ни биография царского генерала, ни чистосердечное признание во «вредных» разговорах на политэкономические темы не стали основанием для репрессий. Как значится в постановлении помощника уполномоченного Вологодского отдела ОГПУ, «принимая во внимание, что в процессе предварительного следствия иных улик для привлечения обвиняемого Гадона к ответственности не обнаружено, настоящее дело в дальнейшем прекратить, освободив обвиняемого из-под стражи».
Уверовав в беспристрастность местных следственных органов, Гадон решил задержаться на Вологодчине, поселившись на съемной квартире на Предтеченской улице, 38. А в марте 1931 года снова оказался под арестом.
И опять вологодские следователи ОГПУ подошли к этим показаниям не предвзято, обвиняемого не «топили», допросов с пристрастием не устраивали. Проведя под стражей несколько недель, «гражданин Гадон В. С. был освобожден за недоказанностью состава преступления».
В том же 1931 году отставной генерал уехал в Москву, став зарабатывать частными уроками и переводами с иностранных языков. Наученный горьким опытом, от любых разговоров на политические темы всячески уклонялся. Но от нового, теперь уже рокового для себя ареста, так и не уберегся.
В августе печально известного 1937 года Гадон, которому в ту пору шел уже 78-й год, был обвинен «в контрреволюционной агитации среди узкого круга лиц». И всего через несколько дней предстал перед особой тройкой при УНКВД СССР по Московской области. В обвинительном заключении значилось: «Вину свою не признал, но достаточно изобличается показаниями свидетелей». Был приговорен к смертной казни и расстрелян на Бутовском полигоне.
Интересно, что последняя справка, подшитая в вологодском архивном деле Владимира Гадона, имеет современную датировку. Это заключение прокуратуры Вологодской области по обвинительным материалам 1931 года. В нем надзорный орган подтверждает правоту следователей Вологодского ОГПУ и соглашается с тем, что «кроме допросов обвиняемого, других доказательств в материалах дела не имеется. При таких обстоятельствах виновность Гадона не доказана».
Романов В. Генерала царской армии признали невиновным в клевете / В. Романов//Красный Север. –2016. – 20 июля. – С. 31.
https://zen.yandex.ru/media/id/5b9b76265f048100aa3...-ssylke-5c63b30a31b13100b17db4
|
Метки: российская императорская армия гадон |
Последний дом. |
Последний дом.
Этим домом заканчивается блистательная Таврическая улица. Доходный дом Шульгина был построен в 1913-1914 годах по проекту архитекторов Упатчева и фон Вилькена. Дальше начинается территория «Акционернего общество Санкт-Петербургских водопроводов» созданного в октябре 1858 года. Две стены дома выходящие на Таврическую улицу облицованы декоративным кирпичом, который изначально был белого цвета.
Этим домом заканчивается блистательная Таврическая улица. Доходный дом Шульгина был построен в 1913-1914 годах по проекту архитекторов Упатчева и фон Вилькена. Дальше начинается территория «Акционернего общество Санкт-Петербургских водопроводов» созданного в октябре 1858 года. Две стены дома выходящие на Таврическую улицу облицованы декоративным кирпичо, который изначально был белого цвета.
А две другие стены просто оштукатурены. Возможно, это вызвано обычной экономией - зачем тратиться на отделку, которую никто не увидит, а возможно начавшейся I Мировой войной и вызванной ею неопределённостью.
При входе в парадную удивляет будка консьержки или вахтёра, сейчас пустующая, ведь примерно половина квартир в доме коммунальные.
В обратную сторону - вторая входная дверь сохранилась со времён постройки дома, чего не скажешь о напольной плитке.
Вид вверх несколько портит шахта лифта.
В этой парадной время, люди и ЖКХ почти всё оставили как было после постройки дома - и оконные рамы и двери и перила.
Виды из окон на пасмурный, зимний Питер.
Как всегда маленький, лаконичный шедевр.
Бесконечность.
Последний этаж, на котором я и закончу это маленькое путешествие по одному из множества питерских доходных домов, известных и не очень, и совсем не известных как этот, по какой-то причине обративший на себя моё внимание.
https://zen.yandex.ru/media/olegkolobov/poslednii-dom-5c63cfd36accca00ac2ddce
|
Метки: санкт-петербург дворянские владения |
Грифоны и масоны: пять мистических зданий Петербурга |
Грифоны и масоны: пять мистических зданий Петербурга
19 Февраля 2019, 15:03
Автор:
Андрей Бритенков
© Фото: Instagram / @idea108ru

Темы дня
«Санкт-Петербург.ру» рассказывает, в каких домах Северной столицы был портал в четвертое измерение, а где обитали мифические существа.
Ротонда
Дом на углу Гороховой улицы и набережной реки Фонтанки с давних пор считается одним из самых мистических мест Петербурга.
По слухам, в прошлом тут собирались масоны, сатанисты проводили свои ритуалы, а в подвале была дверь в четвертое измерение. Это легенды из отдаленного прошлого, а в 1980-е годы в Ротонде тусовались рокеры и другие неформалы. Поговаривали, что на гитарах тут играли Цой и Кинчев.
В парадную дома сейчас просто так не попасть – лишь за символическую плату в сопровождении консьержа. Деньги жильцы дома тратят на благоустройство Ротонды, которая раньше находилась в плачевном состоянии.
Где: Гороховая улица, 57
 |
 |
Фото: Instagram / @pv_kuznetsov, @iuliiav7
Аптека Пеля
Петербуржцы на протяжении десятилетий рассказывали друг другу, что секреты аптекаря Пеля, который работал на Васильевском острове, охраняли грифоны. Мифические существа, по словам местных жителей, обитали в башне во дворе дома на 7-й линии.
Да и само кирпичное сооружение было непростым. Согласно легенде, Пель создал в башне тайную лабораторию, где превращал ртуть в золото. В наши дни в историческом здании работает не только аптека, но и музей, а также клиника.
Где: 7-я линия В. О., 16-18
 |
 |
Фото: Instagram / @kseniyashipitsyna, @erova_tata
Дворец Зинаиды Юсуповой
Дворец на Литейном также известен как «дом Пиковой дамы». И хотя в повести Пушкина упоминался особняк на Малой Морской улице, в городских легендах с мистическим персонажем связывают княгиню Юсупову и, соответственно, ее здание.
Поговаривают, что если долго всматриваться в окна второго этажа особняка, то можно увидеть там старуху, которая встретится с вами взглядом. Этот миф даже сохранился в стихотворении поэта Николая Агнивцева.
Сейчас в здании располагается Институт внешнеэкономических связей, экономики и права.
Где: Литейный проспект, 42
 |
 |
Фото: Instagram / @carinashishkina, @yyamalovaa
Дом Распутина
Доходный дом на Гороховой прославился одиозным жильцом – «целителем» Григорием Распутиным. Его квартира сейчас работает как музей.
Говорят, что призрак Распутина до сих пор обитает в коридорах коммуналки. Тем не менее очевидцы, которые якобы видели дух, утверждают, что фантом только следит за порядком в квартире.
Но некоторые жильцы жалуются, что по ночам слышат мужской голос и шаги. Однако вряд ли это действительно призрак мистика, дружившего с Николаем II.
Где: Гороховая улица, 64
 |
 |
Фото: Instagram / @dinaklimova_1705, @maiya_voronkina
Дом Стуккей
В доме на Казанской недолго жил Николай Васильевич Гоголь. По преданию, в здании обитают приведения. О мистике рассказывал и Осип Пржецлавский, член совета Министерства внутренних дел, живший в эпоху Гоголя. Он описал это в сборнике «Воспоминания».
Историки объясняют легенду тем, что по соседству здесь жили заграничные ремесленники, которые читали детям старые сказки. Правду же не знает никто.
Где: Казанская улица, 39

Фото: citywalls.ru
https://saint-petersburg.ru/m/thebest/britenkov/37...r=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
|
Метки: санкт-петербург дворянские владения масонство |
Процитировано 1 раз
Цесаревич Алексей: мучительная жизнь сына Николая II |
Цесаревич Алексей: мучительная жизнь сына Николая II
В 1918 году оборвалась жизнь представителей русской династии правителей. Кровью была стерта память о всех Романовых, в том числе и единственного наследника императора - царевича Алексея. Ребенок за свои 13 лет принял на свою судьбу грехи всех своих предков, за свои мучения был причислен к лику святых. Мог ли он стать царем и управлять государством, если бы не был убит? В этом вопросе до сих пор нет единого мнения.
В августе 1904 года в доме императора Николая II, да и во всей Империи, случился праздник - родился на свет долгожданный мальчик. Но счастье родителей было недолгим, практически сразу у ребенка обнаружилась редкая болезнь - гемофилия. Это было очень серьезной угрозой для жизни мальчика и всей судьбы Российской Империи.
Жизнь царевича Алексея
Мальчик рос добрым, смелым ребенком. Своей мечтой царевич видел военную службу. Все что связано было с армией чрезвычайно привлекало его. Царевич употреблял в пищу простую солдатскую еду. В годы Первой мировой войны Алексей вместе с императором выезжали на места военных действий.
Алексей был назначен начальником нескольких полков и атаманом казаков. Вместе с отцом они награждали солдат, отличившихся в боях. За свою службу и сам Алексей Николаевич был удостоен награды: серебряной Георгиевской медалью 4 степени.
Единственное, что сильно беспокоило это его болезнь. Малейшая царапина или ушиб могли оказаться критическими. Всю серьезность болезни показал случай 1912 года, когда царевич прыгнул в лодку и получил ушиб паховой зоны. Образовалась серьезная гематома, которая причиняла мучительную боль мальчику.
Именно в этот период времени появляется при дворе Григорий Распутин, который мог облегчить страдания ребенка. Тогда же и начинаются сгущаться тучи над семьей императора. Растет недовольство императором и его супругой, появляются заговоры. От всего этого страдают ни в чем неповинные дети.
В феврале 1917 года от престола отрекается Николай II, за себя и за сына. Накануне император проконсультировался с врачами, которые заверили, что с болезнью Алексея управление государством будет ему лишь в тягость.
Семью Николая Александровича вывозят из Петербурга. Находясь в ссылке, активный и добрый Алексей вызывает симпатию даже у своих конвоиров. Мальчик единственный, кто стойко и без упаднических настроений переносил лишения. Но во время игр в 1918 году, находясь в Тобольске, вновь серьезно травмируется и уже практически не встает с постели.
В июле Алексей с родителями и сестрами оказывается в Ипатьевском доме в Екатеринбурге, где ночью 17 июля по приказу большевиков были все расстреляны. По рассказам очевидцев в больного мальчика стреляли дважды, так как первый выстрел не был смертельным. Таким образом, была поставлена точка в истории семьи Романовых.
Многие историки считают, что молодому царевичу Алексею в любом случае не пришлось бы сесть на престол. После расстрела тела Алексея и его сестры Марии пропали, их нашли лишь в начале 2000-х годов, они были сожжены. Несколько лет до этого царевич Алексей был канонизирован как страстотерпец. И многие историки считают, что вполне оправдано. Мальчик за свои неполных 14 лет перетерпел много боли от физических мук и погиб, отвечая за ошибки других людей.
Каким императором был бы Алексей Николаевич и вообще смог ли бы управлять государстовом? На этот вопрос уже невозможно получить ответ, а можно лишь предполагать. По отзывам врачей, управлять империей человек с подобной болезнью смог бы довольно успешно, но жизнь была бы под угрозой ежеминутно. Но на исход конкретного случая повлияли исторические события 1917 года и поставили точку.https://zen.yandex.ru/media/history_world/cesarevi...ia-ii-5c5d47823abb1200adf774de
|
Метки: романовы |
Оболенская Александра Алексеевна (урожденная Дьякова) |
Оболенская Александра Алексеевна (урожденная Дьякова)
|
ПРЕДЫДУЩИЕ СТАТЬИ [начало] |
[конец] ПОСЛЕДУЮЩИЕ СТАТЬИ |
||||||||||
| Ободовский Платон Григорьевич | |||||||||||
| Ободовский Александр Григорьевич | |||||||||||
| Обнинский Петр Наркизович | |||||||||||
Обнинский Виктор Петрович |
|||||||||||
| Обловы | |||||||||||
Оболенская (урожденная Дьякова), княгиня Александра Алексеевна - общественная деятельница (1831 - 1890). Ревностно помогала своему мужу, князю Андрею Васильевичу Оболенскому, в проведении крестьянской реформы в Калужской губернии, горячо доказывая местному обществу ее значение и примыкая к кружку местных сторонников реформы, группировавшемуся около В.А. Арцимовича. По переселении в Санкт-Петербург, Оболенская поставила себе целью создать в женском среднем образовании необходимый фундамент для восприятия высшего, к чему женские учебные заведения того времени приспособлены не были. При содействии кружка сочувствующих, она основала, в 1870 г., учебное заведение (впоследствии гимназия ее имени). Над устройством гимназии много потрудилась лучшие педагогические силы того времени: А.Н. Страннолюбский , А.Я. Герд
, Н.И. Билибин, позднее Г.В. Форстен .
См. также статьи:
Ангели Генрих (Angeli) ;
Герд Александр Яковлевич;
Фидлер Федор Федорович.
Назад Вперед
В работе над этим сайтом использовано бесплатное интернет-хранилище файлов Dropbox. Присоединяйтесь!
Настоящая биографическая или тематическая статья является электронной, адаптированной к современному русскому языку версией статьи, из 86-томного Энциклопедического Словаря Брокгауза и Ефрона (1890—1907 гг.) или Нового Энциклопедического Словаря (1910—1916 гг.). Тексты всех статей оставлены неизменными. Все ссылки, портреты, гербы и звуковые отрывки к статьям выполнены или подобраны авторами сайта «Русский Биографический Словарь». Подробнее…
Дополнительную информацию по теме статьи смотрите также в Русском Биографическом Словаре А. А. Половцова.
|
Метки: оболенские |
Тайное венчание Ольги Строгановой, почти по повести Пушкина "Метель". |
Тайное венчание Ольги Строгановой, почти по повести Пушкина "Метель".
Романтическая, неслыханная история, всколыхнувшая высший свет Петербурга и ставшая поводом для светских сплетен: похищение графини Строгановой, брак без благословения родителей. Случилось это в 1829 году, эта новость облетела всю столицу и натолкнула А.С.Пушкина на написание повести "Метель".
В центре великосветского скандала были юная графиня Ольга Строганова (ей был 21 год), и баловень света Павел Ферзен, старше ее на восемь лет. Графиня приходилась внучкой Наталье Петровне Голицыной - знаменитой "усатой княгине", ставшей прообразом графини в "Пиковой даме" Пушкина.
Повесть "Метель" - Марфа Гавриловна /illustrators.ru
Отцом Ольги был граф Павел Александрович Строганов, известный государственный деятель и полководец. Мать готовилась выдать дочь замуж за завидного жениха: на примете уже был молодой князь Андрей Вяземский.
Однако сердце юной Ольги было отдано другому – блестящему офицеру Кавалергардского полка, белокурому красавцу графу Павлу Ферзену. Он принадлежал к эстляндской ветви рода баронов и графов Ферзен, отличившейся в служении России.
Граф Павел Ферзен / liveinternet.ru //Статьи выходят после 14.00 по Мск
Его дедом был прославленный полководец Иван Евстафьевич Ферзен, участвовавший в русско-турецкой и русско-шведских войнах, получивший за выдающиеся заслуги перед Отечеством, помимо орденов, графский титул.
Павел Карлович Ферзен был дружен не только с военными, он был вхож в свет и даже в литературные круги, был знаком с Пушкиным, который однажды в 1828 году упомянул его в эпиграмме не очень понятного содержания: «Лещинский околел – плачь Ферзен...» Правда, в ту пору у Павла Ферзена в светских кругах была довольно неважная репутация. Недаром Анна Оленина (подруга Ольги) называла его «самым большим в своем роде шалопаем»…
Ольга Павловна Строганова (П.Соколов) 1830г. /pinterest.dk
Ничего удивительного, что семье Строгановых выбор дочери пришелся явно не по душе. Не одобряла его и Аннета Оленина: 20 марта 1829 года записала в дневнике, что поступки ее дорогой Ольги вызвали у нее печаль и сострадание. Павел Ферзен попросил руки любимой девушки, но графиня Софья Владимировна Строганова ответила отказом.
Чувства дочери мать, очевидно, не принимала всерьез, считая мимолетным увлечением. После подобного отказа по неписаному обычаю тех времен Ферзен больше не должен был посещать дом Строгановых и мог встречаться с Ольгой только на светских раутах, на прогулках или на тайных свиданиях. Однако молодые люди были полны желания быть вместе, несмотря ни на какие препятствия.
Ольга Строганова (П.Соколов)/pinterest.dk
Вот как описывает дальнейшие события в своем дневнике Анна Оленина, знавшая о них от самой героини или ее родных: «…После того, как она вступила с ним в тайную переписку и имела такие же тайные встречи, она приняла решение и дала себя похитить…»
Каждый раз, как она ездила со своими сестрами верхом и пускала лошадь галопом, она бросала на землю записочку, которую поднимал ее «молодчик». Наконец, побег был решен. Ольга написала записку, в которой говорит: «Замужество или смерть».
Молодые все продумали до мелочей. Это был настоящий заговор.
Венчание молодых /liveinternet.ru
Вечером Ольга притворилась, что недомогает и попросила разрешения удалиться. Вышла в сад, где ее поджидал один из заговорщиков, штаб-ротмистр Конного полка Александр Иванович Бреверн. Путь к месту венчания был неблизким.
Строгановская дача находилась к северу от Петербурга, оттуда надо было добраться в демидовские владения в Тайцах – в сельскую церковь в деревне Александровка. Будущие супруги Ферзен отправились именно туда, чтобы на следующий день Павел Ферзен успел на учения полка, проходившие, по традиции, в Красном Селе. Это было рядом с Александровкой.
Церковь, где венчались молодые -наши годы /temples.ru
В Александровке священник согласился их обвенчать лишь при условии, что ему будет заплачено пять тысяч рублей, да еще и гарантирована тысяча рублей ежегодно. В пять часов утра они были обвенчаны, и молодые отправились в Тайцы. Свидетелями были упомянутый выше Александр Бреверн, а также ротмистр Кавалергардского полка Александр Ланской и офицер Гусарского полка Павел Соломирский.
По некоторым сведениям, уже после тайного венчания мать Ольги Строгановой, стремясь избежать огласки произошедшего, написала письмо командиру Кавалергардского полка графу Апраксину, что согласна на брак Ольги, а ей отправила записку: «Прощаю, благословляю, ожидаю». В то же время Ольгина бабушка, вспыльчивая и властная Наталья Петровна Голицына, проклинала свою внучку, но потом всё-таки смилостивилась и простила ее.
Девушка на коне (В.Шустин) /liveinternet.ru //Подписывайтесь на канал LIDOCHKA HISTORY
Дело дошло до государя императора, тот велел наказать виновников. Друзей Ферзена за подпись ложных документов перевели из гвардии в армейские полки, а его самого – в Свеаборгский гарнизонный батальон (Свеаборг – крепость на острове близ Гельсингфорса, нынешнего Хельсинки). Ольга последовала за мужем…
Однако прошло совсем небольшое время, и всех наказанных вернули в гвардию. Павел Ферзен продолжил службу в Кирасирском полку. С июля 1831 года он – ротмистр Кавалергардского полка, в его рядах он участвовал в польском походе. Отличился при штурме Варшавы, за храбрость награжден орденом Св. Владимира IV степени с бантом. В 1836 году был уволен от службы по болезни в чине полковника.
Как же сложилась дальнейшая судьба супругов Ферзен? Жизнь показала, что их чувства были очень глубокими и искренними, а вовсе не мимолетной страстью.
Граф Павел Павлович Ферзен, сын Ольги и Павла (Ф. Крюгер)/fishki.net
К тому времени в семье Ферзен родился сын Павел (в 1830 году), а в 1832 году появилась на свет дочь Софья…
Семья Ферзен поддерживала дружеские отношения со многими знаменитостями. Среди них был замечательный художник Карл Брюллов, немало произведений которого попало в коллекцию супругов. В 1834 году Брюллов написал акварелью портрет Павла Ферзена.
О.П.Ферзен.1837(К.П.Брюллов) /regnum.ru
Увы, счастливая семейная жизнь супругов Ферзен прервалась 13 апреля 1837 года ранней смертью Ольги Павловны… Незадолго до этого ее великолепный портрет написал К.П. Брюллов, оставляя скорбящему мужу живую память о любимой жене. Павел Карлович Ферзен пережил Ольгу почти на полвека.
Источник: Livelnternet.ru
https://zen.yandex.ru/media/id/5b9cf2c3b76d9000aa0...metel-5c4853aa9ad87a00add3def2
|
Метки: строгановы |
Черный перстень Анны Ахматовой. |
Черный перстень Анны Ахматовой.
Роковая муза советской поэзии - Анна Ахматова, которая обладала трагическим даром предвидения: она предсказала тюремный срок своего сына, гибель двух своих мужей и свой собственный суд, на котором её распнут как поэта. Она искренне верила в свой дар, очаровывала поклонников своей мистичностью и отталкивала своим высокомерием. Она не расставалась со своим большим чёрным перстнем, веря, что он убережёт её от любого несчастья. Этот перстень Анне завещала её бабушка, так считали все её друзья.
Хотя бабушки татарки у Анны Ахматовой не было, была прабабушка русская, но с татарской фамилией. Якобы бабушка ей так завещала: "Он (перстень) по ней, с ним ей будет веселей".
В Англии такие кольца в свое время назывались "траурными". Кольцо было золотое, ровной ширины, снаружи было покрыто черной эмалью, но ободки оставались золотыми. В центре черной эмали был маленький брильянт.
Анна Андреевна всегда носила это кольцо и приписывала ему таинственную силу. Художник и поэт Борис Анреп, именно ему Анна Ахматова подарила это кольцо со словами «Оно вас спасет». К сожалению, Борис не уберег подарок от воров, и где сейчас находится это кольцо, неизвестно.
Перстень Анны Ахматовой (копия) /vseosvita.ua
В этом же году перстень покинул Россию, это был 1916 год, именно с этого года жизнь Анны Ахматовой круто изменилась. Борис Анреп навсегда уехал в Англию и занялся мозаикой. Анна Ахматова написала тогда:
«Словно ангел, возмутивший воду,
Ты взглянул тогда в мое лицо.
Возвратил и силу и свободу,
И на память чуда взял кольцо»
Анна Ахматова /pinterest.ru //Статьи выходят после 14.00 по Мск
Анреп всегда носил кольцо на шее, но когда цепочка сломалась, он положил кольцо в "драгоценную" шкатулку, отделанную внутри красным бархатом. В этой шкатулке у него хранились награды, золотой портсигар, и другие ценные для него вещи. Борис собирался починить цепочку после поездки во Францию, там он открывал свою вторую студию.
Поездка оказалась неудачной - во Францию вошли фашисты, ему пришлось окольными путями добираться до Англии. Но и в Англии - при подходе к студии, при артналете немцев, взорвалась бомба около студии и разрушила её. Он потерял сознание, когда очнулся была уже ночь, шкатулку он все - таки нашел, но она была взломана и пуста. Борис Анреп очень переживал из за потери кольца...
Анна Ахматова /liveinternet.ru
Они встретились еще раз через сорок восемь лет. Он её не узнал, она очень изменилась. От стройной, хрупкой девушки ничего не осталось. В кресле сидела величественная полная дама. Если бы я встретил ее случайно, я никогда бы не узнал ее, так она изменилась. Он боялся, что Анна спросит о кольце. Она не спросила, а он смалодушничал, и тоже не признался...
Борис Анреп /liveinternet.ru
В музее Анны Ахматовой в Петербурге хранится другой перстень Анны, который она подарила своей подруге - поэтессе Марии Сергеевне Петровых. Ахматова говорила, что если с владельцем вещи, которую ей подарили случалось несчастье, то и вещь портилась, появлялись трещины, сколы. Очень часто это была смерть хозяина вещи.
В 1966 г., когда Ахматова лежала в больнице с первым инфарктом, на перстне Марии Сергеевны появилась первая трещина. % марта того же года Анны Андреевны не стало. Мария Петровых перстень еще немного поносила, и когда он нечаянно упал на пол, кусочек камня отлетел. Мария больше его не носила. Со временем её дочь отнесла перстень в музей.
Литература: * Л.К.Чуковская "Записки об Анне Ахматовой".
https://zen.yandex.ru/media/id/5b9cf2c3b76d9000aa0...tovoi-5c69a6dbe4bead00af906815
|
Метки: дворяне-литераторы мистика |
Оболенский Владимир Васильевич (1890) |
Оболенский Владимир Васильевич (1890)
- Дата рождения: 1890 г.
- Место рождения: дер. Коренево Ухтомского р-на Московской обл.
- Пол: мужчина
- Национальность: русский
- Социальное происхождение: из дворян (князь)
- Образование: высшее
- Профессия / место работы: священник, Владимир Васильевич был глубоко верующим человеком, преданным Православной Церкви
- Место проживания: Московская обл., Ленино-Дачное, ул. Советская, д. 24, кв. 18.
- Партийность: б/п
- Дата расстрела: 21 октября 1937 г.
- Место смерти: Московская о., пос. Бутово, "Бутовский полигон"
Аресты
- Где и кем арестован: Московская о., пос. Царицыно (Ленино-Дачное), Воздушный р., Советская, 24-18
- Мера пресечения: арестован
- Дата ареста: 28 августа 1937 г.
- Обвинение: контрреволюционной агитации и шпионской деятельности в пользу Финляндии
- Осуждение: 17 октября 1937 г.
- Осудивший орган: тройкой при УНКВД по Московской обл.
- Приговор: 3 года лишения свободы. Прибыл в Ухтпечлаг _13.03.1930._ Освобожден _09.08.1932._
- Место отбывания: Коми АССР, Ухтпечлаг НКВД (01.1930—09.08.1932 гг.)
- Дата реабилитации: 26 декабря 1973 г.
- Где и кем арестован: Московская о., пос. Ленино-Дачное, ул. Советская, 24-18
- Дата ареста: 28 августа 1937 г.
- Обвинение: "контрреволюционная агитация погромно-террористического характера и шпионская деятельность в пользу Финляндии"
- Осуждение: 17 октября 1937 г.
- Осудивший орган: тройка при УНКВД СССР по Московской обл.
- Приговор: высшая мера наказания — расстрел
- Место отбывания: Москва, Таганская тюрьма (28.08.1937—21.10.1937 гг.)
- Дата реабилитации: 26 декабря 1973 г.
- Реабилитирующий орган: Президиум Московского Областного суда
- Архивное дело: том III, стр.123, место хранения дела - ГА РФ.
- Источники данных: БД "Жертвы политического террора в СССР"; Москва, расстрельные списки - Бутовский полигон; БД «Новомученики и исповедники Русской Православной Церкви XX века»
Служение
Тверь
Должность губернский секретарь по земским и городским делам
Дата окончания: 1914 г.
Рязань
1914—02.1917 гг.
Каменец-Подольский
Должность делопроизводитель
Дата начала: 1917 г.
Московская губ., Московский у., совхоз "Петровский"
Должность управляющий совхозом
Дата окончания: 1920 г.
Московская губ., Подольский у., совхоз "Измайлово", совхоз "Качалово"
Должность заведующий совхоза
1920—1923 гг.
Курская ж/д., кирпичный завод NN 22,24
Должность счетовод, бухгалтер
1923—1929 гг.
Москва, Лучников пер., 2, Промышленное кооперативное товарищество "Квартстрой"
Должность бухгалтер
1929—1929 гг.
Москва, ул. Пятницкая, 48, Дачно-строительный кооператив "Академик"
Должность гл. бухгалтер
Дата окончания: 1937 г.
Документы
ГА РФ. Ф. 10035. Оп. 1. Д. П-72525.
Публикации
1. Мартиролог расстрелянных и захороненных на полигоне НКВД "Объект Бутово" 08. 08. 1937-19. 10. 1938. М. :"Зачатьевский монастырь", 1997. 420с.
С. 250.
2. Емельянов Н. Е. За Христа пострадавшие// Татьянин день. 1998. Март. N 20.
С. 12.
|
Метки: оболенские |
Куда пропало золото Колчака? |
Куда пропало золото Колчака?
Распорядиться богатством также нужно уметь. В начале 20 века Россия обладала самым крупным запасом в мире. Но революция, гражданская война и правители, которые приходили к власти бездумно его утратили. Сегодня по-прежнему ищут таинственное «золото Колчака».
Откуда несметное богатство
В России добыча золота происходила в специализированных шахтах. Так было до конца 18 века, пока не стали находить рассыпное золото. Такое явление было характерно для Урала, где люди повсеместно встречали самородки и золотой песок. Тогда, в начале 19 века золотоносные шахты прекратили свою работу, зачем тратить силы и средства на добычу того, что лежит на поверхности и нужно только его взять.
Масштабы добычи драгоценного металла были огромны. Соответственно рос и золотой запас Империи. К началу Первой мировой войне в казне было 1311 тонн золота, которые приравнивались к 696 миллионам рублей. Богаче страны не было во всем мире.
Фото с https://rusmystery.ru/wp-content/uploads/2015/08/zoloto-kolkacha-5.jpg
Война дорогое удовольствие
Существенно уменьшились золотые запасы во время войны. Для гарантии оплаты военных кредитов только в Англию было отправлено 75 миллионов. А в Канаду целых 562 миллиона. Как видим казна стала несколько легче. Поэтому, когда власть захватили большевики и завладели банками, золотой запас составлял один миллиард сто миллионов рублей. Цифра все еще впечатляющая.
Власть постаралась уберечь золото от большевиков, поэтому заблаговременно большую часть эвакуировала еще в 1915 году в Казань, находившуюся в тылу. Поэтому половина золотого запаса находилась именно в Казани. Большевиками была предпринята попытка вывезти его оттуда, им удалось заполучить всего сто ящиков. Им помешали белые и чехословацкие союзники, которые захватили город. А спустя месяц, то есть в ноябре 1918 Колчак стал Верховным правителем России, поэтому весь запас средств, находившихся на в Казани стал называться «золотом Колчака».
Фото с https://www.bagira.guru/images/joomgallery/origina...57/____20171030_1679930498.jpg
Захваченные средства частично перевезли в Омск, там они поступили в полное распоряжение правительства Колчака и были помещены в госбанк. Однако пересчитали золото только через шесть месяцев, за это время запас уменьшился до 505 тонн. Предположительно часть средств были потрачены на нужды армии и правительства. Дальнейшее передвижение золота можно проследить по архивным документам. В них значится что из Омска на Дальний Восток было направлено 8 эшелонов с золотом, но дошло только семь. Последний же, в котором были десятки ящиков со слитками, попросту исчез.
Все это происходило тогда, когда колчаковские войска начали отступать, вагоны с золотом и сопровождением были отправлены по Транссибирской магистрали, где их остановили чехи, они при поддержке Антанты принудили Колчака отказаться от своего поста и отдать им все золото. Затем в обмен на свою безопасность чехи отдали адмирала и 311 тонн золота эсерам, а они большевикам. Как итог, Адмирал был расстрелян, а государству вернулся золотой запас, правда более 180 тонн из него куда-то бесследно исчезло.
Фото с https://cdn.fishki.net/upload/post/2017/06/06/2308...b7928902f4f45f31149d997b87.jpg
Спрятано или потрачено
Пропавшую часть «золота Колчака» ищут и по сей день, очень уж привлекательная цифра там. Искали и частники, и правительство. Но безрезультатно.
Версий, куда могло деться более 180 тонн драгоценного металла. Есть предположение, что он спрятан в шлюзе судоходного водного канала. Или даже, что золото затоплено в Иртыше или Байкале. Но, многочисленные поиски и экспедиции не дали положительного результата.
Вероятнее всего, версия, выдвигаемая историками, часть пропавшего золота попросту была израсходована для покупки оружия, а часть вывезена за границу. Также предположительно, средства, оставшиеся на счетах в зарубежных банках, были в последствии потрачены на помощь эмигрантам.https://zen.yandex.ru/media/id/5bd8bff7a0478400ace...chaka-5c61b09931b13100b17d9e3f
|
Метки: гражданская война колчак |
Еврейский вопрос в Российской Империи |
Еврейский вопрос в Российской Империи
В начале ХХ века многие были убеждены, что евреи устроили революцию из-за своей дискриминации в царской России.
Начало
Когда в 1563 году, во время Ливонской войны, русские войска взяли Полоцк, то евреев стали насильно крестить. Отказавшихся три сотни евреев утопили в Двине.
В середине XVII века Россия присоединила к себе от Польши большую часть Украины. Евреям, которых не успели вырезать казаки Богдана Хмельницкого, было при этом приказано выбирать между крещением или изгнанием.
Вместе с тем, крещёные евреи уже с начала XVIII века пользовались всеми возможными правами. Пётр Шафиров и ещё несколько выкрестов входили в плеяду видных деятелей времён Петра Великого. В это же время евреи начинают селиться в приграничных с Польшей областях России. Были евреи и в недавно присоединённой Прибалтике.
В течение XVIII века сначала Екатерина I, потом Елизавета Петровна издавали указы о выселении всех иудеев за пределы Российской империи.
Черта оседлости
При Екатерине II Россия в результате разделов Польши присоединила к себе Литву, Белоруссию и Правобережную Украину, где проживало больше миллиона евреев. Вместо выселения русское правительство ввело так называемую черту оседлости. Евреям запрещалось селиться за пределами этой черты, включавшей вновь присоединённые земли бывшей Польши и Прибалтику.
Помимо черты оседлости, на евреев налагались другие ограничения. Им в разное время запрещалось заниматься некоторыми промыслами, которые разоряли местных крестьян: шинкарством, ростовщичеством. Правительство пыталось переселить всех евреев из сельских местечек в города.
Однако дискриминация затрагивала только бедную еврейскую массу. Вне черты оседлости в XIX веке было разрешено проживать таким категориям евреев: закончившим университет, купцам первой гильдии, медицинским работникам, ремесленникам. Богатые еврейские банкиры и промышленники Гинцбурги, Рубинштейны, Поляковы и др. входили в буржуазную элиту Империи, с ними считались при Царском дворе.
Крещёным евреям был открыт путь на все ступени карьерной лестницы. Московский генерал-губернатор Гершельман, дворцовый комендант Гессе, ряд других высокопоставленных деятелей администрации Николая II были выкрестами.
Теодор Рузвельт - Николаю II: "Прекратите жестокое притеснение евреев. Теперь, когда у вас внешний мир, почему бы не жить в мире и внутри границ России? Американская карикатура, 1906 год.
Погромы и революция
Стремясь ограничить получение евреями высшего образования, министр народного просвещения при Александре III граф Дмитрий Толстой ввёл норму приёма евреев в высшие учебные заведения – не больше трёх процентов в Петербурге и Москве и пяти процентов в остальных городах. Это при том, что в Одессе, например, евреев было 40% населения города, а в Вильне – больше половины.
Масса местечковых евреев, зажатая в черте оседлости, нищала из-за конкуренции в своей собственной среде. В конце XIX столетия началась её массовая эмиграция. Сионистские организации и царское правительство вначале действовали заодно, стремясь направить этот поток в Палестину. Но в какой-то момент сотрудничество прервалось.
Многие евреи, обвиняя в своих бедах царское правительство, шли в революционеры. В 1905 году по многим городам западной части Империи прокатились межнациональные столкновения. В либеральной и зарубежной прессе их назвали еврейскими погромами. Монархическая печать уверяла, что конфликты провоцировались еврейскими революционерами, стрелявшими в православные крестные ходы. «Прогрессивная общественность» обвиняла в организации еврейских погромов царскую полицию. Однако никаких доказательств этому не предъявлено до сих пор.
В 1915 году, в связи с отступлением русских войск на фронте Первой мировой войны, власти зачем-то начали принудительную эвакуацию всех евреев из приграничных областей вглубь страны. Из-за этого пришлось отменить черту оседлости. Многие из переселенных евреев, оторванные от родных жилищ, озлобленные, составили кадры разразившейся вскоре революции большевиков.
Фотоматериал использован из свободного доступа Яндекс и является иллюстрацией мыслей автора.
ttps://zen.yandex.ru/media/history_russian/evreiskii-vopros-v-rossiiskoi-imperii-5bf7a08a7db00200aae169b1
|
Метки: российская империя национальный вопрос евреи |
Самый опасный "черный ангел" Российской империи - Мария Тарновская. |
Вчера
Самый опасный "черный ангел" Российской империи - Мария Тарновская.
В 1877 году в семье графа Николая О’Рурка родилась дочь, которую назвали Марией. Начало ее жизни тоже было вполне – ее отец был потомком древней династии ирландских королей и Марии Стюарт. Именно его предки обосновались в России еще в XVII веке, служить императрице Елизавете Петровне. Однако к моменту рождения Марии от былого блеска в семье остались разве что легенды о величии рода и истории о честной службе О’Рурков русским государям.
Мария росла красавицей. Она была стройной и голубоглазой, имела тициановский цвет волос, но еще больше, чем ее красота, пленял поклонников ее нрав, дома её все звали Манюня. В полтавском институте благородных девиц, который она окончила в 17 лет, ее прозвали «демивиержкой». Это французское словечко означает «полудевственница», так называли девиц, которые храня физическую девственность, уже познали многое из того, что именуется плотской любовью.
Мария Николаевна О'Рурк /pinteres.ru
На последних классах института Мария обнаружила: в неё без памяти влюблен красавец и богач Василий Тарновский — самый модный жених Киева. Поклонник, как и его избранница, происходил из знатного, хорошо известного на Украине рода. Васюк Тарновский — неслужащий дворянин 22 лет. По слухам, его ожидает огромное наследство, но пока живёт на полном родительском содержании.
В 18 лет Мария тайно обвенчалась с Василием. Тайно, поскольку родители и жениха и невесты были против этого брака. Первые годы брака прошли в одуряюще - веселой атмосфере. Мария Тарновская обожала клубнику в эфире, колола себе морфин золотым шприцом, и, как вся богема в ту пору пила абсент – спирт, настоянный на полыни. Даже своего первенца она родила в отдельном кабинете одного из киевских ресторанов, в 1897 году.
Граф Василий Тарновский, 1860 год/slovo.com
Мария влюбила в себя своего деверя Петра Тарновского, брата мужа. Влюбила, разбила сердце и… подтолкнула к самоубийству, в 17 лет Петр повесился. Василию достались в наследство деньги брата, и веселье можно было продолжать.
Через два года родилась дочь Татьяна. Все рухнуло, когда у старика Тарновского начались финансовые неурядицы. В 1899 г. глава семейства Тарновских умер. Васюк начал пить, семье пришлось ограничивать себя в средствах. Начались скандалы, у Марии появились поклонники.
Поклонники у Марии сменялись один за другим, с одним из них мужу Марии пришлось столкнуться при входе в ресторан (Мария специально пригласила и мужа и любовника в один ресторан). При прощании Боржевский поцеловал Марию, Василий Васильевич (муж) достал пистолет. Пуля попала в заднюю часть шеи Боржевского, не задев сонной артерии.
Графиня Тарновская Мария Николаевна/pinteres.ru
Своему очередному любовнику Шталю, находясь с ним в Крыму, она сказала, что взаимность дорого стоит. Шталь застраховал свою жизнь в пользу Тарновской (хотя у него была жена и дети), и через два дня застрелился в Киеве от несчастной любви.
Мужа Тарновской судили за убийство Боржевского, но оправдали за невиновностью, а Марию ославили на всю Россию.
В числе любовников Тарновской был и адвокат Прилуков, сначала он жил на два дома, потом стал залезать в клиентские деньги. Любовь к Марии ему стоила 4 тысячи рублей в месяц (тогда это были очень большие деньги). Потом, украв 80 тысяч, сбежал с Марией в Алжир. Скоро и эти деньги закончились, и Прилуков вместе с Тарновской разработал, по их мнению "идеальный план преступления".
Граф Павел Комаровский /fishki.net
Их внимание привлек граф Павел Комаровский, он был с женой, которая тяжело болела. Мария быстро стала графу любовницей, а жене сестрой милосердия. Когда жена умерла, граф предложил Марии выйти за него замуж. Она согласилась, но предупредила, что должна развестись с мужем. Влюбленный граф застраховал свою жизнь в пользу Манюни на 500 тысяч франков. Они поехали в Орел, где граф познакомил её со своим другом - секретарем губернатора, Николаем Наумовым.
Николай Наумов, потомственный дворянин, сын пермского губернатора, из старой дворянской семьи, его двоюродный дед — Иван Тургенев. Это элегантный молодой человек 24 лет. Он всецело попал под влияние Тарновской, даже написал поэму в честь графини, где клялся быть ей верным до гроба.
Комаровский отдыхал в Италии, Николай Наумов за четыре дня должен был добраться туда. В руках у него был один чемодан - с пистолетом. После убийства он должен был срочно уничтожить все документы и уехать в Швейцарию . Мария, в свою очередь, приехала в Италию чуть позже.
Николай Наумов, любовник, убийца /fishki.net
Утром 4 сентября 1907 года Николай появляется на пороге графского дома, расположенного на площади campo Santa Maria del Giglio. Прислуге он представляется русским другом хозяина. Когда Павел Комаровский вышел навстречу гостю, Наумов выстрелил в него в упор со словами: «Вы не должны жениться на графине!». Раненого графа поместили в венецианскую больницу «Ospedale», где он и умер.
Когда арестованный Наумов узнал от следователей правду, он сознался и назвал имя заказчицы. Тарновская и Прилуков были задержаны в Вене при попытке получить деньги по страховке. Следствие тянулось более двух лет, и громкий судебный процесс состоялся в Венеции лишь весной 1910-го, об этом событии писали все газеты мира.
Мария в сопровождении карабинера /pinteres.ru
Итальянцы прозвали Марию Тарновскую "Черный ангел". Она вызвала всеобщее возмущение, её называли "проклятая богом". На фасаде дома, где был убит Комаровский, появился лозунг "Тарновскую — на галеры». Суд не поддался на уловки обвиняемых и их адвокатов — от наказания освободили лишь одну Перье. Тарновскую же осудили на восемь лет исправительных работ в Венеции, на соляных промыслах.
Наказание могло быть и более суровым, но подсудимых признали виновными не в убийстве, а в покушении на убийство, посчитав, что Комаровский умер в результате неудачного лечения. За всю её жизнь из за неё застрелились 14 мужчин. Процесс Тарновской стал мировой сенсацией, ее биография была переведена на все важнейшие европейские языки, ее фотографии и портреты переполняли иллюстрированные журналы, о Тарновский написаны книги, невероятное множество статей, фильмы.
Литература: Владимир Филиппов, (петербургский сыщик) "Преступление в стиле модерн". (глава о Тарновской "Убийство в Венеции").
https://zen.yandex.ru/media/id/5b9cf2c3b76d9000aa0...skaia-5c4a09795770a000afcc5b08
Смотрите также публикации по темам
История РоссииИнтересные факты
Понравилось?
Другие публикации этого автора
Роман цесаревича Александра Николаевича, переполошившего пол - Европы.Старший сын Николая I Александр, в юношеском возрасте был весьма впечатлителен и влюбчив.LIDOCHKA HISTORYНезаконнорожденный сын великого князя Константина Павловича - первый ракетчик России.Он был незаконнорождённым сыном великого князя Константина Павловича.LIDOCHKA HISTORYПравление Анны Иоанновны. Свинцовые белила.На производстве свинцовых белил люди умирали за два года.LIDOCHKA HISTORY
|
Метки: тарновские |
Масонские места в Питере |
Масонские места в Питере
Масонский орден прочно обосновался в мире, Петербург не стал исключением. Знаки масонов можно наблюдать в городе.
Троицкий собор Александро-Невской лавры
Вторая версия собора построенная в 1786 году получила масонский знак - треугольник с исходящими лучами.
Казанский собор
Фронтон собора известен тем же знаком треугольника с лучами, масштаб грандиознее, и бросается в глаза явно чаще.
Александрийский столп
На главной площади города упускаемый из виду классический символ масонов - всевидящее око.
Ротонда
Одна из загадок города, строение созданное не просто так. Масонские собрания были нормальным мероприятием в здании ротонды. По городу известны и другие подобные здания. Самая известная на Гороховой 57.
Сампсониевский собор
Ещё одно око украшающее христианский собор. Постройка была по плану Трезини, версия что он состоял в масонском ордене явно далека от истины.
https://zen.yandex.ru/media/piter_segodnya/masonsk...itere-5c61ce6382ef4c00ac6fae5e
|
Метки: санкт-петербург масонство |
Внучка Романовых - королева мотогонок. |
Внучка Романовых - королева мотогонок.
После Октябрьской революции 1917 года практически всех представителей династии Романовых ждала незавидная участь: царскую семью расстреляли, их ближайшие родственники были убиты, а многочисленным внебрачным или морганатическим отпрыскам династии пришлось бежать за границу. Но некоторые из них остались жить в СССР.
Наталья Искандер (Андросова)
Прадедом Кирилла и Натальи Искандер был великий князь Константин Николаевич – любимый брат и союзник императора Александра II. Их дед – великий князь Николай Константинович – в молодости украл фамильные драгоценности у матери, был лишён наследства и выслан из Петербурга, поселился в Ташкенте и занялся бизнесом. Он взял себе фамилию Искандер. От Николая Константиновича эту фамилию унаследовали его дети и внуки, речь идет о Кирилле и Наталье Искандер.
Николай Константинович Романов, основатель династии Искандер
Кирилл и Наталья Искандер родились в Петербурге в преддверии революции: он – в 1915 году, она – в феврале 1917-го. Когда в столице стало неспокойно, они с матерью уехали в Ташкент к дедушке.
В 1918 году Николай Константинович скончался. После этого его ташкентский дом перешёл в собственность городских властей и был превращён в музей. Однако семье "ташкентского князя" позволили остаться жить во флигеле дворца – там, где раньше размещалась семья дворецкого.Наталья Андросова (Искандер).
Брат и сестра Кирилл и Наталья Искандер, праправнуки императора Николая I. 1919 год, Ташкент
В начале 1919 года в Ташкенте вспыхнуло антибольшевистское восстание, и к нему присоединился отец Кирилла и Натальи – Александр Николаевич Искандер. С тех пор дети больше не видели отца. Александр воевал у белых, эмигрировал, вывезти семью не сумел. Его жена уехала в Москву, где ее никто не знал, и вышла замуж за некоего Николая Андросова, который дал свою фамилию ей и падчерице. Так потомки Романовых стали Андросовыми: Кириллом Николаевичем и Натальей Николаевной.
Наталья в юности занималась спортом, в том числе мотоциклетными гонками. Согласно её воспоминаниям, в 1930-е годы она участвовала в большом спортивном параде на Красной площади:"Изображала статую дискобола. Застыв на высоченной платформе, проплыла перед трибуной мавзолея, на которой стоял Сталин".
"Статуя дискобола" , парад на Красной площади
В 1930-е годы ей интересовались сотрудники НКВД: вызывали её на допросы и настойчиво предлагали стать информатором. Но она, по собственным словам, сказала, что "доносить не умеет и учиться этому не собирается". Однако некоторые исследователи предполагали, что она лукавила. Например, историки Джон Перри и Константин Плешаков в книге "Бегство Романовых: семейная сага" писали, что Наталья Николаевна на самом деле была агентом НКВД под псевдонимом "Лола".
В 1939 году она начала работать в аттракционе "Мотогонки по вертикали" в парке Горького. Бешеная кровь деда, которого та не помнила, сказалась на выборе профессии. Наталья Андросова стала мотогонщицей по вертикальной стене. Прервала спортивно - артистическую карьеру только на время войны.
"Мотогонки по вертикали" с завязанными глазами, Наталья Андросова
Во время Великой Отечественной войны она осталась в Москве и работала шофёром на полуторке. Днем возила хлеб на передовую, ночью – снег из Александровского сада для строительства оборонительных заграждений на подступах к Москве. В «свободное время» тушила «зажигалки» на арбатских крышах. После войны вернулась в свой аттракцион.
«Не раз падала, разбивалась так, что врачи прочили мне костыли на всю оставшуюся жизнь, а я снова садилась на мотоцикл. Никогда я не позволяла себе плакать и жаловаться. Тогда, в 1940-е годы, я потеряла колено: с высоты вместе с мотоциклом рухнула вниз. Смотрю, а из коленки кости торчат. «Ну что, – говорю, – везите меня в больницу». Но через год я снова гоняла по стенке. До 1967-го». Наталья мастер спорта СССР по мотогонкам.
Наталья на мотоцикле
Она жила в полуподвале на Старом Арбате и звалась в кругах московской богемы королевой Арбата. Состарившийся, но не потерявший шарма Вертинский целовал ей руку, молодые Галич, Вознесенский, Евтушенко и Межиров посвящали стихи, сосед по дому Юрий Казаков сделал прототипом главной героини одного из рассказов.
Наталья Александровна, для пущей конспирации звавшаяся по отчиму Натальей Николаевной, была замужем за режиссером «Мосфильма» Николаем Досталем. В 1959 г. Николай Владимирович Досталь трагически погиб на съемках фильма. Два ее пасынка стали известными кинодеятелями. А своих детей не имела. Возможно, сказалась профессия: ей случалось падать и получать серьезные травмы. В годы «оттепели», когда ей уже перевалило за 40, она продолжала блистать в парке Горького. Там стояла огромная деревянная бочка, и Наталья Андросова каждый день совершала по 15−20 заездов — удерживаемая центробежной силой, взбиралась по спирали наверх и снова спускалась на землю.
Встретившийся с ней в конце 1980-х годов историк и писатель Эдвард Радзинский уверял, что сразу узнал знакомые по портретам фамильные голубые глаза прапрадеда Николая I.
Наталья Николаевна
Умерла она 25 июля 1999 года в Москве от инсульта. О судьбе Кирилла Андросова, к сожалению, известно очень мало: он также прожил всю жизнь в СССР, участвовал в Великой Отечественной войне; был женат, но не имел детей; скончался в 1992 году. Наталья Николаевна в своих интервью о брате почти не говорила. Да и журналисты им не интересовались: вероятно, его профессия была менее захватывающей, а образ жизни менее ярким, чем у его сестры. Все фото взяты из свободного доступа в интернете.
источник: * Ольга Лунькова "Княжна на мотоцикле.https://zen.yandex.ru/media/id/5b9cf2c3b76d9000aa0...gonok-5c6a81b75deb2600af38929a
|
Метки: романовы |
БОРИСОГЛЕБСКИЙ АНГЕЛ. ГРАФИНЯ МУСИНА-ПУШКИНА. |
БОРИСОГЛЕБСКИЙ АНГЕЛ. ГРАФИНЯ МУСИНА-ПУШКИНА.
Графиня Эмилия Карловна Мусина-Пушкина, урожденная Шернваль, была одной из самых известных красавиц начала XIX в. Михаил Лермонтов посвятил ей мадригал, а влюблённый в неё Пётр Вяземский писал, что она напоминает «не то букет белых лилий, не то пучок лунных лучей». Судьба графини Мусиной-Пушкиной сложилась драматически: она ушла из жизни в раннем возрасте, так и не узнав, что такое счастье.
Эмилия была младшей из двух дочерей в семье шведа Карла Иоганна Шернваля, состоявшего на русской службе, и немки Евы Густавы фон Виллебранд. Она родилась в Финляндии в 1810 г. В 16 лет Эмилия начала выезжать в свет в Гельсингфорсе (Хельсинки). Обе сестры, и Эмилия, и Аврора, которая была старше на два года, были красавицами и сразу привлекли к себе внимание в светском обществе. На балах у них не было отбоя от кавалеров.
В.И. Гау. Портрет Эмилии Мусиной - Пушкиной
Эмилия сразу же определилась с выбором мужа – она приняла предложение руки и сердца от Владимира Алексеевича Мусина-Пушкина. Он был старше Эмилии на 12 лет. Такое решение многих удивило: граф был небогат, не слишком хорош собой, он участвовал в заговоре декабристов и находился под политическим надзором.
Такую партию не могли в свете назвать блестящей, но Эмилия влюбилась в «мученика истины», каким ей представлялся ее избранник. Семья Мусина-Пушкина также не была довольна выбором сына. Мать даже добилась его перевода на службу в отдаленную крепость, чтобы воспрепятствовать женитьбе Владимира на «безродной шведке».
К. Брюллов. Портрет В. А. Мусина-Пушкина, 1838 г.
Для того, чтобы женитьба все-таки состоялась, ссыльному офицеру пришлось добиваться не только согласия матери, но и разрешения командира полка, генерал-губернатора и даже самого императора.
От переживаний у Мусина-Пушкина случился нервный срыв, и сердце матери растаяло. 4 мая 1828 г. влюбленные наконец смогли обвенчаться. Никто из родни жениха на церемонии не присутствовал.
Эмилия Мусина - Пушкина /pinterest.ru //Статьи выходят после 14:00 по Мск
После четырех лет службы в провинции граф Мусин-Пушкин вышел в отставку. Вскоре он был помилован и смог перебраться вместе с женой в Петербург. Туда же переехала и сестра Эмилии Аврора.
Обе они без труда покорили высший свет, получив прозвище «финляндских звезд». Сестер называли главными соперницами по красоте Натальи Николаевны Пушкиной. Поэт поддразнивал жену и спрашивал ее в письме: «Счастливо ли ты воюешь со своей однофамилицей?»
А..Брюллов Н. Н. Пушкина, урожденная Гончарова /infourok.ru
Хозяйка салона Александра Смирнова-Россет писала об Эмилии: «В Петербурге произвели фурор её прекрасные волосы, её синие глаза и чёрные брови». Сенатор Александр Булгаков в письме брату восхищенно отмечал: «Ну, брат, что за красавица Пушкина, жена Володина! Я не люблю таких, но вчера на неё залюбовался; к тому же, одета она была прекрасно, с голубыми перьями на голове, а этот цвет идет к ней очень. Скажи Вяземскому, что она решительно лучше сестры своей».
Для многих поэтов Эмилия Мусина-Пушкина стала музой. Петр Вяземский потерял от нее голову и писал, что она «бледная, молчаливая, напоминающая не то букет белых лилий, не то пучок лунных лучей, отражающихся в зеркале прозрачных вод…». В Эмилию был влюблен и Михаил Лермонтов, написавший в ее честь шуточный мадригал: Графиня Эмилия – Белее, чем лилия, Стройнее её талии На свете не встретится. И небо Италии В глазах её светится. Но сердце Эмилии Подобно Бастилии.
В.И.Гау Портрет Эмилии Мусиной - Пушкиной /infourok.ru
Графиня была по-прежнему влюблена в своего мужа и никому из поклонников не отвечала взаимностью. К тому же на тот момент «белой лилии» было совсем не до любовных интриг, ее заботили совсем другие проблемы. В первые 10 лет брака Эмилия родила шестерых детей. Все они были болезненными, двое сыновей умерли в младенчестве. Поддержки и помощи от мужа она не видела – он пристрастился к карточной игре и вскоре практически разорил семью.
Эмилия становилась все грустнее и грустнее, она мечтала уехать в любое из имений Мусиных - Пушкиных и жить там спокойной семейной жизнью, но вынуждена была остаться в Петербурге и постоянно появляться в свете, что требовало больших затрат. Эмилии приходилось по несколько раз надевать на балы одно и то же платье, преображая его то новой шалью, то новыми кружевами...
Арора предложила помощь, но сестра отказывалась от помощи, боялась, что это унизит Владимира Алексеевича. Часто болеющие дети держали мать в постоянной тревоге, ей было не до балов и развлечений. Тем не менее, выходя в свет, она затмевала всех. Шлейф её поклонников все время увеличивался.
Подмосковная усадьба графа Мусина-Пушкина Валуево. Усадьба Мусиных-Пушкиных в с. Борисоглеб. Фото 1930-х гг.
Графиня Мусина-Пушкина была на грани отчаяния. Из Петербурга пришлось переехать в имение Борисоглебское. Аврора (сестра) писала подруге: «Эмилия решила остаться на пять лет в имении и за этот период поправить свои финансовые дела, так как в настоящее время средства не позволяют им оставаться даже на зиму в Петербурге. И вдобавок к этому, Эмилия никогда и ничего не делала без энтузиазма. Она наслаждалась работой, за которую бралась, и говорила, что счастлива, когда может украсить жизнь полезным трудом и добрым делом…».
Сын графини Мусиной-Пушкиной Алексей. А. Козлов. В. А. Мусин-Пушкин.
Без дела она и вправду не оставалась. Графиня активно занималась налаживанием быта в поместье, заботилась о крестьянах, открыла для них школу и больницу, за что получила в народе прозвище «Борисоглебского ангела». Но эта забота о ближних имела трагические последствия.
В 1846 г. началась эпидемия тифа, и графиня в специально обустроенном госпитале обучала крестьянок уходу за больными. В конце концов она сама заразилась и в ноябре скоропостижно скончалась, оставив сиротами трех сыновей и двух дочерей. Ей было 36 лет.
Эмилия Карловна Мусина - Пушкина /pinterest.ru
Владимир Соллогуб в воспоминаниях позже писал: «Графиня Мусина-Пушкина умерла молодой – точно старость не посмела коснуться её лучезарной красоты…». Она так и не узнала, что такое настоящая взаимная любовь и счастье – ведь ее муж долго не мог забыть своей первой любви, княжны Урусовой, которую одни называли «царицей московских красавиц», а другие - «богиней глупости»?
Мусин-Пушкин был известен страстью к азартным играм; он не раз проигрывал крупную сумму, из-за чего в семье росли долги. Последние годы провел в своем имении, где занимался хозяйством. Скончался неожиданно осенью 1854 года, заразившись холерой при осмотре одной из московских больниц. К моменту смерти его долги составляли около 700 тысяч рублей. Похоронен в одном склепе с женой в Борисоглебе, сегодня их могилы — на дне Рыбинского водохранилища.
Литература: Русские портреты XVIII - XIX столетий. Изд. Вел. Кн. Николая
Михайловича. СПб. 1906.
https://zen.yandex.ru/media/id/5b9cf2c3b76d9000aa0...hkina-5c6020895deb9800afcba57b
|
Метки: мусин-пушкины |
От казнокрада до героя войны 1812 года - усадьба Олсуфьевых (с. Горицы, Кимрский р-н, Тверская обл.) |
От казнокрада до героя войны 1812 года - усадьба Олсуфьевых (с. Горицы, Кимрский р-н, Тверская обл.)
Неоднократно с своих поездках на дачу в сторону Кашина проезжала село Горицы (Кимрский район, Тверская обл.). И, только в этом году, когда я начала постигать методику "дедуктивного усадьбоведения", обратила свое внимание на наличие остатков усадебных строений в селе Горицы.
Начиная с времен Петра I, владельцами села были Олсуфьевы. Вот что пишет Борис Пискунов, краевед из села:"Реформы Петра I, крупно изменившие быт России, сыграли огромную роль и в судьбе села Горицы и окрестных деревень. Кашинский уезд вошел в Тверскую провинцию, которая стала частью Ингерманландской (позднее Санкт-Петербургской) губернии.
Было ликвидировано патриаршество, в 1710 году 386 крестьянских дворов патриарших вотчин Кашинского уезда поступили в ведении канцелярии Санкт-Петербургской губернии.
С этого времени началось расхищение этих вотчин казнокрадами из окружения Петра I. Среди них были и братья Олсуфьевы - гофмаршалы (управляющие) двора (ведали всем дворцовым хозяйством, штатом, придворных, церемониалом) Петра I и его жены Екатерины. Один из братьев, Матвей Дмитриевич, по совместительству управлявший государственными вотчинами и имениями, в состав которых вошли и бывшие патриаршие вотчины, присмотрел село Горицы с деревнями".
Будучи сыном мелкопоместного помещика из соседнего с Кашинским Бежецкого уезда, М.Д. Олсуфьев имел представление о селах Горицы и Стоянцы и выбирал себе первое как экономически более крепкое, расположенное в более красивом месте, на возвышенности. Возможно, были и другие причины. Как позднее было записано в родословной книге тверского дворянства, «...Стряпчему Матвею Дмитриевичу Олсуфьему в 1710 году государь император Петр 1 пожаловал за службу бывшая по писцовым книгам 1628, 29, 30 годов домовая вотчина святейшего патриарха Московского Филарета Никитича Кашинского уезда село Горицы с деревнями».
При разделе поместья отца братьями Олсуфьевыми Дмитрию досталось большая часть села Гориц и ряд деревень, Михайле часть в Горицах и деревни к северу от них. Дмитрий Олсуфьев устроил поместье между селом Горицы и деревней Наумово, где до сих пор сохранился пруд, называемый «барским». Для осушения местности от поместья до Гориц был прорыт ров, который еще в начале XX века был глубиной не менее 3-х метров. На северном берегу пруда в Горицах был разбит парк, в котором стоял деревянный господский дом, построенный еще во время Матвея Олсуфьева.
Пруд в Горицах (24 февраля 2017 г.)
Самое старое дерево на северном берегу пруда (февраль 2017 г.)
У братьев Олсуфьевых разрастались семьи. Младший из них, Николай, родился в 1775 году в селе Горицах. Был малолетним записан в лейб-гвардии Измайловский полк, оставаясь дома на воспитании родителей. С 1797 года на службе подпрапорщиком. В это время командовать полком был назначен цесаревич Константин, сын Павла I. Николай приглянулся ему и был назначен адъютантом с переводом в лейб-гвардии Конный полк, в рядах которого участвовал во многих сражениях с французами с 1805 по 1815 год.
Такое внимание со стороны цесаревича к отданию посмертных почестей Николаю Олсуфьеву объясняется характером последнего. «...Всегда веселый, всегда с шуткой, с остроумным каламбуром на устах в дружеской беседе и под жужжание пуль, на придворном блестящем бале и на дымном биваке. Олсуфьев соединял своим самобытным характером доброту сердца, кроткое благодушие, готовность на добро, бескорыстие рыцаря и беспечность питомца XVIII века.
В сих качествах заключалась причина привязанности и дружбы к нему цесаревича, которого умел он развлекать в самые грустные минуты жизни, и за то же самое любили Олсуфьева его товарищи», - отмечалось в его биографии.
Те 36 душ крестьян села Гориц, что принадлежали Николаю Олсуфьеву, а также 29 душ в окрестных деревнях, меньше испытывали тяготы крепостничества, имея такого помещика.
Захар Дмитриевич Олсуфьев, генерал-лейтенант, сенатор, родился в 1773 году в имении своих родителей - селе Горицы Корчевского уезда Тверской губернии. На третьем году жизни, по принятому тогда обычаю, был записан унтер-офицером в лейб-гвардии Измайловский полк, оставаясь на воспитании у родителей в селе Горицах. Захар получил весьма скромное образование, так как усадьба не была богата. Иностранцев в гувернеры ему не нанимали, поэтому французского языка он не знал.
С 17 лет он оказался на войне и был настоящим героем, от пехоты прапорщика он сделал карьеру до генерал-лейтенанта. Во время русско-австрийско-французской войны в 1805 г. Олсуфьев отличился под Аустерлицем (орден Св. Анны 2-й ст.), участвовал в кампании 1806-1807 гг. В бою под Прейсиш-Эйлау (1807) он был ранен, но остался в строю (орден Св. Владимира 3-й ст.), командуя 14-й дивизией отличился в майских боях 1807 г. (орден Св. Анны 1-й ст.). За героизм, проявленный в 1807 г. в бою под Гейльсбергом (продолжил сражение, несмотря на контузию левой руки), Олсуфьев награжден золотой шпагой «За храбрость» с алмазами и прусским орденом Красного Орла 1-й степени.
Во время заграничных походов 1813-1814 гг. участвовал во всех главных сражениях русской армии, за что был удостоен алмазных знаков к ордену Св. Анны 1-й степени в 1813 г. Под Шампобером, выполняя ошибочные приказы прусского генерала (в дальнейшем фельдмаршал) Г.Л. Блюхера Захар Дмитриевич был ранен в штыковом бою и взят в плен (10 февраля 1814 г.). На предложение Наполеона обратиться к Александру I с просьбой об обмене его на французского генерала Вандама ответил отказом. После взятия Парижа он был освобожден и представлен императору Александру I, милостиво встретившего его словами: «Захар Дмитриевич! Мне не надобно требовать от тебя отчета о том, как ты попал в плен. Знаю все подробности: ты дрался, как русский генерал и верный сын Отечества!».
После окончания войны Олсуфьев продолжал военную служу. В феврале 1820 г. он был назначен сенатором. Контузии и ранения отразились на здоровье Олсуфьева и вскоре его парализовало. Уволен в отставку с мундиром и пенсией 21 мая 1831 г. Скончался 20 марта 1835 г. и был похоронен около церкви Рождества Христова в с. Горицы Корчевского уезда.
Захар Дмитриевич был женат на Ангелине Воиновне Пининской (скончалась в 1835 г.). В семье Олсуфьевых было пять дочерей: Доминика, Анжелика, Теофила и Софья, не вышедшие замуж. Пятая его дочь, Екатерина, стала женой коллежского секретаря Демидова, потомка известного рода заводчиков Демидовых.
А теперь, что осталось от усадьбы Олсуфьевых.
Главный дом, в котором сейчас располагается магазин на центральной площади, но если вы завернете с другой стороны, то сразу уведите старинный вариант дома. Конечно, уже с перестройками.
Хозяйственный двор (конный).
Флигеля и хозяйственные строения.
Строения обращены к пруду и слева ров, который осушал болотистую местность.
От парка практически ничего не осталось, но лучше проверить весной, какие растения и возможно ландшафты местности еще наблюдаются. Село Горицы отличается различными наличниками на домах, кажется, что здесь работал местный мастер, так как наличники не повторяются. Но об этом отдельное исследование. Конечно, теперь хочется изучить все усадьбы Олсуфьевых, которые были в Тверской губернии. Так, одни были бесконечными воинами и защитниками, другие игроками и разоряли свои поместья до описи. Продолжим свои путешествия "В поисках русских усадеб" и откроем новые тайны мелкопоместных помещиков.
Метки: усадьба Тверская область
|
Метки: олсуфьевы дворянские владения тверь |
Юсуповский дворец. Княжеские покои |
Юсуповский дворец. Княжеские покои
Мы с вами уже побывали в парадных залах Юсуповского дворца на Мойке, в его домашнем театре, на половине молодых князей и экспозиции «Убийство Распутина». Сегодня же я закончу цикл статей об этом интереснейшем месте рассказом об экскурсии «XIX век. По княжеским жилым покоям». Она проходит по жилой половине князя на I этаже, будуарам княгини и домовой церкви.
Музыкальная гостиная
Гостиная Генриха II
Обивка на мебели — подлинная. Ткани больше 150 лет
Кабинет с библиотекой
Уточнить время проведения каждой из экскурсий можно по телефону или на сайте дворца. Посещение экспозиции в жилых покоях князей стоит 450 рублей (зима 2019 г.). На кассе принимают банковские карты. Кстати, картами можно расплатиться и в сувенирных магазинах дворца, но в местном кафе оплата возможна только наличными.
Экскурсия начинается в музыкальной гостиной. Здесь можно увидеть непривычный нам музыкальный инструмент — механический орган. Внутрь устанавливаются механические валики, с помощью которых проигрывается мелодия. Некоторые такие носители сохранились с XIX века, некоторые же из них были заботливо восстановлены сотрудниками. Во дворце есть отдельная экскурсия с прослушиванием механического органа, в моё посещение входил только его осмотр.
Мавританская (Восточная) гостиная
Переходим к жилой половине князя. Эта часть дворца представлена несколькими комнатами: гостиной Генриха II, кабинетом с библиотекой, бильярдной, Мавританской (Восточной) гостиной, гардеробной и секретарской комнатами. Каждое помещение уникально и имеет свою историю. Например, в 1925 году в кабинете был обнаружен сейф, в котором хранились неизвестные ранее письма Александра Сергеевича Пушкина. А в бильярдной можно увидеть витражи конца XIX века.
Но всё же наверное самым необычным и интересным помещением в этой половине экскурсии можно считать Мавританскую гостиную, которую также называли Восточной. Это совершенно чуждый русской архитектуре интерьер в восточном стиле со многими его атрибутами. Здесь можно увидеть и арабские надписи, и причудливые витиеватые узоры на стенах, и фигурные арки. Изначально в центре комнаты был установлен фонтан. В конце XIX века он был переделан в бассейн с сюрпризом — в центре было установлено стеклянное окошко, в котором сменяли цвета разноцветные лампочки. Кстати, этот интерьер неслучаен в стенах дворца: род Юсуповых происходил от ногайского правителя Юсуфа (Юсупа).
Гардеробная
Секретарская
Буфетная (Столовая князя)
Следующая часть нашего путешествия в историю проходит в будуарах княгини: Белом, Фарфоровом, Персидском. Строго говоря, доступ открыт только в первые два помещения, Персидский будуар можно увидеть только издалека. Но это не умаляет его достоинств. С первого взгляда становится понятно, что мы находимся на «женской» половине дворца. Интерьеры очень изящны, стены и мебель выполнены в нежных светлых тонах.
После будуаров мы попадаем в уже знакомую мне по обзорной экскурсии спальню княгини. Ещё с первого посещения я задался вопросом — что за зеркала находятся под потолком этой комнаты. Оказалось, это так называемые «фонари». Благодаря им свет проникал на лестницу, расположенную как раз за стеной. Поднимемся по этой лестнице в бельевую комнату.
Сейчас в буфетной находится магазин сувениров
Белый будуар
Фарфоровый будуар
Помещение бельевой совсем небольшое по высоте. Человеку с ростом выше 180 сантиметров передвигаться по ней будет проблематично. Организации хранения вещей позавидует любая современная хозяйка — в комнате установлена масса шкафов и ящичков. Всё очень аккуратно, дверцы шкафов пронумерованы. Скорее всего, с такой удобной системой обслуживающий персонал нечасто вызывал на себя гнев жильцов за медлительность.
Последняя часть экскурсии происходит в домовой церкви. Она была восстановлена не так давно. В советское время здесь был оборудован лекционный зал дома учителя. Интересна архитектура помещения: купол церкви вписан в прямоугольный интерьер дворца и его нельзя увидеть снаружи. Церковь является действующей.
Спальня княгини. Слева от кровати виден световой «фонарь»
Бельевая
Домовая церковь
Проходим по бывшим гардеробным помещениям и спускаемся вниз. На этом экскурсия заканчивается. Для меня знакомство с дворцом стало большой неожиданностью. Как я уже писал раньше, наверное, Юсуповский надолго закрепится в моём топе достопримечательностей Петербурга. Но если же вы в нём ещё не были, рекомендую начинать с обзорной экскурсии. Уверен, после первого же визита вы твёрдо решите для себя посетить остальные залы дворца.
Если кратко, в целом:
- один из лучших дворцов центра Петербурга;
- во дворце проводится множество экскурсий, уточняйте время посещения заранее;
- возможен самостоятельный осмотр помещений дворца или экскурсия с аудиогидом.
Читайте также
Юсуповский дворец на Мойке. Парадные залы
Строгановский дворец в Санкт-Петербурге
Юсуповский дворец на Мойке. Убийство Распутина
Михайловский (Инженерный) замок в Санкт-Петербурге
https://zen.yandex.ru/media/4traveler/iusupovskii-...pokoi-5c66e5b631fe3800ae84765b
|
Метки: юсуповы дворянские владения |
За что в царской России награждали орденом святого Георгия? |
За что в царской России награждали орденом святого Георгия?
В каждом порядочном военном фильме нет-нет, да и мелькнет кавалер ордена Святого Георгия. Обычно его опознают по маленькому белому кресту слева на груди, либо по более крупному - на шее.
Орден Георгия Победоносца считается наиболее значимой военной наградой в императорской России. Но за какие заслуги можно было его получить... И, кстати, какой степени?
Начнем по порядку...)
"Георгий" 1-й степени
Краткая история
Императорский военный орден Святого Великомученика и Победоносца Георгия - таково полное название этой награды. Ее учредила императрица Екатерина II Великая в 1769 году - на второй год очередной русско-турецкой войны.
Согласно статуту ордена (документу, определяющему порядок награждения, манеру ношения и т.п.), он являлся наградой исключительно за военные заслуги. При этом характер заслуг императрица описать не сочла нужным - в статуте приведены лишь примеры, как-то:
- первым ворваться во вражескую крепость при штурме или на палубу вражеского корабля при абордаже;
- сражаться в осаде долгое время, терпеть лишения, но не сдаться;
- совершить какое-либо другое "опасное дело", которое должно удасться (!).
Последний пункт, думается, особенно важен. Ибо опасное, но неудавшееся дело - суть авантюра и подлежит забвению...)
Орден Георгия действительно давался лишь за военный подвиг, но при этом в статуте была "лазейка" - им могли наградить офицера за 25 лет беспорочной службы в сухопутных частях, либо 18 - во флоте. Что поделать, не везде есть возможность совершить подвиг...)
В 1833 году статут ордена изменили, уточнив и подробно расписав порядок награждения - кого, при каких обстоятельствах и за какие конкретно заслуги.
Важно: это была исключительно офицерская награда. Рядовым и унтерам она не полагалась, хоть сто подвигов соверши.
В дальнейшем до краха монархии орден Георгия пережил еще несколько изменений, но не сказать, чтоб особо существенных. Менялись нюансы и детали награждения, ношения и т.д. Также был учрежден "солдатский Георгий" и дополнительные кресты.
Степени ордена
Это первая из российских наград, которая делилась на степени - с 1-й по 4-ю. Значимость уменьшалась в порядке возрастания цифры - высшей степенью была первая. Самой распространенной - четвертая.
Иногда степени назывались классами.
К Георгию 1-й и 2-й степени полагались звезда и крест, к 3-й и 4-й - только крест (размером чуть поменьше). Также к ордену шла лента - 3 черных вертикальных полосы и 2 оранжевых. Они означали, что Георгий, по преданию, трижды прошел через смерть и дважды - сквозь огонь...
Звезда, крест и колодка орденов
Орден первой степени носился: звезда - на левой стороне груди, крест - на орденской перевязи через плечо, слева внизу, практически у эфеса шпаги. Второй - звезда на том же месте, крест на шее. Третьей - крест на шее, звезда отсутствует. Четвертой - крест слева на груди, рядом с обычными орденами, звезды нет.
Особенности награждения
"Георгием" полагалось награждать исключительно в порядке возрастания значимости, начиная с 4 степени, но изредка монаршей волей кресты присуждались, "перепрыгивая" через степень. Третья вместо четвертой, вторая вместо третьей, и т.п. Поэтому двух орденов одной степени офицер носить не мог.
Заслужить обычного четвертого "Егория" было не слишком сложно. Не сплоховал перед лицом врага, не струсил - при хорошем отношении к тебе начальства получишь. Следующей была третья степень...
А вот тут - потолок. Для подавляющего большинства героев любого уровня храбрости. "Егорушку" 2-й степени давали не меньше чем за выигранное крупное сражение или взятую под твоим командованием крепость, а 1-й - за выигранную войну или другое деяние аналогичного масштаба. Поэтому число обладателей 1 степени во все времена было - раз, два и обчелся. Вот, например, императрица Екатерина Вторая (ага, вот именно) и князь Михайла Илларионович Голенищев-Кутузов.
Солдатский "Георгий"
Его неофициальное название - "Георгий 5-й степени", хотя на самом деле это вообще не орден, а всего лишь знак отличия, к ордену добавленный в 1807 году. В отличие от "старшего брата", солдатский "Георгий" выполнялся в дизайне поскромнее и не давал права на дворянство.
Георгиевский кавалер зольдатских крестов Алексей Макуха
Вообще, любые фото вроде вот этого, выше, означают, что перед вами - кавалер солдатских крестов. В 1856 "Егорушку" для низших чинов тоже разделили на 4 степени.
Человек, выслуживший такое количество полноценных, высших наград, летал настолько высоко, что фактически полных георгиевских кавалеров в звании ниже генерал-аншефа, фельдмаршала или генералиссимуса тупо не было. И не каждый фельдмаршал-то ими обладал...
Всего обладателей Георгиевского креста 1-й степени за всю историю России было лишь 25 человек. Полных кавалеров (имевших все степени) - 4.
Внимательно, прописью: че-ты-ре.
Вот такие дела, братцы.
P.S. А официально "Георгиевский крест" - это особый нагрудный знак, введенный лишь в 1913 году и носившийся наособицу - левее прочих орденов. Полагался он все так же рядовым и унтерам.
Георгиевский крест образца 1913 года
P.P.S. Существовали еще медаль ордена Георгия и наградное "золотое" оружие, но о них сказ - в другой раз.
Оригинал статьи - на канале https://zen.yandex.ru/dnevnik_rolevika
Официальный паблик - https://vk.com/dnevnik_rolevika
Истории "за жизнь" семьи автора и ролевые байки - здесь: https://zen.yandex.ru/id/5befbd4fd9421400aac61f5c
https://zen.yandex.ru/media/dnevnik_rolevika/za-ch...rgiia-5c67b9a839ce5700af962f99
|
Метки: ордена |
"Буржуи недобитые". Занятнейшее фото одного деда, невестки и внучки |
"Буржуи недобитые". Занятнейшее фото одного деда, невестки и внучки

Удивительно интересная фотография. На скамейке устроились: пожилой дед, женщина явно более чем средних лет и молодая женщина. Фотографию обычно называют «Москвичи», хотя сделана она в Дмитрове в 1931 году.
А теперь поговорим о том, кто снят на фотографии. Дед - Владимир Михайлович Голицын, князь, бывший городской глава и губернатор Москвы, почетный гражданин города, лидер оппозиционной части первой Думы, человек, хотевший построить в Москве метро еще до революции. К моменту, когда сделана эта фотография, мечты стали проще. Он лишен избирательных прав и сослан в Дмитров. Прожил с 1847 по 1932 год.

Вот так он выглядел в свои лучшие годы. Это портрет князя Голицына работы Серова.
Женщина в середине – невестка князя Анна Сергеевна Голицына (урожденная Лопухина) (годы жизни 1880 – 1972). Потомки рассказывают, что когда семью сослали в Богородицк, она сложила в скорняжный ящик бриллианты, диадему бухарского эмира и прочие драгоценности и довезла их. Это позволило семье вполне сносно жить длительное время. Ее сын, Сергей, станет топографом, геодезистом и писателем. Неплохо воевал в Великую Отечественную, был награжден Отечественной войны 2-й степени, Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы».

Анна Голицына с мужем до революции
Третья - Мария Михайловна Веселовская (урожденная Голицына), внучка князя (годы жизни 1911-1988), дочь Анны Сергеевны.
Обратите внимание. Это 1932 год. Их гоняют, арестовывают и плющат уже 15 лет. Но насколько эффектны князь и его невестка, несмотря на все гонения.
43
2
19
Give 10
https://valerongrach.livejournal.com/817977.html?u...rer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
|
Метки: голицыны |
Неразделеная любовь дочери Кутузова к Пушкину: "Убери от меня Пентефреиху!" |
Неразделеная любовь дочери Кутузова к Пушкину: "Убери от меня Пентефреиху!"
Когда Пушкин был ребенком и учился в Лицее, он, как и другие мальчишки, мечтал быть героем Бородино.
Мистическим образом тень этого сражения преследовала его всю жизнь: Наталья Гончарова родилась на следующий день после битвы и втянула его в "войну" с французом. Дочь фельдмаршала Кутузова Елизавета Хитрово питала к поэту глубокие чувства.
Элиза, как ее звали в свете, была большой оригиналкой. Она держала салон и была на короткой ноге с самыми блестящими литераторами современности. И в то же время она давала повод к насмешкам - за симпатию к мужчинам намного моложе ее, которых она принимала иногда в постели или в ... ванной.
Об этой привычке ходил ядовитый анекдот. Элиза вставала поздно и принимала некоторых избранных посетителей в спальне. Когда гость намеревался сесть, г-жа Хитрово говорила следующее: "Нет, не садитесь на это кресло, это Пушкина; нет, не на диван, это место Жуковского; нет, не на стул, это место Гоголя, - садитесь ко мне на постель, это место всех".
Пушкин в какой-то момент испытывал к ней симпатию, но потом отстранился. Однако Элиза влюбилась в поэта и забрасывала его любовными письмами. Он отвечал ей с прохладцей, но связь до конца не рвал. Лишь молил своего друга "избавить его от Пентефреихи". (Имеется в виду жена Потифара, пытавшаяся соблазнить юного Иосифа.)
С ее дочерью Долли Фикельмон у Пушкина тоже была кратковременная связь. Кстати, не напоминает ли вам это поведение Хлестакова, который ухаживал и за маменькой, и за дочкой?
Образ Хлестакова в какой-то мере списан Гоголем с Пушкина. Про это сейчас подзабыли, но поэт, присутствуя при чтении "Ревизора", не мог не понять намек. Ирония Гоголя его повеселила. Правда, в нынешние педагогические стандарты мысль о том,что хлестаковщина частично отражает поведение Пушкина, не умещается, и об этом предпочли забыть.
Смерть поэта была для Елизаветы Михайловны страшным ударом. А. И. Тургенев пишет, что за два часа до смерти Пушкина " приезжает Элиза Хитрово, входит в его кабинет и становится на колени".
Смерть самой Элизы тоже была трагической. "Она простудилась после последнего бала кн. Юсупова, где на возвратном пути взбесились лошади, и она принуждена была в холодную ночь в бальном костюме идти пешком" - сообщает нам современник.
https://zen.yandex.ru/media/id/5b76ec0e26248100ac4...reihu-5c07bbe0b9ff7d00ab7feee5
|
Метки: пушкины кутузовы хитрово |
Ферапонтов-Белозерский монастырь |
Ферапонтов-Белозерский монастырь
Опубликовано
admin04 декабря 2014
311
Просмотров
Особую значимость для национальной и мировой культуры имеет Ферапонтов монастырь, сохранивший в первозданном виде древнейший собор Северной Руси и уникальный авторский цикл росписей XVI в. гениального Дионисия, одного из лучших древнерусских иконописцев. В бессмертных христианских образах здесь воплощены темы спасения человечества и грядущего Царствия Небесного, исполненных в изысканной гармонии высокохудожественной живописи. Православный памятник включен в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.
Actionteaser.ru - тизерная реклама
Монастырь был основан в 1398 г. преподобным Ферапонтом (в миру Феодор Поскочин), пришедшим вместе с Кириллом Белозерским из московского Симонова монастыря. Они поселились вначале на берегу Сиверского озера, на месте будущей Кирилло-Белозерской обители. Но через год Ферапонт ушел на новое место, основав на просторном холме меж двух озер — Бородаевского и Паского, примерно в 20 км на северо-восток, собственный монастырь. Когда собралась небольшая братия, был возведен деревянный храм во имя Рождества Богородицы. По прошествии десяти лет, в отличие от разросшегося соседнего Кирилло-Белозерского монастыря, обитель оставалась небольшой.
В те времена белозерские земли входили в удел можайского князя Андрея, сына Димитрия Донского, который имел горячее желание иметь в своем граде монашескую обитель. Князь отправляет милостыню в Ферапонтов монастырь, наделяет его землями, а сам обращается с просьбой прибыть настоятелю в Можайск. Трудно отказывать князю, тем более в те времена, и Ферапонт отправляется в Можайск, где после долгих уговоров соглашается остаться для основания монастыря. Новая обитель на берегу Москвы-реки была основана в тот же 1408 г. и названа Лужецким монастырем. Здесь преподобный Ферапонт останется до самой смерти, несмотря на постоянное желание вернуться в свой далекий заволжский монастырь, и получит местное именование Ферапонт Можайский. Он скончался на 96 году жизни 27 мая 1426 г. и упокоился в храме Рождества Богородицы.
После смерти преподобного настоятелем Ферапонтова монастыря становится любимый ученик Кирилла Белозерского Мартиниан Белозерский, при котором обитель достигает наивысшего расцвета, ее даже стали называть Мартиниановой. При нем монастырь приобретает широкую известность, здесь создается огромная библиотека, одна из первых в Московском княжестве. В 1447 г. Мартиниан, вместе с игуменом Кирилло-Белозерского монастыря Трифоном, благословляет князя Василия Темного против Дмитрия Шемяки. Василий Темный побеждает и настаивает на назначении Мартиниана игуменом Троице-Сергиева монастыря, возглавлявшего знаменитую обитель в 1447—1455 гг., а затем вернувшегося назад в Ферапонтов. Здесь он мирно скончается 12 января 1483 г. на 86 г. и будет торжественно погребен у церкви Пресвятой Богородицы. От его мощей произойдет много исцелений и чудес, о которых повествует его житие. Ферапонт и Мартиниан всегда будут почитаемы как покровители Ферапонтов-Белозерского монастыря, канонизированные в лике святых в середине XVI в.
Постепенно монастырь расстраивается, но по-прежнему на этих святых землях устраиваются во множестве скиты и хижины отшельников, почитавших безмолвие и хранивших нестяжание, еще завещанное святым Кириллом. В 1490 г. в обители возводится первый во всем Белозерье каменный храм во имя Рождества Богородицы. Построенный ростовскими мастерами одноглавый собор становится выдающимся явлением, а для его росписи вызывается самый известный иконописец того времени Дионисий. Вместе с сыновьями Феодосием и Владимиром он выполняет за 34 дня, с 6 августа 1502 г. по 8 сентября 1503 г. (ановолетие праздновалось 1 сентября), роспись храма. Согласно тексту на откосе северной двери храма: «В лето 7010 месяца августа в 6 на Преображение Господа нашего Исуса Христа начата бысть подписывана церковь. А кончана на 2 лето месяца сентября в 8 на Рождество Пресвятыя владычица наша Богородица Мариа. При благоверном великом князе Иване Василиевиче всея Руси, при великом князе Василии Ивановиче всея Руси и при архиепископе Тихоне. А писци Дионисие иконник со своими чады. О, владыко Христе, все царю, избави их Господи мук вечных». Дошедший до нашего времени уникальный памятник, сохраняющий в целостности первозданную архитектуру и авторскую непоновленную живопись, как были задуманы его создателями, делает его еще более ценным. Собор расписан внутри целиком, снаружи — западная его стена. Росписи площадью 600 кв. м выполнены в соответствии с канонами того времени: Христос-Вседержитель в барабане, под куполом архангелы и праотцы, евангелисты в парусах, евангельские сцены в сводах, в конхе алтаря Богоматерь с Младенцем, на западной стене Страшный суд и т.д. Евангельские сюжеты выписаны в изысканных светлых тонах, излучающих неземную мягкость, изящество рисунка и удлиненные пропорции подчеркивают невесомость парящих фигур, создавая неповторимый образ храма как Царствия Небесного. Проникнутые особой философской глубиной, росписи Дионисия определяются как величайшая вершина средневековой живописи.
Дионисий также расписал иконостас собора, большей частью сохранившийся, но в настоящее время разрозненный. Шесть икон находится в Третьяковской галерее, пять в Русском музее, четыре в Кирилло-Белозерском монастыре.
К летнему собору Рождества Богородицы на протяжении времени пристраиваются дополнительные сооружения, как это часто принято на суровом севере, для экономии тепла. Таким образом, создается единый комплекс храмов, соединенных общими папертями. В 1641 г. с юга пристраивается шатровая церковь Мартиниана, в которой упокоились мощи преподобного, причем здесь установлена единственная в России резная деревянная рака. С севера в XVI—XVII вв. пристраивается колокольня, под которой образуется главный вход в комплекс. Немного в отдалении возводится трапезная и небольшая одноглавая церковь Благовещения (1530—1531). Возведенные в XVII в. церкви Богоявления и Ферапонта, пристроенные к более ранней Казенной палате, вместе со Святыми вратами, составили второй комплекс, где сегодня проводятся богослужения.
На протяжении своей ранней истории монастырь пользовался покровительством светских и духовных властей. Он становится местом поклонения и вкладов русской феодальной знати. Сюда на богомолье приезжали Василий III и Елена Глинская, Иван Грозный. Его вкладчиками являлись князья Старицкие, Воротынские, Шуйские, Годуновы, Шереметевы и многие другие. Из его стен вышли многие видные иерархи Русской церкви. Также он был местом ссылки видных церковных деятелей, таких как митрополит Спиридон-Савва, патриарх Никон, переведенный позднее в Кириллов монастырь, и других.
В 1798 г. Ферапонтов монастырь упраздняется указом Синода, а его церкви становятся приходскими. В 1898 г. исследователи чудом находят сохранившиеся росписи Дионисия, а в 1904 г., в связи с 500-летием со дня основания, вновь открывается монастырь, но только как женский. В нем начинаются большие реставрационные работы, прерванные революцией. В 1924 г. он снова закрыт, настоятельница расстреляна. Лишь в 1970-е гг. здесь открывается «Музей фресок Дионисия».
После гибели во Вторую мировую войну уникальных новгородских храмов (Спаса на Нередице, Успения на Волотовом поле, Спаса на Ковалеве, Архангела Михаила на Сковородке) росписи Дионисия становятся еще более значимым фресковым ансамблем Древней Руси, представляющим блистательные вершины нашей православной культуры.https://agesmystery.ru/rubriki/zodchestvo/ferapontov-belozerskij-monastyr
|
Метки: монастыри |
Александра Леонидовна Оболенская (Симонова, Иванишева) b. 1890 d. 1975 - Индекс потомака |
Александра Леонидовна Оболенская (Симонова, Иванишева) b. 1890 d. 1975 - Индекс потомака
Особа:668891
Generation of a large tree takes a lot of resources of our web server. Anonymous users can only see 7 generations of ancestors and 7 - of descendants on the full tree to decrease server loading by search engines. If you wish to see a full tree without registration, add text ?showfulltree=yes directly to the end of URL of this page. Please, don't use direct link to a full tree anywhere else.
11/1 <?> ♀ Александра Леонидовна Оболенская (Симонова, Иванишева) [Оболенские]
Рођење: 1890, Санкт-Петербург, Российская империя
Свадба: <1> ♂ Михаил Агафангелович Симонов [Симоновы] b. 29 март 1871
Свадба: <2> ♂ Александр Григорьевич Иванишев [Иванишевы]
Смрт: 1975
2
21/2 <1+1> ♂ Кирилл Константин Михайлович Симонов [Симоновы]
Рођење: 15 новембар 1915, Петроград
Свадба: <3> ♀ Евгения Самойловна Ласкина [Ласкины]
Свадба: <4> ♀ Лариса Алексеевна Жадова (Гудзенко, Симонова) [Жадовы]
Свадба: <5> ♀ Валентина Васильевна Половикова (Серова, Симонова) [Половиковы] b. 23 децембар 1917 d. 12 децембар 1975
Смрт: 28 август 1979, Москва
Константи́н (Кири́лл) Миха́йлович Си́монов (28 ноября 1915, Петроград — 28 августа 1979, Москва) — русский советский писатель, поэт, общественный деятель. Герой Социалистического Труда (1974). Лауреат Ленинской (1974) и шести Сталинских премий (1942, 1943, 1946, 1947, 1949, 1950). Заместитель генерального секретаря СП СССР. Член ВКП(б) с 1942 года.
Константин (Кирилл) Симонов родился 15 (28) ноября 1915 года в Петрограде. Своего отца так и не увидел: тот пропал без вести на фронте в Первую мировую войну (как отмечал писатель в официальной биографии). В 1919 мать с сыном переехала в Рязань, где вышла замуж за военспеца, преподавателя военного дела бывшего полковника царской армии А.Г.Иванишева. Мальчика воспитал отчим, который преподавал тактику в военных училищах, а потом стал командиром РККА. Детство Константина прошло в военных городках и командирских общежитиях. После окончания семи классов он поступил в фабрично-заводское училище (ФЗУ), работал токарем по металлу сначала в Саратове, а потом в Москве, куда семья переехала в 1931 году. Так он, зарабатывая стаж, продолжал работать ещё два года после того, как поступил учиться в Литературный институт имени А. М. Горького.
В 1938 году Константин Симонов закончил Литературный институт имени А. М. Горького. К этому времени он уже написал несколько больших произведений — в 1936 в журналах «Молодая гвардия» и «Октябрь» были напечатаны первые стихи Симонова.
В том же 1938 году К. М. Симонов был принят в СП СССР, поступил в аспирантуру ИФЛИ, опубликовал поэму «Павел Чёрный».
В 1939 году направлен в качестве военного корреспондента на Халхин-Гол, в институт не вернулся.
Незадолго до отъезда на фронт окончательно меняет имя и вместо родного Кирилл берёт псевдоним Константин Симонов. Причина — в особенностях дикции и артикуляции Симонова: не выговаривая «р» и твердого «л», произнести собственное имя ему было затруднительно. Псевдоним становится литературным фактом, и вскоре поэт Константин Симонов приобретает всесоюзную популярность.
В 1940 году написал свою первую пьесу «История одной любви», поставленную на сцене Театра им. Ленинского комсомола; в 1941 — вторую — «Парень из нашего города». В течение года учился на курсах военных корреспондентов при ВПА имени В. И. Ленина, получил воинское звание интенданта второго ранга. С началом войны призван в армию, работал в газете «Боевое знамя». В 1942 году ему было присвоено звание старшего батальонного комиссара, в 1943 году — звание подполковника, а после войны — полковника. Большая часть его военных корреспонденций публиковалась в «Красной звезде». В годы войны написал пьесы «Русские люди», «Жди меня», «Так и будет», повесть «Дни и ночи», две книги стихов «С тобой и без тебя» и «Война». Как военный корреспондент побывал на всех фронтах, прошёл по землям Румынии, Болгарии, Югославии, Польши и Германии, был свидетелем последних боёв за Берлин. После войны появились его сборники очерков «Письма из Чехословакии», «Славянская дружба», «Югославская тетрадь», «От Чёрного до Баренцева моря. Записки военного корреспондента». После войны в течение трёх лет пробыл в многочисленных зарубежных командировках (Япония, США, Китай). В 1958—1960 годах жил и работал в Ташкенте в качестве собственного корреспондента «Правды» по республикам Средней Азии. В качестве специального корреспондента «Правды» освещал события на острове Даманском, река Уссури, (1969). После смерти Сталина были опубликованы следующие строки К. М. Симонова: Нет слов таких, чтоб ими описать Всю нетерпимость горя и печали. Нет слов таких, чтоб ими рассказать, Как мы скорбим по Вас, товарищ Сталин… Первый роман «Товарищи по оружию» увидел свет в 1952 году, затем большая книга — «Живые и мёртвые» (1959). В 1961 году театр «Современник» поставил пьесу Симонова «Четвёртый». В 1963—1964 годах пишет роман «Солдатами не рождаются», в 1970—1971 — «Последнее лето». По сценариям Симонова были поставлены фильмы «Парень из нашего города» (1942), «Жди меня» (1943), «Дни и ночи» (1943—1944), «Бессмертный гарнизон» (1956), «Нормандия-Неман» (1960, совместно с Ш. Спаакоми, Э. Триоле), «Живые и мёртвые» (1964), «Двадцать дней без войны» (1976) В 1946—1950 и 1954—1958 годах он был главным редактором журнала «Новый мир»; в 1950—1953 — главным редактором «Литературной газеты»; в 1946—1959 и 1967—1979 годах — секретарём СП СССР. Депутат ВС СССР 2—3 созывов (1946—1954). Кандидат в члены ЦК КПСС (1952—1956). Член ЦРК КПСС в 1956—1961 и 1976—1979 годах. Скончался 28 августа 1979 года в Москве. Согласно завещанию, прах К. М. Симонова был развеян над Буйничским полем под Могилёвом. Возвращение читателю романов Ильфа и Петрова, выход в свет булгаковского «Мастера и Маргариты»[2] и хэмингуэевского «По ком звонит колокол», защита Лили Брик, которую высокопоставленные «историки литературы» решили вычеркнуть из биографии Маяковского, первый полный перевод пьес Артура Миллера и Юджина О’Нила, выход в свет первой повести Вячеслава Кондратьева «Сашка» — вот далекий от полноты перечень «геракловых подвигов» Симонова, только тех, что достигли цели и только в области литературы. А ведь были ещё и участие в «пробивании» спектаклей в «Современнике» и Театре на Таганке, первая посмертная выставка Татлина, восстановление выставки «ХХ лет работы» Маяковского, участие в кинематографической судьбе Алексея Германа и десятков других кинематографистов, художников, литераторов. Ни одного неотвеченного письма. Хранящиеся сегодня в ЦГАЛИ десятки томов подённых усилий Симонова, названных им «Всё сделанное», содержат тысячи его писем, записок, заявлений, ходатайств, просьб, рекомендаций, отзывов, разборов и советов, предисловий, торящих дорогу «непробиваемым» книгам и публикациям. Особым симоновским вниманием пользовались его товарищи по оружию. Сотни людей начали писать военные мемуары после прочитанных Симоновым и сочувственно оцененных им «проб пера». Он пытался помочь разрешить бывшим фронтовикам множество бытовых проблем: больницы, квартиры, протезы, очки, неполученные награды, несложившиеся биографии.
Вместе с тем, Симонов участвовал в кампании против «безродных космополитов», в погромных собраниях против Зощенко и Ахматовой в Ленинграде, в травле Бориса Пастернака, в написании письма против Солженицына и Сахарова в 1973 году.
Константин Михайлович Симонов родился 15 (по новому стилю 28) ноября 1915 года в Петрограде. Его мать – Александра Леонидовна Оболенская-Шаховская была княжной. Отец, как говорили, имел чин генерал-майора, он погиб в Первую мировую войну. С четырёх лет мальчишку воспитывал отчим, полковник красной армии А.Г. Иванишев, который за долгую службу сменил не один гарнизон.
В молодости Симонов очень мечтал о карьере дипломата. Но родные быстро ему объяснили, что с его родословной лучше выбрать профессию попроще. Поэтому он после семилетки отправился учиться на токаря в саратовский фабзавуч тонкой механики. Но позже поэт убедился, насколько прозорлива была матушка: в это время из Ленинграда за принадлежность к роду Оболенских власти выслали всех его тётушек.
Но, согласившись с матерью не испытывать судьбу и не пытаться стать дипломатом, Симонов проявил характер в другом: он самовольно поменял себе имя. Дело в том, что при рождении его нарекли Кириллом. Однако спустя несколько лет мальчик, подражая отчиму, решил побриться и неосторожно опасным лезвием чиркнул себя по языку. После этого ему трудно стало выговаривать звуки «р» и «л». В какой-то момент он начал стесняться произносить своё имя и в конце концов придумал себе другое, в котором отсутствовали злосчастные буквы.
Первые Симонов свои поэтические опыты опубликовал в 1934 году (писатели тогда включили в сборник начинающих литераторов «Смотр сил» фрагменты из его поэмы «Беломорцы»).
В 1939 году Симонов в качестве военкора попал на Халхин-Гол. Впечатления от «малой» войны позже легли в основу его пьесы «Парень из нашего города», которая в 1941 году обошла чуть ли не все советские театры.
Но вообще как драматург он дебютировал годом ранее. Его первая пьеса имела весьма бесхитростное название: «История одной любви». Премьера прошла в 1940 году в Театре имени Ленинского комсомола.
Его отец, Михаил Агафангелович, был полковником царской армии и во время Первой мировой войны пропал без вести. Бабушка ничего о нем не знала: где он, что он... Считался погибшим, но спустя много лет бабушка получила известие о том, что он жив. Она не стала писать ему, пытаться как-то с ним связаться. Бабушка - Александра Леонидовна Оболенская-Шаховская -очень гордая женщина, дворянка, аристократка, княжна. Училась в Смольном, была высокообразованным интеллигентным человеком, очень милая, и отец, между прочим, внешне очень похож на нее.
3
31/3 <2+3> ♂ Алексей Кириллович Симонов [Симоновы]
Рођење: 8 август 1939, Москва, РСФСР, СССР
52/3 <2+5> ♀ Мария Кирилловна Симонова [Симоновы]
Рођење: 1950
* http://blogs.privet.ru/community/inoctranctvia_/74868778
43/3 <2+4> ♀ Александра Кирилловна Симонова [Симоновы]
Рођење: 1957
Смрт: 2000
4
71/4 <3> ♂ Евгений Алексеевич Симонов [Симоновы]
Рођење: 1968, Москва, СССР
62/4 <3> ♂ Кирилл Алексеевич Симонов [Симоновы]
Рођење: 1983, Москва, СССР
Смрт: 31 март 2002, Москва, Российская Федерация, погиб при невыясненных обстоятельствах, выкинулся из окна
Погиб в возрасте 18 лет, выпав из окна 11 этажа.
|
Метки: оболенские симоновы |
Анаида Марковна кн. Оболенская |
Анаида Марковна кн. Оболенская
public profile
Ваша фамилия кн. Оболенская?
Исследование фамилии кн. Оболенская
Начните строить Ваше Генеалогическое Древо прямо сейчас


Анаида Марковна кн. Оболенская (Кастанян) |
|
| Дата рождения: | 23 октября 1903 |
| Место рождения: | Gyumri, Shirak, Armenia |
| Смерть: | 06 мая 1976 (72) Paris, Paris, Île-de-France, France |
| Ближайшие родственники: |
Дочь Марука Кастаняна и Adrienne Кастанян |
|---|---|
| Менеджер: | Private User |
| Последнее обновление: | 15 января 2015 |
Matching family tree profiles for Анаида Марковна кн. Оболенская


Ближайшие родственники
-
-
husband
-
mother
-
father
-
Хронология Анаиды Марковны кн. Оболенской
| 1903 |
23 октября 1903 |
Gyumri, Shirak, Armenia |
|
| 1976 |
6 мая 1976 Возраст 72 |
Paris, Paris, Île-de-France, France |
|
Метки: оболенские |
князь Владимир Андреевич Оболенский |
Оболенский, Владимир Андреевич (политик)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
В Википедии есть статьи о других людях с такой фамилией, см. Оболенский; Оболенский, Владимир; Оболенский, Владимир Андреевич.
| князь Владимир Андреевич Оболенский | |
|---|---|
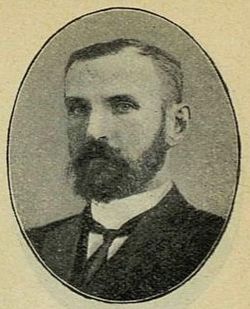 Депутат Первой Думы, 1906 г. |
|
| Дата рождения | 19 ноября 1869 |
| Место рождения | |
| Дата смерти | 11 апреля 1950 (80 лет) |
| Место смерти | |
| Гражданство | |
| Род деятельности | депутат Государственной думы I созыва |
| Образование | |
| Партия | Конституционно-демократическая партия |
| Отец | Андрей Васильевич Оболенский |
| Автограф |  |
Князь Влади́мир Андре́евич Оболе́нский (19 ноября 1869, Санкт-Петербург — 11 апреля 1950[1][2], Бюсси-ан-От, Франция) — общественный деятель, кадет, депутат Государственной думы I созыва от Таврической губернии.
Содержание
Биография[править | править код]
Владимир Оболенский родился в городе Санкт-Петербурге в семье действительного статского советника, князя Андрея Васильевича Оболенского (1825—1875), сына героя войны 1812 года В. П. Оболенского. Мать — Александра Алексеевна урождённая Дьякова (1831—1890), основательница одной из первых частных гимназий для девочек в России. После смерти отца опекуном Оболенского был В. А. Арцимович.
Образование[править | править код]
В 1887 году В. А. Оболенский окончил частную гимназию Гуревича и поступил на естественное отделение физико-математического факультета Санкт-Петербургского университета, которое окончил в 1891 г. Во время учёбы в университете участвовал в либеральном студенческом движении. Был дружен с А. Н. Потресовым и близок с П. Б. Струве, М. И. Туган-Барановским, С. Ф. Ольденбургом[3]. В 1891 году поступил на Юридический факультет, но оставил учёбу. В 1892—1893 годах слушал лекции в Берлинском университете[3].
Служба и общественная деятельность[править | править код]
В 1893 году поступил в Министерство земледелия и государственных имуществ, где служил в отделе сельской экономики и сельскохозяйственной статистики, участвовал в работе по оказанию помощи голодающим. Начал свою деятельность земского статистика в Смоленской губернии[3]. С 1896 года служил земским статистиком в Псковской губернии, затем заведующим статистическим бюро Орловской губернской земской управы. В 1903 году был выбран гласным Ялтинского уездного земства и Таврического губернского земского собрания.
Политическая деятельность[править | править код]
В 1904 г. вступил в Союз освобождения, за что по решению Министерства внутренних дел был уволен от должности гласного губернского земства. Член Конституционно-демократической партии с момента её образования в 1905, с 1906 председатель её Таврического губернского комитета, создатель и редактор газеты «Жизнь Крыма»[3].
Член Государственной Думы[править | править код]
26 марта 1906 избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Таврического губернского избирательного собрания[4].
10 июля 1906 года в г. Выборге подписал «Выборгское воззвание». В декабре 1907 г. привлекался к суду, выслан из Крыма на 2 года, ссылку отбывал в Финляндии вместе семьей[5]. Одновременно на процессе по делу о «Выборгском воззвании» осуждён по ст. 129, ч. 1, п. п. 51 и 3 Уголовного Уложения на три месяца тюремного заключения и лишён избирательных прав.
Масон[править | править код]
17 февраля 1908 года прошёл масонское посвящение в ложе «Возрождение»[6], при её основании. Был 2-м Стражем в ложе. Ложа работала под юрисдикцией Великого востока Франции[7]. В 1913—1916 годах член ВВНР (Санкт-Петербург). Член ложи «Никонова» (Санкт-Петербург) и «Независимой русской ложи»[8] (Париж)[9].
Политическая и общественная деятельность[править | править код]
С 1910 член ЦК партии кадетов, принадлежал к её радикальному крылу. Несколько лет был товарищем председателя Петербургского комитета кадетов[3].
В 1914—1915 годах заведовал санитарным отрядом Всероссийского союза городов, с 1915 году работал в Петроградском комитете Земгора. В 1916-17 председатель Петроградского комитета Союза городов[3].
Между февралём и октябрём 1917 года[править | править код]
К Февральской революции отнёсся настороженно:
…хорошего мы от неё не ждали, а потому с первого же дня… всячески старались препятствовать «углублению революции»… К тому же мы принадлежали к поколению, уже пережившему одну революцию, а с нею вместе и свои революционные иллюзии[10]
Однако являясь по своим взглядам республиканцем, уже 28 февраля Оболенский считал неправильным бороться за сохранение конституционной монархии. С марта секретарь ЦК партии кадетов. Был возмущён принятым Петроградским Советом 1 марта Приказом № 1 по Петроградскому гарнизону, разрушавшим, по его мнению, в армии дисциплину, без которой невозможно ведение войны. В апреле читал лекции по общественно-политическим вопросам на курсах, организованных кадетской партией. После Апрельского кризиса голосовал в ЦК за участие кадетов в коалиционном правительстве при условии «полной независимости правительства от Совета рабочих и солдатских депутатов (РСД)». В июле избран гласным петроградской Городской думы. С августа 1917-го редактор кадетской газеты «Свободный Народ». 12 — 15 августа 1917 г. участник Московского Государственного совещания. На нём вместе с В. Д. Набоковым и другими левыми кадетами выступал за поддержку Временного правительства и укрепление его независимой от Совета РСД позиции, возражал лидеру партии П. Н. Милюкову, искавшему союза с генералом Л. Г. Корниловым и готовому порвать связи с социалистическими партиями. Был в числе представителей кадетов в Предпарламенте, хотя считал его «суррогатом народного представительства»: «Для нас было ясно, что никакая новая говорильня не может укрепить власть в такой момент, когда не общественного мнения, а одна только физическая сила приобретала решающее значение»[11]. Выдвигался кандидатом в члены Учредительного Собрания от Псковской губернии и от Таврической губернии[12]. Избран не был.
После Октябрьской революции[править | править код]
Принципиальный противник Октябрьского переворота. В ночь на 26 октября 1917 года избран от кадетской фракции Городской думы членом Комитета спасения Родины и Революции. Активно выступал против большевиков, осуществлял связь ЦК партии кадетов с ЦК партии эсеров. 15 декабря 1917 года уехал в Крым, где продолжил борьбу против Советской власти, выступая за «воссоздание единой России». Председатель Земской управы Таврической губернии при правительстве С. С. Крыма и генерала А. И. Деникина. С ноября 1920 года в эмиграции.
Эмиграция[править | править код]
Жил в Париже, работал в Российском Земско-Городском комитете помощи русским гражданам за границей. Занимался журналистикой: писал для «Последних новостей»[13]. Автор мемуаров[5].
Семья[править | править код]
Жена — Ольга Владимировна урожденная Винберг (1869—1938), дочь В. К. Винберга, депутата IV Государственной Думы, была арестована в 21 сентября 1921 г. «за попытку выехать за границу без разрешения», отправлена в Москву в Лефортовскую тюрьму, освобождена 12 мая 1922 по подписку о невыезде. Эмигрировала к мужу во Францию в 1925 году[14].
Дети[15]:
Александра (мать Бландина) (1897 — 1979) — активная участница Русского студенческого христианского движения (РСХД) с момента его возникновения. Приняла постриг в 1937. Одна из основательниц в 1938 женской монашеской общины в Муазене в 50 км. от Парижа, которая в 1946 обосновалась в Бюси-ан-От (Бургундия), где был основан Покровский женский монастырь[16].
Ирина (в замужестве Зандрок) (1898 — 1987)
Андрей (1900, Псков — 1979) похоронен на кладбище Сент-Женевьев-де-Буа с женой Анаидой Марковной (1903 — 1976)[16], в девичестве Кастанян[17].
Сергей (1902, Орёл — 1992, Базель)
Всеволод (1904, Ялта — 1966, Bussy-en-Othe, Бургудия, Франция)
Лев (1905, Симферополь — 1987, Ницца)
Людмила (в замужестве Грудинская) (1908 — ?)
Наталия (в замужестве Кельберина) (1910 — ?)
Произведения[править | править код]
Оболенский В. Партия народной свободы о земле. — Пг., 1917.
Оболенский В. Крым при Деникине // На чужой стороне. Кн. VIII. Берлин — Прага, 1924.
Оболенский В. Крым при Врангеле // На чужой стороне. Кн. IX. Берлин — Прага, 1925.
Оболенский В. А. В земствах // Местное самоуправление. Вып. IV. Прага, 1927.
Оболенский В. А. Очерки минувшего. Белград, 1931.
Оболенский В. А. Моя жизнь. Мои современники. Париж: YMCA-PRESS. 1988. 754 c.
«Россия нуждается в успокоении»: Дневник князя В. А. Оболенского: 1921 год / Публикация Н. И. Канищевой, К. Г. Ляшенко, В. В. Шелохаева // Исторический архив. 2000. № 4. С. 57-104.
Литература[править | править код]
- Политические деятели России 1917. биографический словарь. Москва, 1993.
- Оболенский Владимир Андреевич
- Херасков И. М. Памяти В. А. Оболенского, "Возрождение". 1951, № 16.
- Тыркова-Вильямс А. В. Кн. В. А. Оболенский, "Возрождение". 1951, № 17.
- Боиович М.М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. М, 1906 С. 335.
- Государственная дума Российской империи: 1906-1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. Москва. РОССПЭН. 2008.
- Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
- Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. С. 36.
Примечания[править | править код]
- ↑ Сайт Мирослава Марека
- ↑ Источники [1], [2] Архивная копия от 6 апреля 2013 на Wayback Machine, [3] указывают 1950 год рождения. Однако некоторые авторитетные источники приводят дату — 1951 год [4], что, вероятно, объясняется ошибочной датировкой по году публикации некрологов
- ↑ 1 2 3 4 5 6 Оболенский Владимир Андреевич
- ↑ ОБОЛЕНСКИЙ Владимир Андреевич
- ↑ 1 2 Оболенский В. А. Моя жизнь. Мои современники. Париж: YMCA-PRESS. 1988. 754 с.
- ↑ По сведениям Н. Берберовой с 1909 года член ложи «Северная звезда» — Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. Харьков: Калейдоскоп, М.: прогресс-Традиция. с. 185
- ↑ МОСКВА. ЛОЖА ВОЗРОЖДЕНИЕ
- ↑ По сведениям Н. Берберовой с 1925 года член ложи «Свободная Россия» — Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны XX столетия. Харьков: Калейдоскоп, М.: прогресс-Традиция. с. 185
- ↑ Серков А. И. Русское масонство, 1731—2000: Энциклопедический словарь. М, 2001
- ↑ Оболенский В. А. Моя жизнь. Мои современники, Париж, 1988, с. 518.
- ↑ Думова Н. Г., Кадетская партия в период первой мировой войны и Февральской революции. М., 1988., с. 218.
- ↑ В. И. Королёв. Крым 1917 года в мемуарах лидеров кадетской партии. // Историческое наследие Крыма, № 15, 2006.
- ↑ ОБОЛЕНСКИЙ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ
- ↑ ЗАКЛЕЙМЕННЫЕ ВЛАСТЬЮ
- ↑ Оболенский В. А. Моя жизнь. Мои современники. Париж: YMCA-PRESS. 1988. с. 358 -359, вкладки.
- ↑ 1 2 Российское генеалогическое древо (недоступная ссылка). Проверено 5 сентября 2012. Архивировано 26 сентября 2012 года.
- ↑ Анаида Марковна кн. Оболенская
|
Метки: оболенские |
КРИНОЛИНЫ И ПОДУШЕЧКИ |
КРИНОЛИНЫ И ПОДУШЕЧКИ
Кринолин появился во Франции в середине 40-х годов XIX века. Первоначально представлял собой широкую нижнюю юбку из жесткой ткани. В дальнейшем, благодаря стараниям английского модельера Чарльза Ворта, превратился в сложную конструкцию из обручей, изготовленных из металла, дерева или китового уса. Несмотря на явные неудобства пользования, получил всеобщее распространение. Диаметр кринолина мог достигать 180 см, создавал проблемы при ходьбе, не позволял свободно отправлять естественные потребности и т.п.
Оноре Домье. 1856
Турнюр — модное в конце XIX в. приспособление в виде подушечки, которая подкладывалась дамами сзади под платье ниже талии для придания формы и объема ягодиц. Постоянный объект упражнений в остроумии со стороны карикатуристов, а также привлечения внимания мужчин.
https://zen.yandex.ru/media/id/5a2c05dfdcaf8e4b80f...echki-5c4772bb9c36b000aeedea5f
|
Метки: мода |
Подробности жизни в эмиграции князя Сергея Оболенского |
Подробности жизни в эмиграции князя Сергея Оболенского
Share on Vkontakte Share on Facebook
"Наш папа спасает Россию" - так обычно отвечала мама на вопрос маленькой княжны Веры Сергеевны Оболенской о том, чем занимается ее отец - главный редактор парижского журнала "Возрождение". Князь Сергей Сергеевич Оболенский (1908-1980) - личность легендарная даже для блистательной русской эмиграции. Князья Оболенские, ведущие свое происхождение от Рюрика и святого благоверного князя Михаила Черниговского, принадлежали к самым знатным и родовитым домам Российской империи. Михаил Черниговский был убит в Золотой Орде за отказ следовать языческим обычаям и нежелание изменить православной вере. Патриотическая искренность, принципиальность стали семейными чертами Оболенских, и более всего это относится к нашему герою.

Союз Молодой России
Сережа Оболенский родился в Тифлисе в семье Сергея Дмитриевича Оболенского (1868-1946) - последнего ставропольского губернатора. В 1919 г. С.Д. Оболенский с семьей, после гибели старшего сына Александра в бою с красными под Мелитополем, был вынужден эмигрировать в Будапешт.
Будучи истинным русским патриотом С.С. Оболенский вступил в самое крупное и популярное молодежное движение в Русском Зарубежье - "Союз Молодой России" (позже "Союз младороссов" и "Младоросская партия"), где занимается активной политической деятельностью. С 1928 г. молодой князь стал руководителем очага в южной Германии.
Вождем младороссов, с официальным титулом "Глава" - стал Александр Львович Казем-Бек (1902-1977). Вторым лицом движения и идеологом был генеральный секретарь Кирилл Сергеевич Елита-Вильчковский (1904-1960). Председателем "Главного Совета" был великий князь Дмитрий Павлович, а казначеем - сын балерины Матильды Кшесинской - светлейший князь Владимир Красинский.
В 1935 г. С.С. Оболенский бежал из нацистской Германии - въехал во Францию с туристической визой и получил разрешение там остаться, продолжил журналистскую и писательскую деятельность, изобличая опасность гитлеровского режима. После переезда в Париж Оболенский стал признанным идеологом младороссов, членом "Руководящего центра", занял должность "политического секретаря"1 и был четвертым человеком в руководстве.

Младороссы. С.С. Оболенский - крайний справа, рядом с ним Ирина Борисовна фон Ралль, будущая супруга. Внизу в центре - глава младороссов А.Л. Казем-Бек. Берлин. 1932 г.
В разное время к младороссам примыкали Иван Билибин (сын известного художника), лингвист граф Илья Толстой (внук Л.Н. Толстого, впоследствии профессор МГУ), писатель Яков Горбов, поэт барон Анатолий фон Штейгер, Игорь Кривошеин (сын царского министра земледелия), религиовед и историк профессор Сергей Зеньковский. Среди сочувствующих знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский и представители династии Романовых.
Местные отделения младороссов действовали практически во всех странах, где жили русские эмигранты. Сами младороссы официально декларировали свою численность в 3000 активных членов2. Их финансировали великий князь Дмитрий Павлович и его жена - американская миллионерша.
"Младоросскость" - понималось, как состояние "национальной энергии", "восторженной бодрости и внутреннего горения" и одухотворенность идеей при выполнении постулатов программы и идеологии движения. Отсюда и экзотическая структура организации младороссов - "движение - партия - орден". Орден служения России, беззаветных, бескомпромиссных рыцарей-патриотов заложивших жизнь и души, за попытку спасения Родины.
Младороссы известны своими знаменитыми и эпатажными лозунгами: "Царь и Советы", "Ни красные, ни белые, а русские", "За Федеральную Империю" ("За Союзную Империю"), "Социальная монархия", "Режимы уходят, а Родина остается".

Значок младоросса.
Германскому плугу нужна славянская земля
Несмотря на лояльное отношение к итальянскому фашизму, к германскому национал-социализму младороссы всегда относились крайне отрицательно. Гитлера и идеологов нацизма обвиняли в расизме, русофобии, славянофобии и планах расчленения России. Отрицательное отношение к III Рейху и его политики в сочетании с ожиданием свержения большевиков советскими военными, привело к острой конфронтации почти со всеми правыми организациями русской эмиграции. Младороссы упрямо доказывали, что Гитлер не собирается освобождать Россию от коммунизма. Ему нужно жизненное пространство для немцев и строй, который нацисты готовят для нашей Родины, настолько ужасен, что даже сталинский режим покажется раем. В США, в еженедельной газете "Русское дело" С.С. Оболенский опубликовал несколько статей. В них раскрывалась антиславянская и русофобская сущность германского национал-социализма, а также делались полностью оправдавшиеся прогнозы по поводу поведения нацистов в России в случае войны.
С.С. Оболенский занимался не только политической и журналистской деятельностью. Он написал книгу в соавторстве с Пьером Бреги "Украина - земля русская", вышедшую в 1939 г. на французском языке в издательстве Галлимар, а затем и на английском языке в издательстве Хатчинсон. Книга была посвящена неразрывности экономических, торговых и культурных взаимоотношений Украины и России. Официальная точка зрения на украинский сепаратизм младоросской партии была такова: украинцы, новый равноправный народ, достойный автономии, требования Германии предоставить независимость Украине - первый шаг к территориальным аннексиям. Третий Рейх не скрывал, что "германскому плугу нужна славянская земля". Сам Оболенский подчеркивал: "Идею империи и ее существование мы будем защищать до конца. И при том теми средствами, которые потребуются. ...Утверждая, что Украина есть Русь, мы в тоже время должны показать Украине, что не смотрим на нее как на колонию Москвы"3.

Любовь во время Второй мировой
Закат "Младоросской партии" начался в 1937 г., когда правые противники младороссов выследили в парижском кафе А.Л. Казем-Бека и скандально осветили в печати его встречу с генералом графом А.А. Игнатьевым, поступившим на советскую службу. С началом Второй мировой войны партия младороссов стала подвергаться репрессиям со стороны французских властей из-за их "просоветской" позиции.
Тем не менее для князя Сергея Сергеевича 1940 год ознаменовался радостным событием, 11 февраля в Париже он соединился узами брака с Ириной Борисовной фон Ралль (1912-2007). С молодой русской эмигранткой он познакомился еще в Германии. Мать будущей супруги была против этого союза. Князь, представитель древнего и знатного рода, был беден и не мог, по ее мнению, достойно содержать семью. Отчаявшись убедить мать дать свое благословление, Ирина сбежала в Париж, чтобы связать с любимым жизнь. После войны у них родилось двое детей: Александр и Вера.
После нападения нацистской Германии на СССР в июне 1941 г. князь Оболенский, ведомый патриотическими чувствами, находясь на территории союзной III Рейху Франции в городе Виши, обратился в еще не закрытое советское консульство с наивной просьбой стать добровольцем Красной армии, что, конечно же, не могло быть осуществлено4.
С.С. Оболенский бежал из оккупированного Парижа в Турен, а затем в По. В то время он жил за счет временных работ, постоянно поддерживая контакт с местными деятелями Сопротивления, в частности, с генералом Жессе и преподобным отцом Ж. Бертело.
В угаре патриотизма
Многие из младороссов под впечатлением изменения советской политики в годы Великой Отечественной войны, поддались соблазну видеть в сталинском режиме "нормальную русскую государственную власть". Героизм народа, "реабилитация" истории и культуры, восстановление патриаршества породили иллюзии о перерождении советского режима. Так в русской эмиграции возникло движение "совпатриотизма". Не избежал этих иллюзий и С.С. Оболенский. От них в тот период князя не смогла отвратить даже трагическая судьба его отца, арестованного в 1945 г. в Вене и погибшего в мордовских лагерях.
Оболенский вернулся в Париж и участвовал в работе Союза советских патриотов. Писатель Роман Гуль, впоследствии редактор "Нового журнала", вспоминал: "Политически я был противником Оболенского, но знал его, как человека безусловно честного. ... Оболенский тогда находился "в угаре патриотизма", как множество русских в Париже. В этом "угаре" он пошел в просоветскую газету "Русские новости" и поступил на какую-то службу переводчиком"5. Сам Оболенский писал, что поверил искренним патриотическим стихам Константина Симонова (кстати, своего дальнего родственника) и Анны Ахматовой. Желание служить советской власти, как правительству своей страны, сменилось пониманием, что любой французский коммунист несоизмеримо ближе этой власти, чем самый лояльный русский патриот. Дело А.А. Ахматовой и М.М. Зощенко, казарменная казенность советской идеологии, а главное, снова обманутый после войны в своих надеждах народ - породили разочарование, и Оболенский порвал с совпатриотами.

С.С. Оболенский, сын Александр, дочь Вера, И.Б. Оболенская. Лето 1963 г.
Возрождение
Новая эпоха в жизни Сергея Сергеевича началась в 1950-е гг., когда он стал работать в монархическом журнале "Возрождение". Журнал был близок к церковным кругам и к сохранившимся белым добровольцам. Постоянными авторами "Возрождения" были историки и политические деятели Сергей Мельгунов, Сергей Зеньковский, Николай Ульянов, философы Владимир Ильин, Федор Степун, писатели, поэты и литературные критики Иван Бунин, Борис Зайцев, Яков Горбов, Дмитрий Кленовский, Иван Лукаш и многие другие. В журнале впервые были опубликованы мемуары Георгия Иванова, Юрия Анненкова, Сергея Маковского.
С 1959 г. С.С. Оболенский стал главным редактором журнала, вел рубрику "Дела и люди". Под своим именем, инициалами "С.О." или "От редакции" он напечатал более 200 материалов.
Работая с утра до ночи за нищенскую зарплату, Оболенский с неподдельным интересом следил за всем, что происходило на родине. Он старался помогать, порой отдавая последнее, тем немногим, кому удавалась вырваться из-за "железного занавеса". Князь участвовал в сборе подписей в защиту заключенных советских тюрем и лагерей, через знакомых дипломатов и иностранцев, бывавших в СССР, старался наладить нелегальную переправку эмигрантских изданий и журнала "Возрождение".

Проникновенный монархист
Почти пятьдесят лет С.С. Оболенский писал главный труд своей исследовательской деятельности. Его, пламенного патриота и участника Сопротивления, десятилетиями интересовал духовный феномен символа спасения Франции - Жанны д Арк, простой французской крестьянки, сожженной на костре и позже причисленной к лику святых. Народный католицизм Орлеанской Девы он считал близким православию. После его смерти в 1988 г. в Париже на русском языке в издательстве "YMCA-Press" увидела свет книга "Жанна - Божья Дева" (полный текст опубликован издательством "Русская культура" в 2013 г.).

Обложка книги Оболенского "Жанна - Божья Дева", изданной в Париже в 1988 г. в издательстве "YMCA-Press".
В последние годы жизни Сергей Сергеевич страдал от сильной близорукости, обострилась болезнь позвоночника. Как описывал знавший его в это время Евгений Терновский, "заостренные и мелкие черты лица освещались любопытным и умным взглядом и ничем не отражали сонмище его недугов, которые он нес с редким достоинством. Оболенского, проникновенного монархиста, пылкого патриота, рачителя и попечителя русской государственной идеи, в наших разговорах интересовало лишь одно - существуют ли еще "здоровые национальные силы" в советской России"6.
Похоронен С.С. Оболенский на известном "русском погосте" под Парижем - кладбище Сент-Женевьев-де-Буа.
1. ГАРФ. Ф. Р-9145. Оп. 1. Д. 578. Л. 151.
2. РГВА. Ф. 64. Оп. 1. Д. 1. Л. 16.
3. Бодрость. 1939. 12 марта. С. 2.
4. Любимов Л.Д. На чужбине. Ташкент, 1990. С. 292.
5. ГАРФ. Ф. Р-10032. Оп. 1. Д. 69. Л. 20.
6. Терновский Е. О Марине Цветаевой // Новый Журнал. 2003. N 231. С. 120.
https://surfingbird.com/surf/podrobnosti-zhizni-v-...sii-knyazya-sergeya--6iEi1C5bf
|
Метки: обол |
Русский XX век на кладбище под Парижем Санкт-Петербург |
Русский XX век на кладбище под Парижем Санкт-Петербург
|
Оболенский Андрей Владимирович, 1900—1975 Оллонгрен В., 1943 Орлова Галина, умерла в 1948 Осоргин Михаил Михайлович, ум. 29.10.1950 г. |
1 ... 32 33 34 35 36 37 38 39 ... 57
Оболенская Анаида Марковна, 1903—1976 ^ Оболенский Андрей Владимирович, 1900—1975 Андрей Владимирович Оболенский был сыном знаменитого кадетского деятеля Владимира Андреевича Оболенского, депутата Думы от Крыма (где было имение его тестя Вимберга), позднее — человека близкого к крымскому правительству кадетов, а еще позднее, в эмиграции, — автора интересных мемуаров. Не собираясь (как и все патриоты-эмигранты) долго засиживаться в эмиграции, Владимир Андреевич дал своим многочисленным детям в Праге русское образование, которое не слишком-то помогало им в их французской жизни. И то сказать, денег на другое образование не было, эта ветвь Оболенских уже и в России была небогата. Отец Владимира Андреевича, князь Андрей Васильевич, был прекрасный, добрый, верующий, деятельный человек, сторонник прогресса и освобождения крестьян, либерал, умница, но... играл в карты (и проигрывал). Его супруга (дочь А. Н. Дьякова и баронессы Дальгейм де Лимузен) была прелестная женщина, поборницаженского образования, создательница женской гимназии в Петербурге. В нее был серьезно влюблен Лев Толстой... Все это, впрочем, мало чем могло помочь покоящемуся здесь их внуку Андрею Владимировичу Оболенскому в городе Париже, который, как и Москва, слезам не верит. Андрей был высокий, молчаливый, настоящий молчун, и он очень нравился энергичным, разговорчивым женщинам. Марина Цветаева без устали таскала его за собой по окраинам Праги и все рассказывала, рассказывала... Он был молчаливым, но не был равнодушным — его легко было увлечь новыми идеями. В Сербии он активно участвовал в делах студенческого христианского движения, но был при этом менее заметным, чем его яркая сестра Александра (Ася), ученица Булгакова, впоследствии — мать Бландина. Кстати, в те сербские времена он и познакомился с русским ученым по фамилии Меньшиков, который преподавал в Сорбонне, кажется, минералогию. Этот человек заказывал Андрею вытачивать каменные пластинки для занятий, и в конце концов Андрей стал обеспечивать этими пластинками чуть не все лаборатории Франции, так что он все меньше и меньше малярничал для заработка... А вообще-то, жизнь была нелегкой, так что подобные ему «эмигрантские дети» не были в восторге от наследия, оставленного им отцами-демократами, отцами-либералами. Они искали свои пути обратно в Россию, свои пути преобразования мира, и неудивительно, что реакцией на либеральное прекраснодушие отцов была их тяга к силе, к коричневому и красному фашизму, к Красной Армии, «перерожденному комсомолу». Андрей с братом тоже увлекались идеями «младороссов», слушали одуряющие речи Казем-Бека. Господь их сохранил от «сотрудничества», потому что до «перерожденного комсомола» ведь было далеко, а ГПУ — вот оно, всегда рядом... И он, и энергичная его, обаятельная, но отнюдь не простая жена Анаида пытались выбраться из этого тупика, из этой скудости. Анаида была из московской купеческой семьи. В Париж приехала из Москвы с братом-пианистом и с матерью, сестра осталась в Германии, семью разметало по свету. Одно время Анаида с Натальей Оболенской даже учились на курсах авиационных механиков, позднее Анаида возлагала надежды на то, что немцы все-таки прогонят большевиков и можно будет вернуться. После советской победы и Андрей, и Анаида взяли советские паспорта и даже написали кузине Андрея в Ленинград, что хотят приехать. Кузина страшно перепугалась и отнесла письмо «куда надо». Там сказали: пусть едут — такая была политика «где надо». Кузина передала им в письме этот совет, но предупредила, что вряд ли им удастся найти общий язык, столько воды утекло. Андрей и Анаида никуда не двинулись, но, попадая в круг семьи, дразнили всех рассказами о безумных успехах стахановского движения, пятилетки, семилетки... А умела ведь она бывать и доброй, и остроумной, прелестная эта Анаида Марковна (армянка, как и жена младшего Андреева брата — Льва), и детей любила (племянник ее Алеша, ныне профессор в Ницце, этого не забыл)... Ну а потом прошла еще одна французская бесплановая семилетка, еще и еще одна, минуло и французское «славное тридцатилетие» — Андрей умер 75 лет от роду, а жена его еще через год... Надо сказать, что и на Сент-Женевьев-де-Буа, и на кладбище Кокад в Ницце, и в городке Борм-ле-Мимоза покоятся представители разных ветвей рода Оболенских. Николай Николаевич Оболенский, живший в Ницце, состоял в родстве с матерью знаменитого советского писателя Константина (Кирилла) Симонова. Маститый писатель, обаятельный Симонов бывал в гостях у французского родственника, который позднее жаловался своим друзьям из Ниццы на странности неровного характера своего московского гостя. Вряд ли обитателю послевоенной Ниццы понятна была вся сложность и двусмысленность миссии, которая возложена была на плечи его знаменитого «выездного» родственника... Оболенская (урожд. Макарова) Вера (VickY), lieutenant F. F. G., 24.0it-yaz.ru/literatura/86273/index.html?page=36 |
|
Метки: некрополь оболенские |
Путешествие по Крыму. Мыс Плака. |
Путешествие по Крыму. Мыс Плака.
На Южном берегу полуострова Крым, недалеко от поселка Утес, уютно расположился живописный мыс Плака (с греческого Плоский камень). Высота мыса около 50 метров, а его протяженность, далеко выступая в море, превышает 300 метров. Если подняться на гололобую вершину мыса — открывается великолепный панорамный вид на Птичьи скалы состоящие из огромных валунов торчащих из моря, гору Аю-Даг, Алушту, Партенит и весь Кучук-Ламбатский залив. С 1947 года мыс находится под охраной, как объект важного природного значения.
Мыс Плака, как и горы Кастель и Аю-Даг появился около 2 миллионов лет назад в следствии грандиозного извержения Кара-Дага. Это, так сказать, несостоявшиеся вулканы (лакколит). Интересно, что если посмотреть на мыс издалека, то он похож на гриб или сидящую собаку — говорят туристы.
Фото of-crimea.ru
Природа мыса Плака уникальна. С южной стороны мыс совершенно гол и пустынен, а с северной он утопает в разнообразии зелени. Здесь растет более 200 редких сортов растений. Одно из них маслина, которую выращивали в этих местах еще в средневековье.
Из исторических данных известно, что в конце 13 века, мыс и его окрестности населяли греческие колонисты, которые и назвали его Плака. На самом мысе была выстроена оборонительная крепость, а около мыса поселение Лампас (с греческого Светильник, Маяк). После того, как здешние земли завоевали турки, селение поучило название Кучук-Ламбат (сегодня на этом месте находится поселок Малый Маяк).
Дворец княгини Гагариной
В начале 19 века, в Кучук-Ламбате появилась первая дворянская усадьба, которая принадлежала Таврическому губернатору А.М. Бороздину. В последствие имение Бороздина было разделено на две половины и имело двух владельцев. Около мыса Плака (восточная часть) стала принадлежать княгине Гагариной (одна из дочерей Бороздина). В 1907 году по заказу княгини Гагариной был построен небольшой симпатичный дворец в готическом стиле по проекту архитектора Н. П. Краснова. В настоящие дни в этом дворце находится административный корпус санатория «Утес», а рядом находится домовая церковь князей Гагариных. Вход на территорию санатория «Утес» свободный, так что любой желающий может сполна насладиться великолепием старинной архитектуры, парком и живописным мысом Плака.
Вид на санаторий Утес
https://zen.yandex.ru/media/crimeaz/puteshestvie-p...plaka-5c50563d78e16700ac2b84b6
|
Метки: крым дворянские владения |
Мистика: загадочное и необъяснимое. Коллекция князя Оболенского. |
Мистика: загадочное и необъяснимое.
Коллекция князя Оболенского.
Впрочем, есть и иная версия происхождения слухов о чертовщине. Историки установили, что в начале XVIII века особняком владел дьяк поместного приказа Ф.С. Мануков, дед А. В. Суворова, позже владение перешло к князю П.А. Шаховскому, затем к историку, заведующему рукописным отделом Оружейной палаты князю М.А. Оболенскому, а от него — к купцу Гоберману. Но сами владельцы никогда тут не жили, сдавали внаем. Дело в том, что по ночам в доме становилось беспокойно: слышались какие-то стуки, потусторонние крики и завывания. Некоторые обитатели особняка даже видели призраков, облаченных в белые саваны. По версии Е. Баранова, в Отечественную войну 1812 года дом сгорел, и Оболенский выстроил на его месте новый особняк. Видимо, это произошло уже много лет спустя, так как в 1812-м князь был еще ребенком. Так или иначе, Михаил Андреевич стал здесь жить. Но случилась трагедия: в доме повесился его сын. После этого особняк какое-то время пустовал, пока в 80-х годах XIX столетия туда не переехал брат М.А. Оболенского — А.А. Оболенский, который перевез с собой коллекцию всевозможных ценных предметов, собранных его родственником Хилковым. Выходит, вся история про князя Хилкова, «Брюсову книгу» и лакея-пьяницу — не более чем легенда? Или речь идет о совсем другом Хилкове?
Новый владелец будто бы поселился в особняке вместе с вдовой того же Хилкова — А.М. Хилковой. Но из-за того что вещи коллекции загромождали комнаты, жить было тесно, и хозяева переехали в дом на Сивцевом Вражке, оставив для охраны нескольких слуг. Собрание же старинных картин, гравюр и антиквариата выставили на продажу. Именно к этому времени относятся слухи о появлении в доме чертей и привидений.
По мнению автора «Московских легенд», основанием для таких слухов могло стать то, что нечистые на руку слуги-охранники по ночам выносили из особняка господские вещи. Так, однажды воры попытались похитить фарфоровую люстру, но так и не смогли снять ее с цепи и при этом сильно порезались. Наутро, чтобы объяснить, откуда взялись порезы на руках, слуги поведали всем о навещавшем дом призраке. Ну а история о повесившемся тут сыне Оболенского, как говорится, довершила «картину маслом».
К. Т. Г. Ч. Р. М. Ч. Г. В. Н. К. С. М. Г. Н. Д. Г. Н. Г. З. Р.132.html
|
Метки: оболенские мистика |
Внучка и правнуки А. В. Суворова |
Интересные заметки об истории Поволжья

Симбирский и Самарский помещик – Дмитрий Азарьевич Путилов →
Внучка и правнуки А. В. Суворова
Опубликовано 9 Август 2015 от Алекс
Адмирал Иван Лукьянович Талызин, двоюродный брат канцлера А. П. Бестужева-Рюмина и близкий родственник Н. И. Панина – персонаж, известный в российской истории 18 века. Именно этим родством в немалой степени объясняется роль, которую он сыграл в событиях 28 июня 1762 года – низвержении Петра III и воцарении Екатерины II. В день переворота, когда возникли опасения, что Петр может переехать в Кронштадт и утвердиться в нем, туда был спешно отправлен Талызин с особыми полномочиями – с приказом “не допускать сверженного императора к этой крепости, воспрепятствовать буде обнаружится такое намерение, отъезду в Германию и даже в случае сопротивления, овладеть его особой”. Прибыв в Кронштадт, Талызин объявил о перевороте, привел к присяге на верность Екатерине солдат и чинов флота и затем арестовал присланного Петром генерал-аншефа Девьера. Когда же к крепости ночью на галере и яхте прибыл Петр с приближенными лицами, Талызин не допустил их высадки и на заявление, что приехал император, ответил, что в России нет императора, а есть императрица Екатерина II; если же суда не отойдут, то против них будет открыт огонь. Утвердившись на престоле, Екатерина II щедро вознаградила Талызина за его услуги – он получил орден Андрея Первозванного и две тысячи рублей.
Единственный его сын Алексей умер еще во младенчестве в 1740 году, дочь Александра вышла замуж за Ф. А. Остермана. Продолжения потомства по линии адмирала не было. Может быть, именно поэтому так никто и не заинтересовался архивным делом о самарском дворянстве Талызиных во второй половине 19 века. Но у адмирала был брат Федор Лукьянович. Оба они состояли в добрых дружественных отношениях со своей теткой – родной сестрой их отца Анной Ивановной Талызиной, по мужу Нелединской-Мелецкой, о чем свидетельствует сохранившееся в столичных архивах их эпистолярное наследие. Анна Ивановна – прабабушка Софьи Юрьевны Самариной, матери выдающегося общественного деятеля 19 века, ученого, почетного гражданина города Самары Юрия Федоровича Самарина. Сын Ф. Л. Талызина, тайный советник Александр Федорович женился на Марье Степановне Апраксиной, сестре известной красавицы Елены Степановны Апраксиной, которая была женой Бориса Александровича Куракина. Его сестра Татьяна Александровна – жена Александра Юрьевича Нелединского-Мелецкого, бабушка Софьи Юрьевны, жены Федора Васильевича Самарина.
Троюродный брат деда Юрия Федоровича Самарина Степан Александрович Талызин был шефом Выборгского мушкетерского полка (1797), шефом гарнизонного полка в Астрахани (1798) и шефом лейб-гвардии Павловского полка (1801). Его первой женой была Магдалина Петровна Ветушинская. Когда у них в 1795 году родился сын, то его в честь друга назвали Александром, а А. В. Суворов был крестным отцом. Отцу новорожденного он писал: “Имени моему утеха, а Вам с Магдалиной Петровной большее, со временем у Вас будет полна изба солдат. Мой долг при Вас о них пещись. Господь соблюди Вас и любезного Александра Степановича. Желаю Вам чести и славы. Пребуду до конца жизни моей и дружбой и истинным почтением”. Любовь к своему крестному отцу, память о ратных подвигах предков Талызиных с особой силой проявились у Александра Талызина в грозном 1812 году. Семнадцатилетним юношей он поступил в Московское ополчение. За отличие в Бородинском сражении пожалован в прапорщики. В 1813 году молодого храбреца перевели в артиллерию, где он состоял при князе Л. М. Яшвиле. С 1817 года Талызин – поручик лейб-гвардии Конногвардейского полка, а в 1818 году переведен в лейб-гусары и назначен адъютантом к генералу от кавалерии, князю Дмитрию Владимировичу Голицину, впоследствии члену Государственного Совета, кавалеру всех российских орденов и Московскому генерал-губернатору, 16 апреля 1841 года получившему титул светлейшего князя.
Отец Д. В. Голицина был двоюродным братом Марии Васильевны Голициной, второй жены С. А. Талызина. Случилось так, что крестник великого полководца женился на его внучке. Дед легендарного полководца, прапрадед жены А. С. Талызина Ольги Николаевны Иван Андрианович Суворов служил писарем, т. е. полковым секретарем в Преображенском полку. Восприемником при рождении у него сына Василия был сам Петр I, по смерти отца принявший крестника под свое попечение. Василий Иванович Суворов (1705-1775), определенный державным крестным отцом в военную службу, дослужился до генерала-поручика, командирован к армии, бывшей за границей (1760), был губернатором Пруссии (5 декабря 1760 – 27 декабря 1761), сенатором. Он знал несколько языков и перевел сочинение французского инженера Вобана “Основание крепостей”. Имел обширную библиотеку, состоявшую преимущественно из военных книг. В 1729 году у Суворовых родился сын Александр. Его мать Евдокия Федоровна, рожденная Манукова, стремилась привить сыну добрые нравственные качества. Многое он перенял и от отца, а его библиотеке будущий полководец обязан своим первоначальным военным образованием.
Начав службу с солдата в ранней юности, Александр Суворов прошел полувековой путь боевой службы. 28 октября 1799 года за переход через Альпы А. В. Суворов становится генералиссимусом. Получение высшего воинского звания выигравшим шесть десятков сражений и ни одного не проигравшим было закономерным признанием заслуг гениального полководца. Патриотизм Суворова был основан на идее служения Отечеству, глубокой вере в высокие боевые способности русского воина, в военный талант своих подчиненных и учеников. В январе 1774 года сорокачетырехлетний полководец женился на двадцатитрехлетней Варваре Ивановне Прозоровской, дочери генерал-аншефа князя И. А. Прозоровского. Современники писали о Варваре: “она была красавицей русского типа, полная, статная, румяная” и небогатая. Но герою всех войн и сражений, в которых он участвовал, импонировали знатность рода Прозоровских и красивая наружность княжны. 16 августа 1775 года у Суворовых родилась дочь Наталья, нежно любимая отцом “Суворочка”. Когда ей было два года, он с умилением писал: “Дочка вся в меня и в холод бегает босиком по грязи”. Суворов часто приговаривал: “Смерть моя для Отечества, жизнь моя для Наташи”. Воспитывалась она в Институте благородных девиц.
В 1784 году в семье Суворовых родился сын Аркадий. Во время Итальянского похода в 1799 году Аркадий был назначен к отцу в действующую армию. Смелость и отвага пятнадцатилетнего сына наполняли гордостью сердце старого воина. Генерал П. Х. Граббе, встречавшийся с Аркадием Александровичем в 1809 году, писал о нем: “Князь Суворов был высокого роста, белокурый, примечательной силы и один из прекраснейших мужчин своего времени. С природным ясным умом, приятным голосом и мягким словом, с душой, не знавшей страха ни в каком положении, с именем бессмертным в войсках и в народе, он был идеалом офицера и солдата”. Принц Вюртембернский писал: “Его знали за смельчака и человека горячего, который уцелел до сих пор только благодаря непонятному счастью”. Недюжинные военные способности в соединении со славным именем обеспечивали его карьеру: в 25 лет он уже командовал дивизией. Но в 1811 году во время русско-турецкой войны генерал-лейтенант А. А. Суворов переправлялся через небольшую речку Рымны, на берегах которой его отец одержал знаменитую победу, за которую ему был присвоен графский титул с названием Рымнинский. Неожиданно коляска молодого Суворова опрокинулась. Пытаясь спасти не умевшего плавать кучера, Аркадий Александрович утонул.
От брака с Еленой Александровной Нарышкиной князь А. А. Суворов оставил двух сыновей: Александра и Константина и двух дочерей: Марию и Варвару. Александр Аркадьевич Суворов (1805-1882), генерал-адъютант, генерал от инфантерии, участвовал в русско-турецкой войне 1827-1828 годов и русско-турецкой войне 1828-1829 годов, с 1848 года он Лифляндский, Эстляндский и Курляндский генерал-губернатор. В 1861 году назначен Петербургским генерал-губернатором. Член Госсовета. Константин Аркадьевич Суворов (1809-1877), полковник, гофмейстер. По высочайшему повелению от 5 февраля 1848 года внукам генералиссимуса князя А. В. Суворова, князьям Александру и Константину Аркадьевичам Италийским, графам Суворовым-Рымнинским предоставлены с их нисходящим потомством титулы светлостей. Князь Александр Аркадьевич Суворов оставил сына Николая. С его смертью в 1893 году прекратилась княжеская и графская ветвь рода Суворовых. Но вернемся к любимой дочери полководца Наталье Александровне Суворовой. В 1791 году она окончила Институт благородных девиц и в апреле 1794 года вышла замуж за обер-шталмейстера графа Николая Александровича Зубова.
Фамилия Зубовых в русской истории известна с 1237 года. Среди Зубовых было несколько воевод, стольников и даже судей Московского Приказа. При осаде Смоленска в 1634 году был убит Дмитрий Иванович Зубов. В Гербовнике о них говорится: “Зубовы, за оказанную храбрость от царя Михаила Федоровича жалованы были поместьями”. Дед мужа Натальи Александровны Суворовой Николай Васильевич Зубов (1699-1786) – член Коллегии Экономии. От первого брака с Татьяной Николаевной Трегубовой имел трех сыновей: Афанасия, Александра и Василия. Вторая его жена Агафья Ивановна Наумова была близка ко двору Елизаветы Петровны и поэтому его сыновья уже детьми были записаны в гвардейские полки и могли рассчитывать на успешную службу. Из них особенно выдвинулся Александр Николаевич (1727-1795). Начинал он службу в Конной гвардии, в 1758 году вышел в отставку подполковником, был вице-губернатором, управлял в то же время имением графа Н. И. Салтыкова. С возвышением сына Платона в 1792 году был назначен обер-прокурором в первый департамент. Человек умный, но бесчестный и злой, прославился взяточничеством и лихоимством, пользуясь могущественным влиянием сына при Екатерине II. Кроме Платона у него было еще три сына: Николай, Дмитрий и Валериан. Большое влияние при дворе имела его дочь Ольга Александровна Жеребцова (1766-1849).
На судьбе и карьере братьев отразился “фавор” Платона Зубова. Восьмилетним ребенком Платон был записан в лейб-гвардии Семеновский полк, откуда в 1779 году переведен в Конную гвардию. По свидетельствам современников, он прекрасно владел французским языком, занимался музыкой, обнаруживал некоторый интерес к словесности, владел живой речью, не лишен был остроумия с примесью иронии и, что наиболее способствовало его “случаю”, обладал красивой внешностью: роста он был среднего, “гибок, мускулист и строен, у него был высокий лоб и прекрасные глаза”. В 1789 году Зубов привлек внимание Екатерины II. Из поручиков Конной гвардии быстро произведен в высшие чины, получил громадные поместья, в том числе и в Самарском уезде. Он назначается генералом-фельдцейхмейстером, главнокомандующим Черноморского флота, Новороссийским генерал-губернатором и прочее, был даже почетным любителем Академии художеств. В 1793 году А. Н. Зубова и его сыновей возвели в графское Римской империи достоинство. В выписке из Гербовника VI о его сыне Платоне говорится: “Платон Александрович Зубов от римского императора Франца II пожалован в 1793 году февраля 7 графом, и 1796 июня 2 пожалован князем Римской империи и на оное княжеское достоинство с титулом светлости”. На принятие этого титула и разрешение пользоваться им в России в том же году последовало высочайшее соизволение.
О Валериане Александровиче Зубове, генерале от инфантерии, члене Государственного Совета, кавалере ордена Андрея Первозванного и прусского Черного Орла, в Гербовнике сказано: “в юных летах прославил себя на поле ратном и явил дарования отличного генерала, отличился в Суворовской польской кампании 1794 года, предводительствовал на Кавказе российскою армиею, отправленною на защиту Грузии от Персии и взял Дербент”. Это в официальном документе; современники же отзывались о нем не весьма лестно. Особенно он скомпроментировал себя в Польше. В 1796 году В. А. Зубов был назначен главнокомандующим войск, отправляющихся на Кавказ, для приведения в исполнение нереального проекта его брата Платона – завоевания всей ближней Азии до Тибета. Война в Персии требовала больших расходов и со смертью Екатерины была прекращена. Большой научный и познавательный интерес и сегодня представляет публикация Н. Ф. Самариным, крупным ученым, двоюродным братом Е. А. Зубовой, рожденной Оболенской, в журнале “Русский Архив” переписки графа В. А. Зубова со своим братом светлейшим князем Платоном Зубовым, генерал-губернатором Новороссии и Записки “Общее обозрение. Торговля с Азией”, составленной В. А. Зубовым для П. А. Зубова. О генерал-майоре, графе Дмитрии Александровиче Зубове сведения весьма скупы. Служил в Конной гвардии. В 1796 году стоял во главе Комиссии о государственных делах. Уйдя в отставку, занимался приведением в порядок обширных владений Зубовых во многих губерниях России. К нему перешли богатые имения брата Платона, скончавшегося в 1822 году. В 1816 году Дмитрий Зубов издал “Новый способ винокурения посредством водяных паров”.
Муж дочери Суворова Натальи – Николай Александрович, старший из братьев Зубовых, родился в 1763 году. Начал службу в Конной гвардии, граф с 1793 года. Гигант, обладавший большой физической силой, но грубый и высокомерный человек. Первым известил Павла в Гатчине о смерти Екатерины II и при восшествии его на престол получил орден Андрея Первозванного. Вскоре вместе с Платоном был выслан из столицы, но возвращен и назначен обер-шталмейстером. Вместе с Платоном принимал участие в заговоре против императора, первый нанес Павлу I удар в левый висок массивной табакеркой, отчего император упал без сознания. При Александре I не пользовался влиянием. Умер в 1805 году. Оставил трех сыновей: Александра, Платона и Валериана и двух дочерей: Ольгу и Любовь. Внук Суворова Платон Николаевич Зубов (1798-1855) окончил с отличием Пажеский корпус и выпущен корнетом в Кавалергардский полк. В 1827 году в чине полковника вышел в отставку и некоторое время служил в министерстве финансов. Умер в Москве холостым. Второй внук полководца граф Валериан Николаевич Зубов в 1838 году женился на Екатерине Александровне Оболенской, двоюродной сестре Юрия Федоровича Самарина. После смерти ее матери, княжны Аграфены Юрьевны, жены Калужского губернатора князя Александра Петровича Оболенского, Екатерина в течение десяти лет жила в семье Самариных. Во второй половине тридцатых годов семья Оболенских поселилась в Москве.
Дети выросли, а их у князя было десятеро. Дмитрий учился в Петербурге в Училище правоведения. Мария стала фрейлиной у императрицы. Варвара вышла замуж за близкого друга М. Ю. Лермонтова – Алексея Александровича Лопухина, который служил в Москве в синодальной конторе. Их сыну Александру, родившемуся в 1839 году, поэт посвятил стихотворение “Ребенка милого рожденье”. Лермонтов был дружен с двоюродным братом В. Н. Зубова Д. Г. Розеном. В 1840-41 годах во время его приездов в Москву поэт вместе с молодыми Лопухиными и Зубовыми встречались у Оболенских, Свербеевых, у Розена и у Самариных. В дневнике Ю. Ф. Самарина имеется несколько записей о пребывании Лермонтова в Москве, в том числе и в апреле 1841 года. Вот одна из них: “За несколько дней до своего отъезда, он провел у нас вечер с Голициными и Зубовыми. На другой день я виделся с ним у Оболенских”. Екатерина Александровна Оболенская, в замужестве Зубова, была нежной и привлекательной женщиной. Знавшие ее бабушку Е. Н. Хованскую, чей образ увековечен художником Д. Г. Левицким на известном портрете воспитанниц Смольного института Е. Н. Хрущевой и Е. Н. Хованской, уверяли, что Екатерина похожа на свою бабушку. Многое у нее было и от матери, Аграфены Юрьевны, бывшей фрейлены императрицы Марии Федоровны и в юные годы общавшейся с поэтами А. С. Пушкиным, В. А. Жуковсским и другими.
Имя Екатерины Александровны Зубовой встречается в эпистолярном наследии М. Ю. Лермонтова. Тепло отзываясь о Екатерине Александровне, А. О. Смирнова-Россет дает отрицательную характеристику ее мужу, В. Н. Зубову, отмечает его “дурной характер”. Младшая сестра Зубова Ольга Николаевна вышла замуж за Александра Степановича Талызина. В 1825 году у Талызиных родился сын, нареченный в честь деда по отцу Степаном. Всего же в семье внучки Суворова и его крестника выросло десять детей – пять сыновей и пять дочек. В определении Московского Дворянского Депутатского собрания от 28 июня 1845 года о внесении А. С. Талызина с детьми его в VI часть Московской дворянской родословной книги сказано: “о законном же рождении от действительного статского советника Александра Степановича Талызина детей: Степана, Николая, Петра, Наталии, Марии, Лидии, Любови, Веры, Аркадия и Михаила удостоверяют метрические свидетельства Московской Духовной Консистории”. В чине действительного статского советника в 1833 году камергер Талызин начал свою гражданскую службу попечителем Матросской богодельни в Москве. Участвовал в создании Московского училища живописи, ваяния и зодчества.
В 1844 году Талызина избрали предводителем дворянства Бронницкого уезда Московской губернии, с которым связана хозяйственная, служебная и общественная деятельность Пушкиных и Самариных. Известный в России общественный деятель, почетный мировой судья Самарского уезда А. Д. Самарин с 1893 года несколько лет был земским начальником одного из участков Бронницкого уезда. Многое сделал для развития экономики, просвещения, здравоохранения и культуры в этом уезде внук А. С. Пушкина Александр Александрович Пушкин. В 1894 году он одновременно с Самариным был земским начальником другого участка Бронницкого уезда. С 1899 года камер-юнкер Пушкин – уездный предводитель дворянства. В 1913-16 годах камергер А. А. Пушкин – председатель Уездной Земской Управы. Умер он 3 марта 1916 года и похоронен в Бронницах. В 1850 году А. С. Талызина избрали Московским совестным судьей. В архивном деле указана точная дата его смерти – 22 марта 1858 года. Вдова тайного советника Ольга Николаевна Талызина, проживавшая в Москве, но имевшая земли в Самарской губернии, подала прошение на имя губернского предводителя дворянства Бориса Петровича Обухова о внесении её фамилии в Самарскую дворянскую родословную книгу.
Внучка Суворова писала: “Род наш Талызиных внесён в дворянскую родословную книгу Московской губернии, в шестую часть древнего дворянства. Но как состоит за мною в Самарской губернии, Самарском уезде недвижимое имение, где населено 2000 душ временно обязанных крестьян, то на основании закона, я с семейством желаю быть внесённой в дворянскую родословную книгу в шестую часть и по Самарской губернии”. Перечисляла прилагаемые к прошению необходимые документы. В конце прошения внучка полководца оставила свой автограф: “Вдова тайного советника Ольга Николаевна Талызина руку приложила, прошение подать и документы вверяю получить сыну моему, коллежскому секретарю Петру Александровичу Талызину”. Интересна запись чиновника, получившего документы Талызиной: “На память”, в которой содержатся важные сведения о внучке и правнуках Суворова: “1. Свидетельство г-жи Талызиной, выданное ей Московским Военным генерал-губернатором, ныне не приложено, ибо оно находится в Казанском собрании и будет в самом скором времени представлено. 2. Дети О. Н. Талызиной – Степан Александрович Талызин – отставной надворный советник. Пётр Александрович Талызин – отставной коллежский секретарь. Аркадий Александрович Талызин – титулярный советник, служит по министерству иностранных дел. Михаил Александрович Талызин выпущен из Пажеского корпуса с чином коллежского секретаря. Девицы Любовь и Вера Александровны Талызины. 3. Возврат документов, а также и копию с протокола Самарского дворянского собрания сделать на имя Петра Александровича Талызина в село Зубовку через самарского исправника.
24 декабря 1862 года на Самарском губернском дворянском собрании рассматривали прошение О. Н. Талызиной. В журнале родословного стола записано: “Слушали: Вдова тайного советника Ольга Николаевна Талызина поданным прошением в сие собрание объяснила, что она с родом своим состоит записанною в 6 часть Московской Дворянской родословной книги, ныне же она желает перечислить род свой в Самарское дворянство, с внесением в таковую же часть родословной книги”. Рассмотрев прошение графини Талызиной, Самарское губернское дворянское собрание приняло постановление о внесении тайной советницы О. Н. Талызиной и детей её в 6 часть (том) Самарской родословной книги. Таким образом, внучка и правнуки А. В. Суворова, имевшие обширные владения в Самарском уезде, официально стали дворянами Самарской губернии. А пока суть да дело, П. А. Талызин был избран предводителем дворянства в Чистопольском уезде и переехал туда на жительство. В апреле 1863 года пристав 2 стана Самарского уезда доносил в губернское дворянское собрание: “Коллежский секретарь Пётр Александрович Талызин постоянно проживает в Чистополе Казанской губернии, где служит предводителем дворянства – документы препровождены в Чистополь”.
Копию с протокола Самарского дворянского собрания и соответствующие документы Чистопольское уездное полицейское управление вручило П. А. Талызину 4 марта 1864 года. В Самарском государственном архиве и ныне хранится автограф правнука Суворова П. А. Талызина – его расписка о получении документов: “коллежский секретарь П. А. Талызин”. Земли внучки Суворова находились в северной части Самарского уезда и небольшою долею заходили в Бугурусланский уезд (по современному административному делению эти земли находятся в Шенталинском, Челно-Вершинском и Сергиевском районах). Местность довольно ровная. Через имение протекала речка Кондурча. Главным капитальным богатством владений Талызиной был лес. Самой крупной статьёй текущего дохода являлась сдача земли в аренду. Кроме этого О. Н. Талызина с сыном С. А. Талызиным имели земли в Ставропольском уезде. Шли годы. Имение Талызиной переходило в другие руки. На аукционных торгах основную часть его (более 16 тысяч дес. удобной земли) приобрела по цене 14 рублей за дес. жена Владимира Николаевича Бедряги Софья Николаевна, дочь штабс-ротмистра Николая Ивановича Тевешева. Именно эти 16061 десятин удобной земли числились в Окладе дворянских сборов по Самарскому уезду. Вскоре С. Н. Бедряга купила у помещиков Лазаревых при селе Шиловка Зубовской волости ещё 1072 десятины, но уже по 25 рублей за десятину. Всего же С. Н. Бедряга в Зубовской и Шламской волостях к 1883 году имела 35409 десятин земли.
В ГАСО имеются документы, свидетельствующие о переходе когда-то обширного владения Зубовых и Талызиной к разным лицам. В феврале 1880 года доверенный землевладелицы С. Н. Бедряга Ф. П. Шеповалов сообщал в Зубовское волостное правление о том, что часть земли Талызиной перешла “духовенству села Зубовка и села Шламы, да 200 десятин самарскому купцу Аржанову при деревне Садках. Затем деревня Королевка Космову Семену Федоровичу и при селе Дмитриевке поступила в приданое за дочерью Талызиной г-ну Всеволожскому”. Об этом же 30 марта 1880 года писал в ответе на запрос губернского дворянского собрания пристав 3 стана Самарского уезда: “во вверенном мне участке земли, принадлежавшей Ольге Николаевне Талызиной, в настоящее время нет. Принадлежащая Талызиной земля перешла во владение следующим лицам: г-же Бедряга при Зубовке и Шламы, г-же Всеволжской при селе Дмитриевке, к крестьянину Касимову при деревне Королёвке и к купцу Аржанову при деревне Садках”. При внесении фамилии Талызиных в Самарскую родословную книгу в 1862 году из дочерей Ольги Николаевны названы только две: Любовь и Вера. Значит, к этому времени остальные ее дочери были уже замужем, имя одной из них может встретиться в документах Всеволжского.
Дед мужа правнучки А. В. Суворова Лидии Александровны Талызиной Всеволод Андреевич Всеволожский, будучи Астраханским вице-губернатором, статским советником, женился на Елизавете Никитишне, незаконнорожденной дочери, официальной воспитаннице Астраханского губернатора Никиты Афанасьевича Бекетова (1729-1794), генерала-поручика, сенатора. Его родная сестра Екатерина Афанасьевна – мать поэта И. И. Дмитриева. Их отец – Афанасий Алексеевич Бекетов, полковник, с 23 января 1791 года воевода в Симбирске. У Всеволода Андреевича и Елизаветы Никитишны Всеволожских были сыновья Александр и Никита. Всеволожский Никита Всеволодович (1799-1862) – большой приятель и сослуживец А. С. Пушкина по Коллегии иностранных дел, театрал. В его доме (проспект Римского-Корсакова, 35) собиралось театральное и политическое общество “Зеленая Лампа” (1818-1820), девиз которого “Свет и надежда” – говорит о многом. Просвещенная молодежь Петербурга обсуждала здесь литературные и театральные проблемы, часто разгорались споры на политические темы. На одном из заседаний “Зеленой Лампы”, на котором присутствовали Н. И. Гнедич, А. А. Дельвиг и другие ее члены, А. С. Пушкин прочитал стихотворное послание “Всеволожскому”, написанное в 1819 году. В стихотворении “В кругу семей, в пирах счастливых” Никита Всеволожский назван Амфитрионом – хлебосольным, гостеприимным хозяином.
А в обращении к нему: “Но где же он, твой милый брат, Недавний рекрут Гименея? Вы оба в прежни времена В ночных беседах пировали И сладкой лестью баловали Певца свободы и вина” — речь идет об Александре Всеволожском, участнике Отечественной войны 1812 года, камергере, тоже посещавшем заседания “Зеленой Лампы”, и о его женитьбе в ноябре 1820 года. Таким образом, сам Пушкин свидетельствует о том, что среди почитателей его творчества был не только Никита, но и его брат Александр Всеволожский, отец В. А. Всеволожского, мужа Л. A. Талызиной. Имя Никиты Всеволожского часто встречается в эпистолярном наследии А. С. Пушкина. В письме к А. А. Бестужеву от 29. 06. 1824 года поэт называет его лучшим из друзей молодости, а в письме к Всеволожскому спрашивает, помнит ли тот “неизменного твоего товарища в театре”. Но особенно часто упоминает его имя Пушкин в письмах к своему брату Льву Сергеевичу. В одном из них поэт говорит о женитьбе Н. В. Всеволожского весной 1825 года на княжне В. П. Хованской, троюродной сестре Софьи Юрьевны Самариной, матери Юрия Федоровича Самарина. Родная сестра жены Никиты Всеволожского Екатерина Петровна Хованская (1803-1837), троюродная сестра С. Ю. Самариной – жена Павла Борисовича Мансурова (1795-1880). Их сын Николай Павлович Мансуров в 1864-1865 годах был Самарским губернатором.
Внучатая племянница Ю. Ф. Самарина Лидия Федоровна Самарина (1893-1976) была женой Сергея Павловича Мансурова (1890-1929), внука Н. П. Мансурова. Племянник Н. В. Всеволожского Иван Александрович Всеволожский (1835-1909) – директор императорских театров в 1898-99 годах – был членом Комиссии по устройству чествования столетия со дня рождения А. С. Пушкина. В составе подкомиссии по разработке программы юбилейных торжеств и ее реализации он многое сделал, чтобы достойно почтить память Великого поэта России и близкого друга своего отца и дяди в годы их молодости. С 1899 года И. А. Всеволожский – директор Императорского Эрмитажа. Из потомков Зубовых можно назвать Валентина Платоновича Зубова (1884-1969), внучатого племянника Валериана Николаевича Зубова и его сестры Ольги Николаевны Талызиной, внуков А. В. Суворова. Доктор философских наук В. П. Зубов многие годы был профессором истории искусств в Ленинградском университете.
В первой половине 19 века творил писатель Всеволожский Николай Сергеевич (1772-1857), родственник Всеволожских. Его родная сестра Софья Сергеевна была замужем за двоюродным братом Федора Васильевича Самарина князем Иваном Сергеевичем Мещерским. Их дочь Мария Ивановна Мещерская, троюродная сестра Юрия Федоровича Самарина, была женой Ивана Николаевича Гончарова, родного брата Наталии Николаевны Пушкиной. Четверо детей этой супружеской пары были двоюродными братьями и сестрами детей А. С. Пушкина.
По материалам Р. П. Поддубной
|
Метки: суворовы |