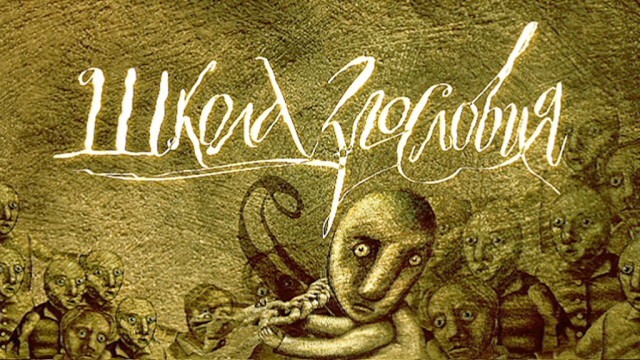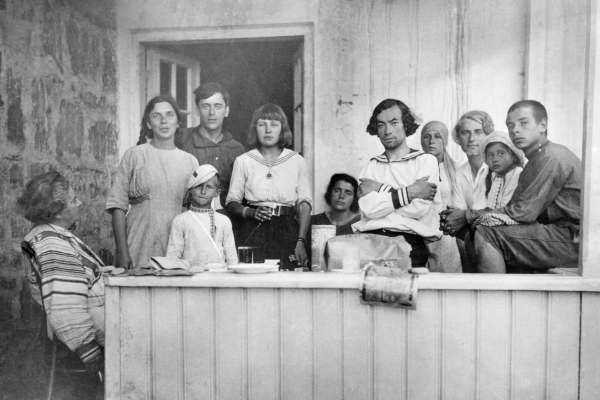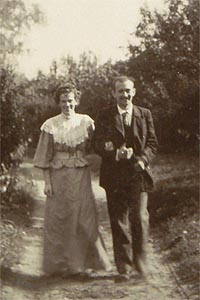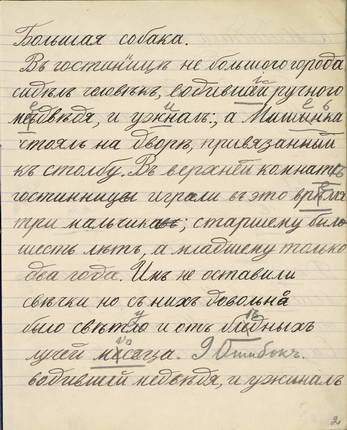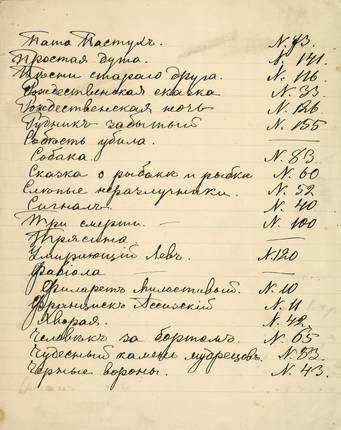Княжна Щербатова Мария Сергеевна |
Княжна Щербатова Мария Сергеевна
Имя
Княжна Щербатова Мария Сергеевна

Девичья фамилия
Княжна Щербатова
Дата рождения
20 октября 1859 г.
Место рождения
?
Вероисповедание
Православная
Отец
Князь Сергей Александрович Щербатов (27.05.1804 – 12.04.1872), офицер. Владелец имения Бобрики, Лебединский уезд Харьковской губернии, уездный предводитель дворянства.
Мать
Княгиня Прасковья Борисовна Щербатова, урожд. княжна Святополк-Четвертинская (1818 – 31.05.1899).
Братья / сестры
В семье было шесть сыновей и три дочери:
- Князь Борис Сергеевич (1837 или 18.02.1839 – 10.08.1921), полковник, участник подавления польского восстания, также служил на Кавказе, предводитель дворянства Харьковской губернии (1873 – 1876), женат с 1866 г. на Анне Николаевне Бутурлиной (23.02.1846 – 2.06.1906), шесть сыновей и три дочери;
- Княжна Прасковья Сергеевна (28.03.1840 – Добрно, Югославия, 30.06.1924), замужем с 1859 г. за графом Алексеем Сергеевичем Уваровым (28.02.1825 – 29.12.1884) – см. 0026-UPS;
- Князь Александр Сергеевич (11.06.1841 – 28.04.1870), женат на Анне Григорьевне N.;
- Княжна Надежда Сергеевна (1.05.1843 – 1929 или 10.12.1931), фрейлина, замужем за юристом Федором Алексеевичем Левшиным (15.05.1839 – 1884), четыре сына.
- Князь Сергей Сергеевич (1844 или 17.12.1846 – 30.04.1876), женат на Елизавете Павловне Дубинской (25.11.1853 – 27.05.1875), один сын;
- Князь Федор Сергеевич (1847 или 1848 – 26.11.1885);
- Князь Владимир Сергеевич (18.12.1848 – Вена, 15.02.1877);
- Князь Николай Сергеевич (26.10.1853 – Москва, 24.02.1929), морской офицер, историк, археолог, директор Исторического музея в Москве, женат на графине Софье Александровне Апраксиной (Дрезден, 30.06.1852 – Москва, 1917), сын и дочь.
- Княжна Мария Сергеевна (20.10.1859 – Смоленск, 1918 или август 1921), фрейлина.


Николай Сергеевич Прасковья Сергеевна
Учебное заведение
?
Дата выпуска
?
Муж
Нет
Дата вступления в брак
Нет
Дети
Нет
Дата назначения фрейлиной
22 ноября 1878 г.
Награды
?
Дата смерти
1918 г., по другим данным август 1921 г.
Место смерти
Смоленск
Место захоронения
?
Обстоятельства смерти
Убита большевиками. Арестована летом 1921 г. как член Союза защиты Родины и Свободы. Расстреляна большевиками в конце августа 1921 г. в Смоленске. (?)
Комментарии
Занималась благотворительностью. Одна из учредительниц и первая председательница Правления общества «Ясли», созданного в 1893 г. для присмотра и ухода за малолетними детьми бедных жителей Петербурга, преимущественно рабочего класса».
Ссылки
http://www.angelfire.com/realm/gotha/gotha/stcherbatov.html
http://www.encspb.ru/object/2811805666?lc=ru
http://feb-web.ru/feb/rosarc/rae/RAE-5323.htm
http://next.feb-web.ru/textpage/download/html/?bookhl=&book=rosarc_14_2005
http://charity.fgurgia.ru/object/109320928?lc=ru
http://forum.vgd.ru/post/395/70313/p2024635.htm
https://goo.gl/sTrQ9i
http://www.rgfond.ru/rod/7645
http://www.citywalls.ru/house10365.html
http://history.gradpetra.net/ulitsa/36/333-6.html
Буду благодарен за любые дополнения, комментарии, замечания.
|
Метки: щербатовы |
Лев Сергеевич Термен - тот, кто опередил Зворыкина |
Лев Сергеевич Термен - тот, кто опередил Зворыкина
Весной 1926 года инженер Лев Термен демонстрировал в Наркомате обороны первую в мире телевизионную установку — дальновидение. Он установил объектив камеры на улице, экран расположил в кабинете, и красные полководцы Орджоникидзе, Ворошилов, Буденный и Тухачевский дружно вскрикнули от восторга: на экране по двору шел Сталин!
Всего лишь год понадобился Термену на решение фантастической задачи — создание электрического дальновидения. Впрочем, для него, казалось, в жизни вообще не существовало трудностей. С юных лет он поражал окружающих своими талантами: увлекался математикой, физикой, в его комнате вечно что-то взрывалось. В университете Термен учился одновременно на физическом и астрономическом факультетах, параллельно занимаясь в Петербургской консерватории по классу виолончели.
До революции он успел окончить военно-инженерное училище и даже повоевать за царя-батюшку в чине подпоручика радиотехнического батальона. Но большевики не расстреляли его, а, напротив, взяли на службу в электротехнический батальон. И год спустя назначили начальником самой мощной в стране Царскосельской радиостанции.
После демобилизации в 1920 году его пригласил на работу в Физико-технический институт профессор Иоффе. Термен получает задание — заняться радиоизмерением диэлектрической постоянной газов при переменных температуре и давлении. При испытаниях оказалось, что прибор издавал звук, высота и сила которого зависела от положения руки между обкладками конденсатора. Быть может, просто физик и не придал бы этому значения, а физик — выпускник консерватории попытался сложить из этих звуков мелодию. И получилось!
Он сперва назвал его «Аэрофон», но с легкой руки бойкого корреспондента газеты «Известия», инструмент получил название «Терменвокс», которое собственно и сохранилось до сих пор.
Так родился музыкальный инструмент терменвокс — голос Термена. И упрощенный вариант терменвокса — охранная сигнализация, — построенный по тому же принципу: едва злоумышленник оказывался в электрическом поле, раздавался звуковой сигнал. Кстати, в наше время в дорогих машинах до сих пор устанавливается сигнализация, в основе которой лежит изобретение Термена.
А в жизни Льва Сергеевича оно стало первым шагом на пути к славе. Хотя коллеги посмеивались: «Термен играет Глюка на вольтметре», ученого это ничуть не смутило. В 1921 году он демонстрирует свое изобретение на VIII Всероссийском электротехническом съезде. Удивлению зрителей не было предела — никаких струн и клавиш, не похожий ни на что тембр. Газета «Правда» напечатала восторженный отзыв, на радио прошли концерты для широкой аудитории. К тому же во время съезда был принят план ГОЭЛРО, и Термен со своим уникальным электроинструментом мог стать прекрасным пропагандистом плана электрификации всей страны.
Через несколько месяцев после съезда Термена пригласили в Кремль.
Стой, кто идет!
В кабинете, кроме Ленина, было еще человек десять. Сначала Термен продемонстрировал высокой комиссии охранную сигнализацию. Он присоединил прибор к большой вазе с цветком, и, как только один из присутствующих приблизился к ней, раздался громкий звонок. Лев Сергеевич вспоминал: «Один из военных говорит, что это неправильно. Ленин спросил: «Почему неправильно?» А военный взял шапку теплую, надел ее на голову, обернул руку и ногу шубой и на корточках стал медленно подползать к моей сигнализации. Сигнал снова получился».
И все же главным «героем» аудиенции стал терменвокс. Инструмент настолько понравился Ленину, что он дал «добро» на гастроли Термена и распорядился выдать ему бесплатный железнодорожный билет «для популяризации нового инструмента» по всей стране.
Кстати, с Лениным связан еще один впечатляющий штрих жизни Термена.
Лев Сергеевич был увлечен идеей борьбы со смертью. Он штудировал работы по исследованию клеток животных, замороженных в вечной мерзлоте, и размышлял над тем, что будет с людьми, если их заморозить, а потом разморозить. Когда стало известно о смерти вождя, Термен послал своего помощника в Горки с предложением заморозить тело Ленина, чтобы спустя годы, когда технология будет отработана, воскресить его из мертвых. Но помощник вернулся с печальным известием: внутренние органы уже изъяты, тело подготовлено к бальзамированию. С тем Термен и оставил исследования по оживлению человека. А спустя десятилетия его идея получила воплощение в Америке, и ныне десятки замороженных счастливцев ждут воскрешения.
Эпизод, который мог стать вехой
Если, проходя случайно мимо здания Министерства обороны Российской Федерации, что в Москве, вы увидите на его стене камеру видеонаблюдения, знайте: это скромное устройство может с полным правом праздновать свой восьмидесятилетний юбилей. Весной 1926 года вездесущий Термен установил объектив камеры над входом в Наркомат обороны, а экран — в приемной наркомвоенмора Ворошилова. Ворошилов демонстрировал свою новую любимую игрушку гостям — Орджоникидзе, Буденному, Тухачевскому — и те радовались как дети, когда на экране появлялся хорошо узнаваемый Сталин: трубка, усы и все такое… Терменовская установка обеспечивала чересстрочную развертку на сто строк (в шесть раз меньше, чем в современных телевизорах) и имела экран 1,5х1,5 м (то есть его диагональ была больше двух метров).
Телевидением (точнее — «дальновидением», как это тогда называлось) Термен тоже занялся с подачи своего наставника и покровителя А.Ф. Иоффе во второй половине 1924 года. Решив завершить образование в Петроградском политехническом институте, Лев Сергеевич занялся модной в то время проблемой дальновидения, и в 1925 году изготовил опытный образец телевизионной установки.
Для самого Термена идея дальновидения не была новой: уже в 1921 году он выступал с обзором работ по дальновидению на семинаре в Физико-техническом институте, а через год — в Петроградском отделении Российского общества радиоинженеров.
Для решения поставленной задачи Термен выбрал, как всегда, свой собственный, оригинальный подход, собрав уже известные приборы и устройства новым, неожиданным образом.
Термен разработал и изготовил четыре варианта телевизионной системы, включающей в себя передающее и приемное устройства. Первый вариант, демонстрационный, созданный в конце 1925 года, был рассчитан на 16-строчное разложение изображения. На этой установке можно было «увидеть» элементы, например, лица человека, но узнать, кого именно показывают, было невозможно. Во втором, также демонстрационном варианте использовалась уже чересстрочная развертка на 32 строки.
Весной 1926 года был сделан третий вариант, положенный в основу дипломной работы Термена. В нем использовалась чересстрочная развертка на 32 и на 64 строки, изображение воспроизводилось на экране размером 1,5х1,5 м.
Уже первые опыты показали, что удалось получить изображение достаточно высокого качества: можно было узнать человека — правда, если он не делал резких движений. Первая успешная публичная 111 демонстрация «терменвизора» состоялась 7 июня 1926 года в актовом зале Физико-технического института, во время защиты дипломного проекта Льва Термена «Установка для передачи изображения на расстояние». 16 декабря 1926 года состоялась еще одна и, пожалуй, последняя публичная демонстрация этой установки дальновидения на V Всесоюзном съезде физиков в Москве.
Изобретение вызвало фурор, «Огонек» и «Известия» с восторгом писали: «Имя Термена входит в историю мировой науки наряду с Поповым и Эдисоном!» Казалось, от эксперимента до серийного выпуска рукой подать…
Почти сразу после этого Термена вызвали в Совет Труда и Обороны, где предложили создать телевизионную систему специально для пограничных воинских частей. Все работы в этой области были сразу же строго засекречены.
Технические требования к установке предъявлялись очень строгие: она должна была работать на открытом воздухе при обычном дневном освещении и быть рассчитана на 100-строчное разложение изображения. Этот четвертый вариант установки и простоял в течение нескольких месяцев в приемной Ворошилова в Кремле, позволяя обозревать на большом экране и кремлевский двор, и отдельных людей, проходящих по этому двору.
Практика показала, что разработанная Л.С. Терменом конструкция установки дальновидения оказалась вполне работоспособной, и более того — последний вариант ее предназначался для работы в армии, где традиционно предъявляются очень жесткие требования к аппаратуре.
В 1926 году, еще до засекречивания работ, журнал «Огонек» и газета «Известия» успели проинформировать об этих экспериментах, но с 1927 по 1984 годы никаких открытых публикаций о работах Термена в области телевидения больше не было, а сами эти работы уже никак не влияли на развитие телевидения у нас в стране и в мире.
Термену предложили создать телевизионную систему для пограничных воинских частей. Но до армии она не дошла: слишком бедной была техническая база страны. Поэтому разработки засекретили, а титул первооткрывателя в области телевидения несколько лет спустя достался эмигранту из России Владимиру Зворыкину.
В нокауте «Гранд-Опера» и другие
Летом 1927 года во Франкфурте-на-Майне собиралась международная конференция по физике и электронике. Молодой Стране Советов нужно было достойно себя представить. И Термен со своим инструментом стал козырной картой российской делегации. Он сразил европейцев и докладом о терменвоксе, и концертами классической музыки для широкой публики: «небесная музыка», «голоса ангелов» — захлебывались газеты от восторга.
Одно за другим последовали приглашения из Берлина, Лондона, Парижа. Самый феерический концерт Термена прошел в Париже: консервативный театр «Гранд-Опера» впервые в своей истории отдал зал на целый вечер какому-то неизвестному русскому. Такого наплыва зрителей (продавали даже стоячие билетов в ложи) и такого успеха в театре не видели 35 лет…
Тем временем Иоффе, который в это время находился в США, получил заказы от нескольких фирм на изготовление 2000 терменвоксов с тем условием, что Термен приедет в Америку курировать работы. Но вместо одной командировки Лев Сергеевич получил две: от наркома просвещения Луначарского и от военного ведомства.
Козырь на стол!
И вот молодой красавец Лев Термен плывет на океанском лайнере «Мажестик» в Америку. Мировая знаменитость скрипач Йожеф Сигетти, плывший на том же теплоходе, обзавидовался гонорарам, которые предлагали Термену крупнейшие коммерсанты Америки за честь первыми услышать терменвокс. Но первый концерт изобретатель дал для прессы, ученых и известных музыкантов. Успех был впечатляющий, и с разрешения советских властей Термен основал в Нью-Йорке фирму-студию Teletouch по производству терменвоксов.
Дела пошли блестяще. Концерты Термена прошли в Чикаго, Детройте, Филадельфии, Кливленде, Бостоне. Тысячи американцев с энтузиазмом принялись учиться игре на терменвоксе, и корпорации «Дженерал электрик» и RCA (Radio Corporation of America) купили лицензии на право его производства.
Грянувший на рубеже 30-х годов «великий кризис» разорил многих богатых людей. А вот Термена он не подкосил. Конечно, народу стало не до музыки, но у изобретательного русского был еще один козырь — охранная сигнализация. Teletouch Corporation быстренько переориентировалась на ее производство, и датчики объема Термена отрывали с руками. Их установили даже в жуткой тюрьме США Синг-Синг и в форте Нокс, где хранился американский золотой запас. Так что с бизнесом было все в порядке, а вот на музыкальном поприще наметился кризис.
Торт для скрипачки с терменвоксом
В восторженном хоре поклонников Термена стали раздаваться голоса недовольных: на концертах он безбожно фальшивит. Дело в том, что чисто играть на терменвоксе неимоверно трудно: у исполнителя нет никаких ориентиров (как, например, клавиши у рояля или струны у скрипки) и полагаться приходится исключительно на слух и мышечную память.
Исполнительского мастерства Термену явно не хватало. Здесь нужен был виртуоз. И тут судьба свела его с юной эмигранткой из России Кларой Рейзенберг. В детстве она слыла чудо-ребенком, скрипачкой с великим будущим. Но то ли переиграла руки, то ли из-за голодного детства со скрипкой ей пришлось расстаться: мышцы не выдерживали нагрузок. А вот терменвокс оказался по рукам, и Клара быстро научилась играть на нем. Не обошлось и без бурного романа, тем более что Термен к тому времени был свободен.
В первый раз Термен женился в 1921 году на прелестной Кате Константиновой, и до приезда в Америку их семейная жизнь была ровной и стабильной. Но в Нью-Йорке Катя смогла найти работу лишь в пригороде и приезжала домой раз в неделю. Через полгода такой «семейной» жизни к Термену пришел молодой человек и сообщил, что они с Катей любят друг друга. А тут еще стало известно, что визитер состоит в фашистской организации. И в советском посольстве потребовали, чтобы Термен со своей женой развелся. Что он и сделал. Поэтому ко времени встречи с Кларой Лев Сергеевич был открыт новой любви.
Ему 38 лет, ей — 18. Они были роскошной парой, любили бывать в кафе и ресторанах. Лев Сергеевич очень красиво ухаживал и любил удивлять подругу разными чудесами. Например, на день рождения он подарил ей торт, который вращался вокруг своей оси и был украшен свечой, загоравшейся при приближении к нему.
Красивому роману не суждено было завершиться свадьбой. Клара выбрала другого — Роберта Рокмора, адвоката и успешного импресарио, так что ее музыкальная карьера была обеспечена.
Почему плавают стены?
А Термен с головой погрузился в работу. Еще по приезде в Америку он снял в аренду на 99 лет шестиэтажный особняк на 54-й авеню. Помимо личных апартаментов в нем разместились мастерская и студия. Здесь частенько Лев Сергеевич музицировал с Альбертом Эйнштейном: физик — на скрипке, изобретатель — на терменвоксе. Эйнштейн был увлечен идеей соединить музыку и пространственные образы. А Термен придумал, как это сделать: изобрел светомузыкальный инструмент ритмикон. Огромные прозрачные колеса с нанесенным на них геометрическим рисунком вращались перед стробоскопической лампой. Как только музыкант изменял высоту звука, менялась частота вспышек стробоскопа и рисунки — зрелище получалось впечатляющее. Ну а фантастика начиналась, когда поднимались и опускались стены студии. Конечно, не по-настоящему, а с помощью игры света. Завороженные посетители ахали от удивления!
Слухи об этих экспериментах притягивали в студию многих известных людей. Среди гостей Термена были миллионеры Дюпон, Форд и Рокфеллер. Впрочем, и сам Термен к середине 30-х годов был включен в список двадцати пяти знаменитостей мира. И даже был членом клуба миллионеров.
Был ли он в самом деле миллионером? Доподлинно не известно. Одни говорят, что огромные деньги и Термену лично, и Советской России приносила Teletouch Corporation. А другие утверждают, что Термена финансировала военная разведка. Потому что истинной целью его командировки в Америку была шпионская деятельность.
Известный шпион
Каждые две недели Лев Сергеевич приходил в небольшое загородное кафе, где его ждали двое молодых людей. Они выслушивали его донесения и давали новые задания. Впрочем, эти задания были необременительными и не особо отвлекали Термена от работы. А он уже вовсю был увлечен самой фантастической из своих идей — инструментом, который рождал музыку из танца. По сути это разновидность терменвокса: звук создается не только руками, но и движениями всего тела, и название ему было дано соответствующее — терпситон — по имени богини танца Терпсихоры. При этом каждому звуку соответствовала лампа определенного цвета. Представляете, какое это было необычайное зрелище, потому что любое движение танцора отзывалось звуками и мерцанием разноцветных огней!
Для создания концертной программы Термен пригласил группу танцоров Афроамериканской балетной компании. Увы, добиться от них гармонии и точности не удалось, проект пришлось отложить. Но в этой труппе танцевала красавица-мулатка Лавиния Вильямс, которая покорила Льва Сергеевича не только как балерина, но и как женщина. Термен решил жениться.
Ему и в голову не могло прийти, что брак с темнокожей женщиной в корне изменит его жизнь. Но, как только влюбленные зарегистрировали свой брак, перед Терменом закрылись двери многих домов в Нью-Йорке: Америка тогда еще не знала политкорректности. Он потерял информаторов, что вызвало серьезное недовольство советской разведки. И в 1938 году Термену приказали немедленно отбыть в Россию. Лавинии было сказано, что она приедет к мужу следующим пароходом.
Больше супруги друг друга не видели. А Термен до конца дней хранил свидетельство о браке, выданное российским посольством в Америке.
Убийца Кирова
Через десять лет после отъезда из России Термен прибыл в Ленинград. И оказалось, что он никому не нужен: в Физико-техническом институте старых работников почти не осталось. Термен поехал искать работу в Москву, но 15 марта в гостиницу у Киевского вокзала за ним пришли с ордером на арест.
По его собственным словам, произошло это крайне буднично: к нему в гостиницу пришел «человек с толстым портфелем» и сказал, чтобы Термен не волновался — работа-де найдется. «И прямо сейчас нужно поехать и выяснить все это. Мы поехали куда-то на автомобиле — и приехали в Бутырскую тюрьму».
В камере Термен провел неделю. У него не было скверного впечатления. В свободное время он читал Лидию Чарскую. В несвободное — ходил на допросы. Ввиду отсутствия более серьезного (и более смертоносного) компромата Термена с группой арестованных ранее астрономов Пулковской обсерватории «прицепили» к заговору с целью убийства Кирова (убитого, кстати, в то время, когда Термен находился в Штатах). Версия была такая: Киров собирался посетить Пулковскую обсерваторию, астрономы заложили фугас в маятник Фуко (ну да, маятник Фуко был не в Пулковской обсерватории, а в Казанском соборе, — но кого волнуют такие мелочи?), а лично Термен радиосигналом из США должен был взорвать его, как только Киров подойдет к маятнику. За эту фантасмагорию, в сочинении неправдоподобных деталей которой сам обвиняемый принял живейшее участие, Льву Сергеевичу дали восемь лет и отправили на дорожное строительство в Сибирь.
Лагерный период продолжался где-то год. Как инженер, Термен возглавил бригаду из двадцати уголовников («политические ничего делать не хотели»). Изобретя «деревянный монорельс» (то есть предложив катать тачки не по грунту, а по деревянным желобам-направляющим), Термен зарекомендовал себя с лучшей стороны в глазах лагерного начальства: бригаде в три раза увеличили пайку, а самого Термена вскоре перевели в другое место — в Туполевскую авиационную «шарашку» в Москве, которая после начала войны переехала в Омск. Там Термен разрабатывал оборудование для радиоуправления беспилотными самолетами, радиолокационные системы, радиобуи для военно-морских операций.
Зимой 1940 года его перевели в Омск, в авиационную шарашку Туполева, где он всю войну разрабатывал оборудование для радиоуправления беспилотными самолетами и радиобуи для военно-морских операций. Но венцом его пребывания в шарашке стало изобретение подслушивающей системы «Буран».

Троянский конь от пионеров
…В День независимости, 4 июля 1945 года, американский посол в России Аверелл Гарриман получил в подарок от советских пионеров деревянное панно с изображением орла. Панно повесили в рабочем кабинете посла. А потом американские спецслужбы потеряли покой: началась загадочная утечка информации. Только 7 лет спустя обнаружили внутри подарка загадочный цилиндр с мембраной внутри. Полтора года бились инженеры над разгадкой этого фокуса. Секрет оказался прост: из дома напротив на окно кабинета направлялся невидимый луч, а мембрана, колебавшаяся в такт речи, отражала его назад, и он записывался на специальное устройство.
Потом Термен так усовершенствовал свой «Буран», что мембрана стала не нужна — ее роль выполняло оконное стекло. Поговаривают, что «Буран» до сих пор находится на вооружении наших секретных служб.
Советское правительство высоко оценило заслуги изобретателя — в 1947 году зеку (!) была присуждена Сталинская премия I степени. А после освобождения Термену выделили двухкомнатную квартиру на Ленинском проспекте. Подробнее об этой шпионской истории можете почитать тут
Стоит рассказать, кстати, и относительно курьезный случай. Воспользовавшись эвакуацией зарубежных дипломатов во время войны из Москвы в Куйбышев, НКВД не преминул нашпиговать московские посольства микрофонами — при всех достижениях миниатюризации, в то время подобные устройства в лучшем случае были размером с хоккейную шайбу.
Сюрприз ждал чекистов там, где они меньше всего могли его предвидеть — в посольстве Новой Зеландии. Дипломатами этой страны никто никогда особенно не интересовался, и, как оказалось, у контрразведчиков не существовало даже схемы «развода» сотрудников этого посольства. Начали что-то на ходу импровизировать, но, как ни старались, хотя бы один из дипломатов продолжал бдительно торчать в посольстве. Время идет, американские спецы обследовали свое посольство, перешли на остальные… Абакумов, тогдашний министр госбезопасности, был в ярости. Собрал всех и орет: «Да вы что! Баб им красивых найти не можете?! Они что, не люди?! Или они выпить не любят?». Все они любили, но строго по очереди.Некоторое время после возвращения посольств из Куйбышева повальная микрофонизация приносила неплохие результаты, но все хорошее рано или поздно кончается: стало известно, что из Америки едут специалисты, и, дабы избежать дипломатического скандала, посольства стали «чистить»: выманивали дипломатов, вытаскивали мешками микрофоны…
Решили посоветоваться с Терменом, нельзя ли придумать что-нибудь, чтобы американцы не нашли микрофоны. Он помозговал и порекомендовал направить на посольство мощное радиоизлучение: оно, мол, заглушит приборы американцев и не позволит найти «шайбы». Привезли его с аппаратурой, выбрали точки вокруг посольства, установили передатчики, антенны. Но пробный пуск этой системы окончился полным провалом. Термен был изобретателем, а не ученым, и все делал на глазок, без расчетов.
И вот… Во дворе посольства дворник в это время ломом колол лед. Когда все включили, он лом бросил, скинул шапку, начал креститься, вопить «Свят, свят, свят!», — и бросился в посольство. Лом у него, видите ли, полетел (по менее драматичной, но не менее впечатляющей версии — просто вырвался из рук и встал вертикально). Термен чуть улыбнулся и сказал: «Наверное, с мощностью переборщили».
Впрочем, скандал удалось замять. Во-первых, речь шла всего лишь о Новой Зеландии. Во-вторых, Термен тоже был, как говорится, не лыком шит, смел и на хорошем счету. По слухам, когда Берия хотел включить Термена в число участников атомного проекта и спросил изобретателя, что ему нужно для создания атомной бомбы, Термен ответил: «Персональную машину с водителем и полторы тонны алюминиевого уголка». Берия засмеялся и оставил его в покое.
Казалось, кончилось глупое и злое недоразумение и теперь изобретателя осыплют почестями. Но никаких официальных званий Термен не получил, все его патенты были прикрыты грифом «сов. секретно». И Лев Сергеевич продолжил работу в секретных лабораториях КГБ. Вскоре он там же нашел себе новую жену — молодую машинистку Машу Гущину, которая родила ему дочек-близняшек.
Почти двадцать лет Термен занимался специфическими разработками для всемогущего ведомства. Поначалу это были перспективные работы — системы распознавания речи, идентификации голоса, военная гидроакустика. Но со временем приоритеты изменились. Как вспоминал Термен, «якобы на Западе придумали устройства для определения, где находятся летающие тарелки, и нам тоже надо было биться над подобными устройствами. Я понимал, что это жульничество, а отказаться нельзя — и однажды решил, что лучше уйти на пенсию».
Работодатели не возражали, посчитав, что со старика уже ничего не возьмешь, и в 1964 году Термен таки расстался со спецслужбами, под незримым оком которых находился без малого 40 лет.
Термен — не мрет!
70 лет. Казалось, жизнь закончена. Но Лев Сергеевич, верный своему девизу «Термен — не мрет!» (так читается его фамилия наоборот), устраивается в акустическую лабораторию Московской государственной консерватории. Ничто не нарушало размеренной жизни старика до тех пор, пока в 1968 году корреспондент «Нью-Йорк Таймс», готовивший репортаж о Московской консерватории, не узнал, что великий Термен жив.
Это сенсационное известие в Америке восприняли как воскрешение из мертвых: во всех американских энциклопедиях было указано, что Термен умер в 1938 году. На имя Льва Сергеевича хлынул поток писем от его заокеанских друзей, с ним пытались встретиться репортеры из различных газет и телекомпаний. Консерваторское начальство, испугавшись такого интереса к скромной персоне механика, попросту его уволило. А всю аппаратуру выкинули на помойку.
Последние двадцать пять лет Термен работал в лаборатории акустики МГУ. Механиком 6 разряда. Он потихоньку занимался своими терменвоксами — какие-то восстанавливал, какие-то усовершенствовал, даже придумал такой, в котором звук через систему фотоэлементов возникал от одного лишь взгляда музыканта.
Еще Лев Сергеевич зачастил в музей Скрябина, где принимал участие в создании музыкального синтезатора. Наступило долгожданное время — эпоха электронных инструментов. Термен словно из воздуха ловил идеи, которые иной раз казались утопическими. А позже выяснилось, что над этими идеями независимо от него работала японская фирма «Ямаха».
Ну а на терменвоксе Лев Сергеевич научил играть свою племянницу Лиду Кавину. К двадцати годам она стала виртуозным исполнителем и с концертами объехала всю Европу. В 1989-м году и Термена пригласили на Фестиваль экспериментальной музыки во Францию. И он, 93-летний, поехал!
Но больше всего на закате своей жизни Термен удивил окружающих своим вступлением в КПСС: «Я обещал Ленину». Лев Сергеевич и раньше пытался, но за «страшные преступления» в партию его не принимали. Так что коммунистом Термен стал только в 1991 году, одновременно с падением СССР.
Лебединая песня
…В 1951 году будущий американский режиссер Стив Мартин увидел фильм «День, когда остановилась земля». Но потрясли его не инопланетяне, а неземное звучание терменвокса, сопровождавшее действие. Несколько лет он общался со своим братом звуками, похожими на те, что рождает терменвокс. А спустя много лет, в 1980 году, Стив Мартин искал музыку для своего фильма. И поиски привели его к Кларе Рокмор, которая рассказала режиссеру о легендарном изобретателе. Тогда-то и возникла у Мартина мысль создать о Термене документальный фильм. Но прошло 11 лет, прежде чем он смог приехать в Москву, познакомиться с Терменом и пригласить его в Америку. Престарелый маэстро растерянно ходил по улицам Нью-Йорка и с трудом узнавал места, где прошли десять лет его жизни. Самой волнительной стала встреча с Кларой Рокмор. Клара долго не соглашалась на нее — годы, мол, не красят женщину.
— Ай, Кларенок, ну какой наш возраст! — сказал 95-летний Термен.
После Америки он съездил еще в Нидерланды на фестиваль «Шенберг — Кандинский», а, вернувшись в Москву, застал в своей комнате в коммуналке полный разгром — поломанную мебель, разбитую аппаратуру, растоптанные записи. Видимо, кому-то из соседей сильно понадобилась его комната. Дочь забрала Льва Сергеевича к себе. Но жизненные силы его иссякли, и через несколько месяцев, 3 ноября 1993 года, Термен умер.
Фильм Стива Мартина «Электронная одиссея Льва Термена» вышел на экраны уже после смерти героя. Но его терменвоксы живут и поныне. Среди многочисленных компаний, производящих их, — компания Moog Mugic, которой владеет изобретатель первого синтезатора Роберт Муг. Когда-то он сказал про Термена: «Это просто гений, который способен на все!»
Не удалось ему только одно — стать национальной гордостью России…
Терменвокс звучит в:
1. альбоме «Территория» группы «Аквариум»
2. композиции «Хорошие вибрации», поп-группы «Бич Бойз»
3. фильме Хичкока Spellbound («Зачарованные»)
4. фильме Билла Уайдера «Потерянный уик-энд»
5. диснеевском фильме «Алиса в стране чудес»
6. на диске Лед Зеппелин «Любовь Лотты»
Вот тут вы можете почитать версию родственников о жизни этого замечательного человека
[источники]
По материалам:
http://www.peoples.ru/technics/designer/termen/
http://www.mobi.ru/Articles/1305/Termen_ne_mret.htm
https://masterok.livejournal.com/1348669.html
|
Метки: термен |
Из Парижа-в Троицк. На Южном Урале жила дворянка, которой писал Иван Шмелев |
Из Парижа-в Троицк. На Южном Урале жила дворянка, которой писал Иван Шмелев
В Троицке много лет преподавала Мария Фёдоровна Тулубьева (в девичестве Карпова) – правнучка известного всей России и Европе потомственного почётного гражданина Москвы, крупнейшего предпринимателя и мецената Саввы Морозова.
Мария Федоровна - в самом центре © / Фото из личного архива Анатолия Столярова / АиФ
А еще Мария Федоровна – потомок князей Фоминских и мать князя Григория Григорьевича Гагарина, ныне Предводителя Российского Дворянского Собрания.
Грипп по телефону
Седая, изящная, она появилась в Троицке где-то в середине 50-х прошлого века. В те годы и наша семья переехала жить в этот город. Уж так вышло, что Мария Фёдоровна и моя мама, Ираида Ивановна Столярова, случайно познакомились, а потом их знакомство переросло в крепкую сердечную дружбу наших семей до самой смерти мамы и Марии Фёдоровны.
Разбирая архивы, я нашёл некоторые свои записи рассказов Марии Фёдоровны. Вот они. «В самом начале XX века мы жили в Москве. Помню некоторые адреса столичных домов: «Напротив магазина Андреева», «Дом Шустова, что рядом с кладбищем», «Напротив дома генерал-губернатора», «Около цирюльни Кацмана». Такие вот были нехитрые адреса.
Ещё помню, как нам одним из первых в Москве установили квартирный телефон. Его номер – № 3, бесхитростный был вызов. В то время в Москве шёл повальный грипп, и мама, подняв трубку и услышав в ней простуженный голос, немедленно клала трубку обратно. Она боялась заразиться гриппом по телефону».
Берет Кутепова
«После революции мы оказались в Париже. Русские жили в нём тесно и дружно, а в нашем доме частыми гостями были Бунин, Шмелёв, генерал Кутепов, они все чего-то спорили о будущем России. Каждое утро Кутепов шёл на работу, и каждое утро, помню, повторялась эта картина.
– Александр Павлович, остановитесь! – кричала с акцентом его жена-эстонка (мне кажется, пронзительный голос Лидии Давыдовны слышал тогда весь русский район). – Кошелёк? – генерал шарил по карманам, находил кошелёк и кивал головой. – Очки? – опять кивок. – Ключи? – кивок. – Гребешок? – кивок. – А берет забыли, генерал!
Сконфуженный боевой белый генерал возвращался к крыльцу, надевал берет, а жена крестила его вослед.
Иван Сергеевич Шмелев рассказывал, что имя генерала от инфантерии Кутепова, героя Русско-японской войны и Первой мировой, стало нарицательным у русского офицерства как пример верности долгу и служения Родине. Он был не раз награждён высшими орденами России, ему вручили золотое Георгиевское оружие с бриллиантами «за выдающиеся воинские подвиги, требующие несомненного самопожертвования». Так они говорили.
В 1930-м Кутепов неожиданно исчез. Пошёл в церковь и средь бела дня пропал. Министр внутренних дел Франции во всеуслышание клятвенно заявил, что обязательно найдёт генерала и сурово накажет похитителей, а если такого не случится, немедленно подаст в отставку. Кутепова искали, но не нашли, он пропал бесследно, видно добротно сработали советские чекисты из органов НКВД. А бессовестный министр в отставку так и не подал».
Когда не будет Сталина
Мария Федоровна вышла замуж за русского дворянина Григория Тулубьева и поменяла девичью фамилию. Кто он? Дворянин, из потомственных военных, юнкером воевал в белой гвардии, был ранен, увезён в Сербию, блестяще окончил Чешский технический университет в Праге.
Фрагмент письма Ивана Шмелева Фото из личного архива Анатолия Столярова
Непоседлив был дворянин Тулубьев, его семья жила во многих столицах мира, а Мария Фёдоровна владела в совершенстве французским, английским, немецким, хорошо знала итальянский, испанский, могла переводить с чешского, болгарского, польского, других языков. Они ждали, когда не станет Сталина, чтобы вернуться на Родину.
Это время настало, и в 1957 году КГБ СССР назначил местом их жительства город Троицк на Южном Урале. Здесь они и работали: Григорий Тулубьев – инженер на электромеханическом заводе, молчаливый, сухощавый и стройный, на всю жизнь сохранивший врождённое благородство, и Мария Фёдоровна – неунывающая, душа любой компании, педагог Троицкого педучилища.
Повторюсь, мама и Мария Фёдоровна стали подругами не разлей вода. О чём они так долго и хорошо говорили? Мама, крестьянка с четырьмя классами образования, и выпускница Парижского университета?
Как-то Мария Федоровна сказала:
– Знаете, Анатолий, ваша мама – редкая умница! У неё великолепный, отстоянный русский язык, первородные русские слова, все, как одно, из словаря Даля!
Мама ответила скромнее:
– Она – хорошая женщина, и мне с ней всегда хорошо.
Конечно же, не только это связывало их. Сколько помню, сердечность и чистота душ обеих были тому причиной.
Последние годы они также дружно и любя доживали в Челябинске. Умерли – вначале мама, потом Мария Фёдоровна. Обе похоронены на кладбище, что у цинкового завода.
Русская Песталоцци
У меня хранится ксерокопия письма замечательного русского писателя Ивана Шмелёва из Франции к Марии Фёдоровне. Вот оно:
2 мая 1931 г.
М. Ф. Карповой, Англия
Милая Мария – позвольте так, по-старому, называть Вас. Оказывается, Вы – в Англии, и я так и не успел поблагодарить Вас за Ваши занятия с нашим Иваном. Так вот, хоть с запозданием и я, и жена, – оба благодарим Вас сердечно.
Фрагмент письма Ивана Щмелёва Фото: АиФ / из личного архива Анатолия Столярова
Благодаря Вашей педагогической мудрости, глубокому пониманию того, как можно заинтересовать наукой ребёнка (правда, ему уже 11 лет, но он душой ребёнок), благодаря Вашему такту, ровности, чуткости и, скажу прямо, талантливости преподавателя, Иван сделал бесспорные успехи. Молодец Вы!
Предсказываю Вам: если посвятите себя педагогической деятельности, – о, трудной, знаю я! – будете знамениты, вроде как бы Песталоцци. ** И дай Вам Бог, будьте здоровы. Покажете себя молодцом и в Англии!
Письмо Вам перешлёт почта – адреса Вашего не знаю.
Ваш Ив. Шмелёв
И еще о Марии Фёдоровне. Она приняла близко к сердцу горячее желание моего старшего сына Василия изучать языки и подготовила его к поступлению в вуз так, что приёмная комиссия была просто ошеломлена его знаниями. После четвёртого курса он принял участие в конкурсе вузов страны на лучшее знание английского языка (был такой конкурс в то время) и занял второе место в Российской Федерации. Потом блестяще окончил университет.
Низкий поклон Вам, Мария Фёдоровна Тулубьева, русская Песталоцци, как назвал Вас великий русский писатель Иван Шмелев. О Вас всегда говорят с любовью ученики, мы всегда помним Вас, пусть земля Вам будет пухом.
Справка
После нападения гитлеровской Германии на СССР Григорий Эрастович участвовал в Сопротивлении, после освобождения Франции был активным членом Союза Русских патриотов (затем – Советских патриотов, позднее – Советских граждан). Дважды арестовывался французскими властями, в 1949 г. выслан в советскую зону оккупации Германии, куда вскоре прибыла и Мария Федоровна Тулубьева с сыновьями Григорием от первого брака (Гагарин (Тулубьев) Григорий Григорьевич, род.во Франции в 1945 г., живет в Челябинске) и Андреем (Тулубьев Андрей Григорьевич, род. во Франции в 1948 г., живет в Ижевске). В ГДР семья жила до 1955 года, откуда выехала в СССР, где была определена на жительство в Троицк Челябинской области. Григорий Эрастович работал на Электромеханическом заводе инженером, занимался садом и охотой. Умер от инфаркта в 1960 г.
|
Метки: гагарины столяровы тулубьевы фоминские |
Вяземская Мария Сергеевна |
Вяземская Мария Сергеевна
| ФИО: | Вяземская (урожд. Долгорукова) Мария Сергеевна (ж.) |
| Годы жизни: | 28.III.1719 [1].-24.V.1786 (похоронена в соборной церкви св. Николая Чудотворца в Николо-Пешношском монастыре) [1].
|
| Мать: | Шафирова Марфа Петровна(?-1762)[2]. |
| Отец: | Долгоруков Сергей Григорьевич (?-1739)[2];
по другим источникам: Долгоруков Сергей Петрович[3]. |
| Сословная принадлежность: | княгиня
|
| Благоприобретенные имения (где, кол-во душ и т.д.): | Тверская губ., Кашинский у.:
|
| Супруг/а/и: | Вяземский Иван Андреевич [4]. |
| Дети: | Вяземский Андрей Иванович[4].
|
| Прочие родственники: | Братья: Долгоруков Николай Сергеевич 3-й, Долгоруков Петр Сергеевич, Долгоруков Григорий Сергеевич[2];
сестры Долгорукова Екатерина Сергеевна, Долгорукова Анна Сергеевна[2]. |
| Фрагменты текстов, цитаты: | Письма писала "старинной скорописью, а подписано собственноручно полууставом с титлами XVII столетия" [4].
|
Примечания
- ↑ 1,0 1,1 1,2 /Вяземский П. П./ Предисловие // Архив кн. Вяземского. Князь Андрей Иванович Вяземский. Издание гр. С. Д. Шереметева. М., 1881. С. XXI. Электронный ресурс: http://yakovkrotov.info/Opis_A/00001/01405_Vyazemskogo_1881.pdf.
- ↑ 2,0 2,1 2,2 2,3 /Вяземский П. П./ Предисловие // Архив кн. Вяземского. Князь Андрей Иванович Вяземский. Издание гр. С. Д. Шереметева. М., 1881. С. XV. Электронный ресурс: http://yakovkrotov.info/Opis_A/00001/01405_Vyazemskogo_1881.pdf.
- ↑ Российская родословная книга. Изд. П. Долгорукова. Ч. 1. СПб., 1854. С. 96.
- ↑ 4,0 4,1 4,2 /Вяземский П. П./ Предисловие // Архив кн. Вяземского. Князь Андрей Иванович Вяземский. Издание гр. С. Д. Шереметева. М., 1881. С. XV. Электронный ресурс: http://yakovkrotov.info/Opis_A/00001/01405_Vyazemskogo_1881.pdf.
|
Метки: долгоруковы вяземские |
Термен, Лев Сергеевич |
Термен, Лев Сергеевич
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Термен.
| Лев Сергеевич Термен | |
|---|---|
 Лев Термен играет на терменвоксе |
|
| Дата рождения | 27 августа 1896[1][2] |
| Место рождения | |
| Дата смерти | 3 ноября 1993[1][3][2] (97 лет) |
| Место смерти | |
| Гражданство |  СССР→ СССР→ Россия Россия |
| Подданство |  Российская империя Российская империя |
| Род деятельности | изобретатель, инженер, физик, учёный |
| Супруга | Lavinia Williams[d] |
 Лев Сергеевич Термен на Викискладе Лев Сергеевич Термен на Викискладе |
|
Лев Серге́евич Терме́н (1896—1993) — советский изобретатель, создатель семейства музыкальных инструментов, самый известный из которых — терменвокс (1920)[4][5].
Содержание
- 1 Биография
- 2 Адреса в Санкт-Петербурге — Петрограде — Ленинграде
- 3 Наследие
- 4 Семья
- 5 Интересные факты
- 6 См. также
- 7 Примечания
- 8 Литература
- 9 Ссылки
Биография[править | править код]
Лев Термен родился 15 (28) августа 1896 года[6] в Санкт-Петербурге в дворянской православной семье с французскими гугенотскими корнями (по-французски родовая фамилия писалась как Theremin). Отец — известный юрист Сергей Эмильевич Термен, мать — Евгения Антоновна. Лев был первенцем в семье. Родители способствовали развитию способностей Льва: он брал уроки игры на виолончели, в квартире была оборудована физическая лаборатория, а затем и домашняя обсерватория. Льва отдали учиться в Петербургскую первую мужскую гимназию[7]. Уже в третьем классе Лев заинтересовался физикой, а в четвёртом он демонстрировал «резонанс типа Тесла». Гимназию Лев окончил с серебряной медалью в 1914 г.[8]
Начало карьеры[править | править код]
В 1916 году окончил Петербургскую консерваторию по классу виолончели. Параллельно обучался на физико-математическом факультете Петроградского университета, где, в том числе, был слушателем лекций по физике приват-доцента А. Ф. Иоффе[9][10].
Со второго курса университета, в 1916 году, его призвали в армию и направили на ускоренную подготовку в Николаевское инженерное училище, а затем на офицерские электротехнические курсы. Революция застала его младшим офицером запасного электротехнического батальона, обслуживавшего самую мощную в империи Царскосельскую радиостанцию под Петроградом.
После Октябрьской революции 1917 года он продолжил работу на той же радиостанции, позже был направлен в военную радиолабораторию в городе Москве.
Расцвет карьеры[править | править код]
В 1919 году Лев Термен стал заведующим лабораторией Физико-технического института в Петрограде. Его, как специалиста по радиотехнике, пригласил на работу к себе в институт А. Ф. Иоффе. Новому сотруднику была поставлена задача измерения диэлектрической постоянной газов при различных давлениях и температурах[9][10]. Первый вариант измерительной установки Термена представлял собой генератор электрических колебаний на катодной лампе. Испытуемый газ в полости между металлическими пластинами был элементом колебательного контура — конденсатором, который влиял на частоту электрических колебаний. В процессе работы над повышением чувствительности установки возникла идея объединения двух генераторов, один из которых давал колебания определённой неизменной частоты. Сигналы от обоих генераторов подавались на катодное реле, на выходе которого формировался сигнал с разностной частотой. Относительное изменение разностной частоты от параметров испытуемого газа было намного больше. При этом, если разностная частота попадала в звуковой диапазон, то сигнал можно было принимать на слух.
В 1920 году на основе экспериментальной измерительной установки Лев Термен изобрёл электромузыкальный инструмент «Терменвокс», сделавший его впоследствии широко известным.
В марте 1922 была устроена демонстрация изобретений Термена в Кремле, на которой присутствовал Владимир Ленин. Термен представил устройство охранной сигнализации, терменвокс, объяснял принцип его работы, а Ленин пытался исполнить на терменвоксе «Жаворонка» Глинки[11][9][10].
Будучи весьма разносторонним человеком, Термен изобрёл множество различных автоматических систем (автоматические двери, автоматы освещения и т. д.) и систем охранной сигнализации. Параллельно, с 1923 года, сотрудничал с Государственным институтом музыкальной науки в Москве. В 1925—1926 годах изобрёл одну из первых телевизионных систем — «Дальновидение».
В 1927 году Термен получил приглашение на международную музыкальную выставку во Франкфурте-на-Майне. Доклад Термена и демонстрация его изобретений пользовались огромным успехом и принесли ему всемирную известность.
Успех его концерта на музыкальной выставке таков, что Термена засыпают приглашениями. Дрезден, Нюрнберг, Гамбург, Берлин провожают его овациями и цветами. Восторженны отзывы слушателей «музыки воздуха», «музыки эфирных волн», «музыки сфер». Музыканты отмечают, что идея виртуоза не скована инертным материалом, «виртуоз затрагивает пространства». Непонятность, откуда идёт звук, потрясает. Кто-то называет терменвокс «небесным» инструментом, кто-то «сферофоном». Поражает тембр, одновременно напоминающий и струнные, и духовые инструменты, и даже какой-то особенный человеческий голос, словно «выросший из далёких времён и пространств»[9].
Американский период[править | править код]
В 1928 году Термен, оставаясь советским гражданином, переехал в США. По приезде в США он запатентовал терменвокс и свою систему охранной сигнализации. Также он продал лицензию на право серийного выпуска упрощённой версии терменвокса компании RCA (Radio Corporation of America).
Лев Термен организовал компании Teletouch и Theremin Studio и арендовал в Нью-Йорке на 99 лет шестиэтажное здание для музыкально-танцевальной студии. Это дало возможность создать в США торговые представительства СССР, под «крышей» которых могли работать советские разведчики.
В 1931—1938 годах Термен был директором Teletouch Inc. Тогда же он разработал системы сигнализаций для тюрем Синг-Синг и Алькатрас.
Вскоре Лев Термен стал очень популярным в Нью-Йорке человеком. В его студии бывали Джордж Гершвин, Морис Равель, Яша Хейфец, Иегуди Менухин, Чарли Чаплин, Альберт Эйнштейн. В круг его знакомых входили финансовый магнат Джон Рокфеллер, будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр[12].
Лев Сергеевич развёлся со своей женой Екатериной Константиновой и женился на Лавинии Вильямс, танцовщице первого американского негритянского балета.
Репрессии, работа на органы государственной безопасности[править | править код]
В 1938 году Термена отозвали в Москву. Он тайно уехал из США, оформив на имя владельца фирмы Teletouch Боба Зинмана доверенность распоряжаться его имуществом и управлять патентными и финансовыми делами. Термен хотел взять с собой в СССР и жену Лавинию, но ему сказали, что она приедет позже. Когда за ним пришли, Лавиния случайно оказалась дома, и у неё создалось впечатление, что мужа увели насильно.
В Ленинграде Термен безуспешно пытался устроиться на работу, потом переехал в Москву, но работу там также не нашёл.
В марте 1939 года его арестовали. Есть две версии того, какое обвинение ему было предъявлено. Согласно одной из них, он обвинялся в причастности к фашистской организации, согласно другой — в подготовке убийства Кирова[12]. Его вынудили оговорить себя, что группа астрономов из Пулковской обсерватории готовилась поместить фугас в маятник Фуко, а Термен должен был послать из США радиосигнал и взорвать фугас, как только к маятнику подойдёт Киров. Особое Совещание при НКВД СССР приговорило Термена к восьми годам лагерей, и его отправили в лагерь на Колыму[13].
Первое время Термен отбывал срок в Магадане, работая бригадиром строительной бригады. Многочисленные рационализаторские предложения Термена привлекли к нему внимание администрации лагеря, и уже в 1940 году он был переведён в туполевское конструкторское бюро ЦКБ-29 (в так называемую «туполевскую шарагу»), где проработал около восьми лет. Здесь его ассистентом был Сергей Павлович Королёв, впоследствии — знаменитый конструктор космической техники[12]. Одним из направлений деятельности Термена и Королёва была разработка беспилотных летательных аппаратов, управляемых по радио — прообразов современных крылатых ракет.
Советский эндовибратор внутри копии Большой печати США, Национальный музей криптографии при Агентстве национальной безопасности США
Одна из разработок Термена — подслушивающая система «Буран», считывающая с помощью отражённого инфракрасного луча вибрации стекла в окнах прослушиваемого помещения. Именно это изобретение Термена было отмечено Сталинской премией первой степени в 1947 году. Но из-за того что лауреат на момент представления к премии был заключённым и закрытого характера его работ, о награждении нигде публично не сообщалось.[источник не указан 546 дней]
Другая разработка — эндовибратор «Златоуст», подслушивающее устройство без элементов питания и электроники на основе высокочастотного резонанса, проработавшее в кабинете американских послов незамеченным в течение семи лет[14]. Подслушивающее устройство было вмонтировано в деревянное панно, изготовленное из ценных пород дерева, и изображающее Большую печать США. Панно было подарено в 1945 году приглашённому на празднование 20-летия пионерского лагеря «Артек» послу США Авереллу Гарриману, который повесил его в своём кабинете. Конструкция подслушивающего устройства оказалась настолько удачной, что при обследовании подарка американские спецслужбы ничего не заметили. «Жучок» был обнаружен в 1952 году, а после был представлен в ООН в качестве доказательства разведывательной деятельности СССР, однако принцип его действия ещё несколько лет оставался неразгаданным[14][15].
В 1947 году Термен был реабилитирован, но продолжил работу в закрытых конструкторских бюро в системе НКВД СССР, где занимался, в частности, разработкой подслушивающих систем.
В 1948 году у него и его жены Марии Гущиной рождаются две дочери — Наталья Термен и Елена Термен.
Дальнейшие годы[править | править код]
В 1964—1967 гг. Термен работал в лаборатории Московской консерватории, посвятив все силы разработке новых электромузыкальных инструментов, а также восстановлению всего того, что успел изобрести в 1930-е годы. По некоторым данным, в этот период Термен работал «на общественных началах», безвозмездно.
В 1967 году оказавшийся в консерватории музыкальный критик Гарольд Шонберг узнал во встреченном там человеке Льва Термена. Новость напечатали в газете The New York Times[16], и публикация «буржуазной прессы» вызвала негодование в СССР. Студию Термена закрыли, «все его инструменты изрубили топором и выбросили»[17], из консерватории он был уволен (по другим сведениям — вышел на пенсию)[18].
Не без труда Термен устроился на работу в лабораторию при Физическом факультете МГУ. В главном здании МГУ он проводил семинары для желающих послушать о его работах, изучить терменвокс; на семинары ходили всего несколько человек. Формально Термен числился на должности механика физического факультета МГУ[19], но фактически продолжал самостоятельные научные исследования. Активная научная деятельность Л. С. Термена продолжалась практически до самой его смерти.
В 1989 году состоялась поездка (вместе с дочерью Натальей) на фестиваль в городе Бурж (Франция)[20].
В 1991 году вместе с дочерью Натальей и внучкой Ольгой он посетил США по приглашению Стэнфордского университета и там, помимо прочего, встретился с Кларой Рокмор.
В марте 1991 года в возрасте 95 лет вступил в КПСС. На вопрос, зачем он вступает в разваливающуюся партию, Термен отвечал: «Я обещал Ленину».
В 1992 году неизвестные разгромили комнату-лабораторию на Ломоносовском проспекте (комната была выделена[19] московскими властями по ходатайству В. С. Гризодубовой), были разбиты все его инструменты, выкрадена часть архивов. Милиция преступление не раскрыла.
В 1992 году в Москве был создан «Термен-центр», ставящий главной своей задачей поддержку музыкантов и звуковых художников, работающих в области экспериментальной электроакустической музыки[21]. Лев Термен не имел никакого отношения к созданию центра, названного его именем[22].
Умер 3 ноября 1993 года. Как писали позднее газеты: «В девяносто семь лет Лев Термен ушёл к тем, кто составлял лицо эпохи — но за гробом, кроме дочерей с семьями и нескольких мужчин, несущих гроб, никого не было…».
Похоронен на Кунцевском кладбище в Москве.
Адреса в Санкт-Петербурге — Петрограде — Ленинграде[править | править код]
- В адресных книгах местом проживания отца, Сергея Эмильевича Термена, указывался адрес «ул. Марата, 50»;[23]
- У Льва Термена в адресных книгах с 1925 по 1931 года указывался адрес «ул. Петра Лаврова, 32».[24]
Наследие[править | править код]
Дочь Льва Термена, Наталья и правнук Пётр являются исполнителями и популяризаторами терменвокса, наследия Льва Термена.
Поклонником Термена является пионер электронной музыки Жан-Мишель Жарр. Жарр играет на терменвоксе на живых выступлениях, использует инструмент в композициях студийных альбомов. Фрагменты интервью Льва Термена использованы в совместной композиции «Switch on Leon» Жарра и The Orb из альбома «Electronica 2: The Heart of Noise».
В 1989 году в Москве состоялась встреча двух родоначальников электронной музыки — Льва Сергеевича Термена и английского музыканта Брайана Ино. Последний тогда же включил в свой альбом «Music For Films 3» композицию для терменвокса, записанную российскими музыкантами Михаилом Малиным и Лидией Кавиной.
В 2006 году пермский театр «У Моста» поставил спектакль «Термен» по пьесе чешского драматурга Петра Зеленки. Спектакль затрагивает самый интересный и драматичный период жизни Термена — работу в США.
Семья[править | править код]
Екатерина Константинова — жена в первом браке (детей не было);
Лавиния Уильямс — жена во втором браке (детей не было);
Мария Гущина — жена в третьем браке;
Елена Термен — дочь;
Наталья Термен — дочь;
Ольга Термен — внучка;
Мария Термен — внучка;
Пётр Термен — правнук.
Интересные факты[править | править код]
- Принципы работы, положенные в основу терменвокса, использовались Терменом и при создании охранной системы, реагирующей на приближение человека к охраняемому объекту. Такой системой был оборудован Кремль и Эрмитаж, а позднее и зарубежные музеи.
- В 1991 году, в возрасте 95 лет, за несколько месяцев до распада СССР, Лев Термен вступил в КПСС. Своё решение он объяснял тем, что когда-то дал обещание Ленину вступить в партию, и что он хочет поторопиться выполнить обещание, пока она ещё существует. Для вступления в КПСС Лев Сергеевич в свои 90 лет пришёл в партком МГУ, где ему сказали, что для вступления в партию необходимо отучиться на кафедре марксизма-ленинизма в течение года, что он и сделал, сдав все экзамены.
- До самой смерти Лев Термен был полон энергии и даже шутил, что он бессмертен. В доказательство он предлагал прочитать свою фамилию наоборот: «Термен — не мрёт».
См. также[править | править код]
Примечания[править | править код]
- ↑ 1 2 идентификатор BNF: платформа открытых данных — 2011.
- ↑ 1 2 SNAC — 2010.
- ↑ Encyclopædia Britannica
- ↑ Термен Лев Сергеевич // Симон — Хейлер. — М. : Советская энциклопедия : Советский композитор, 1981. — (Энциклопедии. Словари. Справочники : Музыкальная энциклопедия : [в 6 т.] / гл. ред. Ю. В. Келдыш ; 1973—1982, т. 5).
- ↑ Термен Лев Сергеевич // Музыкальный энциклопедический словарь / гл. ред. Г. В. Келдыш. — М.: Сов. энциклопедия, 1990. — 672 с. — 150 000 экз. — ISBN 5-85270-033-9.
- ↑ Дата рождения Льва Термена - 15 августа по юлианскому календарю была пересчитана согласно Декрету о введении в Российской республике западноевропейского календаря, при этом не было учтено, что в 19 веке разница между календарями была 12 дней, а не 13. Тем не менее, именно 28 августа стало официальным днем рождения Льва Термена.[источник не указан 551 день]
- ↑ Жирнов Е. Красный Терменатор. КоммерсантЪ. Власть. (26.02.2002).
- ↑ Дрозд-Королева О., Королев А. Термен не мрет. mobimag.ru (01.02.2007).
- ↑ 1 2 3 4 Кокин Л. М. Из физтеха в Гранд-опера // Юность академиков: Документальная повесть.— 2-е изд., доп. — М.: Сов. Россия, 1981. — С. 89—102.
- ↑ 1 2 3 Кокин Л. М. История о том, как из электроизмерительного прибора родилась электромузыка // Наука и жизнь : журнал. — 1967. — № 12. — С. 130—138.
- ↑ Рейнов, Н. М. Физики-учителя и друзья / Н. М. Рейнов. Л.: Лениздат, 1975. — 255 с., [13] л. фотографий. стр. 227
- ↑ 1 2 3 Тот самый Лев Термен. Люди. «Econet» (14 ноября 2014). Проверено 15 декабря 2014.
- ↑ Лев Термен — изобретатель электронной музыки, советский разведчик, политзаключённый и лауреат Сталинской премии
- ↑ 1 2 Операция «Мягкое кресло». История. Meduza (14 февраля 2016). Проверено 16 февраля 2016.
- ↑ Exhibit Information. Cold War: Great Seal (англ.). National Cryptologic Museum.
- ↑ Harold C. Schonberg. "Music: Leon Theremin; Inventor of Instrument Bearing His Name Is Interviewed in the Soviet Union" (non-free access). The New York Times. p. 40.. The New York Times (April 26, 1967).
- ↑ Календарь дат и событий. 28 августа | Общество | Аргументы и Факты.
- ↑ Паулина Вильк (Paulina Wilk). Лев Термен и его музыкальные открытия. "Polityka", Польша (17/12/2013).
- ↑ 1 2 Петровский А.&nbs
|
Метки: термен |
Мария Сергеевна Столярова |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Метки: столяровы |
Волжин Александр Николаевич |
Уникальное обозначение: Волжин Александр Николаевич ( 8 мая 1862 )
Обозначение: Волжин Александр Николаевич
Сущность ⇔ персона
Описание:
| Александр Николаевич Волжин | |||
 |
|||
|
|||
|---|---|---|---|
| 1 сентября 1913—7 июля 1914 | |||
| Предшественник: | должность учреждена | ||
| Преемник: | Борис Дмитриевич Кашкаров | ||
|
|||
| 7 июля 1914—30 сентября 1915 | |||
|
|||
| 30 сентября 1915—7 августа 1916 | |||
| Предшественник: | Александр Дмитриевич Самарин | ||
| Преемник: | Николай Павлович Раев | ||
|
|||
| 7 августа 1916—1 мая 1917 | |||
| Рождение: | 8 мая 1862 с. Берёза, Дмитриевский уезд, Курская губерния |
||
| Смерть: | 2 января 1933 (70 лет) Ницца, Франция |
||
| Род: | Волжины | ||
| Образование: | Катковский лицей | ||
| Награды: |
|
||
Алекса́ндр Никола́евич Волжин (8 мая 1860 — 2 января 1933, Ницца)— русский государственный деятель, первый Холмский губернатор, обер-прокурор Святейшего синода, член Государственного Совета по назначению.
Биография
Православный. Из старинного дворянского рода Курской губернии. Землевладелец Курской (1160 десятин) и Подольской (имение жены в 2300 десятин) губерний. Сын Дмитриевского уездного предводителя дворянства отставного штабс-ротмистра Николая Николаевича Волжина (1821—1872/1887).
Окончил гимназический курс (с отличием) и университетское отделение в лицее цесаревича Николая, затем выдержал экзамен из предметов, читанных на юридическом факультете. По отбытии воинской повинности отправился за границу для ознакомления с сельско-хозяйственным делом в Венгрии и Баварии. Вернувшись в Россию, занялся сельским хозяйством в своем курском имении. 24 ноября 1889 года был назначен Ольгопольским уездным предводителем дворянства, а в 1897 году — Подольским губернским предводителем дворянства.
Чины: камергер (1902), действительный статский советник (1910), в должности гофмейстера (1914).
С февраля 1904 года— Седлецкий губернатор. Состоял действительным членом Киевского клуба русских националистов[1], а также почетным членом Холмского Свято-Богородицкого братства и Российского Общества Красного Креста.
С 1 сентября 1913 года— первый губернатор вновь учреждённой Холмской губернии. С 7 июля 1914— директор департамента общих дел МВД. 30 сентября 1915 года был назначен исполняющим должность обер-прокурора Святейшего Синода, 1 января 1916 года утверждён в должности. В 1915 году состоялись перевод Петроградского митрополита Владимира (Богоявленского) в Киев и назначение на Петроградскую кафедру митрополита Питирима (Окнова).
7 августа 1916 года, по настоянию императрицы, был уволен от должности с назначением в Государственный совет.
С 1917— за штатом.
После Февральской революции выехал на юг страны, в марте 1918года эмигрировал. Жил на Мальте, в Италии, Баварии, в последние годы— во Франции, в Ницце. Похоронен на кладбище Кокад в Ницце.
Семья
Был женат на княжне Ольге Алексеевне Долгоруковой (1867—1946). Их дети:
- Николай (1887—1948), воспитанник Александровского лицея, чиновник Государственной канцелярии. В эмиграции в Бельгии.
- Алексей (1891—1946), воспитанник Александровского лицея, штабс-ротмистр Кавалергардского полка. В эмиграции в Бессарабии.
- Елизавета (1894—?)
Награды
- Орден Святой Анны 2-й степени (1896);
- Орден Святого Владимира 3-й степени (1913);
- Орден Святого Станислава 1-й степени (1914);
- Орден Святой Анны 1-й степени (1915).
- Медаль «В память коронации императора Александра III» (1883);
- Медаль «В память царствования императора Александра III»;
- Медаль «В память коронации Императора Николая II»;
- Медаль «За труды по первой всеобщей переписи населения»;
- Медаль Красного Креста «В память русско-японской войны 1904—1905 гг.»;
- Медаль «В память 100-летия Отечественной войны 1812 г.»;
- Медаль «В память 300-летия царствования дома Романовых» (1913).
Примечания
- ↑ Сборник клуба русских националистов. Выпуск третий.— К.: Типогр. С.В.Кульженко, 1911.— С. 141.
Источники
- Памятная книжка Холмской губернии на 1914 год. Холм, 1914. СС. 65, 108—111.
- Список гражданским чинам первых четырех классов.— Пг., 1914.— С. 1292.
- Список гражданским чинам четвёртого класса. Исправлен по 1 марта 1916 года.— Пг., 1916.— С. 1589.
- /www.dommuseum.ru╱index.php⁇m=dist&pid=2773<]<" target="_blank">www.dommuseum.ru╱index.php⁇m=dist&pid=2773<]<)+}">Российское зарубежье во Франции 1919—2000. Л. Мнухин, М. Авриль, В. Лосская. — Москва, 2008.
- /www.pravenc.ru╱text╱155152.html<]<" target="_blank">www.pravenc.ru╱text╱155152.html<]<)+}">Биография в «Православной энциклопедии»
| Предшественник: Александр Самарин |
Обер-прокурор Святейшего Синода 1915—1916 |
Преемник: Николай Раев |
|
Метки: волжины |
О Марфе Пешковой и Лаврентии Берия |

О Марфе Пешковой и Лаврентии Берия
КРЫМ . ТЕССЕЛИ . ДАЧА МАКСИМА ГОРЬКОГО . НА СНИМКЕ МАРФА ПЕШКОВА . А НЕПОДАЛЕКУ - Я. ЗДЕСЬ ПОЛОМАЛ НОГУ ЮРИЙ ГАГАРИН , КОГДА НЕУДАЧНО "ПРИЗЕМЛИЛСЯ" СО ВТОРОГО ЭТАЖА , - об этом нам рассказывала врач , которая лечила Юрия . У меня и благодарное письмо Юрия Гагарина врачевателю хранится .
О МАРФЕ ПЕШКОВОЙ , О ЛАВРЕНТИИ БЕРИИ И О МНОГОМ ДРУГОМ .
Марфа Пешкова Есть такое выражение «Неувядающая красота». Это про — Марфу Пешкову. Внучка Максима Горького и Екатерины Пешковой, подруга детства Светланы Сталиной, невестка Лаврентия Берии. Она не скрывает свой возраст, но поверить невозможно, что этой моложавой, обаятельной и смешливой женщине на днях исполнилось 87. Секрет своей жизненной силы Марфа Максимовна объясняет просто: «Занимаюсь спортом и мало кушаю. У нас в доме не было культа еды».
Она родилась в итальянском Сорренто.
— Папа с мамой назвали Марией, а когда из Рима приехал меня крестить архимандрит Симеон, дедушка решил дать мне имя Марфа. Крестины проходили у нас дома, дедушка был на подхвате, когда меня окунали в купель, держал полотенце. Дедушка и бабушка в церковь не ходили, потому что считали, что священнослужители вне службы не всегда себя ведут подобающим образом. Но перед праздником бабушка всегда просила домработницу отнести деньги в храм.
Меня и отправили в эту школу из-за Светланы. Сталин приезжал к дедушке, а когда умерла его жена Надежда Аллилуева, привез к нам Светлану. Он очень хотел, чтобы она общалась со мной и с Дарьей. И еще просил жену Берии Нину Теймуразовну опекать Светлану, приглашать ее в гости, чтобы ей не было так одиноко.
Я помню, как она вошла в дом, встала около зеркала и начала шапочку беленькую снимать, как вдруг водопадом рассыпались золотые волосы в кудрях. Когда детей маленьких знакомят, они не знают, о чем говорить. Нас вывели в сад погулять, и потом она вместе с папой уехала. А второй раз уже меня повезли к ней. Встретила нянечка и повела к Светлане. Она сидела в комнате и что-то шила из черной ткани. На меня особенно не взглянула, только кивнула. Мы сидели и молчали. Потом я спросила: «А ты что шьешь?» — «Кукле платье». — «А почему черное?» — «Я из маминого платья шью». Потом посмотрела на меня внимательно: «Ты разве не знаешь, что у меня мама умерла?» — и стала плакать. Я сказала: «А у меня папа умер». И тоже заплакала. Это горе нас надолго объединило.
Светлана была очень скромной. И терпеть не могла, когда на нее обращали внимание как на дочь Сталина. Она от этого и уехала, потому что знала, что ничего не изменится. В начальной школе ее сопровождал охранник, и то она всегда просила, чтобы он отставал на два-три шага. Дружила еще с Аллой Славуцкой, ее отец был послом в Японии, Раей Левиной. Дни рождения Светланы праздновались на даче, а не в Кремле.
Иосиф Сталин пока Светлана была маленькой, любил. А потом, когда Светлана подросла, стала девушкой и начала заглядываться на мальчиков, он ее прямо возненавидел. У него какая-то ревность появилась и, когда он узнал, что она начала встречаться с Алексеем Каплером, сразу его выслал. А они просто гуляли по улицам, ходили в музей, между ними ничего не было.
Сталина я ненавидела из-за Светланы. Сколько раз она плакала. Он грубо с ней разговаривал: «Сними эту кофту! Для кого ты вырядилась?» Она в слезы. Как-то мы с ней вместе уроки делали, у меня с математикой было плохо, Сталин напротив сидел. Он любил подтрунивать: «Много ли мальчиков прыгает вокруг тебя?» Меня, естественно, бросало в краску, ему это очень нравилось. Однажды сидим со Светланой, кушаем, и вдруг он на меня такими злыми глазами посмотрел: «Как ваша старуха поживает?» С таким раскатистым «р»! Мне даже в голову не могло прийти, о ком он спрашивал. Светлана шепнула: «Это он о бабушке твоей!» А моя бабушка, Екатерина Павловна Пешкова, никого не боялась. Всегда шла напролом. Когда она приезжала к нам на правительственную дачу, говорила охраннику: «Я к внучке!» Тот бежал звонить: пропускать или нет? Естественно, пропускали. Сталин ее ненавидел, но боялся тронуть. Ее знали слишком много людей и здесь, и за рубежом.
Время было страшное. Начинались первые аресты. А к Светлане обращались знакомые с просьбами помочь? Я знаю, что однажды она вступилась за кого-то. Сталин ее отругал и жестко сказал, чтобы это было в первый и последний раз. Так же, как она однажды прибежала радостная сообщить, что выходит замуж за Гришу Морозова, Сталин крикнул: «Что, русского не могла найти?» — и хлопнул дверью.... Со Светланой мы десять лет просидели за одной партой. Разошлись мы из-за Серго, сына Берии, потому что она была в него влюблена еще со школы. Он пришел к нам в девятом классе. Она мне говорила: «Я его знаю, мы в Гагре познакомились, он такой хороший парень!». Его воспитывала немка Элечка, потому что мама, Нина Теймуразовна, химик по профессии, все время работала. Серго прекрасно знал немецкий язык, как и мы с Дарьей, у нас тоже была немецкая нянечка. Воспитание нас с Серго объединяло.
Серго также был приучен не жадничать за столом: брать столько, сколько можешь съесть, чтобы тарелка была чистая. Я и сейчас не могу что-то оставить на тарелке. Немецкие воспитательницы привили нам пунктуальность. Если приятельницы меня приглашают в гости к шести часам, я и прихожу к шести. А они только начинают салатик резать, и я тоже включаюсь в работу.
Когда мы с ней впервые встретились после того, как я вышла замуж за Серго, она сказала: «Ты мне больше не подруга!» Я спросила: «Почему?» — «Ты знала, что я его любила больше всех, и не должна была за него выходить замуж. Не важно, что у меня Гриша! Может быть, через пять лет был бы Серго». Она считала, что когда-нибудь добьется своего. Звонила нам домой. Когда я подходила к телефону, Светлана вешала трубку. А Серго жутко выходил из себя: «Опять эта рыжая бестия звонит!»
Лаврентий меня обнял и сказал: «Теперь ты наша». Тогда не принято было играть шумные свадьбы. Мы расписались, дома за столом выпили хорошего грузинского винца. Когда у меня родилась первая дочь, Нина, свекровь сразу бросила работу и занялась внучкой. А Лаврентий каждую субботу приезжал на дачу и проводил с женой воскресенье. А по будням допоздна сидел у Сталина, который хотел, чтобы все они находились при нем. Так что разговоры о том, что у Лаврентия было 200 любовниц, не очень соответствуют реальности. Конечно, у него были женщины, последняя даже родила ему ребенка, но не столько, сколько ему приписывают!
© Copyright: Михаил Лезинский, 2014
Свидетельство о публикации №214061200916
|
Метки: пешковы |
Русские художники XIX века в Ницце |
Русские художники XIX века в Ницце

А. Боголюбов. Ментона в бурю. Воспр. по: www.navy.su/navyart.html
Русская Ницца имеет богатую историю и ведёт своё начало с конца XVIII века, с тех пор, когда эскадра графа Орлова стояла у берегов Виллафранша. С 1840-х годов она становится любимым местом отдыха русских аристократов. С 1856 года с Ниццей связана жизнь императорской семьи после первого посещения её императрицей Марией Фёдоровной, супругой Николая I. В Русском пансионе на улице Гуно жили М.Салтыков-Щедрин и Ф.Тютчев, А.Герцен и В.Ленин. В 1912 году к берегам Ниццы подходила «Аврора». В начале XX века русское население Ниццы насчитывало около 3000 человек. Но полного и достоверного исследования о пребывании русских на Лазурном берегу ещё не написано...
Ещё меньше исследована тема Ниццы в истории русского изобразительного искусства. Многочисленны, но отрывочны сведения о художниках-эмигрантах первой волны. Крайне мало сведений о произведениях художников XIX века, написанных на Лазурном берегу, содержится в дореволюционной русской и тем более в советской искусствоведческой литературе. Романтические, трагические и лирические переживания русских гениев на Французской Ривьере, отразившиеся в их блестящих творениях, не заинтересовали исследователей их творчества...
|
Метки: русское зарубежье мир живописи |
Феномен российского меценатства. 100 лет спустя. |
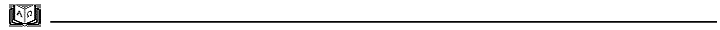 Феномен российского меценатства. 100 лет спустя.
Феномен российского меценатства. 100 лет спустя.
Страница 2 из 2
Образец для подражания
Крупные российские предприниматели из дворянства и купечества, активно занимавшиеся благотворительностью на рубеже ХIХ-ХХ веков, были людьми особой породы, особых нравственных качеств. Это были истинно верующие православные христиане, неукоснительно соблюдающие эти благочестивые традиции, и Господь щедро приумножал их богатство. 
Строгое христианское воспитание в семье развивало послушание, трудолюбие и умеренность во всем. Мальчиков с самого раннего детства приобщали к работам, не делая им никаких поблажек. Лет с 7-8 они уже помогали старшим, не только делая черную работу по уборке, мелкому ремонту. разносу товара, но и вели учетные записи в амбарных книгах. Быстро вникая в тонкости технологии и бухгалтерии, уже в 16-17 лет молодые люди становились профессионалами семейного дела и могли занимать в семейном предприятии достаточно серьезные посты. Так, сын фабриканта В.И. Прохорова Тимофей принял на себя руководство отцовской фабрикой в 16 лет. За 2 года он сумел увеличить капитал в 10 раз. Крепко встав на ноги, Тимофей начал заниматься благотворительностью. Для сравнения можно взглянуть на интересы современных 16-летних юношей и девушек...
Следующие поколения православных предпринимателей представлены уже людьми высокообразованными. Например, внук крепостного крестьянина Савва Тимофеевич Морозов, один из самых известных представителей династии благотворителей Морозовых, в 13 лет владел тремя иностранными языками, помогал отцу вести заграничные переговоры и составлять контракты. Высшее образование получил в Московском университете, а в 25 лет защитил диссертацию в Кембридже, получив патенты на изобретения в области лаков и красителей. «При сем скажу: кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет... Бог же силен обогатить вас всякою благодатью, чтобы вы, всегда и во всем имея всякое довольство, были богаты на всякое доброе дело... на всякую щедрость, которая через нас производит благодарение Богу» (2 Кор. 9:6, 8, 11).
Русские купцы неукоснительно следовали Слову Божию и поражали западных партнеров своей смекалистостью и трудолюбием, размахом дел и трезвым рассуждением, ответственностью и преданием себя на волю Божию. Честность и порядочность, уважение к делу конкурента, крепкое купеческое слово, имеющее силу крепче письменного договора, помогали предпринимателям совместно развивать социальную деятельность. Работая в попечительских советах благотворительных организаций, они поддерживали друг друга в осуществлении пожертвований на добрые дела. 
Преподобный Серафим Саровский, происходивший из курских купцов, в своих поучениях часто обращался к словам и понятиям из обихода торговцев. «Выгадывайте время для получения небесных благ через земные товары», — говорил он и пояснял; «Земные товары — это добродетели, делаемые Христа ради».
В противовес стремлению всего западного мира к обеспечению личного состояния и комфортной жизни русские православные дворяне и купцы наоборот стремились к Царствию Божию. В недавней проповеди на главу Евангелия о богатом юноше, которому Господь сказал: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною» (Мф. 19:21) батюшка Алексий объяснял духовные корни расцвета русского меценатства. «Царство Божие нестяжателям дается. Нестяжательность — добродетель, недоступная для человеческого сознания, но возможная тем, кто доверяет Богу. И они делились и видели, как Господь приумножал их недостаток, приумножал с горкой, как всегда. И они еще больше делились. И еще больше приумножал Господь. Правда, когда они делились, они не загадывали вперед, что Господь прибавит. Господь не говорит, не обещает, что человек взамен получит, либо приумножение богатства, либо его потерю, но и то, и другое великое благо, т.к. из рук Господа. Они просто доверяли Богу и верили, что Господь не посрамит. Может, придется потерпеть, но, в конечном счете, Господь не посрамит. Иногда кажется, уже все. край, но у Господа все под контролем, Он все выдает точной мерой веса и в нужное время. А затем нужду ликвидирует, моментально, неожиданно, и часто самым невероятным способом. И дальше наш черед благодарности Богу еще большей жертвой».
Анна Миронова
<< Первая < Предыдущая 1 2 Следующая > Последняя >>http://putinki.uspenie.com/at-the-church/guardian/574--100-.html?start=1
|
Метки: купечество |
Городская усадьба Я. А. Маслова - А. П. Оболенского |
Городская усадьба Я. А. Маслова - А. П. Оболенского
Ул. Рождественка, д. 12
выявленный объект культурного наследия
|
3.83 |
Была здесь и гостиница «Берлин, и даже мастерская «усовершенствователя переплётного искусства».
-

Городская усадьба Я. А. Маслова - А. П. Оболенского, 2014 г.
Автор фото: Александр Иванов

Гостиница "Берлин", 1895-1900 гг.
Автор фото: pastvu.com

Отель "Берлин" на Рождественке, 1901 г.
Автор фото: pastvu.com

2014 г.
Автор фото: Александр Иванов

Кованый балкон. 2014 г.
Автор фото: Александр Иванов
1 / 5
Современное владение № 12 по улице Рождественке в середине XVII века принадлежало князьям Львовым. В 1773 году его хозяином числится действительный статский советник Яков Андреевич Маслов. Тогда же здесь был возведён главный дом в глубине парадного двора с двумя флигелями, выходящими на красную линию Рождественки.
В конце XVIII столетия усадьба в качестве приданого переходит к тайному советнику князю Андрею Петровичу Оболенскому. А. П. Оболенский первым браком был женат на внучке Я. А. Маслова Марфе Андреевне, умершей родами в 1796 году.
В 1817 году князь Оболенский был назначен попечителем Московского учебного округа. Он очень много сделал для восстановления Московского университета, сильно пострадавшего во время наполеоновского пожара. По его инициативе и на сэкономленные в ходе восстановительных работ деньги, были возведены несколько новых университетских корпусов, отремонтировано здание Благородного пансиона на Тверской улице, приобретены научные коллекции, систематизированы и напечатаны их научные описания.
Часть помещений усадьбы сдавалась. Так в 1840-1850-х годах здесь размещалась мастерская «усовершенствователя переплётного искусства» Н. П. Хитрова, уроки переплётного дела у которого брал прославленный генерал А. П. Ермолов.
В 1860-е годы наследниками А. П. Оболенского усадьба была продана московскому купцу А. К. Беккерсу.
В 1874 году владение приобрёл купец 1-й гильдии Александр Никифорович Прибылов, сделавший большой капитал на торговле бумажной пряжей и нитками и скупивший целый ряд домов в Москве. Прибыловым принадлежал, в частности, и дом № 4 по Рождественке, на месте которого позже было построено здание «Детского мира».
После смерти А. Н. Прибылова усадьба перешла к его вдове Клавдии Ивановне.
Во второй половине XIX века усадебные постройки не раз перестраивались, в том числе и в 1896 году по проекту архитектора И. А. Иванова-Шица. Флигели, ставшие боковыми крыльями ансамбля, и превращённые в доходные дома, были надстроены до высоты главного дома. Обращают на себя внимание балконы с красивыми изящными решётками. Отдельные элементы фасадной композиции главного дома - вертикальные лопатки, ритм оконных проемов сохранились, по-видимому, от первоначального облика здания.
В конце XIX - начале ХХ века в доме располагалась гостиница «Берлин» с рестораном и семейным садом. Здесь останавливался знаменитый художник-баталист В. В. Верещагин, известный пианист и композитор П. А. Папст. С началом Первой мировой войны гостиница была переименована в «Париж-Англия».
Последним дореволюционным владельцем был Николай Тимофеевич Соловьёв.
Уже долгие годы здание занимает Институт востоковедения Российской Академии наук.
В наши дни комплекс старинной усадьбы находится на государственной охране.
https://um.mos.ru/houses/gorodskaya-usadba-ya-a-maslova-a-p-obolenskogo/
|
Метки: дворянские владения оболенские масловы |
Крепостные гаремы российских помещиков: правда или миф |
Крепостные гаремы российских помещиков: правда или миф
Барин приехал на побывку
Здравствуйте, мои дорогие читатели! Спасибо, что поддерживаете меня и мой канал!
Такое понятие как «гарем» более свойственно для восточной культуры. Это на Востоке было принято заводить по нескольку жен и по столько же, а то и больше, наложниц.
С культурой России гарем никак не ассоциируется. Однако так ли это на самом деле?
В пользу того, что некоторые помещики устраивали в своих домах-усадьбах подобие восточного гарема, свидетельствует огромное количество фактов. Российское законодательство и церковь запрещало эксплуатировать крестьянок помещикам для удовлетворения своих похотей. Сами помещики нарушали все запреты, потому что знали – все им сойдет с рук.
На самом деле крепостные девушки и женщины были беззащитны перед чинившим произвол хозяином. Такие связи по большей части носили принудительный характер. Некоторые помещики просто брали женщин силой. Иные приезжали в деревни со своими друзьями, поили женщин или малолетних детей и начинали активно к ним приставать.
Помещики оправдывали свое поведение таким выражением: «Должна идти, коли раба!». Некоторые исследователи крепостничества о принуждении к разврату даже используют термин «барщина для женщин».
"Торг" Художник Н. Неврев. Дружки-помещики понаехали в деревню
Один мемуарист рассказывал о своем знакомом помещике, который был в своем имении «настоящим петухом, а вся женская половина – от млада и до стара – его курами. Пойдет, бывало, поздно вечером по селу, остановится против какой-нибудь избы, посмотрит в окно и легонько постучит в стекло пальцем – и сию же минуту красивейшая из семьи выходит к нему».
Многие помещики наведывались в свои деревни, не живя в имениях. Они жили в столице или заграницей. Во время своих приездов помещики требовали с управляющего список подросших девушек. Всех их забирал с собой. Когда список заканчивался, помещик уезжал в другую деревню. Назад возвращался через год.
Крестьяне пытались жаловаться. Но слово помещика против их слова было весомым аргументом. Крестьяне априори становились бунтовщиками, которых ждало суровое наказание. Лишь немногим удавалось установить правосудие.
Гарем из «крепостных девок» такой же атрибут России XVIII –XIX столетия, как, к примеру, псовая охота.
Дети помещиков, рожденные крепостными крестьянками, росли среди дворовых людей и были слугами. Нередко их продавали на сторону, другим помещикам.
"Родительская радость". Художник К. Лемох. "Счастливый" темноволосый отец рассматривает светленького ребенка. Без барина тут не обошлось. А им крепостным куда ж деваться....
https://zen.yandex.ru/media/id/5a3e77e9581669d671d...i-mif-5c5d2ad42e28b400adc85812
|
Метки: дворянство их нравы |
Александра Столярова |
Александра Столярова
Исторические отчеты и семейные деревья об Александра Столярова.
Отчеты могут включать фотографии, оригиналы документов, семейную историю, родственников, конкретные даты, местности и полные имена (в том числе девичьи фамилии).
Александра Петровна Семенова (Столярова), 1871 - 1943 Александра Петровна Семенова (Столярова) 18711943
Александра Петровна Семенова (Столярова) родилась день месяц 1871, в место рождения, у Петр Иванов Столяров и Александра Михайловна Столярова.
Петр родился 15 Декабрь 1815, в Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое).
Александра родилась 12 Апрель 1829, в Московская область, Можайский район, Мокрое (рядом- с. Дедовское Гжатского уезда Смоленской губ.).
Александра крестили день месяц 1871, в место крещения.
У неё было 9 брата или сестры / братьев или сестер: Агриппина Петровна Гудкова (Столярова), Татьяна Петровна Столярова (Столярова) и еще 7 братьев или сестер.
Александра вышла замуж за Михаил Семенович Семенов день месяц 1893, в возрасте 22 года / лет в место бракосочетания.
Михаил родился 24 Октябрь 1871, в г. Москва, Пуговишников пер. 4.
По роду деятельности он был Предприниматель.
У них было 2 ребенка / детей: Владимир Михайлович Семенов и еще один ребенок.
Александра жила в адрес.
По роду деятельности она была занятие.
Александра умерла день месяц 1943, в возрасте 72 года / лет в место смерти.
Александра Елесеевна Кулешова (Столярова), 1919 - 1994 Александра Елесеевна Кулешова (Столярова) 19191994
Александра Елесеевна Кулешова (Столярова) родилась день месяц 1919, в место рождения, у Кравченко.
Александра вышла замуж за Григорий Кулешов в 1937, в возрасте 17 года / лет в место бракосочетания.
Григорий родился 17 Ноябрь 1910, в с.Ной Партизанского р-на.
У них было 4 ребенка / детей: Владимир Кулешов и еще 3 ребенка / детей.
По роду деятельности она была занятие.
Александра умерла от причина смерти день месяц 1994, в возрасте 75 года / лет в место смерти.
Она была похоронена день месяц 1994, в место захоронения.
Александра Сидоровна Столярова (Красная), 1921 - 1997 Александра Сидоровна Столярова (Красная) 19211997
Александра Сидоровна Столярова (Красная) родилась день месяц 1921, в место рождения, у Сидор Силич Красный и Марина Красная.
Сидор родился приблизительно в 1880 г..
У Александра было 5 сестер: Мария Сидоровна Долгополова (Красная), Татьяна Сидоровна Миханоша (Красная) и еще 3 братьев или сестер.
Александра вышла замуж за Юрий Михайлович Столяров.
У них был один ребенок.
Александра умерла день месяц 1997, в возрасте 76 года / лет в место смерти.
Она была похоронена в место захоронения.
Александра Григорьевна Цыганова (Столярова), 1933 - 1998 Александра Григорьевна Цыганова (Столярова) 19331998
Александра Григорьевна Цыганова (Столярова) родилась день месяц 1933, в место рождения, у Григорий Захарович Столяров и Мария Ивановна Столярова (Сёмкина).
Григорий родился в 1888.
Мария родилась в 1901, в Россия.
У Александра было 5 брата или сестры / братьев или сестер: Анна Григорьевна Макеева (Столярова), Василий Григорьевич Столяров и еще 3 братьев или сестер.
Александра вышла замуж за Борис Степанович Цыганов.
Борис родился 16 Февраль 1928, в д.Куриловка, Атюрьевский р-он, Мордовия.
У них был один ребенок.
Александра умерла день месяц 1998, в возрасте 65 года / лет в место смерти.
Она была похоронена в место захоронения.
Александра Михайловна Столярова, 1829 - Примерно в 1914 Александра Михайловна Столярова 18291914
Александра Михайловна Столярова родилась день месяц 1829, в место рождения, у Михаил Тихонов и Наталия Космина.
Михаил родился До 1811, в Московская область, Можайский район, Мокрое (рядом- с. Дедовское Гжатского уезда Смоленской губ.).
Наталия родилась приблизительно в 1804 г., в Московская область, Можайский район, Мокрое (рядом- с. Дедовское Гжатского уезда Смоленской губ.).
Александра крестили в место крещения.
У неё было 3 брата или сестры / братьев или сестер: Евдокия Михайлова и еще 2 братьев или сестер.
Александра вышла замуж за Петр Иванов Столяров в возрасте 17 года / лет в место бракосочетания.
Петр родился 15 Декабрь 1815, в Московская область, Можайский район, Мокрое (Смоленская губерния, Гжатский уезд, село Мокрое).
По роду деятельности он был Главный магазейщик.
У них было 10 ребенка / детей: Александра Петровна Семенова (Столярова), Агриппина Петровна Гудкова (Столярова) и еще 8 ребенка / детей.
Александра жила в адрес.
Она жила день месяц 1850, в адрес.
Она жила день месяц 1858, в адрес.
По роду деятельности она была занятие.
Александра умерла приблизительно в 1914 г., в возрасте 84 года / лет в место смерти.
Александра Степановна Столярова (Иванова), 1925 - 1994 Александра Степановна Столярова (Иванова) 19251994
Александра Степановна Столярова (Иванова) родилась день месяц 1925, у Степан Макарович Иванов и Ирина Васильевна Иванова (Сосорева).
Степан родился в 1898, в Степанкино, Псковкая область, Россия.
Ирина родилась 21 Апрель 1903.
У Александра было 7 брата или сестры / братьев или сестер: Елена Степановна Иванова, Анна Степановна Ианова (Иванова) и еще 5 братьев или сестер.
Александра вышла замуж за Владимир Николаевич Столяров.
Владимир родился в 1927.
У них был один сын: Николай Владимирович Столяров.
Александра умерла день месяц 1994, в возрасте 68 года / лет.
Она была похоронена в место захоронения.
Александра Ивановна Столярова (Дегтярева), 1916 - 2002 Александра Ивановна Столярова (Дегтярева) 19162002
Александра Ивановна Столярова (Дегтярева) родилась день месяц 1916, у Иван Николаевич Дегтярев и Мария Ивановна Дегтярева (Зотова).
У Александра был один брат: Николай Иванович Дегтярев.
Александра вышла замуж за Григорий Степанович Столяров.
Григорий родился 21 Январь 1913, в Bondari, Tambovsjkaja obl.
У них было 3 ребенка / детей: Римма Григорьевна Столярова и еще 2 ребенка / детей.
Александра умерла от причина смерти день месяц 2002, в возрасте 85 года / лет в место смерти.
Александра Ивановна Игошева (Столярова), 1930 - 2006 Александра Ивановна Игошева (Столярова) 19302006
Александра Ивановна Игошева (Столярова) родилась день месяц 1930, у Иван Андреевич Столяров и Агафья Михайловна Столярова.
Иван родился 29 Апрель 1903, в Силино, Ардатовский район, Мордовия, Россия.
Агафья родилась 20 Апрель 1903, в Силино, Ардатовский район, Мордовия, Россия.
У Александра было 6 брата или сестры / братьев или сестер: Валентин Иванович Столяров, Николай Иванович Столяров и еще 4 братьев или сестер.
Александра вышла замуж за Василий Степанович Игошев.
Василий родился 18 Март 1933.
У них было 3 ребенка / детей: Валентина Васильевна Захаров (Игошева) и еще 2 ребенка / детей.
Александра умерла в 2006, в возрасте 75 года / лет.
Александра Васильевна Столярова (Поварова), 1928 - 1991 Александра Васильевна Столярова (Поварова) 19281991
Александра Васильевна Столярова (Поварова) родилась день месяц 1928, в место рождения, у Василий Никитович Поваров и Поваров.
Василий родился 1 Январь 1895, в с. Шуватово Инзенского района Ульяновской области.
родилась в 1897, в с. Шуватово Инзенского района Ульяновской области.
У Александра было 6 брата или сестры / братьев или сестер: Мария Васильевна Чаркин (Поварова), Анна Васильевна Кузнецова (Поварова) и еще 4 братьев или сестер.
Александра вышла замуж за Федор Степанович Столяров.
Федор родился 19 Февраль 1932, в с. Шуватово Инзенского района Ульяновской области.
У них было 4 ребенка / детей.
Александра умерла день месяц 1991, в возрасте 63 года / лет в место смерти.
Она была похоронена в место захоронения.
Александра [Аля] Сергеевна Парфенова (Столярова), 1922 - 2002 Александра [Аля] Сергеевна Парфенова (Столярова) 19222002
Александра [Аля] Сергеевна Парфенова (Столярова) родилась день месяц 1922, в место рождения, у Сергей Павлович Столяров и Мария Ивановна Столярова (Никифорова).
Сергей родился в 1886.
Мария родилась 14 Апрель 1898, в с. Космачево, Людиновский р-н, Калужская обл..
У Александра было 3 брата или сестры / братьев или сестер: Наталья Сергеевна Рогожина (Столярова) и еще 2 братьев или сестер.
Александра вышла замуж за Николай Андреевич Парфенов день месяц 1948, в возрасте 26 года / лет в место бракосочетания.
Николай родился 2 Май 1926, в Рождествено.
У них было 2 ребенка / детей.
Александра умерла день месяц 2002, в возрасте 80 года / лет в место смерти.
Она была похоронена в место захоронения.
Александра Столярова (Куркина), 1928 - 2010 Александра Столярова (Куркина) 19282010
Александра Столярова (Куркина) родилась день месяц 1928, в место рождения, у Митрофан Киреевич Куркин и Алена Дмитриевна Куркина.
У Александра была одна сестра: Ольга Нечитайлова (Куркина).
Александра вышла замуж за Иван Столяров.
Иван родился 7 Февраль 1926.
У них был один ребенок.
Александра умерла день месяц 2010, в возрасте 82 года / лет в место смерти.
Она была похоронена в место захоронения.
Александра Овечкина (Столярова), 1914 - 1993 Александра Овечкина (Столярова) 19141993
Александра Овечкина (Столярова) родилась день месяц 1914, в место рождения, у Митрофан Столяров и Татьяна Столярова.
Митрофан родился в Рязанская обл. с.Калинино.
Татьяна родилась в Рязанская обл. с.Ново-Тишевое.
У Александра было 6 брата или сестры / братьев или сестер: Мария Жатон (Столярова), Анна Шарыгина (Столярова) и еще 4 братьев или сестер.
Александра вышла замуж за Илья Овечкин.
Илья родился 15 Июль 1905, в Рязанская обл. с.Боровок.
У них было 6 ребенка / детей: Виктор Овечкин и еще 5 ребенка / детей.
Александра умерла день месяц 1993, в возрасте 79 года / лет в место смерти.
Александра Ивановна Сигаева (Столярова), 1914 - 1993 Александра Ивановна Сигаева (Столярова) 19141993
Александра Ивановна Сигаева (Столярова) родилась день месяц 1914, в место рождения.
Александра вышла замуж за Григорий Михайлович Сигаев.
Григорий родился в Пензенская обл., Лунинский р-н, с.Сандерки.
У них была одна дочь: Людмила Григорьевна Шпилькова (Сигаева).
Александра умерла от причина смерти день месяц 1993, в возрасте 79 года / лет в место смерти.
Она была похоронена в место захоронения.
Александра Здобнухина (Столярова), 1913 - 1998 Александра Здобнухина (Столярова) 19131998
Александра Здобнухина (Столярова) родилась день месяц 1913, в место рождения, у Анисим Столяров и Анастасия Столярова.
У Александра было 6 брата или сестры / братьев или сестер: Клавдия Комиссарова (Столярова), Евгения Земскова (Здобнухина) и еще 4 братьев или сестер.
Александра вышла замуж за Михаил Здобнухин.
У них было 3 ребенка / детей: Геннадий Здобнухин и еще 2 ребенка / детей.
Александра вышла замуж за Павел Воронцов.
Павел родился в 1901.
Александра умерла от причина смерти день месяц 1998, в возрасте 85 года / лет.
Александра СТОЛЯРОВА (ЖУКОВА), 1915 - 1989 Александра СТОЛЯРОВА (ЖУКОВА) 19151989
Александра СТОЛЯРОВА (ЖУКОВА) родилась день месяц 1915, в место рождения, у Яков ЖУКОВ.
У Александра было 2 брата или сестры / братьев или сестер: Таисия ФРОЛОВА (ЖУКОВА) и еще один брат или сестра.
Александра вышла замуж за Федор СТОЛЯРОВ.
Федор родился 8 Январь 1912.
У них было 10 ребенка / детей: Борис СТОЛЯРОВ, Александр СТОЛЯРОВ и еще 8 ребенка / детей.
Александра умерла день месяц 1989, в возрасте 73 года / лет.
Александра Кузина (Столярова), 1947 - 2011 Александра Кузина (Столярова) 19472011
Александра Кузина (Столярова) родилась день месяц 1947, в место рождения, у Семен Апарушкин и Анастасия Апарушкин (Столярова).
Анастасия родилась 23 Октябрь 1917, в д. Палатки, Юхновского р-на, Калужской области.
У Александра был один брат или сестра.
Александра вышла замуж за Анатолий Кузин.
Александра умерла от причина смерти день месяц 2011, в возрасте 64 года / лет в место смерти.
Александра Михайловна Столярова, умер 1914 Александра Михайловна Столярова 1914
Александра Михайловна Столярова родилась у Михаил и Наталия Космина.
У Александра была одна сестра: Евдокия Михайлова.
Александра вышла замуж за Пётр Иванович Столяров.
Пётр родился в 1817, в Смоленская губерния Гжатский уезд село Мокрое.
У них было 10 ребенка / детей: Мария Петровна Субботина (Столярова), Александра Семенова (Столярова) и еще 8 ребенка / детей.
Александра умерла в 1914.
Александра Микулова (Столярова), 1915 - 1994 Александра Микулова (Столярова) 19151994
Александра Микулова (Столярова) родилась день месяц 1915, у Иван Столяров.
Александра вышла замуж за Иван Микулов.
Иван родился в 1912.
У них было 2 дочери / дочерей: Валентина Китова (Микулова) и еще один ребенок.
Александра умерла день месяц 1994, в возрасте 78 года / лет.
Она была похоронена в место захоронения.
Александра Михайловна Столярова, умер 1914 Александра Михайловна Столярова 1914
Александра Михайловна Столярова вышла замуж за Пётр Иванович Столяров.
Пётр родился в 1817, в Смоленская губерния Гжатский уезд село Мокрое.
У них было 9 ребенка / детей: Мария Петровна Субботина (Столярова), Александра Семенова (Столярова) и еще 7 ребенка / детей.
Александра умерла в 1914.
Александра Столярова (Антипова), 1909 - 1981 Александра Столярова (Антипова) 19091981
Александра Столярова (Антипова) родилась в 1909, у Константин Антипов и Антипова.
У Александра был один брат: Федор Антипов.
Александра вышла замуж за Василий Столяров.
Василий родился в 1908, в Вологодская область, деревня Мусора (хутор Нива).
У них было 3 ребенка / детей: Клавдия Билева (Столярова) и еще 2 ребенка / детей.
Александра умерла день месяц 1981, в возрасте 72 года / лет в место смерти.
Она была похоронена в место захоронения.
Александра Шубенина (Столярова), 1902 - 1985 Александра Шубенина (Столярова) 19021985
Александра Шубенина (Столярова) родилась день месяц 1902, в место рождения, у Мария Васильевна Ильина.
Мария родилась в 1880, в Пензенская губ., дер. Подсот.
У Александра было 2 брата или сестры / братьев или сестер: Мария Васильевна Вершинин (Ильина) и еще один брат или сестра.
Александра умерла в возрасте 82 года / лет в место смерти.
Александра Алексеевна Кузьмичева (Столярова), Примерно в 1905 - 1988 Александра Алексеевна Кузьмичева (Столярова) 19051988
Александра Алексеевна Кузьмичева (Столярова) родилась приблизительно в 1905 г., у Алексей.
У Александра была одна сестра: Манефа Алексеевна.
Александра вышла замуж за Петр Арсентьевич Кузьмичев.
Петр родился 25 Июнь 1903.
У них было 3 ребенка / детей: Валентина Елесина (Кузьмичёва) и еще 2 ребенка / детей.
Александра умерла день месяц 1988, в возрасте 83 года / лет.
Она была похоронена в место захоронения.
22 из 69 людей Просмотреть всех
Ищите личную информацию совершенно по-новому
Создайте бесплатное семейное дерево для себя или для Александра Столярова, и мы найдем новую ценную информацию для Вас.
Александра Столярова 1925 1994
Александра Степановна Столярова (Иванова), 1925 - 1994
Александра, Степановна Столярова родилась день месяц 1925, у Степан, Макарович Иванов и Ирина, Васильевна Иванова.
У Александра было 8 брата или сестры / братьев или сестер: Елена Степановна Иванова, Анна Степановна Ианова и еще 6 братьев или сестер.
Александра вышла замуж за Владимир, Николаевич Столяров.
У них был один сын: Николай Владимирович Столяров.
Александра умерла день месяц 1994, в возрасте 68 года / лет.
Она была похоронена в место захоронения.
Alexandra 1910 1980
Александра (Столярова), 1910 - 1980
Alexandra, Александра родилась день месяц 1910, у Vasilii, Василий, Владимирович Stoljarow, Столяров и Sophie Konstantinovna, Софья, Константиновна Stoljarow, Столярова.
У Alexandra было 2 брата или сестры / братьев или сестер: Helene Елена Solovjov Соловьева и еще один брат или сестра.
У Alexandra была одна дочь: Nadezhda Надежда.
Alexandra умерла в 1980, в возрасте 69 года / лет.
Александра Столярова 1916
Александра Ивановна Столярова, рожден 1916
Александра, Ивановна Столярова родилась в 1916, в место рождения, у Иван.
Александра Столярова 1916
Александра Александровна Столярова, рожден 1916
Александра, Александровна Столярова родилась в 1916, в место рождения, у Александр.
4 из 10 отчетов Просмотреть все
 Russia, Samara Church Books, 1869-1917
Russia, Samara Church Books, 1869-1917
Александра Столярова 1895 1899
Александра Столярова, Примерно в 1895 - 1899
Александра Столярова родилась приблизительно в 1895 г..
Александра умерла день месяц 1899, в возрасте 4 года / лет в место смерти.
Александра Столярова 1801 1885
А
|
Метки: столяровы |
Купцы Масловы |

Купцы Масловы
31.03.2016 Макфред
Достоверно известно, что первым жителем Лебедяни по фамилии Маслов был прибывший на воеводство и руководивший крепостью в 1625-1628 г.г. рязанский городовой дворянин Иван Иванович Маслов*) В 1594-97 гг. он владел поместьями в Моржовском стане. За ним же с родственниками числились вотчины Осовец и Зименки на Рязанщине.
В 1614 г. он состоял головой в прибылом полку воевод кн. Лыкова и Ододурова в Переславле Рязанском «для приходу крымских и ногайских людей», с ним переславских стрельцов 85 человек. В 1619 г. воевода в Печерниках, в 1624-1627 гг. на воеводской должности одновременно в Печерниках и на Лебедяни. В 1625 г. с ним в Печерниках «по росписи из стрелецкого приказу стрельцов 85 чел., казаков 50 чел., обоего 135 чел. пеших, служат с земель, пушкарей и затинщиков 30 чел., розсылщиков 10 чел., воротников 2 чел., кузнецов 2 чел., тюремной сторож 1 чел.; и всего всяких людей 180 человек». По разряду того же года с ним на Лебедяни детей боярских и казаков конных 223 чел. В 1627 г. служил по городовому списку, в 1628-29 гг. воевода на Сапожке.
Воевода И.И. Маслов принадлежал к одному из дворянских родов Масловых. Согласно легенде, родоначальник самого древнего из них, Александр Маслов, выехал из Литвы в конце XIV века к Великому князю Рязанскому Олегу Ивановичу и был пожалован им вотчинами. Основоположник второго рода Масловых Анцифор выехал из Литвы около 1519 года к великому князю московскому Василию III. Сын Анцифора Иван получил деревню Творниково в Заупском стане Тульского уезда. Третий род Масловых, известный с середины XVI века, имел земли в Рославльском уезде. По мнению известного генеалога дворянства Ю.В. Арсеньева, эти три рода могли иметь общего предка в Литве **). Дальнейшая судьба лебедянского воеводы И.И. Маслова пока не выяснена. Известны и недворянские рода Масловых. К началу XX века фамилию Масловых в Лебедяни носили, по меньшей мере, три рода, скорее всего, между собой не связанные. В Лебедяни – купеческий род связан с именем известного торговца Василия Петровича Маслова (годы жизни 1879 – ? ). Он владел известным рыбным магазином «Щука» ***).
Второй зафиксированный род Масловых – мастеровые и каменщики из Черепяни, часть из которых жила и работала в Лебедяни. Предки этой линии Масловых, крестьяне, по семейным преданиям пришли на Тамбовщину из Мордовии. По фамильной легенде каменщик Иван Иванович Маслов (родился около 1890 г., умер в 1930-е годы) участвовал в ремонте кремлевской стены в Москве. По рассказам его внучатой племянницы Т.И. Абрамовой (Москва, 2006 г.), один из братьев И.И. Маслова, участвовал в революционных событиях, но был расстрелян.
Третий род Масловых, о котором пойдет речь ниже, уже в первой трети XIX века принадлежал к сословию мещан города Лебедяни Тамбовской губернии. Семейные предания относят его появление в Лебедяни к 1720-м годам, когда сословия мещан еще не существовало. Первый предок, о котором имеются косвенные метрические сведения — Иван Маслов. Ориентировочно период его жизни можно принять с 1780-х по 1830-е годы.
Его сын, мещанин Василий Иванович Маслов (примерные годы жизни: 1810-е-1860-е, документально подтвержден лишь второй брак) занимался мелкой торговлей, положил начало накоплению денег. У него был собственный дом на Гороховской улице. Женой его была дочь лебедянского мещанина Мария Васильевна Подзагнетникова. В декабре (?) 1838 года у них родился сын Николай. Года через два — дочь, Анна, впоследствии вышедшая замуж за лебедянского мещанина Петра Павловича Русинова.
Николай Васильевич Маслов (1838-1900 гг.), так же, как и отец, относившийся к мещанскому сословию, в молодости служил приказчиком в городской булочной, позже торговал самостоятельно.
дом с участком в 8 соток на Гороховской улице
Он имел собственный дом с участком в 8 соток на Гороховской улице (в XX веке до революции это д. № 15). Усадьба на Гороховской была обнесена глухим кирпичным забором-стеной высотой два с половиной метра.
забор-стена высотой два с половиной метра.
В некоторых местах стены были сделаны ниши для будущих магазинных окон.
Каменный погреб дома Масловых был большим и высоким. Он был приспособлен для хранения значительного количества продуктов. Вход в погреб был со двора.
В 1860-90 годы Николай Васильевич Маслов активно занимался мелкой торговлей. В разные годы он уезжал из Лебедяни за товаром или торговал на ярмарках других городов сел. Это подтверждает и билет, выданный ему в 1862 году лебедянским мещанским обществом для хождения в другие города сроком на один месяц.
Дополнительным источником дохода в семье служило домашнее виноделие. Николай Васильевич составлял вина строго по рецептам, используя различные компоненты, которые, покупал. Вероятно, он работал по договору с кем-то из лебедянских купцов, предположительно, с Русиновыми.
Николай Васильевич
Николай Васильевич (на фото 1880-х годов) не имел систематического образования, он закончил лишь городское училище, тем не менее, был человеком широких интересов. Он приобретал и читал книги, охотно писал, ведя торговые записи и почтовую переписку. С увлечением Николай Васильевич занимался врачеванием. Домашние лечебники, инструкции по применению различных видов лекарств, изданные официально и выписанные им собственноручно из различных источников, были у него постоянно под рукой. В доме на Гороховской был специальный шкаф, заполненный склянками с настойками, мазями, порошками, медицинскими принадлежностями. Значительное количество лекарств, многолетний интерес к лечению говорят и о довольно широкой практике Н.В.Маслова. По-видимому, к нему обращались за помощью не только домашние и родственники, но и многие знакомые. Приучал он к лекарскому делу и своих детей. Николай Васильевич пополнял свои знания и материальную базу, делая различные заказы в других торговых лавках, переписывался и консультировался с врачами. В семье неплохо знали способы лечения различных болезней, основы гигиены, разбирались в травах, знали основы латыни.
Особым пристрастием Николая Васильевича была ловля певчих птиц силками. Невольниц держали дома в отдельных клетках, которые развешивались по всем комнатам. Слушали пение, вели разговоры о его качествах со знатоками. Птиц затем продавали на лебедянских ярмарках, особенно в Троицын день.
Пелагеея Федоровна
Жена Николая Васильевича, Анна Васильевна, урожденная Жеркова, вместе со своей матерью Пелагеей Федоровной Жерковой держала торговую лавку на базарной площади Лебедяни, в которой торговала мануфактурными и другими товарами, сама вела дело и владела значительной долей, а позже – всем материальным наследством семьи.
Жерковы состояли в близком родстве с лебедянскими купцами Рахлеевыми и ефремовскими купцами Монаенковыми. Двоюродный брат Анны Васильевны о. Варлаам (Василий Данилович Монаенков) был монахом Свято-Пантелеймонова Русского монастыря на греческом Афоне при небезызвестном настоятеле архимандрите о. Макарии (1821-1889 г.г.), происходившем из рода именитых тульских купцов. В середине XIX века русское купечество, в том числе тамбовское, активно поддерживало своими пожертвованиями русских монахов на св. Афоне ****). Посильно участвовали в этом Масловы и особенно Русиновы. О. Варлаам переписывался с Жерковыми, а поскольку дела переписки в семье лежали на Николае Васильевиче Маслове, то он оказался автором и получателем различных корреспонденций, в том числе связанных с пожертвованиями родственников.
В 1897 году у А.В. Масловой обнаружилась злокачественная опухоль. Николай Васильевич подключил все свои связи среди практикующих врачей, вплоть до врача из соседней Орловской губернии. Он писал письма к людям, лечившим различными способами подобные заболевания, не жалел денег на лекарства. Однако вылечить жену так и не смог. Умерла Анна Васильевна 23 (11) апреля 1898 года. Перед кончиной она благословила мужа и бывших в то время дома детей.
После преждевременной смерти жены (в возрасте около 56 лет), Николай Васильевич прожил всего два года. Еще физически бодрым, шестидесяти двух лет, он внезапно умер от апоплексического удара, случившегося с ним на базаре возле Ново-Казанского собора. Похоронен он был на старом Лебедянском кладбище рядом с женой. До 1950-х годов дети посещали их могилы. Внуки Н.В. Маслова разъехались по всей стране и сегодня места захоронений Н.В. и А.В. Масловых, а также П.Ф. Жерковой, пережившей дочь на несколько лет, к сожалению, утеряны. У Николая Васильевича и Анны Васильевны Масловых было шестеро детей. Двое из них умерли в младенчестве. В Лебедяни продолжали жить — Мария (1866-1942 гг.), Иван (1869-1898 гг.), Владимир (1875-1947 гг.), Татьяна (1878-1953 гг.).
Старший сын Иван
Старший сын Иван также как и отец занимался мелкой торговлей, однако, не слишком удачно. Он рано отделился от семьи и однажды пропал во время торговли вне дома. Ему было около 29 лет. Последние годы он жил в селе Красном.
Младший сын, Владимир, окончив городское училище, некоторое время также торговал на различных ярмарках, помогал матери в лавке, работал у родственников, купцов Русиновых, ходил торговать в Сезеново, Моршанск, Елец, Михайлов.
Старший сын Иван
Двадцатилетним он вытягивает жребий и в 1896 году уезжает на военную службу рядовым на три года в крепость Новогеоргиевск, под Варшавой. Возвращается со службы телеграфистом унтер-офицерского звания.
Мария Николаевна
Дочери, Мария Николаевна Маслова и Татьяна Николаевна, окончили начальное городское училище, участвовали в торговых делах семьи, овладели различными навыками домашней работы, охотно читали и пели, вели обширную переписку.
Татьяна Николаевна
Татьяна хорошо готовила, играла на гармони-ливенке, рисовала, Мария была неплохой рукодельницей – обшивала семью, брала заказы для заработка, вела домашнее хозяйство: держала корову, делала домашние заготовки. В 1920-е годы несколько лет работала в Лебедянской больнице в составе младшего медперсонала. Сестры воспитывали племянников (они были их крестными), подолгу у них живших во время учебы в Лебедяни. Мария и Татьяна остались жить в родительском доме на Гороховской, так и не выйдя замуж. В зрелые годы сестры существовали на средства, получаемые от квартировавших в их доме учащихся. С возрастом они стали более религиозными, малообщительными, помногу болели. Брат Владимир и племянники как могли, помогали им материально. Со смертью Татьяны Николаевны Масловой в 1953 году присутствие рода Масловых в Лебедяни прекратилось.
Трудно сказать, как сложилась бы судьба Владимира (на фото 1897 г., справа), если бы в 1890 году к Лебедяни не подвели Рязанско-Уральскую железную дорогу (РУЖД), и не началось строительство железнодорожного вокзала. По приходе с военной службы Владимир меняет расчетную книжку лавочника на ключ Морзе телеграфиста и выбирает карьеру железнодорожного служащего. В 1903 году он женится на зажиточной государственной крестьянке села Старый Копыл Прасковье Семеновне Прониной
с мужем и старшими детьми Лидией и Николаем
(на фото 1908 г. она с мужем и старшими детьми Лидией и Николаем). Род Прониных был породнен со священническими лебедянскими родами Лакедемонских и Сокольских. Детей у Масловых было пятеро. Благодаря настойчивому характеру матери, старшие дети учатся в гимназии, много читают, занимаются самообразованием.
В послужном списке В.Н. Маслова одиннадцать станций РУЖД, на которых за сорок лет он прошел путь от приемщика поездов до начальника узловой станции Арсеньево (Тульской губернии). Владимир Николаевич был опытным специалистом, уважаемым на дороге, не раз до революции отмечался благодарностями железнодорожного начальства. В числе отличившихся за проведение мобилизации в Первую Мировую войну был награжден медалью ордена Белого Орла за высочайшей подписью.
Несмотря на то, что Масловы в материальном плане значительно пострадали от революционных перемен (были аннулированы вклады, ассигнации, конфискованы деньги, материальные ценности, копившиеся семьей в течение десятков лет), Владимир Николаевич, посвятив себя железной дороге, с высокой внутренней выдержкой принял условия нового режима. Он неоднократно переживал и бесцеремонность действий ВЧК, и наскоки продовольственных отрядов, и подозрения в нелояльности к новому строю, и дознания в период красного террора. При этом он никого не подставил, старался, как мог, защищать сослуживцев и лично отвечал за работу в целом той или иной станции. Так, в 1920 году он спас от расстрела сотрудниками ВЧК за мелкую провинность помощника начальника станции Тёплое Г.П. Козлова, имевшего огромную семью. Сознательно не участвуя в политических и пропагандистских мероприятиях нового поколения железнодорожников, В.Н. Маслов сосредоточился на технической работе, обучении кадров. Он тяжело переживал известия о расстрелах и репрессиях НКВД в отношении его родственников, старых товарищей, работавших на соседних станциях. В трудные годы революции, гражданской войны и голода неизменной опорой и поддержкой его была жена,
Прасковья Семеновна
Прасковья Семеновна, имевшая едва ли не больший, чем ее муж, нравственный авторитет среди семей железнодорожников линии Раненбург-Смоленск. И спустя многие годы, после переездов вслед за мужем с очередной станции на другую, к ней продолжали приезжать за советами по решениям семейных проблем ее подруги и знакомые. Она помогала словом и делом десяткам женщин в округе, неся при этом нелегкий семейный крест.
Возможно, В.Н. Маслов чудом уцелел в годы репрессий, потому что по окончании Гражданской войны он осознанно во имя выживания и развития семьи вынужден был уйти на должностное понижение. Окончил свой профессиональный путь он помощником начальника маленькой станции Богатищево в 1936 году, за год до очередной кровавой чистки среди бывших специалистов-железнодорожников. Последние свои одиннадцать лет (из них семь – с женой, до ее смерти в 1944 году), он прожил в подмосковном поселке Хотьково близ Загорска, живя исключительно натуральным хозяйством, но, умудряясь при этом активно помогать семьям детей, ушедших на фронты Великой Отечественной, и своим лебедянским сестрам
В.Н., П.С. Масловы и некоторые члены семьи
Судьбы детей и внуков В.Н. и П.С. Масловых сложились по-разному и в то же время чем-то похожи. Трудно пережиты голодные тридцатые годы, Великая Отечественная война, случалось горе, болезни, были потери, впрочем, не такие многочисленные, какие пришлось пережить их близким из породненных фамилий. Гораздо сильнее пострадали семьи Прониных, Лакедемонских, Сокольских, в которых кровавое время 1920-30–х годов погубило многих честных людей, повинных лишь в том, они были непролетарского происхождения.
В советский период дети В.Н. и П.С. Масловых стали инженерами, служащими, учителями, врачами*****. Внуки расширили этот список профессий. К перечисленым, добавились военные, художники, музыканты, бизнесмены, журналисты. Но это уже другие истории, не связанные непосредственно с Лебедянью. До сих пор многие Масловы вспоминают и чтут своих тамбовских предков, с благодарностью в душе передавая потомкам знание о месте истока своей фамилии – старинном уездном городе на Верхнем Дону.
Е.А. Маслов,
Сергиев Посад,
25 августа 2006 г.
Автор будет благодарен всем, кто откликнется с добавлениями, комментариями, или критикой по этому материалу.
Написать можно по адресу: maslov57@mail.ru
Примечания.
* — П.Н. Черменский, «Город Лебедянь и его уезд», СПб, 1913 г., изд. Тип. В.Д. Смирнова, к трехсотлетию
г. Лебедяни 1613-1913.
**- Сайт дворян Масловых
***- В.В. Акимов, «Лебедянь от А до Я», Липецк, 2005 г., статья «Щука».
****- П.Н.Троицкий «Русские на Афоне», изд. 2003 г.
*****- Е.А. Маслов. «Масловы в Куркинском районе», газета «Вперед» Куркинского района Тульской области,
№№ 57-58,59 за 2004 г.
Фрагмент фотоизображения купца В.П. Маслова предоставлен Лебедянским краеведческим музеем.
Биографические сведения о действующих лицах очерка и фотографии из ГАЛО и архива Е.А.Масловаhttp://www.lebedyan.com/personalii/maslovy/kupcy-maslovy/
|
Метки: масловы |
Электрическое дальновидение |
Электрическое дальновидение
Иоффе взял термин «видение на расстоянии» из статьи Кэмпбелла Свинтона в журнале «Nature», где автор использовал выражение «электрическое видение на расстоянии».
Идея захватила Льва. Иоффе предложил Льву вступить в члены только что открытой Иоффе Инженерно-физической школы при Физико-техническом институте и взять проблему «электрического видения» в качестве кандидатской диссертации. Поле деятельности было совершенно открытым. Нигде в мире ещё не было телевизионных систем, хотя общие концепции передачи изображений уже начали обсуждаться. Лев взялся за дело и привлёк к работе некоторых сотрудников Физико-технического института и, прежде всего, Константинова.
На самом деле у него уже был «задел». В 1921 году, по своей собственной инициативе, Термен разыскал около 50 статей и патентов, связанных с телевидением; причём первые из них относились ещё к 1825 году. Лев доложил о своих изысканиях на семинаре в институте и на заседании Русского общества радиоинженеров. Он обнаружил, что термин «телевидение» был предложен в 1900 году Константином Перским на Международном Конгрессе по электричеству во время работы Парижской выставки. Лев узнал также, что самое раннее изобретение, являющееся предвестником телевидения, было запатентовано в 1884 году немецким изобретателем Полем Нипковым.
«Диск Нипкова» представлял собой большую круглую пластину с 24-мя небольшими отверстиями-апертурами, расположенными в форме участка спирали вблизи внешнего края. При вращении диска эти апертуры сканировали изображение освещённого объекта и направляли его на селеновую ячейку, которая преобразовывала информацию в серию электрических импульсов. В приёмнике импульсы заставляли аналогичные световые образцы проходить через второй диск, вращающийся синхронно с первым. В результате вновь выстраивалось первоначальное изображение, которое проектировалось на экран или просматривалось через окуляр оптического прибора. Концепция Нипкова разрабатывалась другими исследователями. В результате исследований была заложена база механических телевизионных систем. Термин «механические» связан с неуклюжим вращающимся диском.
Лев узнал, что одно из направлений исследований разрабатывается в его родном городе. В 1907 году Борис Розинг, лектор Технологического института Санкт-Петербурга, подал на регистрацию патент, содержавший «зародышевую» концепцию будущего телевидения. В этом же году с помощью своего студента, Владимира Зворыкина, Розинг успешно продемонстрировал первую систему, сконструированную на основе патента. Для передачи изображения был использован механический сканер, а приёмник представлял собой золотую катодно-лучевую трубку – усложнённую форму трубки Гейслера, которую Лев использовал в 1912 году на представлении в гимназии. Из стеклянной трубки был откачан воздух, а внутрь вмонтированы два электрода (анод и катод). При включении тока высокого напряжения некоторые из электрических лучей между катодом и анодом попадали в область сзади анода, вызывая флуоресцентное свечение. Путём фокусирования этих «катодных лучей» (позднее было открыто, что это электроны) в один пучок и контроля отклонения этого пучка по горизонтальной и вертикальной осям были получены электрические импульсы. Импульсы давали развёрнутую картину, представляющую вспыхивающие серии линий, как бы струящихся непрерывно по внешней стороне трубки. На стенку (экран) наносили фосфор, что пролонгировало флуоресцентное свечение до нескольких секунд с момента удара электронного пучка. В результате происходило заметное изменение первоначальной переданной картины. Поскольку в этом методе была предпринята попытка уйти от ненадёжных дисков, по крайней мере, на приёмном конце, он уже рассматривался скорее сак «электронный», чем как «механический».
9 мая 1911 года Розинг и Зворыкин успешно продемонстрировали свой принцип в Технологическом институте Санкт-Петербурга, спроецировав на экран изображение из четырёх люминесцентных полос. Хотя эта система и не была функционально законченной и практически применимой, но её придали выдающейся. Русское Технологическое общество наградило Розинга золотой медалью. Владимир Зворыкин эмигрировал в 1919 году в США и позднее выступил как пионер развития электронного телевидения для Радиокорпорации Америки.
В ноябре 1924 года Лев начал проводить под руководством Иоффе лабораторные испытания. Иоффе в это время часто бывал в командировках, особенно в Берлине. Оттуда он запрашивал своих коллег по институту, какое им нужно оборудование, запасные части, книги. На первый взгляд эти путешествия были совершенно безобидными: директор института совершает закупки материалов и налаживает отношения с иностранными учёными. Но, как Лев понял впоследствии, целью поездок Иоффе были не только журналы и наборы трубок для опытов. И хорошо проторенная дорога в Берлин тоже была не случайной.
Основатели Советского государства предсказывали победу социалистической революции во всём мире. Для ускорения этой победы был создан Коммунистический Интернационал. Коминтерн отвечал за подпольные коммунистические организации во всех странах. Единая конечная цель – победа пролетариата должна охватить весь земной шар. «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» – это был манифест коммунистов. – «Вам нечего терять, кроме своих цепей».
Германия была великолепным плацдармом для экспорта социалистической революции. После окончания войны побеждённая нация проявляла всё большую симпатию к Коммунистической партии Германии. Плакаты по всей Москве обещали: «Германская революция у ворот».
Насаждение революции в других странах происходило с помощью операций служб разведки. Две государственные организации контролировали деятельность разведки: ЧК и 4-й отдел Красной Армии (ГРУ), созданный Троцким. Основными разведывательными центрами за рубежом стали легальные дипломатические организации в различных городах.
Российское посольство в Берлине на самом деле представляло собой широкую паутину шпионов и провокаторов. Военный атташе обязательно был представителем ГРУ, а один из консулов – членом ОГПУ. Простые агенты и члены ЦК высокого ранга маскировались под швейцаров, секретарей или персонал офиса. Обычно они знали только нескольких человек из всей огромной цепи. По улицам незаметно передвигались «резиденты» – агенты, постоянно живущие в городах для координации подпольной деятельности Коминтерна. Помимо политического шпионажа важным делом был также индустриальный. Военные технологии Германии представляли огромный интерес для России. Агенты ОГПУ и ГРУ получили доступ на все промышленные объекты Германии. В большой степени они были нацелены на производство химических веществ, стали; электрическую индустрию и авиацию. Одним из методов достижения доверия со стороны Германии стала регистрация советских изобретений в качестве немецких патентов. Это делалось с целью создать впечатление, что запатентованные объекты могут быть проданы или произведены в Германии. На самом деле доступ в патентные организации обеспечивал неисчерпаемый источник информации для России.
Иоффе был «призван» одним из первых. Он начал поездки из Москвы в Берлин, но сначала практически не делился ничем, связанным с его подпольной деятельностью, с коллегами. Только в 1924 году Абрам Фёдорович начал вовлекать в свои дела Льва. Иоффе попросил Льва подготовить диаграммы, фотографии и копии патентов. Они могли понадобиться при установлении деловых отношений с иностранными компаниями. Находясь в командировке, Иоффе сообщил, что он подписал контракт от имени института с компанией Goldberg and Sons, которая поставляла медицинское оборудование в Россию. Соглашение включало коммерческое производство «электрического сторожа» и терменвокса. Когда Иоффе вернулся, он был более откровенен.
Он рассказал Льву детально про свою жизнь в Германии, о связях с Советским Союзом и о дальнейших планах в области коммерции обеих стран. Он также предупредил Термена, что тот должен готовиться к командировке в Германию для помощи в деле подготовки патентов, привозить для института наиболее необходимые современные радиодетали и вносить персональный вклад в компанию Гольдберга. К декабрю 1925 года у Льва было уже две заявки на регистрацию изобретений в Германии. Это был его профессиональный шаг в западный мир. Но тогда он и не мог предположить, как далеко всё это его заведёт.
В начале 1925 года Лев сосредоточился на работе над «дальновидением», пробуя различные компоненты, основанные на новых принципах. С ним усиленно работали несколько его сподвижников. Среди них были Константинов и Бойко, который разработал сверхчувствительный фотоэлемент из селена, принимающий сходящийся пучок лучей сканированного света. Этот элемент позволил улучшить качество изображения. Очень трудно было собрать недостающие детали. Лев «прочёсывал» ленинградские рынки в поисках дешёвых радиодеталей или ездил в Москву на Сухаревский рынок, представляющий собой сочетание блошиного и «чёрного» рынков, где можно было купить и продать всё, что угодно.
Одновременно со Львом работала группа зарубежных изобретателей, которые создавали свои собственные системы. В 1922 году американский учёный Чарльз Дженкинс запатентовал беспроволочную систему передачи рисунков. В декабре 1923 года он продемонстрировал механический аппарат с использованием вращающихся дисков с призматическими зеркалами. Он смог послать простые изображения неподвижных объектов от передатчика через помещение лаборатории на приёмник. Возможно, это была первая зарегистрированная передача рисунков на расстоянии. Через три недели, в апреле 1925 года, шотландский изобретатель Джон Бэрд продемонстрировал механическую систему телевидения с диском Нипкова в Лондонском универмаге. Любознательные покупатели занимали очередь, чтобы посмотреть через узкую трубу на крошечные изображения с разрешением в тридцать вертикальных полосок, напоминающие фигуры в театре теней. В октябре 1925 года Бэрду удалось передать узнаваемое изображение лица мальчика.
Все эти системы доказали, что возможна посылка на расстояние неподвижных изображений при помощи радиоволн. Но приборы представляли собой беспроволочные эквиваленты машин факсимиле. Задача передачи активно движущихся объектов оставалась нерешённой.
В июне 1925 года был сделан шаг вперёд передачей изображения вращающейся ветряной мельницы на расстояние в пять миль от Мэриленда до Вашингтона. Разрешение составило 48 линий; картинка была расплывчатой, но это событие было широко освещено в печати. Впервые узнаваемый объект можно было видеть в действии!
Работы Льва были вновь прерваны осенью 1925 года, когда его отправили в Берлин. Это была командировка, о которой Иоффе предупреждал заранее. На фирме Goldberg and Sons Лев встретил Юрия Михайловича Гольдберга, одного из партнёров компании. Юрий был русским гражданином, родившимся в Санкт-Петербурге, где он посещал гимназию. Позднее он переехал в Германию для стажировки в Политехническом институте Дармштадта в качестве инженера-механика. В Берлине его стали звать Джордж Юлиус Гольдберг.
21 ноября Лев подписал определяющий документ в присутствии консула Соединённых Штатов Америки в Берлине. Суть документа состояла в том, что Лев передавал свои права на изобретение сигнальной аппаратуры («сторож») компании Гольдберга. Такой шаг был очень умной уловкой. Когда консул скрепил подписью и печатью документ, он этим как бы подписал долговое обязательство ГРУ и Коминтерну. Ещё ранее заявка на патент, зарегистрированный Иоффе в Германии, открыла новые двери в Берлин для советской разведки. Документ, подписанный Львом, представлял собой ловушку для капиталистов. Патент США обеспечивал вход в американскую индустрию. Кроме того, передача прав на изобретение немецкой фирме создавала у западных предпринимателей, заинтересованных в изобретении, впечатление, что они имеют дело с немецкой компанией, а не с СССР. Любые технические данные с Запада, относящиеся к изобретению, возвращались в ГРУ через компанию. Прибыль от продажи прибора на Западе проходила через Goldberg and Sons и попадала в советскую разведку с целью финансирования операций против западных государств.
В декабре были зарегистрированы заявки на «электронного сторожа» и терменвокс в пользу США. В Берлине Лев зарегистрировал также патенты в пользу Франции и Великобритании. Это были страны, за которыми СССР установил пристальный надзор. Параллельно со своим стандартным дуэтом заявок Лев зарегистрировал изобретения современных конденсаторов и разработанных им альтиметров для самолётов. При возвращении на Родину Лев привёз с собой в багаже радиодетали, громкоговорители и измерительную аппаратуру для Иоффе.
Лев вернулся к работе над телевизионными системами. Он одним из первых применил оригинальную зеркальную развёртку и попытался при помощи сканирования получить сетчатую структуру изображения и довёл разрешение до 64 линий. Это позволило вести передачу уже не только из закрытого, затемнённого помещения, а прямо с улицы, в условиях естественного освещения, причём не только со статическими, но и подвижными объектами. Эти эксперименты должны были стать базисом его дипломной работы, защищать которую предстояло через несколько месяцев.
5 июня Лев получил секретный пакет из бюро изобретений Реввоенсовета СССР. Ему предписывалось заполнить бумаги и подготовиться к путешествию по всей Германии для проведения дальнейшей патентной работы. Он ознакомился с инструкциями, заполнил бланки и стал ждать ответа.
7 июня Лев защитил диплом «Устройство электрического дистанционного видения». Защита проходила в конференц-зале Физико-технического института, где собралось около двухсот студентов и сотрудников. Сконструированная установка позволяла передавать простейшие изображения с чёткостью около 30 строк. На экран размером 1,5 м на 0,5 м Лев спроецировал изображения, переданные из соседней комнаты. Если человек не делал резких движений, его лицо можно было легко распознать. Движения машущей руки появлялись на экране в тот же самый момент, как они происходили. Достижение мгновенной передачи изображений разрушало все прежние устои.
Демонстрация устройства вызвала сенсацию. Иоффе рекомендовал Льву продолжать работу и разработать устройства для специальных задач, например, для подводных съёмок или для условий, когда присутствие человека опасно или нежелательно.
В декабре Лев продемонстрировал свой прибор участникам Пятого Всесоюзного конгресса физиков в Москве. Конгресс пришёл к выводу, что Лев своими работами одержал победу над экспериментами Бэрда, Дженкинса и др. Журнал «Огонёк» опубликовал интервью с А.Ф. Иоффе. Учёный сказал: «Открытие Л.С. Термена огромно и всеевропейского размаха… лучшим доказательством практической удачи сконструированного прибора является демонстрированный опыт Л.С. Термена, показанный в физической аудитории нашего института. Мы видели на экране движения человеческой руки, происходившие в те же моменты времени за стеною в соседней комнате».
Как и можно было ожидать, государство не теряло времени и желало получить выгоду из изобретения. В начале 1927 года Лев был вызван в Совет по Труду и Обороне. Ему предписали создать устройство специального дальновидения для охраны государственных границ. Указывались необходимые характеристики такого прибора: он должен был работать при дневном свете, обладать достаточно высоким разрешением для идентификации лица или предмета и уметь следить за движениями объекта. Все эти условия были достаточно жёсткими для состояния исследований по телевидению в тот момент.
Лев Термен бросил все силы на выполнение этих требований. Одновременно его музыкальная жизнь достигала всё больших вершин. По всему городу висели афиши, рекламирующие предстоящее выступление Термена в Большом зале Ленинградской филармонии. Лекция и концерт должны были продемонстрировать новейшие достижения музыкального искусства: «Музыка и цвет», «Музыка и движение», «Музыка и запахи», «Музыка и тактильные эффекты». Лев был на вершине славы. После Пятого конгресса физиков его стали называть «русским Эдисоном».
В концерт были включены отрывки из произведений Грига, Скрябина и других композиторов. Льву помогали две его тёти: певица Елена Эмильевна и Ольга Эмильевна, выпускница Петербургской консерватории, аккомпанировавшая на фортепиано. Лев принёс свой «иллюмовокс», чтобы продемонстрировать «музыку и цвет». К этим эффектам он мечтал добавить в будущем тактильные эффекты и благоухание.
К июню была готова четвёртая, секретная версия устройства для дистанционного видения, которое нужно было продемонстрировать высшему кремлёвскому эшелону. В этой модели Лев добился разрешения в сотню строк (рекорд для того времени), что позволяло отчётливо видеть лица даже при передвижении людей. Напомним, что в нынешних телевизорах разрешение – 625 строк.
Комиссию по приёмке проекта возглавлял Климент Ворошилов, народный комиссар по военным и морским делам. Первое испытание было проведено в его кабинете в Наркомате Обороны, на Арбате. Несколько высокопоставленных лиц собрались, чтобы вынести заключение о потенциальных возможностях устройства как прибора слежения. Среди присутствовавших были Михаил Тухачевский, начальник штаба Красной Армии, Семён Будённый, возглавлявший кавалерию, и Серго Орджоникидзе, большевик-лидер и будущий член Политбюро.
Портативный приёмник установили в соседнем кабинете секретаря Ворошилова, так что наблюдатель мог контролировать посетителей, движущихся внизу и приближающихся к Кремлю. Сканирующая передающая камера, выдвинутая наружу на штативе, вращалась оператором и следовала за людьми, пересекающими двор. Прохожие всё время своего движения находились в поле видения, на расстояниях от 30 до 50 метров от камеры. Все присутствующие пришли в неописуемый восторг, когда на экране появилась узнаваемая усатая фигура, – по двору шёл Сталин!
Это был второй триумф Льва в Кремле за пять лет. Спустя несколько дней Ворошилов сказал Льву, что на Сталина прибор произвёл большое впечатление и вождь просил передать изобретателю свои поздравления. Ворошилов оставил устройство на несколько дней в своём кабинете и, убедившись в его достоинствах, приказал Льву изготовить аналогичный аппарат в качестве электронного сторожа для войск, охраняющих границы. Такая система была сделана, и офицеры-пограничники учились несколько дней обращению с ней. Льва за успехи наградили премией и талоном на особый продуктовый паёк, что было большим знаком внимания со стороны правительства. Одну из установок «дальновидения», по приказу Ворошилова, расположили в здании РККА на Арбатской площади, так что за движением людей можно было наблюдать на расстоянии нескольких десятков метров. Телевидение немедленно объявили «сверхсекретным». Всякие публикации по поводу «дистанционного видения» прекратились.
Мгновенно Лев оказался лидером среди своих конкурентов. Он держал лидерство как по разрешению прибора, так и по размерам изображения на приёмнике. Размеры экрана теперь составили 1,5 м на 1,5 м. Ничего подобного у других изобретателей в 1926 году не было. Лев стал первым изобретателем, который сумел панорамировать движущийся объект, причём передача осуществлялась на открытом воздухе.
Лев «вырос» в глазах коллег и академиков, но он оказался беспомощным в смысле дальнейшего развития своих работ. Его система дальнего видения была изъята и засекречена. В результате имя Термена в справочниках по телевидению не упоминается вообще, хотя этого его вклада в инженерную науку было бы достаточно, чтобы навсегда оставить своё имя в истории.
А в то время Ворошилов сказал Льву, что ему вскоре предстоит деятельность по дальнейшему усовершенствованию прибора и созданию действующих моделей в военных целях. В соответствии с соглашением, подписанным Иоффе с компанией Гольдберг, Льву было предписано ехать в Германию для завершения всех официальных патентных документов. В июле 1927 года Абрам Фёдорович отправил Термена в длительную командировку с целью изучения новых научных достижений за границей. Такие возможности появились на основе Международного соглашения о научном и техническом обмене.
Всесоюзное общество по культурным связям с иностранными государствами предложило, чтобы Лев представил свой терменвокс на Международной музыкальной выставке, которая открывалась в Германии.
Такая идея не совсем совпадала с планами Иоффе. Мозги Льва представляли большую ценность для государства, и его функции за рубежом не должны были ограничиваться музыкой. Перед поездкой в Германию Лев получил секретные директивы непосредственно из ГРУ. Во главе ГРУ стоял тогда Ян Карлович Берзин, латыш, старый большевик, бывший член ЧК. Он руководил всей разведывательной деятельностью. Когда дело касалось иностранной индустрии и технологии, оно попадало в сферу влияния ГРУ. Лев должен был лично контактировать с Берзиным и называть его «Пётр Иванович» или просто «Пётр».
20 июля 1927 года Лев отправился в Германию с компанией музыкантов, среди которых был квартет из Московской филармонии. Их первым пунктом остановки было Советское посольство в Берлине. Оттуда они уже направлялись по разным городам. Катю, жену Льва, оставили в Ленинграде – гарантия для правительства, что её муж не сбежит в минуту слабости.
Для Льва поездка в Германию представляла большой шанс добиться успеха и увидеть, оценит ли его музыку другая культура. В России к тому времени он уже дал 180 концертов.

Родовой герб Терменов



Лев с сестрой Еленой

Первая жена Термена Екатерина Константиновна

Лев Термен (справа) в 1917 году – офицер электротехнического батальона

К. Ковальский – первый солист и мастер игры на терменвоксе

Концерт Льва Термена и Константина Ковальского

Афиша концерта «радиомузыки» 1922 года

Афиша концерта 1924 года

«Механическая телевизионная система» – дипломная работа
Льва Термена в Институте Иоффе. 1925 г.
Примечание редактора сайта.
http://trmvox.ru/books/leon-theremin-phenomenon-xx-century-kovaleva-2008-p11.html
|
Метки: термен наука |
Актриса «Пешкова, Дарья Максимовна» |
Натуральная красота
Блог о красоте и здоровье
Актриса «Пешкова, Дарья Максимовна»
Дарья Максимовна Пешкова (род. 12 октября 1927, Неаполь, Италия) — актриса Московского академического театра имени Евг. Вахтангова; одна из двух дочерей сына А. М. Горького и Е. П. Пешковой. Младшая сестра другой внучки Горького — архитектора Марфы Максимовны, которая стала женой Сергея Гегечкори, сына Л. П. Берии. БиографияВ интервью она рассказывала:
Училась в московской 25-ой школе, впоследствии 175-ой, где учились дети членов правительства. Одна из одноклассниц — Света Молотова (дочь В. М. Молотова). Как внучка Горького принимает активное участие в конференциях, Горьковских чтениях и других памятных мероприятиях в честь деда; рассказывает в интервью о своей семье — о знаменитом дедушке, бабушке Е. П. Пешковой, много сделавшей по защите бедных и обездоленных, об отце, ставшем жертвой чекистских интриг; в 2008 году Дарья Пешкова передала директору МУП «Государственный литературный музей им. М. Горького» в Нижнем Новгороде книгу с автографом деда: в книге «На дне» 1903 года издания имеется автограф писателя: «Жене и другу Екатерине Павловне. Алексей».[2] Окончила Театральное училище им. Щукина в 1949 г., курс А. А. Орочко. В том же году принята в труппу театра им. Евг. Вахтангова. В интервью она рассказывала:
Роли в театре
Роли в кино
|
||||||||||||||
|
Метки: пешковы |
Картина Татьяны и письма Натальи Гиппиус - Екатерине Пешковой. |
Картина Татьяны и письма Натальи Гиппиус - Екатерине Пешковой.
- 16 авг, 2015 at 9:35 PM
Начало рррассказа о сёстрррах Гиппиус - здесь.

Екатерина Павловна Пешкова, первая жена Максима Горького
О ГИППИУС Т. Н. — ПЕШКОВОЙ Е. П.
ГИППИУС Татьяна Николаевна, родилась в 1877 в Харькове. Сестра поэта Гиппиус Зинаиды Николаевны. Окончила Академию художеств. 2 ноября 1910 — получила звание художника за картину "Садко гусляр". Художник, график, преподаватель рисования в коммерческом училище, частной школе и детском саду Шидловской, после 1918 — в советской школе. Работала художником на фабрике "Светоч". В ночь с 24 на 25 декабря 1928 — арестована в Ленинграде как «участница контрреволюционной монархической организации "Воскресение"». 22 июля 1929 — приговорена к 3 годам концлагеря и в августе отправлена в Соловецкий лагерь особого назначения
[Алфавитный указатель жителей Петрограда на 1917 год. Петербургский генеалогический портал, 2005. Издательство ВИРД, 2005. И. Флиге, А. Даниэль. "Дело А. А. Мейера". СПб.: "Звезда", 2006. С. 157-194.]
Татьяна Гиппиус. "Садко-гусляр" (Журнал "Нива" 1911 год).
.
В сентябре 1930 — к Е. П. Пешковой обратилась за помощью ее сестра Наталья Николаевна Гиппиус.
<11 сентября 1930>
«Многоуважаемая Екатерина Павловна
Не откажите оказать мне содействие в получении разрешения на свидание с сестрой моей, Татьяной Николаевной Гиппиус, находящейся в г<ороде> Кеми, УСЛОН, I отд<еление>. И выслать его мне по следующему адресу: г<ород> Ленинград. Ул<ица> Кр<асной> Конницы, д<ом> 22, кв. 9. Наталии Николаевне Гиппиус.
Заранее приношу Вам свою благодарность.
С уважением Н. Гиппиус»
.
Через четыре дня Наталья Николаевна Гиппиус вновь обратилась к Е. П. Пешковой.
<15 сентября 1930>
«Многоуважаемая Екатерина Павловна
Простите пожалуйста, что еще раз решаюсь беспокоить Вас.
В заявлении (кот<орое> я Вам послала) в ОГПУ с просьбой разрешения мне свидания с моей сестрой, т<ак> н<азываемая> Гиппиус (прожив<ающая> в г<ороде> Кеми) я неправильно обозначила дату ее ареста. Она арестована была 25 дек<абря> 28 г<ода>, а не 29-го, как я написала в заявлении. Если можно, не откажите внести эту поправку в мое заявление.
Еще раз извиняюсь за лишнее беспокойство.
С уважением Н. Гиппиус»
.
24 декабря 1931 — Татьяна Николаевна Гиппиус была освобождена из лагеря досрочно с ограничением проживания. Проживала в Вятке, затем — в Новгороде.
отсюда
Да, и ешё очень хочу поблагодарррить авторрра статьи, собственно, благодаррря которррой несколько лет назад я и заинтеррресовался легендой, связанной с особняком Дубасовой.
Метки:
|
Метки: пешковы гиппиус |
Легенды московских кладбищ |
Впрочем, отношения двух гениев всегда были неровными. Когда Левитан отказывался принимать участие в развлечениях, придуманных Чеховым, и предпочитал провести время за работой, Антон Павлович писал шутливые объявления: «Торговля скороспелыми картинами ковенского купца Исаака сына Левитанова». В ответ Левитан писал собственную рекламу: «Доктор Чехов принимает заказы от любого плохого журнала. Исполнение аккуратное и быстрое. В день по штуке».
А ведь было время, когда Чехов и Левитан и вовсе могли породниться. Исаак Ильич был влюблен в родную сестру писателя, Марию Павловну. Но когда Левитан сделал ей предложение, Чехов не позволил случиться этому браку.
Мария Павловна умерла в 1957 году. Однажды в Ялте мне довелось повстречаться с дамой, которая была знакома с ней. Моя новая знакомая рассказала, что в конце жизни Мария Павловна говорила ей: «Антон был великий писатель, но не был великим братом. Потому что он не дал состояться моему счастью». Сестра Чехова так и не вышла замуж, до своей кончины в возрасте 93 лет она жила в Ялте и руководила музеем брата.
А Левитан свои дни закончил в Москве, в доме в Трехсвятительском переулке. Сегодня здание, помнящее великого живописца, гибнет на глазах. Как обидно, что никому до этого, кажется, нет никакого дела…
На мольберте осталась незаконченной работа «Уборка сена». На пленэр Левитан ездил в подмосковные Химки, там и простыл. Среди врачей, которые проводили консилиум, был доктор Антон Чехов. Последним желанием художника было, чтобы после его ухода уничтожили все письма, которые он получал от своих друзей и коллег. Воля Левитана была исполнена.
Исаак Левитан был похоронен на еврейском кладбище, примыкавшем к Дорогомиловскому погосту. Сохранилось описание могилы художника, сделанное А. Саладиным: «От ворот в глубину кладбища ведет широкая, усыпанная песком дорожка. На ней какая-то служебная кирпичная постройка разделяет кладбище на две половины. Немного не доходя до этой постройки, с краю дорожки погребен “Тургенев русской живописи” – Исаак Ильич ЛЕВИТАН. На его могиле самый простой памятник, каких много на православных кладбищах, только снят крест. Надпись сделана по-русски: “Здесь покоится прах нашего дорогого брата, Исаака Ильича Левитана (следуют даты рождения и смерти). Мир праху твоему”».
Сегодня на месте Дорогомиловского кладбища проходит Кутузовский проспект. После начала строительства магистрали прах Левитана был перенесен на Новодевичье. Его надгробие – единственный памятник на этом кладбище, на котором выбита надпись на двух языках: русском и иврите.
* * *
Долгие годы за могилой Левитана ухаживал его друг, художник Михаил НЕСТЕРОВ (1862–1942).

В 1938 году Нестеров был арестован и две недели провел в камере Бутырской тюрьмы. Не стало художника четыре года спустя. Михаил Васильевич сегодня тоже похоронен на Новодевичьем, совсем рядом с Левитаном.
* * *
Тут же находится и семейное захоронение Серовых – художника Валентина СЕРОВА (1865–1911) и его близких. Первоначально Серов был похоронен на Донском кладбище, а затем его прах перенесли на Новодевичье.
* * *
Есть на Новодевичьем уголок, куда я прихожу, словно к своим близким. Это родовое захоронение Пешковых – Екатерины Павловны, жены писателя Максима Горького, чья настоящая фамилия, как известно, была «Пешков», сына Максима и невестки Надежды.

Подобное отношение к этой семье возникло у меня после знакомства с внучкой Горького. Я приехал к Марфе Максимовне, чтобы расспросить ее о дружбе с дочерью Сталина Светланой. Но наша беседа оказалась значительно шире. В конце концов, хочется верить, мы подружились с Марфой Максимовной, я стал часто навещать ее. И, конечно, расспрашивать о ее удивительной семье.
На Новодевичьем не так много памятников, которые представляют интерес с художественной точки зрения. Памятник сыну Горького, выполненный Верой Мухиной, – шедевр. Когда надгробие было готово, мать Максима поблагодарила Мухину: «Вы продлили мне свидание с сыном».
Максим ПЕШКОВ (1897–1934) мечтал быть авиаконструктором. Но Ленин сказал: «Ты должен всегда находиться с отцом». Не подчиниться Максим не мог. В конце концов именно это и погубило талантливого молодого человека.
Когда Горький в 1932 году вернулся в Москву, по всей стране стали появляться колхозы и совхозы, заводы и фабрики, улицы и города, носящие имя Горького. Сам писатель на церемонии открытия не ездил, посылал сына. А чем обычно заканчивались все эти торжества? Банкетами. В итоге Максим начал серьезно выпивать, и это стало большой бедой. Рассказывают, что когда он умирал, то постоянно произносил какую-то формулу. И когда потом, спустя годы, его мать, Екатерина Павловна, повторила эти цифры авиаконструктору Туполеву, тот сказал: «Это же формула крепления крыла самолета».
Максим был самой большой любовью Горького. После его смерти сам писатель прожил только два года. Он принял активное участие в создании памятника сыну. За основу предложил взять творение Микеланджело, хотел показать, что глыба, которая словно придавливает Максима к земле, – это он сам…
Сам Горький мечтал быть похороненным рядом с сыном. Но Сталин не позволил, сказав, что пролетарский писатель будет похоронен в Кремлевской стене. Екатерина Павловна пыталась получить разрешение захоронить на Новодевичьем хотя бы частичку праха, но ее не услышали.
Марфа Максимовна рассказывала мне: «Говорили ли мы с мамой о папе? Это была для нее непростая тема. Когда он приехал в СССР, все и началось. Его просто стали спаивать.
Почему он простудился в тот роковой день? Мама сказала: “Еще раз увижу тебя в таком состоянии, мы расстанемся”. И когда он все-таки в таком состоянии приехал, находясь до этого в гостях у Ягоды, то не посмел зайти в дом, решил посидеть в саду, заснул и замерз.
Об отце мама не любила говорить. Это была ее боль. Она всегда говорила: “Потеряли мы Италию, потеряли мы нашу любовь и друг друга”.
Екатерина Павловна ПЕШКОВА (1876–1965) – первая и единственная официальная жена Горького – похоронена здесь же. У них с Горьким было двое детей – сын Максим и дочь Катя. Девочка умерла в возрасте пяти лет. У Горького на тот момент был бурный роман с актрисой Марией Андреевой, они находились в Нью-Йорке. На похороны Кати Горький не приехал.
Когда спустя годы семья переезжала в Москву, Екатерина Павловна отправилась на нижегородское кладбище, чтобы забрать прах дочери. Но ничего обнаружить не удалось, кроме маленького ботиночка. Этот ботиночек Екатерина Павловна потом хранила дома.
Рядом с памятником Максиму – небольшая мраморная плита, на которой выбито три слова: «Надежда Алексеевна ПЕШКОВА (1901–1971)». Невестка Горького, та самая Тимоша.
Откуда такое странное прозвище? Оно родилось в Италии, где несколько лет жила семья Горького. В один из дней невестка писателя вдруг остригла свои роскошные длинные волосы и спустилась к завтраку с новой прической. Горький встретил ее словами: «Слушай, у нас в Нижнем Новгороде так только кучера ходили». «Точно, вылитая Тимоша», – тут же поддержал отца Максим, назвав жену именем, с которым обращались к извозчикам.
Так Надежда Пешкова и стала Тимошей, под этим именем она и вошла в историю.
Когда в конце жизни Анну Ахматову спросили, какая главная трагедия 20 века еще не написана, она ответила, параллельно словно выводя пальцем в воздухе: «Тимоша». Почему главная трагедия? Об этом мне тоже рассказала Марфа Максимовна. В Тимошу, как оказалось, был влюблен Сталин. После того как не стало Горького, Сталин сделал ей предложение. Тимоша ответила отказом. Ее «нет» Сталин был вынужден принять. А вот все мужчины, которые оказывались потом в окружении Тимоши, были репрессированы. Это большая драма, о которой я подробно пишу в книге «Мемуары матери Сталина. 13 женщин Джугашвили».
9
|
Метки: некрополь пешковы чеховы |
Графиня Амурская |
Графиня Амурская |
 2013 год отмечен важной для всех дальневосточников исторической датой — 155-летием заключения Айгунского договора и основания города Хабаровска. Эти события — итог замечательных деяний выдающегося государственного деятеля России XIX века графа Н. Н. Муравьева-Амурского (1809–1881), который почти 13 лет успешно управлял одним из самых обширных в Российской империи Восточно-Сибирским генерал-губернаторством. Но если быть до конца справедливыми, нужно обязательно сказать, что немалую роль в этом сыграла супруга графа — Екатерина Николаевна Муравьева (1815–1897). В отличие от публичной жизни Н. Н. Муравьева-Амурского о его частном пространстве мы знаем совсем немного. Но хорошо известно, что оно было освещено присутствием и согрето душевным теплом жены и друга. К сожалению, изображение Екатерины Николаевны, несмотря на предпринятые усилия, пока обнаружить не удалось.
2013 год отмечен важной для всех дальневосточников исторической датой — 155-летием заключения Айгунского договора и основания города Хабаровска. Эти события — итог замечательных деяний выдающегося государственного деятеля России XIX века графа Н. Н. Муравьева-Амурского (1809–1881), который почти 13 лет успешно управлял одним из самых обширных в Российской империи Восточно-Сибирским генерал-губернаторством. Но если быть до конца справедливыми, нужно обязательно сказать, что немалую роль в этом сыграла супруга графа — Екатерина Николаевна Муравьева (1815–1897). В отличие от публичной жизни Н. Н. Муравьева-Амурского о его частном пространстве мы знаем совсем немного. Но хорошо известно, что оно было освещено присутствием и согрето душевным теплом жены и друга. К сожалению, изображение Екатерины Николаевны, несмотря на предпринятые усилия, пока обнаружить не удалось.
Портрет Екатерины Николаевны Муравьевой, прекрасной и мудрой женщины, о которой до недавнего времени известно было совсем немного, по крупицам собрала, создав в итоге ее яркий образ, Нина Ивановна ДУБИНИНА — доктор исторических наук, профессор Дальневосточного гуманитарного университета.
Красавица с добрым сердцем
В воспоминаниях современников сохранились прямо противоположные, полярные свидетельства о характере и поведении графа Н. Н. Муравьева-Амурского. А вот их оценки его супруги графини Екатерины Николаевны однозначны: чрезвычайно красива, умна и образованна, мягкого и ровного характера, доброго сердца. И еще, что она испытывала любовь к своему новому отечеству.
Окружение генерал-губернатора, его сподвижники высоко ценили Екатерину Николаевну, о чем могут в какой-то мере свидетельствовать те почести, которых она была удостоена. С присуждением Н. Н. Муравьеву за заключение в 1858 году Айгунского договора России с Дайцинской империей титула графа Амурского Екатерина Николаевна стала графиней Амурской. По регламенту это произошло автоматически. Но в действительности эта женщина внесла свою скромную, но важную лепту в масштабное преобразовательное дело мужа. Неслучайно сподвижники Н. Н. Муравьева в 1891 году написали ее имя (вместе с именами еще одной выдающейся женщины Екатерины Ивановны Невельской и многих активных участников амурской эпопеи) на планшетах, которые украшали пьедестал памятника графу Муравьеву-Амурскому на амурском утесе Хабаровска. Ее именем была названа одна из казачьих станиц на Амуре, основанная в 1858 году. И сегодня село Екатерино-Никольское, несмотря на все потрясения, благополучно живет и будет отмечать свое 155-летие.
Екатерина Николаевна была награждена орденом Святой Екатерины, учрежденным Петром Первым, а ведь за два века этой награды были удостоены всего 734 российские дворянки. Но еще большая награда — добрая память о Екатерине Николаевне, сохранившаяся среди амурцев, что запечатлено в книге И. П. Барсукова «Граф Н. Н. Муравьев-Амурский» и в воспоминаниях о нем.1
 «Я встретил Вас...»
«Я встретил Вас...»
Брак Николая Николаевича и Екатерины Николаевны продолжался 35 лет. Всегда интересна предыстория счастливых супружеских отношений, история знакомства и развития отношений между будущими супругами.
Обстоятельства знакомства боевого русского генерала не первой молодости — 35-летнего Н. Н. Муравьева с Елисавет де Ришемон, совсем не юной французской дворянкой, которой уже шел тридцатый год, покрыты туманной пеленой времени и завесой таинственности. Тем не менее имеются основания предположить, что это был курортный роман.
Острая лихорадка и незалеченная в течение почти пяти лет рана правой руки заставили генерал-майора Муравьева просить отпуск с Кавказа на полгода для лечения минеральными водами в Германии. Можно предположить, что там и произошло его знакомство с Елисавет, которая тоже принимала воды. Для Николая Николаевича «Я встретил Вас, и все былое в отжившем сердце...» не только ожило — вспыхнуло и разгорелось ярким пламенем, не угасавшим уже до его кончины. Елисавет де Ришемон сразу же была сражена боевым генералом с рукой на черной перевязи, полным внутреннего огня и кипучести в речи и движениях. После окончания лечения русские напарники по курорту отправились в Лондон, а Муравьев — в Париж. Оттуда он писал брату: «Я никогда не буду жалеть о поездке моей сюда и за границу вообще. (...) Страсть углубляться в человеческое сердце усиливается во мне тем более, чем более я встречаю новых людей».2
Во Франции Николай Николаевич пробыл вместе с Елисавет десять дней, наслаждаясь ее красотой и общением, знакомясь с достопримечательностями. Но, очевидно, предложение он ей не сделал, поскольку испытывал, по его словам, серьезные денежные затруднения. К тому же он не имел «ни кола, ни двора».
Не только лечение на курорте, но и огромное чувство, овладевшее Муравьевым, благоприятно сказались на его здоровье. В конце 1845 года он был причислен к Министерству внутренних дел, а спустя полгода назначен исполнять должность военного губернатора города Тулы и тульского гражданского губернатора с оставлением армии. Теперь Муравьев имел крышу над головой — губернаторскую резиденцию и вполне приличное губернаторское содержание.
Тотчас он отправил в Париж письмо с предложением руки и сердца. Согласие Елисавет не заставило ждать, и 19 января 1847 года в Богородицком храме под Тулой состоялось бракосочетание Н. Н. Муравьева и Елисавет Буржуа де Ришемон, которая перед этим приняла православие и взяла имя матери губернатора, которая умерла, когда ему было девять лет. Авторитетно мнение И. П. Барсукова: женитьба Н. Н. Муравьева имела «большое влияние на его будущность».
Желание Екатерины Николаевны изучить русский язык восхитило супруга. «Катенька моя теперь в классе русского языка; с ее способностями есть надежда, что она скоро будет говорить и писать». Действительно через несколько месяцев она написала письмо по-русски своему деверю — любимому брату Николая Николаевича — Валериану Николаевичу.
Приведенные И. П. Барсуковым в книге о Муравьеве-Амурском выдержки из его писем того времени о супруге наполнены восторженными словами: «Милая, прекрасная, умная и всего более любящая Екатерина Николаевна обворожила всех... О себе я говорить не буду: меня можно считать пристрастным».
Из письма брату: «...прошу полюбить мою милую Катеньку ... по уму и душевным ее качествам она истинно этого заслуживает; а по тому, что сделала из любви ко мне (принятие православия — Н. Д.), она выше всякой похвалы и одобрения».3
Тем не менее Екатерина Николаевна сразу же почувствовала неутомимый нрав супруга. Тотчас же после свадьбы он срочно поехал ревизовать четыре уезда области, оставив жену на попечение своей родственницы Парасковьи Николаевны.
Николай Николаевич был на седьмом небе, по его словам, он был счастлив и наслаждался «нравственным блаженством». Вместе с тем он подумал и о материальном, обратившись к брату Валериану Николаевичу с просьбой («сделай дружбу») выбрать для него имение. Но стать владельцем имения Муравьев так и не успел: император назначил его генерал-губернатором Восточной Сибири. В самом начале 1848 года новый генерал-губернатор вместе со своей супругой Екатериной Николаевной выехал из Санкт-Петербурга в Восточную Сибирь, известную как место ссылки каторжан и декабристов, в край больших снегов и сильных морозов.
 Добрый ангел Екатерина Николаевна...
Добрый ангел Екатерина Николаевна...
Кем была Екатерина Николаевна для Н. Н. Муравьева? Милой супругой, хлопотуньей, заботящейся о комфорте его жизни в Иркутске, соглашающейся со всем, что он говорил и делал? Или углубленным в себя человеком, переживающим в отсутствие мужа одиночество в большом генерал-губернаторском доме, передавая все хозяйственные заботы слугам, любившим балы и маскарады? Ни то и ни другое. Екатерина Николаевна любила генерала и была им любима. Это неземное, небесное чувство воодушевляло и окрыляло Николая Николаевича, помогало ему пережить «отсутствие полного доверия императора» Александра II, недружелюбие, непонимание, подозрительность петербургских чиновничьих кругов.
Жена генерал-губернатора считалась вторым после мужа лицом в губернаторстве. Образ жизни и обязанности Екатерины Николаевны — генерал-губернаторши, первой дамы Иркутска — были традиционными. Она вела дом, возглавляла иркутское дамское общество, участвовала во всех городских торжествах, устраивала приемы гостей и наносила визиты, занималась благотворительностью.
Будучи непритязательными в быту («оба мы не прихотливы»), обходясь минимумом, Николай Николаевич и Екатерина Николаевна устраивали в своей резиденции — «Белом доме», как называли ее иркутяне, пышные обеды, приемы и балы, украшением которых была сама хозяйка. Генерал-губернатор хорошо танцевал — сказывалось воспитание в Пажеском корпусе — и в паре с супругой блистал на иркутских балах.
Казалось, что рядом с Муравьевым, обладавшим сильной харизмой, его жене уготована роль тени или негромкого эха. Но Екатерина Николаевна вовсе не была простым отражением сиятельного мужа, его всеподданнейшей супругой. Натура самостоятельная, самодостаточная, вполне понимавшая и разделявшая амбициозные планы и проекты Николая Николаевича, Екатерина Николаевна обладала отважным сердцем Жанны д’Арк или княжны Ольги, а может быть, Екатерины Дашковой.
Как могла Екатерина Николаевна помогала мужу — главному начальнику губернаторства — и, в первую очередь, в налаживании связей и знакомств с женами декабристов, которые проживали в Иркутске. Особенно внимательно генерал-губернатор относился к семье Волконских. Помог сыну княгини Марии Николаевны Михаилу Сергеевичу поступить на государственную службу, а ей самой выехать в 1855 году из Сибири.
Из записок княгини Волконской: «Последние восемь лет никогда не изгладятся из моего благодарного сердца: за это время генерал-губернатором был... Николай Николаевич Муравьев, честнейший и одареннейший человек. Это он открыл для России Тихий океан, в то время, когда французы и англичане лишили ее Черного моря. К нам он относился так же безупречно, как и его достойная и добрая жена».4 В свое время исследователи обнаружили в архиве Екатерины Николаевны статью декабриста М. С. Лунина на французском языке, переписанную рукой жены генерал-губернатора.
«При безграничной любви к жене, — подчеркнул И. П. Барсуков, — Муравьев поддавался ее влиянию, не ослабевшему и в последние годы его жизни, и нельзя не сказать, что при пылкости характера Муравьева, это влияние было всегда в своих результатах хорошим, подчас умиротворяющим».5
Автор фундаментального исторического труда о восточно-сибирском генерал-губернаторе деликатно написал о «пылкости характера» Муравьева. Воспоминания современников позволяют говорить о его тяжелом, сложном характере и проявлениях деспотичности. Невыполнение подчиненным приказа, которое иногда случалось в силу недоразумений или ошибочной информации, вызывало у генерала вспышку страшного гнева. Он становился «рыкающим львом» и принимал чудовищные решения, грозившие проштрафившимся даже смертью. В этом состоянии с Муравьевым могла говорить только Екатерина Николаевна. Только она могла ему перечить, доказывать спокойно и ласково на французском языке невиновность обвиняемого. Екатерина Николаевна обладала магическим свойством гасить гнев мужа, доходить до его разума и сердца и тем самым предотвращать страдания, а иногда и гибель неповинных людей.
Во время второго сплава по Амуру в самом начале пути одна из барж, на которой старшим был есаул Медведев, села на мель. Когда Муравьев начал резко отчитывать есаула за оплошность, тот стал оправдываться. Это вызвало у генерала вспышку гнева, и он принял чудовищное решение о наказании провинившегося, которое было неадекватным допущенной оплошности. Муравьев приказал есаулу перебраться на остров и там остаться, что грозило ему гибелью от голода. Есаул покорно выполнил приказ. Когда через двое суток караван стал готовиться к отплытию, Екатерина Николаевна вдруг увидела дым от костра, разведенного несчастным Робинзоном. Узнав, в чем дело, она приняла самостоятельное решение и упросила дежурного по рейсу принять есаула Медведева на свою лодку. Екатерина Николаевна знала, что генерал отходчив и что она сумеет его убедить простить незадачливого казака. Так все и произошло: есаул был спасен от голодной смерти.
В другой раз под горячую руку Муравьева попал капитан Березовский — командир линейного батальона. Генерал-губернатор задумал произвести передислокацию и передал об этом приказание Корсакову. А тот, очевидно, не поняв приказ, исказил его, и в итоге в передвижении произошла путаница: рота Березовского вместо авангарда вступила в колонну. Это сразу же заметил Муравьев. Он тотчас приказал высадить отряд на берег, составить каре, взять Березовского под конвой и в середине каре закопать в землю. Воспользовавшись тем, что генерал находится на берегу, Корсаков взошел на катер и объяснил Екатерине Николаевне, что путаница произошла по его вине, поскольку он не вполне понял распоряжение генерала. Внимательно выслушав объяснение, Екатерина Николаевна сошла на берег, пригласила генерала и по-французски объяснила ему коллизию. Напустившись сначала на Корсакова, генерал потом скомандовал развернуть каре, убрать конвой, вежливо позвал наполовину поседевшего за эти страшные минуты Березовского и надел ему снятый со своего мундира орден Станислава II степени со словами: «Извини меня за мою горячность».
Современники запечатлели и еще один случай спасения Екатериной Николаевной жизни служилого человека. Генералу вручили рапорт Г. И. Невельского, где утверждалось, что командир сотни Имберг повинен в высадке англо-французского десанта в Де-Кастри. Это было очень серьезное обвинение против сотника, который сам и вручил рапорт генералу. Рассвирепевший Муравьев, полностью доверявший Невельскому, в подобных ситуациях был скор на расправу. Он отдал распоряжение расстрелять провинившегося сотника. Казакам было приказано копать яму, на краю которой должен был встать молодой офицер для расстрела. В это время Екатерина Николаевна из разговора с офицерами узнала о невиновности Имберга и вымолила у генерала для него прощение. Позднее невиновность сотника была полностью доказана.
Скорее всего, Екатерина Николаевна спасла от незаслуженной кары мужа не только трех служилых. Ей удавалось деликатно, тактично корректировать поведение Николая Николаевича Муравьева в состоянии гнева и тем самым спасать не только обвиняемых, но и оберегать самого мужа от страшного греха — лишения жизни невиновных людей. Когда это все же происходило, он сильно переживал и мучился. В окружении генерала Екатерину Николаевну недаром считали «добрым гением» и «добрым ангелом».
 ... и отважная путешественница
... и отважная путешественница
Конечно, быть женой такого масштабного человека, как Н. Н. Муравьев, отличавшегося феноменальной энергичностью, самостоятельностью, довольно редкой у чиновничества XIX столетия смелостью и редкостным бескорыстием, совсем непросто. По подсчетам М. И. Венюкова, Н. Н. Муравьев по делам службы проехал 120 тысяч верст, то есть трижды обогнул земной шар. В том числе многие сотни верст проехал верхом на лошади по тракту между Якутском и Аяном, многие тысячи верст проплыл на лодках по Амуру и Лене.
В первые годы жизни в Сибири, когда Екатерина Николаевна хорошо себя чувствовала, она стремилась быть рядом с мужем в его служебных поездках. Она убедила генерала взять ее в первую поездку на Камчатку (1849), поклявшись безропотно переносить все трудности пути. Об уникальности камчатского путешествия свидетельствуют преодоленные расстояния — более 10 тысяч верст в оба конца, разнообразие средств передвижения — лодки, суда, верховые лошади, конные повозки и экстремальность пути по тундре и болотам, преодоление быстрых рек и горных хребтов.
Самую тяжелую часть пути — от Якутска до Охотска — 1 100 верст экспедиция преодолевала верхом на лошадях. Екатерина Николаевна была хорошей наездницей, но здесь не Булонский лес под Парижем. Совершив первый переход в 25 верст, она с трудом спустилась с лошади на землю. Сопровождавший экспедицию Б. В. Струве описал разговор между супругами. Екатерина Николаевна со слезами умоляла мужа отложить до следующего дня продолжение пути. Муравьев категорически возражал и предложил супруге вернуться в Якутск. Это была их первая семейная размолвка. Струве объяснял жесткость Муравьева — опытного путешественника — неписаным законом: если в самом начале человек не преодолеет свою немоготу, то он не сможет продолжать путь. После привала Екатерина Николаевна послушно с большим трудом села на лошадь, и путешествие продолжилось.
Конечно, начальник экспедиции заботился о создании необходимых условий для дам, в числе которых была и французская виолончелистка Е. Христиан. Через два месяца и десять дней пути участники экспедиции на транспорте «Иртыш» прибыли в Петропавловск-на-Камчатке, где генерал-губернатор отдал необходимые распоряжения. Камчатская экспедиция имела важное значение в обеспечении безопасности Петропавловска. Муравьев гордился тем, что был первым среди восточносибирских губернаторов, кто совершил этот путь. Еще более он гордился Екатериной Николаевной, своей отважной супругой.
Экспедиция 1849 года на Камчатку явилась тяжелым испытанием для всех участников, и в особенности для женщин. Позже в одном из писем Л. А. Перовскому Муравьев писал, что ему «решительно ничего более не нужно кроме, разумеется, доверия, ... а в случае смерти моей, — внимания к жене моей, спутнице в Камчатку и единственному лицу, о котором я в этом мире заботиться обязан».6
В первый сплав по Амуру генерал не взял с собой Екатерину Николаевну, хотя она и собиралась. Слишком рискованным и неизвестным было это предприятие. А от участия во втором сплаве (1855) он не смог ее отговорить. В письме брату Валериану Николаевичу Муравьев писал: «Я намерен плыть по Амуру с женою, которая никак не хочет от меня отстать».7 Согласно приведенным ранее фактам Екатерина Николаевна была активным, самостоятельным и полезным участником этой экспедиции.
Путешествия по Приамурью зачастую проходили в экзотических условиях. Сохранилось описание одного такого путешествия: осенью 1855 года Муравьев и его свита передвигались от Аяна в горы, когда на аянском рейде показались неприятельские суда. «Вскоре вижу табун собак, запряженных в нарты, на передней восседает Екатерина Николаевна, а в следующей — ее камеристка, вслед — кавалькада верхом на оленях, во главе — Николай Николаевич Муравьев, некоторые из свиты пешком».8
Участие в экспедиции на Камчатку, во втором сплаве по Амуру, в поездках по Сибири дают основания считать Екатерину Николаевну Муравьеву выдающейся женщиной-путешественницей XIX века. Она доказала возможности женщины преодолевать огромные расстояния в условиях дикой природы.
 Письма из Парижа и последний приют
Письма из Парижа и последний приют
И все-таки для Екатерины Николаевны, южанки, климат Восточной Сибири был тяжелым. Она стала болеть. Как правило, Николай Николаевич свой отпуск вместе с женой проводил во Франции.
В 1856 году Муравьев пережил тяжелый личный душевный кризис, вызванный тем, что новый император Александр II в отличие от Николая I относился к нему не с полным доверием. Для генерала доверие императора всегда было принципиально важно, и он задумал уйти в отставку. Будучи в Петербурге вместе с Екатериной Николаевной он съездил в Германию, как написал в письме, «полечился с женой». Тогда Екатерина Николаевна осталась во Франции ожидать приезда мужа зимой. Но отставка не была принята, Муравьева уговорили остаться на своем посту. По этому поводу он написал брату: «...Сердце не камень: я остался, может быть, на свою гибель, но что делать, если у меня сердце часто берет верх над рассудком».9 Поэтому Екатерина Николаевна своего мужа не дождалась. По общему решению она стала жить во Франции. По словам Николая Николаевича, семейную разлуку он мог переносить «только по важности обстоятельств вверенного ему края». В письме М. С. Корсакову есть такие слова: «Я сделал величайшую жертву для Амура, возвращаясь в Сибирь, ибо и мне и жене необходимо было бы жить в умеренном климате, особливо зимою».10
С этого времени общение супругов ограничивалось перепиской и приездами Н. Н. Муравьева во Францию во время отпуска. К сожалению, где находится их переписка, сохранилась ли она, до сих пор неизвестно.
Поистине звездным часом Муравьева стало подписание Айгунского договора России с Дайцинской империей 16 мая 1858 года, явившегося итогом его колоссальной деятельности по благополучному решению амурского вопроса и возвращению Приамурья России. Поздравляя Г. И. Невельского с подписанием это важного для России документа, Муравьев высказал слова поздравления и в адрес его супруги — Екатерины Ивановны, «разделявшей наряду с Вами и всеми Вашими достойными сотрудниками труды, лишения и опасности и поддержавшей Вас в этом славном и трудном подвиге».11 В полной мере эти слова относились и к Екатерине Николаевне.
К огорчению Николая Николаевича, в момент его триумфа рядом не было Екатерины Николаевны. К тому же он сам отказался от запланированной на зиму 1858–1859 годов поездки во Францию, чтобы находиться в Иркутске во время российско-китайских переговоров в Пекине о демаркации границы. Уполномоченным для ведения переговоров стал близкий по духу Муравьеву П. Н. Перовский. Как заметил граф, «китайцы, которые со мною давно знакомы, знают мою нелюбовь к англичанам и горячий характер, — все это заставит их быть еще сговорчивыми, покуда знают, что я в Иркутске».12 Генерал оказывал разнообразную помощь П. Н. Перовскому в трудных переговорах.
В одном из деловых писем директору Азиатского департамента МИД Е. П. Ковалевскому (октябрь 1858 года) Муравьев-Амурский не сдержал своих эмоций и написал о наболевшем: «Многим покажется странно, что я не еду этой зимою в Петербург, а более всего это неприятно жене моей, которую все знакомые уверили, что я непременно приеду туда и, следовательно, увижусь с нею и за границей, где она должна остаться для лечения всю зиму, ... жить в разлуке с семейством второй уже год тяжело, очень тяжело, но я не могу себе дозволить оставить Перовского в Пекине и самому уехать в Петербург».13
О состоянии духа генерала-триумфатора графа Муравьева-Амурского, который продолжительное время не получал никаких известий из столицы и серьезно опасался, что лишился всякой поддержки в «амурских делах», можно судить по следующим его словам из письма М. С. Корсакову: «... для пользы дела я все переношу и, кажется, доказываю это на деле, оставаясь в тяжелой разлуке с семейством, может быть, еще на целый год, когда убежден, что присутствие мое здесь необходимо. Но если увижу, что не имеют ко мне достаточного доверия для того, чтоб я мог приносить эту пользу, то, конечно, не стану жертвовать ни здоровьем, ни семейным счастьем...».14
Судя по всему, на графа не произвели сильного впечатления и не вызвали душевного подъема, как это было прежде, рескрипты Его Величества и великого князя Константина Николаевича. В большом письме император Александр II, отдыхавший в Палермо, убеждал Муравьева-Амурского оставаться на своем генерал-губернаторском посту, ибо «было бы истинным несчастьем для Восточной Сибири, и я весьма прошу вас, для пользы России и собственной вашей славы, отбросить всякую мысль о возможности оставить Сибирь». А великий князь, проводивший время в Ницце, обратился к Николаю Николаевичу с таким призывом: «Оставайтесь в Амурском крае, любезный граф, как можно долее, и да укрепит вас Провидение на новые подвиги, хотя бы сопряженные с новой борьбою. На вас смотрит и Европа, и Америка, и все истинные русские люди признательны вам».15
Зима 1858–1859 годов в Иркутске стала для графа как никогда душевно тягостной. Он тосковал о своей Катеньке, может быть, впервые почувствовав одиночество — «кроме подчиненных нет никого». Спасался тем, что «очень много» работал за столом, читал. «Душевной отрады нет ни с кем, — признавался он, — а сильные ощущения бывают только неприятные, ибо даже письма жены моей, которая весьма тяготится разлукою, всегда скучные... Честолюбие мое находится в таком положении, что для него я бы не пожертвовал и чашкою чая; следственно, все это я теперь делаю прямо только по долгу перед отечеством и совестью...»16
Только зимой 1860 года Николай Николаевич приехал во Францию к своей Катеньке и смог отдохнуть духовно и физически. Несмотря на запрещения доктора, Екатерина Николаевна провожала его до Петербурга, и они дополнительно провели вместе еще 20 дней.
Вторая просьба Муравьева об отставке была принята императором, и в начале 1861 года он покинул Восточную Сибирь. Ему было всего 52 года, но нового поприща официально ему не предложили. Николай Николаевич уехал к жене в Париж, наезжая в Петербург только на заседания Государственного Совета, членом которого являлся. Русское общество Парижа пополнилось симпатичной четой Муравьевых, которая по-прежнему интересовалась российской действительностью.
На долю Екатерины Николаевны выпали скорбные дни смерти и похорон графа Н. Н. Муравьева-Амурского в ноябре 1881 года. После этого она покинула Париж и стала жить в родительском имении в Желосе близ По. В газете «Приамурские ведомости» от 21 сентября 1897 года удалось обнаружить следующее сообщение: «Граф Муравьев-Амурский (Валериан Валерианович Муравьев, племянник Николая Николаевича по его просьбе законно унаследовал титул. — Н. Д.) с душевным прискорбием извещает о кончине тетки его, графини Екатерины Николаевны Муравьевой-Амурской, последовавшей 18-го (30-го) сего июля в Желосе, близ По. Погребение совершено 21-го июля в Желосе, в семейном склепе фамилии де Ришемон».17
Выдающаяся роль Екатерины Николаевны Муравьевой графини Амурской не вызывает сомнений. И, наверное, пришло время вернуть ее имя, а также имена других амурцев на постамент памятника графу Н. Н Муравьеву-Амурскому и тем самым не только в полном объеме воссоздать замысел знаменитого скульптора А. М. Опекушина и выразить свою благодарность сподвижникам Муравьева, но и подтвердить верность историческим традициям России.
Нина ДУБИНИНА
- Барсуков И. Граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский: материалы для биографии: по письмам, офиц. док., рассказам современников и печат. источникам: кн. 1 — репринт. изд. — Хабаровск: Изд-во РИОТИП, 2008; кн. 2 — репринт. изд-е. — Хабаровск, изд-во РИОТИП, 2009; Граф Н. Н.. Муравьев-Амурский в воспоминаниях современников/ авт.-сост. Н. П. Матханова; отв. ред. Н. Н. Покровский. — Новосибирск: Сиб. хронограф, 1998. ↑
- Барсуков И. ... Кн. 1. С. 152. ↑
- Там же. С. 162–163. ↑
- Записки княгини М. Н. Волконской. — Читинское книжн. изд-во. — 1960. — С. 112. ↑
- Барсуков И. ... Кн. 1. С. 163. ↑
- Там же. С. 247. ↑
- Там же. С. 389. ↑
- Цит. По книге: Матханова Н. П. Генерал-губернаторы Восточной Сибири... — Новосибирск, 1998 С. 223. ↑
- Барсуков. И. ...Кн. 1. С. 473. ↑
- Там же. С. 479. ↑
- Невельской Г. И. Подвиги морских офицеров на крайнем востоке России. — Хабаровск, 1962. С. 367. ↑
- Барсуков И. ... Кн. 2. С. 199. ↑
- Там же. С. 201. ↑
- Там же. Кн. 1. С. 536. ↑
- Там же. С. 541, 540. ↑
- Там же. С. 537. ↑
- Приамурские ведомости 1897. 21 сентября. ↑
|
Метки: муравьёвы |
Смоленские дворяне Ковалевы и Чебышевы |
Форум > История и путешествия > Россия > Смоленская область > Общий раздел > Дворянство и усадьбы >
Смоленские дворяне Ковалевы и Чебышевы
Тема в разделе "Дворянство и усадьбы", создана пользователем Любовь Н., 3 сен 2015.
Страница 3 из 4
-
Babarin Завсегдатай SB
Регистрация:
14 май 2010
Сообщения:
Спасибо SB:
2.717
Отзывы:
81
Страна:

Из:
Москва
АЕБ сказал(а): ↑
а в чем проблемы? обращайтесь.Вот мне бы такие материалы хоть из ревизий, хоть из исповедальных, хоть из брачных за 18 век только не по Безобразову, а по селу Никольское-Устье-Соколино (Никольская церковь, 2 прхода) Сычевского уезда ....... Эх................
Нажмите, чтобы раскрыть...
А их что, перенесли и разнесли? на ПГМ это одно село Никольское Соколино тож, причем на другом берегу реки
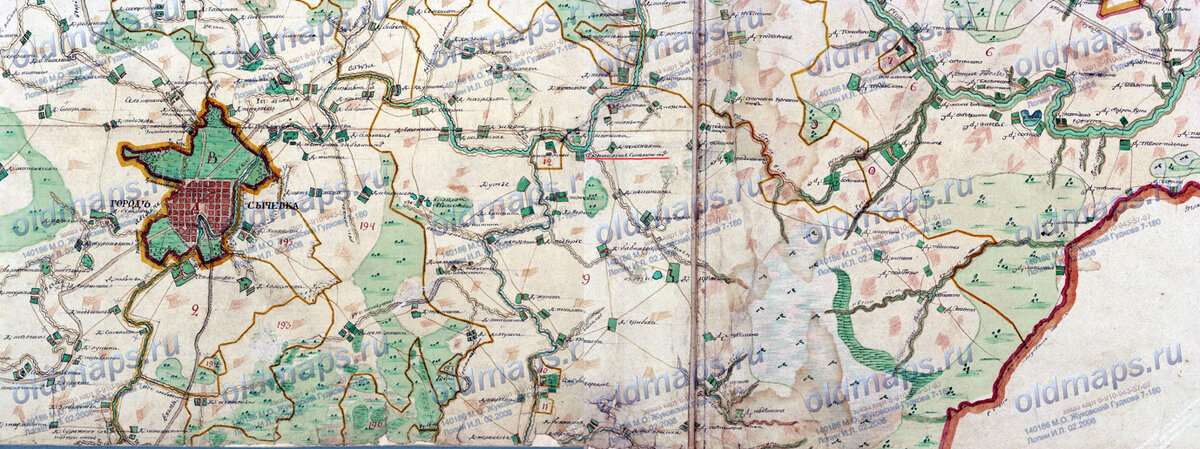
Последнее редактирование: 13 июн 2016
-
Любовь Н. тверская смолянка
Регистрация:
15 дек 2014
Сообщения:
Спасибо SB:
5.047
Отзывы:
171
Страна:

Из:
Тверь
Интересы:
природа, храмы, родословная
Думаю, тесть Дм.С.Чебышёва Петр Ковалев таки происхождением из бельских казаков, и он родня тому Ивану Ковалеву, который умолчал о нем в челобитной. Но он может быть дальняя родня и вовсе не потомок прадеда Ивана — бельского казака Василия Григорьевича Ковалева, а потомок прадедова брата, допустим.
Теперь посмотрим, что известно про Агафью Ковалеву, супругу Петра Григорьевича Ковалева. Как он ее нашел? Поместья у его родителей в последней трети 18 века (а может, и раньше) были в сычевском Безобразове и рядом, а Агафья-то из рода смоленских шляхтичей Альшевских (Ольшевских). А шляхтичи Альшевские водятся в Бельской округе, их вроде бы возле Сычевки и Гжатска нет.
Ковалевы уже владели имением движимым и недвижимым в Бельском уезде одновременно с частями в Безобразове и деревнях сычевских.
Родословная Альшевских обещана Дмитрием Павловичем Шпиленко в последующих выпусках "Материалов к родословию смоленского дворянства" (вышли 1-3 выпуски, изд-во Старая Басманная в Москве).
Надо сказать, что выпуски "Материалов" Дм.Шпиленко меня просто потрясли! это колоссальный и крайне полезный труд для всех, кого интересуют смоленские дворяне, их семьи, какими деревнями и пустошами владели, какие подавали челобитные, у кого одалживали деньги — и возвращали либо просрочивали, и почем покупали друг у друга крестьян. Вот, видела, в середине 18 века дворовую девку за 3 рубля.Сообщения объединены, 13 июн 2016, время первого редактирования 13 июн 2016
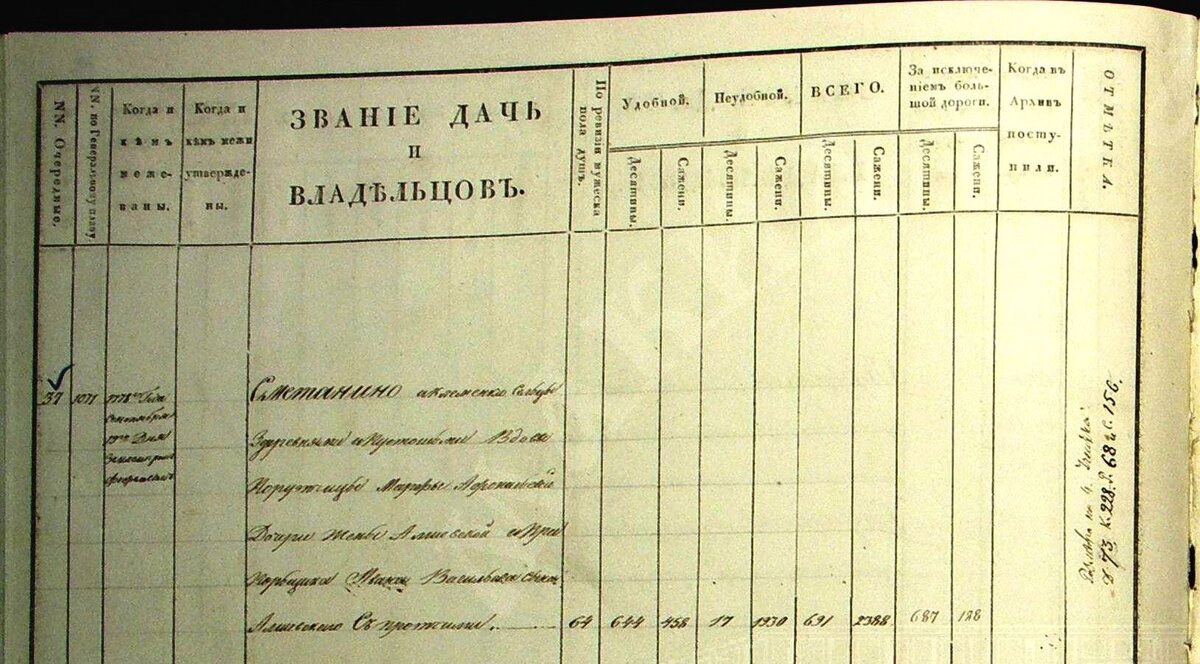
Бельское сельцо Сметанино, где в 1811 году поселился Дм.С.Чебышев, в 1778 по планам генерального межевания значится за вдовой прапорщицей Марфой Афанасьевной Альшевской и прапорщиком Иваном Васильевичем Альшевским с прочими.
Марфа Афанасьевна Альшевская — супруга Петра Васильевича Альшевского. Девичью ее фамилию мы пока не знаем. Сметанино-то досталось Агафье Петровне Ковалевой, а потом ее дочери Анне и зятю Чебышеву. Значит, Марфа Афанасьевна Альшевская — ее мать, уже вдова в 1778 году.
И вот в 1788 году ее дочь, гвардии прапорщика Петра Григорьева Ковалева жена Агафья Петрова (дочь), по отце Альшевская, подает в Бельский уездный суд челобитную.Там она пишет, что после смерти деда ее Василия Андреева сына Альшевского осталось имение в Бельской округе в Верховской волости, в сельце Сметанино с деревнями... в. т.ч. Хурзова с пустошью Хурзова, и вот она, Агафья, просит правильно разделить это имение между ней и ее дядей, который, мол, полюбовно не соглашается и пользуется излишествами.
Мы правильно извлекли отсюда отчество шляхтича Петра Альшевского, отца Агафьи. Он, конечно, Васильевич.
Вслед за челобитной Агафьи в том же деле 1788 года подшит написанный ясно и четким почерком документ — челобитная Матвея Павлова сына Корбутовского, который оказывается двоюродным братом Агафьи. И вот он пишет, что после смерти деда его Василия Андреева сына Алшевского осталось имение, наследники — сыновья Стефан и Василий бездетны и Петр и Иван; Петр умре, да еще наследница — сестра их, его мать Марья, которая тоже умре. После смерти Петра (Васильевича!) наследницы остались дочери его Марья и Агафья, которые находятся в замужестве: Марья — за подпоручиком Алексеем Мергасовым, Агафья — за гвардии прапорщиком Петром Ковалевым. И всем имением братья и их наследники пользуются, а мать моя (Матвея) ничем не награждена, как и ее наследники. Дальше Матвей Корбутовский пишет: дядя мой Иван Алшевский с выделом мне части имения соглашается, а от наследниц Петра — Марьи и Агафьи — согласие получить не могу. Вот почему он и обращается в Бельский уездный суд.
 Но Агафья Петровна, будущая теща Дмитрия Чебышёва, не сдается. Надо отметить, что пишет она не хуже Матвея Корбутовского: толково, грамотно и рассудительно, с ней трудно спорить. Она просит суд учесть следующее: якобы мать Матвея при выходе ее в замужество, как сказывают, награждена была, и до самой ее смерти никаких просьб от нее не было... И Агафья Петровна просит у суда "манифест" о предании вечному забвению претензии Матвея Корбутовского. Это ее подлинные слова. И звучат они грозно.
Но Агафья Петровна, будущая теща Дмитрия Чебышёва, не сдается. Надо отметить, что пишет она не хуже Матвея Корбутовского: толково, грамотно и рассудительно, с ней трудно спорить. Она просит суд учесть следующее: якобы мать Матвея при выходе ее в замужество, как сказывают, награждена была, и до самой ее смерти никаких просьб от нее не было... И Агафья Петровна просит у суда "манифест" о предании вечному забвению претензии Матвея Корбутовского. Это ее подлинные слова. И звучат они грозно.
Дядя Агафьи Иван Васильевич Альшевский следом подавал свою челобитную, где о Корбутовском не было ни слова, а лишь сообщал, что они с Агафьей Петровной имение полюбовно поделили. И ее, Агафьи, часть — земля в сельце Сметанине и в деревне Рехановой вся без остатка.
А себе он, видимо, оставил Хурзово, которое купил у Варпаховского в 1770 году. Этот факт я нашла у Дм. Шпиленко в вып.2. Жена Степана Ивановича Варпаховского Екатерина Семеновна (урожд. Борейша, в 1-м браке за смоленским шляхтичем Василием Юрьевичем Новицким), будучи уже вдовой, "продала 20 февраля 1770 г. отставному прапорщику Ивану Васильевичу Альшевскому недвижимое имение, принадлежащее ей в силу указов после умерших мужей: в Бельском у. в Шаптовской и в Верховской вол. в сц Хурзове, дд.Холму, Лихадорове (Лихародове) и в пуст.Мшаре, Яковцове"землю с пашнею, с лесы и с сенными покосы и со всеми к ним принадлежащими угодьями" (Шпиленко Д.П. Материалы к родословию смоленского дворянства.-М.:ООО "Старая Басманная", 2014. С.48).
И ведь все-таки Хурзово и хурзовские крестьяне оказались в конце концов в ее владении, Агафьи Петровны Ковалевой, племянницы Ивана Васильевича Альшевского. Может быть, выкупила, а может, так подарил, если своих наследников не было, а Агафья призрела его старость.
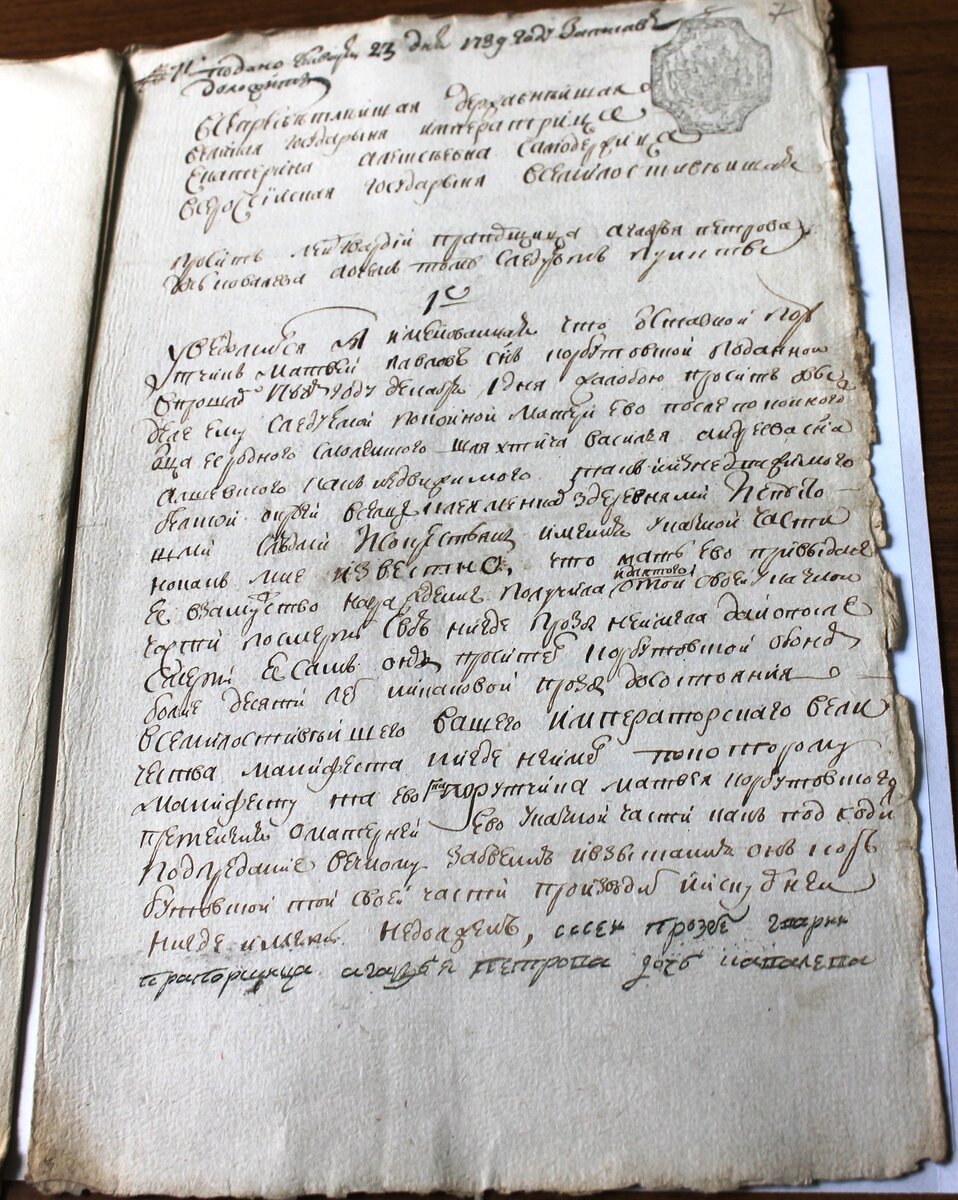
Сообщения объединены, 13 июн 2016
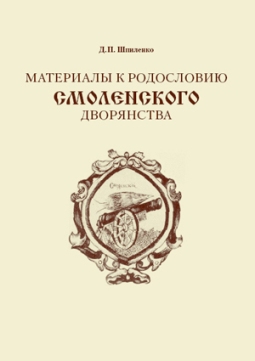
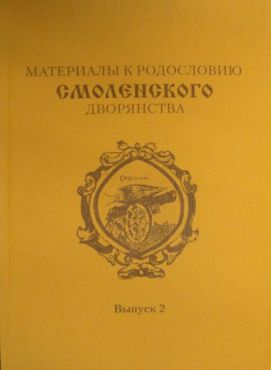
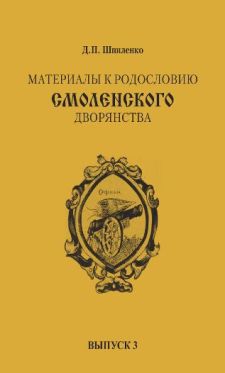
http://oldbasman.ru/magazin-2/produ...-rodosloviyu-smolenskogo-dvoryanstva-vypusk-3
http://www.petergen.com/sources/rodsmdv1.shtmlПоследнее редактирование: 27 ноя 2016
АЕБ нравится это.
-
Любовь Н. тверская смолянка
Регистрация:
15 дек 2014
Сообщения:
Спасибо SB:
5.047
Отзывы:
171
Страна:

Из:
Тверь
Интересы:
природа, храмы, родословная
 Вот моя скромная любительская попытка изобразить схему родословной Анны Петровны Чебышевой (урожд.Ковалевой), супруги Дмитрия Сергевича Чебышева. Слева сычевский помещик Григорий Петрович Ковалев, имя и отчество которого стали известны из метрической книги с.Безобразова 18-го века. Справа — Альшевские (Ольшевские), бельские помещики, о которых стало известно из челобитной Агафьи Петровны Ковалевой, урожд. Альшевской.
Вот моя скромная любительская попытка изобразить схему родословной Анны Петровны Чебышевой (урожд.Ковалевой), супруги Дмитрия Сергевича Чебышева. Слева сычевский помещик Григорий Петрович Ковалев, имя и отчество которого стали известны из метрической книги с.Безобразова 18-го века. Справа — Альшевские (Ольшевские), бельские помещики, о которых стало известно из челобитной Агафьи Петровны Ковалевой, урожд. Альшевской.
Агафья Петровна, как и ее дочь Анна, присутствуют на обеих схемах. Конечно, схема неполная, по всем боковым веткам. Братья -сестры следуют в условном порядке, т.к. данных о годах рождения нет. О супругах и потомках Григория Григорьевича, Аграфены и Надежды пока мало известно, и вообще, имена Аграфены и Надежды мы узнали от АЕБ. Он предположил, что Аграфена Григорьевна Ковалева — по мужу Гурьева. Может быть, она и стала невесткой Гурьева, это пока не проверено. В приведенном на с.3 данной темы скане планов ген.межевания 1779 года часть Безобразова принадлежит коллежского ассесора Любима Гурьева жене Аграфене Кононовой дочери.
Альшевские Стефан и Василий умре бездетны, остальное знаем из челобитных Агафьи Ковалевой и Матвея Корбутовского, которые я уже цитировала.
Итак, Григорий Петрович Ковалев владел имением в Сычевском уезде уже в 1760-е годы. А когда он там приобрел имение, неизвестно. И родственник ли он юхновским помещикам Ковалевым, тоже пока неизвестно. В Бельском уезде сын его Петр оказался, потому что взял оттуда жену Агафью, по отце Альшевскую. А возможно, корни Григория Ковалева все-таки бельские. И он прямой потомок бельского казака Василия Григорьевича Ковалева или же какого-нибудь его брата.

Теперь рассчитаем время. Видимо, Григорий Петрович Ковалев родился в 20-е— 30-е годы 18-го века. Умер он до 1780 года, потому что потом в метрической книге уже указывается не его вотчина, а капитанши Ковалевой, супруги, и сам он больше не упоминается. У сына его, Петра Григорьевича, дети рождаются в 1780-1800 гг., что известно из метрических книг церкви села Верховья на Обше Бельского уезда, и наверное, родился сам Петр Григорьевич в 1750-1760-е годы. В конце 1750-х — начале 1760-х родилась и Агафья Альшевская, его супруга. Их дочери Анне в год бракосочетания с Дм.Чебышевым — 1811-ый — исполнилось 16 лет.
А живет с 1780-х годов Петр Григорьевич Ковалев уже не в сычевском Безобразове, где родительское поместье, а в бельском Сметанине, наследном имении жены. Поскольку дети у него там рождаются и там их крестят.
Исходя из этих приблизительных подсчетов, в год подачи челобитной в Бельский уездный суд — 1788 год — Агафье Петровне Ковалевой (урожд. Альшевской) примерно 30 лет. Вот она какая — строгая, деловая, цепкая. Конечно, это только мои представления
В сычевских деревнях помещика Ковалева вокруг Безобразова (имею в виду его часть в каждой деревне, ведь там еще есть и другие владельцы) с 1780-х управляет кто-то назначенный барином — управляющий его.
Вот, вижу в интернете, в Вяземском филиале ГАСО хранилось Дело о взыскании денежной задолженности с временно обязанного крестьянина Синякова Павла Макаровича в сумме 381 рубль серебром в пользу майора Алексея Григорьевича Ковалева — 1883 г.
Алексей Григорьевич есть на схеме, он двоюродный брат Анны Петровны Чебышёвой.
Возможно, переписчики ошиблись, и речь идет о крестьянине деревни Синяково Павле Макарове. Такая деревня в Сычевском уезде у помещиков Ковалевых была. Интересно, за что — 381 рубль серебром, сумма-то немалая

Потомки Ковалевых встречаются в метрических книгах Бельского уезда вплоть до тех пор, пока церкви не передали загсам функцию оформления рождений, браков и смертей, т.е. до 1917-1918 гг.
В книге ц-ви с.Городок за 1876 год (ГАТО, ф.1285, оп.4, д.21) есть запись о рождении 27 сентября младенца Ивана у дворянина сельца Щеголева Павла Петровича Ковалева и его жены Дарьи Петровны, восприемником был дворянин того же сельца Герасим Петрович Ковалев. В этом же году у Павла Петровича Ковалева умер сын Сергей полутора лет.
В сельце Вязовце в 1876 году проживает дворянин Георгий Петрович Ковалев.Последнее редактирование: 27 ноя 2016
Юлиа нравится это.
-
Любовь Н. тверская смолянка
Регистрация:
15 дек 2014
Сообщения:
Спасибо SB:
5.047
Отзывы:
171
Страна:

Из:
Тверь
Интересы:
природа, храмы, родословная
Итак, дворянин Ковалев женился на урожденной Алшевской и получил в приданое ее имение в Сметанине, с-це Хурзова и прочих.
Интересно, что сельцо Хурзово принадлежало до шляхтичей Альшевских шляхтичам Варпаховским (Шпиленко, вып.2, с.48).
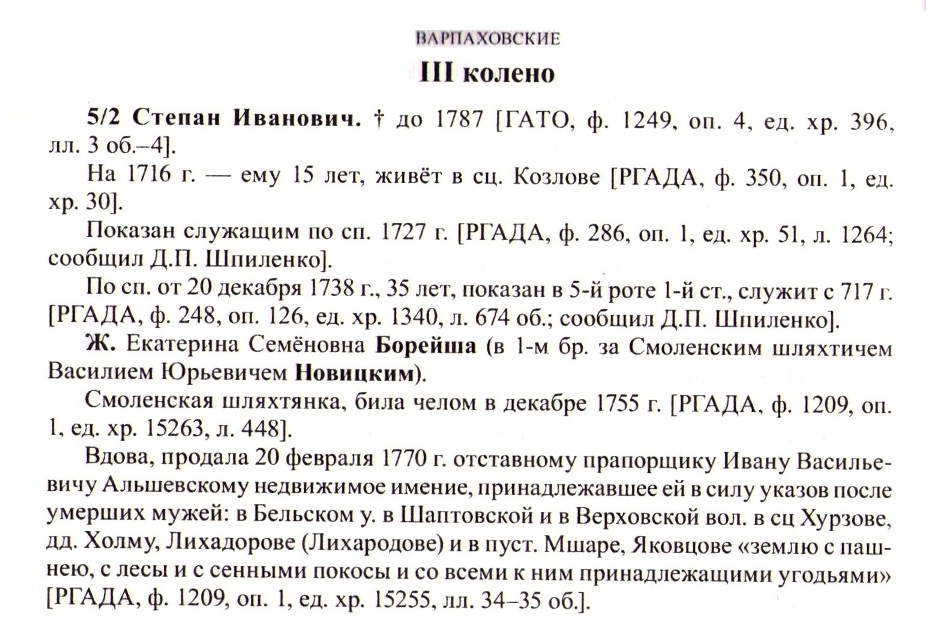
В ГАТО (ф.1273 — Бельская уездная землеустроительная комиссия) хранятся межевые книги 1778-1917 гг., 3 описи, более 5500 единиц хранения.
Там имеется и межевая книга "дачи и селец Сметанино и Клименкова с деревнями общего владения вдовы порутчицы Марфы Афанасьевны Альшевской с прочими", 1778 года, землемер прапорщик Фефелов. Названы деревни Давыдково, Реханово, Ерменево, Хурзово, полупустоши Волкова, Абуражная. Землемер подробно описывает повороты, углы, градусы, размежевание с соседскими владениями дворян Богдановича, Потемкина.
Деревни Сергеевки, конечно, еще и в помине нет — возможно, названа как пустошь безымянная.
Имение М.А.Альшевской находится "на большой сычевской дороге".
Там же в ГАТО, ф.1273, смотрела межевую книгу сельца Липинка, владения дворян Ковалевых, 1779 год (скан описи РГАДА — http://rgada.info/poisk/index2.php?str=1354-opis_446-1&opisanie=Планы дач Генерального и Специального межеваний<br>Опись 446. Часть 1. Губерния, уезд: Смоленская; Бельский)
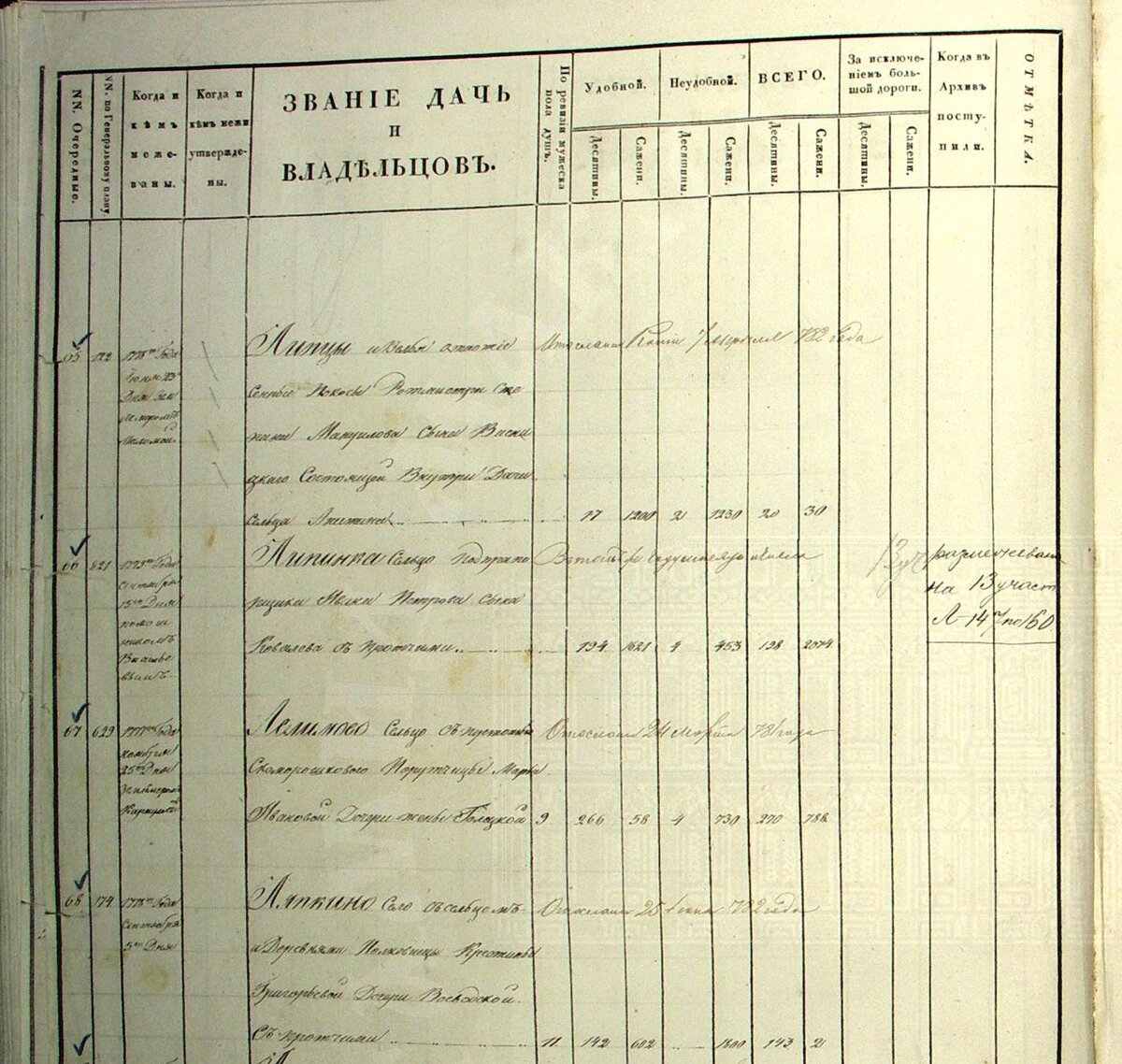
Ковалевых в межевой книге перечисляется много: подпрапорщик Иван Петров, недоросли Алексей Моисеев и Антоний Петров, Парфен, Семен, Савелий Игнатьевы дети Ковалевы, а также хорунжие Потап Федотов, Ефрем Ларионов, прапорщик Федор, шляхтич Тимофей Матвеевы дети Ковалевы.
Этих Ковалевых на моей сычевско-бельской схеме нет, а нужно искать их в родословной росписи челобитчика Ивана Петровича Ковалева (см.выше).Последнее редактирование: 27 ноя 2016
Юлиа нравится это.
-
Любовь Н. тверская смолянка
Регистрация:
15 дек 2014
Сообщения:
Спасибо SB:
5.047
Отзывы:
171
Страна:

Из:
Тверь
Интересы:
природа, храмы, родословная
Тем временем давайте вернемся к Чебышёвым. Удивительная находка ожидала меня на днях в ГАТО. Сейчас расскажу

Увидев в фондах описи личных коллекций ГАТО, что в документах тверских дворян Аболешевых хранится копия брачного свидетельства А.Чебышева, я конечно же не прошла мимо, заказала. Имела удовольствие видеть каллиграфическую пропись сего документа и красивую церковную печать с изображением храма.
Хотела и сфотографировать, но снимок (собственным фотоаппаратом!) данного листа формата менее А4 стоит по расценкам ГАТО всего-то... 500 руб. Так как якобы документ особо ценный — ОЦ. Спонсором потомков Чебышева я быть не могу, если заинтересуются — готова за их денежку и сфотографировать. С моей пенсии не разбежишься, как вы знаете.
И кто же в сем документе фигурирует?
Цитирую.
...Генваря двадцать четвертого дня (тысяча восемьсот сорок седьмого года) 7-й конно-артиллерийской бригады конно-легкой 14-й батареи прапорщик Алексей Афанасьев Чебышев 23-х лет венчан первым браком с дочерью статского советника и кавалера Алексея Михайлова Будаевского девицей Елисаветой Алексеевой 21 года.
Поручителями были: по жениху 21-го флотского экипажа лейтенант Петр Нилов Абалешев и медик акушер Никанор Герасимов Марков, по невесте: 3-го флотского экипажа лейтенант Владимир Иванов Сухотин и 21-го флотского экипажа лейтенант Александр Нилов Абалешев. Таинство брака совершал Тверския Симеоновская церкви протоиерей Алексей Алексеев Помарев (Помаров) с причтом Владимирской церкви диаконом Космою Яковлевым Колтыпиным, дьячком Василием Димитриевым Тяжеловым и пономарем Димитрием Ивановым Соколовым. Сие свидетельство выдано тысяча восемьсот сорок седьмого года месяца генваря двадцать девятого дня (подписи и печать).
Орфографию по возможности сохраняла, все чины были указаны с большой буквы. Начало текста Свидетельства (Мы, нижеподписавшиеся...) не привожу.Сообщения объединены, 22 июл 2016, время первого редактирования 22 июл 2016
Из интернета узнаем, что Аболешевы (и Оболешевы, и Обалешевы) — древний русский дворянский род, восходящий к половине XVI века и записанный в VI часть родословной книги Тверской губернии. В тексте мы видим Абалешевых.
Из обедневшего тверского боярского рода, ушедшего в морскую службу по призыву Петра I. Родовое гнездо Абалёшевых - село Константиново Новоторжского уезда Тверской губернии.
Вот о поручителях подробнее: http://baza.vgdru.com/1/32/
АБАЛЁШЕВ НИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 1772-27.04.1825
Из обедневшего тверского боярского рода. Владелец села Константиново Новоторжского уезда Тверской губернии. Отец адмирала А. Н. Абалёшева. Дети:
АЛЕКСАНДР 1816-1881
АБАЛЁШЕВ АЛЕКСАНДР НИЛОВИЧ 1816-1881
контр-адмирал. Из обедневшего тверского боярского рода, ушедшего в морскую службу по призыву Петра I. Родовое гнездо Абалёшевых - село Константиново Новоторжского уезда Тверской губернии, где похоронены незамужние сестры адмирала и его отец Нил Васильевич. Вышел в отставку вице-адмиралом в 1874 г. и поселился в Туросне. Жена (с февраля 1861 г.) АННА ВАСИЛЬЕВНА БОРОЗДНА (1829-...). Дети:
ПАВЕЛ 1869-1919, коллежский секретарь
АЛЕКСАНДР 1871-1919, поручик лейб-гвардии Кирасирского полка
еще: АБАЛЕШЕВ АЛЕКСАНДР НИЛОВИЧ 1816-1881 Вице-адмирал.
Вице-адмирал. Похоронен в с. Туросна Новозыбковского уездаСообщения объединены, 22 июл 2016
В этом же фонде 1022 ГАТО хранится несколько писем А.Чебышевой периода 1876-1882 гг. Кто она? Конечно, захотелось посмотреть.
Письма адресованы "милой и доброй бабушке Прасковье Ниловне Аболешевой". Говорится о деревне Поповке и о переезде в Петербург; внучка пишет о своих занятиях, ученьи, подготовке к костюмированному маскараду и вышивании нарядов... простые, ласковые письма, в которых строгой рукой бабушки подчеркнуто слово "по-свински" (в каком-то проступке девушка каялась), и стоит жирный вопросительный знак. Вот как воспитывались дворянские барышни!
В последних прощальных словах и поцелуях подписи с именем внучки я не увидела. Писем всего 5-6.
И все же нашла я эту А.Чебышеву! И ее отца! и деда! и прапрадеда!
Где?
Да у Н.В.Лопатина на схеме! Ветвь 4-ая!
Вот он, Алексей Афанасьевич (№150), вот его дочь А.Чебышева =Александра. Она и пишет Прасковье Ниловне, сестре поручителей своего папеньки при бракосочетании, дядюшек невесты Елизаветы Алексеевны Будаевской. Для Александры же они дедушки и бабушка Ниловичи. Вот как-то так.Сообщения объединены, 22 июл 2016
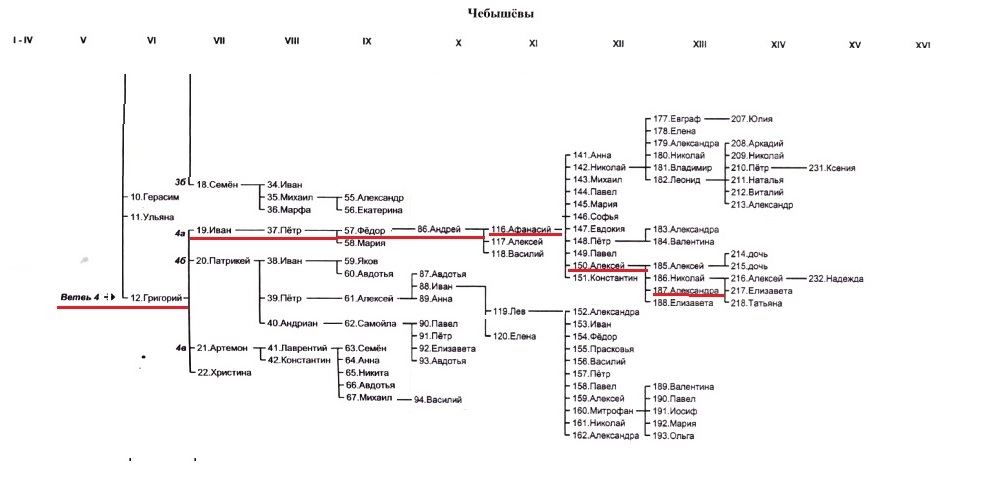
Интересно как — найти след Чебышевых на тверской земле.
Напоминаю, наш бельский помещик Дмитрий Сергеевич Чебышев из 3-ей ветки. Он того же 11-го колена, что и Афанасий Чебышев, отец тверского жениха. Но родство уже очень дальнее, они не двоюродные и не троюродные братья, а подальше. Полная схема Чебышевых на предыдущей странице темы.Последнее редактирование: 22 июл 2016
Юлиа нравится это.
-
АЕБ Завсегдатай SB
Регистрация:
29 июл 2009
Сообщения:
Спасибо SB:
1.753
Отзывы:
43
Страна:

Из:
Сычевка
Интересы:
История
Любовь Н. сказал(а): ↑
500р - это шутка или действительно по-взрослому??? Охренеть!!!!!!!!!!!!!.........................................
Хотела и сфотографировать, но снимок (собственным фотоаппаратом!) данного листа формата менее А4 стоит по расценкам ГАТО всего-то... 500 руб. Так как якобы документ особо ценный — ОЦ.......Нажмите, чтобы раскрыть...
Я обычно в таких случаях на ремне носил футляр для мобильника, уда отлично помещался цифровой фотоаппарат. Чтобы сфоткать интересный документ хватало 10-15 сек. Иногда просто сотрудники видели как я что-то опускал в футляр для мобильника на поясе. Сомнений ни у кого не вызывало. -
Любовь Н. тверская смолянка
Регистрация:
15 дек 2014
Сообщения:
Спасибо SB:
5.047
Отзывы:
171
Страна:

Из:
Тверь
Интересы:
природа, храмы, родословная
АЕБ сказал(а): ↑
То-то и оно, доки 18-го века шли по 200 р. лист, а это аж особо ценный!!! Обычная страница 1860-1900 гг. — по 75 руб. Учитывая, что одна запись тянется на 2-х стр., нехило.500р - это шутка или действительно по-взрослому??? Охренеть!!!!!!!!!!!!!
Я обычно в таких случаях на ремне носил футляр для мобильника, уда отлично помещался цифровой фотоаппарат. Чтобы сфоткать интересный документ хватало 10-15 сек. Иногда просто сотрудники видели как я что-то опускал в футляр для мобильника на поясе. Сомнений ни у кого не вызывало.Нажмите, чтобы раскрыть...
ГАТО круче РГАДА...
Если Вы в ГАТО проделаете такой трюк с фотиком, Вас тут же отпинают и выкинут навсегда. Так что я ничего ни за пазухой, ни под юбкой не проношу туда, и даже сумочку -пакет не разрешают взять с собой, все остается в раздевалке в ящиках с разболтанными замками. Да и цифровой аппарат у меня такой массивный, что только при впалой груди можно его куда-нибудь пристроить, и сразу будешь Джина Лоллобриджида. Всюду в ГАТО натыканы камеры, несколько человек следит и за ч/з, и за коридором. Вот вроде в туалете камер нет, но это неточно Говорю же, рядом еще и здание ФСБ
Говорю же, рядом еще и здание ФСБ  " src="http://smolbattle.ru/styles/smilies/ph34r.gif" />
" src="http://smolbattle.ru/styles/smilies/ph34r.gif" />
Последние данные обновления репутации:
belzanka: 1 пункт (За истинную правду о ГАТО!) 24 июл 2016
Последнее редактирование: 25 июл 2016
belzanka нравится это.
-
Любовь Н. тверская смолянка
Регистрация:
15 дек 2014
Сообщения:
Спасибо SB:
5.047
Отзывы:
171
Страна:

Из:
Тверь
Интересы:
природа, храмы, родословная
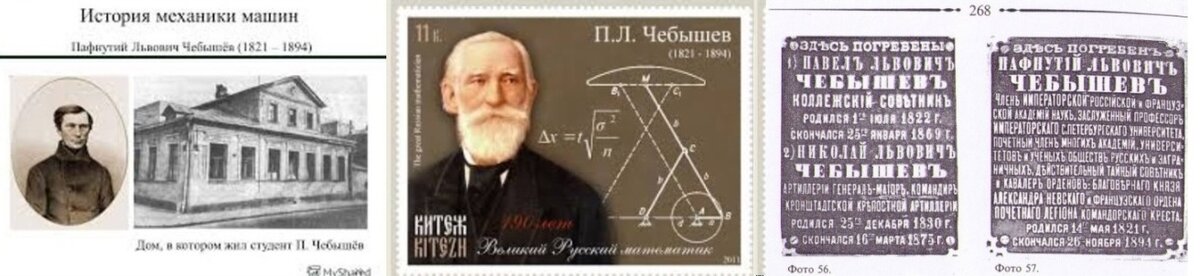
Фотографии из интернета, а также из кн.: Лопатин Н.В., Бессонов В.А., Заурдина С.Я. История рода Чебышёвых (Российский родословный фонд, вып. 8). Калуга, 2004.
Николай Владимирович Лопатин, автор множества трудов по археологии и по истории, является представителем 2-ой ветви рода Чебышевых, и Пафнутию Львовичу Чебышеву — знаменитому математику — прапрабабушка Николая Владимировича Екатерина Львовна (в замужестве Лопатина) приходится родной сестрой.
На стр.201-221 книги рассказывается о представителях 4-й ветви рода Чебышевых. Приведены документы. Например, материалы дела о правах наследования имения Афанасием Андреевичем Чебышевым, хранящиеся в ГАКО, ф.439. Приведен формулярный список коллежского регистратора Чебышева Афанасия Андреевича.
Из него узнаем, что жил он в Козельском уезде Калужской губернии.
Как же оказался его сын Алексей в Тверской губернии? Занимательно!
С огромным интересом прочла я о представителях 4-й ветви (как и первых 3-х). Да и в брачном свидетельстве Чебышева сколько славных имен названо! Попытаюсь побольше узнать о тверских Чебышевых-Будаевских-Аболешевых. Только когда же все успеть?
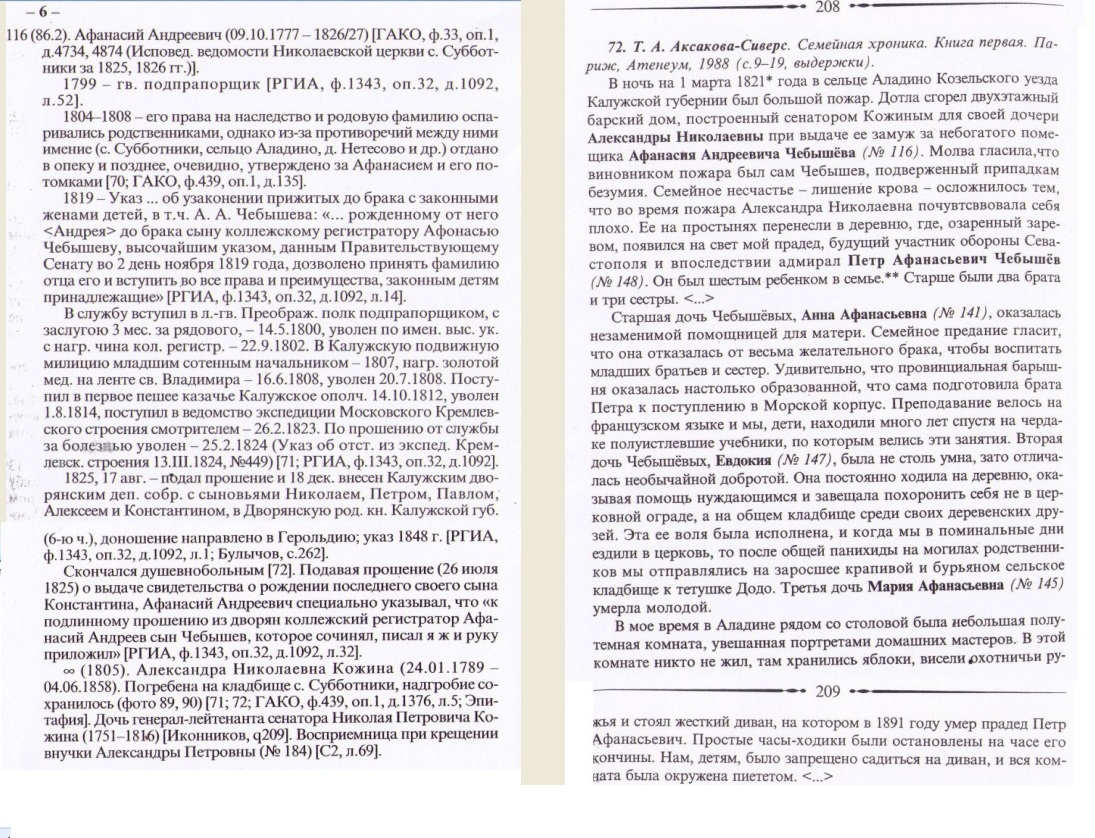
Странно, что Алексей Чебышев не указан в воспоминаниях Т.А. Аксаковой-Сиверс среди сыновей Афанасия Андреевича (Лопатин, с.208-209). Его нет в формулярном списке Афанасия от 1821 года (с.207-208), но он родился-то в 1824. Могли ли воспоминания Аксаковой-Сиверс быть написаны до рождения Алексея? Вряд ли: Петр Афанасьевич, родной брат Алексея Афанасьевича, — ее прадед! Остается предположить, что Алексея Афанасьевича просто забыли упомянуть.
ЧЕБЫШЕВ АФАНАСИЙ АНДРЕЕВИЧ 1777-1826/27
Жена КОЖИНА АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА 1789-1858.
Дети:
- АННА 1807/9-1893,
- НИКОЛАЙ 1810-1846/50,
- МИХАИЛ 1812 - до 1821,
- ПАВЕЛ 1815 - 1815/21,
- МАРИЯ 1816-1853,
- СОФЬЯ 1817 - после 1826,
- ЕВДОКИЯ 1819 - после 1865,
- ПЕТР 1820-1891,
- ПАВЕЛ 1821 - после 1826,
- АЛЕКСЕЙ 1824-1883,
- КОНСТАНТИН 1825.
http://baza.vgdru.com/1/5475/0.htm?o=&
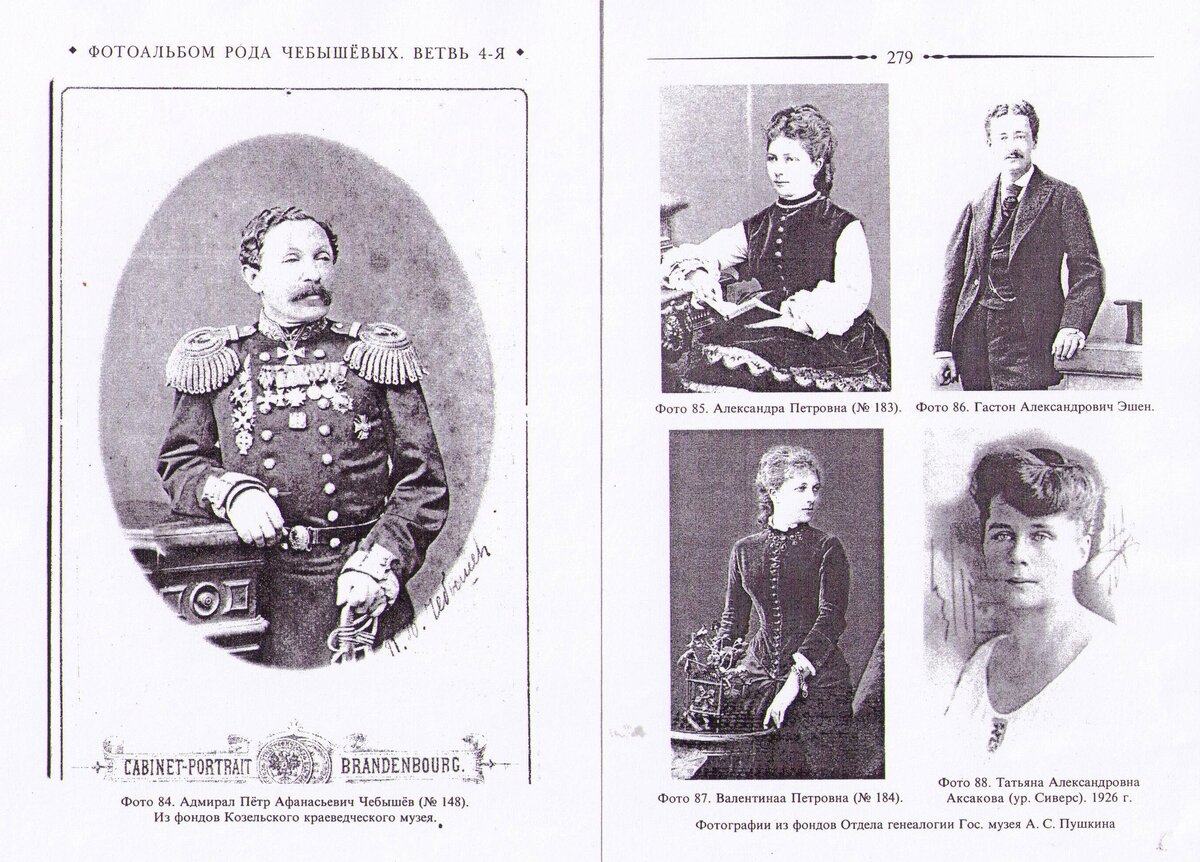
Сообщения объединены, 23 июл 2016, время первого редактирования 23 июл 2016
Надеюсь, авторы позволят разместить здесь фотографии из книги (Лопатин Н.В., Бессонов В.А., Заурдина С.Я. История рода Чебышёвых (Российский родословный фонд, вып. 8). Калуга, 2004).
Размещаю сканы стр.62-63, 74-75. Правда, не копирую всех потомков Афанасия Андреевича и Алексея Афанасьевича.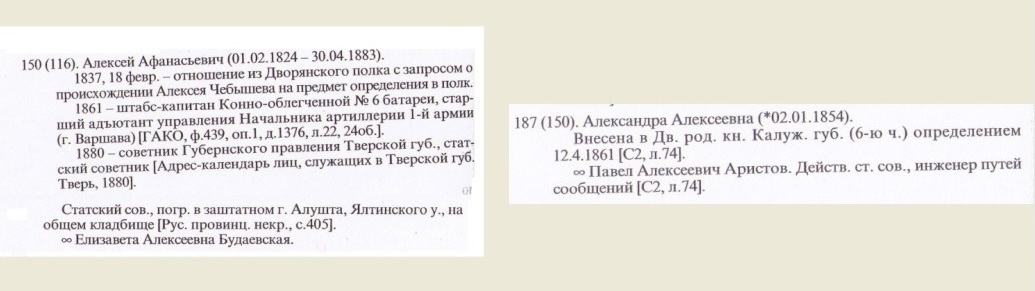
Сообщения объединены, 23 июл 2016
Тем временем мой собственный корреспондент (огромное спасибо!) доставил из ГАСО ценные фотокопии.
(огромное спасибо!) доставил из ГАСО ценные фотокопии.
Порадуем тех, кто следит за темой. ГАСО, ф.6, оп.1, д. 196. Родословная роспись Дмитрия Сергеевича Чебышева.
Внизу, видимо, речь идет о сыновьях Дмитрия Сергеевича — Николае (титулярный советник) и Владимире (подполковник).Последнее редактирование: 25 июл 2016
-
Любовь Н. тверская смолянка
Регистрация:
15 дек 2014
Сообщения:
Спасибо SB:
5.047
Отзывы:
171
Страна:

Из:
Тверь
Интересы:
природа, храмы, родословная
Родители, а также братья и сестры Дмитрия Сергеевича Чебышева:
отец ЧЕБЫШЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 1749-1812/18 В 1789 премьер-майор, предводитель Дворянской опеки Мосальского уезда Калужской губернии. Жена ВОЛКОНСКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ПЕТРОВНА. Дети:
- ПАВЕЛ 1781-1829, полковник, жена ЩЕПОЧКИНА НАТАЛЬЯ ПАВЛОВНА, ум. после 1844.
- ДМИТРИЙ 1783-1870,
- АННА 1783,
- ПРАСКОВЬЯ 1784,
- ВАРВАРА,
- СОФЬЯ,
- ЕЛИЗАВЕТА, муж АПРЕЛЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, ум. после 1838
- СЕРГЕЙ 1788-1856, сенатор, генерал-лейтенант, холост.
Итак, ЧЕБЫШЕВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 1783-1870
Полковник, участник русско-турецкой войны, за раною уволен в отставку. Жена АННА ПЕТРОВНА. Дети:
- НИКОЛАЙ 1815-1866
- ЕЛИЗАВЕТА 1816/17, муж ПОТЕМКИН ИВАН ВИКТОРОВИЧ 1803
- ВЛАДИМИР 1818-1852,
- ДМИТРИЙ 1821,
- АЛЕКСАНДР 1822-1877,
- СЕРГЕЙ 1826,
- НИЛ 1832,
- ПЕТР 1834,
- КОНСТАНТИН 1837-1906
http://baza.vgdru.com/1/5475/10.htm?o=&
Фотографии из книги, на которых запечатлены представители 3-ей ветви рода Чебышевых. Порядковый номер персоны можно посмотреть на фрагменте родословной схемы.
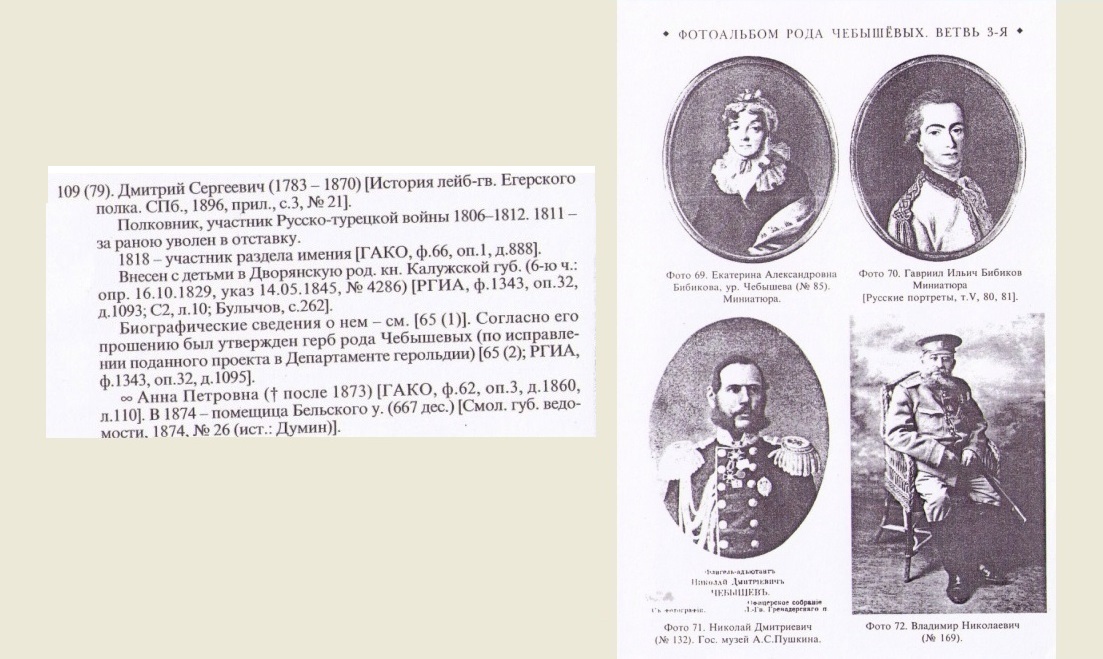
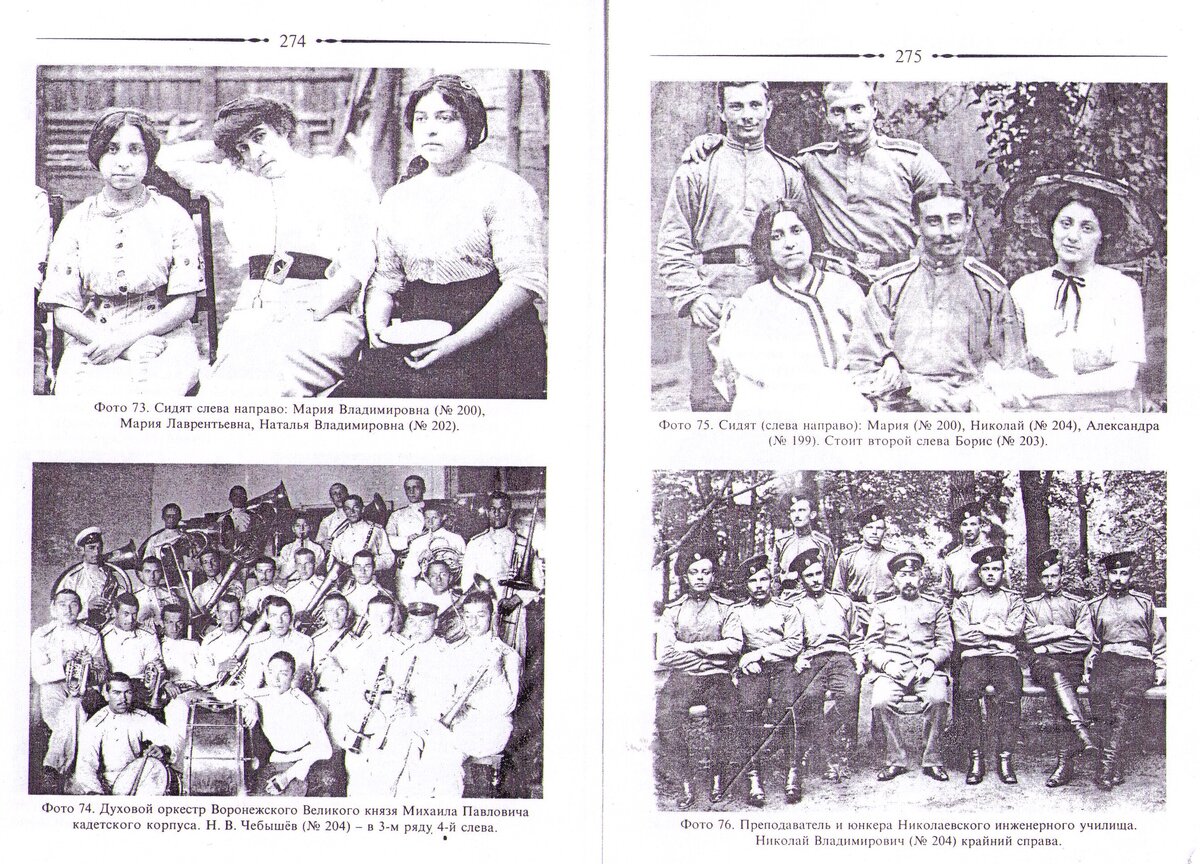


Сообщения объединены, 24 июл 2016, время первого редактирования 24 июл 2016
Подробнее о детях Дмитрия Сергеевича и Анны Петровны Чебышевых. Материалы сайта ВГД плюс дополнения из книги Н.В.Лопатина, с.71-73 (синим).
ЧЕБЫШЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 1815-1866. Погребен в Федоровской ц. Александро-Невской лавры. Воспитывался в СПб.Благородном университетском пансионе и в Школе гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров. 1835- поступил в л.-гв.Изм.полк, 1850-назначен флигель-адъютантом к ЕИВ с оставлением в полку. 1852-полковник, был в деле с англичанами и французами под Одессою, при взятии англ. парохода "Тигр" 1854, 29 апр.- отчислен от фронта в Свиту Е.В., с утв. командиром полка. 1862-1862, 3 авг.-отчислен от должности командира с оставлением в Свите (...) Кавалер орденов Св.Анны 2 ст., Св.Владимира 3 ст. (Лопатин, с.71)
Жена БАРЫШНИКОВА АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА, дочь надворного советника.
Дети:
- НИКОЛАЙ 1850-1911, в 1893 титулярный советник, земский начальник 4 участка Уездного суда Бельского уезда Смоленской губернии,
- ВЛАДИМИР 1853
ЧЕБЫШОВА ЕЛИСАВЕТА ДМИТРИЕВНА. Помещица д.Безобразово Сычевского у.Смоленской губ. Муж ПОТЕМКИН ИВАН ВИКТОРОВИЧ 29.10.1803- ?, майор в отставке (1836), Поречский уездный предводитель дворянства (1839-1840).
Дети:
· ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 22.07.1844-? См. ПОТЕМКИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 1844-1899. Тот же?
· ВИКТОР ИВАНОВИЧ 13.11.1848-1887, мировой судья в Смоленской губернии.
Ж., с 1872, ПОТЕМКИНА НАТАЛЬЯ НИКАНОРОВНА
· ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ 3.09.1854-?
· АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 20.09.1845-? Муж ЦЫЗЫРЕВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ
· НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 9.02.1847-? Муж МИЛИТИНСКИЙ
В.В. Руммель, В.В. Голубцов «Родословный сборник русских дворянских фамилий, СПб, изд-во А.С. Суворина, тт. 1, 2, 1886-1887
ЧЕБЫШЕВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ 1818, Москва - 1852, Кельн. Погребен в Сергиевой пустыни, Голицынской ц-ви. 1851-поручик лейб.-гв. 2-й артиллерийской бригады. Адъютант С-Петербургского военного генерал-губернатора генерала от инфантерии Шульгина.
Жена КУСОВНИКОВА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНДРОВНА, ум. до 1848. Дети:
- ЕКАТЕРИНА 1849
-ПЕТР 1850
ЧЕБЫШЕВ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ (1821-ПОСЛЕ 1863). подпоручик; 1863- гвардии полковник. Согласно Википедии, после смерти отца Дмитрия Сергеевича именно он унаследовал имение Кокушкино в Дорогобужском уезде (после 1870), а в 1890 году Дмитрий Дмитриевич Чебышёв продал Какушинское имение немцу, канатному фабриканту Карлу Федоровичу Вольбрюку.
ЧЕБЫШЕВ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 1822-1877. Генерал-майор. Погребен в Ал.-Невской лавре.
1842-вступил в службу прапорщиком а Легкую №6 батарею 18 Артиллерийской бригады. 1848-поручик. 1864,12 марта -указ о награждении капитана лейб.-гв. Измайловского полка Александра Чебышева за дела с польскими мятежниками -орд. Станислава 2-й степ. с мечами и имп.короной. Чиновник особых поручений при Главном интендантском управлении Военного министерства. 1871-генерал-майор- с увольнением от службы.
Жена ШЮТЦ МАРИЯ ИВАНОВНА, ум. в 1895, дочь капитана. Дети:
- АЛЕКСАНДР 1866-1917
- НИКОЛАЙ 1867
ЧЕБЫШЕВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ (1836-после 1874). 1853-штабс-капитан л.-гв. Измайловского полка. 1860-полковник. 1874-генерал-майор, помещик Дорогобужского уезда Смол. губ.
ЧЕБЫШЕВ НИЛ ДМИТРИЕВИЧ (род. в 1832, с.Кокушкино Дорогобужского у.). Поручик. Жена Вера Помпеевна Ивкова(1844-1905), дочь капитана 2-го ранка Помпея Алексеевича Гейдена и его жены графини Марии Логгиновны Гейден (в 1-м браке за бар.Шлиппенбахом). 1874-поручица, влад. 468 дес. земли в Бельском уезде Смол.губ.
ЧЕБЫШЕВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ (род. 1834). Поручик, помещик Дорогобужского у. 1868-1874 —Перемышльский уездный предводитель двор. Жена: предположительно, Мария Дмитриевна Чебышева (она же княжна Мария Дмитриевна Оболенская), вдова поручика, домовладелица в Москве, в Большом Конюшенном переулке и на Большой Бронной в 1901; это было наследственное домовладение Чебышевых, где в 1860-70-х гг. в запустевших зданиях помещались квартиры беднейших студентов и действовали революционные кружки. Один дом назывался "Ад" (по названию кружка каракозовцев), другой — "Чебышевская крепость" или "Чебыши" (Гиляровский, с.274)
ЧЕБЫШЕВ КОНСТАНТИН ДМИТРИЕВИЧ 1837-1906. Отставной поручик. Помещик Смоленской (Бельского и Дорогобужского у.) и Калужской (Мещевского, Перемышльского и Медынского у.) 1901-дворянин, жил в в Москве с сыном Николаем. Погребен в фамильном склепе в с.Кокушкине, Дорогобужского у. Жена - вероятно, В.М.Чебышева, автор публикации об археологических раскопках в Дорогобужском уезде (1886)
Дети:
- ВЕРА,
- ДМИТРИЙ 1871 - после 1901,
- НИКОЛАЙ 1875 - после 1919, жена НИНА ИВАНОВНА.
Интересно, что то самое Молодилово Дорогобужского уезда, где поселился и жил во 2-й пол.19 века Константин Дмитриевич Чебышев с семьей, в конце 18-го века принадлежало Друцким-Соколинским (РГАДА, планы генерального межевания).
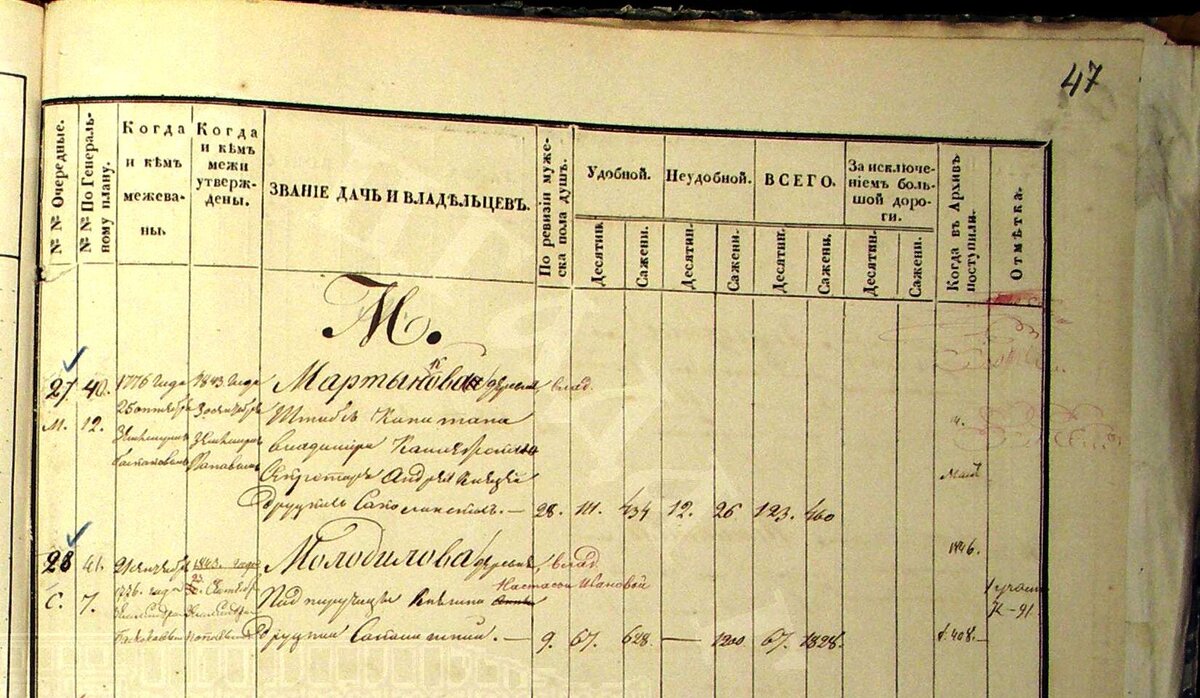
Загадкой остается имя супруги Константина Дмитриевича. В д.196 оно не указано.
О жене: Чебышева В.М. Раскопки курганов Смоленской губернии Дорогобужского уезда, летом 1879 года // Антропологическая выставка 1879 года. Т.4, ч.1 (Известия Императорского общества любителей естествознания, антропологии и этнографии, т. XLIX, вып. 1-й). М., 1886.
Из разговора с Кузьмичом на СБ — http://smolbattle.ru/threads/%D0%A1%D0%BC%D0%BE%D0...0%D0%B2%D0%B8%D1%8F.458/page-2:
— Николаич, доброго дня! Я так понял, что многие исследователи ссылаются на этот труд, но сам отчет Чебышевой не читали. Видимо она была помещицей и в её владения входили земли по левому берегу Каменки, потому она и копала курганы левобережья, а те что на правом берегу оставила Савину, Шмидту, а также "чернушникам" из деревни Воронино.
Хотелось бы почитать её отчет. Я нашел в сети некоторые сканы Известий ИОЛЕАЭ, но отчета Чебышевой в этих выпусках нетути
— Да, Юра, Чебышева владела хутором Труханово, по соседству с Харлаповым. Все верно.
Ну как расшифровать ее имя-отчество (а то и девичью фамилию узнать?) Имя вероятнее всего — Вера. Отчество — Михайловна, Максимовна, Митрофановна, Минаевна... или Моисеевна. Осенило: надо смотреть метрические книги Дорогобужского уезда!
P.S. Вчера (24.07) внесла поправку в статью Википедии о Кокушкине, где жена Дмитрия Сергеевича Чебышева была названа Анной Бельской. Не Бельская, а Ковалева, дочь бельского помещика Петра Григорьевича Ковалева и Агафьи Петровны Ковалевой (урожд.Альшевской). И годы жизни ее 1795-1874 (последнее упоминание).Последнее редактирование: 25 июл 2016
-
Любовь Н. тверская смолянка
Регистрация:
15 дек 2014
Сообщения:
Спасибо SB:
5.047
Отзывы:
171
Страна:

Из:
Тверь
Интересы:
природа, храмы, родословная
Сейчас нам потребуется совершить экскурс на родину предков Чебышевых, в Калужскую губернию. Там немало мест, связанных с именами Чебышевых.
Источник: "ЧЕБЫШЕВЫ И КАЛУЖСКИЙ КРАЙ.СВОДНЫЙ КАТАЛОГ ПАМЯТНЫХ МЕСТ" Заурдина С. Я., Бессонов В. А., Лопатин Н. В.
(Фрагмент):
...Анализ выявленного корпуса источников позволил включить в сводный каталог памятных мест 95 объектов. Все они были сконцентрированы в 9 из 12 уездов Калужского наместничества (Боровском, Жиздринском, Калужском, Козельском, Медынском, Мещовском, Мосальском, Серпейском и Перемышльском). В число памятных мест вошли 88 населенных пунктов (23 села, 25 селец, 40 деревень), одна Подкопаевская бумагопрядильная фабрика в Мещовском уезде, принадлежавшая Петру Николаевичу Чебышеву (ветвь 1а), и 6 возведенных Чебышевыми церквей (села Избищи, Красное, Субботники Козельского уезда, Новоселки, Понково Мещовского уезда и Стрельня Мосальского уезда).
На территории Калужского края в разное время имели недвижимость представители всех четырех ветвей рода Чебышевых."...
..." В XIX в. в Мещовском уезде владел крупным имением подполковник Петр Николаевич Чебышев (линия 1а), поклонник театра и литературы, состоявший в дружеских отношениях с В. А. Жуковским и А. С. Грибоедовым. Эта его недвижимость относилась к разряду "благоприобретенных". Помимо населенных пунктов в собственности П. Н. Чебышева была Подкопаевская бумагопрядильная фабрика. "...
Отец Д.С.Чебышева Сергей Васильевич Чебышев (1749-1812) в 1778 - секунд-майор, заседатель второго департамента Верхнего земского суда в Мосальском уезде Калужской губернии. 1780 - премьер-майор, заседатель Верхнего земского суда . 1782 - премьер-майор, заседатель первого департамента Верхнего земского суда . 1789 - премьер-майор, предводитель Дворянской опеки Мосальского уезда. В 1792 — вкладчик строительства Михаило-Архангельской церкви в с.Стрельна Мосальского уезда.
Стрельня (Стрельна), село (в конце XVII–XVIII в. – сельцо) Мосальского уезда (после 1861 г. – Луневской волости) Калужской губернии (на 1993 г. – деревня, Мосальский район Калужской области, Горбачевский сельсовет). Принадлежало мещанину Ивану Ивановичу Кашкарову, от которого в 1660 г. перешло его тестю – Обросиму Ивановичу Чебышеву (третья ветвь). 09.02.1660 г. Иван Иванович Кашкаров "поступился" (уступил, отказался) поместьем ("в Мосальском уезде, в Стреленском стану жеребий села Стрельны добрые земли"
|
Метки: чебышевы ковалёвы |
Долгоруковы |
|
|
Долгоруковы княжеский род (Рюриковичи) 
Долгоруковы (Долгорукие) - русский княжеский род, происходящий от святого князя Михаила Всеволодовича Черниговского. Потомок его в восьмом колене, князь Иван Андреевич Оболенский, прозванный за свою мстительность Долгоруким, был родоначальником князей Долгоруковых. Из этого рода было шесть бояр, четыре окольничих, один фельдмаршал. Род князей Долгоруковых разделился на три ветви: старшая ветвь пошла от окольничего князя Федора Федоровича Долгорукова (ум. 1664), а две младшие - от бояр князей Юрия Алексеевича (ум. 1682) и его брата Дмитрия Алексеевича (ум. 1674) Долгоруковых. Род князей Долгоруковых дал России ряд замечательных государственных деятелей, полководцев, литераторов и других достойных личностей. Род Долгоруковых внесен в V часть родословной книги Владимирской, Московской, Подольской, Полтавской, С.-Петербургской, Симбирской, Тульской и Черниговской губ. (Гербовник I, 7).
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Метки: долгоруковы |
Очерки Князья Долгоруковы – владельцы села Никольское |
Очерки Князья Долгоруковы – владельцы села Никольское 27.09.2018 288 0.0 0 фото с сайта wikipedia.org. Автор: Артамонов Александр Из родословной князей Долгоруковых Князья Долгоруковы ответвились от князей Оболенских. Родоначальником Долгоруковых стал Иван Андреевич Оболенский, по прозвищу Долгорук (родился в конце XIV века); единственный сын его, Владимир Иванович уже прозывался Долгоруковым. Предки князей Долгоруковых отличились в Куликовской битве 1380 года: князья Семен Константинович Оболенский и Иван Константинович Тарусский были воеводами в сторожевом полку. Третий брат - Андрей Константинович – не упоминается при Куликовской битве; скорее всего, из-за того, что он как младший брат не имел удела, а, может быть, ввиду малолетства он в битве не участвовал. Но именно он является прямым предком князей Долгоруковых. Рассматриваемая нами ветвь князей Долгоруковых (она у историков называется третьей ветвью) не породила знаменитых деятелей до середины XIX века. Все Долгоруковы, известные по Татищеву, Карамзину, Соловьеву, Зимину и мн. пр., не относятся к “нашим” Долгоруковым. Князь Николай Владимирович Долгоруков (1716-1782) В 1778 году полковник князь Александр Яковлевич Голицын продал своё имение – село Ржавки с церковью Святого Николая Чудотворца, и деревню Савёлки – за 9000 рублей подполковнику князю Николаю Владимировичу Долгорукову. С этого времени около 70 лет «усадьба при селе Никольском, Ржавки тож, Московского уезда Горетова стана» находилась во владении князей Долгоруковых. В юные годы Н.В. Долгорукову пришлось пережить крах рода Долгоруковых. Это – известная история, когда в 1730 году члены Верховного тайного совета пытались ограничить самодержавную власть императрицы Анны Иоанновны. Долгоруковы стояли во главе этого заговора: многие из них были сосланы, некоторые казнены. В 1741 году императрица Елизавета Петровна вернула всех оставшихся в живых Долгоруковых из ссылки, возвратила им чины. В 1742-1746 гг. князь Н.В. Долгоруков был адъютантом при своем родном дяде , фельдмаршале Василии Владимировиче Долгорукове. Затем в чине майора в 1748 году участвовал в походе русского корпуса к берегам Рейна (антифранцузская силовая демонстрация), после чего вышел в отставку в звании подполковника. От супруги Екатерины Андреевны (1734-1803), дочери смоленского помещика генерал-майора Андрея Филагрича Станкевича, у него было четыре сына: Иван, Николай, Илья и Андрей. Князь Н.В. Долгоруков приобрел “подмосковную” на склоне лет, когда ему было 62 года. Эта “подмосковная” князя Н.В. Долгорукова не была его единственным владением: у него были имения и в других губерниях. Родовым местом захоронения князей Долгоруковых (третьей ветви) стал Троицкий собор Болдинского монастыря, что в 19 километрах от Дорогобужа по старой Смоленской дороге. Там долго сохранялась родовая усыпальница князей Долгоруковых. На памятнике, стоявшем у западной стены собора с левой стороны от входа было указано, что здесь покоятся князья Николай Владимирович (1716-1782), Николай Николаевич (1770-1785) и Илья Николаевич (1771-1789) Долгоруковы и княгиня Екатерина Андреевна Долгорукова, урожденная Станкевич (1734-1803). Эти памятные надписи, да и само место захоронения, говорят о многом: 1) здесь был захоронен в 1782 году владелец сел Никольское, Ржавки и деревни Савелки князь Николай Владимирович Долгоруков; вероятно (точно пока установить не удалось), недалеко от Болдинского монастыря располагалось его земельное владение; 2) здесь же погребены два его сына – Николай (1770-1785) и Илья (1771-1789); оба умерли в молодых летах (15 и 18); 3) здесь похоронена их мать Е.А. Долгорукова (Станкевич) скончавшаяся в 1803 году. Вышеприведенные даты позволяют объяснить последующие наследственные и другие действия. Князь Иван Николаевич Долгоруков – владелец Никольского (до 1819 г.) После кончины в 1782 году главы семейства Долгоруковых управление всеми имениями взяла на себя его жена, поскольку все четверо ее сыновей не достигли еще совершеннолетия. После смерти сыновей Николая (в 1785 г.) и Ильи (в 1789 г.) все имения перешли к оставшимся братьям – Ивану и Андрею. “Подмосковная” - Ржавки, Никольское и Савелки – как главное имение досталась старшему брату Ивану Николаевичу Долгорукову. При нем усадьба в селе Никольском включала каменный господский дом с плодовым садом, прудом и оранжереей. Церковь Николая Чудотворца вначале была деревянной, но в начале XIX века начинается строительство каменной церкви. Вероятно, в связи с кончиной владельца имения князя Ивана Николаевича Долгорукова в 1819 году село Никольское с деревнями Савелки и Ржавки переходят к младшему сыну Н.В. Долгорукова – князю Андрею Николаевичу Долгорукову. Он был женат на Елизавете Николаевне Салтыковой (дочери графа Николая Владимировича Салтыкова), в браке с которой имел семь сыновей и четыре дочери. Строительство каменной Никольской церкви (1802-1828 гг.) После кончины владельца имения князя Ивана Николаевича Долгорукова в 1819 году село Никольское с деревнями Савелки и Ржавки переходят к младшему сыну Н.В. Долгорукова – князю Андрею Николаевичу Долгорукову (1772-1834). С 1791 года он был женат на Елизавете Николаевне Салтыковой, дочери графа Николая Владимировича Салтыкова, в браке с которой имел семь сыновей и четыре дочери. Князь Андрей Долгоруков продолжил и закончил начатое его старшим братом Иваном Долгоруковым строительство каменной церкви Николая Чудотворца в Ржавках-Никольском. Это строительство началось ещё в 1802 году (по другим источникам – в 1805 году) на месте старой деревянной церкви. При этом старая церковь не разрушалась, а продолжала служить. Планы строителей церкви впечатляют: церковь была задумана двухэтажной, рядом с храмом, в десяти метрах к западу, воздвигалась надвратная трёхъярусная колокольня с примыкающими к ней крыльями богадельни. Первоначально богадельня была женской, на десять человек. Церковь была построена в псевдоготическом стиле; основной объем – большой куб – со всех четырёх сторон окружён выступами: прямоугольным алтарным с востока и небольшими многогранными с других сторон. На кубическом здании церкви поставлен большой барабан с куполом-полусферой и световыми стрельчатыми проёмами в псевдоготическом стиле, по краю здания идёт невысокий фронтон. В церкви первоначально было два придела: Святителя Николая и мученика Иоанна-воина. Со временем к ним добавились ещё четыре придела: Воскресения Христова, Покрова Пресвятой Богородицы, великомученицы Екатерины и святого Митрофана Воронежского. Все окна церкви выдержаны в том же стиле, как и декор современной храму отдельной колокольни, которая сохранила от времени первоначальной постройки боковые строения и нижний ярус. Стены колокольни украшены пилястрами и нишами. Верхние ярусы были перестроены в конце XIX в., а потом и вовсе снесены после Великой Отечественной войны. Строительство шло долго, и только в мае-июне 1827г. была освящена нижняя «тёплая» церковь, а ещё через год – верхняя «холодная», или «летняя». После завершения строительства в конце 1828 года церковный причт просит у синодальной конторы разрешения на снос старой обветшавшей деревянной церкви. Ценные вещи из ризницы, среди которых были вклады прежних владельцев - князей Голицыных, были перенесены в новый храм. Архитектор идеально вписал здание храма в окружающую живописную местность - с лесом, прудами, старинными деревьями. К храму вела роскошная липовая аллея, от которой осталось (к концу XX века) шесть полуторавековых лип. Другие владения князя А.Н. Долгорукова Кроме “подмосковной” у князя Андрея Долгорукова было во владении село Царевшино в Мокшанском уезде Пензенской губернии. Там на его средства была в 1800 году заложена и в 1806 году освящена каменная церковь Вознесения Господня. А.Н. Долгоруков был самым щедрым благотворителем Болдинского монастыря Смоленской губернии, родового места своих предков. В Москве дворец (иначе не назовёшь!) князя А.Н. Долгорукова располагался на Пречистенке (ныне дом № 19). Он был построен в 1780-х годах, предположительно, М. Ф. Казаковым. Даю краткую архитектурную характеристику дома-дворца. Ансамбль развернут вдоль улицы. Первоначально центральная часть дворца, со строгим крупным портиком, увенчанная бельведером с куполом, соединялась с боковыми флигелями, колонными галереями на аркадах - уникальная для городских усадеб Москвы композиция. Фасады флигелей были отмечены тройными “итальянскими” окнами и балконами на фигурных кронштейнах (сохранились). Во дворе был полукруглый корпус служб. В 1812 году дом сгорел и отстраивался до 1847 года. Бельведер исчез, сквозные арки, ведущие во двор, были заложены. На боковых флигелях появился эклектический декор. В 1869 году. были разобраны службы во дворе и пристроены два трёхэтажных корпуса для учебного заведения, которое поместилось в доме. В 1880-х годах в доме открылось Александро-Мариинское женское училище, основанное “кавалерственной дамой” генеральшей Чёртовой. Москвичи тут же шутя прозвали его “чертовским училищем”. В 1921 году cюда переехала часть Военной академии РККА (с 1925 г. - Академия им. М. В. Фрунзе). Теперь здесь размещается галерея искусств при Российской Академии художеств, а заодно и ресторан «Галерея художника». Дом сохранился до нынешнего времени. Основой внутренней планировки по сей день является парадная анфилада помещений второго этажа, богато и разнообразно отделанных. Сыновья князя А.Н. Долгорукова П.В. Долгоруков, известный генеалог, эмигрант и желчный критик царского окружения, так отзывался о владельце Никольского князе Андрее Николаевиче Долгорукове: “...князь Андрей Николаевич был человек весьма добрый, бескорыстный, набожный, и хотя не пропускал ни обедни, ни всенощной, ни даже заутрени, но весьма дорожил, чтобы сыновья его были в возможно большой милости при дворе...”. О набожности князя А.Н. Долгорукова мы можем судить по его вышеупомянутым деяниям: строительство церквей в Ржавках-Никольском и в селе Царевшино Пензенской губернии, благотворительные пожертвования Болдинскому монастырю (родовой усыпальнице Долгоруковых). Пользуясь родственными связями при дворе (Долгоруковы, Салтыковы – все знатные, все родичи и свойственники!), отец успешно продвигал своих сыновей по служебной лестнице, а в беде выручал. Его сыновья достигли высоких постов в царствования Николая I и Александра II: - Николай Андреевич Долгоруков (1794-1846) – в 1812-1815 гг. участник войны против Наполеона, сменил А.С. Грибоедова (после его гибели) на посту посланника в Персии, с 1833 года генерал-лейтенант, в 1840-1846 гг. харьковский генерал-губернатор; Илья Андреевич Долгоруков (1798-1848) – сначала декабрист, масон в ложе “Трёх добродетелей (с 1816 г.). Был под следствием по делу декабристов, но суду предан не был (“оставлен без внимания”). Затем отличился при подавлении Польского восстания 1830-1831 гг. В 1848 году был назначен генерал-губернатором Малороссии, но вскоре умер; Василий Андреевич Долгоруков (1804-1868) – с 1856 года генерал-от-кавалерии, член Государственного Совета, шеф жандармов и главный начальник III отделения; Владимир Андреевич Долгоруков (1810-1891) – генерал-от-кавалерии, в 1865-1891 гг. - московский генерал-губернатор. Более подробно о них можно узнать в добротном исследовании : А.В. Карандеева. Род князей Долгоруковых (Очерки истории края. Вып. IV. Зеленоградскому музею 30 лет. М.: Зеленоград, 1999, сс. 29-56). Завещание князя Андрея Николаевича Долгорукова В 1832 году князь Андрей Николаевич Долгоруков получил чин статского советника, а через два года, в 1834 году он скончался. Усадьба Ржавки-Савелки-Никольское перешла к его сыну, гвардии поручику Василию Долгорукову, флигель-адъютанту императора Николая II. Князь А.Н. Долгоруков завещал капитал на содержание построенной им ранее богадельни. Богадельня на 20 призреваемых (при открытии в 1827 году их было 10 человек) получила его имя. Но крестьяне принимали на себя ряд обязательств. Они должны были уплатить долг покойного князя С.-Петербургскому опекунскому совету, который вместе с процентами составил к 1837 году около 8900 рублей серебром. До кончины княгини Долгоруковой крестьяне обязывались платить ей оброчные «по 22 рубля 86 коп. серебром с тягла», обрабатывать господскую землю и исполнять прочие обязанности. Господские строения уполномоченный княгини должен был со временем ликвидировать, всё имущество продать, а деньги присоединить к капиталу, который был положен князьями Долгорукими на содержание церкви и богадельни. Земля же из-под господских строений поступала в собственность крестьян. Условия эти были для крестьян обременительными. На волю до кончины фактической владелицы имения – княгини Елизаветы Николаевны Долгоруковой (урождённой Салтыковой; 1777-1855) – крестьяне по завещанию не могли выйти, они лишь переводились на оброк. Оброк был нелёгким (в год «по 22 рубля 86 коп. серебром с тягла»), и для бедного крестьянина при “добром барине” выгоднее было оставаться крепостным. Кроме того, крестьяне должны были выкупить за немалую цену заложенное имение; вряд ли среди крестьян в этом вопросе было единогласие. Были и другие условия (см. выше). Я думаю, что завещание князя А.Н. Долгорукова повисло в воздухе из-за нежелания крестьян. Напрасно некоторые “исследователи” умилительно пишут: “И вот, более чем за 20 лет до отмены крепостного права, хлопочет старый князь об отпуске в звание «вольных хлебопашцев» своих крестьян”. Дело об освобождении крестьян – пятнадцать лет спустя Прошло полтора десятка лет, и много воды утекло... Скончались два старших сына фактической владелицы Ржавок: в 1846 году – Николай Андреевич Долгоруков, харьковский генерал-губернатор, в 1848 году – Илья Андреевич Долгоруков, генерал-губернатор Малороссии (тот самый, упоминаемый Пушкиным:“Сбирались члены сей семьи... у осторожного Ильи”); самой хозяйке шёл уже восьмой десяток лет. Но к высшим военным и административным должностям подбирался её третий сын... 14 декабря 1825 г. князь Василий Андреевич Долгоруков, будучи корнетом лейб-гвардии Конного полка, находился в Зимнем дворце во внутреннем карауле, охраняя Николая I, и с тех пор пользовался благосклонностью императора. Участвовал в подавлении Польского восстания 1830—1831 гг. В 1848 году он был назначен товарищем (т. е. заместителем) военного министра. В 1853-1856 гг. он уже военный министр, а при императоре Александре II с 1856 года – станет членом Государственного Совета, шефом жандармов и начальником III отделения Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Вероятно, ещё до 1848 года он переписал село Ржавки с деревнями на свою мать, и та возобновила ходатайство об исполнении последней воли своего мужа, умершего в 1834 году, – отпустить крестьян Ржавок на волю. Она была готова отказаться от тех ограничительных условий, которые накладывало завещание её мужа на крестьян. Но возникла трудность другого рода... Только что отгремел ряд революций в Европе... Николай II готовил русскую армию для подавления восстания в Венгрии. Сами слова “воля”, “свобода” стали запрещёнными. Даже крестьяне, находившиеся под управлением правительства, были переименованы: прежнее их (с 1803 года) название – “вольные хлебопашцы” было заменено на благозвучное - “государственные крестьяне”. В благоприятном решении дела решающую роль сыграла высокая должность её сына, близость его к государю. Когда дело, пройдя губернскую и министерскую инстанции, дошло до Сената, Николай I дал знать, что он поддерживает просьбу Долгоруковых. И в феврале 1851 года, за 10 лет до официальной отмены крепостного права, крестьяне были отпущены на волю. “На волю” - это громко сказано; крестьяне стали крепостными у государства, т. е. были отпущены «в звание государственных крестьян, водворённых на собственных землях». Им были предоставлены «в собственность их все земли, леса и угодия, какие к этому принадлежат, а также со всеми принадлежащими... строениями, заведениями, скотом, птицею и всякого рода их крестьянским имуществом». Поверенным от крестьян при подписании документа был Ефрем Акимов. Обсудить публикацию на нашем форуме Palindrom Администраторы 1 2 3 4 5 Теги:Князь, Долгоруков
Источник: https://palindrom.su/knyazya-dolgorukovy--vladelcy-sela-nikolskoe
©Palindrom.su https://palindrom.su/knyazya-dolgorukovy--vladelcy-sela-nikolskoe
https://palindrom.su/knyazya-dolgorukovy--vladelcy-sela-nikolskoe
|
Метки: долгоруковы дворянские владения |
Дочь Николая II и простой корнет. А всё могло быть иначе. |
Дочь Николая II и простой корнет. А всё могло быть иначе.
Ее называли копией императрицы Александры Федоровны. Непохожая на нее внешне, она, как и мать, была сдержана и практична. «Очень высокая, тонкая, как тростинка, она была наделена изящным профилем камеи и каштановыми волосами. Она была свежа, хрупка и чиста, как роза», - так описывала вторую дочь Николая II Юлия Ден, близкая подруга императрицы Александры Фёдоровны.
Девочка появилась на свет в Петергофе 10 июня 1897 года. Родители выбрали для нее необычное для Романовых имя – Татьяна. Как вспоминал позже президент Императорской Санкт - Петербургской академии наук, великий князь Константин Константинович, как-то император обмолвился, что его дочери названы Ольгой и Татьяной, чтобы было, как у Пушкина в «Онегине».
Великая княжна Татьяна Николаевна
Разница в возрасте между старшей Ольгой и Татьяной была небольшая – 1,5 года. По воспоминаниям их воспитателей, девочки были очень дружны. После рождения еще двух сестер - Марии и Анастасии - и брата Алексея, в семье их стали называть «старшими». Но в отличие от Ольги именно Татьяна любила нянчиться с младшими и помогать устраивать дела во дворце.
Фрейлина императрицы Анна Вырубова писала в своих мемуарах, что Ольга и Мария Николаевны скорее были похожи на семью отца, в то время как Татьяна пошла в природу матери - внучки английской королевы Виктории и дочери великого герцога Гессенского и Рейнского. Она унаследовала аналитический склад ума и практичность матери. В отличие от старшей Ольги, Татьяна была более сдержана и рациональна. Из-за этих манер посторонние часто обвиняли ее в том же, в чем и Александру Фёдоровну – в высокомерии и гордыне.
Татьяна Романова, дочь Николая II
«Великая Княжна Татьяна Николаевна была столь же обаятельной, как и её старшая сестра, но по-своему. Её часто называли гордячкой, но я не знала никого, кому бы гордыня была бы менее свойственна, чем ей. С ней произошло то же, что и с Её Величеством. Её застенчивость и сдержанность принимали за высокомерие, однако стоило вам познакомиться с Ней поближе и завоевать Её доверие, как сдержанность исчезала и перед вами представала подлинная Татьяна Николаевна», - вспоминала Юлия Ден.
Стоит отметить, что императрица Анна Федоровна лично занималась воспитанием дочерей. Она была убеждена, что девочки должны быть всегда занятыми, всегда находиться в действии. Нередко она даже присутствовала на уроках, чем подчас смущала педагогов.
Пьер Жильяр, преподававший царским детям французский язык, вспоминал первые свои уроки с Ольгой и Татьяной: «Императрица не упускает ни одного моего слова; у меня совершенно ясное чувство, что это не урок, который я даю, а экзамен, которому я подвергаюсь...»
Пьер Жильяр со своими ученицами: великими княжнами Ольгой и Татьяной.
Позже он отмечал, что, когда девочки выходили из кабинета, Александра Федоровна обсуждала с ним приемы и методы преподавания, при этом он «поражался здравому смыслу и проницательности ее суждений».
Дисциплина и прилежность воспитали со временем в Татьяне рассудительность и силу духа. Она стала «старшей» дочерью, пусть и не по праву рождения, но по отношению к своим сестрам и брату. Так, когда император с супругой уехали из Тобольска, то за главную осталась именно Татьяна Николаевна.
«Эта была девушка вполне сложившегося характера, прямой, честной и чистой натуры, в ней отмечались исключительная склонность к установлению порядка в жизни и сильно развитое сознание долга. Она ведала за болезнью Матери, распорядками в доме, заботилась об Алексее Николаевиче и всегда сопровождала Государя на Его прогулках, если не было Долгорукова. Она была умная, развитая, любила хозяйничать», - так охарактеризовал ее полковник Кобылинский.
Николай II c дочерью Татьяной
В 1914 году, когда Татьяне минуло 17 лет, в семье стали вестись разговоры о ее возможном замужестве. Среди претендентов на ее руку и сердце был сын сербского короля Петра I – Александр.
Для знакомства с невестой, он с отцом даже приехал в Петербург. Казалось, что вопрос с заключением выгодного союза почти решен, но все планы спутала Первая мировая война. В итоге разговоры о свадьбе пришлось отложить. Несмотря на это, молодые люди сохранили дружеские отношения и продолжали общение по переписке.
В этом же году, по воспоминаниям приближенных к царской семье, к Татьяне пришла первая любовь. Ее сердце покорил Дмитрий Яковлевич Малама, корнет Лейб-Гвардии Уланского Её Императорского Величества Александры Фёдоровны полка. С ним она познакомилась в госпитале, куда вместе с сестрами и матерью приходила навестить раненых. Пациенты, лежащие с ним в одной палате, замечали, что во время визитов великая княжна всегда садилась у его постели.
Цесаревна Татьяна Николаевна делает перевязку Д.Я. Маламе в Царско-Сельском лазарете, осень 1914 г.
Их взаимная симпатия не была секретом для родных. Как-то Дмитрий подарил ей французского бульдога, что стало поводом для добрых шуток и легких подкалываний со стороны ее старшей сестры и тети - Великой Княгини Ольги Александровны.
Сохранилось также письмо императрицы, в котором она описывала Николаю II визит к Маламе: «У него цветущий вид, возмужал, хотя все еще прелестный мальчик. Должна признаться, что он был бы превосходным зятем — почему иностранные принцы не похожи на него?» Но у этих отношений не могло быть будущего.
В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в в Екатеринбурге в «Доме особого назначения» — особняке Ипатьева - Николай II, Александра Фёдоровна, их дети, доктор Боткин и три человека прислуги были расстреляны.
После того, как известие о смерти царской семьи дошло до Маламы, он потерял желание жить. Соратники, с которыми он сражался в Белой армии, говорили, что он постоянно искал смерти. И это произошло в 1919 году в бою под Царицыным.
Источник: М.Кравцова " Великая княжна Татьяна Николаевна", 2002 год.
https://zen.yandex.ru/media/id/5b9cf2c3b76d9000aa0...nache-5c76bc0b75283300b3e0618a
|
Метки: романовы |
Кузьминки |
План усадьбы Влахернское-Кузьминки
ИСТОРИЯ УСАДЬБЫ
Топонимика местности. Существует три наиболее употребительных названия местности, на которой расположена усадьба. Самое древнее — Мельница, по наименованию строения (или нескольких строений), находившейся на р. Голедянке (она же Голядянка, Голядь, Голяда, Чурилиха). Второе название — Кузьминки, происхождение которого, по одной из версий, связано с церковным праздником св. Космы и Дамиана (Кузьмы и Демьяна), по другой — с особым видом мельницы «Козьминка-Тожь». Третье название — село Влахернское закрепилось в XIX в. и отражает связь с названием храма во имя Влахернской иконы Божьей Матери, построенного в начале XVIII в. владельцами усадьбы.
Григорий Дмитриевич Строганов (1656-1715) — первый владелец усадьбы Кузьминки. Именитый человек, один из богатейших людей России XVII-XVIII вв. В 1704 г. (по некоторым данным 1702 г.) Петр I подарил Строганову земли, именовавшиеся Мельницей и принадлежавшие до этого Симонову и Николо-Угрешскому монастырям. С этого момента началось усадебное строительство: при Строганове или чуть позже появился дубовый господский дом и хозяйственные строения. Строганов был крупным землевладельцем (более 10 млн. десятин), владел солеварнями и металлолитейными заводами, торговал пушниной. Большая часть его владений находилась на Урале и в Сибири, поскольку род Строгановых издавна помогал Русскому государству осваивать эти земли. Известно, что Григорий Дмитриевич построил на собственные средства несколько военных кораблей и преподнес в дар Петру I, а по случаю победы в Полтавской битве на деньги Строганова были установлены одни из семи триумфальных ворот на пути к Кремлю. Строганов покровительствовал живописи (мастерские иконописи), был владельцем хора, собирал старинные рукописи.
Получение Строгановыми дворянского титула. Сыновья Г. Д. Строганова Александр (старший брат, ставший владельцем усадьбы), Николай и Сергей Григорьевичи 6 марта 1722 г. были возведены Петром I в баронское достоинство. Первый из баронов Строгановых, получивший графское достоинство, был Александр Сергеевич, возведенный в графское достоинство Римской империи императором Францем I 29 июня (9 июля) 1761 г. в Вене.
Влахернская икона Божьей Матери. Находилась во Влахернском храме, выстроенном вдовой Г. Д. Строганова Марией Яковлевной. В 1716 г. она подала прошение о разрешении построить деревянную церковь во имя Пресвятой Богородицы Влахернской в Московском уезде, на р. Голяде при Мельнице Кузьминки. Согласно данным священника Влахернского храма Н А. Порецкого, в 1653 г. царю Алексею Михайловичу из Константинополя были привезены две иконы Влахернской Богоматери. Одна из них была оставлена в Успенском соборе Московского Кремля, другую подарили Строгановым. Первоначально считалось, что более старая икона находилась в Кремле, однако экспертиза, проведенная уже в XX в. сотрудниками Третьяковской галереи, показала, что икона из Кузьминок более древняя и относится предположительно к VII в. Название иконы происходит от местечка близ Константинополя — Влахерны. Икона издавна считалась чудотворной и была известна как реликварий. Современные исследования показали, что в ней содержатся частицы черной шерстяной материи. По легенде внутри иконы находились частицы одеяния Богородицы. Интересна техника выполнения иконы — воскомастика. Мастика готовилась из минералов-наполнителей и связующих ладана и камеди. Благодаря этим ароматным смолам, поверхность иконы источает приятный аромат даже при небольшом повышении температуры. В 1806 г. икона «ко 2 Июля, дню святой восточной церковью, ей празднуемому, поновлена и украшена видимой на ней богатой ризою, усердием ея сиятельства княгини Анны Александровны Голицыной, урожденной баронессы Строгановой, ордена святой великомученицы Екатерины кавалерственной дамы». В 1826 г. императрица Мария Федоровна пожертвовала иконе брошь.
В настоящее время икона находится в Государственной Третьяковской галерее.
Владельцы усадьбы во второй половине XVIII века. М. М. Голицын (1731 — 1804) и А. А. Голицына (1739 — 1816). В 1757 г. внучка Г. Д. Строганова Анна Александровна вышла замуж за князя Михаила Михайловича Голицына. В этом браке соединились род богатейших предпринимателей и промышленников баронов Строгановых и древний и знатный род князей Голицыных. В приданом невесты было село Влахернское. За почти полвека владения Кузьминками супруги многое сделали, благоустраивая усадьбу.
В 1750 — 1770-х гг. под руководством архитектора И. П. Жеребцова были перестроены усадебные сооружения: мельница, барский дом с флигелями, пристани, беседки. Во второй половине XVIII в. был разбит Французский регулярный парк (либо под руководством садовника И. Д. Шнейдера, либо архитектора Р. Р. Казакова). Тогда же была реконструирована Слободка, создан комплекс Садоводство, выкопан канал, соединивший Щучий пруд с Нижним Кузьминским прудом. Восточнее усадьбы Михаил Михайлович построил деревню Аннино, названную в честь жены.
Михаил Михайлович и Анна Александровна не оставляли без внимания Влахернскую церковь. В 1759 г. Голицын обратился с прошением к митрополиту Тимофею дозволить выстроить вместо сгоревшего деревянного храма каменный. В 1774 г. каменная церковь была закончена. Владельцы усадьбы делали пожертвования Влахернскому храму: Михаил Михайлович — дарохранительницу, серебряные вызолоченные сосуды; Анна Александровна — большой напрестольный серебряный крест, ризу для Влахернской иконы Божьей Матери и проч.
По всей видимости, семейная жизнь Голицыных сложилась удачно. Анна Александровна родила мужу десятерых детей. Некоторые исторические данные позволяют предположить, что супруги были людьми добрыми, помогавшими окружающим и пользовавшимися их уважением. Так, на дарохранительнице, находившейся во Влахернском храме, была выгравирована надпись: «Сия дарохранительница сооружена декабря дня 1781 года тщанием генерала-поручика ЕЁ ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА действительного камергера польского белого орла кавалера Князя Михаила Михайловича Голицына и приложена в селе Влахернском в церковь Пресвятой Богородицы Влахернской в вечную память, по завещанию в Бозе почивающего секунд-майора Василия Ивановича Павлова, который в добродетели и благочестии пожив до глубокой старости, преставился 22 апреля 1774 года и при сей церкви тело его погребено». Также в 1783 г. священник Влахернского Фёдор Иванов обращался к Михаилу Михайловичу с просьбой об увеличении содержания и получил удовлетворение.
Михаил Михайлович умер в 1804 г. Анна Александровна прожила ещё 12 лет. Она пережила войну 1812 года. Сыновья Голицыных Александр и Сергей Михайловичи отправили на дело обороны отечества сто тысяч рублей. Узнав об этом, Александр I сказал: «Пожертвование велико, но я их знаю и не удивляюсь». Во время войны французы заняли усадьбу Кузьминки. После войны Анна Александровна доносила предводителю Московского дворянства А.А. Арсеньеву о разграблении в усадьбе.
В 1813 г. Анна Александровна открыла богадельню для 12 женщин. «Вероятно, большинство их лишилось в год войны, кто мужа, кто сыновей, опоры жизни, и сердобольная Княгиня спешит утереть горькие слёзы несчастных». Богадельня разместилась на нижнем этаже дома причта, впоследствии была переведена князем С.М. Голицыным II в Дубровицы.
Михаил Михайлович и Анна Александровна погребены на кладбище Донского монастыря в Москве.
Усадьба при князе С. М. Голицыне (1774 — 1859)
После Михаила Михайловича и Анны Александровны Голицыных усадьбу унаследовали их сыновья Александр Михайлович (1772-1821) и Сергей Михайлович (1774-1859). Поскольку Александр Михайлович жил за границей, то фактически (а после его смерти и формально) хозяином Кузьминок являлся Сергей Михайлович Голицын. Он был высоким сановником, придворным, занимался благотворительной деятельностью, был награжден всеми гражданскими орденами Российской империи.
Большинство современников писали о нем, как о добром и честном, но ограниченном и лишенном дарований человеке. «Князь Сергей Михайлович оставил в памяти людей, знавших его, образ человека честного и доброго, но ограниченного, не развитого и узких понятий» (С.В. Энгельгардт, здесь и далее цит. по кн. Е.В. Олейниченко «Князь С.М.Голицын-хозяин усадьбы Кузьминки»).
«Это был человек ограниченный, самолюбивый, привыкший с ранней молодости играть первенствующую роль по своим связям и богатству, но вместе с тем очень добрый, набожный нелицемерно, имевший в себе истинно аристократические свойства» (С.М.Соловьев).
«Общественное мнение было таково, что князь не блистал ни умом, ни образованием, но был честен, добр, прямодушен, обладал «рыцарско-барским духом» (Д.И. Никифоров).
При С.М.Голицыне усадьба была окончательно восстановлена после войны 1812 г. и перестроена в 20-30 гг. XIX в. Для строительства Голицын пригласил семью знаменитых архитекторов Жилярди. По проектам Доменико Жилярди были построены Музыкальный павильон Конного двора, Львиная пристань, перестроен Господский дом и ряд других сооружений. К 30-40-м гг. XIX в. Кузьминки стали прекрасным архитектурно-парковым ансамблем, гармонично соединившим в себе русский ампир, романтизм, бидермайер. Сохранились рисунки и литографии по рисункам И.-Н. Рауха с видами Кузьминок того периода.
Сергей Михайлович любил усадьбу и проводил в ней много времени. У него не было законных детей, поскольку с женой Евдокией Ивановной Голицыной (знаменитой «Ночной княгиней») отношения не сложились и супруги жили отдельно. Усадьба стала своеобразным «детищем» Голицына. Он вместе с незамужними сестрами жил в Кузьминках в теплое время года. «На лето Голицыны переезжали в свою подмосковную Кузьминки и принимали по воскресеньям. Я нигде не видывала такого изобилия цветов. Не только парк был ими усеян, но в одной из комнат вся стена была убрана цветами»,-писала С.В. Энгельгардт.
При Голицыне усадебное хозяйство поддерживалось на высоком уровне и в большом порядке. «Во время прогулок по Москве князь Абамелик завез нас, между прочим, и к последнему из бояр, более чем восьмидесятилетнему громадно богатому князю Сергию Михайловичу Голицыну, жившему в собственном дворце, поблизости от столицы. Одному из своих племянников он поручил показать нам свои хозяйственные заведения. Скотный двор был полон превосходными коровами йокширской породы, нарочно привезёнными из Англии...Проводник наш заметил, что наследники князя навряд ли будут в состоянии продолжать подобную роскошь...» (К.Ф. Фицтум фон Экштедт, цит. по: Е.В.Олейниченко «Князь С.М.Голицын — хозяин усадьбы Кузьминки»). В тот период многие посетители Кузьминок обращали внимание на ухоженное состояние усадебных парков и прекрасные оранжереи.
В Кузьминки приезжали гости: члены императорской фамилии, бывали иностранцы. Здесь князь С.М. Голицын принимал императрицу Марию Федоровну (1826), Вел. князя Михаила Павловича (1830), императора Николая I (1835). Усадьба была одним из любимых мест прогулок москвичей. Ежегодно 2 июля устраивался Влахернский праздник.
Интересно, что хотя многие современники Сергея Михайловича называли усадьбу «Кузьминки», сам хозяин не любил это название и предпочитал «село Влахернское». В разговоре с А.Я. Булгаковым Голицын заметил «А, милый мой, это только крестьяне называют так: село Кузминки; следует говорить село Влахернское или, если вам больше нравится — Мельница»" (Цит. по: С.Шумихин «Мадригал с двойным дном», журнал «Наше наследие»).
Усадьба во второй половине XIX века.
После смерти князя Сергея Михайловича Голицына в 1859 г. владельцем усадьбы стал его племянник Михаил Александрович Голицын (1760-1804). Будучи дипломатом, Михаил Александрович большую часть времени проводил за границей. Известно, что во время приездов в Россию, он бывал в Кузьминках у своего дяди, однако так и не успел стать полноправным хозяином. В 1860 г. М.А. Голицын умер в Монпелье. Усадьба перешла во владение его сыну Сергею Михайловичу Голицыну II (1843-1915). Родившийся и воспитывавшийся во Франции, Сергей Михайлович был лишен многих предрассудков, присущих русскому дворянскому сословию. Так, в начале 1860-х гг. он женился на цыганской певице Александре Осиповне Гладковой. В 1870-е гг. князь записался в московские купцы 1-й гильдии и торговал железом, солью и сельскохозяйственными продуктами (М.Ю.Коробко). При этом Голицын демонстрировал патриотизм и любовь к России: поступил на службу в гусарский полк; исполнял поручение министра внутренних дел по анализу состояния продовольственного снабжения Москвы; в 1865 г. открыл музей в московском доме на Волхонке; на собственные средства установил в Швейцарии памятник в честь русских войск, перешедших через Альпы под командованием Суворова в 1799 г.; оказывал денежную и организационную помощь при строительстве русских церквей и храмов за границей, в частности — церкви в честь святителя Николая в Ницце.
Сергей Михайлович жил в Кузьминках до 1873 г. После развода с первой женой Александрой Осиповной он окончательно переехал в усадьбу Дубровицы. Во второй половине XIX в. Кузьминки стали дачным местом. Здесь жили купцы и их семьи, а также интеллигенция. В усадьбе отдыхали архитектор И.Е. Бондаренко, искусствовед И.Э. Грабарь, художник В.Г. Перов. В московском журнале «Искры» о Кузьминках писали: «...Вы смело можете отправляться гулять в парк, не надевая шикарных туалетов, и можете быть вполне уверены, что вас никто не встретит; наоборот, желаете общество — вам стоит отправиться в места для прогулок, наиболее излюбленные кузьминскими дачниками. Ко всему этому присоединяется отсутствие пыли, грязи, громыхающих поездов с ужасными ревунами-свистками, граммофонов и прочей прелести» (Цит. по М.Ю. Коробко. Москва усадебная. М., 2005. — с.141-142). Н.Н. Врангель писал об усадьбе Кузьминки в начале ХХ века: «В окрестностях Москвы больше помещичьих усадеб. Родовые традиции бережливее сохранялись в старых подмосковных, и красивы до сих пор пригородные имения. Конечно, эта сохранность только относительная. Ведь от Кузьминок, отдаваемых под дачи...сохранялись только стены...» (Н.Н. Врангель. Помещичья Россия//Старые годы. 1910. Июль-сентябрь. — с. 142).
Архитектурные памятники усадьбы Кузьминки
Египетский павильон (Кухня)
Одно из усадебных зданий, предназначавшихся для хранения и приготовления пищи. Построено в 1813-1815 гг. на территории так называемого Красного двора неподалеку от Господского дома. Архитектор неизвестен. Предположительно автором проекта здания мог быть А.Н. Воронихин, а завершил строительство Д.И. Жилярди. Представляет собой превосходный образец архитектуры конца XVIII — первой четверти XIX века с использованием древнеегипетской тематики. На фронтоне с северной стороны изображена львиная голова с двумя сфингами по бокам; на архитраве — крылатый египетский диск; капители колонн украшены стилизованными изображениями пальмовых листьев и лотосов. Интересна форма окон, суживающихся кверху. По свидетельству историка М.Ю. Коробко, Египетский павильон, а также Померанцевая оранжерея в Кузьминках — единственные здания «египетского» стиля данного периода в Москве. В 2004 г. мэром Москвы Ю.М. Лужковым было подписано распоряжение о реставрации Египетского павильона и Померанцевой оранжереи. Однако на протяжении более чем десяти лет уникальные здания остаются неотреставрированными и продолжают разрушаться.
Померанцевая оранжерея
Несмотря на позднейшие перестройки, здание и по сей день представляет собой выдающийся образец русского ампира первой четверти XIX в. Авторами оранжереи могли быть И. Д. Жилярди, Д. И. Жилярди или А. Н. Воронихин. В 1836 г. возведен бельведер. Во внутренней отделке центральной части здания использованы древнеегипетские мотивы, которые сохранялись до начала 2000-х годов, а сейчас частично или полностью утрачены. Потолок зала украшали изображения древнеегипетских иероглифов и символов. Потолочная люстра с двенадцатью подсвечниками в виде цветов лотоса по окружности и шестью подсвечниками в центре повторяла общую стилистику зала. Название оранжереи «померанцевая», вероятно, появилось во второй половине XIX в. Связано с цитрусовыми деревьями померанцами, популярными в XVIII–XIX вв., которые содержали в кадках и выставляли на улицу в теплое время года. На рисунках и литографиях по рисункам И.-Н. Рауха здание называется просто «оранжереей». Ко второй половине позапрошлого столетия относится также наименование «Оранжевая дача». Здесь, как и во многих других усадебных сооружениях, жили дачники. В советское время в здании разместилась научная библиотека ВИЭВ и лаборатории. С конца ХХ в. сооружение находится в аварийном состоянии. До настоящего времени не реставрировалось и не использовалось. В 2014-15 гг. обвалилась крыша портика северного фасада оранжереи, что, безусловно, ускорит гибель здания. Оценивая состояние архитектурных памятников Москвы в конце 2016 г. С. С. Собянин отметил: «Мы в 6,5 раз сократили количество памятников, которые находятся в ненадлежащем состоянии». Когда Померанцевая оранжерея окончательно разрушится, действительно, количество объектов культурного наследия сократится еще на один.
 |
 |
 |
 |
 |
 |
|
Метки: дворянские владения строгановы |
Шуваловы. Бобринские. Родовые имения в Ямбургском уезде |
Виктор Назаров, Ирина Назарова
Шуваловы. Бобринские. Родовые имения в Ямбургском уезде
Среди Шуваловых и Бобринских, землевладельцев Ополицкой волости Ямбургского уезда, были замечательные люди: чиновники, военные, ученые, археологи. Они заказывали братьям Брюлловым портреты и архитектурные проекты, водили знакомство с Пушкиным, Лермонтовым, Сперанским, а также с российскими монархами от Елизаветы Петровны до Николая II. А один из Шуваловых даже удостоился чести сопровождать «поверженного льва» – Наполеона на остров Эльбу.
Однако в их ямбургских усадьбах Лялицы и Графская Гора никогда не было роскошных дворцов, наполненных ценными произведениями искусства. Обладая огромными состояниями, владельцы этих имений предпочитали строить особняки и разбивать пейзажные парки либо в столице (дворец Бобринских на Галерной улице в Петербурге), либо поблизости от нее (усадьба Шуваловых в Парголове). Здесь же, в Ямбургском уезде, строились лишь скромные мызы, давно исчезнувшие с лица земли. Даже фундаменты этих строений сейчас найти довольно трудно.
Что же оставили нам сановитые и баснословно богатые владельцы имений Лялицы и Графская Гора? Прекрасную церковь в Ополье, службы в которой не прекращались в самые трудные годы. В дни революции и гражданской войны, в 1943 г., в тяжелое послевоенное лихолетье это была одна из немногих действовавших в Кингисеппском районе православных церквей, и сюда съезжались верующие со всей округи. Множество драгоценных экспонатов в самых знаменитых музеях России, книги статьи и, конечно, фамильные портреты, выполненные великолепными мастерами.
До того, как стать вотчиной Шуваловых, Ополье могло перейти к М.В. Ломоносову. Здесь великий русский ученый хотел построить стекольный завод для мозаичного дела. В августе 1751 г. он представил императрице Елизавете Петровне через графа М.И. Воронцова образцы своего искусства. В конце 1752 г. Ломоносов обратился в Сенат с просьбой передать ему с. Ополье. Однако императрица Елизавета Петровна предпочла отдать Ломоносову деревню Усть-Рудицы Копорского уезда. Ополье же по повелению императора, Петра III, получил начальник Тайной канцелярии Александр Иванович Шувалов.
Шуваловы – старинный дворянский и графский русский род.
По разным записям и актам видно, что этот род существовал еще в XVI веке. Иван Максимович Шувалов Старший (ум. 1736 г.) был при Петре Великом комендантом в Выборге, занимался съемкой карты морских и речных берегов, определял границу между Россией и Швецией и содействовал заключению Ништадтского мира.
Александр Иванович Шувалов (1710-1771) – старший сын выборгского коменданта Ивана Максимовича Шувалова, фельдмаршал, первый владелец Ополицких земель. В ночь на 25 ноября 1741 г. Александр Шувалов и его брат Петр находились в числе молодых сторонников Елизаветы Петровны и способствовали ее восшествию на престол. Став начальником Тайной канцелярии, А.И. Шувалов, как и его предшественник Ушаков, применял пытки и, по выражению Екатерины II, был «пугалом Двора, города и всей империи». Благодаря родству с фаворитом императрицы Елизаветы И.И. Шуваловым, Александр Иванович пользовался огромным влиянием. В 1746 г. вместе с братом он был возведен в графское достоинство. После смерти Елизаветы, 9 июня 1762 г., А.И. Шувалов получил награду от Петра III: ему с женой были подарены 2000 душ из дворцовых имений «по их Шуваловых выбору». Шувалов выбрал обширную вотчину с 16 деревнями площадью 15 156 десятин вокруг Ополья, на земле «мызы Ямсковицкой».
С приходом к власти Екатерины II А.И. Шувалов потерял свое влияние. Он владел Ополицкой волостью около десяти лет, вплоть до своей смерти. Но когда в марте 1767 г. в Ополье совершалось историческое событие – выборы в Комиссию об Уложении депутата от дворян Ямбургского уезда [9], – хозяин вотчины граф Шувалов не явился, возможно, потому, что внушал молодой царице «невольное отвращение». Шувалов и его жена казались Екатерине «такими пошлыми и такими скучными», что она была «в восторге, когда они отсутствовали».
А.И. Шувалов был женат на Екатерине Ивановне Костюриной, имел одну дочь Екатерину, которая после смерти отца унаследовала его ямбургские имения. Екатерина Александровна Головкина (1733-1821) – дочь Александра Ивановича Шувалова, жена графа Гавриила Ивановича Головкина. Их свадьба состоялась 14 октября 1750 г. в присутствии императрицы Елизаветы Петровны и наследника Петра Федоровича. При коронации императора Александра I Е.А. Головкина была пожалована в статс-дамы и награждена орденом св. Екатерины 2-й степени.
Е.А. Головкина владела землями вокруг Ополья около 50 лет. Жила в основном в Европе и свои ямбургские имения посещала редко, доверяясь управляющим. Не в эти ли годы «по недосмотру» у здешних крестьян появились фруктовые сады, которым потом так радовался Ф. Булгарин? В годы ее владения деревянный почтовый двор (т.н. «Дорожный дворец») в Ополье был заменен на типовую станцию, построенную по проекту Луиджи Руска. Деньги на строительство поступили из казны. По-прежнему здесь стояла церковь, возведенная в 1734 г. при Анне Иоанновне. По иронии судьбы с 1802 по 1816 г., в т.ч. во время Отечественной войны, Е.А. Головкина жила во вражеской Франции, где и скончалась. Ее не было в России в мае 1814 г., когда в церкви села Ополья отпевали М.И. Кутузова, и 5 июня 1814 г.,когда в Ополье встретились две колонны С.-Петербургского ополчения, разными дорогами возвращавшиеся в столицу с победой над Наполеоном.
С 1821 по 1823 год землями вокруг Ополья владел граф Павел Андреевич Шувалов (1777-1823), младший сын действительного тайного советника Андрея Петровича Шувалова, внук Петра Ивановича Шувалова. Он воевал в Польше (1794); участвовал в Итальянском и Швейцарском походах Суворова. В 1807 г. отличился в сражениях с французами, за что в июне 1808 г. император Александр I назначил Шувалова своим генерал-адъютантом. В дни русско-шведской войны, в марте 1809 г., командуя отдельным корпусом (4 тыс. человек), захватил город Торнео, а затем принудил капитулировать крупный отряд шведских войск (8,6 тыс. человек). За отличия в этой кампании был произведен в генерал-лейтенанты. В1812 г. он – командир пехотного корпуса в составе 1-й Западной армии, в 1813-1814 гг. находился в свите Александра I.
В 1814 году П.А. Шувалову было поручено в качестве комиссара русского правительства сопровождать Наполеона от Фонтебло до гавани на Средиземном море, откуда низложенный император отправился на Эльбу. Павел Андреевич писал: «Все размышления о том, что я вижу, подтверждают меня в убеждении, что этот человек далеко не отказался от своих планов, у него есть своя партия во Франции и Италии, которая будет действовать за него, и он ожидает, что через несколько времени французы призовут его». Дальнейшие события показали, что Шувалов был прав.
П.А. Шувалов был женат на княжне Варваре Петровне Шаховской (1796-1870), имел двух сыновей: Андрея Павловича (1816-1876) и Петра Павловича (1819-1900). В петербургском доме Шуваловых бывали Брюлловы, Сперанский, Вяземский, Пушкин, Жуковский.
П.А. Шувалов – автор неизданных записок. Масон. Член петербургских лож «Владимира к порядку – Великая провинциальная ложа», Ложа соединенных друзей (куда входил также А.С. Грибоедов), Ложа Сфинкса. Масонское имя: «Рыцарь факела истины». Девиз: «Светом побеждает тьму!».
В 1820-е гг. современники называли П.А. Шувалова хозяином земель вокруг Ополья. Сын Е.А. Головкиной был тогда еще жив. Каким образом П.А. Шувалов стал владельцем имения, было оно подарено, продано или сдано в аренду, установить не удалось. Возможно, именно при П.А. Шувалове был разбит неподалеку от д. Алексеевка парк, старые аллеи которого сохранились до начала ХХ в.
В 1827 году журналист Ф.В. Булгарин проезжал через Ямбургский уезд. Он написал: «Между Чирковицами и Опольем я увидел в первый раз фруктовые сады у крестьян и чрезвычайно обрадовался. Это уже знак довольства и некоторого рода роскоши, ибо в нашем Ингерманландском климате, где (как сказал один наш приятель) природа с величайшим усилием производит веники, надобно, чтобы крестьянин имел много времени для попечения о саде. И в самом деле, здесь крестьяне богаты. Это русский народ, трудолюбивый, сметливый и промышленный. Село Ополье с окружными деревнями всего около 2300 душ принадлежало прежде фамилии графов Головиных (неточность: Головкиных – авт.), а ныне перешло в род графов Шуваловых. Довольство крестьян дает самое лучшее понятие о характере помещика» [3]. На самом деле «довольство крестьян» было весьма сомнительным. Как отмечал П.Н. Жулев, «владельческий крестьянин жил даже здесь, под столицей, хозяйством натуральным и почти ничего не покупал. Это видно и из того, что в уезде в 1838 году было всего 4 торговли:... Единственно, что крестьянину предоставлено было покупать – это водка. Кабаков в уезде было 26, и разбросаны они были по всем углам довольно равномерно. Только в одной вотчине Шуваловых они были насажены вдоль большой дороги чересчур густо: в Тикописи, Ополье, Гурлеве и Кутах» [4].
Сыновья Павла Андреевича, графы Шуваловы Андрей Павлович и Петр Павлович, после смерти отца воспитывались под руководством опекуна знаменитого М.М. Сперанского. По воспоминаниям М.Б. Лобанова-Ростовского, братья «оба симпатичные и хорошо воспитанные, оригинальные каждый в своем роде, искренно привязанные друг к другу».
Андрей Павлович (1817-1876), С.-Петербургский губернский предводитель дворянства, известен своими заслугами в качестве земского деятеля. Был хорошо знаком с Лермонтовым, входил в «Кружок шестнадцати». Современники полагали, что его черты нашли отражение в образе Печорина.
Петр Павлович (1819-1900) – камергер, действительный тайный советник, член редакционных комиссий, предводитель дворянства С.-Петербургской губернии. Крупный ямбургский помещик, владелец села Ополье, деревень Алексеевка, Горка, Заполье, Малия, Новоселки, Тикопись, Ямсковицы (3721 дес. на 1898 г.). Он владел деревнями Ополицкой волости более 50 лет. В 1840 году Шуваловым принадлежало 4255 человек крепостных [4].
Петр Шувалов вступил во владение, вероятно, в 1840-х гг., после того, как его мать Варвара Петровна, овдовев в третий раз, навсегда покинула Россию и перебралась в Европу, а старший брат вслед за сосланным Лермонтовым отправился на Кавказ.
Петр Шувалов получил образование в С.-Петербургском университете. В 1837 г. вместе с князем П. Вяземским он приходил на квартиру А.С. Пушкина для прощания с поэтом. Был хорошо знаком М.Ю. Лермонтовым, посещал собрания «Кружка шестнадцати». П.П. Шувалов много общался с предводителем дворянства Ямбургского уезда Егором Ермолаевичем Врангелем. Вместе с другими дворянами в 1858 г. они готовили положение «О переводе крестьян из крепостного состояния» (без земли). Свою усадьбу, получившую название Графская Гора, Шувалов устроил на холме к юго-западу от д. Алексеевка. Здесь стоял деревянный господский дом, вокруг которого располагались цветники, огороды и фруктовый сад. В усадьбе имелись дом управляющего, молочня, погреб, ледник, бани, овины, гумно с ригой. Все было построено из дерева.
Во второй половине XIX в. в Ополье и близлежащих деревнях постоянно стояли воинские части, регулярно проводились ярмарки, было несколько винокуренных заводов. В с. Новоселки стояла деревянная лютеранская церковь. Граф Шувалов стал инициатором строительства православной церкви в Ополье.
П.П. Шувалов участвовал в разработке положения «Об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян, составленный С.Петербургским Губернским Дворянским комитетом».
С 1848 г. женой Петра Павловича была графиня Софья Львовна Шувалова (1829-1894), урожд. Нарышкина. Супруги имели сына Павла Петровича Шувалова (1847-1902) и нескольких дочерей.
В 1840 году в день Святой Троицы во владениях Шуваловых произошла трагедия: «Означенного дня проходила через Ополье от Ямбурга к С.-Петербургу рота солдат… Позади роты следовал фураж, состоящий из шести возов, из коих три воза были с порохом... Когда рота прошла сие село, то фуражные солдаты, в числе шести человек, остановились с возами посредине селения, и зашли… к знакомым, для поздравления с праздником. Между тем три лошади с возами отправились одни по дороге вперед, а другие поворотили к канаве и начали есть траву. В это время воз с порохом упал в канаву вверх колесами и означенная кладь выпала. Увидя это, солдаты выбежали из дома, подняли телегу и начали убирать из канавы бочонки с порохом… Когда порох собирали в канаве, тогда сошлось сюда множество народа, свободного по случаю праздника. Рассыпанный порох был почти убран, и солдаты спешили ехать далее, но боясь, как бы не узнал об этом происшествии полковой командир, они начали топорами вбивать в землю остатки просыпанного пороха; в это время выскочила искра огня и в одно мгновение последовал неимоверный удар; все селение… быстро было занято огнем; люди, находившиеся вблизи, погибли, а солдаты с лошадьми и возами были подняты вверх, и произошел взрыв пороха, находившегося в возах. Впоследствии находили за селом, в разных местах, оторванные члены погибших; солдат с возами и многих обывателей не нашли вовсе. Всего погибло людей, разного возраста 40 человек; столько же было домов, уничтоженных пожаром» [5].
30 апреля 1850 года состоялась свадьба графа Александра Алексеевича Бобринского и графини Софьи Андреевны Шуваловой. С этого времени часть земель вокруг Ополья отошла к семье Бобринских.
Александр Алексеевич Бобринский (17.05.1823–24.02.1903), крупный ямбургский помещик, русский государственный деятель. Внук первого графа Бобринского, правнук императрицы Екатерины II и Григория Орлова. Сохранилось письмо его прапрадеда Григория Ивановича Орлова, отца знаменитых братьев Орловых, где сказано, что Г.И. Орлов в 1703 г. участвовал в боях за крепость Ям: «В нынешнем 738 (1738 – авт.) году явился в Военной Коллегии полковник Григорий Иванов сын Орлов и как челобитьем, так и сказкою показывал от роду ему шестьдесят с годом, служить начал с 21-го года по жилецкому списку … служа был в Кизикерменском и первом Нарвском походах и на воинских потребах на реке Охте… и на море при взятье Фрегата и галер, при атаках и взятье Ямбурха, Выборха, Риги… во многих партиях и просит, чтоб его от службы отставить…» (ОР РГБ (Москва), ф.219, карт.1, №13, л.1, 2, 3 об.). Екатерина II и Григорий Орлов не раз бывали в Ополье и Ямбурге (1766, 1770 гг.):
Александр Алексеевич – сын шталмейстера графа Алексея Алексеевича Бобринского. Образование получил на юридическом факультете Петербургского университета.
Одни из первых русских дагерротипов были сделаны в семье Бобринских, будущих владельцев земель в Ополицкой волости Ямбургского уезда. Бобринский-старший (1800-1868) был знаком с изобретателем фотографии Л.Ж.М. Дагером и купил у него фотокамеру, с помощью которой они сами делали снимки.
В 1855 г., во время Крымской войны, Александр Бобринский служил в Ямбургском ополчении. 1 апреля 1855 г. был переименован в штабс-капитаны и определен в дружину №2 государственного подвижного Ополчения Петербургской губернии (формировалось в Ямбурге); с 15 октября 1855 г. – в отряде, занимавшем Нарву и приморские батареи; 25 июня 1855 г. утвержден командиром четвертой роты; 3 июня 1856 г. уволен от военной службы.
В Петербурге, в Отделе эстампов Российской национальной библиотеки хранится небольшой фотоальбом середины XIX века. В нем всего восемь портретов, которые специалисты с полным основанием считают уникальными. Снимки сделаны на заре бумажной эры фотографии неизвестным мастером, наклеены в альбом и проложены папиросной бумагой. Погрудные портреты семи урядников и одного каптенармуса 4-й роты 2-й дружины Санкт-Петербургского подвижного ополчения выполнены в последний год Крымской войны (1856). Есть веские основания полагать, что снимки сделаны командиром этой роты А.А. Бобринским.
С 1861 по 1864 г. А.А. Бобринский – С.-Петербургский губернатор, в 1869-1872 гг. – С.-Петербургский губернский предводитель дворянства. В апреле 1890 г. пожалован в обер-гофмейстеры Высочайшего двора. В мае 1896 г. назначен членом Государственного совета. Удостоен ряда российских орденов и медалей: орден Анны 2 ст. за труды в комиссии по погребению Николая I, ополченческий крест без ленты, орден Анны 2 ст. за службу в ополчении, знак отличия в память введения в действие положения о крестьянах, вышедших из крепостной зависимости, орден Владимира 2 ст., орден Александра Невского и др.
Александр Алексеевич Бобринский составил и издал генеалогический труд «Дворянские роды, внесенные в Общий гербовник Российской империи» (Т.1-2, СПб., 1890). Принимал участие в издании документов из семейного архива графов Бобринских, писем Екатерины II.
Жена Александра Бобринского, Софья Андреевна Шувалова-Бобринская (17.07.1829, Лейпциг – 09.09.1912, Смела), – фрейлина, кавалерственная дама ордена св. Екатерины малого креста. Дочь обер-гофмаршала, члена Государственного совета Андрея Петровича Шувалова. Владелица деревень Валья, Гурлево, Кута, Лизерна, Лялицы, Новес, Роговицы, Серговицы Ополицкой волости Ямбургского уезда (2662 десятин на 1900 г.). Возможно, эти земли были получены в приданое. Более полувека владела С.А. Бобринская этой родовой вотчиной. Судя по документам, она была прижимистой помещицей, и ее крестьяне платили самый высокий налог в губернии: «высокий оброк был установлен крестьянам имения гр. С.А. Бобринской, проживающим в деревнях Лялицы, Серговицы, Раговицы и пр.. 708 крепостным этого имения был установлен оброк в 34 руб. 28 коп. с тягла, что в сумме составило 15719 руб.» [6].
В деревнях Гурлево и Куты находились постоялые дворы и питейные дома, т.е. кабаки, приносившие доход. В усадьбе Лялицы стояли деревянные жилые дома, амбар, молочня, мастерские, кузница, баня, ледник, гумно с ригой, каменный скотный двор и на речке Солке – водяная мельница.
При С.А. Бобринской через Ямбургский уезд протянулась железная дорога, произошло освобождение крестьян, набрало силу земство. По инициативе Софьи Андреевны Бобринской и Петра Павловича Шувалова в селе Ополье была построена каменная церковь. Немного позднее открылись земские школы, был проведен телефон.
Для своей усадьбы Бобринские выбрали высокий холм к северу от деревни Лялицы. Они увлекались историей и гордились славным прошлым своей вотчины. В годы, когда Бобринские владели мызой Лялицы, в «Памятных книжках СПб. губернии» не раз упоминалась битва при Лялицах в 1582 году и цитировались строки из «Истории государства Российского» Н.М. Карамзина, посвященные этому событию.
Статс-секретарь А.А. Половцов так характеризовал С.А. Бобринскую: «Она умна, ловка, хитра, но далеко не правдива, если внимательно слушать ее, то часто в самых незначительных суждениях прорываются характерные взгляды, созданные в детстве влиянием отца-царедворца… и атмосферою зимнедворцовских коридоров и прихожих». А.А. Половцов сообщил интересную деталь, характеризующую Софью Андреевну: «Александр II просил ее быть посаженою матерью на свадьбе его с Долгорукою. Она отказала на том основании, что никогда не была с государем в таких близких дружественных отношениях, кои могли бы давать ему право на такое требование. Тогда ей было сказано, что нею приедет карета поздно вечером и что она вернется с церемонии домой, так что никто никогда ничего не узнает. Она отвечала, что во всю жизнь не выходила из дому иначе, как так, чтобы всякий мог о том знать» [10].
У Бобринских было пять сыновей: Алексей Александрович (1852-1927), Владимир Александрович (1853-1877), Александр Александрович (1855-1890), Андрей Александрович (1859-1930) и Георгий Александрович (1863-1928). Старший сын Алексей Александрович был женат на дочери соседа по имению государственного секретаря А.А. Половцова (мыза Краморская – ныне Ивангород). У Бобринских и Половцовых были общие внуки.
В 1874 году Софья Андреевна и Петр Павлович Шуваловы подали в Синод прошение о строительстве в Ополье каменной церкви «по образцу церкви в Вороновском погосте Новоладожского уезда» и приложили проект архитектора А.П. Мельникова, по которому была возведена в 1867-1874 гг. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы в с. Вороново. В 1874-1885 гг. епархиальным архитектором И.И. Булановым в Ополье была возведена Крестовоздвиженская церковь, однокупольная, с высокой колокольней, в архитектуре которой видны черты «русско-византийского» стиля. Эта церковь действует и поныне (она закрывалась лишь с 1937 по 1942 год) [8].В 1885 г. о. Иоанн Кронштадтский освятил в с. Ополье новопостроенный трехпрестольный храм: главный престол – во имя Воздвижения Креста Господня, левый – святителя Николая и правый – Петра и Павла [5].
Старший сын графа Александра Алексеевича Алексей Бобринский (19.05.1852–02.09.1927) был известным историком, археологом, политическим деятелем. С 1875 г. он С.-Петербургский уездный предводитель дворянства; в 1878-98 гг. С.-Петербургский губернский предводитель дворянства. С 1880 г. гласный Ямбургского уезда. С 1881 г. гласный С.-Петербургской городской думы. В мае 1883 г. получил чин действительного статского советника, в апреле 1890 г. пожалован в гофмейстеры Высочайшего Двора. В 1906-1912 гг. он председатель Совета объединенного дворянства; под руководством Бобринского проходили ежегодные дворянские съезды. В 1907 г. он избран депутатом 3-й Государственной думы. Был знаком и сотрудничал со знаменитыми ямбургскими земцами В.В. Оболенским, Н.Е. Сиверсом, Ф.И. Блоком.
Алексей Александрович Бобринский принимал участие в раскопках Л.К. Ивановского неподалеку от Ямбурга. В 1886-1917 гг. он председатель Императорской Археологической комиссии; член многих иностранных археологических обществ и архивных комиссий. Обследовал около тысячи курганов; с именем Бобринского связано археологическое исследование Херсонеса Таврического, Ольвии и др. [1]. Участвовал совместно с Н.И. Веселовским в раскопках кургана Солоха, где в 1913 г. был найден знаменитый золотой скифский гребень, хранящийся ныне в Особой кладовой Эрмитажа [7]. Материалы археологических раскопок Бобринский опубликовал в ряде научных изданий. Он собрал уникальную коллекцию старинной бронзы, часть которой передал музею на Волхонке (Государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина в Москве).
Бобринский занимался историей дворянства С.-Петербургской губернии, в т. ч. и Ямбургского уезда. Опубликовал статистику Ямбургского ополчения 1812 года, портрет его командира Павла Леонтьевича Шемиота и некоторые сведения о нем. Занимался судьбой первого ямбургского дворянского депутата Ф.С. Вольфа. Оставил воспоминания о раскопках Л.К. Ивановского в Ямбургском уезде.
В ноябре 1916 г. А.А. Бобринский пожалован в обер-гофмейстеры Высочайшего Двора. Удостоен ряда высших российских орденов: Св. Станислава 1-й степени (1888), Св. Анны 1-й степени (1893), Св. Владимира 2-й степени (1896), Белого Орла (1901), Св. Александра Невского (1905, бриллиантовые знаки ордена – 1911). После 1917 г. входил в совет государственного объединения России. С 1919 г. в эмиграции. Скончался в Ницце в возрасте 75 лет.
Жена – Надежда Александровна Бобринская, урожденная Половцова (1865-1920). Занималась астрономией, в 1901 г. опубликовала коррекцию орбиты малой планеты Геральдина (№300), открытой Шарлеруа в 1890 г., и рассчитала будущее положение этой планеты. Во время Русско-японской войны 1904-05 гг. она получила награду за работу в Красном Кресте [см.11].
Последним владельцем майоратного владения графов Шуваловых был сын Петра Павловича и Софьи Львовны Шуваловых Шувалов Павел Петрович (1847-1902), один из организаторов «Священной дружины» в 1881 г. при императоре Александре III, командир лейб-гвардии Егерского полка, приближенный великого князя Владимира Александровича. Он был женат на Елизавете Владимировне, урожд. княжне Барятинской. Собирал лиможские эмали, средневековое прикладное искусство, живопись старых европейских мастеров.
В начале ХХ века Софья Андреевна Шувалова продала свою часть поместья Л.Н. Чачкову, заложившего его в 1904 году в Тульском поземельном банке. Наследники Петра Павловича Шувалова продали имение по частям, усадьбу Графская Гора купил А.М. Харламов [8].
Архивные источники
ОР РГБ (Москва), ф.219, карт.1, №13, л.1, 2, 3 об.
РНБ, Отдел эстампов (С.-Петербург), Альбом урядников (4-я рота 2-й дружины Государственного подвижного Ополчения, формировавшаяся в Ямбурге).
Литература
1. Бобринский, А.А. Вновь открытая могила скифского царя. // Известия Археолог. Комиссии. Вып.50. – СПб., 1913. – С.150-151.
2. Бобринский, А.А. Граф Алексей Александрович Бобринской. 1852-1927. (Сын об отце) // Культурное наследие Российского Государства. Вып.IV. Ученые, политики, журналисты об историческом и культурном достоянии. – СПб., 2003.
3. Булгарин, Ф.В. Прогулки по Ливонии // Сочинения Фаддея Булгарина. Ч.3. – СПб., 1836.
4. Жулев, П.Н. Очерк истории Кингисеппского уезда и города Кингисеппа (бывшего Яма – Ямбурга). – Кингисепп: Отд-ние нар. образ. Кингисеппск. Уисполкома. 1924.
5. Историко-статистические сведения о Санкт-Петербургской Епархии. Вып.10 и последний». – СПб., 1885.
6. Кащенко, С.Г. Отмена крепостного права в столичной губернии. Из истории Государственных реформ в России 2-й половины XIX века. 2-е изд. – СПб.: Издательство С.-Петербургского государственного университета, 2002.
7. Манцевич, А.П. Курган Солоха. Публикация одной коллекции. – Л.: Искусство, 1987.
8. Мурашова, Н.В. и Мыслина, Л.П. Дворянские усадьбы Санкт-Петербургской губернии. Кингисеппский район. – СПб.: ИЦ «Выбор», 2003.
9. Назарова, И.Н. Золотой знак депутата. – СПб.: РНБ, 2007.
10. Половцов, А.А. Дневник государственного секретаря. В двух томах. – Т.II. 1887-1892.
11. Федорченко, В.В. Императорский Дом. Выдающиеся сановники. Энциклопедия биографий. В 2-х т. – Красноярск: БОНУС; М.: Олма-ПРЕСС, 2000.
Опубликовано в альманахе:
Малая родина. – СПб. – Кингисепп (Ямбург), 2011. – С.78-86.
|
Метки: дворянские владения шуваловы бобринские половцовы |
Алексей Васильевич Оболенский р. 24 январь 1877 ум. 21 ноябрь 1969 |
Алексей Васильевич Оболенский р. 24 январь 1877 ум. 21 ноябрь 1969
Запись:1063999
Полное дерево
Поколенная роспись
| Род | Оболенские |
| Пол | мужчина |
| Полное имя от рождения |
Алексей Васильевич Оболенский |
| Родители
♂ Василий Васильевич Оболенский [Оболенские] р. 1846 ум. 1890 ♀ Мария Алексеевна Долгорукова (Оболенская) [Долгоруковы] р. 29 январь 1851 ум. 1930 |
|
События
24 январь 1877 рождение: Москва, Российская империя, Титул: князь
4 апрель 1904 ...: Москва, Российская империя, Брак. Жена: Прозорова Ольга Алексеевна (10.07.1870, Вятка – 19.03.1959, Стокгольм), вдова Асташева
1906 профессия: Москва, Российская империя, Надворный советник, чиновник особых поpучений пpи МВД
1907 рождение ребёнка: Москва, Российская империя, ♀ Мария Алексеевна Оболенская [Оболенские] р. 1907
21 ноябрь 1969 смерть: Стокгольм, Швеция
[править] Источники
- ↑ http://baza.vgdru.com/1/23457/all.htm -
- ↑ http://archive.li/Yy5P7#selection-1459.1-1463.65 - Князья Оболенские. 17-е колено № 261. Кн. Алексей Васильевич (215). 24.01.1877, Москва – 21.11.1969, Стокгольм. Надворный советник. В 1906 – чиновник особых поpучений пpи МВД. Ж.: Ольга Алексеевна Пpозоpова, вдова Асташева
- ↑ http://02yakov.ru.gg/&%231040;&%231088;&am...&%231077;&%231081;.htm - Прозоров – архив статей. Кощеева В.И. Прозоровы. Новые находки
Ближайшие предки и потомки
Деды
♂ Иродион Андреевич Оболенский
рождение: 1820
брак: ♀ Мария Александровна Львова (Оболенская)
смерть: 1891
рождение: 1811
титул: князь
брак: ♀ Аделаида Петровна Шелашникова (Оболенская)
смерть: 1866
♂ Владимир Андреевич Оболенский
рождение: 1815, или 1814
брак: ♀ София Ивановна Миллер (Оболенская)
титул: князь
смерть: 1877
♀ Екатерина Андреевна Оболенская (Волкова)
рождение: 9 январь 1796
брак: ♂ Николай Аполлонович Волков
смерть: 23 апрель 1849
♀ Наталья Андреевна Оболенская (Озерова)
рождение: 20 декабрь 1812, Н.Новгород
брак: ♂ Сергей Петрович Озеров
титул: княжна
смерть: 2 июнь 1901, Ц.Село
♂ Николай Андреевич Оболенский
рождение: 1822
титул: князь
брак: ♀ Александра Львовна Боде (Оболенская)
смерть: 1867
♂ Василий Андреевич Оболенский
рождение: 1818
брак: ♀ Прасковья Леонидовна Невоструева
титул: князь
смерть: 1883
♀ Прасковья Леонидовна Невоструева
рождение: 1825
брак: ♂ Василий Андреевич Оболенский
смерть: 1885
♂ Ростислав Алексеевич Долгоруков
рождение: 31 январь 1805, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: князь
обучение: 1815, Санкт-Петербург, Российская империя, Пажеский Е.И.В. корпус
войсковое звание: 14 май 1821, Санкт-Петербург, Российская империя, Поступил корнетом в л.-гв. Уланский полк вел. кн. Михаила Павловича
войсковое звание: 15 февраль 1827, Санкт-Петербург, Российская империя, Пожалован в поручики л.-гв. Уланского полка вел. кн. Михаила Павловича
войсковое звание: 26 февраль 1828, Санкт-Петербург, Российская империя, Поручик. Уволен по домашним обстоятельствам
войсковое звание: 19 май 1829, Санкт-Петербург, Российская империя, Поручик. Вновь поступил в тот же л.-гв. Уланский полк
войсковое звание: после 17 ноябрь 1830, Поручик. Участвовал в военных действиях против польских мятежников
войсковое звание: 13 февраль 1831, Награждён орденом Св. Анны 3-й ст. с бантом за отличие в сражении при с. Грохово
войсковое звание: 29 ноябрь 1831, Санкт-Петербург, Российская империя, Пожалован в ротмистры л.-гв. Уланского полка вел. кн. Михаила Павловича
брак: ♀ Екатерина Алексеевна Малиновская (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя
войсковое звание: 9 февраль 1834, Санкт-Петербург, Российская империя, Ротмистр. Уволен по домашним обстоятельствам
войсковое звание: 6 декабрь 1834, Санкт-Петербург, Российская империя, Поступил поручиком в лейб-гвардии Гусарский полк, однополчанин Лермонтова и Ивана Гончарова, среднего брата Натальи Николаевны Пушкиной. Хорошо знал А. С. Пушкина
собственность: 6 сентябрь 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями
войсковое звание: 28 январь 1837, Санкт-Петербург, Российская империя, Штабс-ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка
войсковое звание: 6 декабрь 1839, Санкт-Петербург, Российская империя, Ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка
войсковое звание: 23 январь 1840, Санкт-Петербург, Российская империя, Вышел в отставку по домашним обстоятельствам с мундиром
войсковое звание: 29 февраль 1840, Санкт-Петербург, Российская империя, Причислен к МВД, переименован в надворные советники
...: 10 декабрь 1841, Внесён в V ч. ДРК Рязанской губернии. 15.11.1853 Внесён в V ч. ДРК Московской губернии
развод: ♀ Екатерина Алексеевна Малиновская (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя, Нескончаемые кутежи и мотовство привели к разрыву с женой. Несмотря на всё своё терпение Екатерина Алексеевна не могла больше выдержать его выходок и рассталась с мужем. Он был плохим мужем и проматывал женино состояние, чем чуть не довел семью до нищеты. Оставив мужа, она с детьми жила в доме князей Долгоруковых, где её очень любили
смерть: 31 август 1849, Одесса, Таврическая губерния, Российская империя, Скончался полковником в отставке
рождение: 24 февраль 1807, Санкт-Петербург, (12.02.1807 с.с.) Титул: князь
обучение: 1822, Москва, Российская империя, Окончил Императорский Московский университет, отделение нравственных и политических наук
обучение: июль 1823, Москва, Российская империя, Получил степень кандидата нравственно-политических наук
профессия: 17 август 1823, Москва, Российская империя, Поступил в штат Канцелярии Московского военного генерал-губернатора
профессия: с 1824 по 1825, Москва, Российская империя, Состоял при сенатской комиссии, ревизовавшей Вятскую губернию
профессия: 16 ноябрь 1824, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: титулярный советник, девятый класс табели о рангах
профессия: 1825, Москва, Российская империя, Советник Московской палаты уголовного суда, участвовал в ревизиях Воронежской и Курской губерний
профессия: 3 апрель 1825, Москва, Российская империя, Придворный чин: камер-юнкер, девятый класс табели о рангах
профессия: 16 ноябрь 1828, Москва, Российская империя, Назначен начальником 1-го отделения Департамента государственных имуществ Министерства финансов. Гражданский (статский) чин: коллежский асессор, восьмой класс табели о рангах
профессия: с 1829 по 1834, Москва, Российская империя, чиновник 2-го отделения Собственной Е.И.В.канцелярии
профессия: 17 март 1829, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: надворный советник, седьмой класс табели о рангах
брак: ♀ Елизавета Петровна Давыдова (Долгорукова) , Москва, Российская империя
профессия: 4 апрель 1830, Москва, Российская империя, Придворный чин: камергер, четвёртый класс табели о рангах
профессия: 29 январь 1833, Москва, Российская империя, Гражданский (статский) чин: коллежский советник, шестой класс табели о рангах. Служил в департаменте Правительствующего Сената, работал над кодификацией законов
собственность: 6 сентябрь 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями. Помещик Сергачского уезда Нижегородской губернии (425 душ), владел также имением в Новосильском уезде Тульской губернии
профессия: 8 ноябрь 1835, Москва, Российская империя, Уволен по прошению от службы
профессия: 1837, Балахнинский уезд, Нижегородская губерния, Российская империя, Почётный смотритель Балахнинского уездного училища
профессия: с 27 март 1838 по 20 октябрь 1840, Вильно, Виленская губерния, Российская империя, (Вильна, Литовская губерния) Виленский губернатор
профессия: с 2 август 1851 по 11 апрель 1853, Олонец, Олонецкая губерния, Российская империя, Олонецкий губернатор. Гражданский (статский) чин: действительный статский советник, четвёртый класс табели о рангах
профессия: с 11 апрель 1853 по 6 январь 1857, Воронеж, Воронежская губерния, Российская империя, Воронежский губернатор. В 1853 году организовывал в Воронеже первую выставку сельских произведений пяти черноземных губерний: Воронежской, Орловской, Рязанской, Тамбовской и Тульской
профессия: 6 январь 1857, Москва, Российская империя, Сенатор Правительствующего Сената, гражданский (статский) чин: тайный советник, третий класс табели о рангах
смерть: 18 март 1882, Москва, Российская империя, (6.03.1882 с.с.) Похороны: 3-й участок, Донской монастырь, Москва (на надгробии он с женой поименованы как Долгорукие, а не Долгоруковы)
 ♂ Сергей Алексеевич Долгоруков
♂ Сергей Алексеевич Долгоруков
рождение: 14 ноябрь 1809, Симбирск, Симбирская губерния, Российская империя, (2.11.1809 с.с.) Титул: князь (Рождение: 14 (26) сентября 1809 Воронежская губерния, из Википедии – ошибка)
место жительства: 17 май 1815, Москва, Российская империя, Переехал с отцом по месту его работы после смерти матери в 1814 в Симбирске
обучение: 1820, Санкт-Петербург, Российская империя, Пажеский Е.И.В. корпус
профессия: 1826, Санкт-Петербург, Российская империя, Окончил Пажеский корпус, как непригодный к воинской, выпущен на гражданскую службу в Министерство иностранных дел
профессия: 1828, Санкт-Петербург, Российская империя, Придворный чин: камер-юнкер Высочайшего Двора, пятый класс табели о рангах
профессия: с 1829 по 1836, Санкт-Петербург, Российская империя, Служил в русских миссиях сначала во Франкфурте-на-Майне, потом в Берлине
помолвка: ♀ Мария Александровна Апраксина (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя, Ей только пятнадцать лет, и потому их свадьба отложена на два года. Невеста очень хороша собой и сверх того будет богата, её тетка Баранова отдает ей своё имение
брак: ♀ Мария Александровна Апраксина (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя
профессия: 1834, Санкт-Петербург, Российская империя, Придворный чин: камергер Высочайшего Двора, четвёртый класс табели о рангах
собственность: 6 сентябрь 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями
профессия: с 1836 по 1843, Санкт-Петербург, Российская империя, Занимал различные должности по Министерству финансов
профессия: 1843, Санкт-Петербург, Российская империя, Переведён в Министерство юстиции, с назначением обер-прокурором 5-го департамента Правительствующего сената
профессия: с 10 март 1848 по 17 март 1848, Ковно, Ковенская губерния, Российская империя, Ковенский губернаторс (ныне Каунас)
профессия: с 17 март 1848 по 2 октябрь 1849, Витебск, Витебская губерния, Российская империя, Витебский губернатор
профессия: 2 ноябрь 1859, Санкт-Петербург, Российская империя, По случаю пятидесятилетнего юбилея награждён алмазными знаками ордена Святого Александра Невского
профессия: 1864, Санкт-Петербург, Российская империя, Пожалован почётным званием статс-секретарь, дававшим право личного доклада императору и объявления его словесных повелений. Назначен статс-секретарём принятия прошений на Высочайшее Имя и исполнял эту должность до 1884
профессия: 1871, Санкт-Петербург, Российская империя, Член Совета министерства финансов и член Государственного совета
профессия: 1872, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: действительный тайный советник, второй класс табели о рангах, назначен почётным членом Совета министров
профессия: 1880, Санкт-Петербург, Российская империя, Награждён орденом Святого Владимира 1-й степени
профессия: 1884, Санкт-Петербург, Российская империя, Вышел в отставку
смерть: 29 сентябрь 1891, Санкт-Петербург, Российская империя, (16.09.1891 с.с.) Похоронен в фамильном склепе князей Долгоруковых в Духовской церкви Александро-Невской лавры
♂ Григорий Алексеевич Долгоруков
рождение: 1811, Симбирск, Симбирская губерния, Российская империя, Титул: князь
место жительства: 17 май 1815, Москва, Российская империя, Переехал с отцом по месту его работы после смерти матери в 1814 в Симбирске
обучение: с 1821 по 1827, Санкт-Петербург, Российская империя, Пажеский Е.И.В. корпус
войсковое звание: 1831, Участник штурма Варшавы
войсковое звание: с 1834 по 1835, Участник Кавказской экспедиции против горцев
собственность: 6 сентябрь 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями
брак: ♀ Надежда Григорьевна Чернышева (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя
войсковое звание: 1839, Подполковник Генерального штаба. Вышел в отставку
войсковое звание: с 1853 по 1856, Орёл, Орловский уезд, Орловская губерния, Российская империя, Во время русско-англо-французской войны был начальником дружины Орловского уезда, потом командиром полка из 4-х дружин, затем начальником Комиссии попечения о больных и раненых воинах
смерть: 13 март 1856, Симферополь, Таврическая губерния, Российская империя, умер от тифа
♂ Николай Алексеевич Долгоруков
рождение: 16 август 1820, Санкт-Петербург, Российская империя, (было 1819) Титул: князь
собственность: 6 сентябрь 1835, Разделил имение отца с матерью и братьями. Помещик Ставропольского уезда Самарской губернии, владел селами в Аскульской и Рязановской волостях
обучение: 1845, Нижний Новгород, Нижегородская губерния, Российская империя, Нижегородский графа Аракчеева кадетский корпус. Выпуск 1845 г. № 11. Долгоруков Николай Алексеевич. Выпущен в Дворянский полк
брак: ♀ Ольга Александровна Львова (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя
профессия: ок. 1870?, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: действительный статский советник, четвёртый класс табели о рангах
профессия: ок. 1871?, Санкт-Петербург, Российская империя, Придворный чин: гофмейстер Высочайшего двора, третий класс табели о рангах
смерть: 16 апрель 1887, Санкт-Петербург, Российская империя
♂ Дмитрий Алексеевич Долгоруков
рождение: 5 апрель 1825, Москва, Российская империя, Титул: князь
крещение: 11 апрель 1825, Москва, Российская империя, Крещен в Московской Сретенского Сорока Петропавловской церкви на Новой Басманной; восприемники: губернский секретарь Платон Николаевич Текутьев и жена надворного советника Николая Ивановича Матрунина Анна Алексеевна
собственность: 6 сентябрь 1835, Москва, Российская империя, Разделил имение отца с матерью и братьями
обучение: 17 апрель 1848, Дерпт, Дерптский уезд, Эстляндская губерния, Российская империя, (ныне Та́рту, Эстония) Обучался в Дерптском Университете. Удостоен звания кандидата философского факультета
профессия: 28 январь 1849, Санкт-Петербург, Российская империя, Поступил в канцелярию Военного министерства с гражданским чином коллежского секретаря, десятый класс табели о рангах
профессия: 23 апрель 1850, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: титулярный советник, девятый класс табели о рангах
профессия: 24 июнь 1850, Санкт-Петербург, Российская империя, Придворный чин: камер-юнкер, пятый класс табели о рангах
брак: ♀ Софья Михайловна Миклашевич (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя
профессия: 16 март 1853, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: коллежский асессор, восьмой класс табели о рангах
профессия: 16 ноябрь 1853, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: надворный советник, седьмой класс табели о рангах
профессия: 10 октябрь 1854, Санкт-Петербург, Российская империя, Должность: и.д. помощника начальника 1-го Отделения канцелярии Военного министерства
профессия: 17 апрель 1855, Санкт-Петербург, Российская империя, Награждён орденом Св. Анны 3-й ст.
профессия: 19 декабрь 1855, Санкт-Петербург, Российская империя, Должность: заведующий особой секретной экспедицией канцелярии Военного министерства
профессия: 15 апрель 1856, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: коллежский советник, шестой класс табели о рангах
профессия: 24 май 1856, Санкт-Петербург, Российская империя, Награждён прусским орденом Красного Орла 3-й ст.
профессия: 30 май 1856, Санкт-Петербург, Российская империя, Отчислен от канцелярии с сохранением жалованья в течение одного года
профессия: 17 октябрь 1857, Санкт-Петербург, Российская империя, Должность: помощник статс-секретаря Государственного Совета
профессия: 15 май 1859, Санкт-Петербург, Российская империя, Гражданский (статский) чин: статский советник, пятый класс табели о рангах
профессия: 20 октябрь 1859, Санкт-Петербург, Российская империя, Уволен по домашним обстоятельствам
место жительства: 17 декабрь 1880, Рязань, Рязанская губерния, Российская империя, Внесён в V ч. ДРК Рязанской губернии
смерть: 1909, Санкт-Петербург, Российская империя
♀ Аграфена Николаевна Ждановская (Долгорукова, дю Рокан)
рождение: ок. 1836?, Санкт-Петербург, Российская империя
брак: ♂ Алексей Алексеевич Долгоруков , Санкт-Петербург, Российская империя
...: после 1858, Санкт-Петербург, Российская империя, Второй брак. Муж: Арман Роллан дю-Рокан
♂ Алексей Алексеевич Долгоруков
рождение: 11 апрель 1818, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: князь
собственность: 6 сентябрь 1835, Разделил имение отца с матерью братьями
брак: ♀ Елизавета Петровна Макеева (Долгорукова) , Санкт-Петербург, Российская империя
брак: ♀ Аграфена Николаевна Ждановская (Долгорукова, дю Рокан) , Санкт-Петербург, Российская империя
смерть: после 1857, Санкт-Петербург, Российская империя
♀ Елизавета Петровна Макеева (Долгорукова)
рождение: 1821, Санкт-Петербург, Российская империя
брак: ♂ Алексей Алексеевич Долгоруков , Санкт-Петербург, Российская империя
смерть: 1853, Санкт-Петербург, Российская империя
Деды
Родители
♀ Евфимия Васильевна Оболенская (Шиловская)
рождение: 1848
брак: ♂ Владимир Сергеевич Шиловский
смерть: 1868
 ♂ Василий Васильевич Оболенский
♂ Василий Васильевич Оболенский
рождение: 1846, Москва, Российская империя
брак: ♀ Мария Алексеевна Долгорукова (Оболенская) , Москва, Российская империя
смерть: 1890, Москва, Российская империя
♀ Софья Алексеевна Долгорукова (Кашкарова)
рождение: 19 октябрь 1843, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: княжна
...: ок. 1864?, Санкт-Петербург, Российская империя, Брак. Муж: Кашкаров
смерть: до 1885, Санкт-Петербург, Российская империя
♀ Ольга Алексеевна Долгорукова (Алексеева)
рождение: 28 август 1847, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: княжна
...: ок. 1867?, Санкт-Петербург, Российская империя, Брак. Муж: штабс-капитан Алексеев
♀ Лидия Алексеевна Долгорукова (Левшина)
рождение: 24 апрель 1849, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: княжна
...: 1869, Санкт-Петербург, Российская империя, Брак. Муж: Александр Дмитриевич Левшин
♀ Варвара Алексеевна Долгорукова (фон де Сепиан)
рождение: 1857, Санкт-Петербург, Российская империя, Титул: княжна
рождение: 18 январь 1878, Санкт-Петербург, Российская империя, Брак. Муж: Камиль-Эдмунд фон де Сепиан
♀ Мария Алексеевна Долгорукова (Оболенская)
рождение: 29 январь 1851, Санкт-Петербург, Российская империя, На сайте место рождения Игнатовка
брак: ♂ Василий Васильевич Оболенский , Москва, Российская империя
смерть: 1930, Царицыно, Московская область, СССР
Родители
== 3 ==
 ♀ Прасковья Васильевна Оболенская (Шереметева)
♀ Прасковья Васильевна Оболенская (Шереметева)
рождение: 5 февраль 1883, Москва, Российская империя, Титул: княжна
брак: ♂ w Павел Сергеевич Шереметев , Москва, СССР
смерть: 2 июнь 1942, Умерла в заключении в застенках НКВД
♂ Владимир Васильевич Оболенский
рождение: 17 сентябрь 1890, Москва, Российская империя, Титул: князь
брак: ♀ Варвара Александровна Гудович (Оболенская) , Москва, СССР
место жительства: 1937, Царицыно, Московская область, СССР, Бухгалтер, арестован, репрессирован
смерть: до 1940, расстрелян в тюрьме
♀ Варвара Васильевна Оболенская (Арсеньева, Салтыкова)
рождение: 10 апрель 1872, Москва, Российская империя, Титул: княжна
брак: ♂ Владимир Васильевич Арсеньев , Москва, Российская империя
...: 1934, Париж, Франция, Второй муж: граф Александр Салтыков (1872, Санкт-Петербург – 1940, Париж)
смерть: 1952, Брюссель, Бельгия
♂ Василий Васильевич Оболенский
рождение: 22 ноябрь 1873, Кокино, Каширский уезд, Московская губерния, Российская империя
войсковое звание: 1898, Москва, Российская империя, Вышел в отставку с чином поpучик запаса
...: 1899, Москва, Российская империя, Брак. Жена: Наталья Стир (NATALIE STEER)
место жительства: 12 февраль 1910, Москва, Российская империя, Действительный член Историко-Родословного Общества в Москве
...: ок. 1918?, Москва, Российская империя, Развод. Бывшая жена: Наталья Стир (NATALIE STEER) (умерла в Москве в 1950-х)
эмиграция: ок. 1919?, Югославия
...: 1920, Югославия, Брак. Жена: Марина Павловна Тилло (THILLOT) (1899, Санкт-Петербург – 1955, Сент-Женевьев-де-Буа)
...: 1921, Югославия, Родилась дочь: Мария Васильевна Оболенская. Муж с 1946, Clamart, Лопухин Михаил Николаевич (1918, Тюмень).
...: 1924, Югославия, Родился сын: Павел Васильевич Оболенский. Жена с 1945, Cognac, Jacqueline Bonnet (1923). Дочь Ariane (1950)
смерть: 22 ноябрь 1952, Сент-Женевьев-де-Буа, Парижский регион, Франция
♂ Сергей Васильевич Оболенский
рождение: 30 сентябрь 1874, Москва, Российская империя, Титул: князь
...: 29 апрель 1899, Москва, Российская империя, Брак. Жена: Наталья Петpовна Штеp
смерть: 1936, Выборг, Финляндия
♀ Елизавета Васильевна Оболенская (Шиловская, Слатвинская)
рождение: 30 декабрь 1875, Москва, Российская империя, Титул: княжна
...: 4 июнь 1897, Москва, Российская империя, Брак. Муж: Владимир Константинович Шиловский (умер в 1907)
рождение: 1908, Москва, Российская империя, Брак. Муж: Евгений Михайлович Слатвинский (Slatvinsky) (1872-1930, умер в заключении)
смерть: 1933, СССР, Умерла в заключении
♂ Николай Васильевич Оболенский
рождение: 27 июль 1878, Кокино, Московская губерния, Российская империя, Титул: князь
смерть: 1918, Красково, Московская губерния, Российская империя, Пpапоpщик аpтиллеpии
♀ Евфимия Васильевна Оболенская
рождение: 8 февраль 1880, Москва, Российская империя, Титул: княжна
смерть: 1960, Царицыно, Московская область, СССР
♂ Андрей Васильевич Оболенский
рождение: 27 июнь 1881, Москва, Российская империя, Титул: князь
смерть: 30 декабрь 1882, Москва, Российская империя
♀ Ольга Васильевна Оболенская (Прутченко)
рождение: 10 декабрь 1884, Коренево, Московский уезд, Московская губерния, Российская империя, Титул: княжна
...: 1905, Москва, Российская империя, Брак. Муж: Прутченко Николай Михайлович (1869-1929, Царицыно), офицеp л.-гв. Гусаpского полка
смерть: 1961, Царицыно, Московская область, СССР
♂ Александр Васильевич Оболенский
рождение: 1 ноябрь 1887, Москва, Российская империя, Титул: князь
...: 1917, Москва, Российская империя, Брак. Жена: Lydia Koumbo
...: до 1933, Marvejols, Франция, Развод. Бывшая жена: Lydia Koumbo
...: 1934, Marvejols, Франция, Брак. Жена: Lucienne Marie Vanasson
смерть: 1971, Marvejols, Франция
♂ Алексей Васильевич Оболенский
рождение: 24 январь 1877, Москва, Российская империя, Титул: князь
...: 4 апрель 1904, Москва, Российская империя, Брак. Жена: Прозорова Ольга Алексеевна (10.07.1870, Вятка – 19.03.1959, Стокгольм), вдова Асташева
профессия: 1906, Москва, Российская империя, Надворный советник, чиновник особых поpучений пpи МВД
смерть: 21 ноябрь 1969, Стокгольм, Швеция
== 3 ==
Дети
рождение: 1907, Москва, Российская империя
рождение: 1914, Москва, Российская империя
Дети
|
Метки: оболенские |
Ветвь Николая Алексеевича Абрикосова |
|
|
|
|
Метки: абрикосовы оболенские |
Усадьба Узкое: историко-культурный комплекс XVII-ХХ веков. |
Коробко М.Ю. Усадьба Узкое: историко-культурный комплекс XVII-ХХ веков.
Приложения
Оболенская Л.П. ВОСПОМИНАНИЯ КНЯГИНИ (фрагменты)
Пу6ликуются впервые по ксерокопии, хранящейся в библиотеке санатория РАН "Узкое" . Оригинал хранится в США у потомков Л.П.Оболенской. Нами опущены части текста не имеющие отношения к Узкому. Оболенская Любовь Петровна (1888-1980) — дочь П.Н. и А.В.Трубецких. 31 января 1909 года вышла замуж за офицера лейб-гвардии Кавалергардского полка князя Алексея Александровича Оболенского (1883-1942); во время первой мировой войны работала сестрой милосердия в военном госпитале. После 1917 года Л.П. Оболенская вместе с мужем и детьми эмигрировала.
Мои первые воспоминания:
Жара. Июль месяц. С июня до августа все наше семейство проводит в Узком, имении моего отца, кн<язя> Петра Ник<олаевича> Трубецкого, в 12 милях от Москвы. В Узком был большой дом, флигель1 и чудная церковь XVII века близко от дома, 4 больших пруда. За прудами была <Марьина> роща, в кот<орой> моя мать, кн<ягиня> Александра Владимировна, проделала массу дорожек с лавочками. Одна прогулка была очень длинная, "grand tour" <большая прогулка — фр.>, другая на половине дороги сокращалась, "petit tour" <маленькая прогулка — фр.>. На окраине роши была построена избушка, называемая "Марьева" избушка, с лавочкой вдоль избушки и столом.
В большом доме было 3 террасы2 — одна крытая и вся обсаженная растениями и цветами из оранжерей (которых было много — 2-3 большие оранжереи только в растениях и с цветами, 1 оранжерея только в персиках и одна с другими фруктами и редкими цветами, и одна исключительно с розами). С другой стороны дома была открытая терраса с колоннами, где стояли только большие лавровые деревья.
Крытая терраса: в одном углу, среди растений, было устроено нечто вроде гостиной — диван, столы, кресла, лампы. Посреди террасы был наш большой столовый стол (на наше большое семейство: двое родителей, 5 нас, детей, и 4-5 гувернанток и учителей — были обыкновенно немка, француженка, англичанка, учительница музыки (фортепьяно) и два учителя для моих братьев по математике, истории... так что обеденный стол обыкновенно был на 12-14 человек).
Балкон с этой стороны дома снижался в сад по длинным деревянным ступеням, на кот<орых> по окончанию завтраков и обедов все садились.
Перед домом (с этой стороны) был крокет и недалеко за большими деревьями теннис.
Зимой мы жили в Москве на Знаменской улице (недалеко от Кремля). (Это была громадная квартира в 2 этажа, в кот<орой> я прожила 18 лет с 1891 г. до 19093, когда мы переехали в Петербург. Это произошло от того, что мой отец, который годами был губернским предводителем дворянства в Москве, был назначен государем в члены государственного совета в Петербург.4 Новая жизнь началась! Мой старший брат — Володя — которому было в это время 22 года, очень подружился с однолетками — Сашей Новосильцевым, Владимиром Писаревым и Алешей Оболенским (за которого я <, впоследствии,> вышла замуж).5 <...> 1 мая <1908 года> мы все, как всегда, поехали в Узкое, где было чудно. А в августе перебрались всем семейством в Казацкое, большое имение моего отца Трубецкого в Херсонской губ<ернии>. У моего отца была масса имений больших — в Московском <уезде> — Узкое, в Херсонском — Казацкое, в Таврической губ<ернии> — Долматово, в степях — большое место с лошадьми, на Кавказе — Сочи. <...> В нашем доме, как в Узком, так и в Казацком, всегда была масса гостей — друзей для нас, молодежи. Поэтому для всех нас была масса флиртов и романов. Володя, мой старший брат, очень рано женился на Маше Лопухиной.6 Соня (на два года старше меня)7 имела 2 очень серьезных романа с Сашей Новосильцевым и с Владимиром Писаревым, с которым она даже объявлена была официальной невестой, и их мои родители благословили на свадьбу в Узковской церкви, но через несколько времени после этого она поняла, что она не влюблена в Владимира и ему отказала. Бедный Владимир стал очень несчастен от этого, но через 2-3 месяца утешился и женился на нашей двоюродной сестре Мане Глебовой.8 У меня же (с самого начала моей сознательной жизни) был только один человек, которым я увлекалась, которого оценила и полюбила — это был Алеша Оболенский. Конечно, то, что мы постоянно проводили вечера вдвоем, когда разучивали какую-нибудь вещь для фортепьяно и скрипки, сыграло большую роль в нашем романе. <...> Первую зиму в Петрограде9 мы очень часто обедали то у Алешиных родителей, то у моих.10 Подходило лето, на весну мы поехали в Узкое — к Трубецким, на июль мы отправились в деревню к Оболенским в Пензенскую губ<ернию>.11 <...> Всех наших детей — Анну (Катьку), Любу, Алешу12 - я рожала в госпитале, оставаясь там около 9-10 дней, а потом переезжала или к моим родителям, или в нашу крошечную квартирку, которую взяли, когда переехали в Молоденки.13 Одну только девочку Dolly <Долли> — я родила в Узком, т.к. это было еще летнее время и <я> не хотела потом поселиться в госпиталь. <3а> 2 недели до родов в Узкое переехали для <их приема> к нам чудный мой акушер - Драницын, и и сестра милосердия. <...>
1978 г.
* Оглавление *
1 В Узком было 2 флигеля.
2 Дом в Узком имел 2 террасы.
3 Семья П.Н.Трубецкого переехала в Петербург в 1906 г.
4 П.Н.Трубецкой стал членом Госсовета не по назначению императора, а по выборам от дворянских обществ. ЦИАМ, ф. 380, оп.З, д.35.
5 Писарев Владимир Павлович (1886-1923). В.П.Трубецкой родился на год раньше его, а А.А.Оболенский на три года.
6 Свадьба В.П.Трубецкого и М.С.Лопухиной состоялась 31 января 1907 г.
7 Софья Петровна Трубецкая (1887-1971) в 1912 г. вышла замуж за выпускника пажеского корпуса графа Николая Константиновича Ламсдорфа-Галагана (1881-1951).
8 Мария Владимировна Глебова (1883-1933, с 1910 г. - Писарева). После 1917 г. в эмиграции.
9 Санкт-Петербург был переименован в Петроград лишь в 1914 г. после начала первой мировой войны.
10 Родители А.А Оболенского: член государственного совета, действительный статский советник князь Александр Дмитриевич Оболенский (1847-1917), одно время бывший Пензенским губернским предводителем дворянства, и его жена Анна Александровна, урожденная Половцева. Они и старшие Трубецкие жили в Петербурге недалеко друг от друга, на Сергиевской ул. На ней же, впоследствии, сняли и квартиру для молодых.
11 Имеется ввиду имение Николо-Пестровка, принадлежавшее Александру Дмитриевичу Оболенскому (ныне райцентр Пензенской области г. Никольск). Там сохранились усадьба и хрустальный завод.
12 Анна - Анна Алексеевна Оболенская (1911-1931); Люба - Любовь Алексеевна Оболенская (1913-1991) - вышла замуж за сына Г.Н.Трубецкого - Сергея Григорьевича (род. 1906); Алеша - Алексей Алексеевич Оболенский (1914 - 1986). У Л.П. и А.А.Оболенских была еще старшая дочь - Александра (Сандра, род. 1909; в первом браке, за сыном Г.Н.Трубецкого Николаем Григорьевичем (1903-1961), во втором браке - Вахрамеева, в третьем - Сазонова).
13 Молоденки (Введенское) - бывшее имение Самариных, находившееся в Епифанском уезде Тульской губернии. Оно было приобретено П.Н.Трубецким в 1910 г. на имя Л.П.Оболенской. Подробнее о Молоденках см.: ЦИАМ, ф. 4, оп. 13, д. 534, л. 100; Бельгардт С. Село Молоденки//Столица и усадьба. 1916. № 53. С. 3-6; Оболенская Л.П. Воспоминания княгини//Библиотека санатория РАН "Узкое"; Справочные сведения о некоторых русских хозяйствах. Вып. 1. Пг. 1916. С. 71-73.
14 Драницын Алексей Алексеевич (1853-1918) - старший врач Императорской клиники повивальной гинекологии, гласный Петроградского уездного земского собрания, член Петроградской уездной земской управы, почетный мировой судья по Петроградскому уезду. 27 июля 1915 г. он принял в Узком у Л.П.Оболенской роды ее младшей дочери Долли (Дарьи - ум. 1995) впоследствии, по первому мужу (с 1937 г.) - Шпицер, по второму (с 1940 г.) - Морган.
* Оглавление *http://testan.narod.ru/moscow/book/uzkoe/uzkoe32.htm
|
Метки: дворянские владения оболенские |
ЗВЕГИНЦОВЫ, дворянский род |
ЗВЕГИНЦОВЫ, дворянский род
Автор Воронежский Гид
- размер шрифта уменьшить размер шрифта увеличить размер шрифта
- Печать
- Эл. почта
-
ЗВЕГИНЦОВЫ, дворянский род, внесен во 2 ,3 ,6-ю части родословных книг Воронежской губернии, Курской и Тамбовской губерний. Ведет начало с середины XVII века. Первым из Звегинцовых с Воронежским краем был связан Александр Ильич (03.06.1801 - 27.08.1849, село Тростяное Шацкого уезда Тамбовской губернии), выпускник Пажеского корпуса, офицер лейб-гвардейского Преображенского полка. После выхода в отставку - казанский вице-губернатор, волынский губернатор (1837), действительный статский советник. Владел значительным состоянием: золотыми приисками в Сибири, имениями в Крыму, в Воронежской губернии (село Масловка Бобровского уезда, село Петровское-Звегинцово Новохоперского уезда), в Курской и Тамбовской губернии. Был женат на Марии Павловне Черепановой (1817 - 29.04.1849).
Сыновья: Владимир Александрович (17.11.1838, город Тамбов - 11.02.1926, город Ницца, Франция), выпускник школы гвардии подпрапорщиков и кавалерийских юнкеров, гвардии офицер; в отставку уволен подполковником; с 1864 года жил во Франции вместе с гражданской женой В.Д. Римской-Корсаковой (урожденная Мергасова, умерла в 1877 году);
Иван Александрович (02.07.1840, Одесса - 01.10.1913, город Санкт-Петербург, похоронен в селе Масловка Бобровского уезда), гвардии полковник (1868), предводитель дворянства Звенигородского уезда Московской губернии (1872-1875), Воронежский вице-губернатор (1876-1879), предводитель дворянства Бобровского уезда (1879-1881), Курский губернатор (1881-1885), член Совета Министерства внутренних дел. Тайный советник (1892). Женат на Марии Александровне Казаковой (1845 - 1908). Имел 4 сыновей и 3 дочерей.
Старший сын - Александр Иванович Звегинцов.
Владимир Иванович (28.12.1871, город Санкт-Петербург - 1944) выпускник Царскосельского лицея (1892). Офицер гвардейского кавалергардского полка, позже чиновник Государственной канцелярии (1894), шталмейстер, статс-секретарь, член Главного управления государственного коннозаводства. Добровольцем участвовал в русско-японской войне в составе Приморского драгунского полка. Владел конным заводом в селе Масловка Бобровского уезда.
Николай Иванович (14.05.1878 - 27.11.1932, город Ванве, Франция), генерал-майор, начальник охраны Мурманской железной дороги. Женат на графине Софии Алексеевне Игнатьевой (1880 - 20.09.1935, город Париж).
Дмитрий Иванович (18.01.1880 - 23.10.1967, Глосбери-на-Уайле, Англия), полковник-кавалергард. Женат на княгине Марии Ивановне Оболенской (1883 -1943, Франция).
Елена Ивановна (10.07.1874 - 24.05.1905, город Харбин) добровольно участвовала в русско-японской войне сестрой милосердия, умерла от тифа.
Наталья Ивановна (13.02.1883 - 1920), фрейлина императрицы двора, сестра милосердия во время 1-й мировой войны, во время Гражданской войны служила в Добровольческой армии.
Младший сын Александра Ильича - Николай Александрович (28.04.1848, город Москва - 09.12.1920), гвардии ротмистр. Владелец поместья в селе Петровское. Занимал различные должности в судебных учреждениях Воронежского и Новохоперского уездов. Новохоперский предводитель дворянства (1875-1883, 1890-1901), губернский предводитель дворянства (1883-1888). Смоленский (1901-1905), Лифляндский (1905-1914) губернатор. Кавалер многих орденов, в том числе Александра Невского, действительный статский советник (1882). Благоустроил имение, разводил лошадей, построил больницу в селе Петровское. Сенатор (с 1915). Женат 1-м браком на Анне Евгеньевне Вонлярлярской (1850 - 09.09.1937, город Ментона, Франция), 2-м браком на баронессе Ольге Николаевне Сталь-фон-Голыптейн (03.02.1869 - 17.09.1938, город Мерано, Италия).
Сын от 2-го брака Владимир Николаевич (11.2.1891, село Петровское Новохоперского уезда - 27.04.1973, город Париж), полковник-кавалергард, участник 1-й мировой и Гражданской войн, историк, автор книг «Кавалергарды в Великую войну и Гражданскую» (том 1-3; Париж, 1936-1966). Женат на Анастасии Михайловне Раевской (12.04.1890, имение Карасан Ялтинского уезда Таврической губернии - 03.02.1963, город Париж), внучке генерала Н.Н. Раевского-младшего.
Их сын - Владимир Владимирович (19.10.1914, Царское Село, близ города Санкт-Петербург - 30.01.1996, город Париж), историк, генеалог, автор специальных трудов, посвященных изучению мундиров, знамен и других атрибутов русской армии.
Многочисленные представители рода Звегинцовых живут в Англии, США и Франции. С 1995 года регулярно бывают в Воронеже и селе Масловка Лискинского района.
https://vrnguide.ru/bio-dic/z/zvegintsovy-dvoryanskij-rod.html
|
Метки: звегинцовы |
Родословная А.В. Суворова |
Родословная А.В. Суворова
У истоков иностранной версии происхождения рода Суворовых стоит сам великий полководец: «В 1622 году, при жизни Михаила Федоровича, выехали из Швеции Наум и Сувор и по их челобитной приняты в Российское подданство. Именуемые честные мужи разделились на разные поколения и по Сувору стали называться Суворовы...» (из прошения А.В.Суворова, поданного в 1786 году в Московское депутатское собрание о включение его с семьей в дворянскую родословную книгу Московской губернии).
Однако это мнение А. В, Суворова о генеалогии его рода опровергается хотя бы тем простым соображением, что в 1699 г. в России имелось уже 19 Суворовых-помещиков, не считая служилых лиц этой фамилии. Вряд ли можно допустить, что за какие-нибудь 77 лет этот род так необычайно разросся.
Поэтому «Родословный сборник русских дворянских фамилий» (изданный Долгоруким в 1855 г.) отодвигает дату приезда предков Суворовых в Россию еще на сто лет назад — к началу XVI века. Действительно, на одном из документов 1566 г. имеется подпись дьяка Наземного двора Суворова-Постника. В документах конца XVI века встречается имя помещика Кашинского уезда Савелия Суворова, и есть основания считать, что он являлся предком великого полководца по прямой линии.
Но по мере изучения древнерусских документов было обнаружено, что в новгородских писцовых книгах Шелонской пятины упоминается под 1498 г. помещик Сувор, сын Назима, владелец одиннадцати деревень в Ширском повете. В дальнейшем появление пращуров Суворова было приурочено, на основании ряда данных, ко временам Симеона Гордого, иными словами к середине XIV века. Но самый факт шведского происхождения Суворова не подвергался сомнению.
Однако еще современники Александра Васильевича, хорошо знавшие весь его род, протестовали против попытки установить его будто бы иностранное происхождение. Граф С. Р. Воронцов в письме к своему сыну М. С. Воронцову от 7-8 ноября 1811 г. указывает: «Один автор делает его (т. е. Суворова) по происхождению ливонцем; другой автор-немец делает его шведом; но имя Суворов доказывает, что он русский по происхождению, а не немец, не ливонец и не швед. Его отец был, также, как маршал Бутурлин, деншиком Петра Великого прежде чем Ливония была завоевана» (архив князя Воронцова, 1880 г., кн. 17). Далее Воронцов выражает возмущение, что никто не займется опровержением малодостоверных гипотез об иностранном происхождении русского военачальника, и резонно замечает, что «…если в настоящее время никто не опровергает этих измышлений при жизни их авторов, сочинявших их по своему невежеству, то потомство поверит и будет иметь основание верить, что это правильно».
В 1911 г. против «шведской» гипотезы выступил один из «Сувороведов», В. А. Алексеев, убежденный в чисто русском происхождении Суворова (Алексеев В.А. О происхождении Суворова. Журнал Императорского русского военно-исторического общества. № 6, 1911).
Прежде всего самая фамилия «Суворов», как указывал еще Воронцов, бесспорно имеет чисто русский корень. Сувор — это не имя, а скорее прозвище, встречающееся во многих старинных русских фамилиях. Так, в роде Чевкиных был Василий Сувор Леонтьевич. В данном случае «Сувор» — это сокращенное «суворый». В народной речи северных губерний угрюмых, сердитых людей называли «суворыми». По свидетельству В. Алексеева, ему привелось слышать выражение «сувориться» в смысле «злиться» даже в Осташковском уезде Тверской губернии, куда оно, видим, проникло из более северных местностей: Олонецкой и Новгородской губерний. Разные словари дают еще ряд значений слова суворый: брюзгливый, рябой, нелюдимый и т. п. В русском фольклоре есть сказка о Суворе-мужичке (или Суворе-мученике). Следовательно, фамилия «Суворов» — чисто русская, и даже больше того, специфически русская.
Но зачем понадобилось Суворовым вести свой род от шведов? Для ответа на этот вопрос нужно учесть своеобразную особенность той эпохи. Русские дворяне всегда были склонны выводить свой род от иностранцев — татар, литовцев, «варягов» и т.д. Так, Бестужевы называли себя потомками англичанина Беста, будто бы прибывшего в Россию в 1403 г., Козодавлевы считали себя потомками германца Кос фон Даален, Коломнины пытались возвести свой род к знаменитой итальянской семье Колонна, а Дедюлины претендовали на родство со старинным родом герцогов де-Люинь.
Словом, русское дворянство наперебой старалось украситься иностранным гербом. Род Суворовых отдал дань этому поветрию (К.Осипов. О происхождении Суворова Военно-исторический журнал № 3, 1940).
Моя книга "Александр Суворов – от победы к победе"

https://sergeytsvetkov.livejournal.com/946698.htm
|
Метки: суворовы |
Как Юрий Долгорукий деревню под Ковровом основал |
Как Юрий Долгорукий деревню под Ковровом основал
17:00, 27 февраля 2019
Поделиться:
Если время основания городов по большей части известно, что позволяет отслеживать их возраст и отмечать круглые даты, то в отношении сел, а тем более деревень подобная «роскошь» обычно недоступна. Их в нашем крае были даже не сотни, а тысячи, и судьбу каждого отдельно взятого селения обычно никто не отслеживал, а ведь зачастую их история уходит вглубь веков. Однако бывают счастливые исключения. Одно из них — деревня Новинки в Ковровском районе, время возникновения которой история сохранила.

Деревня Новинки сегодня
Это произошло в 1832 году, причем известны инициаторы строительства этой деревни: князь Юрий Алексеевич Долгорукий и его супруга княгиня Елизавета Петровна Долгорукая, урожденная Давыдова.

Князь Юрий Алексеевич Долгорукий

Княгиня Елизавета Петровна Долгорукая
Современные новинковцы сегодня гордо говорят, что у них, как и у Москвы, основатель — князь Юрий Долгорукий! И хотя тут без лукавства и юмора не обходится, с подобным утверждением в сущности не поспоришь…
Вплоть до начала 1830-х гг. Новинки являлись пустошью — ненаселенным земельным владением, которое входило в состав обширного имения графа Владимира Григорьевича Орлова — младшего брата известного фаворита Екатерины II Григория Орлова.

Граф Владимир Григорьевич Орлов
Центр этого имения, объединявшего более двух десятков сел и деревень в Ковровском и Вязниковском уездах Владимирской губернии, находился в селе Осипово. В 1831 году граф Владимир Орлов скончался, завещав свои владимирские владения любимой внучке Елизавете Петровне Давыдовой, к тому времени уже вышедшей замуж за чиновника императорской канцелярии (что-то наподобие нынешней Администрации Президента) князя Юрия Долгорукого, пожалованного в надворные советники и камергеры.
Однако в 1833 году сильный пожар истребил сразу две деревни близ Осипово — Сорокино и Шишкино. Их владельцы князья Долгорукие решили не отстраивать эти селения на старых пепелищах, а основать новую деревню, которая получила наименование по пустоши — Новинки, оказавшееся как нельзя лучше подходящим. Туда и переселили погорельцев — крепостных крестьян из числа бывших сорокинцев и шишкинцев. Так к началу 1834 года появилась новая деревня Новинки.
Очевидно, у сиятельной четы имелся и конкретный резон для основания Новинок — эта деревня была построена в аккурат на почтовом тракте из Коврова в село Павловское и далее на Меленки и Касимов. В 1834 году по 8-й ревизской переписи в деревне Новинки князей Долгоруких значилось 90 жителей: 48 мужского и 42 женского пола. При деревне имелся пруд, вырытый руками ее первых жителей.
После отмены крепостного права более 200 десятин помещичьей земли перешли в пользование новинковских крестьян, однако за нее мужикам пришлось в течение длительного времени выплачивать князьям Долгоруким более 5 тысяч рублей — немалые деньги для жителей деревни. Князь Ю.А. Долгорукий в последние годы жизни занимал пост сенатора, проживая со своим семейством в Москве в собственном особняке на Пречистенке.

Ю. А. Долгорукий в последние годы жизни
Он скончался в 1882 году в 75-летнем возрасте, пережив свою супругу на 4 года. Могила их сиятельств на кладбище Донского монастыря в Москве с массивным гранитным памятником на ней сохранилась до наших дней.

Надгробный памятник князя Юрия Алексеевича Долгорукого и его жены Елизаветы Петровны на кладбище Донского монастыря в Москве
После устройства Московско-Нижегородской железной дороги в 1862 году почтовый тракт, на котором стояли Новинки, стал приходить в упадок, однако не прошло и двух десятков лет, как была построена новая железнодорожная ветка Ковров – Муром, которая прошла практически впритык к Новинкам, буквально по задам восточной окраины деревни. Новинкинские крестьяне участвовали в строительных работах и неплохо подзаработали на перевозке бревен и камней, необходимых для устройства насыпи и различных железнодорожных построек. Благодаря наличию железнодорожной платформы «92-й километр» Муромской железной дороги, где останавливались пассажирские поезда, Новинки не попали в число «неперспективных деревень» и уцелели до наших дней.

Остановочная платформа Муромской железной дороги «92-й километр»
В 1934 году в Новинках был организован колхоз, который по настоянию местных жителей назвали в честь известного полководца Гражданской войны Семена Михайловича Буденного, который тогда занимал должность инспектора кавалерии РККА. К началу 1950-х гг. этот колхоз был включен в состав укрупненного колхоза имени Куйбышева.
К 1961 году в Новинках насчитывалось 59 жителей и 17 дворов, но в 1994 году — только 32 жителя и 19 хозяйств.
Тому, что Новинки уцелели, способствовало то, что поблизости от деревни в 1980-е годы были устроены коллективные сады и в деревню провели проселочную дорогу из соседней деревни Шиловская. Правда, напрямую из Коврова в Новинки сегодня не проехать, хотя лет сто назад это можно было сделать легко. Для того чтобы добраться туда из города, требуется сделать изрядный крюк в десятки верст по шоссе, а уж потом через деревню Шиловскую добираться непосредственно до Новинок. Недавно там отремонтировали участок дороги между этими двумя селениями, но нынешней многоснежной зимой движение там идет лишь по одной полосе, и встречным авто разъехаться можно с большим трудом.

Нынешняя «станция» больше похожа на автобусную остановку
Сегодня в Новинках, которым исполнилось 185 лет, проживает всего полтора десятка человек, хотя в летний сезон благодаря дачникам, как и повсюду, эта «новая» деревня (а относительно соседних селений, которым по четыре столетия и даже более, она действительно молодая) оживает и становится особенно многолюдной. Даже упадок Муромской железной дороги, где пассажирские поезда сегодня ходят всего из пары вагонов, уже не может повлиять на судьбу Новинок, появившихся на свет по прихоти княжеской четы Долгоруких.

Железнодорожные постройки в Новинках сегодня в упадке — бывшие казарма путейцев и дровяные сараи

Поезда в Новинках останавливаются нечасто
Можно добавить, что внучка основателей деревни княжна Ольга Алексеевна Долгорукая, дочь отставного штабс-ротмистра и камер-юнкера князя Алексея Юрьевича Долгорукова, была замужем за первым холмским губернатором (в Царстве Польском), а потом предпоследним обер-прокурором Святейшего Синода в 1915-1916 гг. гофмейстером Александром Николаевичем Волжиным. После 1917 года Волжины эмигрировали из России. После долгих скитаний по Европе они в итоге обосновались во Франции. А.Н. Волжин скончался в 1933 году в Ницце и был похоронен на кладбище «Кокад», а его жена О.А. Волжина-Долгорукая — в 1946 году в Париже. Ее надгробие до сих пор можно видеть на легендарном кладбище русской эмиграции Сент-Женевьев де Буа.
Николай Фролов
http://www.prizyv.ru/2019/02/27/kak-yurij-dolgorukij-derevnyu-pod-kovrovom-osnoval/
|
Метки: дворянские владения долгоруковы волжины |
Усадьба Коптевых - Мейендорф между Б. Никитской и Поварской ул. |
 |
|
 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Метки: дворянские владения мейендорфы |
Место ссылки — Кольчугино |
Место ссылки — Кольчугино
 Мы как-то привыкли думать, что политических заключённых и преступников ссылали в Сибирь, Магадан или на Север. Но местом ссылки в советскую эпоху были и малые города центральной России, в том числе и наш город. Недавно я узнал, что у нас отбывал ссылку талантливый духовный писатель, богослов, профессор, известный ленинградский священник Николай Семенович Рудинский. Это публикаций хочется познакомить кольчугинских читателей, любителей истории России, православных верующих нашего района с поистине удивительным человеком.
Мы как-то привыкли думать, что политических заключённых и преступников ссылали в Сибирь, Магадан или на Север. Но местом ссылки в советскую эпоху были и малые города центральной России, в том числе и наш город. Недавно я узнал, что у нас отбывал ссылку талантливый духовный писатель, богослов, профессор, известный ленинградский священник Николай Семенович Рудинский. Это публикаций хочется познакомить кольчугинских читателей, любителей истории России, православных верующих нашего района с поистине удивительным человеком.
Жизнь и деятельность
Протоиерей Николай Семенович Рудинский (иногда его фамилию пишут как Руденский) родился 22 августа 1871 года в семье священника в с. Заозерье Угличского уезда Ярославской губернии. В 1892 г. окончил Калужскую духовную семинарию по I разряду первым учеником и был направлен в академию, в 1896 г. окончил Санкт-Петербургскую духовную академию со званием кандидата богословия.
8 декабря 1896 г. рукоположен во диакона, 15 декабря 1896 г. — во священника к Троицкому храму при Обществе распространения религиозно-нравственного просвещения в духе Православной церкви в Санкт-Петербурге. С июня 1897 г. отец Николай был настоятелем церкви преподобных Сергия и Германа Валаамских при Александровском кадетском корпусе в Санкт-Петербурге. С 1911 г. – до 1922 г. — священник храма благоверных князей Бориса и Глеба в Петербурге.
С мая 1911 г. председатель братства «Борисоглебская лепта милосердия». Указом от 6 мая 1913 г. возведен в сан протоиерея.
С 1896 года Николай Рудинский был преподавателем Санкт-Петербургской духовной академии, получив звание профессора, а также женской гимназии. После революции был преподавателем литургики Богословского Института и пастырских курсов. (Литургика – богословская дисциплина, изучающая христианское церковное богослужение).
Отец Николай написал книгу «Жизнь и труды святаго Апостола Павла. Последовательный комментарий апостольских посланий, составленный по трудам епископа Феофана Затворника» (составитель священник Н. Рудинский. Спб., 1912). Опубликовано впервые как бесплатное приложение к журналу «Отдых христианина» за 1911-12 гг. Толкование текста Послания к Евреям было написано за отсутствием его у святителя Феофана самим священником Н. Рудинским.
С 1915 по 1916 год исполнял должность духовного следователя пятого Столичного округа. 19 января 1918 года находился в Александро-Невской Лавре у Петроградского митрополита Вениамина, когда красногвардейцами был ранен священник Петр Скипетров. Вместе с протоиереем Философом Орнатским протоиерей Николай Рудинский доставил раненого священника в лаврскую больницу, где он в тот же вечер скончался.
Батюшка был избран Председателем правления Братства приходских советов Петрограда и епархии, которое было создано в январе 1918 года, ездил за благословением к Святейшему Патриарху Тихону. После закрытия духовных учебных заведений в 1920-х годах окончил Петроградскую Педагогическую академию и преподавал в единой трудовой школе г. Петрограда.
Начало крестного пути
12 июля 1922 г. отец Николай арестован Петроградским губотделом ГПУ по делу православных братств по обвинению в антисоветской деятельности, находился в заключении в доме предварительного заключения на Шпалерной улице. 3 августа переведен для дальнейшего содержания во 2-й Исправдом с зачислением за Петрогубревтрибуналом. По постановлению от 18.08.1922 г. следователя Петрогубревтрибунала Лютера из-под стражи освобожден под подписку о невыезде. 14 сентября 1922 г. вынесен приговор: дело прекратить, подписку о невыезде аннулировать.
12 октября 1922 года приговорен к 2 годам высылки в Архангельскую губернию.
В судьбе ссыльного священника Рудинского большую роль сыграла Екатерина Павловна Пешкова (Волжина) — официальная жена писателя Максима Горького. Она являлась одним из создателей организации, известной как Политический Красный Крест, которая с 1918 по 1937 год занималась оказанием помощи заключенным в тюрьмах Советской России и СССР. С 12 июня 1922 г. организация называлась «Помощь политическим заключенным» («Помполит»).
В октябре 1924 г. отец Николай обратился за помощью в Московский Политический Красный Крест. И, видимо, Е. П. Пешковой удалось ему помочь. Весной 1925 г. Николай Семенович Рудинский был освобожден и вернулся в Ленинград, продолжил работу в Педагогической академии. До 1931 года он служил в Рождественской церкви на Советском проспекте.
В 1930 г. снова арестован по групповому делу, приговорен по ст. 58 п. 10 и 11 УК РСФСР к 5 годам ИТЛ и отправлен в Соловецкий лагерь особого назначения (Кемь). В июле 1931 г. из Кеми привезен в Архангельск для направления на остров Вайгач в составе культурно-просветительной комиссии. Оттуда после медицинского освидетельствования отправлен обратно в Кемь.
С ходатайствами за репрессированного протоиерея Николая вновь к Е. П. Пешковой обращались в июле 1931 г. литературовед В. А. Десницкий и жена священника О. Д. Рудинская. Они просили ввиду его возраста и болезней о замене лагерной жизни вольным поселением в более подходящих климатических условиях, где он мог бы жить с женой и обратиться к врачу. Не получив ответа, в октябре 1931 г. жена вновь обратилась за помощью к Пешковой. Это ходатайство было успешным, и в 1933 году его освободили с ограничением на 3 года в проживании в крупных городах.
В 1933 году поселился в г. Юрьеве-Польском (получил справку в Юрьев-Польском РО НКВД 9.11.1935 г.).
В Кольчугине
В 1936 году протоиерей Николай Рудинский переехал в г. Кольчугино, где жил в доме № 10 по улице Нефедовской, затем с августа в доме Гусевой № 35 по улице Больничной. Нигде не служил, жил на средства своей племянницы — учительницы школы № 2 г. Кольчугино Т. Н. Киселевой.
13 сентября 1937 года на основании доноса была выдана справка на его арест по обвинению в проведении антисоветской и контрреволюционной агитации.
25 сентября утверждено постановление на арест, в котором говорилось, что он, «будучи высланным за к/р деятельность из г. Ленинграда, продолжает вести борьбу против советской власти, критикует в к/р духе политику ВКП(б), восхваляет фашистский строй Германии и Италии, предсказывает фашистский переворот, распространяет к/р клевету на вождей партии и Советской власти».
14 октября 1937 г. арестован сотрудником Кольчугинского РО НКВД, заключен под стражу в КПЗ Кольчугинского РО НКВД с последующим направлением в Юрьев-Польскую тюрьму. При обыске у него были изъяты паспорт (выдан Кольчугинском РОМ НКВД 11.02.1936 г.), справка НКВД 1935 года, справка Единой трудовой школы СПб, удостоверение об окончании б. Петроградской Академии (педагогической) и разная переписка. В анкете арестованного отец Николай указал, что он священник сергиевской (тихоновской) ориентации. Виновным себя не признал.
По показаниям свидетельниц, хозяйки дома и ее дочери, Рудинский с племянницей «занавешивали окна, не пускали никого в комнату, кроме попа и врача; ежедневно получали по 5 писем (которые Гусевы старались перехватить); Рудинский рыдал, когда передавали по радио о расстреле врагов народа; он был в 7 странах, в том числе в Германии, и Киселева училась в Германии».
3 декабря 1937 г. тройкой УНКВД СССР по ИПО приговорен к расстрелу. 16 декабря 1937 г. протоиерей Николай Рудинский расстрелян.
21 марта 1989 г. был реабилитирован Прокуратурой Владимирской области.
Место захоронения выяснить не удалось (прим. автора). К сожалению, не удалось найти также ни одной фотографии расстрелянного священника.
В документах имеются кое-какие сведения о родственниках Н.С. Рудинского: отец Симеон Рудинский – диакон церкви с. Заозерья Угличского уезда Яросл. губ, 1.08.1860 г. рукоположен во священника к той же церкви, скончался в сане протоиерея. Брат Сергей (ок.1868 г.р., учитель церк-прих. школы в с. Заозерье, 21.05.1893 г. студент Ник. Сем. Рудинский был поручителем на его венчании в Толгской церкви г. Ростова). Жена Ольга Дмитриевна (к 1937 г. скончалась), свояченица (ее сестра) Беляева Мария Дмитриевна (к 1937 г. вдова). Сын жил к 1937 г. в Москве. Племянница Т.Н. Киселева (учительница иностр. языков школы № 2 г. Кольчугино).
Послесловие
Вот такая трагическая судьба учёного священника, который занимался просвещением юношества, заботился о нравственном воспитании общества, творил добрые дела, помогал бедным и обездоленным, возглавив братство милосердия. И единственной его виной было то, что он являлся православным священником, пострадавшим за то, что не отрекся от веры во Христа. Чем был опасен для большевистского режима 66-летний старик, мне до сих пор непонятно.
…И вот я держу в руках и читаю книгу протоиерея Николая Рудинского «Жизнь и труды святого Апостола Павла. Последовательный комментарий апостольских посланий, составленный по трудам епископа Феофана Затворника». Все православные верующие, кто любит читать и пытается понять Священное писание, знают это творение святителя Феофана, а протоиерей Николай прокомментировал названный труд в своей книге, которая переиздана уже несколько раз в наше время. Автор этих строк специально разыскал и приобрёл репринтное петербургское издание 1912 года. Книга священника Н. Рудинского поистине уникальна, она большого формата, содержит более 500 станиц. В ней воедино собраны житие Апостола, его послания, толкование посланий, подробные исторические комментарии о жизни, нравах и обычаях тех мест, которые посещал Апостол Павел, проповедуя Евангелие. Как-то особенно волнительно сознавать, что составитель такого капитального труда ходил по нашим улицам. Когда-нибудь, вероятно, он будет канонизирован и Кольчугинская земля обретёт святого мученика, который жил и был арестован в нашем городе, откуда он отправился на свою Голгофу. Я специально сходил к дому №10 по улице Нефёдовской, где проживал ссыльный священник. Это не так уж далеко от дома моего деда, который тоже приехал в 1936 году в Кольчугино. Может быть, они были знакомы, вероятно, даже общались или просто здоровались, как вежливые люди, почти соседи… Теперь этого мы уже никогда не узнаем…
И особенно меня поразило посвящение данного капитального труда, такого посвящения мне ещё не приходилось встречать. На обложке и титульном листе прописными буквами выведено: «Съ горячей любовiю посвящается православному русскому народу. Священникъ Н. Рудинскiй».
В. Дворников
При подготовке материала использован сайт Александровской епархии «Подвиг веры»
-kolchugino/
|
Метки: пешковы красный крест репрессии |
Екатерину II не проведешь. |
Екатерину II не проведешь.
«Однажды императрица Екатерина захотела почистить огромное количество украшений разного рода, которые еще во времена Петра Великого были сложены в сундуки, и ценность которых даже не была точно известна. Боясь краж во время проведения этой ревизии, императрица назначила двух капитанов гвардии наблюдать за работами. Два инспектора настолько были очарованы видом этого богатства, что они начали соперничать между собой в мыслях о воровстве.
Они договорились похитить часть сокровища, надеясь, что их поступок останется незамеченным, а после разделить добычу между собой. Один капитан, который взял себе меру жемчуга, поспешил отослать его с надежным человеком в Амстердам. Там жемчуг был продан. Полученные деньги были использованы капитаном для выкупа заложенных поместий, которые он благоразумно передал своему сыну. Другой, доля которого состояла из бриллиантов, ждал весны, чтобы съездить в Англию и обделать дельце без помощи посредников.
Императрица Екатерина II с аллегориями. 1792-1793. Лампи. Музей Французской революции в Визиле. //Статьи выходят ежедневно после 14.00 по Мск
Среди украденных вещей находилась диадема стоимостью 100 тысяч рублей. Все ценности были надежно спрятаны в дальних покоях его дома. Но, кажется, рок всегда преследует преступников: его жена нашла тайник. Тщетно муж клялся, что диадема ему не принадлежит, она просила если не подарить, то хотя бы позволить ей надеть диадему на бал, ну хоть на минуточку. Он долго сопротивлялся, но она настаивала, просила и так плакала, что капитан, безумно влюбленный в свою жену, уступил ее просьбам.
Он понадеялся на то, что это украшение, которое никто не видел уже лет 100 не известно никому из нового поколения придворных.
Молодая женщина, не чувствуя, что диадема жжет ей лоб, прибыла на бал в Эрмитаж. Сначала все шло хорошо. Но когда молодая дама уже чувствовала себя триумфаторшей, старая дева Протасова, стоящая позади императрицы, услышала, что и Екатерина восхищается сверканием бриллиантов.
Протасова А. С. 1787. Вуаль. Русский музей.
«Мадам, - сказала наперсница, наклоняясь к уху императрицы, - Ваше Величество не должно так восхищаться. Ведь это – диадема, принадлежавшая императрице, вашей тетке. Много раз я видела, как она ее носила». Эти слова были для Екатерины лучом света. Она встала и подошла к молодой даме, которая, на вершине успеха, как Золушка забыла об обещании надеть диадему лишь на минутку.
«Не могли бы вы сообщить, мадам, какой ювелир сработал вам это прекрасное украшение?» Взволнованная молодая дама назвала наугад имя ювелира. Императрица сказала еще пару слов и покинула свою собеседницу. Молодая дама продолжала танцевать, но теперь эта злосчастная диадема казалась ей подобной Дамоклову мечу.
Императрица же тотчас послала своего адъютанта узнать у ювелира, когда им была изготовлена эта диадема. Но ювелир ничего не знал об этом. Ответ немедленно был передан во дворец и императрица снова начала расспрашивать неосторожную даму.
«Вы что, играете со мной, мадам? – сказала она. Ваш ювелир никогда не продавал этой диадемы! Я желаю знать, откуда вы ее взяли!» - добавила она строго.
Запинаясь, молодая дама призналась. Подозрение Екатерины перешло в уверенность. Тут же был отдан приказ арестовать обоих капитанов. Оба были судимы, признаны виновными и отправлены в Сибирь. Но, по странной случайности, тот, кто продал жемчуг в Голландии и передал это состояние сыну, ничего не потерял, тогда как алмазы, найденные в доме другого, были возвращены в царскую сокровищницу.
Когда через несколько лет императрица простила обоих преступников, первый мог думать, что юстиция слаба, тогда как второй, должно быть, проклинал свой безумный поступок, стоивший ему репутации и будущего. Что касается молодой дамы, то она дорого заплатила за свое тщеславие и за возможность на секунду поразить своих соперниц».
Литература: А.Б.Каменский "Екатерина II", 1989 год.
https://zen.yandex.ru/media/id/5b9cf2c3b76d9000aa0...edesh-5c751416edb9e500afc0559b
|
Метки: романовы |
Петра Чайковского вдохновляли наши пейзажи |
Петра Чайковского вдохновляли наши пейзажи
« Народная трибуна » №
31
от
Среда, 31 июля, 2013 (Весь день)
2064

Петра Чайковского вдохновляли наши пейзажи
Культурные традиции бондарской земли передаются из поколения в поколение. Не зря на рубеже ХIХ-ХХ веков в Бондарях был создан сельский любительский театр, о котором вспоминают попыне, среди народа активно провдились просветительские чтения.
Сколько исторических ниточек тянется от бондарских земель к А.С. Пушкину! Скажем, история «Барышни-крестьянки», действительно произошедшая в сёлах Большое и Малое Гагарино. Куровщина - родовое имение деда жены Пушкина - Натальи Гончаровой. В Нащёкино приезжал друг Пушкина Ф. Толстой (известный авантюрист ХIХ века посетил наши земли, чтобы выручить своего друга князя Гагарина, сидевшего в долговой тюрьме).
Давал уроки музыки
Композитор Пётр Чайковский бывал в Тамбовской губернии в 1871-1879 годы. Его любимой летней «резиденцией» было село Усово Кирсановского уезда. В 70-80-е годы ХIХ века оно принадлежало Владимиру Степановичу Шиловскому-Васильеву (1852-1893). Он был представителем дворянской семьи, широко известной в музыкальных кругах Москвы.
В августе 1871 года в Усово (имение Шиловских) прибыл композитор Пётр Чайковский. Усадьба имела довольно запущенный вид. В центре стоял двухэтажный дом с верандой. Прямо от крыльца шла песчаная дорожка к цветнику. В середине клумбы на красивой подставке стоял стеклянный шар, в котором отражалось каждое лето многообразие цветов, что придавало саду прелестный вид.
Володя Шиловский был учеником П.И. Чайковского. Талант мальчика привлекал всеобщее внимание. Произведения Володи Шиловского исполнялись на концертах, а великий композитор давал Володе уроки по теории музыки. Так зародилась близкая дружба между двумя музыкантами и продолжилась до самой смерти В.С. Шиловского-Васильева.
Чайковского всегда манила русская природа, уединение, глушь. Первое летнее пребывание в усадьбе друга продолжалось месяц. Это время композитор посвящает опере «Опричник». Первое пребывание на тамбовской земле оказалось плодотворным для композитора, а степная природа с её просторами, запахами луговых трав, разливами полей, пронизанными солнцем перелесками нашла отклик в душе и надолго полюбилась Чайковскому.
Брат и биограф композитора Модест Ильич Чайковский пишет, что в имении Шиловского не было ни комфорта, «ни купания, кроме пруда с пиявками, ни особенных красот, а просто заброшенная усадьба среди лесистой, приятной для прогулок местности…. С этих пор в течение нескольких лет Усово затмило все остальные резиденции Петра Ильича и стало для него центром постоянного влечения, чуть начинали зеленеть деревья и луга».
Летом следующего года (с 20 июля по 14 августа) Шиловский снова принимает в гости друга. За неполный месяц композитор успел завершить все черновые эскизы Второй симфонии, в которой крупным планом выдвигается тема народа.
Свидетельство
дружбы - письма
Следующее лето хозяин имения был в отъезде и П.И. Чайковский жил там один. Позднее он вспоминал: «Это было в 73-м году. Прямо из Парижа в начале августа я поехал в Тамбовскую губернию… Я очутился совершенно один в прелестном оазисе степной местности. Я не могу вам передать, до чего я блаженствовал эти две недели. Я находился в каком-то экзальтированно-блаженном состоянии духа, бродя один днём по лесу, под вечер по неизмеримой степи, а ночью сидя у отворённого окна и прислушиваясь к торжественной тишине захолустья, изредка каким-то неопределенным звукам».
В гостях у Шиловского Чайковский написал симфоническую фантазию «Буря» по Шекспиру, инструментовал оперу «Кузнец Вакула», эскизы Третьей симфонии.
Сохранились и опубликованы четырнадцать писем Петра Ильича к Владимиру Шиловскому, которые охватывают период в двадцать лет - с 1873 года. Владимир Степанович умер в возрасте 41 года, и его кончина глубоко опечалила многих. Старожилы села рассказывали, что крестьяне несли гроб с прахом своего барина более двадцати вёрст - от ближайшей станции Иноковки, чтобы похоронить в Усове. Великий композитор лишь на четыре месяца пережил своего друга.
ИНФОРМАЦИЯ:
Поместье В.С. Шиловского стало для известного композитора «центром постоянного влечения». В 1985 году памятный знак П.И. Чайковскому был перевезён из деревни Усово в село Куровщина и установлен возле здания местной школы.http://www.top68.ru/society/petra-chaikovskogo-vdokhnovlyali-nashi-peizazhi-24113
|
Метки: шиловские чайковские |
Неразгаданная Крупская. Как миловидная гимназистка стала суровым бойцом |
 Самой лучшей своей, самой звонкою песней, мы встречаем тебя, восемнадцатый съезд!» — звучало из советских радиоточек 27 февраля 1939 года, когда перестало биться сердце вдовы Ульянова-Ленина. Выступить на этом съезде — первом после Большого террора — она не успела. Днем ранее Надежда Константиновна отметила свой 70-летний юбилей. Главным угощением праздничного стола стали деликатесы, присланные лично Сталиным, а 1 марта гроб с ее телом уже стоял в Колонном зале Дома союзов. Потом были торжественные проводы: на роскошных носилках, которые несли Сталин, Ворошилов, Молотов, Калинин, урну с прахом доставили к Кремлевской стене, где и замуровали под звуки «Интернационала». На венке от Совнаркома значилось: «Пламенному борцу за дело коммунизма, ближайшей помощнице великого Ленина».
Самой лучшей своей, самой звонкою песней, мы встречаем тебя, восемнадцатый съезд!» — звучало из советских радиоточек 27 февраля 1939 года, когда перестало биться сердце вдовы Ульянова-Ленина. Выступить на этом съезде — первом после Большого террора — она не успела. Днем ранее Надежда Константиновна отметила свой 70-летний юбилей. Главным угощением праздничного стола стали деликатесы, присланные лично Сталиным, а 1 марта гроб с ее телом уже стоял в Колонном зале Дома союзов. Потом были торжественные проводы: на роскошных носилках, которые несли Сталин, Ворошилов, Молотов, Калинин, урну с прахом доставили к Кремлевской стене, где и замуровали под звуки «Интернационала». На венке от Совнаркома значилось: «Пламенному борцу за дело коммунизма, ближайшей помощнице великого Ленина».
Среди многочисленных откликов на печальное событие особняком стояло «прощальное слово» пребывавшего в мексиканском изгнании Льва Троцкого: «Крупская была не только женой Ленина — не случайно, разумеется,— она была сверх того лично выдающимся человеком: по своей преданности делу, по своей энергии, по чистоте своей натуры. Она была, несомненно, умным человеком... Болезнь и смерть Ленина — опять-таки не случайно — совпали с переломом революции, с началом термидора. Крупская растерялась. Ее революционное чутье боролось с духом дисциплины. Она пробовала сопротивляться сталинской клике и попала в 1926 году ненадолго в ряды оппозиции. Испугавшись раскола, она отшатнулась. Потеряв веру в себя, заметалась, а правящая клика делала все, чтобы нравственно сломить ее… Сталин всегда жил под страхом протеста с ее стороны. Она слишком многое знала. Она знала историю партии. Она знала, какое место занимал в этой истории Сталин. Вся новейшая историография, которая отводила Сталину место рядом с Лениным, не могла не казаться ей отвратительной и оскорбительной. Сталин боялся Крупской, как он боялся Горького. Крупская была окружена кольцом ГПУ…»
В оценках Льва Давидовича полно загадок и намеков: как понимать «неслучайность», что стоит за фразой «она слишком многое знала»? Многое прояснится, если внимательнее приглядеться к малоизвестным страницам биографии товарища Крупской.
Девушка из хорошей семьи
В истории сохранился образ немолодой грузной женщины, изуродованной базедовой болезнью, которую товарищи по партии называли Рыбой, Селедкой, а муж — Миногой. Однако такой она была далеко не всегда. Ее одноклассница, журналистка и политик Ариадна Тыркова, пишет, что в ранние годы Крупская была хороша собой: «У Нади была белая, тонкая кожа, а румянец, разливавшийся от щек на уши, на подбородок, на лоб, был нежно-розовый...» Правда, одновременно по-женски замечает, что гимназисты заглядывались именно на нее, Ариадну, а не на серьезную Надю, у которой, мол, и губы-то были слишком пухлые, и роста она была слишком высокого — внешность, более востребованная в начале XXI века, чем в конце XIX.
Наденька преданно любила своего отца — небогатого дворянина из старинной польской семьи, отставного офицера и коллежского асессора, в биографии которого значится поддержка Польского восстания. Именно Константин Игнатьевич увлек дочь идеями народничества, но переходу увлечения в страсть способствовал другой человек. После смерти отца — Наде было тогда 14 лет — заботу о вдове и дочери друга взял на себя Николай Утин, выходец из богатой еврейской семьи, член «Земли и воли», организатор русской секции Интернационала, в работе которого участвовал и Константин Крупский. О характере их с Наденькой отношений историки высказывают разные предположения, но нет сомнений: именно благодаря его влиянию прилежная гимназистка превратилась в столь же прилежную революционерку — вектор был задан на всю жизнь.
Ариадна Тыркова оставила воспоминания о том, как обитали мать и дочь: «Тихая была жизнь у Крупских, тусклая. В тесной, из трех комнат квартирке пахло луком, капустой, пирогами. В кухне стояла кухаркина кровать, покрытая красным кумачовым одеялом… Я удивлялась, как могут они с матерью существовать в такой тесноте. Свою маленькую, скудно обставленную квартирку мать Нади держала в большом порядке, создавала уютное благообразие, хлопотала тепло и приветливо, поила нас чаем с вкусным домашним вареньем, угощала домашними булочками».
Надежда, впрочем, варенье не варила и булочки не пекла — была увлечена революционной работой и общением с революционерами.
По воспоминаниям той же Тырковой, первым увлечением ее подруги стал студент Роберт Классон, который вел марксистский кружок. Чувство зародилось над страницами трудов Маркса и Энгельса — члены кружка восхищались, с каким упорством Наденька корпела над переводом «Анти-Дюринга». Изнуряющая усидчивость Надежде не мешала, напротив — придавала юной деве особый шарм, что молодые марксисты ценили (этот «марксистский» прием сработает и при налаживании отношений Крупской с Ульяновым. А Роберт Классон после совместных переводов «Анти-Дюринга» из ее жизни не выпадет — в будущем станет одним из разработчиков плана ГОЭЛРО).
Отучившись (всего год) на словесно-историческом отделении Бестужевских высших женских курсов, Крупская (подрабатывая в управлении железных дорог) посвятила себя преподаванию в школе рабочей молодежи. Звучит безобидно, но на самом деле, как квалифицировали бы борцы с экстремизмом сегодня, милая девушка в рамках подпольной сетевой структуры занималась подбором и обучением кадров для будущих подрывных операций. Работа серьезная, но не без романтики. Как утверждала молва, к чарам учительницы, которая была четырьмя годами старше, не остался равнодушным юный Иван Бабушкин, в период обучения слесарь торпедной мастерской Кронштадта, обладавший навыками работы с взрывчаткой, а после обучения — пламенный революционер, прошедший через аресты, ссылки и казненный за участие в Читинском восстании в 1906 году.
В 1894 году состоялось судьбоносное знакомство Крупской с Ульяновым: 24-летний марксист, носивший из-за залысин партийную кличку Старик, прибыл в Петербург для обмена опытом с местными товарищами, а встреча произошла на «революционных блинах» — нелегальная сходка была замаскирована под празднование Масленицы. Биографы любят напоминать, что молодых людей познакомила подруга Крупской Аполлинария Якубова, за которой Ульянов ухаживал (он даже делал ей предложение, но получил отказ). На фоне яркой и увлекающейся Аполлинарии Надежда гляделась иначе: серьезная, основательная, преданная (ходила к арестованному Ульянову на Шпалерную). Когда через пару лет она отправится в ссылку, Владимир Ильич в письме попросит ее руки («Женой так женой!» — ответит, по собственному признанию, Крупская). Но есть и такая трактовка: Надежду Константиновну «определила» Ульянову в супруги революционная организация — как надежного помощника, секретаря, курьера нелегальной литературы. И Крупская сама предложила Старику сочетаться браком для совместного отбывания наказания: как член «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» она после нескольких месяцев в тюрьме была приговорена к трехлетней ссылке в Уфимскую губернию, а брак помог ей попасть в Шушенское (царское правительство не препятствовало воссоединению и обращалось с «политическими» куда мягче, чем поведет себя Ульянов и его соратники, получив власть).
10 июля 1898 года в местной церкви Святых Петра и Павла Владимир Ульянов и Надежда Крупская обвенчались.
Кольца, отлитые из медного пятака, потертый коричневый костюм новобрачного — образец скромного бракосочетания революционеров-атеистов, зарегистрировавших официальный брак «для бумажки» (за год до смерти Крупской, в 1938 году, этот храм снесли. Но вряд ли она узнала об этом будничном для СССР событии).
О том, что женитьба была во многом формальной, косвенно свидетельствует известный биографам Крупской эпизод — скандал, случившийся непосредственно во время медового месяца в Шушенском. Сестра Ленина Анна Ильинична, которой новая родственница категорически не нравилась, не оставляла без внимания слухи о том, что Надежда якобы «таскается с товарищами». Судачили о том, что неподалеку от Шушенского на сахарном заводе работает красавец-ссыльный Виктор Константинович Курнатовский, который-де влюбился в 29-летнюю Надежду Константиновну, и его чувство, согласно «расследованиям» Анны Ильиничны, не осталось безответным. Владимир Ильич, впрочем, на редкость индифферентно относился к попыткам сестры прояснить эту двусмысленную ситуацию: «Не время, Аннушка, заниматься всякими сплетнями. Перед нами сейчас стоят грандиозные задачи революционного характера, а ты ко мне с какими-то бабскими разговорами…»
О бедном эсере замолвите слово
На момент знакомства с Ульяновым Надежде Крупской было уже 25 лет — возраст для барышни XIX века весьма солидный, а под венец она пошла и вовсе 29-летней (по тем временам — уже старой девой). Как на самом деле складывалась ее личная жизнь?
Никаких достоверных подробностей официальная биография не содержит, доступ к личному делу в госархивах закрыт. Между тем в Британской энциклопедии черным по белому написано, что до Ульянова у Крупской уже был муж — эсер Борис Герман. О том же, со ссылкой на некие секретные источники, свидетельствует и бывший агент НКВД Кирилл Хенкин в своей книге «Русские пришли» (издана в Израиле в 1984 году). Разумеется, речь идет о так называемом гражданском, а не официальном, закрепленном церковным обрядом браке. Что известно об избраннике?
Борис Владимирович Герман, родившийся в 1860 году,— личность в революционной среде той поры заметная. Пик его революционной популярности — создание в 1906 году Союза эсеров-максималистов, к главным идеологам которых он принадлежал. Широкой публике как «апостол террора» больше известен Борис Савинков, а имя Бориса Германа ничего не говорит. Это несправедливо — у истоков стоял именно он. Максималисты отличались отвагой и особой жестокостью при организациях терактов и проведении вооруженных налетов (эксов). Действовали небольшими ударными группами, которые приезжали из-за границы под четко спланированную акцию, осуществляли ее и мгновенно «рассыпались» — тактика, активно используемая террористами и сегодня.
На этом поприще боевые группы эсеров были поначалу вне конкуренции — эксами системно занялись раньше большевиков и сильно в этом преуспели. Как преуспели и в создании террористической сети, которую кроме Германа опекала и «вела» известная эсерка Екатерина Брешко-Брешковская. В Швейцарии для террористов-эсеров была создана учебно-тренировочная база, откуда в Россию направлялись десятки боевиков, которые успешно «ухлопали» более 50 высших царских сановников — губернаторов, министров, полицейских чинов. Параллельно в России закладывались спящие боевые ячейки, которые не принимали решения самостоятельно — их задачей было изготовление оружия и взрывчатых веществ. Члены таких групп вербовались в пролетарской среде, среди высококвалифицированных рабочих, на предприятиях, где было возможно изготавливать боевое оружие и бомбы. С молодежью в возрасте до 18 лет вербовка проводилась на основе идеологически-пропагандистской обработки — тут упор делался на романтику и чувство обостренной социальной справедливости. Среди еврейской молодежи продвигались идеи борьбы против ограничения прав и свобод в черте оседлости. «Промывка мозгов» имела успех и среди юных представителей аристократических фамилий — здесь упор делался на экзальтированных девушек, которых умело обрабатывали молодые привлекательные революционеры.
Организаторский «почерк» Бориса Германа и тактика террористической деятельности эсеров большевиками въедливо изучались и были приняты на вооружение руководителем созданной (по инициативе Ульянова) Боевой технической группы РСДРП Леонидом Красиным. Мостиком между «боевыми крыльями» социалистов разных уклонов и координатором «обмена опытом» была Надежда Константиновна, знакомая со всеми ключевыми фигурами экстремистского подполья — своими и чужими. Это был уникальный ресурс — ценные контакты и знания она пронесла через всю жизнь. Занятная деталь: Леонид Красин в начале ХХ века работал в Баку (на строительстве электростанции) под началом Роберта Классона — того самого, первого романтического увлечения Крупской.
Однако вернемся к Герману. Он был еще и яркий публицист, по силе литературного языка и дара убеждения мало кому уступавший. В 1904 году в Женеве «Внепартийное издательство социалистов-революционеров» печатает его программный манифест «Биология и социализм» (эту публикацию можно отыскать в библиотеках). Герман писал: «Единственная задача нашего времени — революция. Она претендует на силы, на жизнь сознающего ее. Нужно отдать ей эти силы… нужно умереть для всякой другой жизни. Нет иной, которая была бы интенсивна, полна...» Написанному автор следовал в полной мере и на разных континентах — следы пламенного террориста теряются… в Аргентине. В местном русском журнале «Сеятель» можно найти упоминания об этом человеке. Издатель Н.А. Чоловский, в частности, пишет о том, что 5 октября 1945 года скончался некто В. Бабий, отсидевший 25 лет в аргентинской тюрьме. Далее цитата: «В 1919 году он с Борисом Владимировичем Германом, последний был соц.-рев.; Надежда Крупская, бывшая его жена, впоследствии пошла жить с Лениным. Они задумали было в далекой Аргентине практиковать сталинскую профессию, то есть делали налет, за что получили по 25 лет отдыха. Герман умер в тюрьме давно. Герман известный партии социалист-революционер, написал книгу "Биология социализма". Он также написал в тюрьме две книги, до сего времени не изданы; одна из них была в свое время выслана в Россию. Другая осталась где-то тут. Когда их осудили, Герман публиковал в местной газете "Красное Знамя", в течение 19 дней, вроде своей "исповеди"».
Найти эту «исповедь» пока не удалось, но вот что еще сообщалось в русской аргентинской прессе о Германе: «Он написал много ярких и научно обоснованных антикоммунистических трудов, в которых призывал к борьбе против большевистского зла и их звериной программы, был близким приятелем Доры Каплан, всадившей в Ильича две пули из револьвера как подлецу и предателю России. И нам здесь в Аргентине в 1918 году он говорил, что Ленин — большой подлец, причиняет нашим народам много непоправимого зла, и поэтому с ним необходимо бороться всеми силами и средствами. Все труды Б.В. Германа конфискованы и уничтожены коммунистической партией». Не остается сомнений: в ненависти Бориса Германа к Владимиру Ульянову был и личный мотив.
Адреналин вместо феромонов
Впрочем, какие бы нюансы ни украшали быт революционной четы, брак Ульянова и Крупской следует признать удачным деловым и идеологическим союзом. Если не любовным вполне, то приключенческим точно. Адреналина хватало: в качестве семейного хобби учились уходить от «хвоста» и вписывать в книги между строк информацию невидимыми чернилами.
Организационные таланты Крупской и муж, и товарищи ценили особо: уже в 1894–1895 годах хранение архива организации доверили именно ей.
А в эмиграции она поддерживала переписку с 3 тысячами (!) корреспондентов, вписывая в невинные послания и на книжные страницы бесконечные строки шифровок, изводя литры симпатических чернил. Всю последующую жизнь Крупская исполняла роль целого секретариата: вела переписку с соотечественниками, готовила и проводила съезды и конференции, редактировала печатные издания, исполняла обязанности переводчика и личного референта мужа. Спустя годы известный революционер и публицист Михаил Ольминский так оценил «кпд» Крупской: «Она всю работу, так сказать, черновую, исполняла, она оставляла ему самую чистую работу, а все конспиративные сношения, шифровки, транспорт, сношения с Россией, все вела сама. И поэтому когда мы говорим — Ленин великий организатор, то я добавляю, что Ленин с помощью Надежды Константиновны — великий организатор».
После Октябрьского переворота нагрузки возросли, но Надежда Константиновна эффективности не утратила: ее хватало и на пропаганду «революционной необходимости», и на документооборот, запустивший Красный террор и «работу чрезвычаек». В 1920 году Крупская становится первопроходцем советской цензуры: в должности председателя Главполитпросвета при Наркомпросе она рассылает инструкции по изъятию из общественных библиотек «идеологически вредной и устаревшей литературы». По ее собственному признанию, для борьбы с книгами приходилось привлекать чекистов — граждане советского рая еще не были достаточно приучены к информационной покорности. По ее распоряжению под нож попадают Кант, Шопенгауэр, Декарт, Лесков, Платон и много кто еще — список, который Максим Горький назовет «ошеломляющим разум». Даже Чуковский будет объявлен Крупской «буржуазной мутью», а детские библиотеки разорены. Справедливости ради стоит сказать, что она потом называла книжные «чистки» ошибкой, однако маховик цензуры был запущен именно ею, чтобы не останавливаться потом долгие десятилетия.
Наряду с Троцким, ее считали одним из самых сильных большевистских агитаторов. А статус «жены Ленина» стал обозначать не столько семейное положение, сколько государственную должность, и эта свалившаяся на нее власть стала определенной компенсацией за не слишком счастливо прожитые годы. Новая должность, правда, счастья тоже не принесла: по мере того, как прогрессировала болезнь Ленина, жизнь Крупской оказывалась все труднее, а потом и вовсе стала невыносимой.
Финал красной королевы
С 1920 года Ленин все чаще болел и стремительно сдавал, срываясь периодически в глубокие и продолжительные обмороки, во время которых он практически не воспринимал окружающую действительность, а сознание возвращалось трудно. В этот период жена оставалась единственной ниточкой, связывающей недееспособного вождя с окружающим миром и властью. Не воспользоваться этим было бы глупо, а уж в высоком IQ Крупской сомневаться не приходится.
Тогда Надежда Константиновна была еще далеко не пешкой, а королевой при немощном короле — по некоторым свидетельствам, в кругах старых партийцев даже рассматривался вариант создания триумвирата правителей, куда помимо жены вождя вошли бы Троцкий и Бухарин. Сталина — генсека партии — в этих раскладах не было, ветеранов раздражали его грубость и властолюбие, положение его во власти было непростым. Не простыми стали и отношения с ним у Крупской.
Еще при жизни мужа, в 1922 году, ей пришлось пережить известную хамскую выходку Сталина, заявившего: «Мы еще посмотрим, какая вы жена Ленина». «Разговор этот чрезвычайно взволновал Крупскую, нервы которой были натянуты до предела, она была не похожа на себя, рыдала»,— вспоминала об этом конфликте Мария Ульянова. Согласно классической версии, Ленин узнал об этом спустя два месяца и добился от Кобы извинений. По свидетельству Молотова, Сталин прокомментировал ссору в свойственной ему «элегантной» манере: «Что, я должен перед ней на задних лапках ходить? Спать с Лениным еще не значит разбираться в ленинизме!»
Возможно, это лишь случайная последовательность событий, но в конце 1922 года появляется «Письмо к съезду» — так называемое завещание Ленина, которое Крупская зачитывает делегатам. Троцкий назван в нем «самым способным в ЦК», Бухарин — «любимцем партии», а в дополнении, составленном в январе 1923 года, прямо говорится о необходимости сместить Сталина с должности генсека.
Обнародованное Крупской «Письмо к съезду», однако, спусковым крючком возможной кадровой интриги не стало. Ленин умер в январе 1924-го, Сталин остался у руководящего руля и успешно передавил потом всех конкурентов, а на финише 30-х завещание было объявлено фальшивым, за хранение текста полагался срок.
Последние годы жизни Крупской были даже не печальны — трагичны. Мы не знаем и, наверное, никогда не узнаем, кого на самом деле она любила, но вот кого ненавидела, угадать нетрудно. Ей приходилось бессильно наблюдать, как Сталин планомерно уничтожает одного за другим ее старых товарищей по партии. У нее не только изъяли до последнего клочка весь архив Ленина, эта женщина была лишена даже могилы мужа — каждое посещение Мавзолея, куда ее загоняли буквально силой, оборачивалось тяжелым ударом по психике, а просьбы «похоронить мужа по-человечески» кремлевский горец высокомерно игнорировал, угрожая «подобрать вождю другую вдову».
В кабинете Крупской проводились постоянные негласные обыски, ее почта досматривалась, публикации цензурировались, но при этом Сталин продолжал воспринимать одряхлевшую грузную женщину как угрозу. И основания, надо полагать, у него были: связи и информация — ценнейший ресурс, а такими широкими связями и таким объемом информации, который держала в памяти Крупская, не владел тогда в политическом руководстве никто другой.
Сама она, правда, повод для тревог старалась не давать. В 1934 году, на XVII съезде ВКП(б), выступила с панегириком Сталину, сказала, что «линия Троцкого привела бы страну к гибели». Конечно, бывшие подпольщики прекрасно читали между строк, в «прозрение» мало кто поверил. Не поверил и Сталин — за Крупской стали присматривать открыто.
Дальше известно. На 10 марта 1939 года было назначено открытие XVIII съезда ВКП(б). Готовясь к нему, Крупская сказала одному из друзей, что если ей не дадут выступить, она потребует слова из зала: «Ведь я 40 лет в партии!»
О чем она собиралась рассказать делегатам, мы уже не узнаем: застолье в честь 70-летия товарища Ульяновой (так называл ее Сталин) стало для нее последним. Умерла ли она от присланного на день рождения торта или от перитонита и преступного бездействия врачей? Или ее травили медленно действующими ядами, разработкой которых уже вовсю занимались в НКВД даровитые ученые? Правда скрыта под лживым некрологом о «смерти от сердечного приступа»…
https://www.kommersant.ru/doc/3880983https://www.yaplakal.com/forum7/topic1917494.html
|
Метки: крупские |
Как внучка Александра II стала инфантой Испании. |
Как внучка Александра II стала инфантой Испании.
Беатриса Леопольдина Виктория — внучка российского императора Александра II и королевы Великобритании Виктории.
Дочь герцога была молода, хороша собой, обладала влиятельной родней и поэтому слыла одной из завидных невест Европы.
Беатриса Леопольдина Виктория
Беатриса была шестым ребенком в семье. Ее мать, великая княжна Мария Александровна, единственная дочь императора Александра II, вышла замуж за второго сына королевы Виктории - принца Альфреда герцога Эдинбургского.
По воспоминаниям историков, брак Марии и Альфреда, заключенный по обоюдному расчету, нельзя было назвать счастливым. Тем не менее, в нем родилось шесть детей: два сына (один из них появился на свет мертвым) и четыре девочки. Самой младшей дочерью и была Беатриса Леопольдина Виктория, которую в семье все называли Беа.
Беатриса была шестым ребенком в семье.//Статьи выходят после 14:00 ежедневно.
Поскольку герцог Эдинбургский был главнокомандующим Вооружёнными силами Великобритании в Средиземном море, то большое семейство проводило много времени за границей.
В 1899 году, когда Беа было 15 лет, в их доме произошла настоящая трагедия. В возрасте 24 лет умер ее старший брат Альфред. Наследник престола герцогства Саксен - Кобург - Гота оказался замешан в пренеприятной истории, в результате чего свел счеты с жизнью. В официальном же сообщении двора говорилось, что молодой человек скончался от чахотки.
Принц Альфред застрелился из револьвера.
Но скрыть правду было сложно. 6 февраля 1899 года в санаторий Мартиннсбрунн в городе Грач юноша ушел из жизни после попытки суицида - «Молодой Аффи» выстрелил в себя из револьвера. Это произошло, когда семья собралась по случаю серебряной свадьбы его родителей.
Известно, что молодой человек, который был обручен с герцогиней Эльзой Вюртембергской, страдал сифилисом, которым заразился ещё в годы службы в гвардии. Запущенная болезнь привела к тяжелейшему психическому расстройству и самоубийству. Смерть единственного наследника стала тяжелым ударом для герцога и всех членов семьи.
Великий князь Михаил Александрович и Беатриса Леопольдина Виктория (на передних сидениях).
Через три года произошло еще одно важное событие в жизни Беатрисы - в 1902 году она познакомилась со своим кузеном – братом Николая II, великим князем Михаилом Александровичем. 24-летний сын Александра III был очарован юной особой с выразительными глазами. Принцесса отвечала ему взаимной симпатией.
Несмотря на то, что молодых людей связывали близкие родственные связи, между ними завязались романтические отношения. Они знали, что православная церковь никогда не допустит брака между двоюродным братом и сестрой, но, тем не менее, вели переписку. В одном из своих посланий Михаил Александрович писал Беа: «Я всё время думаю о Вас, моя дорогая, и так ужасно хочу быть рядом с Вами. Одно Богу известно, как Вы мне нужны…».
Но их отношения были обречены, и время остудило пыл великого князя. Через пять лет он страстно влюбился в жену своего подчиненного Наталью Шереметьевскую, на которой тайно женился в Вене в 1912 году.
У Беатрисы и дона Альфонсо родились трое мальчиков.
Беатрису тоже ждали новые отношения. Дочь герцога была молода, хороша собой, обладала влиятельной родней и поэтому слыла одной из завидных невест Европы. В обществе даже ходили слухи, что ей удалось пленить сердце короля Испании Альфонса XIII. Правда, супругой монарха стала не она, а ее кузина. Но на пышной церемонии бракосочетания Беа познакомилась с 3-им герцогом Галлиерийским, инфантом доном Альфонсо, который поле своего тезки был первым возможным наследником престола.
Из-за того, что Беатриса принадлежала к лютеранской церкви, а ее избранник - к католической, в Мадриде не одобряли этот союз. В итоге влюбленные уехали из Испании в Германию, где в 1909 году совершили два обряда бракосочетания. Уже на следующий год у пары родился первенец, которого назвали Альваро Антонио Фернандо. В 1912 году появился на свет второй сын - Альфонсо Мария Кристино, а в 1913 году - третий - Атаульфо Алехандро.
Беатриса Леопольдина Виктория
В это время король разрешил молодоженам вернуться в Мадрид, и они не упустили этой возможности. Однако, жизнь в столице Испании продлилась недолго. Из-за слухов о любовной связи между Беа и Альфонсом XIII, королева-мать обратилась к родственнице с просьбой покинуть страну.
В итоге семья перебралась в Англию, где провела несколько лет. Лишь после того, как страсти поутихли, чета с разрешения родственников переехала в Санлукар - де - Баррамеда, где находились фамильные владения дона Альфонсо.
13 июля 1966 году Беатриса Леопольдина Виктория ушла из жизни. Ей было 82 года.
Источник: spb.aif.ru
|
Метки: романовы |
А.Н.Толстой и его корреспонденты |
 |
 |
 |
 |
|
||||||||||||||||||||||||
|
|
 http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/10913.php http://www.nasledie-rus.ru/podshivka/10913.php |
|
|
 |
 |
|||
|
Метки: толстые |
Владимирович Столяров |
Владимирович Столяров
Исторические отчеты и семейные деревья об Владимирович Столяров.
Отчеты могут включать фотографии, оригиналы документов, семейную историю, родственников, конкретные даты, местности и полные имена (в том числе девичьи фамилии).
Николай Столяров 1953 1988
Николай Владимирович Столяров, 1953 - 1988
Николай, Владимирович Столяров родился в 1953, у Владимир, Николаевич Столяров и Александра, Степановна Столярова.
Николай женился на Валентина Столярова.
У них был один сын: Анатолий Николаевич Столяров.
Николай умер в 1988, в возрасте 35 года / лет.
Vladimir Stoljarow 1843 1920
Владимир Владимирович Столяров, 1843 - 1920
Vladimir, Владимир, Владимирович Stoljarow, Столяров родился день месяц 1843, в место рождения, у Vladimir Aphanasievich Stoljarow и Berta, Берта, Францевна Stoljarow, Столярова.
У Vladimir было 4 брата или сестры / братьев или сестер: Maria von Wogau и еще 3 братьев или сестер.
Vladimir женился на Eleonore, Элеонора Stoljarow, Столярова.
У них было 4 ребенка / детей: Alex Александр Владимирович Stoljarow Столяров и еще 3 ребенка / детей.
Vladimir умер день месяц 1920, в возрасте 77 года / лет.
Alex Stoljarow 1867 1935
Александр Владимирович Столяров, 1867 - 1935
Alex, Александр, Владимирович Stoljarow, Столяров родился в 1867, у Vladimir, Владимир, Владимирович Stoljarow, Столяров и Eleonore, Элеонора Stoljarow, Столярова.
У Alex было 3 брата или сестры / братьев или сестер: Vasilii Василий Владимирович Stoljarow Столяров и еще 2 братьев или сестер.
Alex женился на Adel, Alexandrovna, Адель, Александровна Stoljarowa, Столярова.
У них было 4 сына / сыновей: Alex Алекс Stoljarow Столяров и еще 3 ребенка / детей.
Alex умер в 1935, в возрасте 68 года / лет.
Vasilii Stoljarow 1870 1932
Василий Владимирович Столяров, 1870 - 1932
Vasilii, Василий, Владимирович Stoljarow, Столяров родился в 1870, у Vladimir, Владимир, Владимирович Stoljarow, Столяров и Eleonore, Элеонора Stoljarow, Столярова.
У Vasilii было 3 брата или сестры / братьев или сестер: Alex Александр Владимирович Stoljarow Столяров и еще 2 братьев или сестер.
Vasilii женился на Sophie Konstantinovna, Софья, Константиновна Stoljarow, Столярова.
У них было 3 ребенка / детей: Helene Елена Solovjov Соловьева и еще 2 ребенка / детей.
Vasilii умер в 1932, в возрасте 62 года / лет.
4 из 9 отчетов Просмотреть все
|
Метки: столяровы |
Разгадка «Неизвестной» |
Разгадка «Неизвестной»
«Неизвестная» – таково название этой самой известной картины Ивана Крамского. Современники художника сразу стали гадать: кто она? То ли княжна Долгорукая, то ли Варвара Туркестанова, то ли Анна Григорьевна Гиндус, кутюрье царской семьи...
Все эти предположения приходится отмести – по двум причинам. Об одной из них расскажем в конце, а пока – надо учесть, что это не портрет конкретного человека, а собирательный образ, сложившийся из черт нескольких портретов, выполненных Крамским в эти же годы. Смотрите внимательно!
«Этюд». Натурщица сидит в экипаже, как и «Неизвестная». Та же поза, костюм, портретное сходство. Но всё же это другая женщина!
Портрет дочери Крамского Софьи – «Девушка с кошкой». Узнаёте поднятый подбородок, взгляд, линию бровей?
Портрет племянницы Крамского Людмилы Фёдоровны Крамской («Девушка с зонтиком»).
И наконец... портрет сына художника Серёжи. Узнаёте эту припухлость губ, взгляд из-под ресниц?
Три разных человека подарили свои черты «Неизвестной». А вот точно такой дамы, как на картине, никогда не существовало.
А теперь – вторая причина. О героине картины мы знаем точно три вещи. Во-первых, она современница художника (одета по последнему писку тогдашней моды). Во-вторых, живёт в Санкт-Петербурге (экипаж проезжает по мосту мимо Аничкова дворца). А в-третьих... её положение в обществе незавидно.
Дамы из высшего общества не одевались по последней моде, это дурной тон. Так что костюм говорит о... неблагоприятных обстоятельствах жизни девушки. Недаром собиратель Павел Третьяков не счёл возможным купить картину для своей галереи!
Со временем, когда мода конца XIX века забылась, костюм «Неизвестной» стал казаться зрителям просто красивым, но ощущение, что в жизни героини не всё в порядке, осталось. Вызов во взгляде, и грусть, и влажный, будто слёзный, блеск под ресницами… Каждый зритель подозревает свою тайну, и тайна не кончается.
Что такое шедевр? Кому подражал автор картины "Опять двойка"? Умел ли Пикассо рисовать? В этом году журнал "Лучик" рассказывает о самых значительных направлениях искусства XX века: кубизм, футуризм, дадаизм, сюрреализм, концептуализм, минимализм, наивное искусство.
https://zen.yandex.ru/media/luchik/razgadka-neizvestnoi-5c768f46317b9c00b411d4f
|
Метки: мир живописи |
Сверчков переулок: пока муж производил тонны карамели, Агриппина родила 22 ребенка |
Сверчков переулок: пока муж производил тонны карамели, Агриппина родила 22 ребенка
У Алексея Ивановича Абрикосова в жизни было два главных дела: кондитерское и семейное. И хотя в первом продукция исчислялась тоннами карамели и шоколада, расходящимися по всей России, 10 сыновей и 12 дочерей, родившихся в долгом и счастливом браке с Агриппиной Александровной, были, пожалуй, важнее.
Началась вся эта сладкая история с пензенского крепостного Степана, сына Николаева, в 1804 году получившего вольную, открывшего в Москве небольшую лавочку и продававшего там собственноручно сваренную пастилу и варенья. То ли он сам поменял фамилию на более благозвучную, то ли сыновья озаботились, но так возникла славная династия Абрикосовых.
Кондитерская фабрика Абрикосовых
Алексей Иванович дело деда продолжил, да еще и расширил — женившись в 1849 году на дочери табачного фабриканта и получив целых пять тысяч в приданное. В 1879 году в Сокольниках была построена кондитерская фабрика, а чуть позже учреждено «Фабрично-торговое товарищество А.И. Абрикосова сыновей». Масштабы были нешуточные: 1900 работников, 4 000 тонн карамели, шоколада, конфет и бисквитов в год. В ассортименте было более 700 наименований, например, известные нам «Гусиные лапки». В 1899 году товариществу было пожаловано почетное звание «Поставщик двора его Императорского Величества».
Алексей Иванович и Агриппина Александровна
А теперь о втором деле — семье. Здесь тоже масштабы впечатляли. 22 ребенка! Первого, сына Николая, Агриппина родила в 18 лет. Через год – дочку Анну. Последний ребенок родился, когда ей было 46 лет. Так что тема рожениц и детей ей была весьма близка. Она была попечителем Морозовской детской больницы, открыла детский сад при фабрике своего мужа, а в 1889 году – первую лечебницу для женщин. Называлось это заведение – «Бесплатный родильный приют и гинекологическая лечебница с постоянными кроватями Агриппины Александровны Абрикосовой в Москве». В конце жизни она завещала: на 100 тысяч рублей ее наследства должен быть открыт родильный дом. И роддом построили на Миусской площади. (Он был закрыт в 2012 году).
Семье требовался простор, и в 1865 году Алексей Иванович приобретает дом в Малом Успенском переулке (теперь Сверчковом) – бывшие белокаменные палаты боярина Сверчкова (№ 8). Те самые, со двора которых был свой, личный вход в Церковь Успения Божией Матери на Покровке.
Хрисанф Абрикосов, «Семейная хроника»:
В одном из центральных тихих переулков Москвы почти все дома принадлежали дедушке и почти вся семья жила в этом переулке. В центре находился старинный особняк, окруженный садом и двором с надворными постройками, в котором жили дедушка и бабушка, сначала с неженатыми сыновьями и незамужними дочерьми, а затем вдвоем с многочисленной прислугой.
Действительно, позднее Алексей Иванович купил здесь также дом № 5 и дом № 6 в Большом Успенском (Потаповском) переулке — палаты Гурьева. Жилой дом Абрикосовых был и возле фабрики, на Малой Красносельской улице, а еще — особняк на Остоженке. Если учесть, что на золотой свадьбе Абрикосовых в 1899 году было более ста детей, внуков, правнуков, их мужей, жен и т. д., - это не так уж много.
В 1918 году фабрика была национализирована. В 1922 году ей присвоили имя председателя Сокольнического райисполкома Петра Бабаева. После революции большая часть Абрикосовых осталась в России. К 21 веку в Москве проживало около 150 потомков Алексея Ивановича. Его сын Алексей Алексеевич издавал журнал «Вопросы философии и психологии». Внук Хрисанф Николаевич стал личным секретарем и доверенным лицом Льва Толстого. Внук Дмитрий Иванович был одним из последних дипломатов Российской империи в Японии. Его брат, Алексей Иванович, известнейший патологоанатом, занимался бальзамированием тела Ленина. Правнук Алексей Алексеевич - лауреат Нобелевской премии по физике.
Палаты Сверчковых сохранились, отреставрированы. Красный с белыми пышными наличниками дом напоминает свежий тульский пряник.
https://zen.yandex.ru/media/moscowstories/sverchko...benka-5c73cdf5ed8b1500b361529d
|
Метки: купечество абрикосовы москва |
Как племянник А.П. Чехова покорил Голливуд |
Как племянник А.П. Чехова покорил Голливуд
В 1895 году Антон Павлович Чехов писал о своём четырёхлетнем племяннике: "Миша – удивительный мальчик по интеллигентности. В его глазах блестит нервность. Я думаю, что из него выйдет талантливый человек". Так и получилось: Михаил Чехов стал величайшим актёром, покорил Голливуд, снялся у Хичкока, был номинирован на "Оскар" и даже создал собственную систему актёрской игры, конкурировавшую с методом Станиславского.
Михаил Чехов. 1928 год.
Михаил Чехов был сыном публициста Александра Чехова – старшего брата Антона Павловича.
В 1907 году Михаил Чехов поступил в театральную школу, после окончания которой стал работать в Московском Художественном театре Станиславского и Немировича-Данченко – одном из самых модных и "прогрессивных" театров того времени. В 1913 году начал сниматься в немом кино (одна из первых его работ в кинематографе – роль царя Михаила Фёдоровича Романова).
В 1914 году Михаил Чехов женился на Ольге Книппер – племяннице жены Антона Павловича (которую в девичестве также звали Ольга Книппер). Брак, однако, продлился всего три года.
Супруга Михаила Чехова тоже войдёт в историю – как актриса, режиссёр и одна из главных звёзд Третьего рейха. Об этом, впрочем, мы скоро расскажем в отдельной статье.
Работая со Станиславским, Михаил Чехов тщательно изучал его систему актёрской игры. В 1918 году Чехов даже открыл собственную театральную студию, где с одобрения Станиславского преподавал основы его метода.
Карьера Чехова долгие годы складывалась весьма успешно: он много играл в театре и кино (особенно прославился своим исполнением роли Хлестакова в спектакле "Ревизор"), преподавал и писал книги по теории сценического искусства. Однако к 1928 году в его жизни накопилось множество проблем: обстановка в театре накалялась из-за конфликтов внутри труппы, Чехова преследовали недуги и периодические приступы депрессии. В 1928 году он уехал в Германию на лечение – и больше не возвращался в Россию.
В Европе Михаил Чехов продолжал играть в кино и в театрах, а также ставил спектакли как режиссёр. Среди прочего в 1929 году он снялся в главной роли в фильме "Шут своей любви", режиссёром которого выступила его бывшая жена Ольга Чехова, к тому моменту тоже поселившаяся в Германии.
В 1936 году он открыл собственную театр-студию в Великобритании. Наконец, в 1939 году он вместе с большей частью учеников перебрался в США, где его студия – "Театр Чехова" – продолжила работу.
Поскольку в Америку Чехов приехал уже будучи знаменитым европейским актёром и режиссёром, на него вскоре обратили внимание в Голливуде. В 1940-е годы он снялся в нескольких фильмах. Самой успешной работой стала роль в ленте "Заворожённый" Альфреда Хичкока. Картина создавалась при участии Сальвадора Дали, а главную женскую роль в ней исполнила прекрасная Ингрид Бергман. Михаил Чехов сыграл психиатра Александра Брюлова – и за эту роль в 1946 году был номинирован на Оскар как лучший актёр второго плана.
В дальнейшем Михаил Чехов нечасто появлялся в кино – вместо этого он сосредоточился на преподавании и разработке собственного теоретического учения об актёрском мастерстве. Свою систему он изложил в книге "О технике актёра". В целом в своём учении он опирался на метод Станиславского, однако постарался развить его и в изменить подход к некоторым актёрским техникам. Среди учеников Михаила Чехова были Мерилин Монро и Клинт Иствуд. В 1977 году актриса Беатрис Стрейт, получившая премию "Оскар", в благодарственной речи упомянула своего учителя Михаила Чехова, который "привил ей любовь и уважение к театру".
Скончался Михаил Чехов в 1955 году в возрасте 64 лет в Калифорнии.https://zen.yandex.ru/media/virmagnus/kak-plemiann...livud-5c0c27df9c61f000aaf6a402
|
Метки: театр литераторы книппер чеховы |
Человек чести и пользы. Очерк |
Человек чести и пользы. Очерк
Честь – это награда, присуждаемая за добродетель.
Аристотель
Быть полезным – это обязательство, которое человек принимает на себя при рождении и от которого самая смерть не избавляет его.
П. Буаст
ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ И ПОЛЬЗЫ
ПРЕДИСЛОВИЕ
Как известно, литературные традиции Курского края вообще уходят вглубь веков. Куряне по праву считают своего земляка преподобного Феодосия Печерского (ок.1008-1074), проведшего детские, отроческие и юные годы в Курске в первой половине XI века, не только основателем Киево-Печерской лавры и основоположником монашеского общежития на Руси, но и одним из первых книжников и литераторов нашего Отечества. С полным основанием гордятся они и другими земляками Сильвестром Медведевым (1641-1691) и Карионом Истоминым (ок.1650-1717), родившимися в Курском крае в середине XVII века и волею провидения оказавшимися у истоков просвещения, а также отечественной поэзии и поэтики.
Не пройдет и век, как эстафету от них примут подвижники историко-публицистической прозы как Иван Иванович Голиков (1735-1801) и Григорий Иванович Шелихов (1747-1795). Первый напишет и издаст тридцатитомное собрание сочинений о деяниях Петра Великого, а второй опишет свои путешествия к берегам Америки. Вслед за ними во весь голос заявят о себе представители дворянского рода Марковых – публицисты, краеведы, прозаики Владислав Львович (1831-1905), Евгений Львович (1835-1903), Лев Львович (1837-1911), Ростислав Львович (1849-1912) и Николай Петрович (1834-1895).
Ближе к нашему времени Курская земля дала стране таких тружеников художественного слова как Валериан Александрович Волжин (1845-1919), Юрий Николаевич Говоруха-Отрок (1850-1896), Дмитрий Алексеевич Абельдяев (1865-1917), Валериан Валерианович Бородаевский (1874-1923), Пимен Иванович Карпов (1886-1963), Николай Николаевич Асеев (1889-1963), Вячеслав Александрович Ковалевский (1897-1977), Аркадий Петрович Гайдар (Голиков) (1904-1941), Михаил Исидорович Козловский (1909 – 1974) и ряд других.
Наибольших же высот в послевоенный период развития Отечества на литературном поприще достигли такие мастера слова как Николай Юрьевич Корнеев (1915-2001) – в поэзии, Константин Дмитриевич Воробьев (1919-1975) и Евгений Иванович Носов (1925-2002) – в прозе, а также Василий Семенович Алехин (1925-2006) – в прозе и поэзии. Кроме того, что они родились на Курской земле и были талантливыми писателями, их объединяет также участие в Великой Отечественной войне и раны, полученные в боях с фашистскими захватчиками. Пройдя закалку духа на полях сражений, они и на литературном поле были в первых рядах бойцов за духовное и культурное воспитание соотечественников. При этом Корнеев и Носов не позарились на столичные хлеба и открывающиеся перспективы, хотя их туда настойчиво приглашали, а трудились все годы творческой жизни на Курщине.
В постперестроечное время курская писательская организация (КРО СПР) в своих рядах насчитывает более пятидесяти писателей, родившихся на Курской земле. Среди них такие известные прозаики как Михаил Николаевич Еськов, Николай Иванович Гребнев, Борис Петрович Агеев, Геннадий Николаевич Александров, а также поэты Алексей Федосеевич Шитиков, Юрий Александрович Асмолов и многие другие, вставшие на литературную стезю при советской власти.
И тут возникает вопрос: а как выглядит литературная карта области? Какие районы не «поскупились» на своих представителей для общего «урожая» литераторов края? По-прежнему ли ходят в лидерах Льговский, Щигровский и Рыльский районы, давшие краю и стране таких ярких представителей пишущей братии как вышеназываемые Г.И. Шелихов, П.И. Карпов, братья Марковы, Асеев и Гайдар? Или появились новые?..
Известно, что такие современные административно-территориальные структуры как районы появились в 1928 году, сменив уезды, на которые прежде делилась Курская губерния. Они стали не только «моложе» по возрасту, но и меньше по территориальности. В некоторых, например, Льговском, Рыльском, Дмитриевском, Щигровском, Фатежском и ряде других, где исторические корни уходили в более чем вековую уездную систему, культурные, в том числе и литературные, традиции продолжились на прежней основе; а в других, только что образовавшихся – Хомутовском, Кореневском, Глушковском, Конышевском и прочих «новоделах» – приходилось начинать буквально с нуля.
Даже беглый анализ показывает, что Льговский и Рыльский районы остались верны своим традициям и дали краю новых представителей литературного сообщества. Например, в Льговском районе родились поэт Александр Васильевич Селезнев, писатель-краевед Михаил Семенович Лагутич и известный в стране прозаик Борис Петрович Агеев; в Рыльском – поэты Николай Юрьевич Корнеев и Надежда Михайловна Жукова, прозаик Анна Игнатьевна Галанжина. Но и «молодые» районы Курской области не пожелали оставаться в тени своих старших собратьев. Так в Глушковском родился прозаик Николай Иванович Дорошенко, секретарь правления Союза писателей России; в Золотухинском – поэт Алексей Федосеевич Шитиков; в Пристенском – известный в стране прозаик Михаил Николаевич Еськов; в Советском – поэт и прозаик Иван Федотович Зиборов; в Железногорском – прозаик и краевед Геннадий Николаевич Александров. В итоге – почти в каждом районе области появились свои представители литературного поля, если не писатели, то довольно известные литераторы. Появились они и на малой родине автора этих строк – в Конышевском районе. И первым был родившийся в деревне Панкеево Льговского уезда (ныне Панкеево входит в Конышевский район) Валериан Александрович Волжин (1845-1919), «патриарх» дореволюционной литературы, автор трех романов, десятка повестей и множества рассказов. Именно он, по большому счету, своим уверенным стартом во второй половине XIX века задал ритм литературной эстафете, продолжающейся и по сей день. А писательскую эстафетную пралочку у него подхватил довольно популярный с пятидесятых годов в Оренбуржье поэт, прозаик, драматург Алексей Михайлович Горбачев (1919-1997), родившийся «в соседнем» селе Шустово.
К сожалению, и В.А. Волжин, и А.М. Горбачев малоизвестны не только в Конышевском районе – на своей малой родине, – но и в Курской области.
ЧЕЛОВЕК ЧЕСТИ И ПОЛЬЗЫ
Современная деревня Панкеево, входящая в Захарковский сельский совет Конышевского района Курской области, ничем примечательным не выделяется от десятков таких же деревень и сел. Приютившись на холмистом правом берегу речки Прутище, потихоньку стареет остатками некогда большого и шумного населения, сокращается количеством подворий и территорией. Ничего не поделаешь, отрицательные демографические процессы на селе – грустные приметы нашего быстротекущего «всепожирающего» времени.
Сколько проживает в Панкееве сегодня жителей, утверждать не берусь, не подсчитывал. Но по статистическим данным за 2002 год, когда в стране проводилась перепись сельского населения, на территории Захарковского сельского совета (а это Захарково, Дремово-Черемошки, Панкеево, Тураевка и хутор Якимов) числилось 434 человека. В 2010 году – на сотню меньше.
Несколько иной картина выглядела в середине позапрошлого века, когда Панкеево относилось к Льговскому уезду курской губернии. Согласно данным, только в деревне Панкеево в 1862 году проживало 370 человек, а в 1890 году – и того больше – 434 жителя. Кстати, в уездном Льгове в 1862 году было всего лишь 325 дворов, в которых проживало 3131 человек. Но суть не в демографии, а в том, что в Панкееве родился будущий видный юрист и писатель Волжин Валериан Александрович. Почему слово «юрист» поставлено на первое место, а «писатель» на второе при определении профессиональной деятельности, так это просто: свою карьеру Валериан Александрович начал все же как юрист, а писательство – последующий продукт его юридической практики. Ведь большинство сюжетов для романов и повестей им взяты из настоящих следственных и судебных дел. Да и герои этих произведений – судебные следователи, судьи, прокурору, адвокаты и присяжные – во многих случаях явно «списаны» с его знакомцев.
Ныне имя этого земляка мало кому известно, но в конце XIX века оно было на слуху как у читающей публики, так и в среде российской интеллигенции. К сожалению, в данном случае полностью подтвердились его мысли о нашей короткой памяти: «Обидно и ужасно, что умерших пережившие их люди так быстро забывают в этом земном мире, как будто покойники никогда и не жили. Обидно и ужасно».
Эти слова с осознанием горькой истины людского беспамятства завершают написанные им и опубликованные в 1912 году, за несколько лет до своей кончины, мемуары, но актуальны и сегодня. И не только по отношению к нему. Они актуальны и по отношению ко всем нам: слишком быстро забываем своих предков и родовые корни, слишком быстро забываем людей, некогда живших с нами. И не потому, что злы или невежественны, а потому, что слишком обыденны…
Итак, будущий юрист и писатель Валериан Александрович родился 23 января (по-видимому, по старому стилю) 1845 года в деревне Панкеево Льговского уезда Курской губернии в семье обедневших столбовых дворян Волжиных, род которых, как отмечают некоторые исследователи, уходит корнями во вторую половину XVII века. Впрочем, известный курский краевед, журналист и общественный деятель А.А. Танков (1856-1930) в своей работе «Историческая летопись курского дворянства» среди детей боярских Рыльской десятины за 1632 год упоминает Василия Волжина, которому из государевой казны за службу ратную на кормление дается 1528 рублей (деньги огромнейшие!) и Ивана Ивановича Волжина. Ивану Ивановичу выдаются «дворовые деньги из чети (750 четей по 34 рубля) и он обязывается «быть на коне в саадаке, да человек на мерине с вожжою и пищалью и с простым конем, да человек на мерине с длинной пищалью». (Десятня – в XVII веке списочный состав служивых городовых дворян и детей боярских; четь – четверть, четвертая часть, конкретно – земельный надел в несколько четей). Среди «сотоварищей» Волжиных А.А. Танковым указываются дети боярские и дворяне Кусаковы, Булгаковы, Стремоуховы – в будущем известные помещики Льговского уезда. А директор Конышевского районного краеведческого музея Сергей Николаевич Челенков вообще называет 1577 год, когда впервые «засветилась» фамилия (или прозвище) дворян Волжиных в документах Российского государства. Указание на появление рода Волжиных в XVI веке есть и в шестидесятистраничной работе Д.Ю. Мурашова «Забытое имя: Валериан Волжин». Мурашов пишет, что основателем рода является некто «Богдан Ефстафьевич Волжин, потомки которого владели поместьями в Коломенском уезде еще в XVI веке». В середине XIX века несколько помещиков с данной фамилией проживали в соседнем Дмитриевском уезде, в том числе в селах Береза и Сныткино. Немало их проживало, как отмечают исследователи, и в центральных губерниях России. Кстати, первой супругой писателя Максима Горького была Екатерина Павловна Волжина (1876-1965). Да и в Льговском уезде по статистическим данным о населенных пунктах Курской губернии за 1862 год значились селения Волжинский Бобрик, хутор Волжин, Волжинское и другие, прямо указывающие на бывшую владельческую принадлежность помещикам Волжиным.Так что род Волжиных был довольно известным, а фамилия – распространенной.
Сам же Валериан Александрович о родословных корнях писал так: «Мои предки были богаты, некоторые служили кавалергардами и владели многими имениями. А я – ныне уже безземельный потомок старинного и обедневшего дворянского рода, но и теперь мои племянники ведут хозяйство в имениях Льговского уезда».
В некоторых справочниках местом рождения будущего юриста и писателя указано село Панкеево. Но, село, как известно, отличается от деревни наличием в нем церкви. А по данным за 1862 год церкви в Панкееве не отмечено. Следовательно, этот населенный пункт не только в наше время имеет статус деревни, но и в те пореформенные годы был деревней. В пользу данной версии также говорит и такое обстоятельство: ближайшие к Панкееву поселения – Захарково (в 3-4 километрах) и Ольшанка (через речку Прутище) были селами и имели деревянные церкви. (По данным курского писателя и краеведа Михаила Лагутича Троицкая церковь в Ольшанке была построена в 1843 и закрыта в 1940 году). Поэтому в мемуарах писателя Панкеево для благозвучия названо сельцом, а не селом. Впрочем, возможно, в 40-х годах XIX века в Панкееве и имелась небольшая деревянная церковь, но к 60-м прекратила свое существование… На Руси всякое бывает…
Александр Волжин, отец писателя, участвовал в войне с Наполеоном 1812-1814 годов, имел чин отставного офицера и воинские награды. Мать происходила из рода Боборыкиных, довольно известного в писательских и театральных кругах Российской империи. Кроме Валериана, в семье Волжиных родилось два сына (Александр и Николай) и, по-видимому, две сестры. Старшим среди братьев был Александр, среди сестер и братьев – Анна.
Как отмечают исследователи, родители Вениамина Александровича были весьма образованными людьми того времени. Мать знала несколько европейских языков, играла на фортепиано, замечательно пела романсы и народные песни. И, как все провинциальные дворянки, занималась ведением домашнего хозяйства, заготавливая вместе с дворовыми девками варенья и соленья на зиму, а ради удовольствия – «баловалась» вышиванием и чтением книг. Отец также знал иностранные языки и имел склонность к музыцированию – играл на скрипке и фортепиано. Время от времени выезжал в уездный Льгов, расположенный в восемнадцати верстах от Панкеева, чтобы поучаствовать в заседаниях уездного дворянства и на балах. А подобно многим помещикам той поры, содержал певчий хор из крепостных крестьян. Об этом в своих воспоминаниях и в автобиографической повести «Перед эпохой освобождения» позже напишет Волжин, упомянув про «дом с хорами для музыки в сельце Панкеево», стоявший на взгорье. А еще отец писателя занимался садоводством, охотой и рыбной ловлей. Слыл знатным хлебосолом и книголюбом, так как в имении Волжиных, часто собирались гости – родственники, помещики из ближайших селений, уездные чины и священнослужители – слушали музыку, обсуждали литературные новинки, прогуливались по липовой аллее и по ухоженному саду, любовались окрестностями. А в зимнюю пору, по-видимому, занимались охотой на зайцев, лис и волков, скача на лошадях и натравливая на след зверя громкими криками охотничьих собак.
Ни «дома с хорами для музыки», ни барского сада, ни даже липовой аллеи до наших дней в Панкееве, к сожалению, не сохранилось. Время и люди постарались все стереть и уничтожить… Но как это было в годы детства Вениамина Александровича, можно узнать, прочтя его мемуары в 7 и 8 номерах журнала «Исторический вестник» за 1912 год или повесть «Перед эпохой освобождения».
«Заурядное по постройкам сельцо Бобровка (так в авторской интерпретации названо Панкеево – Н.П.) расположилось в красивой местности, на меловых горах, на границе с «хохлацкими» деревнями, – пишет Вениамин Волжин о месте его рождения и детства в автобиографической повести. – По ту сторону речки и пруда, с луговиной и пашней, видно сельцо Ольшанка, и здесь среди крестьянских построек и деревьев, почти на горизонте, выделяются своей колокольней церковь и трубы сахарного завода». Таков первый вариант описания Панкеева. А во втором описание родных мест после фразы о заурядном сельце на границе с «хохлацкими» деревеньками выглядит так: «У подошвы этих гор извивается по сенокосному болоту речка с обширным, наподобие озера, прудом. При выезде – длинная гать, обсаженная ракитами, мельница старинного немудреного устройства, и сделанная их хвороста и навоза плотина, или – как здесь говорят – «гребля», которую почти ежегодно прорывает полая вода».
Село Ольшанка Льговского района, расположенное на левом берегу Прутища, существует и поныне, а вот труб сахарного завода и самого сахарного завода уже нет. Но еще в конце XIX века на картах Курской губернии рядом с Панкеево помечался населенный пункт с названием «Сахар». О сахарном заводе помещика Панина в Ольшанке, опираясь на работы архивистов А. Бочарова и А. Травиной, сообщает М. Лагутич в своей книге «Провинциальная хроника». Но «рождение» этого сахзавода относит к 1860 году, то есть к отроческим годам будущего писателя. Впрочем, вернемся к описания усадьбы Волжиных.
«Усадьба на горе, а под горою речка с постоянно зараставшим у плотины прудом, зеркальная поверхность которого обыкновенно целыми полосами или огромными простынями струилась и серебрилась при свете как бы медленно плывущего по небу месяца; обширный сад со старинными липовыми аллеями и всякими фруктовыми деревьями…»
В этих строках не только описание деревни и имения родителей, но и бесхитростная сочность волжинского слога, стиль его письма, образец художественного слова. Так как вспоминания или повесть «Перед эпохой освобождения» написаны в годы житейской и литературной зрелости, то эти строки как ничто лучше передают все нюансы его зрелого писательского мастерства.
До рождения детей родители Валериана Александровича, по его собственным воспоминаниям, владели «тремя сотнями крепостных душ». Но к отмене крепостного права их владения значительно сократились. И данный факт, как уже отмечалось выше, был констатирован Валерианом Александровичем в мемуарах. А С.Н. Челенков сообщает, что по 9-й ревизии в 1949 году за малолетним Волжиным в Панкееве числилось 78 душ мужского пола, а за его братом Александром – 59 в сельце Николаевское (Николаевка).
Когда дети стали подрастать, то в домашних условиях их стали обучать грамоте, иностранным языкам, музыке и рисованию. Частично в роли учителей выступали сами родители, но в большей мере это делали приглашенные со стороны учителя. Вот так курский писатель, ученый и краевед Юрий Александрович Бугров, со ссылкой на воспоминания самого Вениамина Александровича, пишет о приходе в дом Волжиных учителя музыки: «…А учитель из семинаристов Афанасий Кириллович приходил в этот дом с изразцовыми печами и играл на скрипке. И встревоженные музыкой и не признававшие искусства галки носились над домом». Надо полагать, носились не просто, а с дикими криками, неимоверным гвалтом и шумом.
Сам же Валериан Волжин в мемуарах о домашнем обучении высказывается с легкой иронией: «…мое детство прошло с братьями и сестрами, когда в деревенском доме у нас проживали какие-то гувернантки и появлялись иногда какие-то педагоги, немногому нас научившие, и материны экономки и компаньонки, а вернее – приживальщицы. Тогда учили нас по-старинному, и мы кое-как болтали по-французски».
Научившись читать и писать, Валериан, по его же воспоминаниям, часто «заглядывал» в библиотеку отца и брал «из огромных красных шкафов» книги И. Лажечникова, А. Дюма, Е. Сю, Ф. Купера, Д. Дефо и других авторов, писавших приключенческие романы. Начитавшись, выходил в сад и, пробравшись в самые тенистые места, «где была точно лесная глушь», предавался полету «деятельной фантазии».
У Александра, старшего брата Валериана, называемого в мемуарах «братом-неудачником» и «музыкантом-самоучкой», уже в раннем детстве проявились способности к музыке и сочинительству стихов. В будущем им будет сочинено около трехсот романсов, но опубликовать их ни самому Александру Александровичу, ни Валериану Александровичу так и не удалось. Юный Валериан, во многом подражавший старшему брату, также стал писать стихи уже в девятилетнем возрасте. Что это были за вирши, теперь судить сложно. Они не дошли до нашего времени. Возможно, что стихи – всего лишь детское подражание поэзии Жуковского, Пушкина, Баратынского, Языкова, Вяземского, Майкова и других отечественных авторов, творчество которых было широко известно просвещенным слоям России.
Младший брат Николай, как отмечают многие исследователи, «очень хорошо рисовал с натуры». Кстати, Николай Александрович, согласно русской традиции младшему из сыновей оставаться с родителями до их кончины, и унаследовал имение родителей. Это о его детях, своих племянниках упоминает в мемуарах Валериан Александрович.
А их сестра Анна Александровна, достигнув соответствующего возраста, увлеклась сочинительством дамских сентиментальных романов и повестей. Позже, по рекомендации Льва Толстого, она, будучи уже классной дамой Александро-Мариинского института, опубликовала «лубочную повесть» «Ведьма и Соловей-разбойник» (около 1887 г.). И таким образом вошла в сообщество русских женщин-писательниц второй половины XIX века, среди которых наиболее известны Панаева Авдотья Яковлевна (1820-1893), Хвощинская Надежда Дмитриевна (1824-1889), Ковалевская Софья Васильевна (1850-1891), Шапир Ольга Андреевна (1850-1916) и Дмитриева Валентина Иововна (1859-1947).
Когда Валериану Александровичу пришла пора продолжить обучение в гимназии, то, согласно данным Ю.А. Бугрова, умер его отец. Бугров пишет: «После смерти отца будущий писатель был определен в подготовительный класс Курской гимназии, которую окончил в числе лучших учеников». Однако ни Бугров, ни другие исследователи даты поступления Валериана Волжина в Курскую мужскую гимназию не указывают.
Курская мужская классическая гимназия под патронажем Харьковского университета образована 23 февраля 1808 года на основании указа императора Александра I от 24 января 1803 года о «Предварительных правилах народного просвещения». Предшественницей гимназии стало Главное народное училище, основанное в 1786 году (при императрице Екатерине II). Учебные корпуса гимназии, возведенные на средства курского дворянства и купечества, находились рядом со Знаменским кафедральным собором.
Первоначальный преподавательский штат гимназии был невелик – всего 9 учителей. Но диапазон предметов, которые предстояло «осилить» гимназистам, был весьма широк. Это, как сообщает признанный знаток и деятель высшего педагогического образования А.С. Амоскин, закон Божий, математика, физика, история, география, философия, политэкономия и статистики. В курс обучения входило изучение иностранных языков – латинского, немецкого и французского, а также рисование, пение и гимнастика. Последние относились к «изящным наукам».
С 1834 года штат преподавателей был увеличен до 11 человек, а курс – с 5 до 7 классов. Постоянно росло число гимназистов. Если в 1809 году их было 55, то уже в 1811 – 78. А после отмены крепостного права ежегодный рост количества учащихся мужской гимназии был таков, что в 1911 году там обучалось уже 626 человек. При этом социальный спектр обучающихся выглядел следующим образом: 141 – дети потомственных дворян, 154 – дети мелких дворян и чиновников (разночинцев), 76 – дети купцов и почетных граждан, 97 – дети мещан и цеховых работников, 78 – дети крестьян.
Но в предреформенные годы количество гимназистов едва доходило до сотни-другой человек, а социальный слой был очень узок – дети дворян, купцов первой гильдии да, возможно, разночинцев. Впрочем, это не мешало курской мужской гимназии, по мнению Амоскина, быть среди лучших учебных заведений данного класса по Харьковскому округу. В 1859 году ее посетил император Александр II.
С большой долей вероятности можно предположить, что во время этого посещения гимназии императором Валериан Волжин еще не был гимназистом. Если бы он уже находился в Курске и обучался в гимназии, то не упомянуть в мемуарах такой заметный факт в жизни города и гимназии просто не мог. Впрочем, в его воспоминаниях и автобиографической повести много чего не упоминается: нет имени и отчества матери, которую он называет «талантливой», нет отчества отца, нет имени младшей сестры (возможно, Марии, 1948 года рождения).
О своем поступлении в Курскую мужскую гимназию Волжин в мемуарах сообщает так: «Когда умер мой отец, мать отвезла меня в Курск и поместила на хлеба к учителю истории А.М. Белозерову. Подготовившись у него, я поступил в первый класс гимназии и щеголял в мундире с красными или говяжьими, как тогда острили, воротниками». И несколько ниже упоминает о сестре Анне: «А старшая сестра Анюта проживала тогда в курском аристократическом пансионе некой француженки Луизы Ивановны де-Вик». Самого же Валериана поместили в «дворянский пансион при гимназии, когда там директорствовал Д.Г. Жаворонков».
«Директорство» в Курской мужской гимназии Даниила Григорьевича Жаворонкова (1819-1901), согласно исследованиям А.С. Амоскина, приходится на 1861-1890 годы. А до этого времени с 1852 года он занимал должность директора народных училищ Курской губернии. Следовательно, пусть и не совсем точная, но все же весьма крепкая «зацепка» о времени нахождения Волжина в гимназию имеется: это 1861 год. И было Валериану в ту пору около 13 лет. Если принять во внимание, что полный гимназический курс обучения к рассматриваемому периоду составлял «семь классов», то Курскую гимназию он окончил в возрасте около 17-18 лет. И пришлось это знаковое в жизни будущего писателя событие на 1864 или 1865 год.
О годах учебы в гимназии и губернском Курске Волжин сообщает очень сдержанно и с налетом явного негатива. Впрочем, сдержанность – его стиль изложения мемуаров.
«В то время достопримечательностями Курска для нас, школьников, были: лазаретный сад, превосходная кондитерская Левашевича, конкурирующая с кондитерской Пфистера, и архиерей, служивший в мужском (Знаменском – Н.П.) монастыре, в раззолоченной митре… – пишет он в мемуарах о Курске того времени. – А ученье в курской гимназии, уваровского типа, было все-таки поставлено плохо. Надзиратели и некоторые учителя, по традициям, еще драли учеников за уши, сажали в карцер и оставляли без обеда».
Если оставить на время обучение Волжина в гимназии в «покое» и вернуться к губернскому Курску, то мы должны заметить, что не только лазаретный сад и кондитерские с архиереем были единственными «достопримечательностями» города. В нем, без учета Казацкой, Пушкарной, Стрелецкой и Ямской слободок, проживало около 37 300 человек, а со слободками – более 55 тысяч. С 1792 года имелся театр, позже появились типография, госпиталь, больница, аптеки, несколько училищ (в том числе 2 для девочек), издавались газеты, печатались книги. В городе, хоть и с большими потугами, начала развиваться промышленность. Решался вопрос о строительстве железной дороги. А уж церквей было не менее десятка.
Возвращаясь к Волжину и его обучению в Курской гимназии, стоит отметить, что не все преподаватели допускали жесткость в обращении с учениками. Были и интеллигентные и очень эрудированные учителя, которые старались дать подопечным не только «прописанные в инструкциях знания», но и сверх всяких инструкций. Об этом пишет и сам Валериан Александрович, положительно отзываясь об учителе отечественной и мировой истории Я.К. Бален-де-Балю, о преподавателе словесности и русского языка И.М. Назарове и Н.В. Сибилеве.
О Назарове он сообщает то, что именно этот преподаватель русского языка, обучая Валериана и его товарищей в 4-м классе, дал задание написать сочинение на вольную тему. Валериан написал о родном имении и о том, как «галки стаями поднимались над домом» от музыки Афанасия Кирилловича. За данное сочинение Назаров поставил «пять с плюсом» и, возвращая работу, долго и пристально смотрел на способного к сочинительству гимназиста, словно вопрошая себя самого: «И что же это за гусь?!»
А еще Волжин отмечает, что во время учебы в гимназии он читал книги Чарльза Диккенса, Вальтер Скотта, Теккерея, Гоголя, Белинского, Буслаева и других авторов. А вот дружбы с «однокашниками» не водил. Упоминает лишь некого М.М. Войнова, с которым «с успехом состязался» во время дискуссий и который впоследствии стал «известным профессором Московского университета».
Заканчивая курский гимназический период жизни Валериана Александровича, стоит отметить, что в разные годы Курскую мужскую классическую гимназию Харьковского округа окончили люди, ставшие известными в нашей стране. Это С.А. Лавочкин (1900-1960) – известный авиаконструктор, создавший самолеты ЛА-5, ЛА-7, академик В.В. Алехин (1882–1946), а также другие деятели науки и культуры: В.П. Ветчинкин (1888–1950), А.А. Байков (1870–1946), Н.М. Дружинин (1886–1986), В.Н. Оболенский (1877–1942).
После окончания гимназии Волжин из Курска на гужевом транспорте, так как железную дорогу еще не построили (она будет введена в эксплуатацию только в 1868 году), в тряской колымаге добирался до Москвы. И там безо всяких протекций поступил в Московский университет на медицинский факультет. Но, проучившись год и поприсутствовав при вскрытии трупов, что им не раз отмечалось в воспоминаниях, перевелся на юридический. Свое решение о переводе он объясняет стремлением попасть на государственную службу, чтобы иметь стабильный заработок и обеспечивать не только себя, но и свою будущую семью. По крайней мере, он так пишет в мемуарах. А в автобиографической повести «Из воспоминаний следователя» перевод объясняет так: «Я приучился смотреть на вскрытие трупов… хотя сам еще не резал и не препарировал…» Впрочем, тут же добавляет, что «вместо того, чтобы исправно посещать анатомический театр, я бегал из любопытства по чужим факультетам и интересовался лекциями по ботанике, психологии и другим предметам, до которых мне, в сущности, не было никакого дела. А еще больше… меня интересовали московские театры, магазины и вечное движение на главных улицах». А в следующем абзаце уже прямо сообщает о причинах оставления медицинского факультета: «Затем явилось сомнение: а что, если я вместо пользы принесу вред? И как это я буду обирать больных?..»
Середина 60-х годов в России ознаменовалась не только важными государственными реформами, например, земской и судебной, но и нарастающим революционным движением, в котором активное участие принимали студенты. Однако Валериан Александрович, как и ранее в гимназии, так и в университете, от революционных кружков старается держаться подальше и налегает со всей ответственностью на учебу. Что он позволяет себе кроме учебы – это посещение театра. О самом университетском периоде в мемуарах особо не распространяется, сообщает лишь, что приходилось трудно в материальном плане. Отсюда – подрабатывание частным репетиторством. А как положительный момент, отмечает преподавательскую деятельность профессоров Б.Н. Чечерина, С.М. Соловьева, Н.И. Крылова и ряда других.
К этому стоит добавить, что в данные годы на юридическом факультете Московского университета одновременно с Волжиным учились и такие личности, как сын Н.С. Мартынова, убившего на дуэли Лермонтова, Сергей Мартынов и князь из рода Рюриковичей – Андрей Дмитриевич Оболенский. Но ни с одним, ни с другим Волжин дружбы не водил и в приятелях не состоял.
Описывая университетский период жизни Валериана Александровича, Дмитрий Мурашов, опираясь на воспоминания самого «героя» исследования и его автобиографические повести, пишет: «Обучаясь в Москве, Волжин жил впроголодь. Больших денег у него не водилось. На жизнь зарабатывал, давая домашние уроки. Неполноценное питание привело к снижению иммунитета и болезни глаз – блефариту».
В 1870 году, согласно исследованиям Мурашова, наш земляк окончил Московский университет. И после недолгого (в несколько месяцев) пребывания в имении родителей, которым теперь (по-видимому, после смерти матери) владел его младший брат Николай, Валериан Александрович, подлечившись, отбыл в город Орел в Окружной суд. Там на первых порах ему пришлось выступать в роли защитника. Однако первое дело новоиспеченного адвоката, защищавшего рецидивистов, неожиданно сознавшихся в инкриминируемом им преступлении, было проиграно. Но «защитительная» речь Волжина настолько понравилось тогдашнему председателю Окружного суда Н.Ф. Христиановичу, что «мэтр» предложил начинающему коллеге два пути: или стать помощником секретаря суда, или быть следователем одного из судебных участков. Волжин сделал выбор в пользу второго пути и стал судебным следователем Карачаевского и Брянского судов Орловской губернии.
С 1870 по начало 1872 года Валериан Александрович трудился в должности судебного следователя. Жил сначала в частной гостинице, а затем, когда стал получать жалованье, – на съемной квартире. В 1871 году встретил девушку из «благородной семейства», но в романтических делах потерпел фиаско. И дело до свадьбы не дошло. Эта неудача и последующие затем переживания в определенной мере способствовала тому, что он задался мыслью о переезде в другой город.
Следственная работа в орловском Окружном суде позволила ему обогатить свои знания психологией людей из разных социальных сословий, что впоследствии ляжет в характеристики героев его произведений. Кстати, среди героев произведений будет и Н.Ф. Христианович, большой друг поэта А.А. Фета. В повести «Из воспоминаний судебного следователя» он выведен под фамилией Филипповича, товарища председателя суда, доблестного служителя Закона и «человека с выдающимся талантом».
В 1872 году случай сменить город, в котором после неудачной попытки женитьбы, Волжин чувствовал себя неуютно, представился. В Орел по судебным делам прибыл высокопоставленный чиновник из Окружного суда Пензы. Он-то и пообещал Волжину более высокую должность и карьерный рост. Валериан Александрович принимает предложение и 4 марта 1872 года переезжает в Пензу. Решив вопрос с местом жительства, 24 марта он приступает к исполнению обязанностей должности секретаря при прокуроре Пензенской губернии. А по прошествии некоторого срока – и к самой должности секретаря.
Взявши себе за правило служить честно, с пользой для общества и во славу Отечества, Волжин в пензенском Окружном суде стал быстро подниматься по служебной лестнице. Если в 1872 году он был секретарем при прокуроре, то есть чиновником весьма низкого звена, то уже в 1875 году – титулярный советник и товарищ прокурора. (Титулярный советник – гражданский чин 9-го класса Табели о рангах, товарищ прокурора – заместитель прокурора, помощник). В 1878 году – коллежский асессор (гражданский чин 8-го класса, приравнивается к армейскому майору, в 1881 году – надворный советник (чин 7-го класса, подполковник). Кроме того, в период с 1880 по 1881 год систематически исполнял обязанности прокурора пензенского Окружного суда. Это говорит о высоком доверии к нему как губернатора, так и министра юстиции.
В 1882 году Волжин становится Членом пензенского Окружного суда и в этой должности пребывает до 1904 года, так как после 1889 года, когда ему присваивается чин статского советника (гражданский чин 5-го класса, приравнивался к генеральскому званию), никакого карьерного роста больше не происходит. Причиной тому – явное и открытое несогласие Валериана Александровича с политикой правительства по проведению контрреформ в судебной системе.
Но об этом несколько позже, а пока вернемся к личной жизни нашего земляка. В 1876 году он женился на дочери коллежского асессора Семенова – Марии Владимировне Семеновой, 1858 года рождения, по-видимому дальней родственнице известного в России путешественника, ученого и государственного деятеля П.П. Семенова Тянь-Шанского. Волжину было 28 лет, а его избраннице – 18. В 1877 году у них родился сын Александр, в 1879 – дочь Вера, в 1881 – Ольга и в 1883 – Надежда. Обзаведясь семьей, Валериан приобрел в Пензе собственное жилье.
Частые роды и слабое от природы здоровье, подорвали силы Марии Владимировны. И в 1890 году, когда ее сыну было только 13 лет, и он учился в Пензенской мужской гимназии, а младшей дочери всего лишь 7 лет, она умирает от чахотки. Сорокапятилетний статский советник Валериан Александрович тяжело переживает потерю любимой супруги. Ему одному (домашняя прислуга не в счет) приходится «поднимать и ставить на ноги» детей. И только тогда, когда сын Александр стал учиться на юридическом факультете Московского университета, а дочери – в Пензенской женской гимназии, Валериан Александрович решается на второй брак.
Во втором браке его супругой стала молодая женщина из дворянской семьи Елизавета Васильевна Шепунова. Она на пятнадцать лет моложе супруга. В приданое за нее дается небольшое имение возле Серпухова Тульской губернии. Имение находится в «красивом» месте на берегу Оки, и туда супруги выезжают во время отпуска Волжина. Возможно, о таких похожих окских местах так проникновенно позже писал Сергей Есенин:
Выткался на озере алый свет зари,
На бору со стонами плачут глухари…
Но всему этому в жизни Валериана Александровича Волжина предстоит еще быть… А пока весьма преуспевающий государственный служащий, дорожащий именем честного судьи и живущий только на чиновничий оклад; счастливый семьянин и начинающий писатель.
Первые статьи криминально-правовой тематики Волжина появились в 1882 журнале «Криминалист» и сразу же привлекли к себе внимание читающей публики, ибо были написаны не только на «злобу дня», но и ярко, и талантливо. «Опробовав перо» в «Криминалисте» и поднабравшись литературного опыта, начал сотрудничать и с другими газетами и журналами, в которых систематически печатал статьи и очерки. Среди печатных изданий, где публиковались работы Волжина – «Гласность», «Юридический вестник», «Московские ведомости», «Пензенские ведомости», «Русский вестник», «Вестник права», «Журнал гражданского и уголовного права», «Саратовский листок», «Судебная газета», «Новости», «Неделя», «Русский обозреватель». Довольно часто, как отмечают некоторые исследователи, особенно на начальном этапе творческой деятельности Волжин печатался под псевдонимами «В.В.» и «Захолустный судья». Позже, когда имя автора острых статей уже стало известно, стал публиковаться под собственной фамилией. А больше всего своих произведений – рассказов и повестей – он напечатал в журнале «Наблюдатель».
Литературная деятельность больших доходов не приносила, гонорары были небольшими и существенного прибавления в семейную копилку не делали. Впрочем, они тоже являлись подспорьем… Однако о новом авторе заговорили не только в провинциальной Пензе, но и в столице, куда Волжину приходилось время от времени наезжать по делам пензенского Окружного суда. Подкупали и красота слога, и стиль изложения, и правдивое, реалистическое изображение представителей различных сословий.
Воспитанный на классической литературе, в юности любивший читать рупор народничества – журнал «Отечественные записки», в разные годы руководимым такими замечательными личностями как А.А. Краевский, Н.А. Некрасов, М.Е. Салтыков-Щедрин, Г.З. Елисеевым, Волжин в своем творчестве продолжил лучшие традиции русских писателей. И хотя в его произведениях были факты криминальной жизни Пензы и ее окрестностей, но не кровавые сенсации и не щекочущая нервы детективная «клюква» стояли во главе угла произведений, а горький реализм той жизни общества.
В советское время весьма ценились произведения авторов дореволюционной России, Вспомним хотя бы «Буревестника» и «Мать» М. Горького, призывавшие к социальному бунту, к революционной борьбе. Волжин же, хоть ему и были близки идеи «легального народничества», «либерального народничества», к бунтарству, естественно, не призывал. Но в его произведениях так искусно вскрывались «гнойники» современного ему общества, так обостренно показывалась социальная несправедливость, так ярко прописывались уродства быта, что читатель поневоле задумывался над тем, как сделать мир добрее и светлее, а жизнь – достойнее.
К тому же Валериан Александрович, называвший себя довольно часто «чистейшим идеалистом», искренне считал, что в России надо строить «справедливое бессословное общество эволюционным путем, путем реформ «свыше», где все будут в одинаковой мере равны перед законом». Потому, когда в России после убийства императора Александра Второго в 1881 году заговорили об ужесточении законов и о контрреформах в судебной системе, то он открыто заявил о своем несогласии с инициаторами контрреформ. И уже в 1884 году в Судебной газете» печатает статью «Наши реформаторы», в которой нелицеприятно критикует статью сенатора Н.П. Семенова, ярого сторонника контрреформ, и бурно протестует против любых мер, ущемляющих действующее судопроизводство. Статья наделала много шума, но отрицательно на судьбе автора пока что не отразилась.
Так уж случилось, что первым отдельным изданием Волжина стала книга «Картинки из судебной жизни», опубликованная в 1891 году, то есть буквально через год после смерти супруги Марии Владимировны. Следом последовали небольшие повести «Из воспоминаний судебного следователя» (1892), «Чудак-благотворитель» (1893), «Бродяга» (1893), «Бабий бунт» (1893), «Наши тулуповцы» (1893), «Нищий чиновник» (1893), «Мать-преступница» (1894) и «Присяжные оправдали». Тут, как говорится, траур – трауром, а жизнь – жизнью. Несмотря ни на что, она продолжается…
И если ранее чаще всего он печатал свои рассказы и повести в журнале «Наблюдатель», то книги издавал уже в типографиях Суворина и Сойкина
В начале 1892 года вся прогрессивная Пенза была взбудоражена весьма важным событием – открытием Пензенской общественной библиотеки имени М.Ю. Лермонтова. Самое деятельное участие в открытии библиотеки принял и Волжин, опубликовавший в «Пензенских ведомостях» статью о столь важном в культурном отношении всей губернии событии. В конце 1892 года он вошел в состав попечительного совета и в правление библиотеки и находился там до 1897 года. Кстати, он был не только в числе попечителей и управленцев библиотеки, но и читателем, и дарителем своих книг – двухтомника статей на юридические темы «Закон и жизнь», «Картинки из судебной жизни», «Из воспоминаний судебного следователя», «Наши тулуповцы» и другие.
И тут встает вопрос: а на свою родину, брату Николаю и племянникам в Панкеево, он книги привозил или не привозил, присылал или не присылал?.. В Курской областной научной библиотеке имени Н.Н. Асеева, кроме его мемуаров в журналах «Исторический вестник» за 1912 год, ничего нет. Впрочем, зная любовь семьи Волжиных к книгам и литературе, можно предположить, что книги Валериана Александровича в Панкееве (а, возможно, и в Курске) были, но революционный вихрь 1917 года, смахнувший дворянские роды с обжитых мест, не пощадил ни их книги, ни их имения, да и саму жизнь многих из них…
С 1892 года Валериан Александрович был введен в члены Пензенского губернского статистического комитета (ПГСК) и только что образованной Пензенской губернской ученой архивной комиссии (ПГУАК). Это говорит о том, что интеллигенция провинциальной Пензы высоко ценила личностные качества и творческие успехи юриста и писателя Волжина.
Кстати, в Курской губернии ученая архивная комиссия (КГУАК) образована лишь 23 апреля 1903 года. И у ее истоков, как ни странно, стоял сам курский губернатор Николай Николаевич Гордеев (1850-1906) – «большой барин и вполне порядочный человек», по инициативе которого несколько позже был учрежден исторический и археологический (считай – краеведческий) музей. А вот в помощниках у него были курские чиновники и журналисты Николай Иванович Златоверховников (1865-1921), Анатолий Алексеевич Танков (1856-1936) и директор народных училищ И.И. Дубасов. К этому стоит добавить, что в 2015 году куряне, наконец, вспомнили о Н.Н. Гордееве и на стене «губернаторского дома» (ул. Дзержинского,70; ныне здесь наркологический диспансер) установили памятную доску.
Стремительный выход в свет книг Волжина принес ему не только славу плодовитого писателя, но и чиновничью зависть. И в 1894 году после появления в «Судебной газете» очередной большой статьи Валериана Алексеевича, направленной против судебных контрреформ, активно проводимых царским правительством с 1889 по 1893 год, на него ополчились высшие чины министерства юстиции. Юрист и писатель Волжин, уже находившийся в составе Комиссию по пересмотру законоположения по судопроизводству, был вызван в столицу, на «ковер» к министру юстиции Николаю Валериановичу Муравьеву (1850-1908). И, естественно, получил министерский «разнос», про который вспоминает в мемуарах.
«Отчитывая» генерала юстиции, министр не без злорадства упомянул, что будь статья какого-нибудь рядового юриста, а не известного писателя, на нее бы и внимания не обратили, а раз она написана человеком, пользующимся известностью в обществе, то и реакция соответствующая. Валериан Александрович молча перенес выпады министра, ибо спорить с «большим начальством» и в наше время – глупо и бесполезно – и остался в Комиссии, в которой, кстати, участвовал и известный в России судебный деятель и писатель Анатолий Федорович Кони (1844-1927). Но с этих пор впал в немилость, и его карьерный рост прекратился. Это, конечно, задевало самолюбие Волжина, и он неоднократно подавал прошения о переводе его в другие губернские города, но все они оставались без удовлетворения. Впрочем, со временем острота обиды притупилась, и Валериан продолжил свою юридическую и писательскую деятельность.
Но вот случился его второй брак. Молодая супруга требовала заботы, нарядов, домашнего уюта и «выхода в свет», чего без денежных затрат, естественно, не бывает. Да и подраставшие дети от первого брака также нуждались в уходе и заботе. В итоге – семейные расходы увеличились. Возникла необходимость о служебном росте и более высоком окладе. Вновь принялся посылать прошения с просьбой о переводе на вышестоящие свободные вакансии, в том числе и в тульский Окружной суд. Но не тут-то было – в министерстве юстиции по-прежнему помнили его выпады против контрреформ и в переводе на более высокую должность отказывали. Зато на литературном поприще продолжались успехи. В 1898 году в свет вышел роман «Альтруист», за ним последовали романы «Заговорила совесть» и «Он отомстил», которые пользовались спросом у читающей публики.
В 1904 году прошения Валериана Александровича, наконец, были «услышаны», и ему разрешили перевестись в Омск на должность члена Судебной палаты – органа стоявшего нал Окружным судом. Министр юстиции Муравьев с одной стороны вроде бы «снизошел» до повышения Волжина на «служебной лестнице», а с другой – отправление в захолустный сибирский город явилось своеобразной ссылкой. Но Волжин, думая о приближающемся выходе на пенсию и, следовательно, о размере пенсиона, данное назначение воспринял как должное.
22 октября 1904 года в Пензе состоялись торжественные проводы Валериана Александровича к месту новой работы. Исследователь юридической и писательской деятельности нашего земляка Д.Ю. Мурашов, сообщая о торжественном обеде, устроенном пензенским дворянством и чиновничеством, пишет о том, что помощник прокурора пензенского Окружного суда М.Ф. Кирсанов сочинил «по случаю» стихи:
Много лет жил в Пензе Волжин,
Очень много написал,
Но в Сибирь уехать должен
Наш писатель-генерал.
Долго он в он в колакбинате
С бедной Пензой мирно жил,
Но, присватовшись к палате,
Вдруг старушке изменил.
Говоря об отъезде «писателя-генерала» в Омск, стоит обратить внимание на два обстоятельства. Во-первых, это событие произошло в разгар войны России с Японией, когда русские моряки и солдаты отчаянно защищали Порт-Артур и уже был известен как подвиг команд крейсера «Варяга» и канонерской лодки «Кореец», так и геройская гибель легендарного флотоводца Макарова Степана Осиповича (1848-1904). Во-вторых, сын Волжина, Александр Валерианович уже служил в Пензе товарищем (помощником) прокурора губернии, а дочери от первого брака уже были выданы замуж и жили своими семьями отдельно от «родительского гнезда».
О служебной и литературной деятельности Валериана Александровича в Омске известно куда меньше, чем о том же самом в его «пензенский период». Но, тем не менее, кое-что известно по его воспоминаниям и мемуарам. Так, за 1905 год, когда Россию начали сотрясать революционные выступления рабочих, а кое-где солдат и матросов, он «помогает сестре (по-видимому, Анне Александровне) отбыть за границу». А когда возвратился оттуда, то узнал, что умер его старший брат Александр, так и не сумевший издать свои романсы.
В 1910 году из-за очередной острой полемической статьи, напечатанной Волжиным в одной из центральных юридических газет, в которой «высшие круги» общества вдруг увидели «порицание правительства», над ним замаячила угроза судебного процесса. Сам Валериан Александрович в мемуарах пишет, что никакого выпада против правительства не было, всего лишь очередная попытка отстоять вопросы независимости суда от органов государственной власти, поддержать нормы состязательности сторон в суде и создать юридические консультации для населения в целях его првового просвещения и воспитания. То есть все то же самое, о чем он уже не раз писал и что защищал в дискуссиях с противниками реформ. Но после революционных событий 1905-1906 годов в стране наступили времена контрреволюционного террора. Вставший во главе правительства и министерства внутренних дел бывший самарский губернатор П. А. Столыпин 8 июня 1907 года с думской трибуны заявил: «Власть не может считаться целью. Власть – это средство для охранения жизни, спокойствия и порядка; поэтому, осуждая всемерно произвол и самовластье, нельзя не считать опасным безволие правительства. Не нужно забывать, что бездействие власти ведет к анархии, что правительство не есть аппарат бессилия и искательства. Правительство – аппарат власти, опирающейся на законы. Отсюда ясно, что министр должен и будет требовать от чинов министерства осмотрительности, осторожности и справедливости, но и твердого исполнения своего долга и закона». Тут, даже не вспоминая про «столыпинские галстуки», про аресты думцев 3 июня 1907 года, можно говорить о том, что Волжин должной «осмотрительности и осторожности» не проявил. Зато «схватывающие на лету» и «все понимающие» чиновники всех рангов и ведомств резво бросились скопом «твердо» исполнять законы, да так рьяно, что генерал от юстиции вмиг попал под «раздачу».
Спастись от уголовного преследования и суда можно было только подачей прошения об отставке «по состоянию здоровья». Так как судебные чины такой категории, как Волжин, должны были трудиться пожизненно, то необычный прецедент рассматривал суд Сената. Кстати, как это не казуистически выглядит, но распоряжение отдачи Волжина под суд подписал министр юстиции И.Г. Щегловатов, который всего лишь пару десятков лет назад так восхищался книгами Валериана Александровича «Закон и жизнь» и «Картинками из судебной жизни».
В конце концов, пройдя через нелицеприятную и унизительную процедуру судебного сенатского разбирательства, Волжин Валериан Александрович вышел в отставку «по-доброму», то есть с правом ношения генеральского мундира и приличной пенсией. Но осадок горечи, конечно, остался. И в мемуарах он не замелил напомнить потомкам, что «свою честь и мундир ничем не запятнал», что не только на службе, но и писательством он стремился приносить пользу людям и Отечеству.
Находясь в отставке, Волжин вновь в 1911 году написал статью о вреде для общества и Российского государства контрреформ в судебном деле. Но так как был уже частным лицом, а не чиновником высокого ранга, большого резонанса от статьи не последовало. К тому же омское общество в культурном плане рачительно отличалось от пензенского. Причем не в лучшую сторону. Самым же крупным литературным трудом, который отставной генерал от юстиции написал в Омске, стали мемуары, часть которых была опубликована в июльском и августовском номерах «Исторического вестника». Благодаря им мы кое-что знаем о жизни и творчестве нашего земляка.
Покидая в 1904 году Пензу, Валериан Александрович, возможно уже не рассчитывал возвратиться назад. Но так уж распорядилась судьба, что вернуться пришлось. И случилось это, по данным некоторых исследователей, в 1915 году. Тогда в Пензе умерла его невестка, супруга сына Александра – Татьяна Михайловна, дочь купца второй гильдии Михаила Роговского. (Сам Александр Валерианович, по сведениям Д. Мурашова, в это время уже был товарищем прокурора саратовского Окружного суда).
Удивительно то, что Пензу Волжин Валериан Александрович покидал в разгар войны на востоке, а возвращался в разгар войны на западе; в Омск выезжал действующим генералом от юстиции, а покидал Омск без особого сожаления генералом в отставке. И было ему в это время семьдесят лет. Однако бодрости духа и тела честному служителю Фемиды, Мельпомены и Клио не занимать, к тому же сил и энергии предавали многочисленные встречи с детьми, повзрослевшими внуками и поседевшими товарищами по прежней работе в Окружном суде Пензенской губернии.
Исследователи биографии Волжина об его отношении к революционным событиям 1917 года ничего не сообщают. По-видимому, нет архивных документов, от которых можно было бы оттолкнуться… Но, зная его трепетное отношение к букве закона, учитывая его многолетние устоявшиеся убеждения об эволюционном пути развития России, не трудно предположить, что восторга от государственного переворота он не испытывал. Хотя до этого отмену крепостного права всячески приветствовал, а само крепостничество не раз бичевал, как противоестественное, унизительное явление в истории России.
Не добавляли оптимизма и решения местных советов, без согласования с центральной властью отменявших прежние законы и вводивших новые. Часто эти нововведения базировались не на юридическом праве, а на революционной необходимости, что в конечном итоге приводило к анархии и беззаконию. Не приносили радость налоги и повинности, которыми облагались представители имущественных буржуазных классов – дворяне, купцы, банкиры, интеллигенция. А Волжин и члены его семьи как раз и относились к таковым… К тому же, надо полагать, выплата пенсии, назначенной царским правительством, прекратилась, да и гонорары за литературные труды вряд ли платились.
В конце мая 1918 года Пенза, как и ряд других городов Поволжья и Сибири, была захвачена мятежными чехами и словаками. Под прикрытием их штыков активизировались антибольшевистские силы. В Пензе Советская власть была ликвидирована. В соседней Самаре представители буржуазных партий, в том числе эсеров, создали Комуч – Комитет членов учредительного собрания. Власть Комуча, поддержанного белочехами, распространилась и на Пензенскую губернию.
В это время Валериан Александрович Волжин, как сообщает Д. Мурашов, с группой безработных интеллигентов, державших «нейтралитет» к властям, попытались создать журнал «Эстетика», в котором бы печатались местные литераторы. В течение 1918 года было выпущено несколько номеров журнала. Но катившаяся уже по стране Гражданская война, захлестнувшая и «толстопятую» по определению Волжина, Пензу, не дала развиться журналу, и он канул в Лету, как, кстати, и Комуч. А в Пензе восстановилась Советская власть.
В 1919 году семидесятичетырехлетний «беспартийный» Валериан Волжин еще раз попытался создать литературный журнал «Свободное слово». Однако после выхода из типографии первого номера (к сожалению, несохранившегося) журнал был закрыт, как «ненужное издание» рабоче-крестьянской власти.
Последним литературным произведением Валериана Александровича стал рассказ «Рядовой Кадушкин» о солдате Пармене Кадушкине, возвращавшегося домой из австрийского плена после марта 1917 года. Этот рассказ был напечатан весной в журнале «Пролетарий», начавшим издаваться в Пензе. В рассказе было заострено внимание на том, что никакой организованности при встречных потоках бывших военнопленных не было, что часто они шли, преданные сами себе, оборванные и голодные, способные на любые преступления.
Кроме рассказа, в журнале «Пролетарий» был помещен отзыв Волжина и на третий выпуск журнала «Москва», в котором находились произведения поэтов второй волны «серебряного века». Валериан Александрович, как пишет Д. Мурашов, давая рецензию стихотворениям, отмечал, что «поэты В. Брюсов, С. Есенин, К. Бальмонт и В. Иванов своими жалкими виршами безжалостно портят прекрасный русский язык». Вот так-то!.. Впрочем, время – лучший рецензент. Именно оно сделало для нас и Брюсова, и Есенина, и Бальмонта, и Иванова классиками отечественной литературы. А вот самого Волжина, благодаря людской беспамятности, затенило изрядно.
В этом же году Валериан Александрович умер и был тихо похоронен на одном из кладбищ Пензы. Ни даты его смерти, ни могилки установить не удалось. Остались неизвестными и судьбы его брата Николая и племянников из курской губернии, ни дальнейшая судьба сына Александра и его детей. По-видимому, Гражданская война, кровавым смерчем пронесшаяся по просторам России, в том числе и через Панкеево, внесла свой страшный вклад и в людскую память, и людскую жизнь. И только лишь об одной внучке Волжина, Наталье Альбертовне Волжиной-Гроссет, сохранились сведения. В советское время она была известной переводчицей на русский язык зарубежной литературы. Благодаря ей советский читатель познакомился с произведениями А. Конон Дойля, Дж. Лондона, Ч. Диккенса, Эрнста Хемингуэя и «Овода» Э. Войнич.
Как отмечают немногочисленные исследователи жизни и творческого наследия Волжина, потомкам – в самом широком смысле этого слова – не осталось в «наследство» даже портрета или фотографии это выдающегося юриста и писателя. Они, несомненно, были, да годы революции и Гражданской войны, а еще и последовавшие затем сталинские репрессии – все вычистили «до основания».
Но некоторые черты писателя можно увидеть в образе судьи в повести «Из воспоминаний судебного следователя. Вслед за Д. Мурашовым процитируем: «Судья с заметной проседью в бороде и никогда не исчезавшими складками на лбу, даже когда он улыбался, имел вид человека с наболевшими нервами, но привыкшего сдерживаться и хладнокровно смотреть на всевозможные житейские пакости, как скоро они неизбежны». Впрочем, эти слова передают лишь некоторые черты лица нашего земляка, а в большей степени – его психологическое состояние.
Выше уже назывались некоторые произведения Волжина Валериана Александровича, любовь к книгам и литературе которого зародилась на курской земле в сельце Панкееве. Но вообще в литературном багаже писателя три романа, нескольких повестей и более 80 рассказов. И как уже отмечалось все его произведения, кроме автобиографической повести о детстве «Перед эпохой освобождения» и мемуаров в журнале «Исторический вестник», написаны на базе его многолетней следственно-судебной практики. Естественно, они ценны своей художественной сутью, реализмом изложения событий, исторической ценностью. Но также ценны и с краеведческой точки зрения. Ведь Волжин не только мастерски смог описать родительский дом и окрестности Панкеева, но и окрестности Пензы с садами и парками, переходящими в леса, и ее улочки со своим колоритом небольших домиков, в которых приходилось жить писателю, и дощатых тротуаров, по которым пешком добираться о места службы. И хотя сама Пенза в повестях и романах не называется, скрываясь за названием города Тулупова, но описана с фотографической точностью. Это и губернаторский дом, и здание Дворянского собрания, и помещения банков, и многочисленные церкви, описанные как с внешней стороны, так и с внутренней. Это и гимназии, и школы, и Окружной суд, и даже тюрьма. А куда деться, если без тюрем в России никуда не деться… Это и шумный пензенский базар, и притоны нищих.
При этом описания преподнесены читателю не только ярко, сочно и колоритно, но и с присущими Волжину тонкой иронией и юмором, что, естественно, привлекало читателей и являлось изюминкой произведений.
Не менее талантливо представлены писателем и герои произведений – тулуповцы. Это и губернаторы, и предводители дворянский собраний, и государственные служащие – чиновники всевозможных ведомств. Это и пензенские дворяне, и купцы, и банкиры. Это и судьи, и адвокаты, и городовые. Это и священнослужители, и учителя, и гимназисты, и школьники. Это, наконец, профессиональные городские попрошайки и воры. Весь социально-сословный спектр.
А внешние описания и психологические характеристики были столь убедительны, что читатели легко узнавали конкретных лиц из «высшего» пензенского общества. Впрочем, как и сами прототипы, которым не всегда нравилось видеть себя со стороны. Однако не многие спешили «признаться» в узнаваемости самих себя, чтобы не стать еще большим посмешищем.
Автору этого очерка трудно судить, есть ли подобное описание губернского Курска второй половины XIX века в художественных произведениях курских писателей как того времени, так и более позднего. Но думаю, что вряд ли… В журналистских очерках и заметках – да, но не в художественной литературе. Что-то не встречалось… Хотя литературные традиции Курского края весьма глубоки, обширны и крепки.
Подводя черту, необходимо отметить, что личность «успешно» забытого курянами писателя Валериана Александровича Волжина привлекла не только мое внимание, но и внимание наиболее известного в Курском крае краеведа, ученого и писателя Юрия Александровича Бугрова. В двух своих книгах и в газете «Курская правда, Бугров упоминает нашего земляка. Кроме того очерк о Волжине в газете «Городские известия» напечатал журналист и литературовед Н. Гетьман, а в книге по истории Конышевского района – несколько теплых строк поместил С.Н. Челенков. В Интернете есть статья о Волжине В. Купырина, преподавателя одной из Льговских школ. Следовательно, не все куряне страдают болезнью под названием «беспамятство». Есть, есть еще люди с беспокойными сердцами и умами, которым огромное спасибо за их «горение», любовь к малой родине, к истории, за их добровольное подвижничество! Именно на таких одиночках во все века зиждилась и зиждется Россия.
Что же касается литературной преемственности на Конышевской земле, то она имела место. Уже в год смерти Волжина Валериана Александровича в селе Шустово, расположенном не так далеко от Панкеева, появился крестьянский мальчик Алеша, которому и предстояло подхватить «эстафетную палочку» литературного творчества.
© Copyright: Николай Пахомов, 2015
Свидетельство о публикации №215120601042
|
Метки: волжины |
Волжины |
Волжины
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
| Волжины | |
|---|---|
 |
|
| Описание герба
см. текст >>> |
|
| Том и лист Общего гербовника | XIX, 24 |
| Губернии, в РК которых внесён род | Курская |
| Часть родословной книги | VI |
| Подданство | |
 Царство Русское Царство Русское |
|
 Российская империя Российская империя |
|
| Имения | Берёза[1] |
Эта статья — о дворянском роде. О носителях фамилии см. Волжин.
Во́лжины — русский дворянский род.
Происходит от Богдана Евстафьевича Волжина, владевшего поместьями в Коломенском уезде в 1577 г. Правнук его, Иван Иванович Волжин, служил по Новгороду Северскому, в 1628 г. был окладчиком, в 1632 г. сотенным головой. Потомство его владело поместьями в Брянском, Серпейском, Рыльском, Путивльском и Кромском уезде и было записано в VI части родословной книги Курской губернии, но Герольдией за недостаточностью доказательств не утверждено[2].
Содержание
Описание герба
Щит полурассёчен и пересечён. В правой верхней золотой части лазоревый восьмиконечный крест, под ним лазоревый полумесяц рогами вверх. В левой верхней лазоревой части рука выходящая из серебряного облака в золотых латах, держащая серебряный с золотой рукоятью изогнутый меч. В нижней серебряной части лазоревая рыба, обращённая вправо.
Щит увенчан дворянским коронованным шлемом. Нашлемник: три страусовых пера: среднее — лазоревое, правое — золотое, левое серебряное. Намёт: справа лазоревый с золотом, слева лазоревый с серебром. Герб рода Волжиных внесён в Часть 19 Общего гербовника дворянских родов Всероссийской империи, стр. 24[3].
Известные представители
- Волжин, Александр Николаевич (1862—1933) — государственный деятель.
- Волжин, Валериан Александрович (1845 — 1919) — русский писатель, журналист, юрист, действительный статский советник.
- Пешкова, Екатерина Павловна (урождённая Волжина), (1876—1965 — российский и советский общественный деятель, правозащитница. Первая жена писателя Максима Горького.
Примечания
- Усадьба Береза
- В.Е.Рудаков. Волжины // Новый энциклопедический словарь: В 48 томах (вышло 29 томов). — СПб., Пг., 1911—1916.
Литература
- В. С. Арсеньев «Род Волжиных»
- Род:Волжины на Родоводе
|
Метки: волжины |
София Парнок. Трагическая леди Серебряного века. |
София Парнок. Трагическая леди Серебряного века.
София Парнок. История Русской Сафо.
Парнок (настояшая фамилия - Парнох) - Волькенштейн Софья Яковлевна-
русская поэтесса, переводчица, литературный критик. Автор сборников
"Стихотворения" 1916 год, "Розы Пиэрии", "Лоза" 1923 г, переводов с
французского и немецкого. Часто писала "сапфической" строфой.
Близкий друг Марины Ивановны Цветаевой. Ей посвящен цикл цветаевских
стихов "Подруга".
…Как становятся поэтами? Божиим соизволением? Игрою случая? Своеволием звезд, смех которых перепутывает и сбивает прочтение предопределений и отрезков пути? Сложно сказать, сложно увидеть и распутать клубок ни противоречий, нет, а чего то более сложного и ясного уже только на той Высоте, которая недосягаема с Земли, как не тяни к ней руки! Как становятся поэтами? Никто не знает, хотя написано тысячи строк об этом. Добавлю к многотомной эпопее еще несколько. О той, которую называли "русской Сафо".
Софья Яковлевна Парнох стала Поэтом вскоре после того, как разорвала нити опутывающей ее Любви. Она и до этого, конечно, писала стихи, и очень неплохие, выступала в печати с критическими литературными обзорами под псевдонимом Андрей Полянин… Но настоящее море поэзии хлынуло к ее ногам, когда она отпустила Любовь на вольный ветер, следуя евангельской притче: "Отпусти хлеб свой плыть по водам". Она мучительно отпустила то, что хотелось ей держать, может быть, вечность при себе и своей душе и получила взамен Дар, который может поставить Человека Творящего вне грани греха и безгрешности…
Софья Парнох родилась 30 июля 1885 года, в Таганроге, в семье аптекаря. Мать ее умерла довольно молодой, после родов близнецов, Валентина и Елизаветы. Сонечке было в то время всего шесть лет! Отец ее, Яков Парнох, (начав литературную деятельность, поэтесса и критик почла за благо придать фамилии более изысканную форму - Парнок, чем то напоминавшую ей название легендарного Парнаса - автор) человек достаточно независимых взглядов и жесткого нрава, вскоре женился вторично.
Отношения с мачехой, да и с отцом, у Сони не сложились. Одиночество, отчужденность, замкнутость в своем собственном мире, были постоянными спутниками задиристой, крутолобой девочки с копною непокорных кудрей и каким то странным, часто уходящим в себя взглядом. Она очень хорошо играла на фортепиано, усердно занималась, по ночам разбирая трудные партитуры опер, клавиры, сонатины Моцарта и скерцо Листа. Легко играла "Венгерскую рапсодию". Таганрогскую гимназию окончила Соня с золотою медалью, и в 1903 - 1904 году уехала в Женеву. Там училась в консерватории, по классу фортепиано. Но музыкантом почему - то не стала.
Елена Калло о не состоявшейся пианистке - музыкантше Соне Парнок пишет так: "Несомненно, у Парнок был музыкальный дар, более того, можно сказать, что именно через музыку она ощущала мир. Недаром, потрясение, испытанное от звуков органа в католическом храме, пробудило в ней творческую стихию в ранней юности (стихотворение "Орган"). С развитием поэтического мастерства все очевидней становилась музыкальность ее стиха, к которому вполне приложимы собственно музыкальные характеристики: длительность, модуляции, смена лада, рифма звучит то в терцию, то интервал меняется, вибрация утонченного ритма... Эти свойства проявились не только в зрелом ее творчестве, но гораздо ранее:
Где море? Где небо? Вверху ли, внизу?
По небу ль, по морю ль тебя я везу,
Моя дорогая?
Отлив. Мы плывем, но не слышно весла,
Как будто от берега нас отнесла
Лазурь, отбегая.
Был час.- Или не был? - В часовенке гроб,
Спокойствием облагороженный лоб, -
Как странно далек он!
Засыпало память осенней листвой.
О радости ветер лепечет и твой
Развеянный локон.
(1915?)
София Парнок сохранила музыку "внутри себя". Это много дало ей, как Поэту. Вернувшись в Россию поступила на Высшие женские курсы и юридический факультет университета. Страстно увлекла ее и другая стихия - литература. Переводы с французского, пьесы,шарады, скетчи и первый.. беспомощный цикл стихов, посвященный Надежде Павловне Поляковой - ее женевской … любви.
Софья Яковлевна очень рано осознала эту свою странную странность,отличие от обычных людей. "Я никогда не была влюблена в мужчину" - напишет она позже М.Ф. Гнесину, другу и учителю. Ее притягивали и привлекали женщины. Что это было? Неосознанная тяга к материнскому теплу, ласке, нежности, которой не хватало в детстве, по которой тосковала ее душа, некий комплекс незрелости, развившийся в страсть и порок позднее, или нечто другое, более загадочное и так до сих пор - непознанное? Ирина Ветринская, исследующая проблему "женской" любви довольно давно, и посвятившая этому немало статей и книг, пишет по этому поводу следующее:
" Психатрия классифицирует это, как невроз, но я придерживаюсь совершенно противоположного мнения: лесбиянка - это женщина с необычайно развитым чувством собственного "я". Ее партнерша - это ее собственный зеркальный образ; тем, что она делает в постели, она говорит:" Это я, а я - это она. Это и есть высшая степень любви женщины к самой себе." (И. Ветринская. Послесловие к книге "Женщины, которые любили .. Женщин." М. "ОЛМА -ПРЕСС" 2002 год.) Мнение спорное, конечно, но не лишенное оснований, и объясняющее многое в этом странном и загадочном явлении - "женской" любви.
Не скрывающая своих природных наклонностей от общества и не стыдящаяся их, - наверное, для этого нужно было немалое мужество, согласитесь!- Софья Яковлевна, тем не менее, осенью 1907 года, вскоре после возвращения из Женевы в Россию, выходит замуж за В. М. Волькенштейна - известного литератора, теоретика драмы, театроведа. Через полтора года, в январе 1909 , супруги расстаются по инициативе Софьи Яковлевны. Официальной причиной развода стало ее здоровье - невозможность иметь детей. С 1906 года Софья Яковлевна дебютировала в журналах "Северные записки", "Русское богатство" критическими статьями, написанными блестящим остроумным слогом. Парнок своим талантом быстро завоевала внимание читателей, и с 1910 года была уже постоянным сотрудником газеты "Русская молва", ведущей ее художественного и музыкально - театрального раздела. К тому же она все время занималась самообразованием и очень требовательно относилась к себе. Тем самым, не могла не привлечь внимания многих. Вот что она писала Л. Я. Гуревич, близкой подруге, в откровенном письме 10 марта 1911 года: "Когда я оглядываюсь на мою жизнь, я испытываю неловкость, как при чтении бульварного романа... Все, что мне бесконечно отвратительно в художественном произведении, чего никогда не может быть в моих стихах, очевидно, где-то есть во мне и ищет воплощения, и вот я смотрю на мою жизнь с брезгливой гримасой, как человек с хорошим вкусом смотрит на чужую безвкусицу" А вот в другом письме тому же адресату: "Если у меня есть одаренность, то она именно такого рода, что без образования я ничего с ней не сделаю. А между тем случилось так, что я начала серьезно думать о творчестве, почти ничего не читая. То, что я должна была бы прочесть, я не могу уже теперь, мне скучно... Если есть мысль, она ничем, кроме себя самой, не вскормлена. И вот, в один прекрасный день, за душой ни гроша и будешь писать сказки и больше ничего" Сказки ее не устраивали. Она предпочитала оттачивать остроту ума в критических статьях и музыкальных рецензиях. Впрочем, не ядовитых.
"По долгу службы" Софье Яковлевне часто приходилось посещать театральные премьеры и - литературно - музыкальные салонные вечера. Она любила светскость и яркость жизни, привлекала и приковывала к себе внимание не только неординарностью взглядов и суждений, но и внешним видом: ходила в мужских костюмах и галстуках, носила короткую стрижку, курила сигару… На одном из таких вечеров, в доме Аделаиды Казимировны Герцык - Жуковской, 16 октября 1914 года, Софья Парнок и встретилась с Мариной Цветаевой.
Вот какою видели Марину Цветаеву - Эфрон в то время ее современницы: "...Очень красивая особа, с решительными, дерзкими, до нахальства, манерами... богатая и жадная, вообще, несмотря на стихи, - баба - кулак! Муж ее - красивый, несчастный мальчик Сережа Эфрон - туберкулезный
чахоточный". Так отозвалась о ней в своем дневнике 12 июля 1914 года Р.М. Хин-Гольдовская, в чьем доме жили некоторое время семья Цветаевой и сестры мужа". Позоева Е.В. оставила такие воспоминания: "Марина была очень умна. Наверное, очень талантлива. Но человек она была холодный, жесткий; она никого не любила. ... Часто она появлялась в черном ... как королева... и все шептали: "Это Цветаева... Цветаева пришла...""). В декабре 1915 года роман с Парнок уже - в самом разгаре. Роман необычный и захвативший сразу обеих. По силе взаимного проникновения в души друг друга - а прежде всего это был роман душ, это было похоже на ослепительную солнечную вспышку. Что искала в таком необычном чувстве Марина., тогда еще не бывшая столь известной поэтессой? Перечитывая документы, исследования Николая Доли и Семена Карлинского , посвященные этой теме, я все сильнее убеждалась лишь в том, что Марина Цветаева, будучи по натуре страстной и властной, подобно тигрице, не могла до конца удовлетвориться только ролью замужней женщины и матери. Ей нужна была созвучная душа, над которой она могла бы властвовать безраздельно - гласно ли, негласно, открыто ли скрыто ли - неважно!
Властвовать над стихами, рифмами, строками, чувствами, душой, мнением, движением ресниц, пальцев, губ, или какими то материальными воплощениями - выбором квартиры, гостиницы для встречи, подарка или
спектакля и концерта, которым стоит закончить вечер…
Она охотно предоставила Софье Яковлевне "ведущую" на первый взгляд роль в их странных отношениях. Но только - на первый взгляд.
Влияние Марины на Софью Парнок , как личность и Поэта, было настолько всеобъемлющим, что сравнивая строки их стихотворных циклов, написанных почти одновременно, можно найти общие мотивы , похожие рифмы, строки и темы. Власть была неограниченна и велика. Подчинение - тоже!
На страницах небольшой статьи биографического плана не очень уместно говорить о литературных достоинствах и недостатках творчества Софьи Парнок или Марины Цветаевой. Я и не буду делать этого. Скажу только, что Софья Парнок, как Поэт лирический, достигла в этих своих стихотворениях, посвященных ее мучительному чувству к Марине и разрыву с ней, таких высот, которые ставят ее на равных с такими личностями в Поэзии, как Мирра Лохвицкая, Каролина Павлова или даже Анна Андреевна Ахматова. Почему я так говорю?
Дело в том, что, на мой взгляд, Парнок, как Поэтесса немалой величины, еще неразгаданной нами сегодня, своими стихами, смогла выразить суть Духа Поэта, а именно то, что Он - если истиненн, конечно, - то, владеет всеми тайнами человеческой души, независимо от пола, возраста и даже, быть может, накопленных жизненных впечатлений. Вот одно из стихотворений, написанных Софьей Парнок в 1915 году, в разгар романа, в "коктебельское лето", когда к их мучительному роману, прибавилась жгучесть чувства Максимилиана Волошина к Марине - чувства внезапного и довольно сложного, (поощряемого Мариной, кстати):
Причуды мыслей вероломных
Не смог дух алчный превозмочь, -
И вот, из тысячи наемных,
Тобой дарована мне ночь.
Тебя учило безразличье
Лихому мастерству любви.
Но вдруг, привычные к добыче,
Объятья дрогнули твои.
Безумен взгляд, тоской задетый,
Угрюм ревниво сжатый рот, -
Меня терзая, мстишь судьбе ты
За опоздалый мой приход.
Если б не был исследователями точно обозначен адресат этого стихотворения - Марина Цветаева, то можно было бы подумать, что речь идет о любимом человеке, любимом мужчине.. Но какая в сущности разница? Главное, человек - Любимый…
Они рисковали, но не боялись эпатировать общество, провели вместе в Ростове рождественские каникулы 1914-15 гг. Семья Марины и ее мужа, Сергея Эфрона, об этом знала, но сделать ничего не могла! Вот одно из писем Е. О. Волошиной к Юлии Оболенской, немного характеризующее ту нервную обстановку, что сложилась в доме Цветаевых - Эфрон.
( *Е. О.Волошина была близкой подругой Елизаветы Эфрон (Лили), сестры мужа Цветаевой. - автор) Волошину беспокоило, как отнесется к происходящему Сергей Эфрон: "Что Вам Сережа наговорил? Почему Вам страшно за него? (...) Вот относительно Марины страшновато: там дело пошло совсем всерьез. Она куда-то с Соней уезжала на несколько дней, держала это в большом секрете. Соня эта уже поссорилась со своей подругой, с которой вместе жила, и наняла себе отдельную квартиру на Арбате. Это все меня и Лилю очень смущает и тревожит, но мы не в силах разрушить эти чары". Чары усиливались настолько, что была предпринята совместная поездка в Коктебель, где Цветаевы проводили лето и раньше. Здесь в Марину безответно и пылко влюбляется Макс Волошин, как уже упоминалось. Идут бесконечные разбирательства и споры между Мариной и ее подругой.
Софья Парнок испытывает муки ревности, но Марина, впервые проявив "тигриную суть", не подчиняется робким попыткам вернуть ее в русло прежнего чувства, принадлежавшего только им, двоим Не тут - то было!
Марина, изменчивая, как истинная дочь моря, (*Марина - морская - автор.) поощряла ухаживания Волошина, всей душой страдала и тревожилась о муже, уехавшем в марте 1915 года на фронт с санитарным поездом. Она писала Елизавете Яковлевне Эфрон в откровенном и теплом письме летом 1915 года: "Сережу я люблю на всю жизнь, он мне родной, никогда и никуда я от него не уйду. Пишу ему то каждый, то - через день, он знает всю мою жизнь, только о самом грустном я стараюсь писать реже. На сердце - вечная тяжесть. С нею засыпаю, с нею просыпаюсь".
"Соня меня очень любит,- говорится далее в письме,- и я ее люблю - это вечно, и я от нее не смогу уйти. Разорванность от дней, которые надо делить, сердце все совмещает". И через несколько строк: "Не могу делать больно и не могу не делать". Боль от необходимости выбирать между двумя любимыми людьми не проходила, отражалась и в творчестве, и в неровности поведения.
В цикле стихов " Подруга" Марина пытается обвинить Софью в том, что она ее завела в такие "любовные дебри".. Пытается разорвать отношения, предпринимает несколько резких попыток. Михаилу Кузьмину она так описывает конец ее любовного романа с Софьей Яковлевной: " Это было в 1916 году, зимой , я в первый раз в жизни была в Петербурге. Я только что приехала. Я была с одним человеком, то есть это была женщина - Господи, как я плакала! - Но это не важно! Она ни за что не хотела чтоб я ехала на вечер. (музыкальный вечер, на котором должен был петь Михаил Кузьмин - автор) Она сама не могла, у нее болела голова- а когда у нее болит голова… она - невыносима. А у меня голова не болела, и мне страшно не хотелось оставаться дома."
После некоторых препирательств, во время которых Соня заявляет что "ей жалко Марину", Цветаева срывается с места и едет на вечер. Побыв там, она довольно скоро начинает собираться назад к Соне и объясняет: "У меня дома больная подруга". Все смеются: "Вы говорите так, точно у Вас дома больной ребенок. Подруга подождет".
Я про себя: "Черта с два !"
И в результате - драматический финал не заставил себя ждать: " В феврале 1916 года мы расстались" , - писала в том же письме Марина Цветаева. - "Почти что из - за Кузьмина, то есть из - за Мандельштама, который не договорив со мною в Петербурге, приехал договаривать в Москву. (*Вероятно, о романе - автор) Когда я, пропустив два мандельштамовых дня, к ней пришла- первый пропуск за годы, - у нее на постели сидела другая: очень большая, толстая, черная… Мы с ней дружили полтора года. Её я совсем не помню. То есть не вспоминаю. Знаю только, что никогда ей не прощу, что тогда не осталась!"
Своеобразным памятником так трагично оборвавшейся любви со стороны Софьи была книга "Стихотворения", вышедшая в 1916 году и сразу запомнившаяся читателям, прежде всего тем, что говорила Софья Яковлевнв о своем чувстве открыто, без умолчания, полунамеков, шифровки. Ею как бы написан пленительный портрет Любимого Человека, со всеми его - ее резкостями, надрывами, надломами, чуткостью, ранимостью и всеохватной нежностью этой пленяюще страстной души! Души ее любимой Марины. Подруги. Девочки. Женщины. Там было знаменитое теперь:
"Снова на профиль гляжу я твой крутолобый
И печально дивлюсь странно-близким чертам твоим.
Свершилося то, чего не быть не могло бы:
На пути на одном нам не было места двоим.
О, этих пальцев тупых и коротких сила,
И под бровью прямой этот дико-недвижный глаз!
Раскаяния,-скажи,-слеза оросила,
Оросила ль его, затуманила ли хоть раз?
Не оттого ли вражда была в нас взаимной
И страстнее любви и правдивей любви стократ,
Что мы двойника друг в друге нашли? Скажи мне,
Не себя ли казня, казнила тебя я, мой брат?
("Снова на профиль гляжу я твой крутолобый..." )
Любовь надо было отпускать. И она отпустила. Жила прошлым воспоминаниями, переплавляла их в стихи, но около нее были новые подруги, новые лица: Людмила Эрарская, Нина Веденеева, Ольга Цубильбиллер.
Парнок писала стихи все лучше, все сильнее и тоньше психологически были ее образы, но наступали отнюдь не стихотворные времена. Грянула октябрьская смута. Какое - то время Софья Яковлевна жила в Крыму, в Судаке, перебивалась литературной "черной" работой: переводами, заметками. Репортажами. Не прекращала писать.
В 1922 году, в Москве, тиражом 3000 экземпляров, вышла ее книги: "Розы Пиэрии" - талантливая стилизация строк Сафо и старо французских поэтов. И сборник"Лоза" в который она включила стихотворения за период с 1916 по 1923 годы. Встречены они были публикой вроде и хорошо, но как то не до стихов становилось голодной и разоренной России, да и публика изысканная, понимающая ритмичные строфы, основательно "Иных нет, иные - далече"…
Софье Яковлевне жилось трудно, голодно. Чтобы как то выстоять, она вынуждена была заниматься переводами, уроками - платили гроши - и огородничеством.
Силы ей давала любовь. Бог посылал ей, грешной, людей, которые ее обожали и были ей преданы душою - таких, как физик Нина Евгеньевна Веденеева. Парнок встретилась с нею за полтора года до своей смерти. И скончалась у нее на руках. Она посвятила Нине Евгеньевне самые проникновенные и лиричные строки своих стихов. Но умирая, неотрывно смотрела на портрет Марины Цветаевой, стоявший на тумбочке, у изголовья. Она не говорила ни слова о Ней. Никогда, после февраля 1916 года. Может, молчанием хотела подавить любовь? Или - усилить? Никто не знает.
Незадолго до смерти она написала строки:
"Вот уж не бунтуя, не противясь,
Слышу я, как сердце бьет отбой
Я слабею и слабеет привязь,
Крепко нас вязавшая тобой…"
"Будем счастливы во чтобы то ни стало!" (Отрывок)
В начале стихотворения стояли едва различимо две заглавные буквы.:"М.Ц." Так она попрощалась со своей Возлюбленной -Подругой, не зная, что Та сказала, услышав о ее смерти, в июне 1934 года, далеко на чужбине: "Ну и что что она умерла, не обязательно умирать, чтобы умереть!" (М. Цветаева. "Письмо к Амазонке").
Её неловкая , маленькая Марина, ее "де
вочка - подруга", была, как всегда, властно - безжалостна и резка в суждениях! Но - права ли? В конце концов, сильно ненавидят лишь тех, кого прежде столь же сильно любили…
_____________________________________
*Софья Яковлевна Парнок скончалась 26 августа 1933 года, в подмосковном селе Каринское. Похоронена несколько дней спустя на немецком кладбище в Лефортово. Творчество ее, и история ее взаимоотношений с Цветаевой до сих пор не изучены полностью, как и архив, в котором остались два неизданных сборника "Музыка" и "Вполголоса".
*** Автор никоим образом не претендует на то, чтобы точка зрения, высказанная в данной статье, была "основополагающей и непогрешимой"! Читатели вольны иметь каждый - свое мнение.
___________________________________________
Эссе - послесловие « И снова знак к отплытию нам дан…»
Статьи в интернете читаются очень невнимательно, бегло и поверхностно. Люди спешат закрыть веб - браузер, убежать по своим делам… Но я все таки надеюсь, что моя статья об одной и самых прекрасных и тонких поэтесс Серебряного Века была хоть кем то понята и прочитана не наспех..
Прошло более десятка лет со дня написания этого очерка.Открыт архив Марины Цветаевой. Ариадны Эфрон. Почти все - напечатано. Горы писем и комментариев. Фотографий и лекций о творчестве и жизни Цветаевой. Факсимиле черновых записей и обрывков рабочих тетрадей. Цветаева в глянце и без глянца.
В подробностях описаны все ее недруги и враги, друзья и приятели, случайные знакомые, и - выдуманные и настоящие любовники, значимые отношения и мимолетные встречи.. Но особняком среди всего этого обилия материалов и открытий стоит загадочный образ Софии Парнок – Волькенштейн.
Я сама, в своей книге. посвященной судьбе Ариадны Эфрон говорю о Парнок, и о попытке разобраться в их дружеских отношениях с Мариной, в их необычном притяжении друг другу, взаимном и полном и столь же полном потом отторжении друг от друга…
Софья Яковлевна Парнок, человек сложной и необычной судьбы, одиночка в своей собственной семье, несмотря на присутствие в ней сестер и братьев,круга интеллигентных знакомых, которые живо и чутко интересовались неординарной девушкой с ее блестящими музыкальными способностями, несмотря на остро развивающуюся болезнь (щитовидной железы, осложнившейся сердечными припадками).
Она не могла иметь детей, хотя была страстной, любящей, увлекающейся натурой. Очень нежной, глубоко чувствующей. У нее была ручная обезьянка, собаки. Животным она дарила привязанность, нерастраченную ласковость. Очень любила цветы. В ее скудном огороде в двадцатые, голодные московские годы росли цветы: чайные розы, незабудки, ноготки, какие то кашки. Вместе с лебедой, которую варили на обед…
Из документов и дневников я точно знаю, что была у этой неординарной женщины попытка неудачной беременности, сложный выкидыш и свою трагедию несостоявшегося и запретного после случившегося материнства Софья Яковлевна очень глубоко и остро переживала вместе с супругом - Владимиром Волькенштейном, известным в юридических кругах Москвы и Петербурга поверенным и адвокатом. Они с ним разошлись впоследствии, жили порознь, но, пожалуй, не было в этом ни нарочитости, ни злобы, ни чьей то особенной вины…
Будучи людьми, достаточно образованными и развитыми душевно, они оба просто смогли отпустить друг друга. Софья Яковлевна до конца жизни интересовалась судьбой супруга и его сына от второго брака, Федора. Сохранились какие то следы их переписки, общения, встреч у знакомых. Возможно, что к Волькештейнам после смерти Софии Яковлевны попала часть ее архива, вещей. Не могу утверждать точно.
Если бы София Яковлевна не обладала глубоким поэтическим и литературным даром, то, несомненно, ушла бы в музыку. Пианисткой она была блестящей.
В доме всегда было раскрыто пианино, лежали ноты. Очень сложные. Она могла играть этюды Тальберга, Листа, Скрябина. Не музыканту, рокеру, репперу это не скажет - ничего. Музыканту и человеку с глубокой душой скажет - более нужного.. О том, как играла София Яковлевна вспоминала с удивлением и благоговением Алечка Эфрон, приходившая вместе с матерью в гости к Сонечке.. Есть люди, у которых «музыка с рук стекает» Живет в них.
Вот Соня как раз к таким и - относилась.
И руки у нее были очень красивые. Марина Цветаева, Маринушка,с ее любовью к жесту, к красоте, к Духу, который значим во все времена, но всегда - растоптан жестокими временами - напишет о руке Парнок так:
Рука, к которой шел бы хлыст,
И — в серебре — опал.
Рука, достойная смычка,
Ушедшая в шелка,
Неповторимая рука,
Прекрасная рука.
«Ушедшая в шелка»..Значит, женственная – неотступно думаю я…
И мне непонятен и отчетливо понятен страх Елены Оттобальдовны Волошиной перед Парнок, которая для нее была чем - то вроде - «Чары», волшебницы…
Столь же чарующи. строги, гармонически ясны, волшебны, основаны на классической традиции, латыни, греческих мифах, строфах Феокрита, Сапфо, Горация, на скандинавских легендах и напевах, бретонских катренах трубадуров и германских «остро лунных» балладах, стихотворения Парнок, ее переводы… Они не сложны, для них просто надо иметь большую душу и свободное воображение. Летящее, не сумрачное. Свободное, гармонию ищущее, взлетающее и обладающее ясной зрелостью очень чувственного, осязающего всеми шестью органами обладания, весь огромный мир - человека..
В ней, в «трагической леди», с юном обрывом покатого лба, в этой непонятой никем Сонечке Парнок – порок – парящей – перекаты фамилии – все время играли гормоны. То было меньше тестостерона, то - больше… Болезнь искала выход… Пыталась - диктовать свое, жесткое, суровое….
И вот, убегая от нее, от нее, от всех и вся, не рыдая и не - умирая, хотя можно было умереть десятки раз и от приступов кашля и от сердечных обмороков, Соня то надевала мужской костюм, то снимала его, волнуя знакомых мужчин - пажей мягким чуть хрипловатым голосом и музыкой, льющейся из под ее рук, стихами, которые наперебой все читали в гостиных. Заучивать наизусть как то не получалось. Плавность и объемность звука и слога мешала. .
Она дразнила и мужчин и женщин.. Уводила свою болезнь от себя, как гамельнский крысолов в воды Души, ища новые, волнующие ноты, новые па для игры, для неравного танца со смертью. Так мне кажется. И Ираида Альбрехт и Марина Цветаева подхватили эту игру и очень умело подыграли.
Создали роман...
С покорностью принятых на себя ролей ревнивых пажей и очарованных фей в свите волшебницы. Литературное соперничество, заданность декадентских красок для портрета Любимой и Любящей до жара зрачков – все это было. Стихов - не скрывали. Их живо, и смеясь, и недоумевая, и о чем то допытываясь друг у друга, обсуждали в гостиных и салонах, фыркали и загадывали новые шарады. И держали пари и срисовывали крой костюма и запоминали длину боа на плечах Сони и ширину пенсне Марины.
Но были еще и откровенные – обо всем и вся – и о смерти близкой – тоже - разговоры за полночь и поездки в церковь в Ростов Великий, в кокетливых, женственных шубках, искрящихся от снега и платьях, похожих на амазонское сукно и монашью рясу - одновременно, и восторг лихачей извозчиков: »Эх, барышни, прокачу!» - с оглядкой на странные, тонкие, по девичьи фигуры, то и дело прыскающие смехом, оттого что что то шепчут друг друга на ухо.. Чудно и складно…
Аля, кстати, была с ними, светлый и большеглазый ангел в плюшевой шубе, и мне не верится в злой, нервный и слишком чувственный окрас романа, в котором, по словам ревнивой матери Макса, Марина «должна была перегореть».. Но и чувственность бывает разная. Это и игра, и просто поиск линий Судьбы на руке, и укрывание плюшевым пледом, и какие то секреты женские, дамские, простые, быть может, милая и ясная тоска по дому с шоколадными стенами, с портретом Бетховена в гостиной или - по красивому белью, посуде, аромату домашнего хлеба и чая… Тоска сиротства. Покинутости. Оставленности.
Соня, со скрытым своим жаром материнского инстинкта и жажды любви, могла погасить его. Или – утишить. Он не полыхал более яростным огнем бузинного куста в разлуке с Сережей и близкими. ..Заботливость принималась благодарно, почти по детски, со смехом и шутками. И давалась - так же.
И еще одно. Мы с трудом можем представить себе изысканную, изящную обыденность вещей Серебряного века, вещей века девятнадцатого. Поясню немного. Что я хочу сказать. Лирическим отступлением личного впечатления….
Мне однажды принесли и показали дамский альбом с застежками для стихов и записей.
…В этом альбоме, роскошном несмотря на пролетевшие два века, с листами веллиума, водяным знаком владелицы, золотом обреза и бархатом обложки хранился обрывок носового платка из тех времен… Взяв его в руки, с упавшим сердцем – не говорю уже - про трепет – я внезапно, и без жестких кадров фильма С. Говорухина поняла, какою была Россия, которую мы потеряли там, в вихре семнадцатого.. А может быть, и не находили никогда.. И не снилась ни эта чудность и тонкость вещей, ни эта латынь, ни этот снег на беличьих шубках и Ростов Великий, с его колоколами и церквями и иконами в старинных окладах.. «Я ее хочу!» – сказала Соня Парнок, едва войдя в церковь, и, увидя око Божией матери и ее ясный рот, с горькою складкой.
И поспешила приложиться устами к иконе. Я не усматриваю во фразе этой никакого кощунства. Это - суть Парнок, парадокс ее внутренней, страстной нервности и неровности – чувственно, в красках и звуках. Точно так же сказала, например, великая Образцова о Марухе Гарруда, увидев ее страстный, обжигающе босой танец и горькую – горлом и сердцем - песню в одной из таверн современной Испании…
Теперь можно понять больше. Иначе. С другим знаком и апострофом... Я пытаюсь.
...Культ чувственности, осязания мира для неординарной творческой личности во всех ее гранях – нужен, важен, как воздух… Культ любви и игры… Поклонения и оставленности. Трубадурства, турнира, пусть нарочитого, постижения, покорения, соблазнения. Соблазна..
Культ чувства во всей его остролунности, как пел когда то Вертинский… Все это было там. В серебре, в мутной амальгаме века уплывшего от нас - навсегда. И мы не понимаем этого. Приписываем свои краски, более четкие, зримые, фроттажные, рассыпающиеся грифелем. Злые, часто неумные.. Но в них тоже так много игры и буффонады, в этих новых красках отношений Цветаевой и Парнок, «уточненных» Дианой ле Бургин, Л. Анискович и многими еще, многими.
Отношения эти , культовые для нашего странного и страшного, ненастоящего времени разорваны на цитаты, части, эпиграфы, эпитеты. Все стихи цикла «Подруга» потрясающие в своей тонкости и лиричности, обнаженности – целомудренной и шаловливой, поражающей мастерством передачи всех оттенков Души и полновесной внутренней музыкальностью – словно Шопена или Моцарта вдруг перевели в слова- так обеднили исследователи бытовым пристрастным, откровенно пошлым комментарием – и такое есть! – что не хочется сейчас и здесь об этом говорить… Я попытаюсь штрихами дорисовать портрет Софии Парнок – трагической леди последней трети Серебряного Века, перешедшего плавно в железно – кровавый, с замками тюрем и стылостью колымских лагерей…
...После ухода Марины, после возможной ссоры, остывания сердолика в сердце, отплытия, отстраненности – все возможно, это лишь естественный ход вещей, не более того, думаю - в жизни Парнок оставалось еще многое: и преодоление чудовищных условий бытия, и работа в библиотеке, и житие с подругой, Ниной Веденеевой, одинокое, трудное, они сами таскали воду в тяжелых ведрах, чтобы полить огород и чайные розы. И воспоминание о Марине.
Она любила ее, будто свое не рожденное и рожденное дитя, она лелеяла в душе эти неоконченные разговоры, бесконечное: «А знаешь…»или переборы гитары, серебряные переборы, как и браслеты на Марининых руках… Она пыталась вспомнить ее голос. Музыкально ясный и чистый, как серебряные брызги.. Удавалось ли ей это. Я не могу сказать…. Мною было неверно написано, что Марина Ивановна ненавидела Софию Яковлевну позже и яростно отвергала даже воспоминания о ней.. Основываясь на косвенных свидетельствах Т. Кваниной, теперь я могу сказать, что во время встречи с Федором Волькенштейном, в Доме отдыха Литераторов, в Болшево,
Цветаева очень долго разговаривала с давним знакомым, и в доброжелательном этом разговоре, наверняка, мелькали имена Софьи Яковлевны и ее близких. Иначе быть - не могло. Марина Ивановна после этой беседы выглядела задумчивой и сосредоточенной. Муру с трудом удалось ее разговорить во время трапезы.
София Парнок умерла от истощения и осложнений болезни, похоронена на одном малоизвестных немецких кладбищ Москвы… Сердце разрывается смотреть на обвалившийся крест, надгробие - неухоженное и запустелое…
А ломание копий на лже рыцарском турнире во славу необычности отношений Софии и Марины все длится… А чайная роза на одичавшей могиле все цветет.. робко и неизбывно..
Хоть это утешает…
________________________________________________
Св. Макаренко – Астрикова. Май 2015 года.
К читателю:
Основной текст очерка был написан мною в 2006 - 07 годах. Дополнить его хочется лишь тем, что, по моим личным сведениям надгробие и крест на могиле С. Я. Парнок (Парнох) восстановлены были не одной Марией Ивановой, а группой памяти поэтессы, созданной в соцсети. Участники группы - клуба ухаживают за могилой. За что им низкий поклон. Группой проводятся литературные вечера, концерты. В сети есть также сайт, полностью посвященный творчеству Софии Яковлевны. Книги Парнок по прежнему достать очень трудно.
|
Метки: литераторы цветаевы |
Русские дворяне в Америке (Бобринские и Тимашевы) |
Русские дворяне в Америке (Бобринские и Тимашевы)
1. СИМПОЗИУМ
Передо мной короткая компьютeрная распечатка — названия 13 докладов; под номером три: Татьяна Бобринская “Профессор Н. С. Тимашев и судьбы России”; а после — то, что с вожделением ждет утомленная к концу публика, — неофициальная часть. Я приехал в Нью-Йорк по литературным делам и позвонил знакомой. “Я завтра занята, — сказала знакомая. — Не хотите ли приехать в Колумбийский университет на симпозиум, посвященный юбилею └Нового журнала”? Там поговорим”. На следующий день я вышел на остановке метро “116-я стрит” и долго стоял у сваренных из металлических прутьев высоких ворот, ведущих на обширную территорию университета. Знакомую я не дождался и, пройдя территорию насквозь, широкой аллеей выбрался на улицу, где на отвоеванных у города плацдармах устремились к небу новые здания университета.
Зал был полон людьми. Впрочем, это был не зал, а две большие аудитории, разделенные когда-то стенкой. Стенку сломали в какой-то исторический момент, и получился глубокий колодец, но не идущий к центру земли, а опрокинутый и аккуратно разложенный на ее поверхности. Стараясь не шуметь, я разыскал место в задних рядах. Здесь было сумеречно и было полное ощущение, что я нахожусь на дне колодца. Где-то далеко впереди находился выход из него. Там на возвышении поместили стол президиума, залитый дневным светом, плывущим из широких окон. В перерыве часть публики, отдав положенную дань русской литературе, удалилась восвояси, и я пробрался вперед. Теперь я сидел совсем близко к столу президиума, но несколько боком к нему. Несмотря на это неудобство, в моей новой позиции все-таки было несколько преимуществ: через широкое окно открывался вид на Нью-Йорк сверху с небоскребами на горизонте, а моя правая рука опиралась на столик, на который установили внушительный титан, наполненный кофе. Тут же находились сливки, сахар и большие обвалянные в шоколаде конфеты.
Доклады медленно сменяли друг друга, как воинские когорты на параде. Неожиданно стало темнеть. Мощная лавина низких туч закрыла горизонт. Небоскребы разрывали ее, но тучи снова смыкали свои ряды, надвигаясь на наш зал, где сидели мужественные люди, решившие выслушать все доклады и дождаться неофициальной части. За окном подул сильный ветер, и на бедную землю обрушился новый потоп. Но публике уже было не до него. Зажгли яркий свет, со дна колодца убрали ряды стульев, поставили столы со стандартными для американских приемов яствами, среди которых возвышались пузатые бутылки с белым и красным винами. Со значительным трудом я протиснулся к столам и очутился рядом с худощавым человеком преклонного возраста. Видно было как он безуспешно пытается разыскать что-то среди обилия яств и напитков. Оказалось, что его желание было вполне прозаичным: он хотел наполнить свой стакан вином. Перед нами стояли две бутылки, но белое вино мой сосед решительно отверг, а другая была уже осушена любителями литературы. Проявив расторопность, мне удалось выудить бутылку с красным вином, красовавшуюся на значительном удалении от нас. Так началось мое знакомство с графом Николаем Алексеевичем Бобринским, род которого ведет свое начало от Екатерины Великой. Об этой бутылке вина Николай Алексеевич скажет впоследствии: “Это было самым приятным, что можно вспомнить”.
2. УРОК ИСТОРИИ ПРОФЕССОРА БРИКНЕРА
“Я получила от природы великую чувствительность и наружность, если не прекрасную, то во всяком случае привлекательную; я нравилась с первого раза, и, стало быть, половина искушения заключалась уже в том самом; вторая половина в подобных случаях следует из самого существа человеческой природы. Хотя в голове запечатлены самые лучшие правила нравственности, но как скоро примешивается и является чувствительность, то непременно очутишься неизмеримо дальше, нежели думаешь. Я, по крайней мере, не знаю до сих пор, как можно предотвратить это”. Такой отрывок из записок Екатерины II приводит профессор А. Г. Брикнер в книге о ее царствовании.
Передо мной портрет очень молодого человека в европейском платье по моде XVIII века; на голове — пышная шляпа с плюмажем, вокруг шеи повязан кокетливый шейный платок. Тонкие черты лица красивы и приятны. Под портретом надпись: “Граф А. А. Бобринский”. К книге профессора Брикнера приложены репродукции с 300 гравюр. На них изображены царствующие особы России и европейских государств того времени, европейские послы, крупные деятели екатерининской эпохи. 299 гравюр не вызывают вопросов. Они приложены всегда к той странице, где описываются деяния этого лица или события, в которых это историческое лицо активно участвовало, и только портрет графа А. А. Бобринского вызывает некоторое недоумение пытливого читателя. Автор, профессор А. Г. Брикнер, нигде ничего не говорит о нем. Правда, на соседней странице приведена цитата: “В письме Екатерины к барону Гримму от 1 июня 1783 года сказано: └Смерть князя Орлова свалила меня в постель””. В конце цитаты сноска, а в нижней части страницы мелким шрифтом сделано примечание, в котором профессор Брикнер вольно или невольно прячется за спину другого автора и где сказано: “У Орлова был сын Бобринский и дочь Алексеева, вышедшая замуж за Клингера. Бобринский родился в апреле 1762 года. См. письмо Екатерины к нему и дневник Бобринского 1779 года в Русском архиве”.
В этом примечании трижды поминается фамилия Бобринский, но инициалы А. А. стоят только в надписи под портретом. И возникает вопрос: почему дети Орлова носят разные фамилии, отличные от фамилии отца, и почему под портретом инициалы А. А., если отец Григорий Орлов? Но может быть это внук или правнук Орлова, то тогда зачем его портрет помещен в книге, описывающей екатерининскую эпоху? В конце книги приложен список гравюр, и опять повторяется — А. А. Бобринский, но уже в списке имен неожиданно появляется “А. Г. Бобринский — сын Григория Орлова”. Что это — опечатки, или кто-то сознательно путает карты? Вообще, с именем Алексей происходит странная игра: этим именем был наречен граф Бобринский, и у Брикнера в двух местах, как бы случайно, его инициалы А. А., дочь Орлова носит фамилию Алексеева, и также нужно помнить, что Екатерина II приняла православие под именем Екатерина Алексеевна.
В примечании далее говорится: “О его (Бобринском) житье за границей в 80-х годах встречаются многие данные в переписке Екатерины с бароном Гриммом, так как последний должен был наблюдать за ним”. И опять вопрос: почему о сыне не заботится отец, Григорий Орлов? Почему о юноше заботится Екатерина и поручает присмотр за ним особо доверенному другу барону Гримму? Вообще, при чтении этих эпизодов создается впечатление, что некто что-то не договаривает и старается запутать дотошного читателя.
3. БОБРИНСКИЕ
У Екатерины в браке было двое детей. Профессор Брикнер пишет: “20 сентября 1754 года Екатерина родила сына Павла. Лишь только его спеленали, императрица Елизавета Петровна приказала повивальной бабке взять ребенка и следовать за нею. Екатерина видела своего сына чрезвычайно редко… 9 декабря 1758 года Екатерина родила дочь: она просила императрицу, чтоб та позволила назвать ребенка ея именем, но Елизавета дала ей имя старшей сестры своей, герцогини Голштинской, Анны Петровны”.
В 1885 году, когда Суворин издал жизнеописание Екатерины Великой, российский престол занимал Александр III. Книга была предназначена для широкой публики, и потому личную жизнь предков царствующих особ профессор истории Дерптского университета А. Г. Брикнер должен был освещать осторожно и деликатно. Но через 100 лет в сборнике статей “Русские цари 1547–1917” под редакцией профессора Ханса Иоахима Торке профессор Марк Раев пишет куда откровеннее: “Ко времени вступления Петра на престол Екатерина была беременна (вероятно, от Г. Орлова). Мы помним: в книге Брикнера указано, что сын Орлова граф Алексей Григорьевич Бобринский родился в апреле 1762 года. До восшествия Екатерины на престол оставалось около трех месяцев.
В 1962 году в США в издательстве В. Поатэ вышла небольшая книга на английском языке: “Графы Бобринские. Генеалогия”. Составил ее Дэйвид Джеффри Вильямсон, а предисловие написал граф А. А. Бобринской. В этой книге уже на первой странице все расставлено по своим местам — нет недомолвок и нет опечаток: “Граф Алексей Григорьевич Бобринский, незаконный сын императрицы Екатерины II, урожденной принцессы Софии-Августы-Фредерики Ангальт-Цербстской, от князя Григория Григорьевича Орлова родился в Зимнем дворце, Санкт-Петербург, 11(22) апреля 1762 года; умер в Богородицке 20 июня (2 июля) 1813 года, похоронен в селе Бобрики”.
А. Г. Бобринский трех лет от роду получил в наследственное владение сельцо Бобрики, а также село Михайловское и городок Богородицк — все в Тульской губернии. Учился в Кадетском корпусе, путешествовал за границей со своим воспитателем адмиралом Рибасом, служил в кавалерии; выйдя в отставку в чине бригадира, поселился в городе Ревель. Императорским указом от 12 (23) ноября 1796 года бригадиру А. Г. Бобринскому было пожаловано звание “Графа Российской Империи”. Указ подписал его сводный брат император Павел I через шесть дней после смерти их матери Екатерины II, а вскоре император официально представил графа Бобринского Сенату как своего брата. Граф Бобринский вернулся на службу и был назначен командиром 4-го эскадрона императорской конной гвардии в чине полковника, а через год получил звание генерал-майора. Он был женат на Анне Доротее (Анне Владимировне), дочери Волдемара Конрада Фрейхерра фон Унгерн-Стернберга. О ней есть много заметок в дневниках Пушкина, и, в частности, такая: “Старуха Бобринская всегда за меня лжет и вывозит меня из хлопот”.
Инициатор книги в биографии своего предка говорит, что их фамилия происходит от названия сельца Бобрики, которое Екатерина пожаловала своему сыну. Но существует более романтичная версия происхождения фамилии: первый граф Бобринский был тайно вынесен из Зимнего дворца, спрятанный в бобровой муфте. К книге приложена фотография родового герба Бобринских и девиз: “Богу — слава. Жизнь — тебе”. Эти слова произнесла Екатерина, когда ей поднесли рожденного ею мальчика.
4. ТИМАШЕВЫ
Все приятное в этой жизни имеет скорый предел: неофициальная часть симпозиума подходила к концу. На столах все уже было съедено и выпито, обо всем переговорено, и оживление публики стало спадать. Николай Алексеевич представил меня Татьяне Николаевне Бобринской. Мы спустились по широкой парадной лестнице и очутились в просторном вестибюле. Высокие каменные своды возвышались над нами. В этом полном пространства и света помещении человек чувствовал свою малость в огромном окружающем мире. Заказанное такси задерживалось. Николай Алексеевич стоял в центре вестибюля, и было видно, что он очень устал. У стены, как застывший строй солдат, подобранных по росту и за это качество взятых в гвардию, чинно стоял длинный ряд стульев. Прожитые годы, вдруг дружно навалившись, иногда делают трудным каждый шаг. Нарушив стройное и солидное расположение стульев, я выхватил один из них и поставил в центре вестибюля. “Раз вы потомок Екатерины Великой, то должны сидеть в центре зала”, — не то серьезно, не то с шутливым оттенком воскликнул я. Служащий университета, чернокожий плотный мужчина в строгом костюме, внимательно оглядел нарушенный порядок, но ничего не сказал, видимо, в душе согласившись со мной.
Прошло больше года. И вот машина, которую ведет мой сын, проезжает улицами городка, который называется Маунт Вернон, что можно перевести “Гора Вернон”. Городок административно входит в состав штата Нью-Йорк и примыкает к великому городу. Кроны огромных старых кленов по обеим сторонам, склонившись друг к другу, смыкаются где-то вверху. В этом коридоре едет наша машина. Нужный поворот мы, конечно, проскакиваем: дощечка с названием улицы утонула в густой зелени. Но вот наконец мы у цели — справа от нас дом с белыми колоннами.
Татьяна Николаевна Бобринская, в девичестве Тимашева, принадлежит старинному дворянскому роду. Родилась она в Берлине в семье юриста и социолога, ученого с мировым именем Николая Сергеевича Тимашева; училась во Франции, в Сорбонне, работала в колледже святого Петра в штате Нью-Джерси. С некоторым умыслом напомним, что Татьяна Николаевна принадлежит старинной дворянской семье Тимашевых, а затем отвернемся от суровой прозы и оборотимся лицом к звонким стихам.
1
Послушайте, ребята,
Что вам расскажет дед.
Земля наша богата,
Порядка в ней лишь нет.
2
А эту правду, детки,
За тысячу уж лет
Смекнули наши предки:
Порядка-де, вишь, нет.
3
И стали все под стягом,
И молвят: “Как нам быть?
Давай пошлем к варягам:
Пускай придут княжить”.
Перед читателем медленно текут века, как трамваи в старой кинохронике. Они наполняются все новыми историческими персонажами, некоторые из них опаздывают и не могут протиснуться в плотно набитые вагоны и потому цепляются снаружи или устраиваются на “буферах”; и тогда явственно слышна их резкая солдатская речь на немецком языке. А в конце стихотворения написано следующее:
79
Увидя, что все хуже
Идут у нас дела,
Зело изрядна мужа
Господь нам ниспосла.
80
На утешенье наше
Нам, аки свет зари,
Свой лик яви Тимашев —
Порядок водвори.
Это знаменитое сатирическое стихотворение графа Алексея Константиновича Толстого “История Государства Российского от Гостомысла до Тимашева”. В марте 1868 года бывший управляющий Третьим отделением А. Е. Тимашев был назначен императором Александром II министром внутренних дел; в том же году написана сатира А. К. Толстого, которая распространилась во множестве списков, но появилась в печати только 15 лет спустя в 1883 году, уже во время следующего царствования — императора Александра III.
В 1965 году в Нью-Йорке вышла книга под названием: “На темы русские и общие” с помещенным ниже подзаголовком: “Сборник статей и материалов в честь проф. Н. С. Тимашева”. Почетным редактором этого сборника был знаменитый ученый — профессор сначала Петроградского, а затем Гарвардского университета в США, основатель и глава отдела социологии Гарвардского университета, почетный член Американской академии искусств и наук профессор Питирим Александрович Сорокин. Это большая редкость, когда группа выдающихся ученых с мировым именем из разных университетов и стран участвует в составлении сборника материалов в честь своего коллеги. Но именно такой сборник вышел в 1965 году в честь отца Татьяны Николаевны, Николая Сергеевича Тимашева, что говорит о значении трудов Николая Сергеевича для мировой науки. Только список работ профессора Тимашева, приложенный к этому сборнику, составляет 16 страниц убористого текста; и этот перечень не включает газетные публикации, которые достигают внушительной цифры — 2000.
Предисловие к сборнику написано главным редактором профессором Н. П. Полторацким: “Ряд годовщин — сперва семидесятипятилетие со дня рождения Н. С. Тимашева, потом пятидесятилетие с момента появления его первой научной статьи и первой книги (└Условное осуждение”, 1914 год) дали возможность оценить заслуги профессора Тимашева и породили замысел почтить юбиляра изданием специального сборника статей и материалов в его честь под эгидой Общества друзей русской культуры в Нью-Йорке. Большой поддержкой всему начинанию послужило то, что давнишний коллега и друг профессора Тимашева профессор П. А. Сорокин с самого начала любезно согласился дать свое имя в качестве соавтора и почетного редактора сборника…” Сборник состоит из трех частей. Статьи первой части целиком посвящены Н. С. Тимашеву — ученому, учителю, коллеге.
“Дорогой Николай Сергеевич! В поздний вечерний час и Вашей, и моей жизни я хочу выразить мое глубочайшее уважение к Вам как личности, мое восхищение Вашими научными достижениями и мою глубокую благодарность за Ваше плодотворное сотрудничество со мной. Я рад тому, что, хотя мы вышли из разных слоев русского народа, наши жизненные пути пересеклись, в предреволюционный период, в момент блестящей защиты Вами магистерской диссертации об └Условном осуждении” в Петроградском университете, и с этого момента наши жизненные пути шли в дружественном сотрудничестве в течение многих лет нашей эмигрантской жизни.
Вы не только преодолели громадные трудности эмигрантской жизни, но и, оставаясь все время культурным, политическим и моральным └рыцарем без страха и упрека”, успешно продолжали свою творческую научную и культурную работу, которая сделала Вас одним из выдающихся мировых ученых в области социологии и социальных наук, крупным мыслителем, профессором и воспитателем ряда американских студенческих поколений и человечества нашего времени вообще”. Это послание подписано: “Сердечно Ваш Питирим Сорокин”. Председатель Общества друзей русской культуры в Нью-Йорке Г. И. Новицкий рассказывает о семье Тимашевых: “Дворянский род Тимашевых дал на протяжении поколений ряд государственных деятелей и людей, отличившихся своими трудами в области юриспруденции. Сергей Иванович Тимашев (отец Николая Сергеевича) 45 лет от роду стал управляющим Государственным банком. Будучи назначен министром торговли и промышленности по предложению П. А. Столыпина, С. И. Тимашев ценой трехлетних усилий добился проведения закона о государственном страховании рабочих от несчастных случаев и болезней. Этот закон был проведен в царской России на четверть века ранее, чем в США. За этим законом последовали бы другие, если бы С. И. Тимашев продолжил быть министром. Но из-за подкопа под него пресловутых └темных сил” во главе с Распутиным ему пришлось покинуть этот пост. Чтобы позолотить пилюлю, он был пожалован редким званием статс-секретаря его величества и назначен членом Государственного совета.
Николай Сергеевич Тимашев родился в Петербурге, образование получил в Императорском Александровском лицее. Затем учился в Страсбургском университете, ректором которого в то время был его дядя по матери Андрей фон Тур, известный немецкий ученый, написавший много трудов по вопросам юриспруденции. Другим его дядей был знаменитый петербургский профессор международного права Николай Мартенс, заслуживший мировое признание. А третий его дядя, Филипп Хек, был основателем школы юридической философии. По возвращению в Россию Н. С. Тимашев был приглашен читать лекции в Петербургском университете и одновременно стал выполнять работу личного секретаря своего отца. Это дало молодому ученому возможность изнутри наблюдать работу важных отраслей государственного управления. В дальнейшем Н. С. Тимашев был удостоен Петербургским университетом степени доктора права за двухтомную диссертацию о подрывной деятельности с правовой точки зрения под названием └Преступное возбуждение масс”. В 1917 году по поручению Временного правительства первого состава, возглавлявшегося князем Львовым, Н. С. Тимашев подготовил законопроект, известный под именем закона 6 июля. По мнению многих, будь этот закон обнародован и применяйся правительством строго на практике, возможно, большевистские вожаки никогда не пришли бы к власти”.
5. ИВАН АНДРЕЕВИЧ МУХИН И ГУВЕРНАНТКА КНЯЗЯ ЩЕРБАТОВА
Г. И. Новицкий наивно трактует обстановку в Российской империи. Свидетельства современников помогают хоть немного почувствовать тогдашние настроения общества. Вот отрывок из письма обер-прокурора Святейшего Синода Победоносцева: “Тяжело было и есть, горько сказать, и еще будет. У меня тягота не спадает с души, потому что я вижу и чувствую ежечасно, каков дух времени и каковы люди стали. Сравнивая настоящее с прошедшим, чувствую, что живем в каком-то ином мире, где все идет вспять к первобытному хаосу. И мы, посреди всего этого брожения, чувствуем себя бессильными”.
А вот выдержка из книги “Моя жизнь” Троцкого: “Я познакомился с рабочими, среди которых был электротехник Иван Андреевич Мухин, ставший вскоре главной фигурой организации. Мухин, худощавый, бородка клинушком, щурит лукаво умный левый глаз, и обстоятельно, с лукавыми остановочками, разъясняет мне: └Евангелие для меня в этом деле как крючок. Я с религии начинаю, а перевожу на жизнь. Я на днях на фасолях всю правду раскрыл. Очень просто: кладу зерно на стол — вот это царь, кругом еще обкладываю зерна — это министры, архиереи, генералы, дальше — дворянство, купечество, а эти фасоли кучей — простой народ. Теперь спрашиваю: “Где царь?” — он показывает на середку. “Где министры?” — показывает кругом. Как я ему показал, так он мне и говорит. Ну, теперь постой! Теперь погоди! Тут я все эти фасоли и перемешал: “А ну-ка покажи, где царь? Где министры?” — “Да кто ж его теперь узнает? Теперь его не найдешь”. — “Вот так, — говорю, — и надо все фасоли перемешать”””.
А теперь обратимся к рассказу князя Алексея Павловича Щербатова: “Вспоминаю, мне было всего семь лет, когда в 1917 году Ленин прибыл в Петербург и выступил с балкона особняка Кшесинской. В этот момент я со своей гувернанткой проходил мимо слушавшей его толпы. Моя гувернантка была англичанка, добрая и умная женщина, свободно говорившая по-русски. Мы опоздали к завтраку. Дядя встретил нас недовольно и сказал гувернантке: └Не стоило задерживаться, чтобы слушать этого проходимца”. Она ответила: └Нет, князь, вы ошибаетесь — сегодня Ленин — самый опасный для России человек. Он пропагандирует грабеж, а это всегда привлекает массы людей””.
6. ТИМАШЕВЫ (ПРОДОЛЖЕНИЕ)
Профессор Н. С. Тимашев является одним из основателей социологии права как науки, и когда он начал читать курс о праве с социальной точки зрения в Петербургском Политехническом институте, то этой науки еще почти не существовало. Однако в 1921 году его работа была прервана: нависшая угроза ареста в связи с нашумевшим делом о Таганцевском заговоре заставила бежать за границу. Николай Сергеевич один из немногих, а может, единственный человек из того большого круга лиц, попавших в список ЧК, которому удалось спастись. В этом списке было много случайных людей, зачастую не знавших друг друга и вина которых заключалась в том, что потенциально они могли думать не так, как предписывали идеи революции. По этому списку 3 августа 1921 года был арестован известный поэт Николай Степанович Гумилев. Вот что писал позднее в Париже поэт Николай Оцуп: “7 августа 1921 года умер в страшных мучениях Блок. 24 августа того же года расстрелян Гумилев. Он взял с собой в тюрьму Евангелие и Гомера. Из тюрьмы писал жене, ободряя ее, хотя знал, что его ждет. На Смоленском кладбище, куда мы принесли на руках гроб Блока, представители самых видных петербургских научных и литературных организаций сговорились идти в Чека с просьбой выпустить Гумилева на поруки. Наше ходатайство не имело успеха”.
Николай Сергеевич Тимашев спускался по лестнице дома, где он жил, а навстречу поднимались два человека. Николай Сергеевич сразу сообразил, из какой организации пришли эти люди и за кем, но спокойно прошел мимо них. Чекисты не знали его в лицо, а домой он уже не вернулся. Потом с женой и младшим братом он ушел из города, чтобы с помощью проводника переправиться через реку Сестру на территорию Финляндии. На финской земле Тимашевы были арестованы, но письмо генералу Маннергейму спасло положение: генерал был знаком с семейством Тимашевых по дореволюционным годам.
Затем был Берлин, сотрудничество в газете “Руль”, приглашение профессором в Пражский университет, а с 1928 года Париж: работа в газете “Возрождение” в качестве, как сказали бы сегодня, советолога и одновременно преподавательская работа в Славянском институте Сорбонны и Франко-русском институте.
В 1932 году профессор Питирим Сорокин возглавил предпринятый Гарвардским университетом (Бостон, США) огромный коллективный труд о “Динамике социального и культурного развития”. К разработке этой сложной темы было привлечено 60 крупнейших американских и европейских ученых, и неведомо для них было заранее решено пригласить затем в университет автора лучшей работы. Выбор пал на Николая Сергеевича Тимашева, и в 1936 году профессор переехал в США.
В 1948 года профессор Тимашев напечатал в журнале “Thought” (“Мысль”) статью “Россия и Европа”. В ней он развивает взгляд, что Россия — часть европейской семьи народов, общей базой которых является христианская культура, что культурные различия между Россией и другими частями европейской цивилизации уменьшаются. Этот тезис есть нечто вроде лейтмотива во многих его работах.
7. ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА И НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Мы сидим на открытой веранде, обращенной к улице. Веранда возвышается над ней, но укрыта от посторонних взглядов пышными кустами и деревьями. Впрочем, на улице тихо: не слышно ни людей, ни машин, как часто бывает в маленьких американских городках. Мы пьем холодный американский чай, заедая пирогами, купленными мной в русском магазине “Домино” в Бруклине. Жарко — воскресный день 20 июля.
Я достаю из сумки несколько журналов, где напечатаны мои стихи и эссе, и говорю: “Несмотря на солидный возраст, я молодой автор, но уже имею публикации в трех странах. Я говорю это в порядке саморекламы”. В ответ Татьяна Николаевна смеется: “Да, да, конечно, это нужно, особенно в США. Как говорил знаменитый профессор Сорокин моему отцу, который, может быть, был еще более большой ученый: └Здесь надо трубить про себя, чтобы о вас говорили. Неважно что — плохое или хорошее, лишь бы говорили””.
Рассуждая вслух, я объясняю, как мне представляется предполагаемый рассказ. На мои, казалось бы, невинные слова Татьяна Николаевна реагирует неожиданно: “Я совершенно отдельный человек. Я — Тимашева. Так что это совсем другое”. Это было произнесено с особой интонацией, и вложен глубокий смысл. Николай Алексеевич, услыхав слово “другое”, машинально принижает смысл сказанного, переведя услышанное в русло добрых отношений с супругой: “Но она стала своим человеком”. — “Нет, я всегда была своим человеком”. — “Ну, так этого у тебя никто не отнимет”, — мгновенно отзывается Николай Алексеевич.
Я продолжаю развивать сюжет будущего рассказа: “Начинается все так, как мы с вами познакомились”. — “Хорошо!” — с чувством произносит Татьяна Николаевна. “Дальше о знаменитой бутылке вина, поскольку, как сказал ваш супруг, это самое важное, что он помнит”. Татьяна Николаевна заливисто смеется: “Он любит хорошее красное вино и не видел его на столе поблизости. После множества докладов все набросились на угощение; я даже не попала к нему, потому что нельзя было пробиться”.
Татьяна Николаевна уходит за программкой симпозиума для меня, а я говорю Николаю Алексеевичу, что хочу написать не только о нем, но и о его супруге, и слышу в ответ: “Она очень важный человек не только для меня, но и для многих других”. Татьяна Николаевна приносит программку и объемистую книгу: “Здесь вы увидите, кто мой отец и кто я. Мало кому посвящали такие книги и в честь кого это делали”.
Николай Алексеевич начинает рассказывать о себе: “Я родился на юге Франции в 1921 году. Мой отец, Алексей Александрович Бобринской, был очень пожилой человек. Он меня родил, когда ему было почти 70 лет. Это было его последнее усилие, как тогда многие смеялись. Мой папаша родился в 1852 году. Неплохо? Больше 150 лет назад! Он был известный археолог. Это его всегда интересовало. Они еще до революции в Италии копались — он был приглашен в Помпею на раскопки. В память тех дней отец звал меня Помпик, так называла меня и Вера Константиновна, а Алексей Щербатов — Помпеем”.
Алексей Щербатов — это князь Алексей Павлович Щербатов, а Вера Константиновна — княжна Романова. Татьяна Николаевна поясняет: “Отец Николая Алексеевича был вице-председателем Академии искусств, председателем Императорской археологической комиссии, сенатором, министром. Он был близкий родственник Романовых, крестник императора Николая I. Император держал его на руках, а с императором Александром III они играли в детстве”.
Николай Алексеевич продолжает: “Отец бежал сначала в Турцию, где повенчался с Раисой Петровной Новиковой, моей матерью. Первая жена отца умерла во время гражданской войны от тифа, и от этого брака у отца было несколько детей. Все они были старше моей матери: она была моложе отца на сорок два года. Из Турции родители перебрались сначала в Италию, а затем в Ниццу, где я родился. Мой отец жил очень широко и отдавал матери все, что мог. Вначале он имел какие-то средства, но все ушло.
Когда отец умер, власти оказали ему воинские почести, так как он был кавалером ордена Почетного легиона. Отец получил орден от французского правительства, когда представлял Россию на 1-й Всемирной выставке в Париже. Мать пошла работать в больницу, а меня отдала в русскую школу-пансионат. Это была школа для дам и мужчин. В шесть лет я начал там свою карьеру. Я был способный, хорошо учился и довольно прилично пел и рисовал. Я рисовал всю жизнь. Легче спросить, когда я не рисовал.
После немецкого вторжения меня призвали в армию, а затем я был отправлен на работы в Германию. В 1945 году меня освободили американские солдаты. Я приехал в Париж и получил от правительства 3000 франков компенсации за насильственную мобилизацию. Я их истратил за один вечер: купил матери подарок, а остальное прогулял”.
“Это очень маленькие деньги, — смеется Татьяна Николаевна, — но он хорошо поел и попил в тот вечер”. Затем была работа на русской ферме, художественное училище, русская художественная мастерская. “Я там за три минуты научился. Я рисовал на платках, галстуках, шарфах контур, а девицы заполняли красками. Мы использовали шелк трофейных итальянских парашютов: война закончилась, и они никому не были нужны. Когда я встретил свою первую супругу, мы организовали бизнес у себя на квартире: я рисовал, а она раскрашивала. Платки мы отсылали в Нью-Йорк, где у моей тетки был элегантный магазин. Половину вырученных денег она отсылала нам в Париж, а остальное копила для нас, чтобы со временем мы могли переехать в Америку”. В США Николай Алексеевич стал известным художником-декоратором и не менее известным живописцем.
Я спрашиваю моих хозяев, как они познакомились. Мой вопрос вызывает веселое оживление. “Знакомство произошло очень интересно, — говорит Татьяна Николаевна. — Это то, что можно назвать └собачья история”. Я была замужем раньше. У нас были чудные собаки афганской гончей породы. Мой первый муж забрал их с собой, но на новом месте соседи не разрешили их держать. Он и послал их обратно в клетке по железной дороге. Когда собак доставили, они были дико грязные. Моя знакомая предложила привести собак к ней. Когда я пришла, то увидела, что в саду копается какой-то молодой человек. Я начала возиться с собаками, а он стал возмущаться”. Николай Алексеевич добавляет: “Я такого никогда не видел: красивая блондинка с двумя большими грязными собаками. После того как мы познакомились, мы этих собак довели до дома, где она жила с отцом. Она была красивая женщина, и я там застрял”.
8. ОРДЕН СВЯТОГО ИОАННА
В 1020 году торговые люди из Италии получили разрешение от калифа Египта построить странноприимный дом в Иерусалиме в честь святого Иоанна Крестителя для христианских паломников к месту рождения Иисуса Христа, а вскоре после первого крестового похода братом Герардом Благословенным был основан монастырский орден. Преемник брата Герарда Раймонд де Пьюи основал первую больницу ордена госпитальеров в Иерусалиме. Орден святого Иоанна Иерусалимского столетиями служил главным бастионом христианства против ислама. Русская история ордена начинается с 1797 года, когда после захвата Мальты Наполеоном император Павел I решил принять орден под свое высокое покровительство. Павел I учредил 21 православное командорство, а впоследствии Александр I добавил еще два. Были назначены потомственные командорские семейства, которые могли продолжать себя все время.
26 мая 1977 года в Нью-Йорке состоялось собрание потомственных командоров ордена святого Иоанна Иерусалимского, на котором граф Николай Алексеевич Бобринской был избран великим приором ордена. Графиня Татьяна Николаевна Бобринская стала главным администратором ордена. Она говорит: “Работа ордена — это чисто благотворительная работа, но и огромная административная, потому что существуют приорства во многих странах. Это очень серьезная работа, например, мы помогаем восстанавливать религиозную жизнь в России. Быть членом ордена может каждый, но нужно выполнять условия: верить в Бога, принадлежать одной из христианских конфессий и работать на благие цели ордена”.
Пора и честь знать: беседа несколько утомила всех. Татьяна Николаевна любезно идет проводить меня с сыном. Мы спускаемся по довольно крутым каменным ступеням, выходим на улицу, и я в последний раз оглядываюсь на старый дом с белыми колоннами, в котором неумолимое время тихо шуршит пожелтевшими страницами русской истории.
|
Метки: бобринские тимашёвы сан-франциско эмиграция |
ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА ПЕШКОВА |
ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА ПЕШКОВАhttp://doykov.com/lj/ekaterina-pavlovna-peshkova/
ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА ПЕШКОВА. БИОГРАФИЯ. ДОКУМЕНТЫ. ПИСЬМА. ДНЕВНИКИ.
ВОСПОМИНАНИЯ. Автор-составитель Л.Должанская.М.2012-758 стр.109 фотографий
…В мае 1922 года Пешкова вместе с Дзюбинской по поручению Польского Красного Креста обследовали тюрьмы и лагеря Вологды, Архангельска, Холмогор.
Интересовало их наличие польских граждан…
Из книги неясно — нашли ли…
"В архангельском концлагере, в основном белогвардейсеие офицеры, много участников Тамбовского восстания …", — отчитывалась Пешкова в июне 1922 года в Московском Политическом Красном Кресте…
Известно, что фактически никто из польских военнопленных польско-советской войны 1920 года никогда не вернулись…
Скорей всего их расстреляли в Холмогорах или утопили на баржах в Белом море, в Северной Двине..
К приезду Пешковой и Дзюбинской даже комендант Хомогорского концлагеря Бальвич, похоже был ликвидирован…
Следы чекисты заметать умели…
Сейчас они "Крестные ходы" устраивают от Архангельск до Лявли…
Надо бы до Холмогор…
Юрий Дойков
12 мая 2012
Архангельск
Опубликовано 12.05.2012Автор admin_dРубрики Старый блогМетки Дзюбинская, Пешкова
Навигация по записям
|
Метки: пешковы красный крест |
Как Цветаева убила свою дочь и была затравлена собственным сыном |
Как Цветаева убила свою дочь и была затравлена собственным сыном
Марина Ивановна Цветаева наверняка известна многим поклонникам серебряного века русской литературы. Сколько всего можно о ней сказать, патриотка России, гениальная поэтесса и отвратительная мать. Загубившая одну из своих дочерей в приюте имея все возможности ее спасти.
На одной из передач Школы Злословия телеведущие пригласили известного литературоведа и ведущего специалиста по творчеству Марины Цветаевой, Ирму Кудровую И под конец передачи ведущая спросила: «Я люблю Цветаеву и ее творчество, но я считаю ее письма человечески невыносимыми и позорными.» Так же они долго вытягивали у эксперта ответы на вопрос: почему она так поступила со своей дочерью. На что последовала долгая тирада где она сказала: не надо делать эту историю достоянием общества. Ведь это же Цветаева, опубликовав ее темные стороны биографии мы можем очернить ее творчество.
Из этого следует, что раз кто-то очень талантлив и гениален, то люди должны закрывать глаза на абсолютно аморальные вещи. Она же кумир миллионов, часть нашей культуры. Нет, это неправильно. Правду надо знать, а как уж потом относится к писательнице, пусть каждый решает для себя.
Немного о личности Цветаевой.
Ирины Эфрон так звали ее дочь, которая умерла в три года. Все строки взяты из дневника Цветаевой, за три месяца до смерти дочери.
«Возвращаюсь с Пречистенки с обедом. Хочется есть, спешу. Под ноги — старуха — старушонка — премерзкая: «Подайте нахлеб!» — Молча и возмущенно (у меня просить!) пробегаю мимо».
МЦ, 1919
Это довольно стандартная фраза для дневника великой поэтессы. Скоро за этим последует другая строка: Заведующий приюта 24 ноября сообщает, что двухлетняя Ирина в приюте кричит от голода.
«Ирина, которая при мне никогда не смела пикнуть. Узнаю ее гнусность».
Писать, это конечно очень важное дело. Однако, что же мешало устроиться на работу, чтобы добыть денег на еду для родной кровиночки? Правильно, гордыня. Так же это время Цветаева была обеспеченной и могла содержать семью за счет продажи вещей.
Более того по признанию самой Цветаевой она все это время была обеспечена пищевыми ресурсами и топливом и могла (по собственному признанию) обеспечивать обеих дочерей на уровне много лучшем, чем тот, что оказался в приюте.
Цветаева в детстве
МЦ, 28 ноября 1919 года, ст.ст.
«Меня презирают — (и в праве презирать) — все.
Служащие за то, что не служу, писатели зато, что не печатаю, прислуги за то, что не барыня, барыни за то, что в мужицких сапогах (прислуги и барыни!)
Кроме того — все — за безденежье.
1/2 презирают, 1/4 презирает и жалеет, 1/4 — жалеет. (1/2 + 1/4 + 1/4 = 1)
А то, что уже вне единицы — Поэты! — восторгаются».
МЦ, зима 1919/1920, описывает в записной книжке свою реакцию на то, как заведующая приютом просила ее дать сахара не только Але, но хоть немного и Ирине. Все-таки горе мать иногда выводила ее прогуляться.
— «А что ж Вы маленькую-то не угостите?» Делаю вид, что не слышу.— Господи! — Отнимать у Али! — Почему Аля заболела, а не Ирина?!!— »
Аля — это вторая дочь Цветаевой. Она, как и мать была талантливой, а вот вторая была обычным ребенком. Какое унижение, великой писательнице иметь такую обузу. Но отношение к первой было не лучше, она смотрела на мать как на божество. Ведь кто она, в сравнение с Цветаевой: именно так ее и воспитывала мать.
Приют.
14/27 ноября 1919 года. Цветаева отдает своих дочерей – семилетнюю любимую Алю и двухлетнюю нелюбимую Ирину – в Кунцевский детский приют. По ее мнению, прокормить их сама она не сможет так, как их прокормят в приюте.
Как уже говорилось выше это не так. Цветаева нагло врет. Она могла их кормить даже не работая, просто за счет продажи вещей на рынке. Цветаева вполне могла прокормить дочерей лучше, чем их кормили в приюте. Это в последствии признала и она сама.
Поступать даже на легкую службу в учреждение за паек – у нее была такая возможность - она для их прокорма категорически не хотела, поскольку такую работу ненавидела; она даже не проверяла, как кормят в приюте. В итоге ей все-таки пришлось кормить Алю у себя, с чем она явно справилась. Следует отметить, что отдавать в приют 1919 года двухлетнего ребенка практически равносильно вынесению ему смертного приговора.
Так же она не потрудилась узнать, каковы условия в Кунцевском приюте, до помещения туда дочерей. Более того она отдала их лично, а сделала это через третьих лиц. При этом она скрывала, является их родной матерью. Цветаева притворилась их крестной матерью, а детей назвала сиротами. Дочерям она наказала не говорить, чьи они дети, а на вопросы об этом попросту не отвечать. Те исполнили.
В течение декады она и не думала заехать посмотреть, как там ее дети. При случайной встрече через десять дней с зав. приютом случайно же узнала, что Аля очень плачет и тоскует, и решила еще через два дня заехать.
«Кто-то посоветовал ей и помог поместить Алю и Ирину в Кунцевский приют. И, несмотря на то, что была возможность, с помощью Н. В. Крандиевской, устроить детей в московский садик, Марина Ивановна почему-то больше поверила в Кунцево» (Сааякянц).
Накануне отправки Цветаева пишет письмо Але на дорогу. Дочь в писме она называет по имени.
Дорогая Алечка!
Что мне тебе сказать? — Ты уже все знаешь! И что мне тебе дать? — У тебя уже всё есть! — Но всё-таки — несколько слов — на дорогу!
Ты сейчас спишь на моей постели, под голубым одеялом и овчиной, и наверное видишь меня во сне. Так как ты меня любил только еще один человек: Сережа. Та же любовь, те же глаза, те же слова.
—Алечка! — Спасибо тебе за всё: и за окурки, и за корки, и за спички, и за окаренок, и за бесконечное твое терпение, и за беспримерное твое рвение,— я была тобой счастлива, ты мне заменяла: воду, которая замерзла, хлеб, к<отор>ый слишком дорог, огонь, которого нет в печи — смеюсь! — ты мне была больше этого: Смыслом — Радостью — Роскошью.
Милая Алечка, не томись, не горюй. То, что сейчас бессмысленно, окажется мудрым и нужным — только надо, чтобы время прошло! — Нет ничего случайного!
Целую тебя нежно. Пищи на букву ?. Люби меня. Знай, я всегда с тобой.
МЦ.
Москва, 13-го ноября 1919 г.,ночь.
Алина приписка:
— Марина! Я Вас люблю — я Вечно Ваша.
Письма
Как уже раньше писалось, Цветаева старалась быть богом и идолом для своих дочерей, а не матерью. Культ личности для двоих маленьких детей. Это очень хорошо видно из писем Цветаевой от Али, которая называла ее крестной (по договору).
Они так и не были отправлены, Цветаева получила их, когда наконец приехала в приют. Здесь только часть из них, дабы не утруждать читателя, который доблестно прочитал такой огромны тест. Но для любопытства в ссылках будет источник с большим их количеством.
Милая Марина! Здесь хорошо, дети не озорные. На Ирину жалуятся. Везде очень чисто. Марина! Здесь два этажа. Мне жалко Вас. Марина! другой ребенок гораздо умней Ирины. Он говорит, просится, сам чудно ест. В окно глядят ели. Всё время думаю об Вас! Здесь двадцать две комнаты. Сижу в другой комнате, чем Ирина. Она всё время орет. Немного шумна!
Висят иконы Иисуса и Богородицы. Всё время в глазах и душе Ваш милый образ. Ваша шубка на меху, синие варежки. Ваши глаза, русые волосы. Мне приятно вспоминать про Вас. Рядом со мной два окна, счастлива, что пишу.
Тоня: — «Правда, что писать лучше с твердым знаком?» — «О да, конечно».
Я Ваша! Я страдаю! Мамочка! Ирина сегодня ночью обделалась за большое три раза! Сегодня должна приехать Лидия Александровна. Ирина отравляет мне жизнь.
Вечная печальная бело-серая пелена снега! Печаль! Уж начинаю мечтать о елке. Топот детей, которых прогоняют с «верху». Мрачно в душе, не имеющей Вас. Всё приуныло. О приемная мать. Я Ваша! Я люблю Вас больше настоящей матери! — Виднеется дорога, по которой должен проехать заветный экипаж.
Марина! Я представляю себе наш милый дом. Печка, ведры, окаренки. Всё для нашей души. Прочла «Тысяча и Одна Ночь», читаю сейчас «Биографические рассказы».— Из жизни Байрона.— Думаю, что мне удастся еще поцеловать Вас. Правда? О как Вы были добры, что приняли меня. Дети дразнят Вас: — «Ноги-то у твоей мамы какими-то тряпками обвиты».— «Это не тряпки, а гетры, а у вас тряпки». Ирина каждую ночь по два по три раза делает за большое. Сплю с «Волшебным Фонарем». Конверт у меня сломала Лидия Константиновна. Я в глубоком горе. И еще оторвала у моего «Лихтенштейна» верхний листок с названием. Я несчастна. Сегодня я должна была идти в школу. Я отказывалась, говорила про Вас, но никто не слушал. Я сегодня завтракала с «младшими». Ирину и меня остригли. Я оставила прядь из моих волос Вам на память.
Написала уж письмо к Рождеству. Ирина выучила одно слово: «Не дадо.»— не надо.
Цветаева все это время не приезжала и никаких известий, Але не передавала, зато написала стихи о своей разлуке с дочерью.
Маленький домашний дух,
Мой домашний гений!
Вот она, разлука двух
Сродных вдохновений!
Жалко мне, когда в печи
Жар, - а ты не видишь!
В дверь - звезда в моей ночи!
Не взойдешь, не выйдешь!
Платьица твои висят,
Точно плод запретный.
На окне чердачном - сад
Расцветает - тщетно.
Голуби в окно стучат, -
Скучно с голубями!
Мне ветра привет кричат, -
Бог с ними, с ветрами!
Не сказать ветрам седым,
Стаям голубиным -
Чудодейственным твоим
Голосом: ~ Марина!
Родственники
Довольно много аморальных вещей были совершены Цветаевой, однако если описать все, то получится том на 1000 страниц (в ссылках будет информация на источник). Однако один момент из ее биографии достоин отдельного рассмотрения. К слову, 4 января Аля заболевает лихорадкой.
К Цветаевой поступали предложения от ее родственников забрать детей. Вера Эфрон, сестра Сергея Эфрона и тетка Ирины, давно предлагала Цветаевой, что она, Вера, поедет за Ириной и заберет ее себе, раз уж Цветаевой она не нужна. А на худой конец привезет ее Цветаевой. На все это требовалось, естественно, согласие Цветаевой как матери. Цветаева наотрез отказалась, и специально просила общую знакомую «удержать Веру от поездки за Ириной».
И вторая сестра Эфрона, Лиля Эфрон, предлагала Цветаевой, что она заберет Ирину к себе и будет выхаживать ее – Цветаева отказала и ей. Об этом известно из письма некоей Оболенской к М. Нахман.
Оболенская считает, что оно и к лучшему, что Цветаева отказала, потому что все равно Ирину пришлось бы потом возвращать Цветаевой, а та все равно доехала бы ее до смерти: «Я понимаю огорчение Лили по поводу Ирины, но ведь спасти от смерти еще не значит облагодетельствовать: к чему жить было этому несчастному ребенку? Ведь навсегда ее Лиле бы не отдали. Лиля затратила бы последние силы только на отсрочку ее страданий. Нет: так лучше».
Какой смысл, спросите вы? А разве не очевидно: знаменитая писательница не может прокормить своих детей. Какой позор. Она отдала их родственникам. По крайне мере так рассуждала сама Цветаева. А так дети вроде как дома, ведь мало кто достоверно знал где они на самом деле.
Смерть Али
Лихорадка в конце концов все же добила девочку. Сама Цветаева о смерти Ирины Эфрон узнала случайно 7 февраля – зашла в Лигу Спасения Детей договариваться о санатории для Али. Санатории в 1920 году, ага. А в Лиге ее встретили случайно находившиеся там люди из Кунцевского приюта и сказали, что Ирина умерла 3 числа.
На похороны Цветаева не поехала, приводя этому два объяснения. Первое – что была занята с Алей (вранье: там кроме нее хватало людей), второе – что просто психологически не могла. Как писала Цветаева в своей записной книжке: «“Чудовищно? — Да, со стороны. Но Бог, видящий мое сердце, знает, что я не от равнодушия не поехала тогда в приют проститься с ней, а от того, что не могла”. К живой, впрочем, она тоже не приезжала.
Кстати к слову, учитывая, как кончила Цветаева из-за травли и (какая ирония) издевательствам ее собственного сына, Бог возможно увидел и запомнил (см ниже). Ну и конечно грех не вставить такой прекрасный стих.
Две руки, легко опущенные
На младенческую голову!
Были — по одной на каждую —
Две головки мне дарованы.
Но обеими — зажатыми —
Яростными — как могла! —
Старшую у тьмы выхватывая —
Младшей не уберегла.
Две руки — ласкать — разглаживать
Нежные головки пышные.
Две руки — и вот одна из них
За ночь оказалась лишняя.
Светлая — на шейке тоненькой —
Одуванчик на стебле!
Мной еще совсем непонято,
Что дитя мое в земле.
Правосудие
Знаю, текст довольно грустный. Однако возможно Цветаева прекрасное доказательство того, что в мире существует высшая справедливость. Это должно поднять настроение.
В 1939 году Цветаева вернулась в СССР вслед за мужем и дочерью, жила на даче НКВД в Болшеве (ныне Мемориальный дом-музей М. И. Цветаевой в Болшеве[25]), соседями были чета Клепининых. Цветаева была рада возвращению, а НКВД было радо еще больше.
27 августа была арестована дочь Ариадна (реабилитирована в 1955 году), 10 октября — Эфрон. 16 октября 1941 года ее муж Сергей Яковлевич (Эрфон) был расстрелян на Лубянке (по другим данным — в Орловском централе).
Во время войны Чистополе, где в основном находились эвакуированные литераторы, Цветаева получила согласие на прописку и оставила заявление: «В совет Литфонда. Прошу принять меня на работу в качестве судомойки в открывающуюся столовую Литфонда. 26 августа 1941 года». Очень иронично, согласитесь? Ее кстати так и не взяли.
Сыночек
Однако это еще не все, горячо любимый сын Цветаевой ее травил. Возможно, как раз-таки из-за переезда. Сыночек обладал холодным умом и не скрывал своего презрения к матери.
Первой жертвой «холодного» ума Мура становится его мать. Положение отчаянное. Они плывут на пароходе неизвестно куда, без денег, без возможности работы. Марина в панике, ей нужна поддержка. Нет рядом никого, ближе сына, а он: «Я умываю руки, моя совесть спокойна. Взялся за гуж – не говори, что не дюж. Я отлично знал, что через некоторое время мать начнет беспокоиться о будущем и т.д. Она мне говорит: «Лежачего не бьют», просит помочь. Но я решительно на эту тему умываю руки».
Лежачего бьют, понимает Марина. Лежачих добивают. До момента, когда она повиснет в петле, остается совсем немного времени. Как странно все это…
Аркадий Красильщиков, биограф.
Его личность так же видна из его дневника.
30 марта 1940 года
«Сегодня мать уехала в Москву. Теперь она каждый день ходит за едой в Дом отдыха. Унизительное положение! Что-то вроде нищенства — нужно сказать спасибо Литфонду. Сейчас читаю — вернее, перечитываю — замечательную книгу: Эрскин Колдуэлл, «Американские рассказы». Только что прочел книгу Паустовского «Колхида». Смех берет — если сравнить обе вещи. Сегодня утром написал картиночку маслом — ничего для начинающего. Послезавтра пойду в школу. Все».
9 мая 1941 года
«Примут ли завтра передачу денег для папы? Судили ли его уже? Я склонен думать, что да. А вот Эйснер тоже получил восемь лет. Это-то меня больше всего поразило, не знаю почему. Митя говорит, что он объясняет всю эту историю очень просто: все, кто арестован или сослан (папа, сестра, Нина Николаевна, Николай Андреевич, Миля, Павел Балтер, Алеша Эйснер, Павел Толстой), были как-то связаны с людьми из народного комиссариата внутренних дел, а народным комиссаром был Ежов. Когда Ежова сменил Берия, говорят, что его обличили как врага народа и всех, кто более или менее имели непосредственно с ним и комиссариатом дело, арестовали. Так как вся компания была связана с коммиссариатом только стороной, естественно, что их арестовали позднее остальных. Я же всю эту историю вовсе не объясняю — слишком много в ней фактов и торопливых выводов. А какие сволочи наши соседи. По правде говоря, я никогда не подозревал, что могут существовать такие люди — злые дураки, особенно жена. Я их ненавижу, потому что они ненавидят мать, которая этого не заслуживает. Ба! Что и говорить. Уже 9 часов. Надо сесть за зубрежку геометрии, а это наука трижды проклятая. Ну, ладно...»
30 августа 1941 года (запись сделана за день до самоубийства Марины Цветаевой)
https://pikabu.ru/story/kak_tsvetaeva_ubila_svoyu_...na_sobstvennyim_syinom_5659036
«Вчера к вечеру мать еще решила ехать назавтра в Чистополь. Но потом к ней пришли Н. П. Саконская и некая Ржановская, которые ей посоветовали не уезжать. Ржановская рассказала ей о том, что она слышала о возможности работы
|
Метки: литераторы цветаевы |
Оболенская (рожд. графиня Толстая) Мария Львовна |
Оболенская (рожд. графиня Толстая) Мария Львовна
|
Оболенская (рожд. графиня Толстая) Мария Львовна (1871-1906) — княгиня, вторая дочь Л. Н. Толстого; из всех детей была ему наиболее близким человеком. Разделяла взгляды отца, помогала Толстому в переписке его произведений, занималась переводами; работала с крестьянами на покосе, лечила на деревне больных. Толстой относился к ней с большой любовью. В период трудных и сложных отношений в семье, когда Толстой чувствовал себя особенно одиноко, он писал, что только она вполне понимает и чувствует его. В 1897 г. Мария Львовна вышла замуж за своего дальнего родственника, князя Николая Леонидовича Оболенского (1872-1933) — сына Е. В. Оболенской — племянницы Л. Н. Толстого. Умерла М. Л. Оболенская в возрасте 36 лет в Ясной Поляне от воспаления легких. В её лице Толстой потерял не только любимую дочь, но и близкого друга.
Ф. 32; 114 док.; 1888-1909 гг. Разные бумаги М. Л. Оболенской, в том числе её переводы; копии записных книжек Л. Н. Толстого. Письма М. Л. Оболенской к разным лицам; адресаты: А. А. Антипова, Л. И. Веселитская, А. К. Губкина, В. С. Ляпунова, Е. М. Персидская, Н. Н. Страхов, П. М. Третьяков и др. Письма разных лиц к М. Л. Оболенской, в том числе письма В. Г. Черткова. Тетради учеников Яснополянской школы 1890-х гг. с правкой М. Л. Оболенской. Образцы документов
|
http://www.tolstoy-manuscript.ru/index.php?option=...3:c-family-guide&Itemid=10
|
Метки: оболенские толстые |
Родить императора или правила для царственной роженицы |
Родить императора или правила для царственной роженицы
Появление наследника! Счастье для любой семьи, а для царственной еще и политический вопрос - это же продолжение царствующей династии!
Начну с времен правления императора Павла I. Он был первым из Романовых многодетным отцом. Шутка ли – у него было 10 детей! Для продолжения династии он сделал всё, что мог.
А традиции в имперской России для будущих мамочек в семье Романовых были такие.
Все русские императрицы рожали только дома. В 1904 году на Васильевском острове в Санкт-Петербурге уже была роскошная акушерская клиника, но царские особы придерживались правил.
Кстати, в Великобритании, первой из членов королевской семьи рожала дома, а не в клинике принцесса Диана. Так что эти правила изменились совсем недавно.
Дело в том, что императрицы и цесаревны должны были во время беременности соблюдать график – переезды из резиденции в резиденцию. И где начались схватки – там и рожали. Конечно же, с первых дней беременности рядом с ними находился лейб-акушер, готовый оказать помощь! В том дворце, где оказалась роженица, выделялась комната, где и принимали роды.
О том, что все родственники присутствуют при родах, как на Западе речь уже не шла. Исключение делалось только для мужа, который держал жену за руку. Это скорее был жест поддержки жены, чем соблюдение старой традиции, когда присутствие родственников при появлении на свет наследника требовалось для подтверждение того, что да – наследник не подменен и является настоящим.
Императрица Александра Федоровна
При родах, правда, не в родовой «комнате», а «за дверью» присутствовал министр Императорского двора. У него было заготовлено 5 вариантов Манифеста, в котором объявлялось рождении ребенка: сына, дочери, двойня мальчики, двойня девочки и двойня мальчик – девочка. А если бы тройня? ;)
Император сам выносил новорожденного, показывал министру и вписывал имя малыша в Указ.
По старой русской традиции младенца заворачивали в сорочку отца, которую он передавал акушеру.
Императрица Мария Федоровна
Вся дворцовая прислуга, которая находилась в тот день на дежурстве в том дворце, где рожала императрица, получала ценные подарки!
Итак, ребенок родился, ему дали имя, внесли в указ. А как подданные узнавали о том, кто родился – мальчик или девочка? По артиллерийским залпам орудий Петропавловской крепости. Если мальчик, то 301 зал, а если девочка, то 101!
Дочери императора Николая II
Но что тут сказать? Ведь мальчик это наследник и его рождение это политический вопрос и отцы были больше рады именно им. Хотя надо сказать, что дочерей jни любили ничуть не меньше! ^)https://zen.yandex.ru/media/sofia_piter/rodit-impe...enicy-5c6c59083451a900c0eab3d7
|
Метки: российская империя романовы |
























































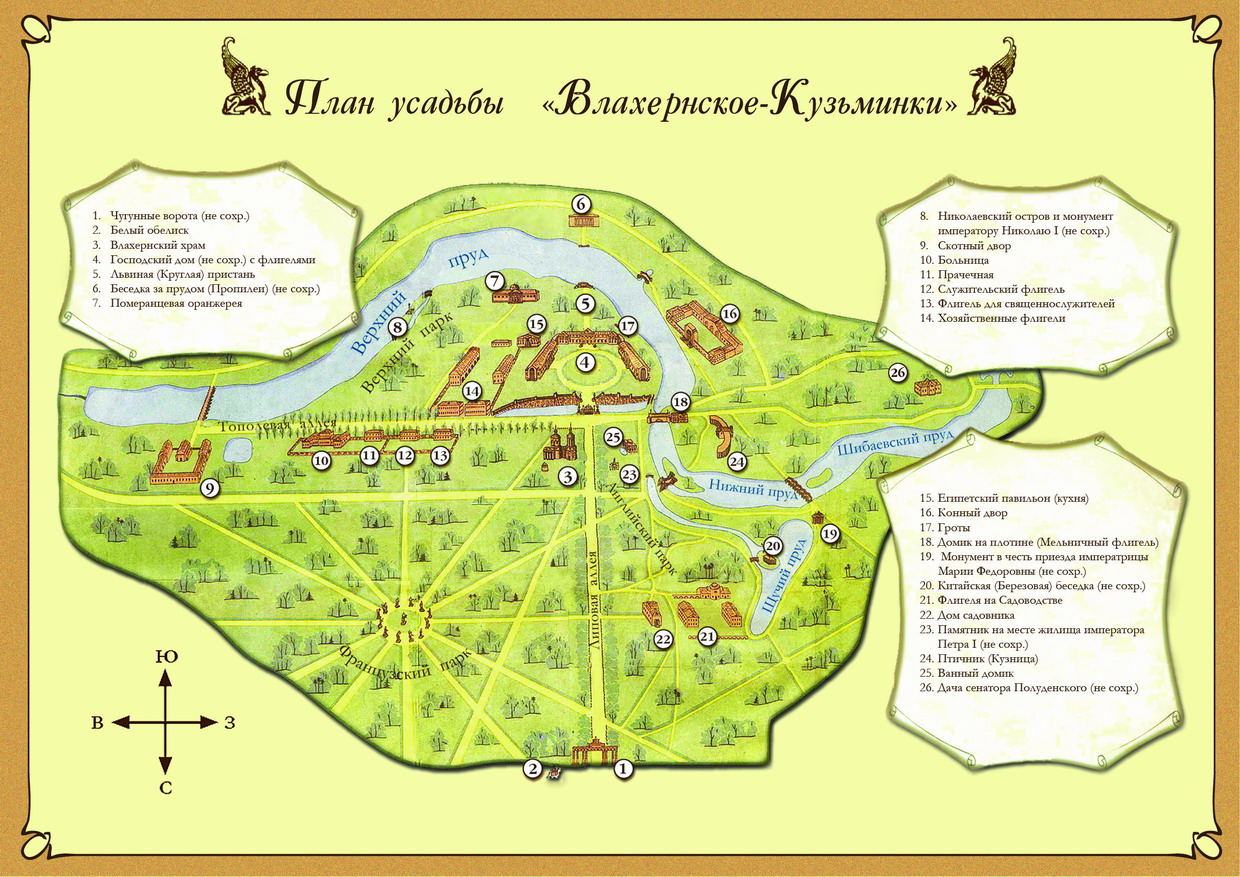






































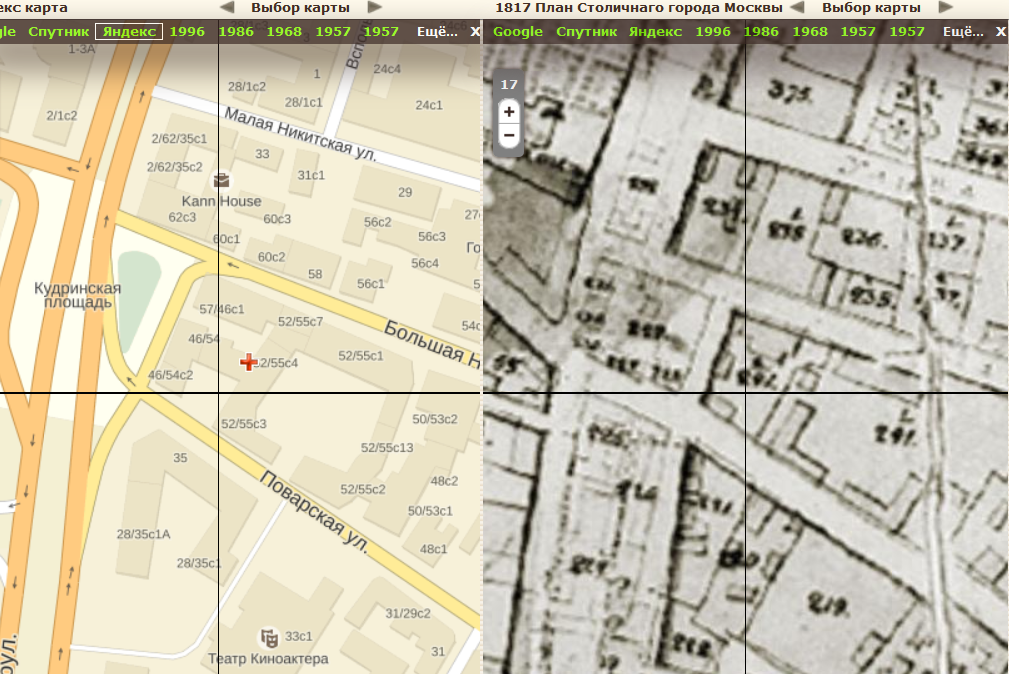

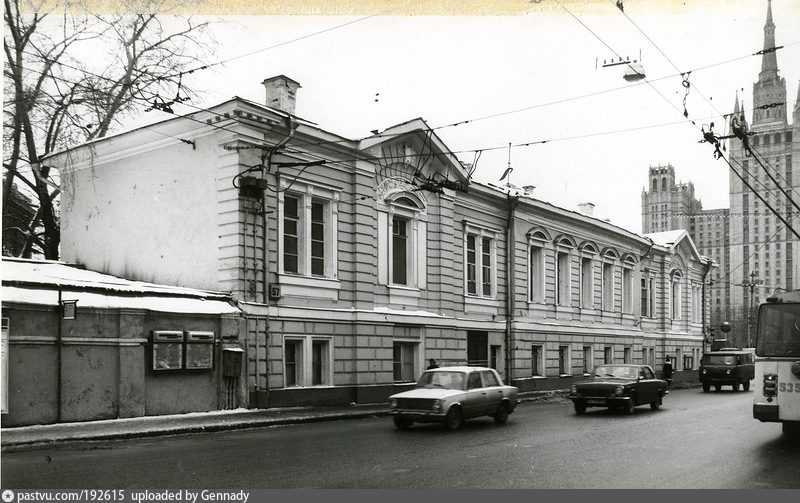
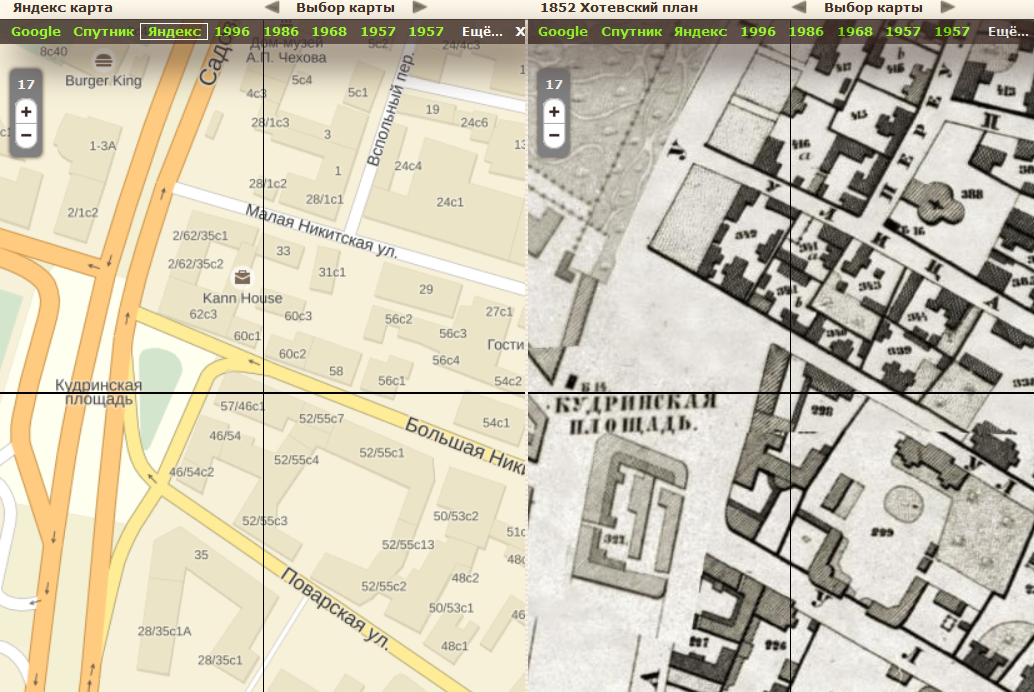







 По третьей версии супруги выехали из России в 1914 г. и больще в Россию не возвращались, сначала из-за войны, а потом из-за революции.
По третьей версии супруги выехали из России в 1914 г. и больще в Россию не возвращались, сначала из-за войны, а потом из-за революции.