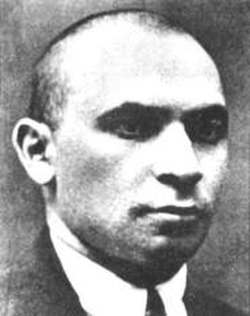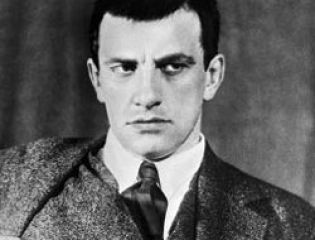ОБОЛЕНСКИЕ |
ОБОЛЕНСКИЕ


Княжеский род, внесенный в 5-ю ч. дворянской родословной книги Пенз. губ. Александр Дмитриевич (1847–1917), окончил Моск. ун-т. В 1884, после смерти А. П. Бахметевой, наследовал Николо- Пестровский хрустальный завод и 16468 дес. земли в селах Усовка и Никольская Пестровка Городищ. у. При нем произ-во хрусталя было усовершенствовано и расширено, а изделия з-да отмечены Большой золотой медалью на междунар. выставке в Париже. В 1882–88 избирался пенз. губ. предводителем дворянства. В 1889 назначен обер-прокурором сначала 2-го, а потом 1-го деп. Правительствующего Сената. С 1896 пом. варшавского ген.-губернатора по гражд. части, с 1899 сенатор, с 1902 чл. Гос. совета. Избирался вице-пред. Рус. муз. об-ва (РМО) и был одним из организаторов его отделения в П. В кон. 19 в. организовал при Николо-Пестровском з-де хор и духовой оркестр, а в 1902 (совместно с П. А. Оболенским) – один из первых в России оркестров нар. инструментов (см. Никольский оркестр народных инструментов), для к-рого приобрел комплект балалаек и домбр. Развитию муз. культуры в Пенз. губ. способствовала жена Ал-дра Дм. Анна Александровна (урожденная Половцева) (1861–1917), состоявшая чл. правления Пенз. отд. РМО. Их сыновья: Дмитрий Александрович (1882 – 1964), в 1907 избирался почетным мировым судьей Городищ. у., с 1908 городищ. уездный предводитель дворянства, пред. Городищ. уездного зем. собрания. Поместье находилось в с. Панцыревка Городищ. у. Умер во Франции. Александр Александрович (1885–1940), в 1902–05 учился в Пажеском корпусе, с 1905 корнет Кавалергардского полка, впоследствии адъютант ген. А. А. Брусилова. Умер во Франции. Петр Александрович (2.10.1889, СПб. – 31.12.1969, М.). В 1908 окончил классич. гимназию в СПб., уч-ще правоведения. С 1908 оркестр под его управлением давал гастрольные концерты в городах Поволжья. С 1913 чиновник деп. Правительствующего Сената, с 1914 зав. автомоб. частью управления Сев. р-на Об-ва Кр. Креста. В 1920–22 находился под арестом, в 1924–29 – на преподавательской работе в воен. учеб. заведениях, в 1929–57 жил во Франции, в 1957 вернулся на Родину. По возвращении стал чл. Союза композиторов СССР.
Лит.: Дворянские роды. Т. 1. М., 1991; История родов русского дворянства / Сост. П. Н. Петров. Т. 1. М., 1991; Оболенский П. А. Самый старейший //Огонек. 1964. № 31; Оболенский П. А. Воспоминания //Наше наследие. 1991. № 5; Оболенский П. А. Из воспоминаний / Подг. и публ. В. И. Мануйлова //Земство. 1994. № 2; Бермандт Г. Б., Ямпольский И. М. Кто писал о музыке. Т. 2. М., 1974.
[Тюстин А.В. Оболенские / Пензенская энциклопедия. М.: Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2001, с. 403.]
В воскресенье 19.03.2006 г. в Пензу приехала внучатая племянница последнего владельца Никольского стекольного завода князя Оболенского - княгиня Александра Николаевна Оболенская. О своем княжеском происхождении врач-арт-психиатр Александра Бультман фон Герсдорф, гражданка Швеции, работающая и проживающая в Германии, вспоминает редко. Но она очень хорошо говорит по-русски. И в последнее время ей все чаще удается поговорить на языке своих предков. В новую Россию княгиня Александра Оболенская приезжала не раз. Только визит на историческую родину для нее всегда ограничивался посещением столиц - Санкт-Петербурга и Москвы. В Пензенскую область она приехала впервые. На перроне вокзала Пенза-I княгиня рассказала, что производством хрусталя занималось все их большое семейство. У ее дедушки был стекольный завод на территории сегодняшней Белоруссии, а у его родного брата - в Никольске. С приходом советской власти князья Оболенские покинули Россию. Судьба разбросала их по Европе. Пришлось им нелегко, но из поколения в поколение вместе с родным русским языком они передавали рассказы о заводе. Возможно, именно с этими рассказами передавались любовь к русскому искусству и художественный вкус. С вокзала княгиня Оболенская отправилась в Никольск. В Пензенской области она пробудет до 25 марта. За это время запланировано ее посещение Никольского завода хрусталя и музея-усадьбы «Тарханы». Визит княгини проходит в рамках подготовки к I Всероссийскому симпозиуму по художественному стеклу.
[«Пензенская правда», №21, 21 марта 2006 г.]http://inpenza.ru/nikolsk/obolenskiye.php
|
Метки: оболенские пенза предпринимательство |
А.В. Книпер-Тимирева: след в истории |
А.В. Книпер-Тимирева: след в истории
Краевая акция «Репрессированные деятели Культуры и искусства в истории Красноярского края»
Выполнил:
Власов Игорь
МБОУ СОШ № З г. Енисейска.
Енисейск, 2011
Совсем недавно всей семьей смотрели по телевизору фильм «Адмирал Колчак». На фразу кого-то из родственников о том, что любовница Колчака Анна Васильевна (ее играла Лиза Боярская) была в ссылке в нашем городе, я не обратил внимание. А когда увидел фамилию Книпер-Тимиревой в списке репрессированных деятелей культуры и искусства в истории Красноярского края, заинтересовался личностью этой женщины. Поэтому моя исследовательская работа будет посвящена Анне Васильевне Книпер-Тимиревой. Начну с ее биографии.
Анна Васильевна Книпер-Тимирева вощла в историю как спутница последних, самых драматических лет жизни верховного Правителя России адмирала Колчака. Генерал П.Бержерон, видевший анну Васильевну при ставке Колчака так писал о ней в своем дневнике: «Тимирева. Просто женщина, и этим все сказано… Редко в жизни мне приходилось встречать такое сочетание красоты, обаяния и достоинства».
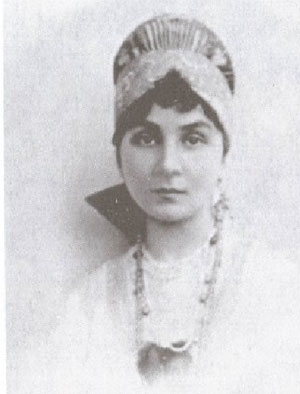
Анна Васильевна Книпер (Сафонова, Тимирева, Книпер-Тимирева) родилась 18 июля 1893 в Кисловодске и была шестым ребенком в семье. Отец ее, В.И.Сафонов, был преподавателем музыки, дирижером и пианистом, много лет возглавлял Московскую консерваторию. То есть был человеком, широко известным в столичном мире. В 1906 семья переехала в Петербург, где Анна Васильевна кончила гимназию княгини Оболенской в 1911году, занималась рисунком и живописью в частной студии. Музыка, можно сказать, вошла в ее душу с самых пеленок. Итак, музыка и живопись - вот ее основные пристрастия. Плюс к этому прекрасное домашнее образование. Свободно владела французским и немецким.

Совсем юной вышла замуж за морского офицера, своего троюродного брата, героя Порт-Артура С.Н. Тимирева, и в 1914 году родила сына Володю. В 1915 году в Гельсингфорсе, где был расквартирован Тимирев, Анна Васильевна познакомилась с Александром Колчаком. Это событие стало поворотным пунктом линии ее жизни. Судьбы этих людей сплелись так, что разделила их только смерть.
С мужем С. Тимиревым Анна рассталась в 1918 году, следы его затерялись в русской эмиграции, хлынувшей с Дальнего Востока в Манчжурию.
После революции 1917 года Россия погрузилась в хаос. В 1918-19гг. Анна Тимирева работала в разных местах: в Омске - переводчица Отдела печати при Управлении делами Совета министров и Верховного правления; работала в мастерской по шитью белья и на раздаче его больным и раненым воинам. А.В.Тимирева не пожелала расстаться со своим возлюбленным А, Колчаком и в самые трагические дни. Она тоже сидела в тюрьме, только в другой камере.
«Я была арестована в поезде адмирала Колчака и вместе с ним. Мне было тогда 26 лет, я любила его и была с ним близка и не могла оставить его в последние дни его жизни. Вот в сущности всё. Я никогда не была политической фигурой, и ко мне лично никаких обвинений не предъявлялось». Так писала Анна Васильевна Книпер во второй половине 1950-х в своих заявлениях о реабилитации, не достигавших цели. Однако к двум годам лагерей ее на всякий случай приговорили. Пробыла там недолго, выпустили по амнистии.
В мае 1921 вторично была арестована. Находилась в тюрьмах Иркутска и Новониколаевска, освобождена летом 1922 года из Бутырской тюрьмы. В этом же году, находясь временно на свободе, она познакомилась с инженером-путейцем В.К. Книпером, вышла замуж, взяла его фамилию. Это не спасло Анну от новых арестов. Судьба Анны Васильевны была определена раз и навсегда - беспрерывная череда арестов, допросов, этапов, ссылок, вплоть до 8 октября 1950 года, когда она очутилась сначала в п. Ходовом, затем - в Енисейске.
В 1925 арестована и административно выслана из Москвы на 3 года, жила в Тарусе. Когда забирали, спросила следователя, в чем ее обвиняют. Следователь удивился вопросу: «Но советская власть причинила вам столько обид…». Это значило, что уже потенциально она должна быть врагом.
В четвертый раз взята в апреле 1935 года, в мае получила по знаменитой 58-й статье 5 лет лагерей, которые через 3 месяца при пересмотре дела заменены были ограничением проживания («минус 15») на 3 года. Возвращена из Забайкальского лагеря, где начала отбывать срок, жила в Вышнем Волочке, Верее, Малоярославце.
25 марта 1938года, за несколько дней до окончания срока «минуса», арестована в Малоярославце и в апреле 1939 осуждена по прежней статье на 8 лет лагерей; в Карагандинских лагерях была сначала на общих работах, потом - художницей клуба Бурминского отделения. После освобождения жила за 100-м километром от Москвы. 21 декабря 1949 вновь арестована в Щербакове как повторница без предъявления нового обвинения. 10 месяцев провела в тюрьме Ярославля и в октябре 1950 года была отправлена этапом в Енисейск до особого распоряжения. Она очутилась сначала в п. Ходовом, затем - в Енисейске. Она давно уже не выбирала профессию или специальность, бралась за любую работу, лишь бы выжить.
Чтобы найти какую-то информацию о жизни Книпер-Тимиревой в Енисейске, я обращался в библиотеку, в музей нашего города. И кое-что мне удалось найти.
Из воспоминаний дочери А.Е. Шварцбурга (талантливого пианиста-исполнителя, тоже отбывавшего ссылку в Енисейске) Натальи Ананьевны:
«Большой удачей родители считали разрешение перебраться в Енисейск из поселка Мотыгино, где не было никакой возможности заработать на жизнь. С первых же дней на новом месте папа стал искать работу, но для начала получил доступ к инструменту. Пианино находилось на сцене Дома культуры. И до сих пор он размещается в том же старинном, добротной красно-кирпичной кладки особняке неподалеку от пристани. (См. фото)

Так однажды, играя в полутьме кулис, он заметил, что немолодая изможденная женщина, на первый взгляд весьма непрезентабельного вида, перестала возиться с декорациями и слушает музыку. Когда звуки стихли, она поблагодарила, сказав, что музыка значит для нее очень много, ведь она из семьи музыканта. Занятый своими мыслями, папа невнимательно слушал собеседницу.
Но при следующей встрече Анна Васильевна, как представилась новая знакомая, вернулась к разговору о музыке и о своей семье. Она принесла старое фото: на фоне Московской консерватории расположилось большое семейство. "В этом доме я провела детство, а это - мой отец, Василий Ильич Сафонов", - пояснила она.
Казалось бы, после всего пережитого трудно было удивиться чему-то. Но тут папа не смог сдержать волнения: перед ним стояла дочь ректора консерватории тех славных для российского искусства лет на рубеже веков. Дочь главы Московской консерватории, учебного заведения, о котором он мечтал еще в Харбине и куда был принят в том страшном 1937-м! В.И.Сафонов - известный пианист и дирижер, основатель русской фортепианной школы. Другими подробностями биографии в те времена обычно не было принято интересоваться.
В Енисейске Анна Васильевна занималась оформительской работой в клубе. Была она довольно замкнутым и одиноким человеком. Приходила к нам не часто, но сидела подолгу, за что получила прозвище "Каменный гость". Наверное, ей просто хотелось посидеть в семье, где что-то варилось на печке и стрекотала зингеровская машинка... Всего этого Анна Васильевна была лишена большую часть жизни. У нас она чаще всего молчала, курила, составляя компанию маме, а уходя, брала простенькую пластмассовую посуду для моих кукол и возвращала ее, украсив золотыми ободочками.
Постепенно ссыльные стали покидать Енисейск. Попрощалась однажды и Анна Васильевна. И тут кто-то поинтересовался у папы, знает ли он, кто она такая.
-Ну, конечно, дочь известного музыканта!
-А кто был ее первый муж, вы знаете? Князь Тимирев, командовавший царской яхтой.
Это сообщение, понятно, не очень обрадовало. Еще не хватало быть обвиненным в дружеских связях с "бывшими"!
- Ну, а имя ее второго мужа - тоже секрет для вас? - продолжал экзекуцию товарищ по несчастью. - Адмирал Колчак!
Папа был добит окончательно».
Однажды руководство мастерской при Доме культуры, учитывая способности Анны Васильевны, хотело командировать ее в Красноярск в краевой краеведческий музей, чтобы она могла составить эскиз "уголка природы" для Енисейского музея. В просьбе было решительно отказано. А вдруг, как сказано в одном из документов ее личного дела, "находясь на свободе, может скрыться от следствия и суда"?
И вообще с такими, как Книпер-Тимирева, надо ухо держать востро. Написал же начальник Казачинского райотдела МГБ в январе 1951 года начальнику Енисейского райотдела МГБ под грифом "совершенно секретно" такую бумагу:
 "Разрабатываемая нами по подозрению в ш/п Капнист Мариста Ростиславовна, 1914 г.р., уроженка г. Ленинграда, русская, беспартийная, образование н/з высшее, по специальности актриса, имеет письменную связь с Кипнер-Темерязевой Анной Васильевной, проживающей в г.Енисейске, по ул.Фефелова, 30.
"Разрабатываемая нами по подозрению в ш/п Капнист Мариста Ростиславовна, 1914 г.р., уроженка г. Ленинграда, русская, беспартийная, образование н/з высшее, по специальности актриса, имеет письменную связь с Кипнер-Темерязевой Анной Васильевной, проживающей в г.Енисейске, по ул.Фефелова, 30.
Прошу установить Кипнер-Темерязеву, взять ее под агентурное наблюдение с целью установления характера связи Кипнер-Темерязевой с Капнист М.Р. Одновременно прошу сообщить, не располагаете ли вы компр. данными на Кипнер-Темерязеву. По агентурным данным известно, что Кипнер якобы является женой Колчака. Ответ прошу, как можно, ускорить".
В архиве Енисейского краеведческого музея хранится личное дело
№ 20529. Вот один из документов, хранящийся в нем:
«Обязательство.
Мне, Книпер-Тимиревой Анне Васильевне, 8 октября 1950 года, проживающей в пос. Ходовом Енисейского района, объявлено, что я не имею права никуда выезжать (хотя бы временно) из указанного мне постоянного места жительства без разрешения органов МГБ и обязана периодически лично являться на регистрацию в место и сроки, которые мне будут указывать органы МГБ.
Об уголовной ответственности предупреждена.»
И еще:
«На основании изложенного обвиняется: Книпер-Тимирева Анна Васильевна, в 1918 - 1920 жена адмирала Колчака», - говорится в деле Анны Книпер… «Была с ним в Харбине и в Японии, участвовала в походах Колчака против советской власти. 20 декабря 1949 года за антисоветскую деятельность арестована и привлечена в качестве обвиняемой. Проведенным расследованием установлено: Книпер-Тимирева… среди своего окружения проводила антисоветскую агитацию, высказывала клевету на ВКП (б), на политику советской власти, и условия жизни трудящихся в Советском Союзе».
В дело вложен «словесный портрет»: «Фигура: полная, плечи: опущены, шея: короткая, цвет волос: темно-русые с проседью, лицо: овальное, лоб: высокий, брови: дугообразные, губы: тонкие, подбородок: прямой…
Особые приметы: на правой ноге имеется шрам от операции. Прочие особенности и привычки (картавит, грызет ногти, жестикулирует, сплевывает) - нет».
Лишь в середине пятидесятых годов(1954), когда в стране широкой волной прокатилась реабилитация невинно осужденных, освободилась Анна Васильевна Книпер-Тимирева от ссылки и покинула Енисейск. В кармане лежала справка-характеристика:
«На учете с 1950 г. Режима спецпоселения не нарушала, на регистрацию является своевременно, склонности к побегу не проявляла. Занимается общественно-полезным трудом. Компрматериалами Енисейский РО МВД на нее не располагает».
Все дети из семьи Сафоновых в той или иной степени были заражены волшебством созидания и так или иначе проявили себя в изобразительном или музыкально-исполнительском искусстве, в литературных опытах. Во все годы Анны Васильевны, даже в самые тяжкие, в ней жил-светился огарочек поэзии – Она писала стихи. Вот одно из стихотворений, написанных Книпер-Тимиревой в енисейской ссылке в 1953 году.
(Из книги воспоминаний Книпер А.В. «…Не ненавидеть, но любить» С.72)
Ох, вспомним мы тебя, унылый город,
На северном печальном берегу,
Где ссыльное безвыходное горе
На каждом повстречается шагу...
А может быть, припомнится иное?
Твоих берез морозных кружева,
Прохладный вечер летом после зноя,
На улицах росистая трава...
И может быть, еще такая малость:
Единственное в городе кино,
Где и для нас порой приоткрывалось
В широкий мир ведущее окно.
Росла, росла из глубины экрана
Сверкающая гранями звезда,
Шли корабли под пеленой тумана,
На нас в упор летели поезда...
И крепкими прикованы цепями
К чужой и неприветливой земле,
Смотрели мы, как жизнь скользит пред нами,
Сидящими в печальной полумгле.
1953
Роль личности в истории… Сколько говорят об этом! Однако, связывая личность с историей мы имеем ввиду людей государственного уровня, известных. А тут – тихая, слабая женщина. Уж ее-то роль в истории какая?
При поиске материалов о Книпер-Тимиревой я разговаривал со многими людьми: работниками музея, библиотекарями, учителями, старожилами Енисейска. У всех разное мнение о личности этой женщины. Кто-то говорил, что ее готовность и желание жертвовать собой ради любимого человека и быть вместе с ним до самой последней черты, заслуживает уважения. Кто-то вообще не воспринимает эту женщину, награждая ее нелицеприятными словами. Кто-то считает, что она поехала со своим любовником (Колчаком) забыв о материнских чувствах, бросив сына.
Мнения разные. У меня эта женщина вызывает уважение. Вот стихотворение, написанное Анной в 1970 году:
Полвека не могу принять:
Ничем нельзя помочь!
И всё уходишь ты опять
В ту роковую ночь.
А я осуждена идти
Пока не минет срок,
И перепутаны пути
Исхоженных дорог...
Но если я еще жива
Наперекор судьбе,
То только как любовь твоя
И память о тебе.
30 января 1970
Пройдя через невзгоды и лишения, тюрьмы, ссылки, потерю близких ей людей, она пронесла через всю жизнь свою любовь.
Жителей Енисейска, помнивших Книппер-Тимиреву, я не нашел. Хотя в одном из источников упоминается, что ее знали А. И Малютина, профессор Енисейского педагогического института и художник Михаил Виноградов. К сожалению, эти люди ушли из жизни.
И еще одна боль этой женщины – ее сын Владимир, которого она искала всю жизнь. Даже двойную фамилию Книпер-Тимирева она носила для того, чтобы она послужила опознавательным знаком или маяком, чтобы сыну было легче найти ее. Только в 1956 году Анна Васильевна на очередной запрос о судьбе сына получила извещение о его посмертной реабилитации. Володя Тимирев воспитывался у бабушки в Кисловодске, стал художником, его творческая жизнь складывалась удачно. В марте 1938 года он был арестован, обвинялся по трем пунктам: во-первых, обвинялся в том, что переписывался с отцом-эмигрантом, контр-адмиралом С. Тимиревым; во-вторых, в том, что он был «пасынком» Колчака; в-третьих, и это было основное обвинение, что он был немецким шпионом, завербованным Павлом Линком (один из его знакомых). В мае 1938 года Володю Тимирева расстреляли, ему было 24 года. В Енисейской городской библиотеке есть книга, посвященная короткой жизни и творчеству Владимира Тимирева.
В общей сложности Анна Васильевна Тимирева провела в тюрьмах, лагерях, ссылках около 35 лет. Окончательно вернулась в Москву лишь в 1960 году. Она поселилась в Москве, получив крохотную комнатку в коммуналке на Плющихе. Шостакович и Ойстрах выхлопотали ей «за отца» (выдающегося музыкального деятеля Василия Ильича Сафонова) пенсию - 45 рублей. Снималась в массовке на «Мосфильме» - в «Бриллиантовой руке» Гайдая мелькнула в роли уборщицы, а в «Войне и мире» Бондарчука - на первом балу Наташи Ростовой в образе благородной пожилой дамы.
Умерла Анна Васильевна в 1975 году, похоронена на Ваганьковском кладбище.
Вот такая история.

Список использованных источников
1.Владимир Тимирев, 1914-1938. Книга-альбом. – М.: Возвращение, 2008. – 116с.
2.Книпер А.В. «… Не ненавидеть, но любить». Стихи-воспоминания. – Кисловодск: Театр-музей «Благодать», 2003. – 248с.
3. Минувщее: исторический альманах.1. – М.: Прогресс, 1990. – 348с.
4. Попова К. Музы в снегах Сибири // День и ночь. – 1998. - №4-5. – с. 270 – 277.
5. Шинкарев Л. …Если я еще жива: Неизвестные страницы иркутского заточения А.Колчака и А. В. Тимиревой // Известия (далее источник не известен)
6. Шайдт А. Эпопея казачества в судьбе адмирала Колчака // Вовремя. – 2005. - №21, 23
http://www.memorial.krsk.ru/Work/Konkurs/13/Vlasov/0.htm
|
Метки: сафоновы книппер гражданская война |
Экскурсия в Усадьбу Васильчиковой — Оболенского — Фон Мекк |

Экскурсия в Усадьбу Васильчиковой — Оболенского — Фон Мекк
В субботу, 23 марта, в 14-00 приглашаем посетить необыкновенный дом, у которого не только много владельцев в названии, но и история более чем богатая! Ещё в начале 19 века участок, который сейчас занимает городская усадьба, принадлежал Екатерине Васильчиковой, построившей здесь сразу после пожара 1812 года два особняка. Свой современный вид здание приобрело уже позже, после того как в конце 1830-х гг. владение выкупила семья Зубовых-Оболенских. В 1860-х годах два дома соединяются в один и строится огромный бальный зал. В 1865 году Оболенские продают дом семье купцов Алексеевых. Но на этом история не закончилась, после смерти Александра Алексеева в 1884 году его вдова делит владение на две части, строит себе вместо сада особняк, а старый дом продаёт Владимиру Карловичу фон Мекку. После его смерти усадьбу покупает А.Э. Фальц-Фейн. Фальц-Фейны проводят водяное отопление, вентиляцию и электричество и уже через три года, в 1898 году продают Любови Зиминой, которая и владела домом до самой революции. А после продолжала проживать в национализированном особняке, где ей выделили небольшую квартирку.

Усадьба связана с именами декабристов Н. В. Васильчикова, П. Н. Свистунова, И. И. Муравьёва-Апостола. В конце XIX в. здесь часто бывали на светских приёмах композиторы С. В. Рахманинов, А. К. Глазунов, П. И. Чайковский.

После революции здание тоже сменило несколько владельцев. С 1923 года здесь находился Верховный суд РСФСР. В конце 1930-х годов – жилой дом для политических эмигрантов. После 1945 года – строительная организация. С 1956 года особняк с богатой биографией стал Центральным шахматным клубом СССР (сейчас Центральный дом шахматистов России).

В ходе реставрации 2015-2016 годов восстановлены исторические интерьеры парадного вестибюля, холла второго этажа, Большого парадного, Чигоринского и Портретного залов, кабинета руководителя. Воссоздано первоначальное колористическое решение интерьеров. Раскрыты первоначальные ниши и дверные проемы, поздние — заложены. Восстановлены элементы декора. Усадьба стала лауреатом конкурса «Московская реставрация-2016» в номинации «лучший проект реставрации».

Тем, кто не является членом Федерации Шахмат попасть сюда невозможно. Но для нас сделано исключение. Приглашаем на экскурсию. Участие 900 руб. Группа 20 человек. Гид — художник и краевед Ирина Левина. Фотосъёмка разрешена. Запись на glavred@cozymoscow.me
Декабрь 14, 2018 By Julia
https://cozymoscow.me/ekskursii/ekskursiya-v-usadb...kovoj-obolenskogo-fon-mekk.htm
|
Метки: дворянские владения васильчиковы оболенские фон мекк |
Оболенский, Алексей Васильевич |
Оболенский, Алексей Васильевич (1877)
24 января 1877(1877-01-24) Место рождения:
Москва
Дата смерти:
21 ноября 1969(1969-11-21) (92 года)
Место смерти:
Стокгольм, Швеция
Гражданство:
Российская империя
Образование:
Московский университет
Партия:
Союз 17 октября
Князь Алексе́й Васи́льевич Оболе́нский (24 января 1877, Москва — 21 ноября 1969, Стокгольм, Швеция) — русский политик, член ЦК партии октябристов, гласный Санкт-Петербургской городской думы.
Биография
Из старинного княжеского рода Оболенских. Сын московского вице-губернатора князя Василия Васильевича Оболенского (1846—1890) и княжны Марии В. Долгоруковой (1851—1930).
Окончил лицей цесаревича Николая (1895) и юридический факультет Московского университета (1898).
Поступил на службу по МВД, состоял чиновником особых поручений при виленском генерал-губернаторе. В 1903 году был переведен на должность секретаря департамента Общих дел, в 1906 — назначен чиновником особых поручений при министре внутренних дел Столыпине.
Занимался общественной деятельностью: с возникновением Союза 17 октября вступил в число его членов, состоял секретарем городского совета и членом ЦК партии, в 1906 году был избран гласным Санкт-Петербургской городской думы, входя в состав прогрессивной партии. Участвовал в реставрации Ферапонтова монастыря.
После революции эмигрировал в Финляндию, в 1939 году переехал в Швецию. Состоял председателем общества помощи русским беженцам, вместе с супругой стал одним из основателей Общества ревнителей русской старины. Написал книгу «Мои воспоминания и размышления».
Скончался в 1969 году в Стокгольме. Был женат на Ольге Алексеевне Прозоровой, дочери предпринимателя А. Я. Прозорова.
Сочинения
- Мои воспоминания и размышления. Стокгольм—Брюссель: издание журнала «Родные перезвоны», 1961.
Источники
- Памятная книжка Виленской губернии на 1901 год. — Вильна, 1900. — С. 6.
- Золотая книга Российской империи. Санкт-Петербург, 1908. С. 93.
- Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917—1997 в 6 томах. Том 5. Н — Пер. — М.: «Пашков дом», 1999. — С. 184.
Оболенский, Алексей Васильевич (1877) Информацию О

Оболенский, Алексей Васильевич (1877) Комментарии
-

Оболенский, Алексей Васильевич (1877) beatiful post thanks!
29.10.2014
Оболенский, Алексей Васильевич (1877)
Оболенский, Алексей Васильевич (1877)
Оболенский, Алексей Васильевич (1877) Вы просматриваете субъект
There are excerpts from wikipedia on this article and video
https://www.turkaramamotoru.com/ru/Оболенский,-Алексей-Васильевич-(1877)-232205.htm
|
Метки: оболенские |
Революционер - князь Оболенский. |

Революционер - князь Оболенский.
Март 4, 2019 - Тайны прошлого - Нет комментариев - Просмотров - 58
 "В Выборг я приехал вечером и долго тщетно искал ночлега. Все номера во всех гостиницах были заняты приехавшими раньше меня. В таком же бесприютном положении оказались многие, и мы в поисках ночлега постоянно встречались друг с другом на улицах этого маленького городка, совершенно переполненного наехавшими из Петербурга гостями.
"В Выборг я приехал вечером и долго тщетно искал ночлега. Все номера во всех гостиницах были заняты приехавшими раньше меня. В таком же бесприютном положении оказались многие, и мы в поисках ночлега постоянно встречались друг с другом на улицах этого маленького городка, совершенно переполненного наехавшими из Петербурга гостями.
Общие собрания с длинными и страстными прениями шли с перерывами, во время которых редакционная комиссия в составе Винавера, Кокошкина и трудовика Бондарева тщетно пыталась найти всех удовлетворявшие формулировки.
Между тем прения продолжались. Противники воззвания из нашей партии не сдавались, а трудовики вносили в него бесконечные поправки. Список ораторов все увеличивался. Депутаты нервничали, а более робкие под предлогом, что все равно сговориться не удастся, стали уезжать из Выборга. К концу второго дня мы были дальше от какого бы то ни было решения, чем в начале наших заседаний.

Из этого безысходного положения нас вывел выборгский губернатор: частным образом он довел до нашего сведения, что русское правительство требует от него прекращения наших заседаний.
Так как финские законы охраняют свободу собраний, то он но может исполнить этого требования, но все же, не желая по такому поводу создавать конфликт с русским правительством, он просит нас по возможности считаться с создающимся для него неприятным положением.
Мы поняли, что дольше злоупотреблять оказанным нам Финляндией гостеприимством невозможно. По предложению Петрункевича совещание решило прекратить прения и приступить к голосованию текста воззвания в последней редакции комиссии.Когда мы уезжали из Выборга, на вокзал привалила большая толпа народа. Кричали нам "ура", махали шляпами. На промежуточных между Выборгом и Петербургом станциях многочисленные дачники тоже выходили нас приветствовать, а мы бросали им в окна листки воззвания.

Не знаю, как другие мои товарищи, а я с тяжелым чувством возвращался из Выборга. Нас приветствовали как "героев", а между тем в собственном сознании я видел всю бутафорию своего "геройства".
В свое время много было споров о "Выборгском воззвании". Одни им возмущались, другие над ним издевались, называя "выборгским кренделем". Даже некоторые из подписавших воззвание спешили от него отречься. Противники доказывали, что воззвание было актом революционным, и возмущались лицемерием кадетской партии, на словах признававшей лишь легальные методы борьбы.
Лидеры кадетской партии оправдывали себя тем, что роспуск Думы был по форме неконституционным актом, ибо в указе о роспуске не был назначен срок новых выборов, а потому Дума, отстаивая свои бюджетные права, была вправе призывать население к неплатежу налогов и к отказу от воинской повинности впредь до созыва новой Думы.

Вооруженная борьба была для многих неприемлема, да и в успех ее мы не верили. А призывать население к вооруженному сопротивлению считали для себя морально недопустимым.
Правда, в возможность всенародного пассивного сопротивления тоже большой веры не было, но в нашей памяти была еще свежа забастовка 1905 года, принудившая Николая Второго дать конституцию.
Значит, если не вера, то слабая надежда все же оставалась. Удастся - хорошо, а не удастся - по крайней мере не будет кровавых жертв. Таким образом, "Выборгское воззвание", несмотря на то, что многих из голосовавших за него не удовлетворяло, стало для нас единственным психологически возможным актом.
Теперь, после всего пережитого, я хорошо понимаю, что первая Дума была лишь очень маленьким историческим эпизодом. Но в моей личной жизни она все-таки была одним из самых ярких событий...
В Добровольческой армии на моих глазах шло падение моральных устоев, но все-таки критерием поступков оставалась общечеловеческая мораль. Отступали от нее и руководители, и исполнители, но не отрицали ее и, нарушая, сознавали, что поступают дурно. Большевики заменили общечеловеческую мораль классовой."
Из мемуаров Князя Российской Империи А.В. Оболенского. Русский политик, член ЦК партии октябристов, гласный Санкт-Петербургской городской думы. Из старинного княжеского рода Оболенских. Сын московского вице-губернатора князя Василия Васильевича Оболенского и княжны Марии Алексеевны, урождённой Долгоруковой.
Поступил на службу по МВД, состоял чиновником особых поручений при виленском генерал-губернаторе. В 1903 году был переведен на должность секретаря департамента Общих дел, в 1906 - назначен чиновником особых поручений при министре внутренних дел Столыпине.
источник https://oper-1974.livejournal.com/1302925.htmlhttp://kykyryzo.ru/o-proekte/
|
Метки: оболенские |
Сретенка и сретенские переулки |
Сретенка и сретенские переулки
Сретенка,Сретенский бульвар, Мясницкая, Чистые пруды - для меня эти улицы и бульвары с их переулками очень личное, это Москва моего детства. На этих улицах осталась часть моей беззаботной жизни...
Осенним погожим днем выбираюсь из дома и еду на Сретенку. Брожу по знакомым местам, заряжаюсь их энергетикой.
Здесь практически не встретишь приезжих, нет и экскурсоводов с любопытными туристами. История этой московской улицы с её легендами и преданиями для многих, посетивших Москву, остается неведомой.
История Сретенки
Когда то давным-давно, в веке XII, стояли в этих местах "сёла красные, хорошие" боярина Стефана Кучки. Район Сретенки именовался Кучковым полем. Через Кучково поле проходила часть дороги из Киева в Ростов Великий, Суздаль, Владимир и Кострому. Сама Москва носила двойное название: "Москва" или "Кучков".
О городе Кучкове мало что известно, но есть о нем упоминание в одной новгородской берестяной грамоте и в летописи ХII века. Археологи уточняют, что Кучков представлял собой не простую усадьбу или село, а укрепленный замок. Он имел земляную насыпь, глубокий ров, через который был перекинут подъемный мост. За стенами укрепления находились богатые хоромы, а также деревянная церковь, возведенная предположительно в XI веке.
И приглянулось сиё благолепное место Юрию Долгорукому и присоединил он его к своему княжеству. А, как дело было, о том есть разные легенды. В одной говорится:
Ехал князь Юрий Долгорукий из Киева во Владимир. Посреди болота он увидел огромного чудного зверя. Было у зверя три головы и шерсть пестрая многих цветов... Явившись людям, чудесный зверь затем растаял, исчез, словно туман утренний.
Греческий философ на вопрос Юрия о значении видения сказал, что в этих местах "встанет град превелик треуголен", и распространится вокруг него царство великое. А пестрота шкуры звериной значит, что сойдутся сюда люди всех племен и народов.
Князь поехал дальше и увидел город Москву, бывшую во владении боярина Кучки. Юрий решил остановиться в этом городе, но Кучка "не почте великого князя подобающею честию", отказался впустить Юрия с дружиной в город. Заподозрив боярина в сговоре с новгородцами, Долгорукий повелел "того боярина ухватити и смерти предати". После непродолжительного боя суздальская дружина через главные ворота ворвалась в город, а Кучка вместе с остатком воинов бежал в леса, где был вскоре настигнут и убит воинами Юрия.
Другое предание говорит, что Юрий Долгорукий "хотя имел жену, достойную любви, часто навещал жен своих подданных. Среди таких возлюбленных владела им всего сильнее жена суздальского тысяцкого Кучка. Последний узнал о связи жены своей и, подстрекаемый Юрьевой женою, посадил жену свою в заточенье, а сам вознамерился уйти к Изяславу в Киев. Юрий, собравшийся в поход на Торжок, проведал об участи любовницы, оставил войско и в сильном гневе помчался к Москве-реке, на берегу которой жил Кучка. Тут он предал его скорой смерти".
Дочь казненного боярина Улиту Долгорукий выдал замуж за своего сына Андрея Боголюбского, передал ему в бояре сыновей Кучки Якима и Петра, а "села красные, хорошие" взял себе. ( эта же легенда в изложении Елены Арсеньевой - "Злая жена". Преступления страсти. Месть за любовь )
* * *
Сама же улица Сретенка своим названием обязана древнему Сретенскому монастырю, основание которого связано с удивительным событием.
Летом 1395 года на Московское княжество надвигалось почти полумиллионное войско Тамерлана.
Москва начала готовиться к обороне, но надежд на победу было мало. И тогда было принято решение перенести из Владимира в Москву чудотворную икону Божьей Матери, называемую Владимирской.
Все горожане и жители окрестных сел, что не ушли в ратное ополчение, вышли встречать икону.
... и пригрезился ночью Тамерлану сон. Ясно узрел он идущих на него святителей "с золотыми жезлами" и "жену некую, в багряные ризы одешу". Тогда Тимур "ужасно вскочи, яко от тресновен бысть", и, собрав своих сподвижников, сообщил о том, что видел, и услышал от них следующее: "...на русских движемся все и без успеха метемся". Устрашенное небесным знамением, войско в ужасе обратилось вспять.
В действительности неизвестно что остановило Тамерлана, чудо или иные причины. Как бы ни было, в честь избавления Москвы от нашествия Тамерлана было принято решение построить на месте встречи (сретения) иконы Владимирской Богоматери мужской монастырь.
Сретенский монастырь (XIV век):
* * *
Сретенка сегодня и в начале 20 века (Сухарева башня, знаменитая "невеста Ивана Великого", ещё на своем месте):
Вид на Садовое кольцо, проспект Мира и Церковь Троицы Живоначальной "в Листах":
Название "в Листах" закрепилось за церковью давно, в те времена, когда в районе Сретенки находилась слобода печатников. Мастера печатного дела изготовляли лубочные картинки (листы) и продавали их у церкви, увешивая ее ограду своими произведениями.
Дом 19 - театр-школа драматического искусства. А, когда то здесь был кинотеатр "Уран" - один из первых дореволюционных синематографов Москвы:
Кинотеатр уничтожен в 1997 году по постановлению правительства Москвы несмотря на то, что был отнесен ко вновь выявленным памятникам архитектуры. Новоиспеченные демократы оказались не лучше большевиков.
Это тоже Сретенка:
(желаете присесть, отдохнуть, - пожалуйте на лавочку. Заодно можно полюбоваться Сретенским монастырем, что на противоположной стороне улицы, а затем заглянуть в сретенские переулки)
* * *
Сретенские переулки
Нигде в Москве нет такой плотности переулков как на Сретенке - 16 переулков на улицу протяженностью 800 метров. Этой особенности Сретенка обязана купеческой рачительности.В XVII веке район Сретенки был застроен лавками и мастерскими. Купцы старались использовать каждый метр так называемой "красной линии" под торговые помещения, что и определило необычный для московских улиц характер планировки Сретенки - на ней нет ни одних ворот, а все дворы выходят только в прилегающие переулки.
Большинство сретенских переулков названы по именам домовладельцев, иные же - по располагавшимся когда то на их месте слободским поселениям.
Панкратьевский - получил свое название от приходской слободской церкви Панкратия (разрушена по решению Моссовета зимой 1929 года на том основании, что была "расположена в центре квартала, отведённого под рабочее строительство"):
В окрестностях церкви располагалась Панкратьевская слобода. Жили в слободе скорняки.
До революции, переулок был как бы продолжением знаменитой Сухаревки - огромной толкучки возле Сухаревой башни. В переулке продавали и покупали старинные, редкостные и художественные вещи.
От рассвета до потемок на Сухаревке толклось множество народа, и у всякого была своя цель.
"...Любил рано приходить на Сухаревку и Владимир Егорович Шмаровин. Он считался знатоком живописи и поповского фарфора [Фарфоровый завод Попова]. ... Он прекрасно знал старину, и его обмануть было нельзя, хотя подделок фарфора было много, особенно поповского. Делали это за границей, откуда приезжали агенты и привозили товар.
На Сухаревке была одна палатка, специально получавшая из-за границы поддельного "Попова". Подделки практиковались во всех областях.
...
Поддельных Рафаэлей, Корреджио, Рубенсов - сколько хочешь. Это уж специально для самых неопытных искателей "на грош пятаков". Настоящим знатокам их даже и не показывали, а товар все-таки шел.
Был интересный случай. К палатке одного антиквара подходит дама, долго смотрит картины и останавливается на одной с надписью: "И. Репин"; на ней ярлык: десять рублей.
- Вот вам десять рублей. Я беру картину. Но если она не настоящая, то принесу обратно. Я буду у знакомых, где сегодня Репин обедает, и покажу ему. dd> Приносит дама к знакомым картину и показывает ее И. Е. Репину. Тот хохочет. Просит перо и чернила и подписывает внизу картины: "Это не Репин. И. Репин".
Картина эта опять попала на Сухаревку и была продана благодаря репинскому автографу за сто рублей."
(В.А.Гиляровский)
В Панкратьевском стоит роскошный, сказочный дом - доходный дом М.Н.Миансаровой постройки 1908-1912гг(архитектор С.К.Родионов):
Печатников - на месте этого переулка когда-то находилась слобода печатников - мастеров Государева Печатного Двора, что жили недалеко от своей приходской церкви Успения Богородицы "в Печатниках".
Сама же церковь стоит на пересечении Сретенки и проезда Рождественского бульвара:
В 1812 году церковь была разграблена и подожжена французами В огне сгорели иконы, церковная утварь и большая часть библиотеки ("цивилизованная нация" постаралась на славу).
Церковь интересна тем, что в ней хранится еврейская монета времён кесаря Августа - сребреник. Считается, что это один из тех сребреников, которые получил Иуда за Христа.
По преданию, в этой церкви произошло венчание, послужившее художнику В.В. Пукиреву темой для картины "Неравный брак":
В 1861 году (за год до создания картины) состоялось обручение богатого пожилого фабриканта и молоденькой девушки из бедной семьи, некой С. Н. Рыбниковой. Пукирев знал об этом обручении от своего друга и ученика С. М. Варенцова. По рассказу последнего, он и С. Н. Рыбникова любили друг друга, но по неизвестным нам сейчас причинам девушка вышла замуж не за любимого человека, а за богача-фабриканта, на долю же ее возлюбленного выпала роль шафера на этой свадьбе. Фигура молодого человека со скрещенными на груди руками - это шафер, бывший возлюбленный невесты.
Пушкарёв и Большой Сергиевский переулки получили своё название по слободе пушкарей и церкви Сергия Радонежского, которую выстроили в 1689 году стрельцы-пушечники. Церковь так и называлась - церковь Сергия Радонежского, что в Пушкарях:
(фото с сайта mosday.ru)
Сергиевская церковь долгое время считалась "артиллерийской", и когда из нее совершался крестный ход на Неглиненский пруд, то пушкари производили "пушечную пальбу". Церковь снесли в 1935 г., предварительно закрыв, как было написано в постановлении Моссовета, "ввиду острой необходимости помещения для глухонемых". Хотели выстроить клуб, а в результате появилось школьное здание.
Большой Головин (бывший Соболев) переулок переименован в 1906 году по находившемуся в этом районе в середине XVIII века ведомству Московской полицмейстерской канцелярии капитана Головина. Переулок сразу получил определение Большой, чтобы отличить его от уже существующего Головина переулка, к которому добавилось определение Малый.
В конце XIX в. в одном из этих переулков поселяется семья Чеховых. "Я живу в Головином переулке, - писал Антон Павлович. - Если глядеть со Сретенки, то на левой стороне. Большой неоштукатуренный дом, третий со стороны Сретенки, средний звонок справа, бельэтаж, дверь направо, злая собачонка". С осени 1881-го по начало октября 1885 г. Чеховы снимают скромную квартиру в Малом Головином переулке.
Колокольников переулок - здесь находился завод семейства Моториных, из которых Иван с сыном Михаилом отлили знаменитый "Царь-колокол".
Большой Сухаревский - получил своё название по находившейся по соседству Сухаревой башне.
Последний переулок - в 18 веке он и был последним от центра города по нечётной стороне Сретенки. Ранее здесь были мясные лавки и переулок именовался Мясным.
Угол Сретенки и Последнего переулка:
Последний переулок:
Сретенский тупик - возник в XVII веке, когда здесь были поселены стрельцы. Тупик упирался в «артиллерийский двор, где большой пруд окружали несколько деревянных строений, в которых помещались канцелярия, правление, амбары, лазарет и прочие учреждения».
Луков, Рыбников, Ащеулов, Селивёрстов, Даев переулки названы по фамилиям домовладельцев.
* * *
Про "чертовщинку" в Даевом переулке:
Нынче у нас популярны необычные экскурсии по загадочным, мистическим местам города. За 6 - 15 тысяч рублей (в зависимости от пожеланий клиента) предприимчивый гид "окунёт" гостя столицы в мир московских приведений, легенд, мифов и прочей чертовщины. Даев переулок как раз одно из таких мест, где, по преданию, происходит нечто необъяснимое. В инете эту чертовщину описывают так:
"...на углу улицы Сретенки и Даева переулка на стене на уровне третьего этажа одного из зданий иногда появляется огромная чёрная тень мужчины или тёмное сырое пятно, которое разрастается и становится похожим на великана. Нечто чёрное и бесплотное возникает прямо из кирпичной кладки одного из зданий, сходит со стены и отправляется бродить по старой Москве, пугая прохожих. Рост призрака примерно от 3 до 5 метров, достигает второго этажа. Является призрак редко и неприятностей не доставляет.
В архивах КГБ хранится докладная записка двух сотрудников, которые, уверяя, что находясь в трезвом уме и твёрдой памяти в августовскую ночь 1920 г. встретились с этим призраком и выпалили в него две обоймы из наганов, но пули проходили насквозь и рикошетили от стен в разные стороны. Однако, вместе с призраком бесследно исчез и арестованный, которого чекисты конвоировали, а в ВЧК их рассказу не поверили.
Чаще всего фантом-великан является единичным "свидетелям"
Не счесть сколько раз хаживала я мимо того места, где "квартируется" та самая Тень, но что-то ни разу она не почтила меня своим вниманием.
* * *
В истории сретенских переулков был и такой период, когда одно их упоминание вызывало у благопристойных граждан отвращение.
После того, как во второй половине 19 века проституция в России была объявлена терпимой, сретенские переулки,примыкавших к Грачевке (ныне Трубная ул.) превратились в район "красных фонарей". В те времена в этих переулках насчитывалось около 100 дворов, и в этих ста дворах было 97 притонов.
Обилие третьесортные дешевых борделей,пьянство, драки, преступность, делало жизнь немногих благопристойных обитателей сретенских переулков невыносимой, превращала её в ад.
Особо был знаменит своими притонами Соболев переулок.
А, вот, Чехов А.П.,знал эти места не по наслышке, и бывал там с Лесковым Н.С. Об этом упоминает Аннинский Л.А.:
"Среди поездок Лескова в Москву, обыкновенных в его жизни, одна - осенью 1883 года - достойна особого внимания, потому что Лесков познакомился там с молодым, лет двадцати трех, студентом-медиком, который оставил об этом знакомстве краткую, но выразительную запись. Студент был человек веселый и даже печатался с осколками своего остроумия в московском "Будильнике" и в юмористических петербургских журналах, в том числе у Лейкина. Лейкин, собственно, Лескова со студентом и познакомил.
"Мой любимый писака, - определил Лескова студент, - ходил со мной в Salon, в Соболевские вертепы..." (то есть в варьете и в увеселительные заведения в Соболевом переулке - надо понимать, что эти походы были выдержаны в той традиции, которая в 60-е годы влекла литераторов в петербургские "углы" и "трущобы", а в будущем повлекла Горького на Хитров рынок). Отношения вышли теплые: "милому юноше" Лесков надписал "Левшу". Юноша же оставил следующее свидетельство:
"Еду однажды с ним ночью. Обращается ко мне полупьяный и спрашивает: "Знаешь, кто я такой?" - "Знаю". - "Нет, не знаешь... Я мистик..." - "И это знаю..." Таращит на меня свои старческие глаза и пророчествует: "Ты умрешь раньше своего брата". - "Может быть". - "Помазую тебя елеем, как Самуил помазал Давида... Пиши"..."
Чуть позже, в 1888 году, Чехов напишет рассказ "Припадок", в котором "осторожно, не ковыряя грязи и не употребляя сильных выражений" покажет Соболев переулок с домами терпимости. Рассказ получится грустным и серьёзным...
В 1907 году, несмотря на протесты притонодержателей, городская дума начала расчистку сретенских переулков. Первым делом, разумется, взялись за переименование. Соболев стал Большим Головиным, Большой Колосов - Большим Сухаревским, а Малый Колосов - Малым Сухаревским. Мясной переулок переименовали в Последний, а Сумников - в Пушкарев. Так исчезли с карты Москвы печально известные имена переулков.
На месте вертепов начали возводить дома доходные с хорошими квартирами, оборудованными всеми городскими удобствами. А чтобы в новые дома, выстроенные в старом районе с подмоченной репутацией, заманить жильцов, цены на квартиры здесь устанавливали немного ниже, чем в других местах московского центра.
Не ведаю по чем в те годы были цены на квартиры, а нынче в Головином переулке квартира в 178 кв.м. стоит 59 млн.руб. (≈ 1,372 млн.€). Вот, в таком домике:
* * *
Смотрим Cретенские переулки:
(Даев пер., угол Даева и Сретенки, угол Даева и Ананьевского пер.)
(Сильверстов пер.)
(Малый Головин пер.)
(Большой Головин пер.)
(Пушкарев пер.,+ вид на Сретенку)
(Печатников пер.)
(Луков пер.)
И напоследок - композиция, изображающая семью:
(и так и этак смотрела я на этот шедевр... но, не поняла, что поддерживает малышка своими ручонками и куда это так пристально смотрит её отец)
|
Метки: москва сретенка |
От натурщиц до великих художниц: как в России изменилась роль женщин в искусстве |
http://www.timeout.ru/msk/feature/483658?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com
От натурщиц до великих художниц: как в России изменилась роль женщин в искусстве
Сергей Морозов 8 марта 2019 4 мин
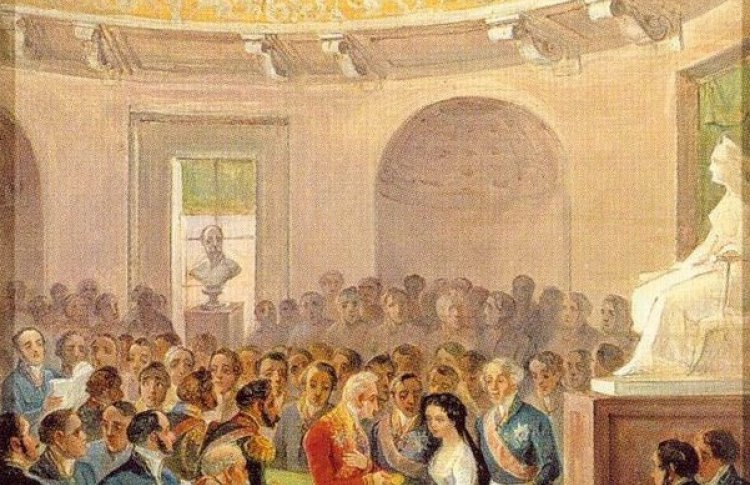
8 марта — не просто еще один выходной, и не вымученный повод купить маме цветы, а жене — новый миксер. Этот праздник возник как день солидарности женщин в борьбе за равноправие. Еще не так давно считалось, что искусство — не женское дело. Time Out попытался разобраться, как и когда это изменилось.
В культовом эссе «Почему не было великих женщин-художниц?» 1971 года американский историк искусств Линда Нохлин взялась развенчать миф об интеллектуальных различиях между полами и продемонстрировала, что недостаток женских имен в списке самых-самых художников был обусловлен социальными предубеждениями и вытекающими из них институциональными препятствиями — в том числе ограничением женщин в доступе к художественному образованию.
Последний век существования дореволюционной России прекрасный тому пример. Вплоть до 1840-х годов женщинам в искусстве отводилась разве что роль натурщиц. Рисование могло быть либо хобби в случае аристократок (рассчитывать они могли лишь на частные уроки), либо способом заработка для тех, кто их обучал — в основном, родственниц художников-мужчин. Нередко у художниц не оставалось другого выбора, кроме как подражать стилю отца, мужа или брата, ведь учились они у них. Например, дочь живописца Алексея Венецианова, несмотря на врожденный талант, пошла по стопам отца и посвятила себя жанровой живописи.

Александра Алексеевна Венецианова (1816—1882) на портрете кисти отца в возрасте 13 лет
Только в 1842 году в Санкт-Петербургской рисовальной школе для вольноопределяющихся открываются первые женские вечерние классы. Инициатором нововведения стал министр финансов Канкрин — по странному стечению обстоятельств, рисовальная школа находила в ведении его министерства. Впрочем, считать Канкрина протофеминистом было бы большим заблуждением. В докладе к Николаю I он ставит рисование в один ряд с рукоделием и отмечает, что новые курсы помогут обучению женщин «не только как самостоятельных работниц, но и как будущих помощниц и воспитательниц мужчин в качестве их жен и матерей».
В соответствии с подобным настроем разработали и программу классов: если в мужском отделении пейзаж считался жанром легким и поверхностным и почти не преподавался, то в женском он был одним из основополагающих наряду с изображением «цветов и орнаментов». А вот черчению женщин-слушательниц, в отличие от мужчин, не обучали вовсе. Несмотря на предрассудки и ограничения, женское художественное образование начинает развиваться и приносить плоды — так, рисовальную школу для вольноопределяющихся закончила одна из самых примечательных русских художниц XIX века Елизавета Бем. Работы из стекла по ее эскизам имели большой успех на двух Всемирных выставках: в Чикаго в 1893-м и в Париже в 1899-м.
 Открытка авторства Елизаветы Бем
Открытка авторства Елизаветы Бем
Со временем будущих художниц начинают принимать и в Императорскую академию художеств. Вероятно, в их пользу сыграло то, что в 1852 года президентом Академии стала женщина — дочь царя великая княгиня Мария Николаевна. В 1856-м большую золотую медаль Академии впервые в истории получила художница — Софья Сухово-Кобылина (к слову, награду ей принесли пейзажи). Вслед за Академией женщин стали принимать и в Московское училище живописи, ваяния и зодчества (в 1900-х в нем обучалась авангардистка Наталья Гончарова). Рисование постепенно перестает быть хобби, а художественная карьера — прерогативой мужчин.

Софья Сухово-Кобылина (1825-1867). Автопортрет художницы, 1847
Художник — не единственная роль в русском искусстве, которую с середины XIX века начинают играть женщины. Одним из главных меценатов в истории России была женщина — княгиня Мария Тенишева. В 1894-м она основала в Петербурге студию подготовки к высшему художественному образованию, а с 1898-го вместе с купцом Саввой Морозовым субсидировала журнал «Мир искусства». Тенишева оказывала материальную помощь Александру Бенуа, Сергею Дягилева и другим деятелям культуры начала ХХ века.
 Софья Сухово-Кобылина. «Перед грозой»
Софья Сухово-Кобылина. «Перед грозой»
Первую в России арт-галерею в современном понимании тоже основала женщина — Надежда Добычина. Ее «Художественного бюро Н. Е. Добычиной» специализировалось на актуальном искусстве своего времени. Здесь работала студия Всеволода Мейерхольда, выставлялись работы Василия Кандинского, проходили экспозиции «Мира искусства». А в 1915-м в бюро открылась одна из самых знаменитых выставок в истории — «Последняя футуристическая выставка картин 0,10», на которой Казимир Малевич представил «Черный квадрат». Галерея Добычиной продвигала и творчество женщин-художниц: Ольги Розановой, Любови Поповой и Натальи Гончаровой.
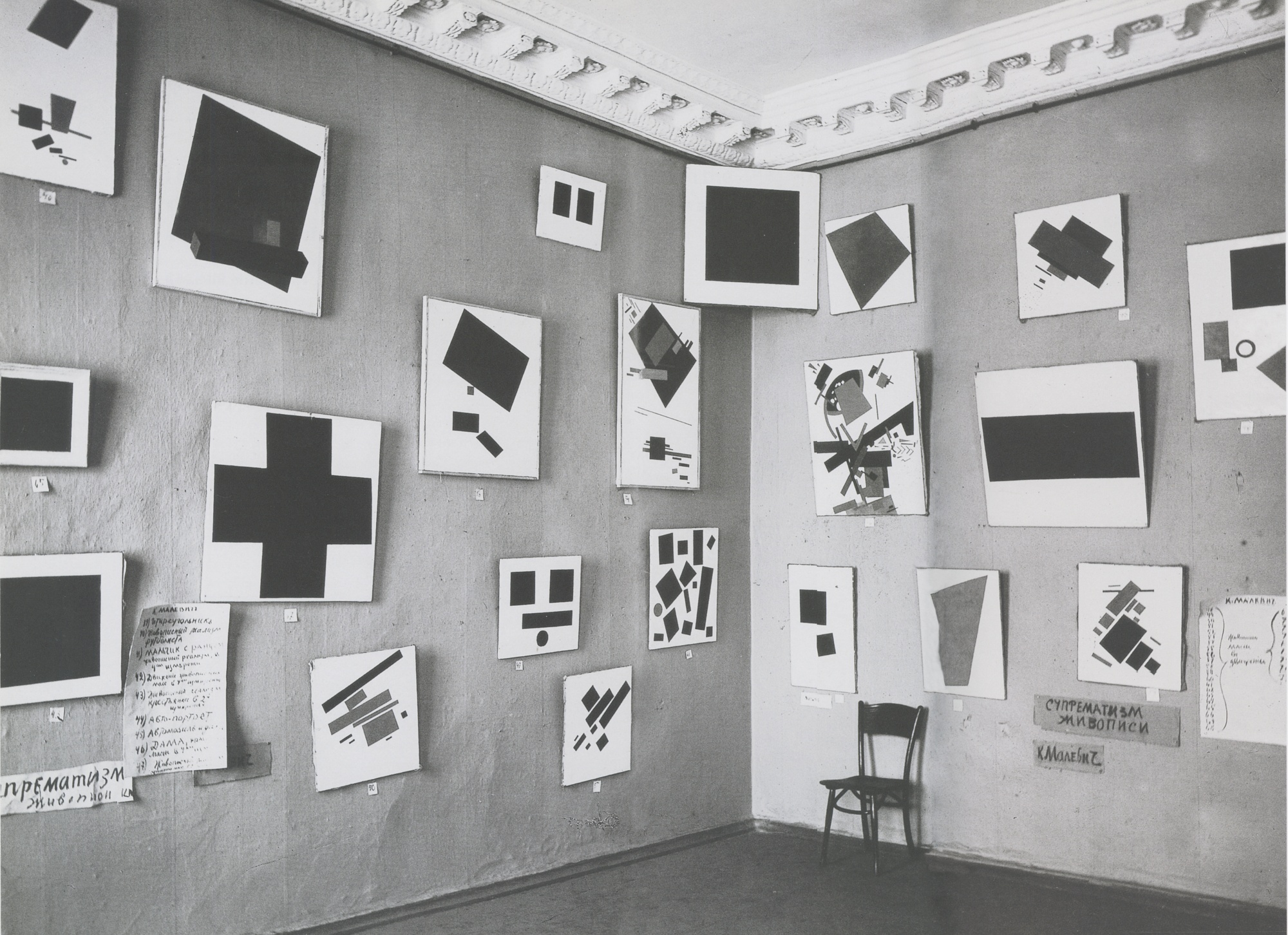 Последняя футуристическая выставка картин 0,10
Последняя футуристическая выставка картин 0,10
К началу ХХ века доступ к художественному образованию, становление меценатства и галерейного движения, проходившие при покровительстве и непосредственном участии женщин, привели к тому, что художницы получили возможность развивать свой собственный стиль и войти в историю искусства наравне с мужчинами, что еще сто лет назад казалось невозможным, а некоторым — попросту неприличным.
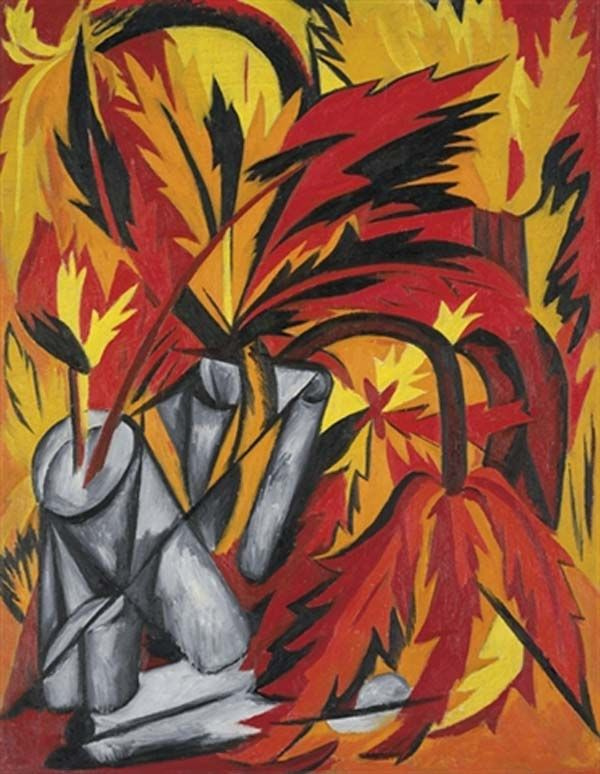
Наталья Гончарова. «Цветы», 1912
Сегодня «Цветы» Натальи Гончаровой стоимостью $10,8 миллионов входят в топ-10 самых дорогих произведений русского искусства в истории. Без Гончаровой и ее современниц Зинаиды Серебряковой, Натальи Гончаровой, Любови Поповой, Варвары Степановой и Веры Мухиной сложно представить мало-мальски достойный учебник по истории искусства.
|
Метки: мир живописи |
«Молодая Надежда Крупская была очень похожа на Скарлетт Йоханссон». Любопытные факты о «жене вождя» |


«Молодая Надежда Крупская была очень похожа на Скарлетт Йоханссон». Любопытные факты о «жене вождя»
85https://lady.tut.by/news/life/627634.html?utm_refe...2Fzen.yandex.com&crnd=6275
26 февраля 2019 в 8:40
Юлия Караваева / LADY.TUT.BY
Те, кто родился в СССР, наверняка помнят Надежду Константиновну, серьезно глядящую со страниц учебников: круглые очки, растрепанный седой пучок, мешковатый пиджак.

Фото: из архивов Государственной публичной исторической библиотеки России
На фоне спорной, но яркой фигуры Ленина Крупская всегда выглядела бледненько и довольно стерильно. А в описаниях ее жизни основными эпитетами были «неизменная спутница вождя» и «верная соратница». Впрочем, когда пришло время разоблачений, то вместе с «товарищем Крупским» досталось и его жене.
26 февраля исполняется 150 лет со дня рождения Надежды Константиновны, а 27-го — 80 лет со дня ее смерти, ведь умерла она на следующий день после своего 70-летнего юбилея. Сегодня вспоминаем факты и мифы, связанные с личной жизнью этой неординарной женщины.
Она была совсем некрасивой
На самом деле юная Наденька была вполне обычной и даже не лишенной миловидности девушкой. Подруги вспоминали ее белую кожу, нежный румянец и длинную русую косу. Сама Крупская называла свою внешность типично «санкт-петербургской» и сравнивала себя с северной природой: «Нет во мне ярких красок».

Фото: pinterest.com / Сходство молодой Крупской и голливудской звезды Йоханссон забавляет пользователей Сети не первый год. Разумеется, в оригинале снимок Крупской не был цветным
Возможно, миф о «некрасивости» связан с тем, что Надежда Константиновна нередко оказывалась рядом с настоящими красавицами и, понятное дело, проигрывала на их фоне. Например, когда Надя только познакомилась со своим будущим мужем, он был не на шутку увлечен ее подругой — симпатичной активисткой Аполлинарией Якубовой. Позже, уже в браке, ей пришлось выдерживать конкуренцию такой яркой революционерки, как Инесса Арманд.

Фото: staticflickr.com / Аполлинария Якубова

Фото: pinterest.com / Инесса Арманд
C возрастом наружность Крупской серьезно изменила базедова болезнь, давшая ей одутловатое лицо и шею, глаза навыкате. Во внешности Надежды всегда было что-то «рыбье». Недаром одной из ее партийных кличек была Рыба, а Ленин называл ее «миногой» и даже «селедкой». Болезнь усугубила это сходство. Проблемы с почками, а также женские недомогания тоже пагубно сказывались на ее внешности.
Кроме того, Крупская всегда была сладкоежкой, и в пожилом возрасте дала себе волю — ела сладости в больших количествах. Это сделало ее фигуру грузной и прибавило проблем со здоровьем.
Ленину она была больше товарищем, чем женой
И да, и нет. В 1896 году Крупская впервые увидела 26-летнего революционера Владимира Ульянова, и он понравился ей с первого взгляда. Но Володя ухаживал за Якубовой, а в Наде видел только товарища. Когда Ленин попал в тюрьму, то попросил подружек приходить на место, видное из окна его камеры, — так сказать, для моральной поддержки. Аполлинария не пришла ни разу, а Надя каждый день подолгу простаивала на заветном пятачке. Неудивительно, что скоро она получила предложение выйти замуж и отправилась за Лениным в Шушенское. Молодые, кстати, венчались в церкви — советские идеологи тщательно скрывали этот факт.
Позже Крупская напишет о том времени: «Мы ведь молодоженами были, и это скрашивало ссылку. То, что я не пишу об этом в воспоминаниях, вовсе не значит, что не было в нашей жизни ни поэзии, ни молодой страсти…».
И Ленин, вероятно, любил свою Наденьку. В письмах, где он писал о мучившей жену базедовой болезни и необходимости скорой операции, чувствуется забота и тревога. В других он с нежностью вспоминает прогулки и совместные занятия. И везде это — «Наденька». Когда роман между Лениным и Инессой Арманд достиг апогея, Крупская предложила ему развестись и даже пообещала лично найти удобную квартиру для мужа и его пассии. Но Ленин не согласился на развод.

Фото: leninism.su / 1919 год. Ленин и Крупская выходят из Дома Союзов
Конечно, Крупская была мужу товарищем, которого только может пожелать увлеченный делом мужчина. Жена разделяла страсть Ленина к революции, горела одной с ним идеей и помогала ему во всем: переписывала его труды, организовывала встречи, служила связной… Крупская высказалась по этому поводу вполне конкретно: «Любовь — любовью, а чтобы жить друг с другом, надо, чтобы было единство взглядов. Без этого не может сложиться настоящая счастливая семья». Также она писала: «Марксизм дал мне величайшее счастье, какого только может желать человек: знание, куда надо идти, спокойную уверенность в конечном исходе дела, с которым связала свою жизнь».
Она не умела готовить и налаживать быт
А вот это похоже на правду. Товарищи Крупской вспоминали, что коронным блюдом Надежды Константиновны была яичница из четырех яиц, а в съемных квартирах обычно царил хаос. Впрочем, ни Крупскую, ни Ленина этот факт абсолютно не волновал: вероятно, оба были весьма неприхотливыми в житейском плане людьми.
Но надо учитывать, что большую часть времени вместе с четой жила мать Крупской, Елизавета Васильевна. А вот она как раз была женщиной домовитой и славилась своими кулинарными изысками. Так что именно теща обеспечивала налаженный быт, пока дочка с зятем раздували мировой пожар. После ее смерти в 1915 году Ленину и Крупской пришлось питаться в дешевых столовых, и Надежда Константиновна писала: «Еще более студенческой стала наша семейная жизнь».
Она плохо одевалась
Правильнее сказать: она одевалась согласно своему статусу. И это был вовсе не статус «первой леди», как принято говорить сейчас. Крупская была женой вождя мирового пролетариата, старой большевичкой. Могла ли такая женщина думать о бантиках и рюшечках? Этого не поняли бы ни товарищи по партии, ни народ. Одежда Надежды Константиновны всегда была простого покроя, неярких однотонных расцветок, косметикой она не пользовалась. В годы революции и последовавшей за ней разрухи Крупская одевалась скромно до бедности и этим еще раз подчеркивала близость вождя и его семьи к народу.

Фото: Владимир Веленгурин, kp.md / Сотрудник музея-заповедника «Горки Ленинские» показывает залатанные туфли, которые носила Крупская.
После смерти Ленина Крупская почти перестала обращать внимание на свою внешность: мешковатые костюмы плохо сидели на ее грузной фигуре, седые волосы выглядели неухоженными. Впрочем, это можно расценить как очередное точное попадание в образ — на этот раз вдовы Ленина.
Она обладала незаурядным умом
Надежда Константиновна действительно была совсем не глупа. Она с легкостью поступила на Бестужевские курсы — одно из первых женских высших учебных заведений в России. Выучила немецкий, чтобы в подлиннике читать Маркса, и никогда не жалела времени и сил на образование (другой вопрос — какого толка информация входила в сферу ее интересов).
Способности Крупской соединялись с неимоверной работоспособностью: на фоне того, что ее помощь в делах постоянно требовалась Ленину, она еще успевала писать собственные труды. Историки полагают, что если бы Надежда Константиновна не стала женой вождя, то и сама могла оставить заметный след в политике. Того же мнения придерживался и Лев Троцкий: «Крупская была не только женой Ленина — она была сверх того лично выдающимся человеком: по своей преданности делу, по своей энергии, по чистоте своей натуры. Она была несомненно умным человеком. Но нет ничего удивительного, если рядом с Лениным ее политический ум не получил самостоятельного развития».
Для Крупской интересы мужа всегда стояли на первом месте. Так, Ленин действительно испытывал глубокие чувства к Инессе Арманд. Осознав положение вещей, Крупская не только подружилась с любовницей мужа, но и по-своему привязалась к ней. В результате пресловутый «любовный треугольник» Крупская — Ленин — Арманд существовал, насколько это возможно, гармонично, не мешая вождю в работе.

Фото: leninism.su /1922 год. Ленин и Крупская в Горках
После первого удара именно Надежда выхаживала полупарализованного Ленина — заново учила ходить, говорить и практически вернула к жизни. Но второй инсульт свел этот успех к нулю.
Она не любила сказки, потому что была бездетной
Проблемы со здоровьем не позволили Крупской стать матерью. В настоящее время врачи, скорее всего, смогли бы помочь Надежде Константиновне, но тогда даже курс лечения в швейцарской клинике не принес результатов.
Умирая, Инесса Арманд попросила Крупскую позаботиться о ее детях — это еще одно свидетельство теплых отношений между женщинами. Супруга Ленина исполнила обещание, а дочь Арманд, тоже Инесса, после смерти Ленина стала самым родным для Надежды человеком. Ее сына Крупская звала «внучком».
Свою нерастраченную заботу и воспитательный пыл Крупская обрушила на всех советских детей. Например, Крупская ратовала за искоренение беспризорности и открытие детских садов. Кроме того, она была одной из создательниц советской школьной системы. Кстати, уроки труда в школе — это тоже привет от Крупской. Она была ярой противницей телесных наказаний, и по этому вопросу вступила в конфликт с Антоном Макаренко. Ей писали тысячи детей из всех уголков огромной страны, и она отвечала, за что и получила титул «всесоюзная бабушка».

Фото: ru.wikipedia.org / 1927 год, Крупская среди пионеров
Что касается сказок, то в 1928 году в «Правде» была опубликована статья Крупской «О „Крокодиле“ Чуковского», где она предъявляла автору многочисленные идеологические претензии. И заканчивала так: «Я думаю, „Крокодил“ ребятам нашим давать не надо, не потому, что это сказка, а потому, что это буржуазная муть».
Стоит признать, что статья крайне негативно отразилась на творческой судьбе Чуковского и в целом на детской литературе того времени.
Сегодня нам сложно понять, что плохого в замечательном «Крокодиле» и других прекрасных произведениях Чуковского. Но Надежда Константиновна была человеком своего времени и человеком очень идейным. Она свято верила в то, что главная педагогическая задача — это воспитать из детей будущих строителей коммунизма. «Содержание детской книги должно быть коммунистическое», — написала Крупская в более поздней статье «Детская книга — могущественное орудие социалистического воспитания».
Она умерла не своей смертью
24 февраля 1939 года Надежда Константиновна праздновала свое 70-летие — на два дня раньше официальной даты. Писали, что стол был очень скромным — пельмени и кисель. Сталин, зная любовь Крупской к сладкому, прислал торт, которому все гости отдали должное. Ночью имениннице стало плохо, но скорая, как назло, добиралась очень долго. А потом и в больнице консилиум никак не мог принять решение об операции. В результате 27 февраля Надежда Константиновна скончалась от осложненного гнойного перитонита.
Конечно, «тортик от Сталина» не мог не возбудить подозрений. Однако версия с отравлением не выдерживает критики — сладкое угощение отведали все гости. Другое дело — опоздание врачей, неоправданно долгое обсуждение решения об операции, которое и привело к летальному исходу. Но и здесь может быть два объяснения: первое — приказ тянуть время был получен «сверху», второе — доктора просто боялись взять на себя ответственность за жизнь такого важного пациента.
Правды мы никогда не узнаем: тело вдовы Ленина было кремировано, а урна с прахом замурована в Кремлевскую стену. Как не узнаем мы и того, была ли счастлива Надежда Константиновна, в жизни которой было только две любви — Ленин и марксизм.
Читайте также
«Интернациональный долг», наркотики, ловушка для СССР. Вопросы и ответы о войне в Афганистане
Настоящая Колхозница. Почему прототип скульптуры Мухиной сбежала в деревню
«Оскар» получил фильм «Зеленая книга». Что это за книга?


https://lady.tut.by/news/life/627634.html?utm_refe...2Fzen.yandex.com&crnd=6275
|
Метки: крупские |
Левый эсер Блюмкин Я.Г. |
Левый эсер Блюмкин Я.Г.
- Автор Vinogradskaya
- Дата 25 июля 2012 9:27
Главная » Новости » Войны » Гражданская 1918-1920 гг. » События » Левый эсер Блюмкин Я.Г.
Блюмкин Яков Григорьевич — левый эсер, сотрудник ВЧК, убийца германского посла графа фон Мирбаха. В январе 1918 г. Блюмкин, совместно с блатным Мишкой Япончиком, принимает активное участие в формировании в Одессе Первого Добровольческого «железного отряда». Скольких буржуев Яков со своим блатным помощником убил и ограбил — история умалчивает. Водит Яша дружбу не только с уголовниками, но и с представителями местной поэтической богемы. Один из них — Петр Зайцев.
Этот «поэтический» юноша становится начальником штаба у диктатора Одессы, эсера Михаила Муравьева. Деньги всегда производили на Блюмкина магическое действие. Всю свою жизнь он будет где-то поблизости от серьезных финансовых потоков. Глядя на своего нового приятеля Петра Зайцева, буквально купающегося в деньгах, Блюмкин понимает, что революция — это большие деньги. Очень большие.
Но помимо простой алчности было в Блюмкине и много талантов. Поэтому его последующий взлет был просто умопомрачительным. А для него ведь надо было молодому еврейскому пареньку собой что-то представлять. Блюмкин устраивает своих таинственных покровителей, и с этого момента в его карьере начинается стремительный рост. А он у Яши Блюмкина был невероятный, просто фантастический.
Яков Блюмкин
В марте 1918 г., не имеющего военного опыта, 19-летнего Блюмкина рекомендуют на пост начальника штаба 3-й Украинской советской «одесской» армии, которой предстояло остановить наступление румынских и австро-венгерских войск. Эта «армия» насчитывала всего около четырех тысяч солдат и подчинялась эсеру Муравьеву. Однако, так и не понюхав пороху, она панически отступила при приближении противника.
Несмотря на это, Блюмкина «за особые боевые заслуги» назначают комиссаром Военного совета и помощником начальника штаба армии. Здесь он участвует в сомнительной финансовой афере, пытаясь присвоить часть реквизированных, а значит казенных денег. Махинации Блюмкина стали хорошо известны, и под угрозой ареста он возвращает в банк 3,5 млн. рублей. Дело благополучно заминается, и в конце апреля 1918 г. Блюмкин покидает армию, где он уже прослыл вором, и приезжает в Москву.
Матросский патруль проверяет документы, 1919 г.
И тут сразу становится во главе охраны ЦК партии левых эсеров! (Савченко В.А. «Авантюристы Гражданской войны: Историческое расследование», Харьков, изд. Фолио; М.: ACT, 2000 г., с. 309). «Революция избирает себе молодых любовников», — писал о Блюмкине Троцкий, отмечая, что тот «имел за плечами странную карьеру и сыграл еще более странную роль». В будущем Яков станет правоверным троцкистом, но пока он еще левый эсер и именно в этом качестве войдет в историю. Его карьера неудержимо идет вверх. В мае 1918 г. Блюмкин поступает на работу в ЧК. И не просто рядовым сотрудником — Якова назначают на ответственную должность начальника секретного отдела по борьбе с контрреволюцией!
Левые же эсеры планомерно готовились к мятежу. Резолюция их съезда гласила: «Разорвать революционным способом гибельный для русской и мировой революции Брестский договор». Повсюду «союзники» руками эсеров расставляли нужных людей. Если отдел по борьбе с заговорами возглавит заговорщик, его коллеги могут спокойно готовиться к намечаемой акции.
В июне 1918 г. Блюмкин Я.Г. — «заведующий отделением контрразведывательного отдела по наблюдению за охраной посольств и их возможной преступной деятельностью». Будущему убийце немецкого дипломата поручили охранять его жертву… Операция по ликвидации графа Вильгельма фон Мирбаха была весьма непростой. Блюмкин начал издалека — с родственника посла, офицера австрийской армии Роберта фон Мирбаха, который находился в русском плену.
В апреле 1918 года он был освобожден и проживал в одной из московских гостиниц. В этой же гостинице снимала номер шведская актриса Ландстрем, любовница молодого Мирбаха. Неожиданно, без видимых причин, она кончает жизнь самоубийством. Вероятно, бедная актриса была убита Блюмкиным и его помощниками. На эту мысль наводит дальнейшая цепь событий.
Расследование смерти шведской подданной ведут чекисты отдел Якова. Роберт фон Мирбах ими арестован, а родственник-дипломат пытается ему помочь. Фон Мирбах обращается в ЧК с просьбой освободить его под свои гарантии посла Германии. В конце июня именно Блюмкин убеждает руководство партии левых эсеров убить посла Германии, для того чтобы спровоцировать «революционно-освободительную войну против немецких империалистов».
На официальном бланке ЧК было отпечатано направление для переговоров с послом Германии «по делу, имеющему непосредственное отношение к самому германскому послу». Член ЦК партии левых эсеров Прошьян подделал подпись Дзержинского на документе, а эсер Александрович, в то время занимавший должность заместителя Дзержинского, «приложил» к мандату печать и распорядился выдать Блюмкину машину ЧК. Подготовка была безупречна: настоящий начальник отдела ЧК Яков Блюмкин с настоящими документами в настоящей чекистской машине ехал к послу по делу о его родственнике, которым по-настоящему занимался именно он.
6 июля 1918 года в 14 часов Блюмкин и Андреев вошли в здание германского посольства и потребовали аудиенции. Пришедшие проявляли завидное упрямство и настаивали на личной встрече с послом. Осторожный Мирбах все-таки выходит к настырным визитерам. Блюмкин в течение пяти минут излагает ему «историю» ареста его племянника, а затем лезет в свой портфель якобы для того, чтобы достать нужные документы. Но внезапно выхватывает из портфеля револьвер и стреляет, а затем бросает бомбу, которая и становится для графа Мирбаха роковой.
Блюмкин и его подручный Андреев прыгают в окно, садятся в машину и уезжают. В машине обнаруживается, что Блюмкин ранен и не в состоянии самостоятельно передвигаться. Его переносят в штаб эсеровского отряда Попова и перевязывают. Далее начинается интересная комбинация. Информация о месте нахождении убийц посла странным образом моментально попадает к Дзержинскому. Он приезжает на место, где скрываются убийцы, чтобы их задержать, и оказывается в ловушке.
Поехал «железный» Феликс в отряд Попова без охраны и без тени сомнения, так как это отряд особого назначения ЧК, а значит, ехал Дзержинский к собственным подчиненным. Однако командир левых эсеров (и будущий махновский командир) Дмитрий Попов без колебаний арестовал руководителя советской контрразведки. Штаб отряда становится центром эсеровского мятежа. Именно сюда по плану был перебазирован ЦК, здесь левые эсеры сосредоточили свои главные силы…
9 июля 1918 г. Блюмкину Я.Г. удается совершить побег из усиленно охранявшейся больницы, как он вспоминает, при помощи «внепартийных друзей». Друзья эти берегут своего агента. Да и кто же они, если не эсеры? Впоследствии Блюмкин напишет: «В августе 1918 года я жил в окрестностях Петербурга очень замкнуто, занимаясь исключительно литературной работой, собирая материалы об июльских событиях, и писал о них книгу».
Одним словом — он сделал свою часть работы, и не его вина, что мятеж провалился и между Россией и Германией война снова не началась. А ведь она была так нужна! Немецкие войска рвались к Парижу, шло последнее немецкое наступление этой войны. Решающее. И открытие заново Восточного фронта было бы куда как кстати. Кому? Внепартийным «друзьям» Якова Блюмкина из британской разведки.
Прятался убийца Мирбаха от карающей руки пролетарского правосудия совсем недолго. Особая следственная комиссия, по согласованию с Президиумом ВЦИК Советов, приняла решение об амнистии Блюмкина. За какие заслуги, почему столь милосердно поступили суровые чекисты, не совсем понятно. Но вся биография Блюмкина из таких непонятных «чудес» и состоит. Поэтому просто примем к сведению — везет парню, и все тут.
А он после своей амнистии в середине мая 1919 г. не просто прятаться перестал, а снова страстно захотел работать в ЧК. Строги чекисты, беспощадны к врагам трудового народа. Но Яше Блюмкину отказать не могут и берут его в ЧК во второй раз! Чем он там занимался, точно неизвестно: то он во главе какого-то чекистского отряда, то он законспирированный агент по борьбе со шпионажем, то, по сообщению официальной печати, он занимается подрывной работой в тылу петлюровских войск.
После того как Яков Блюмкин был неожиданно помилован и принят во второй раз в советскую спецслужбу, участвовал в многочисленных спецоперациях. В 1920 году был зачислен слушателем Академии Генерального штаба Красной армии на факультет Востока, где готовили работников посольств и агентуру разведки. И уже летом 1920 г. Блюмкин участвует в одной громкой авантюре межгосударственного уровня.
С помощью советской военной и материальной помощи на севере Ирана создается местная самопровозглашенная Гилянская Советская республика с центром в городе Решт. Блюмкин становится комиссаром штаба Гилянской Красной армии, членом только что образованной компартии Ирана. Участвуя в боях, Блюмкин руководит обороной города Энзели от наступавших войск шаха Ирана.
Доходит до того (и это не шутка), что еврей Блюмкин как делегат от Ирана приезжает на Первый съезд угнетенных народов Востока, проходящий в Баку! Но все имеет свой конец — и чудеса тоже. Возвращаясь домой, Блюмкин попадает в опалу. Оказывается, в 1929 году он тайно встречался с Троцким в Турции и привез от него письма его сторонникам. Передал полученный пакет Радеку, тот, не распечатывая, позвонил в ГПУ. Блюмкин — арестован. Расстрелян в 1929 году.
Статья написана по материалам книги Н. Старикова «Ликвидация России. Кто помог красным победить в Гражданской войне?», изд. «Питер», 2012 г.
Советую прочитать:
|
Метки: яков блюмкин террор |
Суперагент Яша Блюмкин |
Суперагент Яша Блюмкин

В декабре 1920 года, когда по всей территории России гуляла смерть – тиф, чума, голод, разруха, крестьянские восстания – в круг посетителей московского «Кафе поэтов», где завсегдатаями были Маяковский, Есенин, Мариенгоф, Мандельштам и проч. – вошёл странный субъект с репутацией отчаянного террориста и заговорщика – Яша Блюмкин (носивший в эсеровских кругах кличку «Живой»).
Давайте познакомимся с ним чуть ближе.
Симха-Янкель Гершев Блюмкин родился на знаменитой одесской Молдаванке в 1898 году. В 1906 году отец умер, и семья из шести человек впала в нищету. В 1908 году мать отдала его на учёбу в начальное духовное училище – Первую одесскую Талмуд-тору. Все расходы по обучению брала на себя религиозная община. Руководил этим учебным заведением писатель Шолом Яков Абрамович, основоположник современной еврейской литературы. Благодаря этой школе Якову удалось получить весьма неплохую общеобразовательную подготовку.
В 1915-ом году вступает в партию эсеров, куда его ввел студент-эсер Валерий Кудельский – друг Григория Котовского (вместе сидели) и Маяковского. Несколько позже Кудельский стал большевиком и в 20-е годы возглавлял секретно-оперативный отдел ГПУ Украины.
В январе 1918 года девятнадцатилетний Блюмкин (совместно с Мишкой Япончиком) принимает участие в формировании в Одессе I-го «Железного» отряда.
Надо отметить, что у Яши Блюмкина был один совершенно особый талант – он всю жизнь он находился рядом с крупными теневыми денежными потоками.
Начинает он свою военную карьеру на посту начальника штаба 3-й Украинской советской «Одесской» армии, которая находилась в подчинении командующего Муравьёва. При отступлении часть этой армии добралась до Феодосии, где Блюмкина назначают комиссаром военного совета армии и помощником начальника штаба армии. В апреле армия разбежалась на мелкие отряды, которые реквизировали деньги банков и продовольствие у крестьян, а Блюмкин (уже в качестве начальника штаба армии), руководит этими экспроприациями.
Так, за ним числилось темное дело с экспроприацией четырех миллионов рублей из Государственного банка городка Славянска. Дабы замять свои делишки, Блюмкин предложил командующему 3-й революционной армией левому эсеру Петру Лазареву взятку. Часть денег Блюмкин решил оставить себе, часть — передать в фонд левоэсеровской партии.
Но махинации Блюмкина стали хорошо известны, и под угрозой ареста он возвращает в банк три с половиной миллиона рублей. Куда подевались еще 500 тысяч, деньги тогда еще достаточно большие, остается загадкой. Очень загадочным в связи с этим представляется бегство Лазарева с фронта и с поста командующего. Архивные документы констатируют, что 80 тысяч из четырех миллионов пропали вместе с Лазаревым.
В конце апреля 1918-го Блюмкин покидает армию, где прослыл вором, и приезжает в Москву. Там он становится главой охраны ЦК партии левых эсеров. Именно Яков Блюмкин стал одним из отцов-основателей ЧК (и позднее – жертвой своего детища). В мае 1918-го девятнадцатилетний Блюмкин представляет свою партию в ЧК при Дзержинском и занимает должность начальника секретного отдела по борьбе с контрреволюцией в ЧК. В июне 1918 года в его обязанности входит наблюдение за охраной посольств и их возможной преступной деятельностью.
В это время он дружит с остроумным Карлом Радеком и, возможно, именно через Блюмкина «непримиримый антигерманец» Муравьёв получает деньги от немецкого посла Мирбаха. В страхе перед разоблачением неприглядных финансовых делишек Блюмкин и Муравьёв убеждают ЦК левых эсеров убить посла Германии, якобы для спровоцирования войны против немецких империалистов и для того, чтобы убрать от власти сторонников Брестского мира (Ленина и его приверженцев). Вечером 4-го июля Мария Спиридонова и ЦК левых эсеров принимают план Блюмкина.
6-го июля Блюмкин и Н. Андреев в 14:00 подъехали к посольству с двумя бомбами и двумя револьверами. При осуществлении теракта Блюмкин получил от охраны посольства «героическое» ранение в ягодицу. После убийства Мирбаха оба прячутся в отряде особого назначения московской ЧК, которым командовал левый эсер Дмитрий Попов. Через несколько часов преступление было раскрыто и в штаб Попова приехал Дзержинский, которого там и арестовали. Отряд левых эсеров захватывает телеграф и объявляет, что все депеши за подписью Ленина вредны для советской власти. Арестовывают чекиста Лациса и председателя Моссовета большевика Смидовича. В 6 часов утра 7-го июля по особняку, где располагался штаб Попова, открыла огонь артиллерия. Большевики получили возможность избавиться от конкурентов в борьбе за власть. К 5 часам дня выступление левых эсеров было подавлено.
Есть версия, что мятежа вообще не было, а была провокация, была оборона левых эсеров от нападений большевиков и попытка освободить своих лидеров, незаконно арестованных большевиками.
Позже, в беседе с женой Луначарского и её двоюродной сестрой Татьяной Сац, Блюмкин признался, что о плане покушения на Мирбаха знали и Дзержинский, и Ленин. Ленин сразу после покушения, по телефону, приказал, что убийц надо «искать, очень тщательно искать, но не найти»…
Но совершенно замять столь громкое международное преступление было невозможно - Блюмкин был заочно приговорён к трёхлетнему заключению.
Уже находясь под арестом, 9-го июля 1918 года Яков Блюмкин совершает побег из усиленно охранявшейся больницы. Лето 1918 года Блюмкин проводит в Питере. Тут он служит в местной ЧК по документам на фамилию Владимирова Константина Константиновича. По службе («агент под прикрытием») он входит в оккультные кружки и прочие многочисленные сборища местных мистиков. Волей-неволей обрастает большим кругом знакомств в этой весьма специфической среде.
Зимой 1918-1919 годов Блюмкин появляется на Украине, а в апреле 1919 года сдаётся ЧК в Киеве. Его почти сразу же амнистируют. Следует серия провалов в организации левых эсеров, и Блюмкина обвиняют, как провокатора. Блюмкин переживает три покушения на свою жизнь только в течение одного июня. Во время второго он ранен, а третье – бомба в окно больницы, где он лежал, но никто от взрыва не пострадал.
В конце 1919 года он уже командир 79-й бригады 27-й дивизии Южного фронта и начальник штаба этой бригады. В это же время он вступает в коммунистическую партию.
В марте 1920-го Блюмкин возвращается в Москву, где его зачисляют слушателем Академии Генерального штаба Красной армии на факультет Востока, где готовят работников посольств и агентуру разведки. Учёба идёт ударными темпами – с 09:00 до 22:00. Якову Блюмкину удивительно легко даются восточные языки, на нескольких из них он начал говорить практически безупречно.
И вот он в кругу поэтов, где Маяковский открыто восхищается батькой Махно.
Блюмкин часто общается с Сергеем Есениным и Осипом Мандельштамом. Не рискну назвать их друзьями, но то, что они были близко знакомы – никто отрицать не будет. Есенину Блюмкин говорил: « Я террорист в политике, а ты, друг, террорист в поэзии».
Позже это приятельство перейдёт в неприязнь.
В один из последних дней июня 1918 года Яков Блюмкин вместе с Осипом Мандельштамом, комиссаром ВЧК Александром Трепаловым и своим знакомым по Одессе Петром Зайцевым зашёл в писательское кафе. Подвыпив, он начал хвастаться тем, как он арестовал брата посла Мирбаха по обвинению в шпионаже в пользу Австро-Венгрии.
- Не сознается – цинично говорил Блюмкин, поставлю его к стенке. И вообще жизнь людей в моих руках. Вон, видите, вошёл поэт. Он представляет большую культурную ценность. А если я захочу – тут же арестую его и подпишу смертный приговор. Но если он нужен тебе, - обратился Блюмкин к Мандельштаму, я сохраню ему жизнь.
Тут Блюмкин преувеличивал: права решать вопрос о наказании арестованных, тем более о расстреле, он не имел. Такое постановление в то время могла выносить только коллегия ВЧК при условии, если ни один из её членов не проголосует против Однако Мандельштам этого не знал. Он принял слова Блюмкина за чистую правду. Поэт вскочил из-за стола и запальчиво крикнул:
- Это палачество! Ты не имеешь права так поступать с людьми. Я сделаю всё возможное и не допущу расправы!
- Не вмешивайся в мои дела! – грубо оборвал его Блюмкин. – Посмеешь сунуться – сам получишь пулю в лоб. С большим трудом Трепалов и Зайцев загасили ссору.
(Цитирую по тексту А.С. Велидова «Похождения террориста: Одиссея Якова Блюмкина» - М.: Современник, 1998 г.)
За год до гибели Есенина, Блюмкин, находясь в Закавказье, приревновал к поэту свою жену и угрожал ему пистолетом. Есенин считал угрозу вполне реальной и поспешно покинул Тбилиси.
По одной из версий смерти Есенина – его убили чекисты под руководством Блюмкина. И даже знаменитые предсмертные стихи, написанные кровью, написал от имени поэта сам Блюмкин (хотя в своё время, спасая Есенина от тюрьмы, брал поэта на поруки под личную ответственность).
Тем не менее, Маяковский дарил Блюмкину книги с трогательными надписями: « Дорогому товарищу Блюмочке. Вл. Маяковский».
Летом 1920 года Блюмкин участвует в создании на севере Ирана Гилянской Советской республики, где становится комиссаром штаба Гилянской Красной армии. Как делегат Ирана участвует в I-м съезде угнетённых народов Востока в Баку. После четырёх месяцев экзотической командировки Блюмкина отзывают в Москву.
В конце 1920 года Блюмкин вместе с Розой Землячкой и Бела Куном участвует в уничтожении белых офицеров, (цифры называют от 50 до 100 тысяч человек). В 1921-м году – участвует в подавлении восстаний голодных крестьян Нижнего Поволжья и Еланского восстания. Вместе с Тухачевским и Антоновым-Овсеенко участвует в подавлении восстания атамана Антонова на Тамбовщине. Осенью Блюмкин уже командует 61-й бригадой в боях против барона Унгерна фон Штернберга во Внешней Монголии. Затем он занимает высокую должность секретаря по особым поручениям в аппарате самого Троцкого.
По окончании Академии Блюмкин в совершенстве владеет турецким, арабским, китайским и монгольскими языками. Он становится официальным секретарём наркома по военным и морским делам Льва Троцкого. А с 1923-го года начинаются самые увлекательные авантюры Блюмкина, сведения о которых до сих пор хранятся в секретных архивах за семью печатями. Восстанавливать канву событий приходится буквально по крупицам. Есть сведения, что Блюмкин прошёл курс рукопашного боя у лучших тогдашних инструкторов по боевым воинским искусствам. И он был прилежным учеником. У Блюмкина восстанавливаются контакты с оккультными кругами. Он работает совместно с Александром Барченко и Генрихом Мебсом по проблемам воздействия гипнозом и суггестией на толпу и на отдельного человека, занимается проблемами предсказания будущего.
Затем идёт работа иностранным агентом на территории Палестины. Через год его отзывают в Москву и он получает пост политического представителя ОГПУ в Закавказье и члена коллегии Закавказского ЧК.
Примерно в это же время он тайно выезжает в Афганистан, где входит в контакт с сектой исмаилитов. Пробравшись в Индию, Блюмкин изучает расположение английских колониальных войск и добирается до Цейлона.
Возвращается он в Москву он только в 1925-м году. ОГПУ доверяет Блюмкину особо тайную миссию в Китае. Он должен был проникнуть с экспедицией Рериха в таинственную Шамбалу и разведать мощь англичан в Тибете. Под личиной тибетского монаха Блюмкин объявляется в Тибете (в расположении экспедиции Рериха, на которую ОГПУ выделило из своих фондов 600 тысяч долларов). И у великого мыслителя, и у великого террориста общая цель – создание в Тибете советского присутствия путём провозглашения Николая Рериха правителем Тибета – «Рета Ригденом».
В 1926-м году Блюмкин получает назначение на должность главного инструктора государственной внутренней охраны Монгольской республики – местного ЧК. Одновременно он руководит советской разведкой в Северном Китае и на Тибете. В Монголии Блюмкин вёл себя как диктатор. Он расстреливал неугодных, не ставя местные власти в известность, из-за чего через полгода его убирают и перебрасывают в Париж (для организации покушения на бежавшего во Францию секретаря Сталина – Бажанова). Покушение не удалось, хотя Блюмкин, по слухам, утверждал обратное. Официальные данные говорят о том, что Борис Георгиевич Бажанов скончался в Париже в 1982-м году.
В сентябре 1927-го года Блюмкин руководит всей агентурной сетью советской разведки Турции, Египта, Сирии, Ливана, Иордании и Палестины. Главной целью было свержение английского колониального влияния, особенно в Индии. Под личиной персидского купца Блюмкин налаживает агентурные каналы в Персии, Ираке и Палестине. Он специализируется на торговле старинными еврейскими книгами (объединёнными тематикой магии, каббалы и оккультной мистики). Эта торговля приносит доход в сотни тысяч долларов.
В 1929-м году Блюмкин проникает в среду воинственных арабских и курдских националистов. Возвращаясь в Москву Блюмкин встречается в Стамбуле с сыном уже опального Троцкого – Львом Седовым (якобы – случайно), а через него 16-го апреля 1929 года встречается и с самим Троцким.
В октябре Блюмкин совершает непростительную (для агента его уровня) ошибку – он рассказывает о своей встрече с Троцким своим друзьям, бывшим троцкистам: Радеку, Преображенскому и Смигле. Бывшие соратники советуют ему «покаяться».
В панике Блюмкин доверяется своей любовнице (и сослуживице) Лизе Горской, которая немедленно сообщает об этом начальству. Покровитель и начальник Блюмкина – Меер Абрамович Трилиссер (начальник Иностранного отдела ГПУ) решил не принимать пока никаких мер, но Блюмкин принимает решение бежать из столицы. 15-го октября 1929 года он перед отъездом решил встретиться с Горской. Они вместе едут на вокзал, но оказывается, что поезда на Грузию (куда намеревался отправиться Блюмкин) отправляются только на следующий день. Горская уговаривает Блюмкина переночевать у неё на квартире. Туда и приехал вызванный её же отряд чекистов.
В бумагах Блюмкина при обыске обнаружили инструктивное письмо Троцкого к оппозиции с предложением организовать антисталинское подполье. На восемнадцатый день после ареста Блюмкин был расстрелян. Казнь Блюмкина была первой казнью представителя коммунистической элиты в СССР.
Погиб он с возгласом: «Да здравствует Троцкий!»
P.-S. Немногие знают, что на картине Николая Рериха "Весть Шамбалы" (Стрела-письмо) изображен Яков Блюмкин в образе тибетского ламы.
Личность интересная. И весьма неоднозначная.
Он ведь вёл иногда поэтические вечера в "Кафе поэтов" и "Стойле Пегаса". Да и сам писал стихи, иногда печатался в журналах того времени (я, при всём старании, ни одного стихотворения Блюмкина не нашёл, а было бы интересно взглянуть). Неоднократно Блюмкина видели среди гостей Максима Горького - говорят, что "буревестник" очень интересовался "романтиком революции" (эпитет поэта Вадима Шершеневича).
За рамками моего короткого текста осталось много интересного - и дружба Блюмкина с Луначарским, и трагически закончившаяся любовная история с Ниной Сац (сестрой основательницы детского музыкального театра Натальи Сац). Любовных историй в жизни "еврейского Скорцени" было множество - женщин он любил.
Но не меньше в его жизни было и опасностей.
Помимо тех трёх покушений на его жизнь, о которых я упомянул в тексте, были и другие. После первых трёх он умолял приятелей не оставлять его одного - Есенин, Мариенгоф, Кусиков и Шершеневич провожали его по очереди.
Однажды, когда они уже подходили к дому, раздался окрик: "Стоять!" Блюмкин кинулся наутек, поэты за ним. Грянули выстрелы. Пули пробили в двух местах шляпу Блюмкина, после чего он почел за лучшее остановиться. Выяснилось, что их обстреляли не эсеры, а агенты с Лубянки: ЧК ловила бандитов. Блюмкин тотчас осмелел и принялся уверять, что, если б он открыл ответный огонь, чекистам бы не уцелеть: стрелял он изумительно.
С тех пор его убивали еще шесть раз: дважды холодным оружием, четыре раза - из браунинга и нагана. Его хранила какая-то тайная сила, пока в очередной раз не подвела боевая подруга - Лиза Розенцвейг.
Судьба красавицы Лизы сложилась вполне благополучно: первым браком она вышла замуж за резидента советской разведки в Англии Горского, вторым – за резидента той же организации в США Зарубина. Под именем Елизаветы Зарубиной она и осталась в истории разведки как секретный агент, имевший непосредственное отношение к раскрытию американского ядерного проекта «Манхэттен».
Литература:
1. «БИТВА ЗА ГИМАЛАИ. НКВД: магия и шпионаж» Олег Шишкин – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000 г. – 400 стр. Тираж 5000 экз.
2. «Оккультные тайны НКВД И СС» Первушин Антон – СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999 г. – 416 стр. Тираж 11000 экз.
3. « Время Шамбалы» Александр Андреев СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС https://www.chitalnya.ru/work/1278852/Образование», 2002 г. – 352 стр. Тираж 5000 экз.
|
Метки: яков блюмкин |
Яков Блюмкин |
Яков Блюмкин
Воскресенье, 17 января 2016, 11:50
-

Источник: odessa-life.od.ua
Всемирные Одесские новости, № 4, 2014
Повышенный интерес, который «с младых ногтей» я испытывал к сфере внешней разведки, ничуть не ослабевший даже после неудавшейся попытки профессионального приобщения к ней, показал насколько безгранична эта самая сфера, как богата её история, какие незаурядные и талантливые люди посвятили ей свою жизнь. Хотя, конечно, в определённой части случаев мотивацией деятельности разведчиков служили и служат не патриотизм и не бескорыстный интерес к профессии, а изрядные суммы вознаграждения и иные, сугубо прагматичные соображения. Среди них даже «отмаливание» вины за прегрешения, за предательство, за государственную измену. Иное дело, что такие агенты доверием руководства разведслужб не пользовались, а выполняли лишь отдельные поручения под строгим контролем. Прагматики и авантюристы легко становились т. н. двойными и даже тройными агентами.
Мне приходилось писать, что в практике разведчика причудливо сочетаются высокая романтика и будничная работа, героические подвиги и глубокое нравственное падение, альтруизм и корыстолюбие — разнообразие, сравнимое лишь с самой жизнью. Два издания моей книги «Рассекреченные судьбы», вышедшие в 1999 и 2001 г г, смогли охватить около двухсот таких судеб, хотя почти каждой из них могут быть посвящены отдельные тома. Не будет неожиданным тот факт, что особое моё внимание привлекли разведчики, жизнь и (или) деятельность которых связана с нашим городом. Таковых было немало. Но, пожалуй, две фигуры из их числа оказались фантастически интересными и неправдоподобно эффективными по многообразию и количеству совершенных ими акций. Осведомлённому читателю нетрудно догадаться, что я имею в виду Сиднея Рейли и Якова Блюмкина. Об этом последнем и пойдёт речь в предлагаемом очерке.
Этот номер газеты выходит в дни, когда исполняется ровно 85 лет со дня завершения уникальной судьбы нашего земляка. Сразу оговорюсь, что я практически не работал с архивными документами спецслужб, доступ к которым непрост и нынче, но довелось ознакомиться со значительным количеством нередко противоречивых источников в биографической литературе, на официальных сайтах, в блогосфере, видеоматериалах. Шпионские биографии практически никогда не бывают абсолютно достоверными. Слишком много усилий прилагается к тому, чтобы сделать их именно такими.
Судя по большинству доступных материалов, Яков Григорьевич (Симха-Янкель Гершевич) Блюмкин (псевдонимы: Исаев, Макс, Владимиров, Вишневский, Живой и масса других) — революционер, чекист, советский разведчик и контрразведчик, террорист, государственный и военный деятель, считается одним из создателей советских разведывательных служб. Возможный прототип молодого Штирлица. По данным, сообщенным ЧК в 1918 году самим Блюмкиным, родился он 8 октября 1900 года в Одессе, на Молдаванке. Но он не был бы Блюмкиным, если бы от него не исходили различные версии любых событий. В соответствии с наиболее достоверной версией Яков происходил из одесской пролетарской семьи, и то, что с полуторагодовалого возраста он с нищей семьей отца, в которой было пятеро детей, жил на Молдаванке в Одессе, практически не вызывает сомнений у биографов.
Выстроить надёжную хронологическую последовательность совершённых им или приписываемых ему действий и связанных с ними событий не представляется возможным, т. к., совершенно различные по характеру и месту происшествия, они нередко проецируются на одни и те же временные периоды. Поэтому при их изложении постоянно хочется употреблять формулировки «очевидно», «скорее всего», «наиболее вероятно»…
В 1913 г. Блюмкин окончил еврейскую начальную школу — Талмуд-тору, которой руководил известный писатель — «дедушка еврейской литературы» Менделе Мойхер-Сфорим. Обучение в школе было бесплатным, за счёт иудейской общины. Там он получил начальные знания в древнееврейском и русском языках. Блюмкин писал:
«В условиях еврейской провинциальной нищеты, стиснутый между национальным угнетением и социальной обездоленностью, я рос, предоставленный своей собственной детской судьбе».
В автобиографии он указал, что в 1914 году (14-15-ти лет от роду) работал электромонтёром в Одесском трамвайном депо, затем в театре, на консервной фабрике братьев Аврич и Израильсона. Брат его Лев был анархистом, а сестра Роза — социал-демократкой. Старшие братья Якова — Исай и Лев — были журналистами одесских газет, а брат Натан получил признание как драматург (псевдоним — Базилевский). Яков участвовал в отрядах еврейской самообороны против погромов в Одессе. Вступил в партию социалистов-революционеров. Как агитатор «по выборам в Учредительное собрание», он в августе — октябре 1917 года побывал в Поволжье, а уже в ноябре 1917-го примкнул к отряду матросов, участвовал в боях с частями украинской Центральной Рады. Во время революционных событий в Одессе в 1918 г. участвовал в экспроприации ценностей Государственного банка. По слухам, часть конфиската присвоил. Одно время в Одессе подрабатывал в конторе некоего Пермена на Военном спуске, в роде деятельности которой краеведы не разобрались, но чем в ней занимался младший служащий Блюмкин, уже не скрыть. Он наладил подделку документов, обеспечивавших освобождение от призыва. Разоблачённый Яша заявил, что делал это по приказу хозяина. Оклеветанный Пермен подал в суд, который, вопреки ожиданиям, Блюмкина оправдал. Оказалось, что, узнав о неподкупности судьи, Яков послал ему какое-то подношение с вложенной в него визиткой своего шефа. Возмущенный откровенной взяткой, судья вынес оправдательное решение. Узнавший об этом Пермен возмутился, но потом дал Блюмкину характеристику, которой тот всегда гордился: «Подлец, несомненный подлец, но талантливый». В январе 1918-го Блюмкин совместно с Моисеем Винницким (Мишкой Япончиком) принимает активное участие в формировании в Одессе 1-го Добровольческого «железного» отряда. Входит в доверие к диктатору революционной Одессы Михаилу Муравьеву, которого одесситы называли «красным маршалом».
Анархистское, а затем эсеровское подполье, первые «опыты» экспроприаций, мошенничества и подлогов ярко проявили его характерные качества революционного авантюриста: жестокость, цинизм, беспринципность, непомерную амбициозность и при этом, безусловно, довольно широкий спектр способностей и талантов, выраженную склонность к романтизму. В одесской периодике, в газетах «Одесский листок», «Гудок» и в журнале «Колосья», печатались первые стихи Блюмкина, да и впоследствии он продолжал их писать. В Одессе Блюмкин знакомится с поэтом А. Эрдманом, членом Союза защиты родины и свободы, английским шпионом и типичным тройным агентом. Возможно, Эрдман дал старт дальнейшей головокружительной карьере Блюмкина в ЧК. Уже в апреле 1918-го Эрдман под видом лидера литовских анархистов Бирзе ставит под свой контроль часть вооружённых анархистских отрядов Москвы и одновременно работает для ЧК, собирая информацию о немецком влиянии в России для стран Антанты.
Когда в мае 1918 года Блюмкин приехал из Одессы в Москву, ЦК Партии левых эсеров делегировал его в ВЧК, где он сразу же назначается заведующим отделом по борьбе с международным шпионажем. С июня 1918 года — заведующий отделением контрразведывательного отдела по наблюдению за охраной посольств и их возможной преступной деятельностью. В основном Блюмкин занимался «немецкими шпионами». Находясь в должности (данные разноречивы в разных источниках) начальника «германского» отдела ВЧК, Блюмкин 6 июля 1918 г. явился в посольство Германии якобы для обсуждения судьбы военнопленного (ранее завербованного Блюмкиным) — дальнего родственника посла графа Вильгельма фон Мирбаха, которого арестовала ЧК. Его сопровождал сотрудник того же отдела ЧК, матрос Николай Андреев. Около 15 часов Блюмкин несколько раз выстрелил в посла, а Андреев, убегая, кинул в гостиную две бомбы. Посол погиб на месте. Преступники скрылись.
Однако Б. Бажанов в своих воспоминаниях описывает эти события иным образом: «Об убийстве Мирбаха двоюродный брат Блюмкина рассказывал, что дело было не совсем так, как описывает Блюмкин: когда Блюмкин и сопровождавшие его чекисты были в кабинете Мирбаха, Блюмкин бросил бомбу и с чрезвычайной поспешностью выбросился в окно, причем повис штанами на железной ограде в очень некомфортабельной позиции. Сопровождавший его матросик не спеша ухлопал Мирбаха, снял Блюмкина с решетки, погрузил его в грузовик и увёз». Матросик очень скоро погиб на фронтах гражданской войны, а чуть было не спровоцировавший возобновление военных действий (после Брестского мира) левый эсер Блюмкин был объявлен большевиками вне закона, но очень скоро перешёл на их сторону, предав организацию левых эсеров. Блимкин стал самым молодым начальником управления в истории ВЧК-ГПУ-НКВД-НКГБ-МГБ-КГБ. И это невзирая на то, что провокационное убийство Мирбаха послужило сигналом для вооружённого выступления левых эсеров против советского правительства во главе с большевиками. Позже в беседе с женой Луначарского Натальей Луначарской-Розенель и с её двоюродной сестрой Татьяной Сац Блюмкин признался (если не солгал), что о плане покушения на Мирбаха знали и Дзержинский, и Ленин.
Никаких других исторических свидетельств этого «признания» нет. Поэтому неудивительно, что существует совершенно другая версия этих событий, свидетельствующая о том, что после провала эсеровского мятежа Блюмкин под фамилией Белов скрывался в больницах Москвы, Рыбинска и Кимр, затем под именем Григория Вишневского работал в Кимринском комиссариате земледелия. А затем, уже в сентябре 1918-го, оказался в Украине.
В ноябре того же года, в момент всеобщего восстания против украинского гетмана Павла Скоропадского и австро-немецких оккупантов, Блюмкин находит своих партийных товарищей-эсеров в Киеве и включается в их подпольную работу. Он участвует в подготовке террористического акта против Скоропадского и в покушении на командующего немецкими оккупационными войсками в Украине фельдмаршала Эйхгорна. По этим же данным, в декабре 1918 — марте 1919 г. Блюмкин был секретарем Киевского подпольного горкома ПЛСР. По заданию ВЦИКа был якобы задействован и в подготовке покушения на адмирала Колчака, необходимость в котором отпала из-за ареста Колчака левыми эсерами в Иркутске.
В марте 1919 года близ Кременчуга попал в плен к петлюровцам, которые выбили Блюмкину передние зубы и жестоко избили. После месячного лечения, в апреле 1919 г., Блюмкин явился с повинной в ЧК. Особая следственная комиссия по согласованию с Президиумом ВЦИКа и с одобрения Ф. Дзержинского приняла решение об амнистии Блюмкина. Писали также, что ранее Ленин велел «железному Феликсу» хорошо искать и… не найти Блюмкина, выдачи которого требовала германская сторона.
В октябре 1919 г. он получает первые задания по борьбе со шпионажем на Южном фронте. Отмечалось, что он выдал ЧК многих своих прежних товарищей и был заочно приговорён левыми эсерами к смерти. На него совершили 3 покушения, Блюмкин был тяжело ранен, но сумел скрыться из Киева. Правдоподобие этой версии подкрепляется тем, что активной участницей эсеровской боевой дружины, охотившейся на Блюмкина, была его тогдашняя возлюбленная Лида Соркина. Согласно другой, также вполне правдоподобной версии, за убийство Мирбаха Блюмкин был в 1920-м приговорен армейским военным трибуналом к расстрелу. И вовсе не Дзержинский, а Троцкий добился, чтобы смертную казнь заменили «искуплением вины в боях по защите революции», взял его к себе в штаб, где Блюмкин провёл всю гражданскую войну начальником личной охраны наркомвоенмора.
Затем своим шефом он был направлен на учёбу в Академию Генштаба РККА, после окончания сокращённого курса которой вновь был переведен в органы ГПУ. С Блюмкиным и тут всё не просто, и ещё одна, третья, изобилующая подробностями версия утверждает, что в 1920 г. дело Блюмкина рассматривал (заочно?) межпартийный суд по делам, связанным с левоэсеровским восстанием, куда входили анархисты, левые эсеры, максималисты, боротьбисты. Товарищеский суд возглавил Карелин — бывший член ВЦИКа РСФСР, мистик, лидер российских анархистов-коммунистов. Суд этот тянулся две недели, но якобы так и не вынес окончательного решения. Вот попробуй разберись в этих обстоятельствах. Тем более что последующая информация почти перечёркивает всё вышесказанное о перипетиях, связанных с Блюмкиным в годы гражданской войны.
В частности, подробно излагаются сведения о том, что когда в мае 1920 года Волжско-Каспийская военная флотилия под командованием Федора Раскольникова и Серго Орджоникидзе была направлена в Энзели (Персия) с целью возвращения российских кораблей, которые увели в Персию эвакуировавшиеся из российских портов белогвардейцы, дело там не обошлось без вездесущего Блюмкина. В результате последовавших боевых действий белогвардейцы и занимавшие Энзели английские войска отступили. Воспользовавшись этой ситуацией, в начале июня вооружённые отряды революционного движения дженгалийцев под командованием Мирзы Кучек-хана захватывают город Решт — центр остана Гилян, после чего здесь провозглашается Гилянская Советская Республика. Вот тут-то Блюмкина направляют в Персию, где он участвует в свержении Кучек-хана и приходе к власти хана Эхсануллы, которого поддержали местные «левые» и коммунисты.
В боях он шесть раз (!) был ранен. После переворота Блюмкин участвовал в создании Иранской коммунистической партии (на базе Социал-демократической партии Ирана «Адалят»), стал членом её Центрального комитета и военным комиссаром штаба Красной армии Гилянской Советской Республики. Он представлял Персию на Первом съезде угнетённых народов Востока, созванном большевиками в Баку. В Персии Блюмкин знакомится с будущим успешным советским военным разведчиком Яковом Серебрянским, содействует устройству его сотрудником особого отдела Иранской Красной армии. В сентябре 1920 года правительство РСФСР принимает решение о сворачивании своей военной операции в Персии и приступает к переговорам с шахским правительством.
В 1920-21 годах Блюмкин — начальник штаба 79-й бригады (помните, указывалось, что он всю войну провёл в штабе Троцкого?), а позже — комбриг, планировал и осуществлял карательные акции против восставших крестьян Нижнего Поволжья, на Тамбовщине, в подавлении Еланского восстания. Осенью того же 1921 года Блюмкин командует 61-й бригадой, направленной на борьбу против войск барона Унгерна фон Штернберга. Позднее он занимал ряд высоких командных должностей в войсках и штабах Красной армии, был награждён орденом Боевого красного знамени. Вообще же знакомство с материалами о 1920 — 21 годах оставляет чёткое ощущение, что Блюмкин одновременно находился в разных географических точках, на разных должностях в разных гражданских и военных структурах.
Согласно этим данным, вернувшись в Москву, Блюмкин написал и издал (как, когда успел?) книжку о Дзержинском и стал его фаворитом в ЧК, именно по его личной рекомендации вступил в РКП(б). Дзержинский, не жаловавший Блюмкина за авантюризм, но ценивший как бесстрашного агента, переманил его в ИНО (иностранный отдел ГПУ). Указывается, что во время учёбы в Академии Блюмкин (правда, неясно, каким образом — молниеносно?) к знанию иврита добавил знание турецкого, арабского, китайского, монгольского языков, приобрёл обширные военные, экономические, политические знания. «Природная смекалка и умение разбираться в драгоценных камнях, обретенное им во время одесских экспроприаций» (так убедительно и красноречиво излагает источник), позволили Блюмкину всё той же осенью 1921 года быстро раскрутить дело с хищениями в Гохране. В октябре Блюмкин под псевдонимом Исаев (взят им по имени деда) едет в Ревель (Таллинн) в роли «ювелира» и, выступая в качестве провокатора, выявляет заграничные связи работников Гохрана.
Se none е vero, ma ben trovato! — если это и неправда, то хорошо придумано! (итал.), т. к. именно этот эпизод в деятельности Блюмкина был положен Юлианом Семеновым в основу сюжета книги «Бриллианты для диктатуры пролетариата», а блюмкинский псевдоним Исаев использован им в дальнейшем в качестве официальной фамилии для самого обаятельного героя советской «шпиониады» — Штирлица. В 1920-е годы Блюмкин тесно сошёлся с кружком поэтов и литераторов. Дружил с Есениным, познакомился с Маяковским, Шершеневичем и Мариенгофом. Все они посвящали ему стихи. Блюмкин был одним из учредителей полуанархической поэтической Ассоциации вольнодумцев, имевшей своей целью «духовно-экономическое объединение свободных мыслителей и художников, творящих в духе мировой революции», завсегдатаем круга имажинистов. Николай Гумилёв писал о Блюмкине («убийце императорского посла») в стихотворении «Мои читатели». Маяковский написал на подаренной Якову книге «Дорогому товарищу Блюмочке…». В ряде воспоминаний об Осипе Мандельштаме сообщается, что поэт вырвал у Блюмкина пачку ордеров на расстрелы, которые тот, похваляясь своим всемогуществом, подписывал в пьяном виде на глазах у компании собутыльников, и разорвал их. Возникший скандал привёл к кратковременным неприятностям у Блюмкина с ВЧК и лично с Дзержинским, после чего Мандельштам, опасаясь мести Блюмкина, уехал на Кавказ. Независимо от того, имел ли место именно такой эпизод, известно точно, что из-за какого-то серьёзного конфликта с Блюмкиным Мандельштам был вынужден на время покинуть Москву. По воспоминаниям Владислава Ходасевича, Есенин как-то привёл в круг богемы Блюмкина в чекистской кожаной куртке. Сергей Есенин, стремясь поразить воображение окружающих дам, предложил понравившейся ему девушке: «А хотите поглядеть, как расстреливают в ЧК? Я это вам через Блюмкина в одну минуту устрою». В 1920 году, когда Есенин и братья Кусиковы арестовывались ЧК, Блюмкин оказал помощь поэту, обратившись с ходатайством отпустить его на поруки. Сергей Есенин и Яков Блюмкин познакомились, по всей видимости, в Москве весной 1918 года, во время съезда партии левых эсеров. Секретарю Ассоциации вольнодумцев Матвею Ройзману крепко врезались в память такие слова чекиста, обращенные к Есенину: «Я — террорист в политике, а ты, друг, террорист в поэзии!» «Горел. Сгорал. Жёг жизнь с двух концов…»
Вадим Шершеневич вспоминает, что когда у поэта-имажиниста Сандро Кусикова в квартире освободилась комната, Блюмкин получил на нее ордер. До этого он, не имевший собственной жилплощади, жил в разных московских гостиницах. Например, адрес гостиницы «Савой» был указан на поручительствах Блюмкина за Сергея Есенина и братьев Кусиковых — Александра и Рубена, арестованных МЧК по ложному доносу в ночь на 20 октября 1920 года на квартире в Большом Афанасьевском переулке, д. 30, кв. 5. В этой квартире рядом с Арбатом жил тогда и Есенин.
Внешность Блюмкина, этого «чёрного ангела революции», описывалась многими, и всегда по-разному. «Невероятно худое, мужественное лицо обрамляла густая черная борода, темные глаза были тверды и непоколебимы», — писал Виктор Серж (Кибальчич), поэт-революционер, впоследствии арестованный (затем выпущенный) чекистами. Со временем невероятно худое лицо преобразилось в довольно круглое, и поэтесса Ирина Одоевцева вспоминала о нем уже как о мордатом чекисте, ражем и рыжем (впрочем, цвет волос он менял неоднократно). Другой современник изображает Блюмкина широкоплечим, довольно упитанным, пухлогубым, черноволосым. Поэт Мариенгоф упоминает его «жирномордость» да к тому же добавляет, что пухлые его губы были всегда мокрыми и при сильном волнении он забрызгивал слюной всех окружающих. Да ещё лез целоваться. На некоторых фотографиях не разберешь, толст он или худ: щеки скрывает борода. Зато вышеупомянутый Серж вспоминает: «Его суровое лицо было гладко выбрито, высокомерный профиль напоминал древнееврейского воина». «Древнееврейский воин» увлекался собственным имиджем, декламировал стихи Фирдоуси, других восточных поэтов. Словом, Яков Блюмкин был многолик.
На восточном отделении Академии Генштаба готовили разведчиков для стран Азии, хотя Блюмкин уже был вполне сложившимся и профессиональным шпионом. Именно там, в Академии, он встретил Татьяну Исааковну Файнерман, дочь известного толстовца Файнермана-«Тенеромо», и вскоре на ней женился.. После замужества Татьяна, унаследовавшая отцовские авантюризм и самомнение, почти немедленно оставила медицину, которой к тому времени училась уже четыре года, ради занятий литературой и искусством.
Склонность к возвышенному объединяла супругов Блюмкиных. В их маленькой комнате в квартире поэта-имажиниста Кусикова стену украшали перекрещенные сабли, на столе стояли бутылки отличного вина, а сам хозяин поражал воображение гостей то красным шелковым халатом и восточным чубуком в аршин длиной, то роскошным креслом, на котором восседал, как на троне, завернувшись в плед. Кресло считалось подарком монгольского принца.
Брак с Татьяной Файнерман оказался не особенно удачным и через несколько лет распался. Однако в своем завещании Блюмкин просил власти о назначении пенсии бывшей жене и их общему сыну Мартину.
Блюмкин печатался в «Правде», пописывал стихи (по отзывам — очень разного уровня.), до нас не дошедшие, а также был завсегдатаем «Кафе поэтов» и «Стойла Пегаса». Иногда он даже сам вел поэтические вечера. «Дорогой Блюмочка» пользовался расположением Маяковского до тех пор, пока — уже в конце двадцатых — мучительно ломавший себя поэт не почувствовал в нём идейного противника. В то время Маяковский уже с трудом заставлял себя восхищаться государственностью, строительством и бюрократическим окостенением революции, Блюмкин же оставался романтиком плаща и кинжала, и после бурной дискуссии Маяковский от него навсегда отвернулся.
Блюмкина видели у Горького; «буревестник революции» очень заинтересовался «романтиком революции» (так называл террориста поэт Вадим Шершеневич). Когда Есенина арестовали по ложному доносу, Блюмкин предложил взять его на поруки. Впрочем, их отношения были вовсе не безоблачными. За год до гибели поэта Блюмкин грозил Есенину револьвером и тюрьмой, когда ему показалось, что поэт флиртует с его любовницей. И тут же пытался соблазнить жену Есенина, которую, заболтав, завел к себе в номер гостиницы. Верная жена дотянулась до кнопки вызова прислуги или охраны. Резкий звонок отрезвил ловеласа, и он отпустил жену приятеля.
Ряд сторонников появившейся в 1970-1980-е годы версии об убийстве С.А. Есенина связывает со смертью поэта именно Блюмкина; некоторые из них приписывают ему подделку предсмертных стихов Есенина («До свиданья, друг мой, до свиданья»), что опровергается специально проведённой экспертизой автографа. Другие прямо называют его убийцей поэта. Но большинство источников, несмотря на свидетельства (опять же якобы) очевидцев и повторную экспертизу в 1993 г., эту версию исключают. Многими отмечалась склонность Якова к черной мистике, к оккультизму, он владел редкостной способностью — искусством перевоплощения, как оборотень, умел менять внешность, превращаясь из двадцатилетнего парня в дряхлого старика.
Живя одно время в квартире Луначарского, с которым дружески сошёлся, принимал и там приятелей в бухарском халате, с длинной трубкой и томом Ленина в руках (говаривали — всегда открытым на одной и той же странице), а потом демонстративно переодевался в гимнастерку с тремя ромбами в петлицах. Некоторые пишут, что он был дьявольски умен, другие считают его весьма недалеким, но очень хитрым человеком. Все сходятся, однако, в том, что он испытывал сильнейшее пристрастие к деньгам, выпивке, женщинам.
Последующие события, при всём их невероятном многообразии, более-менее последовательны в хронологическом плане.
В 1922 году, после окончания сокращенного курса Академии Генерального штаба, Блюмкин становится адъютантом наркома по военным и морским делам Л.Д. Троцкого. Выполняя особо важные поручения, тесно сошёлся с наркомом. Блюмкин редактировал (если считать, что она в этом нуждалась.) первый том программной книги Троцкого «Как вооружалась революция» (издание 1923 года). Троцкий писал о Блюмкине: «Революция предпочитает молодых любовников». Осенью 1923 года по указанию Дзержинского Блюмкин вновь становится сотрудником Иностранного отдела ОГПУ. Одновременно введён в состав Коминтерна для конспиративной работы.
Хроники гласят, что он командовал штурмом города Баграм-Тепе, захваченного персидскими войсками в 1922 году. Участвовал в пограничных комиссиях по урегулированию спорных вопросов между СССР, Турцией, Персией. Очевидно, тогда же Блюмкин, знавший восточные языки, тайно выехал в Афганистан, где пытался найти связь на Памире с сектой исмаилитов, почитавших в качестве живого бога своего лидера Ага-хана, который жил тогда в Пуне (Индия). С исмаилитским караваном Блюмкин в образе дервиша проник в Индию. Однако там он был арестован английской полицией. Из тюрьмы бежал, прихватив с собой секретные карты и документы арестованного английского агента.
По заданию председателя Коминтерна Г. Зиновьева в связи с назревавшей революцией в Германии был командирован туда для инструктирования и снабжения оружием немецких революционеров. В 1924 году работал в Закавказье политическим представителем ОГПУ и членом коллегии Закавказской ЧК. Одновременно он являлся помощником командующего войсками ОГПУ в Закавказье и уполномоченным Наркомвнешторга по борьбе с контрабандой. Участвовал в подавлении крестьянского восстания в Грузии и антисоветского выступления чеченцев, которые, по восторженному утверждению одного из источников, «перед Блюмкиным трепетали!».
В 1926 году Я. Блюмкин направлен представителем ОГПУ и главным инструктором по государственной безопасности Монгольской Республики. Выполнял спецзадания в Китае, Тибете и Индии. В 1927-м отозван в Москву в связи с трениями с монгольским руководством и дезертирством начальника Восточного сектора ИНО Георгия Агабекова. Бежав на Запад, Агабеков рассекретил сведения о деятельности Блюмкина в Монголии, в т. ч. о совершении им убийства П.Е. Щетинкина — инструктора Государственной военной охраны МНР и секретаря партячейки.
Тема Блюмкина продолжает интересовать исследователей. В новейшей литературе появились работы А. Ильичевского, Я. Леонтьева и Д. Маркиша, посетившего пару лет назад литературный фестиваль в Одессе.
Многократно красочно описан считающийся достоверным факт пребывания Блюмкина в экспедиции Н.К. Рериха на Гималаи («поиски Шамбалы»). В книге Олега Шишкина «Битва за Гималаи. НКВД: магия и шпионаж» (1999), в которой содержится более 150 ссылок на документы различных архивов, утверждается, что Яков Блюмкин под видом буддийского монаха принимал участие в центральноазиатской экспедиции Н. Рериха. ОГПУ использовало Блюмкина в качестве одного из главных координаторов Тибетской миссии по свержению Далай-ламы XIII. Попав в Лхасу, участники экспедиции должны были попытаться спровоцировать противостояние между Далай-ламой и Таши-ламой, чтобы вызвать беспорядки в Тибете и сместить неугодного СССР Далай-ламу XIII. По мнению Шишкина, главная роль в этой затее отводилась Николаю Рериху. Яков Блюмкин присоединился к экспедиции Н.К. Рериха, продвигавшейся в то время по Индии, осенью 1925 года, под видом монгольского ламы. Николай Рерих восхищался эрудицией «ламы» Блюмкина, делал неоднократные записи о нём в своем дневнике, что подтверждали в своих записях вдова Рериха Елена и его сын Юрий.
Согласно версии Шишкина, Блюмкин прошёл с экспедицией Рериха Западный Китай, а затем в июне 1926 года прибыл в Москву вместе с Рерихом. Также совместным был дальнейший путь по Тибету, где миссия по свержению Далай-ламы потерпела фиаско. Шишкин указывает, что, по воспоминаниям Н.А. Луначарской-Розенель, именно Блюмкин привёл Рериха, «этого недоброго колдуна с длинной седой бородой», в гости к наркому просвещения А.В. Луначарскому. Одним из доказательств участия Блюмкина в центральноазиатской экспедиции Рериха Олег Шишкин считает фотографию из экспедиционного паспорта до Пекина, выданного китайским губернатором в Урумчи в 1926 году. В документальной повести Шишкина на этой фотографии первый слева лама с галстуком — Яков Блюмкин. По мнению А.В. Стеценко, представителя одной из рериховских организаций, заместителя генерального директора Музея имени Н.К. Рериха, на фотографии изображен ладакец Рамзана, а не Блюмкин.
Представители различных рериховских организаций критически отнеслись к книге Олега Шишкина. В качестве одной из основ для критики используется заявление бывшего шефа пресс-центра Службы внешней разведки Российской Федерации генерала Ю. Кобаладзе. Он заявил: «Известного учёного перепутали с агентом Буддистом, и отсюда пошла вся путаница. С нашей политической разведкой Рерих связан не был. Я заявляю это официально». Не исключено, что такая категоричность связана именно с тем, что миссия Рериха планировалась и осуществлялась советскими спецслужбами.
Тоталитарные режимы испытывали необъяснимо сильную заинтересованность в секретах Шамбалы. Достаточно вспомнить секретную организацию «Аненербе», существовавшую в недрах СС. В 2000 году заместитель директора Международного центра Рерихов А.В. Стеценко встречался с Б. Лабусовым, сменившим Ю. Кобаладзе на его посту, и сообщил, что «в отличие от своего предшественника Лабусов не проявил ни малейшего желания опровергнуть измышления Шишкина, сославшись на все тот же Закон о Службе внешней разведки, который в 1993 году, когда материалы о Рерихе и его экспедиции были переданы из архива внешней разведки в МЦР, обязывал их рассекретить и сделать общедоступными». Кроме того, по его утверждению, Стеценко проверил архивы, на которые ссылается Шишкин в своих публикациях, и нашёл некоторые несоответствия.
В 1928 году Блюмкин — резидент ОГПУ в Константинополе (Стамбуле). Курирует весь Ближний Восток. По заданию ЦК ВКП(б) он занимался также организацией в Палестине резидентской сети. Блюмкин наладил через каналы ЧК вывоз и продажу еврейских манускриптов и антиквариата из СССР. ОГПУ проделало огромную работу в западных районах СССР по сбору и изъятию старинных свитков Торы, текстов Талмуда. С целью изъятия старинных еврейских книг Блюмкин выезжал в наш город Одесса, в Ростов-на-Дону, в местечки Украины — Проскуров, Бердичев, Меджибож, где обследовал библиотеки синагог и еврейских молитвенных домов. Книги изымались даже из государственных библиотек и музеев. В Палестине Блюмкин наладил контакт с Леопольдом Треппером, будущим руководителем антифашистской организации и советской разведывательной сети в нацистской Германии, известной как «Красная капелла». Был депортирован английскими мандатными властями.
В следующем, 1929-м, году он находился там же, в Стамбуле (в ипостаси персидского купца Якуба Султанова), и когда там летом 1929 года появился высланный из СССР его кумир Л.Д. Троцкий, Блюмкин не замедлил посетить его. В ОГПУ поступил агентурный сигнал о том, что Блюмкин согласился передать секретное письмо Троцкого Радеку и обсуждал способы установления нелегальной связи с троцкистским подпольем в Москве. Считается, что это подтвердилось. Зная изворотливость Блюмкина, после консультации с Ягодой начальник 1-го Главного управления ОГПУ (позднее КГБ СССР) Трилиссер не стал отдавать прямой приказ о его аресте, а приказал агенту ОГПУ Лизе Горской-Розенцвейг (впоследствии — подполковник ГБ Зарубина, участник Манхэттенского атомного проекта), отбросив буржуазные предрассудки, совратить Блюмкина (хотя есть версия, что они были давними любовниками и даже вступили в брак), выяснить детали его сотрудничества с Троцким и обеспечить его возвращение в Москву. Руководил операцией нелегальный агент ОГПУ в Стамбуле Наумов (Л. Эйтингон), ставший впоследствии «ангелом смерти» Троцкого, организовавшим его убийство в Мексике. Замысел удался, и когда Блюмкин по прибытии в Москву в компании Горской был арестован, он сказал ей: «Лиза, я знаю, это ты предала меня!» А на казнь, по свидетельству Орлова, он пошел спокойно, со словами «Да здравствует Троцкий!», став, таким образом, первым большевиком, расстрелянным в СССР. Сталин ценил талантливых шпионов, мог им многое простить, только не троцкизм.
Небезынтересно, что Лизу Розенцвейг, родившуюся в Черновцах (тогда Буковина была в составе Румынии), а позже оказавшуюся в СССР, вовлекли в коммунистическое движение, а заодно и в подпольную организацию румынских красных её двоюродная сестра Анна Паукер, впоследствии министр иностранных дел социалистической Румынии, расстрелянная в начале 50-х как агент мирового империализма, и двоюродный брат Карл Паукер, парикмахер бухарестской оперетты, чудесным образом превратившийся в видного чекиста в Москве. Он возглавлял оперативный отдел ГПУ, был всесильным начальником личной охраны Сталина — самым доверенным лицом вождя в период его воцарения на советском троне и расправы с соперниками. За это благодарный Хозяин и самого Карла поставил к стенке в 1937-м. Такая семейка, такие судьбы.
В 1920-е годы Блюмкин был одним из самых знаменитых людей Советской России. Большая Советская Энциклопедия (главный редактор О.Ю. Шмидт) уделила ему более тридцати строк. Валентин Катаев в повести «Уже написан Вертер» наделил своего героя, Наума Бесстрашного, его чертами и портретным сходством. В современных текстах о Блюмкине никто не симпатизирует ему, разве что троцкисты: слишком он не подходит к стереотипам русского, советского, или постсоветского, или еврейского, сионистского героя. При его характеристике пользуются анахронизмом «террорист», хотя в то время его бы назвали диверсантом, и это не носило бы отрицательного оттенка. Действия его вернее было бы назвать общим термином — спецоперации, а его самого — агентом спецслужб. Сама карьера Блюмкина говорит о том, что человеком он был незаурядным.
Решение «тройки», приговорившей Я.Г. Блюмкина, в архивах обнаружено, а акт о смерти отсутствует.
Все многочисленные события этой уникальной судьбы произошли с кинематографической быстротой — за какие-нибудь пятнадцать лет сознательной жизни.
К моменту расстрела во внутреннем дворе здания НКВД на Лубянке (считается, что это произошло 12 декабря 1929 года) нашему земляку Якову Блюмкину было всего тридцать лет или немногим больше…
Блюмкин, шпион, троцкист, архив, история
|
Метки: яков блюмкин |
Яков Блюмкин — человек, который играл со смертью |
Яков Блюмкин — человек, который играл со смертью

Автор:
Сергей Миркин

Источник изображения: https://www.weekly-news.info
Яков Блюмкин — человек, который играл со смертью
0
Карьера многих известных политиков и особенно военачальников началась в 1918 году. Кроме того, этот год стал знаковым для авантюристов всех мастей, которые в «мутной воде» Гражданской войны чувствовали себя как в родной среде. Одним из самых ярких политических авантюристов той эпохи был Яков Блюмкин.
Его жизнь напоминает приключенческий роман. За свой недолгий век он успел побывать революционером, начальником отдела контрразведки, террористом, шпионом, эзотериком и заговорщиком. Блюмкин участвовал в убийстве немецкого посла, дружил с выдающимися литераторами начала XX века, искал загадочную Шамбалу... Он даже рискнул затеять «игру» против Иосифа Сталина, за что в результате и поплатился головой. Чтобы рассказать об этом человеке подробно, нужно написать как минимум роман. В этой же статье портал RuBaltic.Ru осветит самые значимые эпизоды жизни Якова Блюмкина.
Убийство Мирбаха
Событие, которое сделало имя Якова Блюмкина известным по всей России и даже за ее пределами, произошло 6 июля 1918 года. В этот день он вместе с Николаем Андреевым убил посла Германии в Советской России графа Вильгельма фон Мирбаха. Оба террориста входили в партию левых эсеров, которая выступала против Брестского мира, заключенного большевиками с Германией.
Эсеры считали, что заключение мирного договора с кайзером вредит делу мировой революции. Пикантность ситуации заключалась в том, что левые эсеры на тот момент были политическими союзниками большевиков, а Блюмкин и Андреев служили во Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК), куда попали по рекомендации своей партии.
Но если Николай занимал незначительную должность фотографа в новосозданной спецслужбе, то Яков возглавлял германский отдел контрразведки. Также надо отметить, что на территорию немецкого посольства убийцы смогли попасть лишь благодаря документам ВЧК. Непосредственно посла ликвидировал Андреев. Блюмкин тоже стрелял, но безрезультатно, хотя вся слава досталась именно ему.
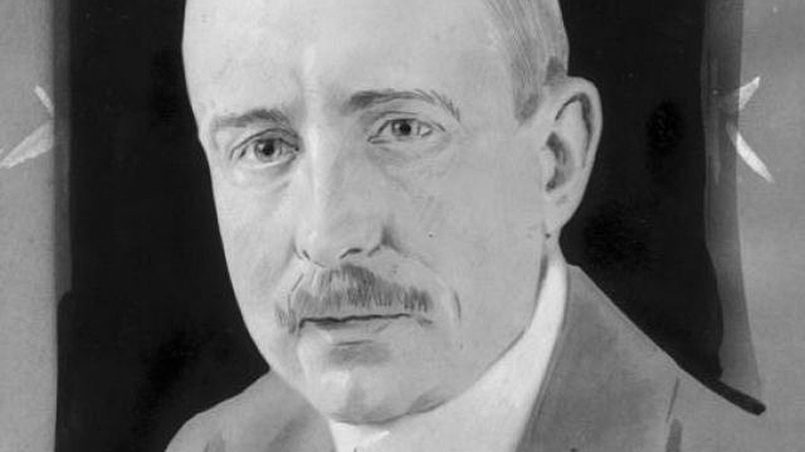 Вильгельм фон Мирбах / Источник: aif.ru
Вильгельм фон Мирбах / Источник: aif.ru
Нужно заметить, что Брестский мир воспринимался общественностью как позор России. И несмотря на то, что смерть Мирбаха не привела к денонсации договора, убийца посла в глазах очень многих людей стал героем. Есть даже исторический анекдот, подтверждающий его славу.
На одном поэтическом вечере Яков Блюмкин подошел к Николаю Гумилеву, чтобы познакомиться с ним, протянул руку поэту. Однако Гумилев проигнорировал жест Блюмкина. На что тот сказал: «Я — Яков Блюмкин». После этой фразы поэт повернулся со словами: «Я с удовольствием пожму руку убийце Мирбаха».
Но вернемся к событиям 6 июля 1918 года. Главным результатом смерти Мирбаха стало восстание левых эсеров, которые отказались выдать Блюмкина и Андреева. После того как бунт был подавлен, левые эсеры утратили политический вес, а ведь в 1917–1918 годах многие, и в частности британцы, рассматривали их как возможную альтернативу большевикам.
Германия не пошла на разрыв Брестского мира, так как сама уже была на грани поражения в Первой мировой войне. Таким образом, выгоду от убийства Мирбаха получили большевики. Во-первых, они избавились от надоевших союзников — левых эсеров. Во-вторых, убедились, что Германия для Советской России уже не представляет реальной опасности.
То, что большевики выиграли от смерти посла, породило версию, что именно они с самого начала и стояли за покушением — если не всё правительство Ленина, то конкретно руководитель ВЧК Феликс Дзержинский, который был противником Брестского мира.
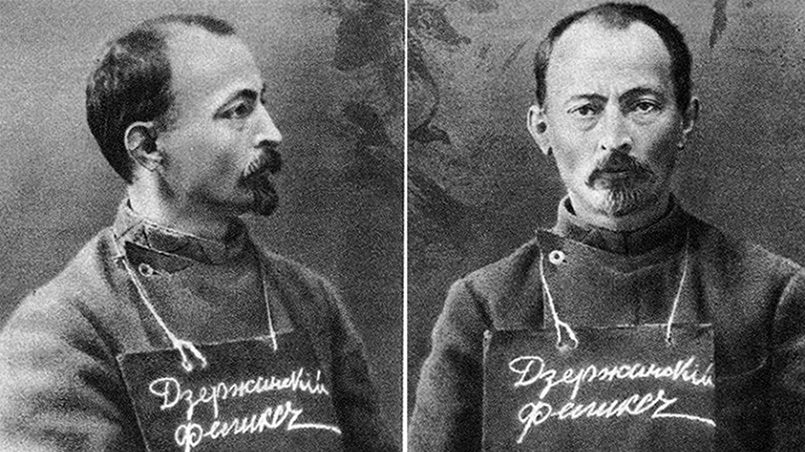 Феликс Дзержинский / Источник: si.rbth.com
Феликс Дзержинский / Источник: si.rbth.com
Косвенно о том, что убийство Мирбаха поддерживалось кем-то из руководителей большевиков, свидетельствует судьба Блюмкина. В мае 1919 года, менее чем через год после убийства посла, он пришел с повинной в президиум ВЦИК и был полностью амнистирован.
Более того, по рекомендации Дзержинского он был принят в партию большевиков. Однако ради объективности надо отметить, что это всё-таки косвенные доводы. В июле 1918 года власть большевиков держалась на тонкой нитке, а у левых эсеров были собственные вооруженные отряды, которые теоретически могли уничтожить правительство Ленина до прибытия латышских стрелков, которых 6 июля не было в Москве. Да и стопроцентной гарантии никто не мог дать, что немцы в ответ на убийство Мирбаха не начнут боевых действий против Советской России.
Думается, большевики просто грамотно воспользовались ситуацией, а не создали ее. Что же до Якова Блюмкина, то в 1919 году Феликс Дзержинский и Лев Троцкий поняли, что решительные парни на дороге не валяются. Кроме того, вероятно, что еще осенью 1918‑го, будучи на Украине, Блюмкин начал сотрудничать с большевиками.
Есенин
В качестве шпиона или разведчика — кому как нравится — Яков Блюмкин хорошо себя проявил на Украине, на Ближнем Востоке, в иранском Азербайджане. Он принимал активное участие в попытке создания государства, независимого от Персии. Однако людям нового тысячелетия Яков Блюмкин прежде всего известен благодаря двум эпизодам: во-первых, его подозревают в убийстве поэта Сергея Есенина, а во-вторых, Блюмкин вроде бы принимал участие в экспедиции художника Николая Рериха в Тибет.
Подозрения в причастности Блюмкина к убийству Есенина базируются на следующей теории: Сергей Есенин ненавидел Льва Троцкого и евреев, писал стихи, направленные против Льва Давидовича, за что Троцкий приказал верному Блюмкину убить поэта.
 Сергей Есенин / Источник: 24smi.org
Сергей Есенин / Источник: 24smi.org
Версия, мягко говоря, конспирологическая. Несмотря на сотни публикаций на тему смерти Есенина, никто так и не смог привести железобетонные доказательства, что это было не самоубийство. У поэта на тот момент был трудный период в жизни, а гении, как известно, воспринимают всё острее, чем обычные люди.
Да, будучи в состоянии алкогольного опьянения, Есенин выкрикивал антисемитские и антибольшевистские лозунги и даже писал стихи, где называл Троцкого Лейбой. Но при этом он был человеком настроения: однажды поэт признался, что Лев Троцкий — единственный человек, которому бы он позволил себя высечь.
Сергею Есенину покровительствовал старый революционер, главный редактор журнала «Красная новь» Александр Воронский — человек, близкий к Троцкому. Поэтому сложно сказать, как на самом деле Есенин относился к Льву Давидовичу. И даже если поэт действительно испытывал антипатию к Троцкому, достаточное ли это основание, чтобы последний отдал приказ о его ликвидации?
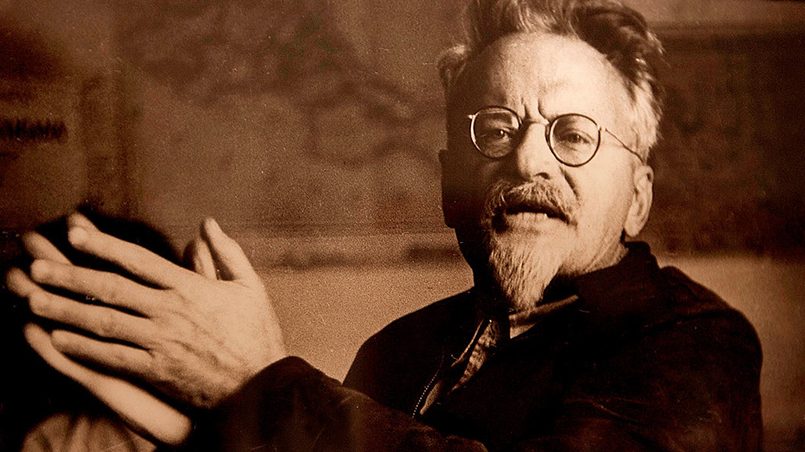 Лев Троцкий / Источник: tsargrad.tv
Лев Троцкий / Источник: tsargrad.tv
Сомнительно, тем более что в 1925 году у Льва Давидовича хватало проблем и без Есенина и, думается, он бы не стал давать Иосифу Сталину такой «козырь» во внутриполитической борьбе, как убийство Есенина. Можно предположить, что если бы Троцкий или кто-то из его людей был причастен к смерти поэта, то Сталин бы не упустил возможность обвинить в этом своего политического оппонента.
Тибет
Участвовал Яков Блюмкин в экспедиции художника Николая Рериха в Тибет или нет, доподлинно неизвестно. Однако версия такая есть. Но что могло заинтересовать советские спецслужбы в этой далекой стране в 20‑е годы? Существует теория, что в Москве хотели свергнуть пробритански настроенного Далай-ламу, правителя Тибета. Однако более вероятным кажется, что Блюмкин, также как члены немецкой экспедиции Эрнста Шефера в 1938–1939 годах, мог охотиться за тайными знаниями тибетцев.
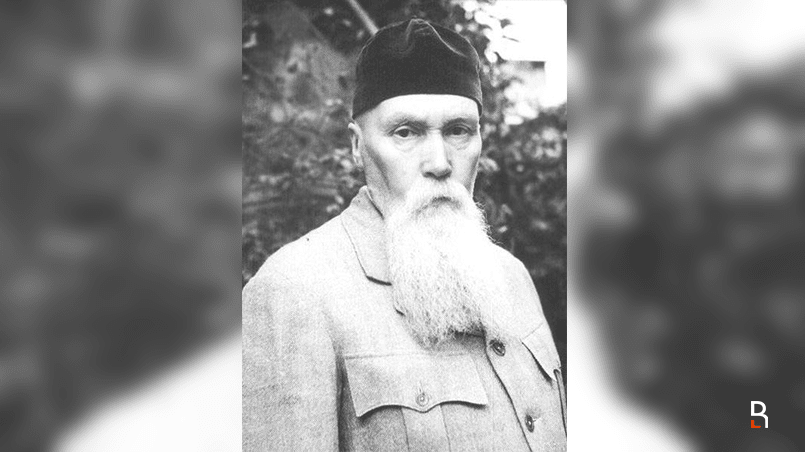 Николай Рерих / Коллаж RuBaltic.Ru
Николай Рерих / Коллаж RuBaltic.Ru
Дело в том, что с конца XIX и до середины XX века в Европе верили, что тибетские монахи владеют древними знаниями, которые можно использовать в военных целях! Например, многие западные эзотерики были уверены, что тибетцы обладают искусством управления массовым сознанием.
Также в Европе полагали, что в Тибете находится дорога в мистическую страну — Шамбалу. Конечно, в 1950 году, когда КНР захватила территорию Тибета, стало понятно, что никаких тайных знаний в военной сфере у буддийских монахов нет. Но в 1920‑е многие были уверены в обратном. Поэтому полностью исключить возможность участия Якова Блюмкина в экспедиции нельзя.
Финал и «Интернационал»
Всю свою жизнь Яков Блюмкин играл со смертью и в результате проиграл. По одной из версий, по просьбе Троцкого, когда тот уже жил в Стамбуле в эмиграции, Блюмкин провез в СССР некую книгу. Это стало известно советским спецслужбам, Иосиф Сталин не простил убийце Мирбаха контактов со своим главным политическим оппонентом. В 1929 году Блюмкин был расстрелян. По легенде, перед смертью он спел «Интернационал».
https://www.rubaltic.ru/article/kultura-i-istoriya...ovek-kotoryy-igral-so-smertyu/
|
Метки: яков блюмкин вчк-кгб |
Падение Вавилона |
Падение Вавилона
Се жених грядет в полунощи
Entries by tag: Александр Барченко Петр Шандаровский
"ЕДИНОЕ ТРУДОВОЕ БРАТСТВО" В ПОИСКАХ ШАМБАЛЫ
March 5th, 23:12
ОККУЛЬТНЫЕ ВОЙНЫ НКВД И СС
автор - Антон Иванович Первушин
Мы оставили Александра Васильевича Барченко в тот момент, когда он вернулся из Лапландии в Петроград и сделал доклад об обнаруженных на севере артефактах древней цивилизации.
В 1923 году Барченко вместе с женой на некоторое время поселился в общежитии при Петроградском буддийском дацане. Здесь он пытался постигнуть основы древней науки под руководством самого Агвана Доржиева.
В этот период жизни Барченко встречает множество людей, которые познакомили его с преданием о Шамбале, значительно расширив познания Александра Васильевича по этому вопросу. Среди них стоит выделить Петра Шандаровского, монгола Хаяна (Хияна) Хирву, тибетца Нага Навена и странника Михаила Круглова. О них и пойдет речь в этой главе.
Петр Сергеевич Шандаровский был хорошо известен до революции в оккультистских кругах северной столицы как ученик и последователь Гурджиева. Сын военного сановника, он окончил юридический факультет Петербургского университета. В предреволюционные годы служил по военному ведомству (был кодировщиком в кодировальном отделе), однако свое истинное призвание видел в занятиях наукой и искусством. После революции Шандаровский читал лекции и работал художником-оформителем.
Барченко познакомился с Шандаровским совершенно случайно зимой 1922-23 года. Кондиайн в своих записках рассказывает об этом так: "Однажды зимой Ал. Вас. стоял перед витриной магазина и рассматривал узор на выставленном восточном ковре, где имелись элементы Универсальной Схемы. Рядом стоит какой-то гражданин, уже не молодой, худощавый, и тоже рассматривает этот ковер. А. В. обращается к нему: "Это вам что-нибудь говорит?" А тот рисует ногой на снегу какую-то геометрическую фигуру и спрашивает: "А это вам что-нибудь говорит?" А. В. ботинком на снегу тоже изображает какую-то фигуру. Так, обменявшись чертежами, они пошли вместе.
Шандаровский просидел с Ал. Вас. в комнате всю ночь. Наташа (жена Барченко. - А.П.) им только изредка чай приносила. Они сидели почти молча, но за ночь целую кипу бумаги цифрами исписали. Иногда из комнаты выскакивал Ал. Вас., взволнованный, восторженный. Снимал пенсне, ворошил волосы, протирал покрасневшие глаза и издавал восторженные восклицания".
Важность этой встречи состояла в том, что Шандаровский познакомил Барченко с "числовым механизмом" древней науки и с так называемой Универсальной Схемой, с помощью которой якобы можно установить местоположение центров "доисторической культуры". В дальнейшем между ними установились тесные отношения, а после того как последний поселился в дамском общежитии, стал регулярно навещать его там. Не менее важным было и знакомство Барченко с восточными учителями; некоторые из них, по его словам, "лично побывали в Шамбале".
Именно они и стали для него главным источником сведений о тантрической системе Дюнхор (Калачакра-тантре). Среди учителей Барченко был тибетец Нага Навен, являвшийся наместником Западного Тибета (провинция Нгари) и приехавший в Россию втайне от Лхасы для ведения переговоров с советским правительством. Навен сообщил Барченко ряд сведений о Шамбале как о хранилище опыта доисторической культуры и центре "Великого Братства Азии, объединявшего теснейшим образом связанные между собой мистические течения Азии".
В то время как Барченко мирно беседовал с тибетским сановником в дацанском общежитии на окраине Петрограда, в Москве полным ходом шла подготовка к отправке в Тибет группы советских эмиссаров. Поэтому Чичерин благоразумно уклонился от встречи с Нага Навеном, и последний спустя некоторое время уехал из России в Китай.
Еще одним "эмиссаром Шамбалы" в России являлся Хаян Хирва. Член ЦК Монгольской народной партии, он занимал в Монголии ответственный пост начальника Государственной внутренней охраны (монгольский аналог ОГПУ). По слухам, Хаян Хирва, узнав от дацанских лам о том, что он "разрабатывает систему Дюнхор", явился на квартиру Кондиайнов в Петрограде. О себе заявил, что хотя сам не является авторитетом в этой системе, но имеет о ней конкретное представление. Впоследствии он неоднократно встречался с Барченко в Москве и там же связался с Нага Навеном, что указывает на определенный интерес монгольского чекиста к этим двоим.
Встреча Барченко с еще одним учителем - костромским крестьянином Михаилом Кругловым - произошла весной 1924 года. Круглов вместе с несколькими членами одной из сект "искателей Беловодья" пришел пешком в Москву, где и познакомился с Барченко в одной из ночлежек (во время поездок в столицу Барченко останавливался не в гостиницах, а в ночлежных домах, поскольку там можно было встретить очень интересных людей).
В конце XIX века исследователи Центральной Азии столкнулись с еще одной удивительной легендой - о Беловодском царстве, или Беловодье, стране справедливости и истинного благочестия.
Находясь в 1877 году на берегах "блуждающего" озера Лоб-нор, севернее реки Тарим в Западном Китае (Синьцзянь), знаменитый русский путешественник Николай Пржевальский записал рассказ местных жителей том, как в эти места в конце 1850-х годов пришла партия алтайских староверов числом более сотни человек. Староверы разыскивали Беловодскую "землю обетованную". Большая часть пришельцев, не удовлетворившись условиями жизни на новом месте, двинулась затем дальше на юг, за хребет Алтынтаг, где и устроила свое поселение. Но и те, и другие в конце концов вернулись на родину, на Алтай.
Рассказ об этом хождении искателей Беловодья, записанный со слов одного из его участников Зырянова, вместе с приложенной к нему маршрутной картой всего путешествия, был впоследствии опубликован в "Записках Русского географического общества".
Беловодье - еще одна загадка центральноазиатской истории. Современные исследователи считают, что это "не определенное географическое название, а поэтический образ вольной земли, образное воплощение мечты о ней". Поэтому не случайно эту "счастливую крестьянскую страну" русские староверы искали на огромном пространстве - от Алтая до Японии и Тихоокеанских островов и от Монголии до Индии и Афганистана. Во второй половине XVIII века название Беловодье носили два поселения в Бухтарминской и Уймонской долинах юго-восточного Алтая. Сюда не доходила власть "начальства" и попов - гонителей староверов, не принявших церковной реформы патриарха Никона. Эта "нейтральная земля" между Российской и Китайской империями была включена в 1791 году в состав России. Именно тогда, как утверждает Чистов, и возникла легенда о Беловодье. Ее появление тесным образом связано с деятельностью секты "бегунов", которая является непримиримым ответвлением старообрядчества.
Первые сведения о поисках староверами заповедной страны относятся к 1825-1826 годам, а во второй половине XIX столетия (1850-1880 гг.) хождения в Беловодье приобретают массовый характер. Для нас, однако, наибольший интерес представляют сообщения о центральноазиатских маршрутах искателей Беловодья (Монголия - Западный Китай - Тибет). Сходство между христианским и буддийским преданиями впоследствии послужило поводом некоторым авторам говорить об их едином "корне". Крайне любопытен также другой факт - побывавшие в Индии и Тибете искатели Беловодья принесли оттуда в Россию какие-то элементы восточных учений, которые впоследствии были усвоены и переработаны некоторыми русскими мистическими сектами старообрядческого толка.
В письме бурятскому ученому Гомбожабу Цыбикову Барченко рассказывал о своей встрече с "искателями Беловодья" так:
"Эти люди значительно старше меня по возрасту и, насколько я могу оценить, более меня компетентны в самой универсальной науке и в оценке современного международного положения. Выйдя из Костромских лесов в форме простых юродивых (нищих), якобы безвредных помешанных, они проникли в Москву и отыскали меня, служившего тогда (в 1923- 24 г.) в качестве научного сотрудника Главнауки. Посланный от этих людей под видом сумасшедшего произносил на площадях проповеди, которых никто не понимал, и привлекал внимание людей странным костюмом и идеограммами, которые он с собой носил".
Михаила Круглова, рассказывает далее Барченко, несколько раз арестовывали - "сажали в ГПУ, в сумасшедшие дома". Однако, убедившись, что его "безумие" вполне безвредно, отпускали на свободу.
В этом же письме Цыбикову Барченко часто использует две из кругловских идеограмм. В одной из них легко угадывается написанное искаженным тибетским курсивом слово "Дюнхор", за которым следует мистический треугольник с точкой посередине - возможно, эта идеограмма соответствует по смыслу слову "Шамбала".
Круглов затем несколько раз приезжал к А. В. Барченко в Ленинград. Вот как вспоминала об этом супруга Кондиайна: "Явился к нам как-то пешком из Костромской обл(асти) мужик, Круглов Михаил Трофимыч. Неизвестно как он прослышал про Ал. Вас-а. Принес он целую кучу совершенно необычных изделий из дерева, обклеенных цветной бумагой, разными геом(етрическими) фигурами, знаками и надписями. Там была шестигранная корона, которую Михаил Трофимович надевал, в руку брал скипетр и всякие другие атрибуты, был у него и небольшой гробик.
Говорил он скороговоркой стихами, которые тут же слагал. Он жил у нас раза два недели по две и был совершенно нормальный. Бывал он в Москве в психиатрической б(ольни)це. Своим бормотанием и дерзкими выходками перед врачами и аудиторией студентов, где его демонстрировали как умалишенного, он очень ловко имитировал больного. А был он самый нормальный человек, только что говорил часто стихами. Один древний старик в Костроме научил его изготовлять эти свои изделия, а быть может, он их у него похитил. Вид у вещей был старый. И велел-де ему старец носить эти вещи и показывать людям и всегда ходить пешком.
В психиатрическую б(ольни)цу он приходил, как на постоялый двор. Его там всегда охотно принимали..."
Надеюсь, вы еще не забыли о главной теме нашего разговора? В ряду учителей Александра Барченко представлены все основные типажи, которые мы встречаем в эзотерических кругах на протяжении всей истории оккультизма. Оккультист-ученый Петр Шандаровский, политик-мистик Нага Навен, чекист-эзотерик Хаян Хирва и сумасшедший шаман-медиатор Михаил Круглов. Фактически к этим фигурантам можно свести любого исторического персонажа, о которых идет речь в этой книге. Различаются только имена и декорации - суть остается той же самой. И это весьма неприглядная суть, если вспомнить, к чему приводят попытки объединить интересы этих людей в некую государственную программу. Александр Барченко предпринял такую попытку, но она, к счастью для всех нас, не имела успеха.
* * *
Под воздействием рассказов Шандаровского о "Едином трудовом содружестве", организованном Георгием Гурджиевым, Александр Барченко решает создать тайное общество с оккультным уклоном под названием "Единое трудовое братство" (ЕТБ), главная цель которого - коллективное изучение древней науки и установление контактов с тайными центрами исчезнувших цивилизаций.
Барченко, Кондиайн и Шандаровский учредили тайное общество под названием "Единое трудовое братство" (ЕТБ). Общество возглавил сам Александр Барченко, он же написал и устав для новой организации.
Впоследствии Барченко так будет рассказывать о задачах своего эзотерического общества:
"Проповедь непротивления, христианского смирения, помощь человеку в нужде, не входя в обсуждение причин нужды, овладение одним из ремесел, работа в направлении морального саморазвития и воспитание созерцательного метода мышления - в этом я видел ближайшие функции ЕТБ, ориентирующегося на мистический центр Шамбалу и призванного вооружить опытом Древней Науки современное общество".
О структуре ЕТБ мы знаем, главным образом, из показаний самого Александра Барченко. Во главе организации находился Совет, состоявший из "отцов-основателей". Все члены Братства подразделялись на две степени - братьев и учеников. Для достижения степени брата требовалось выполнение ряда условий - "отказ от собственности, нравственное усовершенствование и достижение внутренней собранности и гармоничности". Барченко, впрочем, считал, что сам он до столь высокого уровня еще не поднялся.
Никакой обрядности в Братстве не существовало, в том числе и ритуалов посвящения. В то же время у ЕТБ имелась своя собственная символика. Символом брата служила "красная роза с лепестком белой лилии и крестом", означавшая "полную гармоничность". Знак Розы и Креста явно позаимствован у розенкрейцеров, а лилия, по утверждению Барченко, - из позднесредневековых трактатов "Мадафана" ("Золотой век восстановления") и "Универсальная сила музыки" Атанасиуса Кирхера. Символ ученика - "шестигранная фигура со знаком ритма, окрашенная в черные и белые цвета" (также взятая у Кирхера). Смысл этого символа состоял в том. что ученик должен следить "за ритмичностью своих поступков". По уставу эти знаки следовало носить "на перстне, розетке или булавке, а также иметь на окне своего жилища" - "для отыскания других посвященных в знание". Кроме того, Барченко имел личную печать, "составленную из символических знаков Солнца, Луны, Чаши и шестиугольника".
Кто входил в ЕТБ? В поздних следственных протоколах НКВД приводятся различные списки членов Братства. Сам Барченко во время одного из допросов назвал следующие фамилии: Нилус (сотрудник Академии наук), Алтухов (физик), Элеонора Кондиайн, Маркова-Шишелова, Струтинская, Королев, Шишелов (в то время оба обучались на монгольском отделении Петроградского института живых восточных языков), Николай Троньон (сов. служащий), Шандаровский. Любопытно, что в этом списке нет ни жены Барченко Наталии, ни Александра Кондиайна, ни знакомых из ЧК - Владимирова, Рикса, Отто, Шварца (не включая эту четверку в число членов ЕТБ, Барченко тем не менее называл их "покровителями Братства", хорошо осведомленными о его деятельности). Впрочем, к началу 1924 года ни один из этих "покровителей" уже не служил в ЧК. Александр Кондиайн в своих показаниях добавляет к этому списку еще несколько фамилий: Борсук, Кашкадамов, Васильев, Лопач, Лазарева, Поварнин (психолог), Никитин.
Но можно ли считать всех этих людей членами ЕТБ? Ведь следователи НКВД, без сомнения, стремились расширить "масонскую организацию" Барченко путем включения в нее как можно большего числа лиц.
В конце 1923 года Александр Барченко поселился на квартире у супругов Кондиайнов в доме на углу улицы Красных Зорь (Каменноостровский проспект) и Малой Посадской (дом 9/2). В этой добровольной "коммуналке", ставшей штаб-квартирой ЕТБ, происходило много интересного. Сюда, чтобы встретиться с Барченко, приходили именитые ученые Бехтерев и Кашкадамов, его восточные "учителя" Хаян Хирва и Нага Навен, патронировавшие Братство бывшие чекисты во главе с Константином Владимировым.
Свидетельствует Элеонора Кондиайн:
"Мы жили одной семьей или, вернее, коммуной. У нас все было общее. Мы, женщины, дежурили по хозяйству по очереди по неделе. За столом часто разбирали поведение того или другого, его ошибки, дурные поступки. Вначале мне трудно было к этому привыкнуть, но, привыкнув, поняла, как это хорошо, какое получаешь облегчение, когда перед дружеским коллективом сознаешься в своем проступке..."
Кондиайн также упоминает об экспериментах Барченко:
"Делали мы и опыты по передаче коллективной мысли. Один раз мы произвели спиритический сеанс, устроили цепь вокруг легкого деревянного столика. Он (стол) сначала стукнул ножкой, потом поднялся, т(ак) ч(то) мы все вынуждены были встать и поднять руки до уровня головы. А. В. разомкнул цепь, и стол упал на пол на свои ножки".
Сеанс этот был устроен Барченко, чтобы показать, что в спиритизме нет никакой мистики. Будучи "убежденным материалистом", он объяснял спиритические явления тем, что при сцеплении рук образуется замкнутая электромагнитная цепь.
Что же касается ответов на вопросы, якобы получаемых из потустороннего мира, то их, по убеждению Барченко, дают не духи умерших людей, а подсознание самих участвующих в спиритическом сеансе. Концентрируя свое внимание на каком-то одном предмете, люди усыпляют сознание и тем самым пробуждают подсознание.
Здесь же, в квартире Кондиайнов, Барченко оборудовал специальную лабораторию по образцу той, в которой он в 1911 году ставил опыты с N-лучами.
* * *
К концу 1924 года в жизни Александра Барченко наметился перелом.
Во время одного из визитов к нему бывших чекистов под предводительством Константина Владимирова ученый рассказал им о своем намерении посвятить в древнюю науку советских вождей и обратился за помощью - попросил свести его с кем-либо "из близко стоящих людей к руководству ВКП(б) и Советского правительства". "Покровители" откликнулись на его просьбу с готовностью. Дальнейшие события развивались приблизительно так. Барченко написал письмо главе ОГПУ и председателю ВСНХ Феликсу Дзержинскому, в котором рассказал о себе и о своей работе. Это письмо Владимиров отвез в Москву на Лубянку. Через несколько дней в Ленинград приехал заведующий секретно-политическим отделом ОГПУ Яков Агранов, который встретился с Барченко на одной из чекистских конспиративных квартир.
Агранов с интересом отнесся и к самому Барченко, и к его идеям. Впрочем, Владимирову этого показалось мало, и для того, чтобы форсировать ситуацию, он попросил Барченко написать еще одно письмо, но теперь уже на коллегию ОГПУ - еженедельное собрание начальников всех отделов. В декабре 1924 года ученый был вызван в столицу для доклада о своих научных открытиях на коллегии ОГПУ.
"Вернувшись через несколько дней в Ленинград, - вспоминал Барченко, - Владимиров сообщил мне, что дела наши идут успешно, что мне следует выехать в Москву, для того чтобы изложить наш проект руководящим работникам ОГПУ. В Москве Владимиров снова свел меня с Аграновым, которого мы посетили у него на квартире, находившейся, как я помню, на одной из улиц, расположенной вблизи зданий ОГПУ. Точного адреса я в памяти не сохранил. При этой встрече Агранов сказал мне, что мое сообщение о замкнутом научном коллективе предполагается поставить на заседание коллегии ОГПУ. Мое это предложение, об установлении контактов с носителями тайн Шамбалы на Востоке, имеет шансы быть принятым, и в дальнейшем мне, по-видимому, придется держать в этом отношении деловую связь с членом коллегии ОГПУ Бокием. В тот же или на другой день Владимиров свозил меня к Бокию, который затем поставил мой доклад на коллегию ОГПУ. Заседание коллегии состоялось поздно ночью. Все были сильно утомлены, слушали меня невнимательно. Торопились поскорее кончить с вопросами. В результате при поддержке Бокия и Агранова нам удалось добиться в общем-то благоприятного решения о том, чтобы поручить Бокию ознакомиться детально с содержанием моего проекта и, если из него действительно можно извлечь какую-либо пользу, сделать это".
Tags: Александр Барченко Петр Шандаровский
https://swinopes.livejournal.com/tag/%D0%90%D0%BB%...%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
|
Метки: яков блюмкин шамбала вчк-кгб |
Волшебная Сухарева Башня |
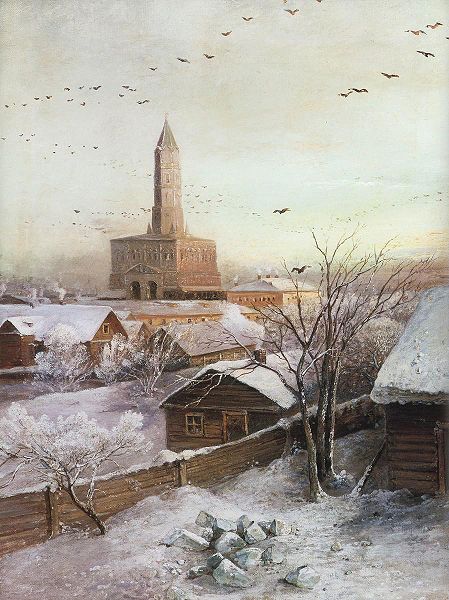
Волшебная Сухарева Башня
ФОТО ХУДОЖНИКА. Худ. А.К.Саврасов, 1872г. Сухарева башня.
Волшебная Сухарева Башня
21.06.2012
Не знаю в какое время я живу, в какой отрезок истории… все,
то что мы знаем и читаем, все в большей степени выдумка….
Нас окружает лживая история, которой не было. Нам внушаются деяния, которых не было. Нам преподносятся для подражания герои, которые были другими, как другими были и их деяния. Время нашей жизни точно не известно и не обозначено. Цифры, которыми мы пользуемся для обозначения времени, в котором живет, номинальные. Их назначение : обозначить время и дать нам понять, что история наша богатая и мы имеем четкие границы исчисления времени.
Для тех, кто хочет мыслить, а не вкушать данные плоды истории из лживых книг, хочу сообщить некоторые данные о знаменитой в истории Москвы Сухаревой башне.
Так уж случилось, что деду моему Люкману Сеид-Бурхану, помогающему делать революцию В. Ульянову, дали квартиру…рядом с Сухаревкой. Так в народе прозвали и место и башню. У нас в семье даже сохранилась старая открытка этой самой Сухаревой башни, которую застала моя мама.
Я написала про деда, что он помогал «делать революцию». Да, именно ДЕЛАТЬ. Так как любая революция – это плод магии и работа жрецов. Магов, настоящих магов, давно извели. И любое государство тщательно следит за всеми людьми, обозначенными новым словечком «экстрасенсы». Дабы не упустить настоящего мага. Пока таковых не обозначено на горизонте Мировой Сцены.
Итак, мой дед в 1922 году из Питера прибыл в Москву и получил квартиру в одном из самых мистических мест Москвы. Точнее место было больше стратегическим, чем мистическим. Район вокруг Сухаревой башни. Адрес нашей квартиры: 1-й Коптельский пер., д. 2/7 кв. 20. Двух комнатная квартира на первом этаже четырехэтажного здания, окна которой выходили во внутренний дворик. Дом представлял из себя почти квадрат, фасадом выходящий на Садовое кольцо с внешней стороны. С одной стороны дома стоял ин-т Склифасофского, с другой казармы Казакова.
Когда мы с мамой рассматривали открытку, случайно найденную мною в старых бумагах у нас в квартире, то я, как и все вокруг, спросила маму про Сухаревскую башню и просила маму показать на улице, где находилась Сухаревская башня. Мы вышли из квартиры на улицу. И я повернулась в сторону Колхозной площади. На что мама сказала мне, что это неверное направление. Сухаревская башня находилась на горе, на большом возвышении, в районе Красных Ворот. Тогда еще было советское время и для меня обозначение Лермонтовской площади именем Красные Ворота, показалось каким-то диссонансом.
Если внимательно приглядеться к картине Алексея Саврасова, написанной в 1872 г., то мы видим, что район Сухаревской башни в конце XIX века, это деревянные развалюхи дома. И только рядом с башней можно разглядеть новенькое здание, вероятно, чья-то усадьба, только недавно отстроенная. Потому что стиль постройки очень характерен для конца (именно конца) XIX века.
Когда вы рассматриваете различные старые фотографии, то очень часто на них не стоит дат, когда сделан снимок. Но, как правило, это начало XX века. Рассматривая любую старую фотографию, не хранящуюся в вашем личном альбоме, или альбоме знакомых, а выставленную на сайте или альбоме фотоснимков старой Москвы, - всегда будьте готовы к любому обману, возведенному в ранг нашей с вами истории.
О легендах, которые ходят вокруг Сухаревской башни, рассказывать можно много. Где выдумка, где реальность, трудно теперь разобраться. Но, судя по картине А.К.Саврасова, можно с уверенностью сказать, что в конце XIX века в этой части города Москвы как таковой еще не было. Как я пишу во в других своих рассказах, - Москва начала застраиваться нормальными домами, имеющими вид городских домов, только в конце XIX и начале XX. До середины XIX века Москвы практически не было. Если вы в школе хорошо учились и запомнили стихотворение «Бородино», которое начинается со строк истории Москвы:
Скажи-ка, дядя,
Ведь недаром,
Москва, спаленная пожаром,
Французам отдана?
Деревянная Москва была до тла, как знаем по истории, сожжена Кутузовым, чтобы не досталась врагу Наполеону. И дата сожжения Москвы 1812 год. С этих пор и практически по середину XIX века Москвы не было. Затем постепенно пустынное место стало застраиваться деревянными домишками. И только в конце XIX века начитается строительство тех домов, которые еще мы застали на территории Москвы, но от которых мало что осталось в настоящее время.
Итак, вернусь к Сухаревской башне. Когда построена была башня, - неизвестно. Нет башни, нет даты постройки. Все остальное выдумка. В этой статье обозначу лишь те моменты, которые нигде и никем не описываются.
Мама моя провела свое шальное предвоенное детство в воровском районе, который назывался запросто: Сухаревка. Это и Сухаревский рынок, громадный, тянущийся сверху с горы, вниз, к Колхозной площади, это и сама Сухаревская башня, это и Сухаревская площадь, с ее ответвленными тесными городскими улочками.
Район Сухаревки с 30-х годов и до 70-х годов ХХ века был опасным воровским районом. Таким он стал по спецпроекту Сталина, который огораживал особо стратегический район от нежелательных элементов. От любознательной интеллигенции в первую очередь. От искателей кладов – во вторую очередь. От заезжих гастролеров, шпионов, ищущих тайные следы…дороги в Кремль.
Башни, такие, как Сухаревская, были в первую очередь стратегическим объектом в том понимании, что из Кремля, на случай осады или бунта внутри Кремля, были тайные ходы, ведущие далеко за город. Сколько было таких башен вокруг Москвы, - это тема другой работы. А было их много, не одна. Они окружали Кремль примерно на одном расстоянии, беря Кремль в охранное кольцо. Путаниц с башнями, где какая, можно было создать легко. Здесь же рассматриваю только Сухаревскую башню. Скажу только, что почти на месте Сухаревской башни, Сталин начал возвел одну из Высоток нашей Москвы, с подземным метро.
Итак, подземный город, который проектировался вместе с построением самой Москвы, и некоторые подземелья, которые существовали еще до основных построек, это цепь единого подземного города в пределах Садового кольца. Садовое кольцо – магический круг вокруг алтаря-жертвенника Кремля.
Итак, после переезда правительства «большевиков» в 20-х годах в Кремль и решением обосноваться на новом месте, не было случайным. Они перебирались к священному месту, к сердцу России, к алтарю-Кремлю.
Сейчас уже известно из исторических свидетельств, что Ленин значился во главе государственной машины власти – номинально. Фактически, уже в 1921 г. власть захватил странный маг, хромой, сухорукий, рябой, - внешностью отмеченный печатью сверху не в лучшую сторону, - Иосиф Сталин.
Именно по замыслу Сталина особый район Москвы, который был важной и тайной точкой, соединяющей Кремль с выходами на улицы Москвы, - начал заселяться ворами, людьми, освобождающимися из тюрем. Это не был особо опасный криминальный элемент, это были в основном – воры. Начало заселения воровским элементом началось только после укрепления власти Сталина, а именно после 1925 г. Вы знаете, что Сталин долгое время провел в лагерях. Менталитет и характер жизни заключенных в тюрьмы людей был ему хорошо известен. И , как вы знаете, именно Сталин соединил работу секретных служб с криминалом, вышедшим из тюрьмы. Сталин, внедрив в криминальные структуры бандитов, своих людей, управлял криминалом и контролировал. Собственно, сегодня ничто не изменилось, разве, что идеология: в то время, Сталин таким внедрением держал под контролем бандитов и старался постепенно сводить их силу на нет. Сегодня задачи другие , как показывает практика, - личное обогащение в первую очередь. И сегодня, похоже, что руководящие элементы превращаются сами в бандитов. Так, личные интересы наживы и обогащения, изменили характер контроля криминальных структур общества.
Особенно опасным оставался вплоть до конца 70-х годов ХХ века район ул. Маши Парываевой. Проезжая мимо, по Садовому кольцу, вы не увидели бы ничего особенного. Обычное начало улицы. Но, ступив чуть дальше, вы оказывались в совершенно другой Москве. Закуточки и улочки напоминали тесные окраины бедного района. Здесь было тесно и по-домашнему. Тетки сидели на лавочках в малюсеньких палисадничках и перекидывались между собой словами. Здесь чужим нечего было делать. Сюда входить могли только «свои». Те, кто проживал. Здесь царила особая обстановка, где каждый знал всех, где все про каждого известно. Входя на улицу, вы чувствовали на себе множество злобных глаз, спрашивающих, зачем сюда пожаловал. Если видели, что чужак, то выгоняли мгновенно, не дав зайти глубже. Это было почти общежитие воровских семей. По духу напоминало улочки старой воровской Одессы (по фильмам). Я однажды случайно попала туда, когда одноклассница из 282 школы позвала меня к себе после уроков отдать учебник. В квартиру я не заходила. Видимо, было не положено. Больше там я никогда не была. Этот район настолько выбивался из общего вида московских улиц, что я была шокирована.
То, что я увидела, были только остатки от прежней Москвы 30-х годов, которую создавал вокруг Сухаревской башни Сталин. Мама рассказывала, что весь район от Красных Ворот до Цветного бульвара был страшный район. Особенно участок от Красных Ворот вниз до Шереметьевского дома. Интересен и тот факт, что свою усадьбу граф Шереметьев построил в аккурат вниз по улице от Сухаревской башни совсем близко. Больше в округе нет особняков. Не значит и это, что граф Шереметьев каким-то образом контролировал башню на рубеже XIX-XX веков? Не простой человек был граф для Москвы. Не Голицыны, не Оболенские, не Толстые, а именно Шереметьев построил свою усадьбу рядом с артефактом, рядом с Сухаревской башней.
То, что башня была своеобразным артефактом, думаю, ни у кого нет сомнения. Достаточно почитать легенды, окружающие мистикой эту башню. Судя по легенде, что в башне у алхимика Брюса были искусственные люди небывалой красоты, можно предположить, что в башне создавали новых людей, то есть занимались генетикой. Факт расположения личной лаборатории Брюса на третьем этаже башни тоже подтверждается легендами. Еще есть легенда о Черной Книге, из которой Брюс черпал свои знания. Эта книга выделяется из череды легенд о Брюсе.
В 1934 г Сталин приказал снести башню, точнее, разобрать по кирпичикам. Что и было сделано. Что искал Сталин в башне? И нашел ли? Возможно.
В нашей семье тоже хранится легенда о том, что у деда Джафара, брата Люкмана, была волшебная большая по размеру и толщине книга в кожаном переплете, закрытая на металлический замок. Мама видела эту книгу, когда ездила в родную деревню, в дом деда в Нижегородскую область. Но больше всего маме запала в душу красивейшая книга-альбом о Наполеоне. О картинах и гравюрах, об оформлении великолепного альбома, она часто вспоминала, пока мы с сестрой были маленькие. Странно, что эти две книги хранились в одном сундуке в дедовом доме.
В самые жестокие сталинские времена к моему деду приходили люди в погонах из ОГПУ и просили выйти к ним на работу. Не приказывали, а просили… Предлагали хорошие посты в специальных отделах. «Чего ты бедствуешь, выходи на работу, погоны хорошие дадим, жить будешь как человек», - уговаривали деда чекисты. Но каждый раз дед отказывался. Мама помнит таких гостей из органов три раза. Начальник милиции, которая всегда находилась рядом по Коптельскому переулку, был в почтительно-уважительном отношении к деду. В чем таком особом был мой дед специалист, я могу только догадываться. Мама ничего не помнит, что дед говорил о Сталине. Но Ленина называл «косой рыжий черт».
От Сухаревской башни, через Орликов переулок и Мясницкую улицу, ход вел напрямую в Кремль. Именно, ул. Мясницкая обозначена, как объект покупки Карлом Брюсом дома, через который он мог свободно, будучи незамеченным, подземным путем ехать в Сухаревскую башню, для работы над секретными проектами, связанными с алхимией. Только вот даты жизни Карла Брюса и покупкой дома на ул. Мясницкая, которой во время жизни алхимика не было, не совпадают. Улицы Мясницкой не было. Все дома на ул. Мясницкая это всего лишь конец XIX века. Вы были на Мясницкой? Сходите, изучите здания, посмотрите их внешний вид, загляните в подъезды, и вы поймете, что древность Москвы, той Москвы, которую мы еще застали, это плод фантазии.
Дом в Москве, в котором проживал мой дед и родилась моя мама, родилась моя дочь Мария, был построен архитектором Казаковым, учеником Баженова. Этим же архитектором были построены Казармы, которые расположены через улицу Большая Спасская. Помещения Казарм изначально предназначались, как охранный военизированный пост, на границе тайных подземных выходов из Кремля. Во времена Казакова там располагался полк особого назначения, в мое время в 70-х годах ХХ века там находились отделы Внешней разведки и другие спецподразделения, включая секретные морские. На территории Казарм мы с сестрой выгуливали наших собак. В общежитии, на заднем дворе Казарм, я и сестра брали свои первые частные уроки английского языка у жены военного. Казармы были огорожены по периметру высоким забором. Сейчас секретность сохраняется.
После того, как выехали разведчики, в Казармы заехало подразделение МВД, РУБОП. Ворота перекрыли шлакбаумом. Построили массу построек внутри за забором. Теперь войти можно только по пропуску, что говорит о том, что подразделения, расположенные там сегодня, не столь секретны, как во времена моей молодости. Тогда входить можно было свободно. Только не входил никто просто так.
Напротив Казарм через Садовое кольцо находился особо охраняемый специализированный объект, тайна которого до сих пор сокрыта в его подземельях, где говорят пытали и содержали под стражей страшного человека, которым пугали в советское время, - Л.П.Берию. Во время войны из-за крепких и высоких стен мрачного серого объекта доносились истошные вопли пытаемых людей. Это наш район. Это район Сухаревки. Объект был построен уже в конце 30-х годов. Не было нужды везти арестованного в Кремле во время совещания Берию через всю Москву, - достаточно было спуститься в подземелье, сесть в автомобиль и домчаться до тюрьмы особого назначения, на территории которой содержались высокого ранга властители.
У наших соседних улочек есть такие интересные названия, как Малая Спасская и Большая Спасская. Ничего не напоминает? Ну, конечно же, это название башни Кремля. Полагаю, что каждая башня имеет свой выход на улочки Москвы. Названия улиц по имени башен, ничего особенного, все на виду, но и все сокрыто тайной. Люди близоруки и невнимательны, люди не научились думать и анализировать. У людей свои насущные заботы, - хлеб и деньги. Так было и так будет всегда, пока есть власть на Земле.
Когда-то, уже в конце 60-х годов ХХ века, маленькие мальчишки, любопытные, как все мальчишки, через глубокие подвалы нашего дома, соединенные с соседними подвалами, попали в тайный ход подземного города, где легко обнаружили коробку старых царских золотых монет. Еле вытащив коробку из подвала, мальчишки начали шуметь и радоваться. На шум обратил внимание проходящий мимо дядка, который не долго думая, зачерпнул из коробки шапкой золотые монеты, и двинулся дальше.
Возмущенные такой наглостью взрослого дяди мальчишки, начали кричать и ругаться. 122 отделение милиции находилось совсем рядом с нами по Коптельскому переулку. Сотрудники милиции часто находились на улице, то ли курили, то ли просто дышали воздухом. На крик они прибежали быстро, через несколько минут. Дядьку с шапкой догнали и отобрали неожиданно свалившееся богатство «на голову» в шапку. Подвал обследовали насколько было разрешено. Там обнаружили красный песок, указывающий на древность сооружений и якобы, что только под Кремлем есть такой красный песок в древних слоях почвы. Подвал закрыли.
А еще через некоторое время, уже в 70-х годах, подвальные помещения под нашим и соседними домами, затопили кипятком. У нас в квартире была настоящая парная баня. Горячий мокрый воздух лез в комнаты из под пола и из остатков окон подземелья, которые находились под нашей квартирой. В квартире была парилка. Одежда мгновенно промокла. Находиться в квартире было невозможно. Было жаркое лето, можно было сидеть на улице и ждать пока перекроют кипяток, льющийся в наши подвалы. Спасибо, что эту операцию по заполнению объектов водой провели летом, а не зимой.
О Сухаревской башне наши писатели.
М.Ю. Лермонтов, 1834 г : …На крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая громада — Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности. Её мрачная физиономия, её гигантские размеры, её решительные формы, всё хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться.
Через 100 лет:
Владимир Алексеевич Гиляровский, из письма дочери, 1934:
Её ломают. Первым делом с неё сняли часы и воспользуются ими для какой-нибудь другой башни, а потом обломали крыльцо, свалили шпиль, разобрали по кирпичам верхние этажи и не сегодня-завтра доломают её стройную розовую фигуру. Все ещё розовую, как она была! Вчера был солнечный вечер, яркий закат со стороны Триумфальных ворот золотил Садовую снизу и рассыпался в умирающих останках заревом.
Жуткое что-то! Багровая, красная,
Солнца закатным лучом освещённая,
В груду развалин живых превращённая,
Все ещё вижу её я вчерашнею —
Гордой красавицей, розовой башнею…
В разрушении Сухаревской башни приняли участие два жреца того времени: Иосиф Сталин и черный раввин Лазарь Каганович, переживший всех своих соратников. Лазарь Каганович, черный жрец СССР, умер в 1991 году, проживя красивую, полную скрытых тайн, жизнь на Рублево-Успенском шоссе, внешне уйдя от политических игр. На самом деле кто знает, чем до конца своей жизни занимался, живущий в почете, черный раввин, жрец, который лично присутствовал на жертвоприношении царской семьи. По всем правилам жертвоприношения, некоторые головы были отсечены от тел и в заспиртованном виде доставлены Якову Свердлову. Сосуды и ящики для царских голов были приготовлены и привезены в Екатеринбург заранее. Именно рукой Черного Жреца ноябрьской революции 1917 г (под знаком Скорпиона) были кровью написаны кабаллистические знаки и надписи на стенах Ипатьевского дома. Ритуал проводили по всем правилам древней науки КАББАЛЫ.
Во всех разрушениях старых сооружений, хранящих память о прежней власти, о прежней России, символов другой эпохи, принимал участие лично жрец и черный раввин новой кровавой России, подготовленный заранее и присланный из-за границы, - Лазарь Каганович.
|
Метки: сухарева башня |
Разрушенная Москва - Сухарева башня |
Разрушенная Москва - Сухарева башня
7 декабря, 2007

После революции 1917 года главной целью новой власти стало преобразование мира, затронувшее все стороны жизни. На уровне конкретного города это проявлялось как в «воспитании масс» (в изменении мышления советских граждан), так и в физическом преобразовании пространства их жизни. При этом идеологические и практические задачи решались часто одновременно, без четкого разграничения чисто утопических и функциональных планов.
В Москве как в столице «нового мира» в 1920–1930-е годы шла активная «социалистическая реконструкция» городского пространства. Предполагалось активное создание новых объектов наряду с преобразованием или уничтожением существующих. При этом старое меняли или сносили из соображений «удобства» (то есть приносили в жертву новому, потому что новому безусловно отдавали предпочтение) или из чисто идеологических соображений: классовую борьбу, борьбу с инакомыслием переносили на градостроительную политику. Городская инфраструктура изменялась как из-за необходимости переустройства пространства для нужд стремительно увеличивавшегося московского населения, так и для искоренения «Москвы купеческой».
Активный снос памятников архитектуры начинается в конце 1920-х годов, а в первой половине 1930-х, когда окончательно оформляется сталинский режим, происходят основные разрушения, что объясняется начавшимся в 1930-х систематическим переустройством городского пространства. В 1931 году Москва выделяется из Московской области в самостоятельную административно-хозяйственную единицу, в ней создается самостоятельная партийная организация, которую возглавляет сначала Л. М. Каганович, затем Н. С. Хрущев. Тогда же принято решение о строительстве в Москве метро, а в 1935 году выходит «Генеральный план реконструкции Москвы». При этом в постановлении о генплане значилось: «при определении плана Москвы необходимо исходить из сохранения основ исторически сложившегося города, но с коренной перепланировкой по пути решительного упорядочения сети городских улиц и площадей». Из этой установки видно, что идеи полного уничтожения «московского прошлого» у московских правителей не было, однако приоритетной, безусловно, являлась новая застройка, и ради нее можно было пожертвовать «стариной».
Идеологию сноса памятников очень хорошо иллюстрируют следующие слова секретаря Московского городского комитета партии К. В. Рындина: «Старая, неподвижная Москва, Москва купеческая, с самоварами, уступила место новому мощному промышленному центру с крупным передвижением масс». На деле благоустройство прибывающих в город из деревень рабочих оставляло желать лучшего, например, в одном из документов читаем: «передать тресту для организации общежитий церкви по списку, имеющемуся в Моссовете, что должно обеспечить жилищем 1200 рабочих». Однако, судя по информационным сводкам и политдонесениям, сами москвичи были вполне довольны и своим бытом, и общей реконструкцией столицы.
Стоит отметить, что некоторые особенно скандальные сносы встречали протест даже у ведущих московских архитекторов, но к их мнению не прислушивались, а наоборот, их поведение считалось выпадом против режима:
«Тов. Орлеанский оказался в хвосте у худшей части аппарата, идеологически враждебных, реакционно настроенных специалистов. Не боролся за высвобождение из-под их влияния наиболее близких нам специалистов и в результате скатился до поддержки вылазки классового врага против социалистической реконструкции г. Москвы (поддержка протеста против решения партии и советских органов о сносе Иверских ворот)» (из протокола заседания МГК ВКП(б)).
Самое известное из снесенных зданий – Сухарева башня. Это самое известное из снесенных в Москве в 1920–1930-е годы светское сооружение, разрушение которого вызвало наибольший протест. Оно было построено в 1692–1695 годах по инициативе Петра I в стиле московского барокко. Башня находилась на Садовом кольце, на его пересечении со Сретенкой, и служила Сретенскими воротами Земляного города. Башня, построенная архитектором М.И. Чоглоковым, находилась близ Стрелецкой слободы полка Л.П. Сухарева (отсюда ее название). В нижней части Сухаревой башни были ворота и караульни, над которыми находились палаты, окруженные открытой галереей. В 1698–1701 годах над палатами надстроены еще один этаж и четырехъярусная башня, в третьем ярусе которой установлены часы. В палатах Сухаревой башни помещалась созданная Петром I Школа математических и навигацких наук, позднее переведенная в Петербург. До 1806 года в Сухаревой башне размещалась Московская контора Адмиралтейской коллегии. В начале XVIII в. в верхнем ярусе Сухаревой башни была оборудована астрономическая обсерватория, в которой вел наблюдения Я. В. Брюс. В конце XVIII в. вокруг Сухаревой башни возник рынок, просуществовавший до самого сноса башни. При постройке Мытищинского водопровода во втором ярусе Сухаревой башни был сооружен чугунный резервуар на 7 тысяч ведер, откуда вода поступала в центр города. В 1925 году в это здание был перенесен Московский коммунальный музей – предшественник современного Музея истории Москвы.

Сухарева башня. Слева - церковь Троицы в Листах
Виды Сухаревой башни:




Незадолго до сноса

Сухарева башня. Фрагмент

Сухарева башня. Фрагмент
К началу 1930-х годов в условиях увеличения количества населения невероятно усложнилась сеть трамвайных путей на площади вокруг Сухаревой башни. Через ее ворота проходила однопутная линия. Пока проезжали два-три старомодных трамвая в одном направлении, приходилось ждать вагонам, следовавшим в противоположную сторону. Одновременно планировалось расширение проезжей части на всем протяжении Садового кольца, что тоже требовало переустройства пространства «Сухаревки». Итак, в 1932 году в МГК ВКП(б) (Московском городском комитете партии) заговорили о «сломке Сухаревой башни, затрудняющей движение по Садовой улице и нормальное сообщение Сретенки и первой Мещанской улицы (нынешнего Проспекта Мира)». Возможно, конечно, башня воспринималась не только как досадная помеха на пути технического усовершенствования Москвы, но и как символ старой традиционной Москвы, что усугубляло желание московского руководства поскорее с ней разделаться.
17 августа 1933 года информация о планируемом сносе Сухаревой башни появилась в печати. Ведущие московские архитекторы были возмущены планами Мосгоркома и направили самому Сталину ряд писем, в которых объясняли, что разрушение этого памятника абсолютно недопустимо, и предлагали свои проекты по перепланировке площади, не требующие сноса башни.
«Сломка башни нецелесообразна по существу, ибо, если цель ее – урегулирование уличного движения, то этот результат с одинаковым успехом может быть достигнут иными путями, не идя по линиям наименьшего сопротивления»
(И. Э. Грабарь, И. А. Фомин, И. В. Жолтовский и др. – И. В. Сталину // Известия ЦК КПСС. 1989. №9).
Предлагался даже вариант передвижки всей башни на несколько десятков метров, на более широкую часть площади, что «освободит перекресток улиц и даст сквозное движение по всем направлениям» (К. Ф. Юон, А. В. Щусев, А. М. Эфрос и др. – И. В. Сталину // Известия ЦК КПСС. 1989. №9).
Однако увещевания архитекторов не подействовали, Сталин категорично написал Кагановичу:«Мы изучили вопрос о Сухаревой башне и пришли к тому, что ее надо обязательно снести. Архитектора, возражающие против сноса – слепы и бесперспективны». Сталин утверждал, что «советские люди сумеют создать более величественные и достопамятные образцы архитектурного творчества, чем Сухарева башня».
В вопросе сноса такого важного для Москвы памятника архитектуры, как Сухарева башня, важна была и идеологическая сторона дела. Некоторые историки считают, что техническое решение задачи – сохранить башню и при этом обеспечить пропуск транспорта по Садовому кольцу – было делом значительно более сложным и трудоемким, нежели это представлялось протестовавшим против ее сноса архитекторам. В период с апреля по май 1934 года башня была разобрана. Все «строительные материалы», то есть фрагменты памятника, были переданы горотделу «для использования при замощении улиц».
В 1932 году было также принято решение учредить в Москве доску почета колхозов Московской области, на которую заносить особо отличившиеся колхозы, а также переименовать саму Сухаревскую площадь в Колхозную. Это было осуществлено уже после разрушения Сухаревой башни: в ноябре 1934 года после проведения коллективизации и подведения итогов соревнования, предложенного Всесоюзным съездом колхозников-ударников (февраль 1933 года), посреди Сухаревской площади, переименованной в Колхозную, перпендикулярно потокам городского транспорта по Садовому кольцу установили монументальную «доску почета» колхозов Московской области. Через некоторое время ее вынуждены были убрать и перенести на Самотечную площадь, потому что она, как и снесенная башня, мешала движению.
Сухарева башня в процессе разборки:





Колхозная площадь (после сноса):


|
Метки: брюс сухарева башня |
Московские легенды. Сухарева башня |
Московские легенды. Сухарева башня
- Nov. 28th, 2016 at 10:41 AM
Некогда по Земляному валу тянулись Стрелецкие слободы, где квартировалась городская охранная стража. Около Сретенских ворот в XVII веке располагался Сухарев полк, названный по имени полковника его Лаврентия Сухарева. Именно на том месте была построена башня, получившая название Сухаревская. Высота башни была более 60 метров.
Яков Вилимович Брюс, московский колдун, фигура не менее таинственная и загадочная, чем французский прорицатель Мишель Нострадамус. Шотландец на службе русских царей, он предсказывал судьбу по звездам, ставил на ноги безнадежно больных и говорят, создал эликсир вечной молодости. Он был инженером, математиком, астрономом, знахарем, топографом, военным, политиком, дипломатом. И даже колдуном – были уверены его современники. В том числе и царь Петр.
В 16 лет Брюс записался в потешные войска, которые создавал тогда Петр Первый. Молодой государь, жадно рвавшийся к знаниям, сразу выделил среди остальных просвещенного шотландца. Который, к тому же, не уступал «герру Питеру» в пьянстве и разгуле. Петр любил шотландца и прощал ему колкости в свой адрес и в адрес православной церкви.
Брюс сопровождает Петра в его поездке по Европе. В 1698 году Пётр, получив известия о бунте стрельцов в Москве, спешит на родину. Вместе с ним в Россию возвращается и Брюс. Фактически масонство было завезено в Россию, после этих экспедиций Петра I в Англию, в которых его сопровождал Брюс. Считается, что основателями масонства в России являются Пётр I и его соратники, — Патрик Гордон, Франц Лефорт и как мы уже знаем Яков Брюс.
Сразу после прибытия в Россию Великого посольства 1697-1698 годов, Брюс предложил воодушевленному после посещения Европы царю, спроектировать и построить первое в Москве светское учебное заведение, — школу математических и навигационных наук. Помимо прочего это здание должно было служить штаб-квартирой первой масонской ложи России, учрежденной Петром вскоре после возвращения из Англии, так называемого «Нептуного общества». Это сооружение, известное как Сухарева башня, располагалось в Москве на пересечении Садового кольца, Сретенки и 1-й Мещанской улицы (ныне проспекта Мира).
В Сухаревой башне по ночам собиралось «Нептуново общество», тайный царский совет и первая российская масонская ложа, члены которой увлекались магией, чародейством и астрологией, и в которую помимо Петра I входили его приближённые, первые лица государства. Среди них были Меньшиков, Шереметьев, Голицын, Лефорт, Апраксин ну и, конечно же, Брюс. В народе шептались, что царь, окружив себя иноземцами, творит теперь с ними в башне дела «богомерзкие» и «нечестивые», общается с сатаной и занимается колдовством.
В 1701 году в Сухаревой башне Пётр I открывает Навигацкую школу, а Брюс, который являлся ближайшим сподвижником царя, открывает при этой школе первый в России научный центр. В башне проводились регулярные астрономические наблюдения, ставились различные физические и химические опыты, чертились карты, переводились иностранные и писались свои учебники и пособия. Но, в народе говорили, что в башне Брюс творит жуткие вещи, и обходили её стороной.
На последнем этаже Брюс устроил обсерваторию. Светящееся каждую ночь окно обсерватории быстро уверило москвичей в том, что дело здесь нечисто. Свечной торговец Алексей Морозов, например, утверждал, что как-то в сумерках сам видел, что из окон астронома вылетают железные птицы. И вскоре по городу прошел тревожных слух - лютеранин из Сухаревой башни общается с нечистой силой и с ее помощью превращает живых людей, чьи стоны и разносятся по окрестностям, в летающих железных драконов.
- В этой истории есть доля правды, - говорит доктор исторических наук Зинаида Татарская. - В Сухаревой башне Яков Брюс работал над созданием летальных машин. Сохранившиеся чертежи действительно напоминают чертежи современных самолетов. Эти бумаги сейчас находятся в Российской академии наук. К сожалению, часть ценных документов бесследно исчезла в тридцатые годы. По одной из версий, их выкрали немецкие шпионы и потом по чертежам Брюса фашисты сделали свои непобедимые истребители «мессершмиты».
По легенде в Сухаревской башне хранилась «Соломонова печать» на перстне со словами SATOR, AREPO TENET OPERA ROTAS. «Можно сим перстнем делать разно: к себе печатью превратишь, невидим будешь, от себя отвратить все очарования разрушишь, власть над сатаной получишь…».
Но самой большой тайной чернокнижника из Сухаревки, пожалуй, остаётся его колдовская «Черная книга». Много легенд ходило вокруг этого таинственного предмета. В народе говорили, что эту книгу написал сам сатана, и называли её не иначе как «Библией чёрта», если откроет её кто-то помимо чернокнижника, которому она принадлежит, будет проклят навечно. Чернокнижнику же эта книга даёт огромную власть и тайные знания. Также ходила молва, что книга эта досталась Брюсу вместе со знаменитой и легендарной библиотекой Ивана Грозного, которую он надёжно спрятал от посторонних глаз в подземельях Сухаревой башни.
Другая легенда о магической «Чёрной книге» повествует о том, что писана она была волшебными знаками, принадлежала некогда премудрому царю Соломону ив ней записаны судьбы всех людей на земле. Книга Соломона была заговоренной, кроме Брюса её никто не мог взять в руки, она просто исчезала. Хранилась она в тайной комнате башни, вход в которую знал только Брюс. С этой книгой хотел познакомиться Петр I, но даже в присутствии самого Брюса она не далась царю в руки. Перед смертью Брюс замуровал «Чёрную книгу» где-то в Сухаревой башне, в потайной комнате на которую наложил особое заклятие, «магический замок», чтобы не попала книга и тайные знания, содержащиеся там, в руки посторонних людей.
После смерти Брюса легендарную книгу якобы пытались разыскать многие, а Екатерина II даже заставила разобрать стены в части комнат башни. Но книгу тогда так и не нашли. Брюс пугал москвичей и после смерти. Его тело уже было погребено в склепе у лютеранской кирхи Св. Михаила в Немецкой слободе, но каждую ночь в обсерватории по-прежнему загорался свет. Москвичи говорили, что это дух колдуна охраняет свою магическую книгу.
Следующую масштабную попытку найти книгу, по слухам, предпринял сам Сталин. Произошло это событие в 1934 году, когда по решению советского правительства башню было решено снести, так как якобы она мешала движению транспорта. Несмотря на протесты многих архитекторов, к сносу приступили немедленно и с необычной спешностью. Явная надуманность причины сноса этого редчайшего памятника архитектура Петровской эпохи, и то, как происходил сам снос, вызвало массу сплетен. Сухареву башню не взорвали, как это происходило в те времена со многими другими сооружениями и храмами, пошедшими под снос, а разобрали, буквально по кирпичику.
За разборкой башни наблюдал лично Лазарь Каганович, а все выезжающие с объекта машины и всех выходящих людей обыскивали сотрудники НКВД. Вывод напрашивался сам собой, — там явно что-то искали, что-то очень важное. И нашли. Но увы, среди различных рукописей, книг, манускриптов, эзотерических трудов, принадлежавших Брюсу, а также приспособлений и механизмов, алхимической утвари и чертежей не было самого главного, «Чёрной книги».
Разгневанный тиран отдал приказ взорвать останки башни. Присутствовавший при уничтожении архитектурного памятника Лазарь Каганович потом говорил Сталину, что видел в толпе высокого, худого человека в парике, которые погрозил ему пальцем, а потом испарился. Но некоторые научные труды Брюса вождь всех народов все-таки нашел и использовал их при строительстве современной Москвы.
Определить место, где стояла Сухарева башня, можно по фотографиям ниже. Трёхэтажный дом справа практически не изменился.
Вот этот дом крупным планом. Узнать его легко по сталинской символике.
А ниже мы видим расположение Сухаревой башни по отношению к больнице Склифосовского (Шереметьевской больнице). Прямо перед нами бурлит Сухаревский рынок, воспетый Гиляровским.
А так больница и рынок выглядели с верхушки Сухаревой башни. Перед нами Садовое кольцо, справа Сретенка, слева проспект Мира (их не видно).
Больница Склифосовского с тех пор почти не изменилась.
Другие московские легенды:
Голосов овраг
Подземелья в Коломенском
Меншикова башня
Усадьба колдуна Брюса «Глинки»
Дом колдуна Брюса
Сухарева башня
Дом Пашкова
Дом Стахеева
|
Метки: брюс масонство сухарева башня |
Иван Васильевич Столяров |
РРФ Иван Васильевич Столяров
Нет портрета
| Отец |
|---|
| Василий * 2-я треть XIX в. |
| Древо рода |
| Предки |
| Цепь родства |
18.04.1885 – 21.04.1938
эсер; член БО; расстрелян
|
Метки: столяровы |
Сухарева башня |
55°46′22″ с. ш. 37°37′56″ в. д.HGЯO
Сухарева башня
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
| Башня | |
| Сухарева башня | |
|---|---|
 Сухарева башня на открытке 1927 года |
|
| 55°46′22″ с. ш. 37°37′56″ в. д.HGЯO | |
| Страна |  Россия Россия |
| Город | Москва, ЦАО, Мещанский район, Большая Сухаревская площадь |
| Архитектурный стиль | барокко |
| Автор проекта | Михаил Иванович Чоглоков |
| Дата основания | 1701 |
| Строительство | 1692—1695 годы |
| Дата упразднения | 1934 год |
| Высота | 64 м |
| Состояние | утрачена |
 Сухарева башня на Викискладе Сухарева башня на Викискладе |
|
Су́харева башня — памятник русской гражданской архитектуры, построенный в 1695 году в Москве по проекту Михаила Чоглокова на пересечении Садового кольца, Сретенки и 1-й Мещанской улицы (ныне проспект Мира). Была разрушена в 1934 году в рамках Генеральной реконструкции Москвы[1][2]. В настоящее время ведутся разговоры о восстановлении башни на старом фундаменте или неподалёку от изначального места[3].
Содержание
История[править | править код]
Строительство[править | править код]
В конце XVII века у Сретенских ворот находился стрелецкий полк Лаврентия Панкратьевича Сухарева. Когда Пётр I в 1689 году бежал в Троице-Сергиеву лавру от царицы Софьи, желающей свергнуть младшего брата с престола, полк последовал за ним. По одной версии, Сухарева башня была построена Петром в 1692—1695 годах в награду за их верную службу. По другой версии, он решил таким образом ознаменовать своё избавление от грозившей ему опасности[4][5]. Проект был разработан Михаилом Чоглоковым, строителем Арсенала в Кремле. Башню возводили в два этапа. Сначала построили два первых яруса: перестроенные в камне Сретенские ворота и палаты над ними. В одной из них, которая называлась «рапирной», обучали фехтованию. В других палатах располагалась «полковая изба» стрельцов Сухарева. Над перекрытием находился постамент шатра, а на нём боевые часы. Постамент украшали четыре остроконечные башенки, похожие по форме на надстройки Троицкой и Спасской башен Кремля. Позади ворот, по направлению к 1-й Мещанской улице, к башне была пристроена часовня с кельями, отданная в ведение Перервинского монастыря[1][6][7][8].
В 1698—1701 годах, когда Пётр I вернулся из Европы, башню реконструировали и выстроили третий ярус. С востока было пристроено крыльцо в два лестничных марша. После окончания строительства здание достигло 64 метра в высоту и 40 метров в ширину. Считается, что архитектура башни была позаимствована у ратуш в Голландии или Германии. Её общий вид должен был напоминать корабль с мачтой: галереи второго яруса образовывали верхнюю палубу, восточная сторона — нос, а западная — корму[5][9][6][7].
Использование[править | править код]
Иллюстрация в журнале «Нива», 1870 год
Сухарева башня, 1884 год
Вид Сухаревой башни на Садовой с улицы Сретенки, 1900-е годы
Сухарева башня на дореволюционной открытке.
В 1701 году третий ярус башни заняла Школа математических и навигацких наук, где обучались 500 человек[10]. До 1706-го она находилась в ведении Оружейной палаты, затем перешла под контроль Приказа морского флота и Адмиралтейской канцелярии. Руководителем школы стал учёный Яков Брюс, который на одном из последних этажей башни основал первую в России астрономическую обсерваторию. По легенде, там собиралось тайное «Нептуново общество», возглавляемое Францом Лефортом. Также существует предание, что в основании башни была спрятана «чёрная книга» Брюса, способная дать неограниченную власть[11][12]. Здесь же находились астрономические часы и большая библиотека, а в нижнем ярусе хранился голландский медный глобус семи футов в диаметре — подарок царю Алексею Михайловичу от Генеральных штатов Голландии, перенесённый из колокольни Ивана Великого. Башню отапливали голландские печи, однако они не справлялись с холодом, поэтому в 1706 году ученики обратились к царю с прошением о переводе школы. В 1712-м Сухарева башня загорелась и Навигационную школу временно разместили в Меншиковой башне. В 1715 году школу перевели в Петербург, а Сухареву башню заняла Адмиралтейская контора, заготовлявшая в Москве продукты и материалы для Балтийского флота. В ней также находилась московская школа под руководством Леонтия Магницкого, закрытая в 1752-м[4][13][14][15][16].
В 1733 году Адмиралтейская контора донесла в Сенат о повреждениях Сухаревой башни. Было сказано о протечках, плесени, обвалах. После этого в рапирном зале разобрали крышу и своды, сделали накатные деревянные потолки. На месте уничтоженного простенка была устроена арка[17][18]. В 1751 году по приказу архитектора Дмитрия Ухтомского крыша была покрыта черепицей. Однако через шесть лет она частично обвалилась, а под ней опустились деревянные стропила. В 1760-м черепичную крышу заменили железной[19].
В начале XIX века в башне вновь был проведён ремонт, в результате которого на втором этаже сделали лестницы из белого камня, а из рапирного зала на крышу установили деревянную лестницу. Пожар 1812 года уничтожил вокруг башни ветхие деревянные постройки и архивы Морского ведомства. В том же году у Сухаревой башни был организован воскресный Сухаревский рынок[20][4].
В 1829-м в зале второго этажа устроили резервуар Мытищинского водопровода, вмещающий 6500 вёдер воды, которая накачивалась паровыми машинами из Алексеевской водокачки, а затем подавалась в уличные фонтаны и бассейны[21]. Посетивший Москву в конце 1830-х годов маркиз де Кюстин назвал башню одной из лучших достопримечательностей города[22].
В 1834 году Михаил Лермонтов писал о башне:
На крутой горе, усыпанной низкими домиками, среди коих изредка лишь проглядывает широкая белая стена какого-нибудь боярского дома, возвышается четвероугольная, сизая, фантастическая громада — Сухарева башня. Она гордо взирает на окрестности, будто знает, что имя Петра начертано на её мшистом челе! Её мрачная физиономия, её гигантские размеры, её решительные формы, всё хранит отпечаток другого века, отпечаток той грозной власти, которой ничто не могло противиться[23].
В 1859 году башня перешла в управление IV округа путей сообщения, а с 1871-го — в ведение города[21]. В том же году началась её реставрация под руководством архитектора Александра Обера. Были отремонтированы крыши, потолки, облицовка башни. Со стороны Мещанской улицы сделали новые пилястры, карнизы, исправили белокаменные украшения у окон[24]. С устройством в 1892 году Крестовских водонапорных башен вода в Сухареву башню перестала подаваться, а в начале 1900-х годов были разобраны резервуары[21]. Следующий большой ремонт провели в 1897—1899 годах. За этот период были сделаны стоки для дождевой воды, железную крышу столба и четырёх башенок заменили разноцветной черепицей, также установили новые часы[25].
Перед войной 1914 года в башне находились следующие учреждения: склад Городского архива в западных залах третьего этажа, средний, рапирный зал и второй этаж пустовали из-за разрушений, произведённых при ликвидации резервуаров. В восточной части нижнего этажа с 1899 года стоял электрический трансформатор для освещения часов в Сухаревой башне, а с 1910-го — компрессорная станция. В западной половине находились канцелярия I Мещанского попечительства о бедных, часовня Перервинского монастыря с кельями, контора смотрителя Сухаревой башни. Помещения под наружной лестницей сдавались в аренду для торговли[26][27].
После революции 1917 года все учреждения, кроме нижнего этажа, занятого трансформаторами МОГЭС и Горьковской железной дороги, были ликвидированы. В 1918-м с башни сбили орлиный герб, созданный при Петре I[17][27].
3 января 1926 года в башне был открыт Московский коммунальный музей, ранее находившийся в доме № 3 по Театральному проезду. Его директором назначили историка Петра Сытина. Перед этим башню отремонтировали, а также соединили западную половину первого этажа и второй этаж, на котором сделали раздевалку, архив и склад музея. В башне также заложили новые двери и окна. Стены и своды выкрасили клеевой краской, полы покрыли дубовым паркетом. Были отремонтированы кровля и разрушившиеся части украшений фасадов. Взамен голландских печей было устроено водяное отопление. Ремонтные работы проходили под наблюдением инженеров А. Ф. Зябкина и Э. В. Кнорре и архитектора Зиновия Иванова. Реставрация обошлась в 150 тысяч рублей[4][13][28]. В том же году специалисты признали Сухареву башню памятником архитектуры[27].
Снос башни[править | править код]
Сдвоенный наличник Сухаревой башни в стене Донского монастыря, 2010 год
Сухарева башня, 1931 год
Сухарева башня на картине Саврасова 1872 г.
В 1931 году был разработан план Генеральной реконструкции Москвы, согласно которому планировалось расширить центральную часть города. Сухарева башня, по мнению советского руководства, мешала развитию транспортной магистрали, поэтому её было решено снести. Газета «Рабочая Москва» 17 августа 1933 года опубликовала заметку «Снос Сухаревой башни», в которой говорилось, что через два дня приступят к сносу башни и к 1 октября очистят Сухаревскую площадь[29]. На защиту башни встали художник и искусствовед Игорь Грабарь, академики архитектуры Иван Фомин и Иван Жолтовский. Они написали Иосифу Сталину и секретарю Московского комитета ВКП(б) Лазарю Кагановичу письмо с объяснением важности сохранения Сухаревой башни:
Сухарева башня, есть неувядаемый образец великого строительного искусства, известный всему миру и всюду одинаково высоко ценимый. Несмотря на все новейшие достижения техники, она все ещё не утратила своего громадного показательного и воспитательного значения для строительных кадров. Мы <…> решительно возражаем против уничтожения высокоталантливого произведения искусства, равносильного уничтожению картины Рафаэля. В данном случае дело идет не о сломке одиозного памятника эпохи феодализма, а о гибели творческой мысли великого мастера[24].
Авторы письма также предлагали разработать проект реконструкции Сухаревской площади, который позволил бы оставить башню. Вскоре архитектор Иван Фомин представил проект сохранения башни при организации кругового движения по площади, а инженер Владимир Образцов разработал техническое обоснование передвижки башни на случай, если будет признано, что нельзя сохранить её на старом месте[30][31].
4 сентября того же года, выступая на совещании московских архитекторов, Каганович обвинил защитников башни в классовой борьбе:
 |
В архитектуре у нас продолжается ожесточенная классовая борьба… Пример можно взять хотя бы из фактов последних дней — протест группы старых архитекторов против сноса Сухаревой башни… Характерно, что не обходится дело ни с одной завалящей церквушкой, чтобы не был написан протест по этому поводу. Ясно, что все эти протесты вызваны не заботой об охране памятников старины, а политическими мотивами — в попытках обвинить советскую власть в вандализме[13]. |  |
18 сентября 1933 года из Сочи Иосиф Сталин и Климент Ворошилов направили Кагановичу телеграмму с поддержкой решения снести башню:
Мы изучили вопрос о Сухаревой башне и пришли к выводу, что её надо обязательно снести. Предлагаем снести Сухареву башню и расширить движение. Архитекторы, возражающие против сноса, — слепы и бесперспективны[31].
20 сентября в ответном письме Сталину Каганович просил разрешения повременить со сносом башни в связи с обещанием, данным архитекторам. Он писал: «Я не обещал, что мы уже отказываемся от ломки, … Если Вы считаете, что не надо ждать, то я, конечно, организую дело быстрее, то есть сейчас, не дожидаясь их проекта»[32].
Несмотря на протесты 16 марта 1934 года Центральный комитет ВКП(б) одобрил предложение Московского комитета партии о сносе Сухаревой башни. В том же году Московский коммунальный музей был переведён в церковь Иоанна Богослова под Вязом на Новой площади[4][33]
|
Метки: брюс сухарева башня |
Иоффе Абрам Федорович |
Иоффе Абрам Федорович
российский и советский физик. 1880–1960
Родился в городе Ромны Полтавской губернии в 1880 году в семье купца второй гильдии Файвиша (Фёдора Васильевича) Иоффе и домохозяйки Рашели Абрамовны Вайнштейн.
Он окончил Роменское реальное училище в 1897 году и поступил в Санкт-Петербургский технологический институт. Абрам получил диплом инженера-технолога и решил продолжить обучение. В 1902 году он едет в Мюнхен к Рентгену. Лаборатория ученого поразила его. Он задержался там до 1906 года. В 1905 году он окончил Мюнхенский университет и получил степень доктора философии. Он работал ассистентом на кафедре физики, а потому мог остаться там. На родину он вернулся в 1906 году и стал старшим лаборантом в Санкт-Петербургском политехническом институте. Он защитил магистерскую, а позже и докторскую диссертацию.
В 1911 году принял лютеранство для вступления в брак с нееврейкой.
В 1913–1915 годах его избрали профессором физики, он работал в Политехническом институте, а также читал лекции по термодинамике в Горном институте, по физике – в университете на курсах Лесгафта. Учить других Иоффе нравилось не меньше, чем учиться самому.
Профессор с 1913 года. В 1915 году Иоффе за исследование упругих и электрических свойств кварца присвоили степень доктора физики.
Крупнейшей заслугой А.Ф. Иоффе является основание уникальной физической школы, которая позволила вывести советскую физику на мировой уровень. Первым этапом этой деятельности была организация в 1916 году семинара по физике. К участию в своём семинаре Иоффе привлёк молодых учёных из Политехнического института и Петербургского университета, которые вскоре стали его ближайшими соратниками при организации Физико-технического института.
В 1918 году Абрам Федорович создает физико-технический отдел Рентгеновского института. Из него позже вырос знаменитый Физико-технологический институт. По инициативе Иоффе, начиная с 1929 года, были созданы физико-технические институты в крупных промышленных городах: Харькове, Днепропетровске, Свердловске и Томске. За глаза и ученики, и другие коллеги с любовью и почтением называли Абрама Фёдоровича «папа Иоффе». Абрам Федорович уже тогда верил в великое будущее физической науки. Он был убежден, что для развития исследований нужно желание, нужны молодые и талантливые ученые, хорошие лаборатории.
Всё это время он вел научную работу. Он подтвердил атомное строение электрического заряда. С 1918 года член-корреспондент, с 1920 года – действительный член Академии Наук.
В 1919–1923 годах – председатель Научно-технического комитета петроградской промышленности, в 1924–1930 годах – председатель Всероссийской ассоциации физиков, с 1932 года – директор Агрофизического института.
Иоффе совместно с Кирпичёвой впервые выяснил механизм электропроводности ионных кристаллов (1916–1923 годы).
Совместно с Кирпичёвой и Левитской в 1924 году получил важные результаты в области прочности и пластичности кристаллов. Было также показано, что прочность твёрдых тел повышается в сотни раз при устранении поверхностных микроскопических дефектов; это привело к разработке высокопрочных материалов (1942–1947 годы). В исследованиях Иоффе разработан рентгеновский метод изучения пластической деформации.
В 1931 году Иоффе впервые обратил внимание на необходимость изучения полупроводников как новых материалов для электроники и предпринял их всестороннее исследование. Им (совместно с А.В. Иоффе) была создана методика определения основных величин, характеризующих свойства полупроводников.
В 1933 году получил звание заслуженного деятеля науки. В 1934 году по инициативе Иоффе и некоторых других ученых был создан Дом учёных в Ленинграде.
Исследование Иоффе и его школой электрических свойств полупроводников в 1931–1940 годах привело к созданию их научной классификации. Эти работы положили начало развитию новых областей полупроводниковой техники: термо– и фото-электрических генераторов и термоэлектрических холодильных устройств.
В начале Отечественной войны назначен председателем Комиссии по военной технике, в 1942 году – председателем военной и военно-инженерной комиссии при Ленинградском горкоме партии. В 1942 году удостоен Государственной премии за исследования в области полупроводников.
В декабре 1950 года, во время кампании по «борьбе с космополитизмом», Иоффе был снят с поста директора и выведен из состава Учёного совета института. В 1952 году возглавил лабораторию полупроводников АН СССР. В 1954 году на основе лаборатории организован Институт полупроводников АН СССР.
Иоффе вошел в историю науки и как организатор науки, обыкновенно именуемый «отцом советской физики». Надо отметить, что большая часть физиков из России XX века, оставивших в науке след, косвенно или прямо – ученики «папы Иоффе» или ученики его учеников. Важнейшая заслуга Иоффе – создание школы физиков, из которой вышли многие крупные советские учёные: А.П. Александров, Л.А. Арцимович, П.Л. Капица, И.К. Кикоин, И.В. Курчатов, П.И. Лукирский, Н.Н. Семёнов, Я.И.Френкель и др. Уделяя много внимания педагогическим вопросам, организовал новый тип физического факультета – физико-технический факультет для подготовки инженеров-физиков. Он был Учителем с большой буквы.
Иоффе был очень общительным и открытым мужчиной. Он был в дружеских отношениях со многими учеными Европы, США. Он был Героем Социалистического Труда, почетным академиком академий наук многих стран мира.
А.Ф. Иоффе скончался в своём рабочем кабинете 14 октября 1960 года. Похоронен на Литераторских мостках Волкова кладбища.
Материал создан: 14.07.2015http://www.iamruss.ru/persona-16/
|
Метки: наука иоффе |
Яков Блюмкин: легенда ОГПУ |

Яков Блюмкин: легенда ОГПУ
28.11.2012
Имя Якова Блюмкина прежде всего ассоциируется с убийством немецкого посла Мирбаха в июле 1918 года. Однако это только один, пусть и яркий, эпизод его незаурядной жизни. И наиболее загадочной ее страницей, несомненно, является экспедиция, организованная Блюмкиным для поисков легендарной и загадочной страны Шамбала.
Двуликий Яша
Яков Блюмкин
Хотя до нас дошло несколько фотографий Якова Блюмкина, человек, изображенный на них, столь разнолик, что утверждать, будто это одно и то же лицо, довольно трудно. Разнятся в своих описаниях его внешности и современники. И ладно цвет волос – в конце концов перекраситься никогда трудно не было, – но и в описании роста, лица, фигуры современники расходятся.
Так, поэтесса Ирина Одоевцева вспоминала о «мордатом и низкорослом» чекисте, с которым познакомилась у Мариенгофа. А в прошлом троцкист и один из преподавателей Академии генерального штаба Виктор Серж говорил о «тонком и аскетичном профиле Блюмкина, напоминавшем лицо древнееврейского воина».
Надежда Мандельштам описывала «низкорослого, но ладно скроенного чекиста». А Лиля Брик, некоторое время дружившая с единственной официальной женой Блюмкина, Татьяной Файнерман, вспоминала «довольно высокого и рано оплывшего юношу».
Талантливый подлец
Симха-Янкель Блюмкин родился в марте 1898 года в Одессе, по другим данным, – в местечке Сосница Черниговской губернии. Он был пятым ребенком Герши Блюмкина, служившего приказчиком в небольшом магазине на Молдаванке.
Когда Яше было шесть, отец умер, и мать, без того с трудом сводившая концы с концами, отдала его в Первую одесскую Талмудтору, где преподавали не только Библию, иврит, русский язык, но и гимнастику. Уже в 20-е годы на спор с одним из своих знакомых Блюмкин сделал три сальто подряд. На вопрос же о том, зачем ему это надо, ответил, что гибкое и натренированное тело способствует изворотливости ума. Так это или не так, каждый решает самостоятельно, но то, что сам он отличался умом изощренным, несомненно.
Так, уже после начала Первой мировой войны, подрабатывая в конторе некоего Пермена, он наладил подделку документов, необходимых для освобождения от призыва. Когда это выплыло наружу, Яша заявил, что делал это по приказу хозяина. Оклеветанный Пермен подал в суд, но тот, к удивлению многих, Блюмкина оправдал. Оказалось, что, узнав о неподкупности судьи, Яков послал ему какое-то подношение с вложенной в него визиткой своего начальника. Возмущенный столь откровенной взяткой судья и вынес оправдательное решение.
Когда об этом стало известно Пермену, он возмутился, но потом дал Блюмкину характеристику, которой тот гордился: «Подлец, несомненный подлец, но талантливый».
«Чистые руки революции»
Фразе Дзержинского о «холодной голове, горячем сердце и чистых руках» чекист Блюмкин предпочитал ленинский лозунг «грабь награбленное».
В феврале 1917 года он вступил в партию эсеров, в которой уже состояли его брат Лев и сестра Роза. В январе 1918 он принял участие в установлении Советской власти в Одессе, а в апреле того же года стал уже начальником штаба 3-й украинской армии. При этом деловые качества молодого человека вызвали такое доверие командования, что именно ему, неофиту от революции, поручили изъятие золота из отделения государственного банка в Киеве.
С поручением Яков Григорьевич справился, экспроприировал 4 миллиона золотых рублей, но в штаб армии передал на полмиллиона меньше. Когда же от него потребовали отчет о пропавшем золоте, никому не сказавшись, бежал в Москву, где руководство партии эсеров рекомендовало его для работы в ЧК. Трудно сказать, какие именно качества Блюмкина расположили к нему Феликса Дзержинского, но вплоть до своей смерти в 1926 году он помогал ему выпутываться из самых, казалось, безвыходных ситуаций. Чего стоит то же убийство Мирбаха?
Немецкого посла к убийству приговорил ЦК левых эсеров. Они рассчитывали, что после этой акции Германия разорвет Брестский мир, начнет военные действия с Россией, а возмущенные этим немецкие народные массы свергнут кайзера, и рабоче-крестьянская революция постепенно охватит всю Европу. Блюмкин сам вызвался привести приговор в исполнение. С помощью заместителя Дзержинского, члена партии левых эсеров Вячеслава Александрова, он выправил мандат для посещения посольства и 6 июля 1918 года метнул в Мирбаха бомбу.
Казалось, карающий меч революции должен неминуемо настичь предателя. Но меньше чем через год, который Блюмкин провел на Украине, 16 мая 1919 года он был амнистирован. И инициатором этой амнистии выступил… Дзержинский.
9 жизней бедного еврея
Покровительство Дзержинского не осталось незамеченным руководством партии левых эсеров. С одной стороны, они пытались таким образом разорвать и без того шаткий Брестский мир. С другой – Блюмкин отсиживался в Киеве, а эсеры стали первыми жертвами террора, развязанного большевиками. Естественно, у тех из них, кто еще оставался на свободе, появились сомнения: не был ли Блюмкин, больше других выступавший за убийство Мирбаха, провокатором, подыгравшим ЧК? На Якова объявили охоту.
Разыскав его в Киеве, эсеровские боевики пригласили Блюмкина за город якобы для того, чтобы обсудить линию поведения в новых условиях. Там в него выпустили восемь пуль, но Блюмкину удалось скрыться.
Через несколько месяцев изменившего внешность Блюмкина два боевика обнаружили сидящим в кафе на Крещатике. Расстреляли оба револьвера. Истекая кровью, Яша упал, но… остался жив.
Разочарованные эсеры отыскали его и в больнице. Не доверяя больше стрелковому оружию, они бросили в окно палаты, где Блюмкин лежал после операции, бомбу, но за считанные секунды до взрыва тому удалось выпрыгнуть в окно и… остаться живым.
Через несколько лет, находясь с друзьями в «Кафе поэтов», Блюмкин заявил, что всего на него было совершено восемь покушений. Выдержав театральную паузу, он добавил: «И не убьют! У каждого еврея девять жизней, и пока я все их до конца не проживу, умирать не собираюсь!»
«Дорогой товарищ Блюмочка»
Блюмкин был знаком со многими известными литераторами молодой советской республики. Среди них Владимир Маяковский
Неизвестно, откуда Блюмкин взял, что у еврея должно быть девять жизней, но жить он любил с размахом. Его квартира в Денежном переулке (в одном доме с Луначарским, напротив того самого посольства, где был убит Мирбах) напоминала склад антиквариата и разного рода раритетов. Картины передвижников, изделия Фаберже, редкие книги, мебель… При этом для каждой вещи он находил (выдумывал?) свою историю. Так после командировки в Монголию, куда он был послан для организации местной контрразведки, но откуда Берзиным был отозван, у него появилось старинное кресло, которое якобы принадлежало монгольским ханам.
После поездки на Ближний Восток, где Блюмкин (по легенде, торговец книгами) занимался созданием первой советской резидентуры, в его библиотеке появились древние еврейские манускрипты. Злые языки утверждали, что до того эти книги находились в хранилище Ленинской библиотеки и были изъяты оттуда, чтобы «легенда» выглядела правдоподобно.
Но наибольшее удовольствие Блюмкин получал от общения. Убийство немецкого посла вовсе не сделало его изгоем, а наоборот, придало облику обычного прохиндея ореол романтизма. А женитьба на довольно бойкой дочери известного толстоведа Тенеромо – Татьяне Файнерман – ввела в круг революционной богемы. Среди знакомых Блюмкина в двадцатые годы были Гумилев, Шершеневич, Мандельштам, Маяковский… Последний одну из книг надписал: «Дорогому товарищу Блюмочке от Вл. Маяковского». Даже Горький однажды изъявил желание с Блюмкиным познакомиться. Есенину Блюмкин как-то заявил: «Мы с тобою оба террористы. Только ты от литературы, а я от революции». Валентин Катаев в повести «Уже написан Вертер» вывел его в образе Наума Бесстрашного. Впрочем, среди поэтов первых советских лет труднее назвать того, кто не посвящал Блюмкину своих стихов. Тот и сам себя считал неплохим литератором.
Болтун и революционер
Хотя мы и привыкли к образу революционера как пламенного трибуна, одухотворенного идеей, таковых среди них было не так уж много. Блюмкин же, без сомнения, был человеком вербальным. И его рассказы, в которых реальные события переплетались с фантазией, давали окружающим ощущение сопричастности великому делу больше, нежели даже свое собственное участие в революции.
Однако чрезмерная болтливость популярного чекиста представляла и несомненную опасность. Основательница Детского музыкального театра Наталья Ильинична Сац до конца своих дней была уверена, что в смерти ее сестры Нины повинен именно Блюмкин. Девушка, писавшая восторженные стихи, без ума влюбилась в него. Когда же тот ее бросил, последовала за ним в Крым и была обнаружена убитой на пляже. Сац считала, что Блюмкин в период близости с ее сестрой наговорил лишнего и, испугавшись последствий, расправился со свидетелем.
Шамбала
Однако при всех своих недостатках Блюмкин до поры и времени молодым советским спецслужбам был нужен. Его авантюризм и, главное, бесшабашность были теми качествами, которые помогали добиваться успеха в, казалось совершенно безвыходных ситуациях. Чего, например, стоит одна персидская авантюра…
Но вершиной его деятельности, несомненно, стала экспедиция для поисков легендарной страны Шамбалы
В июне 1920 года его в качестве всего лишь наблюдателя отправляют в Иран. Но собирать информацию и писать ежедневные донесения в Москву показалось Блюмкину скучным, и он, блефуя и выдавая себя за ближайшего соратника Троцкого и Дзержинского, всего за четыре месяца (!) устроил государственный переворот, привел к власти Эхсанулл-хана, создал коммунистическую партию и, посчитав, что с поручением справился, вернулся в Москву. За эту операцию Блюмкин был награжден орденом Красного Знамени и зачислен в Академию Генерального штаба РККА.
Но вершиной его деятельности, несомненно, стала экспедиция для поисков легендарной страны Шамбалы.
Замечено, что в периоды социальных катаклизмов вера в мистику возрастает. Так было и во времена Великой Французской революции, до и после 1917 года в России, в фашистской Германии, да и наше время тому подтверждение.
Согласно преданию, Шамбала уцелела во времена Всемирного потопа, и населяющие ее монахи до наших дней сохранили «тайны бессмертия и управления временем и пространством». Естественно, что обуреваемые идеей перманентной революции большевики не могли не заинтересоваться поисками этой загадочной страны.
Разработка операции была поручена начальнику спецотдела ВЧК Глебу Бокию и руководителю научной лаборатории того же отдела Евгению Гопиусу. В своем докладе в ЦК партии Бокий особо отмечал, что знакомство с тайнами Шамбалы поможет с большей эффективностью вести пропагандистскую работу среди трудового народа.
Надо признать, что Дзержинский к идее поиска отнесся скептически. Несмотря на весь свой революционный романтизм, он был человеком реальным и не принимал не то что Шамбалу, а и саму идею Всемирного потопа. Только аргумент, что, организовав экспедицию в Гималаи, можно разведать пути дальнейшего расширения революции, смог убедить Дзержинского в ее необходимости.
Колоссальные для того времени деньги – 100 тысяч золотых рублей, или 600 тысяч долларов, – нашли без труда, а вот исполнителя подыскивали долго. По одним данным, о Блюмкине вспомнил Дзержинский, по другим – Яша вызвался сам, умудрившись при этом перессорить Бокия и Ягоду.
Блюмкин уже имел опыт командировок на Восток, к тому же слыл полиглотом. Как вспоминали современники, Яшка знал два десятка языков, половина из которых была тюркскими. 17 сентября 1925 года он под видом монгольского ламы прибыл в столицу княжества Ладакх – Леху. Там уже находился знакомый Бокия, художник Николай Рерих, на помощь которого рассчитывали в Москве.
Какие-либо документы, а, главное, отчет Блюмкина об экспедиции, если сохранились, то до сих пор засекречены. Однако существует целый ряд косвенных свидетельств, что экспедиция прошла успешно. И в первую очередь, это свидетельство симпатизировавшего Советам Рериха. Так, например, в своей книге «Алтай — Гималаи» художник довольно подробно описывает свою встречу с «монгольским ламой», в котором лишь со временем распознал эмиссара Москвы.
Лама показал себя не только хорошим и умным собеседником, знакомым с московскими друзьями Николая Константиновича, но и довольно опытным путешественником, что для экспедиции Рериха оказалось особенно ценно. Он провел инженерные исследования местности, уточнил протяженность отдельных участков пути, записал характеристики мостов и бродов через горные реки… Но и записки Рериха заканчиваются на дне начала восхождения к монастырям.
О том, что советская экспедиция оказалась результативной, говорит то, что именно после нее немецкие нацисты, объединенные в мистическое общество «Аненербе», сами занялись поисками мистической Шамбалы. И даже в апреле 1945-го, когда дни гитлеровской Германии были сочтены, Гимлер и Геббельс советовали уже помышлявшему о самоубийстве Гитлеру покончить с собой не в Берлине, а при помощи подстроенной над Балтийским морем авиакатастрофы. Таким образом, считали они, сможет сохраниться легенда о великом фюрере, которая затем поможет ему вернуться из Шамбалы и восстановить нацистский порядок на Земле. А после взятия рейхсканцелярии на ее развалинах обнаружили тела тибетских монахов, переодетых в форму СС.
Да здравствует…
Как бы то ни было, но с Тибета Блюмкин вернулся другим человеком. До того не признававший никаких сомнений, он начинает хандрить, а в разговорах с друзьями и коллегами выказывает скепсис в правильности сталинского пути. А после того как знакомые с секретной экспедицией люди стали исчезать, начинает распродавать столь ценившиеся им антикварные вещи.
Оказавшись в 1929 году в Константинополе, Блюмкин встречается с высланным из СССР Троцким и сомневается, стоит ли ему возвращаться в Москву. Существует предположение, что и о результатах советской экспедиции в Гималаи гитлеровцам стало известно из окружения Троцкого, который, в свою очередь, узнал о них от Блюмкина.
О том, что Блюмкин уже не походил на того дерзкого и изворотливого чекиста, каким был ранее, говорит и совершенная им по возвращении ошибка. Выполняя поручение Троцкого встретиться с его сторонниками в Москве, он рассказывает об этом Радеку, который сообщает об этом в ЦК и Ягоде. Предположить дальнейшее нетрудно.
Ягода подослал к Блюмкину одну из своих лучших агентесс, когда же и она подтвердила, что тот собирается эмигрировать, Якова арестовали и отдали под суд коллегии ОГПУ. При аресте у него обнаружили чемодан, доверху наполненный американскими долларами.
Суд над Блюмкиным впервые в СССР осуществляла так называемая «тройка», в состав которой входили нарком внутренних дел Ягода, его заместитель Менжинский и непосредственный начальник Блюмкина Трилиссер. Последние два выступали за сохранение Якову жизни, но его приговорили к расстрелу. 3 октября 1929 года приговор был приведен в исполнение.
По одним данным, Блюмкин перед расстрелом пропел Интернационал, по другим – прокричал «Да здравствует…». Правда, кто именно должен «здравствовать», палачи расслышать не смогли.
P.S.
Ни один из фактов жизни Якова Блюмкина (исключение – убийство Мирбаха) твердого подтверждения не имеет. Уже упоминалось, что местом его рождения называется то Черниговская губерния, то Одесса. Разнится год рождения: некоторые исследователи указывают 1898 год, другие – 1900-й. Даже отчество у Блюмкина разное: то он – Яков Григорьевич, иногда – Семенович, встречаются Яков Моисеевич и Яков Наумович Блюмкин. Но если этот человек, прожив столь яркую жизнь, оставил сомнения даже в том, как звали его отца, резонно усомниться и в его гибели в 1929-м. Во всяком случае, несмотря на то, что решение о расстреле Блюмкина существует, акта о его смерти найти не удалось.
Похожие статьи:
- Приворот по телефону (0)
- Русалки. Гуманоиды со дна океана (0)
- Роллан Аббиа — от агента до резидента (0)
- Сексуальный приворот (0)
- Хезболла. Воины Аллаха (0)
- Первый предатель советской разведки (0)
- Народная трагедия (0)
Теги: разведка, Шамбала, Яков Блюмкин
Опубликовано в: Тайны истории
http://mysteric.ru/mysteries/yakov-blyumkin-legenda-ogpu.html
|
Метки: яков блюмкин |
Суперагент Яша Блюмкин |
Суперагент Яша Блюмкин
В декабре 1920 года, когда по всей территории России гуляла смерть – тиф, чума, голод, разруха, крестьянские восстания – в круг посетителей московского «Кафе поэтов», где завсегдатаями были Маяковский, Есенин, Мариенгоф, Мандельштам и проч. – вошёл странный субъект с репутацией отчаянного террориста и заговорщика – Яша Блюмкин (носивший в эсеровских кругах кличку «Живой»).
Давайте познакомимся с ним чуть ближе.
Симха-Янкель Гершев Блюмкин родился на знаменитой одесской Молдаванке в 1898 году. В 1906 году отец умер, и семья из шести человек впала в нищету. В 1908 году мать отдала его на учёбу в начальное духовное училище – Первую одесскую Талмуд-тору. Все расходы по обучению брала на себя религиозная община. Руководил этим учебным заведением писатель Шолом Яков Абрамович, основоположник современной еврейской литературы. Благодаря этой школе Якову удалось получить весьма неплохую общеобразовательную подготовку.
В 1915-ом году вступает в партию эсеров, куда его ввел студент-эсер Валерий Кудельский – друг Григория Котовского (вместе сидели) и Маяковского. Несколько позже Кудельский стал большевиком и в 20-е годы возглавлял секретно-оперативный отдел ГПУ Украины.
В январе 1918 года девятнадцатилетний Блюмкин (совместно с Мишкой Япончиком) принимает участие в формировании в Одессе I-го «Железного» отряда.
Надо отметить, что у Яши Блюмкина был один совершенно особый талант – он всю жизнь он находился рядом с крупными теневыми денежными потоками.
Начинает он свою военную карьеру на посту начальника штаба 3-й Украинской советской «Одесской» армии, которая находилась в подчинении командующего Муравьёва. При отступлении часть этой армии добралась до Феодосии, где Блюмкина назначают комиссаром военного совета армии и помощником начальника штаба армии. В апреле армия разбежалась на мелкие отряды, которые реквизировали деньги банков и продовольствие у крестьян, а Блюмкин (уже в качестве начальника штаба армии), руководит этими экспроприациями.
Так, за ним числилось темное дело с экспроприацией четырех миллионов рублей из Государственного банка городка Славянска. Дабы замять свои делишки, Блюмкин предложил командующему 3-й революционной армией левому эсеру Петру Лазареву взятку. Часть денег Блюмкин решил оставить себе, часть — передать в фонд левоэсеровской партии.
Но махинации Блюмкина стали хорошо известны, и под угрозой ареста он возвращает в банк три с половиной миллиона рублей. Куда подевались еще 500 тысяч, деньги тогда еще достаточно большие, остается загадкой. Очень загадочным в связи с этим представляется бегство Лазарева с фронта и с поста командующего. Архивные документы констатируют, что 80 тысяч из четырех миллионов пропали вместе с Лазаревым.
В конце апреля 1918-го Блюмкин покидает армию, где прослыл вором, и приезжает в Москву. Там он становится главой охраны ЦК партии левых эсеров. Именно Яков Блюмкин стал одним из отцов-основателей ЧК (и позднее – жертвой своего детища). В мае 1918-го девятнадцатилетний Блюмкин представляет свою партию в ЧК при Дзержинском и занимает должность начальника секретного отдела по борьбе с контрреволюцией в ЧК. В июне 1918 года в его обязанности входит наблюдение за охраной посольств и их возможной преступной деятельностью.
В это время он дружит с остроумным Карлом Радеком и, возможно, именно через Блюмкина «непримиримый антигерманец» Муравьёв получает деньги от немецкого посла Мирбаха. В страхе перед разоблачением неприглядных финансовых делишек Блюмкин и Муравьёв убеждают ЦК левых эсеров убить посла Германии, якобы для спровоцирования войны против немецких империалистов и для того, чтобы убрать от власти сторонников Брестского мира (Ленина и его приверженцев). Вечером 4-го июля Мария Спиридонова и ЦК левых эсеров принимают план Блюмкина.
6-го июля Блюмкин и Н. Андреев в 14:00 подъехали к посольству с двумя бомбами и двумя револьверами. При осуществлении теракта Блюмкин получил от охраны посольства «героическое» ранение в ягодицу. После убийства Мирбаха оба прячутся в отряде особого назначения московской ЧК, которым командовал левый эсер Дмитрий Попов. Через несколько часов преступление было раскрыто и в штаб Попова приехал Дзержинский, которого там и арестовали. Отряд левых эсеров захватывает телеграф и объявляет, что все депеши за подписью Ленина вредны для советской власти. Арестовывают чекиста Лациса и председателя Моссовета большевика Смидовича. В 6 часов утра 7-го июля по особняку, где располагался штаб Попова, открыла огонь артиллерия. Большевики получили возможность избавиться от конкурентов в борьбе за власть. К 5 часам дня выступление левых эсеров было подавлено.
Есть версия, что мятежа вообще не было, а была провокация, была оборона левых эсеров от нападений большевиков и попытка освободить своих лидеров, незаконно арестованных большевиками.
Позже, в беседе с женой Луначарского и её двоюродной сестрой Татьяной Сац, Блюмкин признался, что о плане покушения на Мирбаха знали и Дзержинский, и Ленин. Ленин сразу после покушения, по телефону, приказал, что убийц надо «искать, очень тщательно искать, но не найти»…
Но совершенно замять столь громкое международное преступление было невозможно - Блюмкин был заочно приговорён к трёхлетнему заключению.
Уже находясь под арестом, 9-го июля 1918 года Яков Блюмкин совершает побег из усиленно охранявшейся больницы. Лето 1918 года Блюмкин проводит в Питере. Тут он служит в местной ЧК по документам на фамилию Владимирова Константина Константиновича. По службе («агент под прикрытием») он входит в оккультные кружки и прочие многочисленные сборища местных мистиков. Волей-неволей обрастает большим кругом знакомств в этой весьма специфической среде.
Зимой 1918-1919 годов Блюмкин появляется на Украине, а в апреле 1919 года сдаётся ЧК в Киеве. Его почти сразу же амнистируют. Следует серия провалов в организации левых эсеров, и Блюмкина обвиняют, как провокатора. Блюмкин переживает три покушения на свою жизнь только в течение одного июня. Во время второго он ранен, а третье – бомба в окно больницы, где он лежал, но никто от взрыва не пострадал.
В конце 1919 года он уже командир 79-й бригады 27-й дивизии Южного фронта и начальник штаба этой бригады. В это же время он вступает в коммунистическую партию.
В марте 1920-го Блюмкин возвращается в Москву, где его зачисляют слушателем Академии Генерального штаба Красной армии на факультет Востока, где готовят работников посольств и агентуру разведки. Учёба идёт ударными темпами – с 09:00 до 22:00. Якову Блюмкину удивительно легко даются восточные языки, на нескольких из них он начал говорить практически безупречно.
И вот он в кругу поэтов, где Маяковский открыто восхищается батькой Махно.
Блюмкин часто общается с Сергеем Есениным и Осипом Мандельштамом. Не рискну назвать их друзьями, но то, что они были близко знакомы – никто отрицать не будет. Есенину Блюмкин говорил: « Я террорист в политике, а ты, друг, террорист в поэзии».
Позже это приятельство перейдёт в неприязнь.
В один из последних дней июня 1918 года Яков Блюмкин вместе с Осипом Мандельштамом, комиссаром ВЧК Александром Трепаловым И своим знакомым по Одессе Петром Зайцевым зашёл в писательское кафе. Подвыпив, он начал хвастаться тем, как он арестовал брата посла Мирбаха по обвинению в шпионаже в пользу Австро-Венгрии.
- Не сознается – цинично говорил Блюмкин, поставлю его к стенке. И вообще жизнь людей в моих руках. Вон, видите, вошёл поэт. Он представляет большую культурную ценность. А если я захочу – тут же арестую его и подпишу смертный приговор. Но если он нужен тебе, - обратился Блюмкин к Мандельштаму, я сохраню ему жизнь.
Тут Блюмкин преувеличивал: права решать вопрос о наказании арестованных, тем более о расстреле, он не имел. Такое постановление в то время могла выносить только коллегия ВЧК при условии, если ни один из её членов не проголосует против Однако Мандельштам этого не знал. Он принял слова Блюмкина за чистую правду. Поэт вскочил из-за стола и запальчиво крикнул:
- Это палачество! Ты не имеешь права так поступать с людьми. Я сделаю всё возможное и не допущу расправы!
- Не вмешивайся в мои дела! – грубо оборвал его Блюмкин. – Посмеешь сунуться – сам получишь пулю в лоб. С большим трудом Трепалов и Зайцев загасили ссору.
(Цитирую по тексту А.С. Велидова «Похождения террориста: Одиссея Якова Блюмкина» - М.: Современник, 1998 г.)
За год до гибели Есенина, Блюмкин, находясь в Закавказье, приревновал к поэту свою жену и угрожал ему пистолетом. Есенин считал угрозу вполне реальной и поспешно покинул Тбилиси.
По одной из версий смерти Есенина – его убили чекисты под руководством Блюмкина. И даже знаменитые предсмертные стихи, написанные кровью, написал от имени поэта сам Блюмкин (хотя в своё время, спасая Есенина от тюрьмы, брал поэта на поруки под личную ответственность).
Тем не менее, Маяковский дарил Блюмкину книги с трогательными надписями: « Дорогому товарищу Блюмочке. Вл. Маяковский».
Летом 1920 года Блюмкин участвует в создании на севере Ирана Гилянской Советской республики, где становится комиссаром штаба Гилянской Красной армии. Как делегат Ирана участвует в I-м съезде угнетённых народов Востока в Баку. После четырёх месяцев экзотической командировки Блюмкина отзывают в Москву.
В конце 1920 года Блюмкин вместе с Розой Землячкой и Бела Куном участвует в уничтожении белых офицеров, (цифры называют от 50 до 100 тысяч человек). В 1921-м году – участвует в подавлении восстаний голодных крестьян Нижнего Поволжья и Еланского восстания. Вместе с Тухачевским и Антоновым-Овсеенко участвует в подавлении восстания атамана Антонова на Тамбовщине. Осенью Блюмкин уже командует 61-й бригадой в боях против барона Унгерна фон Штернберга во Внешней Монголии. Затем он занимает высокую должность секретаря по особым поручениям в аппарате самого Троцкого.
По окончании Академии Блюмкин в совершенстве владеет турецким, арабским, китайским и монгольскими языками. Он становится официальным секретарём наркома по военным и морским делам Льва Троцкого. А с 1923-го года начинаются самые увлекательные авантюры Блюмкина, сведения о которых до сих пор хранятся в секретных архивах за семью печатями. Восстанавливать канву событий приходится буквально по крупицам. Есть сведения, что Блюмкин прошёл курс рукопашного боя у лучших тогдашних инструкторов по боевым воинским искусствам. И он был прилежным учеником. У Блюмкина восстанавливаются контакты с оккультными кругами. Он работает совместно с Александром Барченко и Генрихом Мебсом по проблемам воздействия гипнозом и суггестией на толпу и на отдельного человека, занимается проблемами предсказания будущего.
Затем идёт работа иностранным агентом на территории Палестины. Через год его отзывают в Москву и он получает пост политического представителя ОГПУ в Закавказье и члена коллегии Закавказского ЧК.
Примерно в это же время он тайно выезжает в Афганистан, где входит в контакт с сектой исмаилитов. Пробравшись в Индию, Блюмкин изучает расположение английских колониальных войск и добирается до Цейлона.
Возвращается он в Москву он только в 1925-м году. ОГПУ доверяет Блюмкину особо тайную миссию в Китае. Он должен был проникнуть с экспедицией Рериха в таинственную Шамбалу и разведать мощь англичан в Тибете. Под личиной тибетского монаха Блюмкин объявляется в Тибете (в расположении экспедиции Рериха, на которую ОГПУ выделило из своих фондов 600 тысяч долларов). И у великого мыслителя, и у великого террориста общая цель – создание в Тибете советского присутствия путём провозглашения Николая Рериха правителем Тибета – «Рета Ригденом».
В 1926-м году Блюмкин получает назначение на должность главного инструктора государственной внутренней охраны Монгольской республики – местного ЧК. Одновременно он руководит советской разведкой в Северном Китае и на Тибете. В Монголии Блюмкин вёл себя как диктатор. Он расстреливал неугодных, не ставя местные власти в известность, из-за чего через полгода его убирают и перебрасывают в Париж (для организации покушения на бежавшего во Францию секретаря Сталина – Бажанова). Покушение не удалось, хотя Блюмкин, по слухам, утверждал обратное. Официальные данные говорят о том, что Борис Георгиевич Бажанов скончался в Париже в 1982-м году.
В сентябре 1927-го года Блюмкин руководит всей агентурной сетью советской разведки Турции, Египта, Сирии, Ливана, Иордании и Палестины. Главной целью было свержение английского колониального влияния, особенно в Индии. Под личиной персидского купца Блюмкин налаживает агентурные каналы в Персии, Ираке и Палестине. Он специализируется на торговле старинными еврейскими книгами (объединёнными тематикой магии, каббалы и оккультной мистики). Эта торговля приносит доход в сотни тысяч долларов.
В 1929-м году Блюмкин проникает в среду воинственных арабских и курдских националистов. Возвращаясь в Москву Блюмкин встречается в Стамбуле с сыном уже опального Троцкого – Львом Седовым (якобы – случайно), а через него 16-го апреля 1929 года встречается и с самим Троцким.
В октябре Блюмкин совершает непростительную (для агента его уровня) ошибку – он рассказывает о своей встрече с Троцким своим друзьям, бывшим троцкистам: Радеку, Преображенскому и Смигле. Бывшие соратники советуют ему «покаяться».
В панике Блюмкин доверяется своей любовнице (и сослуживице) Лизе Горской, которая немедленно сообщает об этом начальству. Покровитель и начальник Блюмкина – Меер Абрамович Трилиссер (начальник Иностранного отдела ГПУ) решил не принимать пока никаких мер, но Блюмкин принимает решение бежать из столицы. 15-го октября 1929 года он перед отъездом решил встретиться с Горской. Они вместе едут на вокзал, но оказывается, что поезда на Грузию (куда намеревался отправиться Блюмкин) отправляются только на следующий день. Горская уговаривает Блюмкина переночевать у неё на квартире. Туда и приехал вызванный её же отряд чекистов.
В бумагах Блюмкина при обыске обнаружили инструктивное письмо Троцкого к оппозиции с предложением организовать антисталинское подполье. На восемнадцатый день после ареста Блюмкин был расстрелян. Казнь Блюмкина была первой казнью представителя коммунистической элиты в СССР.
Погиб он с возгласом: «Да здравствует Троцкий!»
P.-S. Немногие знают, что на картине Николая Рериха "Весть Шамбалы" (Стрела-письмо) изображен Яков Блюмкин в образе тибетского ламы. Личность интересная. И весьма неоднозначная. Он ведь вёл иногда поэтические вечера в "Кафе поэтов" и "Стойле Пегаса". Да и сам писал стихи, иногда печатался в журналах того времени (я, при всём старании, ни одного стихотворения Блюмкина не нашёл, а было бы интересно взглянуть). Неоднократно Блюмкина видели среди гостей Максима Горького - говорят, что "буревестник" очень интересовался "романтиком революции" (эпитет поэта Вадима Шершеневича).
За рамками моего короткого текста осталось много интересного - и дружба Блюмкина с Луначарским, и трагически закончившаяся любовная история с Ниной Сац (сестрой основательницы детского музыкального театра Натальи Сац). Любовных историй в Жизни "еврейского Скорцени" было множество - женщин он любил.
Но не меньше в его жизни было и опасностей.
Помимо тех трёх покушений на его жизнь, о которых я упомянул в тексте, были и другие. После первых трёх он умолял приятелей не оставлять его одного - Есенин, Мариенгоф, Кусиков и Шершеневич провожали его по очереди.
Однажды, когда они уже подходили к дому, раздался окрик: "Стоять!" Блюмкин кинулся наутек, поэты за ним. Грянули выстрелы. Пули пробили в двух местах шляпу Блюмкина, после чего он почел за лучшее остановиться. Выяснилось, что их обстреляли не эсеры, а агенты с Лубянки: ЧК ловила бандитов. Блюмкин тотчас осмелел и принялся уверять, что, если б он открыл ответный огонь, чекистам бы не уцелеть: стрелял он изумительно.
С тех пор его убивали еще шесть раз: дважды холодным оружием, четыре раза - из браунинга и нагана. Его хранила какая-то тайная сила, пока в очередной раз не подвела боевая подруга - Лиза Розенцвейг.
Судьба красавицы Лизы сложилась вполне благополучно: первым браком она вышла замуж за резидента советской разведки в Англии Горского, вторым – за резидента той же организации в США Зарубина. Под именем Елизаветы Зарубиной она и осталась в истории разведки как секретный агент, имевший непосредственное отношение к раскрытию американского ядерного проекта «Манхэттен».
Литература:
1. «БИТВА ЗА ГИМАЛАИ. НКВД: магия и шпионаж» Олег Шишкин – М.: ОЛМА-ПРЕСС, 2000 г. – 400 стр. Тираж 5000 экз.
2. «Оккультные тайны НКВД И СС» Первушин Антон – СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: ОЛМА-ПРЕСС, 1999 г. – 416 стр. Тираж 11000 экз.
3. « Время Шамбалы» Александр Андреев СПб.: Издательский Дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС Образование», 2002 г. – 352 стр. Тираж 5000 экз.
http://russianpoetry.ru/proza/istorija/superagent-jasha-blyumkin.htm
|
Метки: яков блюмкин |
Стихи Якова Блюмкина |
В полумраке настольном , прокуренном,
Кабинетных зловонных углов,
Ворох папок картонных,изрубленных,
Не подшитых, не найденных слов.
Зачеркнуло пенсне переносицу,
Портупеи натянутый нерв ,
Сколько вас пред глазами проносится,
Скольких, даже прочесть не успев.
Анархисты, эсеры с троцкистами,
Реваншисты, дворяне, шпана....
Многих вас революция истово,
Поднимала. Но вот, ни хрена:
Большевистская все-таки выведет,
Чай за нами не пусто, народ.
Эта нечисть из темени выбродит,
Да и кто там потом разберет.
И пером колупая чернильницу,
До утра всем наотмашь писать,
Стиснув пальцами красную книжицу,
Зло по буквам шепча : - РАССТРЕЛЯТЬ!!!https://poembook.ru/duel/80568
|
Метки: яков блюмкин |
Смерть авантюриста Вадим ЛЕБЕДЕВ |
Смерть авантюриста
Вадим ЛЕБЕДЕВ
Шальная пуля для агента ОГПУ Якова Блюмкина.
|
9 жизней террориста Блюмкина - В поисках истины.
|
Тайны разведки - Спецагент Яков Блюмкин.
|

В 20-е годы он был одним из самых знаменитых людей Советской России. Большая советская энциклопедия (главный редактор О. Ю. Шмидт) уделила ему более тридцати строк. Ему посвящали стихи Сергей Есенин, Николай Гумилев, Вадим Шершеневич, а Валентин Катаев в повести «Уже написан Вертер» наделил своего героя, Наума Бесстрашного, его чертами и портретным сходством. Вот и захотелось мне, пользуясь рассекреченными документами из архива Лубянки, рассказать о похождениях этого незаурядного... авантюриста.
ВО ВРЕМЯ ПОДГОТОВКИ 5-го Всероссийского съезда Советов ЦК партии левых эсеров принял решение убить германского посла графа Вильгельма Мирбаха. По их мнению, это было единственной возможностью сорвать Брестский договор, заключенный Лениным с Германией в счет платы за помощь большевикам по захвату власти в России. Решение, естественно, держалось в строжайшей тайне.
Была назначена дата, 5 июля 1918 года, и исполнители теракта – Яков Блюмкин и Николай Андреев, фотограф ВЧК. Но из-за того, что не смогли вовремя подготовить взрывное устройство, «мероприятие» перенесли на 6 июля.
Почему исполнителем выбрали Блюмкина? С мая 1918 года он состоял на службе в ВЧК, и именно ему поручено было организовать отделение по борьбе с международным шпионажем. Надо отметить, что многие разработки Якова Блюмкина использует отечественная контрразведка и по сей день.
Блюмкин понимал – наступил его звездный час. В любом случае его имя останется в истории России.
Так вот. Используя служебное положение, Яков по поручению левого крыла эсеров занимается сбором информации о германском посольстве, устанавливает слежку за его работниками.
Блюмкину удается отыскать среди военнопленных австрийской армии родственника германского посла. Изощренные способы допроса и психологического воздействия позволили Блюмкину взять с него подписку о сотрудничестве с ВЧК. Одновременно он вербует еще несколько работников посольства. В результате в его руках оказался план помещений и постов внутренней охраны посольства. М. Лацис, непосредственный начальник Якова Григорьевича, вспоминал: «Блюмкин хвастался тем, что его агенты дают ему все, что угодно, и что таким путем ему удается получить связи со всеми лицами немецкой ориентации».
Итак. Ранним утром 6 июля Блюмкин пришел в ВЧК, взял бланк удостоверения и уполномочил себя вести переговоры с германским послом. Подпись Председателя Всероссийской чрезвычайной комиссии Феликса Дзержинского он подделал так умело, что, когда ставили на бланк печать, никто ничего не заподозрил. Окрыленный первой удачей, Блюмкин нагло потребовал в личное распоряжение автомобиль. Его предоставили вне очереди.
Ровно в 14.15 темного цвета «паккард» остановился у особняка германского посольства в Денежном переулке. Выйдя из машины, Блюмкин приказал шоферу не глушить мотор.

Лиза Горская
Советнику посольства Яков Григорьевич показал мандат и потребовал личной встречи с графом Мирбахом. Его провели через вестибюль в гостиную и предложили подождать.
Мирбах, наслышанный о готовящемся покушении, избегал встреч с посетителями, но, узнав, что прибыли официальные представители советской власти, решил выйти к ним. К нему присоединились советники посольства Рицлер и Мюллер.
Блюмкин предъявил послу бумаги, которые красноречиво говорили о шпионской деятельности родственника посла. Мирбах заметил, что с этим родственником он никогда не встречался и ему безразлична его судьба. Тогда Андреев поинтересовался, не хочет ли граф узнать о мерах, которые собирается предпринять советское правительство. Граф кивнул. Яков выхватил револьвер и нажал на курок. Мирбах, вскочив с кресла, бросился в зал. Тяжело раненные Мюллер и Рицлер повалились на пол. Блюмкин бросил вслед убегающему послу бомбу. Раздался взрыв, Мирбах, обливаясь кровью, упал на ковер. Якова взрывной волной отбросило на несколько метров.
Оставив на столе шляпы, мандат и портфель с запасным взрывным устройством, террористы выпрыгнули в разбитое взрывом окно. Андреев через несколько секунд уже был в машине. Блюмкин же приземлился крайне неудачно – сломал ногу. Он с трудом стал карабкаться через ограду. Со стороны посольства открыли стрельбу. Пуля угодила Якову в ногу. Но он добрался до машины. Шофер надавил на педаль газа.
Через десять минут они примчались к своим. Блюмкина остригли, сбрили бороду, переодели в красноармейскую форму и проводили в лазарет. Спустя полчаса Дзержинский, Чичерин, Троцкий и Свердлов узнали о совершенном теракте. Ленин запаниковал, отдал распоряжение поднять на ноги все немедленно для поимки преступников. Задержать автомобили и держать до тройной проверки.
А вскоре Дзержинский доложил Ленину о вероятном убийце Якове Блюмкине и о том, где он прячется. Только, отметил Дзержинский, по описанию внешность его и убийцы не совпадают. Восемнадцатилетнего Блюмкина Мюллер, оставшийся в живых, принял за тридцатипятилетнего мужчину. А Дзержинский тогда еще не знал, что Блюмкин, не применяя грима, мог старить и молодить лицо в течение нескольких секунд. Эта особенность не раз спасала Якову жизнь.
РАННИМ МАРТОВСКИМ УТРОМ 1900 ГОДА в Одессе родился мальчик. По старой еврейской традиции на восьмой день ему дали имя: Симха-Янкель. Рос он болезненным, денег в семье Герша Блюмкина, мелкого коммерческого служащего, катастрофически не хватало. А уж когда глава семьи умирает от сердечного приступа, в доме его поселяется беспросветная нищета.
Мать, заботясь о будущем восьмилетнего сына, отдала его в начальное духовное училище – Первую одесскую Талмуд-тору. Обучение было бесплатным – все расходы брала на себя религиозная община. Кроме Библии, Талмуда, иврита и истории там преподавали русский язык, арифметику, географию, пение и рисование. Были уроки гимнастики. Янкелю удалось получить не только общеобразовательную и духовную подготовку, но и значительно укрепить здоровье. Тут необходимо отметить один знаменательный факт, который со временем повлияет на жизнь Янкеля Блюмкина. Талмуд-торой руководил писатель Шолом Яков Абрамович, более известный под псевдонимом Менделе-Мойхер-Сфорим. Основоположник современной еврейской литературы, один из крупнейших знатоков Библии и древнееврейских авторов. Уже тогда у Янкеля проявился интерес к стоимости старинных еврейских манускриптов.
Окончив училище, Яков поступает на службу учеником в электротехническую мастерскую Ингера. Получает по двадцать-тридцать копеек в день, монтируя электропроводку в частных домах и конторах, а в ночное время подрабатывает в Ришельевском трамвайном парке. Так вплоть до 1917-го. Знавшие Блюмкина в те годы вспоминают, что уже тогда за Яковом тянулся шлейф дурных историй. Вот одна из них.
Во время службы в торговой компании у некого Перемена Блюмкин за крупное вознаграждение оформлял отсрочки по отбыванию воинской повинности: умело подделывал документы и подписи высокопоставленных лиц. По Одессе поползли слухи о молодом брюнете с левым лисьим глазом, который помогает увиливать от службы в армии. Очень быстро брюнетом заинтересовалась уголовная сыскная полиция. Яков свалил все на своего начальника: мол, это по его требованию он занимался подделкой различного рода справок и под страхом смерти был вынужден молчать. Перемен, ошарашенный наглостью своего работника, подал в суд. Блюмкин проконсультировался у адвоката, можно ли дать судье взятку. Но с судьей ему не повезло: попался один из самых честных и принципиальных юристов города. Яков все же купил небольшой подарок и отправил его судье. Какого же было удивление полиции и адвоката, когда молодой человек выиграл процесс, безнадежно проигрышный. Позже Блюмкин хвастал, что в отосланный судье «подарок» он вложил визитную карточку своего начальника.

Зав. секретным отделением ВЧК…
В ЯНВАРЕ 1918 ГОДА Яков Блюмкин участвует в установлении Советской власти в родном городе. Записывается в «Железный отряд» при штабе 6-й армии Румынского фронта. Участвует в боях с войсками Центральной рады. Его вводят в Военный совет армии в качестве комиссара, чуть позже назначают помощником начальника штаба. А в апреле 18-го он уже начальник штаба. И опять нехорошая история.
Якову Григорьевичу поручают заняться экспроприацией денег в государственном банке. Удалось захватить четыре миллиона рублей. Блюмкин, красный командир, предложил командующему армией взятку в десять тысяч рублей, себе запросил такую же сумму, а остальные деньги готов был передать лично на нужды партии. Три с половиной миллиона рублей он под угрозой ареста возвратил. Куда подевались еще полмиллиона, выяснить так и не удалось.
С мая 1918 года Яков Блюмкин работает в ВЧК.
По природе довольно болтливый, он любил рассказывать о своей работе друзьям и просто первым встречным. Работа в ВЧК сделала его еще более тщеславным. В разговорах со знакомыми он выдавал себя за человека, наделенного полномочиями решать, жить человеку или умереть. А своим новым московским приятелям Сергею Есенину и Осипу Мандельштаму не раз предлагал посмотреть, как в подвалах ЧК расстреливают контрреволюционеров. Дзержинскому стали докладывать, что некий Блюмкин на каждом углу разбалтывает секреты Лубянки. Шефу ВЧК нравился «молодой брюнет с левым лисьим глазом», под него планировались операции, которые максимально задействовали бы его природные качества – авантюризм и изворотливость. Но все же парня надо было проучить – чтобы не зазнавался. И 1 июля 1918 года коллегия ВЧК упразднила отдел по борьбе со шпионажем. Яков Григорьевич сдал дела М. Лацису...
ЯКОВ ЖДАЛ НОВОГО НАЗНАЧЕНИЯ. Левое крыло левых эсеров, к которому некогда примкнул Блюмкин, никак не могло понять, почему человек, чуть было не сорвавший Брестский мир, пользуется поддержкой большевиков. Террорист – и вдруг приближенный Троцкого и Дзержинского. Что-то тут не чисто. На всякий случай эсеры выносят приговор – смерть предателю. Три боевика приглашают Блюмкина за город для «разъяснений» и политической беседы. Беседа не состоялась. «Разъяснения» закончились тем, что в Блюмкина выпустили восемь пуль. Но ни одна пуля в него не попала.
Через несколько дней было совершено второе покушение. Блюмкин сидел за столиком уличного кафе на Крещатике. Играл оркестр. Яков Григорьевич пил аперитив и читал местную газету. Неожиданно к нему подошли два человека и в упор расстреляли весь барабан револьвера. Блюмкин с окровавленной головой повалился с венского стула. Но... остался жив. Левые эсеры предприняли еще одну попытку разделаться с террористом. И опять неудача.
Провидение хранило Якова Григорьевича, чего не скажешь о людях, которые готовили на него покушение: одних расстреляли, другие пропали без вести.
БЛЮМКИНА ОТКОМАНДИРОВАЛИ В РАСПОРЯЖЕНИЕ Народного комиссариата иностранных дел. А в июне 1920 года он отбывает в Северный Иран, чтобы разобраться в тамошней непростой политической ситуации. Однако каждодневные донесения о местной обстановке нагоняли на Якова скуку. Зачем прощупывать обстановку, когда можно совершить революционный переворот! Он решил действовать на свой страх и риск. Выдавая себя за личного друга Троцкого, Дзержинского и вообще всех сильных мира сего, Блюмкин разрабатывает план переворота, сам принимает в нем участие и становится членом ЦК Компартии Ирана. Правительство Кучук-хана низложено. К власти пришел Эхсанулла-хан. Якову предлагают высокий военный пост в его правительстве. Но тому уже неинтересно.
Всю огромную работу в Северном Иране Блюмкин начал и завершил всего за четыре месяца. Москва поощрила инициативного и удачливого сотрудника, наградив боевым орденом и зачислением в Академию Генерального штаба РККА.
В 1922 году Якова отзывают из Академии и направляют в секретариат наркома по военным делам. В течение полутора лет он выполняет особые поручения Л. Д. Троцкого. (Известно, что именно Блюмкин знакомит наркома со своими друзьями поэтами С. Есениным, В. Шершеневичем и А. Мариенгофом.)

Резидент советской разведки…
В октябре 1923 года Дзержинский, помня об успехах молодого брюнета, забирает его в иностранный отдел ОГПУ на должность главного инструктора государственной внутренней охраны Монгольской республики. И одновременно поручает руководить советской разведкой в Тибете, в Монголии и северных районах Китая. Но тут – гром среди ясного неба – родного брата Блюмкина, Льва Григорьевича Рудина, арестовывают по обвинению в убийстве.
СОГЛАСНО КАРТОТЕКЕ, на учете департамента полиции славного города Одессы состояли родные братья и сестры Якова Григорьевича: Лев, Исай, Розалия и Лиза. Лев и Розалия еще в 1904 году в рядах социал-демократов участвовали в первой российской революции.
1 декабря 1924 года в редакции одесских «Известий» разыгралось трагическое происшествие, «небывалое в летописях печати: журналист убил журналиста» – заведующий отделом «Рабочая жизнь» Л. Рудин-Блюмкин – секретаря редакции «Вечерних Известий» Ю.Саховалера.
Причина убийства – из-за очереди на пишущую машинку. Саховалер в присутствии сотрудников редакции обозвал Блюмкина провокатором и предложил покинуть помещение. Что на месте Льва сделал бы его героический брат? Правильно! Взяв из письменного стола в спальне револьвер, Лев вернулся в редакцию...
Его задержали на следующий день. Суд квалифицировал убийство по статье 143 УК и приговорил Льва Григорьевича Рудина-Блюмкина, 38 лет, к лишению свободы на шесть лет со строгой изоляцией.
Яков хорошо заплатил адвокатам за то, чтобы они добились пересмотра дела и квалифицировали убийство по статье 144, предусматривающей убийство в состоянии сильного душевного волнения. Но вышестоящие судебные инстанции кассационную жалобу не приняли.
Известно, что по делу Льва Блюмкина велось расследование, которое пыталось выявить, не был ли он провокатором и агентом царской или белой контрразведки. Предположения эти не подтвердились, и ведущий следствие чекист Д. Медведев передал дело в прокуратуру как чисто уголовное.
А Яков отбыл из Одессы в Москву, чтобы затем отправиться в Монголию выполнять поручение ОГПУ.
В ДЕКАБРЕ 1926 ГОДА ПО ЗАДАНИЮ ЦЕНТРА ОН ЕДЕТ В КИТАЙ, к генералу Фэн Юйсяну, для оказания военной помощи. Справляется с поручением и становится военным советником при генерале. Помогает китайским товарищам наладить работу разведки и контрразведки.
А потом вновь возвращается в Улан-Батор. В Монголии Блюмкин фактически руководил советской миссией, во всяком случае, оказывал решающее влияние на ее деятельность. И довольно скоро вступает в конфронтацию с советскими специалистами. Беда Блюмкина была в том, что он считал себя крупным военным и политическим деятелем и поэтому жесткими методами внедрял дисциплину. Против него назревает заговор. Предвидя это, он пишет заявление... о выходе из ВКП (б). Риск колоссальный. За такие «штучки» по головке не погладят. В тот же день из Москвы приходит ответ: ОГПУ требует аннулировать заявление. Что Блюмкин тут же исполнил и, получив очередной кредит доверия, стал полноправным хозяином советской миссии. А потому позволил себе расслабиться.

Член исторической секции…
Теперь его интересуют женщины, деньги, выпивка и очередные авантюры. На банкете, который устроил ЦК МНРП по случаю нового 1927 года, Яков очень много выпил, полез обниматься с высоким монгольским начальством, признавался в любви и заставлял всех произносить тосты за Одессу-маму на разных языках. Кривлялся перед портретом тов. Ленина, установленным в центре банкетного зала, отдавал Ильичу пионерский салют. Кончилось тем, что его обильно стошнило на портрет вождя. Но и между приступами рвоты он продолжал паясничать. «Прости меня, дорогой Ильич, – говорил он, обращаясь к портрету. – Но ведь я провожу твои идеи в жизнь. Я не виноват, виновата обстановка». Монгольские руководители пребывали в шоке.
Москва закрыла глаза и на эту шалость своего любимца. Не было применено к Блюмкину санкций и когда он начал заниматься коммерцией, заводя неразборчиво связи с частными торговцами. Делал заказы на покупку в Китае всевозможных вещей, брал большие суммы в долг, не брезговал подарками.
В июле 1927 года Якову предложили выехать в Сомбейс на подавление вспыхнувшего там восстания. Он потребовал наделить его мандатом, дающим право расстреливать мятежников на месте. Монгольское правительство отказалось. Тут уж Якову пришлось возвращаться в Москву.
ОЧЕРЕДНОЕ ЗАДАНИЕ ПАРТИИ – организовать резидентуру на Ближнем Востоке. Яков решает для прикрытия создать коммерческое предприятие. Прозондировав рынок, останавливается на торговом обществе по продаже антикварных книг, закупленных в России. Руководство ОГПУ одобрило план создания резидентуры. Развернулась работа по собиранию еврейских книг и старинных манускриптов. Многие раритеты были взяты из Библиотеки имени Ленина, куда они попали в основном из расформированной библиотеки Полякова-Персица.
24 сентября 1928 года из Одессы в Турцию выехал персидский купец Якуб Султанов. А вскоре в Москву стала поступать ценная информация. Не зря в ОГПУ считали Блюмкина разведчиком, который может справиться с любой поставленной задачей. Проявил он себя и как прекрасный коммерсант. Так, на переговорах с крупными европейскими покупателями раритетов ему предложили за книги всего 800 долларов. Якуб стал поднимать цену. Когда она доросла до четырех тысяч, он объявил, что не будет продавать книги. А через несколько дней продал их без торга за восемь тысяч долларов. Сумма в то время огромная.
И ТУТ БЛЮМКИН ДОПУСКАЕТ РОКОВУЮ ОШИБКУ.
16 апреля 1929 года он встречается со своим бывшим руководителем. Беседа с Троцким продолжалась более четырех часов. Троцкий поручает Якову передать письмо в Россию и предлагает работать на оппозицию. Тщеславный авантюрист, прищурив левый лисий глаз, соглашается.
Проблемы начались еще на пароходе, который вез Блюмкина в СССР. Подвыпив, по старой привычке Яков начал болтать о своей исключительности. Говорил, будто имеет целый флот подводных лодок, развозит оружие сирийским товарищам, сам Троцкий с ним советуется и критикует политику СССР на КВЖД. Донесение о поведении Блюмкина полетело в Москву.
Тем не менее его встретили как героя. Даже Менжинский лично захотел с ним увидеться и пожать руку. Блюмкин чувствовал себя победителем. Он готовит проект по продаже сокровищ из хранилища Эрмитажа. Но дальнейшие события, к счастью, оставят проект только на бумаге.
БЛЮМКИН ВОЗОМНИЛ СЕБЯ МЕЖДУНАРОДНЫМ АВАНТЮРИСТОМ. И об этом очень часто рассказывал всем своим многочисленным знакомым. После встречи с Карлом Радеком, которому под большим секретом сообщил о беседе с Троцким, начались настоящие неприятности. Радек сразу побежал к Сталину и доложил о связях Блюмкина с Троцким. Сталин вызвал Ягоду и поручил ему установить наблюдение за Блюмкиным, чтобы узнать, кто еще состоит в оппозиции.

Террорист, убивший Мирбаха… И все это один человек – Яков Блюмкин
Ягода вызвал в свой кабинет сотрудницу Иностранного управления Лизу Горскую и предложил, отбросив всякие предрассудки, вступить в интимную связь с Яковом Блюмкиным, выведать необходимую информацию. Лиза предложение приняла – многие женщины мечтали поближе познакомиться с обаятельным брюнетом.
Яков Григорьевич почувствовал, что допустил оплошность, и попытался выкрутиться из создавшегося положения. Из двух вариантов – либо пойти на Лубянку и во всем сознаться, либо бежать – он выбирает второй. С целым чемоданом долларов, в сопровождении Горской, он едет на Казанский вокзал. К его несчастью, отправка поездов задержана на несколько часов. Очевидно, миссия Якова на грешной земле была выполнена. Блюмкин понял, что пришел конец. Он скрывался от ОГПУ целый день. И когда Горская предложила заехать к ней домой передохнуть, Блюмкин согласился. У дома Лизы их поджидала машина с чекистами. Яков презрительно посмотрел на Лизу, выругался, открыл дверь машины и скомандовал шоферу: «В ОГПУ». Он еще надеялся, что изворотливость и наглость помогут ему и на этот раз сохранить жизнь... Ах, как он ошибался!
3 ноября 1929 года дело Блюмкина было рассмотрено на судебном заседании ОГПУ. Он обвинялся по статьям 58-10 и 58-4 УК РСФСР. Приговор – расстрел.
Его отвели в подвал и поставили к стенке. Ничего лучше не придумав, он запел пролетарский гимн. Раздались выстрелы. Яков Блюмкин рухнул на каменный пол...
|
Метки: яков блюмкин |
Яков Блюмкин: портрет и рама |
Яков Блюмкин: портрет и рама
Вл. Алабай
В конце 1950-х годов мне случалось встречаться с Петром Ивановичем Чагиным, возглавлявшим в то время Комиссию по литературному наследию Переца Маркиша. Мне было тогда двадцать лет, и я, скорей всего, ничего не слышал о Якове Блюмкине – во всяком случае, в связи с Чагиным. Это уже потом, после смерти Петра Ивановича, я узнал, каково было значение этого человека в Баку в начале 1920-х, что его связывало с загадочной историей «бакинских комиссаров», узнал о его приятельских отношениях с Сергеем Есениным. Это ему, Чагину, были посвящены «Персидские мотивы», а головное стихотворение цикла открывалось вначале строчкой «Чагане ты моя, Чагане»… Есенин, как видно, любил пошутить – да и Чагин тоже. В ответ на просьбу поэта отвезти его в Персию Чагин взял машину и долгие часы, в веселейшем настроении, возил знаменитого гостя по горам и долам вокруг Баку. Вернувшись в город, сказал: «Вот мы, Сергей, и побывали в Персии!» В результате появился цикл «персидских» стихов.
Не чужим человеком Чагин был и для Блюмкина, наезжавшего в Баку – поближе к той же Персии, куда Блюмкин действительно попал по заданию московских архитекторов «мировой революции».
Нынче я горько сожалею о том, что полвека назад ничего такого не знал о Петре Ивановиче Чагине и не допытывался у него обо всех этих интереснейших вещах. Впрочем, далеко не факт, что Чагин удовлетворил бы мое любопытство и дал бы сколько-нибудь вразумительные ответы на возможные вопросы…
Первым из них был бы такой: «Что представлял собою Яков Блюмкин?»
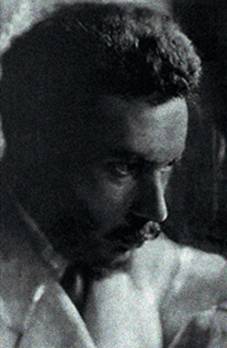
Как его только не называют! И «супертеррорист», и «ультрадиверсант», и даже «еврейский Скорцени». Он сегодня в моде – о нем пишут статьи и книжки, полные выдумок, он появился на экране в фильме, рассчитанном на простофиль и любителей «клубнички». Чем больше о нем говорят и пишут, тем более размытым становится образ этого незаурядного человека, Якова Блюмкина.
Проверенных, документальных сведений о нем сохранилось немного. Едва ли он сам умышленно искажал и путал факты своей короткой, но чрезвычайно насыщенной биографии; скорее, его «богемность» протестовала против костлявой точности документа. Как это ни поразительно, по-видимому, он видел в себе прежде всего творческую личность, поэта имажинистской школы. Надо полагать, ореол чекиста делал свое дело: немногие стихотворцы набирались смелости открыто ругать его стихи. Как бы то ни было, «Манифест имажинистов» – один из шести его вариантов – подписан, вместе с Сергеем Есениным и Анатолием Мариенгофом, также и Яковом Блюмкиным. Принимали ли его всерьез в пестрых поэтических кругах той безумной и кровавой поры? Вряд ли… Револьвер Блюмкина перевешивал прочие аргументы, а «слава» убийцы фон Мирбаха затмевала его иные – впрочем, также сомнительные – поступки. Не следует обольщаться его отвагой и находчивостью – он служил неправому делу, и никакие обстоятельства, никакие удивительные черты характера не высветляют его вины.
Блюмкин вошел в историю именно покушением на германского посла графа Вильгельма фон Мирбаха в июле 1918 года. В то время он разделял идеологию левых эсеров, унаследовавших от революционных ниспровергателей-семидесятников их патологическое влечение к террору. Роль личности в истории, по мнению левых эсеров, чрезвычайно ответственна, и физическое уничтожение ключевых политических фигур ведет к дестабилизации общества и к изменению хода исторических событий. Надо заметить, этот взгляд на вещи и этот подход немногим отличается от варварской практики сегодняшних террористических группировок… Убийство посла Мирбаха играло особую роль: драматическая гибель высокопоставленного дипломата призвана была сорвать выполнение условий Брестского мира между Россией и Германией – позорного и неприемлемого, с точки зрения эсеров.
Выбор пал на начальника охраны эсеровского ЦК – находчивого и решительного Блюмкина, к тому же прекрасно подготовленного физически. Задача была не из легких: немцы подозревали об опасности, и посольство тщательно охранялось. Главному исполнителю ассистировал достаточно случайный человек – фотограф ЧК эсер Николай Андреев. Воспользовавшись фальшивыми документами, террористы проникли в здание посольства и добились встречи с послом. Сам ход теракта многократно описан – и всякий раз по-новому. Согласно одной версии, стрелял и метал бомбу Блюмкин, согласно второй – Блюмкин стрелял и промахнулся, а взрывал Андреев. Готовясь к теракту, Блюмкин написал своего рода предсмертную записку, озаглавленную им «Письмо к товарищу»:
Черносотенцы-антисемиты с начала войны обвиняют евреев в германофильстве, и сейчас возлагают на евреев ответственность за большевистскую политику и за сепаратный мир с немцами. Поэтому протест еврея против предательства России и союзников большевиками в Брест-Литовске представляет особое значение. Я, как еврей, как социалист, беру на себя совершение акта, являющегося этим протестом.
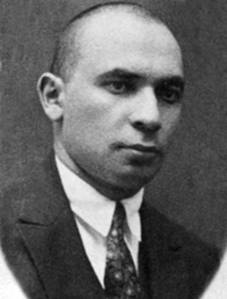
Я. Блюмкин.
Нет никаких оснований подвергать сомнению искренность этого обращения.
Современные исследователи склонны осмеивать Блюмкина и, по мере сил, дегероизировать его: он и трус, и болтун, и фигляр, и немецкая пуля, когда он уходил после теракта, угодила ему в задницу; такое ранение, по всей видимости, должно развеселить читающую публику и выставить террориста в смешном свете. В действительности же Блюмкин был отменным стрелком и вряд ли промахнулся бы, стреляя в посла с трех метров, а ранен он был в ногу, что не помешало ему перемахнуть через высокую ограду посольства и скрыться от преследования вместе с Андреевым. Якову Блюмкину, ушедшему после покушения в подполье и бежавшему на Украину, в то время было двадцать лет отроду.
Впрочем, и здесь имеются разночтения. По одним данным, Блюмкин родился в 1900 году в Одессе, на Молдаванке, по другим – в местечке Сосница, близ Чернигова, в 1898 году. Первая версия представляется более достоверной: известно, что Яков Блюмкин начал свое традиционное еврейское обучение в одесском хедере, а расстрелян был большевиками в 1929 году, не дожив трех месяцев до своего тридцатилетия.
Так или иначе, он появился на свет в многодетной семье, и его отец, нищий еврей Герш Блюмкин, умер вскоре после рождения Симхи-Янкеля. Семья осталась без средств к существованию и нищенствовала. Малолетний Янкель подрабатывал где и как придется: в трамвайном депо, учеником электрика, разнорабочим в театре, на консервной фабрике. Знание идиша, русского и иврита помогало ему выжить в одесской многонациональной круговерти. Он писал стихи по-русски и публиковал их в газетах «Одесский листок» и «Гудок», в журнале «Колосья». Одесса насквозь была пропитана антимонархическими, революционными настроениями, и Яков Блюмкин сблизился с радикально настроенными эсерами. Впрочем, это не препятствовало его национальным устремлениям – он участвовал в рейдах отрядов еврейской самообороны, к руководству которыми непосредственное отношение имел знаменитый налетчик Мишка Япончик, увековеченный Исааком Бабелем в «Одесских рассказах» под именем Беня Крик.
1917–1918 годы в Одессе были настоящим хаосом. Февральская революция и последующий захват власти большевиками породили опасные смерчи на юге России: пестрые власти сменяли друг друга на местах, ситуацию контролировали, как сейчас бы выразились, «полевые командиры»: красные и белые, анархисты, атаманы и просто бандиты. Боевые соединения действовали под разными флагами и под разными лозунгами.
Революционные карьеры делаются быстро. «Революция избирает себе молодых любовников», – эта крылатая фраза Льва Троцкого в полной мере относится к Блюмкину. Весной 1918 года Яков Блюмкин уже назначен на должность начальника штаба Третьей Украинской советской «одесской» армии, насчитывавшей от силы четыре тысячи штыков. Эта «армия» должна была противостоять наступающим румынским и австро-венгерским войскам – и была смята. Остатки армии были перегруппированы, поддержаны пополнением и отправлены в район Донбасса. В новом формировании восемнадцатилетний Блюмкин получает должность комиссара Военного совета армии.
В конце апреля – за два месяца до покушения на Мирбаха – Блюмкин появляется в Москве и занимает ответственные посты в партии левых эсеров. План покушения принадлежал лично Блюмкину, он докладывал его лидеру партии Марии Спиридоновой за сорок восемь часов до теракта и был принят к исполнению. Оперативная подготовка заняла в конечном счете двадцать четыре часа. Такой прыти позавидовали бы, пожалуй, и сегодняшние «борцы за всемирную справедливость».
После совершения теракта и бегства из посольства раненый Блюмкин укрывается в отряде Дмитрия Попова – левого эсера, командовавшего отрядом особого назначения ЧК. Затем события набирают скорость и сменяют друг друга, рассыпаясь и складываясь в новые комбинации, подобно цветным стеклышкам в калейдоскопе. Эсеровские боевики арестовывают Дзержинского, явившегося арестовать террористов Блюмкина и Андреева. Вместе с Дзержинским схвачен чекист Лацис и большевистский председатель Моссовета Смидович. Эсеры захватывают Центральный телеграф и рассылают депеши, дезавуирующие указания Ленина как «вредные» и противоречащие приказам «правящей в настоящее время партии левых социал-революционеров». На рассвете 7 июля большевики переходят в атаку и начинают обстреливать из артиллерийских орудий особняк, в котором разместился штаб Попова и руководители партии левых эсеров. К тому времени раненый Блюмкин уже переправлен в больницу и к нему приставлена большевистская охрана, которая должна арестовать его и доставить на Лубянку, как только он сможет подняться с койки. Блюмкин мастерски обманывает бдительность охранников, совершает побег из палаты и исчезает, «ложится на дно». Путь его лежит на Украину, где он планирует теракт против гетмана Скоропадского, сорвавшийся из-за неисправности взрывных устройств. Тем временем «мятеж» левых эсеров утоплен в крови большевиками, одним махом избавившимися и от конкурентов во власти. Триста эсеров убито, шестьсот – включая состав ЦК – арестовано. Дмитрий Попов спасся бегством, пробился к вольнолюбивому Нестору Махно и возглавил один из его боевых отрядов.
Ленин, кажется, остался доволен всем случившимся. После разгрома эсеров его власть укрепилась, убийц графа Мирбаха он приказал «искать, очень тщательно искать, но не найти». Вполне прагматичный Ульянов, по-видимому, не желал лишиться такого ценного человека, как Блюмкин. И «крыша» была предоставлена ему ведомством Дзержинского, счастливо спасшегося из эсеровского плена. Исходя из этого можно предположить, что украинская эпопея Блюмкина насквозь просвечивалась фонарями ЧК.
Но и уцелевшие киевские левые эсеры были, как говорится, начеку: они заподозрили своего молодого однопартийца в измене и дважды организовывали покушение на его жизнь. Из первой переделки Блюмкин вышел без царапины: почуяв неладное, он бросился бежать, и восемь пуль, выпущенные ему вслед, прошли мимо. Спустя неделю он снова подвергся нападению: двое боевиков стреляли в него, когда он сидел за столиком кафе на Крещатике. В тяжелом состоянии он был доставлен в больницу, но и там невозможно было укрыться от партийного приговора: в окно палаты бросили бомбу, которая, однако, не причинила больным серьезного ущерба. Справедливо опасаясь за свою жизнь, Блюмкин исчез из больницы и вновь скрылся в глубоком подполье.
Время между уходом на нелегальное положение и возвращением в Москву в марте 1920 года Блюмкин не тратил даром. Оставаясь приверженцем индивидуального террора, он разрабатывал планы покушений на адмирала Колчака, а потом и на Деникина, – впрочем, оба они остались неосуществленными: по каким-то таинственным причинам Москва не дала окончательное «добро» на эти теракты.
Колеся по Украине, Блюмкин приобретает известность как организатор партизанских отрядов в белогвардейском тылу. В конце 1919-го, за полгода до своего двадцатилетия, он командует бригадой 27-й дивизии на Южном фронте, затем получает назначение на должность начальника штаба этой бригады.
Наконец боевая подготовка перспективного молодого человека закончена, его оперативные возможности проверены и получили высокую оценку. Блюмкин отозван в Москву и зачислен слушателем восточного отделения Академии Генерального штаба. Это означало для него переход на игровое поле внешней или, как тогда говорили, закордонной разведки, руководимой давним одесским знакомцем Якова, сыном сапожника с Молдаванки Меиром Трилиссером. Активная полевая разведка – как раз то занятие, которое как нельзя лучше подходило беспокойному, склонному к опасным авантюрам Якову Блюмкину. Помимо изучения военных и политических дисциплин, слушатели отделения Востока зубрили иностранные языки. Способный к языкам Блюмкин успешно осваивает фарси, штудирует китайский, а также без понуканий совершенствуется в немецком, открытом ему благодаря родному идишу. Загадочный Восток влечет отныне прошедшего огни и воды Якова Блюмкина, жаждущего новых приключений и успехов.
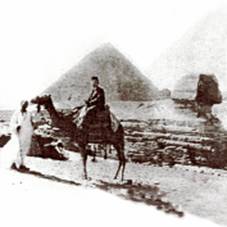
Я. Блюмкин на фоне пирамид.
Египет, 1929 год.
Живя в столице и не испытывая недостатка в деньгах, Блюмкин укрепляет связи с молодыми поэтами. Приятельские отношения с Маяковским, Есениным, Шершеневичем вряд ли носили оперативный характер, связанный с ведомством на Лубянке: Блюмкину, несомненно, импонировало знакомство с литературными знаменитостями, которым к тому же он мог оказывать своего рода покровительство – выдирать из лап ЧК, охотившейся за буйными и неуправляемыми вольнодумцами.
Летом 1920 года Блюмкин исчезает из Академии на четыре месяца. За это время он совершает невозможное: устраивает переворот в самопровозглашенной «Гилянской советской республике» на севере Ирана, свергает ее лидера Кучук-хана и приводит к власти безоговорочно послушного большевикам Эхсануллу. В военных структурах «нового государственного образования» Блюмкин занимает должность комиссара Гилянской Красной армии и ведет кровопролитные бои с войсками шаха Ирана, не без оснований видевшего в гилянской интриге направляющую руку Москвы. А Блюмкин, на практике закрепивший знание персидского языка, вступает в только что образованную с его помощью иранскую компартию и делегируется Ираном на Первый съезд угнетенных народов Востока в Баку.
Выполнив все свои задачи, в ореоле славы, Блюмкин возвращается в Москву и мирно продолжает обучение в Академии Генштаба. Именно к этому периоду относятся его первые серьезные контакты с Троцким, обратившим пристальное внимание на одаренного молодого человека. Спустя десятилетие преданность авантюрным революционным идеям Троцкого приведет Блюмкина к расстрельной стенке.
Между тем секретные приказы из Центра то и дело срывают Блюмкина с учебы, забрасывают в близкие и далекие края – туда, где не утихают бои и продолжается кровопролитие. То он в Крыму чинит расправу над остатками разбитой армии Врангеля, а заодно и форсировавшими Сиваш махновцами, то в должности комбрига подавляет восстание крестьян в Нижнем Поволжье, а потом появляется на Тамбовщине, преследуя отряды атамана Антонова. Осенью 1921 года комбриг-61 Яков Блюмкин вступает в боестолкновения с войсками барона Унгерна.
Окончив Академию и овладев, помимо прочих, основами турецкого, арабского и монгольского языков, Блюмкин занимает официальный пост личного секретаря Троцкого. Террор, война, разведка – а теперь и политика в чистом виде.
Впрочем, Блюмкин умел совмещать самые разнообразные занятия: разведка осталась, а краткосрочные поездки в Китай и на Памир, в Тибет и Монголию, на Цейлон и в Афганистан Яков чередовал с сочинением стихов и веселыми пирушками с приятелями-литераторами по возвращении в Москву. Он охотно читал свои стихи на публике, в литературных кафе. Его имя мелькало среди имен других стихотворцев. И между прочим, сомнительная слава графомана за ним не утвердилась. Кому-то даже пришло в голову приписать ему предсмертные стихи Есенина «До свиданья, друг мой, до свиданья, милый мой, ты у меня в груди…»
Могу засвидетельствовать, что передвижение по горным азиатским тропам, пешком и верхом, далеко не развлекательная прогулка. Гибель ждет там неопытного путника на каждом шагу – в пропасти, в ледяной расщелине, в бешеной темной реке, волочащей по дну пушечные ядра камней. Блюмкин, отдалившись от опального Троцкого, с головой ушел в разведывательную работу и раскинул сеть нелегалов по всему Востоку – от Турции до Китая. Особый интерес представляла для Иностранного отдела ОГПУ, по-прежнему руководимого Меиром Трилиссером, британская Индия. Блюмкин планировал создать мощную резидентуру в Бомбее, куда следовало забросить агентов через подмандатную Палестину: в борьбе с англичанами стоило использовать просоветски настроенных палестинских евреев, а не склонных к сотрудничеству с Лондоном арабов. Но первостепенным делом – делом сердца – неугомонный Блюмкин считал для себя поиски Шамбалы с ее бездонным запасом научных знаний, которые он намеревался использовать во благо «мировой революции». Впрочем, быть может, его увлекал не столько размытый научный результат, сколько захватывающий поиск.
Шамбалу искали многие: и большевики, и нацисты, и англичане с китайцами; никто как будто не нашел. В Москве заинтересовались Шамбалой в начале 1920-х годов, задача «найти и доложить» была возложена на руководителя спецотдела ЧК Глеба Бокия, разработчиком «теории Шамбалы» выступал парапсихолог Александр Барченко, исполнителем был назначен Блюмкин. ЧК, как это ни странно, была далеко не чужда мистическим веяниям: к «шамбалинскому» проекту был причастен и Дзержинский, и Трилиссер, и нарком Чичерин. Ведомственная склока, однако, спутала карты, и подготовленная уже экспедиция на Тибет была отменена. Это вовсе не означало, что Блюмкин отказался от своей мечты найти Шамбалу. Играя роль то дервиша-исмаилита, то бродячего ламы он, отправившись в путь с Памира, присоединился к экспедиции художника Николая Рериха, также искавшего подходы к Шамбале. Рерих отзывался о Блюмкине весьма уважительно, он так его и называл – «молодой лама». Приведу отрывок из романа Давида Маркиша «Стать Лютовым», написанного на документальной основе, – о заключительном этапе этой экспедиции:

Фрагмент картины Н. Рериха «Весть Шамбалы», на которой изображен «лама» Блюмкин*.
Переход затянулся, на ночлег встали в совершенной тьме. Ветер налетал порывами, как из мехов, и нес с собою ленты сухих острых снежинок. Выбрав среди скал местечко потише, люди уложили своих животных и легли сами, поджав колени к подбородкам.
– Пришли, – сказал проводник Дордже и сдвинул шапку с бровей на затылок. – Отсюда начинается спуск на Шамбалу. – И указал рукой.
Рерих и Молодой лама долго, молча глядели в провал, указанный им проводником. В темноте невозможно было определить глубину пропасти, открывавшейся за перевалом. Дно пропасти, по словам Дордже, заросло горным лесом, там текла река, повторяя изгибы широкой долины.
– Огоньки, как будто, мигают... – глухо сказал Рерих. – А?
Блюмкин промолчал, и Рерих обернулся за подтверждением к Дордже. Но проводник исчез <...>
– Подождем до утра, – сказал Блюмкин и бережно погладил Рериха по плечу. – Ничего не поделаешь...
Утром обнаружилось, что проводник исчез и из лагеря. Никто не видел, как он уходил и куда. Не досчитались и одной лошади. Узнав о происшествии, Рерих стал угрюм.
– Я вам говорил, – зло сказал Блюмкин, – этот подлец работает на англичан.
– Будем спускаться, – решил Рерих. – Мы у цели, никакие англичане, будь они прокляты, нам не помешают.
Долина была пуста и красива. Крепкие деревья леса окаймляли реку, на галечные берега которой, казалось, нога человека не ступала со дня сотворения мира. Пересвистывались красные сурки, столбиками стоя у своих нор и без боязни глядя на караван. Зайцы, рассекая высокую траву, передвигались короткими перебежками. Горный покой, величественный и строгий, словно запечатывал долину, отсекая ее от населенного мира. Трудно было бы сыскать на свете лучшее место для Шамбалы со всеми ее мудрыми тайнами. Но не было здесь Шамбалы.
Блюмкин жадно поглядывал по сторонам, как будто с последней надеждой ждал появления из леса припозднившегося шамбалийца, и кусал губы.
– Не знаю, как вам, – сказал Рерих ровным стеклянным голосом, – а мне здесь нравится. Пейзаж фантастический: фиолетовое небо лежит на ледяных опорах вершин, над рыжим потоком, вырывающимся из каменных райских врат... Я остаюсь тут рисовать.
Блюмкин вздохнул, спешился и, усевшись по-турецки, отвернулся от людей.
Следует добавить, что в ходе путешествия Блюмкин самым тщательным образом собирал разведданные об английских военных гарнизонах, о состоянии дорог, о расположении мостов. Британцы, надо полагать, знали о «молодом ламе» немало интересного, да и вся экспедиция Рериха сильно их раздражала, и они, как могли, ставили палки в колеса. Блюмкин же пользовался караваном художника как «крышей»; он то пропадал куда-то на день-другой, то вдруг возникал совершенно неожиданно на каком-нибудь снежном перевале и вновь присоединялся к Рериху и его спутникам. На одном из участков пути его арестовали и посадили под замок в местной каталажке. Офицер английской разведки ждал конвоя, чтобы сопроводить пленника «куда следует». Но удача и тут сопутствовала Блюмкину: он благополучно бежал из тюрьмы, прихватив с собою секретные английские документы и, на всякий случай, комплект солдатского обмундирования. Эта «военная хитрость» пригодилась ему немедленно: спасаясь от погони, он смешался с преследовавшими его британскими солдатами – и был таков.
Всё имеет свой конец – и удача тоже. Удача отвернулась от Якова Блюмкина на взлете его успеха, в Константинополе, в 1929 году. Этому предшествовала «служебная командировка» в Палестину от ведомства Меира Трилиссера.
Можно сказать, что Палестина не была для Якова Блюмкина – с его еврейской внешностью и знанием иврита – чужим местом. Он и раньше, до 1929-го, бывал здесь: под личиной владельца прачечной Гурфинкеля приглядывался в Яффе к англичанам, евреям и арабам. Теперь, «забрасывая разведсеть» в направлении Бомбея, он прибыл в Иерусалим в роли персидского купца Султанова – торговца уникальными древнееврейскими книгами. Книги эти, представлявшие значительную ценность, были изъяты по распоряжению наркома Луначарского из библиотечных хранилищ; часть из них относилась к конфискованному властями собранию священных книг Любавичского Ребе Шнеерсона. Редчайшие книги не предназначались к продаже – они должны были доказать основательность и серьезность коммерческих возможностей купца Султанова.
В Иерусалим Блюмкин приехал из Константинополя, где руководил нелегальной резидентурой. Он привез с собою в Палестину четверку обученных московских агентов, и есть основания предполагать, что еще одного или нескольких ему удалось завербовать на месте из числа лево настроенных палестинских евреев. Агентурная сеть быстро пустила корни, Яков предпринял несколько поездок в Европу для установления связей с коммерческими партнерами и укрепления своего положения в мире торговцев еврейским книжным антиквариатом. Трилиссер был доволен действиями своего ближневосточного резидента.

Е. Зарубина (в девичестве Розенцвейг).
Поездка Блюмкина в Москву для отчета и консультаций являлась, по существу, рутинным действием. Путь домой лежал через Турцию. Там, в Константинополе, состоялась встреча – вероятно, вполне случайная – с сыном Троцкого Седовым, а затем и с самим Львом Давидовичем. Несомненно, Яков мог уклониться от этих контактов – но не сделал этого. Троцкий (быть может, Седов) попросил передать московским родственникам книгу, и Блюмкин согласился выполнить поручение. Нет доказательств, что между строк книги было размещено написанное симпатическими чернилами послание Троцкого к своим приверженцам в Москве – хотя эта «шпионская» версия охотно муссируется исследователями.
По прибытии в Москву в конце 1929 года Блюмкин, из романтических соображений, встретился с сотрудницей Иностранного отдела ЧК Лизой Розенцвейг. С этой молодой красавицей, с которой он делил постель, Яков поделился и своими сомнениями: передавать ли посылку Троцкого адресату или воздержаться от рискованного поступка. Вот уж, действительно, ночная кукушка дневную перекукует!.. Узнав о константинопольской встрече Блюмкина, Лиза немедленно донесла о ней своему чекистскому руководству.
«Всё время меня не покидала мысль о том, – доносила красотка Лиза, – что, собственно говоря, раньше всех обо всем должен узнать т. Трилиссер, что я, его сотрудница, обязана ему рассказать…»
Узнал, со слов самого Якова, о встрече с Троцким и о посылке и бывший преданный троцкист Карл Радек. Реакция его на эту новость была панической: Радек посоветовал Блюмкину немедленно идти в канцелярию Сталина, каяться и вымаливать прощение. Взвесив все «за» и «против», Блюмкин решил в очередной раз «лечь на дно»: бежать в Азию и укрыться там в одном из горных буддийских монастырей. По дороге на Казанский вокзал Яков, в сопровождении неотвязной Лизы, решил заглянуть к художнику Фальку, того не оказалось дома. Поехали на Казанский, там выяснилось, что поезд на Восток будет через несколько часов. Пришлось ждать. На вокзале, по наводке Лизы Розенцвейг, Блюмкин и был взят чекистами. Его судьба была решена на самом верху: за контакт с Троцким он был расстрелян 12 декабря 1929 года.
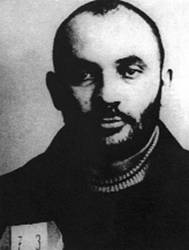
Я. Блюмкин в тюремной камере на Лубянке.
Судьба красавицы Лизы Розенцвейг сложилась благополучно: первым браком она вышла замуж за резидента советской разведки в Англии Горского, вторым – за резидента той же организации в США Зарубина. Под именем Елизаветы Зарубиной она и осталась в истории разведки как секретный агент, имевший непосредственное отношение к раскрытию американского ядерного проекта «Манхэттен».
А Меир Трилиссер, Глеб Бокий и Александр Барченко были расстреляны в 1937 году.https://lechaim.ru/ARHIV/166/alabay.htm
ЛЕХАИМ - ежемесячный литературно-публицистический журнал и издательство.
|
Метки: яков блюмкин |
Яков Блюмкин ШАМБАЛА |
история / эзотерика / приключения / здоровье

Яков Блюмкин ШАМБАЛА
Оценить статью
Имя Якова Блюмкина прежде всего ассоциируется с убийством немецкого посла Мирбаха в июле 1918 года. Однако это только один, пусть и яркий, эпизод его незаурядной жизни. И наиболее загадочной ее страницей, несомненно, является экспедиция, организованная Блюмкиным для поисков легендарной и загадочной страны Шамбала.

Яков Блюмкин
ДВУЛИКИЙ ЯША
Хотя до нас дошло несколько фотографий Якова Блюмкина, человек, изображенный на них, столь разнолик, что утверждать, будто это одно и то же лицо, довольно трудно. Разнятся в своих описаниях его внешности и современники. И ладно цвет волос – в конце концов перекраситься никогда трудно не было, – но и в описании роста, лица, фигуры современники расходятся.
Так, поэтесса Ирина Одоевцева вспоминала о «мордатом и низкорослом» чекисте, с которым познакомилась у Мариенгофа. А в прошлом троцкист и один из преподавателей Академии генерального штаба Виктор Серж говорил о «тонком и аскетичном профиле Блюмкина, напоминавшем лицо древнееврейского воина».
Надежда Мандельштам описывала «низкорослого, но ладно скроенного чекиста». А Лиля Брик, некоторое время дружившая с единственной официальной женой Блюмкина, Татьяной Файнерман, вспоминала «довольно высокого и рано оплывшего юношу».

ТАЛАНТЛИВЫЙ ПОДЛЕЦ
Симха-Янкель Блюмкин родился в марте 1898 года в Одессе, по другим данным, – в местечке Сосница Черниговской губернии. Он был пятым ребенком Герши Блюмкина, служившего приказчиком в небольшом магазине на Молдаванке.
Когда Яше было шесть, отец умер, и мать, без того с трудом сводившая концы с концами, отдала его в Первую одесскую Талмудтору, где преподавали не только Библию, иврит, русский язык, но и гимнастику. Уже в 20-е годы на спор с одним из своих знакомых Блюмкин сделал три сальто подряд. На вопрос же о том, зачем ему это надо, ответил, что гибкое и натренированное тело способствует изворотливости ума. Так это или не так, каждый решает самостоятельно, но то, что сам он отличался умом изощренным, несомненно.
Так, уже после начала Первой мировой войны, подрабатывая в конторе некоего Пермена, он наладил подделку документов, необходимых для освобождения от призыва. Когда это выплыло наружу, Яша заявил, что делал это по приказу хозяина. Оклеветанный Пермен подал в суд, но тот, к удивлению многих, Блюмкина оправдал. Оказалось, что, узнав о неподкупности судьи, Яков послал ему какое-то подношение с вложенной в него визиткой своего начальника. Возмущенный столь откровенной взяткой судья и вынес оправдательное решение.
Когда об этом стало известно Пермену, он возмутился, но потом дал Блюмкину характеристику, которой тот гордился: «Подлец, несомненный подлец, но талантливый».

«ЧИСТЫЕ РУКИ РЕВОЛЮЦИИ»
Фразе Дзержинского о «холодной голове, горячем сердце и чистых руках» чекист Блюмкин предпочитал ленинский лозунг «грабь награбленное».
В феврале 1917 года он вступил в партию эсеров, в которой уже состояли его брат Лев и сестра Роза. В январе 1918 он принял участие в установлении Советской власти в Одессе, а в апреле того же года стал уже начальником штаба 3-й украинской армии. При этом деловые качества молодого человека вызвали такое доверие командования, что именно ему, неофиту от революции, поручили изъятие золота из отделения государственного банка в Киеве.
С поручением Яков Григорьевич справился, экспроприировал 4 миллиона золотых рублей, но в штаб армии передал на полмиллиона меньше. Когда же от него потребовали отчет о пропавшем золоте, никому не сказавшись, бежал в Москву, где руководство партии эсеров рекомендовало его для работы в ЧК. Трудно сказать, какие именно качества Блюмкина расположили к нему Феликса Дзержинского, но вплоть до своей смерти в 1926 году он помогал ему выпутываться из самых, казалось, безвыходных ситуаций. Чего стоит то же убийство Мирбаха?
Немецкого посла к убийству приговорил ЦК левых эсеров. Они рассчитывали, что после этой акции Германия разорвет Брестский мир, начнет военные действия с Россией, а возмущенные этим немецкие народные массы свергнут кайзера, и рабоче-крестьянская революция постепенно охватит всю Европу. Блюмкин сам вызвался привести приговор в исполнение. С помощью заместителя Дзержинского, члена партии левых эсеров Вячеслава Александрова, он выправил мандат для посещения посольства и 6 июля 1918 года метнул в Мирбаха бомбу.
Казалось, карающий меч революции должен неминуемо настичь предателя. Но меньше чем через год, который Блюмкин провел на Украине, 16 мая 1919 года он был амнистирован. И инициатором этой амнистии выступил… Дзержинский.

9 ЖИЗНЕЙ БЕДНОГО ЕВРЕЯ
Покровительство Дзержинского не осталось незамеченным руководством партии левых эсеров. С одной стороны, они пытались таким образом разорвать и без того шаткий Брестский мир. С другой – Блюмкин отсиживался в Киеве, а эсеры стали первыми жертвами террора, развязанного большевиками. Естественно, у тех из них, кто еще оставался на свободе, появились сомнения: не был ли Блюмкин, больше других выступавший за убийство Мирбаха, провокатором, подыгравшим ЧК? На Якова объявили охоту.
Разыскав его в Киеве, эсеровские боевики пригласили Блюмкина за город якобы для того, чтобы обсудить линию поведения в новых условиях. Там в него выпустили восемь пуль, но Блюмкину удалось скрыться.
Через несколько месяцев изменившего внешность Блюмкина два боевика обнаружили сидящим в кафе на Крещатике. Расстреляли оба револьвера. Истекая кровью, Яша упал, но… остался жив.
Разочарованные эсеры отыскали его и в больнице. Не доверяя больше стрелковому оружию, они бросили в окно палаты, где Блюмкин лежал после операции, бомбу, но за считанные секунды до взрыва тому удалось выпрыгнуть в окно и… остаться живым.
Через несколько лет, находясь с друзьями в «Кафе поэтов», Блюмкин заявил, что всего на него было совершено восемь покушений. Выдержав театральную паузу, он добавил: «И не убьют! У каждого еврея девять жизней, и пока я все их до конца не проживу, умирать не собираюсь!»

Блюмкин был знаком со многими известными литераторами молодой советской республики. Среди них Владимир Маяковский
«ДОРОГОЙ ТОВАРИЩ БЛЮМОЧКА»
Неизвестно, откуда Блюмкин взял, что у еврея должно быть девять жизней, но жить он любил с размахом. Его квартира в Денежном переулке (в одном доме с Луначарским, напротив того самого посольства, где был убит Мирбах) напоминала склад антиквариата и разного рода раритетов. Картины передвижников, изделия Фаберже, редкие книги, мебель… При этом для каждой вещи он находил (выдумывал?) свою историю. Так после командировки в Монголию, куда он был послан для организации местной контрразведки, но откуда Берзиным был отозван, у него появилось старинное кресло, которое якобы принадлежало монгольским ханам.
После поездки на Ближний Восток, где Блюмкин (по легенде, торговец книгами) занимался созданием первой советской резидентуры, в его библиотеке появились древние еврейские манускрипты. Злые языки утверждали, что до того эти книги находились в хранилище Ленинской библиотеки и были изъяты оттуда, чтобы «легенда» выглядела правдоподобно.
Но наибольшее удовольствие Блюмкин получал от общения. Убийство немецкого посла вовсе не сделало его изгоем, а наоборот, придало облику обычного прохиндея ореол романтизма. А женитьба на довольно бойкой дочери известного толстоведа Тенеромо – Татьяне Файнерман – ввела в круг революционной богемы. Среди знакомых Блюмкина в двадцатые годы были Гумилев, Шершеневич, Мандельштам, Маяковский… Последний одну из книг надписал: «Дорогому товарищу Блюмочке от Вл. Маяковского». Даже Горький однажды изъявил желание с Блюмкиным познакомиться. Есенину Блюмкин как-то заявил: «Мы с тобою оба террористы. Только ты от литературы, а я от революции». Валентин Катаев в повести «Уже написан Вертер» вывел его в образе Наума Бесстрашного. Впрочем, среди поэтов первых советских лет труднее назвать того, кто не посвящал Блюмкину своих стихов. Тот и сам себя считал неплохим литератором.

БОЛТУН И РЕВОЛЮЦИОНЕР
Хотя мы и привыкли к образу революционера как пламенного трибуна, одухотворенного идеей, таковых среди них было не так уж много. Блюмкин же, без сомнения, был человеком вербальным. И его рассказы, в которых реальные события переплетались с фантазией, давали окружающим ощущение сопричастности великому делу больше, нежели даже свое собственное участие в революции.
Однако чрезмерная болтливость популярного чекиста представляла и несомненную опасность. Основательница Детского музыкального театра Наталья Ильинична Сац до конца своих дней была уверена, что в смерти ее сестры Нины повинен именно Блюмкин. Девушка, писавшая восторженные стихи, без ума влюбилась в него. Когда же тот ее бросил, последовала за ним в Крым и была обнаружена убитой на пляже. Сац считала, что Блюмкин в период близости с ее сестрой наговорил лишнего и, испугавшись последствий, расправился со свидетелем.

ШАМБАЛА
Однако при всех своих недостатках Блюмкин до поры и времени молодым советским спецслужбам был нужен. Его авантюризм и, главное, бесшабашность были теми качествами, которые помогали добиваться успеха в, казалось совершенно безвыходных ситуациях. Чего, например, стоит одна персидская авантюра…
В июне 1920 года его в качестве всего лишь наблюдателя отправляют в Иран. Но собирать информацию и писать ежедневные донесения в Москву показалось Блюмкину скучным, и он, блефуя и выдавая себя за ближайшего соратника Троцкого и Дзержинского, всего за четыре месяца (!) устроил государственный переворот, привел к власти Эхсанулл-хана, создал коммунистическую партию и, посчитав, что с поручением справился, вернулся в Москву. За эту операцию Блюмкин был награжден орденом Красного Знамени и зачислен в Академию Генерального штаба РККА.
Но вершиной его деятельности, несомненно, стала экспедиция для поисков легендарной страны Шамбалы.
Замечено, что в периоды социальных катаклизмов вера в мистику возрастает. Так было и во времена Великой Французской революции, до и после 1917 года в России, в фашистской Германии, да и наше время тому подтверждение.
Согласно преданию, Шамбала уцелела во времена Всемирного потопа, и населяющие ее монахи до наших дней сохранили «тайны бессмертия и управления временем и пространством». Естественно, что обуреваемые идеей перманентной революции большевики не могли не заинтересоваться поисками этой загадочной страны.
Разработка операции была поручена начальнику спецотдела ВЧК Глебу Бокию и руководителю научной лаборатории того же отдела Евгению Гопиусу. В своем докладе в ЦК партии Бокий особо отмечал, что знакомство с тайнами Шамбалы поможет с большей эффективностью вести пропагандистскую работу среди трудового народа.
Надо признать, что Дзержинский к идее поиска отнесся скептически. Несмотря на весь свой революционный романтизм, он был человеком реальным и не принимал не то что Шамбалу, а и саму идею Всемирного потопа. Только аргумент, что, организовав экспедицию в Гималаи, можно разведать пути дальнейшего расширения революции, смог убедить Дзержинского в ее необходимости.
Колоссальные для того времени деньги – 100 тысяч золотых рублей, или 600 тысяч долларов, – нашли без труда, а вот исполнителя подыскивали долго. По одним данным, о Блюмкине вспомнил Дзержинский, по другим – Яша вызвался сам, умудрившись при этом перессорить Бокия и Ягоду.
Блюмкин уже имел опыт командировок на Восток, к тому же слыл полиглотом. Как вспоминали современники, Яшка знал два десятка языков, половина из которых была тюркскими. 17 сентября 1925 года он под видом монгольского ламы прибыл в столицу княжества Ладакх – Леху. Там уже находился знакомый Бокия, художник Николай Рерих, на помощь которого рассчитывали в Москве.
Какие-либо документы, а, главное, отчет Блюмкина об экспедиции, если сохранились, то до сих пор засекречены. Однако существует целый ряд косвенных свидетельств, что экспедиция прошла успешно. И в первую очередь, это свидетельство симпатизировавшего Советам Рериха. Так, например, в своей книге «Алтай — Гималаи» художник довольно подробно описывает свою встречу с «монгольским ламой», в котором лишь со временем распознал эмиссара Москвы.
Лама показал себя не только хорошим и умным собеседником, знакомым с московскими друзьями Николая Константиновича, но и довольно опытным путешественником, что для экспедиции Рериха оказалось особенно ценно. Он провел инженерные исследования местности, уточнил протяженность отдельных участков пути, записал характеристики мостов и бродов через горные реки… Но и записки Рериха заканчиваются на дне начала восхождения к монастырям.
О том, что советская экспедиция оказалась результативной, говорит то, что именно после нее немецкие нацисты, объединенные в мистическое общество «Аненербе», сами занялись поисками мистической Шамбалы. И даже в апреле 1945-го, когда дни гитлеровской Германии были сочтены, Гимлер и Геббельс советовали уже помышлявшему о самоубийстве Гитлеру покончить с собой не в Берлине, а при помощи подстроенной над Балтийским морем авиакатастрофы. Таким образом, считали они, сможет сохраниться легенда о великом фюрере, которая затем поможет ему вернуться из Шамбалы и восстановить нацистский порядок на Земле. А после взятия рейхсканцелярии на ее развалинах обнаружили тела тибетских монахов, переодетых в форму СС.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ…
Как бы то ни было, но с Тибета Блюмкин вернулся другим человеком. До того не признававший никаких сомнений, он начинает хандрить, а в разговорах с друзьями и коллегами выказывает скепсис в правильности сталинского пути. А после того как знакомые с секретной экспедицией люди стали исчезать, начинает распродавать столь ценившиеся им антикварные вещи.
Оказавшись в 1929 году в Константинополе, Блюмкин встречается с высланным из СССР Троцким и сомневается, стоит ли ему возвращаться в Москву. Существует предположение, что и о результатах советской экспедиции в Гималаи гитлеровцам стало известно из окружения Троцкого, который, в свою очередь, узнал о них от Блюмкина.
О том, что Блюмкин уже не походил на того дерзкого и изворотливого чекиста, каким был ранее, говорит и совершенная им по возвращении ошибка. Выполняя поручение Троцкого встретиться с его сторонниками в Москве, он рассказывает об этом Радеку, который сообщает об этом в ЦК и Ягоде. Предположить дальнейшее нетрудно.
Ягода подослал к Блюмкину одну из своих лучших агентесс, когда же и она подтвердила, что тот собирается эмигрировать, Якова арестовали и отдали под суд коллегии ОГПУ. При аресте у него обнаружили чемодан, доверху наполненный американскими долларами.
Суд над Яков Блюмкиным впервые в СССР осуществляла так называемая «тройка», в состав которой входили нарком внутренних дел Ягода, его заместитель Менжинский и непосредственный начальник Блюмкина Трилиссер. Последние два выступали за сохранение Якову жизни, но его приговорили к расстрелу. 3 октября 1929 года приговор был приведен в исполнение.
По одним данным, Блюмкин перед расстрелом пропел Интернационал, по другим – прокричал «Да здравствует…». Правда, кто именно должен «здравствовать», палачи расслышать не смогли.
P.S.
Ни один из фактов жизни Якова Блюмкина (исключение – убийство Мирбаха) твердого подтверждения не имеет. Уже упоминалось, что местом его рождения называется то Черниговская губерния, то Одесса. Разнится год рождения: некоторые исследователи указывают 1898 год, другие – 1900-й.Даже отчество у Блюмкина разное: то он – Яков Григорьевич, иногда – Семенович, встречаются Яков Моисеевич и Яков Наумович Блюмкин.
Но если этот человек, прожив столь яркую жизнь, оставил сомнения даже в том, как звали его отца, резонно усомниться и в его гибели в 1929-м.
Во всяком случае, несмотря на то, что решение о расстреле Блюмкина существует, акта о его смерти найти не удалось.
Самые интересные статьи:
Лунные горы в Китае. Белая Шамбала.
Тайны Атлантиды. Истоки легенды
http://ezoterik-page.com/yakov-blyumkin-shambala/
|
Метки: яков блюмкин мистика шамбала |
Блюмкин, Яков Григорьевич |
Блюмкин, Яков Григорьевич
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Блюмкин.
| Яков Григорьевич Блюмкин | |
|---|---|
 |
|
| Имя при рождении | Яков Григорьевич Блюмкин[1] |
| Дата рождения | 12 (25) марта 1900 |
| Место рождения | |
| Дата смерти | 3 ноября 1929 (29 лет) |
| Место смерти | |
| Страна | |
| Род деятельности | террорист, революционер, разведчик |
| Отец | Гирша Самойлович Блюмкин |
| Мать | Хая Блюмкин |
| Супруга | Татьяна Файнерман (1919-1925) |
| Дети | Мартин (1926) |
Я́ков Григо́рьевич Блю́мкин (еврейский вариант имени — Симха-Янкев Гершевич Блюмкин, псевдонимы: Исаев, Макс, Владимиров; 12 (25) марта 1900 года[2][1] — ноябрь 1929) — российский революционер и террорист, советский чекист, разведчик и государственный деятель, авантюрист. Один из создателей советских разведывательных служб. Возможный прототип молодого Штирлица. Реабилитирован посмертно.
Содержание
- 1 В Одессе
- 2 Убийство Мирбаха
- 3 На фронтах Гражданской войны
- 4 Миссия в Персии
- 5 Возвращение в Москву
- 6 Центрально-Азиатская экспедиция Н. К. Рериха
- 7 Резидент
- 8 Возвращение в Москву
- 9 Арест и казнь
- 10 Блюмкин и богема
- 11 Оценка личности Блюмкина
- 12 Примечания
- 13 Источники
- 14 Ссылки
В Одессе
Яков Блюмкин родился 12 марта (по старому стилю) 1900 года в Одессе[3][4][5]. Отец, Гирш Самойлович Блюмкин (1865, Сосница — 1906, Одесса), был приказчиком в бакалейной лавке, мать, Хая-Ливша Лейбовна Блюмкина (1867, Овруч — ?), была домохозяйкой. До переезда в Одессу родители жили в Киеве, где родились их старшие дети.
В 1914 году после окончания талмудторы (бесплатной начальной еврейской школы для детей из неимущих семей), работал электромонтёром, в трамвайном депо, в театре, на консервной фабрике братьев Аврич и Израильсона. Брат Лев был анархистом, а сестра Роза социал-демократкой. Старшие братья Якова — Исай и Лев были журналистами одесских газет (первый работал в «Южной мысли», второй — и постоянным сотрудником «Одесского обозрения»). У него были также братья Миня (1894, Одесса), Арон (1896, Одесса) и Иосиф (1897, Одесса), о которых дальнейших упоминаний нет. Участвовал в отрядах еврейской самообороны против погромов в Одессе. Вступил в партию социалистов-революционеров. Как агитатор «по выборам в Учредительное собрание» он в августе — октябре 1917 года побывал в Поволжье.
В ноябре 1917 года Блюмкин примкнул к отряду матросов, участвовал в боях с частями украинской Центральной Рады. Во время революционных событий в Одессе в 1918 году участвовал в экспроприации ценностей Государственного банка. Были слухи, что часть экспроприированного он присвоил себе. В январе 1918 года, Блюмкин, совместно с Моисеем Винницким (Мишкой «Япончиком») принимает активное участие в формировании в Одессе 1-го Добровольческого железного отряда. Входит в доверие к диктатору революционной Одессы Михаилу Муравьеву.
В те же годы в Одессе Блюмкин знакомится с поэтом А. Эрдманом[6], членом «Союза защиты родины и свободы» и английским шпионом[7]. Уже в апреле 1918 года Эрдман под видом лидера литовских анархистов Бирзе ставит под свой контроль часть вооружённых анархистских отрядов Москвы и одновременно работает для ЧК, собирая информацию о немецком влиянии в России для стран Антанты. Вероятно Эрдман помог Блюмкину устроить свою дальнейшую карьеру в ЧК.
Убийство Мирбаха
В мае 1918 года Блюмкин приезжает в Москву. Руководство Партии левых эсеров направило Блюмкина в ВЧК заведующим отдела по борьбе с международным шпионажем. С июня 1918 года он заведующий отделением контрразведывательного отдела по наблюдению за охраной посольств и их возможной преступной деятельностью.
Находясь в должности начальника «германского» отдела ВЧК, Блюмкин 6 июля 1918 года явился в посольство Германии якобы для обсуждения судьбы дальнего родственника посла графа фон Мирбаха, которого арестовала ЧК. Его сопровождал сотрудник того же отдела ЧК, эсер Николай Андреев. Около 14:40 Блюмкин несколько раз выстрелил в посла, а Андреев, убегая, кинул в гостиную две бомбы. Посол погиб на месте. Преступники скрылись. Борис Бажанов в своих воспоминаниях описывает эти события следующим образом:
«Об убийстве Мирбаха двоюродный брат Блюмкина рассказывал мне, что дело было не совсем так, как описывает Блюмкин: когда Блюмкин и сопровождавшие его были в кабинете Мирбаха, Блюмкин бросил бомбу и с чрезвычайной поспешностью выбросился в окно, причем повис штанами на железной ограде в очень некомфортабельной позиции. Сопровождавший его матросик не спеша ухлопал Мирбаха, снял Блюмкина с решетки, погрузил его в грузовик и увез. Матросик очень скоро погиб где-то на фронтах гражданской войны, а Блюмкин был объявлен большевиками вне закона. Но очень скоро он перешел на сторону большевиков, предав организацию левых эсеров, был принят в партию и в чека, и прославился участием в жестоком подавлении грузинского восстания».[8]
Убийство Мирбаха послужило сигналом для вооружённого выступления левых эсеров против Советского правительства во главе с большевиками. В советской историографии эти события было принято называть мятежом[9][10] После провала мятежа Блюмкин под фамилией Белов скрывался в больницах Москвы, Рыбинска и Кимр, затем под именем Григория Вишневского работал в Кимринском комиссариате земледелия.
На фронтах Гражданской войны
С сентября 1918 года Блюмкин на Украине. Без ведома руководства левых эсеров он пробирается в Москву, а оттуда в Белгород — на границу с Украиной. В ноябре того же года, в момент всеобщего восстания против украинского гетмана Павла Скоропадского и австро-немецких оккупантов, Блюмкин находит своих партийных товарищей в Киеве и включается в эсеровскую подпольную работу. Он участвует в подготовке террористического акта против гетмана Скоропадского и покушении на фельдмаршала немецких оккупационных войск на Украине Эйхгорна.
По некоторым данным, в декабре 1918 — марте 1919 годов Блюмкин был секретарем Киевского подпольного горкома ПЛСР.
По заданию ВЦИК (вместе с украинскими анархистами-махновцами) был задействован в подготовке покушения на Верховного правителя России, лидера белогвардейского движения адмирала Колчака. Необходимость в этом отпала из-за ареста Колчака левыми эсерами в Иркутске.
В марте 1919 года близ Кременчуга попал в плен к петлюровцам, которые жестоко избили Блюмкина, в частности, выбили ему передние зубы. После месячного лечения в апреле 1919 года Блюмкин явился с повинной в ВЧК в Киеве. За убийство Мирбаха Блюмкин был приговорен военным трибуналом к расстрелу. Но, во многом благодаря наркомвоенмору Льву Троцкому Особая следственная комиссия, по согласованию с Президиумом ВЦИК и с одобрения председателя ВЧК Феликса Дзержинского, приняла решение об амнистии Блюмкина, заменив смертную казнь на «искупление вины в боях по защите революции». Способствовало принятию этого решения и то, что он выдал многих своих прежних товарищей, за что был приговорён левыми эсерами к смерти. На Блюмкина совершили 3 покушения, он был тяжело ранен, но сумел скрыться из Киева.
С 1919 воевал на Южном фронте: начальник штаба, и. о. командира 79 бригады, затем в составе Каспийской флотилии[11].
В 1920 году Блюмкин предстал перед межпартийным судом по делам, связанным с левоэсеровским восстанием, куда входили анархисты, левые эсеры, максималисты, боротьбисты. Товарищеский суд возглавил Карелин — бывший член ВЦИКа РСФСР, лидер российских анархистов-коммунистов. Суд над Блюмкиным затянулся на две недели, но так и не вынес окончательного решения.
В секретариате Л.Троцкого занимал должность начальника личной охраны создателя Красной армии.
В 1920—1921 — на специальных курсах Военной академии РККА, после которых вновь переведен в органы ГПУ.
Миссия в Персии
В мае 1920 года Волжско-Каспийская военная флотилия под командованием Федора Раскольникова и Серго Орджоникидзе направляется в Энзели (Персия), с целью возвращения российских кораблей, которые увели туда эвакуировавшиеся из российских портов белогвардейцы. В результате последовавших боевых действий белогвардейцы и занимавшие Энзели английские войска отступили. Воспользовавшись этой ситуацией, в начале июня вооружённые отряды революционного движения дженгалийцев под командованием Мирзы Кучек-хана захватывают город Решт — центр остана Гилян, после чего здесь провозглашается Гилянская Советская Республика.
Блюмкина направляют в Персию, где он участвует в свержении Кучек-хана и способствует приходу к власти хана Эхсануллы, которого поддержали местные «левые» и коммунисты. В боях шесть раз был ранен. После переворота Блюмкин участвовал в создании на базе социал-демократической партии «Адалят» Иранской коммунистической партии, стал членом её Центрального комитета и военным комиссаром штаба Гилянской Красной Армии.[12]. Он представлял Персию на Первом съезде угнетённых народов Востока, созванном большевиками в Баку.
В Персии Блюмкин, в частности, знакомится с Яковом Серебрянским, содействует устройству его сотрудником Особого отдела Иранской Красной Армии[13].
Возвращение в Москву
Вернувшись в Москву, Блюмкин издал книжку о Дзержинском[источник не указан 953 дня] и по личной рекомендации главного чекиста в 1920 году вступил в РКП(б). Направлен Троцким на учёбу в Академию Генерального штаба РККА на восточное отделение[14], где готовили работников посольств и агентуру разведки. В Академии Блюмкин к знанию иврита добавил знание турецкого, арабского, китайского и монгольского языков, обширные военные, экономические и политические знания.[15]
В 1920—1921 годах Блюмкин был начальником штаба 79-й бригады, а позже — комбригом, планировал и осуществлял карательные акции против восставших крестьян Нижнего Поволжья при подавлении Еланского восстания. Осенью 1920 года Блюмкин командует 61-й бригадой, направленной на борьбу против войск барона Унгерна.
Осенью 1921 года Блюмкин занимается расследованием хищений в Гохране. В октябре 1921 года он под псевдонимом Исаев (взят им по имени деда) едет в Ревель (Таллин) под видом ювелира и, выступая в качестве провокатора, выявляет заграничные связи работников Гохрана. Есть версия, что именно этот эпизод в деятельности Блюмкина был положен Юлианом Семеновым в основу сюжета книги «Бриллианты для диктатуры пролетариата».[16][17]
В 1922 году после окончания Академии Блюмкин становится официальным адъютантом наркома по военным и морским делам Л. Д. Троцкого. Выполнял особо важные поручения и тесно сошёлся с наркомом. Блюмкин редактировал первый том программной книги Троцкого «Как вооружалась революция» (издание 1923 года). Троцкий писал о Блюмкине «Революция предпочитает молодых любовников».[18] В 1922 году в Харькове состоялся судебный процесс над организаторами покушения на Блюмкина (группой левых эсеров во главе с С. Н. Пашутинским) за его переход к большевикам.
Осенью 1923 года по предложению Дзержинского Блюмкин становится сотрудником Иностранного отдела (ИНО) ОГПУ. В ноябре того же года решением руководства ИНО Блюмкин назначается резидентом нелегальной разведки в Палестине. Он предлагает Якову Серебрянскому поехать вместе с ним в качестве заместителя. В декабре 1923 года они выезжают в Яффо, получив задание В. Менжинского собирать информацию о планах Англии и Франции на Ближнем Востоке. В июне 1924 года Блюмкин был отозван в Москву, и резидентом остался Серебрянский[13].
Одновременно Блюмкина вводят для конспиративной работы в Коминтерн.
В 1924 году работал в Закавказье политическим представителем ОГПУ и членом коллегии Закавказского ЧК. Одновременно он являлся помощником командующего войсками ОГПУ в Закавказье и уполномоченным Наркомвнешторга по борьбе с контрабандой. Блюмкин участвовал в подавлении антисоветского восстания в Грузии, а также командовал штурмом города Баграм-Тепе, захваченного персидскими войсками. Участвовал в пограничных комиссиях по урегулированию спорных вопросов между СССР, Турцией и Персией[19].
Блюмкин, знавший восточные языки, тайно выехал в Афганистан, где пытался найти связь[источник не указан 1494 дня] на Памире с сектой исмаилитов, почитавших в качестве живого бога своего лидера Ага-хана, который жил в ту пору в Пуне (Индия). С исмаилитским караваном Блюмкин, изображавший дервиша, проник в Индию. Однако там он был арестован английской полицией. Из тюрьмы Блюмкин благополучно бежал, прихватив с собой секретные карты и документы английского агента.
Центрально-Азиатская экспедиция Н. К. Рериха
Основная статья: Центрально-Азиатская экспедиция Николая Рериха
Фотография с экспедиционного паспорта до Пекина, выданного китайским губернатором в Урумчи в 1926 году во время Центрально-Азиатской экспедиции Н. К. Рериха.
Олег Шишкин в своей книге «Битва за Гималаи»[20] утверждает, что Яков Блюмкин под видом буддийского монаха принимал участие в Центрально-Азиатской экспедиции Н. Рериха (1924—1928). ОГПУ использовало Блюмкина в качестве одного из главных координаторов Тибетской миссии по свержению Далай-ламы XIII. Попав в Лхасу, участники экспедиции должны были попытаться спровоцировать противостояние между Далай-ламой и Таши-ламой, чтобы вызвать беспорядки в Тибете и сместить неугодного СССР Далай-ламу XIII. По мнению Шишкина, главная роль в этой затее отводилась Николаю Рериху. Яков Блюмкин присоединился к экспедиции Н. К. Рериха, продвигавшейся в то время по Индии, осенью 1925 года под видом монгольского ламы. Рерих восхищался эрудицией «ламы» Блюмкина, делал неоднократные записи о нём в своём дневнике[21]. Согласно версии Шишкина, Блюмкин прошёл с экспедицией Рериха Западный Китай, а затем в июне 1926 года вместе с Рерихом прибыл в Москву. Также совместным был и их дальнейший путь по Тибету, где миссия по свержению Далай-ламы потерпела фиаско.
Шишкин указывает, что, по воспоминаниям Розонель Луначарской, именно Блюмкин привёл Рериха, «этого недоброго колдуна с длинной седой бородой», в гости к наркому просвещения А. В. Луначарскому.
Одним из доказательств участия Блюмкина в Центрально-Азиатской экспедиции Рериха Олег Шишкин считает фотографию с экспедиционного паспорта до Пекина, выданного китайским губернатором в Урумчи в 1926 году. В своей книге Шишкин приводит эту фотографию, считая, что первый слева лама с галстуком и есть Яков Блюмкин[22]. По мнению А. В. Стеценко, представителя одной из рериховских организаций, заместителя генерального директора Музея имени Н. К. Рериха, на фотографии изображен ладакец Рамзана, а не Блюмкин[23].
Помимо Стеценко, критично отнеслись к книге Олега Шишкина и другие представители различных рериховских организаций[24][25][26][27]. В качестве одной из основ для критики используется заявление заведующего пресс-центром Службы внешней разведки РФ Ю. Кобаладзе. Он заявил: «Известного учёного перепутали с агентом Буддистом, и отсюда пошла вся путаница. … <> c нашей политической разведкой Рерих связан не был. Я заявляю это официально»[28][29]. В 2000 году заместитель директора Международного центра Рерихов А. В. Стеценко встречался с Б. Лабусовым, сменившим Ю. Кобаладзе на посту главы пресс-центра СВР, и сообщил, что «в отличие от своего предшественника Лабусов не проявил ни малейшего желания опровергнуть измышления Шишкина, сославшись на все тот же Закон о Службе внешней разведки, который в 1993 году, когда материалы о Рерихе и его экспедиции были переданы из архива внешней разведки в МЦР, обязывал их рассекретить и сделать общедоступными»[23]. Кроме того, по его утверждению, Стеценко проверил архивы, на которые ссылается Шишкин в своих публикациях, и нашёл некоторые несоответствия[23].
На основании книги Олега Шишкина был написан целый ряд статей в СМИ[30] и книг, в том числе документально-историческая книга «Оккультные тайны НКВД и СС»[31] А. И. Первушина, а также сняты передачи и документальные фильмы, показанные по телеканалу «Культура» и «НТВ». Версия Шишкина получила широкое распространение, и результаты его исследований цитируются не только в книгах российских ученых[32][33], но и в зарубежных исследованиях по истории Тибета[34][35].
Историк Максим Дубаев в своей книге «Рерих»[36], изданной в 2003 году в рамках серии «Жизнь замечательных людей», не ссылается на работы Шишкина, но также как и он считает, что Рерих был связан с ОГПУ и проводил экспедицию не без помощи Советов[37]. Отличным от Шишкина способом Дубаев описывает роль Я. Г. Блюмкина в экспедиции Н. К. Рериха:[37]«Неожиданно советский торгпред стал убеждать Н. К. Рериха как можно скорее покинуть Монголию, так как получил указание задержать экспедицию до прибытия из Москвы Я. Г. Блюмкина, а это могло означать только одно — арест Николая Константиновича»[38]
Востоковед, доктор исторических наук В. А. Росов, в своей диссертации, посвящённой деятельности Н. К. Рериха в Центрально-азиатских экспедициях, отрицает версию Шишкина: «Научные исследования не подтверждают данную версию, так же как и официальные представители Службы внешней разведки». Книгу Шишкина «Битва за Гималаи» Росов причисляет к «историко-мистическим романам и повестям, искажающим представления об экспедициях Н. К. Рериха»[27]
Резидент
В 1926 году Блюмкин направлен представителем ОГПУ и Главным инструктором по государственной безопасности Монгольской республики. Ему, в частности, приписывают убийство П. Е. Щетинкина — инструктора Государственной военной охраны МНР, секретаря партячейки. Выполнял спецзадания в Китае (в частности, в 1926—1927 годах был военным советником генерала Фэн Юйсяна), Тибете и Индии. В 1927 году отозван в Москву в связи с трениями с монгольским руководством.
В 1928 году Блюмкин становится резидентом ОГПУ в Константинополе, откуда курирует весь Ближний Восток. По заданию ЦК ВКП(б) занимался организацией в Палестине резидентской сети. Работает то под видом набожного владельца прачечной в Яффо Гурфинкеля, то под видом азербайджанского еврея-купца Якуба Султанова. Блюмкин завербовал венского антиквара Якоба Эрлиха, и с его помощью обустроил резидентуру, законспирированную под букинистический магазин.
Помимо этого, Блюмкин наладил через каналы ЧК вывоз еврейских манускриптов и антиквариата из СССР. ОГПУ проделало огромную работу в западных районах СССР по сбору и изъятию старинных свитков Торы, а также 330 сочинений средневековой еврейской литературы. Чтобы подготовить Блюмкину материал для успешной торговли, в еврейские местечки Проскуров, Бердичев, Меджибож,
|
Метки: яков блюмкин |
Четыре жены буревестника революции |
Четыре жены буревестника революции
Еще совсем недавно казалось, что жизнь буревестника революции известна нам до мельчайших подробностей. Биография его — скука смертная. Кто ж не знает эту биографию? Из рабочей семьи… Роман «Мать»… Верная жена… Сын Максим… Большевики, Ленин, Капри… «Над седой равниной моря ветер тучи собирает…»
Но вот на время открылись архивы, секретные ранее документы просочились в печать, чьи–то воспоминаний ускользнули от цензуры и выяснилось вдруг, что в реальности в жизни Горького все было несколько иначе.
Жены, любовницы, многочисленные дети — свои, приемные, прижитые на стороне. Жизнь полная страстей и противоречий. «Между тучами и морем…»
В девятнадцать лет он чуть было не застрелился.
Из–за любви.
Стрелял в сердце. Но пуля застряла в легких.
С этого рокового момента, вероятно, и начались все его проблемы с легкими.
И с женщинами.
Нижний Новгород, 1880 год.
Впервые Алексей Максимович Горький — тогда еще Алеша Пешков — влюбился в 13 лет. В тридцатипятилетнюю вдову.
Алеша приходил к ней по субботам. Они разговаривали о поэзии. Вдова давала мальчику почитать поэтические сборники, а он потом рассказывал ей о своих впечатлениях. Часто вдова принимала Алешу, лежа в постели, накрытая лишь тонкой простыней. А однажды, решив подразнить мальчика, начала при нем переодеваться.
«Обнаженная, она надевала чулки в моем присутствии. Но я не был смущен. Напротив, в ее обнаженности я чувствовал что–то необычайно красивое и чистое». Так записал Горький в своем дневнике много лет спустя.
К чести вдовы нужно отметить, что дальше игры дело не зашло. Тридцатипятилетняя женщина не стала совращать подростка. А может быть, Алешу Пешкова спасло то, что он был достаточно набожным ребенком. Но скорей всего он мечтал о совсем другой любви — романтической и чистой.
«В низших слоях общества, где я вырос, интимная близость мужчины и женщины напоминала наспех проглоченную булочку и никогда не давала истинного наслаждения духовного единения обоим партнерам». Из дневника Горького.
Алеше Пешкову, а позже Алексею Максимовичу Горькому никогда не нужны были наспех проглоченные булочки. Но вот довелось ли ему испытывать духовное единение…
Москва, июнь 1936 года
Первое официальное сообщение о том, что Горький тяжело болен «Правда» опубликовала 6 июня 1936 года.
«Алексей Максимович Горький серьезно заболел 1 июня гриппом, осложнившимся в дальнейшем течении катаральными изменениями в легких и явлениями ослабления сердечной деятельности».
Горького поместили в Горки, приставили к нему многочисленную обслугу и семнадцать(!) докторов.
Историю болезни вел лечащий врач Горького — Левин.
«Левин пишет бюллетени, словно над ним прокурор стоит. Вообще он только и делает, что углы сглаживает. Но вообще что делается у Горького — там стоит огромный стол с яствами. Люди приходят туда — а посещает его теперь много народа — и закусывают непрерывно. И пьют, и едят. Даже шоферов откармливают, как на убой. Все жуют. А Крючков ходит из комнаты в комнату и дует беспрерывно коньяк. А к умирающему — полное безразличие. Он уходит из жизни совершенно одиноким». Из воспоминаний врача Максима Кончаловского.
Нижний Новгород, 1889 год
Первую жену Горького звали Ольга Юльевна Каминская. Она была старше своего мужа на 11 лет. Замужем к своим тридцати трем годам успела побывать дважды. У нее была дочь Леля от первого брака. С Горьким они прожили недолго. И если верить будущему буревестнику революции, жили молодожены в поповой бане.
«Я поселился в предбаннике, а супруга в самой бане… Когда я топил печь, все наше жилище наполнялось удушливым запахом гнили, мыла и пареных веников… А весной баню начинали во множестве посещать пауки и мокрицы». Из рассказа Горького «О первой любви».
Каминская получила изысканное воспитание и была разносторонне одаренным человеком. Она писала маслом портреты, занималась картографией, шила дамские шляпки. А еще изготавливала парики и поддельные паспорта для революционеров.
Ольга Юльевна стала первой слушательницей рассказов начинающего писателя Пешкова, первым его редактором. И она же первая свела Горького с революцией и большевиками… Собственно говоря, специально не сводила. Просто такой у нее был круг общения: Лавров, Кропоткин, Короленко.
Про Короленко много позже Горький писал: «В ущерб таланту художника он отдал энергию свою непрерывной, неустанной борьбе…»
Как много еще встретит Горький на своем пути людей, пожертвовавших талантом ради борьбы.
А от Ольги Юльевны Каминской он сбежал через два года. В Самару.
Москва, июнь 1936 года
Семнадцатого июня вечером в Горки к больному Горькому приехали гости: таинственная женщина, одетая во все черное, нарком НКВД Генрих Ягода и несколько его подручных. Нарком заглянул к больному писателю буквально на минуту. Затем выгнал из комнаты медсестру Липу Черткову, врачей и проводил к постели Горького таинственную посетительницу. Из–за плотно закрытых дверей не было слышно ни звука. Через час женщина вышла, и гости уехали.
Ночью Горькому стало плохо. В доме началась паника. Подушки с кислородом конвейером передавали с крыльца на второй этаж. Почему–то рядом не было ни одного из семнадцати докторов, опекавших великого писателя все последние дни. И всеми реанимационными действиями руководила медсестра Липа Черткова.
Утром 18 июня в 11 часов 10 минут Горький умер, не приходя в сознание.
Самара, 1895 год
Вторую жену Горького звали Екатерина Павловна Волжина. Она работала корректором в «Самарской газете». С Екатериной Павловной — единственной изо всех своих жен — Горький оформил официальный брак.
Свадьбу сыграли в феврале девяносто пятого. Через год в семье Пешковых родился сын — Максим. А в девяносто девятом появился второй сын. Алексей Максимович усыновил младшего брата Якова Свердлова — Зиновия.
Тихая, спокойная, красивая, прекрасно воспитанная и интеллигентная Екатерина Павловна в молодости была эсеркой. Горький к этому ее политическому увлечению относился презрительно.
В девятисотом Екатерина Павловна почувствовала, что надоела мужу. Первым импульсивным желанием ее было — удержать, во что бы то ни стало. В их семье появляется третий ребенок — девочка. Ее назвали Катя. Маленькая Катя семью не спасла. И вообще судьба ее была трагичной: девочка умерла в возрасте 6 лет. К тому моменту Алексей Максимович и Екатерина Павловна уже разошлись, но официально развод оформлять не стали.
Разрыв Екатерина Павловна приняла спокойно. Без слез и истерик. Они расстались добрыми друзьями и оставались таковыми всю жизнь. Горький посвящал Екатерину Павловну во все свои проблемы. Советовался с ней по тем или иным вопросам и чаще всего следовал ее настойчивым советам. Еще бы, ведь Екатерина Павловна была не просто бывшей женой и не просто другом, она была «кремлевской дамой».
Близость к Кремлю, а точнее к ВЧК, НКВД и ГПУ возникла у Екатерины Павловны на почве дружбы с Дзержинским. Она, кстати, очень уважала его за «моральные качества», как сама говорила. И сына своего Максима Екатерина Павловна, когда пришел срок, тоже устроила на работу к Дзержинскому.
В 20-ые и 30-ые годы Екатерина Павловна была председателем «Политического красного креста». То есть, по сути, являлась посредником между политическими преступниками и Лубянкой. Она писала ходатайства, просила о защите, помогала собирать для заключенных деньги и посылки. Политических все равно ссылали и расстреливали. Но вера во всемогущество Екатерины Павловны была непоколебимой. Особенно в среде эмигрантов и среди жен арестованных.
Надежда Яковлевна Мандельштам писала: «Жены арестованных проторили дорогу к Пешковой. Туда ходили, в сущности, просто поболтать. Влияния «Красный Крест» не имел никакого».
Заключенным «Красный Крест» помогал мало. Но зато существенно облегчал жизнь его председательнице. Она часто выезжала за границу, не имея никаких проблем с оформлением выездных документов. И подолгу жила с сыном Максимом в Париже и на итальянской Ривьере.
Москва, июнь 1936 года
Вскрытие тела Горького провели сразу же — утром восемнадцатого. И тут же — в спальне, где он умер.
Но никакой медэкспертизы не было, никаких проб и анализов не брали. Горького просто выпотрошили. Внутренности выносили в обычных ведрах…
Вечером гроб с телом писателя доставили в Москву и установили в Колонном зале Дома Союзов. Доступ к телу был разрешен девятнадцатого. Всего лишь на один день.
Москва, 1903 год
Третью жену Горького звали Мария Федоровна Андреева. Она была актрисой, звездой МХАТа.
31 декабря во МХАТе на Новогодней вечеринке Андреева объявила, что выходит замуж за Горького. Строго говоря, официально выйти за него замуж Андреева никак не могла, потому что была женой статского советника Желябужского. Да и сам Горький все еще состоял в браке с Екатериной Павловной Пешковой. Просто в этот день Горький и Андреева решили, наконец, обнародовать свои отношения.
В честь этого события Горький преподнес Андреевой рукопись поэмы «Человек». По иронии судьбы дарственную надпись, в которой говорилось, что у автора поэмы крепкое сердце, из которого Мария Федоровна может сделать каблучки для своих туфель, первой прочла не Андреева, а беззаветно любящий ее Савва Морозов.
Всего пару лет спустя Горький писал из Италии, что его возлюбленную следует распиливать тупой пилой. Об этом Морозов уже не узнал. Он застрелился в 1905-ом, завещав свой страховой полис Андреевой…
С Горьким Андрееву в 1900 году познакомил Чехов.
Ради Горького Мария Федоровна ушла из семьи, бросив двоих детей. Ради Горького чуть позже ушла из театра.
Впрочем, если посмотреть на историю их отношений в несколько ином ракурсе, выяснится, что Мария Федоровна Андреева — женщина поразительной красоты и очень талантливая актриса — пожертвовала своей семьей и своей карьерой вовсе не ради писателя. Пусть даже и маститого. Пусть даже признанного в России и за границей.
Хотя, статус Горького сыграл здесь свою роль. Известный писатель, получающий огромные гонорары, был очень нужен… партии большевиков.
Ведь именно партии, именно большевикам и делу революции отдала Андреева весь свой талант, всю свою энергию.
Ленин дал ей партийную кличку «Феномен». Не за феноменальную красоту, за удивительную способность добывать деньги для партийной кассы.
Роман Андреевой с Саввой Морозовым принес большевикам если не миллионы, то уж, наверняка, сотни тысяч.
Кстати, сто тысяч рублей золотом, полученных Марией Федоровной по страховому полису Морозова, она почти целиком отдала Ленину.
Роман с Горьким был, по сути своей, очередным партийным заданием Андреевой.
Позже Горький вспоминал, то ли смущаясь, то ли стыдясь: «К ним, к большевикам, я и примазался еще в 1903-ем году».
В 1903-ем году пьеса Горького «На дне» была переведена на немецкий язык. С огромным успехом она шла в театрах Дрездена, Мюнхена, Вены. В одном Берлине «На дне» показали 600 раз! Понятно, что гонораров у Горького в Германии накопилось немало. А ведь были еще и деньги от издательств — книги Горького пользовались огромной популярностью в Европе начала века.
«Тащите с Горького хоть понемногу», — наставлял Ленин своих соратников.
Но тащили помногу.
Агентом по сбору гонораров Горького в Германии был назначен свой человек — член большевистской фракции, постоянно живущий в Европе, Александр Лазаревич Парвус. Он расходовал гонорары Горького на закупку оружия для большевиков, на содержание партийной эмиграции, на собственные нужды. А вот класть хотя бы часть гонораров на счет Горького в банк все как–то забывал…
В 1904-ом году Мария Федоровна Андреева вступила в РСДРП. Рекомендацию ей дал сам Ленин. А в 1906-ом Андреева получила очередное ответственное задание партии. И вместе с Горьким выехала в Америку.
Москва, июнь 1936 года
«Центральный Комитет ВКП(б) и Совет Народных Комиссаров Союза СССР с глубокой скорбью извещают о смерти великого русского писателя, гениального художника слова, беззаветного друга трудящихся, борца за победу коммунизма — товарища Алексея Максимовича Горького, последовавшей в Горках, близ Москвы…» Газета «Правда» № 167 от 19 июня 1936 года.
Весь день мимо гроба с телом Горького в Колонном зале Дома Союзов шел непрерывный людской поток.
Родным проститься с ним по–человечески не дали. Тело сожгли ночью. Как–то второпях. На кремации присутствовали только самые близкие родственники Горького — три его бывших жены: Екатерина Павловна Пешкова, Мария Федоровна Андреева и Мария Игнатьевна Будберг.
«Все эти три женщины чем–то неуловимо походили друг на друга, — писала в своих воспоминаниях Галина Серебрякова, — статные, гордые, одухотворенные…»
Утром 20-го июня прах Горького замуровали в кремлевской стене.
Соединенные Штаты Америки, 1906 год
Свой самый пролетарский роман «Мать» Горький написал в Америке — в горах Адирондака, в штате Нью–Йорк, в имении супругов Мартин.
Доктор Джон Мартин консультировал Горького по поводу туберкулеза.
Но вообще–то в Америку Горький поехал не лечиться и отнюдь не в творческую командировку. А по ответственному заданию партии и личной просьбе Ленина. Горький и Андреева должны были собрать деньги на будущую революцию в России.
Американцы оказались странным народом. Революция на другой стороне планеты их почему–то не интересовала. Но зато все американские газеты напечатали подробности личной жизни большевистских эмиссаров. Горького обвинили в двоеженстве. Андрееву презрительно называли любовницей, хотя сам писатель представлял ее и Марку Твену и Теодору Рузвельту не иначе как женой. Дошло до того, что в гостиницах их отказывались селить в один номер, заявляя: «Это вам не Европа!» Вот так и случилось, что незаконная чета Горьких была вынуждена поселиться в имении доктора — на отшибе, на границе с Канадой.
Денег Горький и Андреева собрали немного — около десяти тысячи долларов. Так что задание партии они провалили. Но зато после обличительных выступлений Горького, американское правительство отказалось предоставлять России заем в полмиллиарда.
Понятно, что возвратиться после этого в Россию ни Горький, ни Андреева не могли. И они поселились в Италии. На Капри.
На солнечный остров в гости к Горькому приезжали и Дзержинский с Шаляпиным, и Луначарский с Буниным, и Плеханов со Станиславским.
Ленин тоже любил бывать у Горького. Они ловили рыбу, ходили в Неаполитанский музей, ездили осматривать Помпеи. И, конечно же, вели бесконечные разговоры о политике.
Горький приезжал к Ленину в Берлин с ответным визитом. Там они ходили в зоопарк и театры, и тоже рассуждали о будущем России.
Если бы Горький не написал свою повесть «Исповедь», категорически не понравившуюся Ленину, они бы дружили и дальше. Но — вышла размолвка на почве научного социализма, которому Горький придал характер нового религиозного верования.
Андреева в это время тоже не сидела без дела. Она контролировала поступление горьковских гонораров в партийную казну, вела дневник их заграничного пребывания, переводила с французского какую–то книгу, ругалась с так называемой Каприйской школой большевиков и немного шила.
Ленин считал каприйцев провокаторами. Андреева писала про них своей сестре: «Богданов, Луначарский, Алексинский — вот кто мои враги, они сделали все, от клеветы до обвинения меня в сумасшествии, чтобы развести Алексея Максимовича со мной».
«Враги и провокаторы» про Андрееву и Горького говорили так: «Пока эта подлая цепная собака около него — мы бессильны».
В 1912-ом партия решила, что Андреевой пора возвращаться на родину. С Горьким пришлось временно расстаться. Впрочем, отношения их к тому моменту уже угасали.
В феврале 1913 года Горький тоже вернулся в Россию, поселился в Петербурге. Отношения с Андреевой шли к финалу. Но и после разрыва Андреева продолжала мягко направлять Горького в нужную ей и партии сторону.
После революции они вместе возглавили комиссию по продаже на Лондонском аукционе ценностей, конфискованных у царской семьи. С одной коллекцией связана очень интересная история. Но о ней чуть позже…
В девятнадцатом году Андреева стала комиссаром театров и зрелищ союза коммун Северной области, и у нее начался роман с секретарем Горького — Петром Петровичем Крючковым. По совместительству работником ВЧК.
Временами Андреева жила в квартире Горького на Кронверкском, в большой гостиной. Но часто уезжала. И тогда ее место занимала Варвара Васильевна Тихонова.
У Варвары Васильевны было двое детей: сын Андрюша от первого брака с Шайкевичем и дочка Ниночка от второго брака — с другом Горького Тихоновым.
Ниночка, родившаяся в четырнадцатом году, была больше похожа не на Тихонова, а на великого пролетарского писателя. Причины этого разительного сходства были очевидны всем.
Помимо самого Горького, его сына Максима и Андреевой, Крючкова и Варвары Васильевны Тихоновой с детьми, в квартире на Кронверкском проспекте постоянно проживало человек 10. Или 15. Точно не известно: кто–то оставался там лишь переночевать, кто–то задерживался на недели, а кое–кто жил годами.
Всю жизнь в семье Горького жил художник Ракицкий, по прозвищу Соловей. Еще жила молодая девушка Маруся Гейнце, по прозвищу Молекула, которую Горький удочерил. Там же жили Андрей Романович Дидерихс — Ди–ди и его жена Валентина Ходасевич — Купчиха. И Владислав Ходасевич с женой Ниной Берберовой тоже живали у Горького по несколько лет кряду.
Самого Горького в семье называли «Дука», а его секретаря Крючкова — «Пе–Пе–Крю».
Москва, июнь 1936 года
Похороны Горькому на Красной площади устроили грандиозные. От лица международной общественности речь с трибуны мавзолея произнес Андре Жид.
Андре Жид и Луи Арагон должны были встретиться с Горьким 18 июня. День встречи назначил сам Сталин. Жид, Арагон со своей женой Эльзой Триоле и сопровождавший их Михаил Кольцов несколько часов просидели в машине возле ворот дома Горького в Горках. Их не впустили даже в парк. В это самое время Горький умирал.
Потом Арагон написал в своей книге: «Тогда еще никто не знал, не думал, что эта смерть после долгой болезни была убийством».
Петроград, 1919 год
Четвертую жену Горького звали Мария Игнатьевна Закревская–Бенкендорф–Будберг. Близкие называли ее Мурой. К Горькому Муру в январе 1919 года привел Чуковский.
Муре было 26. У нее только что убили мужа — графа Бенкендорфа, и чуть больше месяца назад она рассталась со своим любовником — британским дипломатом и резидентом Робертом Брюсом Локкартом.
Роман Муры и Локкарта длился недолго, меньше года. Осенью восемнадцатого Локкарта обвинили в шпионаже и поместили на Лубянку. Муру арестовали вместе с ним. Делом Локкарта занимался лично председатель ревтрибунала Петерс.
Уже через несколько дней Петерс освободил Муру. А через пару месяцев и Локкарта. Правда, в стране британского дипломата не оставили, выслали домой.
Чем Мура расплатилась за свою свободу и освобождение своего любовника? Никто не знает. Но многие видели, что по коридорам Лубянки Мура и Петерс ходили под ручку. И многие с уверенностью называли дату начала работы Муры на органы — день ее освобождения.
После отъезда Локкарта Мура не захотела оставаться в Москве и уехала в Питер.
В Петрограде Мура оказалась в самое неподходящее время — лютой зимой, без прописки и продовольственных карточек. Чуковский, работавший когда–то переводчиком в британском посольстве и знавший Муру, предложил ей работу в издательстве «Всемирная литература», которым руководил Горький.
Горькому было 50. Давно великий, давно пролетарский, в расцвете сил и таланта.
Мура пришла к Горькому в его большой дом, густо населенный почти случайным народом, переночевала там раз и два… И уже через месяц превратилась в незаменимую помощницу. А потом взяла на себя обязанности литературного секретаря. Тем более что Пе–Пе–Крю был целиком поглощен романом с Марией Федоровной Андреевой. Точнее, поглотила их не столько любовь, сколько совместная работа.
«Мария Федоровна постепенно тактично отдалилась из центра этой семейной картины, — писала Нина Берберова, — и Мура постепенно тактично установила с ней самые лучшие отношения».
Москва, июнь 1936 года
Существует, по меньшей мере, три записи свидетелей смерти Горького. Первой дала показания Мария Будберг. Сразу же после кремации, двадцатого июня. Крючков написал отчет о последних днях жизни Горького через 10 дней, тридцатого. Екатерина Пешкова чего–то ждала почти три года и рассказала о том, как умирал Горький, только в феврале тридцать девятого.
Есть еще и показания медсестры Липы Чертковой. Но они были записаны с ее слов уже после войны, в июле сорок пятого.
Самое удивительное во всех этих показаниях — полная нестыковка фактов. И восстановить реальную картину последних дней и часов жизни буревестника революции невозможно. Можно лишь принимать их, как версии…
Петроград, 1919 год
Осенью девятнадцатого года тихая Варвара Васильевна Тихонова съехала с квартиры на Кронверкском, уступив свое место в спальне Горького и на кухне Муре. Тогда Мура взяла в свои руки и надзор за всей прислугой.
«Появился завхоз и прекратился бесхоз», — пошутил как–то Максим.
Он же дал Муре прозвище «Титка».
Горький называл Муру «железной женщиной». Железной не в смысле характера или твердости души, как многие обманчиво считали. Нет, это был скорее намек на «железную маску» неизвестного узника крепости Пиньероль, жившего во Франции на излете семнадцатого века.
Мура — таинственная и загадочная — тоже жила в неснимаемой железной маске. Все истории ее жизни, рассказанные ею самой — легенды, мифы, тонкая ложь. Ложь, на которой Муру невозможно было поймать: так точно, так ювелирно были продуманы и подогнаны друг к другу детали.
Вот, к слову говоря, многие считали и считают до сих пор, что прабабушкой Муры была легендарная Аграфена Закревская — «медная Венера» Пушкина. А у бабушки Муры — Лидии Закревской — был роман с Дюма. На самом деле эти бабушки Закревские не имели никакого отношения к самой Муре и ее предкам. Просто однофамилицы.
Еще Мура любила рассказывать о своей переводческой работе. И многие верили, что она перевела 36 томов энциклопедии и еще полсотни книг, что она свободно говорила на пяти языках и получила блестящее образование в Кембридже. В реальности, она перевела не больше двух десятков книг, и Мурины переводы были настолько плохи, что редакторы буквально переписывали за ней каждую строчку. Мура свободно говорила по–английски и очень плохо по–русски. Она строила фразы так, что это было больше похоже на плохой подстрочник, к тому же у нее был чудовищный акцент.
Впрочем, и калька с английского и акцент были всего лишь великолепной актерской имитацией. А что касается Кембриджа… Да, Мура училась там в детстве несколько месяцев на курсах английского языка.
Всю жизнь Мура сочиняла миф о своей жизни, рассказывала легенды о своих талантах. В действительности ее главным талантом был талант любить. И речь о чем–то возвышенном или духовном тут не идет.
«Она любила мужчин, — писала про Муру хорошо знавшая ее Нина Берберова, — и не скрывала этого. Она пользовалась сексом, она искала новизны и знала, где найти ее, и мужчины это знали, чувствовали в ней и пользовались этим, влюбляясь в нее страстно и преданно. Секс шел к ней естественно, и в сексе ей не нужно было ни учиться, ни копировать, ни притворяться…»
Чувствовал ли Горький, что вместо духовного единения судьба вновь подсунула ему «наспех проглоченную булочку»? А может быть, он знал точный адрес той самой судьбы, что «подарила» ему Муру: Москва, Лубянская площадь, дом номер…
Ну, если не знал наверняка, то догадывался о чем–то. Поэтому, может быть, живя с Мурой и, в целом, доверяя ей, всю жизнь обращался к ней только на «вы» и по имени отчеству.
Москва, июнь 1936 года
Версий, как именно убили Горького, было великое множество. Самой расхожей была история об отравленных конфетах.
Вроде бы накануне кто–то привез Горькому из Кремля подарок — коробку шоколада. Светло–розовую, убранную яркой шелковой лентой бонбоньерку хорошо запомнили доктора, лечившие Горького.
Горький попробовал конфеты сам и угостил кремлевским шоколадом двух санитаров. Два здоровых санитара умерли тут же. А тяжело больной Горький продержался до утра.
Петроград, 1920 год.
В двадцатом году жизнь в Петрограде начала понемногу налаживаться. Открыли Дом ученых, Дом искусств и Дом литераторов. В квартире Горького стали бывать Блок и Замятин. И тот и другой слегка ухаживали за Мурой, что давало повод домашним для бесконечных шуток.
«Замятин к Титке неравнодушен!»
«Что Замятин! Вчера слесарь приходил Дуке замок чинить, так он просто обалдел от ее малороссийского профиля».
Что слесарь, впору добавить тут, сам Герберт Уэллс попался в Мурины сети.
«Трудно определить, какие свойства составляют ее особенность, — писал Уэллс о Муре. — Она, безусловно, неопрятна, лоб ее изборожден тревожными морщинами, нос сломан. Она очень быстро ест, заглатывая огромные куски, пьет много водки, и у нее грубоватый, глухой голос, вероятно, оттого что она заядлая курильщица. Однако всякий раз, как я видел ее рядом с другими женщинами, она определенно оказывалась и привлекательнее, и интереснее остальных…»
Уэллс ехал, как он говорил, посмотреть Россию после Брестского мира. О своем приезде сообщил Горькому. И Горький на правах старого знакомого — впервые они встретились еще в Америке в 1906-ом — предложил Уэллсу пожить у него в квартире. С гостиницами в Петрограде было туго.
По официальному распоряжению Кремля к Уэллсу была приставлена переводчица — товарищ Закревская. Мария Игнатьевна.
Визит затянулся на две недели. Целыми днями Мура ходила с Уэллсом по театрам и музеям, водила его на заседания Петроградского Совета и на прогулки по Васильевскому острову. А перед самым его отъездом в квартире на Кронверкском произошло очень странное событие.
По одной версии Уэллса мучила бессонница, он долго бродил по огромной квартире, а потом решил зайти в комнату Муры, чтобы поговорить с ней напоследок. Мура спала. Уэллса вдруг обуяла бешеная страсть, он кинулся на Муру и сорвал с нее одеяло. Но Мура двинула англичанина ногой так, что он вылетел в коридор и набил себе шишку на лбу.
По другой версии Уэллс и Мура в последнюю ночь заговорились, сидя на диване. Мура была очень уставшей и заснула прямо посреди разговора. Уэллс бережно накрыл ее пледом и ушел в свою комнату.
Была и третья версия… Но ее домашние старались при Муре не вышучивать, а при Горьком вообще не обсуждать.
В конце двадцатого года в квартиру на Кронверкском стали поочередно наведываться то Мария Федоровна Андреевна, то Екатерина Павловна Пешкова и уговаривать Горького уехать за границу.
Екатерина Павловна считала, что Горькому нужно лечиться, потому что здоровье его в питерском климате резко ухудшилось. А Мария Федоровна говорила, что Горькому нужны новые впечатления для его творчества. Еще обе уверяли, что всей семье пора проехаться за границу.
Горький сопротивлялся. Женщины настаивали. Муры в тот момент рядом не было. Она уехала в Эстонию, в имение Бенкендорфов проведать своих детей. Тогда в качестве «тяжелой артиллерии» Пешкова и Андреева подключили Ленина.
«Уезжайте, а не то мы вас вышлем», — написал Ленин Горькому со свойственным ему юмором.
Почему Горького так активно выпихивали в эмиграцию? Ну, уж конечно не за новыми впечатлениями и не лечить пошатнувшееся здоровье. Тогда зачем? Или, точнее, за что? Скорей всего за «Несвоевременные мысли», которые Горький опубликовал в своей газете «Новая жизнь» и в которых обвинил Ленина в неоправданной жестокости. «Новую жизнь» Ленин закрыл. Но в России оставалось еще достаточно трибун для писателя такого масштаба, как Горький.
И затяжной конфликт Горького с Зиновьевым сыграл свою роль.
И уже готовившиеся массовые чистки интеллигенции. Горький был слишком заметной фигурой в мировой литературе, чтобы его можно было сослать на Соловки, выслать из страны или просто расстрелять. Это чуть позже, в тридцать шестом, можно было делать все, что угодно, ни на кого не оглядываясь. А в двадцать первом еще осторожничали.
Москва, июнь 1936 года
Про отравление Горького говорили многие, но не все верили в отравленный шоколад. Ходили слухи, что яд писателю дали под видом лекарства. Привез его Ягода, а поила этим ядом Горького та самая женщина в черном — Мура Будберг. Горький вроде бы сопротивлялся, выплевывал лекарство, но Мура была сильнее умирающего старика…
«Он ей «Жизнь», она ему смерть», — шептала Москва про отравительницу, которой великий писатель посвятил свой последний роман «Жизнь Клима Самгина».
Берлин, 1921 год
К отъезду готовились тщательно. Мария Федоровна и Петр Петрович Крючков получили назначение в берлинское торгпредство. К тому же торгпредству причислили Ракицкого, как знатока старины и искусства. Максиму выхлопотали должность дипкурьера. А для Горького в Берлине создали новое издательство «Книга». Эта новая «Книга», преобразованная из прежнего издательства «Демос», должна была охранять права Горького при издании на иностранных языках. Также планировалось ввозить изданные в Германии книги Горького в Россию. С разрешения Главлита, естественно. В самой России с бумагой были большие проблемы.
Выехать собирались сначала в августе, потом в сентябре, но дата отъезда все переносилась на более поздние сроки. А Мура все еще торчала в Эстонии. У нее там сложилась почти патовая ситуация: чтобы видеться с детьми, ей было необходимо эстонское гражданство. Гражданство она могла получить, только выйдя замуж за подданного Эстонии.
«Таинственно и нелепо ведет себя эта дама. Господь с ней!» — раздраженно говорил Горький о Муре.
Но, тем не менее, Мурину проблему решил именно Горький. Он оплатил карточные долги некоего барона Будберга. Барон за это женился на Муре. И в результате Мура получила не только эстонское подданство, но еще и титул баронессы. Теперь она была графиней Закревской, графиней Бенкендорф и баронессой Будберг.
В начале декабря Горький со своим многочисленным семейством выехал из Берлина в Шварцвальд. В санаторий Санкт–Блазиен. Этот санаторий присоветовали доктора. Здоровье у Горького и впрямь было неважное.
Андреева и Крючков остались в Берлине: выколачивать деньги Горького из Парвуса, да и по своим «конторским» делам. Но в семье случилось новое прибавление: Максим женился.
А Мура все еще не торопилась вернуться к Горькому. Письма от нее приходили исправно с эстонскими штемпелями. Но сама Мура, как выяснилось впоследствии, за это время успела съездить в Лондон. Через Берлин! Никому ни слова не сказав. И потом вновь вернулась в Таллинн.
К кому она ездила в Лондон? К Уэллсу? К Локкарту? В офис британской разведки? Или по делам разведки советской? Неизвестно. Мура вела очень сложную игру. И была превосходным игроком.
Горький тем временем писал Ленину из Санкт–Блазиена: «*На голодающих начали собирать продукты и деньги. Не знают, куда посылать, вся работа идет как–то в розницу». *
И предложил назначить агентов, которые координировали бы посылку хлеба, одежды и лекарств в Россию: «Мария Федоровна Андреева и Мария Игнатьевна Бенкендорф — обе энергичные и деловые».
Горький не сомневался, что Мура к нему вернется.
Или точно знал, что без присмотра его не оставят.
И Мура вернулась. В мае 1922-го. И сразу прибрала к рукам все хозяйство.
В ее обязанности входило снимать дома или пансионы, нанимать поваров и прислугу, разбираться с немецкими издательствами, вести переговоры с европейскими и американскими литературными агентами.
Но при этом два раза в год — на Рождество и на Пасху — Мура уезжала к детям в Эстонию. Отсутствовала в общей сложности месяца три.
Эти ее отъезды были частью договора с Горьким. Договора о свободе.
Мура писала Горькому письма. И письма эти неизменно приходили из Таллинна. Но была ли там сама Мура?
Нет. Ей нечего было делать в Эстонии. Детей она давно перевезла в Лондон.
Может быть, она ездила в Лондон?
Да. Приезжала туда. На несколько дней. К Уэллсу. И Уэллсу потом тоже говорила, что едет в Эстонию, к детям.
Где же на самом деле проводила Мура три месяца в году? С кем встречалась?
Так продолжалось и в двадцать третьем году. И в двадцать четвертом…
Москва, июнь 1936 года
Среди версий убийства Горького были и совершенно фантастические. Некоторые исследователи утверждают, что в доме, где лежал больной Горький, происходили странные события. То один, то другой человек из многочисленной обслуги умирающего писателя заболевал ангиной. Всего инфекция поразила семь человек! Больных эвакуировали из Горок и поместили в изолятор кремлевской больницы. Эпидемия эта была не случайной. Вирус «ангопневмонии», изготовленный в секретной лаборатории ОГПУ, был специально распылен в доме Горького. Для жизни здоровых людей он не представлял смертельной опасности. А вот пожилого, тяжело больного туберкулезом человека, этот гибрид ангины и пневмонии привел к фатальному исходу.
Германия, Сааров, 1924 год
О том, что Ленина хватил очередной удар, что он парализован и потерял дар речи, Горький узнал от Екатерины Павловны.
Буквально на следующий день после смерти Ленина, Мура засадила Горького за воспоминания.
«Были все основания рассчитывать, что их переведут на многие языки, — вспоминал об этом периоде жизни Горького Владимир Ходасевич. — Едва он их кончил, из Берлина, как будто случайно, приехал Крючков. Крючков увез с собою рукопись, которую в СССР подвергли жесточайшим цензурным урезкам и изменениям».
Но все это были цветочки по сравнению с теми поправками, которые потребовала от Горького Крупская.
Позже Горький правил свои воспоминания о великом вожде революции и в двадцать шестом, и в двадцать седьмом, и в двадцать восьмом. В тридцатом году Горький написал Крючкову, что после очередного письма Крупской он лихорадочно переписывает воспоминания о Ленине, меняя их до неузнаваемости…
В октябре двадцать четвертого вся семья, наконец, перебралась в Италию. В солнечную любимую Италию. На берегу залива сняли виллу «Масса». Дом был большой. В саду росли пальмы и агавы. Максим купил мотоциклет и катал всех желающих. Обычно его жена Надежда, которую все называли Тимошей, и Ракицкий садились в колясочку, а жена Ходасевича Нина Берберова на седло позади Максима.
Горький боялся быстрой езды, мотоциклетом никогда не пользовался.
Вскоре выяснилось, что вилла «Масса» семье не очень подходит. Слишком дорогая, слишком неуютная, да и город близко. Решили найти что–нибудь попроще.
Бытовало мнение, что Горький был миллионером, жил в роскоши, покупал виллы. Горький и впрямь зарабатывал много. Но это если сравнивать его доходы с заработками русских писателей или с уровнем жизни творческой интеллигенции, бедствовавшей в эмиграции. На самом деле со времен развода с Екатериной Павловной Пешковой Горький постоянно жаловался на безденежье, на долги и затруднения с платежами. Почему? Ответ очевиден. Львиную долю его гонораров забирали большевики на нужды своей партии. На оставшуюся часть он содержал огромную семью, в которой приживальщиков было гораздо больше, чем родных людей. Его дети — родные, незаконные и приемные — жили, получали образование и содержали потом собственные семьи на деньги Горького. Его бывшие жены нанимали прислугу, ездили отдыхать за границу тоже на деньги Горького. А еще Горький регулярно в течение многих лет посылал деньги своим старым приятелям еще по Нижнему Новогороду…
Дом попроще и подешевле искали долго. В конце концов, остановились на вилле «Иль Сорито». Уж больно этот дом понравился Нине — дочке Горького и Тихоновой.
«Мура сказала: Нина хочет эту виллу герцога. Сделаем удовольствие Нине. Только там ванна мала, и в уборную надо ходить через балкон. При слове «уборная» Горький залился краской и стал нервно барабанить пальцами по столу и что–то напевать». Из воспоминаний Нины Берберовой.
Горький был странным человеком. Он мог спать с женами своих друзей и приживать детей на стороне; он мог убеждать свою жену, что его любовница замечательный товарищ; он спокойно уживался в одной квартире с тремя женами–любовницами одновременно, но при этом вел себя, как стеснительный подросток. А на такие темы, как секс и физиология, вообще были наложены табу. Горький также не выносил грубости и пошлости, скабрезных анекдотов и уж, естественно, не употреблял непечатных выражений.
Словно в противовес ему и Мура, и Андреева не чурались «крепкого словца». И иногда специально, чтобы поддразнить Горького, затевали разговоры на табуированные темы.
Москва, июнь 1936 года
В первые дни после похорон все газеты писали, что Горький умер от воспаления легких. Эта причина смерти выглядела правдоподобно, Горький давно и тяжело болел. Но уже в конце июня появилась новая официальная версия — Горького убили. И вот тут впору было удивиться: кому и зачем понадобилось убивать больного человека и без того стоявшего на краю могилы?
В убийстве сначала почему–то обвинили профессора Плетнева. И приговорили к расстрелу, хотя тут же заменили расстрел двадцатью пятью годами тюрьмы.
Через год в отравлении Горького конфетами признался Петр Петрович Крючков — бывший литературный секретарь великого писателя и любовник Андреевой. Заодно Крючков взял на себя и убийство сына Горького — Максима. Если бы Крючкова не расстреляли так поспешно, он, может быть, взял бы на себя и убийство сына Ивана Грозного. На Лубянке и не такие чудеса случались.
Италия, вилла «Иль Сорито», 1925 год
В феврале двадцать пятого от Парвуса был получен последний платеж. Парвус умер. Больше денег от него ждать не приходилось. Журнал «Беседа», издаваемый Горьким, в Россию не пускали. Из самой России гонорары не доходили. А денег от европейских издательств явно не хватало. Тиражи Горького падали. Горький попал в очень тяжелое финансовое положении. И на семейном совете было решено продать у Сотби коллекцию нефритовых фигур.
Эти фигурки в свое время китайцы подарили какому–то царскому генералу. В октябре семнадцатого коллекция была конфискована и определена в Эрмитаж. А оттуда уже каким–то образом попала к Горькому.
Ходили слухи, что Горький и Андреева, занимаясь продажей ценностей царской семьи, просто присвоили себе эту коллекцию. А кто–то говорил, что Горькому этот нефрит отдали на хранение и забыли потом забрать. Была и такая версия: Горькому китайский нефрит не то подарили в знак особых заслуг перед большевиками, не то расплатились с ним коллекцией за какое–то одолжение.
Не важно.
Историю можно начать, пропустив пролог.
Итак: у Горького была коллекция китайского нефрита. 23 фигурки. Самая маленькая размером со спичечную коробку. Самая крупная — сантиметров 20 высотой.
От Сотби на виллу приехал фотограф, чтобы снять фигурки. Максим фотографу не доверял и все время съемки стоял рядом, а после пошел провожать фотографа. В комнате, где на столе были расставлены нефритовые фигурки, осталась Мура.
Максим вернулся, начал складывать фигурки обратно в ящик и тут обнаружил, что их не 23, а 22. Все домочадцы стали убеждать Максима, что их всегда было 22. Но Максим не соглашался, разнервничался, пошел к Муре в комнату и сказал:
— Титка, отдай нефрит!
Конечно же, Мура заявила, что не трогала фигурку. И все ей поверили…
Москва, июнь 1936 года
Знающие люди утверждали, что ни профессор Плетнев, ни Крючков не имеют никакого отношения к отравленным конфетам. Хотя…
Хотя они могли быть исполнителями чужой воли. Как и Андреева. Как и Будберг или Ягода. А вот заказчиком — и в этом были уверены абсолютно все — являлся Сталин. Горький мешал Сталину ликвидировать старую ленинскую гвардию и оппозицию. К тому же его смерть развязывала Сталину руки для московских процессов.
Но самый главный вопрос при этом так и оставался без ответа: зачем убивать умирающего?
Италия, вилла «Иль Сорито», 1930 год
Первой о том, что Горькому нужно вернуться в Москву, заговорила Мура. Еще в тридцатом. До того, как начать обрабатывать Горького, она переговорила с Крючковым. Потом осторожно прощупала почву у членов семьи. Поговорила с Ходасевичем, Максимом, Тимошей — женой Максима, Ракицким… Выяснилось, что никто по большому счету, кроме Максима, не горит желанием ехать на родину.
В тридцать первом ситуация с гонорарами стала критической, вопрос: «Как и на что жить дальше?» волновал теперь всех членов семьи. И тут как нельзя кстати «Госиздат» предложил Горькому контракт на полное собрание сочинений на очень выгодных условиях. Предложение было соблазнительным. И Горького хором принялись уговаривать вернуться в Россию.
Впрочем, это были даже не уговоры. Это было прямое давление на писателя. Особенно усердствовала Екатерина Павловна Пешкова. Андреева и Крючков играли в четыре руки. Максим рисовал радужные перспективы. И Мура вела с Горьким бесконечные разговоры на эту тему.
Она говорила, что великому писателю нельзя жить так долго в отрыве от своего родного читателя, что скоро его просто забудут на родине, что в Европе на книжных полках появилось новое поколение авторов, почти вытеснившее Горького… Вспомнила и Маяковского, который еще в двадцать втором сказал, что Горький труп, он сыграл свою роль и больше литературе не нужен.
Горький сдался в начале тридцать третьего. До этого, правда, несколько раз съездил в Москву. Убедился, что Мура не врет, что его там ждут.
В мае 1933-го Горький вернулся в Россию. Ему устроили торжественную встречу, поселили в бывшем особняке миллионера Рябушинского и сделали чем–то вроде наркома по делам литераторов.
Когда–то Андреева и Пешкова выпихнули Горького в эмиграцию. Теперь вместе с Мурой они вернули его Советскому Союзу.
Сама Мура на Родину не поехала. Она уже лет пять практически жила с Уэллсом. И уже лет семь работала на Локкарта, получая от него зарплату. Локкарта Мура разыскала сама в своих таинственных поездках по Европе под прикрытием свиданий с детьми. Любовные отношения между ними не возобновились, но начались — или продолжились? — отношения деловые.
Перед самым отъездом на семейном совете решали очень важный вопрос: кому оставить на хранение архив Горького.
В этом архиве были письма писателей–эмигрантов, первых диссидентов и невозвращенцев. Там же были письма Бабеля, Федина, Кольцова и Мейерхольда, в которых рассказывалось о новых порядках в СССР, о Сталине. Но самое главное, там были письма Троцкого, Рыкова, Пятакова, Красина.
Уничтожить эти бумаги было нельзя, слишком велика была их цена перед историей. Ввезти крамольные документы в СССР было опасно. Не для Горького, для авторов этих писем и их родных. Оставалось одно — доверить архив кому–нибудь из самых близких друзей.
И Горький принял решение доверить архив… Муре!
Нет никаких сомнений в том, что Горького выманивали на родину в частности и из–за его архива. Чекисты были уверены, что Горький привезет домой все свои бумаги.
Они ошиблись.
Когда стало ясно, что столь вожделенные документы на родину вместе с их хозяином не вернутся, но зато остаются в руках своего человека — Муры, на Лубянке и в Кремле, очевидно, вздохнули с облегчением. Уж товарищ–то Закревская доставит письма по нужному адресу.
Но… они вновь ошиблись! Мура отдавать архив отказалась.
Не отдала она его ни в тридцать четвертом — Андреевой и Крючкову. Ни в тридцать пятом — Пешковой. Екатерина Павловна лично приехала за бумагами в Лондон, Мура ей отказала, Пешкова за это очень на Муру рассердилась.
Только в тридцать шестом Кремлю и Лубянке удалось найти нужные рычаги и надавить на Муру.
В тридцать шестом Горький умирал.
Москва, август 1936 года
Процесс над убийцами Горького и его сына Максима начался в августе 36-го года и завершился весной 38-го. Собственно говоря, он был частью большого процесса над членами антисоветского троцкистского блока. На скамье подсудимых сидело 19 человек. В том числе Бухарин, Рыков, Крестинский, Розенгольц…
Четверых троцкистов — бывшего наркома Ягоду, секретаря Горького Крючкова, профессора Плетнева и доктора Левина — обвиняли помимо всего прочего еще и в убийствах.
«В смерти Максима Пешкова я был лично заинтересован. Я полагал, что со смертью Максима я останусь единственно близким человеком Горькому, человеку, к которому впоследствии перейдет большое литературное наследство. А Горького я убил, потому что хотел стать наследником его крупных денег». Из признания Петра Петровича Крючкова.
У Ягоды, как выяснилось на суде, были свои причины для убийства Максима Пешкова и Алексея Максимовича Горького. Ягода был влюблен в жену Максима. Роман между ними начался еще в 33-ем году. Муж и свекор возлюбленной мешали Ягоде. Вот он их и убил.
Суд поверил в убийство по страсти, но поскольку Ягода якобы состоял на службе у Троцкого, то и политические мотивы из дела не убрали…
Москва, 1936 год
Мура приехала в Москву восьмого июня. Вовсе не по доброй воле. А якобы по просьбе Горького, который хотел с ней попрощаться.
На самом деле, Горький настолько не желал видеть Муру, что даже просил медсестру Липу Черткову не пускать к нему в комнату эту баронессу, как он сам называл Марию Игнатьевну.
В реальности, Муру вызвали в Москву совсем по другому поводу. Ей было приказано привезти итальянский архив Горького. В этом архиве были бумаги, нужные Сталину и Лубянке для начала процесса над Рыковым–Бухариным.
Не известно, чем пригрозили Муре, но часть архива Горького она тогда привезла…
А вот собственный архив сожгла вместе с автомобильным трейлером в 1974 году незадолго до своей смерти. За этот архив дорого заплатили бы разведки разных стран мира. Но Мура Будберг — двойной агент ГПУ и британской разведки — не захотела делиться своими секретами с миром. Не оставила она и воспоминаний. Ни об Уэллсе. Ни о Горьком.
Зато Андреева регулярно выступала на сцене дома Ученых с воспоминаниями о великом пролетарском писателе. И о Ленине. Эти две темы — самые популярные в те годы и очень выигрышные — она разрабатывала до конца жизни. Разрабатывала и приглаживала… Приглаживала и выверяла… Так что, в конце концов, эти два человека превратились в ее воспоминаниях в маски.
Кстати о масках: по словам очевидцев, когда Андреева умерла, на лице ее была маска страдания.
Умерла она в 1953-ем. Ей было 85. Поразительно, но даже в этом возрасте она все еще оставалась красивой женщиной.
После смерти Горького ни с Пешковой, ни с Будберг Андреева не общалась. А вот Екатерина Павловна поддерживала отношения с Мурой до конца жизни. В пятьдесят шестом пригласила ее на свой день рождения — Екатерине Павловне исполнялось 78 лет. В пятьдесят восьмом устроила Муре увеселительную прогулку на теплоходе по Волге, по горьковским местам. И все мечтала получить архив Горького. Да так ничего и не получила. Хитрая Мура отделывалась какими–то ничего не значащими письмами. Вот, например, из обширной переписки Горького с Уэллсом привезла всего 5 разрозненных писем.
Все бумаги, полученные от Муры, Екатерина Павловна передавала в советские литературные архивы.
Екатерина Павловна умерла в 1964 году. Ей было 86. После ее смерти Мура, приезжая в Москву, останавливалась у Тимоши — Надежды Пешковой, жены Максима…
Последние годы своей жизни Мура жила одиноко. Была толстой и малоподвижной. Говорила басом, курила сигары, носила широченные темные юбки и тяжелые бусы. Она очень много ела и много пила. При себе всегда держала полбутылки водки и говорила, что не может функционировать без алкоголя.
Мура получила от советского правительства право считаться наследницей всех зарубежных изданий буревестника революции и вплоть до второй мировой войны исправно получала гонорары.
После войны Муру отлучили от денег Горького. Но тут в сорок шестом очень кстати умер Уэллс, оставив Муре по завещанию сто тысяч долларов.
Мария Игнатьевна Закревская–Бенкендор–Будберг умерла в 1974 году в возрасте 83 лет.
«У меня никогда не будет мемуаров. У меня есть только воспоминания, — говорила Мура. — Я такое могла поведать, что весь мир бы вздрогнул!»
«18 июня 1936 года не стало Горького. Его убили враги народа из правотроцкистской организации, агенты империалистов, против которых он мужественно боролся. Несколько ранее, в 1934, ими же был умерщвлен М. А. Пешков, сын Горького. В дни болезни Горький читал опубликованный на страницах «Правды» проект новой сталинской конституции, которая отразила итоги борьбы и побед советского народа. Глубоко взволнованный Горький по прочтении сказал: «В нашей стране даже камни поют…» Большая Советская Энциклопедия, 2-ое издание, том 12, Москва, 1952 год, стр. 259.
В жизни Алексея Максимовича Горького было не так уж много женщин: несколько романтических увлечений молодости, несколько случайных романов в зрелом возрасте и четыре жены.
Все его жены были тесно связаны с ЧК. Его сын Максим тоже работал в органах. Его невестка была любовницей начальника НКВД, а внучка вышла замуж за сына Берии.
Вся жизнь Горького до мельчайших подробностей была известна Лубянке, благодаря его близким и родным. И жил Горький, словно в аквариуме, под пристальным наблюдением и под жестким контролем.
«Устал я очень, — говорил Горький в последние годы своей жизни. — Словно забором окружили, не перешагнуть. Окружили… Обложили… Ни взад, ни вперед!»
А еще он однажды признался, что никогда не умел и не очень любил смотреть в себя самого.
Так отчего же на самом деле умер Горький? От искусственного вируса, конфет или яда в стакане? И кто на самом деле его убил? Андреева, Будберг или Сталин?
А может быть, он умер своей смертью? Ведь он много лет тяжело болел туберкулезом.
Или всему виной была пуля…
Он стрелялся из–за любви.
Точнее, из–за ее отсутствия. Дожив до девятнадцати лет, Алеша Пешков все еще оставался девственником. Он никак не мог найти взаимопонимания с противоположным полом.
Стрелял в сердце, но пуля застряла в легких.
Психиатр, лечивший неудачливого самострела, посоветовал Алеше Пешкову не ждать неземной любви, а просто найти опытную женщину и, не мудрствуя лукаво, отдаться в ее умелые руки.
Горький последовал этому совету. И всю свою жизнь отдавался в опытные руки. О неземной любви, может, и мечтал, но так и не избавился от страха однажды получить отказ.
А может быть, он просто боялся женщин.
Как показала история, боялся не напрасно.
Сценарий из сети от 1/I 2007г.
Публикуется по: sobepanek.com
Автор: Собе-Панек М.
Поделиться статьёй с друзьями:
Для сообщения об ошибке, выделите ее и жмите Ctrl+Enter

Предыдущая статья:
Биография Андреевой М. Ф.http://andreeva.newgod.su/research/chetyre-zheny-burevestneyka-revoliutcii/
|
Метки: пешковы |
Илиодор: путь от русского иеромонаха до американского уборщика |
Илиодор: путь от русского иеромонаха до американского уборщика
Сектант, актер, интриган, пьяница… Вы удивитесь, но речь идет не просто об авантюристе или очередном «великом комбинаторе», а об одном из самых влиятельных представителей духовенства в Российской империи. Иеромонах Илиодор при дворе Николая II занимал положение ничуть не худшее, чем печально известный Григорий Распутин. Обо всех выходках расстриги – в нашем сегодняшнем материале.
Карьера выходца из донских казаков Сергея Труфанова была предопределена с самого начала. Отец работал псаломщиком в местном храме, потому и сына готовил к той же профессии. Начав учиться в Новочеркасском духовном училище, Сергей затем поступил в Санкт-Петербургскую духовную академию, где посредственную успеваемость с лихвой компенсировал разными общественно полезными делами. На третьем курсе был пострижен в монахи, а после окончания учебы стал уже иеромонахом Почаевской лавры под именем Илиодор.
(слева направо): Григорий Распутин, епископ Гермоген, иеромонах Илиодор
Будучи блестящим оратором и проповедником, Илиодор работает в журнале «Почаевский листок», публикует собственные брошюры и собирает толпы благодарных слушателей буквально везде, где появляется. Впрочем, такое влияние не всем по душе, и скоро на иеромонаха обрушиваются еврейские журналисты и предприниматели. При чем, небезосновательно: тот же «Почаевский листок» был известен своими провокационными материалами, а сам духовник явно благоволил к черносотенцам. В 1907 году Святейший Синод официально запрещает ему заниматься литературной деятельностью, но Илиодор быстро находит влиятельного покровителя в лице епископа Гермогена, который приглашает его в саратовскую епархию. Местный приход понемногу превращается в секту с огромным денежным оборотом. В это время порочный иеромонах очень близок со «старцем» Григорием Распутиным. Дружба выгодна обоим6 через Григория Илиодор сближается с царской семьей, а «целитель» фактически получает моральную санкцию на все свои похождения и настоящий разврат, который царил при дворе с легкой руки Распутина. Идиллия продолжается восемь лет; после иеромонах воображает себя настолько крупной политической фигурой, что устраивает другу «обличение», публично назвав его «диаволом». Однако Илиодор не учел того, что Распутина держат при дворе, холят и лелеют еще и из-за цесаревича Алексея, а он – так, духовник с сомнительной репутацией. Дальше все становится только хуже.
Распутин (крайний справа) в Верхотурском Николаевском мужском монастыре
Проблемы растут как снежный ком, но растет и азарт Илиодора. В 1911 году он паломником идет в Саров через поволжские города, ведя за собой страшную процессию. Его поклонники по пути жгут соломенную «гидру революции», устраивают жуткие театральные действа.
"Становятся певчие в числе более 1000 человек. Из ворот монастыря выносят 11 исторических картин громадного размера: "Русь идет", "Николай II", "Государыня и наследники", "Смерть Сусанина", "Минин", портреты других императоров… Впечатление от патриотических торжеств не поддается никакому описанию"
Илиодор беседует с прихожанами
После того, как на Илиодора обращает внимание сам Петр Столыпин, его ссылают во Флорищеву пустынь и снимают сан. Вне себя от горя, расстрига буквально режет себе руки и публично заявляет, что сам от всех отрекается. С 1914 по 1918 он живет в эмиграции, илиодоровцы бросают своего духовного учителя. Через некоторое время «пастор» возвращается в Россию еще на четыре года и даже пытается основать новую секту, на этот раз основанную на коммунистических идеях. Он даже пишет письмо Ленину в надежде на поддержку. В это время чекисты активно «раскручивают» Илиодора, чтобы тот дискредитировал православных священнослужителей. Заканчивается все это тем, что в 1922 году ему милостиво разрешают покинуть страну, дабы не делать его очередной жертвой политических репрессий. Последние тридцать лет своей жизни Илиодор доживает уже в Штатах, где работает уборщиком в страховой компании.
https://zen.yandex.ru/media/russianhistory/iliodor...scika-5c1e98e73f4f6a00abeb93c1
|
Метки: рпц |
Усадьба СТУДЕНЕЦ, Тульская область, Веневский район |
Усадьба СТУДЕНЕЦ, Тульская область, Веневский район
Сегодня мы с главой Клуба краеведов «Веневский уезд» Денисом Махелем 
Спасти усадьбу и храм от бесславной гибели пока не могут ни компетентные органы – в силу нехватки бюджета, ни потомки последних владельцев усадьбы, ни благотворители, коих в усадьбе за последние сто лет, к сожалению, не было.
Между тем, история Студенца хранит в себе множество удивительных фактов. Какие известные дворянские семьи владели ей в разное время? Что связывает Студенец со знаменитым владением Юсуповых в подмосковном Архангельском? Хозяйственным и бытовым навыкам какого владельца этой усадьбы восхищались многие соседские помещики? Как выглядела усадьба до революции? И что в перспективе может ожидать ее в наши дни?
Об этом и многом другом – в материале о тульской усадьбе Студенец!
1
156
128
Дата фотографий: 20 ноября 2018 года.
2. Храм красиво смотрится, если заезжать со стороный фруктового сада.
3. Проехав 157 км от Москвы по трассе М4 «Дон», мы сворачивает направо по указателю «Студенец 7 км». В старой части села возвышается купол Георгиевской церкви, рядом с которой несложно отыскать фрагменты сооружений бывшей усадьбы, сохранившиеся с дореволюционных времен.
4.
5.
6. Усадьба Студенец не впечатляет роскошным господским домом или его развалинами. В прошлом это было эффективное помещичье хозяйство, организованное чётко, по-немецки, со скромными аккуратными кирпичными постройками.
7.
8.
9. Последними владельцами имения была семья русских немцев Иорданов. Однако, более знамениты фамилии предыдущих помещиков - князей Долгоруковых, Прозоровских и Вяземских.
10. Внутри храма.
11.
12. Село упоминается с конца XVI в. «Название Студенец селу, вероятно, дано от множества в этой местности родников со студеной, т.е. холодной водой». В 1916 г. население села составляло 750 чел. Каменная Георгиевская церковь была возведена в 1871-1894 гг. на средства прихожан.
13.
14.
15.
16. Основное здание церкви сохранилось, хотя и находится в плачевном состоянии. Рядом с церковью за остатками аллеи располагается каменное здание бывшей барской усадьбы. Сохранились две кирпичные хозяйственные постройки. Одна из них, совсем рядом с основным домом, бывший двухэтажный амбар. По направлению к церкви сохранилась еще одна постройка с большим добротным подвалом, это бывший "ледник". Местные жители вспоминали, что до революции главный дом был украшен колоннами и лепниной.
17.
18.
19. В 1810 г. Студенец вместе с деревнями Сасово и Соньшино приобрел полковник Николай Семенович Вяземский. Интересно, что Вяземские рассматривали покупку знаменитой усадьбы Архангельское у Голицыных. Но посчитали, что Архангельское потребует больших расходов и остановились на Студенце, т.к. искали имение "посолиднее, для дохода". А Архангельское в итоге приобрел князь Юсупов.
20. Конный двор.
21. Студенец унаследовал старший сын Андрей Николаевич Вяземский. Князь Андрей был "высок ростом, прекрасно сложен, строен, лицом очень красив". В 1831 г. он участвовал во взятии Варшавы, за что удостоен орденом св.Владимира 4-й степени. В 1848 г. произведен в генерал-майоры. В 1834 г. князь Андрей Николаевич женился на Наталье Александровне Моршанской, по первому браку Гурьевой. За развод князь заплатил до 40 тыс. руб. ассигнациями первому её мужу. У них родилась дочь Лидия, но прожили они вместе недолго.
22. Руины ледника.

Наталья Александровна Вяземская.
23. "Жена Князя Вяземского бросила мужа и дочь и удрала с кем-то в Петербург. Девочка росла без матери и можно сказать без всякого надзора. Так как она была красива, то ей воспользовался наездник Бирнбаум, а потом сын Тульского губернатора Дараган. Тогда наконец мать вспомнила, что у нее есть дочь и выписала ее к себе в Петербург и там подыскала ей приличного мужа Иордана: офицера Австрийского полка. Отец дал ей в приданное за дочерью Студенец и молодая Иордан приехала в деревню". Мужем Лидии Андреевны стал немец Николай Павлович Иордан.

Андрей Николаевич Вяземский.
24.
25. «Иордан был прекрасный человек, но такой не любил выпрыгивать на показ. Он очень любил своих детей, и дал им самое лучшее образование и воспитание, какое только мог. Дочерей он выдал замуж, сыновей он поставил на хорошую дорогу, на службу. Сам он служил честно и безукоризненно, и очень занимался своим полевым хозяйством, так что земля его пришла в порядок под его управлением и имение удвоило свою ценность. Все хозяйственные постройки были у него чистенькие и не разоренные; и в конце концов, он построил дом, удобный, поместительный и прочный.»
26. Конный двор и главный дом сверху.
27. Николай Павлович вел, так называемое, владельческое хозяйство, т.е. занимался обработкой своей земли площадью 300 десятин, ещё около 100 десятин сдавал крестьянам в аренду за 450 руб. в год. Помимо двухэтажного каменного господского дома с флигелем в усадьбе находилось ещё одиннадцать кирпичных хозяйственных построек, в том числе двухэтажный амбар, который сохранился до наших дней.
28. Военное граффити.

Николай Павлович Иордан 1863, из коллекции Д.А. Махеля
29. Кроме этого Иордан владел трактиром в селе, который сдавал за 250 руб. Из скотины у него было 35 голов крупного рогатого скота, 30 лошадей, 40 овец, 5 свиней, и множество домашней птицы. В хозяйстве использовались машины: молотилка с четырех конным приводом, веялка конная, веялка сортировка, сеялка. Всего имение оценивалось в 62 тыс. рублей. Яблоневый сад в 1000 деревьев, Николай Павлович сдавал в аренду за 500 руб. в год".
30.
31. В советский период в здании усадьбы размещалась сельская школа. Сейчас бывший господский дом не используется. Потомки Иорданов проживают в России, Италии и Великобритании. Но средствами к возрождению имения пока не располагают.
32.
33.
34.
35. Мне кажется, что судьба этой усадьбы находится под серьезнейшей угрозой. Ее относительная малоизвестность в плеяде тульских усадеб, вероятнее всего, будет способствовать тому, что средства, выделяемые на поддержку объектов культурного наследия, дойдут до усадьбы Иорданов едва ли не в последнюю очередь. Между тем, старинные постройки ветшают и разрушаются.
36. Особенно больно наблюдать за нынешним состоянием красивейшего храма в честь Георгия Победоносца. Ведь именно его восстановление под руководством деятельного настоятеля может дать единственный шанс на спасение усадьбы. При наилучшем раскладе храм станет духовным центром населенного пункта, его территория будет ухожена, в старинных постройках может открыться воскресная школа, а парк превратиться в место отдыха для туристов и прихожан. Хочется верить, что однажды все так и будет!
37.
38.
Экскурсии по усадьбам на сайте usadboved.ru
Метки: Веневский район, Георгий Победоносец, Денис Махель, Иорданы, Клуб краеведов Веневский уезд, Студенец, Тульская область, заброшенные храмы, тульские усадьбы, фото 2018
https://deadokey.livejournal.com/561411.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
|
Метки: дворянские владения тула |
ПЕРВАЯ ПРАВОЗАЩИТНИЦА |
Записи с темой: а.в.книпер, а.м.горький, е.п.пешкова, политический красный крест (список заголовков)
Вторник, 30 марта 2010
00:47
ПЕРВАЯ ПРАВОЗАЩИТНИЦА
Алексей Максимович Пешков (Горький) (1868 - 1936) был тот ещё женолюб. Его симпатии отличались разнообразием: от непритязательных простушек до международной авантюристки Марии Игнатьевны, ставшей баронессой Будберг. Это потом уже, когда товарищу Сталину удалось заманить его в свою западню, он стал хрестоматийным пролетарским писателем и адептом соцреализма, а начинался как писатель, публикуя для повышения тиражей свои фельетоны в ежедневных газетах Нижнего и Самары. Фельетон - это не то, что вы подумали, а романтические любовные истории с налётом эротики, занимающие весь первый том его собраний сочинений. Это не бунинские "Тёмные аллеи", конечно, но - тем не менее.
Его первая жена Екатерина Павловна Пешкова (урожд. Волжина) (1878 - 1965) масштабом своей личности ничуть не уступала именитому писателю. Роли жены-домохозяйки или даже литературного секретаря при муже был тесны для этой выдающейся женщины, поэтому, прожив вместе знаковые семь лет, они расстались, оставшись, однако, на всю жизнь добрыми друзьями. Двое детей, Максим (1897 - 1934) и Катя (1901 - 1906) остались, конечно, с матерью.
Активный член партии социалистов-революционеров (некоторое время была даже в составе ЦК), она регулярно бывала за границей, посещала курсы в Сорбонне, подолгу там жила, занимаясь, как сейчас сказали бы, правозащитной деятельностью. Открытие народных домов и детских библиотек, помощь полит-эмигрантам и жертвам войны, защита прав политкаторжан - далеко не полный перечень дел, которым она отдавала всё своё время. Ирония судьбы заключалась в том, что те, кого она так рьяно защищала от царских карательных органов, после октябрьского переворота сами пришли к власти, и всех преследуемых и обездоленных она продолжала так же настойчиво оборонять теперь уже от них самих.
Сама Е.П.Пешкова рассказывала:
"Когда началась революция, то у нас (Политический Красный Крест) был пропуск во все тюрьмы, выданный Временным правительством, и мы свободно там бывали.
И вдруг пропуск отобрали. Надо было идти к Дзержинскому. Тот встретил нас вопросом: "Почему вы помогаете нашим врагам?" Я говорю: "Мы хотим знать, кому мы помогаем, а у нас отобрали пропуск".
Дзержинский: "А мы вам пропуск не дадим".
"А мы уйдём в подполье".
Дзержинский: "А мы вас арестуем".
С тем и ушли.
На другой день нам пропуск дали".
Хорошо знавшая её Анна Васильевна Книпер, знакомая по предыдущим постам, писала:
"Всегда, встречаясь с ней, я не переставала изумляться, как, прожив такую долгую, сложную жизнь, сталкиваясь со столькими людьми, всякими, - как она сумела до глубокой старости сохранить абсолютную чистоту души и воображения, такую веру в человека и сердце, полное любви. И полное отсутствие сентиментальности и ханжества. Она была очень терпима к людям - к женщинам, - и, когда я её по ходу разговора спросила: "Да неужели в молодости Вы никем не увлекались, за Вами никто не ухаживал?" - она ответила почти сердито: "Мне некогда было, я всё уроки давала. Раз товарищ меня провожал и, прощаясь, поцеловал мне руку - уж я её мыла, мыла". Я совершенно ей поверила, но очень смеялась".
После лево-эсеровского мятежа 6 июля 1918 года многие её друзья угодили в застенки ЧК, с оставшимися на воле боялись общаться. Все, но не Катерина (а тогда все произносили именно так) Павловна, продолжавшая стучаться в двери и опальных друзей, и высоких кабинетов.
Когда поляки заявили Пешкову представительницей своих интересов в России, советские власти встретили её кандидатуру в штыки, требовали даже, чтобы её постоянно сопровождал в поездках уполномоченный из ЧК, а когда поляки и на это не пошли, во всех документах смешанной советско-польской комиссии продолжали её именовать не иначе как гражданкой Пешковой, в отличие от всех других - товарищей.
Политический Красный Крест - Комитет помощи политическим ссыльным и заключённым ("Помполит") на Кузнецком, 24, который она возглавляла, долгое время, с середины февраля 1918 года до середины 1937 года, оставался единственной в советской России инстанцией, куда стекались на приём ходоки со всей страны, надеясь узнать здесь хоть что-то о своих пропавших родственниках и как-то им помочь. Больше пожаловаться было просто некому. Вместе с тремя другими сотрудниками комитета, существовавшего на пожертвования лиц и организаций, удавалось принимать тысячи страждущих, наводить справки об арестованных, самолично отвозить в тюрьмы передачи. Самим же себе члены комитета положили жалование, не превышающее среднюю зарплату рабочих. Здесь и далее опять цитирую А.В.Книпер:
"Кто не пережил страшного этого времени, тот не поймёт, чем был для меня, многих и многих её труд. Что значило для людей, от которых шарахались друзья и знакомые, если в семье у них был арестованный, прийти к ней, услышать её голос, узнать хотя бы о том, где находятся их близкие, что их ожидает, - а это она узнавала.
Недаром мой муж говорил, что после меня и моего сына он больше всех на свете любит Екатерину Павловну.
В конце концов, когда в 1937 году Политический Красный Крест закрыли, и этих возможностей у неё не стало.
А в 1938 году, когда кончился срок моей высылки, в тот же день меня арестовали вновь, арестован был мой сын и так и не вернулся из заключения - реабилитирован посмертно. И муж мой умер во время моего заключения на 8 лет".
После реабилитации А.В.Книпер в 1960 году и возвращения её в Москву вновь встретились эти два, покинутые всеми, одиночества, Старшая внучка Пешковой Марфа (р. 1925), та самая, что была самой близкой школьной подругой Светланы Сталиной, проследовала в ссылку за своим мужем Серго, сыном одиозного Берия. Младшей Дарье (р. 1927), известной актрисе театра им. Вахтангова, тоже, видимо, было не до бабушки.
"Для меня было радостью, что мне уже не о чем было её просить, - и так я была перед ней в неоплатном долгу. А она об этом точно не помнила. Она вообще не помнила, что она делала для людей, ей это было так естественно, как дышать.
Сколько людей я перевидала, но никогда не встречала такого полного забвения своих поступков, а вот малейшее внимание к себе она помнила.
Она старела на глазах... Какой же одинокой она была в последние годы жизни! Сверстники её умирали один за другим, родные не утешали. А она всё, касающееся их, принимала к сердцу, волновалась, огорчалась, худела на глазах, точно таяла".
"Вот я начала писать о Екатерине Павловне, и меня потянуло в Новодевичий на её могилу. Я бывала там вместе с нею - на могиле её сына и матери: ей было уже трудно ездить одной... а внукам некогда, всё дела, дела...
Мимо проходила экскурсия молодых девушек. Экскурсовод указал на могилу "сына Горького" - у него не нашлось ни одного слова, чтобы сказать о Екатерине Павловне, которая всю жизнь отдавала людям в несчастье. "К страданиям чужим ты горести полна, и скорбь ничья тебя не проходила мимо - к себе самой лишь ты неумолима...", - разве не о ней эти строки А.К.Толстого?
Очень мне было горько."
"На гражданской панихиде в музее Горького я стала у гроба. Екатерина Павловна лежала в цветах, и лицо её было молодое, такой прекрасный лоб, тонкие брови - никогда её больше не увижу. Заплакала я - кто-то сказал: "Вам нехорошо? Дать капель?" Как-будто странно, что можно заплакать, прощаясь с дорогим человеком.
Каких мы людей теряем,
Какие уходят люди...
И горше всего - что знаем:
Таких уж больше не будет.
Была нам в жизни удача,
Что мы повстречались с ними -
И нет их... И только плачем,
Повторяя светлое имя".
@темы: А.В.Книпер, А.М.Горький, Е.П.Пешкова, Политический Красный Крестhttp://www.diary.ru/~garus/?tag=2419665
|
Метки: пешковы красный крест |
Анархический Черный Крест в СССР |
Анархический Черный Крест в СССР
5 августа, 2013 - 15:43 - Редакция

Очередная публикация посвящена Анархическому Черному Кресту в СССР. Открывает ее статья Дубовика о Всероссийком Черном Кресте, такая обзорная. Потом — довольно интересная статья о том, как действовал АЧК в СССР и как они передавали информацию в АЧК, который действовал в Берлине. Затем — парочка сообщений ГПУ об АЧК. Вообще, довольно интересная тема — анархисты в донесениях ГПУ и анархисты в СССР вообще с их организациями и деятельностью (а они были до конца 1930-х). В конце публикую материалы из просьбы о реабилитации проходивших по делу анархистов-мистиков, касающиеся АЧК(иногда — косвенно).
Дубовик
Всероссийский Черный Крест. 1918-1936.
После Февральской революции вопрос об организации Черного Креста впервые поднимался на конференции 17-ти городов Юга России в июле 1917 в связи с репрессиями против анархистов со стороны Временного правительства; конференция рекомендовала восстановить организацию АЧК.
Всероссийский Черный Крест был создан к концу 1918 при Секретариате "Всероссийской федерации анархистов-коммунистов" по инициативе лидера Федерации А. Карелина. В состав всероссийской структуры вошли группы Черного Креста, уже существовавшие в Москве, Петрограде и некоторых других городах России; позже отделения Черного Креста существовали в Харькове, Одессе. Практически все время существования Черного Креста его секретарем была Агния Солонович; в 1920-х в Секретариат входили также А. Андреев, В. Губерт-Поспелова, И. Уйттенховен-Иловайская.
Основной задачей Черного Креста была организация помощи заключенным и ссыльным анархистам; с этой целью организация проводила открытые и нелегальные сборы средств среди анархистов и сочувствующих России (СССР), в т.ч. на предприятиях среди рабочих и служащих, получала средства от кооперативов бывших политкаторжан царского времени, а с середины 1920-х также получала финансовую помощь от эмигрантских и зарубежных анархических организаций, прежде всего из США. Черный Крест также осуществлял сбор информации о местонахождениях и перемещениях заключенных анархистов.
С середины 1920-х сборы в фонд Черного Креста проводились также анархо-мистиками «Ордена тамплиеров» на вечерах дочерних орденских структур («Орден Света», «Храм Милосердия»), тамплиером Ю. Завадским во Втором Белорусском государственном театре и др.
В связи с конфликтом и расколом между сторонниками классического анархизма и анархо-мистиками, к 1928-1929 в СССР была создана еще одна структура, носившая то же название ("Всероссийский Черный Крест"). Вплоть до начала 1930-х обе организации Черного Креста действовали легально, иногда – в контакте с государственными организациями, а также с «Политическим Красным Крестом», возглавляемым Е. Пешковой.
После ареста большинства старых анархистов на рубеже 1920-1930-х, Черный Крест, имевший информацию и оказывавший материальную помощь, фактически стал одним из главных центров содействия подпольному анархическому движению, — хотя анархо-мистики стремились избежать этой роли в контролировавшейся ими структуре.
После 1933 открытые сборы средств прекратились в связи с репрессиями против анархистов; тогда же организация Всероссийского Черного Креста "политических" анархистов была уничтожена ОГПУ (анархо-мистикам удалось сохранить свой Черный Крест).
Вплоть до конца 1936 московские анархо-мистики и сочувствующие проводили нелегальные сборы в фонд Черного Креста, распространяя билеты и подписные листы для Музея П. Кропоткина.
В октябре 1936, при ликвидации остатков мистических анархистов, была арестована руководитель Черного Креста Агния Солонович, после чего деятельность организации окончательно прекратилась.
Мария-Кристина Гальмарини (Шампейн-Урбана, штат Иллинойс)
Ярослав Леонтьев (Москва)
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БЕРЛИНСКИХ КОМИТЕТОВ ПОМОЩИ РУССКИМ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫМ Как получались вести из России
В 20-е годы вести из России в Берлин поступали главным образом по обычной почте. Иногда писали товарищи по партийной работе, еще находившиеся на свободе; но доходили письма и из мест заключения. К примеру, журнал анархистов сообщал: "один из товарищей в Берлине получил письмо от анархистки, из далекой сибирской тюрьмы". Нередко вести доставлялись вновь прибывшими, высланными в начале 20-х годов за пределы России либо бежавшими из мест ссылки за границу. Находившиеся за рубежом социал-демократы, анархисты и эсеры располагали, таким образом, обширным систематическим материалом о репрессивных действиях коммунистической власти.
В первой половине 20-х годов на территории Советской России и Советской Украины действовало несколько правозащитных организаций партийного, межпартийного и непартийного характера. До 1923 г. активно работало "Московское Общество помощи заключенным анархистам", куда поступали письма со всех концов страны. Оно передавало берлинским товарищам содержание этих писем и личные впечатления членов Общества от поездок по местам ссылок и опыта своего собственного тюремного заключения.
Один из руководителей Общества Семен Флешин арестовывался дважды: в ноябре 1922 г. и в августе 1923 г. После второго ареста ему и его жене — американской анархистке Молли Стеймер, депортированной ранее в Россию, предложили выехать за рубеж. Они приняли предложение и увезли на Запад целый "багаж" впечатлений о том, что они слышали и видели на Севере Советской России. В Берлине они сразу включились в работу Объединенного Комитета.
Вплоть до конца 20-х годов в Москве продолжал существовать Всероссийский Черный Крест, организованный в 1918 г. Всероссийской Федерацией анархистов-коммунистов по инициативе А.А. Карелина. Секретариат Черного Креста уполномочил для ведения всех дел с заграницей двух секретарей — А.О. Солонович и А.В. Андреева. При Объединении ПЛСР и ССРМ в Москве в 1923-1924 гг. существовал Левонароднический Политический Красный Крест помощи ссыльным и заключенным левонародникам. Аналогичные партийные "Красные Кресты" имелись в подпольных структурах РСДРП и ПСР, а также у социалистов-сионистов.
Партийные и межпартийные правозащитные организации имели постоянные контакты с "Помощью политическим заключенным" (сокращенно "Помполитом"), возглавлявшейся Е.П. Пешковой. Эта организация возникла на руинах Московского Комитета Политического Красного Креста. После того, как 3 августа 1922 г. ВЦИК и Совнарком приняли декрет "О порядке утверждения и регистрации обществ и союзов, не преследующих цели извлечения прибыли, и порядке надзора за ними", попытки руководителей Московского Комитета ПКК пройти регистрацию в НКВД и Моссовете не увенчались успехом. По времени это совпало с высылкой из Москвы бывшего председателя Московского Комитета ПКК адвоката Н.К. Муравьева вследствие его участия в качестве защитника на процессе эсеров. Однако, используя свои связи в коммунистических и чекистских верхах, Екатерине Пешковой удалось добиться разрешения на продолжение оказания материальной и юридической помощи политзаключенным. 11 ноября 1922 г. заместитель председателя ГПУ И.С. Уншлихт подписал соответствующее распоряжение об этом.
30 января 1923 г. Пешкова получила удостоверение, подписанное Уншлихтом, о праве посещать места заключения и принимать заявления от арестантов. Удалось также сохранить родственные структуры в северной столице и тогдашней столице Советской Украины — Петроградский Политический Красный Крест и Общество Красного Креста помощи заключенным в Харькове (ранее "Общество Красного Креста помощи жертвам гражданской борьбы на Украине").
Периодические издания берлинской эмиграции полны свидетельств о том, как вести из России циркулировали за пределами страны. Более того, есть данные, что даже посылаемая валюта исправно доходила до своих адресатов. Достаточно процитировать "Анархический вестник": "Из письма от товарища из России: (Деньги я получила, т.е. десять долларов… Я на эти десять долларов сделала посылку (речь идет о посылке товарищам, заключенным в сибирской тюрьме. — Ред.).
Также из архивных исследований выясняется, что эмигрантские правозащитные организации в свою очередь были связаны с московским "Помполитом" и лично с Е. Пешковой, которая регулярно наезжала к Горькому и его семье в Сорренто. Свидетельства о встречах с Пешковой в Берлине и Париже оставил секретарь Берлинского Комитета Григорий Аронсон. В свое время он познакомился с ней в Бутырской тюрьме в 1918 г., во время посещений Пешковой заключенных. Любопытно, что вырезка из газеты "Русская мысль" с воспоминаниями Аронсона о Пешковой хранится в амстердамском Международном институте социальных исследований в фонде Берты Меринг. Будучи ранее членом Московского Комитета ПКК, членом РСДРП и Бунда, она в 20-е годы была одной из заграничных корреспонденток Пешковой.
Таким образом следует подчеркнуть наличие более или менее постоянных связей между берлинскими и московскими "правозаступниками" (как в то время именовали правозащитников). Этот примечательный факт опровергает устойчивый стереотип, согласно которому эмиграция и метрополия были разделены непроницаемой стеной. На самом деле долгое время "железного занавеса" не существовало — наоборот, нужно ставить вопрос о дальнейшем изучении взаимодействия и диалога между Москвой и русским Берлином. И, если с точки зрения исследований по истории литературы это уже не новость, то с историко-политической точки зрения этот аспект русской эмиграции нуждается в более подробных исследованиях.
Из статьи "АНАРХИСТЫ В ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ОБЗОРАХ ОГПУ"
июль, август и половина сентября 1923 г.:
В Питере анархо-синдикалисты усилили подпольную работу и организуют пропагандистские кружки для подготовки агитаторов для заводов. Секретариат ВФА (анархо-коммунистов) намечает на зимний период посылку книгонош по России. Им получается из Америки регулярная денежная помощь для «Черного креста». Деятельность анархистских групп успеха среди крестьян и рабочих не имеет и проводится большей частью среди студенчества.
август 1924 г.:
Московский «Черный крест» получил большую сумму долларов из Соединенных Штатов Америки для помощи арестованным.
ноябрь 1924 г.:
В среде анархистов наблюдается оживление. В Ленинградской губ. усиливается деятельность анархистского подполья среди студентов и рабочих. Подпольная организация распространяет свое влияние и на другие губернии. Ведется подготовка к созыву съезда. Усиление анархической деятельности отмечено и в Москве. «Черный крест» усиливает помощь заключенным и ссыльным.
январь 1926 г.:
Деятельность анархистов в последние месяцы заметно усилилась. Активно работает подпольная анархическая группа в Рыбинске. Нижегородская анархогруппа налаживает связи с секретариатом ВФА и с Черным крестом
Реабилитационный процесс
Постановлением Особого Совещания при НКВД СССР от 9 июля 1937 г. «за контрреволюционную деятельность» осуждены: Налимов, Брешков, Преферансов, Ляшук, Коростелев, Гориневский и Губерт-Поспелова к пяти годам, Васильева к трем годам лишения права проживания в 15-ти пунктах.
На предварительном следствии Налимов, Преферансов и Брешков обвинялись в том, что являлись до 1936 г. участниками антисоветской анархо-мистической группы, возглавлявшейся Шаревским, проводили антисоветскую деятельность.
Коростелев, Губерт-Поспелова, Гориневский и Ляшук обвинялись в принадлежности к антисоветской анархистской группе, возглавлявшейся анархисткой Солонович Агнией, на сборищах которой обсуждали вопросы свержения Советской власти.
Члены указанных анархистских групп одновременно входили в мистическую организацию «Орден Тамплиеров», целью которой являлось воспитание враждебных Советской власти кадров, а также принимали участие в работе «Черного креста», занимавшегося сбором средств для оказания помощи ссыльным анархистам.
Васильева обвиняется в том, что, будучи связана с участниками анархистской группы, знала об их нелегальных сборищах.
Брешков, Преферансов, Ляшук, Гориневский, Коростелев на предварительном следствии в предъявленном обвинении виновными себя признали. Губерт-Поспелова, не отрицая свое участие в организации «Орден Тамплиеров» и в работе «Черного креста», показала, что антисоветской деятельностью не занималась. Налимов виновным себя не признал, однако не отрицал факт хранения антисоветской литературы, а также сбор денежных средств для приобретени» литературы и оказания помощи ссыльным анархистам. Васильева в предъявленном ей обвинении виновной себя не признала.
Антисоветская деятельность Налимова, Брешкова, Проферансова и Васильевой подтверждалась показаниями Иоффе И. И., а в отношении Брешкова — также показаниями свидетеля Жук Л. Г. (умерла).
В 1956 году от осужденных Ляшука, Налимова, Губерт-Поспеловой и Васильевой поступили жалобы с просьбой об их реабилитации.
В том же году жена Коростелева — Коростелева А. А. подала заявление с ходатайством о пересмотре дела ее мужа.
В процессе дополнительной проверки, произведенной по указанию Прокуратуры СССР, предъявленное обвинение Гориневскому, Ляшуку и другим подтвердилось.
Проверкой установлено, что в Москве до 1936 года существовали антисоветские анархистские организации «Орден Тамплиеров» и «Черный крест», возглавляемые Солонович Алексеем и Солонович Агнией (осуждена к высшей мере наказания).
Солонович Агния на допросе в октябре 1936 года показала, что она с 1919 года являлась секретарем «Всероссийского Черного креста», в задачу которого входил сбор денежных средств для оказания помощи репрессированным анархистам, причем часть средств поступала из Америки.
Анархист Бем (осужден к высшей мере наказания) на допросе в 1937 году показал, что ему известно от Солонович Алексея, что антисоветская организация должна строиться по принципу цепочки, путем создания мелких групп. Тогда же Бем заявил, что летом 1936 г. Солонович Агния ему сообщила о существовании в Москве контрреволюционной мистической группы, членами которой являлись Назаров (осужден к высшей мере наказания), а также осужденные по данному делу Губерт-Поспелова В. В. и Лящук С. Р.
Арестованный в 1936 г. Назаров М.А. на следствии признал, что в Москве существовала антисоветская анархистская организация, целью которой являлось свержение Советской власти.
Передопрошенный в 1956 г. свидетель Иоффе подтвердил, что Налимов, Проферансов, Брешков и Шаревский входили в антисоветскую анархистскую группу, участники которой считали политику коммунистической партии и советского правительства неправильной и на своих сборищах подвергали ее критике со своих анархистских позиций, читали анархистскую литературу, обсуждали организационные вопросы, собирали деньги для организации «Черный крест» и поддерживали связь с Солонович А.
На данном же допросе Иоффе заявил, что указанные сборища происходили на квартире у Проферансова, мать которого — Васильева Е. М. была осведомлена о связях, взглядах и деятельности группы.
Далее Иоффе показал, что летом 1934 года он совместно с Налимовым и«Шаревским (осужденным к высшей мере наказания) по решению группы закопал антисоветскую анархистскую литературу с целью ее сохранения.
Брешков и Проферансов на следствии показали, что на почве общности контрреволюционных взглядов и враждебного отношения к Советской власти они входили в антисоветскую группу. Практическая деятельность группы, как показал Профераисов, выражалась в проведении нелегальных сборищ, где обсуждалась программа группы и другие антисоветские вопросы, а также в отчислении определенного процента от зарплаты для оказания помощи ссыльным анархистам и для приобретения анархистской литературы.
Налимов, будучи вторично арестован в 1949 году, подтвердил свое участие в указанной анархистской антисоветской группе. Хотя в настоящее время он изменил эти показания, однако не отрицает, что в 1934 году совместно с Иоффе закопал анархистскую литературу и участвовал в сборе денег для арестованных анархистов.
Передопрошена в 1957 году Губерт-Поспелова. Она признает свое участие в работе «Ордена Тамплиеров» и «Черного креста», хотя утверждает, что она якобы не считает их антисоветскими организаниями.
Некоторые формулировки, такие как, скажем, чтение анархистской литературы или помощь заключенным, теперь звучат анекдотично. Ведь ни анархистская литература, ни «Черный крест» даже в те годы не были никем запрещены. Правда, они не соответствовали общему политическому настрою тех лет, но в год пересмотра дела это уже не было достаточным основанием для уголовного обвинения.
Меня передопрашивал следователь из новой когорты (одетый еще в форму морского офицера). Он сказал, что готов был бы поддержать мою просьбу о реабилитации, но этому мешали два обстоятельства: протокол передопроса свидетеля Иоффе, с одной стороны, и консерватизм начальства, еще остававшегося на своих местах. — В. Налимов
|
Метки: красный крест репрессии |
Красный Крест из серпа и молота |
Главная | № 54 от 27 июля 2012г.
Красный Крест из серпа и молота
В декабре 1917 г. в оппозиционных газетах было напечатано извещение о начале работы Российского общества Красного Креста для помощи политзаключенным (Помполит). Такие же организации были созданы в Петрограде, Харькове и Полтаве. Московский Помполит был самым значительным и вскоре стал играть роль всероссийского, а затем и всесоюзного. По мере укрепления советской власти отношение к МПКК становилось всё более негативным, особенно с лета 1922 г., во время судебного процесса над ЦК партии эсеров. В результате деятельность МПКК была в августе фактически прекращена.
…Он родился в Нью-Йорке в семье евреев, эмигрантов из России, Джулиуса и Розы Хаммер (в девичестве Липшиц). Отец, Джулиус Хаммер, из семьи разорившихся судостроителей. Приехал в США из Одессы в 1875 г. Занимался медицинской практикой и владел пятью аптеками. Во время эпидемии гриппа Хаммер произвел аборт женщине, больной пневмонией. Она умерла, и Хаммер был осужден на 2,5 года тюрьмы. На самом деле незаконный аборт сделал Арманд Хаммер, а отец взял на себя его вину.
Арманд Хаммер окончил Колумбийский колледж, получив в 1919 г. с т епень бакалавра, затем медицинский факультет Колумбийского университета в 1921 г. со степенью доктора медицины. Медицинской практикой он, однако, никогда не занимался.
Его бабка была социалисткой, а отец стал активистом рабочего движения и одним из основателей компартии США. В семье было три сына: старшего звали Гарри, младшего – Виктором, а среднему отец дал пролетарское имя Арманд. Фамилию взял Хаммер (от «серп» и «молот»). Арманд возглавил семейный бизнес и стал первым американцем, который в студенческие годы заработал своим трудом миллион долларов. В марте 1919 г. в Нью-Йорке открылось Бюро Мартенса – неофициальное представительство Советской России, которое пыталось установить связи с деловыми и политическими кругами США с целью дипломатического признания режима большевиков, но тайно поддерживало коммунистическое движение за океаном. Фирма Хаммеров стала ее партнером, поскольку Людвиг Мартенс (еврей из Одессы) был давним другом хаммеровской семьи.
В конце 1920 г. Бюро Мартенса было закрыто, а его глава выдворен из США, оставив нереализованные контракты и долги. Якобы желая их погасить, летом 1921 г. А.Хаммер отправился в Москву. Л.Мартенс взял гостя в поездку на Урал, где молодой врач-бизнесмен увидел страшные картины голода и предложил большевикам купить в кредит зерно в обмен на ходовые товары, коими с царских времен были забиты местные склады.
Полный впечатлений, Арманд Хаммер ненадолго вернулся в Америку, где основал новую компанию Allied American Corporation, а затем с братом Виктором отбыл в Москву, где прожил 8 лет. Он открыл первую в СССР карандашную фабрику и представлял в Москве интересы американских корпораций, банков и фирм, включая компанию Генри Форда. Вернувшись на родину, А.Хаммер остался «другом Советского Союза», а подаренная Лениным фотография с надписью «товарищу Хаммеру» стояла в его калифорнийском доме на самом почетном месте.
Семьдесят лет А.Хаммер был главным советским агентом влияния в США. После отмены в 1933 г сухого закона Хаммер стал «спиртовым королем Америки», наладив в США производство крепких спиртных напитков. Тару, спирт и дубовые бочки ему поставлял Амторг - созданное Москвой американское общество для торговли с СССР.
…Однако вернемся к Красному Кресту для помощи политзаключенным. О деятельности Екатерины Пешковой в настоящее время написано изрядно панегириков. Но есть оборотная сторона медали. А именно посредничество в торговле заложниками. Схема такая: органы ВЧК ОГПУ арестовывали так называемых бывших людей дворян, крупных чиновников и т.д. Затем списки состоятельных заложников предоставлялись через Амторг в руки Хаммера. Он сам или через посредников предлагал жившим в эмиграции родственникам этих заложников выкупить их за определенную сумму. Так сказать, на индустриализацию. Разумеется, всё это делалось на условиях полной тайны, иначе заложники будут расстреляны. Все переговоры и расчеты проводились почти прозрачно, через политический Красный Крест.
Широкомасштабное сотрудничество А.Хаммера с Москвой возобновилось в 1970е годы, когда уже крупный нефтяной магнат, владелец компании Oksydental Petroleum Corporation замыслил с высшим руководством СССР ряд грандиозных проектов. Свой последний проект «Сионские мудрецы», предусматривавший совместное производство авиационными компаниями США, СССР и Израиля новейших гражданских самолетов, Арманд Хаммер завершить не успел. 10 декабря 1990 г он скончался от рака.
Юрий БЛИЕВ,
обозреватель «МГ».http://www.mgzt.ru/%E2%84%96-54-%D0%BE%D1%82-27-%D...%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
|
Метки: пешковы красный крест |
Аксаковы |
«Глава I»
АРЗАМАССКАЯ (ВПОСЛЕДСТВИИ УФИМСКО-САМАРСКАЯ) ВЕТВЬ
Николай Иванович Аксаков
Николай Иванович Аксаков родился в 1730 году. Его отец Иван Родионович дослужился до чина майора. Как было принято в дворянской среде, Николай Иванович Аксаков был записан на службу мальчиком, став в 1742 году рядовым драгунского Троицкого полка. Действительная служба началась гораздо позже. В октябре 1753 года он получил чин прапорщика, а через два года – подпоручика, участвовал в Семилетней войне, воевал на территории Пруссии.
В марте 1760 года Николай Иванович Аксаков был уволен в гражданскую службу, причислен к VIII классу по «Табели о рангах» и назначен воеводой в город Романов. Там он пробыл до 1778 года, зарекомендовал себя дельным администратором, добился увеличения доходов, а в 1775 году расследовал хищение денежных сумм в Костромской провинции. В 1771 году активно боролся в Романове с эпидемией чумы.
В августе 1778 года Николай Иванович Аксаков стал советником Ярославского наместнического правления, а в марте 1785 года – председателем Ярославской гражданской палаты. В 1793 году он получил чин действительного статского советника.
Новый император Павел I, заменявший высших должностных лиц империи, в январе 1797 года назначил его ярославским вице-губернатором, пожаловав в октябре того же года чин тайного советника. В следующем месяце (10 ноября) Николай Иванович Аксаков получил назначение на пост смоленского губернатора, но ровно через месяц (11 декабря) последовал указ императора о возвращении его в Ярославскую губернию на аналогичную должность. Краткость пребывания в смоленских губернаторах привело к тому, что некоторые исследователи ошибочно считают, что Николай Иванович Аксаков даже не выезжал в Смоленск.
Его недолгое (до января 1799 г.) губернаторство в Ярославле было отмечено двумя крупными событиями: во-первых, в 1798 году он организовывал проезд Павла I через территорию губернии, во-вторых, руководил составлением ее топографического описания.
Император остался доволен приемом. В июне 1798 года Николай Иванович Аксаков был пожалован орденом Святой Анны I степени, а (уже оставив пост) в октябре 1800 года получил чин действительного тайного советника. Это самый высокий чин, когда-либо полученный представителями рода Аксаковых.
Умер Николай Иванович Аксаков 11 октября 1802 года и погребен в Толгском монастыре Ярославского уезда.
Михаил Николаевич Аксаков
Высокий служебный статус, достигнутый отцом, оказал существенное влияние на карьеру сына Михаила.
Дата его рождения точно неизвестна, в литературе указывались либо 1755 год, либо 1757 год.
Однако первая дата представляется более достоверной, поскольку в формулярном списке, составленном в апреле 1818 года, указано, что ему 62 года.
В службу Михаил Николаевич Аксаков был записан в 1771 году рядовым в привилегированный Лейб-гвардии Измайловский полк, где дослужился до сержанта и в 1783 году был выпущен капитаном в армию. Однако в том же году он перешел на придворную службу, переименован в коллежского асессора и определен в ведение обер-егермейстера. В январе 1797 года, как и отец, Михаил Николаевич Аксаков получил заметное повышение, стал бригадиром, и был назначен присутствовать в Военной коллегии по ремонтной части. В июне того же года он стал генерал-майором, а в 1799 году – генерал-лейтенантом. В октябре 1800 года Михаил Николаевич Аксаков занял должность отца, стал ярославским гражданским губернатором с переименованием в тайные советники. Однако, через три дня он был вновь переименован в генерал-лейтенанты с оставлением членом Военной коллегии. В феврале 1816 года Михаил Николаевич Аксаков (единственный из рода) получил сенаторское звание.
Как и отец, он имел орден Святой Анны I степени (пожалован 26 апреля 1799 г.), к которому в 1808 году получилалмазные знаки. Являлся мальтийским рыцарем, будучи удостоен в ноябре 1800 года командорственного креста Св. Иоанна Иерусалимского. Умер Михаил Николаевич Аксаков 12 июня 1818 года, погребен с отцом и матерью в том же Толгском монастыре Ярославского уезда.
Сергей Тимофеевич Аксаков
Начало широкой известности уфимско-самарской ветви рода Аксаковых было связано с деятельностью Сергея Тимофеевича Аксакова, писателя, театрального и литературного критика, общественного деятеля.
Он родился 20 сентября 1791 года в Уфе в доме родителей в Голубиной слободке, в 1805–1807 годах учился в Казанском университете. В 1807 году Сергей Тимофеевич Аксаков переехал в Москву, а с 1808 года жил в Петербурге, где (с 1810 г.) служил в Комиссии по составлению законов и в Экспедиции о государственных доходах. В это же время стал участвовать в заседаниях «Беседы любителей русского слова». В 1819 году был от службы уволен с производством в чин коллежского асессора. В 1821–1826 годах жил в селе Куроедово (Надёжино, позднее – Надеждино) Белебеевского уезда Оренбургской губернии. С 1821 года являлся членом Общества любителей российской словесности.
С осени 1826 года – снова в Москве, где в июле 1827 года был определен цензором Московского цензурного комитета, а в октябре того же года стал его председателем. В декабре 1828 года в связи с реорганизацией цензурного комитета был уволен от должности и причислен к Департаменту народного просвещения для особых поручений. В июне 1830 года Сергей Тимофеевич Аксаков был окончательно отстранен от должности за разрешение к печати пародии В.А. Проташинского «Двенадцать спящих будошников». С 1833 года он работал инспектором Константиновского землемерного училища, которое в 1835 г. было преобразовано в Межевой институт. Сергей Тимофеевич Аксаков стал его первым директором. В мае 1839 года Сергей Тимофеевич Аксаков вновь вернулся на службу в Московскоий цензурный комитет, где был определен сторонним цензором.
В 1856 году он был избран членом-корреспондентом Петербургской Академии наук. Сергей Тимофеевич Аксаков играл большую роль в общественной и литературной жизни Москвы. С конца 1820-х годов его дом являлся одним из центров духовной жизни города. Позднее аналогичным центром стало его имение Абрамцево Московской губернии. Его перу принадлежат такие известные произведения как «Записки об уженье», 1847 г. (далее выходившие под названием «Записки об уженье рыбы»), «Записки ружейного охотника Оренбургской губернии», 1852 г., «Семейная хроника», 1856 г., «Детские годы Багрова — внука», 1858 г., «Аленький цветочек» и другие. От брака с Ольгой Семеновной Заплатиной (1 марта 1793 г. – 2 мая 1878 г.), дочерью генерал-майора Семена Григорьевича Заплатина и пленной турчанки Игель-Сюм, Сергей Тимофеевич Аксаков имел четырех сыновей – Константина, Григория, Ивана, Михаила и семь дочерей – Веру (1819–1864 гг.),
Ольгу (1821–1861 гг.), Надежду (1829–1869 гг.), Анну (1829–1829 гг.),
Любовь (1830–1867 гг.), Марию (1831–1906 гг.), Софью (1835–1885 гг.). Из дочерей только одна Мария была замужем. Ее мужем стал Егор Антонович Томашевский, сын цензора иностранных газет на Московском почтамте Антона Францевича Томашевского – друга Сергея Тимофеевича Аксакова. Скончался Сергей Тимофеевич Аксаков 30 апреля 1859 года в Москве и был погребен в Симоновом монастыре.
Впоследствии перезахоронен вместе с сыном Константином на Новодевичьем кладбище.https://aksakoff.ru/2010/01/chapter1/2/
Константин Сергеевич Аксаков
Сыновья Сергея Тимофеевича Аксакова оставили заметный след в общественнополитической жизни России середины – второй половины XIX века. Один из создателей славянофильского учения, писатель, публицист, филолог, историк, лингвист, литературный критик Константин Сергеевич Аксаков37родился в селе Ново-Аксакове Бугурусланского уезда Оренбургской губернии 29 марта 1817 года. В начале 1830-х годов он воспитывался в пансионе М.П. Погодина, в 1835 году окончил словесное отделение Московского университета.
Будучи студентом, участвовал в кружке Станкевича, активно изучал труды немецких философов. Летом 1838 года совершил поездку в Германию и Швейцарию. В 1839 году познакомился и сблизился с Ю.Ф. Самариным и А.С. Хомяковым, под влиянием которых окончательно сложились его общественно-политические взгляды, вскоре Константин Сергеевич Аксаков стал лидером московского кружка славянофилов. В 1847 году К.С. Аксаков защитил магистерскую диссертацию «Ломоносов в истории русской литературы и русского языка», однако места в Московском университете не получил из-за отсутствия вакансий, а предложение преподавать в Киевском университете отклонил.
После неудачной попытки начать преподавательскую карьеру, жил в Москве, активно участвовал в общественной жизни. С 1832 года сотрудничал в московских журналах, печатался в «Московском литературном и ученом сборнике» (1846–1847 гг.), «Московском сборнике» (1852 г.), журнале «Русская беседа», где его статьи определяли политическое направление журнала в целом, в 1857 году фактически редактировал газету «Молва». К.С. Аксаков написал значительное количество работ по истории России, о творчестве Н.В. Гоголя, стихов, драматических произведений.
В основе его общественно-политической концепции лежит признание исторической исключительности России. Он полагал, что до IX века у славян не было государства, а основной формой общежития была «земля», «община». Внешняя опасность (угроза со стороны «бранных, неугомонных» соседей) заставила славян «призвать на защиту государство». Это было необходимым средством сохранения «земли». Добровольное призвание варягов определило, по мнению Константина Сергеевича, особый путь исторического развития России, в которой народ и власть сосуществовали «как отдельные, но дружественные союзные силы»: народ, добровольно принявший князей, выступал как «первый страж власти», власть же видела в народе не «покоренного раба», а свободного подданного и союзника. Последний тезис обусловил его убеждение в невозможности для России революции. Принятие славянами православия, которое К.С. Аксаков считал единственно истинной формой христианства, обозначило непреодолимый рубеж между Россией и католическим Западом. Историческая роль России, ее «богоизбранность» заключалась в сохранении православия как истинного христианства для всего человечества.
По его мнению, вся жизнь русского народа есть реализация «внутренней правды», в основе которой находится народная религиозность. Функцией государства является воплощение «внешней правды», т.е. законодательная деятельность. В русской истории эти две силы сосуществуют вместе, не смешиваясь, не вступая в конфликты, доверяя одна другой, и поддерживая друг друга. С его точки зрения содружество государства и народа в XVI–XVII веках нашло выражение в земских соборах. Эта гармония была нарушена реформами Петра I, которые, коснувшись лишь верхних социальных слоев и не затронув народа, нарушили исконно существовавшее между ними равновесие. Эта позиция выразилась в противопоставлении К.С. Аксаковым «московского периода» истории «петербургскому». Одним из результатов реформ Петра I Константин Сергеевич считал конфликт крестьян с помещиками, которые в результате реформ оказались оторванными от «народа» и противопоставленными ему. Основой дальнейшего развития России, по его мнению, должно было стать крестьянское общинное землевладение — одно из высших исторических достижений национальной жизни русского народа. Эти идеи легли в основу славянской идеологии и трактовок русской истории.
Деятельность К.С. Аксакова не ограничивалась только историческими рассуждениями, он пытался воздействовать на власть. В 1855 году он представил императору Александру II «Записку о внутреннем состоянии России», в которой резко критиковал «угнетательную систему» правительства, предлагал меры к восстановлению «древнего отношения государства и земли»: уничтожение крепостничества, созыв всесословного совещательного Земского собора, обеспечение свободы слова, мнений и т.п. Среди литературоведческих работ Константина Сергеевича Аксакова выделялись критические работы о творчестве Н.В. Гоголя. Он выступал против так называемой «петербургской литературы», особенно против писателей натуральной школы, упрекая их за оторванность от «земли» и чувство «мнимого превосходства» над народом. Одновременно Константин Сергеевич Аксаков высоко оценивал творчество И.С. Тургенева, А.Н. Островского, Ф.И. Тютчева, Л.Н. Толстого. Переживания, вызванные смертью отца, сильно подорвали здоровье К.С. Аксакова. Он заболел скоротечной чахоткой, уехал на лечение заграницу. Умер Константин Сергеевич Аксаков 7 декабря 1860 года на острове Занте (Закинф) в Греции. Женат не был.
Иван Сергеевич Аксаков
Не менее важный вклад в развитие русской культуры и общественной мысли внес младший брат Константина Сергеевича Аксакова – Иван Сергеевич, публицист и поэт.
Он родился 26 сентября 1823 года в селе Надеждине (Куроедово) Белебеевского уезда Оренбургской губернии. В 1842 году окончил привилегированное Императорское училище правоведения, которое по статусу приравнивалось к университету. В 1842–1843 годах служил в Москве, в VI (Уголовном) департаменте Сената. В 1843–1844 годах – член комиссии сенатора П.П. Гагарина по ревизии Астраханской губернии. В 1845–1847 годах – товарищ председателя Калужской уголовной палаты. В 1847–1848 годах – обер-секретарь VI департамента Сената в Москве. В 1848–1849 годах служил по ведомству Министерства внутренних дел, был командирован в Бесарабию для изучения религиозных сект.
17 марта 1849 года Иван Сергеевич Аксаков был арестован в Петербурге за выраженное в частном письме возмущение арестом Ю.Ф. Самарина и другие резкие высказывания в адрес правительства. 22 марта был освобожден с установлением негласного надзора полиции и определен на службу в Ярославскую губернию.
В феврале 1851 года министр внутренних дел Л.А. Перовский потребовал от И.С. Аксакова прекратить «авторские труды», на что тот ответил отказом, вышел в отставку и уехал в Москву. В 1852 году Иван Сергеевич Аксаков выступил редактором-составителем «Московского сборника», который стремился превратить в орган пропаганды славянофильских идей. В 1853–1854 годах, по поручению Русского географического общества, изучал ярмарки на Украине.
В годы Крымской войны И.С. Аксаков, ясно осознавая связь поражения русской армии с крепостнической системой, восхищался героизмом солдат. Он считал, что поражение в войне создает возможность осуществить давно необходимые преобразования. Несмотря на отрицательное отношение к власти, в 1855 году записался добровольцем в Серпуховскую дружину Московского ополчения, но принять участия в боевых действиях не успел.
В 1856 году он работал в комиссии князя В.И. Васильчикова по расследованию интендантских злоупотреблений в годы войны. Став свидетелем массовых крестьянских выступлений на юге России, И.С. Аксаков окончательно пришел к убеждению в необходимости отмены крепостной зависимости, наделения крестьян землей, чтобы предотвратить всеобщий бунт. К концу служебной карьеры имел чин надворного советника.
В 1857 году И.С. Аксаков ездил за границу, встречался с А.И. Герценом, до 1863 года являлся его тайным корреспондентом. В 1857–1858 годах он редактировал газету «Молва», летом 1858 года фактически возглавил журналы «Сельское благоустройство» и «Русская беседа». В январе 1859 года начал издавать газету «Парус». С начала 1860-х годов Иван Сергеевич Аксаков являлся наиболее известным публицистом славянофильского направления, издавал газеты «День» (в 1861–1865 гг.) и «Москва» (в 1867–1868 гг.).
И.С. Аксаков усвоил многие идеи московских славянофилов, но полностью их не разделял. Он скептически относился к идеализации Древней Руси в работах брата Константина и А.С. Хомякова, высоко оценивал преобразования Петра I. Стремясь привлечь внимание к торговым и промышленным выгодам России, И.С. Аксаков считал необходимым создание нового учения, основанного на признании преимуществ артельно-общинного производства. Он был активным участником славянофильских дискуссий, занимался углубленным изучением истории России, в том числе исторических источников, а также политической экономии. В 1860-х годах выступил с идеей о «самоупразднении» дворянства как господствующего сословия, его слиянии с «земством» (крестьянством) и создании на этой основе принципиально новой, народной интеллигенции, включающей лучших представителей всех сословий. Она должна была разрешить главное противоречие общества – между «землей» и «государством». Основным условием этого процесса И.С. Аксаков считал полную свободу слова и мнений, что выливалось в критику действий правительства. Выдвигая проект, Иван Сергеевич Аксаков подчеркивал: «Мы полагаем, что дворяне не посетуют на нас за такой искренний и прямой совет человека, принадлежащего, по происхождению, к их же среде и сословию».
В конце 1860-х–1870-е годы он пришел к выводу об исторической завершенности славянофильства как целостного идейного течения и сосредоточил основное внимание на проблемах славянства, чему способствовали панславистские идеи Ф.И. Тютчева и знакомство с теорией Н.Я. Данилевского. В понимании И.С. Аксакова славянский вопрос имел не только внешнеполитическое, но и внутриполитическое значение для России, поскольку она играла роль духовного и нравственного лидера славянского мира. Иван Сергеевич Аксаков вел активную общественную деятельность по реализации своих взглядов. С 1857 года он являлся фактическим руководителем Московского славянского комитета, оказывал помощь славянским студентам, был одним из инициаторов Славянского съезда в Москве, прошедшего в 1867 году, организовал широкую кампанию по поддержке национально-освободительной борьбы славянских народов против османского гнета. В 1878 году на собрании Московского славянского благотворительного общества он выступил с резкой критикой итогов Берлинского конгресса. За это был снят с поста председателя общества и выслан из Москвы. Женился Иван Сергеевич Аксаков на Анне Федоровне Тютчевой (1823–1886 гг.). Свадьба состоялась 12 января 1865 года в Москве.
Умер Иван Сергеевич Аксаков 27 января 1886 года в Москве, погребен вместе с женой в Троице-Сергиевой лавре.
Благодаря общественно-политической и литературной деятельности Сергея Тимофеевича, Константина Сергеевича и Ивана Сергеевича Аксаковых род, к которому они принадлежали, к началу XX века стал одним из самых известных в России.
Григорий Сергеевич Аксаков
Григорий Сергеевич Аксаков (04.01.1820 г.–11.02.1891 г.), в отличие от братьев, посвятил себя исключительно гражданской службе. Он являлся известным государственным деятелем второй половины XIX века. Получив блестящее юридическое образование в Училище правоведения (окончил его в 1840 году), служил в системе Министерства внутренних дел и достиг заметного должностного положения.
В 1852–1853 годах – оренбургский вице-губернатор, в 1855–1858 годах – самарский вице-губернатор, с 1871 года – тайный советник. В период проведения крестьянской реформы Григорий Сергеевич Аксаков занял должность оренбургского гражданского губернатора (с 23 июня 1861 года), в 1867–1872 годах – самарский губернатор. После выхода в отставку продолжал службу в дворянском самоуправлении Самарской губернии, будучи последние семь лет жизни губернским предводителем дворянства.
Имел множество наград, в том числе – ордена Святого Станислава и Святой Анны первых степеней, неоднократно получал «благоволения» от императора за удачную реализацию реформ в руководимой губернии, в частности в 1870 году – за «содействие при открытии в г. Самаре окружного суда».
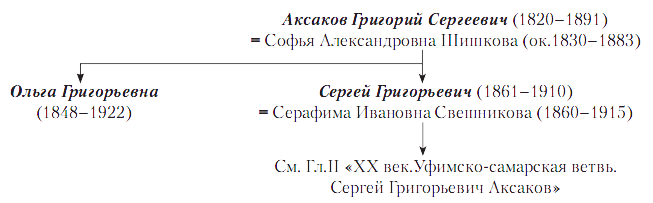
Женат Григорий Сергеевич Аксаков был на представительнице известного самарского рода Софье Александровне Шишковой (1830-27 июня 1883 гг.), дочери бузулукского уездного предводителя дворянства, корнета Александра Федоровича Шишкова (ок. 1788 — до мая 1848 гг.) и Марии Алексеевны Булгаковой (ок. 1800 — после 1848 гг.). Венчание состоялось 8 января 1848 года в Симбирске, в Спасовознесенском соборе.
Из сыновей Сергея Тимофеевича Аксакова, Григорий Сергеевич, единственный имел потомство. Формулярные списки и поколенные росписи упоминали двух детей Григория Сергеевича Аксакова: дочь Ольгу и сына Сергея. Однако в книге Г.Ф. и З.И. Гудковых сообщалось, что у него было еще двое детей — Наталья и Константин, которые умерли в младенчестве. При этом отмечалось, что Константин родился 14 января 1864 года в Уфе, и его восприемниками при крещении являлись Иван Сергеевич, Вера Сергеевна и Ольга Семеновна Аксаковы.
Страницы статьи — 1 2 3 4https://aksakoff.ru/2010/01/chapter1/2/
|
Метки: аксаковы |
Род Набоковых |
Гудкова Зинаида: Род Набоковых
Род Набоковых
1350 - ???? - Набок-Мурза - татарский князь
1650 - ???? - Иван Набоков
1680 - 1753 - Федор Иванович Набоков
1700 - 1753 - Иван Федорович Набоков - три сына: Андрей, Александр, Анастасия
1739-1807 - Набоков Александр Иванович. Генерал от инфантерии. Участник всех екатерининских войн.
Похоронен на кладбище Александро-Невской лавры в Петербурге - Сыновья - Иван, Петр и Николай:
1787 - 1852 - Набоков Иван Александрович. Дворянин Новгородской губернии. Генерал от инфантерии (1835), Генерал-адъютант (1844).
Комендант Петропавловской крепости, содержал там супостата Достоевского
Барон Корф со сдержанной гордостью сообщает, что на другой день после потрясших столицу катаклизмов император спокойно прогуливался по улицам "как всегда, совершенно один", а вечером почтил своим присутствием публичный маскарад. Шаг этот требовал известного мужества: под любой из масок мог в принципе скрываться еще не схваченный злодей...
В самый день ареста, 23 апреля, высочайше учреждается секретная следственная комиссия. Иван Александрович Набоков, старый солдат, участник войн с Наполеоном, недавно принявший необременительную должность коменданта Петропавловской крепости, назначается председателем. Генерал, еще не ведающий о том, что в грядущем столетии судьба произведет его в двоюродные прадеды знаменитого писателя (который в одной из своих книг родственно упомянет о доброте предка к необыкновенному узнику), окажется слишком прост для необходимых по делу письменных занятий. Поэтому это бремя возложит на себя один из членов Комиссии, шестидесятилетний князь Павел Петрович Гагарин. (Он оправдает надежды: недаром именно ему в 1866-м будет доверено отправить на виселицу Дмитрия Каракозова.)
Иван Александрович Набоков похоронен в Санкт-Петербурге на Комендантском кладбище около петропавловского собора.
Жена Пущина Екатерина Ивановна 1791-1866.
Дети Ивана Александровича:
1824 - ???? - Петр Иванович
1826 - 1882 - Иван Иванович, Действительный статский советник, камергер
1815 - 1885 - Екатерина Ивановна, замужем за А. П. Полторацким
1816 - 1839 - Александра Ивановна
1820 - ???? - Вера Ивановна, фрейлина
1828 - ???? - Анна Ивановна
1833 - ???? - Надежда Ивановна
1835 - ???? - Софья Ивановна
1790 - 1848 - Пётр Александрович - Генерал-майор
Сыновья Петра Александровича:
???? - ???? - Александр Петрович - генерал-майор, председатель Виленского военного окружного суда
???? - ???? - Николай Петрович - коллежский советник, управлял почтовой частью в Подольской губернии
1794 - 1873 - Николай Александрович. Выпускник Морского кадетского корпуса. Совершил несколько плаваний. На Новой Земле его именем названа река.
Жена 1808 -1847 Назимова Анна Александровна.
Сыновья Николая Александровича:
1827-1904 - Дмитрий Николаевич. В 1878-1885 министр юстиции в течение восьми лет, при двух царях. Член Государственного Совета. Дмитрий. Он женился (24 сентября 1859 года) на Марии, семнадцатилетней дочери барона Фердинанда-Николая-Виктора фон Корф (18051869), немецкого генерала русской службы.
Жена Корф Мария Фердинандовна 1842-1926
1829-1886 - Михаил Николаевич, состоял саратовским вице-губернатором

Баронесса Мария Фердинандовна Корф (1842-1926) на даче в Батово, с дочерьми
В молодости Дмитрий Николаевич был влюблен в светскую красавицу Нину - жену генерала барона фон Корфа. Для того чтобы общаться беспрепятственно, баронесса выдала замуж за Дмитрия Николаевича Набокова свою пятнадцатилетнюю дочь Марию.
Дмитрий Николаевич оставался любовником тещи и исполнял супружеские обязанности по отношению к ее дочери.
Ее первые четверо детей [Нина (1860), Наталья (1862), Вера (1863) и Дмитрий (1867)] были его.
Остальные пятеро имели, по её [Марии Фердинандовны] намёкам потомству, имели других отцов, так как своего престарелого мужа она не любила.
Трое - [Серегей (1868), Владимир (1870), Константин (1872)], в том числе любимец Владимир, отец писателя, якобы имели настоящим отцом некую высокопоставленную особу (можно было понять, что это сам царь - Александр II).
Предпоследний ребенок [Елизавета (1877)] - непонятно чей, а последний [Надежда (1882)] - былa дочерью учителя старших детей.
Не то важно, что Набоков, таким образом, возможно, родственник царской династии (сам он никогда этим не кичился и этого не признавал), а что в этом семейном предании уже заключен сюжет "Лолиты": герой предания связан сексуально с матерью и ее дочерью, только здесь треугольник с обратным знаком: не на матери женился герой, чтобы овладеть несовершеннолетней дочерью, а на юной дочери, чтобы беспрепятственно любить ее мать.
1. Сыновья Дмитрия Николаевича - Дмитрий , Сергей, Владимир и Константин:
1867 - 1949 - Дмитрий Дмитриевич, унаследовавший набоковские владения в тогдашнем Царстве Польском.
Первая жена Фальц-Фейн Лидия Эдуардовна 1870-1937.
Вторая жена - Мари Редлих.
У него было шестеро детей (Дмитрий, Аня, Николай, Владимир, Михаил, Мария), в том числе сын Николай:
1903-1978 - Николай Дмитриевич - Родился в Любче близ Гродно. Композитор. До 1933 жил в Париже, затем переехал в США.
Первая жена княжна Наталья Алексеевна Шаховская (1903-1988) из рода Шаховских
Сын Иван, все остальные жены нерусские.
1868 - 1940 - Сергей Дмитриевич. Жена - Тучкова Дарья Николаевна, праправнучка фельдмаршала Кутузова, князя Смоленского
Сын:
1902 - 1998 - Сергей Сергеевич Набоков, историк рода, почетный председатель Союза русских дворян за рубежом, бельгийский подданный.
Родился 11.07.1902 в им. Батово под Царским Селом, умер 09 декабря.
1870-1922 - Набоков Владимир Дмитриевич - Один из лидеров кадетов, юрист, публицист. Депутат первой Государственной Думы.
В 1917 управляющий делами Временного правительства. Родился в Царском селе.
Семейное предание гласило, что Набоков Владимир Дмитриевич был незаконнорожденным сыном Александра II - Освободителя
Эмигрировал в 1920. Погиб, защищая Милюкова

Набоковы: Владимир (1899), Сергей (1900) и маленький Кирилл (1911), Ольга (1903) и Елена (1906)
Сыновья:
???? - ???? - первый сын родился мёртвым
1899 - 1977 - Владимир Владимирович,
1900 - 1945 - Сергей Владимирович - погиб 10 января - в концентрационном лагере Nazi под Гамбургом
1911 - 1964 - Кирилл Владимирович - умер не то в Мнихе, не то в Брюсселе
Дочери:
1903 - 1978 - Ольга Владимировна - в первом браке княжна Шаховская, во втором Петкевич
1906 - ???? - Елена Владимировна - в первом браке Сколиари, во втором Сикорская, умерла в Швейцарии
1872 - 1927 - Константин Дмитриевич - первый секретарь русского посольства в Лондоне (до 1920). Когда его освободили от обязанностей, обосновался в Норвегии. Константин Дмитриевич Набоков, известен как автор книги «Испытания дипломата» (Стокгольм, 1923), которая содержит в себе интересные подробности внешней политики последних лет царствования Николая II. Автор книги в качестве первого секретаря русского посольства в Лондоне «принимал как первую, так и вторую делегацию, приезжавшие из Петербурга в Лондон в 1916 году». Некоторое время он заменял посла, а затем, после отставки, выехал в Норвегию. Семьи не имел. Умер 18 марта 1927 в Лондоне
2. Дочери Дмитрия Николаевича:
1862 - 1938 - Наталья Дмитриевна - за Петерсоном Карлом Александровичем, русским консулом в Гааге
1863 - 1938 - Вера Дмитриевна - за Иваном Григорьевичем Пыхачевым, охотником и землевладельцем
1960 - 1944 - Нина Дмитриевна - с 1955 по 1923 год - за бароном Раушем фон Траубенбергом - военным губернатором Варшавы
Второй муж - адмирал Николай Николаевич Коломейцев, герой японской войны
1877 - 1942 - Елизавета Дмитриевна - за Генрихом, князем Сайн-Виттгенштейн-Берлебургским, а после его смерти за Романом Фёдоровичем Лейкманом, гувернером ее сыновей. Урожденная Набокова, жена светлейшего князя Г. Ф. Сайн-Витгенштейна, бывшая фрейлина
1882 - 1954 - Надежда Дмитриевна - за Дмитрием Вонлярлярским, с которым она впоследствии развелась.
* * *
По словам литературного критика В. Федорова, творчество Владимира Владимировича Набокова (1899-1977) для нашего читателя - «почти неподнятая целина, и наших критиков и литературоведов еще ждет изучение «воздушного моста», перекинутого Набоковым между русской, американской и европейской литературой».
Первая книга на родине замечательного писателя русской эмиграции Владимира Набокова вышла в Москве, в издательстве «Художественная литература», и стала известна российскому читателю только в 1988 году. 1) В книге мемуаров «Другие берега» писатель сообщает о своей жизни в России и Европе вплоть до отъезда в Америку в 1940 году.
О своей родословной В. Набоков сообщил очень немногое
«Восемнадцати лет покинув Петербург, я был слишком молод в России, чтобы проявить какое-либо любопытство к моей родословной; теперь я жалею об этом. Уже в эмиграции кое-какими занятными сведениями снабдил меня двоюродный мой дядюшка Владимир Викторович Голубцов, большой любитель таких изысканий.
У него получалось, что старый дворянский род Набоковых произошел… от обрусевшего шестьсот лет тому назад татарского князька по имени Набок. Бабка же моя, мать отца, рожденная баронесса Корф, была из древнего немецкого рода и находила простую прелесть в том, что в честь предка-крестоносца был будто бы назван остров Корфу.
Корфы эти обрусели еще в восемнадцатом веке, и среди них энциклопедии отмечают много видных людей. По отцовской линии мы состоим в разнообразном родстве или свойстве с Аксаковыми, Шишковыми, Пущиными, Данзасами…
Среди моих предков много служилых людей; есть усыпанные бриллиантовыми знаками участники славных войн; есть сибирский золотопромышленник и миллионщик Василий Рукавишников, дед моей матери Елены Ивановны; есть ученый президент медико-хирургической академии Николай Козлов, другой ее дед; есть герой Фридляндского, Бородинского, Лейпцигского и многих других сражений генерал-от-инфантерии Иван Набоков, брат моего прадеда, он же директор Чесменской богадельни и комендант С. -Петербургской крепости; есть министр юстиции Дмитрий Николаевич Набоков, мой дед; и есть, наконец, известный общественный деятель Владимир Набоков, мой отец». 2)
По многочисленным источникам мне удалось определить не только имена, попавшие в набоковскую автобиографию «Другие берега», но также и новые фамилии, по праву вписавшиеся в родословную Набоковых: Полторацкие, Мордвиновы, Бакунины, Оленины, Мертваго, Голицыны и другие.
Дед писателя Дмитрий Николаевич Набоков (1827-1904) окончил училище правоведения в Петербурге, с 1872 года служил при наместнике Царства Польского, с 1876 - член Государственного совета, в 1878-1885 - министр юстиции. 3) Отец писателя, Владимир Дмитриевич Набоков (1869-1922) - публицист, один из основателей партии кадетов, товарищ председателя ее ЦК, депутат I Государственной думы. 4)
После Октябрьской революции семья Набоковых оказалась в Крыму, где недолгое время В. Д. Набоков занимал пост министра юстиции Крымского краевого правительства, а весной 1919 года на грузовом греческом судне семья в числе других беженцев покинула Россию, как оказалось позже, навсегда. 5) В 1922 году на одном из собраний эмигрантов в Берлине В. Д. Набоков заслонил П. Милюкова от пули монархиста и был убит.
В 1925 году В. В. Набоков женился на Вере Слоним, которой посвятил все свои книги. В 1934 году у них родился сын Дмитрий, лучший, после отца, переводчик русских книг Набокова на английский язык. В 1937 году семья переехала в Париж, где В. В. Набоков жил и работал до отъезда в Америку. 6) У писателя были два брата: Сергей и Кирилл, о них в своей книге очень скупо упоминает Зинаида Алексеевна Шаховская. 7)
Своей сестре Елене Владимировне Сикорской Набоков посвятил стихи. Их переписку издательство «Ардис» (Мичиган) опубликовало в 1985 году на русском языке. 8)
Дядя писателя, Константин Дмитриевич Набоков, известен как автор книги «Испытания дипломата» (Стокгольм, 1923), которая содержит в себе интересные подробности внешней политики последних лет царствования Николая II. Автор книги в качестве первого секретаря русского посольства в Лондоне «принимал как первую, так и вторую делегацию, приезжавшие из Петербурга в Лондон в 1916 году». Некоторое время он заменял посла, а затем, после отставки, выехал в Норвегию. Семьи не имел. 9)
Брат прадеда Владимира Набокова, Иван Александрович Набоков (1797-1852), - участник Отечественной войны 1812 года, генерал-лейтенант, впоследствии генерал-адъютант, генерал-от-инфантерии, муж Екатерины Ивановны Пущиной (1791-1866). Они проживали в Пскове во время ссылки А. С. Пушкина в Михайловском (1824-1825) и общались с поэтом. 10)
Отсюда родство Набоковых с Пущиными
Другой брат прадеда писателя, подполковник Николай Александрович Набоков (1794-1873), был женат на Анне Александровне Назимовой (1808-1847), мать ее Марфа Степановна, урожденная Шишкова (1762-1844). 11 )
Женой Григория Сергеевича Аксакова (1820-1891) была двоюродная племянница адмирала Александра Семеновича Шишкова, Софья Александровна Шишкова. Здесь Набоковы пересекаются с Шишковыми и Аксаковыми.
Дочь генерал-лейтенанта Ивана Александровича Набокова Екатерина Ивановна (1815-1885) вышла замуж за полковника Алексея Павловича Полторацкого (1802-1863), кишиневского знакомого Пушкина, с которым поэт был на «ты». 12)
Мать Алексея Павловича Варвара Михайловна является урожденной Мордвиновой. 13)
Так Набоковы входят в родство с Полторацкими и Мордвиновыми
Двоюродный брат Алексея Павловича Полторацкого, Александр Александрович Полторацкий (1792-1855), женился на Екатерине Павловне Бакуниной (1795-1869), художнице, бывшей предметом юношеской любви Пушкина во время его учебы в лицее. Чувство к ней нашло отражение более чем в 20 стихотворных произведениях поэта. Пушкин присутствовал на ее свадьбе в 1834 году. 14)
Ее мать Татьяна Михайловна, также урожденная Бакунина. Таким образом Набоковы входят в родство с Бакуниными. Из этого же рода Бакуниных происходила жена писателя М. А. Осоргина - Татьяна Алексеевна Бакунина.
Двоюродная сестра Алексея Павловича и Александра Александровича Полторацких, Анна Петровна Керн, урожденная Полторацкая (1800-1879), известна как предмет недолгого, но сильного чувства Пушкина, выраженного им в стихотворении «Я помню чудное мгновенье» (1825). Известны также одиннадцать писем Пушкина к ней и два письма А. Керн к Пушкину. Первая их встреча произошла в Петербурге у Олениных: ее тетка Елизавета Марковна Полторацкая была замужем за Алексеем Николаевичем Олениным (1763-1843).
Около тридцати лет просуществовал литературный и аристократический салон Алексея Николаевича и Елизаветы Марковны Олениных в Петербурге и славился в просвещенных и художественных кругах особым гостеприимством. Салон Оленина, по свидетельству современника, «соединял в себе все, что было замечательного в Петербурге по части литературы и искусства».
Хозяин салона являлся президентом Академии художеств, а после смерти А. С. Строганова его назначили директором Публичной библиотеки. Это был писатель, художник, археолог, знаток и ценитель древностей, особенно искусства классической Эллады. Член всех ученых обществ.
«Оленин отличался лояльностью взглядов. В его салоне царила терпимость к инакомыслящим, он жил мирно и с Шишковым и с Карамзиным. По словам современника А. Н. Пыпина, эти качества хозяина дома объединяли вокруг него значительную группу образованнейших людей своего времени.
Собирались почти ежедневно к обеду и засиживались часто до поздней ночи, беседовали, шутили, критиковали произведения друзей - музыкантов, художников, писателей.
С. Т. Аксаков вспоминал: «В 1820 году Загоскин написал комедию «Добрый малый» и посвятил ее своему начальнику, директору Публичной библиотеки Алексею Николаевичу Оленину… Все без исключения русские таланты того времени собирались около него, как около старшего друга».
А. Н. Пыпин отмечал: «Кружок, собиравшийся в доме Оленина, был в те годы почти единственным, где собирались представители настоящей литературы от Карамзина до Пушкина». 15)
Знакомство Пушкина с Олениными относится к 1817 году. С тех пор поэт стал частым посетителем салона, где встречался с Н. И. Гнедичем, В. А. Жуковским, И. А. Крыловым, будущим декабристом М. П. Бестужевым-Рюминым и другими представителями русской культуры. Пушкин приходил к Олениным «как свой человек» и часто беседовал с хозяином об искусстве. Однако в 1828 году ему отказали в сватовстве к дочери Оленина - Анне Алексеевне. 16)
На сестре Елизаветы Марковны Олениной, Варваре Марковне Полторацкой, был женат тайный советник и сенатор Дмитрий Борисович Мертваго (1760-1824), крестный отец Сергея Тимофеевича Аксакова. 17)
Брат жены Д. Б. Мертваго, генерал-лейтенант Константин Маркович Полторацкий (1782-1858), женился на княжне Софье Борисовне Голицыной (1795-1871).
Владимир Набоков, сообщая о своей родословной, отметил «двоюродного дядюшку» Владимира Викторовича Голубцова, известного генеалога. Его отец, Виктор Николаевич Голубцов, был женат на родных сестрах: в первом браке на Вере Николаевне, во втором - на Елене Николаевне Набоковых. Вера и Елена были дочерьми подполковника Николая Александровича Набокова и Анны Александровны, урожденной Назимовой.
Между прочим, Виктор Владимирович Голубцов, является потомком Константина Степановича Голубцова, прибывшего вместе с Иваном Григорьевичем Нагим для построения города Уфы в 1574 году. 19)
Примечания
1. Набоков Владимир. Машенька. Защита Лужина. Приглашение на казнь. Другие берега. - М., Худ. лит., 1988.
2. Набоков Владимир. Рассказы. Воспоминания. - М., Современник, 1991, с. 475, 476.
3. Энциклопедия «Просвещение», т. 13, с. 592.
4. Российский архив. Вып. 5, М., 1994, с. 421.
5. Федоров Валентин. О жизни и литературной судьбе Владимира Набокова. // Владимир Набоков. Стихотворения и поэмы. - М., Современник, 1991, с. 5.
6. Там же, с. 6.
7. Шаховская Зинаида. В поисках Набокова. Отражения. - М., Книга, 1991, с. 13, 15.
8. Федоров Валентин, указ. соч., с. 6.
9. Берберова Н. Люди и ложи. Русские масоны ХХ столетия. // Вопросы литературы. № 5. М., 1990, с. 156, 157.
10. Черейский Л. А. Пушкин и его окружение. - Л., Наука, 1989, с. 282.
11. Декабристы. Биографический справочник. Под ред. академика М. В. Нечкиной. - М., Наука, с. 124, 125.
12. Черейский Л. А., указ. соч., с. 342.
13. Декабристы, с. 147.
14. Черейский Л. А., указ. соч., с. 23.
15. Санкт-Петербург. Занимательные вопросы и ответы. СПб., «Паритет», 1999, с. 321, 322.
16. Черейский Л. А., указ. соч., с. 304.
17. Исторический вестник, 1913, февраль, т. 131, с. 353.
18. Черейский Л. А., указ. соч., с. 304.
19. Несколько слов о роде Голубцовых из «Родословного сборника русских дворянских фамилий», составленного В. Руммелем и В. Голубцовым. СПб., 1886, с. 8
автор - Зинаида Гудкова
Источник: http://nabokov-lit.ru/nabokov/bio/gudkova-rod-nabokovyh.htm
http://nabokov-lit.ru/nabokov/bio/gudkova-rod-nabokovyh.htm
|
Метки: набоковы корфы сайн-витгенштейн |
Страна мечтателей, страна ученых. Какие открытия делали советские математики, инженеры и биологи в ГУЛАГе |
Страна мечтателей, страна ученых. Какие открытия делали советские математики, инженеры и биологи в ГУЛАГе
17.01.2017
Первые «особые конструкторские бюро» и «специальные конструкторские бюро» появились в лагерях ОГПУ еще в конце 1920-х: туда отправляли инженеров, строителей и других специалистов, осужденных по статье «вредительство». В сентябре 1938 года приказом наркома внутренних дел Николая Ежова был создан Отдел особых конструкторских бюро НКВД СССР, которому подчинялись разбросанные по ГУЛАГу конструкторские бюро (КБ) и научно-исследовательские институты (НИИ), где работали ссыльные и заключенные ученые и специалисты. Среди самых знаменитых шараг, как называли тюремные КБ их работники — «Туполевская шарага» и «Тушинская шарага», специализировавшиеся на авиационных двигателях; «Марфинская шарага» (будущий концерн «Автоматика»); лаборатория «Б» в Челябинской области, занимавшаяся ядерными разработками, и ОКБ-172 при ленинградской тюрьме «Кресты», где в 1940-е разработали десятки образцов военной техники.
Николай Кошляков. Математика на куске фанеры
Математика Николая Кошлякова арестовали в конце 1941 года в блокадном Ленинграде по делу «Союза старой русской интеллигенции», также известному как «дело №555». Ученых брали буквально по списку: всех, кого так или иначе упоминали на допросах их репрессированные в 1936-37 годах коллеги. Всего за решеткой оказалось 127 человек, в том числе профессора Андрей Журавский, Николай Розе и другие. Фабула обвинения сводилась к тому, что «реакционно настроенные» ученые и инженеры ждали прихода немецких оккупантов, чтобы восстановить в стране капитализм.
Кошлякова приговорили к расстрелу, но заменили высшую меру наказания десятью годами лагерей и отправили по этапу на Урал, в лагерь вблизи Соликамска. Тем временем его семья эвакуировалась в Новосибирскую область, и сын, уезжая, забрал с собой некоторые работы отца, а также второй том «Курса современного анализа» Уиттекера и Ватсона, и при первой же возможности отправил все это в лагерь (в 1943 году Кошлякову разрешили переписку).
Позже со ссылкой на собственные воспоминания и рассказы математика его коллеги писали, что вместо бумаги, которой в лагере не хватало, Кошляков использовал фанеру, соскребая ранее написанное куском стекла. Расчеты он делал в бараке для доходяг: ученого не посылали на общие работы, так как он был истощен и страдал пеллагрой. В 1943-44 годах Кошляков написал две важных работы: «Исследование некоторых вопросов аналитической теории рационального и квадратичного поля» и «Исследование одного класса трансцендентных функций, определяемых обобщенным уравнением Римана». Последнюю работу ему, находясь в ГУЛАГе, удалось опубликовать.
Закончив труд, ученый показал его лагерной администрации и объяснил, что записи представляют ценность для науки. Начальство переслало исследование на Лубянку, оттуда оно попало на экспертизу в Математический институт имени Стеклова Академии наук СССР и легло на стол академику Ивану Виноградову. Тот дал прочитать его академику Сергею Бернштейну, и ученые поспешили отправить в НКВД положительный ответ. Бернштейн написал и самому Кошлякову в Соликамск: «Надеюсь, что здоровье и силы помогут Вам продолжить Ваши прекрасные исследования». Прочитав открытку от академика, лагерное руководство выдало заключенному Кошлякову бумагу и увеличило паек. В конце 1944 года математика этапировали в Москву: он стал работать в так называемой шараге — теоретическом отделе конструкторского бюро СБ-1 (впоследствии из этой шарашки выросло НПО «Алмаз» имени Расплетина).
Исследование ученого увидело свет в 1949 году, когда он еще отбывал срок. Разрешение на публикацию органы НКВД дали, но запретили упоминать фамилию математика-заключенного, поэтому работу издали под псевдонимом Н.С. Сергеев.
Освободился Сергей Кошляков в 1951 году, в 1953 году ему дали Госпремию СССР, орден Ленина и квартиру в Москве, а в 1955 году математик и другие ленинградские ученые, арестованные по «делу №555», были реабилитированы. Многие — посмертно.
Юрий Кондратюк. Гигантское зернохранилище и полет на Луну
Настоящее имя инженера Юрия Кондратюка — Александр Шаргей. Он родился в Полтаве, рос в Петербурге, жил в Киеве. Закончил школу прапорщиков и после Октябрьской революции оказался мобилизован в Белую армию, дезертировал и пытался уйти пешком за границу, но был задержан. Ареста Шаргею удалось избежать: с помощью мачехи молодой человек получил поддельные документы на имя уроженца Луцка Юрия Васильевича Кондратюка. Под этим именем он и жил до конца своих дней.
Опасаясь репрессий как бывший офицер царской армии, Кондратюк уехал сначала на Кубань, затем на Урал и, наконец, в Сибирь. В 1927 году, работая на Алтае механиком на зернохранилищах, он предложил построить огромный элеватор на 13 тысяч тонн зерна. Проект был осуществлен и получил название «Мастодонт»: гигантская деревянная постройка в городе Камень-на-Оби была возведена без единого гвоздя и без чертежей — Кондратюк строил ее как русскую избу, только высотой эта изба была с семиэтажный дом.
Сначала на строительство гиганта дали добро, но летом 1930 года Кондратюка и еще нескольких сотрудников предприятия «Хлебопродукт» арестовали и обвинили во вредительстве: инженеру вменяли намерение уничтожить 10 тысяч тонн зерна и приговорили к трем годам лагерей, которые позже заменили ссылкой.
В ссылке Кондратюк работал в одной из первых шараг — специализированном бюро для инженеров-заключенных №14 в Новосибирске, которое занималось проектированием угольных предприятий. Вместе с другим ссыльным инженером, Горчаковым, они подали заявку на объявленный Наркоматом тяжелой промышленности конкурс по проектированию Крымской ветроэлектростанции (ВЭС) и победили. Об их освобождении из ссылки просил лично нарком Григорий Орджоникидзе, и с 1933 года Кондратюк работал над проектом на свободе. В 1937 году на горе Ай-Петри началось строительство его ветроэлектростанции.
Инженер запатентовал множество изобретений и написал несколько важных теоретических работ в области космонавтики, самая известная — «Завоевание межпланетных пространств». Кондратюк рассчитал оптимальную траекторию полета к Луне, которую NASA применило в своей программе «Апполон» в 1961 году. Когда началась Великая Отечественная война, изобретатель ушел добровольцем на фронт. В феврале 1942 года он погиб.
Обвинения с Кондратюка сняли в 1970 году, реабилитировав его за отсутствием состава преступления. Построенное им зернохранилище «Мастодонт» простояло до 1997 года, когда сгорело во время пожара.
Лев Термен. Музыка сфер и шпионаж
Лев Термен родился в конце XIX века в Санкт-Петербурге в дворянской семье с французскими корнями. Одновременно закончил консерваторию и физико-математический факультет университета и поступил на работу в институт академика Абрама Иоффе. В 1920 году, в возрасте 24 лет, Термен изобрел электромузыкальный инструмент, которому дал имя терменвокс. Изобретение прославило его на весь мир. Играя на терменвоксе, не нужно нажимать клавиши или касаться струн — движения руки в воздухе воздействуют на чувствительную антенну, а на выходе формируется сигнал с разной частотой. Именно терменвокс считается «дедушкой» всех современных электронных музыкальных инструментов.
Изобретение Термена имело успех в СССР (акустик лично демонстировал его Ленину), а также в Европе и США. В 1920-е годы изобретатель поучаствовал в нескольких крупных выставках, получал множество приглашений и часто ездил за границу. В 1926 году Термен изобрел «дальновидение» — смог передать изображение на расстоянии.
В 1928 году он на десять лет переезжает в США. Как говорила спустя много лет его дочь Наталья Термен, «с 1928 по 1938 год Термен осуществлял интернациональную, культурную и научную миссию в США». Другие источники, впрочем, сообщали, что в Соединенных Штатах Термен работал не только как ученый, но и как советский разведчик: якобы он был командирован в Америку начальником 4-го армейского управления РККА (внешней разведки) Яном Берзиным.
В США Термен вращался в кругах политической и деловой элиты, арендовал целый шестиэтажный дом, в котором устроил студии и мастерские, запатентовал терменвокс и еще несколько изобретений, связанных с акустикой. Среди немузыкальных работ Термена — система сигнализации для тюрем Синг-Синг и Алькатрас.
В 1938 году он вновь оказался в СССР: в своих поздних интервью, уже в конце 1980-х, изобретатель утверждал, что сам просился на родину, но его американская супруга Лавиния Вильямс настаивала, что отъезд мужа не был похож на добровольный. Так или иначе, органы НКВД обещали Термену, что его жене будет позволено приехать к нему в Советский Союз, но этого не произошло. А в 1939 году всемирно известный создатель терменвокса оказался под арестом. Термена объявили причастным к покушению на Кирова: согласно обвинению, в 1934 году Киров собирался посетить Пулковскую обсерваторию, а работавшие там астрономы якобы заложили фугас в маятник Фуко. Роль Термена — который в 1934 году жил в США — была такова: в тот момент, когда Киров подойдет к маятнику, он с помощью радиосигнала прямо из Америки должен был привести фугас в действие.
Изобретателю дали восемь лет лагерей и отправили на Колыму, но там он изобрел самоходную тачку, которая позволяла сократить нагрузку на заключенных, и Термена перевели в «туполевскую шарагу» — авиационное конструкторское бюро в Омске. На новом месте инженер работал над прототипами современных беспилотников, а также устройствами для прослушки. За одно из них, под названием «Буран», заключенный Термен получил Сталинскую премию первой степени — и сам факт награждения, и разработка были засекречены.
Другое устройство, получившее название «Златоуст», в 1945 году было установлено в здании посольства США. Разработанный Терменом «жучок» не требовал элементов питания и проводов, а действовал на основе высокочастотного резонанса. Устройство подарили американскому послу Авереллу Гарриману пионеры в «Артеке» — они преподнесли дипломату огромное деревянное панно в форме большой печати США, а внутри массива дерева был спрятан «жучок». Гарриман повесил подарок в своем кабинете, и прослушка исправно работала восемь лет. Обнаружили устройство случайно (в переписке американских спецслужб, а затем в литературе оно получило название The Thing — «эта штука») и еще несколько лет не могли разобраться, как оно работает.
Термен вышел на свободу вскоре после получения премии в 1947 году и был реабилитирован еще до смерти Сталина. Женился в третий раз — на молодой сотруднице госбезопасности. До 1960-х годов в Европе и США считали, что он умер в 1940-е годы в Советском Союзе; о том, что Термен жив и здравствует, случайно узнал журналист The New York Times. После публикаций в западной прессе Термена уволили из Московской консерватории. Работать ему пришлось на должности механика при физическом факультете МГУ, а лабораторию (изобретатель продолжал заниматься акустикой и совершенствовать терменвокс) он организовал в своей комнате в коммуналке.
Незадолго до того, как КПСС прекратила свое существование, Термен вступил в партию — как, по его словам, и «обещал Ленину». Умер Лев Термен в 1993 году.
Николай Тимофеев-Ресовский. Нобелевский комитет не дозвонился
Генетик Николай Тимофеев-Ресовский происходил из дворянской семьи, но в годы Гражданской войны воевал в рядах Красной армии. С 1922 года молодой ученый работал с основателем русской школы экспериментальной биологии Николаем Кольцовым. В 1925 году по рекомендации Кольцова и приглашению немецкого Общества кайзера Вильгельма Тимофеев-Ресовский поехал работать в Берлин — в лабораторию исследования мозга Оскара Фогта.
Весной 1937 года биологу и его жене отказались продлить паспорта в советском консульстве, вынуждая их вернуться на родину. Но учитель и коллега Кольцов предупреждал Тимофеева-Ресовского, что ехать в Советский Союз не стоит: в Москве уже были арестованы трое из четырех его братьев. Так ученый стал невозвращенцем и остался в гитлеровской Германии.
В 1945 году он по-прежнему жил в Берлине, работая в институте мозга. Когда город заняли советские войска, военная администрация сначала назначила Тимофеева-Ресовского директором Института исследования мозга в Бухе, а затем задержала его и этапировала в Москву. Ученого проверяли на причастность к нацистским преступлениям, никаких свидетельств его участия в военных разработках не обнаружили, однако признали виновным в измене родине и приговорили к десяти годам исправительно-трудовых лагерей.
Сначала Тимофеев-Ресовский оказался в Карлаге, где чуть не умер от голода, но в 1947 году его отправили на Урал в так называемую лабораторию «Б» — изучать воздействие радиации на живые организмы. Местом работы Тимофеева-Ресовского стал «Объект 0211» — закрытая лаборатория за колючей проволокой в глухой тайге. Правда, жил ученый уже не в бараке, а в отдельном доме вместе с женой, которая также была биологом и работала в той же секретной лаборатории. Тимофеев-Ресовский был одним из пионеров дозиметрии, его исследования положили начало ядерной медицине.
В начале 1950-х ученого выдвинули на Нобелевскую премию исследования мутации, но советские власти не ответили на запрос Швеции о том, жив ли он.
За колючей проволокой Тимофеев-Ресовский работал до 1951 года, затем его освободили из заключения, а в 1955 году сняли судимость, но вернуться в Москву не позволили. Генетик работал сначала в Свердловске, потом в Обнинске, в конце 1960-х снова оказался в Москве. Умер он в 1981 году, а реабилитирован был только через 11 лет.
ЮНЕСКО объявило 2000 год годом Николая Тимофеева-Ресовского.
Лев Зильбер. Патент на имя НКВД
Будущий вирусолог и иммунолог Лев Зильбер рос в большой семье, у его родителей было шестеро детей. Известность получил не только Лев: брат Давид Зильбер стал военным врачом, Александр прославился как композитор и режиссер (по совету певицы Лидии Руслановой он сменил фамилию Зильбер на Ручьев), а Вениамин — как писатель (он работал под псевдонимом Каверин).
Закончив Псковскую гимназию (там Лев подружился с будущим писателем Юрием Тыняновым) и Петербургский университет, Зильбер поработал в Москве, Франции и Германии, а в 1929 году стал директором Азербайджанского института микробиологии в Баку.
В 1930 году ученый победил вспышку легочной чумы в городе Гадрут в Нагорном Карабахе. В Баку его встречали, как героя, представили к ордену — но буквально через несколько недель обвинили в диверсии. Якобы микробиолог сам организовал эпидемию, а затем привез с собой чумные бактерии из Гадрута, чтобы заразить все население Азербайджана. Зильбер четыре месяца провел в изоляторе, был этапирован в Москву на Лубянку — но к маю вышел: как полагал он сам и его близкие, благодаря заступничеству Максима Горького, к которому обратился младший брат Вениамин.
В 1930-е Зильбер боролся с эпидемией оспы в Казахстане, создал в Институте микробиологии Академии наук отделение вирусологии и Центральную вирусную лабораторию Наркомздрава, которую и возглавил. Он разработал эффективную противочумную вакцину и выдвинул гипотезу о вирусном происхождении злокачественных опухолей. В 1937 году отправился в экспедицию на Дальний Восток, где открыл вирус клещевого энцефалита, изучил эпидемиологию заболевания и его переносчика — таежного клеща, а также выделил 29 штаммов вируса. По возвращении Зильбер оказался в Сухановской тюрьме по обвинению в шпионаже, измене родине и диверсиях.
Как выяснилось позже, донос на него написал директор института, у которого возник производственный конфликт с ученым. Директор заявил, что на Дальнем Востоке вирусолог с коллегами специально заражали колодцы, чтобы распространять энцефалит, а не бороться с ним. В Москве, согласно обвинительному заключению, Зильбер собирался отравить водопровод. Ученому дали десять лет исправительно-трудовых лагерей и отправили в Печорский лагерь, где он сначала работал на лесоповале, а затем стал лагерным врачом.
В заключении Зильбер разработал лекарство от пеллагры — смертельной в лагерных условиях болезни, вызванной истощением и авитаминозом. При пеллагре у человека начинается сильнейший понос и сходит лоскутами кожа. «Я узнал, что олений мох — ягель — содержит много углеводов, и организовал довольно значительное производство дрожжей, используя обработанный соответствующим образом олений мох в качестве среды для их размножения. Дрожжи были очень важным продуктом в наших условиях, главным образом, как источник витаминов. При подкожном введении они оказывали весьма благоприятное действие на тяжелые авитаминозы и дистрофии, в которых не было недостатка», — вспоминал впоследствии сам ученый.
В 1944 году антипеллагрин даже удалось запатентовать — правда, авторское свидетельство было выписано не на имя Зильбера, а на Народный комиссариат внутренних дел (НКВД). Создателя лекарства перевели с Крайнего Севера в подмосковную шарагу — Загорский тюремный институт. По воспоминаниям ученого, около двух недель ему пришлось провести в тюрьме с уголовниками — так Зильбера «уговаривали» присоединиться к работе бактериологической лаборатории. Но ему удалось отказаться, и вирусолога перевели в другую шарашку, где он смог работать над своей теорией вирусного происхождения рака, которая имела и имеет огромное значение для последующих исследований.
В том же 1944 году Зильбер вышел из лагеря, а в 1946 году ему дали Сталинскую премию за монографию об энцефалите, над которой он работал, когда был арестован — то есть фактически наградили за те исследования, которые в 1939 году были истолкованы как «диверсия». В 1949 году судимость сняли, в 1955 году ученый был реабилитирован. В 1966 году Лев Зильбер умер, работая в своей лаборатории.
Иллюстрация: Влад Милушкин / Медиазона
Полная версия материала на сайте первоисточника: Медиазона
Источник: Медиазона
https://istpamyat.ru/diskussii-ocenka-novosti/stra...-inzhenery-i-biologi-v-gulage/
|
Метки: термен репрессии |
Судьба заключенной «Неизвестной» |
Судьба заключенной «Неизвестной»
25.02.2016
Об удивительной судьбе Софьи Крамской, дочери художника И.Н. Крамского, позировавшей для картины «Неизвестная». О неизвестной трагедии девушки из школьных учебников, чей портрет знаком каждому. Жаль, что никто не рассказывает о ее тюремном заключении.

Софья Крамская, единственная девочка среди своих братьев (и потому, наверное, отцовская любимица), родилась предположительно в 1866 (по другим сведениям в 1867 году). Она училась в обычной гимназии, но благодаря творческой атмосфере, царившей в родном доме, рано почувствовала интерес к живописи. Отец старался развивать художественные навыки дочери и стал ее первым учителем. В детские годы Соня среди знакомых считалась некрасивой, но в юности, как это случается со многими девочками, похорошела. Однако для отца она всегда была самой любимой моделью. Даже когда девочке из-за болезни обстригли волосы и у нее на голове отрастал неровный ежик (Соня пыталась прикрыть его кружевной косынкой), и тогда на полотнах отца дочь-подросток представала настоящей красавицей с бездонными глазами.

Будучи ровесницей дочерей П.М. Третьякова Веры (в замужестве Зилоти) и Сашеньки (в замужестве Боткиной), Соня с ними очень дружила. Вера Зилоти позже вспоминала:
«Соня была некрасива, но с умным, энергичным лицом, живая, веселая и необычайно талантливая к живописи… В 16–17 лет Соня… похорошела, волосы отросли. Фигура у нее стала длинная, тонкая. Она прекрасно танцевала. Ее веселость, остроумие и entrain (притягательность, обаяние) привлекали к ней много поклонников». Соня действительно была очень изящной — Репин, ученик Крамского, восхищался ее фигурой, Альберт Бенуа всерьез ухаживал за ней, но в свои 30 лет он казался шестнадцатилетней Соне слишком «старым». У нее появился другой жених — Сергей Сергеевич Боткин, молодой врач, представитель известной медицинской династии. Родственники торжественно отметили помолвку молодых, Крамской на радостях написал великолепные парные портреты жениха и невесты…

Как говорится, человек предполагает, а Бог располагает. Сергей Боткин неожиданно для всех влюбился в подругу своей невесты Александру Третьякову. Помолвка оказалась расторгнутой, и вскоре Саша Третьякова вышла замуж за бывшего жениха подруги. Соня Крамская нашла в себе силы сохранить с ней приятельские отношения. Но происшедшее надолго повергло Соню в тоску. Спасла Софью живопись. Шестнадцатилетняя девушка с головой ушла в работу и стала демонстрировать по-настоящему профессиональные успехи.
«Между Соней и ее отцом была редкостная дружба, переходившая в обоюдное обожание», – писала Зилоти. В 1884 году Крамской, чтобы отвлечь Соню от душевных терзаний, вместе с дочерью отправляется в заграничную поездку (заодно и свое сердце подлечить — он был уже очень болен). Путешествуя по Франции, Софья пристрастилась к живописным этюдам на плэнере. Спустя год после путешествия Крамской писал: «Дочка моя, известная… ветреница, начинает подавать мне серьезные надежды, что уже есть некоторый живописный талант». Крамской понимал, что умирает, а дочь еще не встала на ноги и не нашла себя. Незадолго до смерти Иван Николаевич, тревожившийся за судьбу Софьи, сказал: «Девочка, а как сильна, как будто уже мастер. Подумаю иногда, да и станет страшно… личная жизнь грозит превратиться в трагедию». Софья действительно долго не могла оправиться от удара, ни в кого не влюблялась и не выходила замуж. Только в зрелом возрасте, в 1901 году, когда отца уже давно не было в живых, она заключила брак с петербургским юристом финского происхождения Георгием Юнкером.

Крамской, несмотря на простое происхождение (он был сыном писаря из городка Острогожска), был принят при дворе и даже стал там своим человеком, не раз выполняя портреты членов императорского семейства (Александр III был большим демократом и предпочитал общение с обычными людьми, особенно — талантливыми, общению с романовским кланом), давал уроки живописи дочерям императора. Своими при дворе стали и его дети. Софья Крамская тоже выполнила ряд работ, запечатлев императора, императрицу, их детей, прежде всего цесаревича, и других родственников. Но почти ничего не сохранилось. Что-то было уничтожено либо пропало в годы революции, что-то из собственных работ было передано ею в Острогожский музей, на родину отца, вместе с его картинами, и когда в 1942 году в музее вспыхнул пожар, погибло вместе с большей частью его коллекций.
Софья была признанной портретисткой, ее просто осыпали заказами. Увы. судьба многих работ, находившихся в частных руках, в домах и усадьбах, разгромленных в период революции, так же осталась неизвестной. Софья Крамская неоднократно и с большим успехом принимала участие в различных художественных выставках самого высокого уровня — в Академии художеств, в Обществе живописцев-аквалеристов, в художественном отделе Всероссийской ярмарки в Нижнем Новгороде и др. Была она известна и как книжный иллюстратор, оформляя, например, издания к юбилею Пушкина. Замечательными были и ее жанровые картины. После замужества Софья Юнкер-Крамская много помогала своему мужу, который собирал материалы о декабристах и готовил книгу-исследование об этом периоде истории. Книга так и не была опубликована…
Муж Софьи Ивановны в 1916 году скончался. А вскоре начались и другие беды — революция, Гражданская война, смерть матери в 1919 году… Но Софья Ивановна, которой было уже далеко за пятьдесят, старалась приспособиться к новой жизни. С 1918 года она работала в художественно-реставрационных мастерских Главнауки. Ей, глубоко верующему человеку, пришлось стать организатором антирелигиозного музея Зимнего дворца и иллюстрировать «Историю религии» в издательстве «Атеист». Ей, дочери Крамского, прославленного мастера религиозной живописи, автора росписей купола Храма Христа Спасителя и великих христианских полотен! Свою веру Софья Ивановна особо не скрывала, как и не скрывала христианское желание помочь ближнему. В Ленинграде мучилось много ее знакомых из «прошлой жизни» — смолянок, фрейлин, просто лиц дворянского происхождения. Лишенные всего — жилья, имущества, службы и каких бы то ни было доходов, многие буквально голодали. Дочь художника помогала им устроиться на работу, пусть с самым скромным жалованьем, достать переводы, уроки, перепечатку на машинке, чтобы как-то выжить. Все это и вменили пожилой женщине в вину — и то, что «была очень религиозной», и то, что помогала друзьям…

Софья Юнкер-Крамская была арестована 25 декабря 1930 года, обвинялась по статье 58-II УК РСФСР в контрреволюционной пропаганде. Ей вменялось в вину создание ни много ни мало «контрреволюционной группировки из бывшей знати, ставившей себе целью проведение своих людей в разные советские учреждения на службу для собирания сведений о настроениях…». Все, проходившие по делу, говорили о религиозности художницы, что усложняло ее положение. Кстати, в материалах дела было указано, что София Ивановна Юнкер-Крамская родилась 21 августа 1867. (Дата рождения, указанная на допросе, расходится с той, что была известна ранее – 1866 годом, – из писем отца художницы. Но можно предположить, что отцу это было лучше известно, чем следователю из органов).

Крамская-Юнкер была приговорена как «чуждый элемент» к 3 годам ссылки в Сибирь, но из-за нервного потрясения у нее случился инсульт. С тяжелым параличом она была отправлена в тюремную больницу ДПЗ. Ее кое-как подлечили и через четыре месяца все же послали по этапу в Иркутск. Полупарализованная женщина добралась до Иркутска, но через три недели ее перевели в Канск, через месяц, с ухудшившимся состоянием – в Красноярск.
15 октября 1931 года Юнкер-Крамская из красноярской больницы написала письмо Екатерине Павловне Пешковой, оказывавшей помощь политзаключенным. Софья Ивановна рассказала о тяжелой болезни, о перенесенных во время ссылки двух операциях. Она пыталась доказать, что приносит пользу, что всегда, несмотря на состояние здоровья, работала: в Иркутске – как иллюстратор учебников и колхозных журналов, в Канске – как фотограф и ретушер в местной газете. В Красноярске с ней случился второй удар, отнялась левая часть тела. Ее просьба состояла в смягчении участи: если нельзя вернуться домой в Ленинград, то пусть ее хотя бы оставят в Красноярске до поправки здоровья и обязательно предоставят работу, ведь правая рука действует, не разбита параличом. «Я пишу и портреты, и плакаты, лозунги, афиши, вывески, иллюстрации, знаю фотографическую ретушь, раскраску фотографий, языки, я работать могу, люблю… О моей рабочей жизни Вам может подтвердить Елена Дмитриевна Стасова, с отцом которой был так дружен мой покойный муж. О музее Крамского Вам тоже могут дать сведения и она, и товарищ Луначарский…»
В конце письма отчаянные строки: «Я могла делать ошибки в своих суждениях, могла что-нибудь не так правильно оценивать, могла криво судить о положении вещей, но преступления я не совершала никакого – и сознательно так горячо любя свою страну, после смерти мужа (он был финляндским подданным) – переменила свои бумаги на русские, подписав тогда уже отказ от каких бы то ни было претензий на имущество. Было даже смешно поступить иначе. Помогите мне! Я написала просьбу о помиловании М.И. Калинину. Я прошу Вашего содействия. Я оправдаю милость, если мне она будет дарована, могу уверить в этом Вас. Я честно проработала 40 лет. Тяжко последний, быть может очень короткий срок – чувствовать себя – так наказанной… Я собрала последние силы, чтобы написать Вам все это…»
28 февраля 1932 года было возбуждено ходатайство о пересмотре дела Юнкер-Крамской в связи с неизлечимой болезнью, а также в связи с тем, что ссыльная «не представляет… социальной опасности». 25 марта 1932 года София Ивановна вернулась в Ленинград. 31 июля 1932 года Юнкер-Крамская написала благодарственное письмо Е.П. Пешковой, сообщив, что собирается работать и дальше, насколько позволят силы. В 1933 году художница умерла при странных обстоятельствах. Якобы, она уколола палец, когда чистила селедку, и, по словам брата, «умерла от рыбьего яда». Реабилитировали ее за отсутствием состава преступления только в 1989 году.

В Государственном архиве РФ сохранилось ее письмо:
«Высокоуважаемая Екатерина Павловна, Вы разрешите мне послать Вам эти несколько строк. Меня освободили! Если бы Вы только знали, каким чувством глубокой благодарности полны мои мысли и душа. Я не знаю, простите, право не знаю, полагается ли мне писать вообще о моем чувстве признательности, но я следую своей внутренней потребности это сделать… Вы не посетуйте на то, что я делаю это, если это не полагается, я не знаю, но не последовать душе этой потребности было невозможно! Я снова здесь, в Ленинграде, где прошла моя длительная рабочая жизнь — и теперь я снова, быть может, буду в состоянии начать работать хоть немного, насколько позволят мне мои силы, которые восстановятся во мне с сознанием возможности снова работать! Я не знаю даже, кому мне говорить о том, что я чувствую, и как я признательна. Но, думая, что сделалось все это через Высокое учреждение, которого являетесь Представительницей, — я пишу Вам. Ну, это даже ни Вам, никому не будет нужно, пусть это не принято, пусть это не полагается — я все же повторяю: я беспредельно благодарна, что поверили и моему искреннему раскаянию, и моей порядочности старого общественного работника, и моему горячему желанию загладить работой мои какие бы то ни было оплошности и несознательные заблуждения. И хотя я, конечно, очень больна еще и слаба, но, сколько мне позволят воспрянувшие силы — то оставшееся мне время до неизбежного конца я смогу употребить на реабилитацию моего рабочего имени, как самой по себе, так и как дочери Крамского. Еще раз прошу простить меня, если я делаю что-либо, выходящее из рамок допускаемого.
С глубоким уважением,
Художница С. И. Юнкер-Крамская».
Источники и использованные материалы:
- ГАРФ. Ф. 8409. Оп. 1. Д. 772. С. 199. Автограф.
- Портал http://subscribe.ru/
- Сервис http://maxpark.com/
- Портал http://www.vsdn.ru/museum
- Выставки советского изобразительного искусства : Справочник. Т. 1. — М., 1965. — С. 550 (указ.); Т.В.Юденкова. С.И.Юнкер-Крамская.
Источник: Бессмертный баракhttps://istpamyat.ru/lyudi-i-sudby/sudba-zaklyuchennoj-neznakomki/
|
Метки: пешковы красный крест мир живописи крамские юнкер репрессии третьяковы |
Правозаступники – предшественники правозащитников |
Правозаступники – предшественники правозащитников
28.03.2015

Екатерина Павловна Пешкова
На этой неделе правозащитное движение могло бы отметить важную дату — пятидесятилетие со дня смерти одной из первых российских правозащитниц Екатерины Павловны Пешковой. Могло, но не отметило
Мы абсолютно оправданно чтим память диссидентов позднесоветской эпохи, возмущаемся, опять же справедливо, закрытием музея «Пермь-36», негодуем из-за множащихся бюстов палача и тирана Сталина. Но истоки русского правозащитного, или, как говорили раньше, правозаступного движения преданы забвению. Забыты люди, которые помогали политзаключенным 100 лет назад, в эпоху кандалов и виселиц в тюрьмах, в эпоху тотальной тьмы, когда не было не то что оппозиционных сайтов и Общественных наблюдательных комиссий, но и «Радио Свобода» с «Голосом Америки».
26 марта, в пятидесятую годовщину смерти Пешковой, на ее могиле на Новодевичьем кладбище лежали лишь две гвоздики. В честь Пешковой не названа ни одна улица, ее имени нет на московских мемориальных досках. Историк Ярослав Леонтьев рассказал Открытой России об этой мужественной женщине и о ее организации «Политический Красный крест»:
— Имя Екатерины Пешковой связано прежде всего с ее правозащитной работой, с помощью политзаключенным царской России и Советской России. Когда вообще возникли в нашей стране организации, помогавшие политзаключенным, каков был их генезис?
— Это XIX век. Говоря о генезисе, я бы назвал еще два имени: доктор Федор Гааз, о котором очень подробно рассказывал Герцен в «Былом и думах», и княжна Мария Дондукова-Корсакова, дочь камергера императорского двора и вице-президента Академии наук. Она добилась разрешения у церковных властей, у Священного синода, на посещение самой секретной тюрьмы — Шлиссельбургской. О княжне оставила очень теплые воспоминания Вера Фигнер.
То есть с одной стороны, были вот такие индивидуалы. С другой стороны, были нелегальные структуры, которые занимались помощью политическим узникам, одним из первых был «Красный крест Народной воли».
Когда в начале XX века образовывались массовые политические партии, у них были свои «Красные кресты», — они были и у эсеров, и у социал-демократов, у анархистов были «Черные кресты». Кроме чисто партийных «Красных крестов», которые, разумеется, были нелегальными, существовали надпартийные, межпартийные «Красные кресты», которые возглавлялись известными общественниками. Например, Вера Фигнер, уехав за границу, в 1910 году организовала «Комитет помощи политическим каторжанам». Пешкова встала на стезю помощи политузникам, именно начав работать с этим комитетом Веры Фигнер.
Параллельно тогда же Софья Кропоткина, супруга Петра Кропоткина, возглавила в Лондоне «Комитет помощи административно-ссыльным». То есть была некоторая специализация. Были и комитеты помощи узникам конкретных тюрем, например «Шлиссельбургский комитет».
— То есть Пешкова начала правозащитную работу в 1910 году?
— Я полагаю, Пешкова начала оказывать какое-то содействие, еще когда жила в Нижнем Новгороде в браке с Максимом Горьким. Они познакомились, когда она работала корректором в одной самарской газете, где публиковался Горький.

Максим Горький и Екатерина Пешкова
Возможно, она оказывала помощь местным краснокрестным организациям, которые там возглавлял Короленко. В дальнейшем Пешкова вошла в партию эсеров. Вполне может быть, что это было сделано отчасти и в пику Горькому после его романа с Марией Андреевой: Горький ведь, как известно, был ярым социал-демократом, а Андреева — большевичкой.
— Пешкова была политической активисткой, для которой правозащитная работа была частью партийной активности, или она была правозащитником в чистом виде?
— Уехав на Запад, Пешкова входила в «Заграничную делегацию» партии, которая заменяла собой в определенный период ЦК. Но видимо, ее не прельщала чисто партийная работа, хотя и после революции Пешкова была, по крайней мере формально, членом Московского партийного комитета (еще до раскола на правых и левых эсеров). Но проявила она себя в полной мере не как партийный активист, а именно в работе с политзаключенными.
Впрочем, общественная работа Пешковой не ограничивалась только лишь помощью политзаключенным. Она в годы Первой мировой войны возглавляла детскую комиссию в организации «Помощь жертвам войны». Они выезжали на линию фронта, занимались поиском и вывозом из зоны боевых действий детей. Схожей работой Пешкова занималась и в годы Великой Отечественной войны — она тогда эвакуировалась в Узбекистан и занималась проблемами детей, вывезенных из блокадного Ленинграда, из прифронтовых территорий.
После окончания советско-польской войны 1920 года Пешкова занималась обменом военнопленных — разыскивала поляков, отправленных в Сибирь, способствовала передаче их Польше в обмен на пленных красноармейцев, умиравших в польских лагерях.
— Интересно, как русская история, развиваясь по какой-то мистической спирали, воспроизводит вновь и вновь типажи людей. Ваш рассказ о Пешковой напоминает чем-то историю нашей современницы, журналистки и правозащитницы Виктории Ивлевой, которая участвовала в общественных кампаниях по освобождению узников «Болотного дела», а сейчас пытается помогать мирным людям в Донбассе, пытается вывозить детей из зоны военных действий… А какова была судьба возглавляемого Пешковой «Политического красного креста» после 1917 года? В царское время, как я понимаю, деятельность организации была нелегальной, а потом?
— Да, до 1917 года и эта организация, и другие подобные ей не были официально признанными. Поэтому приходилось идти на всякие ухищрения, называться и невестами, и сестрами, пытаясь добиться свиданий с политузниками. Но после революции эти организации получили пропуска в тюрьмы, проводили там анкетирование, навещали больных — в структуры «Политического красного креста», помимо юристов, входили и медики. Организовывалась помощь продуктами, одеждой, активно работала библиотечная комиссия.
— Таким образом, Советская Россия в первые годы своего существования, в отличие даже от путинской России, официально признавала, что у нее есть политзаключенные и эти заключенные имеют некие особые права, отличные от прав остальных заключенных, имеют право на особое внимание правозащитников?
— Совершенно верно. В то время слово «правозащитник» еще не использовалось, но был другой термин, семантически близкий, — «правозаступник». Да, Советская Россия не скрывала, что у нее есть политзаключенные. Это видно и из дальнейшего развития пенитенциарной системы: появятся политизоляторы, появится официальное понятие «политрежим».
— Как сложилась судьба «Политического красного креста» в дальнейшем? Ведь большевистский режим ужесточался со временем…
— Организация существовала в легальном поле с 1917 года вплоть до 30-х годов.
Когда организация была возрождена в 1918 году под прежним названием «Политический красный крест», за счет мощных фигур, которые были приглашены, — Короленко, Веры Фигнер, Кропоткина, — она держалась в Москве вплоть до 1922 года. Когда в 1922 году началась тотальная кампания по пресечению деятельности оппозиции — процесс над правыми эсерами, чистка кооператоров, «философский пароход», — старая структура «Политического красного креста» была закрыта. Закрытие состоялось под предлогом того, что у них в офисе на Кузнецком мосту нашли архив правых эсеров (они действительно взяли его на хранение). Кроме того, один из адвокатов, возглавлявших послереволюционный «Политический красный крест», Николай Муравьев, широко известный по процессам над большевиками, социал-демократ, стал в 1922 году адвокатом правых эсеров. Муравьев из Москвы был выслан.

Николай Муравьев (сидит в центре) с помощниками-адвокатами
Начался новый раунд переговоров Пешковой с реформированной ВЧК, которая теперь называлась ОГПУ, организация была возрождена под другим названием: «Помощь политическим заключенным» («Помполит»).
В таком виде организация просуществовала до ежовских времен. Это было связано с обстоятельствами очень близкого личного знакомства Пешковой через Горького с Дзержинским (он приезжал к ним в Италию, на Капри), она была лично знакома и со Сталиным, и с Ягодой. Более того, Ягода ухаживал за ее невесткой, супругой ее общего с Горьким сына Максима.
Внучка Пешковой в беседе со мной вспоминала, что однажды Ягода игриво спросил Пешкову: «Когда же вы наконец прикроете свою лавочку?» Пешкова на это ответила: «На следующий день после того, как вы прикроете свою». Черный юмор этой истории заключался в том, что Ягода был арестован и расстрелян до того, как «Помполит» окончательно прекратил свое существование.
— Анализируя деятельность «Политического Красного креста», партийных «Красных крестов», какие можно было бы извлечь уроки, полезные для сегодняшней России, сегодняшнего русского правозащитного движения?
— Сегодня, как и 100 лет назад, необходимы решительные действия самих политзаключенных в плане самоорганизации, с одной стороны, и лоббирование в хорошем смысле слова, продавливание путем каких-то шагов гражданского общества самого статуса политзаключенного, с другой стороны. Вероятно, должна быть прозрачная, пользующаяся общим доверием институция – именно такой организацией был «Политический красный крест».
И еще очень важный момент: после свержения самодержавия возрожденный «Политический красный крест» занимался реабилитацией бывших политзаключенных. Людей нужно было серьезно лечить, социально адаптировать. И если в современной России такая правозащитная структура, равная по влиятельности «Политическому красному кресту», все же сложится, то в будущем в случае политического успеха у нее все равно будет много работы — уже по реабилитации бывших политзаключенных. Она сможет переформатироваться в другую организацию с не менее важными общественными задачами.
— Один из самых болезненных вопросов современного правозащитного движения — это вопрос о том, кого можно считать политзаключенным. Одни считают, что политзаключенными нельзя признавать радикальных националистов, другие — что политзеками не могут быть те, кто совершил насильственные преступления, даже если они заключались в закидывании краской какого-то административного здания и объяснялись политическими и очень благородными мотивами. Были ли такие проблемы сто лет назад, и если были, то как их решали?
— Вопрос о том, кого считать политзеком, применительно к сегодняшней России, конечно, сложный, дискуссионный, на него так сразу и не ответишь. Но если проводить аналогии с прошлым, то там нужно разделять две ситуации: до 1917 года и после 1917 года.
До 1917 года организации, возникавшие явочным порядком, квалифицировали своих заключенных как солдат революции. Когда возник первый политический Красный крест, «Красный крест Народной воли», он сразу попытался апеллировать к принятым в 1864 году Женевским конвенциям по обращению с военнопленными. В дореволюционный период какой-то дискуссии по поводу того, кого считать политзаключенным, не велось, хотя иногда некоторые нюансы возникали. Например, когда начался поток массовых арестов во время первой русской революции 1905-1907 годов, там же было какое-то количество людей (например Махно, Котовский), которые оказались в заключении не по политическим статьям, а по уголовным, как участники вооруженных нападений; сами они считали эти нападения «экспроприациями», но российское уголовное право квалифицировало это как разбойные нападения. Можно было ли их считать политзаключенными? По этому поводу были разные мнения, но этот вопрос стоял скорее не перед правозаступниками, а перед самими коллективами политических арестантов.
Надо сказать, что тюремный мир политических узников был устроен особенным образом: у них были свои внутренние, ими же установленные правила, понятия. Было, например, понятие «коллектива» — не партийного коллектива, но некоей общности всех политузников в конкретной тюрьме. У этого коллектива был староста — все контакты с тюремной администрацией, с надзором могли идти только через него. Политузники не могли становиться частью тюремных уголовных сообществ, не должны были играть с уголовниками в карты, и так далее.
А вот после 1917 года вопрос о том, кого считать политзаключенным, решали уже правозаступники.
Хотелось бы развеять одно из стереотипных представлений, согласно которому правозаступники оказывали помощь исключительно социалистам, то есть левакам. Это далеко не так. По материалам архива «Политического красного креста» и «Помполита» прекрасно видно, что помощь оказывалась и участникам различных повстанческих движений (Антоновского восстания, Кронштадтского мятежа), тем, кто оказывал сопротивление коллективизации, представителям духовенства, представителям несоциалистических партий, бывшим офицерам. Им всем, по возможности, оказывалась помощь. Например, социалисты вряд ли бы согласились с тем, что арестованные крестьяне-кулаки являются политзаключенными. Но правозаступники помогали и им тоже. И самое интересное, что потом началась и самоорганизация заключенного духовенства, к примеру. А старые «политики» стали образовывать кассы взаимопомощи и выработали свой четкий кодекс чести.
Доктору Гаазу через 56 лет после его смерти, в 1909 году, в Москве открыли бюст, есть больницы и улицы, носящие его имя.
Про Пешкову, увы, не помнит ни Церковь, хотя она помогла не одной сотне репрессированных священнослужителей, ни даже сами правозащитники, которые могли бы озаботиться хотя бы мемориальными досками в ее честь.
Роман Попков
Источник: Открытая Россия
https://istpamyat.ru/lyudi-i-sudby/pravozastupniki...hestvenniki-pravozashhitnikov/
|
Метки: пешковы красный крест репрессии |
Дуэлянтки в Российской империи |
Дуэлянтки в Российской империи
Говорят, будто эту моду ввела Екатерина II
Предпочтительнее яда или кинжала из-за угла
Некоторые считают, что женские поединки в Новое время берут своё начало от судебных поединков Средневековья. Тогда у большинства народов Европы существовал обычай, что, при невозможности решить дело в суде с помощью улик и свидетельских показаний, правота доказывалась «судом Божиим», то есть поединком. И если обоими судящимися оказывались женщины, то ни одна не имела права выставить вместо себя наёмного бойца. Так было и в древней Руси.
Но мужские дуэли в Новое время велись в основном из-за «оскорбления чести». В этом качестве они были переняты и женщинами. И занесены, вместе с мужскими дуэлями, из Европы в Россию.
Считается, что первой русской дуэлянткой была сама Императрица Екатерина II. Ещё будучи юной немецкой принцессой, ей пришлось отстаивать свою честь в поединке на шпагах с подругой. Взойдя на русский трон, Екатерина поощряла выяснение отношений на дуэлях между своими придворными дамами. «Но только до первой крови!» – предупреждала Императрица. Правда, её не всегда слушались.
Gринцесса София Августа Фредерика Ангальт-Цербстская - будущая Екатерина II
Было ли это варварством? Вероятно, современникам представлялось, что, наоборот, дуэль это цивилизованный и честный способ разрешения конфликта между женщинами – более предпочтительный, чем отравление или даже коварная сплетня.
Фатальная вражда
Считается, что особенного расцвета женские дуэли в России достигли в первой половине 19 века – как, впрочем, и мужские. Самую громкую известность получила вражда двух соседок-помещиц Орловской губернии – Заваровой и Полесовой. Воспользовавшись отъездом своих мужей, они решили свести давние счёты с помощью их же сабель.
Дуэль происходила в присутствии секунданток – двух гувернанток дочерей дуэлянток, а также самих дочерей, коим было по 14 лет. Поединок закончился фатально. Женщины одновременно смертельно ранили друг друга. Свидетельницы сохранили происшествие втайне. Мужьям и священнику объявили о смерти от несчастного случая.
Спустя несколько лет повзрослевшие дочери дравшихся женщин сошлись в поединке на том же самом месте. И снова – такая же роковая развязка. С той лишь разницей, что одна из девушек, мучаясь на смертном одре, успела занести эту душераздирающую историю в свой дневник, благодаря чему она и получила известность.
Были ли женские дуэли более жестоки, чем мужские?
Этот случай и подобные ему часто приводятся как свидетельство того, что женские поединки были «боями без правил», а противницы неизменно стремились уничтожить друг друга, не ограничиваясь пролитием первой крови. Упоминаются и часто применявшиеся нечестные приёмы с целью непременно добиться летального исхода: например, яд на концах шпаг. Обычно это трактуется как признак неистовости, якобы присущей женщинам по их природе.
Этому могут быть два альтернативных объяснения. Первое: поскольку женские дуэли были на порядок более редким явлением, чем мужские, то к такому выяснению отношений действительно прибегали только женщины, что называется, без тормозов. Но на всех женщин это никак не бросает тени. Второе: случаи, подобные вышеприведённому, получали громкую известность и автоматически переносились в сознании на любые женские поединки.
Российская империя, конечно, ничем особенным не выдавалась, в плане женских поединков, среди других стран и времён. В древней Римской империи, например, страсть некоторых женщин подражать воинам-мужчинам и убивать друг друга привела к появлению целой прослойки женщин-гладиаторов.https://zen.yandex.ru/media/history_russian/duelia...perii-5c7f5f9e89984400b4287a44
|
Метки: российская империя их нравы |
Тайное счастье "С." Ольги, дочери Николая II. |
Тайное счастье "С." Ольги, дочери Николая II.
"Хрустальная душа", как о ней говорили, старшая дочь Николая II, Великая княжна Ольга родилась 15 ноября 1895 года.
Дневники дочерей последнего русского императора долгое время хранились под особым надзором. Однажды доверительные строки, написанные Ольгой Романовой, прочла неравнодушным взглядом крымская исследовательница Марина Земляниченко. Она первой обратила внимание на литеру С., заменявшую имя возлюбленного принцессы.
По дневникам можно проследить, как увлечение быстро становится душевной потребностью все время видеть его, быть рядом с ним. Она отмечает каждый день, проведенный без него: «Так гадко без моего С., ужасно», «без него пусто», «С. не видела и грустно». Бесконечно счастлива любой встрече с «милым», «дорогим», «золотым»…
Так чье же имя так тщательно скрывала великая княжна Ольга, доверяя только дневнику свою тайну, свою первую настоящую любовь? Крымские историки разгадали одну из тайн царской семьи, зашифрованную в дневнике великой княжны Ольги Романовой…
Дневник Ольги Николаевны.
Сопоставив дневники царевны с вахтенными журналами «Штандарта» и камер-фурьерскими журналами, Марина Александровна сумела точно назвать это имя. Сердце принцессы Ольги покорил один из вахтенных начальников царской яхты мичман Павел Воронов. Она же нашла и уникальные фотографии гвардейского офицера, который, сам о том не ведая, стал тайным счастьем — «С.» — великой княжны.
Итак, Павел Алексеевич Воронов, 25-летний мичман, сын потомственного дворянина Костромской губернии.
Великие княжны и Павел Воронов
Паровая яхта «Штандарт» была плавучим домом семьи Романовых, и домом очень любимым. Жаркое крымское лето было противопоказано императрице, и потому летние месяцы Романовы проводили на борту яхты, крейсирующей в финских шхерах. А осенью «Штандарт» доставлял августейшую семью из Севастополя в Ялту.
Случалось, что Александра Федоровна вместе с Ольгой и Татьяной наведывались в ходовую рубку корабля, украдкой совали вахтенным офицерам пирожные и конфеты, дабы скрасить нелегкую и ответственную службу. Вот тут где-то всё и началось... На тот момент 25-летний Павел Алексеевич Воронов - сын потомственного дворянина Костромской губернии, по окончании Морского Кадетского корпуса, получил назначение на крейсер "Адмирал Макаров" и отправился в заграничное плавание.
Мессинское землетрясение. Русские моряки помогают в расчистке завалов.
В экипаже "Штандарта" мичман Воронов появился вскоре после прогремевшего на весь мир события - мессинского землетрясения. 28 декабря 1908 г. мощные подземные толчки сотрясли Сицилию. Последствия землетрясения были равнозначны взрыву атомной бомбы в Хиросиме: десятки тысяч людей оказались заживо погребенными под руинами Мессины и других сицилийских городов.
Первыми на помощь пострадавшим от разгула стихии пришли русские моряки с кораблей "Слава", "Цесаревич" и "Адмирал Макаров", которые находились в Средиземном море в учебном плавании. Потом король Виктор Эммануил III послал русскому императору благодарственную телеграмму от имени всего итальянского народа.
Среди одного из экипажей кораблей был и Павел Воронов. Ольга представляла себе землетрясение по картине Брюллова "Последний день Помпеи". Гораздо значительнее казалось ей все, что пережил и совершил в Мессине отважный юноша. Возможно, именно с той поры и запал в ее сердце высокий молодой офицер, рассказывавший о страшных событиях с подкупающей простотой и скромностью.
Яхта "Штандарт"
Павел Воронов нравился всем - Николай II охотно выбирал его в партнеры по лаун-теннису, а старшие дочери - в кавалеры на танцах и в спутники на горных прогулках. Цесаревич Алексей, болезненный от природы, устав в пути, с удовольствием перебирался к нему на руки. Мало-помалу мичман, а с 1913 года лейтенант Воронов сделался непременным участником едва ли не всех общесемейных событий в Ливадийском дворце.
Молодые люди слишком увлеклись. На танцах Воронов чаще всего приглашал Ольгу, постоянно выражал радость при встречах с царской дочерью. Домочадцы и придворные не могли не заметить, что на балу, устроенном на «Штандарте» в день 18-летия великой княжны, она чаще всего и охотнее танцевала с мичманом Вороновым...
Великая княжна Ольга Николаевна и Павел Воронов (на первом плане),1912 год.
Несомненно, что оба они, прежде всего Воронов, понимали всю безысходность своих отношений. Для него чувство долга и преданности своему Государю не позволяли питать хотя бы малейшую надежду на иной поворот судьбы. Вскоре Воронову дали понять, что его женитьба на графине Ольге Клейнмихель, племяннице фрейлины, более чем желательна.
Он не посмел ослушаться. В ноябре 1913 года состоялась помолвка Павла Воронова и фрейлины Ольги Клейнмихель. Позже на свадьбу Воронова прибыл сам Император со всей семьей. "Поехали в полковую церковь на свадьбу Воронова и О.К. Клейнмихель. Дай им Господь счастья", - так напишет в дневнике княжна Ольга...
1916 год в приемной государыни. Ольга в платье сестры милосердия, перед службой.
Она продолжит писать о Павле в своем дневнике до последних дней. "Узнала, он жив. Благодарю Господа!.. Спаси его, Господи!" Спас его Господь от вражеских пуль во время войны, спас от унизительной казни с отрезанием носа, которой подверглись в дни революционного разгула некоторые офицеры "Штандарта". Спас и от кровавых "вахрамеевских ночей" в Севастополе, которые учинялись в декабре 17-го и феврале 18-го. Он с честью выжил.
Свадьбу назначили на 7 февраля 1914 года. На обручальных кольцах были выгравированы имена Павла и Ольги. Увы, не Ольги Николаевны, а Ольги Константиновны Клейнмихель… Есть ли более жестокое испытание для души 18-летней девушки, чем присутствовать на свадьбе своего возлюбленного? Но именно это пришлось пережить принцессе Ольге. Семья Романовых присутствовала на бракосочетании лейтенанта Воронова и племянницы одной из фрейлин.
Наследный принц Кароль.
Ольгу тоже поспешили выдать замуж: по всем династическим канонам суженого для нее отыскали в Румынии — наследного принца Кароля.
Но разве мог он стоять в ее глазах рядом с отважным и благородным офицером Павлом Вороновым? Карлуша — одним этим насмешливым именем в ее дневнике выражено все отношение Ольги к горе-жениху. У принца Кароля в Румынии на то время были гражданская жена и сын.
Августейшие родители, несмотря на всю политическую выгоду такого брака, не стали неволить старшую дочь. Александра Федоровна рассудила мудро: «Дело Государя решить, считает ли он тот или иной брак подходящим для своих дочерей или нет, но дальше этого власть родителей не должна идти»... Давать ответ Ольге не понадобилось - началась Первая Мировая война.
Тобольск, зима 1917 года. Николай II с Ольгой, Анастасией и Татьяной.
В январе 1916 года великая княгиня Мария Павловна предлагала в женихи ей своего сына — великого князя Бориса Владимировича, что было отвергнуто императрицей Александрой Федоровной.
К Ольге хотел посвататься влюбленный в неё родственник — Константин Константинович, сын К. Р. (Константина Константиновича Романова)...
Дальше произошёл переворот, отречение Николая II, революция, плен, гибель...
А что Павел Алексеевич Воронов? В годы Гражданской войны выполнял опасные поручения штаба Добровольческой армии. А когда военное поражение белых стало очевидным, отбыл из Новороссийска в 1920 году на английском крейсере "Ганновер" в Стамбул. Вместе с ним была жена - Ольга Константиновна. Из Турции они перебрались в Америку.
Литература: Т.Мельник - Боткина "Воспоминания о Царской Семье".
https://zen.yandex.ru/media/id/5b9cf2c3b76d9000aa0...ia-ii-5c7bf9f38b662900b3ba9a3a
|
Метки: романовы |
Вся правда об Институте благородных девиц |
Вся правда об Институте благородных девиц
В 1764 году Екатерина II издала указ о создании «Воспитательного общества благородных девиц» в Санкт-Петербурге.
Это было первое женское образовательное учреждение в России.
Позже его стали называть Смольным институтом (рядом находится Смольный монастырь), а его воспитанниц — смолянками.
Давайте немного вернемся назад во времени и представим, каково было учиться в первом женском институте.
Участвовать в новом сезоне ИБД>>>
1. В Институт благородных девиц принимали на обучение не только девочек из состоятельных дворянских семей.
Если у девушки знатного рода не было достаточно средств, она могла получить стипендию от государства или обучаться на частный капитал.
Такие воспитанницы носили на шее ленточку, цвет которой выбирал благотворитель.
Позднее будет открыто отделение и для мещан, с упрощенной системой образования…
Карл Беггров. Вид Смольного института
2. Изначально обучение девочек длилось 12 лет. (Впоследствии этот срок сократили.)
Смолянок делили по возрасту на четыре класса, которые можно было различить по цвету платья: у младшего класса, куда принимали девочек с 6 лет, — кофейного, у воспитанниц с 9 до 12 лет — синего, с 12 до 15 лет — голубого и с 15 до 18 — белого цвета.
Коричневый цвет символизировал близость к земле и был практичен, особенно для младших детей.
Более светлые цвета символизировали возрастающую образованность и аккуратность.
3. Из девочек благородного происхождения воспитывали придворных дам для большого двора императрицы или малого двора наследника Павла.
Некоторые из них даже становились фрейлинами.
Если девушка не находила места при дворе, она могла остаться преподавать в институте.
4. Театр был главным искусством XVIII века, поэтому Институт благородных девиц не мог обойтись без театра.
Так как здесь учились только девушки, а молодые люди были редкими гостями, мужские роли исполняли сами воспитанницы.
5. Согласно указу, главная цель Института благородных девиц — «...дать государству образованных женщин, хороших матерей, полезных членов семьи и общества».
В Смольном особое внимание обращалось все же на умение себя преподнести и меньше времени уделялось наукам.
6. Смольный институт выпускал учениц каждые три года.
По случаю первого выпуска Екатерина II заказала Дмитрию Левицкому серию портретов воспитанниц.
Серия состоит из семи портретов выпускниц, особенно отличившихся в науках и искусствах.
Дмитрий Левицкий. Екатерина Молчанова
7. Екатерина II часто посещала Смольный и приглашала с собой высокопоставленных гостей.
Она была там как старшая подруга: общалась и переписывалась с воспитанницами.
Императрица вникала во все дела института и жертвовала много личных средств.
8. К сожалению, после революции институт был упразднен . Но его идея легла в основу интеллектуальной онлайн-игры для девушек Институт Благородных Девиц Op Pop Art.
https://zen.yandex.ru/media/id/5b1bbd4a3c50f7e2e1f...devic-5c6163d793746600ac4e81b8
|
Метки: дворянскоое образование институт благородных девиц |
Особняк Второвых |
Особняк Второвых
Отрывок из "Городские прогулки. Чуть в сторону от Старого Арбата 1 часть." Галишникова Татьяна 02.12.2009г.
....Неожиданно я оказалась на Спасопесковской площади (речь идет о Москве), совсем небольшой, очень уютной и тихой, как маленький островок среди давящих новоарбатских небоскребов.
Первое, что выхватил мой взгляд - красивый и величественный особняк, похожий на роскошную загородную виллу. Богатый, пышный декор, арочные окна, ухоженный парадный двор с садом.
Я остановилась посреди площади и не могла на него налюбоваться. Пожалуй, это самый красивый особняк в Москве в стиле «неоампир» широко распространенном в 1910-е годы.
Флаг какой-то развевается… И тут до меня доходит, что это и есть Спасо-Ххаус – резиденция посла США. В 1933г., когда были установлены дипломатические отношения с Соединенными Штатами, он был выбран 1-ым послом для своей резиденции. На самом большом приеме в июле 1976г. в честь 200-летия образования США особняк принял ровно 3001 гостя.
У ворот, как положено, будка с охранником. Я посмела приблизиться к ограде и чуть ли, не просунув голову между чугунными прутьями, старалась запечатлеть «образец чистого неоклассического ретроспетивизма». Знаменитый бал сатаны в романе «Мастер и Маргарита» проходил именно в этом доме.
Особняк этот построен 1913-15г. по заказу крупнейшего банкира и промышленника Н.А.Второва, он выкупил участок на Собачьей площадке у княгини Лобановой-Ростовской и подарил своей жене.
Естественно, мне стало любопытно, что за человек был Второв. И нашла очень интересные материалы о нем. По версии Форбс Н.В.Второв - обладатель самого большого состояния России начала 20в. (60 миллионов золотых руб.). Прозван «русским Морганом» за деловую хватку. Его отец, костромской мещанин, в 1862г. переехал в Сибирь и открыл оптовую торговлю мануфактурой, занимался ростовщичеством. В 1897г. семья Второвых переехала в Москву, неплохо разбогатев на оптовой и розничной торговле. Сын основателя династии Н.А.Второв вкладывал большие средства в крупную недвижимость, создание промобъединений, строительство военных предприятий. Дела шли так хорошо, что когда началась Первая мировая война, Второв взял подряд на поставку вооружения: в его концерн к тому моменту входили и военные заводы. В 1916г. по заказу двора его императорского величества на второвских фабриках по эскизам мастеров русского модерна Васнецова и Коровина были изготовлены длиннополые шинели суконные шлемы, стилизованные, под старорусские шлемы, известные впоследствии, как «буденовские», а также кожаные куртки, картузы, штаны – для только что созданных автомобильных войск, «самокатчиков». Предполагалось, что в новой форме российские войска впервые пройдут победным маршем по Ундер-ден-Линден в Берлине. История распорядилась по-другому: в «буденовских» шинелях и шлемах в гражданскую провоевала красная кавалерия, а кожаные куртки и кепки носили чекисты.
Чекисты же его и убили. 5 мая в 1918г. миллионе был найден мертвым в своем кабинете в особняке. Убийцы найдены не были
Его похороны на кладбище Скорбященского монастыря с разрешения советской власти, были последним собранием буржуазии. Рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности».
В советское время в особняке находилось Центральное статистическое управление, потом дом для приемов ВЦИК, часть помещений использовалась под квартиры.
А самое интересное, что родился Второв в Иркутске. И жил он в том самом доме на Желябова, в котором находился тот самый Дворец пионеров, куда я бегала заниматься в драматический и хоровой кружки.
Думала ли я тогда, почему вдруг почти через полвека так явно всплывет перед глазами яркий бежево-красный дом?
Дом, действительно, яркий на общем фоне старого Иркутска, построенный в 1897г. в псевдорусском барокко. Не знаю, когда мне теперь удастся побывать в Иркутске, но при первой же возможности я обязательно подойду к этому дому.
А Второва-старшего, между прочим, называют «отцом русских супермаркетов». В самом деле, оптовые магазины Второвых (первый из них в Иркутске) продавали не только мануфактуру, но и готовое платье, обувь, галантерейные и парфюмерные товары. Позднее ассортимент увеличивался, магазин оснащался огромными зеркальными витринами, у покупателя появлялась возможность в одном месте, под одной крышей приобрести все, что угодно.
На самом деле роль Николая Александровича Второва в развитии российской легкой и военной промышленности и банковской системы еще не до конца оценена.
Остававшиеся как будто в тени, Второвы сравнимы по значимости с такими знаменитыми в национальной олигархии прошлого века именами, как Рябушинские и Морозовы.
http://www.otzyv.ru/read.php?id=69325http://otel-irk.ru/istoriya-osobnyak-vtorovih
|
Метки: второвы |
«Кисейные барышни» — что это за барышни? |
«Кисейные барышни» — что это за барышни?
Только не путайте кисею с киселём, а то вместо кисейных появляются кисельные барышни. Наверное, это когда роскошная дева потягивает на шезлонге кисель. В общем, ничего общего с киселём.
Барышень стали называть «кисейными» в XIX веке. Примерно в 1850-1860 годах стильные девушки носили платья и блузы из кисеи, нежной и лёгкой ткани. Впервые словосочетания употребил писатель Н. Помяловский в повести «Мещанское счастье». «Кисейными барышнями» обычно называли юных девушек, которые всё делают ради моды: читают только модных писателей, слушают только модную музыку, надевают только модные наряды.
Кисейность — порок?
В словаре Даля упоминания о «кисейных барышнях» нет, но есть пренебрежительное «кисейница» — так в народе называли «щеголиху, которая ходит в кисее».
«Кисейность» даже стала дурным тоном, признаком глупости и наивности. «Кисейность-то эту надо бы вам побоку, коли хотите, чтобы вас уважали порядочные люди» (В. Крестовский «Тьма египетская»).
Если тургеневская девушка тонко чувствующая скромная особа, то «кисейная» — искусственная, напыщенная, в погоне за веяниями моды, у такой за душой нет ничего своего.
Где почитать про «кисейных барышень»?
«Кисейные» дамы упоминаются у Лескова в «Островитянах» (1866), в романе «Горное гнездо» Мамина-Сибиряка, а также в повестях «Кисейная барышня» и «Не то…».https://zen.yandex.ru/media/philological_maniac/ki...yshni-5c6d019e2684b000bcba1c86
|
Метки: их нравы институт благордных девиц |
Беспутная молодость Льва Толстого |
Беспутная молодость Льва Толстого
Одни из лучших произведений графа Льва Николаевича Толстого навеяны его службой в молодости в Русской армии на Кавказской и Крымской войнах.
Беспутная молодость
Молодой богатый наследник Лев Толстой, как и многие люди его круга, маялся от безделья. Чувствуя своё природное призвание к какому-то серьёзному занятию, он не знал, за что взяться. Учёба в Казанском университете, куда он поступил в 1844 году, давалась ему с огромным трудом. С грехом пополам переводясь с курса на курс, он в 1847 году забросил учёбу, получив в наследство имение в Ясной Поляне.
Жизнь помещика получалась у будущего великого писателя ещё беспорядочнее. Он с энтузиазмом решил заняться просвещением своих крестьян (отнюдь, однако, не подумывая о том, чтобы дать им вольную). Одновременно он усердно отдавал дань обычным увлечениям своего сословия, проводя время в пирушках, карточных играх и охоте. Алкоголизм одно время представлял для Льва Толстого серьёзную проблему: его рассказ «Альберт» (1858) про несчастного спивающегося пианиста написан с глубоким знанием этого недуга.
Толстой наделал множество долгов. При его беспутной жизни единственным спасением от кредиторов ему представилась военная служба. Можно сказать, что армия сохранила миру одного из самых великих, притом антивоенных, писателей.
Бегство от кредиторов в армию
Весной 1851 года Лев уехал на Кавказ вместе со служившим там его старшим братом Николаем. Сначала он просто скрывался от кредиторов и не имел явного намерения поступить на военную службу, но через полгода сделал решительный шаг. Условия приёма добровольцев, тем более из дворян, в действующую на Кавказе армию, были простыми. Сдав формально экзамен на чин, Лев Толстой осенью 1851 года был принят юнкером в артиллерийскую батарею.
К тому времени Толстой уже был начинающим писателем. В Ясной Поляне, в светлый период между кутежами, он написал повесть «Детство». Пребывание на Кавказе наполнило его новыми впечатлениями. В Пятигорске, ещё до поступления в армию, он стал набрасывать яркую повесть «Казаки». Увлечение литературой сделалось серьёзным и способствовало преодолению молодым Львом Толстым его пагубных привычек. Впрочем, дольше всего удержалось пристрастие к азартным играм. Уже в 1854 году, при обороне Севастополя, писатель проиграл в карты свой родовой яснополянский дом.
Война преобразила его
Два с половиной года Лев Толстой прослужил на Кавказе. Его биографы пишут, что он имел право на награду орденом Святого Георгия, но отклонил для себя такую честь, считая, что георгиевский крест заслужил какой-то солдат под его началом. Эта легенда совершенно не учитывает порядок представления к наградам в Русской Императорской Армии. Но, как бы то ни было, полная опасностей военная служба (именно в то время шёл самый ожесточённый период борьбы с Шамилем) способствовала у Льва Толстого значительно более ответственному отношению к своей жизни.
В 1854 году Толстой перевёлся на театр начавшейся войны с Турцией, участвовал в Дунайской кампании, затем в защите Севастополя. Там он написал свои первые «Севастопольские рассказы», восторженно встреченные публикой и обратившие на себя благосклонное внимание самого Императора Александра II. В них нет ещё ни тени того назидательного пацифизма, которым пронизано позднее творчество Толстого. Это просто беспристрастное, предельно реалистичное описание военных будней. Несомненно, однако, что беспросветность окопного сидения, с его регулярными бомбардировками и массовыми жертвами, зародила в писателе его будущее превалирующее отношение к войне.
«За хладнокровие и распорядительность», проявленные при обстреле противником Язоновского редута легендарного «смертельного» Четвёртого бастиона, поручик Лев Толстой был награждён орденом Святой Анны 4-й степени. С войны граф вернулся другим человеком.
Фотоматериал использован из свободного доступа Яндекс.
https://zen.yandex.ru/media/history_russian/besput...stogo-5c46ab313cc56100add3720c
|
Метки: толстые |
Основатель города и завода |
Основатель города и завода


Иркутск Дом Второвых
В СИБИРЬ И ОБРАТНО
История его жизни не совсем типична, но и не выделяется резко из жизнеописаний других русских миллионщиков. Происходят Второвы из мещан костромской губернии. Теперь их родной городок Лух – посредине Ивановской области. А большая часть жизни отца – Александра Федоровича(1841–1911) прошла в Сибири, в Иркутске, где в 1866 году и родился Николай. Отец рано занялся торговлей, а сынок и того раньше – с двенадцати лет уже ездил по деревенским базарам и ярмаркам.
Александр Федорович быстро понял, какие возможности открывает Сибирь для оптовой торговли мануфактурным товаром, если ни одной мануфактуры, считай, там нет, а зажиточный сибирский крестьянин и небедный городской обыватель готовы шить себе одежду не хуже, чем в европейской части, в массе своей, кстати, не ахти какой богатой. Результаты оказались замечательными! Сибирь, одеваемая Второвым, не подвела. Но и работы было через край. Ведь надо было выбрать товар (это тоже своего рода искусство), закупить его и привезти за тысячи верст, причем железная дорога появилась только в конце века, Зато когда появилась, возможности Второвых удесятерились. Существенно возросли и капиталы, появились мысли об их вложении. Капиталы обращались в Петербурге и Москве, Москва была и ситцевой столицей России, с ней и имели дело всю жизнь Второвы, В 1897 году они и перебрались в первопрестольную.
Очень интересная страница о Второвых в Томске

Екатеринбург Магазин товрищества Второвых
В МОСКВЕ СИТЦЕВОЙ
В Москве начался новый этап деятельности семейства. Они превратились из крупнейших оптовиков в крупнейших фабрикантов. Само по себе это не удивительно. Многие знаменитые фабриканты, те же Рябушинские, начинали с торговли – самого быстрого способа оборота и накопления капитала. Но у других это было в начале, при небольших сравнительно деньгах, а тут! Тут уже были миллионы и не малые.
Не забыта и торговля, естественно, и золотишком вчерашние сибиряки промышляли и к банкам по примеру Рябушинских присматривались, первым делом - к Сибирскому. Но главное скупали акции предприятий легкой промышленности – тех, у кого вчера покупали товар.
Сестра Н.А.Второва – Анна Александровна – стала женой одного из главных деятелей Серпуховской мануфактуры Сергея Николаевича Коншина. В 1907 году Николай Александрович стал директором – распорядителем этого, одного из крупнейших в Центрально – промышленном районе предприятия. В 1913 году Второв приобрел (вместе со старейшей фирмой Людвига Кнопа) еще одно известное товарищество – Альберта Гюбнера. С весны 1914-го он – директор – распорядитель учрежденного совместно с братьями Кнопами Товарищества внутренней и вывозной торговли. Тут уже годовой оборот – свыше 70 миллионов рублей. Но и это не масштаб Второва.

Деловой двор Второва на Варварской улице
ДЕЛОВОЙ ДВОР
После смерти в 1911 году отца Николай Александрович вложил огромные деньги в строительство грандиозного конторско-складского и гостиничного комплекса на Варварской площади. И здесь Второв мыслил неординарно и … выиграл. До него все конторы, «амбары», банки и т.д. «Москвы купеческой» помещались в страшной тесноте на Ильинке и Варварке. Даже известнейшие фирмы пользовались полуподвалами. Выйдя на десяток саженей за пределы Китай-города на арендованный им у Воспитательного дома пустырь, Второв разрубил вековой Гордиев узел и создал новый центр оптовой торговли древней столицы, разгрузил московское Сити. Еще до окончания строительства все помещения Делового двора были заарендованы крупнейшими торгово-промышленными предприятиями.

Дом Второва канцелярский отдел
Официальное название этого торгового городка Товарищество Варваринских торговых помещений на Деловом дворе. Проектировал его архитектор И.С.Кузнецов, заведовал административной и хозяйственной частью действительный статский советник В.П.Недачин. Стоимость всех сооружений, занимающих площадь около двух десятин, приближалась к 6 млн. рублей, но и доход с них составлял 800 тысяч в год.
Каркасная система конструкций, ряды больших окон, скупость декора делали здания необычными для начала века. Но главное было для пользователей и находилось во внутреннем пространстве: широкие асфальтированные дворы и проезды, огромное число грузовых подъемников, холодные склады с подъемными кранами, подземные разгрузочные дворы со специальными приспособлениями и т.п. и т.д. Там же первоклассная гостиница на 350 номеров с горячей водой и телефоном в каждом номере.

Дом Второва фотоотдел
Конторы самых известных фирм располагались в Деловом дворе, в том числе и тех, которые все больше и больше прибирал к рукам Второв. Торгово-промышленная империя Хозяина имела здесь свой штаб. Там же был и кабинет Николая Александровича, в котором через 5 лет нашла его смерть. После революции во второвском центре поместились ВСНХ, ряд наркоматов. Много лет отсюда управляли отечественной металлургией. Сейчас увидим, что это не совсем случайно. Итак, вернемся к нашему герою.

Юнкер и Ко
В ГОДЫ ВОЙНЫ
По-настоящему он развернулся во время первой мировой войны. И не только потому, что кому война, а кому мать родна. Хотя, наверное, и так тоже. Его деловые и организаторские способности и патриотические устремления нашли в это время наилучшее приложение. Николай Александрович скупил акции старого российского банка «Юнкер И.В и Ко» и превратил его в Московский промышленный банк с капиталом 30 миллионов рублей (у Рябушинских в их Московском банке было 25 млн.)
Банк обслуживал интересы промышленной группы Второва и являлся центральным учреждением разрастающегося второвского концерна (примерно то же самое творилось у Рябушинских).
Второв создал Российское общество химической промышленности «Русско-Краска» (участвовали 76 предприятий Московского промышленного района), Российское акционерное общество «Коксобензол», скупал множество фабрик в разных отраслях, сконцентрировал в своих руках цементное дело, вдохнул жизнь в заброшенные подмосковные угольные копи.
Такие гиганты, как Общество Брянского завода (основной капитал больше 40 млн.) и Донецко-Юрьевское металлургическое общество, переходят под контроль фактически Второва. Это уже не ситцы, это стальные мускулы страны.
Но не только старые заводы покупал Второв. В 1915 году на фронте стала ощущаться резкая нехватка снарядов. Мощностей казенных заводов явно не хватало. Тогда за дело взялись Главное артиллерийское управление и вчерашние аршинники, в основном, московские купцы. Первое создало организацию генерала Ванкова по заготовлению снарядов, вторые – военно-промышленные комитеты. Они вместе дружно и не без выгоды, конечно, работали. Второв построил в Москве два военно-снаряжательных завода по производству артиллерийских гранат. Здесь активно работал его сын, третье поколение семьи – Борис Николаевич Второв. Снаряды Второва питали русские армии.

Дом Второва в Москве в Старопесковском переулке
СТАРТ «ЭЛЕКТРОСТАЛИ»
Для военных целей необходимо огромное количество металла. Война пожирала его, как и человеческие жизни, непрерывно. Что собственно важно – все больше надо было высококачественной стали. С ней в России было напряженно. А без нее военная промышленность – что руки без перчаток в мороз. Второв взялся и эту задачу решать. И решил.
У меня в руках поблекший от времени документ. Он называется «Устав Товарищества на паях «Электросталь». Как бы в качестве эпиграфа значатся следующие слова: «На подлинном написано: Государь Император устав сей рассматривать и ВЫСОЧАЙШЕ утвердить соизволил в Царской Ставке, в 5 день сентября 1916 года. Подписал: Управляющий делами Совета Министров И.Лодыженский». Царю оставалось что-то высочайше утверждать всего полгода. Знал ли или догадывался об этом тезка императора? Мог что-то и знать от своих знакомых – масонов, Коновалова и Терещенко, помогавших ему в этом проекте, но в целом он был гений экономики, а не политики, мог и не знать, и не догадываться, но не об этом речь. Царь утвердил этот устав, поскольку стране нужна была специальная сталь, а лучшая сталь получалась и получается в электропечах. Второв привлек предложения и разработки русских ученых и инженеров Беляева и Грум-Гржимайло. Первого взял в учредители товарищества – товарищи так товарищи!
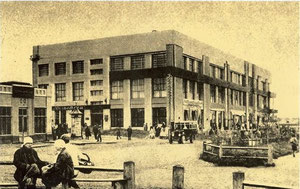
Московский промышленный банк
Параграф 1 устава гласил: «Для приобретения и эксплоатации устраиваемого Н.А.Второвым в Московской губернии, Богородском уезде, Шебановской волости завода для изготовления специальных высших сортов стали, в том числе инструментальной, автомобильной и рессорной, для устройства и эксплоатации других металлургических заводов, для разработки залежей полезных ископаемых и для торговли металлами, учреждается товарищество на паях «ЭЛЕКТРОСТАЛЬ».
Для возведения завода разрешалось приобрести 200 десятин земли, до 3000 десятин можно было использовать для разработки залежей полезных ископаемых. Основной капитал товарищества определялся в 3000000 руб., разделенных на 3000 паев. Параграф 14 недвусмысленно устанавливал: «Владельцами паев товарищества могут быть только русские подданные христианского вероисповедания». Далее узнаем, что «правление товарищества должно состоять не менее чем из 3 и не более чем из 5 директоров», что «местопребывание правления находится в Москве», что «подданные воюющих с Россией держав не могут быть служащими товарищества» что… Много чего можно узнать любопытного из 75 параграфов устава.
По уставу уже все было ясно, продукция определена, все прибыли расписаны. Но еще предстояло построить завод, причем на ровном месте.
НА РОВНОМ МЕСТЕ, В ЗАТИШЬЕ
Почему же Второв выбрал это место и что оно из себя представляет? Оно действительно было ровное, болотистое и лесистое. Урочище называлось Затишье и в какой-то мере отвечало своему названию. Незадолго до войны там стали даже появляться дачники… Причины выбора ясны. Находилось Затишье посередине железнодорожной ветки от Фрязева (на Нижегородской дороге) до Богородска, города, кстати, Николаю Александровичу хорошо известного из-за нахождения там знаменитой Богородско-Глуховской мануфактуры Морозовых. Это одно. А второе и самое главное – в 36 верстах от тех мест находилась первая крупная электростанция общества «Электропередача». Морозовы уже к ней подсоединились. ЛЭП протянулась на Москву. Электричества должно было хватить на первых порах всем. Была и третья причина; Второв уже некоторое время вел тут строительство третьего своего военно-снаряжательного завода, самого крупного и требовавшего много качественного металла.
Пока устав «Электростали» лежал в высоких инстанциях, не дожидаясь утверждения, Второв и Беляев заложили завод. Надо было спешить. Строили быстро и качественно. Строили осенью, зимой. Строили, когда свергли царя, подписавшего устав, строили во время двоевластия, в корниловский путч и в октябрьский переворот, не замечая ничего, выполняя намеченное. И выдали-таки металл, первую русскую промышленную электросталь. В ноябре 1917 года, когда только что отгремели орудия в Москве и похоронили одних на Красной площади, других на Всехсвятском кладбище, получили сталь. Считай, через год после начала работы. Строители (часть их стала и первыми металлургами) жили в бараках, в избах в соседних деревнях. Инженеры приезжали из Богородска, где размещались в квартирах только что выстроенного дома Балашова на Большой Московской улице.
Вас удивляют такие темпы? А так было повсеместно. Не у всех, правда, получалось. У Второва и Рябушинских получалось ( Рябушинские параллельно строили тогда автозавод АМО, ну, у них свой концерн, свой банк, своя политика, Второвы политикой не занимались, но конец был уготован всем один).
На дворе была зима, конец 1917 года, начало 1918-го. Троцкий вел переговоры с немцами о мире, армии уже не существовало, Великой России тоже. Говорят, что доходы Второва в 1917 году составляли то ли 100, то ли 150 млн. рублей. Лично ему они были не нужны. А вкладывать их уже было некуда.

Дом Второва в Москве. Спасо-Хаус
КОНЕЦ НИКОЛАЯ ВТОРОВА
21 мая 1918 года в 11 часов утра молодой человек в солдатской шинели проник в Деловой двор, вошел в кабинет Николая Александровича, раздался выстрел. Заблокированный в кабинете, он снова выстрелил, теперь в себя. В Москве потом говорили о незаконном сыне… На похоронах Второва последний раз собралась деловая Москва, еще многие сидели тогда в родовых конторах, не верили, ждали, вот-вот… Было много рабочих. Они несли венок, как вспоминал П.А.Бурышкин, с надписью: «Великому организатору промышленности».
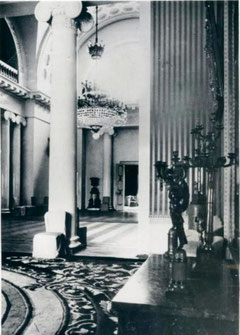
Спасо-Хаус
Из сохранившихся воспоминаний рабочего: «Служащие заводоуправления были приглашены в Москву на похороны, в том числе и я вместе со своим отцом. Гроб с телом находился в роскошном особняке… Такого дворца я никогда в жизни не видел и был удивлен чудесными висячими люстрами, чудесными картинами русской природы, зимними пейзажами с бело-голубым фоном, я ходил по особняку и любовался… Я и раньше был несколько раз в Третьяковской галерее, но сравнить это никак невозможно. Особенно было много картин с сибирскими пейзажами. Мне казалось, что я не уйду из особняка, но панихида заканчивалась».

Памятник Второву в городе Электросталь
Второвы были молодыми москвичами, у них не было семейного участка на старом кладбище или в древнем монастыре. И Второва похоронили в самом молодом монастыре Москвы, куда он много жертвовал – в Скорбященском. Ни монастыря, ни кладбища давно нет. Но что-то символическое есть в том, что на этом месте теперь Станкоинструментальный институт. Хоть и малое это утешение. А «Электросталь»? Та уже жила другой жизнью и редко вспоминала своего создателя. В 1925 году была 400-я плавка, в 30-е годы – реконструкция, во вторую войну – эвакуация. В 1938 году поселок стал городом. После войны тут уже имели дело не только со сталью, но и с ураном. Второва не вспоминали, а дело его, величайшего организатора русской промышленности, продолжалось. «Электросталь» работала на всю страну и в своем названии все же несла память о запретном своем основателе.
Вот такая история. Кстати, инженер Беляев только на два года пережил хозяина. Он был крупной фигурой в металлургии. Мелких Второв и не брал, а равнял по себе. Сотрудничали у него и бывшие царские министры, и знаменитые профессора. Работали на него и на Россию.
Текст набрала Ярцева Софья
Автор статьи: М. Дроздов
https://historyelektrostal.jimdo.com/%D0%BE%D1%82-...%80%D0%BE%D0%B2-%D0%BD-%D0%B0/
|
Метки: второвы |
Подвиг «русского Моргана» |
Подвиг «русского Моргана»
20 декабря 2017
17
В предыдущей статье мы говорили о беспрецедентном росте химической промышленности России – новейшей отрасли ее экономики. Теперь хотим сказать несколько слов о человеке, приложившем руку к созданию этой отрасли (и не только химической) – богатейшем русском предпринимателе начала XX века «русском Моргане» Николае Александровиче Второве.
Николай Александрович Второв (родился 15 (27) апреля 1866 г. в Иркутске – умер 20 мая 1918 г. в Москве) - российский предприниматель и банкир, владелец самого крупного состояния России в начале XX в. (свыше 60000000 золотых рублей). Он был не только богатейшим человеком в империи - «русским Морганом» – но и в российской истории (годовая прибыль второвского концерна накануне революции приближалась (в пересчете на курс 2000-х годов) к 700 млн. долларов).
Родился Николай Александрович в небогатой семье костромского мещанина А. Ф. Второва.
В 1900 г. отец и сын зарегистрировали паевое товарищество «А. Ф. Второв» (с 1911 г. «Александр Второв и сыновья») со складочным капиталом в 3000000 рублей. Товарищество, имея годовой оборот в 40000000 рублей, торговало чаем, текстилем, поставляло хлопчатобумажную продукцию для казенных нужд, а также владело городской недвижимостью в ряде городов Урала и Сибири. Это было семейное предприятие - почти все паи являлись совместной собственностью семьи Второвых.
В 1907 г. семья закрепилась на сибирском рынке: Второвы выкупили дело своих давних конкурентов - Стахеевых. В том же году Н. А. Второв становится коммерческим директором Серпуховской мануфактуры.
Н. А. Второв участвовал в золотопромышленном бизнесе: владея вместе с С. Н. Коншиным золотопромышленной Николо-Сергиевской компанией и золотопромышленным Нининским товариществом «С. Т. Артемьев и Кº».
После смерти отца в 1911 г. Н. А. Второв получил в наследство до 150 магазинов розничной торговли, предприятия, паи в ряде крупных мануфактур, гостиницы, трактиры и т. д. С 1911 г. Николай Александрович стал членом Совета Сибирского торгового банка.
В 1913 г. Н. А. Второв и торговый дом «Л. Кноп» приобрели Товарищество мануфактур А. Гюбнера, и затем вместе с другими предпринимателями реорганизовали торговый дом «К. Тиль» в Общество «Поставщик» - последнее должно было выполнять заказы Военного ведомства. Весной 1914 г. Н. А. Второв становится членом Правления и директором-распорядителем паевого Товарищества для внутренней и вывозной торговли мануфактурой.
В период довоенного промышленного подъема предприниматель, резко расширяя масштабы коммерческих операций, проникает в ряд крупнейших и старейших московских фирм: Даниловскую мануфактуру, Товарищество А. Гютнера, Товарищество Н. Н. Коншина. Приобретя крупные пакеты последних, возглавил правления.
В руки Н. А. Второва попал контрольный пакет акций солидного банка «И. В. Юнкер и Кº», реорганизованного в Московский промышленный банк (капитал 30000000 рублей) – именно он стал основой второвской империи. Банк ранее принадлежал финансисту Д. Рубинштейну, известному полулегальными операциями и предполагаемой коррупционной связью с Г. Распутиным.
Первая крупная заслуга Н. А. Второва перед отечественной промышленностью - создание первого в России завода по производству химических красителей - Российского Общества химической промышленности «Русско-Краска» (был учрежден в 1914 г. с капиталом в 10000000 рублей), а также Российского общества коксовой промышленности и бензолового предприятия «Коксобензол» (учрежден в 1916 г. с капиталом в 4000000 рублей). Промышленные гиганты Общество Брянского завода (капитал свыше 40000000 рублей) и Донецко – Юрьевское металлургическое общество также перешли под контроль предпринимателя.
После начала Первой мировой текстильный бизнес Н. А. Второва частично был переведен для удовлетворения военных нужд: производились нужные фронту бинты. На второвских текстильных предприятиях стали шить форму для армии (в т. ч. экспериментальную форму, в которую планировали переодеть армию после победы в Первой мировой - по проекту В. Васнецова и К. Коровина; причем головные уборы солдат были представлены богатырками (позже их назовут буденовками)).
На территории Серпуховской мануфактуры появился химический завод.
В 1915 г. предприниматель стал сотрудничать с Главным артиллерийским управлением (ГАУ) - и Н. А. Второву было предоставлено предприятие, к которому достроили 2 т. н. снаряжательных (предназначенных для оснащения боеприпасов взрывчатыми веществами) завода и мастерские. Их суточная мощность - 12000 - 16000 снарядов. Причем Н. А. Второв довел общую суточную мощность до 40000 снарядов. Всего им было получено 23 наряда на 17000000 снарядов. Снаряды в основном снаряжались мелинитом (пикриновой кислотой) – к ней решили вернуться из-за недостатка тротила - пикриновую кислоту могли выпускать и гражданские химзаводы.
В декабре того же года начало строиться специальное здание для снаряжения снарядов отравляющими веществами – его суточная мощность составила более 2500 снарядов.
Всего заводами Н. А. Второва, на которых трудилось около 2000 рабочих, было снаряжено до 14000000 снарядов. Наиболее высокий производственный уровень достигнут в период август 1916 г. - июнь 1917 г.
К 1916 г. предприниматель обладал одной из крупнейших бизнес-империй: в нее входили химические, снаряжательные, кирпичные, металлургические заводы, Серпуховский хлопчатобумажный трест, золотые и угольные шахты, Московский промышленный банк, нефтяные месторождения, почти 200 магазинов и др. Вместе с купцом П. П. Рябушинским Н. А. Второв создал нацеленное в первую очередь на обеспечение вооруженных сил грузовиками Автомобильное московское общество (в будущем ЗИС – ЗИЛ).
Фронту требовалось колоссальное количество стали, и Н. А. Второв вместе с М. И. Терещенко и А. И. Коноваловым в 1916 г. основали товарищество «Электросталь» (с капиталом в 3000000 рублей). В 1917 г. в Подмосковье был построен завод «для изготовления специальных высших сортов стали, в том числе инструментальной, автомобильной и рессорной». Предприятие строилось быстро и качественно – несмотря на свержение монархии, в период Временного правительства, в период октябрьских событий.
Н. А. Второв свое слово сдержал - и государство получило столь необходимую сталь. Первая плавка металла - 17 ноября 1917 г. Завод стал градообразующим – теперь на его месте находится г. Электросталь.
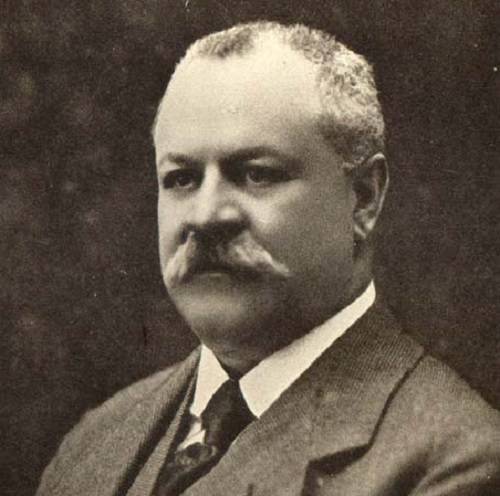
Н. А. Второв, 1917 г.
Годовая прибыль Николая Александровича в 1916 – 1917 гг. - 100000000 - 150000000 рублей.
В послеоктябрьский период Н. А. Второв заявил о признании Советской власти.
Он был застрелен 20-го мая 18 года (убит побочным сыном якобы на фоне личного конфликта). Так как убийца застрелился, мотивы остались невыясненными.
О Н. А. Второве говорили - все, к чему прикасается, становится золотом. Склонный к риску, но реально оценивавший ситуацию, Николай Александрович являлся одним из самых неординарных предпринимателей империи. Он был прогрессивным предпринимателем - промышленником. Механизация промышленных предприятий Н. А. Второва происходила быстрыми темпами. В то же время Н. А. Второв не заставлял своих рабочих трудиться по 14 часов в сутки и отказался от системы штрафов. На второвских предприятиях открывались училища – для рабочих и для членов их семей, строились отлично организованные общежития (казармы). Н. А. Второв был меценатом, жертвуя средства госпиталям, на нужды пострадавших и раненых. Так, до миллиона рублей было им выделено на развитие сибирского образования, на поддержку Иркутского университета, для создания промышленного училища.
Переоценить влияние Н. А. Второва на развитие отечественной промышленности в целом и военной индустрии в частности - сложно. В дальнейшем советская власть использовала многие его начинания для развития страны. А в годы Первой мировой предприятия Н. А. Второва трудились «на оборонку». Реализуя различные проекты по формированию мануфактурного рынка, созданию военно-промышленного комплекса, тяжелой промышленности и металлургии Н. А. Второв и другие русские купцы и промышленники фактически совершили патриотический подвиг - воздвигнув новые отрасли отечественной промышленности – химическую и металлургическую. И крайне важно было, что возглавил многие начинания Н. А. Второв – человек энергичный, предприимчивый, мыслящий по-государственному.
Предприятия, основанные Н. А. Второвым, были после революции национализированы и внесли огромный вклад в экономическое развитие нашего государства. А Н. А. Второв совершенно заслуженно и закономерно прошел долгий путь от владельца сибирских оптовых магазинов до богатейшего человека России.
Автор:
|
Метки: второвы |
Сто лет загадочному убийству последнего олигарха Российской империи |
Убийство Второва: как погиб последний олигарх империи
Сто лет загадочному убийству последнего олигарха Российской империи
Александра Баландина 20.05.2018, 12:36
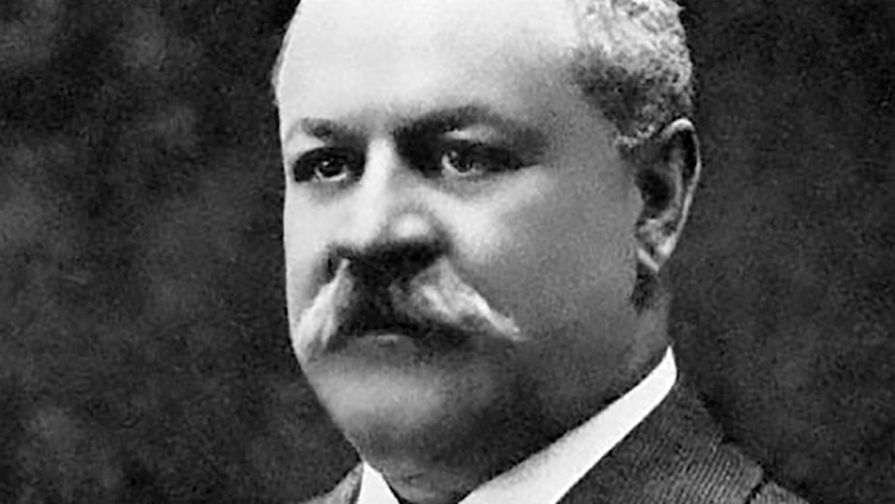 Wikimedia Commons
Wikimedia Commons
Николай Второв
Николай Второв — человек, вошедший в историю как один из последних олигархов Российской империи, был убит ровно сто лет назад при до сих пор не выясненных обстоятельствах. За деловую хватку и умение разрешать сложные конфликты его называли «русским Морганом» и «сибирским американцем». «Газета.Ru» рассказывает о жизненном пути и таинственной смерти этого человека.
Отец самого богатого человека в Российской империи, Александр Второв, был мещанином, родом из Костромской губернии. Среди историков существует версия, что он заработал свой первоначальный капитал, работая спиртоносом на золотоносных рудниках. Впоследствии он долгое время занимался бизнесом в Иркутске, открыл там свой магазин — «Второвский пассаж», который позже появился в 13 городах по всей России.
Родившийся в 1866 году Николай Второв с 12 лет учился торговаться с поставщиками на предприятиях отца, а затем работал за прилавком в его магазинах.
У младшего Второва с раннего возраста была склонность к авантюрам: в 15 лет он обходными путями получил у местной власти необходимые печати и продал купцу Варфоломееву права на несуществующую дорогу Томск — Новосибирск за 135 тыс. рублей.
Авантюра не удалась, все закончилось судом, а Второв-старший был вынужден в качестве компенсации за поступок сына подарить обманутому купцу одно из своих предприятий.
В качестве наказания за дорогостоящую выходку Александр Второв отправил сына развивать семейное дело в Томск. Там Николай занимался в основном добычей золота и нефти. В 1900 году было учреждено паевое товарищество «Александр Второв и сыновья» с уставным капиталом в 3 млн рублей. Благодаря удачным замужествам дочерей глава семейства получил паи в крупных текстильных предприятиях Москвы, а один из сыновей, Александр, женился на дочери «водочного короля» Смирнова.
Незадолго до этого Николай Второв женился на Софье Макаровой, воспитанной и обаятельной девушке из состоятельной семьи, работавшей классной дамой Девичьего института императора Николая I в Иркутске. У них родилось двое детей: сын Борис и дочь Ольга.
В 1907 году Второвы приобрели предприятия их главных конкурентов Стахеевых, тем самым полностью «покорив» Сибирь и начали стремиться к лидерству в других регионах. Ко времени переезда в Москву Николая Второва уже за глаза называли «русским Морганом» — по фамилии знаменитого американского предпринимателя и банкира, который участвовал в создании крупнейшей сталелитейной компании US Steel.
После смерти отца в 1911 году Второв получил в наследство около 150 розничных магазинов, паи во многих крупных мануфактурах, текстильные и химические предприятия, а также различные трактиры, гостиницы и прочие заведения. Кроме того, у него в руках оказался капитал в 8 млн рублей.
Хозяин «Бала у Сатаны»
Жить на отцовские деньги Николай не собирался. Он занимался чаем и мануфактурой (ему принадлежал в том числе Серпуховский хлопчатобумажный трест и крупные паи Даниловской мануфактуры), организовал «Товарищество вывозной и внутренней торговли», вошел в правление крупных банков (а позже приобрел «Юнкерс-банк», впоследствии превратившийся в Московский промышленный банк с капиталом в 30 млн рублей), занимался кредитованием заводов, пароходств и железных дорог, одним из первых в России стал лидировать на рынке недвижимости.
В начале ХХ века он приобрел две крупные золотопромышленные компании — Николо-Сергиевскую и Нининскую, химические, металлургические, машино- и вагоностроительные заводы, угольные шахты, кирпичные и цементные предприятия. Купил даже фабрику по производству фотографических пластинок «Победа» – одну из трех, существовавших на тот момент в Российской империи.
Второва также считают одним из основателей химической промышленности в России. Долгие годы краски для текстиля везли из Германии или производили в российских филиалах немецких компаний. Однако с началом Первой мировой войны встал вопрос об импортозамещении, и в 1914 году по инициативе Второва в Москве было создано Товарищество «Русско-Краска».
Уже в 1915–1917 годах на станции Рубежное Харьковской губернии был построен завод по производству красителей, а также открыто еще одно предприятие – «Коксобензол». Оно производило сырье для изготовления взрывчатки, которое прежде тоже поставляла Германия. В советское время заводы объединили и Рубежанский химический комбинат стал снабжал своей продукцией весь Советский Союз, страны СЭВ, а также государства третьего мира.
В 1913 году Второв построил на Варварской площади (ныне Славянская площадь) торгово-складской комплекс «Деловой двор» — по сути, первый бизнес-центр, где расположились многочисленные конторы, склады и магазины, а также гостиница и телеграф.
Все места были арендованы задолго до окончания строительства: «Деловой двор» стал настоящим спасением для московских предпринимателей, не имевших до этого момента в своем распоряжении достойных офисов.
Управляя своей империей в столице, Второв успел позаботиться и о создании семейного гнездышка. Для своей жены он построил особняк в Спасопесковском переулке. Бал Воланда, описанный Булгаковым в «Мастере и Маргарите», а на самом деле — легендарный прием американской дипмиссии по случаю наступления весны — проходил именно там. С 1933 года особняк Второва, знаменитый Спасо-хаус, является резиденцией посла США в Москве.
В годы Первой мировой многие предприятия Второва работали на оборону. В 1915 году российская армия столкнулась с нехваткой снарядов и боеприпасов, в связи с чем Второв открыл два завода по производству гранат в Лужниках, ставших первыми военными заводами в России. Предприятия расположили поблизости от железнодорожных станций для скорейшей транспортировки, причем первый завод возвели всего за 38 дней. Третий завод, производительностью 30 тыс. гранат в день, Второв позже открыл в Богородске (нынешний Ногинск).
Во время войны пригодились и текстильные предприятия Второва — на них стали шить форму для солдат по эскизам художников Васнецова и Коровина.
Так, именно на второвских предприятиях впервые увидели свет головные уборы, созданные по типу богатырских шлемов, которые позже активно использовались Красной армией — те самые «буденовки».
Помимо них, концерн Второва пошил для армии полную форму: длинные шинели, галифе, а также кожаные куртки, полюбившиеся офицерам НКВД и комиссарам.
На этом предприниматель не остановился — в 1917-м он построил в Подмосковье завод «для изготовления специальных высших сортов стали, в том числе инструментальной, автомобильной и рессорной». Он стал градообразующим и сегодня на этом месте находится город Электросталь. Вместе с купцом Рябушинским Второв основал завод автомобильный завод «АМО», который сейчас известен всем как ЗИЛ.
«Последнее собрание буржуазии»
Расцвет империи Второва оборвался 20 мая 1918 года: предприниматель был застрелен в возрасте 52 лет в своем кабинете в «Деловом дворе». Обстоятельства трагедии не ясны до сих пор. В Москве ходили самые разные слухи, предполагали даже, что убийца — агент большевиков, так как буквально за день до смерти Николай Второв вместе с издателем Иваном Сытиным собирали деньги по всей Москве — предположительно, в помощь противникам большевиков.
По версии, опубликованной в газете «Заря России», убийца — незаконный сын Второва из Томска, некий Гудков. Он якобы приехал в Москву и потребовал от отца денег для дальнейшей учебы в Чите: «просил обеспечить мать и дать возможность ему учиться».
Другая версия приписывает сыну Второва карточный долг, который тот планировал выплатить из отцовских денег. Второв якобы выделил ему средства, и пообещал также помочь получить высшее образование. Однако молодой человек потребовал просто выдать сумму в 20 тыс. рублей ему на руки. Когда Второв ему отказал, тот достал револьвер и в ходе небольшой потасовки смертельно ранил отца.
Несмотря на рану, Второв успел дойти до швейцарской и произнести свои последние слова попавшейся на глаза служащей: «Дуняша, не ходи туда, там стреляют». После этого Гудков оказался заблокирован в кабинете набежавшими людьми и покончил с собой.
Неподтвержденной остается конспирологическая версия: якобы Второв все-таки откупился от сына, инсценировал свое убийство и сбежал за границу.
Похороны Второва, «с разрешения Советской власти, были последним собранием буржуазии», писал историограф русского купечества Павел Бурышкин. Процессия растянулась на версту, в ней шли и красные комиссары, и простые рабочие, несшие венок с надписью «Великому организатору промышленности». За ними следовало девять колесниц, доверху нагруженных цветами.
Панихида происходила в роскошном особняке, который, по воспоминаниям рабочих, превосходил своей красотой даже Третьяковскую галерею. Сохранились записки одного из присутствовавших на похоронах рабочих второвского завода: «Особенно было много картин с сибирскими пейзажами. Мне казалось, что я не уйду из особняка, но панихида заканчивалась».
Могила Второва находилась в Скорбященском монастыре на севере Москвы, который в 1918 году был упразднен, а в 1929 году — уничтожен.
Вдова Николая Второва некоторое время после смерти мужа продолжала работать в Московском промышленном банке. Через три года вместе с детьми Софья Второва уехала жить в Париж, где занималась помощью Русской православной церкви. Даже там она продолжала хранить траур по мужу и носила черные платья вплоть до своей смерти в возрасте 90 лет.
Благодаря знанию языка и помощи русской диаспоры семья неплохо устроилась во Франции. Дочь Ольга стала художницей, и в 1928 году провела в Париже персональную выставку, а также участвовала в создании декораций и костюмов балета Стравинского «Жар-птица».
Борису Николаевичу, в свою очередь, удалось проявить себя на службе в управленческом аппарате угольных шахт Франции. Впоследствии он активно участвовал в жизни Русской православной церкви, занимался благотворительностью, принял деятельное участие в создании Сергиевского подворья в Париже.
|
Метки: второвы купечество |
Екатерина Юрьевская: судьба внебрачной дочери Александра II |
Екатерина Юрьевская: судьба внебрачной дочери Александра II
У великих правителей мира тоже есть слабости, сугубо личного характера, присущие простым смертным, которые они проявляют на стороне от семейных очагов. Благодаря неузаконенным любовным проявлениям, на стороне появляются не заявленные продолжатели знатных родов, не имеющих никакого права даже на претензии. Хоть и редки, но бывают случаи, когда монаршие особы узаконивают свое внебрачное потомство, как это случилось с Екатериной Юрьевской, императорской дочерью. Так как сложилась жизнь этой светлейшей княжны?
Дитя морганатического брака
Своему появлению на свет, в 1878 году, Екатерина обязана страстному увлечению Александра II, Российского императора, Екатериной Михайловной Долгоруковой. Благодаря этой любовной связи родителей, у Екатерины были старшие брат и сестра.
В 1870 году княгиня Долгорукова, по настоянию своего коронованного любовника, переезжает в Зимний дворец и становится официальной фавориткой императрицы. Роман Александра и княгини становится известен всем. Трудно представить, что испытывала законная жена, но видимо ей приходилось мириться не только с этим, ведь дети от этого романа родились практически через стенку от нее. Только одна Екатерина Александровна родилась в Крыму и единственная из детей проживала на постоянной основе в Зимнем дворце.
Матушка Екатерины мечтала стать законной женой и императрицей, но этому мешал законный брак императора. Посему ей приходилось довольствоваться ролью законной любовницы и ожидать, когда освободится столь вожделенное место, так как Мария Александровна, супруга императора, была серьезно больна.
В 1880 году, когда императрица скончалась от изнурительной болезни, княгиня Долгорукова стала настойчиво требовать от императора законных действий в отношении нее и их детей. До этого времени, на императора было совершено не одно покушение на убийство, и боясь, что в конечном итоге террористы смогут добиться желаемого, а его вторая семья останется в не лучшем положении, Александр решается на венчание с княжной.
Естественно, этот морганатический брак вызвал нескрываемое недовольство среди членов семьи императора, особенно царевича Александра, и в самом великосветском обществе. Никто не хотел принимать и узаконенных внебрачных детей императора.
Через год этих событий, Александр II погибает от рук террористов, на тот момент Екатерине Александровне исполнилось всего 4 года. В этом возрасте она, со своей матерью, братом и сестрой, вынуждены были эмигрировать во Францию, в Ниццу. О периоде пребывания юной Екатерины во Франции никаких данных нет, кроме тех, что ее матушка, транжирила унаследованные деньги от покойного супруга налево и на право, и совершенно не занималась воспитанием своих детей.
Княгиня Долгорукова забрасывала письмами Николая II, который вступил в 1894 году на престол, и был более терпелив по отношению к ней, что позволило ей с детьми вернуться в Россию.
Не задавшиеся супружества Екатерины
Во Франции, Екатерина Александровна знакомится с князем Барятинским, за которого выходит замуж в 1901 году. Но это брак оказался тяжелым испытанием для Екатерины, так как князь не испытывал тех пылких и искренних чувств, какие питала к нему жена.
Он был давно и прочно влюблен в итальянскую певицу Кавальери, но не смел противиться воли родителей и императора, запретивших им сочетаться браком. Барятинский был очень богат, и внимание тратил на оперную диву, и такого же обожания требовал от своей супруги. Они даже путешествовали и селились в одних апартаментах вместе.
Этот неравный по чувствам треугольник конечно же причинял невыносимые мучения Екатерине. Такое ощущение, что судьба решила отыграться на ней за все страдания, причиненные ее матерью первой жене Александра II.
Екатерина шла на любые уловки, чтобы привлечь к себе внимание любимого супруга, она стригла и красила волосы в черный, делала прически, одевалась и перенимала манеры, свойственные оперной певице, и обучалась пению. Но все старания, и даже рождение двух мальчуганов, не смогли исторгнуть из их семьи присутствие Кавальери. Этот унизительный брак, продлившийся девять лет, закончился только со смертью Барятинского. После этого умирает отец супруга, и дети Екатерины стали наследниками огромного состояния, которым на время их несовершеннолетия стала распоряжаться она.
В 1916 году Екатерина Александровна возвращается из Европы в Россию и селится в Крыму, где она встречается с соблазнительным красавцем офицером и князем Оболенским. Несмотря на большую разницу в возрасте, князь был младше на 12 лет, их романтичные увлечения перешли в законный брак.
По началу все складывалось отлично для Екатерины, обеспеченная жизнь, рядом дети и любимый муж, но тут грянула Первая мировая война, которая лишила благосостояния и безопасности. Супругам с детьми едва удалось вырваться живыми из революционного водоворота, и используя поддельные паспорта бежать в Киев, а затем чудом, достигнуть Англии.
Там, оставшись без средств к существованию, Екатерина, пытаясь продержать на плаву семью, вынуждена была выступать с вокалом в холлах гостиных, ресторанах и на других концертных площадках. Только финансовое положение оставалось плачевным, его даже не улучшила смерть матери, от которой должно было достаться неплохое наследство. Но, увы, княгиня Долгорукова, не заботясь о будущем своих детей, промотала все средства. И в 1922 году, князь Оболенский бросает свою обедневшую супругу и разводится с ней на следующий год в Австралии, где находит себе новую богатую спутницу жизни.
Вокалистка
К своим 45 годам, Екатерина Александровна стала успешной и востребованной певицей, известной под фамилией – Оболенская-Юрьевская. Ее приглашали с выступлением на различные мероприятия, где она радовала лондонцев и мигрантов из России своими вокальными данными, исполняя песни на нескольких языках.
Окончательно обосновавшись на Английской земле, Екатерина Александровна перешла от православия в католицизм. В 1932 году княгиня Юрьевская, страдающая астмой, приобретает в Гемпшире дом, что находился на острове, который очень подходил ей своим климатом. В 1934 году, она официально присутствует на свадебной церемонии, что проходила в Вестминстерском аббатстве между ее дальней родственницей, принцессой Греческой, и принцем Георгом.
До 1953 года Екатерина Александровна пользовалась благосклонностью вдовствующей королевы Виктории, получая от нее пособие, на которое она и жила. Но, с ее смертью, княгиня, оставшаяся снова без средств, вынуждена была распродавать все украшения и остальное имущество. Впоследствии она попадает в дом престарелых, находящийся в том же Гемпшире, и там же, в 1959 году, умирает.
Любимую дочку русского императора и талантливую вокалистку, Екатерину Александровну Юрьевскую похоронят в английской земле, на кладбище святого апостола Петра. И на скромной погребальной церемонии будут присутствовать только двое из ее родственников, Александр Юрьевский, племянник, и последний бывший супруг, Оболенский.
Также по теме:
Княгиня Долгорукова: алчная жена императора?https://zen.yandex.ru/media/history_world/ekaterin...ra-ii-5c73f191c1146f00b3cce88e
|
Метки: романовы долгоруковы оболенские юрьевские |
Как внучка Александра II стала инфантой Испании. |
Как внучка Александра II стала инфантой Испании.
Беатриса Леопольдина Виктория — внучка российского императора Александра II и королевы Великобритании Виктории.
Дочь герцога была молода, хороша собой, обладала влиятельной родней и поэтому слыла одной из завидных невест Европы.
Беатриса Леопольдина Виктория
Беатриса была шестым ребенком в семье. Ее мать, великая княжна Мария Александровна, единственная дочь императора Александра II, вышла замуж за второго сына королевы Виктории - принца Альфреда герцога Эдинбургского.
По воспоминаниям историков, брак Марии и Альфреда, заключенный по обоюдному расчету, нельзя было назвать счастливым. Тем не менее, в нем родилось шесть детей: два сына (один из них появился на свет мертвым) и четыре девочки. Самой младшей дочерью и была Беатриса Леопольдина Виктория, которую в семье все называли Беа.
Беатриса была шестым ребенком в семье.//Статьи выходят после 14:00 ежедневно.
Поскольку герцог Эдинбургский был главнокомандующим Вооружёнными силами Великобритании в Средиземном море, то большое семейство проводило много времени за границей.
В 1899 году, когда Беа было 15 лет, в их доме произошла настоящая трагедия. В возрасте 24 лет умер ее старший брат Альфред. Наследник престола герцогства Саксен - Кобург - Гота оказался замешан в пренеприятной истории, в результате чего свел счеты с жизнью. В официальном же сообщении двора говорилось, что молодой человек скончался от чахотки.
Принц Альфред застрелился из револьвера.
Но скрыть правду было сложно. 6 февраля 1899 года в санаторий Мартиннсбрунн в городе Грач юноша ушел из жизни после попытки суицида - «Молодой Аффи» выстрелил в себя из револьвера. Это произошло, когда семья собралась по случаю серебряной свадьбы его родителей.
Известно, что молодой человек, который был обручен с герцогиней Эльзой Вюртембергской, страдал сифилисом, которым заразился ещё в годы службы в гвардии. Запущенная болезнь привела к тяжелейшему психическому расстройству и самоубийству. Смерть единственного наследника стала тяжелым ударом для герцога и всех членов семьи.
Великий князь Михаил Александрович и Беатриса Леопольдина Виктория (на передних сидениях).
Через три года произошло еще одно важное событие в жизни Беатрисы - в 1902 году она познакомилась со своим кузеном – братом Николая II, великим князем Михаилом Александровичем. 24-летний сын Александра III был очарован юной особой с выразительными глазами. Принцесса отвечала ему взаимной симпатией.
Несмотря на то, что молодых людей связывали близкие родственные связи, между ними завязались романтические отношения. Они знали, что православная церковь никогда не допустит брака между двоюродным братом и сестрой, но, тем не менее, вели переписку. В одном из своих посланий Михаил Александрович писал Беа: «Я всё время думаю о Вас, моя дорогая, и так ужасно хочу быть рядом с Вами. Одно Богу известно, как Вы мне нужны…».
Но их отношения были обречены, и время остудило пыл великого князя. Через пять лет он страстно влюбился в жену своего подчиненного Наталью Шереметьевскую, на которой тайно женился в Вене в 1912 году.
У Беатрисы и дона Альфонсо родились трое мальчиков.
Беатрису тоже ждали новые отношения. Дочь герцога была молода, хороша собой, обладала влиятельной родней и поэтому слыла одной из завидных невест Европы. В обществе даже ходили слухи, что ей удалось пленить сердце короля Испании Альфонса XIII. Правда, супругой монарха стала не она, а ее кузина. Но на пышной церемонии бракосочетания Беа познакомилась с 3-им герцогом Галлиерийским, инфантом доном Альфонсо, который поле своего тезки был первым возможным наследником престола.
Из-за того, что Беатриса принадлежала к лютеранской церкви, а ее избранник - к католической, в Мадриде не одобряли этот союз. В итоге влюбленные уехали из Испании в Германию, где в 1909 году совершили два обряда бракосочетания. Уже на следующий год у пары родился первенец, которого назвали Альваро Антонио Фернандо. В 1912 году появился на свет второй сын - Альфонсо Мария Кристино, а в 1913 году - третий - Атаульфо Алехандро.
Беатриса Леопольдина Виктория
В это время король разрешил молодоженам вернуться в Мадрид, и они не упустили этой возможности. Однако, жизнь в столице Испании продлилась недолго. Из-за слухов о любовной связи между Беа и Альфонсом XIII, королева-мать обратилась к родственнице с просьбой покинуть страну.
В итоге семья перебралась в Англию, где провела несколько лет. Лишь после того, как страсти поутихли, чета с разрешения родственников переехала в Санлукар - де - Баррамеда, где находились фамильные владения дона Альфонсо.
13 июля 1966 году Беатриса Леопольдина Виктория ушла из жизни. Ей было 82 года.
Источник: spb.aif.ruhttps://zen.yandex.ru/media/id/5b9cf2c3b76d9000aa0...panii-5c76dea355643b00b5d2a4b4
|
Метки: романовы |
Лев Термен. История жизни и смерти. |
Лев Термен. История жизни и смерти.
22.09.2015
Скольких умнейших людей перемолола в своих жерновах советская власть. И до сих пор не успокоилась.
А ведь мог бы остаться в Америке и «no problem»!
Жил старик в Москве в страшной клопиной коммуналке напротив Черемушкинского рынка.
Когда соседям понадобилась его жалкая каморка, они в отсутствие старичка разгромили его имущество, разломали вещички, уничтожили записи.
Старичок вынужден был переехать к дочери, но так от всего этого занемог, что, как следовало ожидать, вскоре и умер. К радости соседей по коммуналке: комнатушка-то освободилась. Жилплощадь. Попользовался, и хватит.Ну и что? — спросите вы. — История-то обыденная. В коммуналках еще не то бывает, соседи могли старичка и вообще тово… Вы подумайте — они сколько ж времени ждали, пока его квадратные метры освободятся, сами уж состарились. А старичок, может, еще и понаехал откуда-нибудь. А старик был не просто так дедушка, каких тыщи в коммуналках доживает.
А был это Лев Термен.
ТОТ САМЫЙ ЛЕВ ТЕРМЕН!
Лев Термен умер в 93 году в нищете и в безвестности, затравленный соседями в коммуналке.
Легендарный Термен
Самое широко известное его изобретение — терменвокс, который понравился Ленину.
Игра на терменвоксе заключается в изменении музыкантом расстояния от его рук до антенн инструмента, за счет чего изменяется емкость колебательного контура и, как следствие, частота звука.Вертикальная прямая антенна отвечает за тон звука, горизонтальная подковообразная — за его громкость.
Для игры на терменвоксе необходимо обладать идеальным слухом, так как во время игры музыкант не касается инструмента.
Но не только терменвокс… Он изобрел:
1. Группу электромузыкальных инструментов:
— терменвокс
— ритмикон
— терпситон
2. Охранную сигнализацию
3. Уникальную систему подслушивания «Буран»
4. Первую в мире телевизионную установку — дальновидение
работал над:
— системой распознавания речи
— технологией заморозки человека
— идентификацией голоса в криминалистике
— военной гидроакусткой.
Уже в 26 году он демонстрировал в Кремле телевидение.
В то время создавались телевизоры с экранами размером со спичечный коробок, а его телевизор имел огромный экран (1,5 х 1,5 м) и разрешение 100 строк. В 1927 г. ученый демонстрировал свою установку советским военачальникам К.Е. Ворошилову, И.В. Тухачевскому и СМ. Буденному: государственные умы с ужасом наблюдали на экране Сталина, идущего по кремлевскому двору. Эта картина так их напугала, что изобретение тут же засекретили+ и благополучно похоронили в архивах, а телевидение вскоре изобрели американцы.
Термен сразил мировую научную общественность своим терменвоксом, на котором он сам (а он помимо физики еще закончил консерваторию) давал концерты классической музыки.
«Небесная музыка», «голоса ангелов» — стонала от восторга буржуазная пресса. СССР получил заказы от нескольких фирм на изготовление 2000 терменвоксов с тем условием, что Термен приедет в Америку курировать работы. Но вместо одного задания Лев Сергеевич получил два: одно от наркома просвещения Луначарского и второе — от военного ведомства.
Концерты Термена прошли в Чикаго, Детройте, Филадельфии, Кливленде, Бостоне. В его студии бывали Джордж Гершвин, Морис Равель, Иегуди Менухин, Чарли Чаплин, Альберт Эйнштейн.
В круг его знакомых входили финансовый магнат Джон Рокфеллер, будущий президент США Дуайт Эйзенхауэр.
Лев Сергеевич музицировал с Альбертом Эйнштейном! Это был дуэт скрипки и терменвокса. Эйнштейн был увлечен идеей соединить музыку и пространственные образы.
А Термен придумал, как это сделать: изобрел светомузыкальный инструмент ритмикон.
Разразившаяся на рубеже 30-х годов «великая депрессия» разорила многих Но не Термена: у изобретательного ученого был еще один козырь – охранная сигнализация.
Датчики Термена отрывали с руками. Их установили даже в тюрьме Синг-Синг и в форте Нокс, где хранился американский золотой запас.
Тысячи американцев с энтузиазмом принялись учиться игре на терменвоксе, и корпорации «Дженерал электрик» и RCA (Radio Corporation of America) купили лицензии на право его производства.
Термен к середине 30-х годов был включен в список двадцати пяти знаменитостей мира и был членом клуба миллионеров.
В процессе концертирования он увлекся Лавинией Вильямс и женился на ней. Увы, она была темнокожей, и по тем временам такой брак считался неприличием.
Расисты Америки закрыли перед ним двери своих салонов+
Политкорректность тогда еще не придумали.
Возможно, Термену любовь прекрасной Лавинии была дороже, чем общение с Рокфеллерами. Но+ Помимо концертов и контрактов на терменвокс он еще выполнял то самое второе задание: занимался шпионажем в пользу СССР. Женитьба на мулатке лишила его информаторов. А это вызвало гнев советской разведки. Он был срочно вызван в СССР, а Лавиния должна была приехать вслед за ним. Когда за ним пришли, у нее сложилось впечатление, что его увели насильно, но кто б ее стал слушать. Больше они не виделись. Никогда. В Москве его арестовали как «невозвращенца», и через месяц умелой обработки социалистической законностью на Лубянке Лев Термен признался во всем.
Например, в том, что вместе с группой астрономов он планировал убийство Кирова.
Версия была такая: Киров (который к тому времени был уже давно мертв!) собирался посетить Пулковскую обсерваторию. Астрономы заложили фугас в маятник Фуко.
А Термен радиосигналом из США (!!!) должен был взорвать его, как только Киров подойдет к маятнику (!).
Следователя не смутило даже то, что маятник Фуко находится не в Пулково, а в Казанском соборе.
Льву Сергеевичу дали восемь лет и отправили на Колыму.
В лагере он немедленно изобрел самоходную тачку на монорельсе, и его вскоре забрали в так называемую «шарашку» Туполева, где у него в ассистентах был Сергей Павлович Королёв.
Началась война, и он разработал оборудование для радиоуправления беспилотными самолетами и радиобуи для военно-морских операций.
Но не только. Еще Термен в этой шарашке разработал знаменитую систему подслушивания «Буран».
Говорят, она до сих пор используется.
Венцом этого творения стало деревянное панно, которое американскому послу подарили советские пионеры.
«Златоуст»

Панно повесили в кабинете посла, и вскоре стали искать, откуда происходит колоссальная утечка информации.
Только семь (!) лет спустя в этом панно обнаружили цилиндр с мембраной.
Еще полтора года инженеры американской разведки бились над загадкой – что это такое?..
А оказалось, что из дома напротив на окно кабинета направлялся луч, а мембрана, колебавшаяся в такт речи, отражала его назад.
Вместе с речью, которая и записывалась.
В дальнейшем Термен еще улучшил изобретение: можно было обходиться даже без мембраны, ее роль выполняло оконное стекло.
Советские власти так обрадовались этому полезному изобретению, что наградили Термена Сталинской премией 1 степени прямо в тюрьме. А потом даже и выпустили, что было просто выдающимся актом гуманизма и торжества столь милой некоторым социалистической законности. И даже осчастливили его двумя комнатками той самой «бесплатной жилплощади». Ну кто же не согласится, что две комнатки Льву Термену дали бесплатно? Конечно же его буквально одарили. Разве он наработал для этой страны на две комнатки?
В 60-е годы Л. Термен снова хотел было заняться электронной музыкой, но какое-то партийно-гебешное мурло просто плюнуло ему в глаза, указав, что «электричество существует, чтобы казнить предателей, а не для того, чтобы создавать музыку».
Вот такие мыслители решали судьбу науки в стране вообще и гениального изобретателя Термена — в частности.
Конечно, он оставался сугубо засекреченным и продолжал работать на разведку, потому что больше никуда его на работу не брали.
Сначала занимался военной гидроакустикой, а потом ему поручили разработать «устройство для поиска летающих тарелок».
Такой идиотизм его совершенно не вдохновлял, и в 64 году он наконец ушел из органов и стал тихо-мирно работать в акустической лаборатории Московской консерватории.
Да так бы и работал, если бы корреспонденту «Нью-Йорк Таймс» не приспичило сделать о консерватории репортаж. И там корреспондент наткнулся на Льва Термена. Весь мир был уверен, что он погиб в 38 году, смолотый мясорубкой миллионных репрессий. Когда в США узнали, что великий Термен жив — это была бомба. Сенсация. Научная общественность Америки и Европы буквально взревела. К Термену хлынула лавина писем от ученых, коллег, к нему толпой ломились репортеры и телекомпании+ Его приглашали в Стэнфорд, в Париж, в Голландию, в Швецию. Руководство консерватории так перетрусило от всего этого, что Термена просто уволили, а его аппаратуру и разработки — вышвырнули на помойку. А разрабатывал он синтезатор, который вскоре успешно и разработала японская Ямаха, заработав на этом миллионы и миллионы.
И последующие 25 лет великий ученый, по таланту не уступавший наверное самому Леонардо, легендарный изобретатель, которого хвалил Ленин и уважал Эйнштейн — работал механиком 6 разряда в какой-то заштатной лаборатории.
Жил с семьей в двухкомнатной квартире, смотрел, наверное, телевизор — который ему не дали изобрести -, а по телевизору концерты рок-звезд на синтезаторах Ямаха.
Дочери выросли, завели свои семьи, и в маленькой двухкомнатной квартире на Ленинском проспекте жили пятеро — Л. С. Термен, дочь Наталья с мужем и двумя детьми.
С большим трудом ему удалось получить еще одну комнату в клопиной коммуналке, где его и затравили соседи».
Share
|
Метки: термен |
Роза 'Княгиня Мария Долгорукова' |
Константин Вихляев и Юта Арбатская представляют
Роза 'Княгиня Мария Долгорукова'. Мария Сергеевна Бенкендорф. Rose ‘Princesse Marie Dolgorouky’
Мария Сергеевна Бенкендорф (Долгорукая)
Ю.Арбатская, К.Вихляев
Мы уже писали о розе, посвященной Долгоруким, в частности князю Василию Андреевичу Долгорукому (1804-1868). Роза так и называется - 'Prince Bazile Dolgorouky'. Та роза не сохранилась, хотя изображение ее есть. Зато сохранилась роза ‘Princesse Marie Dolgorouky’. Мы ее отыскали в розарии «Европа» в Зангерхаузене (Германия).

‘Princesse Marie Dolgorouky’ (HP, Gonod, 1878)
Роза ‘Princesse Marie Dolgorouky’ (HP, Gonod, 1878) относится к ремонтантным сортам, имеет крупные, махровые бледно-розовые цветы (17-25 лепестков) чашевидной формы. Высота куста до 1,5 м. Цветет несколько раз в сезон. Один из родительских сортов - ‘Anna de Diesbach’ (Lacharme, 1858).
Автор сорта, Жан-Мари Гоно (Jean-Marie Gonod), родился в 1827 году, с 16 лет обучался в разных питомниках садоводческому делу и в 1857-м основал питомник по разведению роз в Лионе, в районе Монплезир. Одновременно он работал в парке Тет-д’Ор на должности бригадира зеленых насаждений. Первые розы, выведенные Гоно, были выпущены на рынок в 1863 году. Это были ремонтантный сорт ‘Vicomtesse Douglas’ (1862) и бурбонская роза ‘Céline Gonod’ (1861). С этого времени он создал немало сортов роз, два из них посвящены нашим соотечественницам: ‘Anna de Besobrasoff’ (1878) и ‘Princesse Marie Dolgorouky’ (1878). Жан-Мари Гоно скончался в 1888 году, оставив после себя наследие из более чем 70 сортов роз.
Мария Сергеевна Долгорукова родилась 14 декабря 1846 года. Отец, князь Долгоруков Сергей Алексеевич (1809-1891) был статс-секретарем, одно время губернатором Витебской губернии. Мать – Апраксина Мария Александровна (1816-1892). В семье кроме Марии было еще семеро детей. Мария Сергеевна пережила их почти на 30 лет.

Княжна Мария Сергеевна Долгорукова. Фото 1860-х гг.
В 17 лет (1863) Мария вышла замуж за князя Александра Васильевича Долгорукова, сына героя нашего предыдущего рассказа, Василия Андреевича. В 1865 году у нее родилась дочь Ольга, в 1866-м – сын Александр, а в 1868-м – последний сын Василий.
Муж Марии был всего на семь лет старше ее, ему в год свадьбы исполнилось лишь 24, что по тем временам считалось очень ранним браком. Вместе они прожили 13 лет. В 1876 году в возрасте 37 лет муж Марии внезапно умер, оставив Марию с тремя детьми.

Сын Марии Сергеевны, Василий Долгоруков. Фото 1900-х гг.
Проходят годы, и Мария Сергеевна становится фрейлиной императрицы Александры Федоровны, жены Николая II, как в свое время и ее мать, графиня Апраксина, была фрейлиной у императрицы Марии Александровны. С благословения царской четы Мария Сергеевна в 1897 году выходит второй раз замуж, за графа Павла Константиновича Бенкендорфа.
Павел Константинович Бенкендорф - генерал от кавалерии, генерал-адъютант, гофмаршал, обер-гофмаршал Высочайшего двора, член Государственного Совета с 1916 года. Вот как характеризует графа в своих воспоминаниях начальник канцелярии Двора А.А.Мосолов:
«Его управление длилось в течение двух царствований. Человек умный, всесторонне образованный, весьма хладнокровный, он исполнял свое нелегкое дело незаметно для посторонних, но всегда с ровной добросовестностью. Граф держался определенных принципов и имел большой и заслуженный вес в министерстве двора. Политикой не занимался и о ней никогда не говорил». Он был «...арбитром всех вопросов, касавшихся русского двора. Государь и императрица относились к нему с большим доверием и дружбой. Все бывшие в России высочайшие особы и главы государств хорошо знали и ценили нашего гофмаршала».

Мария Сергеевна Бенкендорф в костюме русской
боярыни XVII в. на костюмированном балу при Дворе в 1903 г.
С наступлением событий 1917 года Павел Константинович и Мария Сергеевна неотлучно находились при арестованном императоре и его супруге в Царском Селе. Сын от первого брака, генерал-майор Василий Долгоруков, будучи командиром полка охраны, также находился в свите Его Императорского Величества. Сохранился снимок из воспоминаний П.К.Бенкендорфа 1919 года «Last Days at Tsarskoe Selo», где все трое сфотографированы в Царскосельском парке.

Слева В.А.Долгоруков, второй справа П.К.Бенкендорф,
сидит М.С. Бенкендорф. 31 июля 1917 г.
14 августа 1917 года Василий Долгоруков добровольно последовал за императором и императрицей в качестве сопровождающего к месту ссылки царской семьи. Был расстрелян 10 июля 1918 года.
Павел Константинович, сославшись на плохое здоровье, отказался ехать в Тобольск. Вместе с Марией Сергеевной они провели три года в Петрограде, ожидая разрешения на выезд за границу. Все это время граф Бенкендорф писал мемуары о последних днях службы при Николае II, которые были переведены на английский язык и изданы уже после его смерти.
Второй сын Марии Сергеевны, Александр, был убит в Москве в 1919 году. В феврале 1921-го супруги Бенкендорф, наконец, получают разрешение на выезд, но едва они пересекли эстонскую границу, как Павел Константинович заболел и тут же в карантинной больнице за три дня скончался. Похоронили его на семейном кладбище Бенкендорфов в родовом имении Фалль (Эстония).
Мария Сергеевна, потеряв мужа и обоих сыновей, в одиночестве добралась до Ниццы, где и прожила вплоть до самой смерти в 1936 году.
|
Метки: долгоруковы бенкендорф крым розы-цветы |