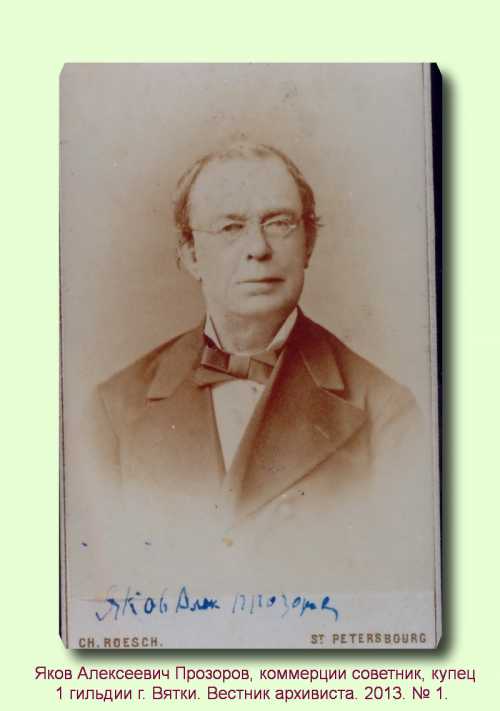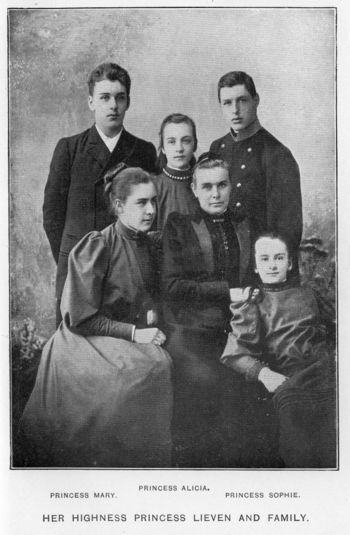Дачники |

Ижевск
https://www.izh.kp.ru/daily/26264/3142935/
 Специалисты сделали весьма информативную подборку из семейных альбомов москвичей 100-120-летней давности. Фонд «Московское время» любезно предоставил «Комсомолке» для публикации самые интересные фотографии
Специалисты сделали весьма информативную подборку из семейных альбомов москвичей 100-120-летней давности. Фонд «Московское время» любезно предоставил «Комсомолке» для публикации самые интересные фотографии
Изменить размер текста:
Фонд «Московское время» предоставил «Комсомолке» для публикации самые интересные фотографии из коллекции «Дачная жизнь в фотографиях конца XIX — начала XX века», в нее вошли фото из семейных альбомов москвичей 100-120-летней давности.
Многие зажиточные московские фамилии имели загородные усадьбы, в которые переезжали с прислугой на летние месяцы развеяться от городской суеты. Семьи со средним достатком старались снять с июня по август более скромные домики. Самые популярные дачные направления тех лет - Малаховка, Перерва, Перловка, Немчиновка, Пушкино и Люблино (тогда нынешний район Москвы был всего лишь селом).
Особый шик — пригласить из города фотографа, чтобы сделать постановочный семейный снимок. Из закромов, естественно, доставались самые лучшие наряды. Сюжеты таких «фотосессий» не отличились большим разнообразием, а качество снимков зависело от мастерства фотохудожника, его умения подловить живой момент и раскрыть индивидуальность снимаемых персонажей. Эти картинки потом бережно подшивали в альбомы, которые спустя годы становились семейными реликвиями.

Благородное семейство за столом — еще один жанр таких постановочных дачных фото.

Домашнее музицирование было непременным атрибутом семейной жизни русской интеллигенции. С детства мальчики и девочки обучались пению, игре на фортепиано, скрипке. Поэтому на дачах импровизированные концерты становились для соседей одним из главных вечерних развлечений. В некоторых дома играли на фортепиано в четыре руки, пели романсы.

Домашнее варенье было в те времена самым традиционным угощением к чаю. Вкуснятину из фруктов и ягод начинали варить ближе к концу лета. Причем настоящие хозяйки не зависимо от сословия не доверяли это кухаркам, все делали сами. По осени банки с вареньем перевозились в Москву в сундуках, набитых для мягкости сеном. А потом в городе послеобеденный и вечерний чай пили не с сахаром, как сейчас, а именно с вареньем; оно же шло в пироги.

Как и сейчас, 100 лет назад постоять на бережку с удочкой было одним из главных дачных развлечений.

Но еще более сильным культом для мужчин разных сословий была охота. Кстати, на некоторых старых снимках с охотничьими ружьями позируют и подростки и совсем еще дети лет 8-9. В наше время сказали бы: «понты»! Так и есть. На самом деле, по законам дореволюционной России до 16 лет невозможно было получить разрешение на использование огнестрельного оружия, а до 21 года — только при поручительстве родителей.

Городской мальчик позирует в деревенском антураже: рубаха, поле, сноп, страда в разгаре...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Москва сто лет тому назад
Столичный фонд «Московское время» сравнил, как выглядели знаковые места Москвы сто лет назад и сегодня. Современные фотографы постарались полностью повторить ракурсы снимков вековой давности
Оригинальные фото в 1910-х годах сделал московский общественный деятель Эмилий Готье-Дюфайе. Потомок французского книготорговца и коллекционера, переселившегося в Россию в середине 18 века. Благотворитель, член Императорского Московского археологического общества. По поручению этой организации он и начал снимать улицы столицы. (читайте далее)
ИСТОЧНИК KP.RU
|
Метки: их нравы |
Раненые Первой мировой: как рождалась государственная система помощи инвалидам |
Раненые Первой мировой: как рождалась государственная система помощи инвалидам
 6714 06.08.2014 / Татьяна ЗАЛЬЦМАН
6714 06.08.2014 / Татьяна ЗАЛЬЦМАН
Проблемы, рожденные европейской войной, пришлось решать местному самоуправлению, объединившемуся в грандиозный союз. В том числе и организация помощи больным и раненым воинам своей главной тяжестью пала на Союз земств и городов
Проблемы, рожденные европейской войной, пришлось решать местному самоуправлению, объединившемуся в грандиозный союз. В том числе и организация помощи больным и раненым воинам своей главной тяжестью пала на Союз земств и городов.
 Учебная стрельба нижних чинов 280-го пехотного Сурского полка в противогазовых масках. 1916 г. /http://rusarchives.ru/
Учебная стрельба нижних чинов 280-го пехотного Сурского полка в противогазовых масках. 1916 г. /http://rusarchives.ru/
Небывалая длительность боя и сила огня
Первая мировая война продолжалась более 4 лет с 1 августа 1914 по 11 ноября 1918-го. В ней участвовало 38 государств, а на ее полях сражалось свыше 74 млн человек, из которых 10 млн было убито и 20 млн искалечено. Во время этой кампании военные действия стали по-настоящему массовыми в связи с применением новейших видов техники (танки, авиация, химическое оружие).
«Необычна прежде всего длительность боя, ведущегося непрерывно, в то время, как в прежние войны, в том числе и в русско-японскую, бои велись лишь периодами, а остальное время было посвящено маневрированию, укреплению позиций и т.д. Необычайная сила огня, когда, например, после удачного шрапнельного залпа из 250 человек остается не получившими ранения всего 7 человек», — отмечалось в журнале заседания Главного Управления Российского Общества Красного Креста от 14 сентября 1914 года.
Позиционная война вела к тому, что значительное количество времени солдаты проводили в антисанитарных, тяжелых условиях, холодных и влажных окопах, что способствовало развитию таких заболеваний как артроз, ревматизм, различным инфекционным заболеваниям. В связи с этими особенностями, организация лечебно-эвакуационного обеспечения боевых действий войск русской армии во время Первой мировой войны также отличалась от прежних военных кампаний.
 На передовых позициях в 110-м пехотном Камском полку.
На передовых позициях в 110-м пехотном Камском полку.
(снято в 100 шагах от германских окопов). 1915 г. /http://rusarchives.ru/
По словам современников, за время войны, было не только разрушено все хозяйство страны, но и впервые особенно остро встал вопрос о восстановлении сил пострадавших от ран и болезней, так как размеры этой проблемы превосходили все возможные предположения и выходили далеко за пределы прошлого.
Тотальная эвакуация
В основе санитарного обеспечения в период Первой мировой войны лежала доктрина, основанная на принципе «эвакуации во что бы то ни стало», удаление всех больных и раненых как можно дальше в тыл страны.
 Переноска раненых на лыжах
Переноска раненых на лыжах
Фотооткрытка издательства «Richard» в С.-Петербурге времени Первой мировой войны /http://rusarchives.ru/
Основными звеньями эвакуационной цепи были:
— головной эвакуационный пункт, предназначенный для приема и временного размещения раненых и больных, доставляемых из корпусных районов, до их отправки на тыловой эвакуационный пункт. На данном этапе могло работать только военное ведомство и Красный Крест;
— тыловой эвакуационный пункт, который отсортировывал пострадавших по степени тяжести для дальнейшей отправки на распределительные пункты и их временного размещения. На данном и последующих этапах уже могли помогать другие общественные организации: Всероссийский союз городов, Всероссийский земский союз;
— распределительный эвакуационный пункт. Располагался либо во внутреннем районе, либо в узле железной дороги, как можно ближе к границе тылового района. Отсюда раненые подлежали дальнейшей эвакуации в окружные эвакуационные пункты.
— окружной эвакуационный пункт находился в каждом военном округе, где раненые должны были содержаться до полного выздоровления. Окружные эвакуационные госпитали находились в Москве, Санкт-Петербурге, Харькове.
Для того чтобы выстроенная система была эффективна, необходимо, чтобы все звенья этой цепи работали максимально слажено. Однако, состояние и количество железнодорожных и автомобильных дорог, оборудованных госпиталей в тылу, а также вспомогательных помещений для этапных и подвижных лазаретов на фронте не соответствовало масштабам проблем.
Кроме этого, упор на полную эвакуацию не соответствовал действительному положению на фронте. Так, за время войны во внутренние районы страны было эвакуировано около 2 474 935 раненых и отравившихся газом, а также 1 477 940 больных. 61% эвакуированных составляли легкораненые. При этом получить реальную медицинскую помощь они могли только в распределительных госпиталях. Это было крайне неэффективно и тяжело для врачей.
Об эффективности системы можно судить по показателю возвращения раненых в строй. В русской армии он составлял не более 50% их суммарного числа, при уровне смертности в 11,5% и инвалидности в более чем 20%, в тоже время в германской армии возвращалось в строй около 76%, во французской – 75 — 82%.
Противником такой системы эвакуации был хирург-консультант ряда фронтов профессор Военно-медицинской академии В.А.Оппель. Позднее основные положения новой системы эвакуации были сформулированы в работе другого видного русского хирурга, академика Н.А.Вельяминова «Инструкции по организации хирургической помощи раненым на фронте».
Уже на первых потоках раненых, которых старались срочно переместить в тыл, эвакуационная система начала давать сбои. При большом наплыве раненых они скапливались на головных эвакуационных пунктах, случалось, что сутками стояли в ожидании отправления. Нехватка транспорта и недостаточная протяженность железных дорог не давали возможности равномерно заполнить больными и ранеными весь созданный объем больничных мест в лечебных учреждениях.
Раненые накапливались в распределительных пунктах, куда их свозили с передовых позиций, в результате чего близлежащие эвакуационные пункты были переполнены, а лечебные учреждения в отдаленных районах пустовали.
Дело призрения увечных воинов возглавлял Верховный совет с образованной в его составе особой комиссией. В Москве и Московской губернии руководство осуществлял комитет Ея Императорского Высочества Великой Княгини Елизаветы Федоровны, в прочих губерниях и областях — губернские и областные отделения этого комитета, а в Петрограде и Петроградской губернии — действовал особый комитет Ея Императорского Высочества Великой Княжны Ольга Николаевны.
В состав этих комитетов входили назначаемые Верховным советом должностные лица — непременные члены с их канцеляриями, ответственные за дело призрения в подлежащих их заведованию губерниях. Органами, осуществляющие дела призрения являлись местные отделения комитетов. Комиссия Верховного Совета совместно с местными отделениями комитета Елизаветы Федоровны решали финансовые вопросы, и от них зависело выделение средств, необходимых для осуществления тех или иных мероприятий призрения местными органами.
Значительную роль в деле призрения военно-увечных играли общероссийские военно-общественные организации, созданные в первые месяцы войны, – Всероссийский союз городов (далее ВСГ) и Всероссийский земский союз (далее ВЗС), и местное самоуправление, которые после длительных дискуссий добились признания права участвовать в этой работе. Союзы решали возникающие вопросы военного времени в области снабжения, медицинской помощи и пр., а также уделяли большое внимание теоретической разработке вопросов, касающихся оказания помощи различным категориям пострадавших.
Мероприятия по оказанию помощи военно-увечным можно разделить на три этапа. Первый длился с лета 1914 по осень 1915. В это время основной задачей было создание общей, всероссийской санитарно-лечебной системы помощи больным и раненым. На втором этапе с осени 1915 года по март 1916 года были обозначены основные проблемы военно-увечных и в общественных организациях были сформированы первые специальные отделы, занимающихся вопросами оказания различных видов помощи военно-увечным. На третьем этапе – с конца февраля 1916 года началась разработка теоретических подходов к решению поставленных проблем на общероссийском уровне.
В первые дни войны было важно оборудовать на всех этапах эвакуации необходимое количество госпиталей и лечебниц для приема раненых.
Как уже указывалось выше, большинство выбывших из строя составляли легко раненые (70-80%), поэтому они не нуждались в продолжительном стационарном лечении. Так, согласно данным собранным осенью 1914 года в лечебных заведениях Москвы из числа эвакуируемых только около 25% были уволены с военной службы, как явно неспособные (без руки, без ноги и пр.), остальным требовалось госпитальное лечение.
 Внутреннее устройство вагона тылового санитарного поезда Московского городского управления
Внутреннее устройство вагона тылового санитарного поезда Московского городского управления
Поезд передан Всероссийскому союзу городов. Альбом «Лазареты Московского городского управления» 1914 г. /http://rusarchives.ru/
Койки и бумаги
Всероссийский земский союз разделил все лечебные места на три разряда.
Койки 1-го разряда — госпитальные, были предназначены для тяжело раненых. 2-й разряд — койки госпитально-патронажные, на которых размещали легкораненых, не нуждающихся в сложных операциях, а также более трудных терапевтических больных. Койки 3-го разряда — патронажные, были созданы для тех, кто уже выздоравливает, но еще нуждается в амбулаторном лечении и наблюдении врача (положение от 26 сентября 1914 года).
Больше всего было создано коек 1-го разряда, которые были самыми дорогими, меньше затрат требовалось для создания коек 3-го разряда. Однако, уже в ноябре 1914 г. вопрос о необходимости устройства и содержания патронатов был снят, т.к. было решено, что их содержание не входит в задачи Союза. Таким образом, данная категория людей осталась практически без контроля. Это также способствовало увеличению числа хронически больных, так как раненые не долечивались.
В первые дни войны для раненых освобождали здания, в которых располагались другие социальные учреждения (богадельни, ночлежные дома, школы, училища и пр.).
 Офицерская палата лазарета при Городском убежище для беспризорных детей и для престарелых имени И.А.Лямина
Офицерская палата лазарета при Городском убежище для беспризорных детей и для престарелых имени И.А.Лямина
Москва, ул. Б. Ордынка. Альбом «Лазареты Московского городского управления» 1914 г. /http://rusarchives.ru/
Параллельно с созданием коечного фонда, разрабатывалось документальное обеспечение лечебного процесса, которое должно обеспечить координацию деятельности по движению больных и раненых. Все гражданские лечебные заведения должны были иметь:
• приемную книгу для записи всех поступающих в лечебные заведения больных и раненых воинов;
• истории болезни, которые составлялись на каждого воинского чина, поступающего в лечебное заведение, и заключали в себе данные о течении болезни и методах лечения; уведомительную карточку или приемный листок для уведомления подлежащих органов военного ведомства о поступлении воинского чина в лечебное заведение;
• отчетно-осведомительную карточку для уведомления подлежащего военного начальства, а также российского общества Красного Креста и главного военно-санитарного управления о выписке, переводе или смерти воинского чина;
• билет о ранении для выдачи воинскому чину на руки, как документ, удостоверяющий его право на возбуждение в будущем ходатайства о пенсии или пособии. Билет должен быть выдан в первом лечебном заведении, последующие же лечебные заведения, через которые раненый проходит, должны делать лишь отметки о том, что он у них лечился. Документ оставался у раненого. Для удобства, билет был напечатан маленьким форматом и заключен в особую папку.
Отчетно-осведомительная карточка и билет о ранении, вначале были не предусмотрены, поэтому только к концу октября 1914 г. они были отпечатаны и разосланы во все губернские комитеты с соответствующей инструкцией. Однако, еще в законе № 417 от 25 июня 1912 года «О призрении нижних чинов и их семей» все без исключения учреждения (воинские части, врачебные заведения, госпитали, перевязочные пункты, эвакуационные комиссии, санитарные поезда и пр.) были обязаны вносить все сведения, которые влияли на получение пенсии, в записную книжку. Информация должна была дублироваться в регистрационные книги самих учреждений.
Вероятно, отчетно-осведомительная карточка и билет о ранении были «забыты» в связи с тем, что указания в законе были ориентированы исключительно военно-лечебным заведениям, в тоже время в первую мировую войну лечение раненых и больных воинов, особенно во внутренних губерниях империи, в основном осуществлялось в гражданских лечебных заведениях.
Таким образом, в первые месяцы войны значительное количество раненых не получили необходимые документы, в связи с тем, что лечебные заведения не были ими снабжены. В тоже время цепочка лечебных учреждений, через которые проходил раненый, была длинной, и сбой на одном из этапов, уменьшал эффективность работы следующих. В последствие это привело к затруднениям в получении пенсий и пособий.
Особое внимание – душевнобольным
Когда наконец проанализировали оказание помощи по категориям увечных и больных, было обнаружено, что на некоторые категории традиционно обращали большее внимание, а другие не попадали в поле зрения специалистов и чиновников. Единственной категорией, находившейся под пристальным вниманием общественных деятелей уже с первых дней войны, и для которой была разработана даже особая система помощи – это были душевнобольные воины. Кроме этого имелся опыт работы с ними и во время русско-японской войны.
Так, по поручению Всероссийского Земского Союза, в сентябре 1914 года была создана Объединенная комиссия по организации помощи душевно–больным, в которые входили по два члена от земского союза и союза городов, а также от союза психиатров и невропатологов Н.А. Вырубов, В.И. Яковенко.
Комиссией был разработан план организации помощи душевно больным воинам. Согласно плану сортировка больных должна была проводиться в Москве, Петрограде и Харькове через распределительные психиатрические госпиталя. Помощь предполагалось оказывать в форме выделения денежных средств на наем помещения, оборудование, устройство новых отделений и содержание душевнобольных. Земскому Союзу уже в первые месяцы войны удалось оборудовать около 1 000 коек в губерниях.
К сожалению, план ВЗС не был осуществлен, так как военное ведомство перепоручило осуществление плана оказания помощи душевнобольным Российскому Красному Кресту, а на те лечебные места, которые уже оборудовали губернии, за счет ВЗС, стали перемещать душевнобольных из местных больниц.
Об остальных категориях людей с ограниченными возможностями, которым необходима специализированная помощь, отдельных упоминаний в материалах первых месяцев войны не обнаружено.
25 тысяч ампутантов
Проблемы военно-увечных, как отдельной категории нуждающейся в особых мероприятиях, впервые были сформулированы в феврале 1915 года, на 2-ом Съезде Союза Городов. В первую очередь был поднят вопрос об оказании специальной медицинской помощи. До этого времени общественные деятели не обсуждали проблемы воинов, которые по состоянию здоровья не смогут вернуться в строй. Мероприятия в данном направлении заранее не планировалась, а развивались стихийно. На съезде также особо была выделена новая категория инвалидов, нуждающаяся в особых мероприятиях – ампутанты – люди, лишившиеся каких-либо конечностей.
 Одна из палат лазарета при 3-м Пятницком женском городском начальном училище в ознаменование рождения вел. княжны Ольги Николаевны
Одна из палат лазарета при 3-м Пятницком женском городском начальном училище в ознаменование рождения вел. княжны Ольги Николаевны
Москва, Ивановская ул., дом Бахрушина. Альбом «Лазареты Московского городского управления» 1914 г. /http://rusarchives.ru/
Во втором периоде, осени 1915 г. – весна 1916 г., все более актуальной задачей становиться оказание широкой, планомерной помощи увечным, т.е. воинам, которые после окончания лечения в лазаретах, не могли продолжать службу, так как полностью или частично утратили свою трудоспособность. Поставив перед собой данную задачу ВСГ и ВЗС, стали искать способы ее решения.
Работа с военно-увечными шла по нескольким направлениям:
1. создание системы учреждений, где было бы возможным предоставлять специальные виды лечения. Развитие сети санаторно-курортных учреждений;
2. Привлечение раненых и увечных к различным работам (трудовая реабилитация) в лазаретах и после выхода из больницы;
3. Создание учреждений или организаций для призрения неспособных к труду.
По статистическим данным в сентябре 1915 г. только тех, кто лишился конечностей, насчитывалось около 25 000. По данным московского губернского санитарного бюро, при выписке из лечебниц и госпиталей Московской губернии, полностью выздоровевших больных было почти вдвое меньше, чем с хронической болезнью или увечностью.
По мнению медиков, около 60% всех больных нуждались в дополнительных видах лечения. Кроме этого, в общественной помощи и призрении нуждались около 17%, т.е. приблизительно 212 500 чел. (в том числе до 2% (приблизительно 25 000 чел.) в качестве неизлечимо-больных, в протезах была потребность у 2% (25 000 чел.) выбывших из лазаретов.
Создание специализированных учреждений было необходимо по двум основным причинам: во-первых, используя современные методы лечения, правда, часто сложные и дорогие, можно было не только значительно улучшить здоровье пострадавших, но и возвратить трудоспособность. А во-вторых, необходимо было освобождать койки для новых раненых, поступавших с поля боя.
Обустройство таких учреждений было дешевле, чем оснащать дорогостоящей техникой все лечебные заведения. При этом требовалась специализация врачей, что в дальнейшем позволит более квалифицированно оказывать помощь больным, а также транслировать и передавать опыт молодым специалистам. Все это требовало значительных финансовых средств и технологий обучения и переквалификации.
В тоже время, открывая лазареты и приюты для инвалидов, специалисты столкнулись с тем, что многие раненые не хотят или не могут вернуться домой, так они стали слишком большой ношей для семьи, которая не имеет средств к существованию и были не в состоянии прокормить еще одного нетрудоспособного члена.
Поэтому планировалось создавать приюты для увечных по типу участковых попечительств для бедных, чтобы общественность могла принимать более активное участие в оказании помощи инвалидам. Отметим, что данный вид учреждений требовал большой социальной активности населения, на которую в условиях военного времени оно не было способно.
На 3-ем съезде Городов, который проходил 7–9 сентября 1915 г. впервые были одобрены общие принципы постановки дела помощи увечным. Планировалось сконцентрировать свои силы на следующих основных направлениях помощи: восстановление трудоспособности, снабжение искусственными конечностями и протезами, обучение ремеслам и занятиям, которые бы соответствовали сохранившей трудоспособности, поиск работы.
Планировалось провести тщательную регистрацию увечных в специальных учреждениях, в том числе на биржах труда, в приютах и патронатах. Участники Съезда предлагали, чтобы деятельность в области оказания помощи увечным, регулировал единый для всех организаций орган, в который бы вошли представители всех организаций и где аккумулировались бы специальные государственные средства.
Следует заметить, что в материалах Съезда, можно найти и рекомендации более частного характера, так, например, активно обсуждались вопрос организации протезных мастерских. Съезд постановил признать желательным: увеличение числа протезных мастерских, поощрение изобретений протезов, образцы которых необходимо было направлять в Главный комитет на утверждение. В Особой Комиссии Верховного Совета проект комплексной организации помощи увечным воинам впервые был рассмотрен 6 октября 1915 г. Была избрана Особая комиссия по увечным.
Вопрос развития сети учреждений для лечения грязями, в курортных местностях, а также кумысолечение, был признан одним из насущных задач, от решения которого зависел процент выздоравливающих и процент полностью утративших работоспособность воинов. Затраты по созданию системы подобных учреждений взяли на себя поровну ВСГ и ВЗС. Бальнеологическое и санаторное лечение предназначалось для людей, страдающих травматическими повреждениями костей и суставов, которые сопровождаются обширными костными мозолями, сведениями и ограничениями подвижности крупных суставов и т.п.; тяжелыми формами травматического невроза; ревматическими поражениями суставов и мышц; ограничениями подвижности крупных суставов; болезнями органов грудной полости; брюшной полости и мочевых путей.
На Собрании уполномоченных губернских земств 12 — 13 марта 1916 года еще раз было сформулировано, что дело попечения и призрения увечных, больных и неспособных к труду воинов является общегосударственной задачей.
В 1917 году отделом помощи увечным ВСГ была предпринята попытка разработать законопроект о помощи увечным воинам. Разработка такого законопроекта была насущной проблемой, так как без законодательных принципов организовать такую работу повсеместно в должных размерах не получалось.
Итак, проблемы, рожденные европейской войной, пришлось решать местному самоуправлению, объединившемуся в грандиозный союз. В том числе и организация помощи больным и раненым воинам своей главной тяжестью пала на Союз земств и городов. В их ведении оказались и готовая сеть лечебных заведений, и живые связи с населением, и общественный ореол, который быстро сделал земство центром самых живых забот о помощи раненым.
Различные общества и учреждения оказывали вещевую и материальную помощь, выделяли средства на организацию различных специализированных учреждений, предназначенных для различных категорий больных и раненых воинов.
К сожалению, комплексного решения проблемы не было осуществлено. Кн. Львов, выступая на открытии съезда ВЗС указывал на большую значимость военного времени для развития системы хозяйствования и системы призрения особенно: «какова бы ни была наша скорбь за Россию, не забудем какие огромные приобретения сделала русская общественность за время войны. Создались новые навыки, способности разрешать практические задачи, умение находить практические средства для целей, которые поставлены беззаветною любовью к своему народу и верой в него».
_1407169340.jpg?x41640) «Жертвуйте жертвам войны», Дмитрий Донской, 1380-1914; плакат, Москва, 1914. Художник К.А.Коровин. /http://rexstar.ru/
«Жертвуйте жертвам войны», Дмитрий Донской, 1380-1914; плакат, Москва, 1914. Художник К.А.Коровин. /http://rexstar.ru/
Многие вопросы были решены совместно Земским союзом и Союзом городов, так как именно в деле организации помощи увечным, в виду ее чрезвычайной сложности и разнообразия особенностей, было понятно, что без полного объединения всех государственных и местных органов, общественных организаций, задействованных в осуществлении задач, невозможно будет наладить действительно эффективную работу.
.jpg?x41640) «Сестра милосердия у постели тяжелораненого»; Отрывной календарь на 1915 год, обложка. Издатель И.Д.Сытин. /www.rusantikvar.ru/
«Сестра милосердия у постели тяжелораненого»; Отрывной календарь на 1915 год, обложка. Издатель И.Д.Сытин. /www.rusantikvar.ru/
Несмотря на то, что самим земским деятелям не удалось полностью реализовать свои проекты, многие их разработки в дальнейшем легли в основу политики уже советского государства по отношению к инвалидам.
После революции 29 декабря 1917 года был опубликован Декрет Совета Народных Комиссаров за подписью Ленина о реорганизации Всероссийского Земского Союза помощи больным и раненым воинам. Этим Декретом все предприятия и учреждения Всероссийского Земского Союза были объявлены собственностью Российской республики. Главный Комитет старого состава был распущен и вместо него был образован новый комитет. 9 января 1918 года был опубликован Декрет и о реорганизации Красного Креста и Всероссийского Союза Городов, все медицинские отделы и имущество лечебных заведений, а также медико-санитарных учреждений Всероссийского Земского Союза были переданы в ведение Народного комитета здравоохранения.
Категории: Больные и инвалиды/, Война, История благотворительности/History of philanthropy
|
Метки: первая мировая война красный крест |
Кто устранил царскую семью? |
Кто устранил царскую семью?
Большие споры разворачиваются время от времени на тему заказчиков убийства царской семьи. Обсуждается всегда один вопрос, кто именно дал добро на такие санкции? На одной стороне стоит Уральский совет, решивший судьбу монарха без приказа Кремля. На второй — большевистская верхушка, лично заинтересованная в расстреле.
Фотография царя Николая II, его жены и детей
После своего отречения Николай II остается под домашним арестом в Александровском дворце. Министр Временного правительства Павел Милюков пытается организовать переезд царской семьи в Англию к брату Николая, Георгу V. Но тот впоследствии отказывает в помощи.
Николай II и его двоюродный брат Георг V
В середины августа 1917 года вся царская семья находится в городе Тобольск ввиду разгорающихся в Петрограде волнений. В добровольном порядке к ним присоединяется свита и вооруженный отряд гвардейцев для охраны.
Царская семья в Тобольске зимой 1917 года
После Октябрьской революции большевики не вспоминали про царскую семью, так как страна находилась в состоянии войны. Другими словами — имелись и гораздо более важные дела.
Но в начале марта 1918 года о решении дальнейшей судьбы царя заговорили в Уралсовете. Вот как вспоминает это глава исполнительного комитета совета:
Из воспоминаний Павла Быкова
Стоит также упомянуть о настроениях, которые царили в Уралсовете в 1918 году: большинство придерживалось эсеровских взглядов, не поддерживало внешнюю политику центра. А после объявления Брестского мира объявила свою, революционную войну, Германии.
По прибытии уральских отрядов в Тобольск заполучить царя последним не удалось, так как вооруженная охрана отказала в выдаче в виду отсутствия у прибывших указаний сверху. В ответ большевики начали скапливать в городе вооруженные силы в городе. Одновременно в Москву посылались телеграммы с разной информацией, что привело к непониманию центра относительно положения дел в Тобольске.
В ответ Москва выслала чрезвычайного комиссара Василия Яковлева с задачей вывезти царскую семью в город Екатеринбург для дальнейшей пересылки в Москву. Там царя должны были предать суду.
Во время операции по пересылке уральские большевики всячески пытались склонить Яковлева к расстрелу царя по дороге в Екатеринбург. После неудавшихся уговоров в ход пошли угрозы. Желание уральцев покончить с царем оказалось настолько сильным, что они были готовы расправиться и с комиссаром, присланным из Москвы по личному поручению Ленина и Свердлова.
Из воспоминаний Василия Яковлева
Только с помощью переговоров Свердлова с Уралсоветом удалось достичь консенсуса, в ходе которого Яковлев передал царя под расписку взамен на обещания о его неприкосновенности.
В то время в Москве выявлялись все большие расхождения большевиков с левыми эсерами. В июле 1918 года последними в попытке снова разжечь войну был убит германский посол. А 11 числа партия левых эсеров была объявлена незаконной.
На фоне этих событий сочувствующий эсерам Уралсовет принимает решение о расстреле царя и его семьи. В Москву для передачи решения отправляется Филипп Голощекин.
Центр распорядился отменить решение Уралсовета и организовать пересылку царя в Москву. С этим решением 12 июля Голощекин возвращается в Екатеринбург, а 17 числа, игнорируя указания центра, санкционируется расстрел.ttps://zen.yandex.ru/media/id/5c14f16634e04800ab50e602/kto-ustranil-carskuiu-semiu-5c1bd386e69ca200aa48d401
|
Метки: романовы |
В. Мусатов. Мир реальный и мир невидимый. |
[]
В. Мусатов. Мир реальный и мир невидимый.
December 14th, 2016
У В. Борисова-Мусатова призрак – это и дом, и хрупкая девушка, и кто-то, уже ушедший из картины, только край плаща или платья мелькает слева. Герои картины идут от дома по парку, но получается, что они словно уходят из самой картины. Символично. С символистами В. Борисова-Мусатова роднит ещё и образ двоемирия: мир, изображённый на картине, совмещает в себе прошлое и настоящее, мир реальный и мир невидимый, тот, куда уходят две дамы.
В. Борисов-Мусатов «Призраки» (1903)
Образ уходящей в прошлое дворянской усадьбы в 1890-1900-е, как известно, был очень популярен в творчестве и писателей (И.А. Бунин «Антоновские яблоки» (1900), З.Н. Гиппиус «Богиня» (1893), «Кабан» (ок.1902), А.П. Чехов «Вишнёвый сад» (1903) и др.), и художников В. Максимов, В. Борисов Мусатов и др.. Напрямую с этой темой связан и образ сада как непременная составляющая русской дворянской усадьбы.
В «Чёрном монахе» А.П. Чехова место действия – сад и дом: «Дом у Песоцкого был громадный, с колоннами, со львами, на которых облупилась штукатурка, и с фрачным лакеем у подъезда. Старинный парк, угрюмый и строгий, разбитый на английский манер, тянулся чуть ли не на целую версту от дома до реки…» .
В финале рассказа Коврин умирает, а Татьяна остаётся одна с огромным домом и с садом. Из её письма: «Сейчас умер мой отец. Этим я обязана тебе, так как ты убил его. Наш сад погибает, в нем хозяйничают уже чужие …» . Можно думать, что на картине В. Борисова-Мусатова «Призраки» (1903) – Таня, «бледная, слабая, несчастная Таня», оставшаяся одна.
Один и тот же вижу странный сон:
Брожу подобием души разбитой,
Иль тихим призраком былых времён
В усадьбе опустевшей и забытой.
Вот лестница – ступеней водопад,
В саду - деревьев стройные шеренги.
С колонным полукружием фасад -
Дань модному решению Кваренги.
Здесь жизни дни как будто сочтены
А в ветре зреет дикая свобода.
Вступаю в дом… с укором со стены
За мной следят с портретов предки рода.
Хозяев нет, они давным-давно
В столице шумной или за границей.
И только времени веретено
Поскрипывает старой половицей.
В глуши непотревоженных миров
Очаг свой теплит здешняя обитель,
Полотна кисти лучших мастеров
Ещё хранит поверенный смотритель.
Здесь жизни дух струился и сверкал,
Но вызрело незримо отторженье.
Стираю пыль с пустых глазниц зеркал
И в них уже не вижу отраженья.
Ах, это знак, что всё предрешено -
В безумной власти смутного и злого
Без смысла всё здесь будет сожжено,
Умолкнет невоспринятое слово.
Но я приют гармонии люблю,
Ах, мне природу красоты узнать бы!
Как мотылька безудержно ловлю
Тепло и свет оставленной усадьбы.
Всё пусто… Осень… Ветер лишь кружит,
И только изредка, как на картине,
Чуть слышно платьем в сумерках шуршит
Мелькнувший призрак дамы в кринолине.
25.05.10 г. на картину В.Э. Борисова-Мусатова
На переднем плане картины изображены загадочные женские фигуры в широких, длинных, атласных платьях. В поздних сумерках они, словно сотканные из тумана, проплывают по партерному парку в своих старинных, соприкасающихся с землёй, одеяниях. Одна уже на половину скрылась за рамкой холста, другая с опущенными вниз глазами грациозно движется за первой. Кто эти загадочные дамы? Возможно это обитательницы большого дворца с высокими колоннами. Это воздушное нерукотворное сооружение, словно упирается в небо своим шпилем и почти сливается с осенними серыми тучами. Рядом с ним видны странные белоснежные фигуры, стоящие по краям лестницы ведущей к входу в таинственный дворец, они похожи на ожившие каменные статуи, которые решились вслед за призрачными дамами, спуститься с лестницы и погулять в окрестностях парка. Эти пастельные размытые видения настолько зыбки, что в любой момент могут изменить свою форму, стать ускользающей дымкой.
К необычной картине Борисова-Мусатова хорошо подходят проникнутые элегическим тоном сочинения Василия Андреевича Жуковского, жившего в ту эпоху, которую так сильно любил художник.
Стихотворение В.А.Жуковского - Таинственный посетитель.
Кто ты, призрак, гость прекрасный?
К нам откуда прилетал?
Безответно и безгласно
Для чего от нас пропал?
Где ты? Где твое селенье?
Что с тобой? Куда исчез?
И зачем твое явленье
В поднебесную с небес?
Не Надежда ль ты младая,
Приходящая порой
Из неведомого края
Под волшебной пеленой?
Как она, неумолимо
Радость милую на час
Показал ты, с нею мимо
Пролетел и бросил нас.
Не Любовь ли нам собою
Тайно ты изобразил?..
Дни любви, когда одною
Мир для нас прекрасен был,
Ах! тогда сквозь покрывало
Неземным казался он...
Снят покров; любви не стало;
Жизнь пуста, и счастье - сон.
Не волшебница ли Дума
Здесь в тебе явилась нам?
Удаленная от шума
И мечтательно к устам
Приложивши перст, приходит
К нам, как ты, она порой
И в минувшее уводит
Нас безмолвно за собой.
Иль в тебе сама святая
Здесь Поэзия была?..
К нам, как ты, она из рая
Два покрова принесла:
Для небес лазурно-ясный,
Чистый, белый для земли;
С ней все близкое прекрасно,
Все знакомо, что вдали.
Иль Предчувствие сходило
К нам во образе твоем
И понятно говорило
О небесном, о святом?
Часто в жизни так бывало:
Кто-то светлый к нам летит,
Подымает покрывало
И в далекое манит.
Водоём. Мусатов.
Большое внимание художник уделял красивым пейзажам, проникнутым мистическим таинством, в которых подчёркивалась гармония человека и природы. Борисова-Мусатова называли певцом «дворянских гнёзд» за его любовь к старым усадьбам, тенистым паркам и зеркальным прудам.
Одиночество. Мусатов.
|
Метки: дворянские владения мусатовы мир живописи |
Борисов-Мусатов, Виктор Эльпидифорович |
Борисов-Мусатов, Виктор Эльпидифорович
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 2 июня 2018; проверки требует 1 правка.
Перейти к навигации Перейти к поиску
В Википедии есть статьи о других людях с фамилиями Борисов и Мусатов.
| Виктор Борисов-Мусатов | |
|---|---|
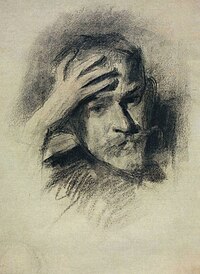 Автопортрет 1904-1905 гг. |
|
| Дата рождения | 2 (14) апреля 1870 |
| Место рождения | |
| Дата смерти | 26 октября (8 ноября) 1905 (35 лет) |
| Место смерти | |
| Страна | |
| Жанр | бытовой жанр, пейзаж, портрет |
| Учёба | П. П. Чистяков |
| Стиль | символизм |
 Работы на Викискладе Работы на Викискладе |
|
Ви́ктор Эльпидифо́рович Бори́сов-Муса́тов (2 [14] апреля 1870 — 26 октября [8 ноября] 1905) — русский художник, живописец, мастер символических изображений «дворянских гнёзд»[2].
Содержание
Биография
Виктор Борисов-Мусатов родился в Саратове 2 (14) апреля 1870 года в семье Эльпидифора Борисовича и Евдокии Гавриловны Мусатовых, бывших крепостных, приписавшихся к мещанскому сословию. Отец был железнодорожным служащим. Незаурядной личностью был дед будущего художника, Борис Александрович Мусатов — его имя впоследствии художник присоединил в качестве первой фамилии к своей родовой, отсюда двойная фамилия мастера — Борисов-Мусатов.
В 1873 году, в возрасте трёх лет, Виктор, неудачно упав со скамейки, получил тяжелую травму позвоночника. В результате этого несчастного случая у него начал расти горб; проблемы со здоровьем не прекращались у художника в течение всей его жизни.
Первоначальные знания и навыки рисования получил от преподавателя рисования Ф. А. Васильева. В 1890-х учился изобразительному искусству в студии Саратовского общества изящных искусств, затем в Московском училище живописи, ваяния и зодчества и в петербургской Академии художеств, где его учителем был Павел Петрович Чистяков.
Учился также в студии Ф. Кормона в Париже. Был близок художникам «Мира искусства». В 1895 году путешествовал по Крыму и Кавказу. Борисов-Мусатов вступает в Союз русских художников.
С 1898 год жил в основном в Саратове, с 1901 года — в имении Зубриловка Саратовской губернии. Уже тогда усадьба пребывала в запустении, редко посещаемая тогдашними хозяевами. В 1902 году Борисов-Мусатов вновь посетил усадьбу вместе с сестрой Еленой и художницей Еленой Владимировной Александровой — будущей женой.
Его сестра Елена вспоминала:
Глубокая осень в Зубриловке также увлекла брата по своим блеклым тонам красок умирающей природы… Возле дома, где он нас писал в солнечные летние дни, краски уже были печальные, серые, все гармонировало с темным осенним небом, покрытым тучами. Казалось, что и дом замер с окружающей его увядающей зеленью. Это и дало настроение брату написать картину — «Призраки»… Он лично пояснял нам, как я помню, будто с окончанием жизни опустевшего помещичьего дома — «все уходило в прошлое», как изображены им на первом плане картины удаляющиеся призрачные фигуры женщин.
Эти две поездки в усадьбу нашли отражение в работах «Гобелен» (1901), «Прогулка при закате» (1903), «Призраки» (1903), «Сон божества» (1904—1905).
С 1903 года он жил в Подольске, а с 1905 года в Тарусе. В декабре 1904 года в семье Мусатовых родилась дочь Марианна[3].
Борисов-Мусатов скончался в Тарусе 26 октября (8 ноября) 1905. Похоронен на окраине Тарусы, на высоком берегу реки Оки. На могиле художника в 1910 году был установлен памятник работы его однокашника-саратовца скульптора А. Т. Матвеева[4]. В память о художнике место его захоронения называют Мусатовским косогором.
Основные работы
- Автопортрет с сестрой,
- Встреча у колонны,
- Гобелен, 1901;
- Весна, 1901;
- Водоём, 1902;
- Призраки, 1903;
- Изумрудное ожерелье, 1903—1904
- Осенняя песнь, 1905
-
Автопортрет с сестрой, 1898, Государственный Русский музей, Санкт-Петербург
-
Дама в качалке (эскиз к неосуществленной картине "Maternite"), 1897, Государственная Третьяковская галерея, Москва
-
У водоёма (эскиз), Частное собрание, Москва
-
Водоём, 1902, Государственная Третьяковская галерея, Москва
-
Призраки, 1903; Художник запечатлел Южный фасад дворца в усадьбе Зубриловка.
Семья
- Родители — Евдокия Гавриловна и Эльпидифор Борисович Мусатов.
- Борисова-Мусатова, Елена Эльпидифоровна (1883—1974) — младшая сестра художника, модель множества его полотен. Художник по фарфору, переводчик.
- Александрова, Елена Владимировна (1874—1921) — жена Борисова-Мусатова, также художница.
- Борисова-Мусатова, Марианна Викторовна (1905—1991) — дочь художника, также художница, книжный график. Муж — Сергей Николаевич Тройницкий (1882—1948), доктор искусствоведения, первый выборный директор Эрмитажа (1918—1927)[5].
Примечания
- Мусатовские музы. Две Елены и Марианна (англ.). radmuseumart.ru. Проверено 15 июля 2017.
Библиография
- Шилов К. Борисов-Мусатов. — Москва: Молодая гвардия, 1985. — 335 с. — (ЖЗЛ). — 150 000 экз.
Ссылки
- Биография и творчество художника на Artonline.ru
- Картины Борисова-Мусатова (в хронологическом порядке) на World-Art.ru
- «Просто красивая эпоха: Виктор Эльпидифорович Борисов-Мусатов» — статья в журнале «Православие и мир»
- Картина художника Виктора Борисова-Мусатова «Водоём» в передаче «Собрание Третьяковки» радиостанции «Эхо Москвы» 26.11.2006
- Акварель «Реквием» художника «Дворянских гнезд» Виктора Борисова-Мусатова в передаче «Собрание Третьяковки» радиостанции «Эхо Москвы» 27.07.2008
- Дореволюционная биография Борисова-Мусатова (недоступная ссылка)
- Дмитриенко А. Ф., Кузнецова Э. В., Петрова О. Ф., Федорова Н. А. 50 кратких биографий мастеров русского искусства. Ленинград, 1971 г.
- Кочик О. Я. Живописная система В. Э. Борисова-Мусатова. Цветная и тоновая фотосъёмка А. П. Дорофеева М. Искусство 1980 г. 234с., с илл.
- Биография и 35 картин Виктора Эльпидифоровича Борисова-Мусатова
|
Метки: мир живописи |
Екатерина Юрьевская: судьба внебрачной дочери Александра II |
Екатерина Юрьевская: судьба внебрачной дочери Александра II
У великих правителей мира тоже есть слабости, сугубо личного характера, присущие простым смертным, которые они проявляют на стороне от семейных очагов. Благодаря неузаконенным любовным проявлениям, на стороне появляются не заявленные продолжатели знатных родов, не имеющих никакого права даже на претензии. Хоть и редки, но бывают случаи, когда монаршие особы узаконивают свое внебрачное потомство, как это случилось с Екатериной Юрьевской, императорской дочерью. Так как сложилась жизнь этой светлейшей княжны?
Дитя морганатического брака
Своему появлению на свет, в 1878 году, Екатерина обязана страстному увлечению Александра II, Российского императора, Екатериной Михайловной Долгоруковой. Благодаря этой любовной связи родителей, у Екатерины были старшие брат и сестра.
В 1870 году княгиня Долгорукова, по настоянию своего коронованного любовника, переезжает в Зимний дворец и становится официальной фавориткой императрицы. Роман Александра и княгини становится известен всем. Трудно представить, что испытывала законная жена, но видимо ей приходилось мириться не только с этим, ведь дети от этого романа родились практически через стенку от нее. Только одна Екатерина Александровна родилась в Крыму и единственная из детей проживала на постоянной основе в Зимнем дворце.
Матушка Екатерины мечтала стать законной женой и императрицей, но этому мешал законный брак императора. Посему ей приходилось довольствоваться ролью законной любовницы и ожидать, когда освободится столь вожделенное место, так как Мария Александровна, супруга императора, была серьезно больна.
В 1880 году, когда императрица скончалась от изнурительной болезни, княгиня Долгорукова стала настойчиво требовать от императора законных действий в отношении нее и их детей. До этого времени, на императора было совершено не одно покушение на убийство, и боясь, что в конечном итоге террористы смогут добиться желаемого, а его вторая семья останется в не лучшем положении, Александр решается на венчание с княжной.
Естественно, этот морганатический брак вызвал нескрываемое недовольство среди членов семьи императора, особенно царевича Александра, и в самом великосветском обществе. Никто не хотел принимать и узаконенных внебрачных детей императора.
Через год этих событий, Александр II погибает от рук террористов, на тот момент Екатерине Александровне исполнилось всего 4 года. В этом возрасте она, со своей матерью, братом и сестрой, вынуждены были эмигрировать во Францию, в Ниццу. О периоде пребывания юной Екатерины во Франции никаких данных нет, кроме тех, что ее матушка, транжирила унаследованные деньги от покойного супруга налево и на право, и совершенно не занималась воспитанием своих детей.
Княгиня Долгорукова забрасывала письмами Николая II, который вступил в 1894 году на престол, и был более терпелив по отношению к ней, что позволило ей с детьми вернуться в Россию.
Не задавшиеся супружества Екатерины
Во Франции, Екатерина Александровна знакомится с князем Барятинским, за которого выходит замуж в 1901 году. Но это брак оказался тяжелым испытанием для Екатерины, так как князь не испытывал тех пылких и искренних чувств, какие питала к нему жена.
Он был давно и прочно влюблен в итальянскую певицу Кавальери, но не смел противиться воли родителей и императора, запретивших им сочетаться браком. Барятинский был очень богат, и внимание тратил на оперную диву, и такого же обожания требовал от своей супруги. Они даже путешествовали и селились в одних апартаментах вместе.
Этот неравный по чувствам треугольник конечно же причинял невыносимые мучения Екатерине. Такое ощущение, что судьба решила отыграться на ней за все страдания, причиненные ее матерью первой жене Александра II.
Екатерина шла на любые уловки, чтобы привлечь к себе внимание любимого супруга, она стригла и красила волосы в черный, делала прически, одевалась и перенимала манеры, свойственные оперной певице, и обучалась пению. Но все старания, и даже рождение двух мальчуганов, не смогли исторгнуть из их семьи присутствие Кавальери. Этот унизительный брак, продлившийся девять лет, закончился только со смертью Барятинского. После этого умирает отец супруга, и дети Екатерины стали наследниками огромного состояния, которым на время их несовершеннолетия стала распоряжаться она.
В 1916 году Екатерина Александровна возвращается из Европы в Россию и селится в Крыму, где она встречается с соблазнительным красавцем офицером и князем Оболенским. Несмотря на большую разницу в возрасте, князь был младше на 12 лет, их романтичные увлечения перешли в законный брак.
По началу все складывалось отлично для Екатерины, обеспеченная жизнь, рядом дети и любимый муж, но тут грянула Первая мировая война, которая лишила благосостояния и безопасности. Супругам с детьми едва удалось вырваться живыми из революционного водоворота, и используя поддельные паспорта бежать в Киев, а затем чудом, достигнуть Англии.
Там, оставшись без средств к существованию, Екатерина, пытаясь продержать на плаву семью, вынуждена была выступать с вокалом в холлах гостиных, ресторанах и на других концертных площадках. Только финансовое положение оставалось плачевным, его даже не улучшила смерть матери, от которой должно было достаться неплохое наследство. Но, увы, княгиня Долгорукова, не заботясь о будущем своих детей, промотала все средства. И в 1922 году, князь Оболенский бросает свою обедневшую супругу и разводится с ней на следующий год в Австралии, где находит себе новую богатую спутницу жизни.
Вокалистка
К своим 45 годам, Екатерина Александровна стала успешной и востребованной певицей, известной под фамилией – Оболенская-Юрьевская. Ее приглашали с выступлением на различные мероприятия, где она радовала лондонцев и мигрантов из России своими вокальными данными, исполняя песни на нескольких языках.
Окончательно обосновавшись на Английской земле, Екатерина Александровна перешла от православия в католицизм. В 1932 году княгиня Юрьевская, страдающая астмой, приобретает в Гемпшире дом, что находился на острове, который очень подходил ей своим климатом. В 1934 году, она официально присутствует на свадебной церемонии, что проходила в Вестминстерском аббатстве между ее дальней родственницей, принцессой Греческой, и принцем Георгом.
До 1953 года Екатерина Александровна пользовалась благосклонностью вдовствующей королевы Виктории, получая от нее пособие, на которое она и жила. Но, с ее смертью, княгиня, оставшаяся снова без средств, вынуждена была распродавать все украшения и остальное имущество. Впоследствии она попадает в дом престарелых, находящийся в том же Гемпшире, и там же, в 1959 году, умирает.
Любимую дочку русского императора и талантливую вокалистку, Екатерину Александровну Юрьевскую похоронят в английской земле, на кладбище святого апостола Петра. И на скромной погребальной церемонии будут присутствовать только двое из ее родственников, Александр Юрьевский, племянник, и последний бывший супруг, Оболенский.https://zen.yandex.ru/media/history_world/ekaterin...ra-ii-5c73f191c1146f00b3cce88e
|
Метки: романовы юрьевские оболенские долгоруковы |
Кружевной промысел на рубеже веков |
Кружевной промысел на рубеже веков
22.06.2013 637 Главная страница » История Ельца » Промышленность города » Елецкие кружева и кружевницы
Продолжение книги «Елецкие кружева и кружевницы (историко-экономический очерк)».
Глава III. Кружевной промысел Елецкого уезда на рубеже двух веков
Второе тридцатилетие XIX века было периодом расцвета елецкого кружевного промысла. Елецкий промысел сохранил свое ведущее место по объему производства различных кружевных изделий высокого качества и по количеству кружевниц в России. Город Елец с населением в 46 тысяч стал не только одним из крупных и красивых уездных городов России, но и крупным железнодорожным узлом, а также одним из центров всероссийского рынка кружевной торговли.
В 1896 г. на Нижегородской выставке экспонируются кружевные изделия елецкого промысла. За художественные качества и прочность они получают диплом II-ой степени и серебряную медаль. Изделия елецких кружевниц еще в 1890 г. вышли на международный рынок. Тогда было заключено торговое соглашение с Парижем о ежегодной поставке елецких кружев на 100 тысяч рублей [1]. В 1900 году изделия елецкого кружева были представлены на Всемирной выставке художественных изделий в Париже и пользовались боль-шим успехом, получили сбыт в странах Европы, Америки и Азии.
В конце XIX века значительно выросли роль и удельный вес кружевного промысла в экономике города. Он становится отраслью промышленности и массовым художественным искусством. Если в 1883 году, по данным земской статистики, в уезде было более 13 тысяч кружевниц, которые производили кружевного товара на сумму 500 тысяч рублей, то в 1890 году в кружевном промысле было занято более 30 тысяч кружевниц. Соответственно в два раза вырос объем стоимости произведенной кружевной продукции, что составляло около одного миллиона рублей (850 тысяч рублей точнее). В сравнении с уездной и городской отраслью кожевенной промышленности, которой славился Елец, это в два раза больше, чем два кожзавода Ростовцева и Валуйского, а также 25 кустарных заведений по выделке кож. Интересные данные по кустарной промышленности Елецкого уезда имеются за 1893 год. Всего в Елецком уезде было 488 фабричных и кустарных заведений с производством на сумму 377 тысяч рублей в год. Это в три раза меньше, чем производство кружев [1].
России были известны не только елецкие кружева, но и Елецкий драматический театр, основанный в 1848 году. Его посещали и выступали на его сцене знаменитые артисты 2-ой половины XIX века: Ермолова, Комиссаржевская, Качалов, Станиславский и другие. В 1894 г. приезжала Мария Ермолова. Она заказала модное кружевное манто. Его должны были изготовить мастера Паленской школы кружевниц Н.А. Огаревой-Стахович.
Кружевные изделия паленских мастериц по заказам отправлялись в Париж, Москву, Петербург. Две мастерицы — художницы по сложным узорам работали более месяца по 12-14 часов в день, изготовляя модное, красивое шелковое манто Ермоловой. Знаменитая артистка была в восторге от этой неповторимой красоты и решила заплатить за изделие золотой монетой. Из любопытства положила на весы платье и полученные золотые монеты, которые по весу оказались больше, чем вес платья из елецких чудесных золотых кружев.
Если говорить о роли кружевного промысла в экономической жизни Ельца, то достаточно сказать, что город поставил кружевных изделий во Францию на сумму 100 тысяч рублей. По документальным данным, в 1893 году в Елецком уезде было всего изготовлено 1 млн. 736 тысяч 600 аршин только мерного кружева на сумму 272 тысячи 700 рублей и штучного кружева до 32550 штук изделий. Экономическое содержание и роль любого производства определяется производительностью труда, его затратами на производство единицы продукции в условную единицу времени и уровнем оплаты труда.
[singlepic id=1365 w=450 h=500]
Взрослая, опытная в плетении кружевница, чтобы произвести 10 аршин мерного кружева стоимостью 3 рубля 80 копеек, должна была затратить 20 рабочих дней по 12-14 часов, плетя 8 вершков (40 см). Но для производства 10 аршин кружева, стоящих 9 руб. 80 коп., она должна для плетения 6 вершков (18-25 см) затратить 27 рабочих дней. Этот вид кружев требует 12-14 часов работы в день.
В г. Ельце и его пригородах производилось парное и сцепное кружево. Для производства одного штучного изделия: дорожки, шарфа или косынки — стоимостью от 3-х до 5-и рублей работница затрачивает 20-25 рабочих дней, а для плетения штучного изделия, стоимостью от 5-и до 10-и рублей, затрачивается 40-45 рабочих дней [4].
«При самом усердном занятии, не покладая рук, более 15 копеек не заработаешь в день, да и то, с трудом. Дело это организовано так, что все идет в пользу скупщиков», — так писал о производстве кружев Немирович-Данченко. Елецкие женщины в селах плели кружево в свободное время от сельхозработ, от Покрова до Пасхи. Надо учитывать, что 25% работниц промысла были девушки — подростки от 12 до 16 лет и дети от 8 до 15 лет.
Часть кружевниц работали самостоятельно, они сами закупают сырье и материалы. Оборудование кружевного производства стоит довольно дешево: подушка для крепления и плетения кружева — 20-30 копеек, коклюшки — 1 рубль за сотню, булавки — 10 копеек за сотню, подставка для подушки — ящик — 25-30 копеек, ножницы — 35-40 копеек. В целом стоимость оборудования составляла более 2-х рублей.
Для сложных художественных узоров кружевница должна была купить сколок-снимок художественных форм и мотивов кружевного изделия с указанием технологии его плетения. Его стоимость от 1 рубля до 5 рублей. Весь кружевной товар реализовывался на рынке и кустарном складе в Ельце. Сбыт кружевных изделий на рынке осуществляется через скупщиков, которые занимают монопольное господствующее положение. Большинство кружевниц селений и деревень работает по заказам скупщиков, которые снабжают их сырьем, материалами и сколками.
Самостоятельно работают и принимают заказы городские мастерицы-кружевницы женского монастыря. Они плели блонды, то есть кружева из шелка, цветных х/б нитей, канители — из серебра и золота.
Лучше оплачивались клюни и гипюр, от 24 до 36 копеек. Гипюрная косынка оплачивается за работу и материалы — 6 рублей, а в продаже идет по 9 рублей 50 копеек. Черная косынка, елецкая — 4 рубля, а в продаже — по 6 рублей. На елецком Женском рынке скупщики покупают кружево по искусственно заниженным ценам, но кружевные изделия в России, прежде чем попасть в руки потребителя, перекупались 5-6 раз.
Самыми опытными кружевницами и лучшими художниками были работницы-монахини Знаменского монастыря. В первой половине XIX века Елецкий Знаменский монастырь, где более 200 монахинь плели кружева, был своеобразной школой для елецких кружевниц. Там мастера- художницы готовили «сколки» для городских кружевниц. Монастырь принимал заказы на кружева для украшения церквей, одежды священников, а также заказы на штучные изделия из шелковых, бумажных, цветных серебряных и золотых нитей для царского двора. Об этом рассказывают монастырские кружевницы конца XIX века.
Домна Серафимовна Лоткина, жительница Черной Слободы, в молодости была монахиней, мастером кружевоплетения и художницей по изготовлению «сколков». Игуменья Феодора заказала ей сделать сколок и сплести накидку для госпожи Веры Николаевны Черникиной. За работу получила она золотой крестик и много денег. Деньги сдала в кассу монастыря, а крестик оставила себе на память.
В связи с приездом в Елец великого князя Михаила Романова, Домне заказали два сколка на платье княгине Ольге Александровне и Ксении Александровне. Платья изготовили за месяц. Художнице-мастеру заплатили сто рублей и перстенек. Деньги она сдала на монастырь. Затем она рассказала, как монастырь получил заказ изготовить покрывало на аналой Рождественской церкви — кружевное покрывало длиной в 2,5 аршина, шириной в 1 аршин. Работу поручили выполнить классным кружевницам Стириной Ольге Петровне, Завьяловой Дарье Никифоровне (художница) и Степкиной Зинаиде. Художница сколок готовила 10 дней. Это было покрывало с изображением Георгия Победоносца на коне и драконами по углам, на жемчужной сетке из шелка, бумажных и металлических ниток. Это чудо цветов, блеска изготовили три кружевницы за 2,5 месяца, получив 145 рублей.
В 1880 году кружевной промысел развивался в 10 волостях, а его основным ядром был Елец и 25 сел вокруг города. К концу XIX века промысел охватил 18 волостей Елецкого уезда с общим количеством кружевниц 42605. За 20 лет их количество выросло в четыре раза. В уезде появилось еще два ядра концентрации высококвалифицированных кружевниц: Паленский — усадьба Стаховичей — 22 селения и Долгоруковский узел, село Свишни — 25 деревень [5].
Если в России, в 17 губерниях насчитывалось около 100 тысяч кружевниц, то только в Елецком уезде их было 50% . Их изделия славились и пользовались огромным спросом не только в России, но и на рынках стран Западной Европы, Азии и Америки.
Возникает вопрос: чем отмечен быстрый рост и процветание елецкого кружевного промысла в конце XIX века? Почему кружевной промысел был преимущественно женским промыслом? Причем, главным образом, характерным для крестьян?
Елецкий кружевной промысел не был чисто женским. По материалам земской статистики, а также по итогам и таблицам трех обследований Российской комиссии по изучению промыслов, с 1880 года в Елецком уезде кружевоплетением занимались 16-20 мужчин.
Необходимо выяснить, почему сельские женщины всю жизнь, с 7-8 лет до старости, занимались тяжелым, изнурительным и кропотливым трудом по производству кружев. Во-первых, это женская потребность быть красивой и создавать прекрасное, любовь к искусству, духовное стремление творить по законам красоты. Но художником, музыкантом, скульптором, кружевницей надо родиться. Немаловажное значение имела русская национальная традиция. Женщина, девушка должна уметь шить, вязать, заниматься рукоделием. От этого зависела их роль и положение в семье — как хозяйки дома. Во-вторых, это связано с положением русской женщины в обществе, семье, с экономическими условиями сельской и городской жизни. Огромное значение имели национально-нравственные духовные традиции русской общественной сельской и региональной жизни, отношение к труду, а также психологический склад характера и традиций народов России.
Поэт русской революционной демократии Н.А. Некрасов блестяще раскрыл мужество и духовное богатство женщин русских селений: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдет». Замечательный русский художник В.А. Тропинин создал талантливую картину «Кружевница», где изображен светлый образ девушки за плетением кружев с чарующей улыбкой, добрым взглядом голубых глаз, образ художницы и труженицы народного искусства, создающей прекрасное.
В Елецком уезде было 252162 человек населения, из них женщин -128298 человек, в Ельце — 46900 горожан в 1890 г. К 1910 г. население Ельца выросло до 54 тысяч человек.
В Елецком уезде, в экономическом и правовом отношении положение женщин было различное. Государственных крестьян в уезде было 2/3 от общего количества дворов. Среди них было 75% занято в кружевном промысле. В 70-80-х годах насчитывалось по 1-2 кружевницы на двор. В 90-х гг. XVIII в. рост кружевниц шел за счет помещичьих крестьян, в связи с разорением мелкопоместного дворянства. Это объясняется тем, что помещичьи крестьяне до 90-х годов были заняты на поденных работах и отработках, которые были дополнительным денежным доходом для крестьянских семей, что не имели государственные крестьяне. Их денежные доходы пополнялись за счет кружевного промысла.
Для всех крестьянских дворов сельских общин существовал порядок, согласно которому земельные наделы получали на новорожденных мальчиков. Поэтому женщины деревни, от рождения не получавшие земельного надела, вынуждены были кормить себя не только трудом в сельском хозяйстве, но и в свободное время добывать хлеб и деньги кружевоплетением на рынок, участием в течение 7 месяцев в промысле. Кроме этого, существовала российская традиция: взрослая девушка, готовясь стать женой, выйти замуж, должна иметь «приданое». Это целый набор одежды, обуви, постельных принадлежностей.
Поэтому доходы от сбыта и плетения кружев шли не только для семьи, но девушки с подросткового возраста копили деньги и тратили на «приданое». В Елецком уезде даже свадебные обряды включали определенные атрибуты кружевных изделий. Фату и венчальное платье невеста изготовляла из кружев, сплетенных своими руками.
Когда в Шаталовке министр Хвостов в конце прошлого века женил сына, то для его невесты воронецкие кружевницы изготовили из шелка, канители и тонкой цветной бумаги кружевное платье. Даже девушки, которые участвовали в свадебной церемонии, все были убраны в кружевные одежды. Кружевные изделия вошли в быт не только богатых дворян, купцов, но украшали одежду всех жителей Елецкого уезда XI-XX вв.
Быстрое развитие кружевного промысла Елецкого езда в конце XIX века характеризовалось двумя противоречивыми тенденциями: ростом его количественных экономических показателей и снижением качества кружевных изделий как художественных ценностей, как прикладного искусства. Дело в том, что в 70-80-х гг. елецкие кружевницы были и производителями кружевных изделий, и одновременно предприимчивыми торговками. Целыми семьями отправлялись они на рынки от Финляндии до Кавказа для продажи кружевных изделий, для закупки необходимых товаров. Рекламировали елецкое кружево на российском рынке.
К 1890 году елецкий кружевной промысел прочно завоевал международный рынок. Его изделия, тонкие, ажурные, продавались и имели спрос не только в странах Европы, но и Индии, Китае, Турции и Америке. Производителям елецких кружев теперь сбывать свои замечательные изделия было гораздо легче на внутреннем российском рынке. Елец стал крупным центром кружевной торговли.
На внутреннем рынке в России елецкое и вологодское кружево имело огромный спрос. Кружевные изделия были ходовым товаром, поэтому сбыт и торговля кружевным товаром стали монополией скупщиков и различных перекупщиков, которые господствовали на рынке, диктовали цены. Все доходы шли в карманы елецких и приезжих купцов. В Елец приезжали за «русским» кружевом купцы из Варшавы, Одессы, Хельсинки, Украины, Сибири и Крыма.
Наиболее крупными скупщиками кружев в Ельце были Орловы, Левыкины, Мямлины, Малохановы. В городе в конце XIX — начале XX века самой крупной скупщицей была госпожа Икрянникова, она много лет поставляла елецкое кружево Московскому губернскому кустарному складу, который сбывал изделия в страны Европы. Крупные купцы покупали кружевной товар оптом, чаще всего их поставщиками были средние и мелкие скупщики, которым крупные купцы «давали возможность как-то жить». Крупные скупщики кроме оптовой скупки покупали кружева на базаре, на дому у кружевниц по заказам, через своих агентов, скупали в деревнях у сельских торговцев. Средних торговцев-скупщиков в городе было более сотни. Это, как правило, женщины, бывшие кружевницы, они на базаре, по селам уезда скупают кружево крупными партиями. Покупают хорошее дорогое и грубое кружево, а также трудоемкие и средние штучные из-делия без браковки по одной цене, занижая стоимость хороших и плохих изделий. Затем закупленное кружево, качественные и низкосортные изделия делят по цене на партии от 10 рублей до 100 рублей. Второсортное, низкосортное кружево сдабривают хорошим дорогим и рассылают товар по магазинам, по заказам, где предъявляют требования по качеству и ассортименту изделий. Мелкие и средние скупщики в основном имели дело непосредственно с кружевницами- одиночками. Они играли главную роль в сбыте и рекламе елецкого кружева от Балтики до Кавказа, от Бреста и Варшавы до Урала и Сибири. Скупщики не только сбывали кружевной товар, но и принимали заказы от потребителей. Главное, путешествуя по России, елецкие женщины-скупщики собирали новые образцы кружев, новые узоры и композиции.
В итоге средние и большое число мелких скупщиков вносили положительный вклад в обогащение художественных форм и качеств елецкого «русского» кружева, в технику и технологию кружевоплетения. Например, в середине XIX века в Вологде Анфия Федоровна Брянцева создала «вологодский манер» плетения сцепного кружева, когда при наличии 6-12 пар коклюшек можно выполнить одновременно сложные узоры и различные виды фоновой сетки. Это от крыло возможности для производства штучных кружевных изделий.
Елецкие кружевницы не только быстро овладели вологодской парно-сцепной техникой, но и значительно усовершенствовали сцепное кружевное производство, особенно тучные изделия: накидки, блузки и женские платья. Они были вне конкуренции и славились не только в России своей легкостью, ажурностью и художественной выразительностью.
[singlepic id=1366 w=450 h=500]
На внутреннем рынке сбыта кружева господствовали крупные и средние скупщики. Чтобы получить побольше прибыли, они искусственно снижали цены на кружевные изделия. Сельские женщины, девушки и подростки нуждались в деньгах, но, чтобы получить деньги за кружево, они могли продать все свои изделия только скупщикам по низким ценам. Эти стихийные законы рынка пагубно сказывались на качестве елецких кружев и положении кружевниц. С.А. Давыдова сообщает: «В связи с тем, что скупщики снижали цены на кружева, покупали у кружевниц весь товар без браковки, хорошие и плохие изделия по одной цене, тонкое и изящное плетение должно было уступить место более грубому и жидкому кружеву» [2].
Почему так произошло? Ответ на этот вопрос дали материалы Российской комиссии по кустарным промыслам 1886 г.: «Дешевые цены, предлагаемые скупщиками кружевницам за их изделия, дают им повод небрежно относиться к своему рукоделию».
Мастера используют худшие материалы, сокращают сложность узора, потерю в цене они пытаются наверстать скоростью в работе. Так на рынке появляется низкосортное, жидкое «мыльное» кружево. В чем его особенности?
В орнаменте черных шарфов, косынок и мерных парных кружев, шелковых и бумажных, появляются узоры и мотивы нечеткие и запутанные, с однообразными изгибами велюшек. Зубцы сцепного кружева становятся невыразительными. Некоторые рисунки и узоры, мотивы выполняются в стиле «модерн» — это лилии, амуры с ирисами, жанровые, сентиментальные сцены.
Мотивы — это мелкие художественные кружевные формы, ромбы, овалы, треугольники, квадраты с изображением ветки с цветком, оленем и птицы, розы и другие узоры. Все эти геометрические формы и мелкие кружевные узоры непо-средственно вшивались для украшения одежды и в готовые изделия. Мотивы были модными в 80-90-х годах, но их плетение не требовало хорошей выучки, знания техники и технологии исполнения, поэтому этим делом были заняты под-ростки и дети. В ухудшении качества и художественных достоинств кружевных изделий, в появлении на рынке грубого «мыльного» кружева были повинны скупщики. Им было легче сбыть дешевое кружево, чем тонкое высокосортное, да и качество их не интересовало. Они стремились выполнить запросы потребителей и получить доход за счет труда кружевницы, покупая их изделия по заниженным ценам.
Снижение цен на кружевные изделия на рынке сбыта в период с 1880 до 1913 г. повлекло за собой снижение годового дохода кружевниц Елецкого уезда. Если в 1880 г. годовой доход взрослой кружевницы при 120-и рабочих днях составлял 34 рубля 64 копейки, то в 1890 г. доход женщины-мастерицы средней квалификации составлял 30 рублей и 40 рублей у мастериц шелковых кружев и гипюров (их было 12% от всех кружевниц уезда). В период засилья скупщиков и перекупщиков на кружевном рынке, с 1892-1893 гг. по 1913 г., годовой заработок взрослых девушек и женщин составлял 19 рублей 87 копеек. Заработок детей и подростков — 10 рублей 30 копеек. При таком падении доходов было невыгодно с экономической точки зрения заниматься производством кружев. Но, несмотря на это, в г. Ельце и уезде кружево плести не перестали.
Все 18 волостей уезда (более 40 тысяч кружевниц) делились на две части. 48% плели белое бумажное и льняное кружево, тонкое, легкое и дорогие высокосортные изделия. Остальные производили модные черные шарфы, косынки, черные кружева и штучные изделия. На модных шарфах, косынках, мотивах специализировались подростки и дети. В большинстве сельских семей на крестьянский двор приходи лось по две кружевницы: взрослая и девушка-подросток. Вдвоем в год они могли заработать 30 рублей 17 копеек на крестьянский двор, но в среднем по уезду на крестьянский двор приходилось 29 рублей 29 коп. Доход выравнивался за счет роста общего количества кружевниц, а вот качество кружевных изделий в начале 90-х гг. XIX века к 1910 году значительно снизилось.
Все трудности с производством и качеством кружева, снижение цен на рынке сопровождались огромным спросом на елецкое кружево на российском и внешнем рынке. Поэтому повышенный спрос стимулировал рост производства, а низкие цены влияли на снижение зарплаты кружевниц, но были сильным средством в конкуренции на рынке. На елецком кружевном рынке можно было встретить изделия из кружев различных регионов страны, но елецкое кружево по ценам и качеству было вне конкуренции. В 1894 году на рынках Воронежа, Ельца и Ефремова появилось модное, дорогое, тонкое игольное задонское кружево, вышитое на тюлевой сетке. Вот это «новое» кружево и стало конкурентом не только елецкому, но и всему русскому плетеному кружеву.
Так случилось, что в Задонском уезде в имении Е.Н. Чоколовой была создана мануфактура, где 50 кружевниц и мастеров производили по парижским и брюссельским узорам трудоемкое, красивое и качественное игольное кружево [3].
Это кружево появилось в России в 1844 г., когда в Москве была построена тюлевая фабрика. Но крепостные фабрики игольного кружева не могли конкурировать на рынке с дешевым плетеным кружевом, поэтому через 2-3 года фабрики закрылись, а игольные кружева пропали с рынка. В 90-х гг. XIX века появление игольного кружева на елецком рынке было не «новым», а возвратом хорошо забытого старого. Могло ли задонское кружево быть опасным для развития елецкого промысла? Во-первых, безусловно, «новое», модное дорогое и красивое игольное кружево могло конкурировать с изделиями елецкого промысла. Это бы усилило трудности его производства и сбыта.
Во-вторых, появление на елецком рынке задонских кружев заставило елецких кружевниц овладеть сцепной техникой плетения кружевных штучных изделий, а также внедрить в производство сетчатое плетение. Все это значительно повысило качество елецких кружев, их прозрачность, многообразие фонов и узоров, а низкие цены обеспечили им победу в конкурентной борьбе на рынке. Подлинно новое задонское кружево пропало с елецких рынков через 3 года.
Забытое старое не может быть новым. Только подлинно новое неодолимо в своем развитии.
С.П. Ершов. Елецкие кружева и кружевницы (историко-экономический очерк). — Елец: ЕГУ им. И.А. Бунина, 2007. — 129 с.
Источник http://vorgol.ru/istoriya-eltsa/promyshlennost/ele...kruzhevnitsy/kruzheva-glava-3/
Литература:
1. Брокгауз, Ефрон. Энциклопедия. 1894. — Т.22. — С. 604.
2. Давыдова С.А. Русское кружево и русские кружевницы. — СПб, 1892. — С. 24.
3. Там же. — С. 150.
4. Твердова-Савицкая З.М. Кустарные промыслы Елецкого уезда. — М., 1916. — С.28-29.
5. Там же. — С.10-11.
Статья подготовлена по материалам 2-го издания книги Ершова С.П. «Елецкие кружева и кружевницы (историко-экономический очерк)», изданной в Елецком государственном университете им. И.А. Бунина. В статье воспроизведены все изображения, использованные автором в работе.
·
http://vorgol.ru/istoriya-eltsa/promyshlennost/ele...kruzhevnitsy/kruzheva-glava-3/
|
Метки: купечество промыслы елец орловы |
Усадьба Барятинских, 2-я половина XIX века |
Усадьба Барятинских, 2-я половина XIX века
подслушано в Прибитюжье:
В середине января маслозавод "Эртильский" был выставлен на продажу почти за 2,32 млрд рублей
На сегодня от когда-то богатого имения сохранилась величественная церковь Рождества Христова, один из флигелей, старая больница и старинный парк. Усадьба Барятинских расположена в восточной части посёлка Анна на вытянутой мысообразной полосе между поросшим лесом правым берегом реки Битюг и прудом. С начала XIX века принадлежала Ростопчиным, с 1853 по 1873 гг. – Левашовым. В 1873 году усадьба перешла к древнему дворянскому роду князей Барятинских.
Двухэтажный дворец не сохранился, его уничтожил пожар в 20-е годы. В северной части усадьбы находится парк, имеющий форму трапеции, ограниченный улицами и автомагистралью Воронеж - Саратов. Со стороны леса сохранился ров. Утрачены небольшой пруд у главных ворот и некоторые посадки, часть территории отведена под больницу и стадион. В 140 м северо-западнее угла парка, у бровки склона балки (над прудом), находится 13-главная церковь Рождества Христова. В юго-западной части парка, параллельно ул. Ватутина, от церкви до дворца была проложена главная подъездная аллея шириной 15 м. Сохранились остатки дорожки от дворца к парку. С северной стороны к дворцу примыкал небольшой участок с регулярной планировкой липовых аллей. Часть аллей утрачена. Предположительно, аллеями была изображена римская цифра XIX или XX, символизировавшая век.


К концу XIX века усадьба «Анна» превратилась в крупное имение. За усадьбой вдоль балки с пруда располагался винокуренный завод, маслозавод, кирпичный завод, конный завод (к настоящему времени перестроены). На территории усадьбы сейчас находится Аннинская спецшкола (детская колония).
Флигель
подслушано в Прибитюжье:
На молочном заводе в Анне в текущем году откроют цеха мощностью 20 т в сутки по производству творога
расположен в северо-западной части парадной зоны усадьбы. Одноэтажное кирпичное здание с большим деревянным мезонином. Первый этаж расчленяют лопатки и опоясывают надоконная и подоконная полочки, окна прямоугольные, с бровками. Мезонин завершён карнизом на фигурных S – образных кронштейнах. Между кронштейнами размещены накладки. Над карнизом с юга и севера возвышаются фигурные аттики с датой «1908 г». Окна большие прямоугольные в простых наличниках.


Жилой дом
Расположен в южной части усадьбы на краю склона. Здание кирпичное, двухэтажное, в плане прямоугольное. От первоначального декора сохранились лишь элементы, образующие центральную ось главного западного фасада: на первом этаже – двухколонный портик, на втором – рустованные лопатки. Здание опоясывает межэтажный карниз. Окна первого этажа прямоугольные, на втором этаже – с лучковыми перемычками. Планировка полностью изменена.
Парк
Парк площадью 23 га примыкает восточной стороной к массиву прибрежного леса. Спланирован в пейзажном стиле, имеет трапециевидную форму с обсадкой по периметру. В устройстве парка большое внимание было уделено целостности структуры и формированию пейзажей. Использован сравнительно небольшой ассортимент завезённых растений 6-7 древесных пород. Пейзажи построены с ориентацией на столичные образцы. В центральной части на газоне размещены крупные группы декоративных деревьев, образующих несколько камерных полян, перетекающих друг в друга. Здесь же размещены группы лиственных пород деревьев (берёза, дуб, ясень). Лиственные группы, более светлые, эффектно смотрятся на фоне тёмных, плотных групп хвойных деревьев (сосна, ель, лиственница), составляют основу посадок. В настоящее время часть исторического парка используется в качестве городского парка.
|
Метки: барятинские дворянские владения воронежская губерния |
Мария Барятинская -О Распутине |
Глава 14
Революция. – Распутин. – Отречение царя. – Возвышение Керенского и Ленина
Как-то в воскресенье в конце декабря 1916 года я пошла, как обычно, в церковь. Ее величество вдовствующая императрица посещала богослужения в Киеве в личной часовне губернатора, графа Игнатьева, поскольку в императорском дворце личной часовни не было. После молебна ко мне подошел граф и спросил: «Вы слышали самую последнюю новость? Знаменитый Распутин убит». – «Неужели это правда? – спросила я. – А кто это сделал?» – «Пока дело покрыто тайной, даже его тело еще не найдено. Ее величество вдовствующая императрица знает о трагедии. Однако я очень беспокоюсь, какое влияние окажет эта новость на императрицу Александру Федоровну. Как вы знаете, она так безоговорочно верила в могущество Распутина, что, боюсь, его смерть станет для нее страшным ударом».
Императрица так и не сумела понять, что так называемый старец был не кем иным, как шарлатаном и мистиком, обладавшим огромной гипнотической силой, а также совершенно беспринципным человеком. Веру императрицы в него он использовал в личных целях и оказывал на ее величество пагубное влияние. Она была очень религиозна и верила, что этот человек явился с особой миссией от Бога, хотя все остальные видели истинную его суть и пытались предостеречь ее от него и открыть ей глаза на его подлинный характер. Но государыня никого не слушала – вера ее в него была абсолютной. Распутин обладал над немногими людьми некой очень мощной властью, которую просто невозможно описать, и использовал свое влияние на доверчивую императрицу, внушившую себе, что тот владеет силой спасти ее любимого сына.
Жизнь Распутина не раз оказывалась под угрозой, но, говорят, он как-то изрек: «В день, когда исчезну я, перестанет существовать и императорская семья, а Россия рухнет!» Я, конечно, не могу утверждать, так это или нет. В те смутные времена в воздухе витало столько безумных изречений…
Я его видела лишь один раз несколько лет назад на вокзале Царского Села, когда он выходил из поезда, и мой друг показал мне этого «знаменитого Распутина». Я его хорошо разглядела: он был одет под крестьянина, заношенная до предела шапка была натянута на самые глаза. Внешне он был грязен и неприбран, но на нем была красивая и дорогая меховая шуба. Лицо худощавое и бледное, но глаза его были удивительны – большие и глубоко посаженные, а взгляд настолько пристальный, что, казалось, проникал внутрь человека или всего, что встречалось его взору. Он вызывал отвращение с первого взгляда.
Его дожидалась придворная коляска. Он поспешно взобрался на нее, съежился в углу, как будто пытаясь спрятаться, озираясь с таким видом, будто опасаясь, что кто-нибудь последует за ним. Но лицо его никак не отражало его внутреннюю суть, хотя оно и было правдивым признаком его характера. Это был пьяница-скандалист и даже хуже. И тем не менее он через свою удивительную способность ослаблять страдания юного наследника добился такого влияния на императрицу, что никто не мог убедить ее, что этот человек совсем не тот, за кого себя выдает. Императрица любила своего сына больше всего на свете и находилась в такой постоянной тревоге за жизнь дорогого цесаревича, что была готова использовать любые методы для его лечения. Она была убеждена, что Распутин, и только он один, может вылечить ее обожаемое дитя.
В тот день я пришла домой из церкви и спросила мужа: «Ты знаешь, что Распутина убили? Как ты думаешь, последствия будут серьезными?» И он ответил: «Слава богу, это гнусное чудовище подохло! Что до последствий – люди поговорят и забудут, что оно когда-то существовало. Такова жизнь».
Со своей стороны я не разделяла мнение мужа. У меня были свои опасения. Я знала, каким ударом будет это для императрицы, которая из-за своего наивного низкопоклонства сотворила из него мученика, наделив, еще при жизни Распутина, его нимбом святости.
В течение нескольких дней газеты не могли писать ни о чем другом, кроме смерти Распутина: колонку за колонкой киевские газеты публиковали его портрет, его биографию и детали убийства, сообщали, где и как он был убит, что труп его куда-то исчез и его до сих пор не могут найти, что петроградская полиция напала на след и что, наконец, останки «старца» были найдены подо льдом в одном из каналов, впадающих в Неву…
Император, в то время находившийся в штабе в Могилеве, немедленно выехал в Царское Село, чтобы быть рядом с императрицей, которая была в отчаянии, доводящем ее до безумия. Тело убитого отправили в один из монастырей в Петрограде, а оттуда перенесли в церковь по соседству с госпиталем Анны Вырубовой, где в присутствии их величеств и немногих близких друзей состоялось временное погребение. Сообщалось, что Распутин похоронен в парке в Царском Селе. Какой прискорбный промах! Какой риск с дальнейшими трагическими последствиями – посещать похороны человека, который не знал ни веры, ни закона! Естественно, все это широко обсуждалось, и нам было очень неприятно от всякого рода беспочвенных слухов.
Люди, принимавшие участие в убийстве Распутина, были сурово наказаны, а потрясения, вызванные этим делом, имели самые фатальные последствия. Бедная императрица! Можно только сожалеть о ее слепоте и осуждать тех, кто осмелился представить эту ужасную тварь ее величеству, сыграв на ее сокровенных чувствах – ее любви к своему сыну и ее религиозной экзальтации, а потом поддерживал государыню в ее несчастной вере в могущество Распутина. Все эти люди – просто преступники, поскольку они заботились лишь о своих собственных интересах, надеясь тем самым попасть в фавор к императрице и сколотить себе состояние.
Император вызвал моего мужа с фронта в Царское Село для беседы. Толи нашел, что его величество выглядит очень утомленным и озабоченным, и заметил, что царь очень похудел. Глаза государя, всегда такие выразительные, сверкали, когда он рассказывал, что ожидает быстрых успехов со стороны союзников, что боеприпасы поступают со всех сторон и что есть надежда скоро начать всеобщее наступление. Он говорил только о войне и сообщил моему мужу, что надеется вскоре увидеть его в штабе. Император предложил моему мужу навестить до отъезда императрицу, добавив, что ее величество чувствует себя очень плохо и находится в подавленном состоянии.
Мой муж через несколько минут встретился с императрицей в ее гостиной комнате. У нее было неестественно раскрасневшееся лицо, и она нервничала, но пыталась выглядеть спокойной. Она говорила резко, почти отрывисто, из чего было видно, как глубоко она страдает. Государыня расспрашивала обо мне, моей дочери и моем госпитале и сообщила моему мужу, что вскоре собирается поехать на фронт вместе с императором. Его величество еще не имел возможности поблагодарить гвардию после больших сражений июля 1915 года. Мой муж был очень тронут этим визитом и с целью отвлечь ее величество от ее горестных дум рассказал ей о недавно вышедшей из печати американской книге, содержавшей карикатуры о войне, которая была очень забавной и развлекательной. Позже он позволил себе смелость послать ей из Киева экземпляр этой книги.
Когда мой муж после обеда покидал императора и императрицу, оба величества послали с ним любезные послания для меня и поблагодарили меня за то, что продолжаю так долго заниматься своим госпиталем. Так он в последний раз увидел наших любимых монархов, и в последний раз я получила от них послание напрямую. Этот визит произвел глубокое впечатление на моего мужа, который увидел огромную тревогу, угнетающую оба величества, и был необычайно удивлен веянием трагического, витавшего в этом разговоре.
Мой муж сказал мне, что состояние Петрограда было совсем не обнадеживающим. Интерес к войне, казалось, потух, а прекрасное чувство патриотизма вообще испарилось. Тема всех разговоров – политика и критика правительства.
Ходили также слухи о голоде, и это совершенная правда, что у мест раздачи хлеба выстраивались длинные очереди. Также, что там холода и народ стоит часами, дрожа от холода. Также правда, что для распространения враждебной пропаганды и для того, чтобы доказать слабым духом, уставшим от военных лишений гражданам, что никто о них не заботится и никто на них не обращает внимания, поезда с продовольствием задерживались и делалось практически все, чтобы ускорить приход революции.
|
Метки: барятинские мемуары |
Мария Барятинская -О награждении царя орденом Георгия 4-й степени |
Осенью 1915 года император решил устроить смотр своим войскам на фронте, надеясь, что это поднимет их дух. Во время этой поездки его величество оказался на небольшой станции Кливяны, откуда он отправился устраивать смотр войскам. Все ехали в автомашинах, и на обратном пути на станцию, чтобы сесть на императорский поезд – а уже было темно, – императорский водитель заблудился. Вдруг, к своему великому удивлению и ужасу, генерал Иванов услышал знакомый шум германских аэропланов. Так император оказался очень близко к линии вражеского огня. Тотчас был отдан приказ повернуть все пушки против германских машин и отогнать их.
Все были встревожены этим несчастным случаем. Однако император оставался абсолютно спокоен и сдержан. Когда он доехал до станции, к нему подошел генерал Иванов и спросил: «Не соблаговолит ли ваше величество принять крест ордена Святого Георгия?»
Орден Святого Георгия, управлявший собственным Советом (Орденской думой), был создан императрицей Екатериной Великой, а крест выдавался за храбрость. Одно из правил, записанных в уставе ордена, гласило, что любой член императорской семьи, который подвергнется опасности перед лицом врага, имел право на этот крест.
В ответ на вопрос генерала Иванова император со своей обычной скромностью уклонился от этой почести. «Я был не в большей опасности, нежели остальные», – настаивал он. Генерал продолжил упорствовать, и государь раздраженно ответил: «Пожалуйста, больше не касайтесь этого вопроса!»
Посоветовавшись с моим мужем, генерал Иванов решил созвать Совет ордена, который единственно имел право награждать. Зная антипатию императора к нарушению правил, он надеялся, что его величество будет вынужден принять крест, если награда будет произведена по решению Совета. Кворум Совета в количестве семи человек собрался в Бердичеве и утвердил награждение, изложив в надлежащей форме основания для награждения крестом. И моего мужа отправили в Петроград в качестве представителя Совета ордена, чтобы произвести награждение царя.
По пути в Петроград муж заехал в Киев, где «завербовал» меня в свой заговор. Он очень сомневался в своей способности уговорить императора. «Боже, помоги его величеству принять этот крест, – сказал он, – потому что все его предшественники имели крест, и я знаю, с какой гордостью император будет носить его!»
Муж взял с меня обещание хранить секрет и, уезжая, сказал мне, что пришлет телеграмму «Прекрасная погода», если его миссия завершится успехом. А если в телеграмме будет написано «Погода была плохая», я должна это понять так, что он потерпел неудачу. Как только я получу эту телеграмму, мне надлежало позвонить в Бердичев генералу Иванову, и было отдано распоряжение, чтобы мне помогли сделать звонок немедленно.
В день приезда мужа в Петроград я получила телеграмму «Погода чудесная!». Я тут же позвонила генералу Иванову и по его голосу поняла, что тот был в огромном волнении. «Слава богу!» – восклицал он.https://unotices.com/book.php?id=123093&page=54
|
Метки: барятинские первая мировая война романовы российская императорская армия |
Барятинская Мария Сергеевна-О браке с Анатолием Барятинским |
Барятинская Мария Сергеевна - Моя русская жизнь. Воспоминания великосветской дамы. 1870–1918. Читать книгу онлайн. Cтраница - 4
После обеда он рассказал нам забавную историю. Начал следующим образом:
– В тот же день, когда я повстречал вас в Монте-Карло, – возможно, вы это помните, потому что всякий, кто меня хоть раз увидит, уже никогда не забывает, – скромно добавил он, – я купил билет до Ливорно. Оттуда я намеревался отплыть на Корсику, чтобы посетить великого князя Георгия Александровича (второго сына царя Александра III. – Авт.), который находился там по причине своего слабого здоровья. Меня по ошибке приняли за самого великого князя, поскольку губернатору Ливорно была послана телеграмма, в которой говорилось, что великий князь Георгий путешествует инкогнито под именем князя Барятинского. В то время я ничего об этом не знал и, к своему удивлению, добравшись до Ливорно, удостоился государственного приема со стороны важных сановников.
Я прослушал длинную речь, в которой часто упоминалась высокая честь, которую я оказал этому городу своим личным визитом, и, наконец, меня провели к большому внушительному ландо. Я хотел избежать дальнейших почестей, и так как шел сильный дождь, я быстро забрался в карету, сел на место у окна и поспешно закрыл дверь, надеясь, что губернатор поймет, что церемония подошла к концу. Но – увы! Несмотря на проливной дождь, он, обогнув карету, подбежал к другой двери, вскочил в карету и уселся рядом со мной. Я сразу же увидел, что он не понимает моего французского, на котором я отчаянно пытался объяснить ему, что я вовсе не его императорское высочество великий князь. Наконец, я оставил свои попытки, и мы поехали в отель, где я увидел, как он заговорщицки шепчется с привратником. Я очень устал, и мне хотелось спать, но скоро мои сновидения были потревожены оркестром, заигравшим под окном российский государственный гимн.
Это оказалось последней каплей! Я вскочил и неистово попытался разъяснить ситуацию. Но повсюду видел сияющие лица и склоненные фигуры! Ничто из сказанного мною не могло изменить их уважительного отношения, поэтому я отказался от попыток доказать мою истинную личность и в конце концов пошел спать.
Та же программа продолжилась наутро и на борту корабля. На это я мог не обращать внимания, так как был неважным моряком. Море штормило, будто присоединилось к заговору против меня, а потому я провел все время в одиночестве в своей отличной каюте. Когда мы прибыли на Корсику, капитан и пассажиры построились в два ряда, через которые я прошел, чувствуя себя очень глупо и неловко. Наконец, благополучно добравшись до места назначения, я рассказал всю эту историю великому князю, отчего он хохотал от всей души.
Сообщение во всех газетах о моем «императорском визите» гласило, что великий князь Георгий благополучно прибыл в Аяччо, а чтобы избежать церемоний, приличествующих его положению, он путешествует инкогнито под именем князя Барятинского.
Эту вырезку из газеты мой супруг послал своему отцу, который показал ее императору Александру III, а когда мой муж вернулся в Россию, его величество, улыбаясь, поинтересовался о происшествиях в ходе этой забавной поездки.
Мне понадобилось очень короткое время, чтобы понять, что Толи был действительно моей первой любовью. Примерно в середине марта князь Барятинский сообщил мне, что собирается вместе с друзьями поехать на охоту на медведя, к которой у него была большая страсть. Это достаточно опасный вид спорта. Медведи все еще спят в глубоких берлогах и приходят в ярость, когда их будят ищейки. Полусонных, их надо убивать прямо на месте, иначе раненый медведь становится страшным соперником в поединке с человеком.
Я сама как-то видела трагические последствия одного неудачного выстрела. Полковой друг моего мужа, лейтенант Нефф, выстрелил в медведя, и тот упал. Считая, что зверь мертв, он подошел к нему, и тут, к его ужасу, медведь вдруг поднялся и зажал его в тиски. Лейтенанта спасли лишь друзья, застрелившие медведя, но зверь до этого успел отгрызть большую часть его ноги и бедра.
Князь Барятинский признался мне, что если он будет достаточно удачлив и убьет медведя (а у него было девять или десять ружей), то сочтет это хорошим предзнаменованием (Толи был очень суеверен, да и я такая же). Но, несмотря на мои мольбы, он так и не сказал, что имел в виду. Но полмесяца спустя он приехал ко мне и заявил: «Я убил медведя, и вы должны стать моей женой. Это и есть хорошая примета, о которой я говорил две недели назад». Я ему ответила, что все еще несвободна; хотя мой брат, видя мое несчастье в браке, настаивал на разводе, тем не менее это потребовало времени. Я вернулась в поместье брата. Пройдя через многие затяжки и трудности, в 1894 году я вышла замуж за князя Анатоля Барятинского. К тому времени мой первый муж уже умер.
В период моего второго замужества отец моего супруга исполнял обязанности генерал-адъютанта его величества на службе у вдовствующей императрицы; у него и моей свекрови было три сына и три ttps://unotices.com/book.php?id=123093&page=4дочери, и к тому времени никто из них не состоял в браке. Наша свадьба была первой в этой семье. Потом мой молодой деверь Владимир женился на актрисе Лидии Яворской; затем моя самая старшая золовка Анна вышла замуж за князя Щербатова, адъютанта великого князя Николая Николаевича. Мой самый старший деверь Александр женился только в 1901 году, как я упоминала ранее, на княжне Екатерине Юрьевской, изумительно красивой дочери императора Александра II от морганатического брака с княгиней Долгорукой. Ей был дан титул княжны Юрьевской.
Из оставшихся двух сестер Ирина вышла замуж за капитана Мальцова, морского офицера (моя свекровь какое-то время противилась этому браку), а другая дочь, Елизавета, стала супругой графа Апраксина, впоследствии назначенного к особе ее величества императрицы Александры Федоровны. Это назначение всех удивило, так как у него было слишком мало качеств для столь высокого поста.
Родители моего мужа были исключительно добры ко мне, и у нас всегда были самые лучшие отношения. Моя свекровь была очень добродетельной и набожной женщиной, чьим девизом в жизни был долг. Несмотря на больное сердце, она редко думала о себе, все свои силы она направляла на то, чтобы помочь окружающим. Когда я вышла замуж за Толи, ее старая мать все еще здравствовала и проживала в том же доме вместе с дочерью и зятем. У нее была своя половина из нескольких комнат. Звали ее графиня Стенбок-Фермор, и она была одной из самых богатых женщин в Европе. Ей принадлежали огромные рудники на Урале и в Сибири, дома, деньги и другая собственность. Она была хрупкой женщиной, одевалась очень скромно, была очень религиозной и помогала многим монастырям.
Однажды она позолотила за свой счет купола монастыря Святого Сергия недалеко от Санкт-Петербурга. Это стоило ей невероятных денег. Она была крайне консервативна во взглядах, не одобряла современных новшеств и никогда не ездила поездом, а также не допускала установки телефона у себя в доме. У нее был уникальный характер; ей был присущ исключительный ум, и своими делами она управляла с огромным искусством. В денежных вопросах она часто совершала неожиданные поступки. Как-то случилось, что ее старший сын Алексей, молодой офицер, влез в долги. Она отказалась уплатить их, и его мебель и другие вещи были объявлены к продаже. Лишь посредничество его величества Александра II вынудило ее уладить дела.
В другой раз, однако, мой деверь, ее внук, Александр сообщил семье, что собирается признаться бабушке, что также серьезно задолжал. «Я попрошу сразу же, если она меня примет», – заявил он. Мы думали, он шутит, но он пошел к бабушке, и, вероятно, его благосклонно выслушали, потому что через полчаса он вернулся, сияя, с чеком на 200 000 рублей. «Бабушке очень понравилось, что я был с ней откровенен», – спокойно рассказал он нам. Но потом он по секрету признался мне, что, когда он вошел к старой даме и начал свою историю, его терзали сомнения. И все же приятные манеры и глубокий ум моего деверя компенсировали его непрактичность.
Когда бабушка умерла в возрасте восьмидесяти трех лет, она оставила после себя огромное богатство в размере примерно 100 000 000 рублей, и, хотя эта сумма была поделена среди очень большой семьи из нескольких поколений, каждому досталось очень прилично.
ttps://unotices.com/book.php?id=123093&page=4
|
Метки: барятинские мемуары |
Княгиня Мария Барятинская об Оболенском |
Великий князь Николай Константинович умер во время войны.
Моего мужа освободили от занятий, и поскольку он был заядлым спортсменом, то горел нетерпением собрать компанию для охоты. В туркестанских степях полно гусей, диких уток и всевозможных перелетных птиц. Муж слышал, что стаи гусей здесь так велики, что буквально небо темнеет, когда они пролетают. Только здесь можно найти дикого горного барана и гималайского козла, а также таких необычных птиц, как карликовую степную куропатку, чукару, и соек особой окраски.
Задуманной экспедиции предшествовали такие гигантские приготовления, что я не могла удержаться от иронии: «Можно подумать, что вы собираетесь, как минимум, на Северный полюс. Надеюсь, вы не станете тратить время и гоняться за невозможным». Но группа упорствовала в своем мнении и отвечала с глубокомысленным видом: «Все будет хорошо!»
Компания состояла из князя Оболенского, моего племянника, одного из офицеров Главного штаба, моего мужа и, конечно, неизбежного Жозефа. Как только они добрались до места назначения, являвшегося главным станом кочевых племен, они обнаружили там большой киргизский шатер, поставленный для них. Земляной пол шатра был покрыт толстыми коврами, место посреди оставалось свободным для того, чтобы можно было разжечь костер из кустарника, единственного топлива, которое можно найти в этих выжженных солнцем степях. Ветки уже были сложены, и оставалось только поджечь их, если понадобится. Дым уходил через отверстие в крыше шатра. Однако они не стали заботиться об огне, потому что хотя и был март, но было так тепло, а солнце было таким жарким, что можно было подумать, что уже наступило лето.
Песчаные степи простирались на мили и мили вокруг шатра однообразной серой пеленой. Ее расцвечивали только безукоризненно белые маленькие ручейки, вьющиеся через эту монотонную пустынную ширь. Вдоль их берегов появлялась свежая зеленая трава, в которой было рассыпано множество маленьких белых цветов, а также изумительных цветков лимонно-желтого цвета растения дикий лук. Он растет в изобилии на гребнях гор Тянь-Шаня, образуя там сплошное покрытие, и с расстояния похож на желтый ковер. Эти покрытые цветами горы так и называются – Луковые горы.
Два дня обещание немыслимого количества и разнообразия дичи оставалось только обещанием. Наши охотники настреляли немного уток, одна из которых оказалась экземпляром, совершенно отличным от тех, что им приходилось встречать раньше. Голова ее была похожа на голову старой женщины в красном капюшоне.
Этой охоте было суждено завершиться неожиданным образом. Резко испортилась погода, и обрушился проливной дождь. Изменение температуры повлияло на состояние князя Оболенского, страдавшего астмой, и с ним случился сильный приступ. Во время приступов кашля он не мог лежать и был вынужден стоять на коленях и наклониться для опоры над стулом, пока пытался восстановить дыхание. Его нельзя было шевелить, и компании пришлось прекратить охоту. Князь не мог ни идти, ни ехать, а другого способа добраться до Ташкента не было. Мой муж решил сразу же вернуться в город и прислать слугу князя с лекарствами и респиратором и оставил с больным моего племянника, юношу девятнадцати лет.
Ночью налетел буран с ледяным дождем и мокрым снегом. Температура все падала и падала, ударил мороз. Наутро земля была скользкой и гладкой, как стекло. А так как князь из-за своего недуга не выносил жара костра, они чуть не окоченели. Когда мой племянник вышел из шатра наружу, он увидел трех крупных волков, занятых поисками пищи, которых он поначалу принял за собак. Это было необычное явление, потому что волки редко появляются открыто.
Мой бедный племянник много часов провел в тревожном ожидании слуги князя, который вез лекарства. Тот приехал поздно, ведь бедняге пришлось преодолеть большое расстояние от станции по дороге такой скользкой, что его неподкованная лошадь не могла тащить коляску.
Теперь возникла другая проблема – как вывезти больного. И в конце концов было решено, что легче всего будет поднять его на лошадь. К несчастью, он терпеть не мог запаха этого животного, который вызывал у него спазмы насморка, и его астма, естественно, усилилась.
Путешествие до станции оказалось очень изнурительным. Лошадь спотыкалась и скользила на каждом шагу. Вести бедное животное было невероятно трудно и утомительно, поэтому, когда они добрались до станции, все были полностью измотаны. Мой бедный племянник перевел дух, когда занял свое место в вагоне поезда.
Спустя несколько дней князь Оболенский рано утром ворвался в наш дом полуодетый и в заметно возбужденном состоянии. Его старый слуга, возможно под влиянием частой смены температур, вдруг потерял рассудок и попытался застрелить своего хозяина, повсюду гоняясь за князем с револьвером в руках, и тому пришлось спасаться бегством через окно. Мы приняли князя у себя, а слугу отправили в Санкт-Петербург в сумасшедший дом. И он так и не вылечился.
Перед отъездом из Санкт-Петербурга в Ташкент меня приняла вдовствующая императрица, и я спросила ее величество, могу ли я присылать ей кое-какие фрукты, которыми славился Туркестан. Зимой можно было найти только дыни, которые сохранялись в хорошем состоянии. Я спросила генерала Самсонова, как мне отправить несколько туркестанских дынь ее величеству, поскольку я знала, что в это время года они в Санкт-Петербурге большая редкость. «Я могу послать специального курьера, – ответил он, – и сделаю это с удовольствием. Найду для этого надежного казака, дам распоряжение отыскать лучшие в Туркестане дыни, которые, полагаю, будут достойны того, чтобы ее величество согласилась их принять».
Так и было сделано, и перед отъездом посыльный получил строгие инструкции держать фрукты в прохладе и на время дороги подвесить их. Но тот полагал, что сам лучше знает, что делать, и, чтобы их не раздавило, завернул дыни в свою одежду. Когда он приехал в дом родителей моего мужа и с большой гордостью распаковал эти дыни, то обнаружилось, что хотя внешне они выглядели весьма неплохо, но внутренность их полностью сгнила. Бедняга был в отчаянии. Мой свекор рассказал эту забавную историю в числе других ее величеству. Она, с ее обычной добротой, зная, как был огорчен бедный казак, и понимая, какую радость и гордость он ощущал бы, если бы ему было дозволено видеть ее величество после такого длинного путешествия, и с каким триумфом он бы рассказывал в своем полку об оказанной ему чести, дала ему аудиенцию.
По возвращении, когда он привез письма и подарки из дому, казак с восторгом рассказывал о приеме. «Я с радостью поеду еще раз, но не думаете ли вы, ваше сиятельство, что было бы лучше послать ковер ее величеству? Я уверен, ее величеству он бы больше был по душе, да и принес бы больше пользы. Наверняка вам должно быть стыдно посылать ее величеству такой подарок, как дыни! Старый князь покачал головой – и я видел, что он был недоволен».https://unotices.com/book.php?id=123093&page=38
|
Метки: барятинские оболенские мемуары ташкент |
Лев Термен - разведчик из будущего |
|
Лев Термен - разведчик из будущего
На вопрос, что общего между электронной музыкой и шпионажем, трудно ответить, не зная этой истории... 
В 1951 году радист британского посольства в Москве неожиданно услышал на одном из открытых каналов разговоры, которые, как оказалось, велись в здании американского диппредставительства. Это значило, что в посольстве США была организована прослушка... После долгих поисков «жучка» присланные Госдепом специалисты обнаружили странное устройство без проводов и источников питания внутри герба США, подаренного в 1945 году послу Гарриману на Ялтинской конференции. Лишь много лет спустя они узнали, что таинственный прибор, прозванный “The Thing” («Эта вещь»), собрал тот же человек, что в 30-е годы собирал полный зал нью-йоркского Карнеги-холла - своими концертами на первом в истории электронном музыкальном инструменте. Это был Лев Сергеевич Термен — потомок мятежных французских аристократов-альбигойцев, который творил чудеса на благо Советской власти, получив содействие от самого Ленина. Его имя до сих пор окутано туманом неразгаданных тайн. 
При поддержке Ленина терменвокс, созданный молодым изобретателем Львом Сергеевичем Терменом, становится воплощением прогресса. Правительство большевиков использовало концерты Термена, чтобы сделать пиар своему великому плану ГОЭЛРО, который должен был развеять над страной тьму невежества. Лев Сергеевич дал 150 концертов. «Разрешение проблемы идеального инструмента. Приблизительно шестьдесят октав слышимых звуков, в том числе двадцать четыре октавы музыкальных звуков, вместо шести на рояле, звуки освобождены от „примесей“ материала. Начало века радиомузыки», - писали про Термена в газетах. На дворе была эра Футуризма, и терменвокс вписывался в неё как нельзя лучше. Зарубежные журналисты даже высказывали мнение, что электронные инструменты вытеснят «устаревшие» традиционные. На тот момент Советская власть была благосклонна к Термену, несмотря на его «классово чуждое» происхождение. Без Льва Сергеевича и его терменвокса было бы невозможно создание электронного синтезатора — одного из «столпов» современной музыки. Термен оставил след и в искусстве, и в современной технике. Он запомнился современником как смелый, увлекающийся человек, который любил шутить и удивлять других людей. В Америке о вымышленных приключениях молодого Льва Сергеевича рисуют научно-фантастические комиксы, как и о другом выдающемся учёном - Николе Тесле, с которым у нашего героя есть немало общего. Были ли они знакомы? Меня не оставляет этот вопрос. 
О музыкальной и изобретательской деятельности Термена известно немало по обе стороны Атлантики. Но куда меньше мы знаем о Термене — «бойце невидимого фронта». В 1929 году его отправили на Запад, сначала в Европу, а потом и в Америку — не только для повышения престижа Советского Союза, где смог развернуться такой талант, но и для разведдеятельности, прежде всего - наблюдением за техническим прогрессом. В США была эпоха «ревущих двадцатых». Время взлёта экономики, науки и техники. Время новой музыки — джаза. Началось массовое радиовещание, радиолы становились предметами обстановки, на экранах появились первые звуковые кинофильмы, и радиомузыка Термена оказалась как нельзя кстати. После триумфального успеха в Карнеги-холле и Метрополитан-опере изобретения Льва Сергеевича привлекли к себе внимание американских предпринимателей. Удивительно, но, работая в США, Лев Сергеевич, не скрывал свою преданность Советскому Союзу и идеям социализма: он даже выступал с концертом на мероприятии местной компартии. Между тем, в числе его знакомых были не только Альберт Эйнштейн и Чарли Чаплин, но ещё Форд, Рокфеллер, Дуайт Эйзенхауэр, будущий президент США, и военный специалист Лесли Гроувс, ставший руководителем атомного «Манхэттенского проекта». Термен был членом клуба миллионеров и наверняка был осведомлён о многих вещах, но, совсем как в кино, «погорел» на романе с красивой женщиной. Тайн в этой истории немало. Какие научно-технические сведения добыл наш гениальный соотечественник? В чём его разведдеятельность помогла Советскому Союзу перед войной? Почему после ареста и отправки на Колыму в Кремле решили вернуть его из лагеря, хотя предъявленные Термену обвинения вполне могли его погубить?.. Вот еще один малоизвестный факт. Хотя «отцом» телевидения считается Владимир Зворыкин, а началом телевизионной эры принято считать 1931 год, в 1920-х годах Термен создал собственную телевизионную систему «дальновидение», которая опережала систему Зворыкина самым удивительным образом. Весной 1926 года инженер Лев Термен демонстрировал в Наркомате обороны первую в мире телевизионную установку — дальновидение. Он установил объектив камеры на улице, экран расположил в кабинете, и красные полководцы Орджоникидзе, Ворошилов, Буденный и Тухачевский дружно вскрикнули от восторга: на экране по двору шел Сталин! В нем использовалась чересстрочная развертка на 32 и на 64 строки, изображение воспроизводилось на экране размером 1,5х1,5 м. До него такого разрешения не удавалось добиться ни одному инженеру: экраны западных телевизоров были размером со спичечный коробок. Интересы Льва Сергеевича были разносторонними, как у гениев эпохи Возрождения. Он интересовался не только механизмами, но и загадками человеческого организма: в частности, его интересовала консервация организма в условиях холода — то, с чем экспериментируют учёные в наши дни. Ещё в молодости он собирался бросить вызов самой смерти, когда скончался Ленин. С поразительной, даже пугающей уверенностью он писал: «Как только я узнал об этом, то принял решение: Ленина надо похоронить в мерзлоте, а через несколько лет я его восстановлю! <…> У меня был надежный помощник, которого я послал в Горки, чтобы выяснить, как все это оформить. Он вернулся очень скоро; сделать уж было ничего нельзя, слишком поздно. Оказалось, что мозг и сердце Ленина доктора уже извлекли, поместили в банку, залили спиртом и таким образом убили все клетки. Я был сильно огорчен. Мне казалось, что, заполучив тело Ленина, мы, на том уровне науки, смогли бы разобраться, в чем дефект того или иного органа человеческого тела. Я был готов к этому». Впрочем, его исследований в данной области то ли не оценили, то ли... побоялись. К теме продления жизни он вернулся уже на закате Советской эпохи, будучи сам девяностолетним (в 95 он давал концерт в США). Он выступал на семинаре «О бессмертии», также он придумал систему очистки и омоложения крови и пришёл предложить её в ЦК, но человека, подобного Ленину, когда-то «пригревшему» гения, там уже не нашлось. Как передавал сам Лев Сергеевич, «там сказали, что нам нужно прокормить население, а не продлять ему жизнь». Так что же конкретно хотел сделать Термен и насколько его проект был оправдан с научной точки зрения? http://steeme.ru/%40olivera-despina/lev-termen-razvedchik-iz-budushego |
|
Метки: термен наука |
Счастье и трагедия прекрасной Лебеди Врубеля |
Счастье и трагедия прекрасной Лебеди Врубеля
Кто не знает эту чудесную картину, где в буйстве белых лебединых крыл на нас своими огромными бездонными глазами смотрит прекрасная девушка в драгоценном кокошнике! "Царевна Лебедь" Михаила Врубеля.
Художник написал свою жену Надежду Забелу-Врубель, оперную певицу, в исполняемой ею роли. Она пела партию Царевны Лебеди в опере про царя Салтана. Дивный, сказочный образ, передающий дух пушкинского произведения и музыки Римского-Корсакова.
Есть фотография Надежды в костюме Лебеди. Сравнивая оба изображения, понимаешь, насколько глаз художника острее и глубже проникает в суть образа.
Врубель охотно писал свою жену, оставив несколько ее портретов. Но такого уровня романтизации, как в Лебеди, больше не достиг.
Обладательница превосходного сопрано, Надежда, проведя детство в Киевском институте благородных девиц, поступила затем в Петербургскую консерваторию. После ее окончания певица начала выступать в Киевском оперном театре. Проработав там всего один сезон, уехала в Тифлис, оттуда в Петербург, пела также в Москве.
Знакомство с Врубелем состоялось во время репетиций оперы "Гензель и Гретель" в частном Панаевском театре в Петербурге. Художником этой постановки был как раз Михаил Врубель, который попал туда чисто случайно - он заменил собой Константина Коровина. Художник с первого взгляда влюбился в прелестную Надежду. Будучи человеком темпераментным, он немедленно очень бурно выразил свое восхищение, целуя ей руки.
Через год после знакомства Врубель и Забела поженились. Свадьба состоялась в Швейцарии. В качестве свадебного подарка Михаил преподнес невесте брошь с бриллиантами и опалом.
Семейная жизнь протекала поначалу безоблачно. Супруги любили друг друга, каждый был занят творчеством, между ними было взаимопонимание. Надежда продолжала блистать на сцене, особенно ей удавались образы из опер Римского-Корсакова. Современники восхищались ее исполнением, отмечая особенную удачу в роли Марфы в "Царской невесте".
Ольга Книппер-Чехова, например, писала Чехову об этом исполнении:
Она удивительно просто ведет сцену сумасшествия, голос у нее чистый, высокий, мягкий, ни одной крикливой ноты, так и баюкает. Весь образ Марфы полон такой нежности, лиризма, чистоты — просто из головы у меня не выходит.
Вот так одна актриса оценила другую.
В новый век Надежда вступила с радостью, но ожидали ее только бедствия...
Родившийся в 1901 году долгожданный сын оказался очень болезненным мальчиком и умер в два года. Смерть сына очень плохо сказалась на Врубеле. Симптомы душевной болезни стали проявляться все чаще и глубже.
Переехав из Москвы в Петербург, Надежда поступила в Мариинский театр, где пели самые выдающиеся исполнители. В театре царило соперничество, не было атмосферы тепла, уюта, как в частном Мамонтовском театре в Москве, где Надежда работала ранее.
Забела не получала те роли, в которых могла бы блистать во всей красе. Одновременно муж все более погружался в бездну своей болезни, и теперь мог содержаться только в больнице. Там он и умер в 1910 году от воспаления легких.
Все эти события подкосили жизненные силы Надежды. Она впала в депрессию и покончила с собой в 1913 году.
https://zen.yandex.ru/media/lichop/schaste-i-trage...belia-5c78ce1cc01dc600b2816875
|
Метки: врубели театр мир живописи |
Барокко Строгановых: трехсотлетние палаты в Усолье |
Барокко Строгановых: трехсотлетние палаты в Усолье
На территории Приуралья и Урала сохранилось немного каменных зданий начала XVIII века.
Но те, что есть – часто не только исторически значимы, но еще и очень красивы!
Признаюсь: когда я ехала в Усолье, в моем списке объектов для обязательного посещения были только храмы. Уезжала я с багажом снимков в гораздо большем «ассортименте».
Памятник светского барокко, восстановленные палаты Строгановых на берегу Камы впечатляют! Восточная сторона, парадная – оформлена лестничными пролетами вполне в дворцовых вкусах монархов предыдущих столетий. Окна второго этажа заставляют замереть - их изящество почти неожиданно для суровой геометрии всего здания.
Занятный факт: в России в эти годы (а строительство Строгановских палат относится к 1724) уже начинается регламентация строительства, из стольного Петербурга по образцу его застройки во все города и веси разлетаются стандартные проекты домов, по которым обязуют строить и дома, и присутственные здания, и даже храмы.
Но Строгановы в Усолье сами цари и боги, и свои палаты, в которых они никогда не будут жить постоянно, они строят на свой вкус.
Знаменитый «жучок» - квадратно-ромбический орнамент (его мы встречаем почти исключительно в храмовом зодчестве); замысловатые и изысканные наличники, подчеркнутые контрастной окраской; углы, фланкированные почти коринфскими полуколонками… Провинциальная красота как она есть!
Очень хочется рассказать о Строгановых – история этой династии и ее ветвей накрепко вписана в историю России. Соляные короли; приращение к Московскому царству Урала и Сибири руками того еще бандита Ермака; строгановский стиль в архитектуре; коллекции искусства; традиции благотворительности; судьбы некоторых представителей фамилии… Только Строгановым можно отдать несколько лет научной биографии, поэтому я выдыхаю и добавлю буквально пару слов о архитектуре палат в Усолье.
С точки зрения конструкции – это вполне традиционная для московского зодчества жилая постройка. Подклет – полуцоколь, этаж для подсобных помещений. Здесь это кухня, каретная, склад и «людская», в каждое помещение есть отдельный вход.
Второй этаж – это четыре большие комнаты – палаты, жилые помещения хозяев и кабинет. Принцип размещения комнат анфиладный, по центру находятся «сени» с лестницей на первый этаж. Потолки обоих этажей сводные, соответственно их высота разная, от 3-х до 6,5м в самой высокой точке.
Фото 1960-х гг, из архива музея
Сейчас здание полностью отреставрировано, в нем находится музей. Туда я не попала, так как была в Усолье в праздник. И очень жалею. А вообще Усолье – это чудесное место для знакомства с историей региона и каменной архитектуры!
л!Хороших дорог и чистого неба, друзья
|
Метки: строгановы |
Почему "Мастер и Маргарита" Булгакова является наихристианнейшим романом 20-го века. |
Почему "Мастер и Маргарита" Булгакова является наихристианнейшим романом 20-го века.
- Jun. 3rd, 2013 at 2:55 PM
 Я надеюсь, что я убедил вас, мои дорогие читатели, что автор "Белой Гвардии" и "Театрального романа" не мог быть примитивным "готом", смакующим описание всевозможных упражнений в черной магии аля даже не доктор Фаустус, а кот Мур, начитавшийся "Молот Ведьм" с комментариями махатмы Блаватской. Римлянцы, это же не Акунин, это Булгаков. Ну не может сын ведущего христианского историка Российской Империи разбрасываться упоминаниями о рукописях Сильвестра II без всякой цели, просто так, чтобы показать что он тоже читал Британскую Энциклопедию. В том-то и дело, что если роман "Мастер и Маргарита" это упражнение в гностицизме, то он не только анти-христианский, он невыносимо пошл. Неужели кто-то может поверить, что по поводу этой пошлятины, достойной разве что Брэма Сто́кера, создатель "Дней Турбиных", умирая, шептал "Чтоб знали, чтоб знали." Я даже могу себе представить, что Михаил Афанасьевич на старости лет решил побаловаться сатанизмом (со скрежетом зубовным, но могу), но я никогда не поверю в то, что и в этом случае он мог считать Иешуа-Га-Ноцри, упоминаемого в Талмуде и в писаниях Иоахинана-бен-Заккаи, Мессией и Спасителем Нового Завета.
Я надеюсь, что я убедил вас, мои дорогие читатели, что автор "Белой Гвардии" и "Театрального романа" не мог быть примитивным "готом", смакующим описание всевозможных упражнений в черной магии аля даже не доктор Фаустус, а кот Мур, начитавшийся "Молот Ведьм" с комментариями махатмы Блаватской. Римлянцы, это же не Акунин, это Булгаков. Ну не может сын ведущего христианского историка Российской Империи разбрасываться упоминаниями о рукописях Сильвестра II без всякой цели, просто так, чтобы показать что он тоже читал Британскую Энциклопедию. В том-то и дело, что если роман "Мастер и Маргарита" это упражнение в гностицизме, то он не только анти-христианский, он невыносимо пошл. Неужели кто-то может поверить, что по поводу этой пошлятины, достойной разве что Брэма Сто́кера, создатель "Дней Турбиных", умирая, шептал "Чтоб знали, чтоб знали." Я даже могу себе представить, что Михаил Афанасьевич на старости лет решил побаловаться сатанизмом (со скрежетом зубовным, но могу), но я никогда не поверю в то, что и в этом случае он мог считать Иешуа-Га-Ноцри, упоминаемого в Талмуде и в писаниях Иоахинана-бен-Заккаи, Мессией и Спасителем Нового Завета.
(На рисунке Маргарита и Мефистофель. Автор рисунка - мадам Блаватская)
Итак, мне кажется можно считать доказанным, что роман "Мастер и Маргарита" это не "готика", а аллегорический рассказ о мистической сушности тех событий, свидетелем которых стал Михаил Афанасьевич на протяжении всей своей жизни. Например целый ряд подробностей рассказа о Пилате и Иешуа-Га-Ноцри явно отсылают нас не только к Талмуду, но и к апокрифическому "Евангелие от Никодима", ставшему главным источником сведений об Иосифе Аримафейском - основателе старейшей на "глобусе" Церкви Англии. Я не собираюсь сейчас давать полную расшифровку аллегорий и аллюзий романа "Мастер и Маргарита", да это и невозможно в принципе, но мне кажется что из вышеупомянутых обстоятельств, а также из того места, которое в романе "Мастер и Маргарита" занимает романе об Иешуе-Га-Ноцри, трудно не сделать вывод, что он считал именно историю Церкви сакральной историей спасения человечества от метафизического зла и движущей силой все тех изменений, которые произошли в России и во всем мире в начале 20 века. А крупнейшим событием в истории Церкви на рубеже веков был провал или вернее незавершенность переговоров об объединении Церкви Англии и Русской Православной Церкви, и вполне естественно предположить, что Булгаков именно это в 1935 году считал причиной и Первой Мировой Войны и Русских Революций, и того всемирного пожара который начался в 1941 году, но вспышки которого Михаил Афанасьевич увидел в отсветах огней знаменитого глобуса Уильяма Буллита в Спасо-Хаусе в 1935 году. Причем это предположение превращается почти в уверенность, если вспомнить, что в переговорах Церкви Англии и Русской Православной Церкви решающую роль играли работы его отца, Афанасия Ивановича Булгакова, а на бале в Спасо-Хаусе Михаил Афанасьевич скорее всего своими глазами увидел создателя общества Туле профессора Карла Хаусхофера и коменданта Бремена Вильгельма Кейтеля.
В том то и дело, что помимо конкретных исторических форм история имеет и духовное, и я бы даже сказал религиозное содержание. Например в рунете живет и размножается масса спекуляций на тему того, что было бы если бы Николай II не стал объявлять всеобщую мобилизацию в ответ на вполне разумное требование Австро-Венгрии о допуске австрийских полицейских к расследованию убийства эрцгерцога Франца-Фердинанда. На самом деле в той ситуации, когда этой войны хотели абсолютно все, речь могла идти только об отсрочке, причем очень не большой отсрочке, тем более что за спиной у Гаврилы Принципа маячили не только и даже не столько "черная рука Аписа", сколько теософы Вагнеровского общества и Бальфуровского кабинета. Зато переход в Православие Церкви Англии, главой которой была королева Виктория, а затем основатель династии Виндзоров Едвард VII, несомненно поменял бы саму суть мировой политики. Как минимум, (как минимум!) испарилась бы без следа традиционная английская поддержка мусульманских богослужений в Святой Софии, а "Гебен" и "Бреслау" врядли бы прорвались в Стамбул в августе 1914 года.
Более того, радикально изменились бы интересы великих держав, те самые которые государству заменяют друзей. Действительно, если посмотреть ретроспективно на вторую половину 19-го века и начало 20-го, то трудно избавиться от впечатления, что все это время "история" неустанно работала над разрушением монотеистических Империй: Русской, Германской, Австро-Венгерской и Турецкой. В Российской Империи она создала то, что я называю кризисом артикуляции, лишив Православную Империю языка для адекватного времени выражения своей наиболее сакральной части, и попыталась насадить вместо него чуждый русским великодержавный шовинизм, временами напоминающий нацизм, оборотной стороной которого в многонациональной Империи оказалась весьма причудливая смесь всевозможных национализмов и самого безудержного интернационализма. В Германии "история" разрушала наследие Бисмарка - культуркампф, замещая протестантизм не католичеством, а всевозможными видами гностических сект, а в Австро-Венгрии она руками антиправославной атеистической "Млады босна" и венгров в лице эрцгерцога Франца-Фердинанда убила Империю, в которой славяне и чехи получили бы равноправие, но католичество сохранило бы свое влияние. А Турции "история" расправилась с традиционным исламом в лице таррикатов, например бекташей, и насадила откровенно масонские ложи, арабский национализм и тщательно выращенный в Катаре ваххабизм. Последний пример особенно ярко демонстрирует то, почему эту таинственную силу "истории" зачастую называют "англичанкой". По сути речь шла о разрушении любой организованной формы объединения людей на основе монотеистического мировоззрения авраамических религий.
Но перевес в балансе сил англичанки и всех этих Империй был очень неустойчив, так как все эти страны находились тогда в конечной стадии выхода из кризиса духовных основ своей государственности и если бы им это удалось, они совсем не обязательно вцепились бы друг в друга. А Россия могла стать лидером, как государство имевшее опыт сосуществования по крайней мере двух таких религий, поскольку я, в отличии от Солженицина, не могу считать опыт сосуществования с иудаизмом удачным.
И вот представьте себе, что в тот момент, когда эта таинственная англичанка уже празднует полную победу, она получает сокрушительный удар у себя дома, в единственной Империи, которая все это время набирала мощь: Церковь Англии начинает переходить в Православие, образуется англо-православное Оксфордское движение и Общество Ревнителей Единения Восточно-Православной и Англиканской Церквей, под покровительством Великой Княгини Елизаветы Федоровны, переход которой в Православие поддержала сама королева Виктория.
Но чуда не произошло: в церкви Англии активизировались старые анти-Византийские тенденции, да и Русская Церковь не смогла сделать шаг навстречу и перешагнуть через чисто политические и процедурные вопросы. Оксфордское движение из англо-православного превратилось англо-католическое, причем с отчетливым привкусом цистерианства - вековечного врага Православия. Конечно заинтересованный диалог продолжался, но было поздно: Европа вошла в штопор Мировой войны, как будто пресловутая англичанка сказала себе: "Все, пора, завтра будет поздно".
Причиной того, что две великие Церкви так и не смогли понять друг друга кроятся в различных трактовках взаимоотношений Христа и Пилата, и как следствие Церкви и Империи, корни которых в "Деяниях Пилата" - основной части апокрифического "Евангелия от Никодима", ставшего главным источником сведений об Иосифе Аримофейском - основателе Цекви Англии. Именно этим трактовкам посвящена работа Афанасия Ивановича Булгакова "О законности и действительности англиканской иерархии с точки зрения православной церкви." 1906, и роман Мастера "Евангелие от Воланда" в романе "Мастер и Маргарита", который через 30 лет написал его сын Михаил Афанасьевич Булгаков.
Я надеюсь, что я убедил вас, мои читатели, что любая попытка интерпретировать "Мастера и Маргариту" без учета этих факторов, является очередной выходкой кота Мура, который, по моему, последние 30 лет поставил себе задачей максимально изгадить русскую литературу. Кроме того, мне кажется очевидным, что роман как сталактит рос в течении долго времени и состоит из отложений гностических, сатирических и даже фарсовых, исторических, и вовсе апокалипсических, но единство действия этому роману придает балл Воланда, который на самом деле являлся баллом Буллита. И этот бал отбрасывает таинственный отблеск высокого искусства и на антихристианский роман о Христе, и на историю поистине роковой любви ведьмы и автора этого романа, человека без преувеличений одержимого, и на примус кота Бегемота, и на описание Москвы 1935 года, бывшей тогда столицей мирового антихристианства. Достаточно вспомнить, что за четыре года до этого был взорван Храм Христа Спасителя, а 15 мая 1932 Декретом правительства объявляется "безбожная пятилетка", поставившая цель: к 1 мая 1937 "имя Бога должно быть забыто на территории страны". Сдедует отметить, что пик репрессий пришелся как раз на 35 год. и хотя убийства священников, ставшие частью "Большого террора", превзошли безбожную пятилетку, но никогда раньше и никогда позже государство не ставило себе таких задач, а уже через 7 лет попыталось опереться на Православие в борьбе с нацисткой Германией. И именно в 1935 году что-то сломалось в этой тенденции и есть все основание полагать, что это было связано с событиями, описанными в "Мастере и Маргарите", поскольку, как я уже говорил, только удивительное ощущение доподлинности описываемых событий и фонтанирующий из каждой строчки метафизический реализм, делает этот роман великим произведением искусства.
Прежде всего следует сказать, что Уильям Буллит имел репутацию визионера, чьи отчеты неоднократно поражали даром предвидения Государственный департамент и коммиссии Конгресса США. В частности он до этого балла в 1935 году достаточно упорно предвидел будущее, в деталях описанное в 1923 году в романе "Трест «Д. Е.»" другим визионером Ильей Эренбургом. За исключением того, что у Ильи Эренбурга страной безудержного нацизма и фашизма оказалась Франция, а не Германия.
Я уже писал, что предположение о том, что балл Воланда является аллегорическим рассказом о событиях имевших место быть в Спасо-Хаус 24 апреля 1935 года. Это позволяет не только лучше понять замысел Булгакова, но и вспомнить, что тогда происходило в мире. В частности есть очень серьезные основания полагать, что поводом к сбору сильных мира сего в американском посольстве в Москве у знаменитого визионера Уильяма Буллита был провал фашистского переворота во Франции 6 февраля 1934 года, который в случае удачи несомненно направил бы события в русло обрисованное Ильей Эренбургом в "Тресте «Д. Е.»"(весьма примечательно, что соответствующей статьи уже нет в русской википедии). А через год, то есть за 3 месяца до балла Буллита (Воланда) Гитлер выбросил в помойку Версальский договор и начал открыто строить флот и ВВС, причем Англия предпочла с этим согласиться. А еще через три месяца были приняты рассовые законы Нюренберг, а а ученик присутствовавшего на бале профессора Карла Хаусхофера Рудольф Гесс стал заместителем Гитлера. Это я так, к вопросу о многовариантности истории. Кстати именно Буллит в 1939 году был первым, кто в одном из своих предвидений представленных Конгрессу США употребил слово "холокост" и настоял на ускоренной разработке и внеочередной передаче Франции нескольких сотен фронтовых бомбардировщиков "Ду́глас ДБ-7 Бо́стон", который вполне могли бы предотвратить прорыв немецких танков в Бельгии, осцществленный под руководством еще одного гостя балла Вильгельма Кейтеля.
Хочу особо отметить, что ситуация с Англиканской Церковью только что на моих глазах повторилась, когда была торпедирована первоначально весьма успешная попытка Митрополита Американской Православной Церкви Ионы Паффхаузена привести к Православию "англикан" в США. Причем Коровьев и Бегемот этим точно занимались, когда Собор, якобы единогласно проголосовавший за отставку Митрополита , был проведен методом телеконференции. Иерархам некогда из-за таких пустяков съезжатся, а то, что теперь никто не хочет признаваться в участии в этом "соборе", так это просто пустяки. Прямо хоть продолжение "Мастера и Маргариты" пиши (правда меня все на Шеспира тянет - см. Комедию ошибок). А для того чтобы усугубить ощущение актуальности вопроса о христианском значении "Мастера и Маргариты" предлагаю всем ознакомиться с комментариями людей, которые жаждут обнаружить своих родственников в списке гостей Уильма Буллита в 1935 году, хотя по моим сведеньям на баллу у Буллита были только родственники самой Маши Гессен и Александра Гольдфарба. Кстати мне кажется, что они все на самом деле хотят оказаться гостями не Буллита, а Воланда. Я прямо вижу, как они все стоят в очередь целовать посиневшее правое колено обнаженной женщины, роковую красоту которой не может испортить ведьмино косоглазие и даже будто усиливает хищный оскал и жестокостю и буйность черт. Какие собственно еще нужны доказательства связи балла Волланда с баллом Буллита. Вот он идет, не скрываясь, на нащих глазах, сегодня, сейчас.
Как Вы сами понимаете, ключ к пониманию романа является список гостей балла Буллита, который до сих пор не может превзойти ни один депломатический прием в мире, котоый продолжают вспоминать в Дипкорпусе Москвы и специалисты в геополитике. Причем широкой публике ( в том числе и мне) этот список до сих пор неизвестен, за исключением жертв борьбы за власть в Москве в последующие 3 года, и только случайно всплываюшие документы позволяют узнать, о присутствии на нем то Радека и Олбрехта, то Роберт Оппенгеймера. И, поскольку такого рода баллы ну никак не могут ограничиваться военно-политическими вопросами и на нем несомненно присутствовали ведущие художники и ученые мира, то я позволю себе озвучить слух, что именно на этом баллу Борис Яковлевич Подольский обсудил с Натаном Розеном публикацию парадокса ЭПР и его будущую работу в пустыне Негев, а с Буллитом осенний семестр в университете Цинцинати. В результате Розен поехал в Киев, а Подольский ради этого университета покинул Украинский физико-технический институт, который тогда опережал Институт Макса Планка и Кавендишскую лабораторию, и где 10 октября 1932 года впервые расщепили ядро атома. Вот такой вот Абадонна был у Буллита в загашнике. А может быть это был не его загашник.
T
https://abrod.livejournal.com/322451.html?utm_referrer=https:%2F%2Fzen.yandex.com
|
Метки: булгаковы |
15 февраля: петлюровцы устроили крупнейший еврейский погром времен Гражданской войны |
День в истории. 15 февраля: петлюровцы устроили крупнейший еврейский погром времен Гражданской войны

В этот день исполняется 100 лет со дня проведения одной из крупнейших боевых операций петлюровских войск — еврейского погрома в городе Проскурове. Это был первый случай целенаправленного уничтожения «нетитульного» населения ради строительства «украинской Украины».
До этого на территории, занятой петлюровцами, бывали погромы с большим количеством человеческих жертв, но их целью были грабежи и насилие. В Проскурове же, где на момент бойни евреи составляли половину из 50-тысячного населения, случилось то, что три десятилетия спустя будет определено как геноцид. И, стало быть, те, кто прославляют Петлюру и его войско (включая нынешних президента и нардепов), соответственно, признают право на геноцид для осуществления своих целей.
Сам штаб Петлюры в те дни находился в Виннице, куда головной атаман и его кабинет бежали из Киева. Он передвигался на поезде по Подольской губернии. В Проскурове же незадолго до погрома объявилась Запорожская казачья бригада во главе с Иваном Семесенко, не успевшая себя проявить в общении с местным населением и располагавшаяся в вагонах на железнодорожной станции.
Главным объяснением погрома со стороны украинского войска и местных властей было то, что проскуровские большевики попытались накануне устроить «антиукраинское» восстание. Местные большевики действовали в одиночку без поддержки.
Первым делом восставшие захватили почту и телеграф и арестовали коменданта Киверчука, зная его, как опасного черносотенца и погромщика. Теперь же он из русских националистов перешел в украинские. В центре города в одной из квартир дома Трахтенберга повстанцы открыли свой штаб. Часть из них отправилась в казармы 15-го Белгородского и 8-го Подольского полков, постоянно дислоцированных в Проскурове. Там они разбудили спавших солдат и объявили им, что восстание началось и что органы большевистской власти уже формируются.
Разагитированные солдаты арестовали своих офицеров, а равно и тех солдат, которые были против выступления. Они захватили полковое оружие и выступили по направлению к вокзалу, где открыли огонь по вагонам, в которых находились казаки Семесенко. Но когда те покинули вагоны, и пришедшие солдаты убедились в их многочисленности, они отступили к своим казармам. Казаки последовали за ними и начали обстреливать казармы. Тогда солдаты отступили к Фельштину и Ярмолинцам, а затем рассеялись по разным местам и, таким образом, скрылись от преследования. Успели бежать и организаторы выступления.
Восстание закончилась провалом, и победители взялись определить и карать виновных в мятеже. Городской голова и председатель городской думы увидели подъехавшего к комендатуре освободившегося после бегства охраны коменданта Киверчука и от него узнали, что он был арестован. На вопрос, кто его арестовал, комендант ответил: «Жиды — члены квартальной охраны». Он прибавил, что с ними заодно выступил его ординарец, которого Киверчук «только что собственноручно застрелил».
Атаман Семесенко при поддержке Киверчука вступил в исполнение обязанностей начальника гарнизона.
«Свое вступление он ознаменовал пышным угощением гайдамаков и казаков и за обедом угостил их водкой и коньяком. По окончании трапезы он (Семесенко — А. Г.) обратился к гайдамакам с речью, в которой обрисовал тяжкое положение Украины, понесенные ими труды на поле сражения и отметил, что самыми опасными врагами украинского народа и казаков являются жиды, которых необходимо вырезать для спасения Украины и самих себя. Он потребовал от казаков присяги в том, что они выполнят свою священную обязанность и вырежут еврейское население, но при этом они также должны поклясться, что они жидовского добра грабить не будут», — сообщается в докладе представителя Российского отделения Красного Креста А. И. Гиллерсона (ГА РФ. Ф. Р-1318. Оп. 24. Д. 17. Л. 30-46.).
Казаки Запорожской бригады были приведены к знамени и принесли присягу, что будут резать, но не грабить. Когда один полусотник предложил вместо резни наложить на евреев контрибуцию, то Семесенко пригрозил ему расстрелом. Нашелся также сотник, который заявил, что он не позволит своим подчиненным резать невооруженных людей. «Запорожцы», как описывает Гиллерсон, выстроившись в походном порядке, с музыкой впереди и санитарным отрядом позади, отправились в город и прошли по Александровской улице. Там они разбились на отдельные группы и рассыпались по боковым улицам и переулкам, сплошь населенным евреями.
Особую подлость этому мероприятию придало то, что погром проходил в субботу, когда евреи отмечали шабат и заведомо не могли оказать сопротивление. «Правоверные евреи с утра отправились в синагогу, где помолились, а затем, вернувшись домой, сели за трапезу. Многие, согласно установившемуся обычаю, после субботнего обеда легли спать.
Рассыпавшиеся по еврейским улицам казаки группами от 5 до 15 чел. с совершенно спокойными лицами входили в дома, вынимали шашки и начали резать бывших в доме евреев, не различая ни возраста, ни пола. Они убивали стариков, женщин и даже грудных детей. Они, впрочем, не только резали, но наносили также колотые раны штыками. К огнестрельному оружию они прибегали лишь в том случае, когда отдельным лицам удавалось вырваться на улицу. Тогда им вдогонку посылалась пуля», — сообщается в докладе Гиллерсона.
Погромщики зарубили пытавшегося образумить их православного священника Климентия Васильевича Качуровского, который, однако, успел спрятать еврейских детей от расправы. «По ошибке», по словам коменданта Киверчука, подверглись нападению военнослужащих и несколько христианских жилищ.
Вот лишь несколько свидетельств чудом выживших. По словам свидетеля Шенкмана, казаки убили на улице около дома его младшего брата, а затем ворвались в дом и раскололи череп его матери. Прочие члены семьи спрятались под кроватями, но когда его маленький братишка увидел смерть матери, он вылез из-под кровати и стал целовать ее труп. Казаки начали рубить ребенка. Тогда старик-отец не вытерпел и также вылез из-под кровати, и один из казаков убил его двумя выстрелами. Затем они подошли к кроватям и начали колоть лежащих под ними. Сам он случайно уцелел. Свидетель Маранц сообщал, что в доме его друга Авербуха было убито пять человек и четверо тяжело ранено. Когда он обратился к соседям-христианам, чтобы те помогли ему перевязать раненых, то только одна крестьянка согласилась оказать ему помощь. Прочие от оказания помощи отказались.
К дому Зельмана казаки подошли стройными рядами с двумя пулеметами. С ними была сестра милосердия и человек с повязкой Красного Креста, доктор Скорник, вместе с сестрой милосердия и двумя санитарами. Когда одна сестра крикнула ему: «Что Вы делаете, ведь на вас повязка Красного Креста!», он сорвал с себя повязку и бросил ей. И продолжал резать. Скорник, вернувшись после резни в свой вагон, хвастался, что в одном доме им встретилась такая красавица-девушка, что ни один гайдамак не решился ее зарезать. Тогда он собственноручно ее заколол.
А вот как описывал происшедшее один из погромщиков, ставший потом классиком украинской советской литературы, Владимир Сосюра:
«Старшины говорили, что это евреи сагитировали белгородцев (поддержавших восстание солдат Белгородского полка — В. С.). Говорили, что казаки первого куреня поклялись под флагом денег не брать, а только резать. Они пошли в город и вырезали почти всю проскуровскую еврейскую бедноту. Портных и сапожников. В буржуазные кварталы они не заглядывали. Был один казак, который знал еврейский язык. Он подходил с товарищами к запертой двери и обращался к перепуганным жителям на еврейском языке. Ему открывали…
Одной гимназистке воткнули между ног штык… А расстреливали так: стреляют и смотрят не так, чтобы попасть смертельно, а как-нибудь, дают залп и наперегонки бегут к еще живым расстрелянным. И хватают из одежды то, что перед залпом каждый наметил на своей жертве» (Володимир Сосюра, «Третя рота», К., «Знання», 2010).
К вечеру погром в Проскурове сбавил интенсивность и пререшел в соседнее местечко Фельштин. Там подручные Семесенко «работали» в воскресенье.
По распоряжению Семесенко жертвы субботней резни должны были быть погребены в понедельник. Таким образом, погибшие оставались в домах и валялись на улицах с субботы до понедельника. Много тел было изгрызено свиньями.
17 февраля с утра многочисленные крестьянские подводы с останками направились к еврейскому кладбищу. На кладбище, по словам свидетеля Финкеля, появились мародеры, которые под разными предлогами подходили к трупам, ощупывали их и грабили. Находили женщин с отрезанными на руках пальцами, на которых, очевидно, были кольца. Заполнение братских могил длилось до позднего вечера.
В 1926 году в Проскурове поставили памятник жертвам погрома, который стоит до сих пор.
По приблизительному подсчёту уполномоченного Отдела помощи погромленным при РОКК на Украине А. И. Гиллерсона, в Проскурове и в его окрестностях было всего убито свыше 1200 человек, кроме этого, умерла половина из более 600 раненых.
Сразу после погрома вышел «Наказ по Запорожской Казацкой Бригаде Украинского Республиканского Войска имени Головного Атамана Петлюры» от 16 февраля 1919 г., изданный в Проскурове атаманом Семесенко.
В нем говорилось: «Предлагаю населению прекратить свои анархические взрывы, поскольку с вами у меня достаточно сил бороться; это более всего относится к жидам. Знайте, что вы народ всеми нациями не любимый, а вы устраиваете такое бесчинство между крещенным людом. Разве вы не хотите жить? Разве вам не жаль своей нации? Если вас не трогают, то сидите молча, а то такая несчастная нация баламутит бедный люд». В том же наказе Семесенко приказывает в трехдневный срок переписать все вывески по-украински: «Чтобы я ни одной московской вывески не видел. Вывески должны быть написаны литературно, заклейка букв строго воспрещается. Виновные в этом будут предаваться военному суду».
В тот же день был выпущен и другой наказ, в котором Семосенко пишет, что «в ночь с 14 на 15 февраля какие-то неизвестные бессовестные, нечестные люди подняли восстание против существующей власти. Люди эти, по имеющимся сведениям, принадлежат к еврейской нации и хотели забрать в свои руки власть, чтобы произвести путаницу в государственном аппарате и повести столь много перестрадавшую Украину к анархии и беспорядку. Были приняты самые решительные меры, чтобы восстание было подавлено. Возможно, что между жертвами есть много невинных, так как ничто не может быть без ошибки. Но кровь их должна пасть проклятием на тех, которые проявили себя провокаторами и авантюристами». Вам это ничего не напоминает?
Для расследовагния погрома из Каменца в Проскуров была командирована комиссия. Но Семесенко, как показывает свидетель, гласный городской думы Верхола, эту комиссию расформировал и назначил свою комиссию для расследования не погрома, а… большевистского выступления.
Трудно удержаться от того, чтобы не сравнить и обвиенние жертв, и следственные действия украинских властей с реакцией на события в Одессе 2 мая 2014 года…
Одним из наиболее деятельных членов этой самой комиссии оказался гайдамак Рохманенко, настоящая фамилия которого была Рохман. Будучи евреем, он поступил, по его собственным словам, в гайдамаки в качестве добровольца. Но он был персонаж, по оценке Верхолы, малоинтеллигентный, нуждающийся и живший раньше на средства, которые он добывал уроками иврита. Этот Рохман, как сообщал свидетель Штер, арестовывал преимущественно сыновей богатых родителей и через еврея Прозера, у которого он проживал на квартире, получал за них выкуп.
Верхола произвел обыск у Рохманенко, отобрал у него 18 тыс. рублей наличными, арестовал его и на допросе принудил сознаться в шантажах и вымогательствах. При этом Рохманенко объявил, что полученные им взятки он большею частью передавал начальнику штаба бригады Гаращенко.
Следственное производство велось вяло, хотя имена погромщиков были хорошо известны и комиссии, и городской общественности. Рохманенко, будучи в тюрьме, хвастал, что никто не смеет предать его суду, что он скоро будет свободен и жестоко отомстит своим врагам. Когда началась эвакуация петлюровцев из Проскурова, решено было перевести Рохманенко из общей тюрьмы в другое место, так как опасались, что его друзья его освободят и увезут. Тогда кто-то из личной мести его застрелил. (И вновь напрашиваются параллели с сегодняшним днем: персонажи, подобные Геннадию Корбану, Александру Ройтбурду или Дмитрию Гордону, проявляли себя и сто лет назад).
Как отнесся к действиям Семесенко и его подчиненным Симон Петлюра?
«Доктор Абрахам Салитерник, лечивший Семесенко от «нервного расстройства» венерического происхождения, и атташе Датского Красного Креста Хенрик Пржановский утверждают следующее. Первый говорит о том, что на второй день погрома его пациент был вызван на станцию для доклада к прибывшему туда Верховному, что его явно встревожило, но вернулся он в хорошем настроении.
Второй (Пржановский) в тот же день добился аудиенции у Петлюры, «во время которой Семесенко ворвался в комнату с возгласом: «Согласно приказу Верховного Атамана, я начал погром в 12:00 дня. Четыре тысячи зарегистрированных евреев уничтожено». С.Петлюра был очень смущен, бросил на Семесенко злобный взгляд и попытался перевести разговор на тему о большевистском восстании в городе. Стоя у стола, он спросил: «Чего большевики хотели?» И опять Семесенко, не уловив хода С.Петлюры, ответил: «Евреи ничего не хотели». С.Петлюра выпроводил Семесенко и попросил Пржановского «забыть то, что он слышал», — говорится в архиве И. Чериковера.
Сам Петлюра в своей последней книге, изданной за несколько месяцев до смерти, писал: «Когда же вспомнить об украинских жидах, то много из них тоже на большевицкую сторону подались, надеясь, что здесь они наверх выплывут, силу будут иметь, на первые места достучатся. В старину им путь не давали, то они думали, что за большевиков самыми старшими станут. Так вот много жидов, а особенно молодых — сопливых, побольшевичились и коммунистами сделались». (Петлюра С. Московська воша, Париж, 1926, стр. 25-26).
Как же относятся к этому событию современные националисты?
Издание Depo.Хмельницкий пишет так: «Провокация большевиками евреев к вооруженной борьбе против УНР повлекла восприятие евреев как антиукраинской силы. Инициаторы восстания бежали, а пострадало мирное еврейское население. Более того, было активное участие части евреев в вооруженных выступлениях против власти УНР с целью ее свержения, как это имело место во многих населенных пунктах Украины, в частности в Проскурове».
В апологетической литературе можно встретить упоминание о том, что Петлюра расстрелял Семесенко. Да, расстрелял, но вовсе не за погром, а за кражу казенных денег. В общем, борьба с коррупцией, как и сегодня, превыше межнационального согласия.
Сам Петлюра, как известно, был застрелен в Париже евреем Самуилом Шварцбардом. Не секрет и то, что суд оправдал убийцу после того, как были представлены свидетельства о погромной деятельности подчиненных Главного атамана войск УНР. Но, пожалуй, основным аргументом в пользу Шварцбарда было его происхождение — он был родом из Проскурова и 15 февраля 1919 г. стал черным днем для его собственной семьи.
Самого же города Проскурова сегодня не отыскать на карте. В 1954 г., в честь «300-летия воссоединения Украины с Россией» он был переименован в Хмельницкий. Известно, что казацко-крестьянское восстание, вошедшее в историю как Хмельниччина, сопровождалось массовым избиением еврейского населения восточных окраин Речи Посполитой.
Источник: https://sem40.co.il/310521-den-v-istorii-15-fevral...vremen-grazhdanskoj-vojny.html
- Вперёд soteric4u.com/esoteric-materialy/evreiskii-voporos-i-antisemitizm/2132-den-v-istorii-15-fevralya-petlyurovtsy-ustroili-krupnejshij-evrejskij-pogrom-vremen-grazhdanskoj-vojny
|
Метки: гражданская война украина штер |
Овсянниково |
Овсянниково
Подробности
Опубликовано 22.07.2016 06:39
Овсянниково. Прямые дороги в Овсянниково - через Ложки и Майдарово. Но они используются мало. Основная дорога в село сейчас идет из-за Клязьмы, по мосту, со стороны Литвиново. По ней в Овсянниково и окрестности прибывают машины многочисленных дачников. От старины в селе остался один маленький усадебный парк.
В исторических документах Овсянниково впервые упоминается и 1504 году. Уже тогда оно было селом, а значит, в нем находилась церковь. Так же вероятно, что уже в те годы в селе находилась усадьба вотчинника, владевшего Овсянниковым и его окрестностями. В 1504 г. оно принадлежало Волку Григорьевичу Курицыну. В те годы многие представители российской аристократии носили дни имени - мирское, общеупотребительное, и то имя, которым их нарекли при крещении. Церковным именем дьяка Волка Курицына было - Иоанн. Он играл достаточно важную роль во внешней политике Руси в годы правления Великого князя Иоанна III, но связался с новгородскими еретиками. Некоторое время еретики обладали большим политическим весом. Им даже удалось провести на пост митрополита Московского своего кандидата - Зосиму. Но позже позиции еретиков поколебались, а в начале XVI века их противники, возглавляемые Иосифом Волоцким, добились их осуждения. Как один из ярых приверженцев ереси Волк Курицын в 1504 году был сожжен в срубе. Вероятно, его владения вскоре были отписаны на Великого князя. Но позже село вновь перешло в частные руки.
В начале XVII века селом владел Юрий Быков. Как известно, Быковым принадлежали селения в этих местах еще в начале XVI века. В годы катаклизмов начала XVII века они расстались с большинством этих владений. Так и Юрий Быков в 1628 году продал сельцо (церковь, вероятно, была уничтожена в Смутное время) Овчинниково Василию Ларионову. В 1629 году село уже принадлежало его детям Михаилу и Ивану. Писцовая книга 1629 года подробно описывает село того времени. На горке, над скатом холма, ведущим к Клязьме, стояла деревянная клетская церковь во имя Николай Чудотворца, а "в церкви образы, и книги, и ризы, и колокола, и всякое церковное строение вотчинниково". Очевидно, храм построили Ларионовы сразу после покупки сельца. Рядом с церковью находились три двора церковного причта. Здесь же располагались постройки двора самих вотчинников. Неподалеку, к югу от церкви, стояли пять дворов крестьян и бобылей.
В руках Ларионовых Овсянниково находилось не очень долго. Уже в 1670 году село принадлежало стольнику Петру Дубровскому, а после смерти последнего досталось его сыну Федору. Федор Петрович Дубровский принадлежал к числу лиц, приближенных к царевичу Алексею Петровичу. По этой причине во время следствия по делу царевича в 1718 году Дубровский был подвергнут репрессиям, а принадлежавшие ему имения, в том числе и Овсянниково, были отписаны на государя. Однако император мало заботился о своем владении. Священник церкви перестал получать ругу (жалование от вотчинника), а после того, как Никольский храм в 1719 году сгорел, вообще ушел из села.
В государственной собственности село пробыло недолго. В 1719 году Петр I пожаловал его А. И. Ушакову. Этот человек был одним из наиболее примечательных людей своего времени. Родился он в 1672 году. Отец его принадлежал к числу небогатых дворян, и Андрею Ивановичу пришлось пробиваться самостоятельно. Петр I вскоре отметил даровитого дворянина. В 1714 году майор Ушаков был назначен "тайным фискалом" по надзору за строительством кораблей. Он с поразительным рвением занялся поиском казнокрадов. Его успешное продвижение по служебной лестнице было обеспечено. В 1722 году он уже был генерал-майором. В 1729 году политический вес Ушакова настолько возрос, что он был привлечен к переговорам о наследнике Екатерины I. Высказавшись против брака Петра II и дочери всесильного Александра Даниловича Меньшикова, Ушаков, казалось, совершил ошибку - Меньшиков сумел расправиться с противниками. Но в том же году по наущению Долгоруких малолетний император Петр II лишил Меньшикова всех чинов и сослал его в Сибирь. В следующем, 1730 году, после смерти Петра II Ушаков подписался под прошением дворянства, адресованным Анне Иоанновне, в котором дворяне выступали просив попытки ряда представителей российской аристократии -"верховников" - ограничить императорскую власть. Заслуги в борьбе с "верховниками" были отмечены званием сенатора, которое в том же 1730 году получил Ушаков. В 1731 году он был назначен начальником Канцелярии тайных розыскных дел. Это учреждение являлось историческим предшественником широко известных ВЧК, НКВД и подобных им ведомств. Стоя во главе канцелярии Андрей Иванович Ушаков ревностно занимался поисками изменников. Например, он принял очень активное участие в розыске по делу Волынского. После смерти императрицы Ушаков поддерживал Бирона, но и после его свержения сохранил свое влияние, оказавшись в милости у императрицы Анны Леопольдовны. Государственный переворот 1741 года, приведший к власти новую императрицу - Елизавету Петровну - так же не затронул Ушакова. Он знал о деятельности заговорщиков, но ни помогал, ни препятствовал им. В результате в состав нового Сената, созданного Елизаветой после переворота, вошел только один человек, носивший звание сенатора до 1741 года - Андрей Иванович Ушаков. А его Канцелярия тайных дел занялась розысками по делам Остермана и других недавно влиятельных персон. В 1744 году Ушаков был возведен в графское достоинство. Умер он в 1747 году.
Овсянниково недолго принадлежало Ушакову - его борьба с Меньшиковым в 1729 году стоила Андрею Ивановичу имения. Оно было реквизировано. На возвращении села после свержения Меньшикова Ушаков не настаивал. Между тем отобранное у Ушакова село было в 1729 году пожаловано доктору Антону Филипповичу Севасто. Севасто же в 1731 году продал Овсянниково.
Село досталось баронам Строгановым. Купивший его Григорий Дмитриевич Строганов был одним из богатейших людей Российской империи. Он владел огромными земельными угодьями на Урале и по берегам Камы, в бассейне Северной Двины и в других частях страны, финансировал многие из проектов Петра I. В 1731 году ему уже принадлежало соседнее Поворово. Возможно здесь, по дороге в новую столицу, Григорий Дмитриевич рассчитывал соорудить большую усадьбу. В 1740 году, после смерти отца и матери, их дети разделили свои владения. Овсянниково досталось старшему из братьев - Александру Григорьевичу. В своем подмосковном имении он бывал редко. По-европейски образованный человек он владел несколькими иностранными языками, много путешествовал по Европе.
В Овсянникове он соорудил новый деревянный Никольский храм, освященный в 1745 году. Сложно сказать, почему именно, но Александр Григорьевич отдавал предпочтение именно деревянным постройкам. В своей другой подмосковной усадьбе - Влахернском (ныне Кузьминки) - он так же построил деревянную церковь. От строгановской церкви в Овсянникове осталось только устное описание, сделанное в конце 1920-х годов. Это была кубическая одноглавая постройка с четверогранной шатровой колокольней. В декоре северного и южного фасадов - по два прямоугольных окна внизу, а выше одно небольшое восьмигранное окно - прослеживалось влияние барокко. Кроме того, в 1920-х годах, в храме сохранились богослужебные книги XVIII века со вкладными, среди которых, очевидно, были и дары Строгановых. С середины XIX века Никольская церковь была приписана к храму соседнего Стребуковского погоста. Богослужения в ней стали проводиться редко, осуществлял их причт Ильинской церкви.
В 1754 году Александр Григорьевич Строганов умер. Село досталось его вдове Марии Артемьевне, урожденной Загряжской. Она же владела Овсянниковым и в 1782 году. Дальнейшая история села изучена слабо. В 1798 году оно принадлежало И. Г. Чернышеву, в 1803 году - Н. И. Протасовой. К 1840-м годам Овсянниково приобрел статский советник Густав Осипович Левенталь - главный врач Императорской Павловской больницы в Москве (ныне 4-я городская клиническая больница) р старейшего лечебного учреждения столицы для гражданских лиц. В те годы в селе в 24 дворах жило 136 крепостных Левенталя. В середине XIX века усадьбу перестроили. Были возведены новые деревянные постройки. Позже Овсянниково продолжало переходить из рук в руки. Перед 1917 годом усадьба принадлежала Н. П. Штер.
В 1918 году усадьба Овсянниково была национализирована. Достойного хозяина для нее не нашлось, а потому вскоре усадебные постройки разрушились. В конце 1920-х годов еще существовали деревянные служебные постройки середины XIX века, а также запущенный парк со следами куртин. По статистическим данным 1926 года, в селе в 58 дворах жило 284 человека. В селе действовала начальная школа, был образован Овсянниковский сельсовет. В ходе коллективизации был создан колхоз "Овсянниково".
В 1941 году отступавшие оккупанты дотла выжгли село. Вскоре после этого была раскатана и сельская церковь. После ряда укрупнений колхозов замерла сельскохозяйственная деятельность непосредственно в селе. Была закрыта школа, прекратил свое существование Овсянниковский сельсовет. Постепенно стало сокращаться число сельских жителей.
В настоящее время Овсянниково - типичное дачное место. Постоянно живущих жителей в нем нет, большая часть сельских домов куплена дачниками. Кроме того, немало коттеджей построено на окраинах села. Роль композиционного центра селения сейчас выполняет большой, в три этажа каменный дом, построенный на церковном участке. Частично сохранился усадебный парк, в настоящее время постепенно застраиваемый.http://news.k1812.ru/index.php/peshkovskoe/166-ovsiannikov
|
Метки: дворянские владения штер |
село Овсянниково |
|
|||||
село Овсянниково |
|||||
|
|
|||||
|
В Санниковской округе много деревень. Каждая имеет свою историю. Название села Овсянниково имеет две гипотезы: село, вокруг которого сеяли в старые времена овсы - зерновая культура, что дает большие урожаи в округе. Иначе, зачем сеять? Исследования последних 20 лет (уже наша современность) говорят о том, что в округе Овсянниково овсы почти не сеяли из-за иИзкой урожайности. Сеяли рожь в небольшом количестве, а ячмень занимал все площади. второе объяснение названия более приемлемо: овес —> овсяк —> овсюг —> ячмень в глазу (из греческого языка). Село находится в трех километрах от центральной дороги, которая соединяет основные населенные пункты бывшего стародубского княжества (Клязьминский городок, Репники, Пантелеево) и ведет к Нижнему Новгороду через Вязники и Мстеру. Село небольшое, хотя в прежние времена (18-19 века) жителей было 700 человек, из них 400-мужского пола. А в настоящИй момент осталась одна жительица села -Малинина Вера Ивановна , а остальные-дачники. Первое упоминание о селе в документах относится к 1572 году, когда в духовной царя Ивана Грозного(завещании) при перечислении принадлежащих государю вотчин «в стародубе-ряполовском» говорится о « селе Овсянникове, что было князь Андрея Кривозерского с братию». Этот факт говорит о многом. Конечно же, Овсянниково находилось в границах прежнего стародубского княжества, которое в конце 15-го века окончательно распалось на отдельные вотчины. Князья Кривоборские-Кривозерские являлИсь старшей ветвью стародубской княжеской династии. Князь Андрей Иванович Кривоборский служил воеводой прИ Иване Грозном. После начала опричнины князь Андрей И его братья ВасилИй, Федор и Василий Меньшой были сосланы царем в казанский край, откуда позже возвратились обратно. При царе Михаиле Федоровиче село Овсянниково получил в поместье дворянин Захарий Фомич Толмачев. В поместье упоминается церковь «Николы Чудотворца», с которой дани платилось 20 алтын. Церковь эта была деревянной и, видимо, далеко не первой по времени. В начале 1660-х годов Овсянниково перешло к сыну Захара Фомича-Захару Захарьевичу Толмачеву. Он служил стряпчим при московском дворе до 1676 года. В грамоте 1667 года «упоминается поместья Захара Захарьевича сына Толмачева села ОвсяннИкова староста Емельян Григорьев». Помещики Толмачевы сохраняли Овсянниково за собой до 18-го века. В погосте Нерёдичи, что находился в 10 верстах от Овсянниково, еще в 1870-е годы рассказывали легенду о том, как Овсянниковский помещик Толмачев пытался перенести к себе в сельскую церковь чудотворную икону Святителя и Чудотворца Николая из часовни, принадлежащей нередическому погосту. Согласно легенде, совершить задуманное не удалось Толмачеву. Сколько бы ни переносили икону в Овсянниково, на следующий день она вновь возвращалась на прежнее место в часовню. В 1672 году Никольская церковь в Овсянниково перешла под руку суздальского архиепископа Стефана. После постройки нового храма выполнить требование Владимирской консистории и вернуть обратно соборную книгу с записями всех пожертвованИй овсянниковцы не смогли. В январе 1829 года эта книга сгорела во время пожара в доме церковного старосты, крестьянина деревни Прудищ Михаила Макарова. «Обживал» новый храм священник Григорий ИльинскИй. Далее в Казанской церкви села Овсянниково много лет священствовал Федор Филиппович ДмитриевскИй. Он так и скончался в Овсянникове и был погребен около восточной стены храма в июле 1885 года. Ф.Ф.Дмитриевский получал немалое количество благодарностей от святейшего синода и епархиального начальства, награждался набедренником и скуфьею, был депутатом первого благочинного округа ковровской округи. Отца Федора в Овсянникове сменил священник Василий Александрович Левицкий, служивший в Казанской церкви до 1892 года. Затем, вплоть до 1917 года, в том храме священствовал Владимир Васильевич Троицкий, тоже имевший награды, в том числе набедренник и скуфью. Поощрения от епархиального начальства неоднократно получали и овсянниковские церковные старосты и просто крестьяне, украшающие свой храм. К примеру, в 1914 году благословения от архиепископа Владмирского и Суздальского удостоились крестьяне приходской деревни Обращихи, Федор И Иван Игнатьевичи Сорокины, пожертвовавшие в храм церковную утварь и деньги на ремонт церкви. Владение Танеевых. В 1850-х годах село Овсянниково принадлежало помещице Наталье Гавриловне Танеевой, супруге коллежского секретаря Алексея Андреевича Танеева, которому, в свой черед, принадлежало в Ковровском уезде село Маринино. В списке населенных мест Ковровского уезда, составленном в 1857 году, в Овсянникове упоминается «господский дом госпожи Танеевой». Наталья Гавриловна Танеева в середине 1820-х годов приобрела у помещиков Хотяинцевых еще одно имение в Ковровском уезде - село Овсянниково с деревнями.В селе Овсянниково Танеевы даже выстроили господский дом. Сохранилось его описание конца 1840-х годов: «господский дом деревянный, новый, крыт тесом, в длину 6 сажен, в ширину 7 сажен, об одном этаже, в нем никаких особых украшенИй нет. К господскому дому принадлежат следующие строения: людская изба новая, в длину 4 сажени 2 аршина, в ширину 3 сажени, деревянная, крыта тесом. Амбар в длину 2 сажени 2 аршина, в ширину 3 с половиной сажени, деревянный, посредственный, крытый драницами». Однако в Овсянникове семейство Танеевых, по-видимому, не жило, бывая там наездами. Под залог именно Овсянниковского имения (всего 291 ревизская душа) Танеевы 21 марта 1849 года взяли ссуду в московской сохранной казне на общую сумму в 23 тысячи 510 рублей серебром.По видимому, на поддержание прежней роскошной жизни в Маринино у них уже не хватало средств. Сумма займа была достаточно велика: ковровский городничий получал жалованья 280 рублей 20 копеек в год. Однако вскоре платить проценты по займу Танеевы не смогли, и в 1852 году за недоимку в 1740 рублей овсянниковское имение было отдано в опеку. Опекуном стал бывший ковровский уездный судья -титулярный советник Павел Степанович Расков. Опека над овсянниковским имением продолжалась до 1857 года-года смерти А.А.танеева. Алексей Андреевич не служил по военной части и не носил офицерский мундир. При жизни отца он числился канцелярским чиновником в Москве в ведомстве экспедиции кремлевского строения. Сразу после кончины родителя он вышел в отставку с невеликим чином коллежского секретаря и зажил в Маринине богатым барином. С 1862 года Овсянниково стало центром новообразованной волости. В 1871 году волостных крестьян насчитывалось 1265 душ мужского пола, которые выплачивали в год 2542 рублей подушной подати, 6243 рубля выкупных платежей и 1087 рублей земских сборов. Доходы крестьянамИ получались не только от плодов хлебопашества и садоводства (в Овсянникове были вишневые и яблоневые сады) но и от традиционных отхожих промыслов, из которых главным был офенскИй -торговый. Продавали чаще иконы местного, мстерского и холуйского письма. Но к началу века, говоря об Овсянниковской волости, статистическИй справочник по Ковровскому уезду сообщал: «Офенство падает. Старики в дорогу не ходят, стары стали, а молодежь устремилась на фабрику Треумова, кроме того, хозяев не стало и плохи вообще заработки у офень». Другим часто встречающимся занятием среди овсянниковцев была работа по найму приказчиками в разных лавках у ковровских, шуйских и вязниковских купцов. Выгодные места зачастую передавались «по наследству» от отца к сыну, или от родного брата к другому. Из села шел постоянный отток населения, цифры статистики достаточно красноречивы: в 1837 году в Овсянникове жителей насчитывалось 193 человека, в 1847 -145, в 1857 - 141, в 1895 - 81, в 1904 - только 55 человек (И на близлежащем хуторе «Иваниха» купца Демидова проживало еще 15 человек). Дворов в селе за тот же срок сократилось с 29-ти до 19-ти. Подобные же изменения происходили и в приходских деревнях. Население самой значительной из них, Обращихи, сократилось с 270 человек в 1837 году до 89 человек в 1904 году. И сегодня из шести бывших приходских деревень существует лишь две: Прудищи и Обращиха. Даже здание школы в Овсянникове построил в 1889 году и содержал таганрогскИй купец Конон Иванович Китаев. Выходец из деревни Яблонцы, К.И.Китаев разбогател на офенской торговле, вышел в купцы и осел в далеком южном городе, но о родном селе не забывал и ежегодно высылал на содержание школы по 100 рублей. Жалование учителю выплачивалось от Ковровского земства, которое выделяло на нужды овсянниковского училища в 1890-е годы по 280 рублей, а с 1900 года по 535 рублей в год. От 48 до 100 рублей доплачивало (по своему же приговору) крестьянское общество. Учительницей в Овсянникове была в начале Александра Ремезова, из гимназисток, затем Александра Одоранская, дочь священника погоста Нередичи. Ее сменила дочь овсянниковского батюшкИ Нина Владимировна Троицкая, выпускница Иваново-Вознесенской гимназии. Курс обучения в овсянниковском училище составлял три года, а количество учеников колебалось от 34 до 43 человек, из них абсолютное большинство составляли мальчики. С 1890 года Овсянниковская волость вошла во 2-ой земской участок Ковровского уезда, который включал в себя еще Алексинскую, Емельяновскую, Осиповскую, Санниковскую волости. Царем и богом в зтом участке 22 года был земский начальник Николай Васильевич Култашев. Большой барин, ведущий счет своим предкам от князей Владимира Святого и Владимира Мономаха, благодушный старичок, он считал себя либералом и судить-рядить подведомственных ему мужичков стремился «по-отечески». Среди крестьян Н.В.Култашев пользовался уважением и любовью. Впрочем, Николая Васильевича почитало и местное «светское» общество. В 1912 году он оставил пост земского начальника в связи с избранием на должность ковровского уездного предводителя дворянства. Н.В.Култашев успел получить генеральский чин (действительного статского советника) и, к своему счастью, не дожил до революции, скончавшись в январе 1915 года. Позже, в 1900 году, Овсянниковская волость была присоединена к Санниковской. Н.Фролов село Овсянниково |
|||||
|
|
|||||
http://www.historykr.edusite.ru/p28aa1.htm |
|||||
|
Метки: дворянские владения |
Овсянниково (Солнечногорский район) |
56°06′49″ с. ш. 37°07′58″ в. д.HGЯO
Овсянниково (Солнечногорский район)
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Перейти к навигации Перейти к поиску
У этого топонима есть и другие значения, см. Овсянниково.
| Деревня | |
| Овсянниково | |
|---|---|
| 56°06′49″ с. ш. 37°07′58″ в. д.HGЯO | |
| Страна |  Россия Россия |
| Субъект Федерации | Московская область |
| Муниципальный район | Солнечногорский |
| Сельское поселение | Пешковское |
| История и география | |
| Высота центра | 225 м |
| Часовой пояс | UTC+3 |
| Население | |
| Население | ↘0[1] человек (2010) |
| Цифровые идентификаторы | |
| Почтовый индекс | 141533 |
| Код ОКАТО | 46 252 831 016 |
| Код ОКТМО | 46 652 431 196 |

Овсянниково 
Москва Солнечногорск
Овсянниково 
Солнечногорск
Овсянниково |
|
Овсянниково — деревня в Солнечногорском районе Московской области России, входит в состав сельского поселения Пешковское. Население — 0[1] чел. (2010).
География[править | править код]
Деревня Овсянниково расположена на севере Московской области, в восточной части Солнечногорского района, примерно в 12 км к юго-востоку от центра города Солнечногорска, в 32 км к северо-западу от Московской кольцевой автодороги, на берегу реки Клязьмы.
Западнее деревни проходит федеральная автодорога M10 «Россия». К деревне приписано два садоводческих некоммерческих товарищества[2]. Ближайшие населённые пункты — деревни Есипово, Терехово и Шелепаново[3].
Население[править | править код]
| Численность населения | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1852[4] | 1859[5] | 1890[6] | 1899[7] | 1926[8] | 2002[9] |
| 136 | ↗149 | ↗219 | ↘184 | ↗284 | ↘1 |
| 2010[1] | |||||
| ↘0 | |||||
История[править | править код]
В 1745 году на средства А. Г. Строганова в Овсянникове была построена деревянная одноглавая церковь Николая Чудотворца с колокольней (закрыта в 1931 г., разрушена в начале 1940-х)[10].
Овсянниково, село 6-го стана, Левенталя, Густафа Осиповича, Статского Советника, крестьян 68 душ мужского пола, 68 женского, 1 церковь, 24 двора, 45 верст от Тверской заставы, проселком.
— Нистрем К. Указатель селений и жителей уездов Московской губернии, 1852 г.[4]
В «Списке населённых мест» 1862 года — владельческое село 6-го стана Московского уезда Московской губернии по правую сторону Санкт-Петербургского шоссе (из Москвы), в 45 верстах от губернского города, при колодцах и пруде, с 24 дворами, православной церковью и 149 жителями (76 мужчин, 73 женщины)[5].
По данным на 1890 год — село Дурыкинской волости Московского уезда с 219 душами населения[6].
В 1913 году — 47 дворов, мелочная лавка и усадьба Н. П. Штер[11].
По материалам Всесоюзной переписи населения 1926 года — центр Овсянниковского сельсовета Бедняковской волости Московского уезда в 2 км от Ленинградского шоссе и 6 км от станции Поворово Октябрьской железной дороги, проживало 284 жителя (131 мужчина, 153 женщины), насчитывалось 58 хозяйств, среди которых 56 крестьянских[8].
С 1929 года — населённый пункт в составе Солнечногорского района Московского округа Московской области. Постановлением ЦИК и СНК от 23 июля 1930 года округа как административно-территориальные единицы были ликвидированы.
1929—1954 гг. — село (позже — деревня) Есиповского сельсовета Солнечногорского района.
1954—1957, 1960—1963, 1965—1994 гг. — деревня Пешковского сельсовета Солнечногорского района.
1957—1960 гг. — деревня Пешковского сельсовета Химкинского района.
1963—1965 гг. — деревня Пешковского сельсовета Солнечногорского укрупнённого сельского района.
В 1994 году Московской областной думой было утверждено положение о местном самоуправлении в Московской области, сельские советы как административно-территориальные единицы были преобразованы в сельские округа.
1994—2006 гг. — деревня Пешковского сельского округа Солнечногорского района[12].
С 2006 года — деревня сельского поселения Пешковское Солнечногорского муниципального района Московской области[13][14].
Примечания[править | править код]
- ↑ 1 2 3 Численность сельского населения и его размещение на территории Московской области (итоги Всероссийской переписи населения 2010 года). Том III (DOC+RAR). М.: Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Московской области (2013). Проверено 20 октября 2013. Архивировано 20 октября 2013 года.
- ↑ Справочник почтовых индексов / кодов ОКАТО /налоговых инспекций ФНС / адресов. Налоговая справка. ifns.su. Проверено 18 ноября 2014.
- ↑ д. Овсянниково. Публичная кадастровая карта. Росреестр. Проверено 18 ноября 2014.
- ↑ 1 2 Нистрем К. Указатель селений и жителей уездов Московской губернии. — М., 1852. — 954 с.
- ↑ 1 2 Списки населённых мест Российской империи. Московская губерния. По сведениям 1859 года / Обработано ст. ред. Е. Огородниковым. — Центральный статистический комитет министерства внутренних дел. — СПб., 1862. — Т. XXIV.
- ↑ 1 2 Шрамченко А. П. Справочная книжка Московской губернии (описание уездов). — М., 1890. — 420 с.
- ↑ Памятная книжка Московской губернии на 1899 год / А. В. Аврорин. — М., 1899.
- ↑ 1 2 Справочник по населённым местам Московской губернии. — Московский статистический отдел. — М., 1929. — 2000 экз.
- ↑ Данные Всероссийской переписи населения 2002 года: таблица № 02c. Численность населения и преобладающая национальность по каждому сельскому населенному пункту. М.: Федеральная служба государственной статистики, 2004
- ↑ Церковь Николая Чудотворца в Овсянникове на сайте «Храмы России».
- ↑ Населённые местности Московской губернии / Б. Н. Пенкин. — Московский столичный и губернский статистический комитет. — М., 1913. — С. 48. — 454 с.
- ↑ Справочник по административно-территориальному делению Московской области 1929—2004 гг. — М.: Кучково поле, 2011. — 896 с. — 1500 экз. — ISBN 978-5-9950-0105-8.
- ↑ Закон Московской области от 21.01.2005 № 27/2005-ОЗ «О статусе и границах Солнечногорского муниципального района и вновь образованных в его составе муниципальных образований» (принят постановлением Мособлдумы от 29.12.2004 № 8/123-П, первоначальная редакция). Проверено 29 сентября 2014.
- ↑ Постановление Губернатора Московской области от 29.11.2006 № 156-ПГ «Об исключении сельских округов из учётных данных административно-территориальных и территориальных единиц Московской области». Проверено 17 апреля 2014.
Ссылки[править | править код]
- Овсянниково. История района. По материалам книги «Солнечногорье — страницы истории». Официальный сайт сельского поселения Кутузовское Солнечногорского района Московской области. Проверено 18 ноября 2014.
|
|
|||
Источник — https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Овсянниково_(Солнечногорский_район)&oldid=94405052
|
Метки: дворянские владения штер |
городские прогулки. |
| Галишникова Татьяна | 02.12.09 15:41:05 |
| городские прогулки. Чуть в сторону от Старого Арбата 1 часть |
Время отдыха: ноябрь 2009
Последнее воскресение ноября выдалось на редкость теплым и солнечным. Я продолжаю свои прогулки по Москве, узнаю много нового и необычного. Впечатлений много, хочу поделиться с форумчанами, не взыщите, если что.
Рассказ, похоже, будет длинным, как ни старалась, короче не получается, поэтому я разделю его еще на 2 части.
В прошлый раз я шла по Новинскому бульвару к Арбату. Естественно, мне нужно было пересечь Новый Арбат. Когда-то я здесь работала, поэтому немного остановлюсь на этом месте.
НОВЫЙ АРБАТ ИЛИ КАЛИНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ
Сегодня Новый Арбат выглядит изрядно помятым жизнью. Безвкусные искрящиеся вывески, облепленные навязчивой рекламой и мигающими гирляндами. Переливаются разноцветными огнями различные игорные заведения, ночные клубы, дорогие бутики и рестораны.
В здании, в котором раньше был большой 2-этажный кондитерский магазин, продавался вкусный хлеб, и всегда стояли большие очереди за тортами (особенно накануне 8 марта), теперь обувной магазин ECCO и ресторан Киш-Миш. В бывшем магазине Сирень, где можно было купить хоть какую-то нормальную косметику - чайхана Шеш-Беш и пивной бар Молли Твиннз. За углом коктейль бар с загадочным названием MarieBrizard и ресторан Бакинские ворота, на его двери написано «В продаже хаш!». Мол, налетай скорей!
В общем, полнейшее смешение стилей!
За таким убойством названий едва разглядела кафе «Метелицу», куда раньше невозможно было попасть просто так, а рядом с ним узнала милую всем женщинам 70-80-х «Весну».
А еще помню, как мы встречали здесь Олимпийский огонь в июле 1980г. Это был полнейший восторг, гордость, счастье - мы свидетели такого исторического момента!
(Сразу вспомнился сок в маленьких пакетиках и финский сервелат в мелкой расфасовке, вот было счастья-то!).
Новая магистраль стала не просто столичной правительственной трассой, а скорее, знаковым символом Москвы. Да, и застраивалась она сообразно вкусам Хрущева, который после своего визита на Кубу был восхищен тамошними небоскребами, возведенными американцами. По возвращении он замыслил соорудить в столице нечто подобное.
Москвичи с энтузиазмом восприняли появление шикарной улицы, считая ее началом новой эпохи. Приезжавшие из провинциальных городов непременно торопились пройтись по советскому «Бродвею».
(В моем детстве, в маленьком окраинном поселке ГЭС тоже была улица, которую называли Бродвеем. И как сердце замирало, когда мы с подружками в первый раз решились по ней пройтись. Думаю, что в каждом городе есть свой «Бродвей»).
Посмотреть на что было: широченная проезжая часть, вдоль которой красуются стеклобетонные дома-книжки. Едва ли не на всю длину у подножия книжек вытянулся многофункциональный комплекс, включающий магазины, кафе, рестораны.
Фешенебельная в прошлом улица, от которой веяло каким-то западным флером, стала для советского человека началом в неведомую ранее маняще-запретную жизнь и, что вполне естественно, местом для встреч и развлечений молодежи.
С легкой руки московского руководства в один миг была решена судьба старинных кварталов. Снос половины Арбата ради прокладки нового проспекта, уничтожение памятников архитектуры 17-19в.в. стали притчей во языцех. Безвозвратно исчезли бывшие Кречетниковский, Дурновский переулки, частично Б.Молчановка и М.Молчановка, и знаменитая Собачья площадка.
А авторы этого «грандиозного» проекта в 1966г. были удостоены Гран-при парижского центра архитектурных исследований.
СОБАЧЬЯ ПЛОЩАДКА
Интересно, многим, ну, хотя бы, на этом форуме знакомо это выражение - Собачья площадка? Взрослым москвичам должно быть знакомо, а я никогда не слышала о ней и столкнулась с этим выражением совсем недавно, в музее М.Цветаевой.
Это старое и чисто московское название было совершенно официальное, входившее во все московские адресные справочники. Так и писали: Москва, Арбат, Собачья площадка, дом такой-то, квартира такая-то. Оно уходит корнями в XVIII век. Географически — это место, где сейчас возвышаются коробки Новоарбатской магистрали, а именно в конце Б. Николопесковского переулка до 60-х голов прошлого столетия находилась улица Собачья площадка. Одно из самых заповедных московских местечек, уникальное, неповторимое в Москве, да и во всей России.
Вообще, Площадка – старое московское название второстепенных слободских (посадских) площадей, расположенных в стороне от главных дорог.
В первую очередь в голову приходит, конечно, ассоциация с местом, где выгуливают собак. Но не совсем так.
В уничтоженном ныне Кречетниковском переулке предполагался Кречетный двор, то есть содержались кречеты для царской соколиной охоты. А рядом, по преданию, находился Псаренный, или Собачий двор: своры собак для псовой охоты. Отсюда полагают, и произошло столь необычное название.
А еще при царском дворе была и птичья, и зверовая охота: ее обеспечивала целая «армия» егерей, сокольников - их помощников, псарей. Память об этом в топонимике Москвы сохранилась не в одном, а в нескольких названиях. Есть в современной столице Егерская улица — неподалеку от станции метро «Сокольники». Существует и Охотничья улица — там же, в Сокольниках и 5 Сокольничьих улиц. В московском Измайлове несколько улиц Соколиной горы тоже имеют прямое отношение к охоте: в XVII веке на потешном Соколином дворе содержались охотничьи соколы и кречеты.
Очень многим московским улицам возвращены их исторические названия. Однако Собачьей площадке вернуться не суждено...
Появилась площадка только в начале XIX века, треугольное в плане пространство на сложном перекрестке Кречетниковского, Дурновского, Борисоглебского и Николопесковских переулков.
Была она тихая и старомодная, вымощена булыжником, узенькие тротуары и тумбы на них около ворот. В середине Собачки торчала восьмигранная колонна, украшенная поверху львиными или собачьими мордами, окруженная небольшим сквером. Фонтан этот, внешне непритязательный, скромное украшение скверика посреди Собачьей площадки, многие еще помнят.
А по сторонам – милые сердцу ампирные особняки в полтора этажа с мезонинами и аршинным гербом на фронтоне. Она была как музей прошлого века.
Эти постройки, возможно, не архитектурные шедевры, зато к месту и создавали незабываемое очарование Собачьей площадки. Пожалуй, лишь краснокирпичный фасад больницы им. Снегирева, известного на всю Москву врача и псевдоготический дом Союза композиторов выбивались из общего ансамбля, несколько нарушали идиллию. Она была очень уютна для своих обитателей.
Особняком с островерхими фронтонами, в котором размещался созданный в 1934 Союз советских композиторов, до самой революции владел род Хомяковых. Говорят, в 1910г. именно внучка русского философа А.Хомякова генерал-майорша Хомякова и соорудила на свои средства ту колонну, “памятник собаке”, чтобы красиво было.
Рядом, вплотную прижавшись к нему, стоял невысокий особняк. В 1885г. 5 сестер Гнесиных основали здесь первую в России общедоступную музыкальную школу (сейчас музыкальное училище им. Гнесиных).
Уже в те времена училище славилось на весь Союз не меньше, чем сама Консерватория.
После того, как училище переехало на Поварскую улицу, в доме Хомякова разместился музей дворянского быта. Он был настолько хорош, что под предлогом его сохранности в 60-х безуспешно пытались спасти от сноса и саму Собачью площадку
Напротив стоял невысокий деревянный дом с четырехколонным портиком, увенчанный арками. Говорили, что именно в этом доме в 1897г. мать Ленина снимала квартиру и он жил там некоторое время перед отъездом в ссылку. На нем даже висела полутораметровая мемориальная доска. Даже эта доска не устояла под натиском новых преобразований.
Здесь прожила несколько счастливых и страшных лет М.Цветаева, снявшая дом, который понравился ей тем, что напоминал ее родной дом в Трехпрудном переулке до того, как переехала в Дом на Борисоглебском. Ей нравилось жить на Собачьей площадке, потому, что "здесь жил Пушкин, вот по этим камням ходил».
Да, Собачья площадка навсегда связана с именем Пушкина. В доме № 12 по Собачьей площадке жил один из друзей великого поэта — С. А. Соболевский, в его квартире Пушкин останавливался по приезде в первопрестольный град в 1826 году. В этом же доме из-под пера Александра Сергеевича вышло знаменитое «Послание в Сибирь».
Вот как он описывает это развеселое время в письме Каверину: «Частный пристав Соболевский бранится и дерется по-прежнему, шпионы, драгуны, бл… и пьяницы толкутся у нас с утра до вечера».
А позже Соболевский воспоминал, как ехал он с N. через Собачью площадку и показал товарищу дом, в котором жил, про Пушкина, конечно же, не преминул сказать, видит на нем вывеску: продажа вина и прочее. Вылезли из возка и пошли туда. Кабатчик принял их с почтением. На вопрос слыхал ли он о Пушкине, ответил невнятно. Ему растолковали, кто был Пушкин, но им показалось, что ничего не понял хозяин кабака.
И мне очень понравилось его дальнейшая фраза:
«Советую газетчикам обратить внимание публики на этот кабак. В другой стране, у бусурманов, и на дверях бы сделали надпись: здесь жил Пушкин! – и в углу бы написали: здесь спал Пушкин!». С него-то и начали крушить Собачью площадку.
Дом № 53 на Арбате - это первая и единственная сохранившаяся музей- квартира поэта.
В 20-х годах в доме действовал Окружной самодеятельный театр Красной Армии. В худсовет т входили Маяковский и Мейерхольд. В этом театре Москва впервые увидела молодого Эраста Гарина, жившего, кстати, в этом же районе. Замечательный актер Эраст Гарин был выдающимся виртуозом русского мата, предельно циничного и добродушного одновременно. Обожаю его в бесподобном фильме «Свадьба».
Позже в доме устроили «коммуналки», а о пушкинской квартире забыли. Лишь в феврале 1937г. по случаю 100-летия Пушкина на здании появилась мемориальная табличка. В 1986г. после реконструкции Арбата в этом доме открылась музей-квартира Пушкина.
А я по молодости сделала, наверное, самую большую глупость в своей жизни. В начале 80-ых, нам с мужем от предприятия предложили комнату на Старом Арбате. Конечно же, мы отказались, ведь другим-то предоставляли жилье в Марьино! – новом микрорайоне, в новых домах! А мы ждали первенца, зачем мы поедем в старый дом, где даже нет горячей воды!
На Новинском бульваре у дома Плевако я разговорилась с женщиной, они жили на Арбате, а 30 лет назад их переселили в этот дом.
Ведь могло же так случиться, что я бы жила в пушкинской квартире? И я бы каждый день ходила по Арбатским переулкам. А теперь я радуюсь своему спальному району, который состоит из одних серых коробок и где совершенно неинтересно жить!
В 1952 году никакого строительства не велось, и Собачья площадка «вошла в состав» Композиторской улицы в официальном постановлении. Кому-то из обладателей высоких кабинетов показалось неблагозвучным название Дурновского переулка (переулок был назван в 18в. по фамилии домовладельца майора А. И. Дурново). Вероятно, новое название родилось без особых мудрствований.
в Дурновском переулке располагалось правление Союза советских композиторов — в честь него-то и назвали в 1952 году переулок «благозвучно» — Композиторской улицей. В Композиторскую улицу «спрятали» еще одно «неблагозвучное» наименование — Собачья площадка.
Решение это никак не повлияло на москвичей, не желавших расставаться с таким милым названием. Собачья площадка остается в мыслях и памяти москвичей как некий светлый образ старой Москвы, той, где цвели древние липы, в окнах играли радиолы, у подъездов сидели бабушки, мальчишки гоняли голубей, девчонки прыгали в классы. Не было никаких олигархов, ночных клубов и автомобильных пробок. Это я поняла, когда разговаривала со служащей Цветаевского музея.
О Новом Арбате говорили еще в тридцатые, потом война, а там, похоже, совсем забыли, и вот – вспомнили. Началось все в шестьдесят втором, когда сонные летние арбатские переулки встряхнул грохот бульдозеров, тяжелых кранов и “МАЗов”. Старинные особняки, перенаселенные “клоповники” расселяли споро. К очередной годовщине революции колонны демонстрантов должны двинуться по новому проспекту! Чугунные шар-бабы на стрелах кранов разносили в щепки ампирные фасады, являя на свет коммунальную срамоту. В считанные дни исчез Кречетниковский переулок, и строители вплотную подступили к Собачке. Через год от Собачьей площадки не осталось и следа.
Проспект этот москвичи, как только не называли: и зубочисткой Москвы, и гребенкой, и Мишкиными книжками (Михаил Посохин главный архитектор Москвы увековечил свое управление не только этим проспектом, но еще и Кремлевским Дворцом съездов, гостиницей Россия, и другими «величественными сооружениями – в самом центре Москвы!).
Собачья площадка погибла совсем. Сорок лет назад столица наша лишилась Собачки – одного из самых, если так можно выразиться, литературных мест старой Москвы.
Там прогуливали своих героев Тургенев и Эренбург, Булгаков и Пастернак. А известный бард Александр Городницкий посвятил ей песню.
Погибла вместе с фонтаном, с домом где жил Пушкин, с домом, где жила Цветаева, со Снегиревской больницей и особняком училища Гнесиных. Ничто не напоминает среди гигантских башен-книжек тот старый, немного патриархальный мир переулков и особняков.
Мне очень понравился отрывок из предисловия Ю. М. Нагибина к интересному путеводителю по литературным местам столицы «Я люблю этот город вязевый...»:
«Меня всегда мучила мысль, что у москвичей нет того интимного ощущения своего города, которым отличаются ленинградцы. Москва необъятна, неохватна и слишком быстро меняется. Не успеваешь привыкнуть к одному облику города, а он уже стал другим. Сколько лет прошло, а я все ищу Собачью площадку, поглощенную Калининским проспектом. Когда вспоминаешь, сколько московской старины съел этот неоправданно широкий, архитектурно невыразительный проспект, так и не слившийся с арбатской Москвой, то начинаешь сомневаться в его необходимости. Быть может, потому теплеет на сердце, когда вдруг обретаешь вновь и Собачью площадку, и исчезнувшие арбатские переулки, дома вместе с дорогими тенями великих писателей, живших, творивших, гостевавших здесь».
А переводчик И. И. Левин писал:
«Биографии даже такого скромного уголка старого Арбата, как Собачья площадка, хватило бы, чтобы увековечить это исчезнувшее с карты города место в истории Отечества».
А Виктор Некрасов в одной из поздних эмигрантских повестей рубанул прямо: “Весь проспект Калинина не стоит заупокойной по Собачьей площадке”.
Ах, как бы мне хотелось оказаться в прошлом веке и увидеть наяву этот неповторимой уголок старой Москвы – Собачку. Мне жаль, что сейчас нет Собачьей площадки, жаль, что мы потеряли ее.
Я стою на углу Трубниковского переулка, и мысленно представляю, что выхожу на Собачью площадку…
Но вижу напротив здание со знакомым шаром-глобусом на крыше, под ней располагался известный ресторан Арбат - теперь культурно-разлекательный центр, оформленный под огромный белый корабль с мачтой и якорями. А раньше этот глобус медленно вращался, и мне очень нравилось на него смотреть. Сейчас это «чудо-техники» совсем не впечатляет.
За глобусом высится ТЦ Лотте Плаза, подле которого возводят еще одну махину из стекла и бетона, не сразу и найдешь выход к старинному переулку Каменная Слобода. Здесь развернулась огромная стройка. Старые неприглядные домишки висят над котлованом, как над пропастью, и кажется, что в любой момент они уйдут под землю.
Читала где-то, что грядут очередные перестройки и немалые. Московское правительство утвердило специальную программу преобразования Нового Арбата в пешеходную зону. Вполне логично, что его автором выступил 1-ый зам главного архитектора Москвы Михаил Посохин младший.
СПАСОПЕСКОВСКАЯ ПЛОЩАДКА
Неожиданно я оказалась на Спасопесковской площади, совсем небольшой, очень уютной и тихой, как маленький островок среди давящих новоарбатских небоскребов.
Первое, что выхватил мой взгляд - красивый и величественный особняк, похожий на роскошную загородную виллу. Богатый, пышный декор, арочные окна, ухоженный парадный двор с садом.
Я остановилась посреди площади и не могла на него налюбоваться. Пожалуй, это самый красивый особняк в Москве в стиле «неоампир» широко распространенном в 1910-е годы.
Флаг какой-то развевается… И тут до меня доходит, что это и есть Спасо-Ххаус – резиденция посла США. В 1933г., когда были установлены дипломатические отношения с Соединенными Штатами, он был выбран 1-ым послом для своей резиденции. На самом большом приеме в июле 1976г. в честь 200-летия образования США особняк принял ровно 3001 гостя.
У ворот, как положено, будка с охранником. Я посмела приблизиться к ограде и чуть ли, не просунув голову между чугунными прутьями, старалась запечатлеть «образец чистого неоклассического ретроспетивизма». Знаменитый бал сатаны в романе «Мастер и Маргарита» проходил именно в этом доме.
Особняк этот построен 1913-15г. по заказу крупнейшего банкира и промышленника Н.А.Второва, он выкупил участок на Собачьей площадке у княгини Лобановой-Ростовской и подарил своей жене.
Естественно, мне стало любопытно, что за человек был Второв. И нашла очень интересные материалы о нем. По версии Форбс Н.В.Второв - обладатель самого большого состояния России начала 20в. (60 миллионов золотых руб.). Прозван «русским Морганом» за деловую хватку. Его отец, костромской мещанин, в 1862г. переехал в Сибирь и открыл оптовую торговлю мануфактурой, занимался ростовщичеством. В 1897г. семья Второвых переехала в Москву, неплохо разбогатев на оптовой и розничной торговле. Сын основателя династии Н.А.Второв вкладывал большие средства в крупную недвижимость, создание промобъединений, строительство военных предприятий. Дела шли так хорошо, что когда началась Первая мировая война, Второв взял подряд на поставку вооружения: в его концерн к тому моменту входили и военные заводы. В 1916г. по заказу двора его императорского величества на второвских фабриках по эскизам мастеров русского модерна Васнецова и Коровина были изготовлены длиннополые шинели суконные шлемы, стилизованные, под старорусские шлемы, известные впоследствии, как «буденовские», а также кожаные куртки, картузы, штаны – для только что созданных автомобильных войск, «самокатчиков». Предполагалось, что в новой форме российские войска впервые пройдут победным маршем по Ундер-ден-Линден в Берлине. История распорядилась по-другому: в «буденовских» шинелях и шлемах в гражданскую провоевала красная кавалерия, а кожаные куртки и кепки носили чекисты.
Чекисты же его и убили. 5 мая в 1918г. миллионе был найден мертвым в своем кабинете в особняке. Убийцы найдены не были
Его похороны на кладбище Скорбященского монастыря с разрешения советской власти, были последним собранием буржуазии. Рабочие несли венок с надписью «Великому организатору промышленности».
В советское время в особняке находилось Центральное статистическое управление, потом дом для приемов ВЦИК, часть помещений использовалась под квартиры.
А самое интересное, что родился Второв в Иркутске. И жил он в том самом доме на Желябова, в котором находился тот самый Дворец пионеров, куда я бегала заниматься в драматический и хоровой кружки.
Думала ли я тогда, почему вдруг почти через полвека так явно всплывет перед глазами яркий бежево-красный дом?
Дом, действительно, яркий на общем фоне старого Иркутска, построенный в 1897г. в псевдорусском барокко. Не знаю, когда мне теперь удастся побывать в Иркутске, но при первой же возможности я обязательно подойду к этому дому.
А Второва-старшего, между прочим, называют «отцом русских супермаркетов». В самом деле, оптовые магазины Второвых (первый из них в Иркутске) продавали не только мануфактуру, но и готовое платье, обувь, галантерейные и парфюмерные товары. Позднее ассортимент увеличивался, магазин оснащался огромными зеркальными витринами, у покупателя появлялась возможность в одном месте, под одной крышей приобрести все, что угодно.
На самом деле роль Николая Александровича Второва в развитии российской легкой и военной промышленности и банковской системы еще не до конца оценена.
Остававшиеся как будто в тени, Второвы сравнимы по значимости с такими знаменитыми в национальной олигархии прошлого века именами, как Рябушинские и Морозовы.
Почти вплотную к особняку Второва стоит главный дом общей усадьбы Щепочкиной-Львова (№ 8) – деревянное здание с торжественным ионическим шестиколонным портиком.
Дом № 6 также принадлежал Щепочкиной ("поручика жены") – памятник архитектуры, но более поздний образец послепожарного московского строительства. Небольшое здание с обязательным колонным портиком. В основе его постройка 18в., домик несколько раз перестраивался и выглядит как каменный, сразу и не поймешь, что он деревянный. В этом доме в свое время жил поэт Вяземский, а в прошлом веке поэт Языков.
Одноэтажный домик отличается от своих ампирных современников необычным для дворянских гнезд арочными воротами. Что интересно, ворота, примыкающие к дому намного старше его, вполне вероятно, они были церковной оградой, ведь ранее при каждой церкви были небольшие кладбища.
На площади разбит маленький сквер, который был устроен в 1871г. владельцем д. 8 Львовым. И назван им Пушкинским, в память поэта, бывавшего в окрестных домах. В нем по инициативе российского пушкинского общества установили памятник поэту, миниатюрный, но выразительный.
Я сидела на скамейке в скверике, рассматривала эти красивые и уютные особнячки, и настроение было довольно грустным.
Перед сквериком расположена церковь Преображения Господня, «что на Песках». Пески в названии отражают характер местных почв.
Храм построен в 1706-1711г.г. Традиционный московский пятиглавый храм, украшенный наличниками, кокошниками с шатровой колокольней, сохранились ворота с псевдоготической обработкой.
Любопытно, что церковь возведена по типовому проекту – в том же году на другом конце Москвы, в солдатской Лефортовской слободе, была построена Петропавловская церковь – близнец Спаса на Песках. Был закрыт в 1930-х годах, долгое время помещение церкви использовалось для мастерских «Союзмультфильма», благодаря чему и сохранилась. Именно здесь «родились» Чебурашка, его верный друг Крокодил Гена и многие другие мультперсонажи.
Но самое главное, именно Спас на Песках изображен на картине Поленова «Московский дворик», написанной в 1877г. Сам Поленов жил в исчезнувшем уже деревянном доме на углу Трубниковского и Композиторской улицы, приехавший из Петербурга. Он искал квартиру, увидел на двери записку, зашел посмотреть и прямо из окна ему представился этот вид. Он тут же сел и написал его, так проникновенно и лирично передающего облик старой Москвы.
Напротив церкви находится школа им. Поленова (бывшая спецшкола с преподаванием на французском языке), именно на этом месте находился обычный московский дворик, запечатленный на картине художника.
Удивительно, в каких-то ста метрах жизнь кипит и бурлит, поток людской толпы фланирует навстречу друг другу, а здесь тишина и покой.
МУЗЕЙ А.Н.СКРЯБИНА
Кроме Спасопесковской площади в Спасопесковском переулке с церковью Спаса на Песках, есть еще целых три Николопесковских переулка, которые назывались по церкви Николы «что на Песках». Она, к сожалению, не сохранилась.
Самый известный житель этих переулков – композитор А.Н.Скрябин. Он поселился в Б.Николопесковском переулке в доме № 11 в 1912г. При найме квартиры он настаивал на том, чтобы заключить контракт на 3 года, а именно до 14 апреля 1915г. и по странному совпадению скончался ровно в этот же день в 43-летнем возрасте, как бы отмерив себе этим контрактом жизненный срок.
Мне нравится заходить в мемориальные музеи, литературные или музыкальные. Интересно же, какая обстановка окружала человека, в какой атмосфере он создавал свои произведения, узнать о его жизни и семье.
Родился композитор в семье дипломата из старинного дворянского рода. Музыкой занимался с детства. С 1885 начал посещать частный пансион, одновременно с С.Рахманиновым. Обучался в Московской консерватории по двум специальностям: фортепьяно и композиция (класс С.И. Танеева). В 1898—1903г.г. профессор в Московской консерватории. Скрябин много гастролировал как пианист по городам России и за границей. В сезоне 1906-07г.г. гастролировал в США.
Скрябин мечтал о создании нового синтетического искусства призванного преобразовать мир. Это был композитор-новатор, музыкант-поэт, музыкант-философ.
Центральный образ музыканта Скрябин - титан Прометей, дерзнувший, как гласит древний миф, похитить небесный огонь богов и дать его смертным. Им созданы симфонии, многочисленные прелюдии, этюды, поэмы, мазурки и вальсы.
Музей находится на 2 этаже красивого особняка.
В рабочем кабинете рояль фирмы Бехштейн, подаренный Скрябину самой фирмой в 1912г. Большой оригинальный формы письменный стол и кресло были привезены Скрябиным, как и многое другое из Брюсселя, в том же 1912г. На столе лампа, фотографии детей Скрябина. Там же стоит световой аппарат, сделанный по заказу и по модели Скрябина физиком Мозером специально для исполнения симфонической поэмы «Прометей» – первого светомузыкального произведения. Он представляет собой деревянный круг с 12 лампами.
Получается, что композитор Скрябин – первый музыкант, который начал применить светомузыку.
Из кабинета дверь ведет в гостиную. Гостиная убрана богаче других комнат т.к. предназначалась для приема именитых гостей.
В столовой много предметов подаренных Скрябину в разное время: вышитая дорожка на обеденном столе, панно-аппликация в египетском стиле. Особенно интересна хрустальная с серебром ваза работы Фаберже, выполненная в виде старинного русского корабля-ладьи с символической фигурой легендарного певца и гусляра Бояна. Эту вазу Скрябину подарили москвичи в день премьеры «Поэмы экстаза» в 1909г.
В спальне стеклянный шкаф, в котором сохранились фрак Скрябина и цилиндр с инициалами А.С., деревянная дорожная шкатулка.
Он умер от нелепой случайности, от небольшого нарыва на губе, возникшего в поездке. Отпевали его в Никопесковской церкви, стоявшей напротив его дома. Танеев сильно переживал по поводу его кончины. «Хотел написать Вселенскую Мистерию и Конец мира, вот вам и конец».
В 1918 решением првительства РФ мемориальная квартира Скрябина была объявлена национальным культурным достоянием и было принято решение превратить ее в музей. Он был открыт в 1922г.Наверное, один из немногих, где удалось полностью сохранить подлинную обстановку квартиры одаренного композитора, удивительно красивого человека.
Ну, а дальше, мой путь лежал на Старый Арбат, вернее в лабиринт между Арбатом и Пречистенкой, густо исчерченный извилистыми переулками.
И там меня ждут не менее удивительные вещи.
| https://whttps://www.otzyv.ru/read.php?id=69325 |
|
Метки: москва |
Надежда Введенская (Пешкова) |
| И |
Сегодня 10 Марта Воскресенье
|
|
Надежда Введенская (Пешкова)Nadejda VvedenskayaДень рождения: .. года Похожее: Nadejda, Vvedenskaya, Надежда, Введенская (Пешкова) |
Биография
Стоило около нее оказаться мужчине, у которого могли быть серьезные намерения, как он исчезал. Чаще всего - навсегда.








Сайт: Знаменитости
Пребывая на смертном одре, известный московский врач Алексей Введенский пожелал увидеть свою семнадцатилетнюю дочь пристроенной в жизни за широкими плечами законного супруга... И вот Надя Введенская стоит под венцом с ординатором отца доктором Синичкиным. Вокруг - девять братьев юной невесты... Первая брачная ночь. Как только жених приблизился к невесте, в тот момент, когда они остались в комнате одни, она ... выпрыгнула в окно и убежала к Максиму Пешкову, своей первой любви...

(Здесь и далее: Максим Горький - великий пролетарский писатель, Максим Пешков - его сын).
Реклама:
СЫН
С сыном Максима Горького Надя познакомилась в последнем классе гимназии, когда однажды с подругами пришла на каток. Максим сразу же поразил ее безграничной добротой и столь же безграничной безответственностью.
|
|
|
||||
|
|
|
||||
Поженились они не сразу.
После Октября и гражданской войны Максим Пешков засобирался к итальянским берегам, к отцу. И вот тогда Ленин дал Максиму Пешкову важное партийное поручение: объяснить отцу смысл "великой пролетарской революции" -, которую великий пролетарский писатель
Реклама:
принял за безнравственную бойню.
Вместе с сыном Горького а 1922 году отправилась за границу и Надежда Введенская. В Берлине они повенчались. Дочери Пешковых родились уже в Италии: Марфа - в Сорренто, Дарья через два года - в Неаполе. Но семейная жизнь молодых супругов не заладилась. Писатель Владислав Ходасевич вспоминал: «Максиму было тогда лет под тридцать, но по характеру трудно было дать ему больше тринадцати».
В Италии Надежда Алексеевна обнаружила сильное пристрастив мужа к крепким напиткам и к женщинам. Впрочем, здесь он шел по стопам
отца...
ОТЕЦ
Великий писатель не стеснялся там же, в Италии, выказывать всяческие знаки внимания Варваре Шейкевич, жене Андрея Дидерихса. Она была потрясающей женщиной. После разрыва с Горьким Варвара поочередно становилась женой издателя А. Тихонова и художника 3. Гржебина. За В. Шейкевич Горький ухаживал в присутствии своей второй жены - актрисы Марии Андреевой. Конечно же, жена плакала. Впрочем, плакал и Алексей Максимович. Вообще он любил поплакать. Но фактически женой Горького в это время стала известная авантюристка, связанная с чекистами, Мария Бенкендорф, которая после отъезда писателя на родину вышла замуж за другого писателя — Герберта Уэллса.
Мария Андреева отставать от мужа - «изменщика» не собиралась. Своим любовником она сделала Петра Крючкова, помощника Горького, который был моложе ее на 21 год. В 1938 году П. Крючков, который, несомненно, был агентом ОГПУ, был обвинен в «злодейском умерщвлении» Горького и расстрелян.
До Крючкова в любовниках Андреевой состоял некто Яков Львович Израилевич. Узнав о своей неожиданной отставке, он не нашел ничего лучшего, как избить соперника, загнав его под стол. Об обстановке, царившей в семье, свидетельствует и такой факт: мать М. Андреевой покончила с собой, предварительно выколов на портрете глаза своей внучке Кате.
Так что в отношении к женщинам Максиму Пешкову было с кого брать пример. А вот ехать в СССР писатель Горький не спешил, откровенно опасаясь режима большевиков. Известно, что видную большевичку Е. Д. Стасову он называл «собакой, нализавшейся крови». Но сын постоянно уговаривал отца отправиться в Москву. В. Ходасевич вспоминал об этих днях:
«Он был славный парень, веселый и уживчивый. Он сильно любил большевиков, но не по убеждению, а потому, что вырос среди них и они его всегда баловали... Он мечтал поехать в СССР, потому что ему обещали подарить там автомобиль, предмет его страстных мечтаний, иногда ему даже снившийся».
«ДАЛЬНИЕ РОДСТВЕННИКИ»
В 1931 году Горький с семьей навсегда возвратился в СССР. И тут начинается самая трагическая глава жизни всех членов семьи великого писателя, «опекуном» которой стал шеф сталинской охранки Генрих Ягода.
В свое время заурядный нижегородский фармацевт Ягуда (такова его настоящая фамилия) выполнял мелкие «конспиративные» поручения. Фармацевту очень повезло, ибо он служил на побегушках у Якова Свердлова, будущего председателя ВЦИКа. Генрих Ягода женился на его племяннице Иде Авербах, чем и обеспечил себе карьеру. Своего нового родственника Свердлов порекомендовал Дзержинскому. Ягода попал в Особый отдел. Р. Гуль в книге «Дзержинский» называет этот отдел самым страшным. «Люди, схваченные Особым отделом, - писал Гуль, - идут
только на смерть; «черные вороны» Особого отдела увозят людей только на расстрел».
Особенно расцвел Ягода за спиной Менжинского, которого в ЧК считали чудаковатым - слишком отдавался «эстетическим эмоциям». Переводил даже персидскую поэзию. Бывший фармацевт нашел ключик к сердцу старого большевика. Подсаживал Менжинского в автомобиль, кутал ему ноги, а сам бочком-бочком садился у руля...
С момента своего создания ЧК-ОГПУ была богатейшей организацией. Чекистские перебежчики на Запад вспоминали: «В помещениях ЧК шкафы ломились от золота, отобранного во время облав. Золото в нашем хранилище складывалось штабелями, как дрова». Вот такое хозяйство после смерти Менжинского и принял Г. Ягода.
У нового руководителя ОГПУ было одно пристрастие: его тянуло к артистам и писателям. Разве мог он пройти мимо Горького? Он часто появлялся в особняке писателя на нынешней улице Качалова в Москве.
Своим вниманием естественно, он не оставлял и Максима Пешкова, которого в основном возили по колхозам да по заводам, чтобы он рассказал своему отцу увиденное собственными глазами.
Хотели, чтобы знал великий пролетарский писатель, как «хорошо в стране советской жить», конечно, же с бесконечными банкетами. Максима
Алексеевича споили. 11 мая 1934 года сын Горького умер. Официальная версия смерти — воспаление легких. Г. Герлинг-Грудзинский в статье
«Семь смертей Максима Горького» обращает внимание на то, что «нет никаких оснований верить обвинительному акту процесса 1938г., в котором говорилось, что Ягода решил — частично по политическим, частично по личным мотивам (было известно о его влюбленности в Надежду) - отправить на тот свет Максима Пешкова.»
ВДОВА
Ягоды не стало. Но на жизнь Надежды Пешковой чекисты продолжали влиять. Только собралась она накануне войны замуж за своего давнего друга И. К. Лупола - одного из образованнейших людей своего времени, философа, историка, литератора, директора Института мировой литературы им. Горького, - как ее избранник оказался в застенках НКВД и погиб в лагере в 1943 году.
После войны Надежда Алексеевна вышла замуж за архитектора Мирона Мержанова. Через полгода, в 1946 году, мужа арестовали.
Уже после смерти Сталина, в 1953 году, Н. А. Пешкова дала согласив стать женой инженера В. Ф. Попова... Жениха арестовывают...
Надежда Алексеевна до конца дней несла на себе крест «неприкасаемой». Стоило около нее оказаться мужчине, у которого могли быть серьезные намерения, как он исчезал. Чаще всего - навсегда. Все годы в СССР она жила под увеличительным стеклом, которое постоянно держали а руках «органы»... Сноха Максима Горького и в могилу должна была сойти его снохой. Так и случилось. 10 января 1971 года Надежда Алексеевна Пешкова скончалась.
| З |
https://www.peoples.ru/family/wife/vvedenskaya/
Л
|
Метки: пешковы |
ЗИНЬКО Ф. Это мог сделать Яков Блюмкин |
Вы здесь: Главная / О ЕСЕНИНЕ / Гибель ПОЭТА / ЗИНЬКО Ф. Это мог сделать Яков Блюмкин
ЗИНЬКО Ф. Это мог сделать Яков Блюмкин
Рейтинг: 



 / 2
/ 2
ПлохоОтлично
Просмотров: 4620
Феликс Зинько
ЭТО МОГ СДЕЛАТЬ ЯКОВ БЛЮМКИН
Исполнилось сто лет со дня рождения великого русского поэта С. А. Есенина, знаменательная дата…
До сих пор остается загадкой «самоубийство» Сергея Есенина в ленинградской гостинице «Интернационал» — бывшей «Англетер».
Сегодня мы публикуем новые материалы по спорному вопросу: убит ли Сергей Есенин? Кто это сделал?
Несколько статей разных авторов убедительно рассказывают о том, что убийца Есенина был известный террорист Яков Блюмкин, любимец Льва Троцкого, хорошо знавший великого поэта. Впервые это предположение высказал еще в 1926 году поэт Сергей Клычков. И не без оснований…
Группа крестьянских поэтов, в которую входил Есенин, расценивалась в то время даже Максимом Горьким, как течение, «ведущее к фашизму». Члены группы были осуждены и расстреляны. Всенародно любимого Есенина, обвиненного «в оскорблении члена правительства Троцкого», решили устранить иначе. И поручено это было Якову Блюмкину, всю жизнь преклонявшемуся перед Троцким и ненавидевшему Есенина.
Интерес к судьбе этого террориста оживился в наши дни в связи с воспоминаниями генерала КГБ П. Судоплатова, поведавшего читателям о том, что в конце 20-х годов Блюмкин и его жена Лиза Горская «создали нелегальную резидентуру в Турции, используя в качестве прикрытия финансовые средства, получаемые от продажи хасидских древнееврейских рукописей, переданных им из фондов Центральной библиотеки в Москве, для диверсионных операций против англичан в Турции и на Ближнем Востоке. Однако Блюмкин предоставил часть этих средств Троцкому после его высылки из СССР. Лиза была потрясена этим и разоблачила мужа. Он был арестован и позже расстрелян…»
Геростратов комплекс
Фигура Якова Блюмкина — убийцы графа Мирбаха — давно будоражила мое воображение. Интерес этот зародился еще в семидесятые годы, когда под строжайшим секретом мне дали почитать первый том «Красной книги ВЧК», изданный в 1920 году. Перед тем как вернуть книгу, я сделал себе фотокопии листов, относящихся к Блюмкину. И с тех пор собирал о нем материалы по крохе. Но многое оставалось за кадром, трудно было понять взаимосвязь событий, да и с публикацией в то время не стоило даже соваться. Мне никак не удавалось понять психологию этого человека. Чего он, собственно, добивался? Был простым исполнителем, боевиком в руках левоэсеровского ЦК? Непохоже…
Только теперь, когда полностью (и даже с добавлениями!) переиздана «Красная книга ВЧК», когда открылись шлюзы для литературы, многие годы хранившейся в спецхранах, стало возможным попытаться исследовать фигуру Блюмкина.
Первое издание БСЭ, в томе, вышедшем в 1926 году, сообщает, что Яков Григорьевич Блюмкин родился в 1898 году в семье приказчика. После окончания четырехклассной школы он был отдан «мальчиком» в магазин. Сообщается еще несколько сведений о живом тогда еще человеке. Естественно, из последующих изданий БСЭ даже эта двадцатистрочная статья о Блюмкине исчезла.
Удалось выяснить, что у Якова был старший брат Моисей-Лейба. Когда Якову было всего шесть лет, на квартиру к ним пожаловали жандармы с обыском. Они нашли в комнате Моисея целый склад листовок, прокламаций и других нелегальных изданий Одесского комитета РСДРП. Выяснилось, что в тот день, 8 августа 1904 года Моисей был арестован на партийном собрании. Трудно сказать, что произошло дальше. Можно только предполагать, что взятка, предложенная старшим Блюмкиным, решила дело. 18 декабря Моисей был освобожден из тюрьмы и отдан под надзор отца. Мне важно здесь, что для Якова этот ночной обыск был наверняка одним из самых сильных детских впечатлений, что мальчик с тех пор находился в атмосфере революционных дел.
Блюмкин появляется на политической арене в июне 1918 года, когда ЦК левых эсеров рекомендовал его для работы в ЧК. Значит, был он для них фигурой известной. И должность ему определили немаленькую — заведующий секретным отделением отдела по борьбе с контрреволюцией, который возглавлял Мартин Янович Лацис. Это было отделение контрразведки, направленное на борьбу с немецкой агентурой. Единственное дело, которое вел Блюмкин, было дело австрийского лейтенанта Леонгарта Мюллера, которому инкриминировался шпионаж в пользу Германии. В деле был замешан Роберт Мирбах, племянник посла. «Теперь я вспоминаю, — сообщал следствию Лацис, — что Блюмкин дней за десять до покушения хвастался, что у него на руках полный план особняка Мирбаха и что его агенты дают ему все, что ему таким путем удается получить связи со всей немецкой ориентацией». Язык у Блюмкина был подвешен что надо. Не успев как следует показать себя в деле, он уже одолевал руководство ЧК планами по расширению своего отделения в Центр Всероссийской контрразведки. Одновременно он очень любил появляться в окружении поэтов и литераторов, посещал злачные места, где не всегда в меру пил.
Надежда Мандельштам рассказывает, что однажды в «Кафе поэтов» Осип Эмильевич познакомился с Яковом Блюмкиным, молодым, буйного нрава литератором(?), любившим подкреплять свои доводы в спорах обнаженным наганом.
Как-то, основательно нагрузившись, Блюмкин заявил:
— Вот где у меня вся эта интеллигенция!
Он достал из кармана пачку подписанных с печатями ЧК ордеров на арест и стал демонстративно заполнять один из них. Мандельштам пришел в ужас, вырвал из рук Блюмкина ордер и тут же изорвал его в клочья. Затем Мандельштам немедленно побежал к Ларисе Рейснер и через нее и Раскольникова убедил Дзержинского, что Блюмкину надо укоротить руки. «С руководящей должности, — пишет Н. Мандельштам, — Блюмкина тут же сняли, но из органов все же не уволили, так как не хотели портить отношения с эсерами». А вот что показывал по этому поводу Дзержинский: «За несколько дней, может быть, за неделю до покушения я получил от Раскольникова… сведения, что этот тип в разговорах позволяет себе говорить такие вещи: "Жизнь людей в моих руках, подпишу бумажку — через два часа нет человеческой жизни. Вот у меня сидит гражданин Пусловский, поэт, большая культурная ценность, подпишу ему смертный приговор", — но если собеседнику нужна эта жизнь, то он ее "оставит" и т. д. Когда Мандельштам, возмущенный, запротестовал, Блюмкин стал ему угрожать: что, если он кому-нибудь скажет об этом, он будет мстить всеми силами. Эти сведения я тут же передал Александровичу (члену коллегии ЧК от левых эсеров. — Ф. 3.), чтобы он взял от ЦК объяснения и сведения о Блюмкине для того, чтобы предать его суду. В тот же день на собрании комиссии было решено по моему предложению нашу контрразведку распустить и Блюмкина оставить пока без должности. По получении объяснений от ЦК левых эсеров, я решил данные против Блюмкина комиссии не докладывать. Блюмкина я близко не знал и редко с ним встречался». Таким образом, за неделю до 6 июля Блюмкин уже был оставлен без определенных занятий. Но никто не отобрал у него ни оружие, ни чекистский мандат. Это и предопределило преступление.
Хочу привести еще один эпизод из жизни Блюмкина того времени. Из воспоминаний Ходасевича: «…весной 1918 года Алексей Толстой вздумал справлять именины. Созвал всю Москву литературную: "Сами приходите и вообще публику приводите". Собралось человек сорок, если не больше. Пришел и Есенин. Привел бородатого брюнета в кожаной куртке. Брюнет прислушивался к беседам. Порой вставлял словцо, и не глупое. Это был Блюмкин, месяца через три убивший графа Мирбаха, германского посла. Есенин с ним, видимо, дружил. Была в числе гостей поэтесса К. Приглянулась она Есенину. Стал ухаживать. Захотелось щегольнуть, и простодушно предложил поэтессе:
— А хотите поглядеть, как расстреливают? Я вам это через Блюмкина в одну минуту устрою».
Любопытно, что Блюмкин уже тогда вхож был в ЧК, хотя выдавал себя за начинающего литератора. Ничего же из написанного им не удалось пока обнаружить. Может, другим исследователям повезет больше? Было бы интересно прочесть нечто, написанное его рукой.
4 июля Блюмкин был приглашен к одному из членов ЦК левых эсеров, где его просили сообщить всю информацию о Мирбахе, его особняке и т. п. От Блюмкина не скрыли, что готовится покушение. И тогда, не раздумывая долго, двадцатилетний чекист сам предложил себя в исполнители акта. Он уже понимал, что из ЧК его вот-вот выгонят, и решил обратить на себя внимание. Блюмкин, как и его наставники из ЦК, был уверен, что убийство Мирбаха вызовет такую реакцию во всем мире, что вспыхнет мировой пожар революции. Надо сказать, что в те годы мировой революцией бредили все, включая самого Ленина. Казалось, она может решить все вопросы. На нее делалась ставка.
В напарники себе Блюмкин избрал товарища по партии, земляка Николая Андреева, одного из создателей Одесского батальона Красной гвардии им. В. И. Ленина, которого он сам рекомендовал на работу в ЧК в качестве фотографа. Блюмкин сумел убедить Александровича, что в его отделении необходима фотографическая лаборатория. Андреев легко согласился стать участником покушения.
«У дежурной барышни в общей канцелярии ЧК, — рассказывал Блюмкин, — я попросил бланк комиссии и напечатал на нем следующее: "Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией уполномочивает ее члена, Якова Блюмкина, и представителя революционного трибунала Николая Андреева войти в непосредственные переговоры с господином германским послом в России графом Вильгельмом Мирбахом по делу, имеющему непосредственное отношение к самому господину германскому послу. Председатель комиссии. Секретарь. Подпись секретаря (т. Ксенофонтова) подделал я, подпись председателя (Дзержинского) — один из членов ЦК. Когда пришел, ничего не знавши, товарищ председателя ВЧК Вячеслав Александрович, я попросил его поставить на мандате печать комиссии. Кроме того, я взял у него записку в гараж на получение автомобиля. После этого я заявил ему о том, что по постановлению ЦК сегодня убью графа Мирбаха».
На легковом автомобиле Блюмкин и Андреев с портфелями в руках подкатили к зданию германского посольства, что располагалось в доме № 5 по Денежному переулку. Они предъявили свой липовый мандат и потребовали свидания с послом. Естественно, сперва с ними разговаривали двое молодых людей, потом советник Рицлер. И лишь после настойчивых требований Блюмкина к ним вышел сам Мирбах. 25 минут ему «вешали лапшу на уши», рассказывая байки о племяннике. Только после этого Блюмкин набрался храбрости, вытащил из портфеля револьвер и стал стрелять в Мирбаха, Рицлера и переводчика. Они упали. Но Мирбах был только ранен, он стал подниматься, и тогда Андреев подошел к нему вплотную и бросил ему и себе под ноги бомбу. Она не взорвалась. Блюмкин поднял с пола бомбу и «с сильным разбегом» метнул ее вновь. На этот раз взрыв был таким сильным, что вылетели окна и посыпалась штукатурка. Блюмкин выпрыгнул в одно из окон и сломал себе лодыжку. Вдобавок, когда он перелезал через ограду посольства, его ранили в ногу — уже началась стрельба охраны. Но он все же дополз до автомобиля, и они укатили в штаб левоэсеровского отряда Попова в Трехсвятительском переулке.
Из машины его на руках вынесли матросы. Остригли, выбрили, переодели и отнесли в лазарет. Когда через несколько часов в отряд прибыл Дзержинский и потребовал выдачи Блюмкина, ЦК левых эсеров категорически отказал. «Узнав об этом, — пишет Блюмкин, — я настойчиво просил привести его в лазарет, чтобы предложить ему арестовать меня. Меня не покидала все время незыблемая уверенность в том, что так поступить исторически необходимо, что Советское правительство не может меня казнить за убийство германского империалиста». Похоже, Блюмкин боялся упустить миг своей славы. Что же до его «уверенности», то, к сожалению, он был прав. Приговором ревтрибунала Блюмкину и Андрееву (заочно) было определено наказание «заключить в тюрьму с применением принудительных работ на 3 (три) года».
Вот что писал Блюмкин по этому поводу: «Я знал, что наше деяние может встретить порицание и враждебность правительства, и считал необходимым и важным отдать себя, чтобы ценой своей жизни доказать нашу полную искреннюю честность и жертвенную преданность интересам революции». Сколько напыщенности, демагогии, впрочем, столь модной в то время!
Все эти признания Блюмкин делал год спустя, и было это вот при каких обстоятельствах…
Когда отряд Попова в панике драпал из особняка в Трехсвятительском, о Блюмкине забыли. Его увезла вместе с другими ранеными медицинская летучка в Первую градскую больницу. Здесь Блюмкин назвался красноармейцем Беловым, раненным в бою. Через три дня, отдышавшись, он, как Подколесин, сиганул в окно и был таков. Сперва скрывался в Москве, потом перебрался в Рыбинск, в Кимры. Здесь он даже поработал под фамилией Вишневского в уездном Комиссариате земледелия. Потом завязалась связь с резервным подпольным ЦК левых эсеров. Блюмкину велели ехать в Петроград и ждать. Он сидел в Гатчине и «занимался исключительно литературной работой, собиранием материалов о июльских событиях и писанием о них книги». Определенно, литературные лавры не давали покоя нашему герою. Затем, по заданию своего ЦК, Блюмкин отправляется на Украину, для организации борьбы с гетманщиной и немецкими оккупантами. В это время там успешно действовали «боротьбисты» (украинские левые эсеры), так что почва была подготовлена. «Я был членом боевой организации партии, — рассказывал Блюмкин, — и работал по подготовке нескольких террористических предприятий против виднейших главарей контрреволюции». В частности, не без его участия был убит немецкий главнокомандующий генерал Эйхгорн. И только революция в Германии спасла Блюмкина от нового суда. Потом совместно с коммунистами Блюмкин организовывал на Подолии ревкомы и повстанческие отряды, был членом нелегального Совета рабочих депутатов Киева. Когда в апреле 1919 года Киев стал советским, Блюмкин явился в Киевскую ЧК, которую возглавлял его бывший начальник М. Лацис, и стал возмущаться заочным приговором ревтрибунала и, главное, тем, что Ленин назвал его и Андреева «двумя негодяями». А Блюмкин, как мы уже знаем, таковым себя не считал, наоборот, был уверен, что он один из лучших бойцов революции. «Я, отдавши себя социальной революции, — писал он, — лихорадочно служивший ей в пору ее мирового наступательного движения, вынужден оставаться в стороне, в подполье. Такое состояние для меня не могло не явиться глубоко ненормальным, принимая во внимание мое горячее желание реально работать на пользу революции. Я решил явиться в Чрезвычайную комиссию, как в один из органов власти (соответствующий случаю), Советской власти, чтобы подобное состояние прекратить».
И что вы думаете? Любого другого Лацис тут же поставил бы к стенке и не поморщился. Но Блюмкина везут в Москву, где он снова повторяет всю свою историю. Особая следственная комиссия по его делу докладывает в Президиум ВЦИК: «Причиной, побудившей Блюмкина явиться в распоряжение Советской власти, послужило желание рассеять оскорбительное для него мнение, в результате коего он был назван в "Известиях ЦИК" "негодяем", и разъяснить Советской власти, как он понимал это убийство… Таким образом, он должен нести ответственность только за совершение террористического акта по отношению к Мирбаху, каковая ответственность, во всяком случае, не может вызвать необходимость содержания Блюмкина в тюрьме. Комиссия полагала бы: 1) Блюмкина из-под стражи освободить; 2) Заменить ему трехлетнее тюремное заключение отдачей его на этот срок под контроль и наблюдение лиц по указанию Президиума ВЦИК». 16 мая 1919 года секретарь ВЦИК А. Енукидзе подписал постановление: «Ввиду добровольной явки Я. Г. Блюмкина и данного им подробного объяснения обстоятельств убийства германского посла графа Мирбаха Президиум постановляет: Я. Г. Блюмкина амнистировать».
Вскоре после освобождения Блюмкин вышел из партии левых эсеров и в 1921 году был даже принят в РКП (б). Хотя срок условного освобождения его еще не вышел! Просто он понял, что с левыми эсерами покончено и здесь больше нет никаких перспектив. А членство в РКП (б) сулило карьеру. Похоже, что его снова взяли в ЧК. Во всяком случае, он участвовал в знаменитой Энзелийской операции Каспийской флотилии. Тогда ее корабли под командованием Ф. Раскольникова совершили дерзкий рейд в иранский порт Энзели; разгромив его, взяли богатые трофеи. Беру на себя смелость предположить, что Блюмкин остался, по заданию ЧК, в Иране для организации резидентуры. Что дает мне основания для такого заключения.
11 января 1920 года Сергей Есенин эпатировал своими резкими высказываниями публику в кафе «Домино».
•Дело как будто пустяковое, но вмешательство в него группы чекистов насторожило поэта: он уехал сначала в Харьков, потом в родное Константинове, затем на Кавказ.
«…Я из Москвы надолго убежал: с милицией я ладить не в сноровке…» Осенью поэт снова появился в Москве с циклом новых великолепных стихов и 18 октября 1920 года был арестован на квартире поэта Александра Кусикова в Большом Афанасьевском переулке. Привели раба Божьего на Лубянку, посадили в камеру. Через неделю его выручил Блюмкин. Сохранился документ: «Подписка. О поручительстве за гр. Есенина Сергея Александровича, обвиняемого в контрреволюционной деятельности по делу гр. Кусиковых. 1920 года октября месяца 25-го дня, я ниже подписавшийся Блюмкин Яков Григорьевич, проживающий по гостиница «Савой» № 136 беру на поруки гр. Есенина и под личной ответственностью ручаюсь, что он от суда и следствия не скроется и явится по первому требованию следственных и судебных властей. Подпись поручителя Я. Блюмкин 25.Х.20 г. Москва. Парт�http://esenin.ru/o-esenine/gibel-poeta/zinko-f-eto-mog-sdelat-iakov-bliumkin
|
Метки: яков блюмкин террор литераторы |
История создания политического Красного Креста |
«На Вас вся надежда...»: письма заключенных СЛОНа Е.П.Пешковой

В Государственном архиве Российской Федерации есть фонд № 8409 «Е.П.Пешкова. Помощь политическим заключенным», включающий около 1800 дел, в каждом из которых находится множество - иногда сотни - документов. Это письма и заявления родственников арестованных, а также самих заключенных и ссыльных с самыми разными просьбами: облегчить участь, помочь материально, узнать о судьбе близкого человека.
История этого фонда такова. В 1918 г. в Москве было создано Московское общество Красного Креста для помощи политическим заключенным во главе с В.Н. Фигнер. В работе общества принимали участие А.А.Кизеветтер, Е.Д.Кускова, С.П.Мельгунов, А.Л.Толстая, Д.И.Шаховской, Н.К.Муравьев и др. Вскоре председателем общества стала Екатерина Павловна Пешкова (первая жена А.М.Горького), остававшаяся в этом качестве до самого его закрытия, а ее заместителем с 1924 г. стал Михаил Львович Винавер. В 1922 г. общество в соответствии с Постановлением ВЦИК от 12 июня 1922 г. было перерегистрировано и получило название «Помощь политическим заключенным». В задачу общества входило оказание помощи лицам, лишенным свободы по политическим мотивам, без различия их партийной принадлежности. Е.П. Пешковой разрешалось посещать все тюрьмы и другие места заключения арестантов и задержанных и в присутствии администрации вести с ними беседу, оказывать помощь одеждой, продуктами и медикаментами, вести переписку с государственными учреждениями с целью облегчения условий содержания. Источником финансирования общества были пожертвования от организаций и частных лиц, в том числе и из-за границы. В штате общества числилось всего несколько человек, но первые годы его работы были очень плодотворными, десятки тысяч несчастных людей получили моральную и материальную поддержку, а в конце 20-х годов общество помогло уехать в Палестину многим евреям, в том числе из ссылок и лагерей. Но с конца этого десятилетия осуществлять свою деятельность обществу становилось все труднее, его ходатайства удовлетворялись редко, возникли сложности с финансированием, и уже к началу 30-х годов вся деятельность свелась к наведению справок об арестованных и оказанию консультаций родственникам. В середине 1937 г. общество было закрыто по распоряжению наркома внутренних дел Н.И.Ежова.
Богатый архив общества и составил вышеуказанную документальную коллекцию ГАРФ. В частности, в фонде Е.П. Пешковой очень много материалов, связанных с Соловками: это и списки политзаключенных за 1924-1926 гг., и материалы обследования условий их содержания, и кассовые книги с перечнем всех посылок и денежных переводов, и прошения в государственные органы, и, конечно, обращения за помощью, в каждом из которых - своя история, своя трагедия. И все их объединяет одно - безвинные страдания арестованных и страстное желание их близких хоть как-то облегчить эти страдания.
Здесь публикуется лишь очень небольшая часть этих документов. Но и они дают ясное представление о той эпохе. Читая представляемые документы, можно понять, какие разные люди оказывались под катком репрессий. Среди авторов обращений - священномученик Сергий Знаменский, мать священномученика Игнатия (Садковского), жена священноисповедника Петра Чельцова, жена священномученика Ильи Бенеманского, поэт Максимилиан Волошин и многие другие...
При издании документов сохраняется орфография подлинников.http://www.solovki.info/?action=archive&id=281
|
Метки: красный крест террор |
80 лет назад телецентр на Шаболовке провел первую трансляцию |
10 марта 201904:30
80 лет назад телецентр на Шаболовке провел первую трансляцию
80 лет назад, 10 марта 1939 года, телевизионный центр на Шаболовке провел первую трансляцию. Советские граждане в прямом эфире могли видеть открытие XVIII съезда ВКП(б). С этого дня вещание стало регулярным.
Весной того года в Москве передачи принимали более 100 телевизоров ТК-1. В широкий обиход телевизоры вошли лишь в 1950-е после поступления в продажу доступной модели КВН-49, пишет газета "Известия".
В статье рассказывается об ученых и инженерах, благодаря которым телевещание стало возможным. Там, например, говорится о том, что архитектор и инженер Владимир Шухов для создания телебашни предложил несколько вариантов. Выбран был скромный 150-метровый вариант. Поскольку кранов и железа для их производства не было, Шухов предложил телескопическую модель строительства: каждая следующая 25-метровая секция собиралась внутри башни и поднималась внутри нее с помощью лебедок.
В марте 1922 года государственная комиссия приняла башню. На ней был смонтирован передатчик, и 19 марта началась радиотрансляция. Первым в эфир вышел концерт русской музыки с участием Надежды Обуховой и Бориса Евлахова.
Телевещание в СССР, пишет издание, было освоено не в последнюю очередь благодаря инженеру-эмигранту Владимиру Зворыкину (создал электронно-лучевую трубку для использования в телевизионных приемниках, названную им кинескопом, и передающую трубку – иконоскоп) и контрактам с американской компанией RCA.
С тех пор изменилось многое, но Шуховская башня на Шаболовке, где располагалась первая телевизионная студия, навсегда останется одним из символов российского ТВ.
|
Метки: зворыкины |
Политический Красный Крест в СССР, 1920-30-е годы |
Политический Красный Крест в СССР, 1920-30-е годы
15 Май 2010
Поделиться
Владимир Тольц: У микрофона в Праге Владимир Тольц, а в московской студии вместе со мной ведет передачу Александр Меленберг. Какие темы и документы вы собираетесь предложить вниманию слушателей сегодня, Александр?
Александр Меленберг: Сегодня речь пойдет о таком феномене советской истории, как Политический Красный Крест. Невероятно, но факт: в условиях жесткой тоталитарной власти на протяжении почти что 20 лет, сначала в Советской России, а затем в Советском Союзе, существовало официальное учреждение, легально оказывающее помощь арестованным врагам Советской власти. Людям, которых Советская власть, считала своими классовыми врагами, именно классовыми. Оно, это учреждение, изменяло свое название – сначала был Политический Красный Крест, затем организация с названием "Помощь политическим заключенным". И все эти 20 лет генератором идеи "Политпомощи" (а эту структуру так кратко и называли – "Политпомощь") являлась Екатерина Павловна Пешкова. О благородной деятельности Екатерины Пешковой, первой жены Максима Горького, в настоящее время написано изрядно. Мы же попробуем разобрать сам феномен сосуществования под боком друг у друга двух взаимоисключающих организаций – ВЧК-ОГПУ и "Политпомощи".
Владимир Тольц: Подождите, похоже вы собираетесь пересказать вашу двухлетней давности заметку в "Новой газете", где со ссылками на малоизвестные, вероятно, в Российской Федерации эмигрантские публикации, впрочем, перепечатанные, по-моему, там, ненавязчиво, так сказать, доказывалось историкам, да и эмигрантам давно известное, - что Екатерина Пешкова, сделавшая так много для арестованных советской властью, состояла при этом в непростых и разнообразных, и близких отношениях с ЧК и ОГПУ. Так ведь? Или что-то новенькое и неизвестное еще вы хотите нам сообщить?
Александр Меленберг: Собственно, да, речь пойдет о Екатерине Пешковой. Рядом со мной сегодня в московской студии Радио Свобода – Ирина Осипова, историк, составитель ряда сборников документов о деятельности Политического Красного Креста и "Политпомощи". И по телефону – историк Ярослав Леонтьев, доцент МГУ.
Ирина Ивановна, введите нас в курс дела, поведайте историю "Помощи политическим заключенным".
Ирина Осипова: После Февральской революции временное правительство амнистировало политических заключенных, но к приему их новая власть не была готова. И по инициативе общественных организаций было создано Бюро помощи освобожденных политическим. Освобожденным из тюрем помогали получить жилье, высланным – вернуться домой, устроиться на работу, снабжали их необходимым, направляли на лечение и отдых. И в Петрограде эта работал проводилась под руководством Веры Николаевна Фигнер, а в Москве – Екатерины Павловны Пешковой. А после Октябрьской революции число арестованных по политическим мотивам стало стремительно расти. И среди политзаключенных оказались не только враги большевиков, но и многие не имевшие отношение к политической борьбе.
В декабре 1917 года в оппозиционных газетах было напечатано извещение о начале работы Российского общества Красного Креста для помощи политзаключенным. Председателем был избран Николай Константинович Муравьев, его заместителем – Екатерина Павловна Пешкова, почетным председателем Владимир Галактионович Короленко. Впервые за время своего существования деятельность ПКК была легализована. Такие же организации были созданы в городах Петроград, Харьков, Полтава. Но московским ПКК был самым значительным и вскоре стал играть роль всероссийского, а затем и всесоюзного.
Главной задачей МПКК была материальная и юридическая помощь политзаключенных. Но по мере укрепления советской власти отношение к МПКК становилось все более негативным, особенно с лета 1922 года, во время судебного процесса над ЦК партии эсеров. В результате деятельность МПКК была приостановлена, а 25 августа фактически прекращена. Но впоследствии МПКК был просто реорганизован в другую организацию во главе в Пешковой. 11 ноября ей было передано помещение МПКК со всем имуществом для работы по оказанию помощи политическим заключенным.
Александр Меленберг: Основные документы фонда Политического Красного Креста это письма заключенных и их родственников с просьбами о помощи. Читаем одно из многих тысяч. Оно принадлежит человеку неординарному, достаточно известному в просвещенных кругах общества. Речь идет о поэте Николае Клюеве. Крестьянский поэт, как он себя позиционировал.
Надо сказать, что Николай Клюев был на голову выше всех предыдущих традиционных пасторальных "деревенщиков". Фактически это был человек русского модерна начала ХХ века, по какому-то внутреннему недоразумению влезший в картуз, поддевку и декоративные лапти. Персона, неотделимая от Серебряного века русской культуры. Его поэзия – это элементы символизма, реализуемые, через настоящую, а не поддельную народную лексику.
Владимир Тольц: Вы знаете, при всем почтении к творческому наследию Клюева и сочувствии к его судьбе я не готов разделять ваши рассуждения о месте, занятом Клюевым по недоразумению. Но дело, в общем, не в этом. Скажите, Саша, а почему вы выбрали письмо именно Клюева? Ведь таких писем – тысячи, и мы часть этих писем уже в наших передачах - как раз из Фонда Политического Красного Креста - воспроизводили. Не оттого ли вы выбрали Клюева, что рассчитываете на то, что имя поэта, ну, как бы известно нашим слушателям, и это усилит эффект что ли от передачи? Или оттого, что история эта показательна для тысяч других случаев, герои которых носили картузы и поддевки отнюдь не по недоразумению?
Александр Меленберг: Нет, здесь момент совсем в ином. Понимаете, мне показалось, что именно это дело, то есть переписка с Клюевым, - показатель эффективности работы Пешковой. И особенности занимаемого ею места в структуре советского общества, в структуре советского истеблишмента. Видите, она вытащила Клюева фактически в 1936 году, когда уже… Ну, как, 1936 год – какие могут быть освобождения? 1926-ой – пожалуйста, 1918-ый - пожалуйста. Но не 1936-ой!
Итак, Николай Клюев был арестован 2 февраля 1934 года. А уже спустя месяц, 5 марта, приговорен к 5 годам исправительно-трудовых лагерей с заменой на 5 лет высылки. Клюев был отправлен в поселок Колпашево Нарымского края. В июне 1934 года с места ссылки он обратился с письмом к Екатерине Пешковой.
"Екатерине Пешковой, от поэта Клюева Николая Алексеевича.
Двадцать пять лет я был в первых рядах русской литературы. Неимоверным трудом, из дремучей поморской избы вышел, как говорится, в люди. Мое искусство породило целую школу в нашей стране. Я переведен на многие иностранные языки, положен на музыку самыми глубокими композиторами. Покойный академик Сакулин назвал меня народным златоцветом, Брюсов писал, что он изумлен и ослеплен моей поэзией. Ленин посылал мне привет как преданнейшему и певучему собрату, Горький помогал мне в материальной нужде, ценя меня как художника. За четверть века не было ни одного выдающегося человека в России, который бы прошел мимо меня без ласки и почитания. Я преследовался царским правительством как революционер, два раза сидел в тюрьме, поступаясь многими благами в жизни. Теперь мне пятьдесят лет, я тяжело и непоправимо болен, неспособен к труду, и ничем, кроме искусства, не могу добывать себе средств к жизни.
За свою последнюю поэму под названием "Погорельщина", основная мысль которой та, что природа выше цивилизации, за прочтение мною этой поэмы немногим избранным художникам, и за три-четыре безумные и мало продуманные строки из моих черновиков, - я сослан Московским ОГПУ по статье 58 пункт десять в Нарым, в поселок Колпашево, на пять лет".
Александр Меленберг: Нарымским краем в Российской империи назвали гиблое место в северной части Томской губернии – место политической ссылки противников монархии. В советское время Нарым по прежнему был грустным местом, где гноили противников режима. По большей части мнимых противников.
Клюев пишет про "три-четыре безумные и мало продуманные строки из черновиков". Считается, что он говорит о строках из незаконченного цикла "Разруха", в которых он прошелся по Беломорканалу – атриуму политрепрессий начала 30-х годов. Вот такие, например, строки:
"То беломорский смерть-канал,
Его Акимушка копал,
С Ветлуги Пров да тетка Фекла.
Великороссия промокла
Под красным ливнем до костей…"
Впрочем, существует и другая версия, что причиной ареста Клюева стала его гомосексуальная ориентация. Не просто им не скрываемая, а открыто демонстрируемая.
Владимир Тольц: Ну, на каком общественно-политическом фоне возникла эта последняя версия (ее еще, кстати, Бахтин пересказывал), это, в общем, ясно. В 1933 году и в Германии, становящейся нацисткой, и в Советском Союзе постепенно меняется отношение власти к гомосексуалам. В сентябре в Москве и в Ленинграде прошла первая облава на гомосексуалистов. В декабре Ягода просит Сталина принять законодательные меры против "голубых", и этот вопрос обсуждается на Политбюро. В результате – соответствующее решение ЦИК появляется, в декабре же, и в марте 1934-го в УК введена статья об уголовной ответственности за мужеложство. Клюева, напомню, арестовали в феврале 1934-го. Ну, что можно сказать сегодня? Что через семь с половиной десятилетий после ареста замечательно поэта хотелось бы все-таки слышать ссылки не на старые версии и разговоры о том, зачем и почему, а на материалы дела. Однако продолжим читать письмо Клюева, которое он из ссылки прислала Екатерине Пешковой.
"В этом случайном, но невыносимо тяжком человеческом несчастии, где не приложимы никакие традиции, и пригодна лишь одна простая человечность, я обращаюсь к Красному Кресту со следующим.
1) Посодействовать применение ко мне минуса шесть или даже минуса двенадцать с переводом меня до наступления зимы из Нарымского края, по климату губительного для моего здоровья, в отдаленнейший конец бывшей Вятской губернии, в селение Кукарку, в Уржум или в Красно-кокшайск, где отсутствие железных дорог и черемисское население, мало знающее русский язык, в корне исключает возможность разложития его моей поэзией, но где умеренный сухой климат, наличие жилища и основных продуктов питания – неимение которых в Нарыме грозит мне прямой смертью (не всегда появляющиеся продукты сказочно дороги).
2) Посодействовать охране моего имущества в Москве, по Гранатному переулку, дом № 12, кв. 3.
3) Оставлению за мной моей писательской пенсии, которую я не получаю со дня ареста, 2 февраля 1934 года.
4) Вытребовать по Бюро медицинской экспертизы в Ленинграде пожизненное удостоверение о моей инвалидности (удостоверение упомянутого Бюро у меня имеется, но осталось по аресте в Москве в моей квартире, заложенное в древнюю немецкую Библию. Приметы последней: готический переплет, вес один пуд).
5) Оказать мне посильную денежную помощь, так я совершенно нищий. Справедливость, милосердие и русская поэзия будут Вам благодарны.
Николай Клюев.
Адрес: поселок Колпашево Северо-Западной Сибири Томского округа.
15 июня 1934 года".
Владимир Тольц: В ноябре 1934 года, благодаря ходатайству Политического Красного Креста, Клюеву было разрешено отбывать ссылку в Томске. Это было, в общем, получше, чем Нарым. Но и здесь, правда, Клюев по-прежнему не имел средств к существованию, нищенствовал, голодал. А в 1936 году был вновь арестован как "участника церковной контрреволюционной группировки". На этот раз за помощью ему к Екатерине Пешковой обратился геолог Ильин, бывший член партии эсеров, сам перед тем неоднократно репрессированный.
"Глубокоуважаемая Екатерина Павловна.
Поэт Николай Алексеевич Клюев в марте арестован в Томске (где он отбывал ссылку), у него был удар, отнята левая сторона, и он сразу был переведен в тюремную больницу. В чем он обвиняется – неизвестно. Во всяком случае, ему не может быть предъявлено обвинение в порочном поведении. Одновременно с ним арестованы епископ и другие церковники.
Клюеву в его исключительно тяжелом положении могло бы помочь личное заступничество А. М. Горького.
С глубоким уважением Ростислав Сергеевич Ильин (известный Вам), старший геолог Западно-Сибирского Геологического треста.
Домашний адрес: Томск, ул. Кирова, 38, кв. 4.
19 июня 1936 года".
Александр Меленберг: Вот здесь, по моему убеждению, и произошло маленькое чудо. 4 июля 1936 года, благодаря второму ходатайству Политического Красного Креста, то есть Пешковой, Клюев вновь был освобожден. Хотя на этот раз он не представлял для Советской власти уже никакой опасности. Это был безнадежно больной человек, фактически не поднимавшийся с постели. Тем не менее, чекисты довели свое дело до конца. Клюев вновь арестован 5 июня 1937 года, как "идейный вдохновитель и участник контрреволюционной организации "Союз Спасения России"". В октябре того же года его расстреляли.
Владимир Тольц: Ну, а Ростислава Сергеевича Ильина арестовали в июне 1937-го и расстреляли в августе. Тогда, в 1937-м, уже при Ежове, с этим делом было быстро и круто. Обвиняли его в том, что он является членом "японо-эсеровской шпионско-диверсионной террористической организации".
Александр Меленберг: И вообще, Ростислав Ильин, как личность и ученый, заслуживает отдельного разговора. Хотя бы такой факт: в начале 30-х годов, будучи административно-высланным, работая в геологической партии, он предсказал, что в Сибири будет найдена нефть.
Владимир Тольц: Я сейчас хочу обратиться к нашей гостье – Ирине Осиповой, составителю ряда сборников документов о деятельности Политического Красного Креста в СССР.
- Ирина Ивановна, я уже спросил своего соведущего Александра Меленберга о его старой газетной заметки по поводу Пешковой и ее правозащитной организации, о связи Политического Красного Креста (под разными названиями он выступал) с союзным НКВД до и после 1934 года. Отвесив в той двухлетней давности заметке несколько реверансов в сторону Пешковой, -то же, по-моему, Саша сделал и сейчас, - дальше он писал об этих неоднозначных отношениях Пешковой с НКВД, с ЧК, с ОГПУ и так далее. Это сообщалось два года назад как большая «научная» новость. Но скажите, во-первых, как вы оцениваете все сочинения и что в этом плане, может быть, нам известно стало нового за эти два года?
Ирина Осипова: Ну, вот по письмам, которые мы в эти годы смотрели, огромное количество писем, особенно связанных в высылкой из Ленинграда в Марте 1935 года огромного количества бывших, уже в середины, уже после 1934 года ходатайства "Помполита" и Пешковой лично, они практически ничего не меняли вообще в судьбах. На них просто не обращали внимания. Какие-то отдельные случаи, если и освобождались, то опять это было связано, предположим, когда были освобождены из Казахстана большое число молодежи, связано это было с тем, что они в основном почти все уже либо кончили, либо были на последних курсах институтов, и с точки зрения просто логики, что столько было вложено в их образование, именно это, может быть, повернуло, что часть этих ребят молодых была освобождена, и они вернулись в Ленинград.
Владимир Тольц: Я хотел бы тот же свой вопрос адресовать и Ярославу, который нас, я надеюсь, слышит.
Ярослав Леонтьев: Я пытался тоже рассуждать на эту тему и вот к каким выводам я пришел. Конечно же, связь личная у Екатерины Павловны с руководителями всех этих ведомств, начиная от ВЧК и кончая ягодовским, подчеркну, не ежовским, конечно, а ягодовским НКВД, естественно, была, и это нельзя сбрасывать со счетов. У нее были достаточно теплые отношения с Феликсом Эдмундовичем, и как известно, она публиковала некролог, посвященный Дзержинскому, за что ее упрекали некоторые представители в эмиграции. Хотя в то же время у нее нашлись и защитники, которые даже требовательно настаивали, что на такой ноте, как это, скажем, делал Ходасевич, не должно обвинять Пешкову, которая сделала очень много для самых различных категорий политзаключенных. И вот Ходасевичу отвечал, помнится, не менее подвергавшийся, даже, точнее, в отличие от Ходасевича, не подвергавшийся прямым репрессиям, человек, побывавший неоднократно в большевистском заключении, а потом оказавшихся среди высланных из России в 1922 году, известный историк Сергей Мельгунов выступил в защиту Пешковой в ответ на эти обвинения. Конечно, взаимоотношения с Ягодой благодаря тому, что семья Горького, невестка Пешковой, Тимоша, супруга Максима Пешкова (Надежда – ее настоящее имя), как мы помним, она имела даже вполне себе романтические отношения с Генрихом Ягодой, и видимо, благодаря этому тоже, конечно, какие-то реверансы в пользу Екатерины Павловны всесильный шеф ОГПУ, потом первый руководитель НКВД, когда ОГПУ было влито в него, и в виде Главного управления государственной безопасности, Генрих Ягода, конечно, благодаря этим тесным связям с семьей Горького мог оказывать некоторые услуги конкретно, значит, Екатерине Павловне.
Александр Меленберг: Сейчас я выскажу, может быть, крамольную вещь, но необходимую. Как я уже говорил в начале передачи, о деятельности Екатерины Пешковой, первой жены Максима Горького, в настоящее время написано изрядно панегириков. Но есть оборотная сторона медали. А именно – посредничество в торговле заложниками. Схема такая: органы ВЧК-ОГПУ арестовывали так называемых "бывших людей" – дворян, крупных чиновников и так далее, прежних лет, конечно, чиновников, затем списки потенциальных заложников предоставлялись через "Амторг" (Американскую торговую организацию, созданную на паях советским правительством и американским предпринимателем Армандом Хаммером) в руки Хаммера, он сам или через посредников предлагал жившим в эмиграции родственникам этих заложников выкупить их за определенную сумму. Так сказать, на индустриализацию. Разумеется, на условиях полной тайны все это делалось, иначе заложники будут расстреляны. Все переговоры и расчеты проводились почти прозрачно, через Политический Красный Крест ("Политпомощь").
Здесь вот какой момент с Пешковой. Ведь Советы точно знали, что она человек, скажем так, кристальный, поэтому ее и использовали в этой цепочке доставания валюты для нужд индустриализации. И она это, наверное, понимала в какой-то степени понимала. И шла на этой только по одной причине, чтобы ее организация "Политпомощь"… Кстати, она называлась официально (никто об этом почему-то не упоминает) "Екатерина Пешкова. Политпомощь" – вот так она называлась, "скромно", скажем, да.
Ярослав Леонтьев: Что касается названия, нет, здесь это не было каким-то тщеславием со стороны Екатерины Павловны. Просто надо вспомнить ту ситуацию, когда эта организация была официально зарегистрирована. Разрешение давал на регистрацию этой организации Иосиф Ужлев, который являлся в тот момент заместителем председателя ОГПУ, и это было связано действительно с личным авторитетом Пешковой, то есть именно ей позволили чекисты воссоздать организацию, но в несколько ином статусе и под ее личные, действительно, гарантии. Но, с другой стороны, это, кстати, было связано и обусловлено еще одной важной миссией, которой занималась Пешкова, и о которой стоит наверняка напомнить нашим слушателям, а именно: в этот момент шел обмен между военнопленными красноармейцами, которые находились в польском плену, и "пилсудчиками", которые топились в Советской России. И Пешкова по линии Польского Красного Креста, как раз она была членом тоже этой организации, она занималась вот этим обменом красноармейцев на "пилсудчиков", и таким образом она выполняла в каком-то смысле важное государственное задание, поручение. И опять же благодаря уникальности ее фигуры вот именно под нее и была создана новая организация.
Владимир Тольц: Соглашусь с Александром Меленбергом: спасение Красным Крестом и иными организациями и отдельными людьми политзаключенных в условиях тоталитарного государства – чудо. Причем не маленькое, как говорит Саша. И не только в СССР 1930-х годов, но и в фашистской Италии, и в нацистской Германии. В создании таких чудес их творцам приходилось ради спасения людей вступать в самые причудливые и близкие отношения с тюремщиками, палачами и карателями. Достаточно вспомнить Рауля Валленберга и его "задушевные", так сказать, беседы в будапештском гестапо. Хитростью, обманом и деньгами Валенбергу удалось спасти около 20 тысяч человек. Можно, поскольку в России нынче печальная мода постигать историю через кинофильмы, напомнить и спилберговский "Список Шиндлера". Кстати, и про Валленберга, и про Шиндлера post factum было сочинено немало гадостей – обвиняли и в наживе, и в связи со спецслужбами, и в торговле людьми. Ну, почти так, как теперь пытаются писать и говорить порой про Екатерину Павловну Пешкову. Про нее еще не сняли фильма, в котором показали бы всю ничтожность и глупость подобного рода обвинений. Но это просто потому, что пока не нашлось "русского Спилберга". Вот снимут, и тогда нация телезрителей разом поймет, что Пешкова – одна из главных героинь мученической истории дотелевизионной России.
|
Метки: пешковы красный крест террор |
Террорист Яков Блюмкин возвращается в Москву |
[]
Террорист Яков Блюмкин возвращается в Москву

"Призрак Блюмкина над Марьиной рощей"
Согласно неофициальной информации Еврейский музей в Марьиной роще будто бы готовится развлечь Москву мощной выставкой, посвященной Якову Блюмкину – начальнику спецотдела ВЧК, руководившему карательными отрядами на Украине, «куратору» экспедиции, искавшей в Тибете и на Алтае волшебную страну Шамбалу, руководителю Республики Красный Иран со столицей в городе Гиляни и адьютанту Льва Троцкого в Наркомате обороны.. Вроде бы припасено более шестисот фотографий и документов, прежде абсолютно секретных.
"Тов. Меркулову
Служебная записка
Об экспедиции в Лхасу (Тибет) 1925 года и снаряжении новой экспедиции
В соответствии с личным распоряжением пред. ОГПУ тов. Ф.Дзержинского, в сентябре 1925 г. в Тибет в Лхасу, была организована экспедиция в кол-ве 10 человек под руководством Я. Блюмкина, работавшего в научной лаборатории ОГПУ в Красково (под рук. Е.Гопиуса,). Лаборатория входила в состав спецотдела ОГПУ( Г.Бокия). Целью экспедицию являлось уточнение географических маршрутов, поиск «города богов», с целью: получения технологи ранее неизвестного оружия, а также рев.-агит.пропаганда, что, как следует из докладов Блюмкина не нашло «соответствующей востребованности» среди властей Тибета.
Первоначально Блюмкин выступал под легендой монгольского ламы, а по прибытии в Леху (столица кн. Ладакх) был разоблачен. От ареста и депортации его спас мандат, выданной ему за подписью тов. Дзержинского с обращением к Далай ламе, встречи с которым он ожидал в течение трех месяцев.
Из доклада Блюмкина следует, что в январе 1926 года во дворце в Лхасе его принял Далай лама 13-й, который воспринял послание тов. Дзержинского как добрый знак, а далее, по приглашению правительства Тибета он, Блюмкин становится важным гостем. Тибетские монахи рассказали ему некоторые тайны, хранящиеся в глубоком подземелье под дворцом Потала.
Блюмкин описывает, что после того, как он прошел своеобразную процедуру «посвящения», пообещав Далай-ламе организовать крупные поставки оружия и военной техники из СССР (в кредит), а также помочь в предоставлении золотого кредита правительству Тибета, по личному указанию Далай ламы, 13-ть монахов сопроводили его в подземелье, где существует сложная система лабиринтов и открытия «тайных» дверей. Для того, чтобы это сделать, монахи заняли соответствующее место и поочередно, в результате переклички, в определенной последовательности стали оттягивать вниз от свода потолка кольца с цепями, с помощью которых, большие механизмы, скрытые внутри горы открывают ту или иную дверь. Всего в тайном подземном зале 13 дверей. Блюмкину были показаны два зала. В одном из них монахи хранят древнее оружие богов – ваджару – гигантские щипцы, с помощью которых в 8-10 тысячелетии до н.э. вожди древних цивилизаций осуществляли широкомасштабное выпаривание золота при температуре, равной температуре поверхности солнца, примерно 6-7 тыс. градусов С. Со слов монахов, при процедуре «выпаривания» золота в течение нескольких секунд происходит такая реакция: золото вспыхивает ярким светом и превращается в порошок. С помощью этого порошка Воджара древние правители продлевали себе жизнь, употребляя его с пищей и вином на сотни лет. Этот же порошок использовался в строительстве. С его помощью древние строители, по утверждению монахов, действительно, передвигали в воздухе гигантские каменные монотонные плиты и осуществляли разрезание и распиливание твердых каменных и скальных пород, возводя каменные монументы и исторические постройки, сохранившиеся до наших дней.
Под землей монахи хранят секреты минувших цивилизаций, которые когда-либо существовали на Земле. По утверждению Блюмкина их было 5-ть, вместе с той цивилизацией, которая существует сейчас. Согласно тайному учению Ва-джу, неизбежной причиной гибели цивилизаций на Земле является вращение вокруг солнца еще одной планеты, в 3 раза больше чем Земля, с большим внутренним запасом тепла и воды, по эллипсообразной орбите, с циклом вращения вокруг солнца равным 3.600 годам. Эта планета вращается по часовой стрелке, в отличие от земли и других планет, поэтому, когда она входит в плотность вращения планет солнечной системы, в результате мощного электромагнитного вихревого потока, создающегося от вхождения
планеты пришельца в солнечную систему, каждые 3600 лет на Земле случаются гигантские природные катаклизмы, в результате которых неоднократно происходила гибель человечества и животных. При этом, каждый четвертый цикл вхождения этой планеты в солнечную систему грозит неизбежным мировым потопом на Земле и гибелью цивилизации, из-за характерной динамики вращения планет, которые естественно выстраиваются своими орбитами в определенной последовательности. Так, Земля, в этом случае, будет обращена к планете - пришельцу не с материковой стороны, а со стороны Тихого океана. Вода находящаяся на Земле с противоположенной стороны от материковой части, в результате прохождения планеты-пришельца в непосредственной близости от Земли в поясе астероидов, из-за ее размеров и противоположенного вращения, будет вытеснена на материки и континенты. При этом, высота волны составит от 6 до 7 км со скоростью движения 700-1000 км/час. Третий цикл вращения планеты-пришельца вокруг солнца, и прохождения ее в непосредственной близости от Земли был в 1586 году до н.э. Вхождение планеты в солнечную систему ожидается в 2009 году сл. столетия, и соответствующе в 2014 г. (с учетом разницы по юлианскому календарю), по утверждению тибетских монахов, произойдет 5-й Армагеддон, гибель цивилизации и человечества.
По утверждению Блюмкина, по этой же причине, все известные доисторические календари – шумерский, вавилонский, майский оканчиваются одной и той же датой – 27 декабря 2014 года.
По утверждению монахов, спастись будет возможно лишь небольшой части избранных людей в подземных городах Антарктиды и в Тибете, которые каким-то шлейфом под землей соединены между собой. В результате гибели каждой из цивилизаций, ось Земли смещалась против часовой стрелки от острова Пасхи (первый северный полюс доисторической так назывемой «протогирейской» цивилизации) на 6666 км. В результате предстоящего Армагеддона следующим северным полюсом Земли станет Северная Америка.
Для совершения экспедиции Блюмкину были выделены 100 тысяч золотых рублей царской монетой. Однако, его маршрут был не продуман, использована легенда прикрытия, не соответствующая целям экспедиции, ставшая угрозой ее срыва из-за ареста и возможной депортации.
Как стоит полагать, основным аргументом при ведении переговоров с правительством Тибета является оружие и золото. Далай лама 13-й умер в 1933 году. Далай лама 14-й (Данцзин Джамцо) родился в 1935 году. До 18-ти летнего возраста руководство Тибетом осуществляет регентский совет во главе с регентом – Главой государства Ретингом Римпоче.
Указанная информация о Тибете, известная нам, стала достоянием германских и японских военных властей в результате нескольких зарубежных поездок Блюмкина за кордон весной и летом 1929 года, после которых Блюмкин пытался осуществить бегство из СССР со своей сожительницей.
Информация, которую сообщил в своем рапорте тов. Савельев, возвратившийся из Германии, целиком и полностью совпадает с той, что сообщал Блюмкин по возвращении из Тибета.
При планировании новой экспедиции считаю целесообразным предложить предать ей официальный статус, а тов. Савельева снабдить соответствующими верительными грамотами и делегировать ему достаточные полномочия, чтобы он мог от лица советского правительства обсуждать любые вопросы с властями Тибета, в том числе и вопросы военно-экономического характера.
В качестве маршрута предлагал бы избрать путь: самолетом от Москвы-Ташкент-Сталинабад. От Сталинабада машинами до государственной границы СССР в р-не пер. Каши (Китай), что составляет протяженность трассы примерно 760 км., а далее автомобильными и проселочными дорогами, которыми соединены населенные пункты вдоль Гималаев до Лхаса, с информированием властей Великобритании, Китая о продвижении государственно-исследовательской партии в Тибет.
При этом необходимо Ваше указание о выделении следующего транспорта: 3-х грзовых а/м ГАЗ-АА, 3-х а/м Пикап ГАЗ-4 и 3-х сан.автобусов.
По численности экспедиции полагал бы остановиться на следующем составе:
Руководитель экспедиции -1
Врач-1
Зоолог-1
Веет.врач-1
Фотограф-1
Кинооператор-1
Носильщики(разнорабочие)-3
Переводчик-проводник-2
Водители-сотрудники-18 чел из расчет 9 чел. по 2 смены.
Они же должны быть специалистами по лошадям, владеющие
кит.видами единоборств и т.п.
Т.о. кол-во членов экспедиции « ____» чел.
Финансовая часть: в качестве устойчивой валюты для разных расчетов, с учетом специфики местности, предлагаю изыскать золотые царские рубли. Всего для финансирования экспедиции, с учетом того, что на каком-то участке пути возможна утрата транспорта и необходимая покупка лошадей, и прочие непредвиденные расходы, с учетом питания, проживания и ночлега, всего необходимо выделить 1000 золотых монет царской чеканки.
В качестве подарка от правительства СССР регенту Тибета Рентингу Римпоче предлагаю вручить 5-ти килограммовую статую молящегося Будды из чистого золота, реквизированную в Бурятии в 1928 году. Указанная статуя хранится на рек.складе НКВД (инв.№______).
Начальник 5 отдела ГУГБ НКВД
________________
Листы служебной записки Об экспедиции в Лхасу (Тибет) 1925 года и снаряжении новой экспедиции:



Яков Блюмкин, 1898 года рождения, «на лицо ужасный, но добрый внутри» покуролесил в своей тридцатилетней жизни так, как его сегодняшним последователям и не снилось, и был поставлен к стенке коллегами по ОГПУ.
Теперь получается, что Яша - хороший! Ну, убил он посла Германии в Москве, после чего большевиков лишь чудом спасла латышская дивизия. Так ведь совершил это с благородными целями – чтобы пробудить русских к борьбе за свободу! А если мокруху, вывести за скобки – остается героическая деятельность по укреплению государства и попытки поставить интеллект тибетских монахов на службу отечественному ВПК. Не зря Лаврентий Палыч Берия изучал дело давно расстрелянного Яши, оставив на документах впечатляющий автограф.
С чего бы вдруг столь бурный интерес к кипучему провокатору и авантюристу, любителю пострелять по живым мишеням?!
Да и что эта экспозиция может добавить к океану книг и фильмов про «ленинскую гвардию» , «монетизировавшую» власть и запустившую репрессивный механизм, который её в результате и уничтожил?!
В январском номере за 1986 год журнала «Дружба народов» был опубликован недописанный роман Юрия Трифонова «Исчезновение», где автор нашумевшего «Дома на набережной» снова вернулся к персонажам из родного дома, своему отцу и дяде, и показал ужас, с которым «старые бойцы» осознавали, что «Этот год мы с тобой, пожалуй, не дотянем!»
А год был между прочим 1937-й!
Да мало ли и сегодня в Москве «проповедников», объявляющих миллионы потерянных за годы «реформ» жизней – «неизбежными издержками демократии»?!Совершенно не думающих, что ведь и сами могут попасть в «издержки»!
Что добавит нам образ супермена Яши Блюмкина после Березовского и Гусинского, на глазах у всего мира шумно выяснявших, кто из них больший бандит и потому имеет большее право командовать Россией?!
Михаил КАЗАКОВ
Листы протокола допроса Блюмкина Я.Г.




Оригинал материала: http://stringer-news.com/publication.mhtml?Part=48&PubID=31047
Tags: авантюристы, большевизм, историяtps://vatslav-rus.livejournal.com/67426.html
|
Метки: яков блюмкин террор наука вчк-кгб |
Жалованье и прочее "довольствие" фрейлин |
Жалованье и прочее "довольствие" фрейлин
 olga74ru — 10.08.2017 Я не зря употребляю термин "довольствие", так как жизнь у штатных фрейлин в их Фрейлинском коридоре, на мой взгляд, была вполне армейская - суточные и недельные дежурства, выполнение приказов, форма, распорядок дня. Штатные фрейлины находились на полном обеспечении Двора и при этом получали жалованье.
olga74ru — 10.08.2017 Я не зря употребляю термин "довольствие", так как жизнь у штатных фрейлин в их Фрейлинском коридоре, на мой взгляд, была вполне армейская - суточные и недельные дежурства, выполнение приказов, форма, распорядок дня. Штатные фрейлины находились на полном обеспечении Двора и при этом получали жалованье.
Итак, все женские «штатные единицы» при Императорском дворе соответствующим образом оплачивались.
По придворному штату, утвержденному Павлом I в декабре 1796 г., обер-гофмейстрина получала жалованье в 4000 руб. в год. Такое же жалованье получали и 12 статс-дам (по 4000 руб.), 12 фрейлин получали жалованье по 1000 руб. в год.
Для многих бедных аристократок оказаться на должности фрейлины «за жалованье» было просто подарком судьбы. При этом фрейлины не только получали довольно высокое жалованье, но и имели оплачиваемые «больничные» и отпуска «с дорогой». Если какая-либо из фрейлин заболевала, то императрица из своих средств оплачивала не только лечение, но и реабилитационный отдых со всеми издержками. Как вспоминала бывшая фрейлина А.О. Смирнова-Россет: «Арендт мне советовал ехать в Ревель купаться в море. Я сказала об этом императрице. Она велела мне дать четверо-местную дорожную карету, подорожную на шесть лошадей, и все было уплачено. Мне выдали жалованье за три месяца, что составляло пятьсот рублей асс., и я отправилась с Карамзиными в Ревель».

Н. М. Алексеев. Портрет А. О. Смирновой-Россет. Акварель.
Кроме этого важным преимуществом фрейлин была возможность, выходя замуж, составить блестящую партию. Согласно правил, фрейлина подавала прошение на высочайшее имя, испрашивая разрешение на замужество. После разрешения фрейлина получала от казны соответствующее приданое. Размеры «приданной суммы» менялись. В конце XVIII в. приданое фрейлины составляло 12 тыс. руб. ассигнациями. В мемуарной литературе описаны эпизоды, когда для свадебной церемонии фрейлин-невест украшали бриллиантами. Конечно, этой чести удостаивались только «любимые» фрейлины.


Фрейлины (Елизавета Сергеевна Толстая и Елена(Элла) Константиновна Кочубей
Поскольку фрейлины находились в «ближнем кругу» императорской семьи, то они не обделялись высочайшим вниманием. В случае необходимости им помогали. В 1859 г. Александр II приказал обеспечить деньгами фрейлину Дарью Тютчеву «2-ю» для поездки заграницу на лечение. Поскольку она служила при Дворе, то это было соответствующим образом обставлено. В поездке до Берлина ее сопровождал лейб-хирург Ф.Ф. Жуковский-Волынский со своим сыном, камер-юнгфера фрейлины, аптекарский помощник и лакей при фрейлине. Всего сопровождающих набралось 5 человек и на эту поездку Тютчевой выделили «заимообразно» 3776 руб. Поскольку фрейлине деньги давались в долг, то принималось во внимание, что Тютчева расплатится со своего жалованья.


Фрейлины (m-lle Оболенская и Е. Н. Голицына)
Это жалованье складывалось из: штатного жалованья в 187 руб. 25 коп.; «столовых» – 409 руб. 9 коп. и денежных выплат «на стол с припасами» – 2354 руб. Следовательно, годовое жалованье фрейлины в 1859 г. составляло 2950 руб. 34 коп. Для сравнения – в 1850-х гг. профессорам ведущего медицинского факультета Московского университета выплачивалось казенного жалованья по 1429 руб. 60 коп. серебром в год. Кроме этого им выплачивались «квартирные» деньги в размере 142 руб. 95 коп. серебром, то есть всего 1572 руб. 55 коп. серебром.
В начале XX в. фрейлинское жалованье уже составляло – 4000 руб. в год. Для сравнения – жалованье ординарного профессора Императорского университета составляло 3000 руб. в год, жалованье заместителя начальника Дворцовой полиции – 6800 руб., жалованье начальника аналитического отдела Дворцовой полиции в чине полковника – 5000 руб.

Княгиня Оболенская-Нелединская-Мелецкая (1834 год), фрейлина императрицы Александры Федоровны (супруги Николая I) (Неизв.художник).
Жалованье фрейлин не менялось с конца XIX в. и до 1917 г. составляло 4000 руб. в год. Надо заметить, что, несмотря на инфляцию, жалованье оставалось весьма значительным, с учетом того, что фрейлины жили «на всем готовом». Вместе с тем у фрейлин были немалые расходы. Основная часть расходов приходилась на туалеты: «Их надо было менять три раза в день. Даже дома фрейлина не могла одеваться, как хотела. Ее туалет всегда должен был соответствовать ее рангу, и к обеду декольтированное платье было обязательным. То же самое платье не надевалось, конечно, много раз. Должны были быть в гардеробе и дорогие платья не для балов, а, скажем, для посещения церковных служб, свадеб, похорон, дней рождения, именин и т. п.». И да, ещё форменное платье фрейлины, если она на дежурстве.

Платье фрейлины императрицы (красный бархатный верх, золотые нити шитья). Платья фрейлин Великих княгинь были аналогичны, но нити шитья были серебряными. У фрейлин Великих княжон - серебро и голубой бархат верха.
В последние годы существования империи, когда царская семья перебралась на жительство в Александровский дворец Царского Села, штатным фрейлинам Александры Федоровны обеспечивалась квартира во дворце, которая состояла из гостиной, спальни, ванной и комнаты для горничной. Каждой из фрейлин полагался лакей, который прислуживал за столом, коляска с парой лошадей и кучер. Ни повар, ни кухня были не нужны, так как еду приносили с царской кухни. В свободное время фрейлина могла принимать гостей, все угощение предоставлялось за счет Двора.
По свидетельству А.А. Вырубовой, некоторое время занимавшей положение штатной фрейлины: «Ежедневная пища была превосходна. Утром приходил лакей с бланком заказа; туда вписывались вина – обычно три сорта, – фрукты и сладости. Я никогда не выпивала больше бокала вина за столом, но каждый раз открывалась новая бутылка».
Несмотря на множество обязанностей, в положении фрейлин были и неоспоримые преимущества. Кроме таких «мелочей», как полное обеспечение при Дворе – квартира, прислуга, питание, это была самая престижная работа для девушек-аристократок, за которую платили жалованье.


Фрейлины (Е.А. Голицына и Е.Н. Оболенская)
| https://yablor.ru/blogs/jalovane-i-prochee-dovolstvie-freyl/6214701 | |||||
|
Метки: фрейлины |
Шелашников Александр Николаевич |
Шелашников Александр Николаевич
Биография
10 апреля 1870 года — 21 июня 1919 года
Потомственный дворянин, сенатор, действительный статский советник (1916), Самарский предводитель дворянства (1916), член Государственного Совета от земства Самарской губернии (1916), председатель Самарского Областного общества Красного Креста (1917).
Великий классик XIX века А. С. Пушкин писал: «Чему учится дворянство? Независимости, храбрости, благородству. Не суть ли сии качества природные? Так, но образ жизни может их развить, усилить - или задушить. Нужны ли они в народе так же, как, например, трудолюбие? Нужны, ибо они охрана трудолюбивого класса, которому некогда развивать сии качества».
Александр Николаевич Шелашников родился 10 апреля 1870 года в селе Исаклы Самарской губернии. Отец - помещик села Исаклы, действительный статский советник, православного вероисповедания, женатый третьим браком, 53 года, мать - дочь отставного штабс-капитана Фёдора Порфирьевича Стрельникова, Вера Фёдоровна Стрельникова, православного вероисповедания, 20 лет. Вера Фёдоровна имела 1743 десятины земли в Бугурусланском уезде. В Самарской Духовной Консестории свидетельствует метрическая запись: «У Николая Петровича и жены его Веры Фёдоровны родился сын Александр 10 апреля 1870 года».
Александр Николаевич Шелашников окончил лицей цесаревича Николая. С аттестатом зрелости был принят в студенты Московского университета на юридический факультет, но в 1894 году он не выдержал экзамены и с 18 сентября 1895 года начал службу канцеляристом в Московском Дворянском собрании.
В 1896 году, получив чин коллежского регистратора, поселился в своём имении в Бугурусланском уезде и занялся хозяйством. В 1896 году ему принадлежало 11 854 десятины земли. В этом же году А. Н. Шелашников был избран церковным старостой и находился в этой должности до 1917 года.
В июне 1896 года Александр Николаевич Шелашников был избран депутатом от дворян Бугурусланского уезда в Самарское губернское дворянское собрание. В этом же году он был избран почётным мировым судьёй и оставался на этом посту вплоть до 1918 года. В 1902 году его избрали на должность уездного предводителя дворянства, на которой он оставался бессменно до 1917 года. В 1912 году Александр Николаевич Шелашников построил станцию Шелашниково и железнодорожную ветку «Самара – Бугульма». В 1913 году Александр Николаевич был пожалован в звание камер-юнкера, а в 1916 году - в звание камергера Двора Его Императорского Величества. 6 декабря 1916 года он получил чин действительного статского советника. В январе 1916 года А.Н. Шелашников был избран Самарским губернским предводителем дворянства. 12 января 1917 года он вновь избран на эту должность сроком на три года. 8 февраля 1917 года его избрали в члены Государственного Совета от земства Самарской губернии.
Александр Николаевич Шелашников имеет много наград: 5 орденов, 7 медалей, 5 знаков отличия.
В 1886 году в селе Исаклы отцом Александра Николаевича была построена сельская больница, которая функционирует до сих пор. С 1892 года для земской школы из-за неудобства помещения под колокольней на средства помещика А.Н. Шелашникова была арендована наёмная квартира, а в 1896 году на его же средства построено собственное здание. Попечительницей школы стала его жена - Александра Дионисьевна Шелашникова.
Александр Николаевич постоянно занимался общественной и благотворительной деятельностью. Он был попечителем Бугурусланского уездного попечительства детских приютов. За многолетнюю плодотворную деятельность имел много наград и благодарностей: от Российского общества Красного Креста, от Самарской Епархии за заботу о нуждах церковных школ Бугульминского уезда. Имел награды за труды по землеустройству, а также от Российского общества повсеместной помощи пострадавшим на войне солдатам и их семьям.
Александр Николаевич Шелашников был женат на дочери слепорожденного князя Дионисия Михайовича Оболенского, который первым в России освоил систему Брайля и предпринял попытку перевести её на русскую почву, благодаря чему русские слепые уже в 1902 году получили доступ к образованию, тогда как в Америке - лишь в 1932 году. Князь Дионисий Михайлович Оболенский был заместителем министра внутренних дел, владел тремя иностранными языками, был прекрасным отцом, имел четыре дочери.
После смерти Николая Петровича Шелашникова жил в Исаклах, 8 января 1895 года потомственный дворянин, землевладелец Александр Николаевич Шелашников вступил в законный брак с княжной Александрой Дионисьевной Оболенской. Он имел четверо детей: Веру, родившуюся 22 октября 1902 года, сына Николая, родившегося 31 марта 1905 года, Марию, родившуюся 23 декабря 1909 года, Дионисия, родившегося между 1915-1917 годом (документы в Госархиве Самары удалены самими Шелашниковыми, все документы они хранили при себе, так как уходили от преследования большевиками и изменили даты и место рождения).
Александра Дионисьевна Шелашникова окончила Смольный институт благородных девиц, знала 12 языков, 6-ю владела в совершенстве. Александра Дионисьевна активно участвовала в жизни самарского общества, занимаясь благотворительностью. В 1904 году она состояла действительным членом Самарского местного комитета Российского общества Красного Креста. С 1905 по 1908 годы занимала должность председателя Правления общества Ольгинского женского приюта трудолюбия в селе Исаклы. С 1907 по 1909 годы входила в состав членов Торгового комитета общества с. Исаклы.
В силу того, что А. Н. Шелашников с 1917 года был председателем Самарского Областного общества Красного Креста, а с 1918 года - председателем ВГУ, затем председателем РОКК, и обязан был выполнять свой долг, он и его семья не смогли эмигрировать за границу. Освободившись из-под ареста и заключения, осуществлённого большевиками, Александр Николаевич уехал с другими представителями Российского общества Красного Креста вместе с армией А. В. Колчака в Омск.
В архивном деле Омской духовной консистории в метрической книге Богородице-Знаменской церкви города Омска имеется актовая запись № 48 о смерти 21 и погребении 23 июня 1919 года дворянина Самарской губернии, сенатора Александра Николаевича Шалашникова, 49 лет, от воспаления слепой кишки. Похоронен на Казачьем кладбище при Всехсвятской церкви города Омска. Погребение совершали архиепископ Сильвестр, протоиерей Василий Пляскин, священник Сафоний Галкин с дьяконами Виктором Керчесаром, Иваном Тихомировым.
Материалы предостоставлены правнучкой А. Н. Шелашникова Татьяной Вячеславовной Фроловой из семейного архива специально для сайта BankGorodov.RU (с использованием материалов Самарского Госархива, интернет-ресурса «Антибольшевистская Россия», исторической справки, составленной для Российского Дворянского Собрания Куликовой (Фроловой) Ольгой Геннадьевной).
Имеет отношение к населенным пунктам:
Самарская область, Шенталинский район, станция Шелашниково
В 1912 году Александр Николаевич Шелашников построил станцию Шелашниково и железнодорожную ветку «Самара – Бугульма».
Самарская область, Исаклинский район, село Исаклы
Родился 10 апреля 1870 года в селе Исаклы. В 1886 году в Исаклах отцом Александра Николаевича была построена сельская больница, действующая до сих пор. После смерти отца жил в Исаклах. В селе находилось его родовое поместье, разгромленное большевиками.
Освободившись из заключения, Александр Николаевич с представителями Российского общества Красного Креста уехал вместе с армией А. В. Колчака в Омск. Скончался в Омске 21 июня, похоронен 23 июня 1919 года на Казачьем кладбище при Всехсвятской церкви.
http://www.bankgorodov.com/famous-person/shelashnikov-aleksandr-nikolaevich
|
Метки: шелашниковы оболенские самара |
Русское офицерство. Решающий вклад в свержение Николая II Как это не... |
Русское офицерство. Решающий вклад в свержение Николая II Как это не...
Русское офицерство. Решающий вклад в свержение Николая II
Как это не удивительно для многих нынешних адептов «белого движения», но армия, одна из главных опор императора Николая II, сыграла ведущую роль в его свержении, дав старт всем остальным событиям 1917 года в России.
Шла первая мировая война. Росло недовольство народа. Императорская Ставка была по сути вторым правительством. Но и в Ставке, по свидетельству профессора Ю.В. Ломоносова, бывшего во время войны высоким железнодорожным чиновником, зрело недовольство:
«Удивительно то, что, насколько я слышал, это недовольство было направлено почти исключительно против царя и особенно царицы. В штабах и в Ставке царицу ругали нещадно, поговаривали не только о ее заточении, но даже о низложении Николая. Говорили об этом даже за генеральскими столами. Но всегда, при всех разговорах этого рода, наиболее вероятным исходом казалась революция чисто дворцовая, вроде убийства Павла»
Убийства Павла.
Временному правительству Ставка присягнула уже 9 марта, но расскажем о событиях, этому предшествовавших.
Как писал в дневнике генерал Д.Н. Дубенский, состоявший во время февральских событий в свите Императора, о начальнике штаба Верховного главнокомандующего ген. М.В. Алексееве, за несколько дней до переворота:
«Могилев. Пятница, 24 го февраля.<…>
Генерал адъютант Алексеев был так близок к царю и его величество так верил Михаилу Васильевичу, они так сроднились в совместной напряженной работе за полтора года, что, казалось, при этих условиях какие могут быть осложнения в царской Ставке. Генерал Алексеев был: деятелен, по целым часам сидел у себя в кабинете, всем распоряжался самостоятельно, встречая всегда полную поддержку со стороны верховного главнокомандующего.»
Через два дня, 1 марта, по приезде царского и свитского поездов в Псков, «свитские» встретились с командующим Северным фронтом ген. Рузским, и тот же Дубенский пишет:
Прошло менее двух суток, т. – е. 28 февраля и день 1 марта, как государь выехал из Ставки и там остался его генерал адъютант начальник штаба Алексеев и он знал, зачем едет царь в столицу, и оказывается, что все уже сейчас предрешено и другой генерал адъютант Рузский признает «победителей» и советует сдаваться на их милость.»
Всего два дня назад Царь выехал из Ставки, о цели отъезда и адресе знал нач.ГенШтаба Алексеев. «Более быстрой, более сознательной предательской измены своему государю представить себе трудно.»
Генерал Рузский после переговоров со Ставкой и Петроградом в настойчивой, резкой форме доказывал, что Николай II должен передать престол наследнику.
Генерал Алексеев к этому времени уже получил согласие всех остальных главнокомандующих фронтами с этим мнением, и Рузский, главком Северным фронтом, огласил это царю.
Николай II практически не перебивал, но, сообщив о том, перед отъездом обо всём договаривался с Алексеевым, спросил «Когда же мог произойти весь этот переворот?». Рузский ответил, что это готовилось давно, но осуществилось после 27 февраля т. – е. после отъезда государя из Ставки.»
У Николая II пропала всякая уверенность в помощи от армии. Поскольку все начальники фронтов высказались за его смещение. Куда ему было деваться, на кого надеяться? Это и предрешило отречение.
Начальники фронтов на тот момент:
Главнокомандующие:
Северным фронтом – генерал адъютант Николай Владимирович Рузский.
Западным – генерал адъютант Алексей Ермолаевич Эвер
Юго Западным – генерал адъютант Алексей Алексеевич Брусилов.
Румынским – генерал Владимир Викторович Сахаров.
Кавказским фронтом - великий князь Николай Николаевич.
В ночь на 2 марта генералы Рузский и нач.генштаба Алексеев с председателем ГосДумы Родзянко уже составляли манифест отречения. Автором его являлся церемониймейстер высочайшего двора директор политической канцелярии при верховном главнокомандующем Базили и генерал квартирмейстером Ставки Лукомский, а редактировал этот акт генерал адъютант Алексеев. Базили утром сообщил, что делал это по поручению Алексеева.
Всего двое суток после последней встречи Николая II с генерал-адьютантом Алексеевым, которому очень доверял...
Вечером 2 марта за отречением, с манифестом в руках прибыли член исполнительного комитета Думы монархист В. В. Шульгин и военный и морской министр временного правительства А. И. Гучков.
Генерал Дубенский пишет, что ему было удивительно видеть Шульгина, слывшего крайне правым членом ГосДумы, друга В. М. Пуришкевича.
(Шульгин - член монархической организации Союз русского народа, почётный председатель отделения Острожского уезда, потом вступил и в Русский народный союз имени Михаила Архангела, так как посчитал его лидера В. М. Пуришкевича более энергичным, чем лидера СРН А. И. Дубровина)
Встреча была недолгой, Николай подписал отречение, сделали второй экземпляр на всякий случай.
Верховным главнокомандующим сразу был назначен вел.князь Николай Николаевич. (11 марта, удовлетворяя требованию Временного правительства, переданным ему за подписью князя Львова, он сложил с себя эти полномочия в пользу ген. Алексеева. О чём Временное правительство объявило только 27 мая)
Вот как видел эту ситуацию, бусловно, трагическую для него, сам Николай II:
- вечером 2 марта 1917 г. в своём дневнике он записал:
«Утром пришёл Рузский и прочёл свой длиннейший разговор по аппарату с Родзянко. По его словам, положение в Петрограде таково, что теперь министерство из Думы будто бессильно что-либо сделать, так как с ним борется социал-демократическая партия в лице рабочего комитета. Нужно моё отречение. Рузский передал этот разговор в ставку, а Алексеев всем главнокомандующим. К 2 ½ ч. пришли ответы от всех. Суть та, что во имя спасения России и удержания армии на фронте в спокойствии нужно решиться на этот шаг. Я согласился. Из Ставки прислали проект манифеста. Вечером из Петрограда прибыли Гучков и Шульгин, с которыми я переговорил, и передал им подписанный и переделанный манифест. В час ночи уехал из Пскова с тяжёлым чувством пережитого. Кругом измена и трусость, и обман!»
Позже, в Екатеринбурге, Николай II сказал следующие слова: «Бог не оставляет меня, он даст мне силы простить всех моих врагов, но я не могу победить себя еще в одном: генерала Рузского я простить не могу».
Неизвестно, простил ли он Алексеева. Перед отъездом Николая II из Ставки, генерал-адъютант Алексеев объявил государю о его аресте: «ваше величество должны себя считать как бы арестованным».
О Корнилове
Пишет ген. Мордвинов, тоже бывший в императорской свите
«В это же время (2 марта) принесли телеграмму от Алексеева из Ставки, испрашивавшего у государя разрешение на назначение, по просьбе Родзянко, генерала Корнилова командующим петроградским военным округом, и его величество выразил на это свое согласие. Это была первая и последняя телеграмма, которую государь подписал, как император и как верховный главнокомандующий уже после своего отречения.» (Манифест по просьбе Родзянки - так склонялась тогда эта фамилия - пока решили не публиковать.)
Николай II на этой телеграмме положил резолюцию: «Исполнить».
Арест царицы и всей царской семьи был произведен свеженазначенным Корниловым в один день с арестом Николая II.
Вот что гласит об этом аресте запись в камер-фурьерском журнале:
«8 марта 1917 г. По решению Временного Правительства Главнокомандующий войсками Петроградского военного округа в 8 часов 45 минут отбыл в Царское Село для приведения в исполнение указа об аресте бывшей императрицы Александры Феодоровны.
В 11 часов утра Главнокомандующий генерал-лейтенант Корнилов, в сопровождении начальника Царскосельского гарнизона полковника Кобылинского, Царскосельского коменданта подполковника Мацнева и некоторых чинов штаба прибыл в Александровский Царско-Сельский дворец и прочел бывшей государыне Александре Феодоровне, которая приняла его в присутствии графа Бенкендорфа и графа Апраксина, постановление Временного Правительства об ее аресте».
Арест был произведён в присутствии полковника Кобылинского, нового начальника царскосельского караула.
Генерал Л.Г. Корнилов собственноручно наградил Георгиевским крестом унтер-офицера Волынского полка Кирпичникова за то, что тот 27 февраля 1917 выстрелом в спину убил начальника учебной команды Волынского полка штабс-капитана Лашкевича. А ведь этот инцидент стал началом солдатского бунта в Волынском полку.
Л. Г. Корнилов в августе 1917-го о своих политических взглядах и об отношению к Николаю II сказал вполне откровенно:
«Я заявлял, что всегда буду стоять за то, что судьбу России должно решать Учредительное собрание, которое лишь одно может выразить державную волю русского народа. Я заявлял, что никогда не буду поддерживать ни одной политической комбинации, которая имеет целью восстановление дома Романовых, считал, что эта династия в лице её последних представителей сыграла роковую роль в жизни страны.»
Как писал Деникин в «Очерках русской смуты», когда в июне 1917 г. ввиду катастрофического развала Армии к Корнилову обратились с предложением осуществить переворот и восстановить Монархию, он категорически заявил, что «ни на какую авантюру с Романовыми он не пойдет».
***
Снова к М.В. Алексееву. Решение об измене Алексеев принял не после отъезда Царя из Ставки в Псков, а много раньше.
П. Н. Милюков свидетельствовал, что еще осенью 1916 года генерал Алексеев разрабатывал "план ареста царицы в ставке и заточения".
Один из самых выдающихся представителей царской семьи в период Революции, сын младшего сына Николая I, - великий князь Александр Михайлович (1866-1933), которого, между прочим, вполне заслуженно называли "отцом русской военной авиации", писал в своих изданных (в год его кончины) в Париже мемуарах: "Генерал Алексеев связал себя заговорами с врагами существовавшего строя".
В конце 1916 года князь А.В. Оболенский спросил Гучкова о справедливости слухов о предстоящем перевороте. «Гучков вдруг начал меня посвящать во все детали заговора и называть главных его участников... Я понял, что попал в самое гнездо заговора. Председатель Думы Родзянко, Гучков и Алексеев были во главе его. Принимали участие в нем и другие лица, как генерал Рузский, и даже знал о нем А.А. Столыпин (брат Петра Аркадьевича). Англия была вместе с заговорщиками. Английский посол Бьюкенен принимал участие в этом движении, многие совещания проходили у него».
Напомним, что Алексеев и Корнилов – основатели Добровольческого движения, Белой Армии, которые сражались против большевиков. Кто-то может сделать из этого вывод, что большевики были монархистами.
Доверенное лицо Алексеева, генерал Крымов, в январе 1917 года выступал перед думцами, подталкивая их к перевороту, как бы давая гарантии от армии. Он закончил свою речь словами:
«Настроение в армии такое, что все с радостью будут приветствовать известие о перевороте. Переворот неизбежен и на фронте это чувствуют. Если вы решитесь на эту крайнюю меру, то мы вас поддержим. Очевидно, иных средств нет. Все было испробовано как вами, так и многими другими, но вредное влияние жены сильнее честных слов, сказанных Царю. Времени терять нельзя».
военный цензор в ставке верховного главнокомандующего М.К. Лемке так же говорил об участии в заговоре генерала Крымова.
***
Отметим, что прозвучало на Юбилейном Архиерейском Соборе РПЦ 2000 г. в докладе митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия, председателя Синодальной комиссии по канонизации святых:
«… В качестве внешних факторов, которые имели место в политической жизни России и привели к подписанию Акта об отречении, следует выделить прежде всего … настоятельное требование Председателя Государственной Думы М.В. Родзянко отречения Императора Николая II от власти во имя предотвращения внутриполитического хаоса в условиях ведения Россией широкомасштабной войны, почти единодушную поддержку, оказанную высшими представителями российского генералитета, требованию Председателя Государственной Думы.»
То есть, Церковь знает виновников свержения Царя.
О связях Гучкова с офицерами писал Милюков:
Говорилось в частном порядке, что судьба Императора и императрицы остается при этом нерешенной — вплоть до вмешательства «лейб-гвардейцев», как это было в 18 в.; что у Гучкова есть связи с офицерами гвардейских полков, расквартированных в столице и т.д. Мы ушли, в полной уверенности, что переворот состоится».
Генерал М.К. Дитерикс, будущий начальник штаба чехословацкого корпуса, в своей книге «Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале» подтверждает роль высшего офицерства Русской императорской Армии в перевороте:
«Участие высшего генералитета армии, руководителей и авторитетов офицерства почти в первых рядах Февральской революции, в отречении Царя от престола, в политическом развале армии и страны керенщиной сильно расшатало единство мыслей, чувств и мировоззрений этой сильной и относительно единодушной в былое время организованной корпорации.»
Дитерихс, дойдя с чехословаками до Владивостока, поддержал Колчака, «Верховного правителя России», офицера британской короны.
Послушаем и Колчака.
Писатель-монархист П.Мультатули пишет о том, что, по воспоминаниям генерала Спиридовича, известного убийством Григория Распутина графа Юсупова и других, Колчак поддерживал заговор против Царя Николая II, обещая лояльность Черноморского Флота в случае переворота.
Первый визит по прибытии в Петроград сразу после Февральской революции он нанёс Плеханову, которому слово:
«Сегодня... был у меня Колчак. Он мне очень понравился. Видно, что в своей области молодец. Храбр, энергичен, не глуп. В первые же дни революции стал на ее сторону и сумел сохранить порядок в Черноморском флоте и поладить с матросами. Но в политике он, видимо, совсем неповинен. Прямо в смущение привел меня своей развязной беззаботностью. Вошел бодро, по-военному, и вдруг говорит: – Счел долгом представиться Вам, как старейшему представителю партии социалистов-революционеров.»
Он ошибся, Плеханов был социал-демократ, но и эсеры не были монархистами.
Его высказывание, по которому очевидно его отношению к Самодержавию:
«Я принял присягу первому нашему Временному Правительству. Присягу я принял по совести, считая это Правительство как единственное Правительство, которое необходимо было при тех обстоятельствах признать, и первый эту присягу принял. Я считал себя совершенно свободным от всяких обязательств по отношению к монархии, и после совершившегося переворота стал на точку зрения, на которой я стоял всегда, – что я, в конце концов, служил не той или иной форме правительства, а служу родине своей, которую ставлю выше всего, и считаю необходимым признать то Правительство, которое объявило себя тогда во главе российской власти». А до этого присягал Царю.
Последний военный министр Временного правительства генерал А. И. Верховский писал в своих мемуарах:
"Колчак еще со времени японской войны был в постоянном столкновении с царским правительством и, наоборот, в тесном общении с представителями буржуазии в Государственной думе."И когда в июне 1916 года Колчак стал командующим Черноморским флотом, "это назначение молодого адмирала потрясло всех: он был выдвинута нарушение всяких прав старшинства, в обход целого ряда лично известных царю адмиралов и несмотря на то, что его близость с думскими кругами была известна императору... Выдвижение Колчака было первой крупной победой этих (думских) кругов". А в Феврале и"партия эсеров мобилизовала сотни своих членов - матросов, частично старых подпольщиков, на поддержку адмирала Колчака... Живые и энергичные агитаторы сновали по кораблям, превознося и военные таланты адмирала, и его преданность революции".
И, наконец, еще один родственник Николая II.
Великий князь Кирилл Владимирович (потомки которого недавно с визитом были в Крыму-с) с красным бантом на груди привёл Гвардейский экипаж в распоряжение Государственной Думы еще
Источник
|
Метки: февраль российская императорская армия оболенские |
Улица Богдановича в Ярославле |

Кировский район
Улица Богдановича
«Белорусский поэт Максим Богданович и Ярославль»
Путешествие с Библиогидом
Дорогие друзья!
Мы рады приветствовать вас на улице Богдановича.
Улица Богдановича названа в августе 1984 года в честь Максима Адамовича Богдановича (1891-1917) – белорусского поэта. Он окончил в Ярославле мужскую гимназию (1908-1911) и Демидовский юридический лицей (1911-1916). Бывшая Большая Даниловская (в честь города Данилов Ярославской области). Максим Богданович жил на этой улице. К сожалению, дом не сохранился.
Дом на улице Чайковского (бывшая Любимская улица) был построен в 1908 году титулярным советником В. Н. Ржевским. Дом одноэтажный, деревянный, с наличниками в стиле модерн – типологическая городская постройка. Дом был частью небольшой городской усадьбы.
Я вспоминаю дом старинный,
На тихой улице фасад,
И небольшой уютный сад,
И двор просторный и пустынный
Необычна его история. В 70-80-е годы 20 века по старинным улицам Ярославля с деревянными постройками прокатилась волна сносов. Преобразованиям подверглась и улица Чайковского. Неожиданно для властей, местная общественность при активной поддержке белорусских музейщиков, резко выступила против этого планового разрушения. Историки и поклонники поэта требовали сохранить в неприкосновенности и домик, в котором некогда жил поэт, и соседние строения, чтобы сохранить мемориальную среду.
С 1912 по 1914 гг. в доме жил Максим Богданович и его отец - известный ученый Адам Егорович Богданович. В этом доме поэт подготовил к изданию единственный прижизненный сборник стихов «Вянок», который принес Максиму Богдановичу славу поэта. Это единственный сохранившийся до наших дней дом, который снимала семья Богдановичей в Ярославле. Город стал для поэта второй Родиной, здесь он прожил 8 лет своей жизни.Экспозиция мемориального дома-музея М. Богдановича состоит из 3 залов.В 1995 г. Музей получил статус Центра Белорусской культуры.
Прапрадед Максима по отцовской линии крепостной Степан был первым в роду, кто стал носить фамилию Богданович, по его отчиму Никифору Богдановичу, как вошедший в состав его «двора» податной единицей. Мать Максима Мария Афанасьевна, по отцу Мякота, по матери, Татьяне Осиповне, — Малевич. Татьяна Осиповна была поповной.Ада́мЕго́ровичБогдано́вич (20марта (1апреля), подругимданным25марта (6апреля), 1862года,— белорусскийэтнограф, фольклорист, мемуарист, историккультуры.На момент свадьбы Адаму Богдановичу было 26, а Марии — 19 лет. Он вспоминал о супружестве как об одном из счастливейших периодов своей жизни.
Родословная
Родился Максим Богданович в 1891 году, 9 декабря в Минске, в семье педагогов. Жили они тогда на Александровской улице (теперь улица Максима Богдановича). Раннее детство поэта прошло в Гродно, куда через восемь месяцев после рождения Максима переехали его родители. Наряду со службой, научной и общественно-политической деятельностью, глава семейства Адам Егорович много внимания уделял своим детям, а их было трое: Вадим, Максим и Лёва.
Изучая родословную можно обнаружить родственные связи с Максимом Горьким. Жена Максима Горького Екатерина Пешкова приходилась своячницей Адаму Богдановичу.
Частично восстановлены фрагменты комнаты Максима-Книжника с мемориальными настенными часами, книжным шкафом, а также почитаемыми в семье реликвиями – иконой Казанской Божьей матери и гелиогравюрой «Сикстинская мадонна» (подарок Максима Горького). Второй зал посвящен владельцам дома – семье Ржевских. Третий зал повествует о Ярославском периоде жизни поэта. В холле музея представлен материал об исторических связях Ярославской области и регионов Белоруссии. В настоящее время на базе музея собрана одна из наиболее полных в Российских регионах библиотек публикаций поэта и библиографической литературы о нем, а также библиотека белорусской литературы. Сотрудниками музея разработан большой методический материал по популяризации творчества М.Богдановича среди россиян, не владеющих белорусским языком.
Максим Богданович печатался в газете «Голос» под разными псевдонимами – Rion, М.Б., М. Б-вич, Максим Книжник, Максим Криница, Эхо и др.
«Голос» — либеральнаягазета, выходившая в Ярославле с 19 февраля (4 марта) 1909 года до ноября 1917 года. Издателями газеты до 1912 года были активные члены Конституционно-демократической партии книгоиздатель депутат Государственной думы К. Ф. Некрасов и Н. П. Дружинин, впоследствии её редактор; затем «товарищество сотрудников».
Константин Федорович Некрасов (1873-1940) – известный политический деятель и издатель начала ХХ века, племянник поэта Н.А. Некрасова.Дружинин Николай Петрович (6.12.1858 г., деревня Маклаково Никольская волость Угличского уезда – 1941 г., г. Ленинград), журналист, издатель и общественный деятель.Отец его был мещанином города Углича, мать происходила из крепостных графа Шереметьева.
В феврале 1917 года друзья поэта собрали деньги, чтобы он мог ехать в Крым лечиться от туберкулёза. Но лечение не помогло. Умер Максим Богданович на рассвете 13 (25) мая 1917 года в возрасте 25 лет (горлом пошла кровь). Заупокойная служба прошла в ялтинском соборе Александра Невского. Похоронили на новом городском кладбище Ялты.
"Ярославская региональная организация Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы –«Инвалиды войны»" зарегистрирована 25 ноября 2002 года по адресу 150054, г Ярославль, ул Богдановича, д 22. Компанию возглавляет Фролов Игорь Николаевич. Сфера деятельности –«Благотворительные организации».
Общеизвестно, что радио - патриарх связи, живительный источник, несущий людям волны информации, музыки, знаний, практических советов и так далее. Днем рождения радио по праву считается 7-е мая 1895-го года, когда в Петербургском университете выдающийся физик, электротехник Александр Степанович Попов публично продемонстрировал изобретенный им радиоприемник.
История Ярославского областного радио, конечно, менее продолжительная, но все же самая большая по сравнению со всеми работающими в регионе электронными средствами массовой информации. Так как же все начиналось 1919 год. В Ярославле оборудована первая приемо-передающая радиостанция для служебного пользования почтово-телеграфной конторы. Спустя некоторое время энтузиасты Ярославской телефонной станции смонтировали радиоузел, который начал транслировать регулярные передачи, где звучали тексты декретов революционного правительства, программ Ленина, сообщения о важнейших событиях в жизни республики. В 1928-м году началась реконструкция радиоузла и к осени 1929-го, как говорится в отчете о работе Ярославского городского Совета рабочих и красноармейских депутатов, «аппаратная трансляционного узла укомплектована дополнительным оборудованием, в смежной с ней комнате организована радиостудия для проведения местных передач». Таким образом, именно осенью 1929 года началась биография Ярославского радио. Долгие годы редакция располагалась в помещении Главпочтамта на площади Подбельского (ныне Богоявленской), а в 1969-м — переехала в выстроенный Дом радио на Богдановича, 20, где находится и сейчас.В этом году Ярославское областное радио отмечает своё 86-летие.
Полное название организации: «Институт развития образования ИРО» вид услуг: Повышение квалификации, переподготовка.
Государственное образовательное автономное учреждение Ярославской области «Институт развития образования» (ИРО) является некоммерческой организацией, созданной для выполнения функции предоставления государственных услуг в сфере дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов информационного и научно-методического обеспечения системы образования Ярославской области.
Миссия ИРО — быть ведущей организацией системы повышения квалификации работников образования в Ярославской области.
На здании Института развития образования висит мемориальная доска Селевко Герману Константиновичу. Торжественное открытие — 2 апреля 2013. Академик МАНПО, профессор, кандидат педагогических наук. МАНПО — Международная академия наук педагогического образования.
Герман Константинович Селевко — заслуженный работник высшей школы, академик Международной академии педагогических наук, профессор, автор технологии саморазвивающего обучения. Главным делом жизни Г. К. Селевко является «Энциклопедия образовательных технологий», вышедшая в двух томах в 2006 году в издательстве «Народное образование».
Это уникальное учебное и справочное пособие для учителей, студентов педагогических вузов, институтов системы дополнительного профессионального образования, руководителей, методистов и других работников образования содержит достаточно полное описание около 500 образовательных технологий и будет незаменимым по различным курсам «Педагогических технологий».
26 июля 1989 года был образован Ярославский таможенный пост, который принадлежал Московской Центральной таможне. Первым ярославским таможенником считался Павел Васильевич Киселев, который его и возглавил. 9 октября 1990 года была создана таможня в Ярославле. К ней были прикреплены Костромской и Ивановский посты. Целями таможни на данный момент считается совершенствование таможенного администрирования, обеспечение экономической безопасности, защита рынка и производителей товаров, повышение конкуренции производителей на уровень мирового рынка, развитие внешнеэкономической деятельности.
Василий Васильевич Никандров был заслуженным строителем. Сначала возглавлял трест «Спецстроймеханизация», а потом долгие годы руководил «Облмежколхозстроем» и построил половину Ярославской области.
Никандров Василий Васильевич — председатель совета Ярославского областного объединения межколхозных строительных организаций В. В. Никандров получил почетное звание «Заслуженный строитель РСФСР» 16.03.1983 62. Мемориальная доска Никандрову Василию Васильевичу установлена на стене дома № 8 по улице Богдановича.
Наша экскурсия по одной из центральных улиц Ярославля подошла к концу. Имя улице дал талантливый белорусский поэт Максим Богданович, судьба которого была тесно связана с нашим городом, прославили эту улицу лучшие люди Ярославля, внесшие свой огромный вклад в его историю, а учреждения, расположенные здесь являются важнейшими социальными и культурными объектами города.
Спасибо за внимание!
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная система детских библиотек г. Ярославля». Все права защищены © 2015
http://cdb-yaroslavl.ru/external/litmap/kirovsky_bogdanovicha.html
|
Метки: пешковы богданович |
Трубецкая, Надежда Борисовна |
Трубецкая, Надежда Борисовна
Святополк-Четвертинская Дата рождения:
20 октября 18121812-10-20
Дата смерти:
23 февраля 19091909-02-23 96 лет
Место смерти:
- Москва, Российская империя
Страна:
- Российская империя
Отец:
Борис Антонович Четвертинский
Мать:
Надежда Фёдоровна Гагарина
Супруг:
Алексей Иванович Трубецкой
Дети:
сын и две дочери
Награды и премии:
Княгиня Надежда Борисовна Трубецкая урождённая княжна Святополк-Четвертинская; 20 октября 1812—23 февраля 1909 — фрейлина, статс-дама, благотворительница Кавалерственная дама ордена Святой Екатерины
Содержание
- 1 Биография
- 2 Благотворительная деятельность
- 3 Брак и дети
- 4 Примечания
- 41 Комментарии
- 5 Ссылки
Биография
Княжна Надежда Борисовна родилась в многочисленной семье участника Наполеоновских войн князя Бориса Антоновича Четвертинского и Надежды Фёдоровны Гагариной Её родственники были близки к императорской семье: её тётка, Мария Антоновна, долгое время была фавориткой императора Александра I, а другая, Жанетта Антоновна, едва не стала морганатической супругой великого князя Константина Павловича
Много времени семья Четвертинских проводили в имении Филимонки, где собирались их многочисленные родственники Часто в имении гостили сёстры Надежды Фёдоровны, Вера Вяземская и Софья Ладомирская, вместе с детьми П А Вяземский писал 1 июня 1824 года: «Сегодня ездил я из Остафьева с Машенькою и Пашенькою обедать к Четвертинским и от них отправился в Москву, а дети ещё остались там» Благодаря родителям и родственникам, Надежда Борисовна с детства вращалась в самом изысканном обществе 4 января 1831 года Четвертинские посетили Остафьево, о чём известно из письма П А Вяземского к А Я Булгакову: «У нас был уголок Москвы; был Денис Давыдов, Трубецкой, Пушкин, Муханов, Четвертинские; к вечеру съехались соседки, запиликала скрипка и пошёл бал балом»
Надежда Борисовна получила блестящее домашнее образование, а позднее прослушала университетский курс Была принята к двору фрейлиной императрицы Александры Фёдоровны В 1834 году Надежда Борисовна стала женой князя Алексея Ивановича Трубецкого 1806—1855, впоследствии виленского вице-губернатора, камергера, действительного статского советника Фрейлина А С Шереметева писала в апреле 1834 года:
| Видела княгиню Трубецкую, урожденную Четвертинскую, и её мужа Я нахожу, что он очень неуклюж; мне было очень жалко их видеть вместе; он так не подходит к дому! Она представлялась императрице, которая нашла, что она особенно мила |
Дом Трубецких в Знаменском переулке стал одним из культурный центров Москвы, блестящим литературным салоном Княгиня Трубецкая «вела знакомство с лучшими людьми своего времени У поэта князя П А Вяземского, который был ей родня, она познакомилась с Пушкиным, Жуковским и Гоголем» Позднее Трубецкая рассказывала правнуку о танцах с Пушкиным и его визитах в дом Четвертинских
Последние годы Надежды Трубецкой были омрачены трагедией Её сын Алексей растратил казённые деньги, спасая его от самоубийства, княгиня была вынуждена продать всю свою недвижимость, в том числе и дом в Знаменском переулке Расстроенные благотворительностью денежные дела Трубецких привели к тому, что Надежда Борисовна осталась без средств к существованию За заслуги ей назначили пенсию из средств организованного ею Братолюбивого общества и предоставили арендованную квартиру в бывшем её собственном доме, купленном С И Щукиным
Княгиня Надежда Борисовна Трубецкая скончалась 23 февраля 1909 года
Благотворительная деятельность
По словам Б Чичерина, княгиня Трубецкая была «женщина умная, бойкая, живая, с характером, с умственными интересами, всегдашняя посетительница университетских лекций, вместе с тем преданная благотворительности, стоявшая во главе многих заведений, которые она вела с тактом и умением»
С 1842 года Надежда Борисовна входила в Совет детских приютов, а в 1844 году с помощью С Д Нечаева она организовала Ольгинский приют После смерти в 1855 году супруга княгиня Трубецкая посвящала благотворительности всё своё время
Зимой 1859/1860 годов жильё части бедняков оказалось под угрозой затопления Княгиня Трубецкая с сестрой, матерью и ещё несколькими аристократками наняли дом у Калужских ворот, куда переселили этих жильцов В следующем году при активном участии Надежды Борисовны было организовано Братолюбивое общество снабжения неимущих квартирами, где можно было получить квартиру или пособие на аренду жилья Под председательством княгини к началу XX века общество обладало 3 миллионным капиталом и 40 благотворительными учреждениями Патроном общества стала императрица Мария Фёдоровна, а почётным председателем — великая княгиня Елизавета Фёдоровна
В 1865 году Трубецкая становится попечительницей Арбатского отделения Дамского попечительства о бедных В августе того же года при участии инженера Христиана Христиановича Мейена и предпринимателя Петра Ионовича Губонина комитетом была открыта небольшая ремесленная школа для мальчиков, в которой детей обучали портняжному, сапожному и переплетному делу 17 апреля 1866 года школа стала именоваться Комиссаровской ремесленной школой в честь шапочного мастера О И Комисарова, спасшего императора Александра II при покушении на него Д В Каракозова
В 1869 году по предложению Надежды Трубецкой был создан Дамский комитет Московского отделения Российского общества попечения о раненых и больных воинах, позднее общество было переименовано в Российское общество Красного Креста
В 1877 году с началом русско-турецкой войны Трубецкая организовала санитарный поезд и сама в качестве сестры милосердия в возрасте 65 лет отправилась на фронт
В 1879 году Надежда Борисовна организовала материальную помощь городу Оренбургу, пострадавшему от страшного пожара, лично отвозила в город предметы первой необходимости
В последние годы княгиня Трубецкая была членом Попечительного совета созданного ею в Хамовниках Ксеньинского детского приюта, получившего имя в честь великой княгини Ксении Александровны, сестры Николая II
За свою деятельность Надежда Борисовна была удостоена ордена Святой Екатерины малого креста
Брак и дети
18 февраля 1834 года Надежда Борисовна вышла замуж за князя Алексея Ивановича Трубецкого, представителя второй ветви рода Трубецких, сына князя Ивана Николаевича 1760—1843 и его жены Натальи Сергеевны 1775—1852, урождённой княжны Мещерской В браке родились:
- Наталья Алексеевна 1834 — 1918 — супруга князя Николая Ивановича Шаховского 1823—1890; их внучка писательница Зинаида Шаховская
- Алексей Алексеевич 1847—741914 — с 1681876 года женат на Наталье Дмитриевне Всеволожской 1856—1913;
- Надежда Алексеевна
Примечания
- ↑ 1 2 3 Черейский ЛА Святополк-Четвертинская Надежда Борисовна//Пушкин и его окружение Проверено 26 мая 2013 Архивировано 27 мая 2013 года
- ↑ 1 2 3 4 5 Молева НМ Надежда Трубецкая // Москва - столица — М: Олма-Пресс, 2003 — С 402-403 — 670 с — ISBN 5-224-0-1274-7
- ↑ Архив села Михайловского Т2 Вып 1—СПб, 1902—С 42
- ↑ Старк ВП Дон-Жуанский список Пушкина // Наталья Гончарова
- ↑ Б Н Чичерин Воспоминания Т 1—4 — М: М и С Сабашниковы, 1929—1934 — Т 2 — С104
- ↑ Дом на Маяковке Проверено 26 мая 2013 Архивировано 27 мая 2013 года
- ↑ Трубецкие князья Проверено 26 мая 2013 Архивировано 27 мая 2013 года
Комментарии
- ↑ Это позволило ВП Старку в своей книге «Наталья Гончарова» отнести имя Надежда в донжуанском списке Пушкина насчёт княжны Четвертинской
Ссылки
- Елена Лебедева С верою, любовью и состраданием Проверено 26 мая 2013 Архивировано 27 мая 2013 года
- Трубецкая, Надежда Борисовна на «Родоводе» Дерево предков и потомков
Трубецкая, Надежда Борисовна Информацию О

https://www.turkaramamotoru.com/ru/%D0%A2%D1%80%D1...D0%B2%D0%BD%D0%B0-1140808.html
|
Метки: трубецкие |
Как выглядел человек, подаривший России идеологию великодержавности |
Как выглядел человек, подаривший России идеологию великодержавности
Я была очень удивлена (это еще мягко сказано), узнав, кого изображает этот портрет романтически выглядящего красивого молодого человека на полотне Ореста Кипренского. Мы видим здесь одетого по моде начала XIX века чернокудрявого, темноглазого светского мужчину, небрежно облокотившегося о стол, покрытый красивой скатертью, куда брошены его цилиндр и перчатки. Сам он с легкой улыбкой смотрит вдаль, весьма внимательно и вдумчиво притом.
Если бы мне сказали, что это образ Евгения Онегина, я бы подумала, что он очень точно совпадает с моими представлениями о внешности этого персонажа.
О.Кипренский. Портрет С.С. Уварова
Но это никакой не Онегин, конечно, а совершенно реальный человек, сыгравший очень существенную роль в истории России - граф Сергей Семенович Уваров (1786-1855).
Свой жизненный путь он начинал действительно в романтическом ключе, и именно этот период его жизни и схватил Кипренский.
Уваров, воспитанный известным царедворцем и дипломатом князем Куракиным, был сразу же определен в коллегию иностранных дел и начал свою карьеру в Вене и потом в Париже. Там он увлекся античной культурой и даже опубликовал ряд работ на эту тему. Его эстетические изыскания привлекли внимание тогдашних европейских властителем дум, включая Гёте.
Прибыв в Россию, он стал вращаться в литературном кругу и вошел в известный кружок "Арзамас", членом которого был и А.С. Пушкин. Там всем участникам давали прозвища, и Уварова прозвали Старушкой. Почему? Не знаю. Пушкин там был, кстати, Сверчком.
В.А. Голике Портрет С.С. Уварова
Карьера Уварова меж тем шла в гору. Он вошел в состав Академии наук, и в 1818 году возглавил ее. Ему тогда было всего 32 года. Ходил слух, что должность ему досталась благодаря любовной связи с Дондуковым-Корсаковым, имевшим нетрадиционные наклонности.
На портрете Голике (выше) перед нами уже чиновник, а не романтический юноша. Деловой сюртук, ордена, тщательно причесанная голова... Примерно также выглядит Уваров и на портрете ниже. И ракурс тот же, никакой оригинальности! И шуба с плеч падает. Правда, фон более определенный - елка.
Художника не знаю. Но это точно Уваров.
Звездный час Уварова наступил в 30-е годы. Он был назначен министром просвещения. Россия в то время была в шоке от недавнего восстания декабристов, и властям требовалась четко и ясно выраженная идеология, которая бы скрепила государство.
Граф Уваров прямо с ходу выдал требуемое, буквально в трех словах сформулировав эту скрепу: Православие, Самодержавие, Народность. Ни дать, ни взять - пришел, увидел, победил. Победительный министр изображен на портрете Каневского фронтально. Никаких полуоборотов, никакого романтизма. Перед нами государственный чиновник.
Я.К Каневский Портрет Уварова
На рабочем посту Уваров каждый день неустанно думал о народе и его просвещении (без этого ему бутерброд не лез в рот). Исходя из своей же доктрины, он был уверен, что народ обожает царя и неистово религиозен. Самобытность русских такова, что никакого внешнего влияния не терпит. Сам будучи европейски воспитанным человеком, Уваров для народа меж тем предполагал исключительно опору на собственные традиции. Он считал, что его первейший долг - делать все, чтобы зловредные западные веяния типа идей свободы, равенства, получения равного и доступного каждому образования и прочий либерализм ни в коей мере не коснулись безмятежно спящего народного сознания.
При этом именно Уваров создал четкую структуру образовательных учреждений в России, развивал гимназии и университеты. Но туда принимали не всех, а по сословному критерию. Однако, поступив, человек получал хорошее образование. Никакой самостоятельности учебным заведениям не давалось, все было подконтрольно государству.
Уваровская тенденция в просвещении сохранилась в России до сих пор.
Как о личности, об С.С. Уварове остались противоречивые воспоминания. Многие его поступки с точки зрения морали носили мутный характер. Он внаглую использовал государственное имущество как личное, например, спекулировал казенными дровами. В надежде получить наследство, приказал опечатать имущество своего родственника Шереметева, когда тот был еще жив, но болен. Шереметев, кстати, тогда выздоровел, что вызвало злорадство Пушкина, не преминувшего написать по этому поводу эпиграмму. И т.д. и т.п.
Вот таким был человек, определивший государственную идеологию Российской империи.https://zen.yandex.ru/media/lichop/kak-vygliadel-c...nosti-5c83669a027d8900b470fdb6
|
Метки: уваровы |
Молодой любовник революции |
|
|
9 мартаСуббота
Молодой любовник революции
8 ноября 1929 года (по некоторым данным, именно в этот день) был расстрелян Яков Блюмкин, один из самых ярких персонажей русской революции

Кадр из телефильма "Личный враг Сталина. Яков Блюмкин" // Телеканал "Россия"



Биография Яши Блюмкина характерна для героев подобного рода. Она словно протестует и не желает укладываться в стандартные анкетные формы: «Фамилия-имя-отчество, год рождения, место рождения...» Всё расплывается, двоится, троится и множится, оставляя исследователя в полном недоумении — а был ли вообще Яша?
При всём многообразии политических взглядов в нашем обществе, в нём сегодня немного сторонников революционных потрясений. Возможно, именно в этом — единственное достижение нашего общественного сознания, которое в остальном вообще-то не сильно продвинулось вперёд за все советские и постсоветские годы. Революция, конечно, отвратительна и, если можно рассматривать её как одну из форм власти, вполне заслуживает известного мандельштамовского сравнения. Пресловутая романтика, которую она будто бы с собой несёт, увы, уже не «катит» в нынешнее прагматичное время гипермаркетов и бизнес-центров.

Махно — страстный романтик революции в её чистом виде, буквально воспринявший лозунг «Земля — крестьянам, фабрики — рабочим», взявшийся воплотить — и воплотивший — его в жизнь.

И всё же нельзя хотя бы отчасти не согласиться с вождём мирового пролетариата, назвавшим революцию «делом весёлым». Во всяком случае, именно в это время с максимальной интенсивностью являются на свет самые незаурядные, яркие личности, оживляющие потом академические учебники истории. В иное время такие люди, скорее всего, похоронили бы свои таланты где-нибудь в пыльной тиши канцелярий и бухгалтерий.
Человек богемы
Биография Яши Блюмкина характерна для героев подобного рода. Она словно протестует и не желает укладываться в стандартные анкетные формы: «Фамилия-имя-отчество, год рождения, место рождения…» Всё расплывается, двоится, троится и множится, оставляя исследователя в полном недоумении — а был ли вообще Яша? Человек, родившийся то ли в Одессе, то ли во Львове, то ли в каком-то местечке Черниговской области, не имеющий точных дат рождения и смерти, отчества (в разных документах — Григорьевич, Семёнович, Моисеевич, Наумович) и даже внешности (описания её у всех, знавших Блюмкина, охватывают чуть ли не все физические типы человека. Например: «мордатый… ражий и рыжий» — Ирина Одоевцева, «низкорослый, но ладно скроенный» — Надежда Мандельштам, «довольно высокий и рано оплывший» — Лиля Брик, «его... высокомерный профиль напоминал древнееврейского воина» — Виктор Серж), — такой человек сегодня казался бы подозрительным и опасным. Однако для весёлого революционного времени это было в самый раз! К тому же такая внешность — просто профессиональная необходимость для того рода деятельности, которому он себя посвятил.
А вот любовь к изящным искусствам и к миру богемы, сопровождавшая Блюмкина всю его недолгую, но бурную жизнь, не говоря уже о его тщеславии, вроде бы несвойственна «рыцарям плаща и кинжала». Он писал стихи — увы, не дошедшие до нас, но, наверное, не совсем бездарные, раз их печатали даже солидные «Одесский листок» и «Гудок», дружил с Есениным, Маяковским, Мариенгофом, Мандельштамом... Впрочем, разносторонность интересов — тоже признак незаурядной личности.
Подлец несомненный! Но талантливый!
Многочисленные Яшины таланты начали проявляться рано, и некоторые из них были бы очень востребованы и сегодня. Например, ещё в 1914-м, работая конторщиком, он наладил производство фальшивых освобождений от армейского призыва и успешно ими приторговывал. Попавшись, он заявил, что занимался этим по распоряжению хозяина, а когда тот, возмутившись, подал на него в суд, Блюмкин дело неожиданно выиграл. Впоследствии оказалось, что Яша послал судье, славившемуся своей неподкупностью, презент с вложенной визиткой хозяина. Опозоренный таким образом хозяин конторы вынужден был признать: «Подлец несомненный! Но талантливый!»
Многодетная Яшина семья представляла почти весь политический спектр левых течений: брат был анархистом, сестра — социал-демократкой, он сам — эсером. Блюмкинские таланты были замечены и оценены его однопартийцами — в 20 лет он уже начальник германского отдела ВЧК (левые эсеры тогда ещё входили в большевистское правительство). Стоит ли удивляться, что убийство германского посла Мирбаха — едва ли не самый загадочный из эсеровских терактов, мотивация и цели которого выглядят очень противоречивыми, а всё, что за ним стояло, и сегодня ещё по большей части неизвестно — одновременно является и едва ли не единственным бесспорным фактом биографии Блюмкина. Однако по странному стечению обстоятельств именно этот теракт, совершённый левым эсером Блюмкиным, позволил большевикам избавиться от его однопартийцев в правительстве и единолично захватить власть...
Сбежав после покушения от «праведного гнева» (распоряжение Ленина по поводу скрывающегося Блюмкина: «Тщательно искать, но не найти») то ли в Рыбинск, то ли в Киев, то ли в Петроград, под фамилией то ли Вишневский, то ли Владимиров, Яша то ли готовит покушение на гетмана Скоропадского, то ли допрашивает учёного Барченко по поводу его опытов в области парапсихологии. Впрочем, одно не исключает другого и оба они — третьего, тем более для такой незаурядной личности.
Блюмкин и Рерих
Его биография почти вся состоит из таких вот «то ли» — артистическая натура, что вы хотите! Он сбегал из английского плена в Индии, от петлюровцев и от своих бывших однопартийцев, приговоривших его к смерти за переход к большевикам и организовавших на Блюмкина девять покушений, что само по себе в совокупности кажется невероятным. Вроде бы закончил Академию Генерального штаба и стал, как сейчас говорят, арабистом, хотя, изучая его биографию, непонятно, когда успел, — в тот же период он появляется на деникинском фронте в должности начальника штаба, затем комбрига и тогда же устанавливает советскую власть в Персии...
Пару лет назад среди историков разгорелся нешуточный спор по поводу участия Блюмкина с секретной миссией в гималайской экспедиции Николая Рериха под видом буддийского монаха. Искрой, из которой разгорелось пламя, послужила книга писателя Олега Шишкина «Битва за Гималаи», в которой автор приводит многочисленные ссылки на архивные документы. За ожесточением оппонентов Шишкина (главным из которых выступал музей Рериха в Москве) на самом деле скрывался рояль в кустах: сам Блюмкин и его участие или неучастие в экспедиции, естественно, никого не интересовали, но признание данного факта косвенно подтверждало бы версию о тайном сотрудничестве Н. Рериха с ГПУ, стремившимся к распространению своего влияния на Востоке. Эхо этой битвы слышится порой ещё и сейчас, а тогда дело дошло до суда...
Блюмкин и Троцкий
Было бы нелогично, если бы две самые яркие личности русской революции не встретились. Блюмкина, слава которого тогда уже прошла по всей Руси великой, в конце концов заметил и оценил Троцкий. Восхищение было взаимным. «Революция предпочитает молодых любовников», — напишет нарвоенком чуть позже о своём новом сотруднике и друге. Функции, выполнявшиеся Яшей при Троцком, были, как и всё в его жизни, столь же разнообразны, сколь и туманны и простирались от личной охраны до редактирования фундаментального труда шефа «Как вооружалась революция».

«Чтобы выиграть гражданскую войну, мы ограбили Россию», — откровенно писал Троцкий. Ограбленная Россия не называла его иначе как «великим и любимым вождём» наряду с Лениным. Феномен ли это, и, если феномен, присущ ли он только русскому народу или является общим психологическим законом вроде «бьёт — значит любит»? Это вопрос к психологам...

Афганистан, Индия, Палестина, Монголия, Китай, Египет, Турция... Буддийский монах, монгольский лама, иранский торговец антиквариатом, владелец прачечной в Палестине... Блюмкин многолик, как Шива, и вездесущ, как Фигаро. С последним, впрочем, его роднят и многие черты характера, хотя его «проделки» не столь безобидны, как у героя Бомарше. Яша вербует резидентов, плетёт шпионские сети, свергает правителей и вместо них приводит к власти «кого надо», инструктирует коммунистических лидеров, подавляет контрреволюционные мятежи...
Такая жизнь по определению не могла быть длинной. И, как часто бывает с подобными людьми, пройдя огонь и воду, английский и петлюровский плены, многочисленные аресты и девять покушений на свою жизнь, он сгорел, в общем-то, на пустяке. Блюмкин, мотаясь по заграницам и отлично ориентируясь в политической обстановке всех ближневосточных стран, в то же время плохо представлял себе расстановку сил в руководстве собственной партии. Конец 1920-х в СССР — время борьбы за власть между Сталиным и Троцким. На чьей стороне были Яшины симпатии в этой борьбе, объяснять, конечно, не надо. Свержение и высылка Троцкого были для него полной неожиданностью.
Где и когда они встречались — точно неизвестно, как и большинство фактов в биографии Блюмкина. Возможно, в начале 1929-го в Константинополе, куда его бывший шеф прибыл сразу после высылки. Кто знает, о чём они говорили и какие планы строили. Не исключено, что большой Яшин опыт по свержению и установлению режимов сыграл с ним злую шутку и он уверовал в своё всесилие на этой ниве. И дальше — впервые в его жизни — всё пошло, увы, по стандарту: донос любовницы, арест, расстрел.
«Эх, испортил песню, дурак!..»
http://www.chaskor.ru/article/molodoj_lyubovnik_revolyutsii_20812
|
Метки: яков блюмкин |
Ученый с оккультными наклонностями Александр Барченко |
Ученый с оккультными наклонностями Александр Барченко
После Октябрьской революции главным проводником идей Сент-Ива де Альвейдра в России выступил ученый с оккультными наклонностями Александр Барченко. Александр Васильевич Барченко родился в 1881 году в городе Елец (Орловская губерния) в семье нотариуса окружного суда. Предметом его увлечений с ранней юности стали оккультизм, астрология, хиромантия.
В те далекие времена граница между оккультизмом и естественно-научными дисциплинами была еще в достаточной степени размыта, поэтому для углубления своих знаний Александр решил заняться медициной, отдавая предпочтение изучению паранормальных человеческих способностей - феноменам телепатии и гипноза.
В 1904 году Барченко поступает на медицинский факультет Казанского университета, а в 1905 году - переводится в Юрьевский университет.
Особую роль в дальнейшей судьбе Барченко сыграло знакомство с профессором римского права Кривцовым, преподававшим на кафедре Юрьевского университета. Профессор Кривцов рассказал новому другу о своих встречах в Париже с известным мистиком Сент-Ивом де Альвейдром. Сам Барченко впоследствии поведает об этом следователю НКВД в таких словах:
… «Рассказ Кривцова явился первым толчком, направившим мое мышление на путь исканий, наполнивших в дальнейшем всю мою жизнь. Предполагая возможность сохранения в той или иной форме остатков этой доисторической науки, я занимался изучением древней истории, культуры, мистических учений и постепенно ушел в мистику. Увлечение мистикой доходило до того, что в 1909-1911 годах, начитавшись пособий, я занимался хиромантией - гадал по рукам».
Под воздействием откровений Кривцова и им же «благословленный» Барченко приступает к изучению паранормальных способностей человека.

Очерк Александра Барченко «Передача мыслей на расстояние»
Но перед тем ему довелось немало постранствовать по свету. В качестве «туриста, рабочего и матроса» Барченко объехал, по его собственным словам, «большую часть России и некоторые места за границей». Одной из таких стран была Индия, будоражившая в то время воображение многих молодых европейцев.
С 1911 года Александр начинает публиковать результаты своих изысканий, время от времени (а тогда в среде ученых это было принято) перемежая чисто теоретические статьи художественными произведениями на сходную тему.

Его рассказы появляются на страницах таких уважаемых журналов, как «Мир приключений», «Жизнь для всех», «Русский паломник», «Природа и люди», «Исторический журнал». Интересно, что именно беллетристика была для Барченко основным средством существования в те годы.
Александр Барченко (1922 год)
Круг интересов Барченко был необычайно широк и охватывал все стороны естествознания как совокупности наук о природе. Есть, однако, одна тема, которой молодой естествоиспытатель уделял особое внимание, - это разнообразные виды «лучистой энергии», оказывающие влияние на жизнь человека.
Свое понимание «энергетической проблемы» Барченко изложил в очерке «Душа Природы», опубликованном в 1911 году. Начинался он с рассказа о роли солнечного светила - источника жизни на Земле, а возможно, также и на других планетах, например, на Марсе. Далее Барченко сообщал своим читателям о присутствии растительности на Красной планете, о выпадении и таянии там снегов и, конечно же, о загадочных марсианских каналах. Всё это позволяло ему высказать предположение, что на Марсе обитают «существа, по разуму не только не уступающие людям, но, вероятно, далеко их превосходящие».
Столь же уверенно говорил он и о существовании эфира - «тончайшей, наполняющей вселенную среде». В то же время процессы, идущие в недрах Солнца - «этой ослепительной Душе природы, - чудовищные взрывы и вихри, тотчас отражаются на электромагнитном состоянии земли. Стрелки магнитных приборов мечутся, как безумные, вспыхивают северные сияния Доходит до того, что телеграфы отказываются работать и трамваи двигаться Кто знает, - восклицает далее Барченко, - не установит ли когда-нибудь наука связи между такими колебаниями (напряжения солнечной деятельности) и крупными событиями общественной жизни?» Фактически молодой энтузиаст предугадал скорое пришествие гелиобиологии.
В статье Барченко рассматривались и другие виды «лучистой энергии»: свет, звук, теплота, электричество. Немалое место в статье отводилось и рассказу об открытых французом Блондло «N-лучах» как особой разновидности психофизической энергии, излучаемой человеческим мозгом. Исследования французских ученых Шарпантье и Андрэ показали, что практически любая мозговая деятельность человека сопровождается обильным излучением.
Загадочные «мозговые лучи» интересовали науку прежде всего потому, что они, как считалось, имеют непосредственное отношение к проблеме передачи мысли на расстояние. Хорошо знакомый с работами на эту тему, Барченко поставил собственные эксперименты, несколько усовершенствовав «способ исследования».
Методика экспериментов была следующая: два наголо обритых добровольца надевали на голову алюминиевые шлемы оригинальной конструкции, разработанной самим Барченко. Шлемы участников опыта соединялись медной проволокой.
Перед испытуемыми устанавливались два овальных матовых экрана, на которых им предлагалось сосредоточиться. Один из участников был «передающим», другой - «принимающим». В качестве теста предлагались слова или изображения. По сообщению Барченко, в случае с изображениями положительный результат угадывания был близок к 100 процентам, а в случае со словами фиксировалось много ошибок. Частота ошибок увеличивалась, если использовались слова с шипящими или глухими буквами.
Доложив о результатах, Барченко, однако, дал читателю понять, что было бы неверным считать N-лучи «исключительным двигателем мысли» - «смотреть на "N", как на самые мысли, нельзя, но нельзя также отрицать их тесной связи с последними».
В конце статьи, размышляя над важностью открытий в области «лучистой энергии», Барченко неожиданно возвращается к вдохновлявшей его идее о том, что древнему миру, возможно, были известны многие тайны природы, еще не познанные современным человеком.
«Существует предание, - пишет он, - что человечество уже переживало сотни тысяч лет назад степень культуры не ниже нашей. Остатки этой культуры передаются из поколения в поколение тайными обществами. Алхимия - химия угасшей культуры».
Позже появляются и другие очерки Александра Барченко, озаглавленные еще более красноречиво: «Загадки жизни», «Передача мысли на расстоянии», «Опыты с мозговыми лучами», «Гипноз животных» и так далее. Параллельно Барченко публикует и два мистических романа, связанных общей сюжетной канвой: «Доктор Черный» и «Из мрака». Оба эти произведения изобиловали автобиографическими реминисценциями и по сути отражали теософско-буддийское мировоззрение.
Изыскания молодого естествоиспытателя были прерваны Первой мировой войной. Однако после ранения и демобилизации в 1915 году он продолжил работу. Теперь Барченко собирал материалы, штудировал первоисточники, по которым впоследствии составил законченный курс «История древнейшего естествознания», послуживший основой для его многочисленных лекций на частных курсах преподавателей в Физическом институте Соляного городка в Санкт-Петербурге. Революционная буря вырвала Барченко из привычного круга забот, перевернула всю его жизнь.
Первый шок от октябрьских событий, испытанный Александром Васильевичем, однако, вскоре прошел, и он начал рассматривать революцию в более позитивном свете - как «некоторую возможность для осуществления христианских идеалов» в противоположность «идеалам классовой борьбы и диктатуры пролетариата». Эту свою позицию Барченко определил как «христианский пацифизм», заключающий в себе идеи «невмешательства в политическую борьбу и разрешения социальных вопросов индивидуальной нравственной переделкой себя».
В конце 1917 и в начале 1918 годов Барченко часто посещал различные эзотерические кружки, продолжавшие регулярно собираться в Петрограде, несмотря на хаос революционного времени. Позднее он называл три таких кружка: известной теософки и мартинистки Данзас, доктора Бобровского и общество «Сфинкс». Их посетители, собравшись за плотно закрытыми дверьми, горячо обсуждали как религиозно-философские вопросы, так и актуальные политические темы. В целом в кружках царила резко антибольшевистская атмосфера. Однажды в «Сфинксе» Барченко пришлось вступить в полемику с критиками революции, однако его «христианско-пацифистское выступление» не встретило понимания у присутствующих.
В поисках заработка Барченко был вынужден читать лекции на судах Балтфлота. Оказалось, что конспирологическая концепция французского эзотерика вполне позволяет заработать на хлеб насущный.
«Золотой век, то есть Великая Всемирная Федерация народов, построенная на основе чистого идейного коммунизма, господствовала некогда на всей Земле, - поучал моряков Барченко. - И господство ее насчитывало около 144 000 лет. Около 9000 лет тому назад, считая по нашей эре, в Азии, в границах современного Афганистана, Тибета и Индии, была попытка восстановить эту федерацию в прежнем объеме. Это та эпоха, которая известна в легендах под именем похода Рамы…»
Лекции пользовались популярностью, и вскоре на Александра Васильевича обратили внимание чекисты. В секретных оперативных сводках, составляемых сотрудниками ВЧК, фамилия Барченко появляется уже в 1918-1919 годах:
… «Барченко А. В. - профессор, занимается изысканиями в области древней науки, поддерживает связь с членами масонской ложи, со специалистами по развитию науки в Тибете, на провокационные вопросы с целью выяснения мнения Барченко о Советском государстве Барченко вел себя лояльно».
Больше того, в октябре 1918 года Барченко вызвали в Петроградскую ЧК. Дело происходило во время одного из пиков красного террора и поэтому такой вызов не сулил, мягко говоря, ничего хорошего. В кабинете, куда пригласили Барченко, присутствовали несколько чекистов: Александр Рикс, Эдуард Отто, Федор Лейсмер-Шварц и Константин Владимиров. С последним Барченко был уже знаком. Его Александру Васильевичу в свое время представил профессор Петербургского университета Лев Красавин, охарактеризовав, как неофита, страстно жаждущего приобщиться к таинствам древнего Востока.
Четверо чекистов сообщили Александру Барченко, чhttp://www.itishistory.ru/1i/15_stalin_23.phpто на него поступил донос. В этой «бумаге» осведомитель сообщал об «антисоветских разговорах» Барченко. К удивлению Александра Васильевича, чекисты вместо того, чтобы взять его «в оборот», заявили о своем недоверии доносу. Больше того, они просили разрешения Барченко посещать его лекции по мистицизму и древним наукам. Разумеется, тот легко дал согласие и после этого неоднократно видел сотрудников ВЧК на своих выступлениях…
В 1919 году Александр Васильевич завершил высшее образование, окончив Высшие одногодичные курсы по естественно-географическому отделению при 2-м Педагогическом институте. По геологии и основам кристаллографии он держал в свое время экзамен в Военно-медицинской академии и получил оценку «отлично».
|
Метки: барченко наука |
Яков Блюмкин: судьба террориста |
Яков Блюмкин: судьба террориста
⇐ ПредыдущаяСтр 10 из 23Следующая ⇒
Яков Григорьевич БЛЮМКИН родился в марте 1900-го года в бедной еврейской семье. Его отец, работавший сначала в одной из лесозаготовительных фирм в Полесье, ко времени его рождения устроился мелким коммерческим служащим. В 1906-ом году Блюмкин-старший умер, и семья из шести человек впала в нищету.
Мать, заботясь о будущем сына, решила всё-таки дать ему возможность получить образование. В 1908-ом году, когда Якову исполнилось восемь лет, она устроила его на учёбу в начальное духовное училище — в Первую одесскую Талмуд-тору. В неё принимали мальчиков в возрасте от шести до двенадцати лет — сирот и детей из бедных семей. Обучение было бесплатным: все расходы брала на себя религиозная община. В Талмуд-торе дети изучали Библию, Талмуд, иврит и историю. Кроме того, здесь велось преподавание русского языка, современного еврейского языка, арифметики, географии, естествознания, рисования, пения и чистописания. Благодаря этой школе Якову удалось получить не только духовную, но и неплохую общеобразовательную подготовку.
Первой одесской Талмуд-торой свыше четверти века руководил писатель Шолом Яков Абрамович, более известный под псевдонимом Менделе-Мойхер-Сфорим. Его считают основоположником современной еврейской литературы. В 1908-ом году, когда Яков поступил в школу, Менделе исполнилось 73 года. К этому времени он написал несколько романов, повестей, пьес, принесших ему мировую славу. Началось издание собрания его сочинений. Как писал Блюмкин в одной из своих автобиографий, "дедушка еврейской литературы" оказал значительное влияние на его духовное развитие. Руководитель Талмуд-торы был горячим поборником идеалов просвещения. Он считал, что и еврейские дети должны получать не только духовное, но и светское образование, включая изучение русского языка. Писатель непримиримо относился к иудейскому аскетизму, выступал за освобождение личности от контроля религиозной общины.
Материальное положение семьи Блюмкиных было очень трудным. Денег постоянно не хватало. Не раз вставал вопрос о прекращении Яковом учёбы. Кое-как выручали летние каникулы, когда мальчику удавалось получить место посыльного в какой-либо конторе или магазине.
В 1913-ом году Блюмкин всё-таки закончил Талмуд-тору. Теперь он имел возможность поступить в иешибот, в гимназию или в реальное училище. Однако тут за учёбу нужно было платить, поэтому Яков предпочёл пойти работать учеником в электротехническую контору Карла Фрака. Здесь он получал от двадцати до тридцати копеек в день, монтировал электропроводку в частных домах и учреждениях.
В 1914-ом году Блюмкин познакомился с "товарищем Гамбургом". Под этим псевдонимом вёл нелегальную революционную работу студент-эсер Горожанин (литературный псевдоним Валерия Михайловича Кудельского; впоследствии он стал большевиком и в 20-е годы возглавлял секретно-оперативный отдел ГПУ Украины). Блюмкин и Горожанин участвовали в организации нелегального студенческого кружка для изучения программы и тактики эсеровской партии. Яков Блюмкин жадно впитывал в себя идеи революционного народничества, наряду с учебой в кружке усиленно занимался самообразованием. Одновременно делал первые шаги на литературном поприще. Написанные им стихи печатали журнал «Колосья», детская газета «Гудок», один раз опубликовал даже «Одесский листок», наиболее солидное издание города [16].
Февральская революция застала Блюмкина в Одессе. Он принял в ней участие как агитатор первого Совета рабочих депутатов, выступая на различных предприятиях с агитацией за присоединение к революции и посылку депутатов в Совет. Потом в силу ряда обстоятельств он был вынужден переехать в Харьков. Но и там Блюмкин быстро установил контакты с организацией эсеров, которые сразу привлекли его к агитационной работе.
Новость об Октябрьском перевороте меняет все планы Блюмкина, и он спешно возвращается в Одессу. Там он записывается добровольцем в матросский «Железный отряд» при штабе 6-й армии Румынского фронта, участвует в боях с войсками Центральной рады, с гайдамаками. В марте 1918-го года его отряд влился в состав 3-й советской Украинской армии.
Через два месяца, после расформирования 3-й армии, Блюмкин приезжает в Москву, где поступает в распоряжение ЦК партии левых эсеров. Он неплохо зарекомендовал себя в боях с германскими интервентами и войсками Центральной рады, чем и привлек к себе внимание левоэсеровских лидеров. Его направляют во Всероссийскую чрезвычайную комиссию. По предложению заместителя председателя ВЧК левого эсера Александровича Блюмкину было поручено организовать отделение по борьбе с международным шпионажем.
Во время службы в ВЧК наглядно высветились основные черты противоречивого характера Блюмкина. С одной стороны — абсолютная вера в идеалы мировой социальной революции и готовность идти ради неё на самопожертвование; с другой — хвастовство, зазнайство, склонность к авантюрным поступкам без оглядки на последствия своих действий.
Самолюбию Блюмкина льстило, что его как сотрудника ВЧК все боятся. В беседах со знакомыми он изображал из себя человека, наделённого правом решать вопросы жизни и смерти арестованных. Своим приятелям — поэтам Сергею Есенину и Осипу Мандельштаму — он даже как-то предлагал прогуляться до ЧК и посмотреть, как в подвалах Лубянки расстреливают "контру".
Приведу только один случай из жизни Блюмкина-чекиста, наглядно характеризующий этого человека. В один из последних дней июня 1918-го года Яков Блюмкин вместе с Осипом Мандельштамом, комиссаром ВЧК Александром Трепаловым и своим знакомым по Одессе Петром Зайцевым зашёл в писательское кафе. Подвыпив, он начал хвастаться тем, как ему удалось арестовать австрийского офицера графа Роберта Мирбаха (брат германского посла, действительно арестованный ЧК) по обвинению в шпионской деятельности в пользу Австро-Венгрии.
— Не сознается, — цинично говорил Блюмкин, — поставлю его к стенке. И вообще жизнь людей в моих руках. Подпишу бумажку — через два часа нет человека. Вон, видите, вошел поэт. Он представляет большую культурную ценность. А если я захочу — тут же арестую его и подпишу смертный приговор. Но если он нужен тебе, — обратился Блюмкин к Мандельштаму, — я сохраню ему жизнь.
Тут Блюмкин преувеличивал: права решать вопрос о наказании арестованных, тем более о расстреле, он не имел. Такое постановление в то время могла выносить только коллегия ВЧК при условии, если ни один из её членов не проголосует против. Однако Мандельштам этого не знал. Он принял слова Блюмкина за чистую правду. Поэт вскочил из-за стола и запальчиво крикнул:
— Это палачество! Ты не имеешь права так поступать с людьми. Я сделаю всё возможное и не допущу расправы!
— Не вмешивайся в мои дела! — грубо оборвал его Блюмкин. — Посмеешь сунуться — сам получишь пулю в лоб.
С большим трудом Трепалов и Зайцев загасили ссору [16].
Всемирную известность Якову Блюмкину принесло совершённое им 6 июля 1918-го года убийство германского посла — графа Мирбаха — едва не спровоцировавшее войну с Германией. Произошло это так.
Известно, что основные расхождения в программах двух революционных партий: большевиков и левых эсеров — касались вопросов внешнеэкономической политики. Так, эсеры считали факт подписания ленинским правительством Брестского договора предательством дела революции. Заседавший в Москве в первых числах июля 1918-го года Третий Всероссийский съезд партии левых социалистов-революционеров по вопросу о внешней политике Советской власти постановил "разорвать революционным способом гибельный для русской и мировой революции Брестский договор". Исполнение этого постановления съезд поручил ЦК партии.
Выполнить волю съезда Центральный Комитет решил путём совершения акта индивидуального террора над "одним из наиболее активных и хищных представителей германских империалистических вожделений в России", графом Мирбахом.
Организация акции осуществлялась в спешке и заняла всего два дня.Непосредственными исполнителями должны были стать Яков Блюмкин и фотограф подведомственного ему в ЧК отдела по борьбе с международным шпионажем Николай Андреев.
Утром 6-го июля Блюмкин пришёл в ЧК. У дежурной секретарши в общей канцелярии он попросил стандартный бланк Чрезвычайной комиссии и отпечатал на нём следующее:
«УДОСТОВЕРЕНИЕ
Всероссийская чрезвычайная комиссия уполномочивает её члена Якова Блюмкина и представителя Революционного трибунала Николая Андреева войти в переговоры с Господином Германским Послом в Российской Республике по поводу дела, имеющего непосредственное отношение к Господину Послу.
Председатель Всероссийской чрезвычайной комиссии
Секретарь»
Блюмкин расписался за секретаря ВЧК Ксенофонтова, а один из членов партии левых эсеров — подделал подпись Дзержинского. Заверив документ печатью ВЧК и получив машину (Блюмкину выдали тёмного цвета «паккард» с открытым верхом), Яков отправился в гостиницу «Националь», где его уже ждал Николай Андреев. Там террористы получили последние инструкции. Им были вручены две бомбы и два револьвера, которые они спрятали в портфели. Вышли к машине.
Яков вручил шоферу револьвер и сказал повелительным тоном:
— Вот вам кольт и патроны. Езжайте тихо. У дома, где остановимся, не выключайте мотора. Если услышите выстрелы, шум — не волнуйтесь. Ждите нас!
В три часа дня они подъехали к особняку германского посольства в Денежном переулке (потом — улица Веснина). На звонок в дверь открыл швейцар. Блюмкин на ломаном немецком языке сказал, что он и его товарищ хотят беседовать с господином послом. Швейцар начал что-то объяснять. Из сказанного им удалось понять лишь, что их сиятельство и другие господа изволят обедать и что надо немного подождать.
Минут через десять к посетителям вышел советник посольства Бассевитц. Блюмкин предъявил ему мандат и заявил, что он является представителем советского правительства и просит графа Мирбаха принять его. Бассевитц взял мандат и ушел доложить о визите. Вскоре в приемную прибыли первый советник посольства Карл Рицлер и военный атташе лейтенант Леонгарт Мюллер.
— Вы от господина Дзержинского? — обратился к посетителям Рицлер.
— Да, я — Яков Блюмкин, член ВЧК, а мой товарищ — Николай Андреев, представитель революционного трибунала.
— Пожалуйста, проходите.
Блюмкина и Андреева провели через вестибюль и зал в гостиную, предложили сесть.
— Я имею строгое предписание от товарища Дзержинского говорить с господином послом лично, — заявил Блюмкин.
Рицлер ответил, что граф не принимает и что он, как первый советник посольства, уполномочен вести вместо него все переговоры, в том числе и личного характера. Однако Блюмкин настаивал на своём: ему поручено беседовать только с графом.
Граф Мирбах, опасаясь покушений, избегал приёма посетителей. Однако, узнав, что прибыли официальные представители советской власти, он всё-таки решился побеседовать с ними. Посол в сопровождении Рицлера появился в гостиной.
Сели за круглый массивный мраморный стол: с одной стороны — Блюмкин, напротив него — Мирбах, Рицлер и Мюллер. Андреев расположился поодаль, у дверей. Яков разложил на столе бумаги и стал объяснять послу, что ВЧК арестовала его родственника, офицера австро-венгерской армии, по обвинению в шпионаже. Блюмкин действительно "работал" с братом посла и знал все подробности этого дела. К тому же он привёз подлинные протоколы допроса, которые и продемонстрировал господину послу.
— Меня, господин Блюмкин, всё это мало интересует, — заметил тот. — Я и моя семья не имеют ничего общего с арестованным вами офицером.
— Ваше сиятельство, — обратился к графу Рицлер. — Я полагаю, что следует прекратить этот разговор, а Чрезвычайной комиссии дать письменный ответ через Народный комиссариат иностранных дел.
В этот момент в разговор вмешался Андреев, в течение всей беседы молча сидевший в стороне. Он спросил:
— Видимо, господину графу интересно знать, какие меры будут приняты с нашей стороны?
— Да, господин посол, вы желаете это знать? — повторил вопрос Блюмкин.
Граф ответил утвердительно. Вопрос Андреева, видимо, был паролем. Блюмкин, не дожидаясь ответа посла, выхватил револьвер и произвел несколько выстрелов по Мирбаху, Рицлеру и Мюллеру. Рицлер и Мюллер упали на пол, однако сам граф побежал в соседний зал. Андреев догнал посла и кинул ему под ноги бомбу, но и тут случилась заминка, потому что бомба не взорвалась. Тогда Андреев сильным ударом свалил графа. Блюмкин в ту же секунду наклонился, подхватил неразорвавшуюся бомбу и бросил её в Мирбаха. Наконец детонатор сработал, и раздался оглушительный взрыв. Посыпалась штукатурка, взлетели в воздух плитки паркета, воздушной волной вышибло стекла.
Оставив на столе шляпы, револьвер, документы и портфель с запасной бомбой, террористы кинулись к окну. Андреев благополучно выпрыгнул на улицу и через несколько секунд уже был в автомобиле. Блюмкин же, соскакивая с подоконника, повредил ногу. С трудом он стал карабкаться через железную ограду. Из здания посольства открыли стрельбу. Одна из пуль попала в Блюмкина, но он всё-таки сумел перелезть и, хромая, побежал к автомобилю. Кубарем он ввалился в салон. Машина рванула в сторону Пречистенки и скрылась из виду.
Через несколько минут автомобиль с террористами уже въезжал во двор особняка Морозова в Трехсвятительском переулке. Здесь размещался штаб наиболее многочисленного отряда ВЧК, которым командовал левый эсер Попов. Блюмкина поместили в лазарет. Чтобы затруднить розыск, Якова остригли, сбрили ему бороду.
Согласно этике эсеров исполнители террористического акта должны были остаться на месте его совершения и позволить себя арестовать. Однако Андреев и Блюмкин бежали. Впоследствии по этому поводу Яков напишет:
«Думали ли мы о побеге? По крайней мере, я — нет... нисколько. Я знал, что наше деяние может встретить порицание и враждебность правительства, и считал необходимым и важным отдать себя, чтобы ценою своей жизни доказать нашу полную искренность, честность и жертвенную преданность интересам революции. Перед нами стояли также вопрошающие массы рабочих и крестьян — мы должны были дать им ответ. Кроме того, наше понимание того, что называется этикой индивидуального террора, не позволяло нам думать о бегстве. Мы даже условились, что если один из нас будет ранен и останется, то другой должен найти в себе волю застрелить его» [16].
Как бы там ни было, но Блюмкин бежал. И бегал до апреля 1919-го года, пока не надумал сдаться властям. Несмотря на то, что убийство графа Мирбаха привело к обострению отношений между Советской Россией и Германией и послужило толчком к мятежу левых эсеров со всеми вытекающими, Блюмкин отделался очень лёгким наказанием. 16 мая 1919-го года Президиум ВЦИК, "учитывая добровольную явку Блюмкина и данное им подробное объяснение обстоятельств убийства германского посла", амнистировал его.
Сегодня нам это кажется диким, но современники Блюмкина считали его героем и более того — гордились знакомством с ним. Вот, например, что говорил Николай Гумилёв о том, как он познакомился с Блюмкиным:
«Человек, среди толпы народа застреливший императорского посла, подошёл пожать мне руку, сказать, что любит мои стихи».
Насчёт "толпы народа" поэт, конечно, погорячился, но само это высказывание весьма характерно для того времени.
После освобождения Яков Блюмкин возвращается к своей привычной жизни: сотрудничает с ВЧК, готовит террористические акты против генералитета Белой армии, развлекается в компании поэтов-имажинистов.
В сентябре 1920-го года Яков Блюмкин по направлению Наркоминдела был зачислен на Восточное отделение Академии Генерального Штаба РККА. Отделение готовило кадры для армейской службы на восточных окраинах Советской Республики и для военно-дипломатической работы. Слушатели изучали основы стратегии, тактику родов войск, службу Генштаба, военную географию, строительство Красной Армии, военную психологию и шесть социально-экономических дисциплин — философские и социологические основы марксизма, основы внешней политики, социальную психологию, Конституцию РСФСР, теорию социализма, железнодорожное хозяйство. На Восточном факультете изучались дополнительно: персидский, арабский, турецкий, китайский, японский и другие языки. Блюмкин специализировался по Персии.
Условия учёбы были очень тяжелыми. Занятия продолжались с 9 утра до 22 часов, с часовыми перерывами на обед и ужин. Питание было скудное. В учебных помещениях царил необычайный холод. Свирепствовал сыпной тиф. Несмотря на эти трудности, Блюмкину за время пребывания в академии удалось получить хорошую военную подготовку и основательно проштудировать общественно-политическую литературу.
Весной 1921-го года из академии начали откомандировывать слушателей для участия в боевых действиях в районах, охваченных "бандитизмом", фактически — в карательные отряды. Не избежал сей участи и Блюмкин. Его направили в 27-ю Омскую дивизию, усмирявшую крестьянские восстания в Нижнем Поволжье. Там он был назначен на должность начальника штаба 79-й бригады, а затем стал временно исполняющим обязанности комбрига. В составе 27-й дивизии Блюмкин принял участие в борьбе с "антоновщиной" в Тамбовской губернии, а также в ликвидации Еланьского восстания.
Осенью 1921-го года его откомандировали в Сибирь, где назначили командиром 61-й бригады 21-й Пермской дивизии. Бригада успешно участвовала в боях против войск барона Унгерна фон Штернберга, вторгшихся во Внешнюю Монголию [16].
После победы Блюмкин возвращается в Москву для продолжения учёбы в Военной академии. Однако окончить академию ему так и не удалось: в 1922-ом его снова отзывают и направляют в секретариат наркома по военным делам. В течении года и четырёх месяцев он состоит при Льве Давыдовиче Троцком для выполнения особых поручений.
Осенью 1923-го года Дзержинский предложил Блюмкину перейти на службу в иностранный отдел ОГПУ. Подумав, тот согласился. Началась новая страница в его биографии. А нам самое время вернуться к «Единому Трудовому Братству» и нейроэнергетической лаборатории.
|
Метки: яков блюмкин |
Кто вы, доктор Барченко? |
Кто вы, доктор Барченко?
07 июль 2016, Четверг
 Эти исследования до сих пор не стали достоянием современной науки. А ведь чуть меньше ста лет назад им придавалось государственное значение. Профессор Александр Барченко изучал психическую энергию мозга в секретной лаборатории, созданной при ОГПУ СССР. Причем уровень научных экспериментов был очень высоким: в 1960-х годах американские журналисты признали, что тогдашние советские разработки в области ясновидения и телепатии опережали западные не менее чем на 20 лет.
Эти исследования до сих пор не стали достоянием современной науки. А ведь чуть меньше ста лет назад им придавалось государственное значение. Профессор Александр Барченко изучал психическую энергию мозга в секретной лаборатории, созданной при ОГПУ СССР. Причем уровень научных экспериментов был очень высоким: в 1960-х годах американские журналисты признали, что тогдашние советские разработки в области ясновидения и телепатии опережали западные не менее чем на 20 лет.
Шлемы для передачи мыслей
Александр Васильевич Барченко с 1911 года занимался исследованиями психических феноменов и писал о них статьи для научных и научно-популярных журналов.
Особое место в его работе занимала психофизическая энергия человеческого мозга. В статье «Передача мысли на расстояние. Часть II», опубликованной в №32 журнала «Природа и люди» за 1911 год, Барченко описывает результаты своего опыта, когда двое добровольцев надевали на головы специальные шлемы, соединенные медной проволокой. Один из участников пытался передавать, а другой - принимать слова или изображения. В случае с передачей изображения результат угадывания приближался к 100%, а определение передаваемых слов давалось с большим трудом - особенно если в словах присутствовали шипящие звуки.
В 1913 и 1914 годах Александр Барченко опубликовал посвященные подобным исследованиям фантастические романы «Доктор Черный» и «Из мрака» (последний был переиздан в 1991 году).
Шамбала и революционные матросы
После революции Александру Барченко, чтобы выжить в голодающем Петрограде, пришлось за хлебный паек читать лекции революционным матросам. Он рассказывал им о Шамбале - волшебной стране в Тибете, которая упоминается в древних текстах. Лекции были настолько убедительными, что матросы на общем собрании постановили: послать командованию письмо о готовности пробиться с боями в Шамбалу, чтобы там установить связь с ее мудрецами и передать вечные знания товарищу Ленину.
Именно тогда деятельностью Александра Васильевича заинтересовались чекисты. В их архивах первые записи об ученом датируются 1918 годом: Барченко занимается изысканиями в области психологической науки, на вопросы о Советском государстве отвечает лояльно.
В октябре 1918 года Барченко вызвали в ЧК и попросили прочитать там лекции о психической энергии и древних науках.
Кинжал в сердце
Кроме ЧК, Барченко активно сотрудничал с Институтом мозга и высшей нервной деятельности, которым руководил Владимир Бехтерев. И весной 1921 года этот институт командировал Александра Васильевича в российскую Лапландию (западная часть нынешней Мурманской области) для изучения загадочного явления под названием мерячение - психического, часто коллективного заболевания, напоминающего припадки истерии. По свидетельствам очевидцев, во время таких припадков люди говорили на неизвестном языке или кололи себя ножом - и от раны не оставалось следа. В подобный транс могли по собственной воле впадать шаманы живущих на севере лопарей (саамов).
Есть сведения, что во время одного из переходов у Барченко был сильный сердечный приступ - и его излечила шаманка Анна Васильевна. Но как! Согласно записям коллег ученого, она уложила исследователя на землю и после магических слов всадила в его сердце кинжал. Барченко не умер, а заснул. И проснулся совершенно здоровым человеком - настолько, что сердечные приступы у него больше не повторялись ни разу в жизни.
Во время дальнейшего перехода по направлению к Ловозеру участники экспедиции обнаружили в тайге огромный гранитный камень правильной прямоугольной формы. Причем компас показывал, что он ориентирован строго на стороны света. А переправившись на лодке через Ло-в озеро, группа вышла к расположенному рядом Сейдозеру и обнаружила там такой же прямоугольный камень.
Позже, опираясь на ряд собранных фактов, Барченко в нескольких работах доказывал, что лопари являются прародителями расы белых людей - и при этом сами происходят от представителен еще более ранней цивилизации. А издание «Красная газета» в феврале 1923 года сообщило читателям, что профессор Барченко открыл в Лапландии остатки культуры древнее египетской.
Братство науки и ЧК
После возвращения с Севера Александр Барченко создал объединение ученых под названием «Единое трудовое братство» (ЕТБ). В 1937 году НКВД назовет эту организацию масонской, антисоветской и террористической. Но для Барченко ЕТБ представлялось кружком единомышленников, изучающих психическую энергию мышления и верящих в существование великой Шамбалы. Его участниками были многие деятели науки и культуры (согласно протоколам следствия - художница Элеонора Кондиайн, ученый Петр Шандаровский и другие). Со стороны властей организацию курировал Глеб Бокий, возглавляющий специальный отдел ОГПУ.
Кроме того, начиная с 1925 года Барченко утвердился в мысли, что все накопленные знания следует передать советской власти в лице ее славных представителей-чекистов. Для этого при активном участии Глеба Бокия в ОГПУ создается кружок по изучению древней науки, который посещают многие сотрудники, в том числе сам нарком Генрих Ягода.
Мыльная вода вместо оленьего жира
Во время северной экспедиции Барченко и его сотрудники познакомились с лопарем-шаманом Иваном Даниловым, который обладал даром ясновидения - к примеру, безошибочно предсказывал, где именно следует искать пропавших оленей.
Шамана уговорили приехать в Москву, ему дали ставку сотрудника ЧК и зачислили в штат секретной лаборатории ОГПУ, где отныне работал и Барченко. Лаборатория размещалась в здании Московского энергетического института, и Александр Васильевич числился научным сотрудником ВСНХ (Высшего совета народного хозяйства) и официально занимался лекарственными растениями.
Данилов жил здесь в отдельной комнате - без права выходить из нее даже на прогулку. Каждый день ученый показывал шаману фотографии людей и просил рассказать, где они и что делают в данный момент.
В суматохе переезда для Данилова не взяли его бубен и олений жир, по которому шаман привык гадать. Он пользовался железной миской, куда наливал мыльную воду - и видел в ней людей с фотографий.
Опыты проходили настолько успешно, что ими заинтересовался непосредственный начальник Барченко Глеб Бокий. Он принес фотографию своего шефа Генриха Ягоды - и пожелал узнать, где тот сейчас. Данилов в своей миске увидел, что Ягода лежит в кровати с двумя женщинами. Проверка, проведенная Бокием, полностью подтвердила правоту шамана. Начальник спецотдела получил возможность следить за высшими руководителями страны.
К сожалению, шаман, лишенный привычного образа жизни, заболел чахоткой и через три месяца умер. Но идея собирать компрометирующие материалы с помощью ясновидящих уже была взята на вооружение.
Режиссер, впадающий в транс
Для этого в лабораторию привозили людей с паранормальными способностями. Известно, что одним из таких ясновидящих был режиссер Московского художественного театра Валентин Смышляев, умевший впадать в транс и предсказывать будущее.
В досье секретной лаборатории находилась компрометирующая информация даже на Сталина: у него в Баку была гражданская жена Стефания Петровская, которая бесследно исчезла в 1929 году. Там же хранились сведения о том, что председателю ЦИК Михаилу Калинину по ночам привозят балерин из Большого театра, а нарком внутренних дел Николай Ежов является гомосексуалистом.
Иногда Глеб Бокий давал документам ход. Известно, что весной 1938 года Военная коллегия Верховного суда СССР рассматривала дело уже бывшего наркома Генриха Ягоды, и среди предъявленных обвинений была «постыдная для революционера моральная распущенность». Правда, сам Бокий, передавший эти материалы «наверх», был расстрелян на полгода раньше - по обвинению в шпионаже.
Пропавшие результаты исследований
Александр Барченко ненадолго пережил своего шефа. По мнению некоторых историков, сведения о новом направлении деятельности сверхсекретной лаборатории дошли до самого Сталина - после чего участь людей, собирающих компромат на руководителей государства, была решена.
Обвинение строилось в том числе на признаниях Глеба Бокия. На первых же допросах тот рассказал, что вместе с Барченко состоял в тайной организации, целью которой было убийство Сталина.
По решению Военной коллегии Верховного суда СССР от 25 апреля 1938 года Александр Барченко был приговорен к высшей мере наказания за создание контрреволюционной террористической организации и шпионаж в пользу Англии. Для этого руководство НКВД разработало соответствующую легенду о том, что на территории одного из восточных протекторатов Англии (точное место не указывалось из-за боязни явной ошибки) существует политический центр «Шамбала», задачей которого является подчинить себе руководство ведущих стран, в том числе и СССР.
Приговор привели в исполнение 25 апреля 1938 года. За несколько дней до казни Александру Васильевичу дали карандаши и стопку писчей бумаги, чтобы смертник мог оставить для потомков информацию о своих исследованиях. После казни рукопись была помещена в один из секретных архивов, и отыскать ее пока не удалось. По существующей легенде, она была сожжена в 1941 году, когда немцы подошли к Москве и руководство НКВД распорядилось уничтожить многие документы. Но так ли это, или бесценные знания еще ждут своего нового открытия - покажет время.
Платон Викторов http://parallelnyj-mir.com/1/30/8229-kto-vy-doktor-barchenko.html
|
Метки: барченко |
Барченко Александр Васильевич (1881–1938) |
Барченко Александр Васильевич (1881–1938)
Персоналии Уроженцы Липецкого края г. Елец
Ученый, историк, писатель-фантаст, исследователь паранормальных способностей человека А. В. Барченко родился 25 марта 1881 года в г. Ельце. Его отец Василий Ксенофонтович, был присяжным поверенным Елецкого окружного суда, действительным статским советником, владельцем нотариальной конторы, знал И. А. Бунина, а мать происходила из семьи духовенства.
А. В. Барченко, окончив классическую Санкт-Петербургскую гимназию, в 1904 году поступил на медицинский факультет Казанского университета, в 1905 году перевелся в Юрьевский университет. Проучившись два с половиной года, он был вынужден прекратить ученье «за неимением средств».
Предметом его увлечений с ранней юности были оккультизм, астрология, хиромантия и паранормальные человеческие способности – феномены телепатии и гипноза. С 1911 года он начинает публиковать результаты своих исследований, часто облекая их в литературно-художественную форму. В декабре 1911 года в журнале «Жизнь для всех» появилась его статья «Душа природы», в которой он задолго до А. Чижевского высказал гипотезу о влиянии солнечной активности на биологические и социальные процессы на Земле.
Писательским дебютом А. В. Барченко был рассказ «Конец компании «Радий» (1911). Его рассказы под псевдонимами А. Нарвский и А. Елецкий печатались на страницах журналов «Мир приключений», «Жизнь для всех», «Русский паломник», «Природа и люди», «Исторический журнал». Он автор сборника рассказов «Волны жизни» (1914), романов: «Доктор Черный» (1913), «Из мрака» (1914, 1991); повестей: «Золото», «За Уралом», «Океан кормилец», рассказов.
Александр Васильевич участвовал в Первой мировой войне. После ранения, вернувшись с фронта, он некоторое время служил в Министерстве финансов. После 1918 года его жизнь была связана исключительно с научной работой. В 1923 году А. В. Барченко организовал в Петербурге эзотерический кружок «Единое Трудовое Братство».
В 1920-1930 годах А. В. Барченко был ученым консультантом Главнауки, заведующим секретной нейроэнергетической лабораторией Всесоюзного института экспериментальной медицины при ОГПУ. Совместно со знаменитым психиатром, профессором В. М. Бехтеревым он занимался изучением загадочных явлений человеческой психики.
А. В. Барченко организовал научные экспедиции в поисках следов древнейшей цивилизации Гипербореи: в 1921-1923 годах в глухие районы Кольского полуострова, в 1926 году в пещеры Крыма, в 1929-1930 годах на Алтай. Был знаком с Н. Рерихом. А. В. Барченко читал и понимал древнейшие тексты, обладал экстрасенсорными способностями.
21 мая 1937 года он был арестован. 25 апреля 1938 года приговорен к расстрелу по обвинению в создании масонской контрреволюционной террористической организации «Единое трудовое братство» и шпионаже в пользу Англии. В тот же день приговор был приведен в исполнение. В 1939 году весь архив, все рукописи А. В. Барченко, в том числе и его научный труд «Введение в методику экспериментальных воздействий энергополя» были уничтожены на Лубянке. В 1956 году он был реабилитирован за отсутствием состава преступления.
Произведения автора
- Волны жизни : сб. рассказов. – С.-Петербург : В. И. Губинский, 1914. – 84 с., 8 л. ил.
- Из мрака : романы, повесть, рассказы. – М. : Современник, 1991. – 541 с. – Содерж.: Романы: Доктор Черный; Из мрака; Золото: повесть; Рассказы: Хозяева воздуха; На берегу; На льдине; Ненастоящее; Спаситель; Сват; Частное дело.
Литература о жизни и творчестве
- Демин В. Н. [Исследования А. В. Барченко] // Тайны русского народа / В. Н. Демин. – М.: Вече, 1997. – С. 6-21.
- Вуколов А. Александр Барченко – человек-загадка // Медицинская газета. – 2000. – 7 апр. – С. 15.
- Брачев В. «»Единое Трудовое Братство» А. В. Барченко // Чекисты против оккультистов: оккультно-мистическое подполье в СССР / В. Брачев. – М. : Яуза : Эксмо, 2004. – С. 271-305.
- Кудрявцев Э. Новое об оккультисте Страны Советов // Нева. – 2006. – № 12. – С. 279-282.
- Заусайлов В. Елецкий нотариус : [о елец. нотариусе, купце, потомств. почет. гражданине В. К. Барченко и судьбе его семьи] // Липецкая газета. – 2007. – 13 янв. – С. 4.
- Федюкина Т. Корни и ветви : [о встрече потомков елец. купеческих родов, прошедшей в г. Ельце, орг. В. Заусайловым, на которой присутствовали потомки купцов в т.ч. Барченко] // Липецкая газета. – 2008. – 13 авг.
- Карма елецкого фантаста: к 130-летию со дня рождения Александра Барченко / подгот. И. Чемякина // Липецкая газета: итоги недели. – 2011. – № 52 (19-25 дек.). – С. 46-47.: фото.
- Ляпин Д. А. Наука и мистика // История Елецкого уезда в XVIII – начале XX веках / Д. А. Ляпин. – Саратов: Новый ветер, 2012. – С. 167-169.
- Ляпин Д. Религиозное воспитание и интерес к мистике // Талисман. – 2012. – 12 мая (№ 10). – С. 6.
Справочные материалы
- Славные имена земли Липецкой : биогр. справочник об известных писателях, ученых, просветителях, деятелях искусства. – Липецк, 2007. – С. 229-231.: ил.
http://lounb.ru/lipmap/index.php/personalii/urozhe...etskogo-kraya/92-barchenko-a-v
|
Метки: барченко |
Барченко, Александр Васильевич |
Барченко, Александр Васильевич
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Текущая версия страницы пока не проверялась опытными участниками и может значительно отличаться от версии, проверенной 6 сентября 2018; проверки требуют 5 правок.
Перейти к навигации Перейти к поиску
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Барченко.
| Александр Васильевич Барченко | |
|---|---|
 |
|
| Дата рождения | 1881 |
| Место рождения | Елец |
| Дата смерти | 25 апреля 1938 |
| Место смерти | Москва |
| Страна | |
| Род деятельности | оккультист, писатель, исследователь телепатии |
 Александр Васильевич Барченко на Викискладе Александр Васильевич Барченко на Викискладе |
|
Александр Васильевич Ба́рченко (1881, Елец — 25 апреля 1938, Москва) — советский оккультист, писатель, исследователь телепатии, гипнотизер[1]. Проводил исследовательские работы в рамках особого спецотдела ОГПУ.
Содержание
Биография
Отец Барченко был нотариусом окружного суда, мать происходила из духовного сословия. По словам Барченко, он уже с юношеского возраста отличался «склонностью к мистике и ко всему таинственному»[2].
В 1898 году окончил петербургскую гимназию, затем пытался получить высшее образование, слушал лекции на медицинском факультете в Казанском, затем в Юрьевском (Дерптском) университетах. Из-за недостатка денежных средств учёба не была завершена.
В 1905—1909 годах А. В. Барченко в поисках своего призвания и с целью заработка объехал «в качестве туриста, рабочего и матроса», по его словам, «большую часть России и некоторые места за границей», в том числе побывал в Индии. В этот же период происходит увлечение Барченко эзотеризмом. В 1909—1911 годах занимался «рукогаданием», давал частные консультации в Боровичах Новгородской губернии (с разрешения местной полиции).
С 1911 года под псевдонимами А. Нарвский, А. Елецкий писал научно-популярные статьи и репортажи для журналов «Мир приключений», «Жизнь для всех», «Русский паломник», «Природа и люди», «Исторический журнал». В 1913 году опубликовал роман «Доктор Чёрный», год спустя — роман «Из мрака» (переиздан в 1991) и сборник рассказов «Волны жизни» (с собственными иллюстрациями).
После октябрьской революции Барченко приглашают работать в Институт Бехтерева. Исследованиями Барченко заинтересовались чекисты, после чего началась активная работа в особом спецотделе ОГПУ под руководством Г. И. Бокия.
В начале 1920-х годов возглавлял экспедицию в центр Кольского полуострова, в район Ловозера и Сейдозера, где якобы нашел рукотворные памятники[3]. Целью экспедиции было изучение явления «мереченья», подобного массовому гипнозу. После отчётного выступления Барченко в Институте мозга о его исследованиях, он был принят Главнаукой (27.10.1923 г.) на работу в качестве учёного-консультанта[4].
В 1923 году Барченко организовал эзотерическое общество «Единое трудовое братство», в который входили А. А. Захаров, жена П. Д. Успенского Софья Григорьевна, Г. И. Бокий и другие. Эта страница его биографии нашла отражение в романе Д. Быкова «Остромов, или Ученик чародея» (2011)[5].
Со времён учёбы в Юрьевском университете и знакомства с работами Сент-Ив Д’Альвейдра Барченко интересовался Шамбалой как неким очагом древней культуры и науки, существующим в горах Тибета[6]. В рамках спецотдела готовился к экспедиции на поиски Шамбалы для овладения наследством «тайной науки», однако экспедиция не состоялась. Согласно одной из версий, Г. В. Чичерин вместо Барченко поддержал Тибетскую экспедицию предположительно связанного с ОГПУ художника Николая Рериха[7] (по мнению авторов, состоящих в рериховском движении, Рерих не был связан с ОГПУ[8][9]).
Статья А. В. Барченко «Передача мыслей на расстояние» («Природа и люди», 1911 г.)
Арестован 21 мая 1937 года, осуждён 25 апреля 1938 года Военной Коллегией Верховного Суда СССР к высшей мере наказания по обвинению в создании масонской контрреволюционной террористической организации «Единое трудовое братство» и шпионаже в пользу Англии (пункты 6, 8 и 11 статьи 58 УК РСФСР). В этот же день расстрелян. Реабилитирован Военной Коллегией Верховного Суда СССР 3 ноября 1956 года.
Библиография
Прижизненные издания (избранные)
- статья «Передача мыслей на разстоянiе» // «Природа и люди», 1911, № 31
- роман «Доктор Чёрный» // «Природа и люди», 1913, № 1-5
- роман «Из мрака» (1914)
- сборник рассказов «Волны жизни» с собственными иллюстрациями (1914)
- повесть «Океан-кормилец» (1918, второе издание)
- «Введение в методику экспериментальных воздействий энергополя» (конфисковано НКВД[10])
Посмертные издания
- Барченко А.В. Из мрака (романы, повесть, рассказы). — М: Современник, 1991.
Примечания
- Кудрявцев Э. Новое об оккультисте Страны Советов // «Нева» , №12. — 2006.
Литература
Исследования
на русском языке
- Андреев А. Оккультист страны Советов. — М., 2004.
- Брачёв В. С. Тайные общества в СССР. — СПб.: Стомма, 2006. — С. 161—184. — 390 с.
- Гарнага С. Потерянный рай // Совершенно секретно. — 2001. — Т. 40, № 1.
- Кудрявцев Э. Новое об оккультисте Страны Советовh // «Нева». — 2006. — № 12.
- Лукашин А. П. Экстелопедия фэнтези и научной фантастики. Барченко А.
- Тантра для комиссара Бокий, Барченко и дачная коммуна
на других языках
- Shishkin O. A. (1923–1938). The Occultist Aleksandr Barchenko and the Soviet Secret Police // The new age of Russia: Occult and esoteric dimensions / B. Menzel, M. Hagemeister, B. G. Rosenthal, eds.. — München—Berlin: Verlag Otto Sagner, 2012. — P. 81—100. — 448 p. (Доклад Начало оккультного и паранормального проекта ОГПУ: декабрь 1924-го — август 1925 года и его отголосок представленный в 2007 на научной конференции «The Occult in 20th Century Russia: Metaphysical Roots of Soviet Civilization / Оккультизм в России XX века: метафизические корни советской цивилизации» в Harriman Institute)
- Znamenski A. Red Shambhala: Magic, Prophecy, and Geopolitics in the Heart of Asia (англ.)русск.
Первоисточники
- Барченко А.В. Памятка для членов ЕТБ // В кн.: Шишкин О. Битва за Гималаи. НКВД: Магия и шпионаж. — М, 1999. — С. 307—314.
- Письма А.В.Барченко профессору Г.Цибикову // В кн.: Шишкин О. Битва за Гималаи. НКВД: Магия и шпионаж. — М, 1999. — С. 316—352.
- Протокол допроса А.В.Барченко от 10 июня 1937 года // В кн.: Шишкин О. Битва за Гималаи. НКВД: Магия и шпионаж. — М, 1999. — С. 352—375.
|
Метки: наука вчк-кгб |
Субботина Е. А. Зворыкины муромские. Из семейного архива |
Субботина Е. А. Зворыкины муромские. Из семейного архива
История одного из древнейших муромских купеческих родов рода Зворыкиных невероятно многогранна. В ней переплетаются судьбы и события, радости и трагедии. Эти переплетения прослеживаются и в материалах архива, о котором пойдет речь. Он собирается не одно поколение, содержит несколько десятков фотографий разного формата, от визиток на паспарту, находящихся в красивом фотоальбоме с верхней крышкой, украшенной чеканкой по металлу, до ксероксных копий с фотографий из других архивов; несколько родословных Зворыкиных, присланных в Муром и из Москвы, и из Санкт-Петербурга; автобиографии представителей этого рода; воспоминания о предках; сборники стихов родственников дореволюционного периода и советского времени; письма, одно из них, кстати, от Елизаветы Аркадьевны Куликовой-Соколовой1.
Не один десяток лет хранит архив Лидия Павловна Зворыкина, одна из представительниц этого рода (Ил. 1). Она приняла эту эстафету от своей матери, Евдокии Федоровны Зворыкиной (1904-1991), урожденной Филипповой (Ил. 2). Лидия Павловна любезно предоставила мне возможность познакомиться с семейными документами. В этом архиве – судьбы представителей не только рода Зворыкиных, но и Соколовых, Вощининых, Филипповых.
Филипповы
По рассказам Лидии Павловны, отец Евдокии – Федор Платонович Филиппов – был управляющим двух ткацких фабрик в местечке Филипповка под Шуей Владимирской губернии в 1905-1915 годах. Хозяином был некий Кормилицын, которого рабочие очень не любили и однажды сожгли одну из фабрик. Федору, который радел за рабочих и не раз подступался к владельцу: «Прибавь хоть копеечку рабочим», – посоветовали ехать с семьей от греха подальше в «вишневый» Муром. Так он и сделал. Семья обосновалась в Муроме. Отец работал управляющим у Суздальцевых на бумаготкацкой фабрике (будущий комбинат «Красный луч»). Они поселились в двухэтажном доме при входе на фабрику. В семье были еще дочери Анна, в замужестве Селезнева, Агриппина, в замужестве Антонова, и сын Николай.
Интересна судьба Николая. По окончании семилетки в 1927 году он работал в клубе фабрики «Красный луч», где руководил кружком «синеблузников» (Ил. 3). По словам Лидии Павловны, здесь в нем впервые проявилось «артистическое дарование». После службы в армии Николай организовал в Муроме театр рабочей молодежи, а в 1935 году по направлению райкома комсомола стал заместителем директора муромского драматического театра. С сентября 1936 в течение года он играл на сцене театра в Йошкар-Оле. В 1937 году Филиппова пригласили в труппу вновь созданного Заполярного драматического театра в Игарке. В послевоенное время он выступал на сценах театров Красноярска, Ачинска, Прокопьевска, Анжеро-Судженска, Томска. Многие годы Филиппов жил в Кургане, играя на сцене областного драматического театра. Яркие выразительные образы, созданные Николаем Филипповым, в том числе образы Ермака в одноименной пьесе М. Бударина и Арбенина, в «Маскараде» М. Ю. Лермонтова привлекали многочисленных почитателей его творчества (Ил. 4). Газеты восторгались его игрой. Он был приглашен в Москву, но, по словам Лидии Павловны, ответил: «И в Сибири народ хороший». В 1965 году Филлипов был удостоен почетного звания Заслуженный артист РСФСР. А в 1970 году в театре прошел вечер, посвященный тридцатипятилетней сценической и общественной деятельности и шестидесятилетию со дня рождения артиста. В фойе театра ему был установлен бюст. Умер Николай Федорович в 1973 году 63 лет от роду в больнице Обнинска под Москвой. Он был кремирован. Урна с прахом захоронена в Кургане.
Ну, а что Евдокия? Совсем юной она окончила фельдшерско-акушерскую школу и всю жизнь проработала медицинской сестрой. В 1924 году ее выдали замуж за Павла Николаевича Зворыкина (1891-1942).
Зворыкины
Как вспоминает Лидия Павловна, Павел Зворыкин, сын купца первой гильдии, окончил в Муроме реальное училище (Ил. 5). В этот период вместе с мужем своей старшей сестры Прасковьи (1882-1940) Валентином Александровичем Вощининым (1878-1943) он совершил поездку в Европу. По торговым делам Вощинина они посетили Англию, Германию и Францию. Дело в том, что своих сыновей у Вощининых не было, и в Павле они видели потенциального преемника, поэтому приобщали к торговому делу. Вощинин, сам владея в совершенстве тремя европейскими языками, приучал к языкам и Павла.
Судьба Павла Николаевича сложилась трагично. Он прошел две войны – империалистическую, как принято до сих пор говорить в их семье, и гражданскую, уже на стороне Красной Армии, что, однако, не спасло его от репрессий. После войны Павел преподавал немецкий язык в школе № 15, был у детей любимым учителем. А в январе 1938 года здесь, в Муроме, по доносу одного из его псевдо-друзей по фамилии Грузинский, Зворыкин и еще пять бывших офицеров русской армии были арестованы и осуждены как враги народа. Вместе с другими репрессированными Павел Николаевич участвовал в строительстве Куйбышевской ГРЭС, потом работал на лесоповале в Архангельске, а в КОМИ республике принимал участие в строительстве железной дороги, где и умер в 1942 году от непосильных физических нагрузок. Реабилитирован отец Лидии Павловны Зворыкиной был лишь в 1956 году.
Его жена, Евдокия Федоровна, трепетно, втайне от окружающих, сохраняла и собирала все возможное о своей семье и семье репрессированного мужа, нередко говоря своей дочери Лидии, учительнице английского языка: «Что ты все бегаешь? Сядь и послушай. Ведь ты из Зворыкиных», – и рассказывала, рассказывала...
Зворыкины-Подгорные
Кто они – Зворыкины, Зворыкины-Подгорные? Почему Подгорные? Здесь уместно вспомнить о многочисленных семействах рода Зворыкиных. Каждая ветвь определялась или родом занятий главы семьи, или ее местожительством. Про эту ветвь Зворыкиных известно, что жили они в обширном доме под Богатыревой горой на спуске к Оке, отсюда и прозвание Подгорные. Увы, их дом не сохранился до наших дней, в 1996 году он был разобран. В архиве самой Лидии Павловны его фото не оказалось. Сохранились фотографии, размещающиеся в интернете и в местных СМИ.
Зато в архиве Лидии Зворыкиной хранится несколько фотографий главы этого дома Дмитрия Ивановича Зворыкина (1795-1867) – Сулемы2, как его прозывали в семье за невероятную прижимистость, даже жадность (Ил. 6). Дмитрий Иванович числился купцом третьей гильдии. Семья была очень большая, старинного уклада. Изначально все жили вместе. В доме проживало семьдесят два человека, отец никого из семьи не отпускал, был очень рачительным хозяином. Чтобы прокормить такое больше семейство, каждый день резали теленка. Жена Сулемы, Ирина Ивановна (1796 г. р.), родила десятерых детей, из которых выжило восемь. Это четыре дочери: Анна (1924-1887), бабка отца телевидения Владимира Козьмича Зворыкина, Александра (1825-1913), Мария (1832 г. р.) и Елена (1840-1920), прабабка Константина Михайловича Первова3, и четыре сына: Иван (1822-1885), дед будущего изобретателя льнопрядильной машины Ивана Дмитриевича Зворыкина, именем которого в Костроме назван льнокомбинат (Лидия Павловна рассказала, что старший Иван Дмитриевич, занимаясь текстильным делом, что-то модернизировал в челноке, за что в семье его прозывали Ткач), Федор (1827 г. р.), Николай (1830-1835) и Василий (1834-1896). Прошло время, и поразъехались, поразлетелись из дома «подгорного» дети. Дочери были выданы замуж, сыновья – каждый – купил себе дом. Родовой же дом достался Федору Дмитриевичу Зворыкину (Ил. 7). Он был известный в Муроме человек, состоял гласным Владимирского земского собрания и гласным городской думы. Среди его инициатив оказалось заявление в Думу от 27 апреля 1872 года о настоятельной необходимости учредить в городе прогимназию с дополнительным ремесленным классом. Так было дано начало открытию в Муроме реального училища, а Федор Дмитриевич стал членом попечительства этого учебного заведения4. В одной из родословных, хранящихся у Л. П. Зворыкиной, Федора назвали Археологом за участие в археологических изысканиях под началом графини Прасковьи Сергеевны Уваровой. По ее рекомендации Зворыкин включен в члены Московского археологического общества. Его единственный сын Иван (1830-1863) был поэтом. Лидия Павловна бережно хранит репринтную копию сборника стихов, написанных Иваном в последние три года жизни. Сборник был напечатан в типографии5, принадлежавшей двоюродному брату поэта Николаю Васильевичу Зворыкину (1855-1925), деду Лидии Павловны. Стихи предваряются вступительной статьей, где сказано, что любимым поэтом Ивана был А. С. Пушкин. Сам он, инвалид по рождению, со слабым сердцем и слабой нервной системой, имел тонкую, легкоранимую душу и обладал очень богатым внутренним миром. Это отразилось в его стихах. Среди них много духовных, стихов-размышлений. В одном Иван дает описание родного дома, достаточно мрачное, как и его болезнь:
...Картины прошлого проходят предо мной
Я вижу, под горой стоит уединенный,
Как мрачная тюрьма, большой отцовский дом.
Я вижу в нем себя больным и изнуренным,
Но с сильною душой и пытливым умом...
В другом стихотворении поэт пишет о детском приюте на Никольской (ныне ДОСААФ на Первомайской улице), тоже ассоциируя его с тюрьмой. Может, это было связано с соседством родительского дома с реальным тюремным замком (ныне кафе «Крюк», площадь Революции, д. 1).
Зворыкины с Успенской (Красноармейской)
Брат Федора Дмитриевича Зворыкина, прадед Лидии Павловны, Василий Зворыкин (Ил. 8), женился на Прасковье Алексеевне Суздальцевой (1932-12.01.1881). Для семьи он выкупил дом на улице Успенской (ныне ул. Красноармейская, 7) у Марии Ефимовны Ермаковой, вдовы головы города Алексея Васильевича Ермакова. Дом ему достался «очень дешево, с мебелью, зеркалами и коврами. Вход в усадьбу был украшен фигурами лежащих львов, к сожалению не сохранившихся до наших дней», – так писала Евдокии Федоровне Зворыкиной Елизавета Аркадьевна Соколова-Куликова, выросшая в этом доме. При доме был замечательный сад. Вход в сад со двора начинался фонтаном. Над оврагом была беседка в китайском стиле, с балкончиком. К ней вела широкая дорожка. Сад, полный фруктовых и ягодных деревьев и кустарников, располагался на трех ярусах южного склона оврага. На нижний третий ярус вела лестница, густо обсаженная акацией. Внизу был пруд, склон оврага поддерживался мощной каменной стеной.
У Василия Дмитриевича и его жены Прасковьи Алексеевны было трое детей – Мария, Николай (1855-1925) и Владимир (01.03.1867-1943?). Мария вышла замуж за коллежского асессора, вдовца Аркадия Петровича Соколова, жившего в соседнем доме (ныне ул. Красноармейская, д. 9), и стала его двухлетней дочке Лизе, Лизоньке, как ее называли в семье, матерью. Позже, в письме Евдокии Федоровне Елизавета Аркадьевна напишет, что сад при доме был миром их детства, ее и детей Николая Васильевича «Пани, Мити, Маруси и Тони» (Ил. 9). Прошло время, и подросшие братья Зворыкины Павел и Дмитрий подсмеивались над своей сводной сестрой Лизонькой, когда та собралась выйти замуж за художника Ивана Куликова, донимая ее песенкой:
А кто же он такой,
Он – художник молодой,
Он – художник молодой?
Ему уж год двадцать восьмой.
Николай Зворыкин (Ил. 10) был совладельцем выксунских металлургических заводов. Он женился на представительнице другого рода Соколовых, выходцев из откупившихся крепостных крестьян графа Уварова из Карачарова, Лидии Павловне Соколовой (1860-1923). Надо отметить, что в архиве Зворыкиных оказалось много фотографий представителей второго рода Соколовых. Две семьи-однофамилицы, из одной – будущая жена академика живописи И. С. Куликова Елизавета Аркадьевна, выросшая в бывшем доме Ермакова, из другой – бабка нынешней хранительницы архива, полная ее тезка в замужестве, Лидия Павловна Зворыкина, пришедшая в этот дом хозяйкой. Для меня это удивительная новость, требующая дальнейших исследований. Ведь мои корни тоже из Карачарова, и в нашей родне тоже есть Соколовы. Из разговоров с Лидией Павловной Зворыкиной я выяснила, что одна из сестер Соколовых – Вера, монахиня Выксунского Иверского женского монастыря, бывая в Муроме, часто из города «уходила в Карачарово, в тишину, помолиться»: не в дом ли моего родственника Николая Павловича Соколова, стоявший под святым родником Ильи Муромца? Но это уже другая история...
Сам же Николай Васильевич Зворыкин, как в семье о нем говорили, был очень добрый и справедливый человек, числился среди благотворителей Саровского монастыря. В семье известно, что однажды, в знак благодарности за честную службу, он купил одному из своих приказчиков дом.
«Зубр» из рода Зворыкиных
Второго сына Владимира Васильевича в семье прозывали Зубром6. Почему? Лидия Павловна не смогла объяснить. Может, это прозвище подтверждает его судьба? Какова же она? Родился Володя 1 марта 1867 года. После учебы в реальном училище, как и многие другие его однокашники, он продолжил образование. В 1891 году закончил Императорское московское техническое училище (ИМТУ), ныне МВТУ им. Н. Баумана. По окончании училища Зворыкин получил специальность инженера, физика, преподавателя и начал преподавать в своей альма-матер. В научных кругах В. В. Зворыкин признан крупным ученым в области общего машиностроения и металлических строительных конструкций. Будучи профессором ИМТУ, он преподавал такие дисциплины, как сопротивление материалов и машиностроение. На основе курса лекций по графостатике, который Зворыкин читал механическом отделении ИМТУ, в 1910 году был издан учебник, переизданный дополнительно в 1911 году7. Как один из профессионалов своего дела, вместе с инженером-механиком Владимиром Григорьевичем Шуховым, «первым инженером Российской империи»8, сотрудничал с конторой известного русского предпринимателя конца XIX – начала XX века Александра Бари, создателя первой российской инжиниринговой компании9. Вместе с Шуховым Владимир Зворыкин принимал участие в проведении инженерных расчетов и проектировании металлических конструкций зданий Московского Главпочтамта, построенного на Мясницкой улице в 1912 году, для операционного зала которого было создано стеклянное покрытие с естественным светом10, и здания Московского ЦУМа – бывшего магазина «Мюр и Мерилиз»11. Эти конструкции были впервые применены в области стальных сетчатых перекрытий-оболочек и металлических конструктивных элементов. По воспоминаниям Павла Николаевича Зворыкина, отца хранительницы архива, часто гостившего у дяди в Москве, маленький макет ЦУМа всегда стоял на письменном столе в рабочем кабинете Зворыкина. В течение некоторого времени Зворыкин был владельцем собственной технической конторы.
Ученый занимался и общественной деятельностью. Был председателем инженерно-механического отделения Российского политехнического общества, состоял действительным членом созданного в 1909 году в Москве «Общества содействия успехам опытных наук и их практическому применению». Среди почетных членов этого общества были И. И. Мечников, К. А. Тимирязев, Н. Е. Жуковский В. В. Зворыкин был учеником, а позже сослуживцем и другом отца русской аэрогидродинамики Николая Егоровича Жуковского, также преподававшего в ИМТУ. Обосновавшись в Москве, Владимир Васильевич с семьей жил на улице Немецкой в собственном доме. До наших дней дом не сохранился, он располагался рядом с современной улицей Радио.
Рассказы Лидии Павловны Зворыкиной невероятно любопытны. От своей матери Евдокии Федоровны она слышала удивительные истории о поездках отца в гости к московскому дяде-ученому, радушно принимавшему в своем доме всех племянников, не только Павла. Владимир Васильевич очень тепло относился к своей родне, муромской в том числе. Павел вспоминал, что, бывая у дяди в гостях, иногда сопровождал его и гостившего у Зворыкиных на Немецкой улице по выходным дням Николая Егоровича Жуковского (для Жуковского у Зворыкина была отведена специально комната, к нему был приставлен один из слуг Зворыкиных) на службу в Елоховский собор. Молодой человек наблюдал не однажды картинку, как Жуковский во время службы вдруг отвлекался на то, чтобы записать на полу тростью какие-то формулы. Тогда Владимир Васильевич брал его под локоток и напоминал, что они в храме. Жуковский приходил в себя, отвечая: «Да, да...», – и начинал молиться. «Мысли его были в небе, но не с Богом», – говорит Лидия Павловна.
Владимир Васильевич был женат на чешке, Франце Павловне. В семье росло трое сыновей: Михаил, Николай и Сергей (Ил. 11). Трагична судьба младшего сына Сергея. Он был воспитанником Алексеевского юнкерского училища. Юнкера до событий 1917 года приняли присягу царю и во время двоевластия в Москве в ноябре 1917 года оказались среди участников юнкерского мятежа, захвативших Кремль. Сопротивление было мирным до момента, пока одна из пуль не попала в икону Успенского собора. По словам Лидии Павловны, Сергей первым выстрелил в противника. Именно об этих мальчиках-юнкерах напишет позже свою песню Александр Вертинский:
...И никто не додумался
Просто встать на колени
И сказать этим мальчикам,
Что в бездарной стране
Даже светлые подвиги –
Это ступени
В бесконечные пропасти –
К недоступной весне...
Сергея, как и его товарищей, арестовали, отвезли в Арзамас, где он был расстрелян.
Сам Владимир Васильевич не был вне политики ни до, ни после революционных событий. Он состоял старостой домовой церкви ИМТУ, был гласным Московской городской думы, с 1905 года являлся членом Басманного комитета партии кадетов. За свои политические взгляды арестован в 1918 году Московской ЧК, но через три недели освобожден, возможно, как крупный ученый. Вновь Владимира Васильевича арестовали 16 августа 1922 года по обвинению в том, что, являясь преподавателем МВТУ, он «стремился к независимости высшей школы с целью использования ее как контрреволюционного орудия в противовес интересам пролетарских масс. Свою контрреволюционную деятельность усиливал участием в забастовке профессоров МВТУ». В списке активной антисоветской интеллигенции Зворыкин значился среди своих коллег профессоров Московского высшего технического училища под номером шесть. Кроме известных нам обвинений, за занимаемые им в дореволюционный период должности в вину еще было вменено, что он «определенный противник советской власти», ведущий монархическую агитацию среди студенчества. Приговор звучал так: «Произвести обыск, арест и выслать за границу». Обозначено и согласование вынесенного приговора: «Комиссия с участием т. Богданова и др. за высылку. Главпрофобр за высылку»12.
Это была акция под собирательным названием «философский пароход», инициированная В. И. Лениным, когда в 1922 году из страны выслали цвет российской интеллигенции. Ученых, философов, деятелей культуры, университетских профессоров объявили врагами, но не уничтожили, а посадили на пароходы и отправили в Европу. По решению Коллегии ГПУ от 23 августа 1922 года Зворыкин с семьей также был выслан из пределов РСФСР заграницу. Он вместе с женой и двумя сыновьями был среди пассажиров первого судна, зафрахтованного у немцев парохода «Обербургомистр Хакен». Всего на этом борту выехало из России более тридцати человек, с семьями – около семидесяти. В их числе, кроме В. В. Зворыкина, были Н. А. Бердяев, С. Е. Трубецкой, И. А. Ильин, Б. П. Вышеславцев, М. А. Ильин (Осоргин), М. М. Новиков, А. И. Угримов, Н. А. Цветков и др. 29 сентября 1922 года пароход отплыл из Петрограда, а 30 сентября прибыл в немецкий Штеттин13.
Информация о жизни В. В. Зворыкина после высылки из страны очень скудна. Заграницей семья Зворыкина некоторое время жила в Чехословакии, может быть, потому, что жена Франца Павловна была чешкой. В Праге Владимир Васильевич состоял членом академической группы. В 1933 году семья переехала во Францию. Жили в Париже, где Владимир Васильевич в 1933-1935 годах читал в Русском высшем техническом институте курс «Паровые котлы». Известно, что в 1937-1939 годах он состоял членом Русской колонии Бордо и юго-запада Франции, там же в Бордо в 1938-1939 был избран в Русскую эмигрантскую думу. Умер Владимир Васильевич Зворыкин в Бордо не позднее 1943 года. Какова судьба его семьи, неизвестно. Правда, Лидия Павловна рассказала, что в их семье есть предание: однажды к отцу телевидения В. К. Зворыкину, когда тот был в Греции, подошли двое мужчин и представились ему как родственники. Не сыновья ли это Владимира Васильевича Зворыкина? Сам Владимир Васильевич Зворыкин был реабилитирован лишь в 2000 году, когда стали открываться секретные архивы по «философскому пароходу»14.
Сама Лидия Павловна интересуется темой преемственности ученых рода Зворыкиных. Поэтому она попросила меня: «Лена о Васе напиши». Вася, Василий Васильевич Зворыкин, родился в Муроме в 1989 году. Он внучатый племянник Лидии Павловны, также интересуется историей своего рода. Василий живет в Муроме. Он закончил среднюю школу № 13, а потом экономический факультет МиВЛГУ. Сейчас, сохраняя традиции многих представителей рода Зворыкиных, занимается наукой, является аспирантом кафедры «Менеджмент и маркетинг» Владимирского института бизнеса, готовится к защите кандидатской диссертации «Модель экономической готовности как механизм анализа предпринимательской структуры». Он принимает участие в работе международных конференций по вопросам становления цифровой экономики, последняя из которых состоялась в Дубне 17 ноября 2017 года. В 2015 году его научная работа «Экономическая готовность РФ к импортозамещению, методика расчета» как победившая в XVIII Всероссийском конкурсе научных работ «Экономический рост молодежи», была напечатана в Трудах вольного экономического общества России.
Ну, а архив Лидии Павловны Зворыкиной настолько обширен, что изучение его продолжается.
1 Е. А. Куликова (1886-1978) – жена академика живописи, ученика И. Е. Репина И. С. Куликова (1875-1941), организатор и первый директор дома-музея И. С. Куликова в Муроме. См.: Казанкова М. А., Насонова Н. В., Сазонова Е. И. Из истории рода муромских купцов Гундобиных // Сообщения Муромского музея 2012. – Владимир, 2014. – С. 59-60. В этой статье явно присутствует описка в указании даты венчания молодых. Сам Куликов рожден 1 апреля 1875 года, Елизавета Аркадьевна – в 1886 году, а в песенке-дразнилке братьев Зворыкиных в адрес Лизоньки сказано, что женились они, когда молодому было 27 лет. Так что дата этого события приходится не на 1885, а на 1902 г.
2 Сулема, синонимы: ртуть, сублимат, яд // Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. – М., 1995. – С. 768.
3 Первов Константин Михайлович (1936-2005) – происходит из Муромского рода купцов Первовых, приходится внуком известному муромскому фотографу Н. Н. Сажину. Один из фондообразователей муромского музея. О нем см.: О. А. Сухова «Купеческий портрет»: муромский вариант // Сообщения Муромского музея 2014. – Владимир. 2015 – С. 29, 56, 58.
4 Чернышев В. Я. Муромские купцы Зворыкины. – Владимир, 2013. – С. 59.
5 Зворыкин И. Ф. Стихи. – Муром, 1891.
6 Зубр – Так шутливо говорят об опытном и ценном специалисте.// См.: Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Указ. соч. – С. 229.
7 Зворыкин В. В. Элементы графостатики. – М., 1910; он же. Элементы графостатики: курс, читанный на механ. отделении. – М., 1911. – С. 229.
8 Владимир Григорьевич Шухов [16(28) августа 1853 – 2 февраля1939] – русский советский инженер, архитектор, изобретатель, ученый; член-корреспондент и почетный член Академии наук СССР, лауреат премии имени В. И. Ленина, Герой Труда. Является автором проектов и техническим руководителем строительства первых российских нефтепроводов и нефтеперерабатывающего завода с первыми российскими установками крекинга нефти. Внес выдающийся вклад в технологии нефтяной промышленности и трубопроводного транспорта. В. Г. Шухов первым в мире применил для строительства зданий и башен стальные сетчатые оболочки, ввел в архитектуру форму однополостного гиперболоида вращения, создав первые в мире гиперболоидные конструкции. См.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%83%D1%85%D...0%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D%B8%D1%87.
9 Александр Вениаминович Бари (1847-1913) – американский инженер, предприниматель и общественный деятель российского происхождения, создатель первой в России инжиниринговой компании. Близкий друг В. Шухова, Л. Толстого, Д. Менделеева, Н. Жуковского, П. Худякова, Ф. Шехтеля и И. Рерберга. См.: [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D...%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87.
10 Почтамт // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: ru.wikipedia.org/wiki/Московский почтамт.
11 ЦУМ (Магазин Мюр и Мерилиз) // [Электронный ресурс]. – Режим доступа: academic.ru/dic.nsf/ruwiki/329947.
12 Высылка вместо расстрела. Депортация интеллигенции в документах ВЧК-ГПУ. 1921-1923. – М., 2005. – С. 442.
13 На каждого интеллигента должно быть дело // Новая газета. – 2003. – № 52.
14 Российское зарубежье во Франции. 1919-2000. Биографический словарь. – М., 2008. – Т. I. – С. 798.
Другие публикации сборника:
– Предписания о перестройке городов по регулярным планам. Публикация Т. Б. Купряшиной
– Сухова О. А., Смирнов Ю. М. Муромский художник Михаил Константинович Лёвин. К 100-летнему юбилею (1918-1985)
– Антонова Н. Д. Василий Афанасьевич Москвин – секретарь военного времени
– Тюрина Е. К. Гардероб актрисы М. Н. Тереховой в собрании музея
http://www.museum-murom.ru/scientific-work/materia...muromskie.-iz-semejnogo-arhiva
|
Метки: зворыкины наука |
Оболенский, Алексей Васильевич |
Оболенский, Алексей Васильевич (1877)
☆ 📧
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Оболенский.
| князь Алексей Васильевич Оболенский | |
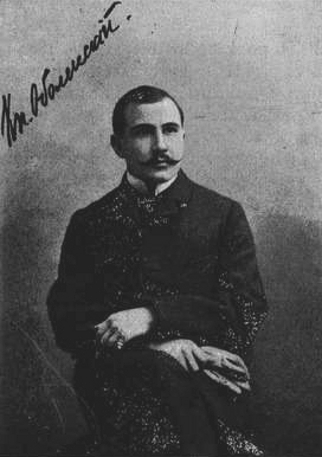 |
|
| Дата рождения: | |
|---|---|
| Место рождения: | |
| Дата смерти: | |
| Место смерти: | |
| Гражданство: | |
| Образование: | |
| Партия: | |
Князь Алексе́й Васи́льевич Оболе́нский (24 января 1877, Москва — 21 ноября 1969, Стокгольм, Швеция) — русский политик, член ЦК партии октябристов, гласный Санкт-Петербургской городской думы.
Биография[править]
Из старинного княжеского рода Оболенских. Сын московского вице-губернатора князя Василия Васильевича Оболенского (1846—1890) и княжны Марии В. Долгоруковой (1851—1930).
Окончил лицей цесаревича Николая (1895) и юридический факультет Московского университета (1898).
Поступил на службу по МВД, состоял чиновником особых поручений при виленском генерал-губернаторе. В 1903 году был переведен на должность секретаря департамента Общих дел, в 1906 — назначен чиновником особых поручений при министре внутренних дел Столыпине.
Занимался общественной деятельностью: с возникновением Союза 17 октября вступил в число его членов, состоял секретарем городского совета и членом ЦК партии, в 1906 году был избран гласным Санкт-Петербургской городской думы, входя в состав прогрессивной партии. Участвовал в реставрации Ферапонтова монастыря.
После революции эмигрировал в Финляндию, в 1939 году переехал в Швецию. Состоял председателем общества помощи русским беженцам, вместе с супругой стал одним из основателей Общества ревнителей русской старины. Написал книгу «Мои воспоминания и размышления».
Скончался в 1969 году в Стокгольме. Был женат на Ольге Алексеевне Прозоровой, дочери предпринимателя А. Я. Прозорова.
Сочинения[править]
- Мои воспоминания и размышления. Стокгольм—Брюссель: издание журнала «Родные перезвоны», 1961.
Источники[править]
- Памятная книжка Виленской губернии на 1901 год. — Вильна, 1900. — С. 6.
- Золотая книга Российской империи. Санкт-Петербург, 1908. С. 93.
- Незабытые могилы. Российское зарубежье: некрологи 1917—1997 в 6 томах. Том 5. Н — Пер. — М.: «Пашков дом», 1999. — С. 184.
Источник — «http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php?title=Оболенский,_Алексей_Васильевич_(1877)&oldid=2272078»
|
Метки: оболенские союз 17 октября |
Прозоров, Алексей Яковлевич |
Прозоров, Алексей Яковлевич
☆ 📧
Материал из Википедии
В Википедии есть статьи о других людях с фамилией Прозоров.
| Алексей Яковлевич Прозоров | |
 |
|
| Дата рождения: | |
|---|---|
| Место рождения: | |
| Дата смерти: | |
| Место смерти: | |
| Гражданство: | |
| Партия: | |
| Род деятельности: |
предприниматель, финансист |
Алексе́й Я́ковлевич Про́зоров (1842—1914) — русский предприниматель и финансист, председатель Санкт-Петербургского биржевого комитета, член III Государственной думы от города Санкт-Петербурга.
Содержание
Биография[править]
Православный. Потомственный дворянин, сын купца 1-й гильдии Якова Алексеевича Прозорова. Землевладелец Лужского уезда Санкт-Петербургской губернии. В Санкт-Петербурге владел домом по Галерной улице, 49.
По окончании курса в Московском коммерческом училище с золотой медалью, вступил в дело отца, имевшего оптовую торговлю хлебными и льняными товарами, отправлявшимися за границу через Архангельск. В 1879 году был учрежден торговый дом «Яков Прозоров с сыном», в котором отец и единственный сын Алексей Яковлевич были полными товарищами. В 1881 году, после смерти отца, остался единственным владельцем торгового дома. В 1882 году стал одним из учредителей Северного телеграфного агентства. В 1886 году был удостоен звания коммерции-советника. В 1897—1914 годах состоял председателем Санкт-Петербургского биржевого комитета. Был полным товарищем Русского товарищества котиковых промыслов, председателем правления Камчатского торгово-промышленного общества, страхового общества «Россия» и общества стеклянного производства «И. Ритинг», председателем акционерного общества Балтийской бумагопрядильной и ткацкой мануфактуры в Ревеле, а также акционером и пайщиком других коммерческих предприятий. Входил в Совет Волжско-Камского коммерческого банка. В 1906 году был избран председателем Совета съездов представителей биржевой торговли и сельского хозяйства.
Участвовал в различных совещательных органах при министерствах торговли и финансов. Состоял чиновником особых поручений при министре торговли и промышленности, членом Совета торговли и мануфактур, а также представителем торговли и мануфактур в советах по тарифным и железнодорожным делам. Имел чин тайного советника (1913).
Кроме того, занимался общественной деятельностью и благотворительностью. Избирался почетным мировым судьей Вятского и Лужского уездов. Состоял почетным попечителем дома призрения детей бедных граждан города Вятки, членом попечительного больничного совета биржевой барачной больницы, почетным членом совета Санкт-Петербургского коммерческого училища, а также пожизненным почетным членом Вятского губернского попечительства детских приютов. В 1891 году был избран почетным гражданином Вятки.
После провозглашения Октябрьского манифеста стал членом петербургского Клуба общественных деятелей и «Союза 17 октября». 7 сентября 1911 года был избран в члены III Государственной думы от Санкт-Петербурга 1-м съездом городских избирателей. Входил во фракцию октябристов. Состоял членом финансовой и о торговле и промышленности комиссий.
Скончался в 1914 году. Похоронен в Исидоровской церкви Александро-Невской лавры.
Семья[править]
Был женат на дочери дворянина Антонине Николаевне Мосоловой (р. 1849). Их дети:
- Яков (р. 1872), воспитанник Николаевского кавалерийского училища (1895), поручик лейб-гвардии Кирасирского Его Величества полка, штабс-ротмистр в отставке. Наследник семейного торгового дела.
- Алексей (1873—1902), окончил Санкт-Петербургский университет. Заведовал котиковым промыслом в Охотском море, составил «Экономический обзор Охотско-Камчатского края» (СПб., 1902). Трагически погиб в устье реки Камчатки. Был похоронен в Федоровской церкви Александро-Невской лавры.
- Борис, воспитанник Александровского лицея (1906), секретарь при начальнике Главного управления почт и телеграфов.
- Ольга (1870—1959), в первом браке Асташева, во втором браке — за князем А. В. Оболенским.
Награды[править]
- Высочайшая благодарность (1883);
- Высочайшая благодарность (1888);
- Орден Святой Анны 2-й ст. (1897);
- Орден Святого Владимира 3-й ст. (1901);
- Орден Святого Станислава 1-й ст. (1905).
Иностранные:
- бельгийский Орден Леопольда I, кавалерский крест (1886);
- ольденбургский Орден Заслуг герцога Петра-Фридриха-Людвига 4-й ст. (1888)
Источники[править]
- Список гражданским чинам IV класса на 1907 год. — СПб., 1907. — С. 300.
- Деятели России: 1906 г. / Ред.-изд. А. М. Шампаньер. — Санкт-Петербург, 1906.
- Энциклопедия земли Вятской. Том шестой. — Киров, 1996. — С. 358.
- М. Н. Барышников Деловой мир Петербурга: исторический справочник. — СПб.: Logos, 2000. — С. 366.
- Государственная дума Российской империи: 1906—1917. — Москва: РОССПЭН, 2008.
- Прозоровы в Петербурге
 Депутаты Государственной думы Российской империи от Санкт-Петербургской губернии Депутаты Государственной думы Российской империи от Санкт-Петербургской губернии |
||
|---|---|---|
| I созыв | Винавер • Кареев • Кедрин • Набоков • Петражицкий • Петрункевич • Быстров • Колпаков • Ломшаков |  |
| II созыв | Алексинский • И. В. Гессен • Кутлер • Г. С. Петров • Струве • Фёдоров • В. М. Гессен • Леппянен • И.А. Петров | |
| III созыв | фон-Анреп • Беляев • Колюбакин* • Кутлер • Лерхе • Милюков • Прозоров • Родичев • фон-Крузе • Полетаев • Смирнов • Трифонов | |
| IV созыв | Барышников • Велихов • Калугин • Милюков • Родичев • Шингарёв • Бадаев • Евсеев • Зиновьев • Посников | |
| Курсивом выделены депутаты непосредственно от города Санкт-Петербурга; * - исключен из состава думы | ||
Источник — «http://wp.wiki-wiki.ru/wp/index.php?title=Прозоров...ей_Яковлевич&oldid=3185303»
|
Метки: прозоровы союз 17 октября |
Так за что же Сталин расстрелял Якова Блюмкина? |
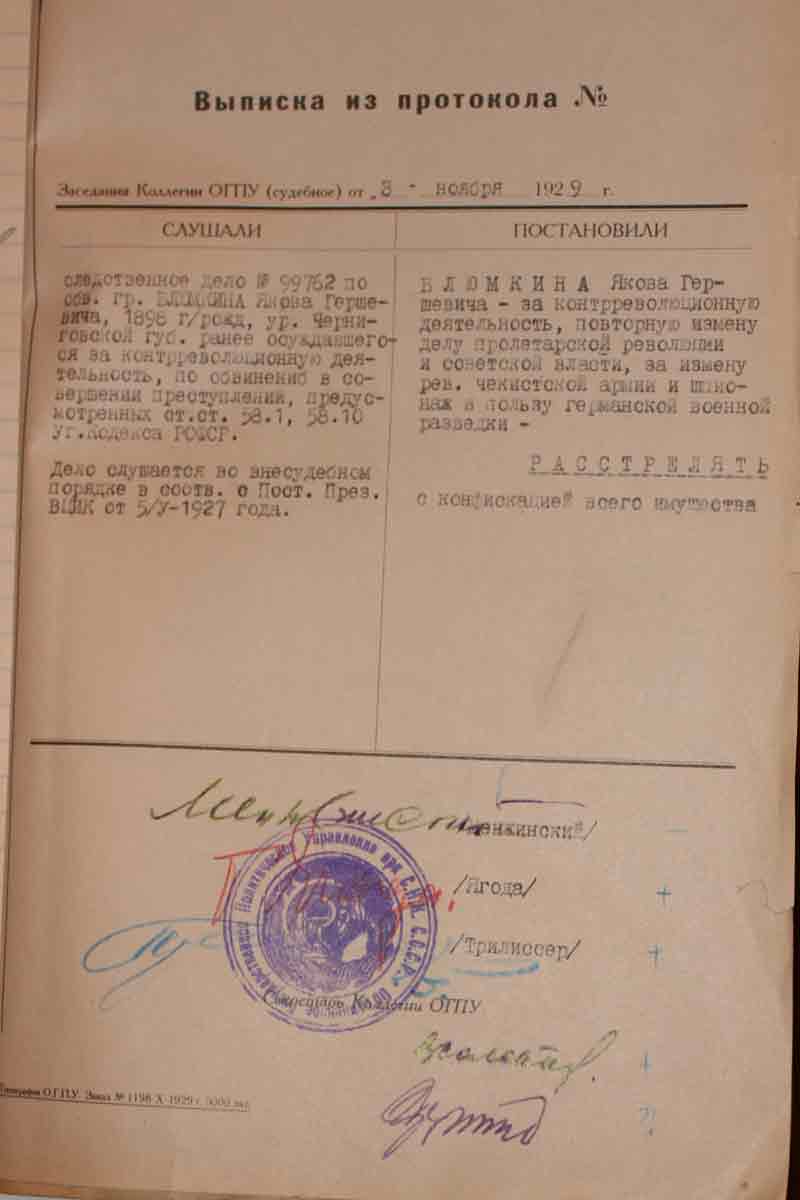
Так за что же Сталин расстрелял Якова Блюмкина?
Для тех кто учился в советской школе и не прогуливал уроки истории, имя Якова Блюмкина связано с убийством немецкого посла Вильгельма фон Мирбаха . Это он вместе с Николаем Андреевым 6 июля 1918 года по заданию руководства партии левых эсеров убил германского посла в Советской России фон Мирбаха, чтобы сорвать подписанный правительством Ленина Брестский мир с Германией и разжечь "революционную войну".Для нормального советского школьника, также было совершенно понятно ,что после этого Яков Блюмин, должен был быть расстрелян, как враг советской власти, хотя в школьных учебниках, про это не говорилось.
Теперь, те кто хочет знать истинную историю а не мифологию знают,что в учебнике не говорилось о дальнейшей судьбе Блюмкина, по банальной причине, все что было связано с ним ,было большой государственной тайной.
Вот что пишет о нем все знающая Викопедия.
Яков Григорьевич Блюмкин (Симха-Янкев Гершевич Блюмкин псевдонимы: Исаев, Макс, Владимиров; дата рождения 27 февраля 1900 год, расстрелян по постановлению Коллегии ОГПУ от 3 ноября 1929 год) — российский революционер и террорист, советский чекист, разведчик и государственный деятель, авантюрист. Один из создателей советских разведывательных служб.
Родился 27 февраля 1900 года в Одессе. Отец, Гирша Самойлович Блюмкин, был приказчиком в бакалейной лавке, мать, Хая-Ливши Блюмкина, была домохозяйкой.
В 1914 году после окончания одесского еврейского духовного училища (Талмудтора), Блюмкин работал электромонтёром, в трамвайном депо, в театре, на консервной фабрике братьев Аврич и Израильсона. Брат Лев был анархистом, а сестра Роза социал-демократкой. Старшие братья Якова — Исай и Лев были журналистами одесских газет, а брат Натан получил признание как драматург (псевдоним «Базилевский»). Участвовал в отрядах еврейской самообороны против погромов в Одессе. Вступил в партию социалистов-революционеров.
В ноябре 1917 года Блюмкин примкнул к отряду матросов, участвовал в боях с частями украинской Центральной Рады. Во время революционных событий в Одессе в 1918 году участвовал в экспроприации ценностей Государственного банка. Были слухи, что часть экспроприированного он присвоил себе. В январе 1918 года, Блюмкин, совместно с Моисеем Винницким (Мишкой «Япончиком») принимает активное участие в формировании в Одессе 1-го Добровольческого железного отряда. Входит в доверие к диктатору революционной Одессы Михаилу Муравьеву.
В те же годы в Одессе Блюмкин знакомится с поэтом А. Эрдманом. Уже в апреле 1918 года Эрдман под видом лидера литовских анархистов Бирзе ставит под свой контроль часть вооружённых анархистских отрядов Москвы и одновременно работает для ЧК, собирая информацию о немецком влиянии в России для стран Антанты. Вероятно Эрдман помог Блюмкину устроить свою дальнейшую карьеру в ЧК.
В мае 1918 года Блюмкин приезжает в Москву. Руководство Партии левых эсеров направило Блюмкина в ВЧК заведующим отдела по борьбе с международным шпионажем. С июня 1918 года он заведующий отделением контрразведывательного отдела по наблюдению за охраной посольств и их возможной преступной деятельностью. Вы можете предствить заведующий отделом ЧК в 18 лет ?
Находясь в должности начальника «германского» отдела ВЧК, Блюмкин 6 июля 1918 года явился в посольство Германии якобы для обсуждения судьбы дальнего родственника посла графа фон Мирбаха, которого арестовала ЧК. Его сопровождал сотрудник того же отдела ЧК, эсер Николай Андреев. Около 14:40 Блюмкин несколько раз выстрелил в посла, а Андреев, убегая, кинул в гостиную две бомбы. Посол погиб на месте. Преступники скрылись. Борис Бажанов бежавший на Запад бывший секретать Сталина в своих воспоминаниях описывает эти события следующим образом:
«Об убийстве Мирбаха двоюродный брат Блюмкина рассказывал мне, что дело было не совсем так, как описывает Блюмкин: когда Блюмкин и сопровождавшие его были в кабинете Мирбаха, Блюмкин бросил бомбу и с чрезвычайной поспешностью выбросился в окно, причем повис штанами на железной ограде в очень некомфортабельной позиции. Сопровождавший его матросик не спеша ухлопал Мирбаха, снял Блюмкина с решетки, погрузил его в грузовик и увез. Матросик очень скоро погиб где-то на фронтах гражданской войны, а Блюмкин был объявлен большевиками вне закона. Но очень скоро он перешел на сторону большевиков, предав организацию левых эсеров, был принят в партию и в чека, и прославился участием в жестоком подавлении грузинского восстания».
Убийство Мирбаха послужило сигналом для вооружённого выступления левых эсеров против Советского правительства во главе с большевиками. В советской историографии эти события было принято называть мятежом. После провала мятежа Блюмкин под фамилией Белов скрывался в больницах Москвы, Рыбинска и Кимр, затем под именем Григория Вишневского работал в Кимринском комиссариате земледелия.
С сентября 1918 года Блюмкин на Украине. Без ведома руководства левых эсеров он пробирается в Москву, а оттуда в Белгород — на границу с Украиной. В ноябре того же года, в момент всеобщего восстания против украинского гетмана Павла Скоропадского и австро-немецких оккупантов, Блюмкин находит своих партийных товарищей в Киеве и включается в эсеровскую подпольную работу. Он участвует в подготовке террористического акта против гетмана Скоропадского и покушении на фельдмаршала немецких оккупационных войск на Украине Эйхгорна.
По некоторым данным, в декабре 1918 — марте 1919 годов Блюмкин был секретарем Киевского подпольного горкома ПЛСР.
По заданию ВЦИК (вместе с украинскими анархистами-махновцами) был задействован в подготовке покушения на Верховного правителя России, лидера белогвардейского движения адмирала Колчака. Необходимость в этом отпала из-за ареста Колчака левыми эсерами в Иркутске.
В марте 1919 года близ Кременчуга попал в плен к петлюровцам, которые жестоко избили Блюмкина, в частности, выбили ему передние зубы. После месячного лечения в апреле 1919 года Блюмкин явился с повинной в ВЧК в Киеве. За убийство Мирбаха Блюмкин был приговорен военным трибуналом к расстрелу. Но, во многом благодаря наркомвоенмору Льву Троцкому Особая следственная комиссия, по согласованию с Президиумом ВЦИК и с одобрения председателя ВЧК Феликса Дзержинского, приняла решение об амнистии Блюмкина, заменив смертную казнь на «искупление вины в боях по защите революции». Способствовало принятию этого решения и то, что он выдал многих своих прежних товарищей, за что был приговорён левыми эсерами к смерти. На Блюмкина совершили 3 покушения, он был тяжело ранен, но сумел скрыться из Киева.
С 1919 на Южном фронте (начальник штаба и и.о. командира 79-й бригады) и в составе Каспийской флотилии.
В 1920 году Блюмкин предстал перед межпартийным судом по делам, связанным с левоэсеровским восстанием, куда входили анархисты, левые эсеры, максималисты, боротьбисты. Товарищеский суд возглавил Карелин — бывший член ВЦИКа РСФСР, мистик, лидер российских анархистов-коммунистов. Суд над Блюмкиным затянулся на две недели, но так и не вынес окончательного решения. С 1920 — член РКП(б).
В секретариате Л.Троцкого занимал должность начальника личной охраны создателя Красной армии.
В 1920-1921 — на специальных курсах Военной академии РККА, после которых вновь переведен в органы ГПУ.
В мае 1920 года Волжско-Каспийская военная флотилия под командованием Федора Раскольникова и Серго Орджоникидзе направляется в Энзели (Персия), с целью возвращения российских кораблей, которые увели туда эвакуировавшиеся из российских портов белогвардейцы. В результате последовавших боевых действий белогвардейцы и занимавшие Энзели английские войска отступили. Воспользовавшись этой ситуацией, в начале июня вооружённые отряды революционного движения дженгалийцев под командованием Мирзы Кучек-хана захватывают город Решт — центр остана Гилян, после чего здесь провозглашается Гилянская Советская Республика.
Блюмкина направляют в Персию, где он участвует в свержении Кучек-хана и способствует приходу к власти хана Эхсануллы, которого поддержали местные «левые» и коммунисты. В боях шесть раз был ранен. После переворота Блюмкин участвовал в создании на базе социал-демократической партии «Адалят» Иранской коммунистической партии, стал членом её Центрального комитета и военным комиссаром штаба Гилянской Красной Армии.. Он представлял Персию на Первом съезде угнетённых народов Востока, созванном большевиками в Баку.
В Персии Блюмкин, в частности, знакомится с Яковом Серебрянским, содействует устройству его сотрудником Особого отдела Иранской Красной Армии
Вернувшись в Москву, Блюмкин издал книжку о Дзержинском и по личной рекомендации главного чекиста в 1920 году вступил в РКП(б). Направлен Троцким на учёбу в Академию Генерального штаба РККА на восточное отделение, где готовили работников посольств и агентуру разведки. В Академии Блюмкин к знанию иврита добавил знание турецкого, арабского, китайского и монгольского языков, обширные военные, экономические и политические знания.
В 1920—1921 годах Блюмкин был начальником штаба 79-й бригады, а позже — комбригом, планировал и осуществлял карательные акции против восставших крестьян Нижнего Поволжья при подавлении Еланского восстания. Осенью 1920 года Блюмкин командует 61-й бригадой, направленной на борьбу против войск барона Унгерна.
Осенью 1921 года Блюмкин занимается расследованием хищений в Гохране. В октябре 1921 года он под псевдонимом Исаев (взят им по имени деда) едет в Ревель (Таллин) под видом ювелира и, выступая в качестве провокатора, выявляет заграничные связи работников Гохрана. Есть версия, что именно этот эпизод в деятельности Блюмкина был положен Юлианом Семеновым в основу сюжета книги «Бриллианты для диктатуры пролетариата.
В 1922 году после окончания Академии Блюмкин становится официальным адъютантом наркома по военным и морским делам Л. Д. Троцкого. Выполнял особо важные поручения и тесно сошёлся с наркомом. Блюмкин редактировал первый том программной книги Троцкого «Как вооружалась революция» (издание 1923 года). Осенью 1923 года по предложению Дзержинского Блюмкин становится сотрудником Иностранного отдела (ИНО) ОГПУ. В ноябре того же года решением руководства ИНО Блюмкин назначается резидентом нелегальной разведки в Палестине. Он предлагает Якову Серебрянскому поехать вместе с ним в качестве заместителя. В декабре 1923 года они выезжают в Яффо, получив задание В. Менжинского собирать информацию о планах Англии и Франции на Ближнем Востоке. В июне 1924 года Блюмкин был отозван в Москву, и резидентом остался Серебрянский.
Одновременно Блюмкина вводят для конспиративной работы в Коминтерн.
В 1924 году работал в Закавказье политическим представителем ОГПУ и членом коллегии Закавказского ЧК. Одновременно он являлся помощником командующего войсками ОГПУ в Закавказье и уполномоченным Наркомвнешторга по борьбе с контрабандой. Блюмкин участвовал в подавлении антисоветского восстания в Грузии, а также командовал штурмом города Баграм-Тепе, захваченного персидскими войсками. Участвовал в пограничных комиссиях по урегулированию спорных вопросов между СССР, Турцией и Персией.
Блюмкин, знавший восточные языки, тайно выехал в Афганистан, где пытался найти связь на Памире с сектой исмаилитов, почитавших в качестве живого бога своего лидера Ага-хана, который жил в ту пору в Пуне (Индия). С исмаилитским караваном Блюмкин, изображавший дервиша, проник в Индию. Однако там он был арестован английской полицией. Из тюрьмы Блюмкин благополучно бежал.
Сушествует версия, что Блюмкин под видом ламы участвовал в Гималайской экспедиции Рериха.В протоколах допроса Блюмкина после ареста, присутствуют материалы об этой экспедиции в Тибет.
В 1926 году Блюмкин направлен представителем ОГПУ и Главным инструктором по государственной безопасности Монгольской республики. Ему, в частности, приписывают убийство П. Е. Щетинкина — инструктора Государственной военной охраны МНР, секретаря партячейки. Выполнял спецзадания в Китае (в частности,
в 1926—1927 годах был военным советником генерала Фэн Юйсяна), Тибете и Индии. В 1927 году отозван в Москву в связи с трениями с монгольским руководством.
В 1928 году Блюмкин становится резидентом ОГПУ в Константинополе, откуда курирует весь Ближний Восток. По заданию ЦК ВКП(б) занимался организацией в Палестине резидентской сети. Работает то под видом набожного владельца прачечной в Яффо Гурфинкеля, то под видом азербайджанского еврея-купца Якуба Султанова. Блюмкин завербовал венского антиквара Якоба Эрлиха, и с его помощью обустроил резидентуру, законспирированную под букинистический магазин.
Помимо этого, Блюмкин наладил через каналы ЧК вывоз еврейских манускриптов и антиквариата из СССР. ОГПУ проделало огромную работу в западных районах СССР по сбору и изъятию старинных свитков Торы, а также 330 сочинений средневековой еврейской литературы. Чтобы подготовить Блюмкину материал для успешной торговли, в еврейские местечки Проскуров, Бердичев, Меджибож, Брацлав, Тульчин направлялись экспедиции ОГПУ с целью изъятия старинных еврейских книг. Блюмкин сам выезжал в Одессу, Ростов-на-Дону и украинские местечки, где обследовал библиотеки синагог и еврейских молитвенных домов. Книги изымались даже из государственных библиотек и музеев.
В Палестине Блюмкин познакомился с Леопольдом Треппером, будущим руководителем антифашистской организации и советской разведывательной сети в нацистской Германии, известной, как «Красная капелла». Был депортирован английскими мандатными властями.
В воспоминаниях моего коллеги Ю.А .Лабаса, семья которого, хорошо знала Блюмкина так описан провал Блюмкина в Палестине.
- В Хайфу Блюмкин ехал затевать революцию среди местных арабов - под видом еврея-эмигранта с накладным брюхом и приклеенными пейсами. Девчонка-англичанка свалилась за борт и Блюмкин, забыв о гриме, кинулся ее спасать.Спас. Хотели представить к медали за спасение утопающих, но пейсы отклеились, подушка на брюхе намокла и сползла. Странным пассажиром заинтересовалась британская разведка. Операция была провалена, и Блюмкин чудом избежал расстрела. Его простили и отправили резидентом в Стамбул.
В 1929 году по заданию Сталина безуспешно пытался совершить покушение на бывшего сталинского секретаря Б. Г. Бажанова, бежавшего за границу. Летом 1929 года Блюмкин приезжает в Москву, чтобы отчитаться о ближневосточной работе. Его доклад членам ЦК партии о положении на Ближнем Востоке одобрен членами ЦК и руководителем ОГПУ В. Менжинским, который в знак расположения даже приглашает Блюмкина на домашний обед. Блюмкин с успехом проходит очередную партийную чистку, благодаря отличной характеристике начальника иностранного отдела ОГПУ М. Трилиссера. Партийный комитет ОГПУ характеризовал Блюмкина как «проверенного товарища».
Блюмкиным была тайно налажена связь с высланным из СССР Троцким. В 1929 году состоялась их беседа. В беседе с Троцким Блюмкин высказал свои сомнения в правильности сталинской политики и спросил совета: оставаться ли в ОГПУ, или уйти в подполье. Троцкий убеждал Блюмкина, что, работая в ОГПУ, он больше пригодится оппозиции. В то же время, Троцкий высказал сомнение, как мог троцкист, о взглядах которого было известно, удержаться в органах ОГПУ. Блюмкин ответил, что начальство считает его незаменимым специалистом в области диверсий. Вполне вероятно, что Блюмкин налаживал связи с Троцким по заданию ОГПУ.
Итак мы видим что биография у Якова Блюмкина совершенно исключительная и к 29 годам,этот человек прошел то, что хватит на сотню других биографий.
Так за что же был расстрелян Блюмкин в 1929 году ? Официально за связь с Троцким.
Та же Викопедия сообщает ,что Блюмкин был арестован после того, как следившая за ним в Стамбуле Елизавета Зарубина,( будуший полковник и участник добычи атомных секретов США) сообщила ОГПУ о его связях с Троцким. Блюмкин попытался скрыться, но был арестован после автомобильной погони со стрельбой на улицах Москвы. Блюмкина пытали, били на допросах. 3 ноября 1929 года дело Блюмкина было рассмотрено на судебном заседании ОГПУ (судила «тройка» в составе Менжинского, Ягоды и Трилиссера). Блюмкин обвинялся по статьям 58-10 и 58-4 УК РСФСР. Менжинский и Ягода выступили за смертную казнь, Трилиссер был против, но остался в меньшинстве.
По одной из версий Блюмкин во время казни воскликнул «Да здравствует товарищ Троцкий!». По другой запел: «Вставай, проклятьем заклеймённый, весь мир голодных и рабов!». Георгий Агабеков в книге «ЧК за работой» пишет со ссылкой на неназванного сослуживца-чекиста, что «[Блюмкин] ушел из жизни спокойно, как мужчина. Отбросив повязку с глаз, он сам скомандовал красноармейцам: „По революции, пли!“» В качестве точной даты расстрела Блюмкина приводятся 3 и 8 ноября, а также 12 декабря 1929 года
В этом расстреле много странностей. Что касается членов других партий и бывших правящих классов, большевики начали их уничтожение сразу после прихода к власти. В отношении же оппозиционеров в собственной партии в 1929 их еще не расстреливали, а отправляли в ссылки тюрьмы. Причем среди ссыльных оппозиционеров были люди гораздо боле высокого положения, чем Блюмкин. Уничтожение старых большевиков и любой оппозиции начнется позже в 30-е годы.
В 20-е годы только за два с половиной месяца — со второй половины ноября 1927 года до конца января 1928 года — за принадлежность к «левой оппозиции» из партии были исключены 2288 человек (ещё 970 оппозиционеров исключили до 15 ноября 1927 года). Очищение партии от оппозиции продолжалось на протяжении всего 1928 года. Большая часть исключённых была направлена в административную ссылку в дальние районы страны. В середине января 1928 года лидер оппозиции Л. Д. Троцкий был сослан в Алма-Ату, а в 1929 г. он был выслан за рубеж. Другой лидер, Г. Е. Зиновьев, также был отправлен в ссылку в 1928 г., но в том же году он покаялся и «разоружился», был восстановлен в партии и назначен ректором Казанского университета, а затем возвращён на работу в Москву.
Вот что писал БЮЛЛЕТЕНЬ ОППОЗИЦИИ (БОЛЬШЕВИКОВ-ЛЕНИНЦЕВ) издаваемый Троцким после высылки из СССР.
- Блюмкина не расстреляли в 1918 г. за руководящее участие в вооруженном восстании против советской власти, но его расстреляли в 1929 году за то, что он, самоотверженно служа делу Октябрьской революции, расходился, однако, в важнейших вопросах с фракцией Сталина и считал своим долгом распространять взгляды большевиков-ленинцев (оппозиции).
Не правда ли странно. Других, гораздо более высокопоставленных деятелей оппозиции лишь убирают высоких постов и ссылают, а Блюмкина расстреливают.
В том же бюллютене указывалось, что ,до последнего часа Блюмкин оставался на ответственной советской работе. Как он мог удержаться на ней, будучи оппозиционером? Обьясняется это характером его работы: она имела совершенно индивидуальный характер. Блюмкину не приходилось или почти не приходилось иметь дело с партийными ячейками, участвовать в обсуждении партийных вопросов, и пр. Это не значит, что он скрывал свои взгляды. Наоборот, и Меньжинскому, и Триллисеру, бывшему начальнику иностранного отдела ГПУ, Блюмкин говорил, что симпатии его на стороне оппозиции, но, что, разумеется, он готов, как и всякий оппозиционер, выполнять свою ответственную работу на службе Октябрьской революции. Меньжинский и Триллисер считали Блюмкина незаменимым, и это не было ошибкой. Они оставили его на работе, которую он выполнял до конца.
Блюмкин действительно разыскал т. Троцкого в Константинополе. Как мы уже упоминали выше, Блюмкин был лично тесно связан с т. Троцким работой его в секретариате. Он подготовлял, в частности, один из военных томов т. Троцкого (о чем говорится в предисловии к этому тому). Блюмкин явился к т. Троцкому в Константинополе, чтоб узнать, как им оценивается обстановка и проверить, правильно ли он поступает, оставаясь на службе правительства, которое высылает, ссылает и заключает в тюрьмы его ближайших единомышленников. Л. Д. Троцкий ответил ему, что он поступает, разумеется, совершенно правильно, выполняя свой революционный долг -- не по отношению к сталинскому правительству, узурпировавшему права партии, а по отношению к Октябрьской революции.
В одной из статей Ярославского была ссылка на то, что летом т. Троцкий беседовал с одним посетителем и предрекал ему, будто бы, скорую и неизбежную гибель советской власти. Разумеется, презренный сикофант лжет. Но из сопоставления фактов и дат, для нас ясно, что речь идет о беседе т. Троцкого с Блюмкиным. На его вопрос о совместимости его работы с его принадлежностью к оппозиции, т. Троцкий, в числе прочего, сказал ему, что высылка его заграницу, как и тюремные заключения других товарищей, не меняют нашей основной линии; что в минуту опасности оппозиционеры будут на передовых позициях; что в трудные часы Сталину придется призывать их, как Церетели призывал большевиков против Корнилова. В связи с этим он сказал: "как-бы только не оказалось слишком поздно". Очевидно Блюмкин, после ареста, изложил эту беседу, как доказательство подлинных настроений и намерений оппозиции: не нужно ведь забывать, что т. Троцкий выслан по обвинению в подготовке вооруженной борьбы против советской власти! Через Блюмкина было передано в Москву информационное письмо к единомышленникам, в основе которого лежали те же взгляды, которые излагались в ряде напечатанных статей т. Троцкого: репрессии сталинцев против нас не означают еще изменения классовой природы государства, а только подготовляют и облегчают такое изменение; наш путь попрежнему остается путем реформы, а не революции; непримиримая борьба за свои взгляды должна быть рассчитана на долгий срок.
Позже было получено сообщение, что Блюмкин арестован и что пересланное через него письмо попало в руки Сталина.
Расстрел Блюмкина был на столько неординарным событием, что «Бюллетень» посвятил ему материалы в нескольких номерах .Например в одном из них было опубликовано письмо следующего содержания.
Москва, 25 декабря.
Вы, конечно, знаете о расстреле Блюмкина, как и о том, что это было сделано по личным домогательствам Сталина. Этот подлый акт мести уже сейчас волнует довольно широкие партийные круги. Но волнуются втихомолку. Питаются слухами. Одним из источников слухов является Радек. Его нервная болтливость хорошо известна. Сейчас он совершенно деморализован, как и большинство капитулянтов. Но в то время, как у И. Н. Смирнова, например, это выражается в подавленности, Радек, наоборот, ищет выхода в распространении слухов и сплетен, долженствующих доказать глубокую искренность его покаяния. Несомненно, что Ярославский пользуется этим качеством Радека, чтоб пускать через него в обращение надлежащие слухи. Все это необходимо отметить, чтоб понятно было дальнейшее.
Со ссылкой на Радека распространяется такая версия: явившись в Москву, Блюмкин первым делом розыскал Радека, с которым он за последние годы встречался чаще, чем с другими, и в котором привык видеть одного из руководителей оппозиции. Блюмкин хотел информироваться и разобраться, в частности понять причины капитуляции Радека. Ему, конечно, и в голову не могло притти, что в лице Радека, оппозиция имеет уже ожесточенного врага, который, потеряв последние остатки нравственного равновесия, не останавливается ни перед какой гнусностью. Тут надо еще принять во внимание, как характерную для Блюмкина склонность к нравственной идеализации людей, так и его близкие отношения с Радеком в прошлом. Блюмкин передал Радеку о мыслях и планах Л. Д. в смысле необходимости дальнейшей борьбы за свои взгляды. Радек в ответ потребовал, по его собственным словам, от Блюмкина немедленно отправиться в ГПУ и обо всем рассказать. Некоторые товарищи говорят, что Радек пригрозил Блюмкину в противном случае немедленно донести на него. Это очень вероятно при нынешних настроениях этого опустошенного истерика. Мы не сомневаемся, что дело было именно так. После этого, гласит официальная версия, Блюмкин "покаялся", явился в ГПУ и сдал привезенное письмо т. Троцкого. Мало того: он сам будто бы требовал, чтоб его расстреляли (буквально!). После этого Сталин решился "уважить" его просьбу и приказал Меньжинскому и Ягоде расстрелять Блюмкина. Разумеется, Сталин предварительно провел это решение через Политбюро, чтоб связать раскаявшихся правых. Незачем говорить, что те полностью пошли ему навстречу.
Как надо понимать эту официальную версию? Лживость ее бьет в глаза. Достоверных сведений у нас нет, так как Блюмкин, насколько нам до сих пор известно, ничего передать на волю не успел. Но действительный ход событий достаточно ясно вытекает, по крайней мере, в основных чертах, из всей обстановки. После беседы с Радеком, Блюмкин увидел себя преданным. Ему ничего не оставалось, как явиться в ГПУ, тем более, что письмо Л. Д., по содержанию своему, не могло, разумеется, не быть опровержением всех тех гнусностей, которые здесь распространялись для оправдания высылки. Были ли в письме какие-либо адреса и пр.? Мы думаем, что, нет, так как никто решительно не пострадал из тех товарищей, которые могли бы служить Блюмкину для связи.
"Покаялся" ли т. Блюмкин? Если бы он действительно "покаялся", т. е. присоединился бы к позиции Радека, то он не мог бы не назвать тех товарищей, для которых предназначалось письмо т. Троцкого. Но тогда не мог бы уцелеть и автор этих строк. Между тем повторяю: никто не был арестован. Наконец, если бы т. Блюмкин "покаялся", то ГПУ, конечно, не торопилось бы удовлетворить "просьбу" Блюмкина о расстреле его, а использовало бы его самого для совсем других целей: ведь случай был совсем исключительный. Нет никакого сомнения, что такая попытка была действительно сделана со стороны ГПУ и натолкнулась на сопротивление Блюмкина. Тогда Сталин приказал расстрелять его. А когда по партии пошел тревожный шопот, Ярославский пустил через Радека приведенную выше версию. В таком виде представляется нам здесь это дело.
Сталин не мог не понимать, что расстрел Блюмкина не пройдет в партии бесследно, и в конце концов причинит "грубому и нелойяльному" узурпатору жестокий вред. Но жажда мести сильнее его. По партии давно ходит рассказ о том, как Сталин еще в 1923 году, летним вечером в Зубалове (под Москвой), разоткровенничавшись с Дзержинским и Каменевым, сказал: "выбрать жертву, подготовить тщательно удар, беспощадно отомстить, -- а потом пойти спать... Слаже этого нет ничего в жизни". На эту беседу намекал и Бухарин ("сталинская философия сладкой мести") в своем прошлогоднем рассказе о борьбе со сталинцами. За границей появляются книги Л. Д., его статьи, его автобиография. Отомстить необходимо. Сталин арестовал без малейшего основания дочь Л. Д. Но так как она с пневматораксом, тяжело больна, то Политбюро не решилось (говорят, несмотря на настояния Сталина) держать ее в тюрьме, тем более, что вторая дочь т. Троцкого в аналогичных условиях умерла полтора года тому назад от туберкулеза. Ограничились тем, что мужа дочери Л. Д., Платона Волкова, отправили месяца два тому назад в ссылку. Муж умершей дочери, М. Невельсон, давно уже сидит в тюрьме. Но это месть слишком обычная и потому недостаточная.
Итак официальная версия Яков Блюмкин расстрелян за связь с Троцким и за то, что привез в СССР письмо с инструкциями для троцкистов.
Но как мы видим люди, которые знали о содержании письма ,не подтверждают этого, так как во первых в письме не было никаких инструкций ,а во вторых человек которому было адресовано письмо не пострадал. Исходя из этого напрашивается мысль, что месть Сталина и приговор к расстрелу были связаны отнюдь не с письмом и связями с Троцким.
О аресте Блюмкина есть несколько версий и одна из них описана в воспоминаниях моего коллеги известного биолога Ю.А .Лабаса с ,которым мы работали в одной лаборатории.
Вот что он рассказывал,а потом опубликовал в свой книге воспоминаний о своей семье « Когда я был большой» вышедшей в 2008 в издательстве: Новый хронограф в серии: От первого лица. История России в воспоминаниях, дневниках, письмах.
Эти факты он узнал от своей матери Раисы Идельсон ,в квартире, которой Блюмкин побывал перед арестом.
"В конце октября 1929г. глубокой ночью в квартире его матери на Мясницкой раздался звонок. Мать подбежала к двери: «Кто там?»-«Откройте! Это я- Яша Блюмкин. За мной гонятся!» Его впустили с растерянностью и испугом. Кто гонится? Почему? Ведь Блюмкина все побаивались, зная, что он-важный чекист.
Войдя, Блюмкин сбивчиво рассказал о том, что привез какие-то троцкистские инструкции: обращение к оппозиции и что некий майор Штейн, подчиненный командарма Тухачевского, роясь в архивах царской охранки, наткнулся на очень странную бумагу. Некто из членов ЦК большевистской партии настрочил в полицию донос на другого члена ЦК, депутата Думы и в то же время провокатора Малиновского. Что-де тот фактически занимается антигосударственной деятельностью и плохо справляется со своими прямыми (провокаторскими!?) обязанностями.
Автором доноса в охранку по всем признакам, был никто иной как сам Коба, он же Иосиф Виссарионович Джугашвили!
Блюмкин все сгоряча выболтал дружку - Карлу Радеку (поляки его звали Карл Крадек, по-польски «Карл-вор») и собрался было по своим бумагам разведчика тотчас улететь на аэроплане обратно в Турцию, чтобы там передать фотокопию находки Льву Давидовичу Троцкому, пребывавшему тогда то ли в Стамбуле, то ли на Принцевых островах. «Если доверенные мне документы попадут к Троцкому, здесь власть перевернется!» Радек, однако, немедленно заложил Блюмкина, и теперь все пропало. Блюмкин метался по громадной квартире: «Никому не открывайте дверь.Буду стрелять!» Потом он позвонил врачу Григорию Лазаревичу Иссерсону: «Гриня, достань мне яд!»-«Зачем тебе?»-«Я завалил операцию, за мной гонятся, мне грозит расстрел!»-«Так у тебя пистолет на боку»-«Из пистолета не могу»-«Других мог многократно. Что же себя не можешь?» - «Себя не могу» -«А я не травлю людей, я лечу их»,-ответил в перепуге и спросонья Иссерсон и бросил трубку. Блюмкин как пойманный зверь заметался по квартире: «Жить! Жить хочу! Хоть кошкой, но жить!» Потом обратился к студенткам: «Девочки, не хотите посмотреть, что у меня в чемодане?» Кто-то из студенток потянулся, к чемоданчику, но мама наотрез запретила: «Мы, девчонки, дуры, начнут пытать, все выболтаем, а если ничего не знаем, то и спрос с нас невелик». -«Рая, у тебя не осталось документов Фалька?»-«Ты что, конечно, нет, да и непохож он на тебя на фотокарточке»-«Жить! Жить! Хоть кошкой, но жить!» Под утро после бессонной ночи Блюмкин позвонил некой Лизе (Лиза Горская, любовница Блюмкина и приставленный к нему соглядатай ОГПУ, в будущем полковник ГРУ Зарубина): «Лиза, приходи на Мясницкую и принеси мою шинель с Арбата-на улице холодно (на Арбате была квартира Блюмкина. Вот наивность!) Надеюсь, придешь ОДНА?» Собеседница, видно, запротестовала, мол, конечно же, приду одна. Вскоре Блюмкин ушел, предупредив: «Никому, кроме меня, не открывайте, скоро вернусь». Он не заметил, как до этого в квартиру тихо приходил муж Евы Розенгольц, журналист Левин, погибший потом на Финской войне. Узнав, что в квартире Блюмкин, он, пару раз сбегав в туалет («медвежья болезнь»), в ужасе сбежал. Его дальнейшие действия мне не известны, кроме факта, что в ежовщину он уцелел!
Блюмкин же больше никогда не вернулся.В дверь громко постучали сапогами: «Откройте: ОГПУ!» Вошли: «Где здесь вещи Блюмкина?» Студентки молча показали. Кто-то промямлил : «Он- больной.С головой непорядки».-«А мы и пришли лечить! Показать, что у него в чемодане?» Студентки хором запротестовали.Тем не менее, чекисты открыли чемодан и показали…пачку долларов. Назавтра всех студенток вызвали в ОГПУ к Мееру Абрамовичу Трилиссеру. Взяли подписку о невыезде. Между прочим, уходя «за шинелью», Блюмкин оставил в фальковской мастерской свое шикарное кожаное пальто «чекистского» покроя.. Через много-много лет мама с тётей подарили его бывшему директору ГОСЕТа Арону Яковлевичу Пломперу, вернувшемуся из лагерной отсидки. А через неделю в квартиру вошел Цацулин (он заходил как-то к маме при мне после войны в серой МИД-овской форме): «Девочки, будете жить. Блюмкин перед расстрелом (он был убит 3-го ноября 1929 г. Перед смертью крикнул: “Да здравствует Троцкий!” - и запел «Интернационал»). Рассказал, что ворвался к вам в квартиру, угрожая оружием, и ни с кем из вас не общался. Кстати, он еще вдруг спросил своих палачей: «Как вы думаете, сообщение о моем расстреле напечатают в «Известиях»?»
Диво, но никто из видевших столь близко яйцо с иглой Кащея Бессмертного, в дальнейшем не был убит. Все ждали ареста и расстрела до последнего дня жизни, даже после ХХ сьезда. Трилиссера вскоре выгнали из ОГПУ, а гораздо позже, 2-го февраля 1940г., расстреляли. Были так же смещены со своих постов и затем расстреляны все три начальника Иностранного отдела ОГПУ-НКВД, занимавших этот пост после Трилиссера. Так же расстреляны майор Штейн, его военное начальство и почти весь высший комсостав РККА, в первую очередь, участники гражданской войны.
А какова же судьба содержимого пресловутого чемоданчика Блюмкина?- Любого, открывшего его и просмотревшего лежавшие в нем взрывоопасные документы, несомненно, ждала смерть. Не исключаю, что чемоданчик (папку майора Штейна?) чекисты поспешили засунуть в какой-то сейф и просто боялись вскрыть или уничтожить при свидетелях. Риск любого рода действий с «чемоданчиком», учитывая тогдашнюю бюрократическую отчётность и взаимное соглядатайство в ОГПУ, был равновелик. А во время гражданской войны в Испании туда выехал крупный резидент иностранного отдела НКВД Александр Михайлович Орлов (Лев Лазаревич Фельдбин). Он в 1938г. бежал оттуда в США и увез с собой кой-какие документы, которые там положил в банк и завещал опубликовать через 40 лет после его смерти, последовавшей в 1973г. Условием была безопасность стариков-родителей, оставшихся в СССР. Известно,что родителей Орлова, в отличие от тысяч других членов семей «врагов народа», не тронули. А наш шпион Михаил Александрович Феоктистов уже при Хрущеве встретился с Орловым в США и получил заверение, что документы не будут обнародованы раньше вышеозначенного срока.
Летом 1948 г. мою мать вызвали в КГБ, допрашивали о ее друге Сергее Лукиче Колегаеве, незадолго перед тем арестованном .Хамско-садистический тон допроса не оставил у мамы ни малейших сомнений в том, что ее ждут концлагерь или расстрел. Но следователь вдруг спросил: «Бывали ли Вы когда-нибудь раньше в нашей организации?» Мама ответила, что была в 1929г. у Трилиссера по делу Блюмкина. Следователь вдруг изменился в лице, выбежал из комнаты, и через час маму отпустили, даже довезли до дома на машине. Мы с тётушкой уже не чаяли её когда-либо увидеть. После ареста прошло 48 часов! Мамину подругу Еву Розенгольц тоже арестовали в 1948 г. и дали 10 лет лагерей за родство с братом, «агентом многих иностранных разведок, Казимиром Розенгольцем». Допрашивали о брате, о Фальке, о подругах, включая, якобы, «давно расстрелянную шпионку», мою мать Раису Идельсон, о покойном муже, но ни гу-гу о страшной ночи в нашей квартире с Я.Г.Блюмкиным. В 1957 г., как водилось в те годы Еву Павловну полностью реабилитировали.
Как видно, слух о блюмкинском чемоданчике тогда, как страшная тайна, шепотком на ушко, распространялся очень широко в рядах ОГПУ-НКВД-КГБ. Знали практически все и все пытались внушить себе и окружающим, будто ничего не знают, не слыхали, не верят и вообще такое у нас в стране совершенно невозможно. Это называют «табу».Табуировано было все, что так или иначе связано с майором Штейном, Блюмкиным, судьбой и содержимым зловещего чемоданчика, навязчивым страхом ежесекундно ожидающего покушений на свою драгоценную жизнь экс-провокатора царской охранки , параноика-вождя.Кто знает, может быть, и вся сталинская паранойя развилась на этой почве безумного страха разоблачения бывшего провокатора-платного агента царской охранки?
Таких в рядах революционеров было тогда до удивления много. Начальник боевой организации эсеров Эвно Азеф, умудрившийся умереть «за бугром» в своей постели; расстрелянный большевиками в 1918г. Малиновский (он перед смертью предупреждал, что в ЦК есть и другие, кроме него, бывшие агенты охранки!); повешенный эсером Рутенбургом в шкапу, в Озерках под Питером, поп Гапон. Эти трое-только самые знаменитые. Автор «Гариков»-поэт Игорь Губерман мне рассказывал, что его дядя-упомянутый выше Рутенберг, в дни, когда Ленин с Зиновьевым после июльского мятежа сбежали из Питера на станцию Разлив, прятались там в шалаше , предлагал Керенскому отыскать и повесить этих обоих. Керенский пришел в ужас: «Не для подобных дел свершилась наша революция». Рутенберг после того разговора махнул рукой на все российские дела и почел за благо навсегда смотаться в Палестину.
Именно от Юлия Александровича еще в начале 80-х я впервые услышал, что Сталин был информатором царской охранки. В те годы прочитать такое или услышать было неслыханно да и просто опасно. С тех пор вышло огромное количество литературы на эту тему .Только в моей библиотеке стоят прочитанные десятки биографий Сталина написанные разными авторами.Читая эти биографии и другую литературу посвященную тем временам мне хотелось понять чем же можно объяснить столько кровавую политику по отношению к собственному народу.
Разные авторы высказывают различные объяснения причин которые, по их мнению, привели к столь ужасным последствиям. Среди наиболее распространенных фигурируют психическая болезнь «паранойя»,обстоятельства развития страны , борьба с врагами страны, свойство характера ,боязнь разоблачения как бывшего агента охранки, стремление удержаться у власти.
Сейчас через десятилетия, мы знаем, что подозрения об этой стороне деятельности Сталина до революции возникали у многих, но практически все эти люди быстро бесследно исчезали.Так же исчезали и архивы охранки,ведь первое что сделали революционеры после переворота это стали уничтожать полицейские архивы да и самих полицейских.
Вот что пишет в своей статье "Сталин И ОХРАНКА: О ЧЕМ ГОВОРЯТ ДОКУМЕНТЫ?"
доктор исторических наук Серебрякова З.Л.
- В дни моего детства в доме отца Леонида Серебрякова и отчима Григория Сокольникова, вспоминая прошлое, старались реже упоминать все более прославляемого Иосифа Сталина.
Видный меньшевик Борис Николаевский отмечал, что в 20-е годы старые большевики, говоря о Сталине, вспоминали не только об экспроприациях (за которые он был исключен из объединенной тогда социал-демократической партии), но и о шантаже и вымогательстве у бакинских нефтепромышленников, об убийствах партийных работников, которые этой деятельностью возмущались, о доносах царской полиции на своих противников
В 1988 году, во времена Михаила Сергеевича Горбачева, после реабилитации моего погибшего в 1937 году отца – Леонида Петровича Серебрякова (члена Оргбюро ЦК, секретаря ЦК в 1919–1921 гг., члена Реввоенсовета Республики), я как историк получила возможность работать в Центральном партийном архиве (ныне РГАСПИ). Рассматривая материалы со случайно сохранившимися подлинными сведениями об отце, я открыла папку с документами за 1912 год фонда Серго Орджоникидзе и увидела то, что с самого начала потрясло меня. На бланке царского министерства внутренних дел с соответствующим оформлением на машинке было напечатано донесение начальника московского охранного отделения А. Мартынова от 1 ноября 1912 года на имя директора Департамента полиции С. П. Белецкого за № 306442. В нем говорилось: «В последних числах минувшего октября месяца сего года через гор. Москву проезжал и вошел в связь с секретным сотрудником вверенного мне отделения «Портным» [кличка вписана от руки красными чернилами]… Иосиф Виссарионов Джугашвили, носящий партийный псевдоним «Коба»…». «Так как поименованный «Коба» оставался в Москве лишь одни сутки, обменялся с секретной агентурой сведениями о последних событиях партийной жизни и вслед за сим уехал в г. С Петербург…
В конфиденциальном разговоре с поименованным выше секретным сотрудником, «Коба» сообщил нижеследующие сведения о настоящем положении и деятельности Российской социал-демократической рабочей партии».
Дальше следуют несомненно секретные данные о положении в партии и об отдельных ее членах. Явно агентурный характер носит перечисление внешних примет большевиков, которые старательно запомнил и передал охранке Иосиф Джугашвили. Он сообщал: «В С.-Петербурге удалось сформировать Северное областное бюро, в состав коего вошли три человека: А) Некий Калинин, участвовавший в стокгольмском партийном съезде (с фамилией Калинин в работах означенного съезда принимали участие двое а) Калинин, работавший на Семянниковском и Обуховском заводах за Невской заставой, около 25–27 лет от роду, низкого роста, среднего телосложения, светлый блондин, продолговатое лицо, женатый и б) административно высланный в 1910 году из г. Москвы кр[естьянин] Яковлевской волости Ковчевского уезда Тверской губернии М. И. Калинин, монтер городского трамвая. Б) Столяр Правдин, работавший с 1907 по 1908 год на Балтийском судостроительном заводе. Его приметы – около 30–32 лет от роду, среднего роста, полный, сутуловатый, блондин, без бороды, большие усы, сильно обвисшие с мешками щеки и В) Совершенно невыясненное лицо».
Кстати, большевик Правдин вскоре был арестован, да и кому еще, кроме охранки для целей сыска, для заполнения жандармского досье нужны были подобные сведения?
Там, где Сталин сообщал о деятельности ЦК, говорилось: «в) общее наблюдение за делом поручить одному из представителей социал-демократической думской фракции, предоставив последнему право голоса, участия и вмешательства во все без исключения стороны дела; на означенную роль намечен член Государственной Думы от Московской губернии Малиновский».
В конце своего донесения А. Мартынов писал: «Представленный при сем агентурный материал никому мною не сообщался во избежание возможности заминки или провала агентурного источника».
Ранее Мартынов сообщал, что Коба бежал из ссылки, но арестован в последовавшие месяцы он не был.
25 января 1913 г. Сталин писал уже из-за границы в письме Роману Малиновскому, носившему полицейскую кличку «Портной»: «От Василия – здравствуй дружище, я пока сижу в Вене и пишу всякую ерунду. Увидимся». Далее следует текст письма, сам по себе весьма интересный и заканчивающийся подписью – «твой Вас…».
Особое отношение Сталина к Малиновскому раскрывает эпизод, рассказанный Л. О. Дан. К тому времени стали распространяться слухи о провокаторстве Малиновского. В газете «Луч» появилось письмо, подписанное буквой «Ц». Предполагалось, что автором этого письма была Л. О. Дан (Цедербаум). Вот как описывает Г. Я. Аронсон со слов Л. О. Дан то, что последовало: «К ней на квартиру пришел, добиваясь от нее прекращения порочащих Малиновского слухов, большевик Васильев (среди меньшевиков его называли Иоська Корявый), это был не кто иной, как Сталин-Джугашвили».
Вскоре меньшевик Ционглинский опубликовал письмо, подписанное «Гражданин Ц». Там говорилось о необходимости расследования «темных слухов». И вновь в защиту Малиновского выступил Сталин. Л. О. Дан рассказывала: «тов. Василий… предложил встретиться со мною… в разговоре довольно отрывочном требовал прекращения травли и грозил, уж не помню чем, если «это» не прекратится».
Свою бурную защиту Малиновского Сталин в дальнейшем тщательно скрывал и ни на одном расследовании дела Малиновского о ней не упоминал.
На несомненную близость Сталина и Малиновского указывают и воспоминания Т. А. Словатинской, написанные незадолго до смерти в 1957 г.: Сталин «…зашел по делу к Малиновскому домой, тот очень настойчиво звал его с собой на концерт. И. В. совсем не хотел идти, отговаривался тем, что у него нет настроения и вообще он совсем не подходяще одет, но Малиновский пристал, даже нацепил какой-то свой галстук».
В тот же день, весной 1913 года, Джугашвили был арестован. По свидетельству видного советского разведчика Александра Орлова, на этот раз причина была в недовольстве Сталиным царской полиции, связанном с его неудачной интригой – попыткой дискредитировать Малиновского, чтобы занять его ведущее положение в охранке. Так ли это было, нам пока не известно, но судя по тому, что Мартынов в своем донесении в департамент полиции использовал не полицейскую, а партийную кличку – «Коба», и по некоторым другим данным какой-то конфликт у Сталина с охранным отделением тогда произошел.
Джугашвили участвовал в экспроприациях (по существу в грабежах), был замешан в убийствах, но материалов о прямых или косвенных дознаниях об этом не сохранилось. По мнению писателя Юлиана Семенова, несомненным аргументом в пользу возможности сотрудничества Сталина с царской охранкой является то, что ни он сам, ни его коллеги-историки ни разу не встречали в архивных фондах протоколов допросов Джугашвили-Сталина по явно уголовным преступлениям. Нет ни одного объявления о нем во всеимперский розыск.
Обычно аресты Кобы были удивительно «своевременными», помогали ему уйти от подозрения товарищей по социал-демократической партии, от неизбежных партийных взысканий.
Однако если в 1911 году Сталин был выслан в избранное им местожительство, в Вологодскую губернию, где он был на таком положении, что мог вместо пристава сам заполнить досье на себя самого, а когда подписался, получилось – полицмейстер Джугашвили, на сей раз после ареста он был отправлен в действительно суровый Туруханский край.
Отношения со ссыльными революционерами, отсутствие в них идейной направленности, человечности и теплоты еще ярче высвечивает подобострастный тон в письмах Сталина Малиновскому. В сопроводительной записке к письму от 14 января 1914 г., обнаруженной писателем Юрием Трифоновым в фонде ГАРФ, указывалось, что «представляются при сем агентурные сведения за № 578, автором которых является гласноподнадзорный Туруханского края Иосиф Виссарионов Джугашвили». Начинается это письмо обращением к Малиновскому: «Здравствуй друг», и далее в самой доверительной форме подробно говорится о слабости здоровья, «подозрительном кашле» и прочих невзгодах. Навязчиво повторяется жалоба на дороговизну – стоимость разных продуктов указывается вплоть до копеек. Бедный Коба подчеркивает, что ему «нужно молоко, нужны дрова, но денег нет, друг».
Обращение к Малиновскому – «друг» повторяется, чередуясь с маловразумительным восклицанием «черт меня дери». Заканчивается письмо соответствующими словами «крепко жму руку, целую», приветом жене
|
Метки: яков блюмкин |
Дома П. К. Ферзена (А. Я. Прозорова) |
Дома П. К. Ферзена (А. Я. Прозорова) (Санкт-Петербург)
Russia / Sankt Petersburg / Saint Petersburg / Санкт-Петербург
памятник архитектуры (истории)
На Английской набережной этот дом № 48 в четыре окна – самый маленький. Его ширина всего 13,5 метра. Но история дома вовсе не маленькая, а довольно насыщенная. Документально она начинается в 1713 году, когда бывший поп Гаврила Петров продал свой двор «Адмиралтейской канцелярии подьячему (т. е. писарю. – В. А.) Федору Слащову».
В 1719 году подьячий заявил, что ему «строиться нечем», в связи с чем двор сперва был передан некоему «секретарю Шаховскому», а затем отставному гардемарину Сергею Николаевичу Иванову, который в 1730-е гг. выстроил на участке двухэтажное каменное здание в шесть окон. Фасад был оформлен скромно – рустованными лопатками и оконными наличниками, чем и выделялся, соседствуя с богатыми хоромами. В 1748 году из «дома по набережной линии» отъезжал часовой мастер Осип Шмид.
В начале екатерининской эпохи, а именно в 1763 году, Марфа Васильевна Измайлова продала унаследованный дом, где было 16 покоев, английскому купцу Корнелию Кремпу, который успешно занимался экспортными операциями и владел канатной фабрикой. В это время англичане контролировали 80% внешней торговли Петербурга. Во владении семьи Кремпа и его наследников (включая купца и компаньона Джона Гея) особняк оставался почти до конца XVIII века и изменений, вероятно, не претерпел. В нем постоянно что-то предлагали на продажу – в 1787 году, например, «новомодный ковер умеренной цены» и «самый лучшей чай в фунтовых банках».
Следующим хозяином купеческой резиденции был русский князь генерал-лейтенант Михаил Михайлович Голицын (1735–1805), прозванный Чепурa. Его жена Варвара Петровна Шереметева умерла в 17 лет при родах, и оставшиеся годы князь прожил холостяком. После его кончины дом снова попал в английские руки, его купил лейб-медик Александр Крейтон (1763–1856), выпускник Эдинбургского университета, который в 1804–1819 годах лечил императорскую семью, после чего вернулся в родную Англию. До 1815-го известный врач жил в особняке на набережной.
В последующем домовладельцы снова стали быстро меняться. Сперва въехала Татьяна Ивановна Маркелова, жена коллежского советника, но в 1833 году она за 90 000 руб. продала владение богатой купчихе Екатерине Бергин, только что покинувшей свой дворец на Исаакиевской площади. Минуло два года, и купчиха со зданием рассталась – оно по купчей перешло к Надежде Алексеевне Яковлевой (1815–1897), правнучке знаменитого богача Саввы Яковлева и владелице Верхне-Исетских заводов на Урале. Выйдя за гвардейского поручика А. Н. Стенбок-Фермора, она уже в следующем 1836 году продала особняк полковнице Софье Петровне Крюковской и переселилась с семьей в соседний дом № 50.
Наконец, в 1838 году дом надолго обрел своего хозяина – графа Павла Карловича Ферзена (1800–1884). При нем в том же году двухэтажный лицевой дом был перестроен в стиле безордерного ампира: повышен на два аршина, заново оформлены окна, сделаны выносной карниз, лепные медальоны и маскароны. Автором перестройки был архитектор П. С. Садовников.
Крестник Павла I, происходивший из древнего рода остзейских шведов, Ферзен стал широко известен, после того как летом 1829 года тайно обвенчался близ Тайцев с юной баронессой Ольгой Павловной Строгановой (1808–1837), акварельный портрет которой незадолго до ее ранней смерти исполнил К. П. Брюллов. Побег девушки и брак без родительского благословения вызвали скандал. Высказывается предположение, что эта история повлияла на замысел повести «Метель» Пушкина.
Молодой офицер Кавалергардского полка был предан военному суду и отправлен служить в гарнизон крепости Свеаборг, однако вскоре вернулся в родной полк и отличился с ним в 1831 году при взятии Варшавы. Выйдя в 1833 году в отставку, граф вскоре начал службу в Министерстве императорского двора, дослужившись до высокого чина обер-егермейстера.
Однако в 1870 году заведующий придворной охотой, который «пользовался далеко не безупречною в нравственном отношении репутациею» (А. А. Половцов), попал в весьма неприятную историю. Во время царской охоты на медведя в окрестностях Петербурга он нечаянно застрелил егермейстера В. Я. Скарятина. Пошли слухи о преднамеренном убийстве... Пожилому царедворцу пришлось подать в отставку и удалиться с женой в Германию, где провести оставшиеся годы жизни.
Летом 1875 года Ферзен продал столичный особняк, и за 100 000 руб. его хозяйкой на год сделалась балерина Екатерина Гавриловна Числова, капризная и властная любовница великого князя Николая Николаевича, чей дворец стоял на Благовещенской площади. От великого князя, человека «не злого нрава, но весьма ограниченного ума и вульгарных вкусов» (А. А. Половцов), она имела нескольких детей, получивших фамилию Николаевы.
На площадь, ближе к дворцу, Числова переселилась очень скоро, продав дом в 1876 году церемониймейстеру князю Александру Илларионовичу Васильчикову (1818–1881), видному общественному деятелю и публицисту. Сын крупного сановника, «рыцаря чести и честности», выпускник столичного университета, князь в молодости уехал служить чиновником на Кавказ. Будучи знаком с М. Ю. Лермонтовым, он стал секундантом на его дуэли, за что был предан военному суду, но прощен императором.
Прослужив некоторое время в Петербурге, Васильчиков, замеченный в «свободомыслии», перебрался в Новгородскую губернию и занялся общественной работой. Он неплохо изучил сельскую жизнь и ратовал за реформы в ней на основе общинного земледелия и местного самоуправления. На эту тему даже написал несколько брошюр и сочинений, которые нашли живой отклик и у либералов, и у славянофилов. Многие из этих сочинений были написаны в доме на Английской набережной, который имел «хорошую внутреннюю отделку».
По воспоминаниям М. И. Семевского, редактора журнала «Русская старина», «Кабинет его составляет громадную комнату, обставленную дорогими шкафами, наполненными отличною библиотекою. Вся обстановка свидетельствует о том, что князь посвящает значительную часть своего времени занятиям научным...». Васильчиков дал отличное образование своему сыну Борису Александровичу, окончившему Училище правоведения. Правда, этот сын, «барин с головы до пят», стал столь быстро проматывать полученное большое наследство, что его взяли под опеку. Продав дом, он уехал в Старую Руссу, будучи избран уездным предводителем дворянства. Позже шталмейстер Васильчиков стал министром, членом Госсовета и одним из лидеров русских националистов.
Следующий домохозяин – Алексей Яковлевич Прозоров (1842–1914) происходил из семьи именитых вятских купцов, которые разбогатели на промысле котиков на Дальнем Востоке. В 1879 году отец Алексея Яковлевича переехал из Вятки в Петербург. После его смерти сын, ставший со временем богатым банкиром, приобрел в 1885 году особняк Васильчикова и обосновался в нем со своей семьей – женой Антониной Николаевной и четырьмя детьми.
Семья заняла все три этажа лицевого дома, в подвале размещался винный погреб, во дворе находилась торговая контора фирмы Прозорова. Тогда же столичный архитектор В. М. Карпович повысил главный дом на этаж, перепланировал (стало четыре окна) и наряднее оформил фасад. В бельэтаже было два больших зала. Корпус по Галерной, перестроенный в 1848 году Г. Боссе, был еще в 1880 году надстроен третьим этажом В. А. Кенелем.
Семейная жизнь богача не сложилась. С женой он развелся, а его даму сердца интересовали только деньги. Старший сын, окончивший столичный университет, погиб в Охотском море во время бури; Яков стал офицером-кавалеристом, но вел расточительный образ жизни. Дочь Ольга вышла замуж за князя Оболенского и проживала в основном за границей.
В 1897 году тайный советник Прозоров был избран председателем петербургского Биржевого комитета. В этой должности он оставался до самой смерти, случившейся от заражения крови. Наследники, задолжав, в конце 1916 года продали дом банкиру Леону (Леониду) Моисеевичу Вургафту, у которого здание было очень скоро национализировано рабоче-крестьянской властью и превращено в одну большую коммуналку. Осталась лишь на бумаге задуманная архитектором М. М. Синявером перестройка в стиле модерн большей части комплекса. Сам Вургафт эмигрировал и умер за границей членом масонской ложи.
Сегодня в главный дом можно попасть только с Галерной, миновав два двора. В первом растут три огромных тополя, по брандмауэру на большую высоту вьется дикий виноград. В боковых флигелях еще живут жильцы, однако их все сильнее теснят разные конторы. От прежней отделки местами еще сохранились мраморные подоконники, деревянные панели и фрагменты лепки. Сто лет назад все выглядело иначе...
archi.ru/events/news/news_current_press.html?nid=7802&f...https://wikimapia.org/19822421/ru/%D0%94%D0%BE%D0%...%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0
|
Метки: прозоровы купеческие особняки васильчиковы |
КУПЕЧЕСКИЙ РОД ПРОЗОРОВЫХ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ. XIX – начало XX в. |
КУПЕЧЕСКИЙ РОД ПРОЗОРОВЫХ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ. XIX – начало XX в.
Автор: М.С. СУДОВИКОВ | 06 Февраля 2014
М.С. СУДОВИКОВ
КУПЕЧЕСКИЙ РОД ПРОЗОРОВЫХ В ВОСПОМИНАНИЯХ СОВРЕМЕННИКОВ. XIX – начало XX в.
Sudovikov M.S. Merchant clan Prozorovs in memoirs of contemporaries
Аннотация / Аnnotation
В статье рассматриваются воспоминания современников, повествующие о купеческой династии Прозоровых, оставившей заметный след в истории северо-востока Европейской России. Представители этого рода вели торговлю с европейскими государствами, активно занимались благотворительностью, заседали в Петербургском биржевом комитете, в органах местного самоуправления.
In article the memoirs of contemporaries narrating about merchant clan Prozorovs, left an appreciable trace in a history of northeast of the European Russia are considered. Representatives of this clan did business the European states, actively were engaged in charity, sat in the Petersburg exchange committee, in institutions of local government.
Ключевые слова / Keywords
Источники, Прозоровы, купечество, Вятка, торговля, династия, общественная деятельность, благотворительность. Sources. Prozorovs, merchant class, Vyatka, trade, dynasty, public activity, charity.
СУДОВИКОВ Михаил Сергеевич – заведующий кафедрой отечественной истории Вятского государственного гуманитарного университета, кандидат исторических наук, доцент, г. Киров, 8-912-820-22-07; sudovikov70@mail.ru
Среди российских купеческих династий особое место занимала семья Прозоровых, представители которой стали выразителями передовых для своего времени экономических и общественных инициатив, способствовавших развитию таких явлений как рыночная экономика, местное самоуправление, благотворительность, меценатство. Истоки этого рода связаны с Вятской губернией – обширной территорией, располагавшейся на пограничье Центральной России, Русского Севера, Урала и Поволжья и вобравшей в себя весь колорит русской провинции дореволюционной эпохи.
Одним из ярких представителей династии Прозоровых был Яков Алексеевич (1816–1881) – купец первой гильдии, потомственный почетный гражданин, коммерции советник. Успешно приумножая свой капитал, он торговал хлебом, льном, куделью, конским волосом, щетиной, которые через Архангельский и Петербургский порты большими партиями шли за границу, в основном в Англию, Бельгию, Германию, Голландию. Благодаря качеству вывозимые из России товары под клеймом Якова Прозорова, в особенности льняные, быстро получили известность в Европе и продавались там «по самой высокой цене» .
Торгово-предпринимательскую деятельность Я.А. Прозоров успешно сочетал со служебной и общественной деятельностью. В 1859–1862 гг. он был городским головой в Вятке, и особенно преуспел в занятиях благотворительностью. На свои средства Яков Алексеевич устроил богадельню, открыл дом призрения для детей бедных граждан, известность получила и его благотворительная инициатива, связанная с приездом в 1878 г. в Вятку министра народного просвещения Д.А. Толстого. В память о визите высокого гостя Я.А. Прозоров пожертвовал для Вятского городского училища каменный с флигелями дом. Способствовал он развитию и провинциального театрального искусства, открыв в середине XIX в. в губернском центре театр.
В конце 1870-х гг. Яков Алексеевич с семьей переезжает на жительство в Петербург. Перед отъездом он остался верен себе – пожертвовал Вятскому благотворительному обществу и городу почти целый квартал домов, ряд других построек, а некоторым бедным дал пожизненный пенсион. В Петербурге Прозоров прожил недолго. После переезда он вскоре скончался и был похоронен в Александро-Невской лавре, которая стала усыпальницей и его семьи – супруги, сына Алексея и других родственников.
Я.А. Прозоров стал человеком-легендой, деятельностью которого восхищались современники, что и отразилось в первых воспоминаниях о нем, написанных в конце XIX – начале XX в. «Выдающимся благотворителем г. Вятки», «доблестным гражданином» – называл его Всеволод Александрович Ратьков-Рожнов (1832–1898), бывший в 1879–1895 гг. вятским вице-губернатором.
Знакомство Ратькова-Рожнова с Прозоровым произошло в Петербурге перед самым отъездом нового вице-губернатора к месту службы. «При первом же нашем свидании, – вспоминал он, – Яков Алексеевич обязательно предложил мне остановиться в Вятке в лучшем его доме, где он сам жил последние свои годы…» и, таким образом, заручившись поддержкой со стороны знатного купца, Всеволод Александрович стал «первым квартирантом» роскошного дома семьи Прозоровых, перешедшего позже, по завещанию Якова Алексеевича, в собственность епархиального женского училища .
Помимо детального описания этого купеческого особняка, который «здешнее интеллигентное общество прозвало… по выдающейся его архитектуре “красным замком”», автор обратил внимание на родословие Прозоровых, отметив, что истоки их династии связаны с крестьянством и «когда именно и кто из предков Якова Алексеевича переселился в Вятку – неизвестно» и что отец купца занимался «торговлей и жил в достатке, хотя и небогато» . Задавался Ратьков-Рожнов вопросом и о причинах успеха своего героя на деловом поприще: «Кроме счастья, или большой удачи в своих собственных делах… Прозоров принадлежал к тем русским самородкам, которые своим здравым умом и практичностью умели и нажить деньги, и главное сохранить их, зная детально хорошо дело, которому себя отдавали» . Яков Алексеевич сравнивался автором с Федулом Громовым – крупнейшим петербургским купцом-старообрядцем, происходившим из крестьян, благотворителем и меценатом.
Особая тема повествования В.А. Ратькова-Рожнова – благотворительность, часто не знавшая у Прозорова границ. Автор подробно останавливается на характеристике, как он сам указывает, «выдающихся пожертвований» купца, среди них – помощь бедным, причем она осуществлялась не на показ: «Яков Алексеевич, – по словам Ратькова-Рожнова, – немало наделял бедных людей деньгами непосредственно из своих рук, суммами, ему одному известными…» Важным было то, что Прозоров занимался благотворительностью постоянно, создав эффективную систему отчислений средств на нее: он выделял десятую часть прибыли от своих профессиональных занятий.
Много внимания автор уделяет повествованию о церковной благотворительности Якова Алексеевича, что в целом было характерно для российского купечества, подчеркивая их глубокую религиозность. Перестроив Владимирскую церковь г. Вятки, Прозоров позаботился соорудить в ней два новых престола – в честь небесных покровителей самого купца и его супруги. Не забыл он и об устройстве помещений для хранения ризницы, библиотеки и церковного архива .
Тема благотворительности была продолжена в воспоминаниях вятского купца Константина Игнатьевича Клепикова (1821–1907), для которого Прозоров прежде всего «щедрый жертвователь», человек, чье имя в память о его благодеяниях должна носить улица губернского центра . Автор вспоминает о Якове Алексеевиче и как о городском голове, называя его в числе нескольких руководителей городского самоуправления - купцов XIX столетия выдающимся «по своей деятельности и распорядительности» . В мемуарах упоминается и о сыне Я.А. Прозорова – Алексее Яковлевиче, окончившем «курс в Московском коммерческом училище» и впоследствии ставшем председателем Петербургского биржевого комитета .
Повествования В.А. Ратькова-Рожнова и К.И. Клепикова весьма схожи в оценках деятельности Якова Алексеевича, дают общее представление о нем как личности. Несмотря, быть может, на фрагментарность в изложении (особенно в воспоминаниях Клепикова), их значимость несомненна как отражение общественного мнения о представителе крупного бизнеса в российской провинции дореволюционной эпохи, причем мнения, порой далекого от классического, звучавшего, например, в произведениях А.Н. Островского, Максима Горького, других писателей и тоже широко бытовавшего в стране.
Немало ценных деталей о Якове Алексеевиче и его семье находим в воспоминаниях Александра Александровича Прозорова (1854–1927), племянника купца, известного в регионе общественного деятеля. После окончания Казанского университета А.А. Прозоров поступил на службу в Вятский окружной суд, был присяжным поверенным при Казанской судебной палате, избирался гласным Вятской городской думы и уездного земского собрания, в начале XX в. состоял членом Вятского губернского по земским и городским делам присутствия, занимался благотворительностью, являлся инициатором и активным участником многих культурных мероприятий – театральных постановок, концертов, балов. Он собрал уникальные юридическую и театральную библиотеки. На закате жизни, в 1920-е гг., А.А. Прозоров написал интересные мемуары, содержащиеся в трех тетрадях с названиями – «Род Прозоровых», «Город Вятка и его обыватели», «Мемуары о вятском театре» и ныне хранящиеся в Государственном архиве Кировской области .
Ранние страницы истории своей династии автор рассматривает по записной книжке купца г. Хлынова Семена Антоновича Прозорова, происходившего из крестьян. «В 1769 г. Семен Антонов женился на девице 19-ти лет Фекле Андреевне», – говорится в мемуарах, – и «в течение брачной жизни у них родилось 17 детей» , из которых в совершеннолетний возраст вступили только трое, в их числе сын Алексей, стоявший у истоков нескольких купеческих ветвей рода Прозоровых: одну из них представлял Яков Алексеевич, а другую – Александр Алексеевич, отец мемуариста.
Автор описывает дом своей семьи, воспроизводит портреты отца и матери, дяди и его семейства, характеризует занятия своих родственников. «Каждый год в начале марта месяца отец уезжал в Ношуль, а оттуда на баржах плыл в Архангельск, возвращаясь домой в конце сентября. Мы же с матушкой все это время проводили, живя в Слободском», – вспоминал он .
Отец Александра Александровича – купец, получивший звание потомственного почетного гражданина, был «характера… живого, экспансивного, вспыхивающий, но быстро отходящий», «отличался значительной силой» . Мать – Августа Ильинична, родившаяся в многодетной купеческой семье Шмелевых, – воплощала в себе добрейшей души, кроткую, немного застенчивую, уравновешенную женщину. Семья жила в большом, двухэтажном каменном доме. «Отличительный наружный признак его, – отмечал мемуарист, – каменные львы на каменных воротах… Дом крайне благоустроенный, каких домов немного в Вятской губернии» . В доме имелись: зал, гостиная, диванная, спальня, кабинет, две детские, столовая, бассейн. В его нижнем этаже располагалась контора «в четырех комнатах», «а в надворной стороне подвалы». Дом отличался роскошным интерьером – паркетные пол, «двери в вершок толщины, оклеены темным орехом», «в зале и гостиной с потолка спускались бронзовые люстры», массивная, резная мебель, чугунная лестница и т.д.
Семьи Прозоровых и их ближайших родственников Шмелевых, живших на одной улице, спешили «к молебну, всенощной, обедне», «делая из этого отчасти места общественного собрания» . По воскресеньям и большим праздникам все родственники «после обедни» собирались у бабушки - Екатерины Дмитриевны Шмелевой – «чтобы ее поздравить». Своих детей Августа Ильинична воспитывала так, как было принято в ее родительском доме. Детям она говорила, чтобы «у них никаких ссор не было, а если возникали ссоры, то родители прутом наказывали как обидчика, так и жалобщика, говоря: “Вы родные, и ссор между вами быть не должно”» .
Из развлечений семьи Александр Александрович назвал устройство «елки»; «вечера… в именины отца, в октябре месяце», на которых «приглашенных бывало много, лакеи во фраках, посуды заготовлялось масса, чаи разносили на громадных подносах, однажды даже играл оркестр музыки и танцевали»; игру в карты – «матушка моя любила поиграть в преферанс и в ненастную погоду сама ехала или приглашала к себе партнеров»; ловлю рыбы – «раз в неделю, а иногда и чаще ездили на свою мельницу за полторы версты от города, где был хорошенький домик, пруд и тенистый бор», «в пруде мы ловили удочками рыбу…»; иногда организовывались пикники с родственниками с выездом за город . «В обычные дни жизнь шла тихо», – вспоминал Прозоров .
В этой купеческой семье прослеживалось явно неравнодушное отношение к образованию. Старшая сестра мемуариста, Екатерина, училась в Вятке в женской гимназии, а Александр Александрович – сначала «дома, у матери», затем – у бывшего смотрителя уездного училища, который готовил его к поступлению во второй класс гимназии . В 11 лет А.А. Прозоров стал гимназистом, жил в Вятке, потом – в Казани, где сдал экзамены экстерном за гимназию и учился на юридическом факультете университета. Его младший брат Алексей также поступил в гимназию, младшая сестра Раиса училась в пансионе Дубровиной в Казани.
Отдельная тема мемуаров – рассказ о дяде: «Когда мне пришлось познакомиться с Яковом Алексеевичем, ему было уже лет 60. Росту он был немного выше среднего, волосы имел темно-русые, твердые, носил их всегда гладко остриженными с косым рядом… Оставаясь один или играя в карты, он почти никогда не выпускал изо рта трубку табаку с длинным мундштуком. Черты лица его были правильные, но маловыразительные, а взгляд строго сосредоточенный» .
Помимо сведений о широкой торгово-предпринимательской и благотворительной деятельности Я.А. Прозорова, в воспоминаниях содержатся интересные зарисовки его повседневной жизни. Дом Прозоровых считали за честь посещать «все лица выдающиеся в городе или приезжие и принадлежащие к высшему служебному миру», в нем устраивались парадные завтраки, обеды и ужины . Этими банкетами руководила семья купца. Сам же Яков Алексеевич выходил только к началу застолья, находясь до этого в своем кабинете.
Будучи гимназистом, Саша, впоследствии автор мемуаров, как-то зашел в кабинет дяди, где застал Якова Алексеевича сидящим в широком кресле перед письменным столом с трубкою в руках. «Вот, ты видел, – сказал Прозоров, – от меня сейчас вышли рабочие и мой служащий – торговый приказчик. Вот этих людей я ценю, они труженики, и результат их работы – реальная польза. А те, в тех комнатах, что гудят и веселятся – это одна вывеска. Вот посмотри: у меня лакей Михайло – франт, в течение дня раз пять переменяет одежду, видный собой, прекрасный выездной с каретой и докладом, а цена ему грош. Так научись, глядя на них, следовать примеру первых, а не гнаться за вторым» . Эти слова явились хорошим поучением для молодого родственника, и о них он не забывал всю жизнь.
Запомнился мемуаристу и другой урок: «Отец как-то меня, в возрасте лет 12-ти, когда я был на зимнем вакате, – пишет он, – послал в Вятку к дяде за деньгами. Я должен был получить несколько тысяч. Получив от Алексея Яковлевича пачки денег, я их сложил в саквояж и продолжал разговор. Минут 10 спустя он просит меня деньги ему возвратить, я вынул и отдал. Считает деньги – недостача, явление для меня непонятное. Доведя меня до слез, говорит, что, получая деньги, надо считать, что он с целью дать мне же урок нарочно вынул несколько кредиток, которые тотчас и вложил. Это был мой первый урок коммерческой грамоты. Позднее мой отец то же проделывал, посылая со мной деньги в контору из верхнего этажа в нижний, но я был уже осмотрительнее и не попадался впросак» .
Супруга Якова Алексеевича – Пелагея Семеновна, уроженка г. Лальска Вологодской губернии (из рода Угрюмовых), красивая в молодости женщина, в почтенном возрасте – седая, с редкими волосами до плеч – была выдержанной, всегда корректной, обходительной и располагающей к себе. «…Она внушала к себе общее уважение», – вспоминал Прозоров . Являясь любителем театрального искусства, Пелагея Семеновна помогала местным артистам. В театре у нее была своя ложа.
Рассказывая о детях Я.А. и П.С. Прозоровых, Александр Александрович особо выделял Алексея, который был женат на потомственной дворянке А.Н. Мосоловой, «красивой брюнетке», которая, «выйдя замуж за коммерсанта, брак свой считала несколько низким для себя. Дом свой старалась поставить на возможную высоту, привлекая к себе все высшее, выдающееся, что имело влияние на всю ее дальнейшую жизнь… Супруг же ее старался возможно возвыситься» .
У Антонины Николаевны была еще одна черта – она «обладала, кажется, всем, что требуется для светской жизни: играла хорошо на рояле, при слабом, но приятном голосе пела и отличалась особенной, ей свойственной манерой оказывать внимание окружающим и располагать к себе» .
В конце 1870-х гг. «вся семья дяди переехала на житье в Петербург к великому удовольствию Антонины Николаевны» . В столице контора их фирмы располагалась сначала на Михайловской площади, а спустя некоторое время в собственном доме на Английской набережной. «…Уехав из Вятки, имея звание коммерции советника, затем, последовательно получая ордена Анны и Владимира, он в конце жизни был возведен в потомственное дворянское сословие…», – писал о своем дяде мемуарист .
Жизнь этой семьи изменилась после смерти Якова Алексеевича. По завещанию общий капитал был разделен, и торговый оборот фирмы Прозоровых сократился. «Спустя несколько лет после смерти дяди, – вспоминал Александр Александрович, – мне с женой пришлось быть в Петербурге… Алексей Яковлевич тогда был уже председателем Биржевого комитета и имел чин действительного статского советника. Обширный кабинет его, весь отделанный узорчатыми темно-ореховыми фанерками, производил внушительное впечатление. Антонина Николаевна приобрела более важный, церемонный и официальный вид и добивалась представительства во дворец, чего, кажется, и добилась при посредстве министра Волконского, очарованного ею» .
Богатые по краскам и фрагментам повседневной жизни эти воспоминания рисуют в целом яркие портреты представителей одного из крупных купеческих родов России второй половины XIX – начала XX в. Как человек наблюдательный и неравнодушный к происходившему, Александр Прозоров сохранил для потомков обилие деталей и эпизодов будней и праздников региональной деловой элиты, уникальность которых в силу полного или частичного отсутствия подобных сведений в официальных документах очевидна. Весьма ценным является и тот факт, что жизнь и деятельность представителей семьи Прозоровых нашла отражение в воспоминаниях авторов, являвшихся выходцами из разных слоев общества. Все это, несмотря на субъективность мемуаров, позволяет воссоздать, на наш взгляд, достоверный облик известной купеческой династии.
Список литературы
Клепиков К.И. Сборник статей вятского старожила. Вятка: Тип. и хромолитография Маишеева, 1899.
Клепиков К.И. Заметки и впечатления старожила. Вятка: Тип. и хромолитография Маишеева, 1900.
Прозоров А.А. Город Вятка и его обыватели: мемуары / Под ред. М.С. Судовикова и Е.И. Пакиной. Киров: Изд-во «Экспресс», 2010. 152 с.
http://www.vestarchive.ru/2013-1/2580-kypecheskii-...mennikov-xix--nachalo-xx-v.pdf
|
Метки: прозоровы |
«Красный замок» Якова Прозорова |
«Красный замок» Якова Прозорова
ул. Красноармейская, 14 / Ленина, 104

«Красный замок» Якова Прозорова. 2000-е
Яков Прозоров – один из наиболее ярких персонажей дореволюционной Вятки, оставивший глубокий след в истории города. Помимо большого количества благотворительных инициатив и активной предпринимательской деятельности, Яков Алексеевич также был известен как человек, который приобретал лучшие здания города, отдавая их внаем. Сдаваемая в аренду, используемая в торговой деятельности недвижимость, приносила большие доходы. В домах Прозорова размещались квартира и канцелярия вятского губернатора, Вятское благородное собрание, торговые, питейные и благотворительные учреждения. Однако длительный период времени у самого Прозорова не было дома, который бы соответствовал его высокому статусу одного из самых крупных предпринимателей и благотворителей Вятско-Камского региона.
Долгое время Прозоров с семьей жил в полукаменном доме на углу Николаевской и Никольской (сейчас – Пролетарской и Ленина) улиц. Когда в начале XIX в. началось интенсивное развитие Семеновской площади Прозоров обратил на нее внимание, тем более, что в 1864 г. в центре площади был построен Александро-Невский собор. Прозоров был человеком набожным, стремившимся всячески поддержать строительство этого храма, как и многих других вятских церквей. В 1859 – 1862 гг. Яков Алекссевич занимал пост городского головы в Вятке, в этот период времени он возглавлял комитет по постройке Александро-Невского собора. Значительную часть затрат по строительству Яков Алексеевич взял на себя. Во многом благодаря его стараниям собор, на тот момент считавшийся «долгостроем», освятили в 1864 г.

Яков Прозоров
В начале 70-х гг. XIX в. Прозоров приобретает на углу площади с Вознесенской улицей небольшой деревянный дом. Его он подарил на вывоз причту Ахтырской кладбищенской церкви, а на освободившемся месте по проекту известного уже в Вятке архитектора А. С. Андреева начал строить собственный особняк. Двухэтажный каменный дом с глубоким подвальным и антресольным этажами, с парадным подъездом и балконом был построен меньше чем за два года и к ноябрю 1872 г. «приведён в жилое состояние».
В центре площади на тот момент уже несколько лет возвышался великолепный витберговский собор во имя Святого Александра Невского. Положение дома Прозорова в визуальной связи с собором и навеяло архитектору характер декоративно-художественного оформления фасада. Белым стенам собора он противопоставил насыщенный красно-кирпичный цвет стен особняка, спокойному белокаменному декору собора – почти скульптурную резьбу на фасаде «Красного замка», как называли особняк Прозорова в народе. Привычный на Вятке ещё с XVIII в. и потому мало обращавший на себя внимания белый камень (опока) здесь выступил в своём новом качестве.

Епархиальное женское училище (бывший особняк Прозорова). Начало XX в.
Композиция фасада центрична, но ни четырёхпилястровый портик в центре, ни пышный парадный подъезд под ним не приковывают внимания, и не только потому, что портик увенчан не традиционным фронтоном или более поздним аттиком, а только крохотным мезонином с единственным окном, выходом на такой же игрушечный балкончик. Внимание отвлекается от центра рассредоточенной по всему фасаду пышной белокаменной резьбой, но и каждая деталь её тоже не обращает на себя внимания и не значит ровно ничего. Сблизились, перемешались понятия богатства украшений и «красивости» архитектуры. Пришла эклектика на вятскую землю. Ещё почти три десятилетия отделяли от пика рационального и демократического «кирпичного» стиля, но в этом богатом особняке уже проявились его зачатки. Цвет становится средством художественной выразительности. Нельзя не восхищаться и резьбой вятских мастеров по камню. Ведущим среди них был житель города, в 1855 г. выполнивший «столярную и резьбеную работу» по главному иконостасу Александро-Невского собора, Иван Петрович Шубин.
Дом Прозорова стал украшением не только окрестностей Семеновской площади, но и всего города, долгое время являясь и центром светской жизни. Краевед В. Кощеева писала: «Дом Прозоровых слыл на Вятке гостеприимным и хлебосольным. Все уважаемые люди города, приезжие гости из высшего общества принимались здесь. Радушная хозяйка вместе с невесткой руководила проведением парадных обедов. Хозяин же, как правило, выходил к гостям на минуту, так как очень дорожил своим временем и большую часть его проводил в кабинете за бумагами или в беседах с подчиненными». Действительно, Прозоров ненавидел праздность и светские рауты, ценил человека труда и время, которое во все времена составляло главное богатство.

Епархиальное женское училище (бывший особняк Прозорова). Начало XX в.
В 1879 г. Яков Алексеевич с семьей уезжает на жительство в Петербург. Его дом долгое время пустовал, лишь только в конце 1879 г. верхний этаж занял вице-губернатор В. А. Ратьков-Рожнов. Знакомство Ратькова-Рожнова с Прозоровым произошло еще в Петербурге перед самым отъездом нового вице-губернатора к месту службы. «При первом же нашем свидании, – вспоминал он, – Яков Алексеевич обязательно предложил мне остановиться в Вятке в лучшем его доме, где он сам жил последние свои годы…». Таким образом, заручившись поддержкой со стороны знатного купца, Всеволод Александрович стал «первым квартирантом» роскошного дома семьи Прозоровых. С середины и до конца 1881 г. в нижнем этаже снимал квартиру со своим семейством управляющий Вятской казенной палатой А. П. Матафтин.
21 мая 1878 г. в Вятку на пароходе «Ламех» прибыл министр народного просвещения граф Дмитрий Андреевич Толстой. Яков Прозоров имел очную встречу с министром, после которой сделал заявление о пожертвовании своего «Красного замка» Епархиальному женскому училищу. За семь месяцев до смерти, 7 июля 1880 г., Я. А. Прозоров составляет в Санкт-Петербурге духовное завещание, в котором было зафиксировано следующее: «Принадлежащий мне каменный дом с надворными постройками, садом и землей, состоящий во второй части города Вятки на углу Александровской торговой площади и Вознесенской улицы, завещаю пожертвовать Вятскому епархиальному женскому училищу и просить Епархиальное начальство, если возможно, в том доме в двух моих кабинетных комнатах устроить церковь, и по смерти нашей творить при богослужениях поминовение об упокоении усопших Якова, Пелагеи, Алексея и Елизаветы, и выдать на этот дом дарственную».

Южная часть города. Снимок сделан с крыши особняка Булычева. Слева на фото - Александро-Невский собор, справа - улица Николаевская (Ленина). В центре снимка вдали – Епархиальное женское училище (бывший особняк Прозорова). 1911 – 1917 гг.
Завещание Прозорова было исполнено. 19 декабря 1881 г. подаренный дом был принят советом Епархиального училища. В двух смежных кабинетах на втором этаже по рисункам и чертежам архитектора В. М. Дружинина была устроена домовая церковь, наименованная Алексеевской. В бывших Прозоровских службах, выходивших окнами на Александровскую площадь, епархиальное начальство устроило училищную больницу. Во дворе имелся великолепный сад с беседкой. Разместились также в особняке классы и спальни младших воспитанниц училища.
В 1914 г. в здании разместился госпиталь №1 Всероссийского земского союза, который находился в доме до конца Первой мировой войны. В 1918 г. особняк муниципализирован, флигели отданы жильцам, а в главном доме должна была открыться школа, но этого не произошло. В 1919 г. дом Прозорова отдали 10-й пехотной школе, позднее – фабрике музыкальных инструментов. Сейчас здание принадлежит кировскому филиалу Московского финансово-юридического университета. В 2005 г. у «Красного замка» восстановлена утраченная с годами галерея с парадным балконом, отчего памятник архитектуры приобрел первозданный вид.
Фото: archidesignfrom.ru, ГАКО, pastvu.com
http://vyatkawalks.ru/wiki/krasnyy-zamok-yakova-prozorova/
|
Метки: прозоровы купечество |
Яков Прозоров — главный вятский меценат |
Яков Прозоров — главный вятский меценат
Среди всех вятских предпринимателей дореволюционной поры имя Якова Алексеевича Прозорова стоит особняком. Представитель старейшей купеческой династии, личность яркая и богатая, он жил не столько для себя, сколько для общества. За большое количество благотворительных инициатив Прозорова прозвали в Вятке «кормильцем» и даже хотели назвать в его честь улицу. В советское время о нем практически не говорили, многие страницы истории рода Прозоровых оказались утрачены. Сегодня очевидно, что Прозоров — одна из наиболее ярких и важных персон в истории Вятки XIX в.

Яков Прозоров
Прозоровы — одна из самых известных купеческих династий. По семейному преданию, происходили из крестьян Якимовагинской волости Вятского уезда. По документальным источникам, прародитель династии Фирс Кириллов Прозоров (родился примерно в 1666 г.) в 1710 г. значился хлыновским посадским и жил в своем дворе в переулке от Московской башни к Ильинской улице. Расцвет купеческой династии Прозоровых связан с деятельностью Якова Алексеевича, родившегося в Вятке 27 сентября 1816 г. В юности он не получил систематического образования, поэтому всю жизнь оставался талантливым самоучкой. Его успеху на предпринимательском поприще способствовали в первую очередь личные качества. До всего он доходил своими опытом, большой работоспособностью, ответственностью и честностью. От природы Прозоров имел организаторский талант и хорошую память, точно знал, сколько товаров закупается и продается от его имени, чем заняты приказчики. Сам изучал иностранную бухгалтерию, банковское дело, постигал премудрости перевода рубля в иностранную валюту и наоборот.
Свои капиталы Прозоров накопил, торгуя хлебом, льном, куделью, конским волосом, щетиной, которые через Архангельский и Петербургский порты шли за границу. Главное достижение Прозорова заключалось в том, что именно ему удалось ликвидировать зависимость вятских купцов, не имевших собственных кораблей, от иностранных торговых фирм. В отличие от других купцов, Прозоров отправлял товар за границу самостоятельно, без посредников. Он контактировал с иностранными торговыми домами напрямую, пользовался кредитами зарубежных банков. Постепенно его хорошо узнали в Англии, Бельгии, Германии, Голландии. Деловая репутация Прозорова была высока: когда через 20 лет в Англию с частным визитом приехал племянник Якова Алексеевича, его там приняли с большими почестями в память о дяде.
Яков Алексеевич тонко чувствовал экономическую конъюнктуру. «Зорко наблюдая за ходом дела и умело ведя торговлю, он из года в год увеличивал капитал, а во время турецкой (Крымской) войны, продав товар за границу по расчету на золото, потребовал уплаты в момент падения рубля в России, через что при расчете получил прибыли на одной курсовой разнице около миллиона», — писал современник.

«Красный замок» Якова Прозорова
Большую часть своих доходов Прозоров стремился вложить в недвижимость, покупая дома в Вятке, пристани, складские помещения и амбары на реках, большие участки земли, лесные дачи, мельницы в уездах Вятской и других губерний. Сдаваемая в аренду, используемая в торговой деятельности недвижимость приносила большие доходы. Предприниматель приобретал лучшие здания города, сдавал их внаем. В его домах размещались квартира и канцелярия вятского губернатора, Вятское благородное собрание, торговые, питейные и благотворительные учреждения. Сам Яков Алексеевич жил сначала в двухэтажном полукаменном доме на углу Никольской и Вознесенской (сейчас — Пролетарской и Ленина). А в дальнейшем Прозоров строит в 1871 г. большой каменный особняк, который получил название «Красного замка». Дом был действительно примечательный: снаружи имел невыбеленные стены, парадный подъезд, балкон с видом на красивейший Александро-Невский собор. Внутри — большой зал и гостиная с паркетными полами, кабинет. В подвальном этаже располагались различные службы. Рядом с домом устроили сад с беседкой. Впоследствии, по завещанию Якова Алексеевича, «Красный замок» был пожертвован Вятскому епархиальному женскому училищу, а в его кабинете устроена домовая церковь.
Многие приобретения Прозоров, живя в Вятке, а особенно после отъезда, передал или оставил по духовному завещанию Вятскому благотворительному обществу, приютам, богадельням, учреждениям просвещения. Общая стоимость домов, пожертвованных городу, по ценам 1884 г. составляла более 500 000 рублей.

Один из доходных домов Прозорова на улице Владимирской. В нем размещалась квартира губернатора. Конец 1890-х или начало 1900-х гг.
О большом авторитете Прозорова среди людей, связанных с ним по торговым делам в России и за рубежом, говорят следующие факты. Среди служащих, приказчиков и других работников, нанимаемых купцом в Вятке, на перевалочных пунктах и пристанях, через которые закупались и направлялись в портовые города товары, авторитет хозяина был так высок, что не было замечено ни одного случая мошенничества, воровства, нарушения учётной дисциплины. Это объяснялось и тем, что Прозоров щедро оплачивал труд своих работников и те боялись потерять место, зная, что к нарушителям дисциплины он был беспощаден. Людей труда Яков Алексеевич уважал. Как-то в разговоре с племянником он сказал: «Вот, ты видел, от меня сейчас вышли рабочие и мой служащий — торговый приказчик. Вот этих людей я ценю — они труженики, результат их работы — реальная польза. А те, кто в тех комнатах гудят и веселятся — это одна вывеска... Так научись, глядя на них, следовать примеру первых и не гнаться за вторыми». Выехав в Петербург, многих молодых своих сотрудников Прозоров взял для работы с ним, а тем, кто не смог покинуть Вятку по возрасту или по состоянию здоровья, назначил солидную пожизненную пенсию.
Как и многие другие вятские купцы, Прозоров был глубоко верующим и набожным человеком. Владимирская церковь была для Прозоровых семейным приходом. Дети, родившиеся в Вятке, крестились в этой церкви, а Яков Алексеевич много раз жертвовал на благоустройство и содержание храма. Здесь он содержал особый хор певчих, выделяя ежегодно 300 рублей. Более 20 лет доставлял он для этой церкви просфоры и красное вино. В 1876 г. им заново выстроены тёплый храм при Владимирской церкви и колокольня (каменные), перекрыта железом крыша. Расходы, принятые на себя Яковом Алексеевичем, составили более 39 000 рублей. В 1937 г. Владимирская церковь, как и многие другие храмы, была разрушена, на её месте встал кинотеатр «Октябрь».

Владимирская церковь. Начало XX в.
На исходе 1879 г. Яков Алексеевич одновременно преподнес монастырям и церквям г. Вятки щедрые дары, общая сумма которых составила 26 500 рублей. Об этой стороне благотворительной деятельности Прозорова говорят многие документы. Его благодеяния остались в истории монастырей: Соловецкого, Вятского Трифонова, Вятского Преображенского, Устюжского женского, Слободского Христорождественского. За него молились прихожане церквей в Вятской, Архангельской, Вологодской и Таврической епархиях.
Будучи богатым купцом, Прозоров подает на имя императора Александра II прошение о возведении его с семьей в потомственные почетные граждане. Ходатайство купца было удовлетворено Правительствующим Сенатом в феврале 1860 г. Прозоров, с каждым годом умножая свои капиталы, достиг немалых высот. В 1870 г. о нем сообщалось: «Я. А. Прозоров, коммерции советник, потомственный почетный гражданин, имеет золотую медаль на Станиславской ленте, пожалованную в 1860 г., купец 1-й гильдии, торгует хлебным и льняным товарами, которые отправляет к Архангельскому и Петербургскому портам за границу». Многочисленные награды давали Прозорову привилегию потомственного дворянина, это было очень почетно, титул передавался по наследству.

Сын Якова Прозорова Алексей в молодости
До 1917 г. обычным делом было, когда крупный купец возглавлял органы местного самоуправления. Считалось, что успешный деловой человек сможет по уму руководить и хозяйственной жизнью. В 1859 – 1862 гг. Я. А. Прозоров был городским головой в Вятке. В этот период времени он возглавлял комитет по постройке Александро-Невского собора. Значительную часть затрат по строительству Яков Алексеевич взял на себя. Во многом благодаря его стараниям собор, на тот момент считавшийся «долгостроем», освятили в 1864 г. Произошло это через 40 лет после посещения Вятки Александром I, в память о визите которого вятчане и решили возвести храм.
Торгово-предпринимательскую деятельность Я. А. Прозоров успешно сочетал с благотворительностью, которая, казалось, не знала предела. В деловых книгах Прозорова была специальная статья — «счет благотворительности». На эти дела он ежегодно отчислял 10% с каждого рубля прибыли. На праздники из его конторы беднякам выдавалась мука. Невесты из бедных семей при выходе замуж получали денежное пособие. Прозоров устроил в Вятке богадельню, открыл дом призрения для детей бедных граждан. На деньги купца содержался и приют для девочек, где они учились шить, вышивать, вести домашнее хозяйство. По достижении 16-летия выпускницы получали приданое (одежду и постель) и устраивались в богатые семьи на работу. Кроме того, каждую пятницу в конторе Прозорова выдавали муку и деньги бедным жителям Вятки. Этой традиции Яков Алексеевич не изменил и в Петербурге.

Особняк купца Репина. Здесь на деньги Я. А. Прозорова содержался дом призрения детей бедных граждан Вятки. Фото конца XIX в.
Известность получила и его благотворительная инициатива, связанная с приездом в 1878 г. в Вятку министра народного просвещения Д. А. Толстого. Прозоров в память о его визите пожертвовал для городского училища каменный дом с флигелями «общей стоимостью 34 тыс. 300 руб.». Ежегодно Прозоров жертвовал значительные суммы пострадавшим от засухи, погорельцам и на содержание тюрем. Свой собственный дом в Вятке (Ленина, 104) Яков Прозоров завещал Вятскому женскому епархиальному училищу. В 1881 г. «Вятские губернские ведомости» отмечали: «Владея огромным состоянием, он резко отделялся от того круга людей, которые имеют одну цель — наживу… Редкий бедняк не рассчитывал на его добрую помощь».
Прозоров был энергичным и деловым человеком, не любил бездельников и трату времени впустую. По своему социальному статусу он должен был присутствовать на светских раутах и приемах, но не любил подобные мероприятия, пытался их избегать. Он даже редко появлялся на приемах, которые устраивались в его же собственном доме. Краевед В. И. Кощеева писала: «Дом Прозоровых слыл на Вятке гостеприимным и хлебосольным. Все уважаемые люди города, приезжие гости из высшего общества принимались здесь. Радушная хозяйка вместе с невесткой руководила проведением парадных обедов. Хозяин же, как правило, выходил к гостям на минуту, так как очень дорожил своим временем и большую часть его проводил в кабинете за бумагами или в беседах с подчиненными». Интересный случай описывает в своих мемуарах племянник Якова Алексеевича А. А. Прозоров. Как-то раз он пришел в гости к дядюшке, когда у того были гости — накрыты столы, играет музыка, а Яков Прозоров в это время работает в кабинете. Племянник зашел к дяде и спросил, почему он не с гостями, на что тот ответил: «Они бездельники. Они тратят столько времени впустую, а я так не могу: мне надо работать. Береги время. Время — на дело».

Пелагея Семеновна — супруга Якова Прозорова
В 1841 г. Яков Алексеевич женится на дочери лальских мещан Угрюмовых. Пелагее Семёновне было в то время 16 лет. Известна их романтическая история любви. Валентина Кощеева так описывала ее: «Однажды Яков Прозоров остановился в Лальске на ночлег, когда возвращался из Архангельска. Приехал домой и сказал отцу: «Женюсь!». Отец ответил: «Подожди — ты ее совсем не знаешь, был проездом». Но Прозоров младший был непреклонен. Это была любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Он с первого взгляда полюбил эту 16-летнюю девушку. И Пелагея была ему верным другом, помощником, супругой во все времена. Правда, пережила мужа на 11 лет». Пелагея Семеновна страстно любила театр и оказывала артистам материальную поддержку. Судьба двух сыновей Прозорова сложилась совершенно по-разному. Владимир Прозоров слыл хулиганом и забиякой, в Вятской мужской гимназии он однажды подрался и получил такие травмы при падении с лестницы, что вскоре умер. Совсем другим был Алексей Прозоров. По настоянию отца он окончил Московское коммерческое училище с малой золотой медалью. Прозоров помог сыну в овладении английским и немецким языками. В 1865 г. Алексей побывал в Англии и Германии, что укрепило там влияние Прозоровых. На рубеже XIX – XX вв. Алексей Яковлевич был председателем Петербургского биржевого комитета и стал известной в российских деловых кругах фигурой, депутатом Государственной думы III созыва.
В 1879 г. Яков Алексеевич с семьей уезжает на жительство в Петербург. Перед отъездом он остался верен себе — пожертвовал Вятскому благотворительному обществу и городу почти целый квартал домов, ряд других построек, а некоторым дал пожизненный пенсион. В столице купец и дворянин Прозоров с семьей жил в собственном особняке в престижной части города — на Английской набережной. Торговые дела велись под фирмой «Яков Прозоров с сыном», но в Петербурге Прозоров прожил недолго. Он умер в феврале 1881 г. Похоронили Якова Алексеевича в Александро-Невской лавре, которая стала усыпальницей и его семьи — супруги, сына Алексея и других родственников.

Пелагея Семеновна Прозорова с внуком
Яков Алексеевич Прозоров своей деятельностью охватил практически все направления общественной жизни — экономику, городское управление, образование, культуру, церковь — и смог воплотить лучшие черты российского предпринимателя, связанные, прежде всего, со служением на благо как своей малой родины, так и страны в целом.
|
Метки: прозоровы |
Прозоровы в Вятке, Петербурге, Стокгольме |
Краеведение
Прозоровы в Вятке, Петербурге, Стокгольме
Создано 01.07.2009 14:54
Просмотров: 2447

В июне 2009 года в Швеции, в Стокгольме, была найдена могила княгини Ольги Алексеевны Оболенской, внучки знаменитого вятского купца Якова Прозорова – так благодаря стараниям вятского краеведа Валентины Ивановны Кощеевой раскрылась еще одна славная страница жизни этого рода.
Более 10 лет Валентина Ивановна занимается изучением истории рода Прозоровых.
Всё началось с поисков материалов о хозяине особняка, в котором сейчас располагается Музей народного образования. Этот особняк – дом № 33 по ул. Московской – в 1878 году Яков Прозоров по просьбе министра просвещения графа Дмитрия Толстого безвозмездно передал под четырехклассное высшее начальное училище. С тех самых пор и по настоящее время дом Прозорова служит просвещению.
Прозоровы в Вятке
Яков Алексеевич Прозоров – вятский 1-й гильдии купец, потомственный Почетный гражданин, коммерции советник, получивший по императорскому указу звание потомственного дворянина, был на Вятке зачинателем торговли с зарубежьем, отправлял суда со своим товаром в Англию и Германию, позднее во Францию, Бельгию, Голландию. Корабли везли зерно, лен, семя, конский волос особой выделки, щетину и холст. Прозоров впервые организовал торговлю напрямую, в обход посредников-перекупщиков. Сам изучал иностранную бухгалтерию, банковское дело, постигал премудрости перевода рубля в иностранную валюту и наоборот. Его деловая репутация была высока: когда через 20 лет в Англию с частным визитом приехал племянник Якова Алексеевича, его там приняли с большими почестями в память о дяде.
Яков Алексеевич ежегодно участвовал в торгах на поставку провианта для Архангельской и Вятской губерний, в неурожайные годы участвовал в заготовках зерна для обеспечения посевными материалами, мукой и продовольствием.
Тысячи рублей Яков Алексеевич тратил на благотворительность: принимал деятельное участие в строительстве Александро-Невского собора, в устройстве пароходства на реке Вятке, в проведении Вятско-Двинской железной дороги, в строительстве концертного зала. 15 000 рублей пожертвовал он на устройство дома призрения детей бедных граждан Вятки, в котором содержалось 40 мальчиков, обучавшихся не только грамоте, но и столярному, слесарному, сапожному, портновскому ремеслу. На деньги Прозорова содержался и приют для девочек, где они учились шить, вышивать, вести домашнее хозяйство. По достижении 16-летия выпускницы получали приданое (одежду и постель) и устраивались в богатые семьи на работу. Кроме того, каждую пятницу в конторе Прозорова выдавали муку и деньги бедным жителям Вятки. Этой традиции Яков Алексеевич не изменил и в Петербурге.
Примечательно, что в конторских книгах Прозорова была даже особая статья – «счет благотворительности», на которую ежегодно перечислялось 10% с каждого рубля прибыли.
Расширение торговых связей, увеличение оборота капитала, необходимость упрочения отношений с компаньонами, желание принять участие в работе биржевого комитета и в биржевых операциях, привели Якова Алексеевича к решению о переезде в Санкт-Петербург. Перед отъездом Прозоров пожертвовал Вятскому благотворительному обществу целый квартал домов и лавок на нижней торговой площади. Некоторых молодых приказчиков Яков Алексеевич взял с собой в Петербург, а старикам дал пожизненный пансион.
Прозоровы в Петербурге
В январе 1879 года в Петербурге начала свою работу фирма «Торговый дом «Яков Прозоров с сыном». Компаньоном по торговым делам стал старший сын Алексей.
Для этого, в одном из престижнейших районов города, на Английской набережной, был приобретен особняк – дом № 48.
Все дома, расположенные здесь, принадлежали столичной знати, представителям известных графских и княжеских фамилий, среди которых были Трубецкие, Асташевы, Лавали, Оболенские и другие. Позднее Прозоровым был куплен еще один особняк на Английской набережной – дом № 50, в котором располагалась торговая контора.
После смерти Якова Прозорова в 1881 году торговая фирма перешла в наследство Алексею. На октябрь 1883 года он имел полученные в наследство от отца в Вятке каменный и три деревянных дома, пристани с конторами и складами, приобретенное им самим имение, мукомольную мельницу в Санкт-Петербургской губернии и 388 десятин земли в Уржумском уезде Вятской губернии. Алексей был также участником компании «Русское товарищество котиковых промыслов» на Дальнем Востоке, вице-председателем Совета Волжско-Камского коммерческого банка, председателем комитета Санкт-Петербургской Биржи, чиновником по особым поручениям в чине тайного советника.
У Алексея Яковлевича было четверо детей. Сын Алексей родился в июле 1873 года, окончил Петербургский университет и принял на себя заведование котиковым промыслом в Охотском море. Он трагически погиб во время шторма, пытаясь помочь терпевшим бедствие рыбакам. Другой сын, Борис, в 1914 году имел звание титулярного советника. Сын Яков родился в 1872 году, воспитывался в Николаевском кавалерийском училище, служил в Московском 1-м лейб-драгунском Императора Александра III полку. В 1903 году произведен в штабс-ротмистры, а в феврале 1907 году уволен в отставку, в 1911 году уже на гражданской службе, коллежский асессор, по документам 1914 года, был причислен к отделу торговли министерства торговли и промышленности. Дочь Ольга родилась в 1870-м, в первом браке – графиня Асташева, во втором – княгиня Оболенская. В 1914 году, в год смерти своего отца жила за границей, предположительно, в Германии. Ее судьба после революции 1917 года остается загадкой для исследователей.
Неизвестна также и дальнейшая судьба остальных потомков Якова Алексеевича Прозорова. В ежегоднике «Весь Петроград. 1923 год» фамилии представителей этой семьи уже нет.
Прозоровы в Стокгольме
Только в 2009 году в Стокгольме мне вновь удалось найти следы внучки Якова Прозорова княгини Ольги Оболенской. Неизвестно, как она с мужем князем Алексеем Оболенским оказалась в Швеции, неизвестно, где они жили и чем занимались. Доподлинно известно только место их захоронения. Это стокгольмское Лесное кладбище. Княгиня Ольга умерла в 1959 году, а князь Алексей – в 1969-м.
В какой-то степени эти люди – мои современники, и очень жаль, что мне не удалось с ними познакомиться и пообщаться при жизни.
Автор: Валентина Кощеева, краевед, сотрудник Музея народного образования
Фото предоставлены автором
http://ks-gazeta.ru/index.php/sobytiya-7/203-prozorovy-v-vyatke-peterburge-stokgolme
|
Метки: прозоровы оболенские вятка |
Адмиралы и Транссиб.Флот и Китай.Князья Мещерские - потомки боярина Артамона Матвеева (Ярославова |
Адмиралы и Транссиб.Флот и Китай.Князья Мещерские - потомки боярина Артамона Матвеева (Ярославова
April 6th, 2015
Медведя) . Воспитателя, на английский манер, Натальи и её сына Петра I….На Оби и рядом с Оболенскими
© Наталья Ярославова – Оболенская
4-5 апреля 2015 года - Вербное Воскресенье
Полный текст с иллюстрациями http://yaroslavova.ru/main.mhtml?Part=15&PubID=1102
Английское влияние Артамона Матвеева (Ярославова-Медведя) - Адмиральские и Фельдмаршальские звания времен Петра I. Первый кавалер Мальтийского Ордена Б.П. Шереметев, перезахороненный около усыпальницы Великой княжны Натальи
Адмиральские звания были введены Петром I, когда император, увлеченный Англией его воспитателем боярином Артамоном Матвеевым (Ярославовым Медведем), в доме которого жили опальные выходцы Альбиона, стал создавать морскую столицу Петербург по плану Ньютона и астрологии Якова Брюса.
Он перевез в город своего имени останки фельдмаршала графа Б.П.Шереметева - первого кавалера Мальтийского ордена и перезахоронил их около часовни Воскресения Лазаря - усыпальницы его сестры Великой княжны Натальи Алексеевны, которую сделал покровительницей Российского Флота.
После перезахоронения в 1724 году рядом с усыпальницей Натальи и Лазаря - Великого князя Александра Невского будущая лавра стала называться Александро-Невской.
Воинское звание фельдмаршала было привнесено в Россию из истории Священной Римской империи и Тевтонских орденов. Ввел его Петр I в 1699 году. И при императоре в русской армии было два генерал-фельдмаршала: Ф.А. Головин и К.Е. де Круа, затем Ф. А. Головин и Б.П.Шереметев, затем Б.П.Шереметев и А.Меншиков /3/.
Кавалером Мальтийского ордена граф Б.П.Шереметев стал при исполнении в 1697—1699 годах дипломатического поручения Петра I во время путешествия по Европе и на Мальту.
Фельдмаршал Б.П.Шереметев завершил свой жизненный путь в 1719 году, его останки, как сказано, были перевезены из Москвы и перезахоронены около усыпальницы Великой княжны Натальи Алексеевны, дочери Натальи Нарышкиной, воспитанной в доме боярина Артамона Матвеева(Ярославова Медведя) и сосватанной им вдовому царю Алексею Михайловичу Романову.
Вероятно, поэтому уже в 21 веке граф П.П. Шереметев стал Председателем Президиума Международного совета соотечественников ( 01.02.2015. Обращение к графу П.П. Шереметеву - Председателю Президиума Международного совета соотечественников МСРС от 09.11.09.).
К нему я и обращалась в 2009 году, в т.ч. по вопросам культуры, энергосбережения и, так получилось,М.Прохорова в связи с годом культуры во Франции.
Интерес к ахматовскому Дому у Фонтанов тех, кто теперь «разрабатывает» это мое Обращение, возник, очевидно, по той причине, что это - Шереметевский дворец предка Председателя МСРС, родившегося в Марокко ( Франция до середины 20 века) .
И как-то много после этого Обращения появилось новых Кавалеров Ордена Почетного легиона Франции («Российские Кавалеры Ордена Почетного легиона Франции, учрежденного Наполеоном).
В происходящем есть субъективность. А меня интересует настоящая история Флота
Кронштадтский контр-адмирал И.Г.Черевин – предок детей М.М.Ярославовой. Комендант Кронштадта Н.Бусыгин. И Иоанн Кронштадтский, крестивший княжну Е.А.Мещерскую
Здание Адмиралтейства, понадобившееся по причине введения званий Адмирала на флоте, изначально было в Кронштадте (The Sovetskaya street in Kronstadt).
В ряду первых, получивших адмиралтейские звания в начале XVIII века, контр-адмирал И.Г.Черевин, член Адмиралтейств-коллегии, отец мужа М.М.Ярославой-Черевиной. А посещавший её троюродную племянницуАсенефу в Горицком монастыре Иоанн Кронштадский, через несколько лет после смерти Асенефы (дочери Александры Ярославовой), в 1901 году крестил княжну Екатерину Александровну Мещерскую, написавшую книгу «Воспоминания княжны Мещерской».
Моя бабушка Клавдия Никтополеоновна Маркова, в рассказах о своих сестрах Мещерских в Москве упоминала вот эту княжну Е.А.Мещерскую, называя её двоюродной сестрой или двоюродной тетей, по отношению к разным её родственникам.
А в браке моего отца Б.Р.Ярославова и моей мамы Т.А.Давиденко (Ярославовой) фамилия Ярославовых породнилась с родословием: Марковых, Мещерских, Давиденко и Бусыгиных, один из которых был капитаном I ранга и комендантом в Кронштадте во время Великой Отечественной войны, по рассказам Г.А.Давиденко-Кошелевой.
Кронштадт соединил фамилии Ярославовых, Мещерских, Черевиных и Кошелевых в XVIII веке. И Кронштадт с Порт-Артуром объединили эти же фамилии в XX и XXI веке.
Также как и река Объ, через которую прошел Транссиб, в районе Новониколаевска (Новосибирска), от Петербурга до Дальнего Востока. Не только путь водный , но и - «железный», современные РЖД.
Поэтому и в Александро-Невской Лавре я подходила к могилам князя Мещерского и Кошелевых, также как и Кушелевых, поскольку это важные фамилии в истории моих родов по линии отца и матери.
И Флот России я стала изучать потому, что мой прадед Никтополеон Марков был капитаном корабля на Амуре, и рейсы совершал не только речные, но и морские , в т.ч. и к запомнившейся, путешествовавшим с ним членам семьи, - скале Три брата в сахалинском Татарском проливе, недалеко от мыса Жонкиер:
«Французский мореплаватель Жан Франсуа Лаперуз, побывавший здесь с экспедицией в 1787 году, назвал мыс в честь своего друга и покровителя в морском министерстве, адмирала маркиза Клемента Таффанела де ля Жонкиера» /6/.
Это символ Адмирала в Тихом океане - генерал губернатора Новой Франции, французских владений в Северной Америке: Канада, Луизиана, Акадия, о.Ньюфаундленд.
Сын падчерицы Анюты Сусловой (Бусыгиной в браке) вот этого дальневосточного капитана Никтополеона Маркова от первого брака его жены Ксении, как раз, и спасал остров Кронштадт в годы Великой Отечественной Войны. Два его других брата Бусыгина стали музыкантом и юристом. Мореплаватель, музыкант и юрист Бусыгины - внуки прабабушки Ксении Марковой (Сусловой в первом браке).
Петербург, Кишинев и Львов.
Море, закон и музыка.
Ребенком Ксении Марковой - супруги Н.Маркова, также как Анюта Суслова (Бусыгина), была и моя бабушка Клавдия Никтополеоновна Маркова (Давиденко), родственница Мещерских, оставшихся, по стечению обстоятельств, после революции в России, как и княжна Е.А.Мещерская.
А поскольку одна из веток Мещерских, и именно та, к которой относилась Екатерина Александровна Мещерская - потомки Артамона Ярославова Медведя (Матвеева), то связям, главным образом, вот этой лотошинско-волоколамской ветки Мещерских с Кронштадтом и Порт-Артуром, в контексте истории Флота и ордена Андрея Первозванного, я уделяю главное внимание.
Княжна Е.А.Мещерская - дочь Кавалера Ордена Андрея Первозванного князя А.В.Мещерского - потомка боярина Артамона Матвеева (Ярославова Медведя), как и графы Румянцевы
Рождена известная княжна Е.А.Мещерская была княгиней Е.Мещерской –Подборской (Гедеминовичи) уже после смерти её отца, Шталмейстера Двора Его Императорского Величества, князя А.В.Мещерского, Кавалера Ордена Андрея Первозванного, похороненного в имении Лотошино, перешедшем князьям Мещерским, как приданное княгини Натальи Матвеевой-Мещерской, от рода боярина Артамона Матвеева (Ярославова Медведя) - воспитателя Петра I.
Князь Василий Иванович Мещерский был женат на Наталье Андреевне Матвеевой (Мещерской), родная сестра которой - Мария Андреевна носила фамилию Румянцева (Наталья Андреевна Матвеева).
Главное богатство рода Мещерских, на что обращают внимание историки, произросло вот от этого брака князя Василия Ивановича Мещерского и Натальи Андреевны Матвеевой - внучки боярина Артамона Матвеева (Ярославова Медведя ) и его английской жены леди Гамильтон.
«Этот брак принёс Мещерским значительную часть состояния Матвеевых – угасшего боярского рода, могущественного в 17 веке. Как пишет Е. П. Карнович: “до того времени князья Мещерские, происходящие от завоевателя Мещеры, не были известны своим богатством”.
Родной сестрой хозяйки Лотошино была М. А. Румянцева, урождённая Матвеева, мать прославленного полководца фельдмаршала П. А. Румянцева - Задунайского».
Граф П.А. Румянцев-Задунайский, сын графини Марии Андреевны Румянцевой, урожденной Матвеевой, тоже был потомком боярина Артамона Сергеевича Матвеева (Ярославова Медведя), также как и его наследники Румянцевы.
Румянцевой была и жена Якова Брюса, по плану которого строился Петербург, изначально предполагавший сделать центром города именно остров Кронштадт. Супруга Брюса - Прасковья Румянцева – это дочь Марии Андреевны Матвеевой (Румянцевой) , внучки боярина Артамона и его леди Гамильтон.
Вот таким образом имение Лотошино благодаря браку Натальи Андреевны Матвеевой и князя Василия Ивановича Мещерского, отошло роду князей Мещерских.
А Кавалер ордена Андрея Первозванного князь А.В.Мещерский - отец княжны Е.А.Мещерской, родившейся в 1901 году, был прямым потомком от этого брака начала XVIII века, объединившего род боярина Матвеева (Ярославова Медведя) и род Мещерских, также как и сама княжна Е.А.Мещерская, которую называют родственницей предков моей мамы Тамары Анатольевны, вышедшей замуж за Бориса Романовича Ярославова ( «Горный геолог Борис Романович Ярославов и староверы - собственники российских приисков: какая «горная тайна» их роднит?»).
Санкт-Петербургское английское общество – наследие английский вигов боярина Артамона: князь А.И.Мещерский и Р.А.Кошелев. Опекун княжны Мещерской – князь С.Б.Мещерский и опекающий - Иркутский губернатор А.П.Игнатьев
Боярин Артамон Матвеев (Ярославов Медведь), дед княгини Натальи Матвеевой-Мещерской был главным источником английского влияния, поскольку, как сказано, супругой его была урожденная Гамильтон и в его доме собирались английские мореходы и коммерсанты. Наталья Нарышкина была его воспитанницей, и он сосватал её овдовевшему царю Алексею Михайловичу, от брака которых и родились царь Петр Алексеевич и Великая княжна Наталья Алексеевна.
Орден Андрея Первозванного Петр I учредил уже после его поездки в Лондон.
Членом Санкт-Петербургского английского общества, образовавшегося как расширенный состав общества, собиравшегося в доме у боярина Артамона Матвеева (Ярославова Медведя), был также князь Александр Иванович Мещерский, похороненный на Лазаревском кладбище Александро-Невской Лавры.
Член английского общества Петербурга почему-то не указан в росписи князей Мещерских, хотя рядом с усыпальницей Великой княжны Натальи Алексеевны хоронили самых родовитых и влиятельных представителей императорского двора. Ведь император Петр I видел усыпальницу, как «Пантеон Героев» в городе его имени.
При этом, рядом с могилой князя А.И.Мещерского находится погребение Р.А.Кошелева - члена Государственного Совета, супругой которого была В.И.Плещеева, сестра мистика и масона С.И.Плещеева.
Это я выделила для себя потому, что Плещеевы ещё одна фамилия в истории моих предков, имеющая важное значение.
А фамилию Кошелева носила не только супруга контр-адмирала И.Г.Черевина, члена Адмиралтейской коллегии в Петербурге, но её носила и моя родная тетя Г.А.Давиденко-Кошелева.
В книге Воспоминаний княжны Мещерской, не успевшей выехать из России, в отличие от брата Вячеслава (Париж) , рассказывается о том, что её опекуном был назначен князь Сергей Борисович Мещерский, камергер и член Совета Монархических Съездов. Членом этого Совета монархических съездов был и председатель Главного Совета СРН Н. Е. Марков ( Совет монархических съездов)
Участвовала в судьбе княжны Екатерины, оставшейся без отца ещё до её рождения и княгиня Мещерская-Игнатьева, супруга Алексея Павловича Игнатьева и дочь Апраксиной («Ярославовы из Ярославовой: «горсть Богатырского племени», 460 лет в предгорьях Урала. Архивы Уфимского головы Д.С.Волкова и Руфа Игнатьева»).
Генерал от кавалерии Алексей Павлович Игнатьев был губернатором не только Киевским, но и Иркутским, где позже и появились Мещерские - родственники моей бабушки К.Н.Марковой и, отданной в детстве под опеку, княжны Е.А.Мещерской.
Князю Сергею Борисовичу Мещерскому - опекуну новорожденной Екатерины перешел контроль над родовым имением Лотошино князей Мещерских – потомков боярина Артамона Матвеева (Ярославова Медведя). Его сестра - княгиня Е.Б.Мещерская-Гончарова.
Саратовское имение Мещерских - Мещерское (Архангельское) – возможное имение отца оставившего мало следов вице-адмирала С.М.Мещерского, соседнее с имением помещика Ярославова. Аксаковы-Ярославовы-Мещерские
Одним из братьев князя и опекуна Сергея Борисовича Мещерского был Алексей Борисович Мещерский - инженер путей сообщения, строитель портов в Петербурге и Николаеве, женатый на кн. М.А.Оболенской. А второй его брат - князь Борис Борисович Мещерский, Шталмейстер Двора Его Императорского Величества, занимавший должность Саратовского губернатора.
В Саратовской губернии, где вице-губернатором некогда был и сын вологодского А.Т.Ярославова - бригадир Т.А.Ярославов, знаменито имение князей Мещерских - Мещерское – Архангельское («Масонская табакерка Ярославовой - Брянчаниновой, Академия Наук Петра I, Дубровицы и Архангельское»).
Это один из «узлов», где встречались Ярославовы и Мещерские, их потомки и боковые линии, продвигавшиеся на восток.
В статье 2011 года я упоминала это имение Мещерское ( Архангельское) в такой редакции:
«Ярославов помещик купил с торгов у Неелова 510 десятин (с. Стар.-Бурас), ранее принадлежавших татарскому князю Агишеву. СОСЕДИ 18 век: В Стар.- Бурасовской вол. находится д. Борисовка, принадлежавшая графу Воронцову-Дашкову… С. Старо-Мещерское (Архангельское) - кн. И. В. Мещерскому. От этого князя село перешло к племяннику его И. В. Головину…» (Саратов 1798 год. «Катакомбная Русь»: вотчины, имения).
Село Мещерское (Архангельское) «основано в 1700–03 годах князем М.В. Мещерским на землях, пожалованных ему в 1696. Крестьяне завезены из Саранского и Пронского уездов. От него село перешло к племяннику Мещерского И.В.Головину. В 1756 построена церковь в честь Михаила Архангела. Другое светское название, употреблявшееся до конца 19 века, – Старомещерское».
В настоящее время село относится к Пензенской области (Мещерское (Архангельское).
Князь Михаил Васильевич Мещерский, основавший саратовское имение Мещерское (Архангельское) - возможно (по инициалам и датам) отец вице-адмирала князя Степана Михайловича Мещерского (1700-1775), о котором мало сведений в 18-20 веках.
Второй женой князя Михаила Васильевича Мещерского называют вдову Румянцеву, состоявшую в вероятном родстве с Марией Андреевной Матвеевой (Румянцевой) - матерью Румянцева – Задунайского.
У князя М.В.Мещерского было пять братьев и одна сестра (Терентий, Степан, Дмитрий, Ефим Григорий и Ирина - дети кн.Василия Мещерского).
Карьеру сделал лишь один сын - вице-адмирал князь Степан Михайлович Мещерский, также имевший много сестер и братьев. Князья Мещерские были плодовиты. О других братьях и сестрах адмирала информации нет.
И отчего-то не написали, как сказано, в XVIII-XX веках отдельной статьи , посвященной адмиралу С.М.Мещерскому. Причина такая же, как в случае с князем А.И.Мещерским, похороненным на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры? Или - противоположная. Детей в росписи (генеалогических таблицах) князей Мещерских у адмирала князя С.М.Мещерского тоже не показано.
По другим источникам был также князь Платон Степанович Мещерский (1713-1799) - Казанский губернатор, управлявший Сибирским наместничеством и Малороссией. Но сыном, с учетом дат, он быть не мог. Маловероятно, что вице-адмирал 1700 года рождения и Казанский губернатор 1713 года рождения находились с отцовско-сыновьих отношениях.
А вот в судьбе Казанского губернатора и Сибирского наместника князя Платона Степановича Мещерского принимали участие Румянцевы - потомки боярина Артамона Матвеева (Ярославова-Медведя ).
Поэтому, скорее, он сын князя Степана Васильевича Мещерского – брата собственника Саратовского имения Мещерское (Архангельское).
Его сын князь Петр Платонович Мещерский был в браке с Александров Николаевной Аксаковой – родной сестрой Анны Николаевны Аксаковой-Ярославовой. Это дочери и сестры Ярославских губернаторов.
Опекун княжны Е.А.Мещерской - князь Сергей Борисович Мещерский и его родственники, Оболенские, Ливен, Лазаревы
Опекун княжны Екатерины Князь Сергей Борисович Мещерский был рожден от брака князя Бориса Васильевича Мещерского - Тверского губернского предводителя дворянств и княгини Софьи Васильевны Оболенской - внучки А.И.Мусина - Пушкина, близкого к кругу вологодского А.Т.Ярославова (Кн. Б.В.Мещерский похоронен в Царском селе).
Сам князь Борис Васильевич Мещерский – важная фигура в этой истории, родился от брака князя Василия Ивановича Мещерского и баронессы Натальи Борисовны Мещерской. Княгиня Наталья Борисовна Мещерская - урожденная Шарлотта Вильгельмина фон Фитингоф. Наталья Борисовна - её имя в крещении. Она дочь княгини (баронессы) Ливен, воспитательницы детей императора Павла I.
Сестра князя Василия Ивановича Мещерского - княгиня Мария Ивановна Мещерская была супругой Ивана Николаевича Гончарова, родного брата Натальи Гончаровой-Пушкиной (во втором браке Ланской).
Имение Гончаровых находилось рядом с Лотошино около Волока Ламского.
Это родство приблизило их к ещё одному «узлу» - Царскому селу ( ныне Пушкино), с которым плотно связана судьба потомка контр-адмирала И.Г.Черевина - генерала П.А.Черевина, правнука М.М.Ярославовой-Черевиной, основателя Охраны императора.
Матерью опекуна князя Сергея Борисовича, о чем сказано выше, была урожденная Оболенская Софья Васильевна.
И, вероятно, поэтому женихом княжны Екатерины Александровны Мещерской прочили Михаила Оболенского, как это описывается в её воспоминаниях. Но революция сломала эти планы. Перед революцией браки Мещерских и Оболенских были не редкими.
Супружество опекуна князя Сергея Борисовича Мещерского, как видится, не мало повлияло на судьбу доверенной ему подопечной - княжны Екатерины Мещерской.
Двухэтажные церкви: боярина Артамона Матвеева (Ярославова Медведя) в Артамоновом (Армянском) переулке и в Лавре Александра Ярославича Невского
Женой князя С.М.Мещерского была княгиня Екатерина Семеновна Абамелек-Лазарева (1856-1927), дочь кн. Семена Давыдовича Абамелек-Лазарева и Елизаветы Христофоровны Лазаревой.
В статье о боярине Артамоне Матвееве (Ярославове Медведе) и истории основания Петербурга, начиная с его плана, я писала о том,как переулок имени боярина Артамонова был переименован в Армянский переулок, где в настоящее время находится посольство Армении в России.
И это не выглядит благодарностью за то, что некогда коммерсант Л.Н.Лазарян, появившийся в России после дипломатических успехов министра иностранных дел боярина Артамона Сергеевича Матвеева (Ярославова Медведя) в переговорах с персидским шахом Аббасом II, обосновался рядом с построенной Артамоном Матвеевым церковью и очень быстро разбогател.
Продолжение http://yaroslavova.ru/main.mhtml?Part=15&PubID=1102
|
Метки: мещерские |
Ливен, Наталья Фёдоровна |
Ливен, Наталья Фёдоровна

Статья из Википедии.
Вы можете улучшить статью, исправив и дописав ее.
| Наталья Фёдоровна Ливен | |
 |
|
| Дата рождения: | 10.09.1842 |
| Дата смерти: | 14.01.1920 |
| Род деятельности: | религиозный деятель, меценат |
| Супруг(-а): | Павел Иванович Ливен |
Светлейшая княгиня Наталья Федоровна Ливен (урожд. графиня Пален; 10 сентября 1842, Гофцумберг — 14 января 1920, село Сергеевское, Тульской губернии) - фрейлина, меценатка, одна из руководителей петербургской общины евангельских—христиан (пашковцев, прохановцев). Внучка графа Г. И. Чернышёва и графа П. А. Палена.
Содержание
Биография
Младшая дочь графа Фёдора Петровича Палена(1780–1863), дипломата, действительного тайного советника, от его брака с графиней Верой Григорьевной Чернышёвой (1808—1880). Будуче фрейлиной, 20 октября 1871 года в Риге вышла замуж за князя Павла Ивановича (Пауля Германа) Ливена (1821—1881), тайного советника, служившего обер-церемониймейстером при императорском дворе.
Религиозная деятельность
Еще до своего замужества Наталья Фёдоровна посетила в Лондоне молитвенное собрание в доме отставного министра Блеквуда, где впервые услышала лорда Редстока[1]. Позже, в 1874 году Редсток приехал в Петербург и начал пропагандировать свои идеи в великосветской среде. Одним из его горячих приверженцев оказался известный богач В. А. Пашков, сплотивший вокруг себя группу единомышленников. Активную помощь Пашкову оказывала княгиня Ливен и ее старшая сестра, Вера Фёдоровна (1835—1923) в замужестве княгиня Гагарина.
Во дворце княгини Ливен (ул. Большая Морская, д. 43) постоянно проходили различные собрания верующих, и гости могли видеть, как за одним столом сидят и аристократы, и простые конюхи. Здесь начинал свою проповедническую деятельность Иван Степанович Проханов. В доме Наталье Фёдоровны часто останавливались известные деятели российского евангельского движения, такие как доктор Фридрих Бедекер, Иван Вениаминович Каргель.
Имея доступ к царской семье и некоторым членам правительства, княгиня Ливен содействовала распространению Евангелия тем, что получала разрешения на проповедь, например, в тюрьмах. Из-за своего близкого знакомства с императорским домом ей единственной дозволили проводить евангельские встречи во время гонений 1884-1887 гг. В своих воспоминаниях ее дочь Софья Павловная писала по этому поводу[2]:
"Приехал к моей матери генерал-адъютант государя с поручением передать ей его волю, чтобы собрания в ее доме прекратились. Моя мать, всегда заботившаяся о спасении душ ближних, начала говорить генералу о его душе и о необходимости примириться с Богом и подарила ему Евангелие. Потом в ответ на его поручение сказала: "Спросите у его императорского величества, кого мне больше слушаться: Бога или государя?" На этот своеобразный и довольно смелый вопрос не последовало никакого ответа. Собрания продолжались у нас, как и прежде. Моей матери позже передали, будто государь сказал: "Она вдова, оставьте ее в покое"
Н. Ф. Ливен с детьми
Княгиня Ливен использовала свое состояние, чтобы помочь неимущим, открывала швейные мастерские для бедных женщин, занималась обучением детей. В 1905 году в её доме проводились первые Библейские курсы продолжительностью шесть недель. Эти курсы должны были стать основой для систематического богословского образования, необходимого новообразовавшимся общинам. После революции Наталья Федоровна не эмигрировала из России. Она жила с младшей дочерью и сестрой в семейной вотчине князей Гагариных в селе Сергиевском (ныне г. Павловск), где в январе 1920 года скончалась.
Дети
В браке имела пять детей:
- Анатолий Павлович (1873—1937), выпускник юридического факультета, активный участник Белого движения, полковник.
- Павел Павлович (1875—1963), умер в эмиграции в Лондоне.
- Мария Павловна (1877—1907), не замужем, умерла в Лозанне.
- Александра Павловна (1879—1974), в 1924 году в Париже вышла замуж за Kynaston Studd.
- Софья Павловна (1880—1964), активный член Церкви евангельских христиан-баптистов, 1930 году была арестована и приговорена к пяти годам ссылки. Позднее эмигрировала во Францию, автор книги «Духовное пробуждение в России».
Источники
- ↑ Христианская мысль: социология, политическая теология, культурология. Том III.— СПб., 2004.
- ↑ Ливен С.П. - Духовное пробуждение в России. Чикаго, 1986
Литература
- Каретникова М. С. - История петербургской церкви евангельских христиан-баптистов // Альманах по истории русского баптизма. Вып. 2. СПб., Библия для всех, 2001.
|
Метки: ливен |