-Метки
sol invictus Деметра Зодиак агатодемон алконост алфей амон анджети анубис апис аполлон артемида атаргатис афина ахелой ба баст бес бог большая медведица бримо бык велес венок оправдания виктория гарпократ геката гелиакический восход сириуса гемма гений георгий геракл герма гермес герои гигиея гор горгона греция двуглавый орёл дедал дельфиний дионис египет жезл жертвоприношение загрей зевс змеевики иакх изида истера иштар кадуцей кастор кербер керы лабиринт лабранды лабрис лары латона лев лето маат маахес мелькарт менады меркурий метемпсихоз мистерии митра мозаика наос немесида ника нумерология нумизматика оргии орфей орфики осирис офоис пан пасха персей персефона посох поэтика пруденция птах ра рим русалки сатир серапис сет сехмет силен сирены сирин сириус скипетр сосиполь сотис средневековая астрономия тирс титаны тифон туту уннефер упуаут фиала фивы фракия хапи хатхор хеб-сед хнубис хорс христианство черная мадонна эвмениды эгида эпагомены эридан этимология этруски юпитер
-Поиск по дневнику
-Постоянные читатели
Dark_Freedom HatoriRA Jemalukas LAIMA852 Lapsazzz LenaEva Mariy_Remi_74 NGDkruger Nekto_Lukas SPACELilium Syroizhka_Igor Tvona _Vikochka_the_sun_ andrusolo arthuur bester4ik dimasyfa dzonya1 evg702 ghjcnjnfr globalfloor gmpet keltongons mastermonogram mushkef-99 vspider Абап Амари_Тиа_Айя Геркен Добра_Желаю ЖрицаАтлантиды И_2017900 Ириния Лана_77 Мелнир Нателла_Климанова Ноэли Рельгона Соккар Эллана_143 владимир20161971 любитель_оперы сый
-Статистика
АНТИЧНЫЕ АВТОРЫ О ЕГИПТЕ |
МАКРОБИЙ «САТУРНАЛИИ» Кн. I
О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ В ЕГИПТЕ
14. Хор, глядя на Авиена, которого он имел обыкновение по-дружески посещать, сказал: «При почитании этого Сатурна, которого вы называете главой богов, ваши обряды отличаются от [обрядов] благочестивейшего племени египтян. Ведь те не принимали в святилища храмов ни Сатурна, ни [даже] самого Сараписа вплоть до кончины Александра Македонского. [Но] после него, подавленные самовластием Птолемеев, они были вынуждены принять также [и] этих богов для поклонения по обычаю александрийцев, у которых их особенно почитали.
15. Однако они повиновались власти таким образом, что совершенно не нарушили правила своего богослужения. Ведь так как египтянам никогда не дозволялось умилостивлять богов скотом или кровью, но только молитвами и курением [благовоний] — а этим двум пришлым богам [Сатурну и Серапису] жертвы надлежало приносить согласно обычаю, — их святилища (fana) поместили за городскою чертой, дабы кровью торжественного жертвоприношения божествам воздавалась должная честь и городские храмы не осквернялись смертью животных. Таким образом, ни один город Египта не принял внутрь своих стен святилище и Сатурна, и Сараписа.
16. Одного из этих богов, [Сараписа], я знаю, вы [также] приняли с трудом и насилу, но Сатурна вы прославляете среди прочих [богов] даже с величайшим почтением».
ОБ ИЗОБРАЖЕНИИ СОЛНЦА
XVIII..10. Это различие времен года относится и к солнцу, так как в период зимнего солнцестояния оно представляется младенцем, какового египтяне в известный день выносят из святилища, ибо в этот наикратчайший день [солнце] кажется как бы безгласным младенцем; потом, к весеннему равноденствию, выросши (procedentibus augmentis) оно как подросток набирается сил и украшается образом юноши; после, во время летнего солнцестояния, его наиполнейший возраст отмечается изображением [мужа] с бородой, ибо в это время следует его [sc. солнца] высшая точка (summum augmentum); после же, убывая, бог [солнце] изображается в четвертом облике — старца (senescenti quarta forma).
[Меркурий-Гермес изображается крылатым потому, что это символизирует стремительность солнца, а еще Меркурий символизирует разум, а разумом мира является солнце. В связи с этим Гомер называет мысль-разум крылатой. Поэтому крыла Гермеса изображают природу солнца].
XIX..9. По этой причине египтяне создают изображения самого пресветлого солнца, снабдив их перьями, цвет которых неодинаков: одни изображения украшены темным цветом, другие — светлым. Из них светлые [изображения солнца] называют высшими, а темные — низшими. Наименование же «темное» солнцу дается тогда, когда оно стремит свой бег в нижнем полушарии, т.е. служит предвестником зимы, а «светлое» — когда оно обходит летнюю часть зодиакального круга. Поэтому и о Гермесе, помимо прочих преданий, есть и такое, что он считается посредником и вестником среди высших и низших богов.
Кроме того, он именуется Аргусоубийцей, но не потому, что убил Аргуса, имевшего, как рассказывают, множество глаз на всей голове и сторожившего по приказу Геры дочь Инаха (Ио), соперницу сей богини, обращенную в корову, а потому что в этом предании Аргус означает небо, украшенное светом звезд, которые кажутся как бы небесными глазами. Аргусом же небо, как считается, называют за блеск и стремительность (παρά τὸ λευκὸν καὶ ταχύ). И посему кажется, что оно наблюдает за землей, каковую египтяне, желая изобразить иероглифами, обозначают фигурой быка. Так вот, рассказывают, что Аргус, обходящий небо по кругу и украшенный сиянием звезд, был убит Гермесом, поскольку солнце, ослабляя сияние звезд днем, как бы убивает их, силою своего света лишая смертных возможности видеть их.
Изображения же Гермеса по преимуществу делаются в квадратном виде с головой, украшенной солнцем, и подъятым удом; сия фигура означает, что солнце есть глава и родитель вещей, а вся его сила пребывает не на службе у различных членов тела, но заключена в одном лишь разуме, вместилищем коего является голова. Четыре же стороны [изображению] придают по той же причине, по которой считают, будто тетрахорд¹ присущ Гермесу. В действительности же это число (четыре) означает или таковое же количество областей земли, или четыре сезона, кои включает в себя год, или то, что зодиак в целом разделен на два солнцестояния и два равноденствия — подобно тому, как лиру Аполлона о семи струнах разумнее представлять как [символ] такого [т.е. семичастного] вращения небесных сфер, управителем над которыми природа установила солнце.
_________________________
[1] τετράχορδον (τετρά-χορδον) τό тетрахорд
1) четырехструнный музыкальный инструмент Arst.
2) диапазон в два с половиной тона Plut.
То, что в образе Гермеса почитается солнце, также очевидно и благодаря кадуцею, который египтяне изображают в виде сопряжения двух змей — самца и самки, — посвященных Гермесу. Эти змеи посредине переплелись своими телами в узел, который именуют геркулесовым, и их верхние части, загибаясь в круг, прижимаются друг к другу в поцелуе; а хвосты, под узлом [образуемым переплетением их тел], отведены к рукояти кадуцея и украшены растущими со стороны этой рукояти крылами. Египтяне рассказывают о кадуцее в связи с рождением человека, которое называется γένεσις, следующее: боги-защитники появившегося на свет человека приставляют к нему четырех напоминателей (memorantes) — Δαίμων, Τύχη, Ἔρωτος, Ἀνάγκη²: под двумя первыми подразумевают солнце и луну, ибо солнце — творец тепла и света, родитель и охранитель человеческой жизни, а потому для новорожденного он, как верят, Δαίμων, то есть бог; луна же является Τύχη (богиня судьбы) потому, что она — покровительница тел, которые волею случая бросаемы туда и сюда (corporum praesul est quae fortuitorum varietate iactantur); любовь-эрос символизируется поцелуем [змей на кадуцее]; неизбежность-Ананке — узлом. Для чего изображаются перья, было разъяснено выше. А узел сплетенных змей выбран [символом] потому, что путь обоих светил — извилист.
_________________________
[2] δαίμων, (-ονος) ὁ и ἡ
1) бог, богиня;
2) божество (преимущ. низшего порядка) — дух, гений, демон;
3) (тж. δαίμονος τύχη Pind., τύχη δαιμόνων Eur., δ. καὴ τύχη Aeschin., Dem. и τύχη καὴ δαίμονες Plat.) божеское определение, роковая случайность;
4) злой рок, несчастье;
5) душа умершего;
Τύχη, дор. Τύχα ἡ Тиха, богиня случая, судьбы и счастья Pind., HH., Hes., Plut.
Ἔρως, (-ωτος), иногда pl. Ἔρωτες ὁ Эрот, бог любви и (преимущ.) страсти;
ἀνάγκη, дор. ἀνάγκα ἡ
1) необходимость, неизбежность;
2) предопределение (свыше), судьба, рок;
3) закономерность, закон.
ЯМВЛИХ ХАЛКИДСКИЙ «О ЕГИПЕТСКИХ МИСТЕРИЯХ»
3. Поскольку всякая частица небес, всякий знак зодиака, всякое небесное движение и всякое время, в продолжение которого движется космос и все вообще воспринимает нисходящие от Солнца силы, частью соединяющиеся с перечисленным, а частью стоящие превыше смешения с ним, то символический способ знаменования дает представление и о них, обозначая в своих речениях изменение их формы в зависимости от знаков зодиака и перемену их облика в зависимости от времени года и показывая неизменное, постоянное, не оскудевающее, всестороннее и всеобщее, исходящее от Солнца дарование всему космосу. Однако поскольку разные воспринимающие предметы движутся вокруг неделимого божественного дарования по-разному и сами приемлют разнородные силы Солнца в соответствии со своими собственными движениями, то вследствие этого символическое восприятие стремится единого бога показать при посредстве множества даруемых им предметов, а его единую силу представить как многообразие сил. Потому оно и утверждает, что он един и один и тот же, а замену и преобразование его внешнего облика относит на счет воспринимающих его предметов. Потому-то оно и говорит, что он изменяется в зависимости от знаков зодиака и от времен года, поскольку эти предметы принимают разнообразные очертания по отношению к богу в согласии со многими способами его восприятия. С такими молитвами египтяне обращаются к Солнцу не только при его непосредственном узрении, но и в более обыденных мольбах, которые обладают подобным смыслом и возносятся к богу в подобном символическом таинстве.
2. Превыше истинно сущего и всех начал стоит единый бог, превосходящий даже первого бога и царя, пребывающий неподвижным в единстве собственной единичности. Ведь к нему не примешивается ни умопостигаемое, ни что-либо другое. Наличествует некая парадигма своего собственного прародителя, своего собственного потомка и единого порождающего бога, истинного блага. Ведь она является чем-то весьма великим и изначальным, источником всего и основанием первых существующих мыслимых идей. Благодаря этому единому не нуждающийся в посторонней помощи бог освещает самого себя, и потому-то он и является прародителем самого себя и не нуждается в посторонней помощи. Ведь он — начало и бог богов, единица из единого, предсущность и начало сущности. Ибо от него — сущностность и сущность, почему именно он и называется прародителем сущности. Ведь он сам — предсущее сущее, начало умопостигаемого, почему он и именуется властителем ума. Итак, вот каковы важнейшие начала всего, которые Гермес ставит превыше эфирных, огненных и небесных богов, посвятив сто книг исследованию огненных богов, и равное им число — исследованию эфирных, и тысячу — небесных.
3. В соответствии с другим порядком он ставит первым бога Эмефа (Ἠμήφ, герметический бог, повелитель небесных богов), повелевающего небесными богами, который, как он утверждает, есть ум, мыслящий самого себя и обращающий свои мысли на самого себя. Впереди него он ставит единое, неделимое и, как он говорит, «первое воспринятое дитя», которого и именует Эйктоном (герметическое божество). Именно в нем пребывает первое мышление и первое умопостигаемое, которое и получает поклонение только при посредстве молчания. Вслед за ними во главе созидания видимых предметов стоят другие вожди. Ведь творящий ум, покровитель истины и мудрости, приходящий к становлению и выводящий на свет неявную силу скрытых смыслов, на языке египтян называется Аммоном, тот, кто не ложно, искусно и истинно созидает отдельное — Фта (эллины заменяют Фта [егип. Ptḥ]) на Гефеста, приписывая ему власть только в области искусства), а тот, кто создает блага, зовется Осирисом или же получает другие наименования вследствие иных своих способностей и действий.
Далее, у египтян существует и некое иное начальствование над всеми стихиями становления и заключенными в них силами, четырьмя мужскими и четырьмя женскими (согласно гермопольской космогонии: Нун и Наунет (Хаос), Ху и Хаухет (Бесконечность), Кук и Каукет (Мрак), Амон и Амаунет (Безвидность), которое они считают принадлежащим Солнцу. Имеется и иное начало всей становящейся природы, которое они относят на счет Луны. Расчленяя небеса на две, четыре, двенадцать, тридцать шесть или вдвое больше того частей или же разделяя их как-то иначе, они устанавливают большее или меньшее начальствование над этими частями и предпосылают всем им того единственного, который стоит превыше их. Таким образом, представление египтян о началах — от самых высших до самых низших — опирается на единое и достигает множества, в то время как многое, в свою очередь, управляется единым и повсюду неопределенная природа подчиняется власти некоей определенной меры и высшей, единственной из всех причины. Материю же бог произвел из сущностности подразделенной материальности; восприняв ее, исполненную жизни, демиург и сотворил на ее основе простые и бесстрастные сферы (небесные сферы), а худшее в ней упорядочил в виде рождающихся и гибнущих тел.
[Книги], которые находятся в обращении как принадлежащие Гермесу, охватывают герметические мнения, даже если зачастую написаны философским языком, ибо они переведены с египетского языка людьми, не чуждыми философии. Херемон же и другие авторы, которые касаются первых космических причин, истолковывают низшие начала. Далее, все те, кто излагает сведения о планетах, зодиаке, деканах, гороскопах и о так называемых властителях и вождях, ведут речь о частных распределениях начал. И книги в Салмесхиниаках охватывают мельчайшую часть герметических заветов. Также и сочинения о звездах, о восходах или закатах Солнца или о приращениях или убываниях Луны в числе этих книг были причастны египетскому исследованию причин. Далее, египтяне не говорят, что все вещи являются природными, но выделяют и душевную, и умную жизнь из природы, причем не только в отношении мироздания, но и в отношении нас самих. Поставив на первое место ум и рассудок, существующие сами по себе, они утверждают, что таким образом созидаются возникающие вещи. Они ставят впереди демиурга — праотца становящихся вещей — и познают предшествующую небесам и заключенную в небесах жизненную силу. Они заранее располагают превыше космоса чистый ум: и один, неделимый по всему космосу, и другой, разделенный по всем космическим сферам. И они не только умосозерцают это в пустом словопрении, но и предписывают в ходе жреческой теургии перед лицом бога и демиурга восходить к высшим, всеобщим и превосходящим рок вещам, не привлекая на свою сторону материю и не воспринимая, помимо этого, ничего другого, кроме разве что соблюдения надлежащей меры.
6. Итак, как ты говоришь, большинство египтян то, что обращено к нам, поставили в зависимость от движения звезд. Нужно предоставить тебе более детальное истолкование истинного положения дел, исходя из герметических представлений. Ибо человек, как гласят эти книги, имеет две души: одна существует благодаря первому умопостигаемому и причастна силе демиурга, а другая вкладывается круговращением небес, в которое дополнительно привнесена богосозерцающая душа. Поскольку это на самом деле так, душа, нисходящая к нам из космоса, следует его круговращениям, а та, что умно присутствует благодаря умопостигаемому, превосходит созидающее становление окружение, и благодаря ей возникает и освобождение от рока, и восхождение к умопостигаемым богам, и вся та теургия, которая возносится к нерожденному, совершается в соответствии с подобной жизнью.
7. Стало быть, уже не все, как ты ошибочно полагаешь, заковано в нерасторжимые оковы необходимости, которую мы называем роком. Ведь душа обладает собственным началом для восхождения к умопостигаемому, отстранения от возникающих вещей и соприкосновения с сущим и божественным. Мы не приписываем подвластность року также самим богам, которым мы поклоняемся и в храмах, и в виде изваяний, как освободителям от рока. Наоборот, боги уничтожают рок, а худшие природы, отпадающие от них и переплетающиеся со становлением космоса и с телом, вершат рок. Следовательно, мы по справедливости совершаем всяческое священное служение в честь богов, чтобы они, единственные повелители необходимости, в разумном убеждении уничтожили назначенное роком зло.
Впрочем, не все заточено в природу рока; напротив, существует и другое начало души, стоящее превыше всякой природы и порождения, на основании которого мы в состоянии достигать единения с богами, возвышаться над космическим порядком и принимать участие в вечной жизни и деятельности наднебесных богов. Именно на основании его мы в состоянии освободить самих себя. Ведь всякий раз, когда оказывает свое воздействие лучшее в нас и душа возносится к тому, что превосходит ее, она всецело обособляется оттого, что привязывает ее к становлению, отстраняется от худшего, меняет одну свою жизнь на другую и посвящает себя иному порядку, совершенно оставив первоначальный.
8. Так что же? Можно освободить себя при посредстве движущихся по кругу богов — и полагать тех же самых богов определяющими судьбу и заковывающими жизни в нерасторжимые оковы? Пожалуй, ничто не препятствует даже тому, чтобы в богах, притом что они заключают в себе множество сущностей и сил, наличествовали и другие, причем непреодолимые, различия и противоречия. Впрочем, можно сказать также и то, что в каждом из богов, пусть даже и в видимом, присутствуют некие умопостигаемые начала сущности, при посредстве которых для душ наступает освобождение от космического становления. И, следовательно, если бы кто-нибудь выделял два рода богов — космических и сверхкосмических, то освобождение для душ будет существовать при посредстве сверхкосмических. В трактатах же о богах более детально рассматривается то, какие из них являются возвышающими и в соответствии с какими своими силами, каким образом они уничтожают рок и при посредстве каких жреческих обращений, каков порядок космической природы и каким образом над ней властвует наисовершеннейшее умное действие.
_______________________________
О ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ В ЕГИПТЕ
14. Хор, глядя на Авиена, которого он имел обыкновение по-дружески посещать, сказал: «При почитании этого Сатурна, которого вы называете главой богов, ваши обряды отличаются от [обрядов] благочестивейшего племени египтян. Ведь те не принимали в святилища храмов ни Сатурна, ни [даже] самого Сараписа вплоть до кончины Александра Македонского. [Но] после него, подавленные самовластием Птолемеев, они были вынуждены принять также [и] этих богов для поклонения по обычаю александрийцев, у которых их особенно почитали.
15. Однако они повиновались власти таким образом, что совершенно не нарушили правила своего богослужения. Ведь так как египтянам никогда не дозволялось умилостивлять богов скотом или кровью, но только молитвами и курением [благовоний] — а этим двум пришлым богам [Сатурну и Серапису] жертвы надлежало приносить согласно обычаю, — их святилища (fana) поместили за городскою чертой, дабы кровью торжественного жертвоприношения божествам воздавалась должная честь и городские храмы не осквернялись смертью животных. Таким образом, ни один город Египта не принял внутрь своих стен святилище и Сатурна, и Сараписа.
16. Одного из этих богов, [Сараписа], я знаю, вы [также] приняли с трудом и насилу, но Сатурна вы прославляете среди прочих [богов] даже с величайшим почтением».
ОБ ИЗОБРАЖЕНИИ СОЛНЦА
XVIII..10. Это различие времен года относится и к солнцу, так как в период зимнего солнцестояния оно представляется младенцем, какового египтяне в известный день выносят из святилища, ибо в этот наикратчайший день [солнце] кажется как бы безгласным младенцем; потом, к весеннему равноденствию, выросши (procedentibus augmentis) оно как подросток набирается сил и украшается образом юноши; после, во время летнего солнцестояния, его наиполнейший возраст отмечается изображением [мужа] с бородой, ибо в это время следует его [sc. солнца] высшая точка (summum augmentum); после же, убывая, бог [солнце] изображается в четвертом облике — старца (senescenti quarta forma).
[Меркурий-Гермес изображается крылатым потому, что это символизирует стремительность солнца, а еще Меркурий символизирует разум, а разумом мира является солнце. В связи с этим Гомер называет мысль-разум крылатой. Поэтому крыла Гермеса изображают природу солнца].
XIX..9. По этой причине египтяне создают изображения самого пресветлого солнца, снабдив их перьями, цвет которых неодинаков: одни изображения украшены темным цветом, другие — светлым. Из них светлые [изображения солнца] называют высшими, а темные — низшими. Наименование же «темное» солнцу дается тогда, когда оно стремит свой бег в нижнем полушарии, т.е. служит предвестником зимы, а «светлое» — когда оно обходит летнюю часть зодиакального круга. Поэтому и о Гермесе, помимо прочих преданий, есть и такое, что он считается посредником и вестником среди высших и низших богов.
Кроме того, он именуется Аргусоубийцей, но не потому, что убил Аргуса, имевшего, как рассказывают, множество глаз на всей голове и сторожившего по приказу Геры дочь Инаха (Ио), соперницу сей богини, обращенную в корову, а потому что в этом предании Аргус означает небо, украшенное светом звезд, которые кажутся как бы небесными глазами. Аргусом же небо, как считается, называют за блеск и стремительность (παρά τὸ λευκὸν καὶ ταχύ). И посему кажется, что оно наблюдает за землей, каковую египтяне, желая изобразить иероглифами, обозначают фигурой быка. Так вот, рассказывают, что Аргус, обходящий небо по кругу и украшенный сиянием звезд, был убит Гермесом, поскольку солнце, ослабляя сияние звезд днем, как бы убивает их, силою своего света лишая смертных возможности видеть их.
Изображения же Гермеса по преимуществу делаются в квадратном виде с головой, украшенной солнцем, и подъятым удом; сия фигура означает, что солнце есть глава и родитель вещей, а вся его сила пребывает не на службе у различных членов тела, но заключена в одном лишь разуме, вместилищем коего является голова. Четыре же стороны [изображению] придают по той же причине, по которой считают, будто тетрахорд¹ присущ Гермесу. В действительности же это число (четыре) означает или таковое же количество областей земли, или четыре сезона, кои включает в себя год, или то, что зодиак в целом разделен на два солнцестояния и два равноденствия — подобно тому, как лиру Аполлона о семи струнах разумнее представлять как [символ] такого [т.е. семичастного] вращения небесных сфер, управителем над которыми природа установила солнце.
_________________________
[1] τετράχορδον (τετρά-χορδον) τό тетрахорд
1) четырехструнный музыкальный инструмент Arst.
2) диапазон в два с половиной тона Plut.
То, что в образе Гермеса почитается солнце, также очевидно и благодаря кадуцею, который египтяне изображают в виде сопряжения двух змей — самца и самки, — посвященных Гермесу. Эти змеи посредине переплелись своими телами в узел, который именуют геркулесовым, и их верхние части, загибаясь в круг, прижимаются друг к другу в поцелуе; а хвосты, под узлом [образуемым переплетением их тел], отведены к рукояти кадуцея и украшены растущими со стороны этой рукояти крылами. Египтяне рассказывают о кадуцее в связи с рождением человека, которое называется γένεσις, следующее: боги-защитники появившегося на свет человека приставляют к нему четырех напоминателей (memorantes) — Δαίμων, Τύχη, Ἔρωτος, Ἀνάγκη²: под двумя первыми подразумевают солнце и луну, ибо солнце — творец тепла и света, родитель и охранитель человеческой жизни, а потому для новорожденного он, как верят, Δαίμων, то есть бог; луна же является Τύχη (богиня судьбы) потому, что она — покровительница тел, которые волею случая бросаемы туда и сюда (corporum praesul est quae fortuitorum varietate iactantur); любовь-эрос символизируется поцелуем [змей на кадуцее]; неизбежность-Ананке — узлом. Для чего изображаются перья, было разъяснено выше. А узел сплетенных змей выбран [символом] потому, что путь обоих светил — извилист.
_________________________
[2] δαίμων, (-ονος) ὁ и ἡ
1) бог, богиня;
2) божество (преимущ. низшего порядка) — дух, гений, демон;
3) (тж. δαίμονος τύχη Pind., τύχη δαιμόνων Eur., δ. καὴ τύχη Aeschin., Dem. и τύχη καὴ δαίμονες Plat.) божеское определение, роковая случайность;
4) злой рок, несчастье;
5) душа умершего;
Τύχη, дор. Τύχα ἡ Тиха, богиня случая, судьбы и счастья Pind., HH., Hes., Plut.
Ἔρως, (-ωτος), иногда pl. Ἔρωτες ὁ Эрот, бог любви и (преимущ.) страсти;
ἀνάγκη, дор. ἀνάγκα ἡ
1) необходимость, неизбежность;
2) предопределение (свыше), судьба, рок;
3) закономерность, закон.
ЯМВЛИХ ХАЛКИДСКИЙ «О ЕГИПЕТСКИХ МИСТЕРИЯХ»
3. Поскольку всякая частица небес, всякий знак зодиака, всякое небесное движение и всякое время, в продолжение которого движется космос и все вообще воспринимает нисходящие от Солнца силы, частью соединяющиеся с перечисленным, а частью стоящие превыше смешения с ним, то символический способ знаменования дает представление и о них, обозначая в своих речениях изменение их формы в зависимости от знаков зодиака и перемену их облика в зависимости от времени года и показывая неизменное, постоянное, не оскудевающее, всестороннее и всеобщее, исходящее от Солнца дарование всему космосу. Однако поскольку разные воспринимающие предметы движутся вокруг неделимого божественного дарования по-разному и сами приемлют разнородные силы Солнца в соответствии со своими собственными движениями, то вследствие этого символическое восприятие стремится единого бога показать при посредстве множества даруемых им предметов, а его единую силу представить как многообразие сил. Потому оно и утверждает, что он един и один и тот же, а замену и преобразование его внешнего облика относит на счет воспринимающих его предметов. Потому-то оно и говорит, что он изменяется в зависимости от знаков зодиака и от времен года, поскольку эти предметы принимают разнообразные очертания по отношению к богу в согласии со многими способами его восприятия. С такими молитвами египтяне обращаются к Солнцу не только при его непосредственном узрении, но и в более обыденных мольбах, которые обладают подобным смыслом и возносятся к богу в подобном символическом таинстве.
2. Превыше истинно сущего и всех начал стоит единый бог, превосходящий даже первого бога и царя, пребывающий неподвижным в единстве собственной единичности. Ведь к нему не примешивается ни умопостигаемое, ни что-либо другое. Наличествует некая парадигма своего собственного прародителя, своего собственного потомка и единого порождающего бога, истинного блага. Ведь она является чем-то весьма великим и изначальным, источником всего и основанием первых существующих мыслимых идей. Благодаря этому единому не нуждающийся в посторонней помощи бог освещает самого себя, и потому-то он и является прародителем самого себя и не нуждается в посторонней помощи. Ведь он — начало и бог богов, единица из единого, предсущность и начало сущности. Ибо от него — сущностность и сущность, почему именно он и называется прародителем сущности. Ведь он сам — предсущее сущее, начало умопостигаемого, почему он и именуется властителем ума. Итак, вот каковы важнейшие начала всего, которые Гермес ставит превыше эфирных, огненных и небесных богов, посвятив сто книг исследованию огненных богов, и равное им число — исследованию эфирных, и тысячу — небесных.
3. В соответствии с другим порядком он ставит первым бога Эмефа (Ἠμήφ, герметический бог, повелитель небесных богов), повелевающего небесными богами, который, как он утверждает, есть ум, мыслящий самого себя и обращающий свои мысли на самого себя. Впереди него он ставит единое, неделимое и, как он говорит, «первое воспринятое дитя», которого и именует Эйктоном (герметическое божество). Именно в нем пребывает первое мышление и первое умопостигаемое, которое и получает поклонение только при посредстве молчания. Вслед за ними во главе созидания видимых предметов стоят другие вожди. Ведь творящий ум, покровитель истины и мудрости, приходящий к становлению и выводящий на свет неявную силу скрытых смыслов, на языке египтян называется Аммоном, тот, кто не ложно, искусно и истинно созидает отдельное — Фта (эллины заменяют Фта [егип. Ptḥ]) на Гефеста, приписывая ему власть только в области искусства), а тот, кто создает блага, зовется Осирисом или же получает другие наименования вследствие иных своих способностей и действий.
Далее, у египтян существует и некое иное начальствование над всеми стихиями становления и заключенными в них силами, четырьмя мужскими и четырьмя женскими (согласно гермопольской космогонии: Нун и Наунет (Хаос), Ху и Хаухет (Бесконечность), Кук и Каукет (Мрак), Амон и Амаунет (Безвидность), которое они считают принадлежащим Солнцу. Имеется и иное начало всей становящейся природы, которое они относят на счет Луны. Расчленяя небеса на две, четыре, двенадцать, тридцать шесть или вдвое больше того частей или же разделяя их как-то иначе, они устанавливают большее или меньшее начальствование над этими частями и предпосылают всем им того единственного, который стоит превыше их. Таким образом, представление египтян о началах — от самых высших до самых низших — опирается на единое и достигает множества, в то время как многое, в свою очередь, управляется единым и повсюду неопределенная природа подчиняется власти некоей определенной меры и высшей, единственной из всех причины. Материю же бог произвел из сущностности подразделенной материальности; восприняв ее, исполненную жизни, демиург и сотворил на ее основе простые и бесстрастные сферы (небесные сферы), а худшее в ней упорядочил в виде рождающихся и гибнущих тел.
[Книги], которые находятся в обращении как принадлежащие Гермесу, охватывают герметические мнения, даже если зачастую написаны философским языком, ибо они переведены с египетского языка людьми, не чуждыми философии. Херемон же и другие авторы, которые касаются первых космических причин, истолковывают низшие начала. Далее, все те, кто излагает сведения о планетах, зодиаке, деканах, гороскопах и о так называемых властителях и вождях, ведут речь о частных распределениях начал. И книги в Салмесхиниаках охватывают мельчайшую часть герметических заветов. Также и сочинения о звездах, о восходах или закатах Солнца или о приращениях или убываниях Луны в числе этих книг были причастны египетскому исследованию причин. Далее, египтяне не говорят, что все вещи являются природными, но выделяют и душевную, и умную жизнь из природы, причем не только в отношении мироздания, но и в отношении нас самих. Поставив на первое место ум и рассудок, существующие сами по себе, они утверждают, что таким образом созидаются возникающие вещи. Они ставят впереди демиурга — праотца становящихся вещей — и познают предшествующую небесам и заключенную в небесах жизненную силу. Они заранее располагают превыше космоса чистый ум: и один, неделимый по всему космосу, и другой, разделенный по всем космическим сферам. И они не только умосозерцают это в пустом словопрении, но и предписывают в ходе жреческой теургии перед лицом бога и демиурга восходить к высшим, всеобщим и превосходящим рок вещам, не привлекая на свою сторону материю и не воспринимая, помимо этого, ничего другого, кроме разве что соблюдения надлежащей меры.
6. Итак, как ты говоришь, большинство египтян то, что обращено к нам, поставили в зависимость от движения звезд. Нужно предоставить тебе более детальное истолкование истинного положения дел, исходя из герметических представлений. Ибо человек, как гласят эти книги, имеет две души: одна существует благодаря первому умопостигаемому и причастна силе демиурга, а другая вкладывается круговращением небес, в которое дополнительно привнесена богосозерцающая душа. Поскольку это на самом деле так, душа, нисходящая к нам из космоса, следует его круговращениям, а та, что умно присутствует благодаря умопостигаемому, превосходит созидающее становление окружение, и благодаря ей возникает и освобождение от рока, и восхождение к умопостигаемым богам, и вся та теургия, которая возносится к нерожденному, совершается в соответствии с подобной жизнью.
7. Стало быть, уже не все, как ты ошибочно полагаешь, заковано в нерасторжимые оковы необходимости, которую мы называем роком. Ведь душа обладает собственным началом для восхождения к умопостигаемому, отстранения от возникающих вещей и соприкосновения с сущим и божественным. Мы не приписываем подвластность року также самим богам, которым мы поклоняемся и в храмах, и в виде изваяний, как освободителям от рока. Наоборот, боги уничтожают рок, а худшие природы, отпадающие от них и переплетающиеся со становлением космоса и с телом, вершат рок. Следовательно, мы по справедливости совершаем всяческое священное служение в честь богов, чтобы они, единственные повелители необходимости, в разумном убеждении уничтожили назначенное роком зло.
Впрочем, не все заточено в природу рока; напротив, существует и другое начало души, стоящее превыше всякой природы и порождения, на основании которого мы в состоянии достигать единения с богами, возвышаться над космическим порядком и принимать участие в вечной жизни и деятельности наднебесных богов. Именно на основании его мы в состоянии освободить самих себя. Ведь всякий раз, когда оказывает свое воздействие лучшее в нас и душа возносится к тому, что превосходит ее, она всецело обособляется оттого, что привязывает ее к становлению, отстраняется от худшего, меняет одну свою жизнь на другую и посвящает себя иному порядку, совершенно оставив первоначальный.
8. Так что же? Можно освободить себя при посредстве движущихся по кругу богов — и полагать тех же самых богов определяющими судьбу и заковывающими жизни в нерасторжимые оковы? Пожалуй, ничто не препятствует даже тому, чтобы в богах, притом что они заключают в себе множество сущностей и сил, наличествовали и другие, причем непреодолимые, различия и противоречия. Впрочем, можно сказать также и то, что в каждом из богов, пусть даже и в видимом, присутствуют некие умопостигаемые начала сущности, при посредстве которых для душ наступает освобождение от космического становления. И, следовательно, если бы кто-нибудь выделял два рода богов — космических и сверхкосмических, то освобождение для душ будет существовать при посредстве сверхкосмических. В трактатах же о богах более детально рассматривается то, какие из них являются возвышающими и в соответствии с какими своими силами, каким образом они уничтожают рок и при посредстве каких жреческих обращений, каков порядок космической природы и каким образом над ней властвует наисовершеннейшее умное действие.
_______________________________
|
Метки: Египет |
МАКРОБИЙ О СОЛНЕЧНЫХ БОЖЕСТВАХ |
САТУРНАЛИИ. МАКРОБИЙ
(Convivia Saturnalia. Macrobii Ambrosii Theodosii)
VII. 19. Этой страной, которую ныне зовут Италия, управлял Янус (греч. Ἰανός, лат. Janus). Он, как передает Гигин, следуя Протарху Траллийскому, владел этой землей наравне с [ее] коренным жителем Камесом, разделив власть так, что страну стали называть Камесена, [а] город — Яникул.
20. Потом правление было передано одному Янусу, который, полагают, получил два лица, чтобы видеть [то], что было впереди (ante), и то, что за спиной (post). Это, без сомнения, следует отнести к предусмотрительности и хитрости царя, который, [таким образом], и прошедшее знал, и будущее предвидел. [Будущее и прошедшее] почитаются у римлян как [богини] Антеворта (Antevorta) и Постворта (Postvorta), самые подходящие, надо думать, спутницы божественности.
21. Итак, этот Янус, когда пригласил в гости прибывшего на кораблях Сатурна и, обученный им умению обрабатывать поля, улучшил тот дикий и грубый образ жизни, [который был] до знакомства со злаками, предложил ему участие в управлении.
22. Когда он первым же стал чеканить деньги, то выразил уважение к Сатурну тем, что с одной-то стороны [монеты] велел оттискивать изображение собственной головы, а с другой — корабля, чтобы тем [самым] увековечить память о Сатурне среди потомков, так как тот прибыл [в Италию] на корабле. Что деньги были отчеканены [именно] таким образом, сегодня подтверждает и азартная игра, когда мальчишки, бросая денарии вверх, кричат во время игры — свидетеля древности: «Головы!» — или: «Ладьи!».
23. Что они совместно и дружно правили и общими стараниями основали по соседству города, кроме Марона, который повествует: «Имя Яникул сему, а тому — Сатурния имя», — показывает также [и] то, что потомки посвятили им два соседних месяца: декабрь [был] священным даром Сатурну, [а] январь имел имя другого.
24. Когда Сатурна не стало, Янус задумал увеличить ему почести. Во-первых, всю землю под своей властью он назвал Сатурновой вотчиной. Затем он учредил [для него] жертвенник вместе со священнодействиями, которые назвал Сатурналиями. На столько [вот] веков Сатурналии превосходят возраст римской столицы! Он приказал также, чтобы Сатурна почитали величественным богослужением как создателя лучшей жизни. Доказательством [этого] служит его изображение, к которому Янус присоединил серп — знак жатвы.
IX. 2. Мифографы сообщают, что, в правление Януса, дома всех [людей] были защищены благочестием и святостью, и что поэтому ему были назначены божеские почести, и ему же за заслуги [были] посвящены входы и выходы зданий.
3. Также Ксенон Италийский передает, что Янус первым в Италии устроил храмы богам и установил обряды священнодействий. [И] поэтому он заслужил вечной первоначальной молитвы в священнодействиях.
4. Некоторые считают, что он называется двуликим, потому что знал прошедшее и предвидел будущее.
________________________________________
 Сиракузы (Συράκοσαι), Сицилия.
Сиракузы (Συράκοσαι), Сицилия.
Дилитрон (AR 12mm, 1.66g), ок. 344-317 до н.э. Выпуск времен правления Тимолеона (Τιμολέων) и Третьей Демократии.
Av: двуликий образ Аполлона и Дианы; два дельфина справа; ΣYRAKOΣIΩN
Rv: скачущий конь.
5. А фюсики (φυσικοί, философы ионической школы) причисляют его к богам с помощью внушительных доказательств [его] божественности. Ведь они вещают, что один и тот же Янус является и Аполлоном и Дианой, и утверждают, что в нем одном запечатлено и то, и другое божество.
6. Ведь, как сообщает также Нигидий, у греков почитается Аполлон, который зовется Привратный, и его жертвенники они часто устраивают перед своими воротами, показывая, что он лично повелевает входами и выходами. Также Аполлон нарекается у них Агюйевс (Ἀγυιεύς, хранитель путей) наподобие управляющего городскими дорогами, ибо агюйи (ἀγυιά) они называют дороги, которые находятся внутри помериев. Диане же как Трехдорожной [богине] они предоставляют владение всеми дорогами.
7. Впрочем, [и] у нас имя Януса, которое является сходным [с именем] «Привратный», показывает, что он предводительствует всеми дверями (ianuis). Ведь он изображается и с ключом, и [с] палкой наподобие и сторожа всех ворот, и управителя [всех] дорог.¹
______________________________
[1] Янус стоит у врат зимнего солнцеворота. Отмыкая своим ключом врата, он впускает солнце, открывая, тем самым, новый год. Иногда Януса изображали с виноградной лозой (символ осени) в одной руке и ключом — в другой. Что также говорит о его пограничном положении на стыке осени (заканчивающейся Сатурналиями и солнцеворотом) и зимы, концом старого года и началом нового.
8. [Так], Нигидий вещал, что Аполлон — [это] Янус, и Диана — [это] Яна.
9. Некоторые хотят, чтобы Януса представляли солнцем и вследствие этого двойником, кем-то вроде владеющего той и другой небесной дверью, чтобы он, восходя, выпускал день, заходя, закрывал [его].
10. Далее, и его изображают большей частью держащим в правой руке [знак] числа триста (ССС), а в левой — [числа] шестьдесят пять (LXV), чтобы показать измерение года, которое является преимущественным делом солнца.
12. Пунийцы, выставляя в священнодействиях его изображение, приделывали [к нему] змею, изогнутую в круг и кусающую свой хвост, чтобы показать, что мир и из себя самого взращивается, и в себя [самого] возвращается.
13. И у нас он смотрит на четыре стороны, как показывает его изображение, привезенное из Фалерий. В той книге «О богах», которую составил Гавий Басс, двуликий Янус представляется наподобие верхнего и нижнего привратника, то есть четырехликим, как бы охватившим благодаря [своему] величию все области [мира].²
______________________________
[2] Относительно этрусского божества Ани (отождествляемого с Янусом) есть данные античной традиции. Ани широко почитался в Этрурии и имел облик не с двумя лицами, как у Януса римлян, а с четырьмя (лат. Ianus Quadrifrons). Как сообщает Сервий, его четырехстороннее изображение было перенесено из Фалерий в Рим в 241 году до н.э. (Serv. Aen., VII, 607). Есть основания полагать, что четыре лица бога представляли собой четыре солнцеворота, четыре главных праздника в году.
14. Также в древнейших песнях салиев [о нем] поется: «Бог богов».³ Еще и Марк Мессала, товарищ Гнея Домиция по консульству и также авгур в течение пятидесяти пяти лет, так начинает [речь] о Янусе:
[3] Янус — самый загадочный бог Древнего Рима. В мифах о Янусе прослеживаются истоки древнейших верований, где Янус представал как первобытный Хаос (Hianus), из которого возник весь мир. Его называют созидателем, богом богов, предтечей всего божественного ареопага. Янус в древних гимнах Салии (большой Сатурн), от которого якобы берут начало все остальные боги, заявляет следующее: «древность зовет меня Хаос». «Ты, из богов древнейший, скажи, прошу тебя, Янус»… (Ювенал, Сатира шестая, 394). В этом процессе становления Янус превращается в бога-блюстителя мирового порядка, вращающего ось мира.
В римской традиции Янус считался богом входа и выхода, богом ворот. Такой взгляд на Януса могли принести в Рим этруски. «Янус (этруск. Ани), как бог-созидатель, отделил мир от Хаоса и, по аналогии с богами-создателями в индоевропейской традиции, отошел от активной деятельности, что подтверждается легендой о передаче им власти богу Сатурну (этруск. Сатре). В поздние этрусские времена бог Янус слился с богом Кулсаном, что подтверждает ряд фактов, в том числе потеря Янусом значения в римской мифологической традиции, которая была во многом ориентирована на религиозную этрусскую традицию. Забывание значимости бога в древнем пантеоне приводит к переосмысливанию его функций и их профанизации, в результате чего древний великий бог, сливается в представлении народа с каким-то незначительным, но более известным божеством, что, видимо, и произошло с Янусом и Кулсаном». (Наговицын А.Е.)
15. В священнодействиях мы зовем [его] также «Янусом Двуобразным, Янусом Отцом, Янусом Юнонием, Янусом Сеятелем, Янусом Квирином — Копьеносцем, Янусом Открывающим и Запирающим».
16. Почему мы зовем [его] «Двуобразным», мы сказали уже выше; «Отцом» [мы его зовем] подобно богу богов; «Юнонием» — подобно владеющему наступлением не только месяца января, но [и] всех месяцев — во власти же Юноны⁴ находятся все календы, — откуда и Варрон в пятой книге «Божественных дел» пишет, что Янусу посвящены двенадцать жертвенников соответственно такому же [числу] месяцев [года]. «Сеятелем» [мы его называем] от посева, то есть от потомства человеческого рода, которое сеет Янус-творец; «Квирином-Копьеносцем» [называем] как зачинателя войн — по [имени] копья, которое сабиняне зовут quiris; «Открывающим и Запирающим» — потому что в войну проходы его [храма] открываются, а во время мира — закрываются.
же Юноны⁴ находятся все календы, — откуда и Варрон в пятой книге «Божественных дел» пишет, что Янусу посвящены двенадцать жертвенников соответственно такому же [числу] месяцев [года]. «Сеятелем» [мы его называем] от посева, то есть от потомства человеческого рода, которое сеет Янус-творец; «Квирином-Копьеносцем» [называем] как зачинателя войн — по [имени] копья, которое сабиняне зовут quiris; «Открывающим и Запирающим» — потому что в войну проходы его [храма] открываются, а во время мира — закрываются.
______________________________
[4] В своей книге «Золотая ветвь» Фрейзер рассматривает Януса как прообраз бога леса и вегетации, где главная идея — победа юного бога весны над зимой. Здесь же основа мистериальных культов Диониса, Аттиса, Адониса, Осириса. По Фрейзеру, это общее выражение религиозной магии превращения природы, заключающегося в смерти и сменяющего ее воскресения.
В дубравах Неми Януса чтили под именем Дианус. В древней италийской мифологии известно обручение Диануса и Дианы — богини леса и плодородия. Поскольку Янусу, как и Юпитеру, посвящен дуб, Фрейзер полагает этих богов идентичными, как идентичны Юнона и Диана. Кроме того, в Додоне Зевс почитался под именем Nάιος (или Νάος), но еще большим уважением пользовалась Диона, древнейшая догреческая богиня Земли, супруга Зевса. По словам Страбона (VII, 329), женщины стали давать прорицания в Додоне именно со времени введения культа Дионы.
X. 1. В Сатурналии (…) считалось нечестивым предпринимать войну, греховным — требовать в эти же [самые] дни наказания преступника.
18. Сатурналии были один день и их праздновали исключительно в четырнадцатый [день] до январских календ. В этот день, устроив пиршество, у храма Сатурна провозглашали Сатурналии. Ныне этот день в пределах Сатурналий считается Опалиями, так как первый [день] празднества равным образом был посвящен Сатурну и Опе (лат. Ops).⁵
19. Верили, что богиня же эта Опа [была] супругой Сатурна, и потому в этот месяц празднуют Сатурналии и также Опалии, так как считают, что Сатурн и его жена являются создателями как плодов, так [и] злаков. Итак, когда уже собран весь урожай [с] полей, эти боги почитаются людьми подобно творцам обустроенной жизни.
20. Некоторые также убеждены, что они являются небом и землей, и что Сатурн, чье происхождение — от неба, назван от [слова] «satu» (сев), и земля, [с] помощью которой приобретается питание [для] человеческой жизни, [названа] Опой от [слова] «ореrе» — труд, при посредстве которого рождаются плоды и злаки.
21. Молитвы с обетами этой богине произносят сидя и с усердием касаются земли, показывая [тем самым], что смертным надлежит уважать землю [как] саму мать.
_____________________________________
 Пертинакс (Publius Helvius Pertinax, 193). Рим. Сестерций (Æ 26.82g).
Пертинакс (Publius Helvius Pertinax, 193). Рим. Сестерций (Æ 26.82g).
Av: голова Пертинакса, в лавровом венке; IMP CAES P HELV PERTIN AVG
Rv: богиня Опа (лат. Ops) сидит на троне с колосьями в руке; OPI DIVIN TR P COS II
23. Сатурналии [сначала] праздновали обыкновенно в течение одного дня, то есть в четырнадцатый [день до] календ, но потом они [были] расширены до трех дней: во-первых, из-за дней, прибавленных Цезарем этому месяцу; затем по распоряжению Августа, которым он постановил праздновать Сатурналии в течение трех дней. Таким образом, начатые в шестнадцатый [день], они завершаются на четырнадцатый [день], которым раньше они обычно ограничивались.
24. Впрочем, прибавленное [к Сатурналиям] празднество Сигиллярий (Sigillaria) распространяет общественное гулянье и благочестивое ликование на семь дней (17-25 декабря).⁶
______________________________
[5] Опа, будучи Матерью-богиней, почиталась как божество плодородия, посевов, богатой жатвы. Один из эпитетов Опы — Консивия (Consivia, «сеятельница»).
[6] С именем Сатурна было связано представление о золотом веке, когда народ жил в изобилии и вечном мире, не знал рабства, сословных неравенств и собственности, когда всё было общим. Учредителем культа Сатурна считается Тулл Гостилий, третий царь Древнего Рима (правил 673-641 до н.э.; этруск, являлся родоначальником Луцеров).
XI. 47. Теперь надо немного рассказать о Сигилляриях. (…) Эпикад сообщает, что после убийства Гериона, когда победитель Геркулес вел [его] стадо через Италию, построив в [то] время мост, который ныне зовется Свайным, он пустил по реке изображения людей по числу товарищей, которых [его] лишили превратности путешествия, чтобы они, принесенные течением воды в море, как бы возвратились в отеческие места вместо тел скончавшихся. И с той поры среди священнодействий сохранился обычай создания таких изображений.
48. Но мне более верным кажется то возникновение этого [обычая], о котором несколько раньше я не преминул сообщить. [Напомню, что] пеласги, после того как более подходящее толкование [предсказания] объяснило, [что слово] «головы» означает не [головы] живых [людей], но [их] глиняные [изображения], и значение [слова] «фотос» (φωτός) — не только «человек», но также и «свет», начали лишь зажигать для Сатурна восковые свечи и приносить в святилище Дита (Аида), примыкающее к жертвеннику Сатурна, какие-то восковые фигурки вместо голов своих [соплеменников].
49. Согласно этому [было] завещано посылать [друг другу] в Сатурналии восковые свечи, и изготовлять [с помощью] гончарного искусства фигурки (sigilla), и покупать [их], выставленных на продажу. Их люди делали искупительной жертвой Сатурну как Диту за себя и своих [близких].
50. Начатое в Сатурналии такое торговое празднество занимает семь дней, которые хотя [все] были свободными, но не все праздничными.
XII. 5. Это упорядочение [года] принадлежало Ромулу, который первый месяц года посвятил своему родителю Марсу.
8. Второй месяц он именовал апрелем, [произнося звук «п» в этом слове] с придыханием, как некоторые считают, [то есть] как бы «афрелем», от [слова] «пена», которую греки называют ἀφρόν (афрон), откуда, думают, вышла Венера. И утверждают, что замысел Ромула был таков: первый месяц назвать [именем] своего отца Марса, [а] второй — [именем] матери Энея Венеры, [чтобы] они, от кого возник римский народ, — так как и сегодня в священных обрядах мы зовем Марса отцом, [а] Венеру — прародительницей — охраняли главным образом истоки года.
10. Ведь и в двенадцати созвездиях зодиака, из которых отдельные [созвездия] считаются жилищами определенных божеств, первое созвездие Овна предназначено Марсу, следующее затем [созвездие], то есть [созвездие] Тельца, приняло Венеру.
11. И [созвездие] Скорпиона на прямо противоположной [стороне зодиака] было разделено между тем и другим богом. И считают, что само [это] разделение [созвездия Скорпиона] не лишено божественного смысла, так как [его] задняя часть, вооруженная жалом наподобие мощнейшего дротика, является жилищем Марса, а переднюю часть [созвездия, для] которой у греков есть имя ζυγός (дзюгос), [а] мы зовем [ее] Весами, получила Венера, которая как бы ярмом (iugo) уз связывает супружества и скрепляет содружества.⁷
______________________________
[7] Венера — управитель зодиакальных Тельца и Весов, а Марс — Овна и Скорпиона.
14. Так как почти до весеннего равноденствия небо является мрачным и затянутым тучами, да и море закрыто [для] плавающих, также сама земля покрывается или водой, или изморозью, или снегами, и [так как] все это открывается в весенний месяц [апрель], также деревья и [все] прочее, что содержит земля, начинает обнаруживать себя в побегах, — поэтому нужно согласиться, что [этот] месяц заслуженно зовется апрелем, [то есть] как бы аперилем — [открывающим], подобно тому как у афинян этот же самый месяц зовется цветущим от того, что в это время все вокруг расцветает.
XVII. 2. Не думай, мой Авиен, будто сообщество поэтов, когда они рассказывают о богах, не заимствует основу по большей части из святилищ философии. Ведь то, чтобы они соотносили с солнцем почти всех богов, поскольку они находятся под небом, советует [им] не пустое суеверие, но священная наука.
5. Итак, ту способность солнца, которая ведает прорицанием и попечительством, назвали Аполлоном; [а та способность солнца], которая является творцом речи, получила имя Меркурия. Ведь потому что речь истолковывает скрытые мысли, Гермес (Ἑρμῆς) был назван свойственным [ему] именем от [слова] ἑρμηνεύειν (толковать, разбирать, объяснять).
6. Солнцу принадлежит способность, которая [заведует] пользой; у него же есть действие, которое заведует плодами. И отсюда зародились названия [как будто] других богов, которых доверительное и тайное учение относит к солнцу.
42. Аполлона называли Отцовским (Πατρῷος) не вследствие принадлежности [его] культа одному роду или общине, но как виновника порождения всех вещей, потому что солнце, иссушив влагу, предоставило всему основание для зарождения, как говорит Орфей: «Умный наказ отцовский и заботливый разум».
43. Откуда мы также зовем отцом Януса, почитая солнце под этим именем. Пастушеским Аполлона прозвали не из-за пастушеской службы и сказки, на основе которой воображают, будто он пас скот царя Адмета, но потому что солнце пасет все, что порождает земля.⁸
45. У камиренцев есть храмы [Аполлона] Эпимелия (Ἐπιμελίη, Ἐπιμελής, Заботливый, Попечитель) как пастуха овец; у наксосцев — Поймния (Ποίμνιος, Ποιμήν, Пастырь); и также [у них] почитается бог Арноком (от ἀρνός, ἀρνῶν — баран), а у лесбийцев — Μαλόεις («Охраняющий овечьи стада»; от μᾶλον, μῆλον — овца или коза). И у разных общин существуют многие [другие] прозвища [Аполлона], относящиеся к [его] службе бога-пастуха (Νόμιος θεός).
47. Златовласым Аполлон называется из-за блеска лучей, которые зовут золотистыми волосами солнца, откуда [его именуют еще] и χρυσοκόμης («златокудрый»). Также [его называют] Φοῖβος («лучезарный»), Λυκηγενής («светорожденный»), Ἀργυρότοξος («сребролукий»), Κλυτότοξος («со славным луком»), Χρυσάορος (Хризаор, «с золотым мечом», от ἄρης, меч).
______________________________
[8] Народная этимология имени Аполлона основывается на созвучии со словом αἰπόλον — козопас.
αἰπόλος (αἰ-πόλος) ὁ козопас Hom., Plat., Theocr., Men., Anth.
52. Говорят, что Юнона противодействовала Латоне, ожидающей рождения Аполлона и Дианы. И когда роды прошли, к колыбели богов проник змей, которого звали Пифон (Πύθων), и Аполлон, [несмотря] на ранний возраст, сразил чудовище стрелами.
60. Именем же стрел обозначается только испускание лучей, которые представляются наиболее длинными в то время, в какое весьма высоко [стоящее] солнце завершает годовой бег в самые длинные дни летнего солнцестояния. Поэтому [оно] называется Хекэболос и Хекатэболос (Ἑκηβόλος и Ἑκατηβόλος, «стрелок») — издали (ἕκητι) бросающим (βόλον) лучи, [то есть] беспрестанно посылающим на землю лучи из самого отдаленного и самого высокого [своего] положения.
61. О [его] прозвище Πύθιος («Пифий», по храму в Πυθώ, у горы Парнас в Фокиде) могло бы хватить [уже] того [известного], если бы не заявляло о себе следующее основание этого же имени. Ведь когда солнце совершает летний солнцеворот в созвездии Рака, в котором находится предел самого длинного дня и откуда [его] отступление ведет к уменьшению [долготы] дней, в это время [оно] называется Пифием как πύματον φεύγων (к пределу бегущее), то есть пробегающее последний путь.
62. Это же [самое] имя подходит ему и [тогда], когда представляют, что оно проделало последний пробег самого короткого дня, вступая опять в [созвездие] Козерога. И потому напоминают, что в том и другом созвездии, когда проделан годичный путь, Аполлон одолел дракона, то есть [проделал] свой извилистый путь. Это мнение сообщил в [своих] «Этимологиях» Корнифиций.
63. С другой стороны, этим двум созвездиям, которые зовут вратами солнца, Раку и Козерогу, имена достались потому, что рак — живое существо идет назад и вбок, и тем же [самым] образом солнце в этом созвездии начинает совершать боковое отступление. У пасущейся же козы [есть], кажется, такая привычка, что она на пастбище устремляется высоко [на холмы]. Но [ведь и] солнце в [созвездии] Козерога начинает снизу возвращаться в высь [неба].
64. Аполлона зовут [еще] Парным (Ἀρτιότης), потому что он сам проявляет парный облик своего божества освещением и показом вида луны. Ведь из одного источника света парной звездой он освещает [в] пору дня и ночи. Откуда и римляне почитают солнце под именем и [в] образе Януса [с] наименованием [его] Аполлоном Парным.
66. Кроме того, гиерополитанцы, которые принадлежат к племени ассирийцев, передают все действия и способности солнца в образе одного-единственного бородатого изваяния и называют его Аполлоном.
67. Его широкое лицо обрамлено остроконечной бородой. На голове высится корзинка. Изваяние покрыто [нагрудным] панцирем; правая [рука] держит прямо стоящее копье с помещенной наверху небольшой статуей [богини] Победы (Νίκη); левая протягивает изображение цветка; и с высоты плеч спину покрывает горгонина накидка (αἰγίδος, эгида), окаймленная змеями. Рядом орлы воспроизводят подобие полета; перед ногами находится женское [погрудное] изваяние, правая и левая [руки] которого являются очертаниями женщин; змей обвивает их извилистыми кольцами.
XVIII. 1. То, что мы сказали об Аполлоне, можно также считать сказанным о Либере. Ведь Аристотель, который написал «Богословие» (Θεολογία), убеждает многими разными доводами, что Аполлон и Либер-отец есть один и тот же бог.
2. Также у лакедемонян в священнодействиях, зовущихся Гиацинтиями, которые справляют для Аполлона, увенчиваются плющом по вакхическому обряду.
3. Равным образом беотийцы, [даже] помня, что Парнасская гора посвящена Аполлону, все же почитают на ней же и Дельфийский оракул и Вакхические пещеры, [как] посвященные одному богу. Откуда на одной и той же горе отправляется богослужение и Аполлону и Либеру-отцу.
7. Но хотя после того как раньше [уже] было подтверждено то, что Аполлон и солнце есть одно и то же, и после того как потом было сказано, что [оно] само есть Либер-отец, который является Аполлоном, нет никакого сомнения, что солнце и Либер-отец должны считаться одним и тем же божеством, все же это, безусловно, будет [еще] подкрепляться весьма убедительными доводами.
8. Ведь в священнодействиях сохраняется то соблюдение благочестивого таинства, что солнце, когда оно пребывает в верхней, то есть в дневной, полусфере, зовется Аполлоном, когда — в нижней, то есть ночной, считается Дионисом, который есть Либер-отец.
9. Также Либера-отца делают в изваяниях частично детского возраста, частично — юношеского. Кроме того, с бородой, также в виде старца, как [в образе] того, кого греки [называют] Бассареем,⁹ так [и в образе того], кого они называют Брисеем,¹⁰ и [в том виде], как [его] славят неаполитанцы в Кампании, называя Хебон.¹¹
______________________________
[9] Βασσαρεύς — эпиклеса Диониса; происходит от названия мистериальной накидки из лисьих шкур (βασσάρα, «бассара»).
[10] Βρίθει (Брисей) — «Податель даров» (досл. «изобилующий»).
[11] Ἡβών (Хебон) — прозвище Диониса (от ἡβάω — быть в юношеском возрасте, сохранять юношескую свежесть, быть полным сил).
10. Эти же различия возрастов относятся к солнцу: оно считается младенцем в зимнее солнцестояние, [в виде] какового египтяне выносят [его] в определенный день, потому что тогда, в самый короткий день, оно считается дитятею и ребенком. Затем же, когда после весеннего равноденствия наступает прибавление [дня], оно соответствующим образом и обретает силы подрастающего [ребенка] и украшается юношеской внешностью. Потом его самый зрелый возраст в летнее солнцестояние показывает наличие бороды, в каковое время [день] достигает своего высшего увеличения. Затем из-за уменьшения [дня] бог наделяется четвертым обликом, как бы старческим.
11. Равно и во Фракии, мы слышали, одним и тем же считается солнце и Либер, которого там прославляют пышным богослужением, называя Сабазием (Σαβάζιος), как пишет Александр, и на Зилмисском холме находится посвященный этому богу храм круглой формы, крыша которого имеет отверстие посередине.
12. Также Орфей, желая, чтобы солнце было [ясно] постигнуто, говорит среди прочего:
13. Он назвал солнце Фанетом — от фотос (φωτός) и фанеру (φανερῷ, φανερός), то есть от света и освещения, потому что, созерцая все, оно всем видно.
15. Фюсики [называют] Дионисом ум Зевса (Διός νόος), они говорят, будто солнце является умом мира. Мир же называется небом, которое они зовут Юпитером.
16. Римляне называют его Либером, потому что оно является свободным (liber) и странствующим, как утверждает Невий: «Солнце, странствуя, огненные вожжи Отпускает к земле и крепко вяжет».
18. [О том], что солнце является Либером, Орфей открыто вещает в таком стихе:
И этот именно стих весьма понятен, а тот [вот стих] того же [самого] пророка очень труден:
19. (…) оракулом Аполлона Кларосского (Κλάριος, по названию города Κλάρος на ионийском побережье Малой Азии) солнцу дается также другое имя. В тех самых священных стихах оно называется среди прочего Яо (Ἰάω). Ведь Аполлон Кларосский, будучи спрошен, кто из богов должен считаться [тем], которого зовут Яо , так возвестил:
21. Сути этого оракула и толкований божества Яо, которым обозначается Либер-отец и солнце, последовал Корнелий Лабеон в книге, у которой название «Об оракуле Аполлона Кларосского».
22. Также и Орфей, показывая, что Либер и Солнце являются одним и тем же [самым] богом, так пишет о его наряде и одежде в священнодействиях Либералиях:
XIX. 1. То, что сказано о Либере-отце, показывает, что Марс — он же и солнце, поскольку многие, доказывая, что есть один бог, связывают Либера с Марсом. Откуда Вакх называется «Убийственным», каковое [имя] находится среди собственных имен Марса (Φόνιος).
2. У лакедемонян почитается также изображение Либера-отца, наделенного копьем, [а] не жезлом. Но и когда он держит жезл, что иное он несет, как [не] прикрытый дротик? Его острие скрывает обвивающий плющ, что показывает необходимость обуздывать порывы к войне посредством неких уз терпения. Ведь плющ имеет способность опутывать и обвязывать. Также и жар вина, подателем которого является Либер-отец, часто возбуждает людей вплоть до воинственного неистовства.
3. Итак, из-за сродной пылкости действия того и другого решили, что Марс и Либер есть один и тот же бог. Римляне уж точно удостаивают обоих па — именования отца, называя одного Либер-отец, [а] другого — Марспитер (Marspiter), то есть Марс-отец.
4. Отсюда Либер-отец признается также способным к [ведению] войн, потому что его объявили первым устроителем триумфа. Так как, следовательно, Либер-отец есть также и солнце, а Марс — также и Либер-отец, кто стал бы сомневаться, что Марс является солнцем?
7. [О том] же, что Меркурий признается солнцем, выше [уже] было доложено при [общем] одобрении. Еще и оттого явствует, что Аполлон и Меркурий истинно есть одно и то же, что у многих народов звезда Меркурия именуется Аполлоном и что Аполлон предводительствует Музами (Μουσηγέτης, «Предводитель муз»), [а] Меркурий наделяет [людей] речью, что является [также] назначением Муз.
8. Есть также много свидетельств, кроме этого, что Меркурия принимают за солнце. Во-первых, [то], что изображения Меркурия украшаются огненными крыльями, каковое обстоятельство показывает стремительность [движения] солнца.
9. Ведь так как мы знаем, что способность разумения [была] названа Меркурием — так мы понимаем [его наименование] от [слова] ἑρμηνεύω (истолкование), — а солнце — это мировой разум, быстрота же ума является величайшей, поэтому Меркурий, как бы сама сущность солнца, украшается крыльями.
10. Очень ясно выделяют этот признак египтяне, изготавливающие оперенные изображения самого солнца, цвет которых у них не одинаков. Ведь они изготавливают одно [изображение] темного вида, [а] другое —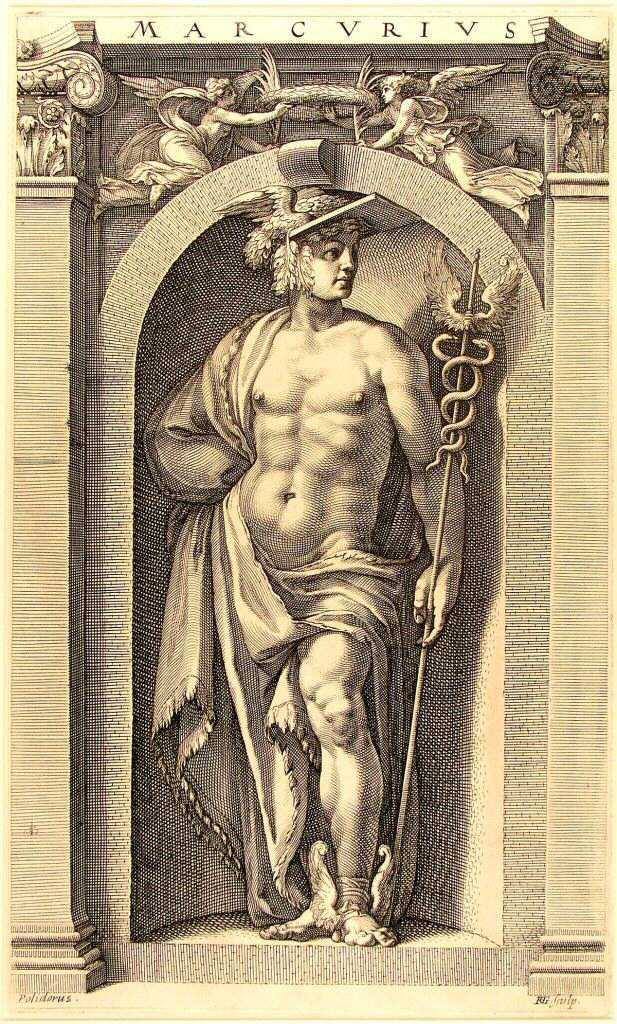 светлого. Светлое они зовут верхним, а темное — нижним. Имя же нижнего дается солнцу, когда оно совершает свой бег в нижнем полушарии, то есть в зимних созвездиях [зодиака]; [а] верхнего — когда оно обходит летнюю часть зодиака.
светлого. Светлое они зовут верхним, а темное — нижним. Имя же нижнего дается солнцу, когда оно совершает свой бег в нижнем полушарии, то есть в зимних созвездиях [зодиака]; [а] верхнего — когда оно обходит летнюю часть зодиака.
11. Существует эта же присказка [и] относительно Меркурия, [но] в другом пересказе, когда он считается служителем и вестником [при общении] между верхними и нижними богами.
12. Сверх того, его называют Аргоубийцей (Ἀργειφόντης),¹² [но] не потому, что он одолел Аргуса, который, сообщают, наделенный множеством глаз, обходя [дозором], сторожил по повелению Юноны дочь Инаха Ио, соперницу этой богини, превращенную в корову, а [потому, что] в этом рассказе Аргус — это небосвод, усеянный блеском звезд (ἀργός — блистающий, сверкающий), в которых заключается, кажется, какой-то образ небесных глаз.
13. С другой стороны, решили, что небо называют Аргусом из-за яркости и скорости [движения, по-гречески] — παρά τὸ λευκὸν καὶ ταχύ. И кажется, что он осматривает землю сверху (египтяне, когда хотят обозначить ее иероглифическими буквами, употребляют изображение коровы). Так вот, этот круговорот неба, украшенный огнями звезд, тогда считается погубленным Меркурием, когда солнце в дневное время, затмевая звезды, как бы уничтожает [их], силой своего света отнимая у смертных их созерцание.
______________________________
[12] «Из Меркуриев один родился от отца Урана и матери Гемеры (Ἡμέρα, «день»), у него, по преданиям, позорно похотливая природа, так как он возбудился при виде Прозерпины. Еще один, сын Валента и Корониды, живет под землей, он зовется еще Трофонием. Третий — сын Юпитера третьего и Майи; от него и Пенелопы, говорят, родился Пан. Четвертый имел своим отцом Нила, египтяне считают недозволенным называть его по имени. Пятый, которому поклоняются фенеты, как говорят, убил Аргуса, по этой причине бежал в Египет и сообщил египтянам законы и письменность. Его египетское имя Тевт (греч. Θεύθ от егип. ḏḥwty), и тем же именем (греч. Θωΰθ, Тот) называется у них первый месяц года». (Цицерон «О Природе Богов III»)
14. Большинству изваяний Меркурия, наделенных только головой и напряженной мужской плотью,¹³ придается также очертание четырехгранного столба, каковой образ означает, что солнце является головой мира и родителем вещей и что вся его сила состоит не в служении каких-то отдельных членов, но исключительно в разуме, седалище которого находится в голове.
15. Четыре стороны [столба] делаются с тем же [самым] умыслом, с каким Меркурию придана четырехструнная [форминга]. Ведь это число означает либо столько же стран света, либо четыре смены времени, из которых складывается год. Или [четыре струны придается] потому, что область зодиака разделена на два равноденствия и два солнцестояния, [подобно тому] как лира Аполлона, [состоящая] из семи струн, убеждает, что столько [же есть] движений небесных сфер, управителем [над] которыми природа поставила солнце.
______________________________
[13] Согласно Геродоту, афиняне первыми из эллинов стали делать изображение Гермеса в виде четырехгранного столба с эрегированным фаллосом, и научились этому у пеласгов. Устанавливались гермы на перекрестках дорог и, наряду с сакральной функцией, служили дорожными указателями. В 415 до н.э. гермы были уничтожены. Во времена Рима они потеряли связь с фаллическим культом Гермеса и стали изготавливаться в виде прямоугольной колонны, на которую водружался бюст человека или божества.
16. [То], что солнце почитают в [образе] Меркурия, ясно также из [наличия] у него жезла, который египтяне изображали в виде соединенных змей, самца и самки. Эти змеи в средней части своего изгиба связаны узлом, который зовут [узлом] Геркулеса, а их передние части, согнутые в круг так, что головы прижаты [друг к другу], завершают очертание круга; и после узла [их] хвосты отклоняются к ручке жезла и украшаются крылышками, вырастающими из той же [самой] части ручки.
17. Изображение жезла египтяне связывают также с рождением людей, которое называется γένεσις (генесис), напоминая, что существует четыре бога — защитника рождающегося человека: Даймон, Тюхэ, Эрот, Ананке. И они хотят, чтобы два первых бога считались солнцем и луной, потому что солнце — это создатель духа, тепла и света, творец и хранитель человеческой жизни, и поэтому полагают, что Даймон (Δαίμων) — это бог рождающегося; луна — Тюхэ (Τύχη, «случайность»), так как является покровительницей тел, которые подвержены разнообразным случайностям; Любовь (Ἔρωτος, любовь, страсть) обозначается поцелуем змей; Неизбежность (Ἀνάγκη, «судьба») — узлом.
XX. 6. Да и Геркулес не отчужден от солнечной природы, так как Геркулес есть та мощь солнца, которая предоставляет человеческому роду доблесть для уподобления [его] богам. И не считай, что он, лишь родившись от Алкмены возле беотийских Фив, уже с самого начала [был] назван Геркулесом. Нет, он был удостоен этого величания и почтен этим именем после многих [других] и самым последним, потому что безмерной отвагой заслужил звание бога, управляющего мужеством.
7. Впрочем, бог Геркулес почитается, притом благоговейно, и близ Тира, но египтяне чтят его самым благочестивым и величественным богослужением и сверх того уважают память [о нем], которая у них уходит в весьма далекое прошлое.
13. Прилегающий к тому же Египту город, который хвалится своим основателем Александром Македонским, относится к Сарапису (Σάρᾱπις) и Исиде (Ἴσιδος) с уважением на грани восторженного поклонения. Однако свидетельствуют, что все это поклонение под [знаком] его имени посвящается солнцу: [ведь] они либо приделывают еще корзинку к его голове, либо присоединяют к [его] изваянию еще изображение трехглавого животного.
свидетельствуют, что все это поклонение под [знаком] его имени посвящается солнцу: [ведь] они либо приделывают еще корзинку к его голове, либо присоединяют к [его] изваянию еще изображение трехглавого животного.
14. Средней и притом же самой большой головой оно воспроизводит образ льва; с правой стороны возвышается голова ласкающейся собаки кроткого вида; левая же часть шеи оканчивается головой хищного волка. И эти лики животных связывает своим завитком змея, головой обращенная к правой [руке] бога, которая удерживает чудовище.
15. Итак, голова льва указывает [на] настоящее время, потому что его состояние непосредственной действительности между прошедшим и будущим является исполненным мощи и стремительности. Но и прошедшее время обозначается головой волка, потому что память о свершившихся делах похищается и уносится [временем]. Также и изображение ласкающейся собаки обозначает исход будущего времени, относительно которого нас ласкает надежда, пусть она [и] неясная. Кому же служат [сами] времена, если не собственному творцу?
16. Узнай теперь [о том], что [вроде] бы вещал оракул о солнце, или Сараписе. Ведь Сарапис, которого египтяне провозгласили величайшим богом, будучи спрошен Никократом, царем киприотов, каким он считается среди богов, этими [вот] стихами восстановил потревоженную набожность царя:
18. Из этих [строк] явствует, что природа Сараписа и солнца является единой и неделимой. Исида, которая есть или земля, или природа вещей, подвластная солнцу, прославляется совместным богослужением. Отсюда все тело богини бугрится обширными грудями, потому что совокупность всего вскармливается питанием либо земли, либо природы вещей.
XXI. 1. [В том], что Адонис тоже является солнцем, не станут сомневаться, если будет рассмотрено верование ассирийцев, у которых издавна процветало величайшее почитание Венеры Архитиды и Адониса, которого ныне придерживаются [и] финикийцы. Ведь и природоведы почтили именем Венеры верхнюю полусферу земли, часть которой мы населяем; нижнюю же полусферу земли они назвали Прозерпиной.¹⁴
2. Итак, делают вывод, что у ассирийцев или финикийцев она [является] скорбящей богиней, потому что солнце, двигаясь ежегодно по двенадцати созвездиям [зодиака], вступает и в нижнюю часть полусферы, так как из двенадцати созвездий зодиака шесть считаются верхними, шесть — нижними.
______________________________
[14] Шесть зимних (нижних) знаков зодиака (от осеннего солнцеворота до весеннего равноденствия) соответствуют Аиду. Когда солнце спускается в Аид — природа на земле умирает.
3. И когда оно находится в нижних [созвездиях зодиака] и потому делает дни короче, думают, что богиня плачет, так как солнце как бы отправлено в объятия временной смерти и задержано Прозерпиной, которую мы называем божеством нижнего круга земли и антиподов. И наоборот, хотят верить, что Адонис возвращается к Венере, когда солнце, преодолев шесть созвездий [зодиака] нижнего ряда, начинает освещать полусферу нашего круга [земли] вместе с увеличением света и дней.
4. Впрочем, передают, что Адонис [был] убит вепрем, выражая в этом животном образ зимы, потому что косматый и свирепый зверь предпочитает влажные, грязные и покрытые изморозью места и кормится собственно зимним плодом — желудем. Итак, зима является как бы раной солнца, которая уменьшает для нас и его свет, и тепло, а недостаток того и другого оказывается для одушевленных [существ] смертью.
5. На ливанской горе, [где помещается] изваяние этой богини, она изображена с покрытой головой, вид ее печален, она подпирает лицо рукой с платком. И смотрящим кажется, что [у нее] льются слезы. Этот образ, кроме [того], что [он] есть [образ] плачущей богини, как мы сказали, является также [образом] земли в зимнюю пору, в каковое время она, закрытая облаками, лишенная солнца, замирает, и источники, как бы глаза земли, весьма обильно истекают [водами, как слезы богини], и поля в это время при их обработке показывают печальный лик своего опустения.
6. Но когда солнце поднялось из нижних частей земли и переходит границы весеннего равноденствия, увеличивая день, тогда Венера становится радостной и прекрасной: пашни зеленеют посевами, луга — травами, деревья — листьями. Потому наши предки называли апрель месяцем Венеры.
7. Подобным образом [и] фригийцы, хотя были изменены предания и исполнение священнодействий, блюдут, чтобы точно так же представляли Матерь богов и Аттиса.¹⁵
8. Ведь кто бы стал оспаривать, что Мать богов считается землей? Эта богиня едет на львах, животных, мощных [своим] напором и пылом, каковая природа свойственна небу, чьим охватом удерживается воздух, который несет землю.
9. Солнце же в облике Аттиса украшает свирель и посох. Свирель показывает упорядочивание переменчивого дуновения, потому что ветры, в которых нет никакого постоянства, берут надлежащую природу от солнца. Посох подтверждает власть солнца, которое всем управляет.¹⁶
______________________________
[15] В пессинунтском культе не только великая богиня была «матерью», но и ее сопрестольник Аттис именовался «отцом» — Papas. Впрочем, само имя Аттис (Attis, Attes, Atys) переводится как «отец».
[16] С.Ю. Сапрыкин отмечает, что в результате религиозного синкретизма богов плодородия в Анатолии и Греции, фригийский бог Аттис отождествлялся с Дионисом и Зевсом в ипостаси Поарина (Ποαρινός, от πόα — «пастбище»).
10. Отсюда можно также заключить, что в таких обрядах используется, с другой стороны, превосходное знание о солнце, потому что по их обычаю, когда завершен спуск [Аттиса в преисподнюю] и закончилось выражение скорби, в восьмой день до апрельских календ славят наступление веселья. Этот день они называют Хилариями (празднества в честь Кибелы, от греч. ἱλαρός — веселый, радостный). В это время солнце впервые делает день дольше ночи.
11. Также, при разных наименованиях богослужения, [его] почитают у египтян, когда Исида оплакивает Осириса. И нет в [том] тайны, что и Осирис — это не что иное, как солнце, и Исида есть не что иное, как земля или природа вещей, и то же [самое] восприятие Адониса и Аттиса в египетском богослужении также приводит к чередованию печали и веселья вследствие перемен [в] годичном действии [солнца].
12. Как утверждают египтяне, этот Осирис является солнцем. [И] сколько раз они хотят выразить [это] своими иероглифическими буквами, [столько раз] они вырезают жезл, и на нем запечатлевают изображение глаза, и этим знаком указывают на Осириса, обозначая [тем самым], что этот бог является солнцем и все озирает, величественный благодаря царской власти, потому что древность провозглашает солнце глазом Юпитера.
13. У них же Аполлон, который является солнцем, зовется Хором (Ὧρος, сын Осириса и Исиды), от него и двадцать четыре часа (ώρα, «час»), составляющие день и ночь, получили имя, и четыре поры, которые заполняют годичный круговорот [солнца], называются Ὥραι («времена», богини времён года).
14. Также египтяне, желая освятить изваяние в облике самого солнца, изобразили [его] со стриженой головой, но с правой [ее] стороны оставили волосы нетронутыми.
15. Этим же изображением обозначается и время, в которое свет становится непродолжительным, когда солнце, как бы сбрив ростки [волос] и оставляя [только их] скудный пучок, идет к наименьшей продолжительности дня, которую предки назвали зимним солнцестоянием, именуя [его] brumale (зимним) из-за brevitate (сокращения) дней, то есть [по-гречески] βραχύ ἡμέρα (короткий день). Опять появляясь из этих тайников или теснин, как бы вырастая в летней полусфере [зодиака, он] увеличивается в росте, и тогда считается, что солнце уже достигло своего царства.
16. Кроме того, египтяне поместили в зодиаке, в той части неба, в которой солнце в годичном беге больше всего пышет сильным жаром, животное — льва и называют созвездие Льва жилищем солнца, потому что им кажется, что это животное получает [свою] сущность от природы солнца.
17. Во-первых, [так кажется], потому что [оно] превосходит [других] животных [своим] напором и пылом, как солнце превосходит [другие] звезды. И еще лев силен грудью и передней частью тела и слаб задними лапами. Равно и сила солнца возрастает в первой части дня до полудня или в первой части года — от весны к лету [и] затем, слабеющая, снижается к закату, который [есть конец] дня, или к зиме, которая, считают, является последней частью года. И также его узнают по широко раскрытым и горящим глазам, поскольку солнце разглядывает землю широко раскрытым и горящим оком, взором пристальным и внимательным.
18. И не только Лев, но также все вообще созвездия зодиака по праву относятся к природе солнца. И очень я расположен к тому, чтобы начать [свой рассказ] с Овна. Ведь он по шесть зимних месяцев остается на левой стороне [зодиака] по правую сторону от [точки] весеннего равноденствия, подобно тому как и солнце с того же [самого] времени обходит правую полусферу, в остальную часть [времени] — левую.
19. Потому и Аммона, которого ливийцы считают богом — заходящим солнцем, изображают с бараньими рогами, благодаря которым это животное весьма сильнό, подобно тому как солнце [сильнό] лучами. Ведь и у греков баран (κριός) называется от κάρα (ион. κάρη — голова).
20. А [то], что Телец относится к солнцу, различным образом показывает египетское богопочитание. [Итак, его относят к солнцу] или потому, что возле Гелиополя весьма почитают быка, посвященного солнцу, которого именуют Мневисом; или потому, что в городе Мемфисе быка Аписа избирают образом солнца; или потому, что в городе Гермонтисе, в величественном храме Аполлона почитают посвященного солнцу быка, именуя [его] Бухисом, [и бык этот] выделяется чудесами, соответствующими природе солнца.
21. Ведь утверждают, что он в отдельные часы меняет цвета, и говорят, что он поднимает дыбом шерсть противу потомства вопреки природе животных. Откуда считается, [что он является] как бы образом солнца, блистающего в противоположной части мира.
22. Близнецы же, о которых думают, что они [оба] живы при смерти одного из них,¹⁷ что обозначают иное, если не одно и то же [самое] солнце, то опускающееся в глубины мира, то поднимающееся на предельную высоту мира?
______________________________
[17] Близнецы — это Диоскуры (Поллукс и Кастор). Согласно мифу, Зевс сделал их созвездием Близнецов, или Утренней и Вечерней звездой. С древних времен Утренней и Вечерней звездой считалась Венера. Причем, в древности считали, что утренняя и вечерняя Венеры — это разные звезды.
23. [И] что иное, кроме пути солнца, показывает Рак [своим] передвижением вбок, которому выпал жребий никогда не ходить прямо по дороге, но всегда — поперек нее.
И преимущественно в этом созвездии солнце, склоняясь, начинает с верхнего пути устремляться теперь вниз. О Льве уже было сказано выше.
24. А Дева, которая несет на руке сноп, что [есть], как [не] солнечная сила, которая заботится о плодах? И потому считают, [что она является] Справедливостью, которая единственная обеспечивает [то], что созревающие плоды идут на пользу людям.
25. Скорпион в целом, в котором находятся [и] Весы, представляется природой солнца, которое коченеет зимой. Когда та оканчивается, и он своей силой отводит жало назад, природа не несет никакого ущерба из-за зимнего окоченения.
26. Стрелец, который из всего семейства зодиака является самым нижним и последним, перерождается из человека в зверя, притом в своей задней части членов [тела], как бы сброшенный с верхних [мест зодиака] в нижние. Стрелу же он выпускает, чтобы указать, что жизнь всего целиком сохраняется благодаря лучу солнца, даже идущего из самой нижней части [зодиака]. Козерог, возвращая солнце из нижних частей [зодиака] в выси, кажется, подражает природе козы, которая, пока пасется, всегда настойчиво стремится к вершинам вздымающихся скал.
27. [А] разве Водолей не показывает саму силу солнца? Ведь с чего бы дождь падал на землю, если бы жар солнца не тащил влагу в выси, истечение которой дождем является [очень] обильным? В конце вереницы [созвездий] зодиака расположены Рыбы, которые, как прочие, посвящаются солнцу, в чем проявляется не их собственная природа, но могущество [этой] звезды, от которой дается жизнь не только воздушным и земным живым существам, но также [и] тем, обитание которых, окутанное водами, как бы спрятано от взора солнца. [Однако] сила солнца является такой, что оно посредством проникновения [в глубины] оживотворяет даже скрытое [под водой]. [И] чем иным должен считаться сам Сатурн, который является создателем времен, — и потому при перемене буквы зовется Кронос, почти что Хронос, — если не солнцем, так как утверждают, что вереница составляющих частей [неба] разделена счислением времени, сделана видимой светом, стянута вечной связью, различаема зрением, каковое все показывает деяние солнца?
XXIII. 1. Кажется, что и сам Юпитер, царь богов, не отдален от природы солнца, но ясные указания учат, что Юпитер и солнце суть одно и то же. Ведь когда Гомер пишет:
2. Корнифиций утверждает, что под именем Юпитера [тут] мыслится солнце, которому волны Океана служат как бы кушаньем. Потому ведь, как утверждают и Посидоний и Клеанф, ход солнца не отклоняется от области, которую называют жаркой, что близ [нее] самой бежит Океан, который и огибает и разделяет землю. Да [и] согласно утверждению всех фюсиков, тепло питается влагой.
3. Ведь в описании: «С сонмом богов… отшел», — подразумеваются звезды, которые вместе с ним в ежедневном повороте неба несутся к [своим] заходам и восходам и вместе с ним же питаются влагой.
4. Прибавляет [еще] поэт: «Но в двенадцатый… снова», — обозначая число не дней, а часов, за которые они возвращаются к восходу в верхней полусфере.
5. К этому же [самому] мнению ведут наш ум также эти [вот] слова из «Тимея» Платона: «Великий предводитель на небе, Зевс, на крылатой колеснице едет первым, все упорядочивая и обо всем заботясь. За ним следует воинство богов и демонов, выстроенное в одиннадцать отрядов, — одна только Гестия не покидает дома богов». Он хочет, чтобы в этих вот словах под именем Юпитера понимали великого вождя в небе — солнце,¹⁸ посредством крылатой колесницы показывая скорость [этой] звезды.
6. Ведь потому что [оно], в каком бы ни находилось созвездии, превосходит все созвездия, и звезды, и богов — хранителей созвездий, кажется, что [оно] предводителем шествует впереди всех богов, [притом] все устраивая и упорядочивая, и [что] потому как бы его войском считаются прочие боги, распределенные по одиннадцати видам созвездий, потому что [оно] само, в каком бы созвездии ни находилось, занимает место двенадцатого созвездия.
______________________________
[18] Корень iov или diov, повторяющийся в латинских словах divus, dius, deus, dies, interdiu; в греческих Ζεύς (Διός), означает светить, сиять, причем обе разновидности корня, iov и diov, встречаются в италийских диалектах — древнелатинском и оскском. Кроме позднего и обычного названия бога — Juppiter, — встречаются более древние и областные, Diovis, Jovis, Diovispater, Juvepater, Jupater и сохранившееся в культе фециалов Diespiter. Первоначальное значение слова Юпитер, как божества небесного света и неба, подтверждается выражением sub Jove (sub divo — под открытым небом). В древнейших ритуальных формулах он призывался, подобно Марсу (Marspiter), как отец — эпитет, который вошел, второй составной частью (-piter), в имя бога Юпитера, которое в дословном переводе имеет вид «небесный отец».
8. [То] же, что он прибавляет: «Одна только Гестия не покидает дома богов», — означает, что она, о которой мы слышим, является землей, потому что она одна остается неподвижной внутри дома богов, то есть внутри мира, как считает Еврипид:
9. Отсюда также доказывают, почему следовало бы думать о солнце и Юпитере, когда в одном месте говорится:
10. Также [и] ассирийцы в городе, который называется Гелиополем, с величайшими торжествами почитают солнце под именем Юпитера, которого именуют Зевсом Гелиополитом.
12. Но [то], что он [Зевс] является тем же [самым] Юпитером и солнцем, распознается как из самого обряда священнодействий, так [и] из [его] облика. Ведь золотое изваяние с безбородой наружностью стоит в положении возничего с плетью в поднятой правой [руке], левая [рука] держит молнию и колосья, каковое все показывает соединенную мощь Юпитера и солнца.
21. (…) теологи указывают, что мощь солнца относится к вершине всех сил. Они указывают на это в священнодействиях весьма краткой молитвой, говоря: «О солнце — всевластитель! [Ты] душа мира, сила мира, свет мира!»
22. И Орфей свидетельствует, что солнце является всем, в таких стихах:
_______________________________
(Convivia Saturnalia. Macrobii Ambrosii Theodosii)
VII. 19. Этой страной, которую ныне зовут Италия, управлял Янус (греч. Ἰανός, лат. Janus). Он, как передает Гигин, следуя Протарху Траллийскому, владел этой землей наравне с [ее] коренным жителем Камесом, разделив власть так, что страну стали называть Камесена, [а] город — Яникул.
20. Потом правление было передано одному Янусу, который, полагают, получил два лица, чтобы видеть [то], что было впереди (ante), и то, что за спиной (post). Это, без сомнения, следует отнести к предусмотрительности и хитрости царя, который, [таким образом], и прошедшее знал, и будущее предвидел. [Будущее и прошедшее] почитаются у римлян как [богини] Антеворта (Antevorta) и Постворта (Postvorta), самые подходящие, надо думать, спутницы божественности.
21. Итак, этот Янус, когда пригласил в гости прибывшего на кораблях Сатурна и, обученный им умению обрабатывать поля, улучшил тот дикий и грубый образ жизни, [который был] до знакомства со злаками, предложил ему участие в управлении.
22. Когда он первым же стал чеканить деньги, то выразил уважение к Сатурну тем, что с одной-то стороны [монеты] велел оттискивать изображение собственной головы, а с другой — корабля, чтобы тем [самым] увековечить память о Сатурне среди потомков, так как тот прибыл [в Италию] на корабле. Что деньги были отчеканены [именно] таким образом, сегодня подтверждает и азартная игра, когда мальчишки, бросая денарии вверх, кричат во время игры — свидетеля древности: «Головы!» — или: «Ладьи!».
23. Что они совместно и дружно правили и общими стараниями основали по соседству города, кроме Марона, который повествует: «Имя Яникул сему, а тому — Сатурния имя», — показывает также [и] то, что потомки посвятили им два соседних месяца: декабрь [был] священным даром Сатурну, [а] январь имел имя другого.
24. Когда Сатурна не стало, Янус задумал увеличить ему почести. Во-первых, всю землю под своей властью он назвал Сатурновой вотчиной. Затем он учредил [для него] жертвенник вместе со священнодействиями, которые назвал Сатурналиями. На столько [вот] веков Сатурналии превосходят возраст римской столицы! Он приказал также, чтобы Сатурна почитали величественным богослужением как создателя лучшей жизни. Доказательством [этого] служит его изображение, к которому Янус присоединил серп — знак жатвы.
IX. 2. Мифографы сообщают, что, в правление Януса, дома всех [людей] были защищены благочестием и святостью, и что поэтому ему были назначены божеские почести, и ему же за заслуги [были] посвящены входы и выходы зданий.
3. Также Ксенон Италийский передает, что Янус первым в Италии устроил храмы богам и установил обряды священнодействий. [И] поэтому он заслужил вечной первоначальной молитвы в священнодействиях.
4. Некоторые считают, что он называется двуликим, потому что знал прошедшее и предвидел будущее.
________________________________________
 Сиракузы (Συράκοσαι), Сицилия.
Сиракузы (Συράκοσαι), Сицилия.Дилитрон (AR 12mm, 1.66g), ок. 344-317 до н.э. Выпуск времен правления Тимолеона (Τιμολέων) и Третьей Демократии.
Av: двуликий образ Аполлона и Дианы; два дельфина справа; ΣYRAKOΣIΩN
Rv: скачущий конь.
5. А фюсики (φυσικοί, философы ионической школы) причисляют его к богам с помощью внушительных доказательств [его] божественности. Ведь они вещают, что один и тот же Янус является и Аполлоном и Дианой, и утверждают, что в нем одном запечатлено и то, и другое божество.
6. Ведь, как сообщает также Нигидий, у греков почитается Аполлон, который зовется Привратный, и его жертвенники они часто устраивают перед своими воротами, показывая, что он лично повелевает входами и выходами. Также Аполлон нарекается у них Агюйевс (Ἀγυιεύς, хранитель путей) наподобие управляющего городскими дорогами, ибо агюйи (ἀγυιά) они называют дороги, которые находятся внутри помериев. Диане же как Трехдорожной [богине] они предоставляют владение всеми дорогами.
7. Впрочем, [и] у нас имя Януса, которое является сходным [с именем] «Привратный», показывает, что он предводительствует всеми дверями (ianuis). Ведь он изображается и с ключом, и [с] палкой наподобие и сторожа всех ворот, и управителя [всех] дорог.¹
______________________________
[1] Янус стоит у врат зимнего солнцеворота. Отмыкая своим ключом врата, он впускает солнце, открывая, тем самым, новый год. Иногда Януса изображали с виноградной лозой (символ осени) в одной руке и ключом — в другой. Что также говорит о его пограничном положении на стыке осени (заканчивающейся Сатурналиями и солнцеворотом) и зимы, концом старого года и началом нового.
8. [Так], Нигидий вещал, что Аполлон — [это] Янус, и Диана — [это] Яна.
9. Некоторые хотят, чтобы Януса представляли солнцем и вследствие этого двойником, кем-то вроде владеющего той и другой небесной дверью, чтобы он, восходя, выпускал день, заходя, закрывал [его].
10. Далее, и его изображают большей частью держащим в правой руке [знак] числа триста (ССС), а в левой — [числа] шестьдесят пять (LXV), чтобы показать измерение года, которое является преимущественным делом солнца.
12. Пунийцы, выставляя в священнодействиях его изображение, приделывали [к нему] змею, изогнутую в круг и кусающую свой хвост, чтобы показать, что мир и из себя самого взращивается, и в себя [самого] возвращается.
13. И у нас он смотрит на четыре стороны, как показывает его изображение, привезенное из Фалерий. В той книге «О богах», которую составил Гавий Басс, двуликий Янус представляется наподобие верхнего и нижнего привратника, то есть четырехликим, как бы охватившим благодаря [своему] величию все области [мира].²
______________________________
[2] Относительно этрусского божества Ани (отождествляемого с Янусом) есть данные античной традиции. Ани широко почитался в Этрурии и имел облик не с двумя лицами, как у Януса римлян, а с четырьмя (лат. Ianus Quadrifrons). Как сообщает Сервий, его четырехстороннее изображение было перенесено из Фалерий в Рим в 241 году до н.э. (Serv. Aen., VII, 607). Есть основания полагать, что четыре лица бога представляли собой четыре солнцеворота, четыре главных праздника в году.
14. Также в древнейших песнях салиев [о нем] поется: «Бог богов».³ Еще и Марк Мессала, товарищ Гнея Домиция по консульству и также авгур в течение пятидесяти пяти лет, так начинает [речь] о Янусе:
«Он все создает и им же управляет. Он связал тяжелую и стремящуюся в глубину, распадающуюся сущность и природу воды и земли и легкую, бегущую в бездонную высь [сущность и природу] огня и воздуха, расположив вокруг [них] небо».______________________________
[3] Янус — самый загадочный бог Древнего Рима. В мифах о Янусе прослеживаются истоки древнейших верований, где Янус представал как первобытный Хаос (Hianus), из которого возник весь мир. Его называют созидателем, богом богов, предтечей всего божественного ареопага. Янус в древних гимнах Салии (большой Сатурн), от которого якобы берут начало все остальные боги, заявляет следующее: «древность зовет меня Хаос». «Ты, из богов древнейший, скажи, прошу тебя, Янус»… (Ювенал, Сатира шестая, 394). В этом процессе становления Янус превращается в бога-блюстителя мирового порядка, вращающего ось мира.
В римской традиции Янус считался богом входа и выхода, богом ворот. Такой взгляд на Януса могли принести в Рим этруски. «Янус (этруск. Ани), как бог-созидатель, отделил мир от Хаоса и, по аналогии с богами-создателями в индоевропейской традиции, отошел от активной деятельности, что подтверждается легендой о передаче им власти богу Сатурну (этруск. Сатре). В поздние этрусские времена бог Янус слился с богом Кулсаном, что подтверждает ряд фактов, в том числе потеря Янусом значения в римской мифологической традиции, которая была во многом ориентирована на религиозную этрусскую традицию. Забывание значимости бога в древнем пантеоне приводит к переосмысливанию его функций и их профанизации, в результате чего древний великий бог, сливается в представлении народа с каким-то незначительным, но более известным божеством, что, видимо, и произошло с Янусом и Кулсаном». (Наговицын А.Е.)
15. В священнодействиях мы зовем [его] также «Янусом Двуобразным, Янусом Отцом, Янусом Юнонием, Янусом Сеятелем, Янусом Квирином — Копьеносцем, Янусом Открывающим и Запирающим».
16. Почему мы зовем [его] «Двуобразным», мы сказали уже выше; «Отцом» [мы его зовем] подобно богу богов; «Юнонием» — подобно владеющему наступлением не только месяца января, но [и] всех месяцев — во власти
 же Юноны⁴ находятся все календы, — откуда и Варрон в пятой книге «Божественных дел» пишет, что Янусу посвящены двенадцать жертвенников соответственно такому же [числу] месяцев [года]. «Сеятелем» [мы его называем] от посева, то есть от потомства человеческого рода, которое сеет Янус-творец; «Квирином-Копьеносцем» [называем] как зачинателя войн — по [имени] копья, которое сабиняне зовут quiris; «Открывающим и Запирающим» — потому что в войну проходы его [храма] открываются, а во время мира — закрываются.
же Юноны⁴ находятся все календы, — откуда и Варрон в пятой книге «Божественных дел» пишет, что Янусу посвящены двенадцать жертвенников соответственно такому же [числу] месяцев [года]. «Сеятелем» [мы его называем] от посева, то есть от потомства человеческого рода, которое сеет Янус-творец; «Квирином-Копьеносцем» [называем] как зачинателя войн — по [имени] копья, которое сабиняне зовут quiris; «Открывающим и Запирающим» — потому что в войну проходы его [храма] открываются, а во время мира — закрываются.______________________________
[4] В своей книге «Золотая ветвь» Фрейзер рассматривает Януса как прообраз бога леса и вегетации, где главная идея — победа юного бога весны над зимой. Здесь же основа мистериальных культов Диониса, Аттиса, Адониса, Осириса. По Фрейзеру, это общее выражение религиозной магии превращения природы, заключающегося в смерти и сменяющего ее воскресения.
В дубравах Неми Януса чтили под именем Дианус. В древней италийской мифологии известно обручение Диануса и Дианы — богини леса и плодородия. Поскольку Янусу, как и Юпитеру, посвящен дуб, Фрейзер полагает этих богов идентичными, как идентичны Юнона и Диана. Кроме того, в Додоне Зевс почитался под именем Nάιος (или Νάος), но еще большим уважением пользовалась Диона, древнейшая догреческая богиня Земли, супруга Зевса. По словам Страбона (VII, 329), женщины стали давать прорицания в Додоне именно со времени введения культа Дионы.
X. 1. В Сатурналии (…) считалось нечестивым предпринимать войну, греховным — требовать в эти же [самые] дни наказания преступника.
18. Сатурналии были один день и их праздновали исключительно в четырнадцатый [день] до январских календ. В этот день, устроив пиршество, у храма Сатурна провозглашали Сатурналии. Ныне этот день в пределах Сатурналий считается Опалиями, так как первый [день] празднества равным образом был посвящен Сатурну и Опе (лат. Ops).⁵
19. Верили, что богиня же эта Опа [была] супругой Сатурна, и потому в этот месяц празднуют Сатурналии и также Опалии, так как считают, что Сатурн и его жена являются создателями как плодов, так [и] злаков. Итак, когда уже собран весь урожай [с] полей, эти боги почитаются людьми подобно творцам обустроенной жизни.
20. Некоторые также убеждены, что они являются небом и землей, и что Сатурн, чье происхождение — от неба, назван от [слова] «satu» (сев), и земля, [с] помощью которой приобретается питание [для] человеческой жизни, [названа] Опой от [слова] «ореrе» — труд, при посредстве которого рождаются плоды и злаки.
21. Молитвы с обетами этой богине произносят сидя и с усердием касаются земли, показывая [тем самым], что смертным надлежит уважать землю [как] саму мать.
_____________________________________
 Пертинакс (Publius Helvius Pertinax, 193). Рим. Сестерций (Æ 26.82g).
Пертинакс (Publius Helvius Pertinax, 193). Рим. Сестерций (Æ 26.82g). Av: голова Пертинакса, в лавровом венке; IMP CAES P HELV PERTIN AVG
Rv: богиня Опа (лат. Ops) сидит на троне с колосьями в руке; OPI DIVIN TR P COS II
23. Сатурналии [сначала] праздновали обыкновенно в течение одного дня, то есть в четырнадцатый [день до] календ, но потом они [были] расширены до трех дней: во-первых, из-за дней, прибавленных Цезарем этому месяцу; затем по распоряжению Августа, которым он постановил праздновать Сатурналии в течение трех дней. Таким образом, начатые в шестнадцатый [день], они завершаются на четырнадцатый [день], которым раньше они обычно ограничивались.
24. Впрочем, прибавленное [к Сатурналиям] празднество Сигиллярий (Sigillaria) распространяет общественное гулянье и благочестивое ликование на семь дней (17-25 декабря).⁶
______________________________
[5] Опа, будучи Матерью-богиней, почиталась как божество плодородия, посевов, богатой жатвы. Один из эпитетов Опы — Консивия (Consivia, «сеятельница»).
[6] С именем Сатурна было связано представление о золотом веке, когда народ жил в изобилии и вечном мире, не знал рабства, сословных неравенств и собственности, когда всё было общим. Учредителем культа Сатурна считается Тулл Гостилий, третий царь Древнего Рима (правил 673-641 до н.э.; этруск, являлся родоначальником Луцеров).
XI. 47. Теперь надо немного рассказать о Сигилляриях. (…) Эпикад сообщает, что после убийства Гериона, когда победитель Геркулес вел [его] стадо через Италию, построив в [то] время мост, который ныне зовется Свайным, он пустил по реке изображения людей по числу товарищей, которых [его] лишили превратности путешествия, чтобы они, принесенные течением воды в море, как бы возвратились в отеческие места вместо тел скончавшихся. И с той поры среди священнодействий сохранился обычай создания таких изображений.
48. Но мне более верным кажется то возникновение этого [обычая], о котором несколько раньше я не преминул сообщить. [Напомню, что] пеласги, после того как более подходящее толкование [предсказания] объяснило, [что слово] «головы» означает не [головы] живых [людей], но [их] глиняные [изображения], и значение [слова] «фотос» (φωτός) — не только «человек», но также и «свет», начали лишь зажигать для Сатурна восковые свечи и приносить в святилище Дита (Аида), примыкающее к жертвеннику Сатурна, какие-то восковые фигурки вместо голов своих [соплеменников].
49. Согласно этому [было] завещано посылать [друг другу] в Сатурналии восковые свечи, и изготовлять [с помощью] гончарного искусства фигурки (sigilla), и покупать [их], выставленных на продажу. Их люди делали искупительной жертвой Сатурну как Диту за себя и своих [близких].
50. Начатое в Сатурналии такое торговое празднество занимает семь дней, которые хотя [все] были свободными, но не все праздничными.
XII. 5. Это упорядочение [года] принадлежало Ромулу, который первый месяц года посвятил своему родителю Марсу.
8. Второй месяц он именовал апрелем, [произнося звук «п» в этом слове] с придыханием, как некоторые считают, [то есть] как бы «афрелем», от [слова] «пена», которую греки называют ἀφρόν (афрон), откуда, думают, вышла Венера. И утверждают, что замысел Ромула был таков: первый месяц назвать [именем] своего отца Марса, [а] второй — [именем] матери Энея Венеры, [чтобы] они, от кого возник римский народ, — так как и сегодня в священных обрядах мы зовем Марса отцом, [а] Венеру — прародительницей — охраняли главным образом истоки года.
10. Ведь и в двенадцати созвездиях зодиака, из которых отдельные [созвездия] считаются жилищами определенных божеств, первое созвездие Овна предназначено Марсу, следующее затем [созвездие], то есть [созвездие] Тельца, приняло Венеру.
11. И [созвездие] Скорпиона на прямо противоположной [стороне зодиака] было разделено между тем и другим богом. И считают, что само [это] разделение [созвездия Скорпиона] не лишено божественного смысла, так как [его] задняя часть, вооруженная жалом наподобие мощнейшего дротика, является жилищем Марса, а переднюю часть [созвездия, для] которой у греков есть имя ζυγός (дзюгос), [а] мы зовем [ее] Весами, получила Венера, которая как бы ярмом (iugo) уз связывает супружества и скрепляет содружества.⁷
______________________________
[7] Венера — управитель зодиакальных Тельца и Весов, а Марс — Овна и Скорпиона.
14. Так как почти до весеннего равноденствия небо является мрачным и затянутым тучами, да и море закрыто [для] плавающих, также сама земля покрывается или водой, или изморозью, или снегами, и [так как] все это открывается в весенний месяц [апрель], также деревья и [все] прочее, что содержит земля, начинает обнаруживать себя в побегах, — поэтому нужно согласиться, что [этот] месяц заслуженно зовется апрелем, [то есть] как бы аперилем — [открывающим], подобно тому как у афинян этот же самый месяц зовется цветущим от того, что в это время все вокруг расцветает.
XVII. 2. Не думай, мой Авиен, будто сообщество поэтов, когда они рассказывают о богах, не заимствует основу по большей части из святилищ философии. Ведь то, чтобы они соотносили с солнцем почти всех богов, поскольку они находятся под небом, советует [им] не пустое суеверие, но священная наука.
5. Итак, ту способность солнца, которая ведает прорицанием и попечительством, назвали Аполлоном; [а та способность солнца], которая является творцом речи, получила имя Меркурия. Ведь потому что речь истолковывает скрытые мысли, Гермес (Ἑρμῆς) был назван свойственным [ему] именем от [слова] ἑρμηνεύειν (толковать, разбирать, объяснять).
6. Солнцу принадлежит способность, которая [заведует] пользой; у него же есть действие, которое заведует плодами. И отсюда зародились названия [как будто] других богов, которых доверительное и тайное учение относит к солнцу.
42. Аполлона называли Отцовским (Πατρῷος) не вследствие принадлежности [его] культа одному роду или общине, но как виновника порождения всех вещей, потому что солнце, иссушив влагу, предоставило всему основание для зарождения, как говорит Орфей: «Умный наказ отцовский и заботливый разум».
43. Откуда мы также зовем отцом Януса, почитая солнце под этим именем. Пастушеским Аполлона прозвали не из-за пастушеской службы и сказки, на основе которой воображают, будто он пас скот царя Адмета, но потому что солнце пасет все, что порождает земля.⁸
45. У камиренцев есть храмы [Аполлона] Эпимелия (Ἐπιμελίη, Ἐπιμελής, Заботливый, Попечитель) как пастуха овец; у наксосцев — Поймния (Ποίμνιος, Ποιμήν, Пастырь); и также [у них] почитается бог Арноком (от ἀρνός, ἀρνῶν — баран), а у лесбийцев — Μαλόεις («Охраняющий овечьи стада»; от μᾶλον, μῆλον — овца или коза). И у разных общин существуют многие [другие] прозвища [Аполлона], относящиеся к [его] службе бога-пастуха (Νόμιος θεός).
47. Златовласым Аполлон называется из-за блеска лучей, которые зовут золотистыми волосами солнца, откуда [его именуют еще] и χρυσοκόμης («златокудрый»). Также [его называют] Φοῖβος («лучезарный»), Λυκηγενής («светорожденный»), Ἀργυρότοξος («сребролукий»), Κλυτότοξος («со славным луком»), Χρυσάορος (Хризаор, «с золотым мечом», от ἄρης, меч).
______________________________
[8] Народная этимология имени Аполлона основывается на созвучии со словом αἰπόλον — козопас.
αἰπόλος (αἰ-πόλος) ὁ козопас Hom., Plat., Theocr., Men., Anth.
52. Говорят, что Юнона противодействовала Латоне, ожидающей рождения Аполлона и Дианы. И когда роды прошли, к колыбели богов проник змей, которого звали Пифон (Πύθων), и Аполлон, [несмотря] на ранний возраст, сразил чудовище стрелами.

60. Именем же стрел обозначается только испускание лучей, которые представляются наиболее длинными в то время, в какое весьма высоко [стоящее] солнце завершает годовой бег в самые длинные дни летнего солнцестояния. Поэтому [оно] называется Хекэболос и Хекатэболос (Ἑκηβόλος и Ἑκατηβόλος, «стрелок») — издали (ἕκητι) бросающим (βόλον) лучи, [то есть] беспрестанно посылающим на землю лучи из самого отдаленного и самого высокого [своего] положения.
61. О [его] прозвище Πύθιος («Пифий», по храму в Πυθώ, у горы Парнас в Фокиде) могло бы хватить [уже] того [известного], если бы не заявляло о себе следующее основание этого же имени. Ведь когда солнце совершает летний солнцеворот в созвездии Рака, в котором находится предел самого длинного дня и откуда [его] отступление ведет к уменьшению [долготы] дней, в это время [оно] называется Пифием как πύματον φεύγων (к пределу бегущее), то есть пробегающее последний путь.
62. Это же [самое] имя подходит ему и [тогда], когда представляют, что оно проделало последний пробег самого короткого дня, вступая опять в [созвездие] Козерога. И потому напоминают, что в том и другом созвездии, когда проделан годичный путь, Аполлон одолел дракона, то есть [проделал] свой извилистый путь. Это мнение сообщил в [своих] «Этимологиях» Корнифиций.
63. С другой стороны, этим двум созвездиям, которые зовут вратами солнца, Раку и Козерогу, имена достались потому, что рак — живое существо идет назад и вбок, и тем же [самым] образом солнце в этом созвездии начинает совершать боковое отступление. У пасущейся же козы [есть], кажется, такая привычка, что она на пастбище устремляется высоко [на холмы]. Но [ведь и] солнце в [созвездии] Козерога начинает снизу возвращаться в высь [неба].
64. Аполлона зовут [еще] Парным (Ἀρτιότης), потому что он сам проявляет парный облик своего божества освещением и показом вида луны. Ведь из одного источника света парной звездой он освещает [в] пору дня и ночи. Откуда и римляне почитают солнце под именем и [в] образе Януса [с] наименованием [его] Аполлоном Парным.
66. Кроме того, гиерополитанцы, которые принадлежат к племени ассирийцев, передают все действия и способности солнца в образе одного-единственного бородатого изваяния и называют его Аполлоном.
67. Его широкое лицо обрамлено остроконечной бородой. На голове высится корзинка. Изваяние покрыто [нагрудным] панцирем; правая [рука] держит прямо стоящее копье с помещенной наверху небольшой статуей [богини] Победы (Νίκη); левая протягивает изображение цветка; и с высоты плеч спину покрывает горгонина накидка (αἰγίδος, эгида), окаймленная змеями. Рядом орлы воспроизводят подобие полета; перед ногами находится женское [погрудное] изваяние, правая и левая [руки] которого являются очертаниями женщин; змей обвивает их извилистыми кольцами.
XVIII. 1. То, что мы сказали об Аполлоне, можно также считать сказанным о Либере. Ведь Аристотель, который написал «Богословие» (Θεολογία), убеждает многими разными доводами, что Аполлон и Либер-отец есть один и тот же бог.
2. Также у лакедемонян в священнодействиях, зовущихся Гиацинтиями, которые справляют для Аполлона, увенчиваются плющом по вакхическому обряду.
3. Равным образом беотийцы, [даже] помня, что Парнасская гора посвящена Аполлону, все же почитают на ней же и Дельфийский оракул и Вакхические пещеры, [как] посвященные одному богу. Откуда на одной и той же горе отправляется богослужение и Аполлону и Либеру-отцу.
7. Но хотя после того как раньше [уже] было подтверждено то, что Аполлон и солнце есть одно и то же, и после того как потом было сказано, что [оно] само есть Либер-отец, который является Аполлоном, нет никакого сомнения, что солнце и Либер-отец должны считаться одним и тем же божеством, все же это, безусловно, будет [еще] подкрепляться весьма убедительными доводами.
8. Ведь в священнодействиях сохраняется то соблюдение благочестивого таинства, что солнце, когда оно пребывает в верхней, то есть в дневной, полусфере, зовется Аполлоном, когда — в нижней, то есть ночной, считается Дионисом, который есть Либер-отец.
9. Также Либера-отца делают в изваяниях частично детского возраста, частично — юношеского. Кроме того, с бородой, также в виде старца, как [в образе] того, кого греки [называют] Бассареем,⁹ так [и в образе того], кого они называют Брисеем,¹⁰ и [в том виде], как [его] славят неаполитанцы в Кампании, называя Хебон.¹¹
______________________________
[9] Βασσαρεύς — эпиклеса Диониса; происходит от названия мистериальной накидки из лисьих шкур (βασσάρα, «бассара»).
[10] Βρίθει (Брисей) — «Податель даров» (досл. «изобилующий»).
[11] Ἡβών (Хебон) — прозвище Диониса (от ἡβάω — быть в юношеском возрасте, сохранять юношескую свежесть, быть полным сил).
10. Эти же различия возрастов относятся к солнцу: оно считается младенцем в зимнее солнцестояние, [в виде] какового египтяне выносят [его] в определенный день, потому что тогда, в самый короткий день, оно считается дитятею и ребенком. Затем же, когда после весеннего равноденствия наступает прибавление [дня], оно соответствующим образом и обретает силы подрастающего [ребенка] и украшается юношеской внешностью. Потом его самый зрелый возраст в летнее солнцестояние показывает наличие бороды, в каковое время [день] достигает своего высшего увеличения. Затем из-за уменьшения [дня] бог наделяется четвертым обликом, как бы старческим.
11. Равно и во Фракии, мы слышали, одним и тем же считается солнце и Либер, которого там прославляют пышным богослужением, называя Сабазием (Σαβάζιος), как пишет Александр, и на Зилмисском холме находится посвященный этому богу храм круглой формы, крыша которого имеет отверстие посередине.
12. Также Орфей, желая, чтобы солнце было [ясно] постигнуто, говорит среди прочего:
«Плавя дивный эфир, недвижный, прежде уж сущий,
Свет дает божествам, чтоб вид прекраснейший видеть.
Ныне Фанет пресветлый его прозывают и также
Дионис, Эвбулей и правитель, ясный тоже Антивгес.
Разно разные люди его на земле называют.
Первый явился в лучах, был назван Дионис затем,
Чтоб пребывать уже на широком Олимпе бескрайнем».
13. Он назвал солнце Фанетом — от фотос (φωτός) и фанеру (φανερῷ, φανερός), то есть от света и освещения, потому что, созерцая все, оно всем видно.
15. Фюсики [называют] Дионисом ум Зевса (Διός νόος), они говорят, будто солнце является умом мира. Мир же называется небом, которое они зовут Юпитером.
16. Римляне называют его Либером, потому что оно является свободным (liber) и странствующим, как утверждает Невий: «Солнце, странствуя, огненные вожжи Отпускает к земле и крепко вяжет».
18. [О том], что солнце является Либером, Орфей открыто вещает в таком стихе:
«Гелиос, коему имя Дионис ими дается».
И этот именно стих весьма понятен, а тот [вот стих] того же [самого] пророка очень труден:
«Зевс и Аид — одно, и Гелиос тож и Дионис».
19. (…) оракулом Аполлона Кларосского (Κλάριος, по названию города Κλάρος на ионийском побережье Малой Азии) солнцу дается также другое имя. В тех самых священных стихах оно называется среди прочего Яо (Ἰάω). Ведь Аполлон Кларосский, будучи спрошен, кто из богов должен считаться [тем], которого зовут Яо , так возвестил:
«Таинство знающим средство от боли скрыть повелело.
Есть же знанье невелико и слабый умишко.
Ты назначаешь бога Яо быть из всех самым крайним:
В зимнюю пору Аид есть, с весны же началом — тут Зевс,
Летом — Эелиос, осенью уж — Яо роскошный».
21. Сути этого оракула и толкований божества Яо, которым обозначается Либер-отец и солнце, последовал Корнелий Лабеон в книге, у которой название «Об оракуле Аполлона Кларосского».
22. Также и Орфей, показывая, что Либер и Солнце являются одним и тем же [самым] богом, так пишет о его наряде и одежде в священнодействиях Либералиях:
«Это все, венчанное весной нарядной, свершает
Плоть божества — подобие всюду славимого солнца.
Прежде всего же, с лучами пылающими сравнимый,
Плащ на нем был накинут багряный, подобный огню;
Сверху оленья привязана пестрая длинная
Шкура; на правом мощном плече — пятнистая зверя —
Образ неба святого складно исполненных звезд.
Сверх уже шкуры оленя наброшен пояс весь в злате,
Грудь окружая сиянием, знак он несет превеликий,
Что, поднимаясь в свечении из пределов земли.
Ты бросишь златые лучи на поток океана.
Будет свет несказанный сверху в смеси со влагой.
Засверкает в водоворотах, вращаясь по кругу,
Пред божеством. Под грудью же пояс неизмеримый
Круг океана являет, чудо великое кажет».
XIX. 1. То, что сказано о Либере-отце, показывает, что Марс — он же и солнце, поскольку многие, доказывая, что есть один бог, связывают Либера с Марсом. Откуда Вакх называется «Убийственным», каковое [имя] находится среди собственных имен Марса (Φόνιος).
2. У лакедемонян почитается также изображение Либера-отца, наделенного копьем, [а] не жезлом. Но и когда он держит жезл, что иное он несет, как [не] прикрытый дротик? Его острие скрывает обвивающий плющ, что показывает необходимость обуздывать порывы к войне посредством неких уз терпения. Ведь плющ имеет способность опутывать и обвязывать. Также и жар вина, подателем которого является Либер-отец, часто возбуждает людей вплоть до воинственного неистовства.
3. Итак, из-за сродной пылкости действия того и другого решили, что Марс и Либер есть один и тот же бог. Римляне уж точно удостаивают обоих па — именования отца, называя одного Либер-отец, [а] другого — Марспитер (Marspiter), то есть Марс-отец.
4. Отсюда Либер-отец признается также способным к [ведению] войн, потому что его объявили первым устроителем триумфа. Так как, следовательно, Либер-отец есть также и солнце, а Марс — также и Либер-отец, кто стал бы сомневаться, что Марс является солнцем?
7. [О том] же, что Меркурий признается солнцем, выше [уже] было доложено при [общем] одобрении. Еще и оттого явствует, что Аполлон и Меркурий истинно есть одно и то же, что у многих народов звезда Меркурия именуется Аполлоном и что Аполлон предводительствует Музами (Μουσηγέτης, «Предводитель муз»), [а] Меркурий наделяет [людей] речью, что является [также] назначением Муз.
8. Есть также много свидетельств, кроме этого, что Меркурия принимают за солнце. Во-первых, [то], что изображения Меркурия украшаются огненными крыльями, каковое обстоятельство показывает стремительность [движения] солнца.
9. Ведь так как мы знаем, что способность разумения [была] названа Меркурием — так мы понимаем [его наименование] от [слова] ἑρμηνεύω (истолкование), — а солнце — это мировой разум, быстрота же ума является величайшей, поэтому Меркурий, как бы сама сущность солнца, украшается крыльями.
10. Очень ясно выделяют этот признак египтяне, изготавливающие оперенные изображения самого солнца, цвет которых у них не одинаков. Ведь они изготавливают одно [изображение] темного вида, [а] другое —
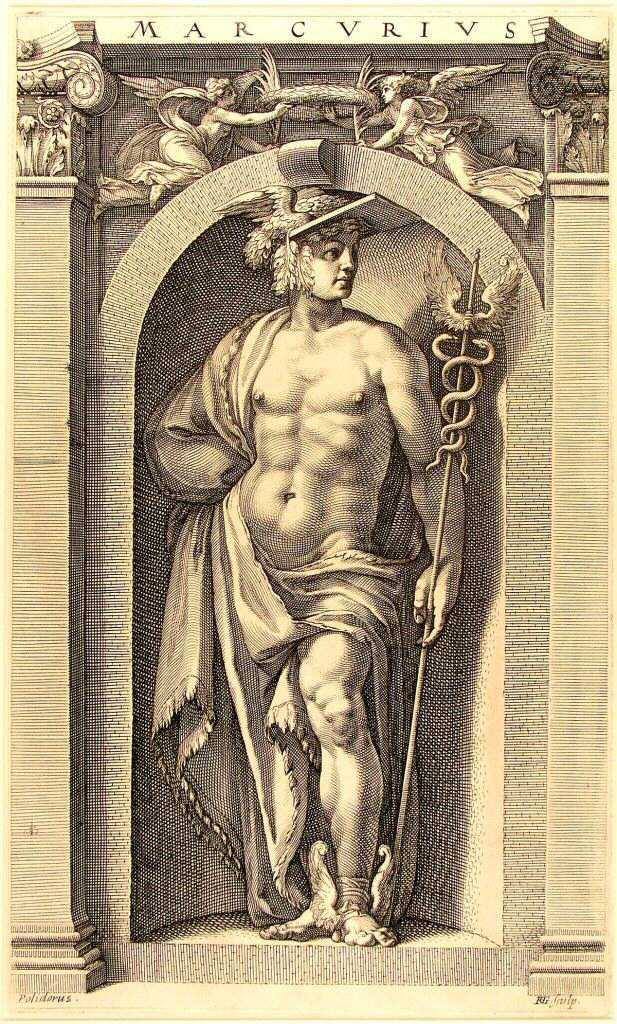 светлого. Светлое они зовут верхним, а темное — нижним. Имя же нижнего дается солнцу, когда оно совершает свой бег в нижнем полушарии, то есть в зимних созвездиях [зодиака]; [а] верхнего — когда оно обходит летнюю часть зодиака.
светлого. Светлое они зовут верхним, а темное — нижним. Имя же нижнего дается солнцу, когда оно совершает свой бег в нижнем полушарии, то есть в зимних созвездиях [зодиака]; [а] верхнего — когда оно обходит летнюю часть зодиака.11. Существует эта же присказка [и] относительно Меркурия, [но] в другом пересказе, когда он считается служителем и вестником [при общении] между верхними и нижними богами.
12. Сверх того, его называют Аргоубийцей (Ἀργειφόντης),¹² [но] не потому, что он одолел Аргуса, который, сообщают, наделенный множеством глаз, обходя [дозором], сторожил по повелению Юноны дочь Инаха Ио, соперницу этой богини, превращенную в корову, а [потому, что] в этом рассказе Аргус — это небосвод, усеянный блеском звезд (ἀργός — блистающий, сверкающий), в которых заключается, кажется, какой-то образ небесных глаз.
13. С другой стороны, решили, что небо называют Аргусом из-за яркости и скорости [движения, по-гречески] — παρά τὸ λευκὸν καὶ ταχύ. И кажется, что он осматривает землю сверху (египтяне, когда хотят обозначить ее иероглифическими буквами, употребляют изображение коровы). Так вот, этот круговорот неба, украшенный огнями звезд, тогда считается погубленным Меркурием, когда солнце в дневное время, затмевая звезды, как бы уничтожает [их], силой своего света отнимая у смертных их созерцание.
______________________________
[12] «Из Меркуриев один родился от отца Урана и матери Гемеры (Ἡμέρα, «день»), у него, по преданиям, позорно похотливая природа, так как он возбудился при виде Прозерпины. Еще один, сын Валента и Корониды, живет под землей, он зовется еще Трофонием. Третий — сын Юпитера третьего и Майи; от него и Пенелопы, говорят, родился Пан. Четвертый имел своим отцом Нила, египтяне считают недозволенным называть его по имени. Пятый, которому поклоняются фенеты, как говорят, убил Аргуса, по этой причине бежал в Египет и сообщил египтянам законы и письменность. Его египетское имя Тевт (греч. Θεύθ от егип. ḏḥwty), и тем же именем (греч. Θωΰθ, Тот) называется у них первый месяц года». (Цицерон «О Природе Богов III»)
14. Большинству изваяний Меркурия, наделенных только головой и напряженной мужской плотью,¹³ придается также очертание четырехгранного столба, каковой образ означает, что солнце является головой мира и родителем вещей и что вся его сила состоит не в служении каких-то отдельных членов, но исключительно в разуме, седалище которого находится в голове.
15. Четыре стороны [столба] делаются с тем же [самым] умыслом, с каким Меркурию придана четырехструнная [форминга]. Ведь это число означает либо столько же стран света, либо четыре смены времени, из которых складывается год. Или [четыре струны придается] потому, что область зодиака разделена на два равноденствия и два солнцестояния, [подобно тому] как лира Аполлона, [состоящая] из семи струн, убеждает, что столько [же есть] движений небесных сфер, управителем [над] которыми природа поставила солнце.
______________________________
[13] Согласно Геродоту, афиняне первыми из эллинов стали делать изображение Гермеса в виде четырехгранного столба с эрегированным фаллосом, и научились этому у пеласгов. Устанавливались гермы на перекрестках дорог и, наряду с сакральной функцией, служили дорожными указателями. В 415 до н.э. гермы были уничтожены. Во времена Рима они потеряли связь с фаллическим культом Гермеса и стали изготавливаться в виде прямоугольной колонны, на которую водружался бюст человека или божества.
16. [То], что солнце почитают в [образе] Меркурия, ясно также из [наличия] у него жезла, который египтяне изображали в виде соединенных змей, самца и самки. Эти змеи в средней части своего изгиба связаны узлом, который зовут [узлом] Геркулеса, а их передние части, согнутые в круг так, что головы прижаты [друг к другу], завершают очертание круга; и после узла [их] хвосты отклоняются к ручке жезла и украшаются крылышками, вырастающими из той же [самой] части ручки.
17. Изображение жезла египтяне связывают также с рождением людей, которое называется γένεσις (генесис), напоминая, что существует четыре бога — защитника рождающегося человека: Даймон, Тюхэ, Эрот, Ананке. И они хотят, чтобы два первых бога считались солнцем и луной, потому что солнце — это создатель духа, тепла и света, творец и хранитель человеческой жизни, и поэтому полагают, что Даймон (Δαίμων) — это бог рождающегося; луна — Тюхэ (Τύχη, «случайность»), так как является покровительницей тел, которые подвержены разнообразным случайностям; Любовь (Ἔρωτος, любовь, страсть) обозначается поцелуем змей; Неизбежность (Ἀνάγκη, «судьба») — узлом.
XX. 6. Да и Геркулес не отчужден от солнечной природы, так как Геркулес есть та мощь солнца, которая предоставляет человеческому роду доблесть для уподобления [его] богам. И не считай, что он, лишь родившись от Алкмены возле беотийских Фив, уже с самого начала [был] назван Геркулесом. Нет, он был удостоен этого величания и почтен этим именем после многих [других] и самым последним, потому что безмерной отвагой заслужил звание бога, управляющего мужеством.
7. Впрочем, бог Геркулес почитается, притом благоговейно, и близ Тира, но египтяне чтят его самым благочестивым и величественным богослужением и сверх того уважают память [о нем], которая у них уходит в весьма далекое прошлое.
13. Прилегающий к тому же Египту город, который хвалится своим основателем Александром Македонским, относится к Сарапису (Σάρᾱπις) и Исиде (Ἴσιδος) с уважением на грани восторженного поклонения. Однако
 свидетельствуют, что все это поклонение под [знаком] его имени посвящается солнцу: [ведь] они либо приделывают еще корзинку к его голове, либо присоединяют к [его] изваянию еще изображение трехглавого животного.
свидетельствуют, что все это поклонение под [знаком] его имени посвящается солнцу: [ведь] они либо приделывают еще корзинку к его голове, либо присоединяют к [его] изваянию еще изображение трехглавого животного.14. Средней и притом же самой большой головой оно воспроизводит образ льва; с правой стороны возвышается голова ласкающейся собаки кроткого вида; левая же часть шеи оканчивается головой хищного волка. И эти лики животных связывает своим завитком змея, головой обращенная к правой [руке] бога, которая удерживает чудовище.
15. Итак, голова льва указывает [на] настоящее время, потому что его состояние непосредственной действительности между прошедшим и будущим является исполненным мощи и стремительности. Но и прошедшее время обозначается головой волка, потому что память о свершившихся делах похищается и уносится [временем]. Также и изображение ласкающейся собаки обозначает исход будущего времени, относительно которого нас ласкает надежда, пусть она [и] неясная. Кому же служат [сами] времена, если не собственному творцу?
16. Узнай теперь [о том], что [вроде] бы вещал оракул о солнце, или Сараписе. Ведь Сарапис, которого египтяне провозгласили величайшим богом, будучи спрошен Никократом, царем киприотов, каким он считается среди богов, этими [вот] стихами восстановил потревоженную набожность царя:
«Бог я есмь, чтобы знали, такой, о ком бы сказал я:
Неба порядок — это глава, живот мой — море,
Ноги мои земля суть; достигли уши эфира;
Ясный же глаз — блестящий свет солнца».
18. Из этих [строк] явствует, что природа Сараписа и солнца является единой и неделимой. Исида, которая есть или земля, или природа вещей, подвластная солнцу, прославляется совместным богослужением. Отсюда все тело богини бугрится обширными грудями, потому что совокупность всего вскармливается питанием либо земли, либо природы вещей.
XXI. 1. [В том], что Адонис тоже является солнцем, не станут сомневаться, если будет рассмотрено верование ассирийцев, у которых издавна процветало величайшее почитание Венеры Архитиды и Адониса, которого ныне придерживаются [и] финикийцы. Ведь и природоведы почтили именем Венеры верхнюю полусферу земли, часть которой мы населяем; нижнюю же полусферу земли они назвали Прозерпиной.¹⁴
2. Итак, делают вывод, что у ассирийцев или финикийцев она [является] скорбящей богиней, потому что солнце, двигаясь ежегодно по двенадцати созвездиям [зодиака], вступает и в нижнюю часть полусферы, так как из двенадцати созвездий зодиака шесть считаются верхними, шесть — нижними.
______________________________
[14] Шесть зимних (нижних) знаков зодиака (от осеннего солнцеворота до весеннего равноденствия) соответствуют Аиду. Когда солнце спускается в Аид — природа на земле умирает.
3. И когда оно находится в нижних [созвездиях зодиака] и потому делает дни короче, думают, что богиня плачет, так как солнце как бы отправлено в объятия временной смерти и задержано Прозерпиной, которую мы называем божеством нижнего круга земли и антиподов. И наоборот, хотят верить, что Адонис возвращается к Венере, когда солнце, преодолев шесть созвездий [зодиака] нижнего ряда, начинает освещать полусферу нашего круга [земли] вместе с увеличением света и дней.
4. Впрочем, передают, что Адонис [был] убит вепрем, выражая в этом животном образ зимы, потому что косматый и свирепый зверь предпочитает влажные, грязные и покрытые изморозью места и кормится собственно зимним плодом — желудем. Итак, зима является как бы раной солнца, которая уменьшает для нас и его свет, и тепло, а недостаток того и другого оказывается для одушевленных [существ] смертью.
5. На ливанской горе, [где помещается] изваяние этой богини, она изображена с покрытой головой, вид ее печален, она подпирает лицо рукой с платком. И смотрящим кажется, что [у нее] льются слезы. Этот образ, кроме [того], что [он] есть [образ] плачущей богини, как мы сказали, является также [образом] земли в зимнюю пору, в каковое время она, закрытая облаками, лишенная солнца, замирает, и источники, как бы глаза земли, весьма обильно истекают [водами, как слезы богини], и поля в это время при их обработке показывают печальный лик своего опустения.
6. Но когда солнце поднялось из нижних частей земли и переходит границы весеннего равноденствия, увеличивая день, тогда Венера становится радостной и прекрасной: пашни зеленеют посевами, луга — травами, деревья — листьями. Потому наши предки называли апрель месяцем Венеры.
7. Подобным образом [и] фригийцы, хотя были изменены предания и исполнение священнодействий, блюдут, чтобы точно так же представляли Матерь богов и Аттиса.¹⁵
8. Ведь кто бы стал оспаривать, что Мать богов считается землей? Эта богиня едет на львах, животных, мощных [своим] напором и пылом, каковая природа свойственна небу, чьим охватом удерживается воздух, который несет землю.
9. Солнце же в облике Аттиса украшает свирель и посох. Свирель показывает упорядочивание переменчивого дуновения, потому что ветры, в которых нет никакого постоянства, берут надлежащую природу от солнца. Посох подтверждает власть солнца, которое всем управляет.¹⁶
______________________________
[15] В пессинунтском культе не только великая богиня была «матерью», но и ее сопрестольник Аттис именовался «отцом» — Papas. Впрочем, само имя Аттис (Attis, Attes, Atys) переводится как «отец».
[16] С.Ю. Сапрыкин отмечает, что в результате религиозного синкретизма богов плодородия в Анатолии и Греции, фригийский бог Аттис отождествлялся с Дионисом и Зевсом в ипостаси Поарина (Ποαρινός, от πόα — «пастбище»).
10. Отсюда можно также заключить, что в таких обрядах используется, с другой стороны, превосходное знание о солнце, потому что по их обычаю, когда завершен спуск [Аттиса в преисподнюю] и закончилось выражение скорби, в восьмой день до апрельских календ славят наступление веселья. Этот день они называют Хилариями (празднества в честь Кибелы, от греч. ἱλαρός — веселый, радостный). В это время солнце впервые делает день дольше ночи.
11. Также, при разных наименованиях богослужения, [его] почитают у египтян, когда Исида оплакивает Осириса. И нет в [том] тайны, что и Осирис — это не что иное, как солнце, и Исида есть не что иное, как земля или природа вещей, и то же [самое] восприятие Адониса и Аттиса в египетском богослужении также приводит к чередованию печали и веселья вследствие перемен [в] годичном действии [солнца].
12. Как утверждают египтяне, этот Осирис является солнцем. [И] сколько раз они хотят выразить [это] своими иероглифическими буквами, [столько раз] они вырезают жезл, и на нем запечатлевают изображение глаза, и этим знаком указывают на Осириса, обозначая [тем самым], что этот бог является солнцем и все озирает, величественный благодаря царской власти, потому что древность провозглашает солнце глазом Юпитера.
13. У них же Аполлон, который является солнцем, зовется Хором (Ὧρος, сын Осириса и Исиды), от него и двадцать четыре часа (ώρα, «час»), составляющие день и ночь, получили имя, и четыре поры, которые заполняют годичный круговорот [солнца], называются Ὥραι («времена», богини времён года).
14. Также египтяне, желая освятить изваяние в облике самого солнца, изобразили [его] со стриженой головой, но с правой [ее] стороны оставили волосы нетронутыми.
15. Этим же изображением обозначается и время, в которое свет становится непродолжительным, когда солнце, как бы сбрив ростки [волос] и оставляя [только их] скудный пучок, идет к наименьшей продолжительности дня, которую предки назвали зимним солнцестоянием, именуя [его] brumale (зимним) из-за brevitate (сокращения) дней, то есть [по-гречески] βραχύ ἡμέρα (короткий день). Опять появляясь из этих тайников или теснин, как бы вырастая в летней полусфере [зодиака, он] увеличивается в росте, и тогда считается, что солнце уже достигло своего царства.
16. Кроме того, египтяне поместили в зодиаке, в той части неба, в которой солнце в годичном беге больше всего пышет сильным жаром, животное — льва и называют созвездие Льва жилищем солнца, потому что им кажется, что это животное получает [свою] сущность от природы солнца.
17. Во-первых, [так кажется], потому что [оно] превосходит [других] животных [своим] напором и пылом, как солнце превосходит [другие] звезды. И еще лев силен грудью и передней частью тела и слаб задними лапами. Равно и сила солнца возрастает в первой части дня до полудня или в первой части года — от весны к лету [и] затем, слабеющая, снижается к закату, который [есть конец] дня, или к зиме, которая, считают, является последней частью года. И также его узнают по широко раскрытым и горящим глазам, поскольку солнце разглядывает землю широко раскрытым и горящим оком, взором пристальным и внимательным.
18. И не только Лев, но также все вообще созвездия зодиака по праву относятся к природе солнца. И очень я расположен к тому, чтобы начать [свой рассказ] с Овна. Ведь он по шесть зимних месяцев остается на левой стороне [зодиака] по правую сторону от [точки] весеннего равноденствия, подобно тому как и солнце с того же [самого] времени обходит правую полусферу, в остальную часть [времени] — левую.
19. Потому и Аммона, которого ливийцы считают богом — заходящим солнцем, изображают с бараньими рогами, благодаря которым это животное весьма сильнό, подобно тому как солнце [сильнό] лучами. Ведь и у греков баран (κριός) называется от κάρα (ион. κάρη — голова).
20. А [то], что Телец относится к солнцу, различным образом показывает египетское богопочитание. [Итак, его относят к солнцу] или потому, что возле Гелиополя весьма почитают быка, посвященного солнцу, которого именуют Мневисом; или потому, что в городе Мемфисе быка Аписа избирают образом солнца; или потому, что в городе Гермонтисе, в величественном храме Аполлона почитают посвященного солнцу быка, именуя [его] Бухисом, [и бык этот] выделяется чудесами, соответствующими природе солнца.
21. Ведь утверждают, что он в отдельные часы меняет цвета, и говорят, что он поднимает дыбом шерсть противу потомства вопреки природе животных. Откуда считается, [что он является] как бы образом солнца, блистающего в противоположной части мира.
22. Близнецы же, о которых думают, что они [оба] живы при смерти одного из них,¹⁷ что обозначают иное, если не одно и то же [самое] солнце, то опускающееся в глубины мира, то поднимающееся на предельную высоту мира?
______________________________
[17] Близнецы — это Диоскуры (Поллукс и Кастор). Согласно мифу, Зевс сделал их созвездием Близнецов, или Утренней и Вечерней звездой. С древних времен Утренней и Вечерней звездой считалась Венера. Причем, в древности считали, что утренняя и вечерняя Венеры — это разные звезды.
23. [И] что иное, кроме пути солнца, показывает Рак [своим] передвижением вбок, которому выпал жребий никогда не ходить прямо по дороге, но всегда — поперек нее.
И преимущественно в этом созвездии солнце, склоняясь, начинает с верхнего пути устремляться теперь вниз. О Льве уже было сказано выше.
24. А Дева, которая несет на руке сноп, что [есть], как [не] солнечная сила, которая заботится о плодах? И потому считают, [что она является] Справедливостью, которая единственная обеспечивает [то], что созревающие плоды идут на пользу людям.
25. Скорпион в целом, в котором находятся [и] Весы, представляется природой солнца, которое коченеет зимой. Когда та оканчивается, и он своей силой отводит жало назад, природа не несет никакого ущерба из-за зимнего окоченения.
26. Стрелец, который из всего семейства зодиака является самым нижним и последним, перерождается из человека в зверя, притом в своей задней части членов [тела], как бы сброшенный с верхних [мест зодиака] в нижние. Стрелу же он выпускает, чтобы указать, что жизнь всего целиком сохраняется благодаря лучу солнца, даже идущего из самой нижней части [зодиака]. Козерог, возвращая солнце из нижних частей [зодиака] в выси, кажется, подражает природе козы, которая, пока пасется, всегда настойчиво стремится к вершинам вздымающихся скал.
27. [А] разве Водолей не показывает саму силу солнца? Ведь с чего бы дождь падал на землю, если бы жар солнца не тащил влагу в выси, истечение которой дождем является [очень] обильным? В конце вереницы [созвездий] зодиака расположены Рыбы, которые, как прочие, посвящаются солнцу, в чем проявляется не их собственная природа, но могущество [этой] звезды, от которой дается жизнь не только воздушным и земным живым существам, но также [и] тем, обитание которых, окутанное водами, как бы спрятано от взора солнца. [Однако] сила солнца является такой, что оно посредством проникновения [в глубины] оживотворяет даже скрытое [под водой]. [И] чем иным должен считаться сам Сатурн, который является создателем времен, — и потому при перемене буквы зовется Кронос, почти что Хронос, — если не солнцем, так как утверждают, что вереница составляющих частей [неба] разделена счислением времени, сделана видимой светом, стянута вечной связью, различаема зрением, каковое все показывает деяние солнца?
XXIII. 1. Кажется, что и сам Юпитер, царь богов, не отдален от природы солнца, но ясные указания учат, что Юпитер и солнце суть одно и то же. Ведь когда Гомер пишет:
«Зевс громовержец вчера к отдаленным водам Океана
С сонмом богов на пир к эфиопам отшел непорочным;
Но в двенадцатый день возвратится снова к Олимпу».
[Ил. I, 423-425, Перевод изменен, чего требовал контекст Макробия.]
2. Корнифиций утверждает, что под именем Юпитера [тут] мыслится солнце, которому волны Океана служат как бы кушаньем. Потому ведь, как утверждают и Посидоний и Клеанф, ход солнца не отклоняется от области, которую называют жаркой, что близ [нее] самой бежит Океан, который и огибает и разделяет землю. Да [и] согласно утверждению всех фюсиков, тепло питается влагой.
3. Ведь в описании: «С сонмом богов… отшел», — подразумеваются звезды, которые вместе с ним в ежедневном повороте неба несутся к [своим] заходам и восходам и вместе с ним же питаются влагой.
4. Прибавляет [еще] поэт: «Но в двенадцатый… снова», — обозначая число не дней, а часов, за которые они возвращаются к восходу в верхней полусфере.
5. К этому же [самому] мнению ведут наш ум также эти [вот] слова из «Тимея» Платона: «Великий предводитель на небе, Зевс, на крылатой колеснице едет первым, все упорядочивая и обо всем заботясь. За ним следует воинство богов и демонов, выстроенное в одиннадцать отрядов, — одна только Гестия не покидает дома богов». Он хочет, чтобы в этих вот словах под именем Юпитера понимали великого вождя в небе — солнце,¹⁸ посредством крылатой колесницы показывая скорость [этой] звезды.
6. Ведь потому что [оно], в каком бы ни находилось созвездии, превосходит все созвездия, и звезды, и богов — хранителей созвездий, кажется, что [оно] предводителем шествует впереди всех богов, [притом] все устраивая и упорядочивая, и [что] потому как бы его войском считаются прочие боги, распределенные по одиннадцати видам созвездий, потому что [оно] само, в каком бы созвездии ни находилось, занимает место двенадцатого созвездия.
______________________________
[18] Корень iov или diov, повторяющийся в латинских словах divus, dius, deus, dies, interdiu; в греческих Ζεύς (Διός), означает светить, сиять, причем обе разновидности корня, iov и diov, встречаются в италийских диалектах — древнелатинском и оскском. Кроме позднего и обычного названия бога — Juppiter, — встречаются более древние и областные, Diovis, Jovis, Diovispater, Juvepater, Jupater и сохранившееся в культе фециалов Diespiter. Первоначальное значение слова Юпитер, как божества небесного света и неба, подтверждается выражением sub Jove (sub divo — под открытым небом). В древнейших ритуальных формулах он призывался, подобно Марсу (Marspiter), как отец — эпитет, который вошел, второй составной частью (-piter), в имя бога Юпитера, которое в дословном переводе имеет вид «небесный отец».
8. [То] же, что он прибавляет: «Одна только Гестия не покидает дома богов», — означает, что она, о которой мы слышим, является землей, потому что она одна остается неподвижной внутри дома богов, то есть внутри мира, как считает Еврипид:
«И мать земля! Тебя Гестией мудрые
Меж смертных кличут, средь эфира замершей».
9. Отсюда также доказывают, почему следовало бы думать о солнце и Юпитере, когда в одном месте говорится:
«Зевсово око все видит, всякую вещь примечает». (Гесиод)
10. Также [и] ассирийцы в городе, который называется Гелиополем, с величайшими торжествами почитают солнце под именем Юпитера, которого именуют Зевсом Гелиополитом.
12. Но [то], что он [Зевс] является тем же [самым] Юпитером и солнцем, распознается как из самого обряда священнодействий, так [и] из [его] облика. Ведь золотое изваяние с безбородой наружностью стоит в положении возничего с плетью в поднятой правой [руке], левая [рука] держит молнию и колосья, каковое все показывает соединенную мощь Юпитера и солнца.
21. (…) теологи указывают, что мощь солнца относится к вершине всех сил. Они указывают на это в священнодействиях весьма краткой молитвой, говоря: «О солнце — всевластитель! [Ты] душа мира, сила мира, свет мира!»
22. И Орфей свидетельствует, что солнце является всем, в таких стихах:
«Внемли, вращающий круг далекого вихря лучистый.
Вечно бегущий в кружениях небесных,
Зевс и Дионис пресветлый, моря отец и земли,
Солнце, родитель всего, блестящее всюду, златое!»
_______________________________
|
Метки: Сатурналии Греция |
ДИОНИСИЙСКИЕ МИСТЕРИИ |
Королев К.М.
АНТИЧНАЯ МИФОЛОГИЯ
На пороге исторической жизни Греции новый культ, резко несовместимый с всегдашним чувством меры и предела, проник в нее из страны буйных сил и бурных страстей, из Фракии, — культ Диониса. Первоначально это было, вероятно, магическое воздействие на плодородие земли, и в необузданной варварщине половой разгул как симпатическое средство побуждения земли к плодородию не был ему чужд; при переходе, однако, на почву «благозаконной» Эллады, этот элемент должен был отпасть; осталось, как характерная черта новых таинств, исступление, достигаемое при помощи оглушительной музыки тимпанов, кимвалов и флейт и главным образом — головокружительной «оргиастической» пляски. Особенно подвержены чарам исступления были женщины; вакханки составляли поэтому главную свиту нового бога; в своих «небридах» (νεβρίς, ланьи шкуры), препоясанных живыми змеями, с тирсами в руках и плющевыми венками поверх распущенных волос — они остались незабвенным на все времена символом прекрасной дикости, дремлющей в глубине человеческой души, но прекрасной лишь потому, что красотой наделила ее Эллада.
В исступлении пляски душа положительно «выступала» из пределов телесной жизни, преображалась, вкушала блаженство внетелесного, слиянного с совокупностью и с природой бытия; на собственном непреложном опыте человек убеждался в самобытности своей души, в возможности для нее жить независимо от тела и, следовательно, в ее бессмертии; таково было эсхатологическое значение дионисизма. Он завоевал всю Грецию в VIII-VII вв. в вихре восторженной пляски. Эрвин Роде убедительно сравнивает с этим явлением «манию пляски», обуявшую среднюю Европу после великой чумы XIII в. Конечно, умеряющая религия Аполлона постаралась сгладить излишества нового культа: Дионисовы оргии¹ были ограничены пределами времени и места, они могли справляться только на Парнасе и притом раз в два года (в так называемых «триетеридах»). В прочей Греции дионисизм был введен в благочиние гражданского культа; его праздники приурочивались к работе винодела, и лишь в играх ряженых и поэтическом преображении Дионисова театра сохранились следы первоначального исступления.
_________________________
[1] ὄργια τά
1) культ. оргии, тайные обряды, мистерии (ὄ. θεαῖν Arph. — мистерии в честь обеих богинь, т.е. Деметры и Персефоны);
2) священнодействие или жертвоприношение (ὀργίων μαντεύματα Soph. — пророчества жертвоприношений);
3) празднество, праздник (Μουσῶν Arph.)
По-видимому, это укрощение первобытного дионисизма вызвало новую его волну из той же Фракии, отмеченную именем Дионисова пророка Орфея. И эта волна подпала умеряющему воздействию Аполлоновой религии; результатом этого воздействия были Орфические таинства, состоящие из трех частей: космогонической, нравственной и эсхатологической.
Космогоническая часть орфического учения примыкала к более старинному мифу о победе Зевса над титанами и основанном путем насилия царстве богов. Чтобы иметь возможность передать его из запятнанных насилием рук в чистые, Зевс делает матерью царицу подземных глубин Персефону, и она рождает ему первого Диониса — Загрея. Но мстительные титаны завлекают младенца Диониса к себе соблазном его отражения в их зеркалах и, завлекши, разрывают на части, которые и поглощают. Сердце спасает Паллада и приносит Зевсу; поглотив его, он вступает в брак с Семелой, дочерью Кадма, и она рождает ему (второго) Диониса. От испепеленных титанов же произошел человеческий род.
Здесь к космогонической части, в которой первобытная фракийская дикость так странно преображена греческим глубокомысленным символизмом, примыкает нравственная. Раз мы происходим от поглотивших первого Диониса титанов, значит, наше душевное естество состоит из двух элементов — титанического и дионисийского. Первый тянет нас к телесности, к обособлению, ко всему земному и низменному; второй, наоборот, к духовности, к воссоединению в Дионисе, ко всему небесному и возвышенному. Наш нравственный долг — подавить в себе титанизм и содействовать освобождению тлеющей в нас искры Диониса. Средством для этого служит объявленная в Орфических таинствах посвященным «орфическая жизнь».
Из нравственного учения вырастает эсхатологическое. Живой Дионис, сердце Загрея, жаждет воссоединения со всеми частями его растерзанного тела. Целью жизни каждого человека должно быть поэтому окончательное освобождение той его частицы, которая в нем живет, и ее упокоение в великой сути целокупного Диониса. Но путь к этому очень труден. Титанизм является постоянной помехой, соблазняя к новому воплощению. И вот мы рождаемся и умираем, и вновь рождаемся, все снова и снова замыкаем свою душу в «гробу» тела, все снова и снова воплощаемся — между прочим, и в звериных телах, и нет конца этому томительному «кругу рождений», пока мы, наконец, не внемлем голосу Диониса, не обратимся к «орфической жизни». И тогда мы спасемся не сразу. Трижды мы должны прожить свой век безупречно и здесь, на земле, и в царстве Персефоны, пока, наконец, не настанет для нас заря освобождения, воссоединения и упокоения.
Пребывание в царстве Персефоны перед новым воплощением понимается как время очищения от грехов жизни; ее обитель — для большинства людей чистилище. Кто безгрешно провел земную жизнь, тот и на том свете проводит жизнь в блаженстве, во временном раю — пока голос необходимости не призовет его обратно на землю для новых испытаний. Но есть и такие, которые запятнали себя «неисцелимыми» злодеяниями; для них нет очищения, они терпят вечную кару в аду. Вот почему каждую душу после смерти ждет загробный суд; строгие и неподкупные судьи должны определить, в которую из трех обителей ей надлежит отправиться.
Орфические таинства, в отличие от Элевсинских, не были прикреплены к какому-нибудь городу: повсюду в Греции, особенно в колониальной, на западе, возникали общины орфиков, жившие и справлявшие праздники под руководством своих учителей. Конечно, от личности последних зависели и чистота, и духовный уровень самого учения; и если с этой точки зрения большинство орфеотелестов,² пугавших простой народ ужасом загробных мучений, и вызывало подчас насмешки просвещенных, то с другой стороны серьезные проповедники учения сумели поднять его на такую высоту, что не только поэты, подобно Пиндару, но и философы подчинялись его обаянию. Великий Пифагор сделал орфизм центральным учением своего «ордена». И через пифагорейцев, и независимо от них подпал орфизму и Платон; правда, в специально догматической части своего учения он не делает ему уступок, но в тех фантастических мифах, которыми он украсил своего «Горгия», «Федона» и в особенности последнюю книгу «Государства», сказывается в сильнейшей степени влияние орфической эсхатологии. И оно им не ограничилось: отчасти через широкое русло платоновской философии, но более посредством подземных струй, лишь ныне отчасти раскрываемых, она вливается и в христианство. Церковь иногда старалась воздвигнуть против нее плотину Евангелия, — иногда же и нет, находя, что те или другие частности (например, учение о чистилище) не противоречат ему и даже, пожалуй, им рекомендуются. Как бы то ни было, орфизм в значительной степени скрасил христианские представления о загробном мире: без Орфея и Данте он просто немыслим.
_________________________
[2] ὀρφεοτελεστής (ὀρφεο-τελεστής), -οῦ ὁ орфеотелест, посвящающий в орфические таинства Plut.
ДИОНИСИИ
Цикл праздников Диониса открывался веселыми Осхофориями (ὀσχοφόρια или ὠσχοφόρια, «ношение гроздьев»). Осхофория, праздник жатвы, праздновавшийся в Афинах 7-го пианопсиона (Πυανοψίων, октябрь-ноябрь). Во время этого праздника 20 взрослых юношей (по два от каждого сословия) бежали из храма Диониса в Лимнах в храм Афины Скирас (Ἀθηνᾶ Σκιράς) на Фалероне, неся в руках виноградные ветви с гроздями, гроздья винограда были даром от Диониса богине-покровительнице страны. Каждый из 10 победителей получал в награду чашу, наполненную напитком, составленным из пяти главнейших продуктов года (вина, меда, сыра, муки и оливкового масла — πενταπλόα), и почетное место в следовавшей затем процессии. Праздничное шествие (причем впереди поющего хора шли два мальчика в женской одежде) совершалось от Осхофории, площади перед храмом Афины, к храму Диониса, где Фиталиды приносили жертву. Праздник оканчивался жертвенным пиром.
Остальные праздники были приурочены к различным стадиям брожения молодого вина; то были сельские Дионисии в декабре, Ленеи в январе и Анфестерии в феврале. Все они были обставлены отчасти веселой, отчасти серьезной обрядностью и расцвечены прелестными мифами и легендами.
Праздник Анфестерий продолжался три дня, каждый из которых имел особое название. Первый день назывался днем открытия бочек и пробы нового вина. Каждый домохозяин приносил богу жертву, при которой совершал возлияние свежим напитком, и все домочадцы, не исключая и рабов, предавались праздничному веселью и удовольствиям. Первыми весенними цветами украшались сосуды и дети как распускающиеся цветки человеческого рода. В этот день в Афинах был рынок игрушек, которые покупали и дарили детям.
которой совершал возлияние свежим напитком, и все домочадцы, не исключая и рабов, предавались праздничному веселью и удовольствиям. Первыми весенними цветами украшались сосуды и дети как распускающиеся цветки человеческого рода. В этот день в Афинах был рынок игрушек, которые покупали и дарили детям.
Второй день — «крýжки» — также был посвящен праздничным удовольствиям. Веселые компании, в которых участвовали ряженые, представлявшие сатиров, нимф и пр., ходили по городу и заходили к знакомым, где составлялись пирушки и даже состязания: кто скорее выпивал свой кубок вина, получал в награду плющевый венок и мех вина. При этом не забывали также и умерших родственников: ходили к ним на могилы и совершали возлияния вином. По-видимому, первоначально этот день был посвящен главным образом поминовению усопших и имел целью умилостивить силы подземного мира, владычеству которых при наступлении весны приходил конец. Поэтому-то этот день вместе со следующим принадлежал к числу «тяжелых» и храмы богов в эти дни были закрыты; однако впоследствии такое значение этих дней вполне уступило место веселью и наслаждению.
От имени государства совершалась таинственная церемония в древнем храме Диониса в Ленее, открывавшемся только в этот день. Главную роль в этой церемонии играла βασίλισσα или βασίλιννα, супруга архонта-царя, которая должна была быть родовитой гражданкой и выйти замуж девицей. При совершении церемонии ей помогали четырнадцать жриц (γεραραί, «старицы»), избранные архонтом-царем из наиболее уважаемых гражданок. «Царица» в присутствии священноглашатая брала с них торжественную клятву в том, что они удовлетворяют условиям, требующимся для участия в церемонии, и будут соблюдать строгую тайну. Жрицы совершали священные обряды на 14 алтарях, а затем «царица» отправлялась в святилище-буколеон,³ вблизи пританея,⁴ и там будто бы сочеталась браком с Дионисом.
Древний закон об этом обряде, вырезанный на камне, еще во времена Демосфена стоял в святилище Диониса подле жертвенника. Впрочем, подробности обряда неизвестны, а значение его объясняется различно; проще и естественнее всего принять, что «царица» как представительница страны соединялась брачными узами с богом возрождающейся весною растительности в знак того, что страна вполне предана его служению и надеется на его защиту и помощь; или, быть может, эта церемония совершалась в воспоминание брака Диониса с Ариадной.⁵
_________________________
[3] Βουκολίων (-ωνος) ἡ святилище пастыря (βουκόλος);
βουκόλος (βου-κόλος), дор. v. l. βωκόλος (-ου) ὁ погонщик или хранитель крупного рогатого скота, волопас, пастух Hom., Plat., Arst., Theocr.
[4] πρυτανεῖον, ион. πρῠτᾰνήϊον τό пританей, судилище (в Афинах), в котором заседали пританы (πρυτάνεις, члены коллегии из 50 человек) Plut.
[5] «Любовь супруги Миноса к Критскому быку является, по всей вероятности, фантастическим отражением древнего критского религиозного обряда, совершавшегося женой царя-жреца. Характерно, что и в Афинах, сохранявших, судя по первым строкам «Афинской политии» Аристотеля (III, 5), древние связи с критскими жрецами, жена архонта-царя вступала в ритуальный брак с Дионисом в Буколионе. Буколион был храмом Диониса, пастыря быков, и сам Дионис иногда представлялся греками в образе быка. Ритуал этот мог быть заимствован с Крита.
Если сблизить культ быка, по-видимому существовавший на Крите, с культом быка Аписа в Египте, то мы увидим, что в Египте бык Апис был явленным богом Осирисом, так же как и фараон: бык, бог и царь в египетской теократической деспотии оказывались связанными сходным образом». (Аполлодор. Мифологическая библиотека III.)
Третий день Анфестерий назывался «днем горшков» потому, что тогда приносили Гермесу Хтонию (χθόνιος, подземный) в жертву за души усопших горшки с вареными плодами всякого рода, которых сами жертвователи не могли пробовать, как при всех вообще жертвах подземным богам; ни одному из Олимпийских богов в этот день не приносили жертвы.
[6] Κήρ, Κηρός ἡ Кера (богиня насильственной смерти); ex. ὦ φθερσιγενεῖς Κῆρες Ἐρινύες! Aesch. — о, губительные Керы-Эринии!
Вообще видно, что три дня Анфестерий были богаты различными религиозными обрядами, подробности которых, однако, мало известны.
Прекраснейшим из всех дионисийских праздников были Великие Дионисии (μεγάλα Διονύσια), учрежденные тираном Писистратом.
Празднование великих Дионисий начиналось торжественной процессией, в которой несли древнюю статую Диониса из Ленея в древний храм его, стоявший близ Академии, и оттуда обратно, с хоровыми песнями и веселыми прогулками по городу. Главной и существеннейшей частью этого праздника были театральные представления.
________________________________________
ДИОНИС, ИЛИ ВОЗВРАЩЕННОЕ БЛАЖЕНСТВО
(отрывок из книги Элиаде М. История веры и религиозных идей. I. XV:125)
Миф о расчленении младенца Диониса Загрея известен нам в основном по трудам христианских авторов, которым, как и следует ожидать, он не импонировал, а потому был представлен ими фрагментарно и тенденциозно. Однако, благодаря своей свободе от запрета говорить о сакральных и тайных вещах, христианские писатели донесли до нас ряд ценных деталей. Гера посылает к маленькому Дионису Загрею титанов, которые сначала завлекают его игрушками (погремушками, зеркальцем, бабками, шариком, волчком, трещоткой), а потом убивают, разрезают на части, варят в котле и, по некоторым версиям, съедают. Сердце Диониса Загрея удается сохранить Афине (варианты: Рее или Деметре). Узнав о преступлении, Зевс поражает титанов ударом молнии.
Христианские авторы не говорят о воскресении Диониса, но античные авторы о нем знали. Эпикуреец Филодем, современник Цицерона, пишет о трех рождениях Диониса: первом — от своей матери, втором — из бедра Зевса, и третьем, состоявшемся, когда Рея сложила куски его растерзанного титанами тела, после чего он вновь вернулся к жизни. Фирмик Матерн заключает свое сочинение рассказом о том, что на Крите (где, в его толковании, происходит действие) это убийство отмечается ежегодными ритуалами, воспроизводящими все, что «делало и испытывало дитя в момент смерти»: «в глубине лесов они страшно кричат, изображая яростные метания души» — как бы давая понять, что преступление было совершено в момент безумия, — «и зубами разрывают на части живого быка».
Мифо-ритуальная тема страданий и воскресения младенца Диониса Загрея породила бесчисленные споры, особенно в связи с ее орфическими интерпретациями. Мы сейчас ограничимся лишь указанием на то, что сведения, сообщенные христианскими авторами, находят подтверждение в более ранних документах. Впервые имя Загрея встречается в эпической поэме фиванского цикла Alcmaeonis (VI в. до н.э.); оно означает «великий охотник»,⁷ что соответствует необузданной, оргиастической природе Диониса.
_________________________
[7] Непонятно, когда Дионис успел стать «великим охотником», если титаны растерзали его в самом раннем младенчестве. Этимология эпитета «Загрей» явно происходит от териоморфного образа «первого» Диониса. В одних интерпретациях Дионис, пытаясь скрыться от титанов, перевоплощается в разных животных. И когда он обратился в быка, титаны настигли его и растерзали. По другой версии, Дионис изначально имел образ быка.
Ζαγρεύς — Загрей, эпитет Диониса в образе быка;
ζά — усилит. приставка со знач. очень, весьма, вполне;
ex. ζάχολος (ζά-χολος) раздраженный, гневный (Διόνυσος Anth.);
ἀγρεύς (-έως) ὁ охотник, ловец Pind., Aesch., Eur., Luc., Anth.
ἄγριος
1) дикий;
2) жестокий, свирепый, лютый, злой;
3) неукротимый, необузданный, грубый;
4) мучительный, тяжелый;
5) бурный, ужасный.
Что касается злодеяния титанов, то о нем кое-что рассказывает Павсаний (VIII, 37,5), и это свидетельство остается для нас ценным, несмотря на скептицизм Виламовица и других исследователей. Павсаний сообщает, что некто Ономакрит, живший в Афинах в VI веке до н.э., при Писистратидах, написал поэму на эту тему: «Взяв имя титанов у Гомера, он учредил дионисийские оргии, сделав титанов злодеями и мучителями божества».
Согласно этому мифу, титаны, прежде чем приблизиться к младенцу, вымазались алебастром, чтобы их не узнали. Так вот, в проводившихся в Афинах сабазийских мистериях один из посвятительных обрядов состоял в том, что лица инициатов покрывали мелом (τίτανος)⁸ или алебастром. Эти факты связывались вместе со времен античности. Но на самом деле мы имеем здесь одну из форм архаического посвятительного ритуала, хорошо известного в первобытных обществах: инициаты натирают лица мелом или золой, чтобы походить на призраков, т.е. они проходят через ритуальную смерть.
_________________________
[8] Обращает на себя внимание созвучие слов Τιτάν («титан») и τίτανος («мел»), которым покрыли лица титаны, дабы не быть узнанными:
τίτανος ἡ гипс Hes.; известь или мел Arst.; меловая пыль Luc.
Τιτάν (-ᾶνος), ион. Τῑτήν (-ῆνος) ὁ (эп. dat. pl. Τιτήνεσσιν) Титан (Τιτᾶνες и Τιτανίδες — титаны и титаниды, дети Урана и Геи).
«Мистические игрушки» тоже давно известны: в папирусе III века до н.э., найденном в Файюме и, к сожалению, испорченном, упоминаются волчок, трещотка, кости и зеркало (Orphicorum, fr.31).
Самый драматичный эпизод мифа — и в особенности то, что, растерзав ребенка, титаны бросили куски его тела в котел, сварили, а потом зажарили, — был известен еще в IV веке; более того, все эти детали «репетировались» в связи с празднованием мистерий. О подобной традиции знал Эвфорион в III веке. Жанмэр убедительно показал, что кипячение в котле и прохождение через огонь — это обряды инициации, дарующие бессмертие (ср. историю Деметры и Демофонта) или омоложение (дочери Пелия зарезали своего отца и сварили в котле).
Таким образом, в «злодеянии титанов» мы можем распознать древний посвятительный сценарий, первоначальный смысл которого оказался забытым. Титаны ведут себя как «магистры инициации», т.е. они «умерщвляют» посвящаемого, чтобы он «заново родился» на более высоком уровне существования (в нашем примере они даруют младенцу Дионису божественную природу и бессмертие). Однако в религии, провозгласившей абсолютное верховенство Зевса, титаны могли играть только демоническую роль, за что и были испепелены Зевсовой молнией. По некоторым версиям этого мифа, важного для орфической традиции, люди были созданы из пепла титанов.
Инициатический характер дионисийских обрядов ощущался и в Дельфах, когда женщины чествовали возрожденного бога. Как свидетельствует Плутарх (De Iside, 35), в дельфийской корзине лежал, готовый к возрождению, растерзанный Дионис Загрей, и этот Дионис, «который вновь рождался под именем Загрея, был в то же время фиванским Дионисом, сыном Зевса и Семелы».
Возможно, и Диодор Сицилийский имеет в виду дионисийские мистерии, когда пишет, что «Орфей перенес растерзание Диониса в мистериальные обряды» (V, 75,4). А в другом месте Диодор представляет Орфея как реформатора дионисийских таинств: «Вот почему посвятительные обряды в честь Диониса называются орфическими» (III, 65,6). Для нас сообщение Диодора ценно в той мере, в какой оно подтверждает существование дионисийских мистерий. Но в то же время вероятно, что уже в V веке до н.э. эти таинства содержали некоторые «орфические» элементы. Тогда Орфея, действительно, провозгласили «пророком Диониса» и «основателем всех инициаций».
_______________________________
АНТИЧНАЯ МИФОЛОГИЯ
На пороге исторической жизни Греции новый культ, резко несовместимый с всегдашним чувством меры и предела, проник в нее из страны буйных сил и бурных страстей, из Фракии, — культ Диониса. Первоначально это было, вероятно, магическое воздействие на плодородие земли, и в необузданной варварщине половой разгул как симпатическое средство побуждения земли к плодородию не был ему чужд; при переходе, однако, на почву «благозаконной» Эллады, этот элемент должен был отпасть; осталось, как характерная черта новых таинств, исступление, достигаемое при помощи оглушительной музыки тимпанов, кимвалов и флейт и главным образом — головокружительной «оргиастической» пляски. Особенно подвержены чарам исступления были женщины; вакханки составляли поэтому главную свиту нового бога; в своих «небридах» (νεβρίς, ланьи шкуры), препоясанных живыми змеями, с тирсами в руках и плющевыми венками поверх распущенных волос — они остались незабвенным на все времена символом прекрасной дикости, дремлющей в глубине человеческой души, но прекрасной лишь потому, что красотой наделила ее Эллада.
…«Жрец праздновать дал приказанье
И госпожам повелел и служанкам, работы покинув,
Грудь свою шкурой покрыв, развязать головные повязки,
И обрядиться в венки, и листвою обвитые тирсы
Взять, предрекая, что гнев божества оскорбленного будет
Страшен. Покорны ему и матери и молодицы;
Вот отложили тканье, корзинки, начатую пряжу,
Ладан несут и зовут Лиэя, Бромия, Вакха,
Отпрыск огня, что дважды рожден и двумя матерями,
И добавляют: Нисей, Тионей нестриженый, имя
Также дают и Леней, веселящих сеятель гроздьев,
Также Иакх, и Эван, и отец Элелей, и Никтелий,
Много имен и еще, которые некогда греки
Дали, о Либер, тебе! Ибо юность твоя неистленна,
Отрок ты веки веков! Ты всех прекраснее зришься
В небе высоком! Когда предстаешь, не украшен рогами, —
Девичий лик у тебя»…
(Овидий, Метаморфозы IV, 4-20)
В исступлении пляски душа положительно «выступала» из пределов телесной жизни, преображалась, вкушала блаженство внетелесного, слиянного с совокупностью и с природой бытия; на собственном непреложном опыте человек убеждался в самобытности своей души, в возможности для нее жить независимо от тела и, следовательно, в ее бессмертии; таково было эсхатологическое значение дионисизма. Он завоевал всю Грецию в VIII-VII вв. в вихре восторженной пляски. Эрвин Роде убедительно сравнивает с этим явлением «манию пляски», обуявшую среднюю Европу после великой чумы XIII в. Конечно, умеряющая религия Аполлона постаралась сгладить излишества нового культа: Дионисовы оргии¹ были ограничены пределами времени и места, они могли справляться только на Парнасе и притом раз в два года (в так называемых «триетеридах»). В прочей Греции дионисизм был введен в благочиние гражданского культа; его праздники приурочивались к работе винодела, и лишь в играх ряженых и поэтическом преображении Дионисова театра сохранились следы первоначального исступления.
_________________________
[1] ὄργια τά
1) культ. оргии, тайные обряды, мистерии (ὄ. θεαῖν Arph. — мистерии в честь обеих богинь, т.е. Деметры и Персефоны);
2) священнодействие или жертвоприношение (ὀργίων μαντεύματα Soph. — пророчества жертвоприношений);
3) празднество, праздник (Μουσῶν Arph.)
По-видимому, это укрощение первобытного дионисизма вызвало новую его волну из той же Фракии, отмеченную именем Дионисова пророка Орфея. И эта волна подпала умеряющему воздействию Аполлоновой религии; результатом этого воздействия были Орфические таинства, состоящие из трех частей: космогонической, нравственной и эсхатологической.
Космогоническая часть орфического учения примыкала к более старинному мифу о победе Зевса над титанами и основанном путем насилия царстве богов. Чтобы иметь возможность передать его из запятнанных насилием рук в чистые, Зевс делает матерью царицу подземных глубин Персефону, и она рождает ему первого Диониса — Загрея. Но мстительные титаны завлекают младенца Диониса к себе соблазном его отражения в их зеркалах и, завлекши, разрывают на части, которые и поглощают. Сердце спасает Паллада и приносит Зевсу; поглотив его, он вступает в брак с Семелой, дочерью Кадма, и она рождает ему (второго) Диониса. От испепеленных титанов же произошел человеческий род.
Здесь к космогонической части, в которой первобытная фракийская дикость так странно преображена греческим глубокомысленным символизмом, примыкает нравственная. Раз мы происходим от поглотивших первого Диониса титанов, значит, наше душевное естество состоит из двух элементов — титанического и дионисийского. Первый тянет нас к телесности, к обособлению, ко всему земному и низменному; второй, наоборот, к духовности, к воссоединению в Дионисе, ко всему небесному и возвышенному. Наш нравственный долг — подавить в себе титанизм и содействовать освобождению тлеющей в нас искры Диониса. Средством для этого служит объявленная в Орфических таинствах посвященным «орфическая жизнь».
Из нравственного учения вырастает эсхатологическое. Живой Дионис, сердце Загрея, жаждет воссоединения со всеми частями его растерзанного тела. Целью жизни каждого человека должно быть поэтому окончательное освобождение той его частицы, которая в нем живет, и ее упокоение в великой сути целокупного Диониса. Но путь к этому очень труден. Титанизм является постоянной помехой, соблазняя к новому воплощению. И вот мы рождаемся и умираем, и вновь рождаемся, все снова и снова замыкаем свою душу в «гробу» тела, все снова и снова воплощаемся — между прочим, и в звериных телах, и нет конца этому томительному «кругу рождений», пока мы, наконец, не внемлем голосу Диониса, не обратимся к «орфической жизни». И тогда мы спасемся не сразу. Трижды мы должны прожить свой век безупречно и здесь, на земле, и в царстве Персефоны, пока, наконец, не настанет для нас заря освобождения, воссоединения и упокоения.
Пребывание в царстве Персефоны перед новым воплощением понимается как время очищения от грехов жизни; ее обитель — для большинства людей чистилище. Кто безгрешно провел земную жизнь, тот и на том свете проводит жизнь в блаженстве, во временном раю — пока голос необходимости не призовет его обратно на землю для новых испытаний. Но есть и такие, которые запятнали себя «неисцелимыми» злодеяниями; для них нет очищения, они терпят вечную кару в аду. Вот почему каждую душу после смерти ждет загробный суд; строгие и неподкупные судьи должны определить, в которую из трех обителей ей надлежит отправиться.
Орфические таинства, в отличие от Элевсинских, не были прикреплены к какому-нибудь городу: повсюду в Греции, особенно в колониальной, на западе, возникали общины орфиков, жившие и справлявшие праздники под руководством своих учителей. Конечно, от личности последних зависели и чистота, и духовный уровень самого учения; и если с этой точки зрения большинство орфеотелестов,² пугавших простой народ ужасом загробных мучений, и вызывало подчас насмешки просвещенных, то с другой стороны серьезные проповедники учения сумели поднять его на такую высоту, что не только поэты, подобно Пиндару, но и философы подчинялись его обаянию. Великий Пифагор сделал орфизм центральным учением своего «ордена». И через пифагорейцев, и независимо от них подпал орфизму и Платон; правда, в специально догматической части своего учения он не делает ему уступок, но в тех фантастических мифах, которыми он украсил своего «Горгия», «Федона» и в особенности последнюю книгу «Государства», сказывается в сильнейшей степени влияние орфической эсхатологии. И оно им не ограничилось: отчасти через широкое русло платоновской философии, но более посредством подземных струй, лишь ныне отчасти раскрываемых, она вливается и в христианство. Церковь иногда старалась воздвигнуть против нее плотину Евангелия, — иногда же и нет, находя, что те или другие частности (например, учение о чистилище) не противоречат ему и даже, пожалуй, им рекомендуются. Как бы то ни было, орфизм в значительной степени скрасил христианские представления о загробном мире: без Орфея и Данте он просто немыслим.
_________________________
[2] ὀρφεοτελεστής (ὀρφεο-τελεστής), -οῦ ὁ орфеотелест, посвящающий в орфические таинства Plut.
ДИОНИСИИ
Цикл праздников Диониса открывался веселыми Осхофориями (ὀσχοφόρια или ὠσχοφόρια, «ношение гроздьев»). Осхофория, праздник жатвы, праздновавшийся в Афинах 7-го пианопсиона (Πυανοψίων, октябрь-ноябрь). Во время этого праздника 20 взрослых юношей (по два от каждого сословия) бежали из храма Диониса в Лимнах в храм Афины Скирас (Ἀθηνᾶ Σκιράς) на Фалероне, неся в руках виноградные ветви с гроздями, гроздья винограда были даром от Диониса богине-покровительнице страны. Каждый из 10 победителей получал в награду чашу, наполненную напитком, составленным из пяти главнейших продуктов года (вина, меда, сыра, муки и оливкового масла — πενταπλόα), и почетное место в следовавшей затем процессии. Праздничное шествие (причем впереди поющего хора шли два мальчика в женской одежде) совершалось от Осхофории, площади перед храмом Афины, к храму Диониса, где Фиталиды приносили жертву. Праздник оканчивался жертвенным пиром.
Остальные праздники были приурочены к различным стадиям брожения молодого вина; то были сельские Дионисии в декабре, Ленеи в январе и Анфестерии в феврале. Все они были обставлены отчасти веселой, отчасти серьезной обрядностью и расцвечены прелестными мифами и легендами.
«В шестом месяце Ποσείδεων (Посидеон, приблиз. декабрь-январь) главными праздниками были Ἁλῶα (Алои, афинский праздник урожая) и μικρὰ Διονύσια (Малые Дионисии или Сельские, τὰ κατ΄ ἀγροὺς). Первый был земледельческий праздник молотьбы, совершавшийся в честь Деметры, Коры (Персефоны) и Диониса. Праздновавшиеся в этом месяце Дионисии назывались «сельскими» (в отличие от «городских», или «великих», совершавшихся в месяце Элафеболионе)».
«Ленеи или Ленейские Дионисии (Διονύσια Λήναια) — афинский праздник виноделия в 8-11 дни месяца Гамелион (Γαμηλιών — «брачный месяц», январь-февраль) в честь Вакха (Диониса); к нему приурочивались состязания драматургических произведений. У ионийцев, а в древнейшие времена и в самой Аттике, этот месяц (Гамелион) назывался Ληναίων (Ленеон, «месяц виноделия») от названия Дионисовского празднества Ληναία». Этот праздник совершался в течение нескольких дней. Местом праздника было древнее святилище Диониса. Празднование было сходно с сельскими Дионисиями, только пышнее и торжественнее; важную роль играло исполнение дифирамбов в честь божества киклическими (κυκλικός) хорами, называвшимися так потому, что во время исполнения дифирамба они двигались мерным, ритмическим шагом вокруг алтаря. Особая роль отводилась театральным представлениям.»
«Название восьмого месяца Анфестерион (Ἀνθεστηριών, февраль-март) произошло от третьего большого Дионисовского праздника, называвшегося Ἀνθεστηρία; это был месяц, в котором природа на юге пробуждается от зимнего сна; кроме того, молодое вино, приготовленное осенью, заканчивало к этому времени свое брожение и становилось годным к употреблению. То и другое, т.е. пробуждение природы и окончание брожения вина, составляло предмет праздника Анфестерий».
Праздник Анфестерий продолжался три дня, каждый из которых имел особое название. Первый день назывался днем открытия бочек и пробы нового вина. Каждый домохозяин приносил богу жертву, при
 которой совершал возлияние свежим напитком, и все домочадцы, не исключая и рабов, предавались праздничному веселью и удовольствиям. Первыми весенними цветами украшались сосуды и дети как распускающиеся цветки человеческого рода. В этот день в Афинах был рынок игрушек, которые покупали и дарили детям.
которой совершал возлияние свежим напитком, и все домочадцы, не исключая и рабов, предавались праздничному веселью и удовольствиям. Первыми весенними цветами украшались сосуды и дети как распускающиеся цветки человеческого рода. В этот день в Афинах был рынок игрушек, которые покупали и дарили детям.Второй день — «крýжки» — также был посвящен праздничным удовольствиям. Веселые компании, в которых участвовали ряженые, представлявшие сатиров, нимф и пр., ходили по городу и заходили к знакомым, где составлялись пирушки и даже состязания: кто скорее выпивал свой кубок вина, получал в награду плющевый венок и мех вина. При этом не забывали также и умерших родственников: ходили к ним на могилы и совершали возлияния вином. По-видимому, первоначально этот день был посвящен главным образом поминовению усопших и имел целью умилостивить силы подземного мира, владычеству которых при наступлении весны приходил конец. Поэтому-то этот день вместе со следующим принадлежал к числу «тяжелых» и храмы богов в эти дни были закрыты; однако впоследствии такое значение этих дней вполне уступило место веселью и наслаждению.
От имени государства совершалась таинственная церемония в древнем храме Диониса в Ленее, открывавшемся только в этот день. Главную роль в этой церемонии играла βασίλισσα или βασίλιννα, супруга архонта-царя, которая должна была быть родовитой гражданкой и выйти замуж девицей. При совершении церемонии ей помогали четырнадцать жриц (γεραραί, «старицы»), избранные архонтом-царем из наиболее уважаемых гражданок. «Царица» в присутствии священноглашатая брала с них торжественную клятву в том, что они удовлетворяют условиям, требующимся для участия в церемонии, и будут соблюдать строгую тайну. Жрицы совершали священные обряды на 14 алтарях, а затем «царица» отправлялась в святилище-буколеон,³ вблизи пританея,⁴ и там будто бы сочеталась браком с Дионисом.
Древний закон об этом обряде, вырезанный на камне, еще во времена Демосфена стоял в святилище Диониса подле жертвенника. Впрочем, подробности обряда неизвестны, а значение его объясняется различно; проще и естественнее всего принять, что «царица» как представительница страны соединялась брачными узами с богом возрождающейся весною растительности в знак того, что страна вполне предана его служению и надеется на его защиту и помощь; или, быть может, эта церемония совершалась в воспоминание брака Диониса с Ариадной.⁵
_________________________
[3] Βουκολίων (-ωνος) ἡ святилище пастыря (βουκόλος);
βουκόλος (βου-κόλος), дор. v. l. βωκόλος (-ου) ὁ погонщик или хранитель крупного рогатого скота, волопас, пастух Hom., Plat., Arst., Theocr.
[4] πρυτανεῖον, ион. πρῠτᾰνήϊον τό пританей, судилище (в Афинах), в котором заседали пританы (πρυτάνεις, члены коллегии из 50 человек) Plut.
[5] «Любовь супруги Миноса к Критскому быку является, по всей вероятности, фантастическим отражением древнего критского религиозного обряда, совершавшегося женой царя-жреца. Характерно, что и в Афинах, сохранявших, судя по первым строкам «Афинской политии» Аристотеля (III, 5), древние связи с критскими жрецами, жена архонта-царя вступала в ритуальный брак с Дионисом в Буколионе. Буколион был храмом Диониса, пастыря быков, и сам Дионис иногда представлялся греками в образе быка. Ритуал этот мог быть заимствован с Крита.
Если сблизить культ быка, по-видимому существовавший на Крите, с культом быка Аписа в Египте, то мы увидим, что в Египте бык Апис был явленным богом Осирисом, так же как и фараон: бык, бог и царь в египетской теократической деспотии оказывались связанными сходным образом». (Аполлодор. Мифологическая библиотека III.)
Третий день Анфестерий назывался «днем горшков» потому, что тогда приносили Гермесу Хтонию (χθόνιος, подземный) в жертву за души усопших горшки с вареными плодами всякого рода, которых сами жертвователи не могли пробовать, как при всех вообще жертвах подземным богам; ни одному из Олимпийских богов в этот день не приносили жертвы.
…«последний день Анфестерий был посвящен хтоническим культам, жертвоприношению душам умерших и подземному Гермесу. Души собирались на угощение, им приготовленное, и потом изгонялись из соседства живых заклинанием. (…) До нас дошла любопытная формула изгнания подземных гостей: "к дверям, Керы!⁶ Миновали Анфестерии!"» (В.Иванов)_________________________
[6] Κήρ, Κηρός ἡ Кера (богиня насильственной смерти); ex. ὦ φθερσιγενεῖς Κῆρες Ἐρινύες! Aesch. — о, губительные Керы-Эринии!
Вообще видно, что три дня Анфестерий были богаты различными религиозными обрядами, подробности которых, однако, мало известны.
Прекраснейшим из всех дионисийских праздников были Великие Дионисии (μεγάλα Διονύσια), учрежденные тираном Писистратом.
«Девятый месяц Ελαφηβολίων (Элафеболион, соответствовал 2-ой половине марта и 1-ой апреля) был посвящен Артемиде, которой вообще у греков посвящался месяц, приходившийся около весеннего равноденствия.
Нет прямых указаний на существование в Аттике праздника Ελαφηβολία, встречающегося в других местностях Эллады, но предполагать его существование можно с большой вероятностью. Главным же праздником в этом месяце были великие Дионисии, продолжавшиеся несколько дней. Великие Дионисии торжествовали полную победу весны над зимой, были праздником радости и свободы, когда отпускали на поруки узников, оставляли в покое должников и никого не арестовывали, для того чтобы все могли принимать участие в веселье».
Празднование великих Дионисий начиналось торжественной процессией, в которой несли древнюю статую Диониса из Ленея в древний храм его, стоявший близ Академии, и оттуда обратно, с хоровыми песнями и веселыми прогулками по городу. Главной и существеннейшей частью этого праздника были театральные представления.
ДИОНИС, ИЛИ ВОЗВРАЩЕННОЕ БЛАЖЕНСТВО
(отрывок из книги Элиаде М. История веры и религиозных идей. I. XV:125)
Миф о расчленении младенца Диониса Загрея известен нам в основном по трудам христианских авторов, которым, как и следует ожидать, он не импонировал, а потому был представлен ими фрагментарно и тенденциозно. Однако, благодаря своей свободе от запрета говорить о сакральных и тайных вещах, христианские писатели донесли до нас ряд ценных деталей. Гера посылает к маленькому Дионису Загрею титанов, которые сначала завлекают его игрушками (погремушками, зеркальцем, бабками, шариком, волчком, трещоткой), а потом убивают, разрезают на части, варят в котле и, по некоторым версиям, съедают. Сердце Диониса Загрея удается сохранить Афине (варианты: Рее или Деметре). Узнав о преступлении, Зевс поражает титанов ударом молнии.
Христианские авторы не говорят о воскресении Диониса, но античные авторы о нем знали. Эпикуреец Филодем, современник Цицерона, пишет о трех рождениях Диониса: первом — от своей матери, втором — из бедра Зевса, и третьем, состоявшемся, когда Рея сложила куски его растерзанного титанами тела, после чего он вновь вернулся к жизни. Фирмик Матерн заключает свое сочинение рассказом о том, что на Крите (где, в его толковании, происходит действие) это убийство отмечается ежегодными ритуалами, воспроизводящими все, что «делало и испытывало дитя в момент смерти»: «в глубине лесов они страшно кричат, изображая яростные метания души» — как бы давая понять, что преступление было совершено в момент безумия, — «и зубами разрывают на части живого быка».
Мифо-ритуальная тема страданий и воскресения младенца Диониса Загрея породила бесчисленные споры, особенно в связи с ее орфическими интерпретациями. Мы сейчас ограничимся лишь указанием на то, что сведения, сообщенные христианскими авторами, находят подтверждение в более ранних документах. Впервые имя Загрея встречается в эпической поэме фиванского цикла Alcmaeonis (VI в. до н.э.); оно означает «великий охотник»,⁷ что соответствует необузданной, оргиастической природе Диониса.
_________________________
[7] Непонятно, когда Дионис успел стать «великим охотником», если титаны растерзали его в самом раннем младенчестве. Этимология эпитета «Загрей» явно происходит от териоморфного образа «первого» Диониса. В одних интерпретациях Дионис, пытаясь скрыться от титанов, перевоплощается в разных животных. И когда он обратился в быка, титаны настигли его и растерзали. По другой версии, Дионис изначально имел образ быка.
Ζαγρεύς — Загрей, эпитет Диониса в образе быка;
ζά — усилит. приставка со знач. очень, весьма, вполне;
ex. ζάχολος (ζά-χολος) раздраженный, гневный (Διόνυσος Anth.);
ἀγρεύς (-έως) ὁ охотник, ловец Pind., Aesch., Eur., Luc., Anth.
ἄγριος
1) дикий;
2) жестокий, свирепый, лютый, злой;
3) неукротимый, необузданный, грубый;
4) мучительный, тяжелый;
5) бурный, ужасный.
Что касается злодеяния титанов, то о нем кое-что рассказывает Павсаний (VIII, 37,5), и это свидетельство остается для нас ценным, несмотря на скептицизм Виламовица и других исследователей. Павсаний сообщает, что некто Ономакрит, живший в Афинах в VI веке до н.э., при Писистратидах, написал поэму на эту тему: «Взяв имя титанов у Гомера, он учредил дионисийские оргии, сделав титанов злодеями и мучителями божества».
Согласно этому мифу, титаны, прежде чем приблизиться к младенцу, вымазались алебастром, чтобы их не узнали. Так вот, в проводившихся в Афинах сабазийских мистериях один из посвятительных обрядов состоял в том, что лица инициатов покрывали мелом (τίτανος)⁸ или алебастром. Эти факты связывались вместе со времен античности. Но на самом деле мы имеем здесь одну из форм архаического посвятительного ритуала, хорошо известного в первобытных обществах: инициаты натирают лица мелом или золой, чтобы походить на призраков, т.е. они проходят через ритуальную смерть.
_________________________
[8] Обращает на себя внимание созвучие слов Τιτάν («титан») и τίτανος («мел»), которым покрыли лица титаны, дабы не быть узнанными:
τίτανος ἡ гипс Hes.; известь или мел Arst.; меловая пыль Luc.
Τιτάν (-ᾶνος), ион. Τῑτήν (-ῆνος) ὁ (эп. dat. pl. Τιτήνεσσιν) Титан (Τιτᾶνες и Τιτανίδες — титаны и титаниды, дети Урана и Геи).
«Мистические игрушки» тоже давно известны: в папирусе III века до н.э., найденном в Файюме и, к сожалению, испорченном, упоминаются волчок, трещотка, кости и зеркало (Orphicorum, fr.31).
Самый драматичный эпизод мифа — и в особенности то, что, растерзав ребенка, титаны бросили куски его тела в котел, сварили, а потом зажарили, — был известен еще в IV веке; более того, все эти детали «репетировались» в связи с празднованием мистерий. О подобной традиции знал Эвфорион в III веке. Жанмэр убедительно показал, что кипячение в котле и прохождение через огонь — это обряды инициации, дарующие бессмертие (ср. историю Деметры и Демофонта) или омоложение (дочери Пелия зарезали своего отца и сварили в котле).
Таким образом, в «злодеянии титанов» мы можем распознать древний посвятительный сценарий, первоначальный смысл которого оказался забытым. Титаны ведут себя как «магистры инициации», т.е. они «умерщвляют» посвящаемого, чтобы он «заново родился» на более высоком уровне существования (в нашем примере они даруют младенцу Дионису божественную природу и бессмертие). Однако в религии, провозгласившей абсолютное верховенство Зевса, титаны могли играть только демоническую роль, за что и были испепелены Зевсовой молнией. По некоторым версиям этого мифа, важного для орфической традиции, люди были созданы из пепла титанов.
Инициатический характер дионисийских обрядов ощущался и в Дельфах, когда женщины чествовали возрожденного бога. Как свидетельствует Плутарх (De Iside, 35), в дельфийской корзине лежал, готовый к возрождению, растерзанный Дионис Загрей, и этот Дионис, «который вновь рождался под именем Загрея, был в то же время фиванским Дионисом, сыном Зевса и Семелы».
Возможно, и Диодор Сицилийский имеет в виду дионисийские мистерии, когда пишет, что «Орфей перенес растерзание Диониса в мистериальные обряды» (V, 75,4). А в другом месте Диодор представляет Орфея как реформатора дионисийских таинств: «Вот почему посвятительные обряды в честь Диониса называются орфическими» (III, 65,6). Для нас сообщение Диодора ценно в той мере, в какой оно подтверждает существование дионисийских мистерий. Но в то же время вероятно, что уже в V веке до н.э. эти таинства содержали некоторые «орфические» элементы. Тогда Орфея, действительно, провозгласили «пророком Диониса» и «основателем всех инициаций».
_______________________________
|
Метки: Дионис Загрей Орфики Мистерии Оргии Греция |
Процитировано 1 раз
ЭЛЕВСИНСКИЕ МИСТЕРИИ |
Элевсинский культ, культ Деметры и Персефоны в Элевсине (Ἐλευσίνος), городе расположенном в 2 милях от Афин. В древнее время он, вероятно, состоял из сельских праздников, относившихся к земледелию, посеву,
 жатве и основанию благонравной жизни, но позже, когда с представлением об умирании и оживании семени, имевшем мифический образ в истории Персефоны, соединяли более глубокие религиозные идеи о бессмертии, он принял мистический характер и сделался тайным культом, в который посвящались посредством особых таинственных обрядов и тайн коего никто не должен был выдавать. К культу Деметры (Δημήτηρ) и Персефоны (Περσεφόνη) еще в ранние времена присоединился культ Диониса-Иакха, пришедший, вероятно, из Беотии через фракийцев.
жатве и основанию благонравной жизни, но позже, когда с представлением об умирании и оживании семени, имевшем мифический образ в истории Персефоны, соединяли более глубокие религиозные идеи о бессмертии, он принял мистический характер и сделался тайным культом, в который посвящались посредством особых таинственных обрядов и тайн коего никто не должен был выдавать. К культу Деметры (Δημήτηρ) и Персефоны (Περσεφόνη) еще в ранние времена присоединился культ Диониса-Иакха, пришедший, вероятно, из Беотии через фракийцев.Главным содержанием Элевсинских мистерий был миф о Деметре, передаваемый в Гомеровском гимне следующим образом. Персефона, дочь Деметры, собирая с океанидами цветы на Нисейском лугу, была похищена Аидом. Мать, услышав отчаянные крики дочери, бросилась к ней на помощь и искала ее с факелами 9 дней, не принимая ни пищи, ни питья. Наконец, от Гекаты и Гелиоса она узнала об участи, постигшей Персефону.
Тогда разгневанная богиня покинула Олимп и стала странствовать по земле в образе старухи. Прибыв в Элевсин,¹ она была встречена у колодца дочерьми местного царя Келея и, выдавая себя за уроженку острова Крит, похищенную морскими разбойниками, но спасшуюся от них бегством, была принята в дом царя в качестве няни царевича Демофонта. Здесь она также не могла забыть своей печали, пока служанка Ямба не развеселила ее своими нескромными шутками, и тогда царица Метанира уговорила ее вкусить напиток кикеон. Богиня ухаживала за царевичем и, желая сделать его бессмертным, намазывала амброзией и по ночам клала в огонь, как головню. Однажды мать царевича увидела это, испугалась и подняла шум. Тогда богиня открылась Метанире, приказала построить себе храм и учредить богослужение по ее указаниям. Между тем земля не приносила плодов, так как богиня, разгневанная похищением дочери, скрывала посеянные людьми семена. Наконец, Зевс вызвалил Персефону из аида. Деметра примирилась тогда с богами под тем условием, чтобы ее дочь третью часть года проводила в подземном царстве, а две трети — с матерью и прочими богами (по другой версии, Персефона полгода проводит на земле, и полгода в аиде).² Земле возвращено было плодородие, и богиня, покидая Элевсин, показала священные обряды Келею, Эвмолпу, Диоклу и Триптолему, которого, кроме того, научила земледелию. Заповеданные богиней обряды должно исполнять, но нельзя расследовать и разглашать. Счастлив, кто их видел; непосвященные же в таинства не будут блаженствовать, а будут пребывать под покровом печального мрака. Счастлив, кого любят две богини: они посылают в его дом Плутоса, дающего богатство смертным. Таково содержание этого мифа, основой которого является мистерия годового цикла: умирание природы зимой и возвращение ее к новой жизни с наступлением весны.
________________________________________________________________________________

Антонин Пий (138-161). Рим.
Аурей (AV 20mm, 7.42g), 150/1г.
Av: бюст Антонина Пия; ANTONINVS AVG PIVS P P TR P XIIII
Rv: Деметра с колосьями и Персефона с плодом граната; LAETITIA / COS IIII
• На реверсе изображена сцена радости: Деметра вновь обретшая Персефону (Laetitia — «радость, счастье»).
________________________________________________________________________________
Элевсинский культ в древнейшее время исполняли только элевсинцы; со времени же соединения Элевсина с Афинами в одно государство, Афины приняли Элевсинский культ, с его мистериями, и распространили его далее. С этого времени ежегодные празднества элевсинских богов справлялись отчасти в Афинах, отчасти в Элевсине, но таким образом, что Элевсин всегда оставался главным местом мистерий. Празднование относилось к изменяющемуся положению Персефоны (богини плодородия), сход которой в аид (κάτοδος) и брак с Гадесом (Аидом) осенью, когда хлеба убирают с полей и производят озимые посевы, праздновали по всей Греции, тогда как весной праздновалось ее возвращение (ἄνοδος) на землю, равно как ее брак с цветущим Дионисом.
_____________________________
[1] Название города Элевсин связывают с прибытием (ἔλευσις) в него Деметры, и связанных с этим ежегодных мистерий.
Ἐλευσίς (-ῖνος) ἡ Элевсин (город и дем в атт. филе Ἱπποθωντίς, к сев.-зап. от Афин, главный центр культа Деметры и Персефоны) HH., Pind., Her.
ἔλευσις (-εως) ἡ пришествие (τοῦ δικαίου NT.)
[2] По древнейшей традиции, год начинался в день летнего солнцестояния и делился на три части.
В Афинах ежегодно совершалось два праздника, имевшие отношение к элевсинскому культу. В конце зимы, в месяце Анфестерионе³ праздновались Малые мистерии, служившие как бы предпразднеством Великих и совершавшиеся в Агре, предместье Афин. Они состояли, главным образом, в очищениях водой Илисса, на берегу которого лежала Агра, и, может быть, в драматическом представлении мифа о рождении Иакха от Персефоны.
Осенью праздновали между временем жатвы и посева от 15 числа Боедромиона⁴ в течение 9 дней Великие Элевсинии. Порядок дней трудно определить. В первые дни были разные приготовления к главной части праздника, жертвы, очищения, омовения, с торжественной процессией к морю (ἄλαδε μύσται), посты, шумные процессии и т.п.
Великие Мистерии были посвящены матери Персефоны — Деметре, и представляли ее как скитающуюся по миру в поисках своей дочери. После долгих поисков Деметра нашла (δήω)⁵ свою дочь в царстве Аида. Представ перед богом мертвых душ, она умоляет его отпустить Персефону домой. Сначала бог отказывается сделать это, потому что Персефона вкусила граната, плода смерти. Наконец Аид соглашается отпустить ее с условием, что Персефона будет проводить часть года в царстве мертвых.
_____________________________
[3] Ἀνθεστηριών (-ῶνος) ὁ антестерион (8-й месяц атт. календаря, соотв. приблиз. второй половине февраля и первой половине марта) Aeschin., Dem.
[4] Βοηδρομιών (-ῶνος) ὁ боэдромион (3-й месяц атт. календаря, соотв. 2-й половине сентября и 1-й половине октября; в этом месяце справлялся праздник Βοηδρόμια) Dem., Arst., Plut.
[5] Многие авторы часто называют Деметру коротким именем Δηώ.
Δηώ (-οῦς) ἡ Део, т.е. Деметра HH., Soph., Eur., Arph., Anth.; ex. Ἐλευσινίας Δηοῦς ἐν κόλποις (Soph.) — в долинах Део Элевсинской.
Имя Δηώ означает «нашедшая» [свою дочь], от δήω — «найти, встретить».
Кроме того, имя Деметры, лишившейся дочери, коррелирует со значением слова δεύω: «упускать», «не иметь», «быть лишенным». Есть и еще одно интересное созвучие, особенно с учетом сошествия Деметры в царство Аида, в поисках дочери:
δύω
1) погружаться, опускаться; ex. δύω δόμον Ἄϊδος εἴσω — сойти к Аиду Hom.; в подземную бездну (χάσμα χθονός) Eur.;
2) входить, вступать;
3) (о небесных светилах) заходить;
4) прятаться;
Хотя, наиболее вероятный этимологический корень имени Деметры лежит в стороне от всех созвучий, имеющих отношение к сюжету Элевсинских мистерий. Если обратиться к микенскому написанию имени Деметры (te-i-ja ma-te-re) — оно равнозначно греческому θεά μήτηρ — богиня мать.
Имена богинь находились под запретом (ἀπόρρητος) для произнесения непосвященными. Вместо имен употреблялись эпитеты (Μήτηρ и Κόρη — «мать» и «дочь») или просто θεά (τὼ θεώ — обе богини; μεγάλαι θεαί — великие богини, т.е. Деметра и Персефона). Особо набожные люди продолжали употреблять обозначение «две богини» еще долгое время после завершения классического периода. У Геродота афинянин, объясняющий спартанцу чудо, произошедшее перед сражением у Саламина, не произносит имен богинь, а называет их «Мать» и «Дочь»: …«это праздник, справляемый афинянами каждый год в честь Матери и Дочери. На этом празднике проходят посвящение все афиняне, а также иные, того желающие, эллины».
На 6-й день по «священной дороге» устраивалась большая процессия Иакха⁶ из Афин в Элевсин, в которой кроме жрецов и властей принимали участие множество посвященных, в миртовых и сельдерейных венках, с плугами и полевыми орудиями и факелами в руках. Процессия, предводителем которой считался шумящий Иакх,⁷ начиналась, вероятно, у городского Элевсинского храма под северо-западным склоном кремля и устраивалась во вторую половину дня, так что по совершении пути в 2 мили с наступлением ночи приходили в Элевсин.
_____________________________
[6] Ἴακχος ὁ Иакх, культово-мистическое имя Вакха (τὸν Ἴακχον ἐξελαύνειν Plut. — нести в торжественном шествии изображение Иакха).
[7] Имя Иакха этимологизируют от слова ἴακχος — «крик, шум». Сравн. с другим эпитетом Вакха — Βρόμιος (Бромий), что означает «шумный».
ἴακχος ὁ
1) крик, вопль, оплакивание (νεκρῶν Eur.);
2) гимн в честь Иакха (ὁ μυστικὸς ἴ. Her.).
βρόμιος
1) гудящий, поющий (φόρμιγξ Pind.);
2) вакхов, вакхический (θύρσος Eur.; χάρις Arph.).
По прибытии в Элевсин, в ближайшую и следующие ночи во Фриасийской долине по берегу Элевсинского залива и около источника Калихора, устраивались мистериальные поиски Персефоны и ее нахождение. С нахождением Персефоны заканчивался пост ритуальным возлияниями напитка κυκεών, смешанного из воды, меда и мяты. По легенде, этим напитком утолила жажду Деметра после долгой печали и поста.

«Девять скиталася дней непрерывно Део пречестная,
С факелом в каждой руке, обходя всю широкую землю,
И не вкусила ни разу амвросии с нектаром сладким,
Кожи нетленной своей не омыла ни разу водою.»
(Гомеровы гимны. К Деметре. 47)
Обряд симпатического поста показывает насколько посвященные роднились душой со своей богиней, переживая ее горе и радость.
Заключение всего празднества составляло так называемые Πλημοχόη, возлияние воды из своеобразных сосудов, причем из одного сосуда делали возлияние на восток, из другого на запад. Ночное празднество, начиная с процессии Иакха и до Πλημοχόη совершали, вероятно, мисты и эпопты, отдельно в разных местах. Следует заметить, что те, которые посвящались в мистерии (для иностранцев необходимо было иметь какого-нибудь аттика как мистагога (μυστᾰγωγός, посвятителя в мистерии), были вводимы обыкновенно сначала на Малых Элевсиниях весною в малые мистерии (τα μικρά μυστήρια) и принимали участие в качестве мистов (μύσται) осенью того же года в больших мистериях (τα μεγάλα μυστήρια) Великих Элевсиний, но полного посвящения достигали лишь на следующий год на Великих Элевсиниях в качестве эпоптов (ἐπόπται, «созерцатели»).
Таким образом, между тем как мисты совершали, вероятно, свои ночные процессии на Фриасийском поле и допускались также в предхрамие, эпопты совершали тайное празднование в телестерионе (τελεστήριον), состоявшее в основном из священной драмы (δράμα μυστικόν), в коей изображалась с большим великолепием история Деметры, Персефоны и Иакха.
При этом обращалось преимущественное внимание на переход от мрака к свету, от страха к радости и воодушевляющим зрелищам. Плутарх так говорит об этом:
«Сначала блуждание и утомительное бегание туда и сюда и робкое лишенное посвящения странствование во мраке; затем перед самым посвящением все суровое, ужас и дрожь, и пот, и изумление. За этим их поражает чудный свет, или их принимают прелестные места и долины, наполненные голосами, хороводными плясками и торжественными священными песнопениями и явлениями».
Эпопты, по-видимому, по аналогии с судьбой Персефоны, ведутся через образы смерти и царства теней к веселой, счастливой жизни, из Тартара в Элизий.
Так эти символические представления, не будучи сопровождаемы никакими догматическими учениями о новых целебных истинах, пробуждали в душе посвященного блаженные надежды на загробную жизнь.
«Трижды блаженны те смертные, которые видели эти посвящения, когда они нисходят в преисподню; для них одних существует жизнь в подземном царстве, для других это лишь мучение и страдание». (Софокл)
Великие Мистерии символизировали принципы духовного возрождения и открывали посвященным не только простейшие, но и прямые и полные методы освобождения своей высшей природы от бремени материального невежества.
Согласно Порфирию, среди персонажей, участвующих в мистерии, жрец изображал платоновского Демиурга, или Создателя мира, факелоносец — Солнце, человек при алтаре — Луну, герольд — Гермеса (Меркурия), а остальные — малые звезды.
Высшее учение давалось только избранным, способным понять философские концепции. По ходу инициации, во время мистерий, кандидат проходил через двое ворот. Первые вели в нижние миры и символизировали рождение души в невежестве. Вторые вели в комнату, освещенную скрытыми лампадами, в которой статуя Деметры символизировала верхний мир Истины и Света.
Главный надзор за Элевсиниями имел ἄρχων βασιλεύς, помощниками которого были 4 избранных народом епимелета (ἐπιμελητής), причем двое были из рода Евмолпидов и Кериков и двое из остальных афинян. Жречество было в потомственном владении древних священных родов.
Высшим жреческим саном был иерофант (ἱεροφάντης, ὁ τὰ μυστήρια δεικνύων, имевший помощницу ἱερόφαντις), из рода Евмолпидов. Он должен был при мистической драме показывать священные символы (δει̃ξις τω̃ν ἱερω̃ν). Впрочем, кажется, что он это, как и многое другое, делал сообща с дадухом (δαδου̃χος); специально иерофанту принадлежало пение, по которому и назван род Евмолпидов, тогда как специальной обязанностью дадуха была почетная должность держать факел.
Сан дадуха занимал прежде происходящий от Триптолема род Каллия и Гиппоника, позже, до последних времен язычества — Ликомиды. Иерокерик (ἱεροκήρυξ, герольд) и епибомий (ἐπιβώμιος, ὁ ἐπί βωνω̃, блюститель алтаря) имели тоже много общих обязанностей, касавшихся, по-видимому, в основном жертвоприношений. Род первого производил себя от Гермеса и дочери Кекропа или от Керика, сына Евмолпа.
В многочисленности имен и культов древнегреческого политеизма взору наблюдателя представляются два довольно четко отделенных друг от друга течения. Первое — это течение явное, участие в котором не было обусловлено ничем, кроме разве принадлежностью чествующего к соответственной гражданской общине. Сюда мы относим большинство государственных культов Греции — и Зевса Олимпийского, и Паллады Афинской, и Аполлона Дельфийского. Но второе — это течение тайное; условием участия в нем было посвящение, посвящение же налагало на того, кто был его удостоен, обязательство — никому из непосвященных не выдавать тех священнодействий, участником и свидетелем которых он сподобился стать. Сюда относится тоже ряд культов, хотя и значительно меньший, но особенно два: культ Деметры Элевсинской и культ Диониса, развитый его пророком Орфеем, другими словами, элевсинские и орфические таинства. Обаяние этих учений заключалось именно в том, что они раскрывали перед смертным покров загробных тайн и не только удовлетворяли его любознательность, давая ему определенный ответ на мучительный вопрос, что с ним будет после смерти, но и учили его обеспечить себе лучшую участь на том свете. В те отдаленные времена, когда и сами боги еще не сознавались как стражи нравственности, и условия этой лучшей участи были скорее сакральные, чем нравственные, т.е. скорее сводились к исполнению обрядов посвящения, чем к праведной жизни. Морализация таинств шла вровень с морализацией религии вообще. Ко времени расцвета последней она также и в области таинств была совершившимся фактом.
Исократ говорит, что Деметра, установив мистерии, смягчила нравы людей. Нравственное воспитание и исправление жизни представляется Арриану главной целью мистерий. По словам Цицерона, Афины, создавшие много прекрасного и великого и внесшие это прекрасное в жизнь человеческую, не произвели ничего лучше тех мистерий, благодаря которым люди из грубого состояния перешли к жизни достойной человека и улучшили свои нравы. Таким образом, Элевсинские мистерии, несмотря на некоторые темные свои стороны, бесспорно имели высокое нравственное влияние на развитие греческого народа и представляют одно из привлекательных явлений его религиозной жизни.
Элевсинские мистерии были долго в большом почете у греков. Блестящий период их был во время между Персидскими войнами и периодом просвещения. В этот период легкомыслие и знаки недоверия встречались лишь у отдельных лиц из высших сословий, как у Алкибиада и его друзей, тогда как государство и весь народ сохраняли уважение к их святости вплоть до времен Империи. Следует заметить, однако, что в позднейшие времена внешняя обрядовая сторона мистерий решительно выступила на первый план и они потеряли всякое влияние на нравственную жизнь народа.
Мистерии по образцу Элевсинских праздновались и в разных других местностях Эллады, например, в таких городах Аркадии и Мессении как Флиунт, Мегалополь, Феней. Во многих местностях Пелопоннеса (Беотии и др.) упоминается Деметра с прозвищем Ἐλευσίνια или праздник Ἐλευσίνια, а месяц Ἐλευσίνιοη неоднократно встречается в дорических календарях.
Сицилия, благодаря своему изумительному плодородию, вся считалась посвященной Деметре. Культовым центром мистерий был город Энна. Неизвестно когда состоялось перенесение элевсинского мифа в Сицилию, во всяком случае очень давно. Когда в самом начале своего республиканского быта Рим вычитал в книгах кумской Сивиллы повеление дать у себя место культу элевсинских божеств, он заимствовал его не из Элевсина, а, прямо или косвенно, из Сицилии.
И вот, в Риме был воздвигнут первый греческий храм для греческого культа с соблюдением греческой обрядности — храм, посвященный Cereri, Libero, Liberae. Церера — это Деметра, неопределенная римская богиня зреющей нивы была отождествлена с греческой даровательницей хлеба. Либера, «дочь» — буквальный перевод греческой Коры (Κόρη).⁸ Но кто такой Либер? Это слово значит «сын» — сын Деметры, надо полагать, коль скоро Либера — ее дочь.⁹ Но римляне во все времена разумели под ним Вакха-Диониса. Вот он, «юный бог» священного шествия Иакх, олицетворенное ликование чающих близкую благодать паломников. Слияние с Афинами создало и само шествие и сопровождающего его бога. А если так, то и в создании сицилийско-римской троицы придется признать влияние Афин.
_____________________________
[8] Κόρη, эп.-ион. κούρη, Trag. тж. κόρα и κούρα, дор. κώρα ἡ дочь, девушка, дева, невеста.
[9] liber m ребенок, отпрыск.
Libera (-ae) f Прозерпина, дочь Цереры, сестра Либера.
Liber (-eri) m Либер, древнеиталийский бог, позднее прозвище Вакха.
Принятие в Риме этой троицы составляет событие скорее римской, чем греческой религиозной истории. Основание элевсинского храма в Риме совпало с началом борьбы сословий. И вот он становится религиозным центром плебеев в их двухсотлетних усилиях добиться гражданского равноправия в общем государстве.
Неизвестно, был ли эннейский культ мистическим; римский, во всяком случае, таковым не был. Можно представить себе, что трезвый, деловой дух римлян той эпохи не чувствовал той религиозной потребности, которая в Греции находила себе удовлетворение в мистицизме. Мистическим был зато культ александрийский, о чем повествует гимн написанный Каллимахом. Античный его толкователь приписывает Птолемею Филадельфу учреждение если не самого праздника, то одного обряда, а именно шествия с кошницей «в подражание Афинам» (шествие кошеносиц).¹⁰
_____________________________
[10] Кошница — плетенка, корзина;
• Кошеносицы носили на головах корзины со священными дарами и бескровными жертвами для Афины — ячмень или украшения, т.е. предметы, характерные для мистерий.
Л.Дойбнер считал, что канефоры носили чаши и сосуды, идентичные предметам в процессии Диониса. Е.Пфуль отмечал, что ношение в процессии золотой и серебряной посуды было вообще отличительной чертой многих афинских праздников. [1]
• «из девочек выбирались носительницы священной утвари (ιεροφόροι, αρρηφόροι, κανηφόροι, φιᾰληφόροι), воды (ὑδροφόροι) и т.п.»
κανηφόρος ἡ канефора (девушка, несущая на голове корзину (κάνεον) со священной утварью для жертвоприношения) Arph.
φιᾰληφόρος ἡ чашеносица, название жрицы у локров (от φιάλη, чаша, сосуд) Polyb.
ἀρρηφόρος ἡ несущий священные (ἄρρητος, сакральные, тщательно скрываемые) предметы на торжественных шествиях в честь Афины, в месяце Скирофорионе) Lys.
λουτροφόρος ἡ приносящий воду для омовений.
Вера в загробное возмездие у среднего афинянина эпохи Перикла была далека от полной уверенности: с одной стороны, различие культов в расщепленной Элладе, с другой стороны, и софистическое движение V в. не давало ей возникнуть в сознании мыслящего человека. Когда софистическая буря улеглась, скептицизм остался уделом немногих, наиболее влиятельные философские школы признали религию, а в то же время росло и росло число посвященных и в самом Элевсине, и в его многочисленных подворьях, причем другие мистические культы не прекословили его учению, а напротив, шли ему навстречу.
К.М. Королев «Античная мифология»
_______________________________
|
Метки: Деметра Персефона Мистерии Греция |
Процитировано 1 раз
ДИОНИСИЙСКИЕ ОРГИИ |
Вячеслав Иванов
ЭЛЛИНСКАЯ РЕЛИГИЯ СТРАДАЮЩЕГО БОГА. Глава I.
Весеннему празднику Христова Воскресения в языческой Греции соответствовали по времени празднества Диониса, оживавшего для мира живых, возвращавшегося, с воскресшей от зимнего сна растительной силой земли, из своего тайного гроба, из сени смертной… Но начнем с периода страстнόго служения, с оргий,¹ посвященных гробу и сени смертной.
И, прежде всего, — что такое оргии (ὄργια)? Едва-ли нужно говорить о том, что в современном его употреблении смысл слова глубоко извращен. Оргиями назывались службы Дионису и Деметре; они имели мистический характер, но он не означен в слове. Научное определение термина дает Виламовиц. Оргии — отличительная особенность Дионисовой религии и из нее перешли в религию Элевсина. Между тем как в других греческих культурах община остается пассивной, — жрец приносит жертву, а община безмолвствует или, сообразно определенному чину, произносит краткое молитвословие по приглашению жреца, — в одном дионисическом богослужении все поклонники активно священнодействуют. Такое священнодействие целой общины называлось оргиями, а его участники — оргеонами,² — слово, и в своём расширенном значении сохранившее основной смысл равноправного участия в общем культе.
Раз в двухлетие, в пору зимнего солнцеворота, сокровенные жертвы приносились умершему богу его дельфийскими жрецами во святая святых пифийского Аполлонова храма, над ступенью или порогом у пророческого треножника, которые молва называла гробовой плитой над могилой Диониса. Всю зиму в Дельфах совершалось мистическое служение (ὅσιοι), посвященное «сопрестольнику» Феба (Φοῖβος),³ тому, кто был изображен, окруженный огненосицами-менадами в час заходящего солнца, над западным портиком священнейшего храма Эллады. Всю зиму звучал в Дельфах Дионисов дифирамб,⁴ сменявший с конца осени светлый пеан Аполлона.⁵ С первым ростом дня, в эпоху упомянутых сокровенных жертвоприношений, дионисические женщины, Фиады,⁶ собирались из Дельф и из Аттики для ночных радений на снежных стремнинах Парнаса — двуглавой горы, поделенной между Аполлоном и Дионисом, — блуждали с факелами долгие зимние ночи, носили плетеные колыбели и «будили Диониса-Ликнита» (Λικνίτης) — бога в его колыбели (λίκνον) — взываниями и кликами.
___________________________________
[1] ὄργια τά
1) культ. оргии, тайные обряды, мистерии (ὄ. θεαῖν Arph. — мистерии в честь обеих богинь, т.е. Деметры и Персефоны);
2) священнодействие или жертвоприношение (ὀργίων μαντεύματα Soph. — пророчества жертвоприношений);
3) празднество, праздник (Μουσῶν Arph.)
[2] ὀργεών (-ῶνος) ὁ
1) оргеон (представитель каждого афинского дема, избиравшийся для участия в периодических жертвоприношениях) Isae.
2) жрец Aesch.
[3] Φοῖβος ὁ Феб, «Лучезарный» (эпитет Аполлона) Hom., Aesch.
φοῖβος
1) чистый, светлый (ὕδωρ Hes.);
2) сияющий, сверкающий (ἡλίου φλόξ Aesch.).
[4] δῑθύραμβος ὁ дифирамб, торжественная хоровая песнь в честь богов, преимущ. Вакха Pind., Her., Xen., Plat., Arst., Plut.
[5] παιάν (-ᾶνος), эп. παιήων (-ονος), дор. παίαων (-ονος), атт. παιών (-ῶνος) ὁ пэан (хоровой гимн, благодарственный, победный, военный, умилостивительный или скорбный, преимущ. в честь Аполлона, реже Артемиды и др.).
[6] θυϊάς (-άδος) ἡ фиада, неистовствующая вакханка Plut., Aesch.
Те же оргии совершались по ущельям дубравного Киферона, горы Дионисовой, на полпути аттических Фиад из Афин в Дельфы; и они же засвидетельствованы упоминаниями авторов и надписями по другим местам Греции, в подтверждение слов Диодора (4, 3): «Однажды в двухлетие во многих городах греческих собираются вакханалии женщин, и закон требует, чтобы девушки брали тирсы и принимали участие в энтузиазме радений,⁷ а женщины, разделившись на отдельные сонмы, приносили жертвы богу и приходили в священное исступление». Общность этого свидетельства не оставляет сомнения в обычности тех массовых исходов женщин в леса и горы для священных радений и очищений, какие изображает миф (например, в «Вакханках» Эврипида). И этому заключению о широком участии женского населения греческих общин в зимних оргиях Диониса не противоречит тот факт, что по отдельным местам, в Дельфах и в Аттике, в Спарте, в Элиде, в Орхомене, мы встречаем организации дионисийских женщин — здесь уже прямо жриц, — какова жреческая коллегия «одиннадцати неистовых» в Спарте или коллегия «шестнадцати менад» в Элиде. Слова Диодора о разделении на отдельные «сонмы», в связи с описанием Эврипида, именно так рисующего нам исход фиванских женщин в горы под предводительством трех дочерей Кадмовых, воздвигающих Дионису три отдельные алтаря, — дают ключ к соглашению, по-видимому, противоречивых известий о коллегиях менад с одной стороны, об общенародном, но все же исключительно женском праздновании триетерий — с другой. Наконец, сомнения, возбужденные некоторыми учеными о согласимости религиозного обычая с обиходом греческой жизни, с понятиями морали и общественными условиями, тесно ограничивавшими для греческой женщины и, в особенности, девушки область приличного и дозволенного, — кажутся нам лишенными основания, именно в виду всемогущества религиозной идеи и сакрального императива в понятиях древних. Необходимым последствием этого культового принуждения было уважение, окружавшее дионисийскую женщину (есть рассказ, что городские стражи охраняли стан усталых паломниц Диониса, уснувших на площади города, лежавшего на их пути в горы), — уважение, навсегда сохранившее в греческой душе наследие мистического страха и благоговения, с которым первобытный человек смотрел на вдохновенную внутренним присутствием бога, им одержимую, пророчествующую женщину, столь близкую нашему воображению по типам Пифии, Сивиллы, Кассандры. С этим религиозным почитанием роднился страх проникнуть в тайну радений, святотатственно наблюсти сокровенные действия, страх, исключавший всякое участие в них и самую близость непосвященных: вспомним судьбу дерзновенного Пенфея в Эврипидовой трагедии.
___________________________________
[7] ἐνθουσιασμός = ἐνθουσίασις Plat., Arst., Plut.
ἐνθουσίασις (-εως) ἡ (божественное) вдохновение, воодушевление, восторг, исступление, упоение Plat.
К зимним триетериям, о которых идет речь, — празднествам, совершавшимся раз в два года («в начале третьего», по стародавнему счету), — относятся слова орфического ритуала:
И стих Вергилия (Эн. 4, 301):
Перед нами возникает тип менады, переданный в бесчисленных изображениях античной скульптурой и живописью на вазах — и глубоко отличный от типа веселой, пьяной вакханки александрийского и римского времени, вакханки помпейских фресок и нового искусства. Этот религиозный тип достиг, по мнению древних, своего высшего художественного выражения в статуе Скопаса, представлявшей менаду в состоянии экстаза, в длинной развевающейся одежде, с козленком в руках, разорванным в религиозном исступлении, волосы распущены по ветру, она стремится в вихре своего неистовства к священным оргиям Киферона. Выражение лица этой статуи, по словам художественного критика позднейшей эпохи, делало зрителя немым: «с такою силой сказывалось в нем упоение ее охваченной восторгом души, и искусство ваятеля выдавало в чертах в несказанном слиянии все признаки души, язвимой божественным безумием».

И вот явление женского сонма (θίασος) Дионисова в описании Катулла: «Легкие, они бегали в безумстве исступления и кричали эвоэ (εὐοῖ, εὐαί — вакхические возгласы-приветствия), загибая головы. Одни потрясали тирсами, острия которых были скрыты (листвой или конусообразными шишками пинии); другие бросали члены растерзанного тельца; иные перевивали стан змеями; иные носили мистические корзины (λίκνον),⁸ совершая таинственный обряд, в который напрасно хотят проникнуть непосвященные; иные ударяли в тимпаны стройными руками или из округлой меди извлекали тонкие звоны, — тогда как в руках других рога выдыхали резкие ревы, и варварская флейта визжала ужасную песнь».
Об ужасном действии оргиастической музыки, часто сопровождавшей вихревое кружение пляшущих, можно судить по отрывку потерянной Эсхиловой трагедии «Эдоны», где воспроизводились вакхические радения фракийцев:
Таковы были зимние празднества Диониса, — обыкновенно ночные, во славу Диониса-Никтелия (Νυκτέλιος),⁹ которого Софокл называет «водителем хоровода огнедышащих звезд,¹⁰ начальником ночных кликов»; празднества, носившие разные имена и различавшиеся многими особенностями местных культов, — большей частью триетерические, т.е. справляемые раз в двухлетие, — оглашавшие смятением своих кликов и воплей — то безумного отчаяния, то исступленного ликования — Парнас и Киферон, Тмол и Тайгет. Засвидетельствованные, кроме Фессалии и Македонии, Фракии и Малой Азии, в области собственной Греции, особенно в Фокиде и Беотии (где горы Парнас и Киферон были местами непрерывных вакхических сборищ, учреждаемых одновременно или последовательно в течение зимы населениями окружных территорий), далее — в Брауроне и на Гимете — в Аттике, в Лафистионе и в Орхомене западной Беотии, в Коринфе, Мегаре, Сикионе, Аргосе и дальше, по Ахайе, Элиде, Аркадии, Мессении, Лаконии, на островах Хиосе, Лесбосе, Тенедосе, Крите и других.
Софокл называет «водителем хоровода огнедышащих звезд,¹⁰ начальником ночных кликов»; празднества, носившие разные имена и различавшиеся многими особенностями местных культов, — большей частью триетерические, т.е. справляемые раз в двухлетие, — оглашавшие смятением своих кликов и воплей — то безумного отчаяния, то исступленного ликования — Парнас и Киферон, Тмол и Тайгет. Засвидетельствованные, кроме Фессалии и Македонии, Фракии и Малой Азии, в области собственной Греции, особенно в Фокиде и Беотии (где горы Парнас и Киферон были местами непрерывных вакхических сборищ, учреждаемых одновременно или последовательно в течение зимы населениями окружных территорий), далее — в Брауроне и на Гимете — в Аттике, в Лафистионе и в Орхомене западной Беотии, в Коринфе, Мегаре, Сикионе, Аргосе и дальше, по Ахайе, Элиде, Аркадии, Мессении, Лаконии, на островах Хиосе, Лесбосе, Тенедосе, Крите и других.
Отличительной чертой этих зимних служений были экстатические скорбь и плачь о боге страдающем, преследуемом, или исчезнувшем и бесследно потерянном, или растерзанном, убитом и погребенном, — разнообразные и вместе одинаковые по существу представления, которые Плутарх сводит в замечательном сопоставлении аполлонического и дионисического начал, какими они жили в религиозно-философском сознании умозрителя и мистика конца I века нашей эры.
«Богословы, — говорит он, — в стихах и прозе учат, что Бог, будучи нетленным и вечным, но в силу некоего рока и логоса подверженный переменам и преобращениям в себе самом, периодически то в один огонь воспламеняет природу, снимая все различия вещей, то становится многообразным в разности форм и страстей и сил, каковое состояние Он испытывает и ныне и в каком состоянии зовется Мир (κόσμος), наименованием наиболее известным. Тайно же от большинства людей мудрые именуют Его преобращение в огонь Аполлоном, выражая этим именем идею единства, или Фебом, означая идею чистоты и непорочности. В разъединении же Божества (мы употребили бы здесь воскрешенный Шопенгауэром схоластический термин: principium individuationis) и в его разделении и переходах в воздух и воду, и землю, и светила, и в смену рождений животных и растительных — они усматривают страдание и пресуществление, растерзание и расчленение Бога; и взятого в этом состоянии страды и страстей называют его Дионисом и Загреем, и Никтелием, и Исодэтом (Ἰσοδαίτης, т.е. равно распределяющим дары, — эвфемистический эпитет подземного бога смерти, общего гостеприимца),¹¹ и повествуют о его гибелях и исчезновениях, умираниях и возрождениях загадочными мифами и символами, изображающими его превращения, и поют ему дифирамбические песни, избыточествующие пафосом и переменами настроений и имеющие в себе нечто блуждающее и необузданное, согласно слову Эсхила: Дифирамб воспоем, смешанный с криками, родной Дионису, — тогда как Аполлону возносят пеан, песнь музы согласной, устроенной и мерной. И Аполлона изображают в живописи и ваянии не стареющимся и юным, а Диониса многообразным и разноликим. И между тем как влиянию Аполлона приписывают постоянство и строй и прилежное рвение, Дионису посвящают нестройные и ненормальные состояния (аномалии) души, проявляющиеся резвостью и дерзостью смеха, и необузданностью, и одушевлением, и безумием, и взывают к нему, как к Эвию (Εὔιος)¹² — богу кликов, приводящему в экстаз женщин, прославленному служением исступленных, — метко означая всем этим особенности каждого из двух божеств».
___________________________________
[8] λῖκνον или λίκνον τό
1) плетеная колыбель HH.
2) веялка Arst.
3) культ. корзина с первинками плодов (преподносившаяся преимущ. Вакху-Дионису в дни его праздника) Soph., Plut., Anth.
[9] νυκτέλιος 2 прославляемый в ночных празднествах (эпитет Вакха) Plut., Anth.
νυκτέλια τά (sc. ἱερά) ночные празднества (в честь Вакха) Plut.
[10] водителем хоровода огнедышащих звезд — слово факел (светоч), в греческом языке имело также значение «светило» (солнце, луна, звезда, комета), лампа (источник света) и, собственно, «факелоносица».
λαμπάς (-άδος) ἡ
I
1) факел, светоч (λαμπάδος τὸ σύμβολον Aesch. — сигнальный огонь);
2) дневное светило, солнце (τὸ λαμπάδος ὄμμα Soph. — солнечный диск);
3) молния (δαμασθεὴς λαμπάσιν κεραυνίοις Eur. — пораженный ударами молнии);
4) огненный метеор Arst., Diod.
5) лампада, светильник NT.
II
adj. f озаренная светом факелов (ἀκταί Soph.).
[11] ἰσοδαίτης (ἰσο-δαίτης), -ου ὁ распределяющий (блага) поровну (Βάκχος Plut.).
[12] Εὔιος ὁ Эвий, т.е. призываемый возгласами εὖα и εὐοῖ (эпитет Вакха) Plut.
εὖα, εὐαί, εὐοῖ interj. вакхические возгласы-приветствия (от εὖ — «добро, благо»).
Это свидетельство любопытно не столько своей платонической космологией и метафизикой — продуктом позднего умозрения, сколько психологическим анализом двух типов эмоций, представлявших как бы два полюса греческой души. Единение, мера, строй, порядок, равновесие, покой, форма («претит движенье мне перестроеньем линий» — говорит Красота у Бодлера) противополагаются, как идея одного из этих типов, началу безмерному, подвижному, неустойчивому в своих текучих формах, беспредельному, страдающему от непрерывного разлучения с собою самим. Вечная юность противополагается вечной смене возникновения и уничтожения; целительная и осчастливливающая тишина и полнота солнечная — озаренной заревом блуждающих факелов экстатической ночи; силы души сосредоточивающие, центростремительные — силам центробежным, разбивающим хранительную целостность Я, уничтожающим индивидуальное сознание. Ближайшим же образом и в данной связи свидетельство Плутарха, столь поучительное как образец оккультно-платонического синтеза аполлонических и дионисических состояний духа, любопытно нам характеристикой Дионисова культа: указанием, как на отличительную и преобладающую его особенность, на элемент оргиазма, пассий, исканий, плача над богом страдающим и умершим.
_______________________________
ЭЛЛИНСКАЯ РЕЛИГИЯ СТРАДАЮЩЕГО БОГА. Глава I.
Весеннему празднику Христова Воскресения в языческой Греции соответствовали по времени празднества Диониса, оживавшего для мира живых, возвращавшегося, с воскресшей от зимнего сна растительной силой земли, из своего тайного гроба, из сени смертной… Но начнем с периода страстнόго служения, с оргий,¹ посвященных гробу и сени смертной.
И, прежде всего, — что такое оргии (ὄργια)? Едва-ли нужно говорить о том, что в современном его употреблении смысл слова глубоко извращен. Оргиями назывались службы Дионису и Деметре; они имели мистический характер, но он не означен в слове. Научное определение термина дает Виламовиц. Оргии — отличительная особенность Дионисовой религии и из нее перешли в религию Элевсина. Между тем как в других греческих культурах община остается пассивной, — жрец приносит жертву, а община безмолвствует или, сообразно определенному чину, произносит краткое молитвословие по приглашению жреца, — в одном дионисическом богослужении все поклонники активно священнодействуют. Такое священнодействие целой общины называлось оргиями, а его участники — оргеонами,² — слово, и в своём расширенном значении сохранившее основной смысл равноправного участия в общем культе.
Раз в двухлетие, в пору зимнего солнцеворота, сокровенные жертвы приносились умершему богу его дельфийскими жрецами во святая святых пифийского Аполлонова храма, над ступенью или порогом у пророческого треножника, которые молва называла гробовой плитой над могилой Диониса. Всю зиму в Дельфах совершалось мистическое служение (ὅσιοι), посвященное «сопрестольнику» Феба (Φοῖβος),³ тому, кто был изображен, окруженный огненосицами-менадами в час заходящего солнца, над западным портиком священнейшего храма Эллады. Всю зиму звучал в Дельфах Дионисов дифирамб,⁴ сменявший с конца осени светлый пеан Аполлона.⁵ С первым ростом дня, в эпоху упомянутых сокровенных жертвоприношений, дионисические женщины, Фиады,⁶ собирались из Дельф и из Аттики для ночных радений на снежных стремнинах Парнаса — двуглавой горы, поделенной между Аполлоном и Дионисом, — блуждали с факелами долгие зимние ночи, носили плетеные колыбели и «будили Диониса-Ликнита» (Λικνίτης) — бога в его колыбели (λίκνον) — взываниями и кликами.
___________________________________
[1] ὄργια τά
1) культ. оргии, тайные обряды, мистерии (ὄ. θεαῖν Arph. — мистерии в честь обеих богинь, т.е. Деметры и Персефоны);
2) священнодействие или жертвоприношение (ὀργίων μαντεύματα Soph. — пророчества жертвоприношений);
3) празднество, праздник (Μουσῶν Arph.)
[2] ὀργεών (-ῶνος) ὁ
1) оргеон (представитель каждого афинского дема, избиравшийся для участия в периодических жертвоприношениях) Isae.
2) жрец Aesch.
[3] Φοῖβος ὁ Феб, «Лучезарный» (эпитет Аполлона) Hom., Aesch.
φοῖβος
1) чистый, светлый (ὕδωρ Hes.);
2) сияющий, сверкающий (ἡλίου φλόξ Aesch.).
[4] δῑθύραμβος ὁ дифирамб, торжественная хоровая песнь в честь богов, преимущ. Вакха Pind., Her., Xen., Plat., Arst., Plut.
[5] παιάν (-ᾶνος), эп. παιήων (-ονος), дор. παίαων (-ονος), атт. παιών (-ῶνος) ὁ пэан (хоровой гимн, благодарственный, победный, военный, умилостивительный или скорбный, преимущ. в честь Аполлона, реже Артемиды и др.).
[6] θυϊάς (-άδος) ἡ фиада, неистовствующая вакханка Plut., Aesch.
Те же оргии совершались по ущельям дубравного Киферона, горы Дионисовой, на полпути аттических Фиад из Афин в Дельфы; и они же засвидетельствованы упоминаниями авторов и надписями по другим местам Греции, в подтверждение слов Диодора (4, 3): «Однажды в двухлетие во многих городах греческих собираются вакханалии женщин, и закон требует, чтобы девушки брали тирсы и принимали участие в энтузиазме радений,⁷ а женщины, разделившись на отдельные сонмы, приносили жертвы богу и приходили в священное исступление». Общность этого свидетельства не оставляет сомнения в обычности тех массовых исходов женщин в леса и горы для священных радений и очищений, какие изображает миф (например, в «Вакханках» Эврипида). И этому заключению о широком участии женского населения греческих общин в зимних оргиях Диониса не противоречит тот факт, что по отдельным местам, в Дельфах и в Аттике, в Спарте, в Элиде, в Орхомене, мы встречаем организации дионисийских женщин — здесь уже прямо жриц, — какова жреческая коллегия «одиннадцати неистовых» в Спарте или коллегия «шестнадцати менад» в Элиде. Слова Диодора о разделении на отдельные «сонмы», в связи с описанием Эврипида, именно так рисующего нам исход фиванских женщин в горы под предводительством трех дочерей Кадмовых, воздвигающих Дионису три отдельные алтаря, — дают ключ к соглашению, по-видимому, противоречивых известий о коллегиях менад с одной стороны, об общенародном, но все же исключительно женском праздновании триетерий — с другой. Наконец, сомнения, возбужденные некоторыми учеными о согласимости религиозного обычая с обиходом греческой жизни, с понятиями морали и общественными условиями, тесно ограничивавшими для греческой женщины и, в особенности, девушки область приличного и дозволенного, — кажутся нам лишенными основания, именно в виду всемогущества религиозной идеи и сакрального императива в понятиях древних. Необходимым последствием этого культового принуждения было уважение, окружавшее дионисийскую женщину (есть рассказ, что городские стражи охраняли стан усталых паломниц Диониса, уснувших на площади города, лежавшего на их пути в горы), — уважение, навсегда сохранившее в греческой душе наследие мистического страха и благоговения, с которым первобытный человек смотрел на вдохновенную внутренним присутствием бога, им одержимую, пророчествующую женщину, столь близкую нашему воображению по типам Пифии, Сивиллы, Кассандры. С этим религиозным почитанием роднился страх проникнуть в тайну радений, святотатственно наблюсти сокровенные действия, страх, исключавший всякое участие в них и самую близость непосвященных: вспомним судьбу дерзновенного Пенфея в Эврипидовой трагедии.
___________________________________
[7] ἐνθουσιασμός = ἐνθουσίασις Plat., Arst., Plut.
ἐνθουσίασις (-εως) ἡ (божественное) вдохновение, воодушевление, восторг, исступление, упоение Plat.
К зимним триетериям, о которых идет речь, — празднествам, совершавшимся раз в два года («в начале третьего», по стародавнему счету), — относятся слова орфического ритуала:
«Я призываю Вакха, подземного Диониса, ежегодно пробуждающегося с прекрасноволосыми нимфами; в священном жилище Персефоны почиет он в вакхический год непорочных триетерий»…
И стих Вергилия (Эн. 4, 301):
«Фиада стремится в исступлении, возбужденная звуками приведенных в движение священных мусикийских орудий; ее толкают оргии триетерий и вакхические клики, когда оглашаются жалобными призывами ночные дебри Киферона».
Перед нами возникает тип менады, переданный в бесчисленных изображениях античной скульптурой и живописью на вазах — и глубоко отличный от типа веселой, пьяной вакханки александрийского и римского времени, вакханки помпейских фресок и нового искусства. Этот религиозный тип достиг, по мнению древних, своего высшего художественного выражения в статуе Скопаса, представлявшей менаду в состоянии экстаза, в длинной развевающейся одежде, с козленком в руках, разорванным в религиозном исступлении, волосы распущены по ветру, она стремится в вихре своего неистовства к священным оргиям Киферона. Выражение лица этой статуи, по словам художественного критика позднейшей эпохи, делало зрителя немым: «с такою силой сказывалось в нем упоение ее охваченной восторгом души, и искусство ваятеля выдавало в чертах в несказанном слиянии все признаки души, язвимой божественным безумием».

И вот явление женского сонма (θίασος) Дионисова в описании Катулла: «Легкие, они бегали в безумстве исступления и кричали эвоэ (εὐοῖ, εὐαί — вакхические возгласы-приветствия), загибая головы. Одни потрясали тирсами, острия которых были скрыты (листвой или конусообразными шишками пинии); другие бросали члены растерзанного тельца; иные перевивали стан змеями; иные носили мистические корзины (λίκνον),⁸ совершая таинственный обряд, в который напрасно хотят проникнуть непосвященные; иные ударяли в тимпаны стройными руками или из округлой меди извлекали тонкие звоны, — тогда как в руках других рога выдыхали резкие ревы, и варварская флейта визжала ужасную песнь».
Об ужасном действии оргиастической музыки, часто сопровождавшей вихревое кружение пляшущих, можно судить по отрывку потерянной Эсхиловой трагедии «Эдоны», где воспроизводились вакхические радения фракийцев:
«Один держит в руках буравом выточенные флейты, и его пальцы исторгают из них возбуждающую мелодию, ведущую за собой безумие; другой ударяет вогнутую медь в медь. Громкими кликами звучит песнь, и ей вторят неведомо откуда ревы, подражающие ревам быка, наводящие ужас; и тяжкие звуки тимпана раскатываются, как подземные громы».
Таковы были зимние празднества Диониса, — обыкновенно ночные, во славу Диониса-Никтелия (Νυκτέλιος),⁹ которого
 Софокл называет «водителем хоровода огнедышащих звезд,¹⁰ начальником ночных кликов»; празднества, носившие разные имена и различавшиеся многими особенностями местных культов, — большей частью триетерические, т.е. справляемые раз в двухлетие, — оглашавшие смятением своих кликов и воплей — то безумного отчаяния, то исступленного ликования — Парнас и Киферон, Тмол и Тайгет. Засвидетельствованные, кроме Фессалии и Македонии, Фракии и Малой Азии, в области собственной Греции, особенно в Фокиде и Беотии (где горы Парнас и Киферон были местами непрерывных вакхических сборищ, учреждаемых одновременно или последовательно в течение зимы населениями окружных территорий), далее — в Брауроне и на Гимете — в Аттике, в Лафистионе и в Орхомене западной Беотии, в Коринфе, Мегаре, Сикионе, Аргосе и дальше, по Ахайе, Элиде, Аркадии, Мессении, Лаконии, на островах Хиосе, Лесбосе, Тенедосе, Крите и других.
Софокл называет «водителем хоровода огнедышащих звезд,¹⁰ начальником ночных кликов»; празднества, носившие разные имена и различавшиеся многими особенностями местных культов, — большей частью триетерические, т.е. справляемые раз в двухлетие, — оглашавшие смятением своих кликов и воплей — то безумного отчаяния, то исступленного ликования — Парнас и Киферон, Тмол и Тайгет. Засвидетельствованные, кроме Фессалии и Македонии, Фракии и Малой Азии, в области собственной Греции, особенно в Фокиде и Беотии (где горы Парнас и Киферон были местами непрерывных вакхических сборищ, учреждаемых одновременно или последовательно в течение зимы населениями окружных территорий), далее — в Брауроне и на Гимете — в Аттике, в Лафистионе и в Орхомене западной Беотии, в Коринфе, Мегаре, Сикионе, Аргосе и дальше, по Ахайе, Элиде, Аркадии, Мессении, Лаконии, на островах Хиосе, Лесбосе, Тенедосе, Крите и других.Отличительной чертой этих зимних служений были экстатические скорбь и плачь о боге страдающем, преследуемом, или исчезнувшем и бесследно потерянном, или растерзанном, убитом и погребенном, — разнообразные и вместе одинаковые по существу представления, которые Плутарх сводит в замечательном сопоставлении аполлонического и дионисического начал, какими они жили в религиозно-философском сознании умозрителя и мистика конца I века нашей эры.
«Богословы, — говорит он, — в стихах и прозе учат, что Бог, будучи нетленным и вечным, но в силу некоего рока и логоса подверженный переменам и преобращениям в себе самом, периодически то в один огонь воспламеняет природу, снимая все различия вещей, то становится многообразным в разности форм и страстей и сил, каковое состояние Он испытывает и ныне и в каком состоянии зовется Мир (κόσμος), наименованием наиболее известным. Тайно же от большинства людей мудрые именуют Его преобращение в огонь Аполлоном, выражая этим именем идею единства, или Фебом, означая идею чистоты и непорочности. В разъединении же Божества (мы употребили бы здесь воскрешенный Шопенгауэром схоластический термин: principium individuationis) и в его разделении и переходах в воздух и воду, и землю, и светила, и в смену рождений животных и растительных — они усматривают страдание и пресуществление, растерзание и расчленение Бога; и взятого в этом состоянии страды и страстей называют его Дионисом и Загреем, и Никтелием, и Исодэтом (Ἰσοδαίτης, т.е. равно распределяющим дары, — эвфемистический эпитет подземного бога смерти, общего гостеприимца),¹¹ и повествуют о его гибелях и исчезновениях, умираниях и возрождениях загадочными мифами и символами, изображающими его превращения, и поют ему дифирамбические песни, избыточествующие пафосом и переменами настроений и имеющие в себе нечто блуждающее и необузданное, согласно слову Эсхила: Дифирамб воспоем, смешанный с криками, родной Дионису, — тогда как Аполлону возносят пеан, песнь музы согласной, устроенной и мерной. И Аполлона изображают в живописи и ваянии не стареющимся и юным, а Диониса многообразным и разноликим. И между тем как влиянию Аполлона приписывают постоянство и строй и прилежное рвение, Дионису посвящают нестройные и ненормальные состояния (аномалии) души, проявляющиеся резвостью и дерзостью смеха, и необузданностью, и одушевлением, и безумием, и взывают к нему, как к Эвию (Εὔιος)¹² — богу кликов, приводящему в экстаз женщин, прославленному служением исступленных, — метко означая всем этим особенности каждого из двух божеств».
___________________________________
[8] λῖκνον или λίκνον τό
1) плетеная колыбель HH.
2) веялка Arst.
3) культ. корзина с первинками плодов (преподносившаяся преимущ. Вакху-Дионису в дни его праздника) Soph., Plut., Anth.
[9] νυκτέλιος 2 прославляемый в ночных празднествах (эпитет Вакха) Plut., Anth.
νυκτέλια τά (sc. ἱερά) ночные празднества (в честь Вакха) Plut.
[10] водителем хоровода огнедышащих звезд — слово факел (светоч), в греческом языке имело также значение «светило» (солнце, луна, звезда, комета), лампа (источник света) и, собственно, «факелоносица».
λαμπάς (-άδος) ἡ
I
1) факел, светоч (λαμπάδος τὸ σύμβολον Aesch. — сигнальный огонь);
2) дневное светило, солнце (τὸ λαμπάδος ὄμμα Soph. — солнечный диск);
3) молния (δαμασθεὴς λαμπάσιν κεραυνίοις Eur. — пораженный ударами молнии);
4) огненный метеор Arst., Diod.
5) лампада, светильник NT.
II
adj. f озаренная светом факелов (ἀκταί Soph.).
[11] ἰσοδαίτης (ἰσο-δαίτης), -ου ὁ распределяющий (блага) поровну (Βάκχος Plut.).
[12] Εὔιος ὁ Эвий, т.е. призываемый возгласами εὖα и εὐοῖ (эпитет Вакха) Plut.
εὖα, εὐαί, εὐοῖ interj. вакхические возгласы-приветствия (от εὖ — «добро, благо»).
Это свидетельство любопытно не столько своей платонической космологией и метафизикой — продуктом позднего умозрения, сколько психологическим анализом двух типов эмоций, представлявших как бы два полюса греческой души. Единение, мера, строй, порядок, равновесие, покой, форма («претит движенье мне перестроеньем линий» — говорит Красота у Бодлера) противополагаются, как идея одного из этих типов, началу безмерному, подвижному, неустойчивому в своих текучих формах, беспредельному, страдающему от непрерывного разлучения с собою самим. Вечная юность противополагается вечной смене возникновения и уничтожения; целительная и осчастливливающая тишина и полнота солнечная — озаренной заревом блуждающих факелов экстатической ночи; силы души сосредоточивающие, центростремительные — силам центробежным, разбивающим хранительную целостность Я, уничтожающим индивидуальное сознание. Ближайшим же образом и в данной связи свидетельство Плутарха, столь поучительное как образец оккультно-платонического синтеза аполлонических и дионисических состояний духа, любопытно нам характеристикой Дионисова культа: указанием, как на отличительную и преобладающую его особенность, на элемент оргиазма, пассий, исканий, плача над богом страдающим и умершим.
_______________________________
|
Метки: Дионис Оргии Мистерии Греция |
Процитировано 1 раз
ДИОНИС ЗАГРЕЙ |
Вячеслав Иванов
ЭЛЛИНСКАЯ РЕЛИГИЯ СТРАДАЮЩЕГО БОГА. Глава IV
Многочисленные свидетельства античных писателей, изображения на вазах, рельефы представляют менад разрывающими животных, например, ланей (διασπᾶν νεβρούς), тельцов, быков. Молодых волчат и козлят, приносимых в горы, они питают молоком своих сосцов (что, не без основания, особенно отмечает миф) и потом растерзывают. Еще во второй половине IV в. н.э., мог воскреснуть в народе стародавний обычай: по словам церковного историка Феодорита,² «огонь горел на идольских жертвенниках, и посвященные в оргии Диониса бегали, одетые в козьи шкуры, и разрывали собак в вакхическом исступлении».
разрывающими животных, например, ланей (διασπᾶν νεβρούς), тельцов, быков. Молодых волчат и козлят, приносимых в горы, они питают молоком своих сосцов (что, не без основания, особенно отмечает миф) и потом растерзывают. Еще во второй половине IV в. н.э., мог воскреснуть в народе стародавний обычай: по словам церковного историка Феодорита,² «огонь горел на идольских жертвенниках, и посвященные в оргии Диониса бегали, одетые в козьи шкуры, и разрывали собак в вакхическом исступлении».
Козья шкура — дионисийское одеяние (αἰγίς, τραγῆ), наравне с фракийской «бассарой» (откуда — Бассариды или Бассары, фракийские менады), одеждой, по-видимому, из лисьих шкур, от известного Геродоту слова, означающего лисицу.³ Дионисова «небрида» (νεβρίς) — накидка из шкуры лани, а техническое выражение культа νεβρίζειν значит «облекаться в небриду» и «растерзывать ланей». Аналогия обстановки шаманского оргиазма невольно останавливает внимание: шаманы носят личины, плащи из оленьих и козьих шкур; к плащам прикрепляют жгуты, изображающие змей с раскрытой пастью; в руках держат трости, — подобно тому, как служители Диониса, облеченные в звериные шкуры и часто замаскированные, перепоясывались змеями и вооружались тирсами.
внимание: шаманы носят личины, плащи из оленьих и козьих шкур; к плащам прикрепляют жгуты, изображающие змей с раскрытой пастью; в руках держат трости, — подобно тому, как служители Диониса, облеченные в звериные шкуры и часто замаскированные, перепоясывались змеями и вооружались тирсами.
Из глубокой древности шло обыкновение — надевать на себя для обрядового действа шкуры разорванных, в жертву богу, животных. Мясо их пожиралось, и притом пожиралось сырьем. За исконность этой формы жертвы ручается ее дикая первобытность. По слову Еврипида, «Вакх, носящий священную небриду, охотится за добычей из крови козьей, за усладой сырого мяса». По Аполлонию Родосскому, вакханки — «фиады, сырьем питающиеся» (ὠµοβόροι).⁴ Климент Александрийский в своих полемиках настаивает на отвратительности этого священного язычникам обычая.
___________________________
[1] Слова ὠμηστής и ὠμάδιος являются производным от ὠμός:
ὠμός
1) сырой, невареный (ὠμούς τινας καταφαγεῖν Xen. — съесть кого-л. живьем, перен. жестоко расправиться с кем-л.);
2) дикий, грубый, суровый, жестокий (δεσπότης, φρόνημα, ὀργή Aesch.; δαίμων Soph.; βούλευμα, στάσις Thuc.; ψυχή Plat.);
ὠμηστής (ὠμ-ηστής) adj. m, редко f {ὠμός}
1) питающийся сырым мясом (Ὠμηστῇ Διονύσῳ καθιερωθῆναι Plut. — быть заколотым в жертву Дионису Сыроядному);
2) кровожадный (ἀνήρ Hom.).
ᾔστωσα aor. к ἀϊστόω
ἀϊστόω — уничтожать, истреблять, губить.
ὠμάδιος (ὠμ-άδιος) {ὠμός}
ἀδίκως — несправедливо, беззаконно Aesch., Her., Lys., Plat.
ἄδικον τό тж. pl. беззаконие, насилие Pind., Xen., Plat.
[2] Θεοδώρητος ὁ Κύρου — Феодорит Кирский, выдающийся христианский писатель V века, представитель Антиохийской школы богословия.
[3] βασσάρα ἡ накидка из лисьей шкуры;
βασσάριον τό ливийская лисица Her.
[4] ωμοβόρος (ωμο-βόρος) — питающийся сырым мясом.
βορός {βιβρώσκω} прожорливый Arph., Arst., Luc.
Служительницы Диониса пожирают сырое мясо разрываемых ими животных в подражание своему богу и для приобщения его трапезе, так как раздрание — жертва Дионису, будучи в то же время, как мы увидим, воспроизведением его страстей. Оттого Дионис носит священное наименование Омадий (Ὠµάδιος, Ὠµηστής), от ὠμός — «сырой». Орфические секты сохранили и углубили древний вакхический обычай: их члены, приняв однажды, при посвящении, участие в священной оргии, где разрывались животные и мисты причащались их окровавленному мясу, — воздерживались потом навсегда от употребления мясной пищи.
По свидетельству Фирмика Матерна, на острове Крит долго держался связанный с триетерическими празднествами обряд, который названный христианский писатель рисует так: «Они терзают живого быка зубами и разбегаются с нестройными криками и воплями по лесным чащам, делая вид, что бешенствуют в безумии». Это было служение Дионису Таврофагу.⁵
___________________________
[5] ταυροφάγος (ταυρο-φάγος) — поедающий быков, эпитет Диониса Soph.
Раскопки Эванса показали, что миф о Минотавре, «человекобыке», пожиравшем человеческие жертвы в критском Лабиринте, не лишен исторического основания. Стенные фрески Лабиринта, храма или дворца, посвященного «богу двойного топора» (λάβρυς), изображают род боя быков, где жертвами разъяренных животных оказываются отданные им на добычу пленники. Миф о растерзании Дирки, привязанной к дикому быку, позволяет видеть в этом обычае элементы религии дионисического характера. Свидетельство Фирмика скрепляет связь приведенных фактов. Кажется, что дионисические оргии, своего рода оргиастические «бои быков», соединенные первоначально с человеческими жертвами, впоследствии же ограничивавшиеся растерзанием быка, имели древнейшие корни, между прочим, на Крите, где божество, являющееся изначала с чертами Диониса, позднее — с ним отождествленное, почиталось преимущественно в образе быка.
Не подлежит сомнению, что дионисийские причащения сырому, живому телу жертвенных животных были повсюду только заменой первоначальных человеческих жертв. Павсаний сообщает, что в Беотии принесение в жертву Дионису козлят заменило периодические жертвенные убиения мальчиков.
Еще в эпоху персидских войн, по Плутарху (Themist. 13), были убиты в жертву Дионису — «Пожирателю сырого мяса» — три пленных перса. На Хиосе тому же Дионису (Ὠµηστής) приносился в жертву чрез растерзание человек, по сообщению неоплатоника Порфирия. На Тенедосе, где Дионису был усвоен упомянутый символ двойного топора, приносился в жертву телец; перед жертвоприношением на копыта тельца надевались котурны — высокая обувь, употребительная в трагедиях, и тот, кто нанес топором удар жертве, спасался к морю от предполагаемого преследования мстителей за убийство, — что повторяется и в обряде аттических Буфоний.⁷ Замена человеческой жертвы умерщвлением животного не может быть означена культом с большой прозрачностью. Прибавим, что Дионис, которому приносилась тенедосская жертва, был Дионис — «Разрыватель людей» (Ἀνθρωπορραίστης).
___________________________
[6] αἰγοβόλος (αἰγο-βόλος) adj. m коз поражающий, эпитет Диониса.
[7] βουφόνια (βου-φόνια) τά праздник заклания быка (в Афинах) Arph.
Миниады мечут жребий, которой из сестер жертвовать Дионису, и вынувшая жребий отдает своего сына; сестры, в исступлении, почувствовав, по словам Плутарха, голод к человеческому мясу, разрывают и пожирают ребенка.
С именем Диониса «Человекорастерзателя» должно сопоставить другое, однажды встречающееся, из его многочисленных наименований: Ψυχοδαΐκτης, что значит «убийца, или разрыватель, душ». Нельзя относить этого означения к его силе поражать душу недугом священного безумия (νουσφαλής, νοοπλανής). Нет, слово выражает идею религиозного каннибализма в его чистейшей форме. Боги каннибалов не столько антропофаги, сколько психофаги: они питаются душой, а не плотью жертв. Терзая плоть жертвоприносимых, Дионис растерзывает их душевное тело, их психею. Поистине, дионисизм есть растерзание индивидуума, разлучение Я с собой самим.
Мы приходим к твердому выводу: убийственная сторона дионисийского оргиазма есть исконный оргиазм каннибализма. Этот каннибализм в принципе навсегда сохранился в Дионисовой религии, но был ослаблен в применении. Человеческие жертвы никогда не были упразднены окончательно; но пожирание плоти человеческой было отменено. Тем не менее, символика культа искала сделать прозрачным первоначальное значение живьем пожираемой жертвы, как жертвы человеческой.
Человеческие жертвоприношения в Дионисовой религии были трех родов: жертвенные убиения детей (как кажется, исключительно мужского пола), мужчин и женщин. Если два первые типа соответствуют младенческому и мужскому аспектам бога, — жертвы женские не столько связываются с муже-женским (ἀρσενόθηλυς) обликом Диониса или его женскими метаморфозами, сколько с представлением о принадлежности богу одержимой им женщины: ибо ему обреченная рассматривается как менада. Если умерщвленные для бога отрок, юноша, муж являют собой его же лики, то женская его жертва есть его Ариадна.
Любовь Диониса смертельна. Что Ариадна, ипостась требующей человеческих жертв Артемиды, должна погибнуть, так же требуется логикой мифа, как и заклание Ифигении, представляющей собой другую ипостась той же человекоубийственной богини. Но миф, соединяющий Диониса и Артемиду, как два аспекта, мужской и женский, одной могущественной и страшной божественной силы, обусловливает гибель Ариадны ее соединением в любви с Дионисом. По свидетельству Гомера, Артемида убивает Ариадну своей «тихой» стрелой «по уликам Дионисовым», что значит, по-видимому, что служительница девственной богини навлекла ее месть, быв уличенной в нецеломудренном союзе с богом.
Семела, первообраз Менады, погибает от любви отца Дионисова, который представлен мифом уже в аспекте Диониса, ему изначала присущем. Древний, первый Дионис имеет матерью безутешную Персефону. Трагическая Ио является в местном мифе также достойной матерью бога трагедий.
Священные детоубийства и взаимные священные убиения исступленных служителей и служительниц Дионисовых взяты мифом из ужасной действительности кровавых экстазов древнейшей, забытой Греции. По отрывочным намекам мы догадываемся, что эти убийственные служения искореняли целые роды вековым самоистреблением. Так, неоплатоник Порфирий упоминает о дионисийском клане Бассаров, которые «в неистовстве человеческих жертв и вкушений жертвенных, исступленно нападая друг на друга, и друг друга пожирая, уничтожили все свое племя».
Дионисийская религия принуждена была силой вещей, более всех других религий, искать освобождения, искупления от крайностей своего обрядового каннибализма. И вот, в ней развивается богатая жертвенная символика, которая сводится к одному принципу замены, подстановки животной жертвы наместо жертвы человеческой. В Аркадии жертвоприношение девушек заменяется их бичеванием пред кумиром Диониса, как в Спарте бичевание отроков пред идолом Артемиды замещает их жертвенное умерщвление. Культы обоих родственных божеств равно человекоубийственны, но освобождение исходит, по-видимому, из очищений Дионисовой религии, в лоне которой оно совершилось ранее. Это освободительное начало делается, по мнению Липперта, преимущественным признаком Дионисовой религии в религиозном сознании греков. Если Дионис является освободителем (Λύσιος), разрешителем (Ἐλευθερεύς), — это потому, думает названный ученый, что он вызволил матерей от закона детоубийства. Быть может, Липперт слишком настаивает на этой стороне дионисийской идеи. Во всяком случае, мы имеем в пользу этого положения некоторые указания. Вспомним миссию Эврипила (Εὐρύπυλος), который, открыв Ахаии нового бога, отменил тяготевшие над ней человеческие жертвоприношения Артемиде. По выражению того же исследователя, Дионис стал для эллинов примирительной Пасхой.
Мы, конечно, не можем взирать без ужаса на это кровавое прошлое человеческого сердца. Но древнейшие религии, с их каннибализмом и исступлением, были плодотворным лоном религиозной идеи, осветившей мрак мира. Она стоила быть купленной дорогой ценой. Дорогой, — ибо эти древние люди, воспитавшие человечество своим священным восторгом, давшие ему навеки религиозный закал, — страдали. Но они не боялись ни страдания, ни смерти. Они были боговещие, чуткие к Божеству в мире, и они были жизнещедрые, ни себя, ни других не жалевшие в своих боговдохновенных порывах. Они не жалели разбить сосуд своего тесного Я и, только разбивая его, впервые обрели себя на воле, великие души.
Жертва была сладостна этим древним исступленным, и недаром блаженной славит Еврипидов хор вакханок дионисийскую мученицу — Дирку:
Они любили, эти древние люди, простор мира и простор Бога и всем существом своим доказывали то, что мы, поздние, испытываем только в минуты мысленного созерцания, — что «сладостно крушенье в этом море» (Леопарди). Живым и непосредственным изволением вступали они в мистическое единение с силой, среди вечных богоявлений которой они жили.
Ибо не должно думать, что мистицизм — в смысле исканий прямого общения и слияния с божеством — развивается как поздний цвет уже окрепшего религиозного сознания, что он — его утончение и одухотворение. Религиозно-историческое исследование приводит к противоположному взгляду. Употребление огня при жертвоприношении — сравнительно новая богослужебная форма. Огонь уже посредствует между материальной и сверхматериальной сферами. Этот «чистый жрец богов», по индийским и иранским представлениям, — как посредник, как жрец, становясь между человеком и богом, разобщает, разъединяет их. Более древняя форма жертвы состояла в непосредственном кормлении богов. Пища ставилась на местах, ими посещаемых, между прочим, на престолах, где они предполагались сидящими, или — так как кровь была их любимой пищей — жертвенник обмазывался кровью. К этому периоду жертвы относится происхождение обычая «феоксений» (откуда римские «лектистернии») — гостин богов, примеры которых мы встречаем и в Дионисовом культе, — совместных трапез, где боги принимают участие наравне с людьми.
Здесь человек входит в ближайшее соприкосновение с божеством; но и эта близость, по-видимому, только ослабленная форма иного культового общения, когда человек искал большего и не столько думал о том, чтобы напитать божество, сколько о том, чтобы самому им напитаться и чрез то усилиться, обожествиться. Тогда человек еще вовсе не жертвовал, — он пожирал бога в его фетише, — животном или в человеке, им исполненном, и так становился до некоторой степени сам богом. Другим средством соединения служил — без сомнения, уже в древнейшие времена — мистический брак, примеры чему мы видели в дионисийской обрядовой символике. Искушение библейского змия: «вы будете как боги», — было некогда символом, исчерпывавшим все содержание религии; «делаться как боги» значило то самое, что впоследствии люди назвали «служением богам». В эту первобытную эпоху они еще далеки были от религиозного отчаяния гомеровского времени, когда имя богов было «бессмертные», а имя людей — «смертные», и непроходимая пропасть разверзлась между обоими родами. Ибо, как говорит позднейший орфик, «боги — улыбка Божества (единого), люди — его слезы».⁸
________________________
[8] …«боги — улыбка Божества, люди — его слезы» — заимствование из египетской традиции. Ра-Атум возрадовался, увидев вернувшихся Шу и Тефнут, которые нашли его Око, и слезы радости упали из глаз его:
«И они (Шу и Тефнут) возвратили мне (Ра-Атуму) Око мое вместе с собой, и потому воссоединился я с членами моими. Я зарыдал над ними и потому люди пришли в существование из слез, что упали из Ока моего».
Люди по-египетски — rmṯ («ремеч»), поздняя форма — rmt («ремет»), а слезы — rmjt («ремит»). Поэтому фраза «люди — слезы бога» является игрой слов.
В то время как религиозная мысль искала мистического синтеза между божественным и человеческим началами, оргиастические культы, и среди них преимущественно культ Диониса, поддерживали непрерывающуюся живую связь между новой мистикой и доисторической мистикой человека-каннибала, питающегося своим божеством, чтобы им исполниться, пожирающего сырое мясо людей или животных или плоть мертвеца, где он ведал божественное присутствие, — пьющего кровь своих жертв, т.е. их душу, чтобы одушевиться богом, им присущим.
Как же мотивируется эта исключительная и единственная из греческих культовых форм? Растерзание совершается «в подражание страстям Дионисовым» (κατὰ μίμησιν τοῦ περὶ Διόνυσον πάθους). По Лактанцию, обряды произошли из воспроизведения божественных деяний, страстей и смерти (ipsi ritus ex rebus gestis vel ex casibus vel ex mortibus nati). Вот объяснение жертвы в историческую эпоху: она символизирует смерть бога, про которого миф повествует, что он был растерзан. Жертва — символ бога и его страстей, по позднейшему представлению. Но древность не знает символа: в ней он еще живая действительность. Было время, когда дионисийская жертва был сам Дионис. По Лактанцию, обряды произошли из воспроизведения божественных деяний, страстей и смерти (ipsi ritus ex rebus gestis vel ex casibus vel ex mortibus nati). Вот объяснение жертвы в историческую эпоху: она символизирует смерть бога, про которого миф повествует, что он был растерзан. Жертва — символ бога и его страстей, по позднейшему представлению. Но древность не знает символа: в ней он еще живая действительность. Было время, когда дионисийская жертва был сам Дионис. Недаром говорится об обрядовом растерзании ланей «растерзывать по слову (или преданию) тайны неизреченной» (διασπᾶν κατὰ ἄρρητον λόγον). В тайне тождества жертвы и бога и состоял, без сомнения, сокровенный, мистический смысл обряда. Ибо относить «предание тайны» к какому-либо мистическому мифу о Дионисовом растерзании нет оснований: миф в его разновидностях был издавна известен и распространен в греческом мире.
Предание о растерзании Диониса-Загрея Титанами является в общих чертах установленным уже в VI веке. Загрей, первоначальный Дионис, — сын Зевса и Персефоны, Зевсовой же дочери, от которой он родил его, сам и придав ей образ змеи. Имя «Загрей» — имя хтонического божества, бога Смерти.⁹
________________________
[9] Дионис приводился в соответствие с Аидом, владыкой подземного царства, через отождествление с египетским Осирисом. Осирис, в египетском представлении, был владыкой преисподней. Развитие образа Осириса (в эллинистический период Египта) — Серапис часто изображался (как и Аид) с трехголовым псом Цербером — охранителем подземного царства.
Ζαγρεύς (-εως) ὁ Загрей
1) эпитет Диониса «первого» как сына Зевса и Персефоны, растерзанного Титанами тотчас же после его рождения Anth.
2) эпитет Гадеса Aesch.
ζαγρεύς ~ ζα-ἀγρεύς ὁ, «великий ловчий».
ἀγρεύς (-έως) ὁ охотник, ловец Pind., Aesch., Eur., Luc., Anth.
У Еврипида Загрей — Дионис ночных радений. Еще ребенком он принимает от Зевса господство над миром. Но хаотические сыны Земли — дикие Титаны — хотят его растерзать. Они дарят ребенку символические игрушки — волчок, шар, пирамиду, между прочим зеркало, — чтобы отвлечь его внимание. Они вымазывают лица гипсом, чтобы быть неузнанными. Между тем как отрок любуется на свое отражение в зеркале, они нападают на него. Он ускользает из их рук чрез последовательные превращения, но в образе быка все же делается их добычей. Титаны поглощают растерзанные части бога, только сердце его, спасенное Афиной Палладой, достается Зевсу, который его проглатывает: это — росток будущего Диониса, долженствующего родиться от Семелы. Или же повествуется, что сердце Диониса погребено под горой Парнасом. Месть Зевса испепеляет Титанов.
Как ни много первобытных черт обнаруживает этот миф, восходящий в своих элементах несомненно до глубокой древности, он не был общим достоянием дионисийских общин и не влиял значительно на религиозные представления культа вне круга орфической секты. Он был лишь одной из попыток точнее определить уже данное в культе понятие страстей Дионисовых, которое, как должно выясниться из дальнейшего исследования, непосредственно и без всякого мифологического звена связывалось с дионисийской жертвой.
Разделению дионисийских торжеств на всенародные празднования и мистические радения соответствовало, в области жертвы, различение жертвы общеритуальной и жертвы мистической. Тогда как первая состояла большей частью в обычном всем культам заклании и сожжении жертвенного животного, — вторая имела целью «подражательное воспроизведение (µίµησις) страстей бога». Ее характеризуют экстаз причастников, растерзание ими живой плоти и вкушение от плоти растерзанной (ὠμοφαγία).
Основным религиозным представлением, обусловившим эту исключительно дионисийскую культовую форму, необходимо признать интуицию пресуществления раздираемой жертвы в божественную плоть и душу самого Диониса. При отсутствии органов и форм религиозной догматики, это верование, очевидно, не могло быть закреплено иначе, как путем тайного предания (ἄρρητος λόγος), жившего в устах оргиастических сонмов; но, и как таковое, оно едва ли в силах было отстоять чистоту и непосредственность своего изначального богочувствования от смешения с затемняющей и изглаживающей древний прямой смысл обрядов символикой, за недостатком прочной организации оргий, на подобие элевсинских мистерий. Вот почему нельзя ожидать ясных свидетельств древности о мистической природе жертвенного таинства; но энергия отождествления жертвы и бога в дионисийской символике позволяет судить по могучим пережиткам верования об огромности его исконного значения. С другой стороны, феномен ипостазирования Диониса в разноликих героях-страстотерпцах объясняется единственно фактом обожествления оргиастической жертвы, наглядно вырастающим из глубочайших корней первобытного миросозерцания.
Если в других культах, где мистической жертвы в вышеуказанном смысле не было, особенное отношение между божеством и жертвоприносимой тварью — только отголоски эпохи, когда оно чтилось в образе именно этой твари (Гере, например, как жертва и как символ-фетиш, принадлежала коза, Асклепию — змея), то жертва дионисийская до поздних времен сохранила в умах прямое представление о тожестве бога с посвященным ему животным. «Козленок — Дионис» (ἔριφος δ ́Διόνυσος), истолковывает культовый термин Гесихий. «Бог-Бык» феспийской надписи, конечно, также Дионис.
Пенфей, охваченный безумием, говорит неузнанному Дионису: «Мне кажется — я вижу два солнца, и ты сам, как бык, идешь пред нами, и на голове твоей рога. Разве ты воистину зверь? Ведь ты обернулся быком». «Явись быком», — умоляют менады. Дионис являет свое присутствие ревом невидимого быка.
Женщины в Элиде поют (текст священной песни сохранен Плутархом): «Сниди, сниди во храм твой, герой-Вакх! Сниди с Харитами туром! Буйным туром примчися!» — и припев гласит: «Тур достохвальный, тур достохвальный!». Одна камея представляет быка, несущего на рогах трех дев: это — Дионис, влекущий с собой Харит. Стих Пиндара (Ol. 13, 18), доселе вызывающий недоумение, упоминает о явлении «Харит Дионисовых с гонящим быка (βοηλάτα) дифирамбом»: поэт, которому предносится образ подобный изображению на упомянутой камее, олицетворяет дифирамб-песнь в видении ярого быка, одержимого Дифирамбом Дионисом. Этот бык — вместе эпифания бога и его жертва. По Симониду дифирамб (διθύραμβος) — топор «быкоубийца» (βουφόνος). Изображения Диониса в виде быка были особенно многочисленны в Кизике (ταυρόμορφα ἀγάλματα πολά, по Плутарху) в местностях, где был распространен и культ двойного топора. Что он часто принимает образ быка, известно из многих мифов. Атрибут рогов засвидетельствован и изображениями, и рядом священных эпитетов. На одной статуэтке бога облекает бычья шкура с головой и рогами.
На Тенедосе, острове двойного топора, совершались дионисийские обряды: на копыта тельца надевали котурны и так убивали его, после чего убийцу преследовали мнимые мстители до моря. Прибавим, что за коровой, от которой должен был родиться обреченный телец, ухаживали, по тому же свидетельству Элиана, как за женщиной-роженицей. Среди культовых эпитетов Вакха, встречается в Аргосе βουγενής («рожденный коровой»).¹⁰ Дионис был столько же «бык» или «в быке», сколь он был «деревом» или «обитающим в дереве» (ἔνδενδρος). Дельфийский оракул, рассказывает Павсаний, повелел коринфянам чтить одну сосну, поваленную фиадами на Кифероне, за Диониса; они сделали из дерева два идола бога. Подобным же образом Дионису поклонялись в других фетишах, как, например, в столпе (στῦλος) или в древесном стволе (αὐτοφνὲς πρέμνον).
Еще нагляднее, быть может, сказывается отожествление бога и жертвы в мифе, ипостазирующем Диониса в священных ликах страдания, поскольку дионисийский миф ясным зеркалом отображает предания древнейшего культа. Нимфы Нисиады, лелеющие Диониса и вдруг воспылавшие голодом к плоти божественного младенца, являют собой, наравне с Титанами, первообраз исступленных детоубийц мифа и исторической действительности. Если дионисийские женщины, на Парнасе, носившие колыбели-кошницы,¹¹ мистически становились самими нимфами-кормилицами бога и действительно «будили младенца в колыбели», то, разрывая козлят, принесенных в корзинах в горы, они же воистину растерзывали Вакха-отрока. Миф о Пенфее, очевидно, — отвлечение из оргиастической символики празднеств на Кифероне Пенфей же — ипостась Диониса: недаром он принимает символический облик быка или льва в видении менад и — герой рассудка, по Еврипиду, — погибает обезумевшим; само имя его выдает «страстотерпца»,¹² и существенное в его мифическом образе, конечно, — его страстнàя участь, закономерно обусловленная, согласно логике дионисийского мифотворчества, богоборством героя-ипостаси.
________________________
[10] Образ быка достался Дионису из египетской традиции в силу отождествления с Осирисом. Почитавшийся в Мемфисе божественный бык Апис, считался живым воплощением Осириса и зачастую отождествлялся с ним под именем Осирис-Апис.
[11] λῖκνον τό
1) плетеная колыбель HH.
2) веялка Arst.
3) культ. корзина с первинками плодов (преподносившаяся преимущ. Вакху-Дионису в дни его праздника) Soph., Plut., Anth.
[12] Πενθεύς (-έως) ὁ Пенфей (сын Эхиона и Агавы, внук Кадма, миф. царь Фив, растерзанный вакханками за непочтение к Вакху) Aesch., Eur.
πένθος (-εος) τό
1) печаль, скорбь, горе;
2) траур;
3) несчастье, бедствие Her., Pind.
Мифу о Пенфее аналогичен, также связанный с горой Кифероном, миф об Актеоне, сыне дионисийских родителей, Аристея и Автонои, сестры Агавы. Сходство простирается до того, что оба героя застигаются дионисийскими женщинами как соглядатаи их тайнодействий. Ибо, как Артемида — сопрестольница и подруга Диониса, так и ее женский сонм, будь то сонм нимф, горных охотниц или стан амазонок, во всем подобен Фиасу менад. Впрочем, другая, более древняя версия мифа вовсе не знает об участии Артемиды в растерзании Актеона и приписывает ему иную вину — не пред Артемидой, а пред Семелой, матерью Дионисовой. В одной коринфской сказке-повести тот же Актеон — уже красивый мальчик, растерзанный своими обожателями. Очевидно, что мотив растерзания — вот то постоянное, на чем держится, как на прочной основе, изменчивый миф. Так и Орфея, пророка и ипостась Диониса, должны были растерзать менады; в чем проявилась вина его богоборства против дионисийского начала, творцы мифа не знали, и не нашли пластически-удовлетворительного объяснения его мистической участи. Растерзание (σπαραγµός, διασπασµός) — постоянная печать и знамение дионисийского героя.
Уподобление Актеона Дионису подчеркивается у Нонна и его одеждой — пестрой шкурой оленя, — отчего собаки Артемиды, обманутые его видом, разрывают его, как лесного зверя. Вспомним, что менады — собаки в трагедии Еврипида о Пенфее. На знаменитой фреске, изображавшей подземный мир, Полигнот представил Актеона и его мать сидящими на вакхической небриде, с молодым оленем в руках. Наконец, Актеон — охотник, и охотник — Дионис, «сильный ловчий» (Ζαγρεύς). Не даром Нонн включил сказание о нем в свою дионисийскую поэму и сближает Артемиду, виновницу Актеоновой гибели, с Дионисом-охотником. Актеон — местный Дионис месяца Элафеболиона, месяца «оленьего боя» и великих Дионисий. Мы могли бы прибавить: и дионисийского маскарада, — ибо одной из существенных вакхических черт мифа об Актеоне является его переодевание — сам ли набросил он на себя оленью шкуру, или Артемида накинула ее на него, как повествовал Стесихор.
Цель, которую преследовали дионисийские женщины, разрывая, под маской жертвы, бога и пожирая плоть жертвенную, была алчба исполниться богом, сделаться «богоодержимыми» (ἔνθεοι). Арнобий говорит, обличая вакханок: «Чтобы показать, что вы полны божеством и могуществом его, вы разрываете окровавленными устами внутренности стенящих козлят». Понятие богоодержимости (κατοχή, ἐνθουσιασμός) было, впрочем, почти уже ослаблением первоначального представления, которое обнаруживается в наименовании всех участников оргии «вакхами» (βάκχοι). Подобным же образом, именуются оргиасты и σάβοι, по имени фракийского или фригийского Диониса-Сабазия. Этот факт свидетельствует об исконном отожествлении бога — уже не с жертвой только, но и со всеми священнодействующими и причастившимися жертве. Сделавшееся пословицей изречение: «много тирсоносцев, да мало вакхов» (πολοὶ μὲν ναρθηκοφόροι, παῦοι δέ τε βάκχοι. Plat.)¹³ — вполне выражает уже углубленную орфиками идею внутреннего слияния с божеством, даруемого благодатью мистического экстаза и недостижимого внешними обрядовыми средствами.
________________________
[13] Слово ναρθηκοφόροι («нартеконосцы») переведено как «тирсоносцы». Растение нартек часто использовалось в качестве жезла (тирса), поэтому слово «нартек» стало эквавалентно «тирсу».
ναρθηκοφόρος ὁ нартеконосец, носитель нартекового жезла (об участниках шествий в честь Вакха);
νάρθηξ (-ηκος) ὁ
1) бот. нартек, ферула (Ferula communis L., растение из семейства зонтичных, сердцевина которого медленно тлеет, т.е. долго хранит огонь) Hes., Aesch., etc.
2) культ. нартековый жезл (вакхантов) ex. (νάρθηκες ἱεροί Eur.)
θύρσος ὁ (в Anth. pl. тж. τὰ θύρσα) тирс, вакхический жезл, увитый плющем и виноградом и увенчанный сосновой шишкой; ex. ὄφεις περιελιττόμενοι τοῖς θύρσοις Plut. — тирс, увитый змеями.
Любопытно, что не только сами участники радений носят имя своего бога, но и священные предметы, ими при культе употребляемые. «Вакхом» называли дионисийский венок и дионисийскую ветвь. Приводя стих Ксенофана: «елок частые вакхи (т.е. ветви) обстали (окружили) домы», — схолиаст Аристофана поясняет, что именем Вакха звали не одного Диониса, но и совершающих оргии, и ветви, несомые мистами. «Со-вакхи» (σύµβακχοι) означало — «соучастники в оргиях». Состояние оргиастов, как соучастников страстей бога, именуется у Аппиана и Плутарха «вакхическими страстями».
Чтобы исчерпать идею мистического отожествления в культе Диониса, остается указать, наравне с представлениями тождества бога и жертвы и тождества бога с причастниками жертвы, — на отожествление бога и богоубийцы, или жертвы и жреца. Если Дионис — бык (ταῦρος) или козел (τράγος, µελάναιγις), то он же — пожиратель быков и козлоубийца (ταυροφάγος, βουφάγος, αἰγοβόλος, ἐρίφιος). Человек разорванный — Дионис, как жертва Титанов; но и сам Дионис — «разрыватель людей» (ἀνθρωπορραίστης). Жертва, разъятая и сырьем съеденная, — пожранный Титанами Дионис; но и сам он — «сырье снедающий» (ὠμάδιος, ὠμηστής). Вот почему бог-бык вместе бог-пастырь (βουκόλος, βοῦκος) и сопрягатель быков (βουζύγος). Дионис-козел — враг Диониса-винограда. Актеон — охотник и жертва охоты; он — Дионисов аспект; но Дионис сам, или Зевс, как муж Семелы, — пособник Артемидиной травли. Пенфей — враг бога, и его жертва; но он же его ипостась. Ликург — недруг Вакха и жертва менад; и он же только личина бога, ибо растерзан менадами. Орфей — пророк Диониса; но он же противится ему и идет принести жертву Аполлону или Солнцу; разрывая его, менады вновь превращают его в Диониса. Александр, сын Филиппа или, по тайной молве, Зевса и македонской менады, верит, что в нем воплотился Дионис (после него, не один сильный мира провозгласил себя за «нового Диониса»), — и, по одному свидетельству, совершает убийство друга у алтаря Дионисова, в вакхический праздник; если свидетельство и недостоверно, поучительно то, что оно дионисийски стилизовано. Жрец Диониса закалается пред алтарем бога за погибающую здесь же вакханку (т.е. также аспект Диониса), Каллирою. В орхомене жрец с ножом преследует дионисийских женщин. Дирка, полная бога, влачится по Киферону быком оргий — Дионисом; и если мы слышим о ее превращении с быком в источник Диркейский, — это оттого, что более древнее предание говорило о приятии нимфой Диониса в струи свои.
И чем глубже стали бы мы вникать в дионисийские мифы, тем более убеждались бы, что на всех их напечатлелась мистическая истина Дионисовой религии: истина раздвоения бога на жертву и палача, на богоборца и трагического победителя, на убиенного и убийцу. Эта мистика оргиастического безумия мало говорит рассудку, как всякая мистика; но ее символизм более, чем логика догмата, делает нам доступной загадочную сущность вечно самоотчуждающегося под чужой маской, вечно разорванного и разлученного с собой самим, вечно страдающего и упоенного страданием «многоликого» и «многоименного» Диониса, бога «страстей».
Раскрытая выше идея мистического отожествления сплавляла вакхическую общину в одно хоровое тело Диониса; она одна позволяет внутренне осмыслить сущность «оргии», этого совместного, не нуждавшегося в жреце, священнодействия «вакханок», — как формы культа исключительно дионисийской. Из сущности начала оргийного вытекает исконная схема оргии как священного действа. Ее объединенной множественности свойственна форма кругового строения участников, «киклический хор». Хороводная цепь была как бы магическим проводником экстаза. Хороводная песнь звалась дифирамбом. На круглой орхестре двигался «трагический хор» (χορός τραγικός), хоровод козлов,¹⁴ каким мы застаем его древле в Пелопоннесе. В середине хоровода был видим сам бог в его жертвенном лике, — обреченный участник действа, отчужденный от своего прежнего Я личиной и жертвенными «трагическими» котурнами, которые, как было указано, еще привязывались на Тенедосе к копытам тельца, заменившего прежнюю человеческую жертву. Круговой ток исступления разверзал пред глазами составлявших цепь ослепительные «эпифании», потрясающие явления и знамения божественного присутствия. Они достигали самозабвения богоодержимости, они становились «вакхами»: все личное с корнем исторгнуто было из их преображенного существа.
Принесение в жертву Дионису его самого, чрез посредство им же вдохновленных и исполненных, являющих собой его же аспект служителей бога страдающего, составляло мистическое содержание Дионисова культа. Если Титаны, разрывающие бога, чрез пожрание его им исполняются в такой степени, что вмещают в своей мятежной и хаотической душе иную, божественную душу, и люди, возникшие из их пепла, уже рассматриваются, как существа двойственной природы, составленной из противоборствующих начал — титанического, темного, и дионисийского, светлого, — то это преображение богоубийц чрез удвоение их природы — только последнее очищение; но и сама первородная вина, этот «древний грех беззаконных предков» (по слову орфиков), самое исступление их убийственного буйства невозможны без того жреческого безумия, которое отличает всех Дионисоубийц, будут ли то лица исторической действительности, как тот жрец эпохи Плутарха, не воздержавшийся в своем преследовании орхоменских женщин от умерщвления одной из них, или образы мифа, как детоубийственные Миниады и Пройтиды, дочери Ламоса, нападающие с ножами на чужеземцев и рабынь; — или нимфы Нисы, взалкавшие плоти бога, его пестуньи; — преследователь Вакха Ликург, или кормилец и убийца сына, Атамант; — Корес, поднимающий нож на Каллирою, или влюбленные менады, терзающие Орфея; — Агава, несущая на тирсе голову милого сына, или безумная Антиопа, привязывающая, с помощью сыновей своих, менаду Дирку к разъяренному быку.
Безумие Титанов прямо не обусловлено в мифе влиянием Диониса; но ведь уже самая близость и видение младенца, глядящегося в зеркале, должны были охватить их дионисийским исступлением: недаром они вымазали лица гипсом (черта, не объясненная прагматизмом мифа,¹⁵ но необходимая в связи вакхического жертвенного маскарада) и бросаются на ребенка, чтобы растерзать его в ярости, тогда как прагматизм мифа требует простого убиения. Но Дионис именно неумертвим, хотя должен быть вечно умерщвляем, — сын Зевса-змия и змеи-Персефоны, подземной владычицы над областью смерти.
________________________
[14] τράγος ὁ козел Hom., Pind., Her.
[15] Гипс по-гречески — τίτανος. Греки, падкие на обыгрывание схожих по звучанию слов, не могли пройти мимо такого созвучия:
τίτανος ἡ гипс Hes.; известь или мел Arst.; меловая пыль Luc.
Τιτᾶνος gen. к Τιτάν
Τιτάν (-ᾶνος), ион. Τῑτήν (-ῆνος) ὁ (эп. dat. pl. Τιτήνεσσιν) Титан
Τιτᾶνες и Τιτανίδες — дети Урана и Геи: сыновья — Океан, Кей, Крий, Гиперион, Иапет, Крон и дочери — Тея, Рея, Фемида, Мнемосина, Феба и Фетида; свергнув своего отца с престола, они завладели миром, пока сами не были побеждены и низвергнуты в Тартар Зевсом Hom., Hes., Trag.
Этимологию слова Τιτάν современная наука не объясняет, считая его заимствованным. По Павсанию, впервые слово Τιτάν ввел в оборот Гомер, у него заимствовал Ономакрит и представил титанов «виновниками страстей Диониса».
Конечно, если рассматривать гипсовую (τίτανος) маску как обязательный мистериальный атрибут, заимствованный из-вне (вероятно, Африка или Крит) вместе с культовым ритуалом, то персонажи, напавшие на Диониса, могли получить эпитет (связанный именно с маской): «гипсовые», «вымазанные гипсом».
Кроме версии с гипсовой маской, можно рассмотреть созвучие с еще одним порождением Геи (Земли) — великаном Тифоном (Τυφῶν), чье имя производят от τύφω («чадить», «коптить»). Эта версия хороша тем, что, кроме созвучия слов «Тифон» и «Титаны», здесь явно угадывается соответствие противостояний Осирис - Тифон и Дионис - Титаны. И в том и в другом случае, речь идет о попытке незаконно овладеть верховной властью.
Τυφῶν (-ῶνος), эп. Τῠφάων (-ονος) ὁ Тифон (гигант, сын Тартара и Геи, побежденный Зевсом Aesch., Plat., Plut.)
τυφῶν (-ῶνος) ὁ вихрь, ураган, смерч Arst., Plut.
τύφω (pf. pass. τέθυμμαι)
1) дымить; ex.: κηκὴς κἄτυφε (= καὴ ἔτυφε) κἀνέπτυε Soph. — жир (сжигаемых жертв) чадил и шипел;
2) выкуривать;
3) зажигать, воспламенять или сжигать на медленном огне.
Титаны были испепелены молниями Зевса, а из этой копоти появились люди, о чем свидетельствует Олимпиодор: «Мы часть Диониса, коль скоро мы состоим из копоти титанов, вкусивших его плоти» (К Федону. 61). Речь идет именно о «копоти», которая прекрасно коррелирует с τύφω («чадить», «дымить»).
Глубокомысленный миф как бы предполагает дионисийское тяготение к растерзанию искони потенциально присущим хаотическому и материальному началу, началу титанов-богоборцев. Оно же (прибавим вскользь) — по преимуществу начало женское. В Титанах древняя мать мстит своему мужу, Земля — Небу. И родились они всем в мать: от нее унаследовали свое неистовство. Другими словами, Титаны созданы мифом по образу Менад: мифотворческая мысль продолжила в сынах Земли идею женского мужеубийства. Дионис — жертва, поскольку он мужествен; губитель — поскольку божество его женственно. Титаны, губители в духе и одержании Дионисовом, — только сыны Матери.
Итак, древние прообразы двойственной души человека, сына Неба — Урана и Матери-Земли, — как и человеческая душа, по орфическому учению, — дочь Земли и звездного Неба, как и первый Дионис — сын Зевса и Персефоны, как и второй Дионис — сын Зевса и Семелы, одного из символов Земли (какова бы ни была этимология слова: σεµνή, «почтенная мать», или θεµέλη, «твердая земля»)¹⁶ — Титаны суть первый аспект дионисийского начала в непрерывной цепи явлений вечно превращающегося бога — и древней, как «вакхи», нежели древнейший Дионис мифа.
________________________
[16] Поскольку Семела сгорела в огненных лучах славы Зевса, то уместнее искать этимологию имени Семелы не в «твердой земле» (θεµέλη). «Твердая земля» ничего не объясняет. Но, сгоревшая Семела должна обуглиться и «почернеть», либо обратиться в прах и, опять же, стать «черной» (как земля). Т.е., если μέλας — значит «черная», то συμμέλας (συμ-μέλας) — «почерневшая», ставшая полностью «черной».
Σεμέλη, дор. Σεμέλα ἡ Семела (дочь Кадма и Гермионы, мать Вакха от Зевса) Pind., Her., Eur.
συμμελαίνομαι (συμ-μελαίνομαι) становиться совершенно черным, совершенно чернеть;
μέλας — черный; ex. μ. γαῖα Hom. черная земля.
συμ- — приставка обозначающая завершенность, полноту действия.
Как доказательство, что они убивают Диониса, уже как силы дионисийские, — поучительно отражение орфического мифа в сельском аттическом, об Икарии. Икарий, ипостась Диониса, распространяет по своей стране дар бога — лозу виноградную — и умерщвляется буйными селянами и пастухами гор, своего рода Титанами которые впали в яростное безумие, отведав неведомого им дотоле божественного напитка, т.е. исполнившись душою Дионисовой.
Дионисийское начало миф предполагает, как некоторое prius, и им обусловливается появление Диониса-лица. Дальнейшее исследование должно подтвердить этот вывод: Дионис, как религиозная идея оргиазма, как мистический принцип культового исступления и жертвы экстатической, — изначальнее, нежели Дионис как образ мифа.
_______________________________
ЭЛЛИНСКАЯ РЕЛИГИЯ СТРАДАЮЩЕГО БОГА. Глава IV
Διόνῡσος, эп. ион. Διώνῡσος ὁ Дионис, тж. Βάκχος, Ἴακχος, Βρόμιος (Бромий, т.е. шумный, гудящий, поющий), Εὔιος (Эвий, «благой»), δίγονος (δί-γονος, дважды рождённый) Anth.; διμήτωρ (δι-μήτωρ, имеющий двух матерей Eur., Diod); ὥριος, цветущий; νόμιος, пастушеский, охраняющий стада; κερασφόρους, рогатый; Ἀγριώνιος, дикий, яростный; Ἀνθρωπορραίστης, растерзывающий людей; ὠμηστής, пожирающий сырое мясо; ὠμάδιος, свирепый.¹
Ζαγρεύς — Загрей, эпитет Диониса в образе быка;
ζά — усилит. приставка со знач. очень, весьма, вполне;
ex. ζάχολος (ζά-χολος) раздраженный, гневный (Διόνυσος Anth.);
ἄγριος
1) дикий; ex. (αἶξ Hom.; δένδρεα Her.; ἔλαιον Soph.; τόπος Plat.) μητρὸς ἀγρίας ἄπο ποτός Aesch. — вино из дикого винограда;
2) жестокий, свирепый, лютый, злой; ex. (ἀνήρ, πτόλεμος Hom.; δρακαίνης φύσις Eur.);
3) неукротимый, необузданный, грубый; ex. (θυμός Hom.; ἤθεα Her.; ὀργή Soph.; ἔρωτες Plat.);
4) мучительный, тяжелый; ex. (νόσος Soph.; τραύματα Eur.);
5) бурный, ужасный; ex. (νύξ Her.; χεῖμα Eur.).
Многочисленные свидетельства античных писателей, изображения на вазах, рельефы представляют менад
 разрывающими животных, например, ланей (διασπᾶν νεβρούς), тельцов, быков. Молодых волчат и козлят, приносимых в горы, они питают молоком своих сосцов (что, не без основания, особенно отмечает миф) и потом растерзывают. Еще во второй половине IV в. н.э., мог воскреснуть в народе стародавний обычай: по словам церковного историка Феодорита,² «огонь горел на идольских жертвенниках, и посвященные в оргии Диониса бегали, одетые в козьи шкуры, и разрывали собак в вакхическом исступлении».
разрывающими животных, например, ланей (διασπᾶν νεβρούς), тельцов, быков. Молодых волчат и козлят, приносимых в горы, они питают молоком своих сосцов (что, не без основания, особенно отмечает миф) и потом растерзывают. Еще во второй половине IV в. н.э., мог воскреснуть в народе стародавний обычай: по словам церковного историка Феодорита,² «огонь горел на идольских жертвенниках, и посвященные в оргии Диониса бегали, одетые в козьи шкуры, и разрывали собак в вакхическом исступлении».Козья шкура — дионисийское одеяние (αἰγίς, τραγῆ), наравне с фракийской «бассарой» (откуда — Бассариды или Бассары, фракийские менады), одеждой, по-видимому, из лисьих шкур, от известного Геродоту слова, означающего лисицу.³ Дионисова «небрида» (νεβρίς) — накидка из шкуры лани, а техническое выражение культа νεβρίζειν значит «облекаться в небриду» и «растерзывать ланей». Аналогия обстановки шаманского оргиазма невольно останавливает
 внимание: шаманы носят личины, плащи из оленьих и козьих шкур; к плащам прикрепляют жгуты, изображающие змей с раскрытой пастью; в руках держат трости, — подобно тому, как служители Диониса, облеченные в звериные шкуры и часто замаскированные, перепоясывались змеями и вооружались тирсами.
внимание: шаманы носят личины, плащи из оленьих и козьих шкур; к плащам прикрепляют жгуты, изображающие змей с раскрытой пастью; в руках держат трости, — подобно тому, как служители Диониса, облеченные в звериные шкуры и часто замаскированные, перепоясывались змеями и вооружались тирсами.Из глубокой древности шло обыкновение — надевать на себя для обрядового действа шкуры разорванных, в жертву богу, животных. Мясо их пожиралось, и притом пожиралось сырьем. За исконность этой формы жертвы ручается ее дикая первобытность. По слову Еврипида, «Вакх, носящий священную небриду, охотится за добычей из крови козьей, за усладой сырого мяса». По Аполлонию Родосскому, вакханки — «фиады, сырьем питающиеся» (ὠµοβόροι).⁴ Климент Александрийский в своих полемиках настаивает на отвратительности этого священного язычникам обычая.
___________________________
[1] Слова ὠμηστής и ὠμάδιος являются производным от ὠμός:
ὠμός
1) сырой, невареный (ὠμούς τινας καταφαγεῖν Xen. — съесть кого-л. живьем, перен. жестоко расправиться с кем-л.);
2) дикий, грубый, суровый, жестокий (δεσπότης, φρόνημα, ὀργή Aesch.; δαίμων Soph.; βούλευμα, στάσις Thuc.; ψυχή Plat.);
ὠμηστής (ὠμ-ηστής) adj. m, редко f {ὠμός}
1) питающийся сырым мясом (Ὠμηστῇ Διονύσῳ καθιερωθῆναι Plut. — быть заколотым в жертву Дионису Сыроядному);
2) кровожадный (ἀνήρ Hom.).
ᾔστωσα aor. к ἀϊστόω
ἀϊστόω — уничтожать, истреблять, губить.
ὠμάδιος (ὠμ-άδιος) {ὠμός}
ἀδίκως — несправедливо, беззаконно Aesch., Her., Lys., Plat.
ἄδικον τό тж. pl. беззаконие, насилие Pind., Xen., Plat.
[2] Θεοδώρητος ὁ Κύρου — Феодорит Кирский, выдающийся христианский писатель V века, представитель Антиохийской школы богословия.
[3] βασσάρα ἡ накидка из лисьей шкуры;
βασσάριον τό ливийская лисица Her.
[4] ωμοβόρος (ωμο-βόρος) — питающийся сырым мясом.
βορός {βιβρώσκω} прожорливый Arph., Arst., Luc.
Служительницы Диониса пожирают сырое мясо разрываемых ими животных в подражание своему богу и для приобщения его трапезе, так как раздрание — жертва Дионису, будучи в то же время, как мы увидим, воспроизведением его страстей. Оттого Дионис носит священное наименование Омадий (Ὠµάδιος, Ὠµηστής), от ὠμός — «сырой». Орфические секты сохранили и углубили древний вакхический обычай: их члены, приняв однажды, при посвящении, участие в священной оргии, где разрывались животные и мисты причащались их окровавленному мясу, — воздерживались потом навсегда от употребления мясной пищи.
По свидетельству Фирмика Матерна, на острове Крит долго держался связанный с триетерическими празднествами обряд, который названный христианский писатель рисует так: «Они терзают живого быка зубами и разбегаются с нестройными криками и воплями по лесным чащам, делая вид, что бешенствуют в безумии». Это было служение Дионису Таврофагу.⁵
___________________________
[5] ταυροφάγος (ταυρο-φάγος) — поедающий быков, эпитет Диониса Soph.
Раскопки Эванса показали, что миф о Минотавре, «человекобыке», пожиравшем человеческие жертвы в критском Лабиринте, не лишен исторического основания. Стенные фрески Лабиринта, храма или дворца, посвященного «богу двойного топора» (λάβρυς), изображают род боя быков, где жертвами разъяренных животных оказываются отданные им на добычу пленники. Миф о растерзании Дирки, привязанной к дикому быку, позволяет видеть в этом обычае элементы религии дионисического характера. Свидетельство Фирмика скрепляет связь приведенных фактов. Кажется, что дионисические оргии, своего рода оргиастические «бои быков», соединенные первоначально с человеческими жертвами, впоследствии же ограничивавшиеся растерзанием быка, имели древнейшие корни, между прочим, на Крите, где божество, являющееся изначала с чертами Диониса, позднее — с ним отождествленное, почиталось преимущественно в образе быка.
Не подлежит сомнению, что дионисийские причащения сырому, живому телу жертвенных животных были повсюду только заменой первоначальных человеческих жертв. Павсаний сообщает, что в Беотии принесение в жертву Дионису козлят заменило периодические жертвенные убиения мальчиков.
«Есть тут храм и Диониса Эгобола.⁶ Как-то раз, принося жертву богу, они под влиянием опьянения пришли в такое неистовство, что убили жреца Диониса; убившие тотчас же были поражены моровой язвой и вместе с тем из Дельф к ним пришло веление бога приносить Дионису ежегодно цветущего мальчика; немного лет спустя, по их словам, вместо мальчика бог разрешил приносить им как жертву козу».
(Павсаний IX, 8, 2)
Еще в эпоху персидских войн, по Плутарху (Themist. 13), были убиты в жертву Дионису — «Пожирателю сырого мяса» — три пленных перса. На Хиосе тому же Дионису (Ὠµηστής) приносился в жертву чрез растерзание человек, по сообщению неоплатоника Порфирия. На Тенедосе, где Дионису был усвоен упомянутый символ двойного топора, приносился в жертву телец; перед жертвоприношением на копыта тельца надевались котурны — высокая обувь, употребительная в трагедиях, и тот, кто нанес топором удар жертве, спасался к морю от предполагаемого преследования мстителей за убийство, — что повторяется и в обряде аттических Буфоний.⁷ Замена человеческой жертвы умерщвлением животного не может быть означена культом с большой прозрачностью. Прибавим, что Дионис, которому приносилась тенедосская жертва, был Дионис — «Разрыватель людей» (Ἀνθρωπορραίστης).
___________________________
[6] αἰγοβόλος (αἰγο-βόλος) adj. m коз поражающий, эпитет Диониса.
[7] βουφόνια (βου-φόνια) τά праздник заклания быка (в Афинах) Arph.
Миниады мечут жребий, которой из сестер жертвовать Дионису, и вынувшая жребий отдает своего сына; сестры, в исступлении, почувствовав, по словам Плутарха, голод к человеческому мясу, разрывают и пожирают ребенка.
С именем Диониса «Человекорастерзателя» должно сопоставить другое, однажды встречающееся, из его многочисленных наименований: Ψυχοδαΐκτης, что значит «убийца, или разрыватель, душ». Нельзя относить этого означения к его силе поражать душу недугом священного безумия (νουσφαλής, νοοπλανής). Нет, слово выражает идею религиозного каннибализма в его чистейшей форме. Боги каннибалов не столько антропофаги, сколько психофаги: они питаются душой, а не плотью жертв. Терзая плоть жертвоприносимых, Дионис растерзывает их душевное тело, их психею. Поистине, дионисизм есть растерзание индивидуума, разлучение Я с собой самим.
Мы приходим к твердому выводу: убийственная сторона дионисийского оргиазма есть исконный оргиазм каннибализма. Этот каннибализм в принципе навсегда сохранился в Дионисовой религии, но был ослаблен в применении. Человеческие жертвы никогда не были упразднены окончательно; но пожирание плоти человеческой было отменено. Тем не менее, символика культа искала сделать прозрачным первоначальное значение живьем пожираемой жертвы, как жертвы человеческой.
Человеческие жертвоприношения в Дионисовой религии были трех родов: жертвенные убиения детей (как кажется, исключительно мужского пола), мужчин и женщин. Если два первые типа соответствуют младенческому и мужскому аспектам бога, — жертвы женские не столько связываются с муже-женским (ἀρσενόθηλυς) обликом Диониса или его женскими метаморфозами, сколько с представлением о принадлежности богу одержимой им женщины: ибо ему обреченная рассматривается как менада. Если умерщвленные для бога отрок, юноша, муж являют собой его же лики, то женская его жертва есть его Ариадна.
Любовь Диониса смертельна. Что Ариадна, ипостась требующей человеческих жертв Артемиды, должна погибнуть, так же требуется логикой мифа, как и заклание Ифигении, представляющей собой другую ипостась той же человекоубийственной богини. Но миф, соединяющий Диониса и Артемиду, как два аспекта, мужской и женский, одной могущественной и страшной божественной силы, обусловливает гибель Ариадны ее соединением в любви с Дионисом. По свидетельству Гомера, Артемида убивает Ариадну своей «тихой» стрелой «по уликам Дионисовым», что значит, по-видимому, что служительница девственной богини навлекла ее месть, быв уличенной в нецеломудренном союзе с богом.
Семела, первообраз Менады, погибает от любви отца Дионисова, который представлен мифом уже в аспекте Диониса, ему изначала присущем. Древний, первый Дионис имеет матерью безутешную Персефону. Трагическая Ио является в местном мифе также достойной матерью бога трагедий.
Священные детоубийства и взаимные священные убиения исступленных служителей и служительниц Дионисовых взяты мифом из ужасной действительности кровавых экстазов древнейшей, забытой Греции. По отрывочным намекам мы догадываемся, что эти убийственные служения искореняли целые роды вековым самоистреблением. Так, неоплатоник Порфирий упоминает о дионисийском клане Бассаров, которые «в неистовстве человеческих жертв и вкушений жертвенных, исступленно нападая друг на друга, и друг друга пожирая, уничтожили все свое племя».
Дионисийская религия принуждена была силой вещей, более всех других религий, искать освобождения, искупления от крайностей своего обрядового каннибализма. И вот, в ней развивается богатая жертвенная символика, которая сводится к одному принципу замены, подстановки животной жертвы наместо жертвы человеческой. В Аркадии жертвоприношение девушек заменяется их бичеванием пред кумиром Диониса, как в Спарте бичевание отроков пред идолом Артемиды замещает их жертвенное умерщвление. Культы обоих родственных божеств равно человекоубийственны, но освобождение исходит, по-видимому, из очищений Дионисовой религии, в лоне которой оно совершилось ранее. Это освободительное начало делается, по мнению Липперта, преимущественным признаком Дионисовой религии в религиозном сознании греков. Если Дионис является освободителем (Λύσιος), разрешителем (Ἐλευθερεύς), — это потому, думает названный ученый, что он вызволил матерей от закона детоубийства. Быть может, Липперт слишком настаивает на этой стороне дионисийской идеи. Во всяком случае, мы имеем в пользу этого положения некоторые указания. Вспомним миссию Эврипила (Εὐρύπυλος), который, открыв Ахаии нового бога, отменил тяготевшие над ней человеческие жертвоприношения Артемиде. По выражению того же исследователя, Дионис стал для эллинов примирительной Пасхой.
Мы, конечно, не можем взирать без ужаса на это кровавое прошлое человеческого сердца. Но древнейшие религии, с их каннибализмом и исступлением, были плодотворным лоном религиозной идеи, осветившей мрак мира. Она стоила быть купленной дорогой ценой. Дорогой, — ибо эти древние люди, воспитавшие человечество своим священным восторгом, давшие ему навеки религиозный закал, — страдали. Но они не боялись ни страдания, ни смерти. Они были боговещие, чуткие к Божеству в мире, и они были жизнещедрые, ни себя, ни других не жалевшие в своих боговдохновенных порывах. Они не жалели разбить сосуд своего тесного Я и, только разбивая его, впервые обрели себя на воле, великие души.
Жертва была сладостна этим древним исступленным, и недаром блаженной славит Еврипидов хор вакханок дионисийскую мученицу — Дирку:
«О дочь Ахелоя, чтимая дева, ты приняла некогда сына Зевсова в струи твои! И ты, о блаженная Дирка, ты отстраняешь мой увенчанный сонм? Зачем ты презираешь, зачем бежишь меня? Подожди, будет тебе мил Бромий, клянусь гроздьями дара Дионисова!».
Они любили, эти древние люди, простор мира и простор Бога и всем существом своим доказывали то, что мы, поздние, испытываем только в минуты мысленного созерцания, — что «сладостно крушенье в этом море» (Леопарди). Живым и непосредственным изволением вступали они в мистическое единение с силой, среди вечных богоявлений которой они жили.
Ибо не должно думать, что мистицизм — в смысле исканий прямого общения и слияния с божеством — развивается как поздний цвет уже окрепшего религиозного сознания, что он — его утончение и одухотворение. Религиозно-историческое исследование приводит к противоположному взгляду. Употребление огня при жертвоприношении — сравнительно новая богослужебная форма. Огонь уже посредствует между материальной и сверхматериальной сферами. Этот «чистый жрец богов», по индийским и иранским представлениям, — как посредник, как жрец, становясь между человеком и богом, разобщает, разъединяет их. Более древняя форма жертвы состояла в непосредственном кормлении богов. Пища ставилась на местах, ими посещаемых, между прочим, на престолах, где они предполагались сидящими, или — так как кровь была их любимой пищей — жертвенник обмазывался кровью. К этому периоду жертвы относится происхождение обычая «феоксений» (откуда римские «лектистернии») — гостин богов, примеры которых мы встречаем и в Дионисовом культе, — совместных трапез, где боги принимают участие наравне с людьми.
Здесь человек входит в ближайшее соприкосновение с божеством; но и эта близость, по-видимому, только ослабленная форма иного культового общения, когда человек искал большего и не столько думал о том, чтобы напитать божество, сколько о том, чтобы самому им напитаться и чрез то усилиться, обожествиться. Тогда человек еще вовсе не жертвовал, — он пожирал бога в его фетише, — животном или в человеке, им исполненном, и так становился до некоторой степени сам богом. Другим средством соединения служил — без сомнения, уже в древнейшие времена — мистический брак, примеры чему мы видели в дионисийской обрядовой символике. Искушение библейского змия: «вы будете как боги», — было некогда символом, исчерпывавшим все содержание религии; «делаться как боги» значило то самое, что впоследствии люди назвали «служением богам». В эту первобытную эпоху они еще далеки были от религиозного отчаяния гомеровского времени, когда имя богов было «бессмертные», а имя людей — «смертные», и непроходимая пропасть разверзлась между обоими родами. Ибо, как говорит позднейший орфик, «боги — улыбка Божества (единого), люди — его слезы».⁸
________________________
[8] …«боги — улыбка Божества, люди — его слезы» — заимствование из египетской традиции. Ра-Атум возрадовался, увидев вернувшихся Шу и Тефнут, которые нашли его Око, и слезы радости упали из глаз его:
«И они (Шу и Тефнут) возвратили мне (Ра-Атуму) Око мое вместе с собой, и потому воссоединился я с членами моими. Я зарыдал над ними и потому люди пришли в существование из слез, что упали из Ока моего».
Люди по-египетски — rmṯ («ремеч»), поздняя форма — rmt («ремет»), а слезы — rmjt («ремит»). Поэтому фраза «люди — слезы бога» является игрой слов.
В то время как религиозная мысль искала мистического синтеза между божественным и человеческим началами, оргиастические культы, и среди них преимущественно культ Диониса, поддерживали непрерывающуюся живую связь между новой мистикой и доисторической мистикой человека-каннибала, питающегося своим божеством, чтобы им исполниться, пожирающего сырое мясо людей или животных или плоть мертвеца, где он ведал божественное присутствие, — пьющего кровь своих жертв, т.е. их душу, чтобы одушевиться богом, им присущим.
Как же мотивируется эта исключительная и единственная из греческих культовых форм? Растерзание совершается «в подражание страстям Дионисовым» (κατὰ μίμησιν τοῦ περὶ Διόνυσον πάθους). По Лактанцию, обряды произошли из воспроизведения божественных деяний, страстей и смерти (ipsi ritus ex rebus gestis vel ex casibus vel ex mortibus nati). Вот объяснение жертвы в историческую эпоху: она символизирует смерть бога, про которого миф повествует, что он был растерзан. Жертва — символ бога и его страстей, по позднейшему представлению. Но древность не знает символа: в ней он еще живая действительность. Было время, когда дионисийская жертва был сам Дионис. По Лактанцию, обряды произошли из воспроизведения божественных деяний, страстей и смерти (ipsi ritus ex rebus gestis vel ex casibus vel ex mortibus nati). Вот объяснение жертвы в историческую эпоху: она символизирует смерть бога, про которого миф повествует, что он был растерзан. Жертва — символ бога и его страстей, по позднейшему представлению. Но древность не знает символа: в ней он еще живая действительность. Было время, когда дионисийская жертва был сам Дионис. Недаром говорится об обрядовом растерзании ланей «растерзывать по слову (или преданию) тайны неизреченной» (διασπᾶν κατὰ ἄρρητον λόγον). В тайне тождества жертвы и бога и состоял, без сомнения, сокровенный, мистический смысл обряда. Ибо относить «предание тайны» к какому-либо мистическому мифу о Дионисовом растерзании нет оснований: миф в его разновидностях был издавна известен и распространен в греческом мире.
Предание о растерзании Диониса-Загрея Титанами является в общих чертах установленным уже в VI веке. Загрей, первоначальный Дионис, — сын Зевса и Персефоны, Зевсовой же дочери, от которой он родил его, сам и придав ей образ змеи. Имя «Загрей» — имя хтонического божества, бога Смерти.⁹
________________________
[9] Дионис приводился в соответствие с Аидом, владыкой подземного царства, через отождествление с египетским Осирисом. Осирис, в египетском представлении, был владыкой преисподней. Развитие образа Осириса (в эллинистический период Египта) — Серапис часто изображался (как и Аид) с трехголовым псом Цербером — охранителем подземного царства.
Ζαγρεύς (-εως) ὁ Загрей
1) эпитет Диониса «первого» как сына Зевса и Персефоны, растерзанного Титанами тотчас же после его рождения Anth.
2) эпитет Гадеса Aesch.
ζαγρεύς ~ ζα-ἀγρεύς ὁ, «великий ловчий».
ἀγρεύς (-έως) ὁ охотник, ловец Pind., Aesch., Eur., Luc., Anth.
У Еврипида Загрей — Дионис ночных радений. Еще ребенком он принимает от Зевса господство над миром. Но хаотические сыны Земли — дикие Титаны — хотят его растерзать. Они дарят ребенку символические игрушки — волчок, шар, пирамиду, между прочим зеркало, — чтобы отвлечь его внимание. Они вымазывают лица гипсом, чтобы быть неузнанными. Между тем как отрок любуется на свое отражение в зеркале, они нападают на него. Он ускользает из их рук чрез последовательные превращения, но в образе быка все же делается их добычей. Титаны поглощают растерзанные части бога, только сердце его, спасенное Афиной Палладой, достается Зевсу, который его проглатывает: это — росток будущего Диониса, долженствующего родиться от Семелы. Или же повествуется, что сердце Диониса погребено под горой Парнасом. Месть Зевса испепеляет Титанов.
Как ни много первобытных черт обнаруживает этот миф, восходящий в своих элементах несомненно до глубокой древности, он не был общим достоянием дионисийских общин и не влиял значительно на религиозные представления культа вне круга орфической секты. Он был лишь одной из попыток точнее определить уже данное в культе понятие страстей Дионисовых, которое, как должно выясниться из дальнейшего исследования, непосредственно и без всякого мифологического звена связывалось с дионисийской жертвой.
Разделению дионисийских торжеств на всенародные празднования и мистические радения соответствовало, в области жертвы, различение жертвы общеритуальной и жертвы мистической. Тогда как первая состояла большей частью в обычном всем культам заклании и сожжении жертвенного животного, — вторая имела целью «подражательное воспроизведение (µίµησις) страстей бога». Ее характеризуют экстаз причастников, растерзание ими живой плоти и вкушение от плоти растерзанной (ὠμοφαγία).
Основным религиозным представлением, обусловившим эту исключительно дионисийскую культовую форму, необходимо признать интуицию пресуществления раздираемой жертвы в божественную плоть и душу самого Диониса. При отсутствии органов и форм религиозной догматики, это верование, очевидно, не могло быть закреплено иначе, как путем тайного предания (ἄρρητος λόγος), жившего в устах оргиастических сонмов; но, и как таковое, оно едва ли в силах было отстоять чистоту и непосредственность своего изначального богочувствования от смешения с затемняющей и изглаживающей древний прямой смысл обрядов символикой, за недостатком прочной организации оргий, на подобие элевсинских мистерий. Вот почему нельзя ожидать ясных свидетельств древности о мистической природе жертвенного таинства; но энергия отождествления жертвы и бога в дионисийской символике позволяет судить по могучим пережиткам верования об огромности его исконного значения. С другой стороны, феномен ипостазирования Диониса в разноликих героях-страстотерпцах объясняется единственно фактом обожествления оргиастической жертвы, наглядно вырастающим из глубочайших корней первобытного миросозерцания.
Если в других культах, где мистической жертвы в вышеуказанном смысле не было, особенное отношение между божеством и жертвоприносимой тварью — только отголоски эпохи, когда оно чтилось в образе именно этой твари (Гере, например, как жертва и как символ-фетиш, принадлежала коза, Асклепию — змея), то жертва дионисийская до поздних времен сохранила в умах прямое представление о тожестве бога с посвященным ему животным. «Козленок — Дионис» (ἔριφος δ ́Διόνυσος), истолковывает культовый термин Гесихий. «Бог-Бык» феспийской надписи, конечно, также Дионис.
Пенфей, охваченный безумием, говорит неузнанному Дионису: «Мне кажется — я вижу два солнца, и ты сам, как бык, идешь пред нами, и на голове твоей рога. Разве ты воистину зверь? Ведь ты обернулся быком». «Явись быком», — умоляют менады. Дионис являет свое присутствие ревом невидимого быка.
Женщины в Элиде поют (текст священной песни сохранен Плутархом): «Сниди, сниди во храм твой, герой-Вакх! Сниди с Харитами туром! Буйным туром примчися!» — и припев гласит: «Тур достохвальный, тур достохвальный!». Одна камея представляет быка, несущего на рогах трех дев: это — Дионис, влекущий с собой Харит. Стих Пиндара (Ol. 13, 18), доселе вызывающий недоумение, упоминает о явлении «Харит Дионисовых с гонящим быка (βοηλάτα) дифирамбом»: поэт, которому предносится образ подобный изображению на упомянутой камее, олицетворяет дифирамб-песнь в видении ярого быка, одержимого Дифирамбом Дионисом. Этот бык — вместе эпифания бога и его жертва. По Симониду дифирамб (διθύραμβος) — топор «быкоубийца» (βουφόνος). Изображения Диониса в виде быка были особенно многочисленны в Кизике (ταυρόμορφα ἀγάλματα πολά, по Плутарху) в местностях, где был распространен и культ двойного топора. Что он часто принимает образ быка, известно из многих мифов. Атрибут рогов засвидетельствован и изображениями, и рядом священных эпитетов. На одной статуэтке бога облекает бычья шкура с головой и рогами.
На Тенедосе, острове двойного топора, совершались дионисийские обряды: на копыта тельца надевали котурны и так убивали его, после чего убийцу преследовали мнимые мстители до моря. Прибавим, что за коровой, от которой должен был родиться обреченный телец, ухаживали, по тому же свидетельству Элиана, как за женщиной-роженицей. Среди культовых эпитетов Вакха, встречается в Аргосе βουγενής («рожденный коровой»).¹⁰ Дионис был столько же «бык» или «в быке», сколь он был «деревом» или «обитающим в дереве» (ἔνδενδρος). Дельфийский оракул, рассказывает Павсаний, повелел коринфянам чтить одну сосну, поваленную фиадами на Кифероне, за Диониса; они сделали из дерева два идола бога. Подобным же образом Дионису поклонялись в других фетишах, как, например, в столпе (στῦλος) или в древесном стволе (αὐτοφνὲς πρέμνον).
Еще нагляднее, быть может, сказывается отожествление бога и жертвы в мифе, ипостазирующем Диониса в священных ликах страдания, поскольку дионисийский миф ясным зеркалом отображает предания древнейшего культа. Нимфы Нисиады, лелеющие Диониса и вдруг воспылавшие голодом к плоти божественного младенца, являют собой, наравне с Титанами, первообраз исступленных детоубийц мифа и исторической действительности. Если дионисийские женщины, на Парнасе, носившие колыбели-кошницы,¹¹ мистически становились самими нимфами-кормилицами бога и действительно «будили младенца в колыбели», то, разрывая козлят, принесенных в корзинах в горы, они же воистину растерзывали Вакха-отрока. Миф о Пенфее, очевидно, — отвлечение из оргиастической символики празднеств на Кифероне Пенфей же — ипостась Диониса: недаром он принимает символический облик быка или льва в видении менад и — герой рассудка, по Еврипиду, — погибает обезумевшим; само имя его выдает «страстотерпца»,¹² и существенное в его мифическом образе, конечно, — его страстнàя участь, закономерно обусловленная, согласно логике дионисийского мифотворчества, богоборством героя-ипостаси.
________________________
[10] Образ быка достался Дионису из египетской традиции в силу отождествления с Осирисом. Почитавшийся в Мемфисе божественный бык Апис, считался живым воплощением Осириса и зачастую отождествлялся с ним под именем Осирис-Апис.
[11] λῖκνον τό
1) плетеная колыбель HH.
2) веялка Arst.
3) культ. корзина с первинками плодов (преподносившаяся преимущ. Вакху-Дионису в дни его праздника) Soph., Plut., Anth.
[12] Πενθεύς (-έως) ὁ Пенфей (сын Эхиона и Агавы, внук Кадма, миф. царь Фив, растерзанный вакханками за непочтение к Вакху) Aesch., Eur.
πένθος (-εος) τό
1) печаль, скорбь, горе;
2) траур;
3) несчастье, бедствие Her., Pind.
Мифу о Пенфее аналогичен, также связанный с горой Кифероном, миф об Актеоне, сыне дионисийских родителей, Аристея и Автонои, сестры Агавы. Сходство простирается до того, что оба героя застигаются дионисийскими женщинами как соглядатаи их тайнодействий. Ибо, как Артемида — сопрестольница и подруга Диониса, так и ее женский сонм, будь то сонм нимф, горных охотниц или стан амазонок, во всем подобен Фиасу менад. Впрочем, другая, более древняя версия мифа вовсе не знает об участии Артемиды в растерзании Актеона и приписывает ему иную вину — не пред Артемидой, а пред Семелой, матерью Дионисовой. В одной коринфской сказке-повести тот же Актеон — уже красивый мальчик, растерзанный своими обожателями. Очевидно, что мотив растерзания — вот то постоянное, на чем держится, как на прочной основе, изменчивый миф. Так и Орфея, пророка и ипостась Диониса, должны были растерзать менады; в чем проявилась вина его богоборства против дионисийского начала, творцы мифа не знали, и не нашли пластически-удовлетворительного объяснения его мистической участи. Растерзание (σπαραγµός, διασπασµός) — постоянная печать и знамение дионисийского героя.
Уподобление Актеона Дионису подчеркивается у Нонна и его одеждой — пестрой шкурой оленя, — отчего собаки Артемиды, обманутые его видом, разрывают его, как лесного зверя. Вспомним, что менады — собаки в трагедии Еврипида о Пенфее. На знаменитой фреске, изображавшей подземный мир, Полигнот представил Актеона и его мать сидящими на вакхической небриде, с молодым оленем в руках. Наконец, Актеон — охотник, и охотник — Дионис, «сильный ловчий» (Ζαγρεύς). Не даром Нонн включил сказание о нем в свою дионисийскую поэму и сближает Артемиду, виновницу Актеоновой гибели, с Дионисом-охотником. Актеон — местный Дионис месяца Элафеболиона, месяца «оленьего боя» и великих Дионисий. Мы могли бы прибавить: и дионисийского маскарада, — ибо одной из существенных вакхических черт мифа об Актеоне является его переодевание — сам ли набросил он на себя оленью шкуру, или Артемида накинула ее на него, как повествовал Стесихор.
Цель, которую преследовали дионисийские женщины, разрывая, под маской жертвы, бога и пожирая плоть жертвенную, была алчба исполниться богом, сделаться «богоодержимыми» (ἔνθεοι). Арнобий говорит, обличая вакханок: «Чтобы показать, что вы полны божеством и могуществом его, вы разрываете окровавленными устами внутренности стенящих козлят». Понятие богоодержимости (κατοχή, ἐνθουσιασμός) было, впрочем, почти уже ослаблением первоначального представления, которое обнаруживается в наименовании всех участников оргии «вакхами» (βάκχοι). Подобным же образом, именуются оргиасты и σάβοι, по имени фракийского или фригийского Диониса-Сабазия. Этот факт свидетельствует об исконном отожествлении бога — уже не с жертвой только, но и со всеми священнодействующими и причастившимися жертве. Сделавшееся пословицей изречение: «много тирсоносцев, да мало вакхов» (πολοὶ μὲν ναρθηκοφόροι, παῦοι δέ τε βάκχοι. Plat.)¹³ — вполне выражает уже углубленную орфиками идею внутреннего слияния с божеством, даруемого благодатью мистического экстаза и недостижимого внешними обрядовыми средствами.
________________________
[13] Слово ναρθηκοφόροι («нартеконосцы») переведено как «тирсоносцы». Растение нартек часто использовалось в качестве жезла (тирса), поэтому слово «нартек» стало эквавалентно «тирсу».
ναρθηκοφόρος ὁ нартеконосец, носитель нартекового жезла (об участниках шествий в честь Вакха);
νάρθηξ (-ηκος) ὁ
1) бот. нартек, ферула (Ferula communis L., растение из семейства зонтичных, сердцевина которого медленно тлеет, т.е. долго хранит огонь) Hes., Aesch., etc.
2) культ. нартековый жезл (вакхантов) ex. (νάρθηκες ἱεροί Eur.)
θύρσος ὁ (в Anth. pl. тж. τὰ θύρσα) тирс, вакхический жезл, увитый плющем и виноградом и увенчанный сосновой шишкой; ex. ὄφεις περιελιττόμενοι τοῖς θύρσοις Plut. — тирс, увитый змеями.
Любопытно, что не только сами участники радений носят имя своего бога, но и священные предметы, ими при культе употребляемые. «Вакхом» называли дионисийский венок и дионисийскую ветвь. Приводя стих Ксенофана: «елок частые вакхи (т.е. ветви) обстали (окружили) домы», — схолиаст Аристофана поясняет, что именем Вакха звали не одного Диониса, но и совершающих оргии, и ветви, несомые мистами. «Со-вакхи» (σύµβακχοι) означало — «соучастники в оргиях». Состояние оргиастов, как соучастников страстей бога, именуется у Аппиана и Плутарха «вакхическими страстями».
Чтобы исчерпать идею мистического отожествления в культе Диониса, остается указать, наравне с представлениями тождества бога и жертвы и тождества бога с причастниками жертвы, — на отожествление бога и богоубийцы, или жертвы и жреца. Если Дионис — бык (ταῦρος) или козел (τράγος, µελάναιγις), то он же — пожиратель быков и козлоубийца (ταυροφάγος, βουφάγος, αἰγοβόλος, ἐρίφιος). Человек разорванный — Дионис, как жертва Титанов; но и сам Дионис — «разрыватель людей» (ἀνθρωπορραίστης). Жертва, разъятая и сырьем съеденная, — пожранный Титанами Дионис; но и сам он — «сырье снедающий» (ὠμάδιος, ὠμηστής). Вот почему бог-бык вместе бог-пастырь (βουκόλος, βοῦκος) и сопрягатель быков (βουζύγος). Дионис-козел — враг Диониса-винограда. Актеон — охотник и жертва охоты; он — Дионисов аспект; но Дионис сам, или Зевс, как муж Семелы, — пособник Артемидиной травли. Пенфей — враг бога, и его жертва; но он же его ипостась. Ликург — недруг Вакха и жертва менад; и он же только личина бога, ибо растерзан менадами. Орфей — пророк Диониса; но он же противится ему и идет принести жертву Аполлону или Солнцу; разрывая его, менады вновь превращают его в Диониса. Александр, сын Филиппа или, по тайной молве, Зевса и македонской менады, верит, что в нем воплотился Дионис (после него, не один сильный мира провозгласил себя за «нового Диониса»), — и, по одному свидетельству, совершает убийство друга у алтаря Дионисова, в вакхический праздник; если свидетельство и недостоверно, поучительно то, что оно дионисийски стилизовано. Жрец Диониса закалается пред алтарем бога за погибающую здесь же вакханку (т.е. также аспект Диониса), Каллирою. В орхомене жрец с ножом преследует дионисийских женщин. Дирка, полная бога, влачится по Киферону быком оргий — Дионисом; и если мы слышим о ее превращении с быком в источник Диркейский, — это оттого, что более древнее предание говорило о приятии нимфой Диониса в струи свои.
И чем глубже стали бы мы вникать в дионисийские мифы, тем более убеждались бы, что на всех их напечатлелась мистическая истина Дионисовой религии: истина раздвоения бога на жертву и палача, на богоборца и трагического победителя, на убиенного и убийцу. Эта мистика оргиастического безумия мало говорит рассудку, как всякая мистика; но ее символизм более, чем логика догмата, делает нам доступной загадочную сущность вечно самоотчуждающегося под чужой маской, вечно разорванного и разлученного с собой самим, вечно страдающего и упоенного страданием «многоликого» и «многоименного» Диониса, бога «страстей».
Раскрытая выше идея мистического отожествления сплавляла вакхическую общину в одно хоровое тело Диониса; она одна позволяет внутренне осмыслить сущность «оргии», этого совместного, не нуждавшегося в жреце, священнодействия «вакханок», — как формы культа исключительно дионисийской. Из сущности начала оргийного вытекает исконная схема оргии как священного действа. Ее объединенной множественности свойственна форма кругового строения участников, «киклический хор». Хороводная цепь была как бы магическим проводником экстаза. Хороводная песнь звалась дифирамбом. На круглой орхестре двигался «трагический хор» (χορός τραγικός), хоровод козлов,¹⁴ каким мы застаем его древле в Пелопоннесе. В середине хоровода был видим сам бог в его жертвенном лике, — обреченный участник действа, отчужденный от своего прежнего Я личиной и жертвенными «трагическими» котурнами, которые, как было указано, еще привязывались на Тенедосе к копытам тельца, заменившего прежнюю человеческую жертву. Круговой ток исступления разверзал пред глазами составлявших цепь ослепительные «эпифании», потрясающие явления и знамения божественного присутствия. Они достигали самозабвения богоодержимости, они становились «вакхами»: все личное с корнем исторгнуто было из их преображенного существа.
Принесение в жертву Дионису его самого, чрез посредство им же вдохновленных и исполненных, являющих собой его же аспект служителей бога страдающего, составляло мистическое содержание Дионисова культа. Если Титаны, разрывающие бога, чрез пожрание его им исполняются в такой степени, что вмещают в своей мятежной и хаотической душе иную, божественную душу, и люди, возникшие из их пепла, уже рассматриваются, как существа двойственной природы, составленной из противоборствующих начал — титанического, темного, и дионисийского, светлого, — то это преображение богоубийц чрез удвоение их природы — только последнее очищение; но и сама первородная вина, этот «древний грех беззаконных предков» (по слову орфиков), самое исступление их убийственного буйства невозможны без того жреческого безумия, которое отличает всех Дионисоубийц, будут ли то лица исторической действительности, как тот жрец эпохи Плутарха, не воздержавшийся в своем преследовании орхоменских женщин от умерщвления одной из них, или образы мифа, как детоубийственные Миниады и Пройтиды, дочери Ламоса, нападающие с ножами на чужеземцев и рабынь; — или нимфы Нисы, взалкавшие плоти бога, его пестуньи; — преследователь Вакха Ликург, или кормилец и убийца сына, Атамант; — Корес, поднимающий нож на Каллирою, или влюбленные менады, терзающие Орфея; — Агава, несущая на тирсе голову милого сына, или безумная Антиопа, привязывающая, с помощью сыновей своих, менаду Дирку к разъяренному быку.
Безумие Титанов прямо не обусловлено в мифе влиянием Диониса; но ведь уже самая близость и видение младенца, глядящегося в зеркале, должны были охватить их дионисийским исступлением: недаром они вымазали лица гипсом (черта, не объясненная прагматизмом мифа,¹⁵ но необходимая в связи вакхического жертвенного маскарада) и бросаются на ребенка, чтобы растерзать его в ярости, тогда как прагматизм мифа требует простого убиения. Но Дионис именно неумертвим, хотя должен быть вечно умерщвляем, — сын Зевса-змия и змеи-Персефоны, подземной владычицы над областью смерти.
________________________
[14] τράγος ὁ козел Hom., Pind., Her.
[15] Гипс по-гречески — τίτανος. Греки, падкие на обыгрывание схожих по звучанию слов, не могли пройти мимо такого созвучия:
τίτανος ἡ гипс Hes.; известь или мел Arst.; меловая пыль Luc.
Τιτᾶνος gen. к Τιτάν
Τιτάν (-ᾶνος), ион. Τῑτήν (-ῆνος) ὁ (эп. dat. pl. Τιτήνεσσιν) Титан
Τιτᾶνες и Τιτανίδες — дети Урана и Геи: сыновья — Океан, Кей, Крий, Гиперион, Иапет, Крон и дочери — Тея, Рея, Фемида, Мнемосина, Феба и Фетида; свергнув своего отца с престола, они завладели миром, пока сами не были побеждены и низвергнуты в Тартар Зевсом Hom., Hes., Trag.
Этимологию слова Τιτάν современная наука не объясняет, считая его заимствованным. По Павсанию, впервые слово Τιτάν ввел в оборот Гомер, у него заимствовал Ономакрит и представил титанов «виновниками страстей Диониса».
Конечно, если рассматривать гипсовую (τίτανος) маску как обязательный мистериальный атрибут, заимствованный из-вне (вероятно, Африка или Крит) вместе с культовым ритуалом, то персонажи, напавшие на Диониса, могли получить эпитет (связанный именно с маской): «гипсовые», «вымазанные гипсом».
Кроме версии с гипсовой маской, можно рассмотреть созвучие с еще одним порождением Геи (Земли) — великаном Тифоном (Τυφῶν), чье имя производят от τύφω («чадить», «коптить»). Эта версия хороша тем, что, кроме созвучия слов «Тифон» и «Титаны», здесь явно угадывается соответствие противостояний Осирис - Тифон и Дионис - Титаны. И в том и в другом случае, речь идет о попытке незаконно овладеть верховной властью.
Τυφῶν (-ῶνος), эп. Τῠφάων (-ονος) ὁ Тифон (гигант, сын Тартара и Геи, побежденный Зевсом Aesch., Plat., Plut.)
τυφῶν (-ῶνος) ὁ вихрь, ураган, смерч Arst., Plut.
τύφω (pf. pass. τέθυμμαι)
1) дымить; ex.: κηκὴς κἄτυφε (= καὴ ἔτυφε) κἀνέπτυε Soph. — жир (сжигаемых жертв) чадил и шипел;
2) выкуривать;
3) зажигать, воспламенять или сжигать на медленном огне.
Титаны были испепелены молниями Зевса, а из этой копоти появились люди, о чем свидетельствует Олимпиодор: «Мы часть Диониса, коль скоро мы состоим из копоти титанов, вкусивших его плоти» (К Федону. 61). Речь идет именно о «копоти», которая прекрасно коррелирует с τύφω («чадить», «дымить»).
Глубокомысленный миф как бы предполагает дионисийское тяготение к растерзанию искони потенциально присущим хаотическому и материальному началу, началу титанов-богоборцев. Оно же (прибавим вскользь) — по преимуществу начало женское. В Титанах древняя мать мстит своему мужу, Земля — Небу. И родились они всем в мать: от нее унаследовали свое неистовство. Другими словами, Титаны созданы мифом по образу Менад: мифотворческая мысль продолжила в сынах Земли идею женского мужеубийства. Дионис — жертва, поскольку он мужествен; губитель — поскольку божество его женственно. Титаны, губители в духе и одержании Дионисовом, — только сыны Матери.
Итак, древние прообразы двойственной души человека, сына Неба — Урана и Матери-Земли, — как и человеческая душа, по орфическому учению, — дочь Земли и звездного Неба, как и первый Дионис — сын Зевса и Персефоны, как и второй Дионис — сын Зевса и Семелы, одного из символов Земли (какова бы ни была этимология слова: σεµνή, «почтенная мать», или θεµέλη, «твердая земля»)¹⁶ — Титаны суть первый аспект дионисийского начала в непрерывной цепи явлений вечно превращающегося бога — и древней, как «вакхи», нежели древнейший Дионис мифа.
________________________
[16] Поскольку Семела сгорела в огненных лучах славы Зевса, то уместнее искать этимологию имени Семелы не в «твердой земле» (θεµέλη). «Твердая земля» ничего не объясняет. Но, сгоревшая Семела должна обуглиться и «почернеть», либо обратиться в прах и, опять же, стать «черной» (как земля). Т.е., если μέλας — значит «черная», то συμμέλας (συμ-μέλας) — «почерневшая», ставшая полностью «черной».
Σεμέλη, дор. Σεμέλα ἡ Семела (дочь Кадма и Гермионы, мать Вакха от Зевса) Pind., Her., Eur.
συμμελαίνομαι (συμ-μελαίνομαι) становиться совершенно черным, совершенно чернеть;
μέλας — черный; ex. μ. γαῖα Hom. черная земля.
συμ- — приставка обозначающая завершенность, полноту действия.
Как доказательство, что они убивают Диониса, уже как силы дионисийские, — поучительно отражение орфического мифа в сельском аттическом, об Икарии. Икарий, ипостась Диониса, распространяет по своей стране дар бога — лозу виноградную — и умерщвляется буйными селянами и пастухами гор, своего рода Титанами которые впали в яростное безумие, отведав неведомого им дотоле божественного напитка, т.е. исполнившись душою Дионисовой.
Дионисийское начало миф предполагает, как некоторое prius, и им обусловливается появление Диониса-лица. Дальнейшее исследование должно подтвердить этот вывод: Дионис, как религиозная идея оргиазма, как мистический принцип культового исступления и жертвы экстатической, — изначальнее, нежели Дионис как образ мифа.
_______________________________
|
Метки: Дионис Загрей Артемида Греция |
ДИОНИСОВЫ ПРОЯВЛЕНИЯ |
Вячеслав Иванов
ЭЛЛИНСКАЯ РЕЛИГИЯ СТРАДАЮЩЕГО БОГА. Глава V
Мифу не удается пластически и окончательно очертить Дионисов облик. Бог, вечно превращающийся и проходящий через все формы, — бог-бык, бог-козел, бог-лев, бог-барс, бог-олень, бог-змея, бог-рыба, бог-плющ, бог-лоза, бог-дерево, бог-столп, бог-юноша, бог-муж брадатый, бог-младенец, бог-дева, бог-огонь (πῦρ εὔιον), бог-пучина морская, бог-дождевая влага, бог-солнце, бог-ночь и смерть, бог в колыбели, бог в гробу или в осмоленном ковчеге, брошенном в море, в горных недрах или в узком колодце, в темном озере или в болоте, бог в бедре Зевсовом и в котле Титанов, бог на дельфинах, бог среди изнеженного сонма женщин и в женских одеждах, бог на корабле, или на колеснице, влекомой тиграми, или на двухколесной тележке, везомый двумя сатирами и двумя менадами, бог в объятиях Ариадны, бог в шлеме и всеоружии (на изображениях Гигантомахии), бог с лирой Аполлона, бог-ловчий, бог сокровенный и исчезнувший, бог-беглец, бог обмана и веселого прятанья, бог-загадка, бог-голос, бог-маска, — этот бог всегда только маска и всегда одна оргиастическая сущность.
Его многообразность и как бы текучесть не позволяет облечь его numen в постоянное и устойчивое формальное представление; миф прибегает к различению многих Дионисов, которые суть не только разные аспекты бога, как Μειλίχιος (личина из фигового дерева) и Βακχεύς (маска из ствола виноградной лозы) на Наксосе, — но и последовательные его богоявления или возрождения. Позднейшие мифологи уже насчитывают до пяти различных Дионисов, в точном определении которых, впрочем, расходятся. Религиозная мысль не может остановиться на данном звене в цепи обновления бога, предчувствует и отмечает его начало в генезисе вселенной, до появления первого Диониса, Загрея, сына Персефоны, и полагает принципиально возможным его новый приход, что логически обусловливает феномен обожествления людей под его именем (νέοι ∆ιόνυσοι, напр., Димитрий Фалерский, Антоний), феномен, в котором кроются, быть может, корни римского культа императоров, несомненно родившегося в греческом мире, по-видимому в Малой Азии, и только сменившего там культ греческих царей.
Очевидно, миф ищет выражения чему-то данному изначала; и вероятным становится, что не экстаз возник из того или иного представления о боге, но бог явился олицетворением экстаза и как бы разрешающим и искомым видением охваченного беспредметным исступлением сонма «вакхов». Можно предположить, что «вакхи», как община оргиастов и как самое обозначение исступленных (βακχάς) в слове, древнее Вакха (Βάκχος — «неистовый», «одержимый», «ликующий»), как лица мифологического.
Несомненно, что первобытный человек приписывает свои душевные переживания божественной силе, в него вселяющейся и его одержащей; в этом смысле бог дан одновременно с исступлением. Но от этого неопределенного обожествления оргийной силы еще далеко до мифологической концепции Диониса. Первоначально, божество дионисийской общины — secretum illud quod sola reverentia vident, как говорит Тацит о божестве германцев («именами богов означают они то тайное, что видят только глазами веры и почитания»), следовательно, быть может, нечто менее широкое, правда, по объему понятия, но однородное, например, с полинезийским божеством Мана, о котором Макс Мюллер говорит, со слов путешественников: «это сила или влияние сверхматериального порядка и, в некотором смысле, сила сверхъестественная; но она открывается в силе материальной и во всякого рода могуществе человеческом. Мана не сосредоточивается в одном предмете, но может быть проводима в каждый предмет. Обладают Маной духи, будь то души, отделенные от тела, или сверхъестественные существа. Вся религия этих дикарей в том, чтобы овладеть Маной».
Любопытно, что миф о Дионисе никак не может покрыть собой весь круг дионисийских явлений, — признак, что миф — только попытка дать им, уже внутренне определившимся, объяснение этиологическое. Например, дионисийское безумие не объяснено мифом. Часто прибегает он, для его оправдания, к мотиву гнева Геры. Наконец, при участии идей малоазийской религии Кибелы, возникает упоминаемое Платоном священное предание (λόγος), по которому сам Вакх является жертвой насланного Герою безумия (Вакх, приезжающий на осле в Додону, чтобы излечиться от безумия), отчего он и насылает в свою очередь на людей вакхические исступления и восторги. По Аполлодору (III, 5:1) и Юлиану, Дионис излечивается от безумия фригийской матерью — Кибелой.
Дионис умирает вечно и умирает насильственно. Если Титаны умертвили первого Диониса, то кто и как убил сына Семелы? Создается поздний миф об убиении Диониса Персеем; отчего, по общему закону отождествления убийцы и жертвы, Персей являет черты Диониса: он — жертва меланхолического безумия.
Дионисийский миф до такой степени недостаточен для объяснения культовых явлений дионисийского цикла, что у Плутарха, чтителя Диониса, мы встречаем (de def. orac. 14) следующее неожиданное заявление: «Торжества и жертвенные служения, в которых мы находим омофагии — пожирание жертвы сырьем — и растерзания, посты и плачи (постились орфики после омофагии, плачи нам известны из характеристики ночных триетерий), часто же хуления и исступления, и, как говорит Пиндар, кликания с сильным отбрасыванием головы (черта, повторяющаяся в радениях дервишей), — эти торжества и жертвоприношения совершаются, по моему мнению, не в честь кого-либо из богов, но с целью отвращения злых демонов. И все то, что в гимнах и мифах рассказывается о божественных похищениях, блужданиях, прятаниях, побегах и подневольных службах, — все это не страсти богов, а демонов». Греческое мифотворчество не смогло пластически преодолеть и властно очертить хаотической стихии оргиазма, отчасти чуждого эллинскому гению по своим историческим корням, отчасти коренившегося в темном демонизме народных масс и естественно тяготевшего к формам, аналогичным шаманству, нашей хлыстовщине и средневековому сатанизму.
Ища определить содержание религиозной идеи, которую мы можем полагать первоначальной в эллинском оргиазме, прежде всего должны мы исключить представление о божественности вина или опьянения чрез вино из первого и исходного круга дионисийских созерцаний. Конечно, не вино было обожествлено в Дионисе, как это может казаться вероятным хотя бы из мифа об Икарии. Гомер знает вино как усладу и как существенную часть жертвы богам и душам умерших, но бога вина не знает. Далее, элементы культа, отмеченные печатью явной первобытности, естественно признать в составе Дионисовой религии и наиболее древними; но среди этих элементов мы не находим опьянения вином, ни вообще опьянения физического; мы встречаем исключительно психические аффекты; питанием же исступленных являются сырое мясо и горячая кровь.
Правда, вино было рано оценено оргиастами, как могущественный стимул исступления. Фракийцы опьянялись несмешанным вином, брагой и наркотиками — курениями из конопляного семени. Их пророки прорицали «обильно вкусив вина», по словам Макробия. Загробное блаженство рисовалось их воображению, как состояние вечного опьянения. Изначала хранились в греческой памяти и обще-арийские представления о живой влаге, дающей бессмертие богам, — амброзии. Дионис, бог опьяненных душ, вобрал в себя и реализовал в вине, любезном оргийной общине, этот идеал растительной крови, текучей и огневой божественной души. Мы увидим, что он рано стал божеством растительности, цветения и обилия земного: лозу винограда возлюбил он выше всех произрастаний земли. Его страдающая и жертвоприносимая сущность была узнана и в винограде: в страстях растаптываемых гроздий, в мученичестве обрезаемых ножом виноградаря лоз увидели повторение страстей бога. Оргиазм изначальных радений нашел свое отражение в упоенном буйстве праздников виноградного сбора. Личина оргиастов пришлась к лицу виноградарям. Был обретен новый, более общий и простой, менее ужасный, менее опасный аспект глубокой и мрачной веры.
В этой связи понятной становится аномалия Дионисова имени. Эта аномалия в том, что оно, по-видимому, compositum («сложное, составное»), и при том, как кажется, образовано чрез сложение с именем Зевса, Дия (Διός gen. к Ζεύς). Его толковали: «сын Зевса», «влага Зевса», «гнев Зевса»; можно было бы прибавить к этим этимологиям столь же сомнительную: «сила, или воля, Зевса», видя в νῦσος корень numen («кивком головы выраженный знак, мановение, воля, повеление»), от νεύω («подавать знак, кивать»). Есть толкование: «двухкопытный»; отдельно стоят неубедительные словопроизводства из семитических языков и санскрита. Надпись на одной вазе ∆IΟΣ ФΩΣ (∆ιὸς φώς — «потомок Зевсов») над изображением Вакха, подкрепляет мнение о присутствии в имени бога элемента Зевсова имени. Итак, «многоименный» бог не имеет своего имени. Βάκχος («Вакх») — имя, характеризующее шум и бурю оргий, как и фракийское Σάβος, по-видимому, раньше означало вакхантов, нежели бога Вакха. Не имея соответственного имени, Дионис заимствует имя у отца, Дия. Дифференцированное из Зевсова имени имя Диониса обличает дифференциацию самого понятия из понятия Зевса.
В самом деле, оргийные культы исключительны. Близость оргиастов к своему богу препятствует им знать или признавать других богов. Оргиастические религии тяготеют к монотеизму. Бог, которому служит такая община, есть единственно доступный ей аспект божества, следовательно — бог в его высшем и наиболее общем виде — Зевс. Имя Диониса, столь абстрактное, возникло как отвлечение божественной силы оргий, для различения от других божеств и в силу необходимости стал к ним в определенное отношение. Первой же порой обожествления оргийной силы был период означения ее простым именем высшего бога.
Искусственность имени Диониса и как бы конкуренция с этим именем других имен выдают долгие поиски за словесным ознаменованием божества и, следовательно, за его определением догматическим и его пластическим образом. Критский бог двойного топора и человеческих жертв, предшествующий на Крите Дионису-Омадию, есть критский Зевс. Что этот Зевс — Дионис, явствует и из оргиастического характера его культа и мифического института куретов, и из того, что является в аспекте бога умирающего. Его оплакивали, как Диониса, считали богом Аидом (Ζεῦς ἤ Ἅιδης ὀνοµαζόµενος στέργεις, по Еврипиду), как и Диониса, про которого Гераклит говорит, что его оргии совершаются в честь Аида. Его культ был культ хтонический. Его гроб на Крите (гроб Зевса — нелепость с точки зрения общегреческой) был известен издревле, и результаты новейших раскопок согласны с древней локализацией культа этого умершего Зевса. Уже Одиссея, повествуя о собеседованиях Миноса критского с Зевсом, намекает на Идейскую пещеру, как жилище подземного бога. Природа этого критского служения и его ближайшее родство с дионисийством выступают в фигуре критянина Эпименида, пророка, не раз переживавшего в Идейской пещере долгие экстазы отделения души от тела, «мудрого в вещах божественных мудростью энтузиастической» (по выражению Плутарха), великого очистителя Афин от мести подземных божеств и религиозного реформатора очищенного им города. Мы уже встречали «бога двойного топора» в лице Диониса-человекорастерзателя на Тенедосе. Вот намеки на первоначальное почитание Диониса среди греков под неопределенным именем Зевса или, точнее, без всякого имени. Не даром ритор поздней поры, Аристид говорит: «Слышал я и другое предание, что сам Зевс — Дионис». И если мы заподозрим это заявление в религиозном синкретизме или философской теокразии (θεοκρασία, богосмешение), то формальный культ Зевса-Вакха (Ζεῦς Βάκχος) в Пергамоне, засвидетельствованный эпиграфически, показывает, по-видимому, нечто большее: здесь теокразия кажется нам имеющей свои корни в древнейшей религиозной идее и свои традиции во фригийском и пафлагонском культе Зевса, умирающего зимой и воскресающего весной, т.е. Диониса с именем Зевса.
Именно потому, что бог жертвенного страдания не имеет имени и лица, так легко, так логически возможно его облечение во многие лица, µορφαί ∆ιονύσου, лики, или формы, Дионисовы. Он бог-«герой» (ἥρως) вообще, как бог умирающий, и при том страстнόю смертью; и оттого издревле его божество ипостазируется во многих героях, единое под разноликими масками судьбы трагической. Мы видели ряд примеров такого ипостазирования; умножим этот ряд, не притязая исчерпать его, несколькими другими примерами.
Одно из древнейших свидетельств о трагических хорах есть свидетельство пятой книги Геродота о сикионцах. «Сикионцы, — говорит он, — чтили Адраста и славили его страсти (πάθεα) трагическими хорами, Диониса не чтя, а чтя Адраста. Клисфен же (тиран сикионский) возвратил (ἀπέδωκε) хоры Дионису, а остальной культ, принадлежавший дотоле Адрасту, отдал Меланиппу». Дело в том, что Адраст был герой аргивский, а Клисфен, из политических соображений, хотел отвратить свой народ от традиций, связывавших его с Аргосом. Не зная, что ему делать с внедрившимся в Сикионе почитанием героя Адраста, он спрашивает о том в Дельфах; но оракул защищает Адраста. Тогда тиран надумал добыть из Фив фиванского героя Меланиппа, вывез, с разрешения фивян, гроб его и построил ему в Сикионе храм. Так культ героя Меланиппа занял место культа Адрастова. Трагическим же хорам тиран указал прославлять не Адрастовы страсти, а Дионисовы. Замена, очевидно, была возможна только при условии внутреннего родства или аналогии между заменяемыми культами. Трагические хоры имели своей общей и принципиальной задачей служение Дионису; между тем они изображали судьбу Адраста. Не был ли Адраст только одним из местных обличий Диониса? Рассматривая дошедшие до нас мифологические данные об Адрасте, мы убеждаемся в присутствии в его облике черт самого Диониса, как бога хтонического. Адраст — дионисийский герой, или ипостась Диониса. Его отличительный атрибут в мифе — быстрый конь Арион (Ἀρείων), «божественный Арион, ведший свой род от богов», именно рожденный от Посейдона и Эриннии, следовательно — черный; черный цвет принадлежит дионисийской символике, и «черновласый» (κυανόθριξ, κυανοχαίτης) — эпитет Аида. Злой враг Адраста — Меланипп (Μελάνιππος); что значит «черноконный». Меланипп убивает его близких и чуть не умерщвляет его самого, но волшебный адский конь его уносит героя из сечи; чтό, однако, только обычное символическое означение героической смерти. Итак, герой черного коня умерщвляется своим же враждебным двойником, — черта, возможная только в знакомом нам круге дионисийских представлений о жреце и жертве.
Личность Адраста вообще отмечена чисто дионисийской трагикой: он вынужден предпринять поход против Фив, хотя наперед знает о роковом исходе войны. Впрочем, при состоянии наших источников, мы не располагаем всеми элементами первоначального трагического мифа.
Образ Аристея (Ἀρισταῖος), как ипостаси Дионисовой, не менее прозрачен. Он, прежде всего, представляет аспект Диониса как бога пчел и меда; ибо Вакх столь же бог меда, сколь вина. Однако Аристей — и виноградарь. В Сицилии он почитается в одном храме с Вакхом. Он преследует Эвридику, которая умирает в бегстве от укуса змеи: здесь Аристей-Дионис является и Дионисом-Аидом. Он сопричислен к Дионисову сонму (по другим, он — сын Диониса) и восхищен в гору Гемос (Αἷμος), во Фракии, где живет под землей, т.е. делается, как Дионис, претерпев смерть, божеством подземным («смертный не счастливый по страстям своим» (θνητὸς οὐ µάκαρ παθέεσσι), как означает его в одном стихе Григорий Назианзин).
Характеристичен благородный Ресос (Ῥῆσος), сын Музы, коварно убитый под Троей Одиссеем и Диомедом, являющимися «как волки», т.е. в личине волков, и поселенный также под землей, во фракийском (дионисийском) Пангее (Παγγαῖος), как жрец Дионисов. Характеристичен виноградарь и друг Диониса Οἰνεύς, сын Фития, сына Оресфея, — чья собака (символ лета)¹ рождает виноградную лозу. Характеристичен и сын его (или Ареса) и дионисийской Алфеи, Мелеагр (Μελέαγρος), жизнь которого связана с волшебной головней; мать сжигает головню, негодуя на сына за убийство ее братьев, и жизнь его сгорает одновременно: быть может, — ипостась Диониса, как факела ночных оргий, тризн по боге умершем. От Оресфея до Мелагра дионисийская филиация обличается самыми именами; подобной же филиацией связана с Дионисом менада Антиопа, дочь Никтея (Νυκτεύς, «ночной»),² которого другая дочь Никтимена (Νυκτιμένη, «ночная»)³ замужем за Полидором (Πολύδωρος, «многодарный» — имя божества хтонического). Характеристичен своими «страстями» (πάθη) Паламед (Παλαμήδης), засыпанный в колодце камнями, как его дубликат Антей (Ἀνταῖος, одно из имен Диониса), погибающий в колодце.
_________________________________
[1] Κύναστρον (Κύν-αστρον) τό Песья звезда, т.е. Сириус Arst.
[2] Νυκτέλιος 2 прославляемый в ночных празднествах (эпитет Вакха) Plut., Anth.
[3] Имя Νυκτιμένη несёт в себе не однозначное прочтение. Иванов читает это имя как «ночная» (дословно «ночью являющаяся», νυκτός + ἴμεν). Однако это имя можно разложить и иначе: νυκτι-μένος. В этом случае имя Νυκτιμένη несёт в себе не только определение «ночная» или даже «мрачная» (νύκτιος), но и «гневная» (μένος). Кроме того, имя Νυκτιμένη может являться искажением от νύκτιος μήνη — подобное словосочетание (νύκτερος μήνη) можно найти у Эсхила (ἃς οὔθ’ ἥλιος προσδέρκεται ἀκτῖσιν οὔθ’ ἡ νύκτερος μήνη ποτέ).
μήνη, дор. μήνα ἡ луна (ἡ νύκτερος μήνη. Aesch.; σέλας μήνης Hom.);
Μήνη ἡ Мена (богиня луны) HH., Luc.
Но не только во многих ликах героев является единый лик Диониса: он же просвечивает и в некоторых божествах, например, в Аресе, боге дионисийских фракийцев. Ряд общих черт связывает Диониса и Ареса. Было даже предание, что Арес — отец Диониса: указание на первоначальное культовое единство. Арес — «безумный» (µαινόµενος), как Дионис. Ему служат женщины (γυναικοθοίνας, как Дионис — γυναικοµανής). Он бог воинских кликов (Ἐνυάλιος), как Дионис. Трагедия «Семь против Фив», трагедия воинственного пафоса и упоения Аресом, признана древними — «полной Диониса». Дионис является в шлеме и всеоружии. Арес и Дионис — равно хтонические боги.
Итак, оргиастическая идея Дионисовой религии воплотилась в лице Диониса только после долгих поисков за божеством и именем, ей адекватным; и даже по возникновении Диониса-лица она как бы еще выходила за края найденного ею вместилища, переливаясь в культы иных, уже обособившихся божеств и создавая ряд дифференцированных подобий и повторений Диониса. Но если первоначальное в вакхической религии есть оргиастическое служение, открывшееся нам как служение жертвенное, и если жертва древнее бога, то что же обусловило самое жертву?
Существует мнение, по которому мотивом оргиазма дионисийского являются «растительные чары» (vegetationszauber), т.е. заклинание духов растительности, магическое пробуждение природных сил, путем обрядового воспроизведения их демонически-оргийной жизни, к их высшей деятельности, потребной человеку, зависящему от земного плодородия. Основаниями этому мнению служат, с одной стороны, аналогия сельского оргиазма у разных народов, с другой — связь Диониса с миром растительным. То и другое основание недостаточны. Религия Диониса не есть религия сельская. Напротив, в формах своего оргиазма (а мы должны искать ее корней именно в оргиазме), это — зимняя религия горных высей, снежных стремнин, бесплодных круч и диких ущелий, или же — в частном своем аспекте — религия влажных, болотистых, бесплодных низин. Приуроченная только впоследствии к культу винограда и плодовых деревьев, она никогда не имела прямого отношения к посеву злаков. Почитание дерева и растительной жизни вообще принадлежит, правда, к древнейшим ее элементам; но это по преимуществу культ горных зарослей, ели, сосны, дуба и, прежде всего, дикого плюща. Сельский оргиазм других народов целесообразен; его магия служит потребностям практическим. Трудно отыскать что-либо подобное в дионисийском оргиазме.
Вместе с тем, целая обширная область дионисийских явлений, не имея ничего общего с идеей растительности, ясно выдает свое отношение к идее загробного существования и к культу сил хтонических, или подземных. Эту-то сферу религиозных представлений и действий, наравне с внутренне-родственной ей сферой религиозных представлений и социологических явлений, связанных с идеей пола, и должно, по нашему мнению, считать первоначальной в дионисийском оргиазме. Отношение к растительности было только выведено из хтонической стороны Дионисова служения.
Свидетельства изобилуют. Прежде всего, это религия бога умирающего и погребенного, т.е. нисходящего в свое подземное царство. Умирает сам Дионис, и умирают, или нисходят в преисподнюю, его бесчисленные двойники, его отражения, ипостаси или личины. Так, по одному местному аттическому преданию, Дионис ищет дороги в Аид и просит некоего Просимна указать ему путь. Тот соглашается, с тем чтобы Дионис, вернувшись на землю, наградил его своей любовью. Но возвратившийся Дионис уже не застает Просимна в живых. В память о друге он воздвигает на его могиле фиговую ветвь, символ пола. Дионис вызывается наверх (ἀνακαλεῖται) в Лерне, причем черную овцу бросают в озеро, в жертву Пилаоху (Пυλάοχος) — Аиду-Вратнику. Дионисийские празднества соединены с поминками: Феодэсии, Ленэи, Анфестерии, Апатурии, дельфийские Героиды, Некисии в Аргосе.
Дионис зовется χθόνιος, µειλίχιος, νυκτέλιος, Ἅιδης, καθηγεµών, как божество преисподней, и величается рядом эвфемистических имен, свойственных богам подземного царства, общим гостеприимцам, равно распределяющим дары, богатым и обогащающим владыкам (χαριδότης, ὀλβιοδότης, ἱσοδαίτης). Он герой (ἥρως) и царь душ (ἄναξ), Ζαγρεύς — сильный охотник. Его символика — символика хтонических божеств, пурпуровый и черный цвета, гранатовое яблоко, ковчег. У фракийцев, где дионисийская религия являет свою древнейшую форму, это бог мертвых. Оттого геты, οἱ ἀθανατίζοντες, по выражению Геродота, верят в бессмертие, вечную жизнь со своим богом. «Кавзианцы плачут при рождении человека, и радуются об умерших, как обретших покой от многих зол». Фракийцам единогласно приписывается древними appetitus maximus mortis. Еще в одной поздней надписи, найденной близ Филиппов, умерший мальчик напутствуем молитвами родных на цветущие луга Дионисовы, где будут утешать его нимфы и сатиры божественного факелоносного сонма. В исторической Греции связь Диониса с культом умерших все более затемняется; но никогда не перестает он утверждаться как божество хтоническое.
Если же связь с культом душ первоначальна в Дионисовой религии, естественно предположить, что моменты оргиазма были приурочены прежде всего к тризне и поминкам, как и дионисийские празднества исторической Греции, так часто сопровождаемые поминками по умершим, суть или тризны по Дионису, или ликования о смерти, им преодоленной. Этот вывод, как покажет последующее изложение, освещает характернейшие черты оргийных служений: самый феномен оргиазма и его особенную обстановку; человеческие жертвы; растерзание жертв; роль маски в Дионисовом культе; наконец, отношение этого культа к религиозному началу пола.
___________________________
Рассмотрев мистику дионисийского служения, мы установили двойной принцип ее: отождествление бога с жертвой и с жертвователем. Оргиастическая община, соединяющаяся для жертвы, определилась как временная коллегия жрецов; но так как жрец и жертва равно представляют самоотчуждающееся и страдающее божество, эта община открылась нам в то же время и как коллективная жертва. Религия страдающего бога самоутверждается в этой исконной мистике отождествления. Растерзание бога-жертвы оргиастами, т.е. переход жертвы в лиц, ее растерзавших, и чрез то пресуществление жрецов в жертву — вот первичный символ этой религии разрыва и разлуки, разрешения всех уз и всех связей, трагических экстазов убийственного расторжения и тоски по утраченном единстве. Ее древнейшая стихия обнаруживается в первобытно-каннибалическом имени страдающего бога: «Растерзатель человеков». И та же стихия неизменной является нам в изречении позднего мистика, неоплатоника Прокла: «Разъятие или расторжение — начало дионисийское; гармоническое соединение — начало аполлонийское». Климент Александрийский (Str. 1, 13, p. 128) не простирает своего отрицания Дионисова культа на данную в этом культе мистическую идею расторжения: «И варварская и эллинская философия видит вечную истину в некоем расторжении, распятии, — не том, о котором говорит мифология Дионисова, но о котором учит теология вечно сущего Логоса».
Так, религиозная идея, составляющая предмет нашего изучения, осталась верной себе до конца. На ее примере мы можем проверить всю справедливость замечания Эрвина Роде о греческой религии: «Греческая религия, — говорит он, — как религия не установленная, а органически возникшая, не могла выразить в понятиях мыслей и чувств, определивших ее внутреннее содержание и внешний облик. Она была представлена одними священнодействиями. Нет в ней и священных книг, из коих можно было бы уразуметь глубочайший смысл и связь идей, обусловивших отношение эллина к божественным силам, созданным его верой. Домыслы и вымыслы поэтов сплетают свой хоровод вокруг пребывающего неизменным зерна народного верования, которое, несмотря на недостаток логического развития религиозных представлений, или, быть может, именно вследствие этого недостатка, с достойной удивления верностью сохраняется в своем исконном своеобразии» (предисловие к 1-му изд. «Психеи»).
Мы искали распознать первоначальные черты дионисийской религии, и она предстала нам в образе первобытного каннибализма. В том сложном составе, в каком мы застаем в историческую эпоху эту мистическую, т.е. на идее единения с божеством основанную религию, — первичными элементами мы признали элементы оргиазма мистического, растерзания человеческой жертвы. Мы видели, что жертва древнее бога и что бог только обожествление жертвы; что первоначально дионисийская община не знает ни имени своего бога, ни его истории или священной легенды, что бог общины не разнится именем от ее членов и не имеет определенного лица, что община различает в нем только черты бога растерзанного, бога страдающего: миф должен еще только открыть, изобрести страсти бога, данного изначала страдающим. Ища происхождения этого мистического оргиазма, мы отстранили прежнее выведение его из культа вина, как источника состояний экстатических, как отстранили и выведение его из энтузиастического сочувствия состояниям и страстям природы, мыслимой как существо живое, ее периодическому цветению и отцветанию, умиранию и возрождению. Мы отклонили, наконец, и гипотезу о связи дионисийской религии с весенними заклинаниями, облекающимися у многих народов в формы оргиастические: эта связь допустима только для немногих и при том не первоначальных частей сложного феномена, нами изучаемого; как религия Диониса, в своей исконной сущности, — не религия земледельческая и даже не пастушеская, а скорее охотничья, так и оргиазм ее лишен практических целей полевого магизма. В иной обширной области явлений дионисийского культа, в области, не имеющей прямого и изначального отношения к идее силы растительной, хотя и тесно связанной с ней исторически отношениями производными, усмотрели мы коренное достояние Дионисовой религии: это — область культовых явлений почитания мертвых и общения с силами царства подземного. Тогда оргиастическое служение и жертва дионисийская раскрылись нам, прежде всего, как обряд и жертва первобытных тризн.
Не подлежит сомнению этнографический факт, что тризны составляют моменты наивысшего подъема и напряжения в психической жизни первобытных племен и как бы горную зону, где всего чаще и сильнее разражаются ее глухо назревающие грозы: тризна оргийна искони и по существу. Ограничимся одним, но весьма характерным по степени приближения к аналогическим явлениям Дионисовой религии примером Батлока, племя, живущее в северной части Трансвааля, ежегодно справляет праздник в честь умерших. Кудесники, спрятавшись, извлекают из флейт странные звуки, которые народ считает за голоса духов. «Модимо здесь», говорит толпа. Подобным же образом, в ночные часы фракийских радений, по уже выше рассмотренному свидетельству Эсхила в трагедии «Эдоны», скрытые «мимы ужаса» воспроизводили, среди завывания флейт, ревы невидимого быка, которые, являясь признаком приближения бога оргий, способствовали возбуждению всеобщего экстаза (Роде, «Психея»).
Излишне настаивать также и на том общеизвестном факте, что древнейшие тризны не обходятся без человеческих жертв. На костре Патрокла, по Гомеру, принесены в жертву тени героя двенадцать троянских юношей. О жертвенной смерти доблестных жен на похоронах мужей говорят мифы об Эвадне, Лаодамии, Панфии. Поликсена приносится в жертву на могиле Ахилла. Тарквиний гордый умерщвляет, по одному преданию, в жертву душам предков, — детей.
Греки разделяли общенародное верование, что души умерших вселяются в живых, при условии вкушения от покинутой ими плоти и ее крови: для подтверждения этого мнения философ Порфирий ссылается на древнего Ферекида. Аполлоний Тианский исцеляет одержимого отрока, изгоняя из него дух одного павшего в битве воина, им владевший.
В греческом мифе растерзания, многожды засвидетельствовано, отношение к культу душ. Персефона, богиня теней, растерзывает Минфу. Дух Ахилла, по Филострату, разрывает на части отданную ему рабыню. Левкона (белая), жена охотника Кианиппа (Κυάνιππος, «черноконный»), т.е. Загрея, разорвана собаками мужа. Несомненно, что представление об адских псах, раздирающих труп, собаках Гекаты, имеет связь с отдачей трупа в добычу псам или волкам (обычай, например, тунгусов); что у Гомера мы встречаем, естественно, только в применении к вражеским трупам. Но не случайно, что собаки Артемиды разрывают Актеона, Диониса месяца Елафеболиона и вместе Диониса хтонического, «дикого охотника» (на что указывает его закованный идол, описанный Павсанием в девятой книге и подобный идолу Диониса в оковах): эти собаки, конечно, только девы, спутницы богини, хтонической охотницы, преследующие Актеона так, как «собаки»-менады разрывают там же, на Кифероне, тайно приблизившегося к ним дионисийского героя Пенфея. Эриннии, образ которых сложился из черт знакомых нам по типу охваченной убийственным исступлением менады, — безумные, потрясающие факелами, змеями увенчанные девы-Эриннии зовутся собаками у Эсхила и у других писателей, гонятся за преступником, как ловчие псы за дичью, и нюхают воздух, привлекаемые запахом пролитой свежей крови. Древняя эпидемическая болезнь воображаемого превращения в собак, несомненно, развилась в Греции в связи с оргиастическим обычаем преследования жертвы, обреченной подземным силам, женщинами, изображавшими охотничьи своры. Вампиризм и вурдалачество углубляются своими корнями в эту темную эпоху оргийных тризн и утверждаются, как определенно характеризованное фольклором явление, в пору разложения древнейшего оргиазма.
В 24-й песни Илиады, Гекуба говорит своему супругу, Приаму, отговаривая его идти с дарами в стан Ахилла для выкупа тела Гектора:
Чтобы понять до конца слова Гекубы, нужно уловить в ее каннибальском вожделении (которое в Илиаде, конечно, не простая риторическая фигура) противопоставление с собаками, раздирающими тело ее сына. Быть может, в первоначальной, догомеровской версии Гекуба говорила еще определеннее: «Теперь Гектора разрывают псы, а Ахилл на то любуется; о, если бы мне быть собакой (т.е. изображать собаку) на тризне Гектора, где Ахилл был бы обреченной на растерзание жертвой!». Чуткий миф подтверждает такое толкование. Гекуба является в поэме Ликофрона в образе собаки. Геката обращает ее (Гекубу) в одну из своих спутниц, устрашающих ночным лаем людей, не отмолившихся жертвами от гнева подземной богини. Собаки на рельефных изображениях саркофагов принадлежат, очевидно, той же сфере религиозных представлений. Керы, первоначально души умерших, впоследствии божества смерти, зовутся собаками Аида. По Гесиоду, Керы пьют человеческую кровь.
Оргиастическая женщина тризн, женщина-собака или волчица могил, должна была предстать народному воображению и в образе вампира, как героиня гоголевской повести «Вий», где литературная обработка, к сожалению, затемнила много ярких черт исконного мифа. Овидий в «Фастах» передает римские заклинания против strigae (колдуний), высасывающих кровь детей во время их сна: молодое животное заменяло детскую жертву, сердце отдавалось за сердце, внутренность за внутренность, душа за душу. Как растерзание жертвы, ее съедение, выпитие ее крови, так и детское жертвоприношение связываются с оргиазмом тризн. Это явствует, по крайней мере, из римских параллелей. Последнему Тарквинию народная ненависть приписывала детские жертвоприношения Ларам. По Макробию, куклы привешивались к дверям римских домов, как замена детской жертвы царице Манов. Оргиастическое вдохновение и дар пророческий, свойственный менадам, иногда являются связанными с выпитием крови. Так, жрица Геры Акрейской, еще в эпоху Павсания, пророчествовала, напившись крови; и мы вправе отнести это свидетельство и к менадам, потому что тип пророчествующей и боговдохновенной женщины вообще возник в лоне Дионисовой религии.
___________________________
Но если к культу умерших сводятся столь исконные черты этой религии, как жертвенное человекорастерзание, пожирание сырой плоти и кровопийство, — как должно судить об элементах древопочитания, также, несомненно, составляющих древнейшую черту дионисийского оргиазма?
Дионис — бог древесный (δενδρίτης, δενδρεύς), в древе обитающий (ἔνδενδρος), лесной (ὑλήεις), бог густых зарослей (δασύλλιος), обильной растительности (φλεών, φλοῖος). «Древá радостный Дионис да возращает», — молится Пиндар. «Вакх» — молодой побег ели на праздниках Дионисий. Нам знакомы по вазам изображения древесного ствола, облаченного в одежды бога. Иногда маска Диониса прикреплена к верхней части ствола, так что ветви кажутся выросшими из его головы; алтарь с дарами стоит перед деревом. Фиванский Дионис Περικιόνιος — деревянный столп, увитый плющом. Вакх воспитывается в раю Нисы, или в «саду Дионисовом» (∆ιονύσου κῆπος). Тем не менее, выводить весь дионисийский феномен из первобытного древопочитания оказывается невозможным. Культ деревьев имеет вполне самостоятельное значение в греческой религии и обнимает гораздо более широкий круг, нежели почитание Диониса. Так, в поэмах Гомера он является без всякого отношения к этому богу. По Гесиоду, нимфы гор и лесов (Ореады, Дриады, Гамадриады) рождены Матерью-Геей вместе с горами и лесами: связь их с Гермесом, Аполлоном или Паном теснее их связи с Дионисом. С другой стороны, религия Диониса неизмеримо шире по своему объему, чем древопочитание дионисийское. Очевидно, два религиозных круга, имея разные центры, покрывают друг друга только в некоторых своих частях.
Дионисийская религия сочеталась очень рано с культом древесных душ. Это взаимоотношение становится ясным, если мы будем держаться гипотезы о возникновении вакхического оргиазма из оргиазма тризн. Дерево, один из первоначальных фетишей, рассматривается как обиталище душ человеческих, отделенных от тела. Дионис также признается как бы мертвым или погребенным в дереве. Если на Наксосе две маски Диониса сделаны из дерева, одна — из смоковницы, другая — из лозы виноградной, то оба фетиша имеют значение как бы мощей бога; уже то обстоятельство, что это были маски, указывает на их назначение представлять собой бога умершего. Менады опрокидывают горную сосну, и коринфяне, следуя повелению дельфийского оракула чтить эту сосну, «как Диониса», вырезают из нее два идола бога: эта умершая, говоря языком древних, сосна есть бог умерший. Отсюда и культ ковчегов со скрытыми в них изображениями Диониса. Что ковчег, гроб бога — дерево, видно из мифа об Осирисе, где этот, отождествленный с Вакхом, бог является поистине с чертами Вакха: ибо древопочитание вообще чуждо религиям Египта. Дерево ἐρείκη (Erica arborea) принимает в себя гроб с телом Осириса; Исида срубает дерево и обретает тело; богиня завещает чтить ковчег-дерево, и оно служит предметом культа в Библосе, еще в эпоху Плутарха.
Дионис — дерево постольку, поскольку мифические лица, превращенные в деревья, — действительно деревья. По представлению первоначальному, это души умерших, вселившиеся в деревья, как Дафна — лавр, юноша Кипарис — кипарисное дерево, Аттис — сосна, Филемон и Бавкида — два сплетшиеся ветвями дуба. По Феокриту, близ Спарты был платан, заключавший в себе душу Елены: «Чти меня, — говорит дерево, — я дерево Елены». Как вместилища душ (кому не памятен эпизод деревьев-людей в «Аду» Данта?), деревья способны и высвобождать наружу скрытую в них жизнь, порождать людей: таковы Дриопы, чада дубравы — дубровники, фригийские корибанты «древорожденные» (δενδροφυεῖς), Мелиады — дети ясеней.⁴ Вот представление, недрившееся в исконном греческом миропонимании и вполне совпавшее с основным представлением о боге возрождающемся, боге Палингенезии. Оттого в Прасиях (Πράσιοι) бог-младенец выходит из ковчега, прибитого к берегу морскими волнами.
_________________________________
[4] Μελίαι αἱ Мелии (нимфы, родившиеся из земли, окропленной кровью Урана) Hes.
μελία, ион. μελίη ἡ (дор. gen. pl. μελιᾶν) ясень Hom. etc.
μελιηδής, дор. μελιαδής 2 сладкий как мед (λωτοῖο καρπός, οἶνος Hom.).
μέλας черный, темно-красный, мрачный, жестокий.
Филлида, царица фракийская, думая, что покинута своим возлюбленным, Демофооном (Δημοφόων), сыном Тесеевым, удавилась: черта мифа, параллельная мифу об Эригоне; связь же предания требует подразумеваемого дополнения, что Филлида повесилась на миндальном дереве и что оно сделалось обиталищем ее души. Верный Демофоон возвращается, узнает возлюбленную в дереве, страстно обнимает его, — и дерево вдруг покрывается листвой. Наблюдение над цветением миндального дерева поэтически сочеталось здесь с символикой листвы, знаменующей оживление, возрождение. Вспомним внезапное осыпание листвы древесной в «Русалке» Пушкина. Из могил вырастают деревья, хранящие в себе душу погребенных. Так, стираксовые деревья выросли у могилы Радаманта. Стиракс — мистическое дерево, дающее благовоние, воскуряемое подземным божествам. Любопытно, что, по замечанию Плутарха, тут же, неподалеку от могилы, протекает ручей Киссуса (Κισσοῦσα), или «плющевой», где нимфы купали младенца-Диониса.
Души умерших вселяются в дерево: Дионис, как абстракция душ или героев тризны, вселяется в дерево, как они. Но это вселение — только следствие, выведенное из культа душ. По одному преданию, Дионис обещает любимой им деве венок, как он дает волшебной красоты венец и Ариадне. Дева умирает, как умирает и Ариадна, и превращается в гранатовое дерево. Венец, полученный ею в дар, есть венцеподобный плод гранатовый. Вот сочетание представлений Дионисова венка — силы растительной — и смерти. Гранатовое яблоко — символ обручения со смертью, как в мифе о Персефоне. Если Дионис выращивает гранатовое яблоко, ясно, что корни его в царстве теней, что он, именно как хтоническое божество, является богом расцветающей природы.
Хлорида (Χλῶρις) — «цветущая» — и Θυία, «Дионисом одержимая», — две женские фигуры,⁵ неразлучные в Аиде, по знаменитой в древности картине Полигнота, изображавшей подземное царство. Если ветвь в руках дионисийского тайнослужителя — «вакх», и венок на голове его — «вакх», — это потому, что «вакх» — сам он, как вместитель души жертвенно умершего (Вакху подобно) существа, первоначально — как живой двойник героя тризны.
_________________________________
[5] Χλῶρις (-ιδος) ἡ Хлорида (дочь орхоменского царя, жена Нелея, мать Нестора) Hom.
Θυῖα, ион. Θυίη ἡ Тия (дочь Кефиса, мать Дельфа [от Аполлона], миф. учредительница празднеств в честь Диониса) Her.
По другому преданию о гранатовом яблоке, этот плод вырос из пролитой и землей впитанной крови Диониса-Загрея; оттого Аид любит это дерево и растит его в своих подземных садах. Здесь связь растительности и кровавой тризны еще нагляднее. Из жертвенной крови Менекея вырастает гранатовое дерево. На ковчеге Кипсела, знаменитой работе VII века, описанной Павсанием, Дионис изображен почивающим в пещере, осененной виноградом, яблонями и гранатовыми деревьями: уже это сопоставление гранатового дерева с другими плодовыми и виноградом заключает в себе выведение растительной силы Диониса из его хтонической природы, как бога преисподней, что еще более выставляется на вид символом пещеры и помещением изображения на ковчеге-гробнице.
Если Дионис, как царь душ, — царь растительности, то, как царь душ, он и владыка плодов земных, обилия плодовитого. Он один из хтонических ὀλβιοδόται, πλουτοδόται, подземных деятелей богатства и избытка, как он и именуется наравне с Аидом и другими силами царства теней. Вместе с Деметрой и Персефоной, владычицами земли и сени смертной, он чтится, по Павсанию, как «плодоносец» (καρποφόρος). Хтонический Дионис фракийских Бизальтов возвещает знамением великого зарева предстоящее изобилие земных произрастаний, «благое лето» (εὐετηρία).
Итак, смертный аспект бога страдающего первее аспекта растительного. Из смерти — жизнь. Семя не даст плода, если не умрет. Озольский родоначальник — Оресфей (Ὀρεσθεύς) имел собаку, которая родила древесный пень; он похоронил мертвое дерево, из могилы выросла виноградная лоза Диониса. Из смерти — жизнь: таково исконное представление религии бога цветущего, бога изобильного.
Древопочитание естественно и непосредственно сочеталось с культом Диониса, как бога душ; но могила и тризна представляют в этом соединении религиозно-историческое prius. Два дальнейших феномена органически связаны с служением тризн: половой оргиазм с одной стороны, личина и лицедейство — с другой.
_______________________________
ЭЛЛИНСКАЯ РЕЛИГИЯ СТРАДАЮЩЕГО БОГА. Глава V
Мифу не удается пластически и окончательно очертить Дионисов облик. Бог, вечно превращающийся и проходящий через все формы, — бог-бык, бог-козел, бог-лев, бог-барс, бог-олень, бог-змея, бог-рыба, бог-плющ, бог-лоза, бог-дерево, бог-столп, бог-юноша, бог-муж брадатый, бог-младенец, бог-дева, бог-огонь (πῦρ εὔιον), бог-пучина морская, бог-дождевая влага, бог-солнце, бог-ночь и смерть, бог в колыбели, бог в гробу или в осмоленном ковчеге, брошенном в море, в горных недрах или в узком колодце, в темном озере или в болоте, бог в бедре Зевсовом и в котле Титанов, бог на дельфинах, бог среди изнеженного сонма женщин и в женских одеждах, бог на корабле, или на колеснице, влекомой тиграми, или на двухколесной тележке, везомый двумя сатирами и двумя менадами, бог в объятиях Ариадны, бог в шлеме и всеоружии (на изображениях Гигантомахии), бог с лирой Аполлона, бог-ловчий, бог сокровенный и исчезнувший, бог-беглец, бог обмана и веселого прятанья, бог-загадка, бог-голос, бог-маска, — этот бог всегда только маска и всегда одна оргиастическая сущность.
Его многообразность и как бы текучесть не позволяет облечь его numen в постоянное и устойчивое формальное представление; миф прибегает к различению многих Дионисов, которые суть не только разные аспекты бога, как Μειλίχιος (личина из фигового дерева) и Βακχεύς (маска из ствола виноградной лозы) на Наксосе, — но и последовательные его богоявления или возрождения. Позднейшие мифологи уже насчитывают до пяти различных Дионисов, в точном определении которых, впрочем, расходятся. Религиозная мысль не может остановиться на данном звене в цепи обновления бога, предчувствует и отмечает его начало в генезисе вселенной, до появления первого Диониса, Загрея, сына Персефоны, и полагает принципиально возможным его новый приход, что логически обусловливает феномен обожествления людей под его именем (νέοι ∆ιόνυσοι, напр., Димитрий Фалерский, Антоний), феномен, в котором кроются, быть может, корни римского культа императоров, несомненно родившегося в греческом мире, по-видимому в Малой Азии, и только сменившего там культ греческих царей.
Очевидно, миф ищет выражения чему-то данному изначала; и вероятным становится, что не экстаз возник из того или иного представления о боге, но бог явился олицетворением экстаза и как бы разрешающим и искомым видением охваченного беспредметным исступлением сонма «вакхов». Можно предположить, что «вакхи», как община оргиастов и как самое обозначение исступленных (βακχάς) в слове, древнее Вакха (Βάκχος — «неистовый», «одержимый», «ликующий»), как лица мифологического.
Несомненно, что первобытный человек приписывает свои душевные переживания божественной силе, в него вселяющейся и его одержащей; в этом смысле бог дан одновременно с исступлением. Но от этого неопределенного обожествления оргийной силы еще далеко до мифологической концепции Диониса. Первоначально, божество дионисийской общины — secretum illud quod sola reverentia vident, как говорит Тацит о божестве германцев («именами богов означают они то тайное, что видят только глазами веры и почитания»), следовательно, быть может, нечто менее широкое, правда, по объему понятия, но однородное, например, с полинезийским божеством Мана, о котором Макс Мюллер говорит, со слов путешественников: «это сила или влияние сверхматериального порядка и, в некотором смысле, сила сверхъестественная; но она открывается в силе материальной и во всякого рода могуществе человеческом. Мана не сосредоточивается в одном предмете, но может быть проводима в каждый предмет. Обладают Маной духи, будь то души, отделенные от тела, или сверхъестественные существа. Вся религия этих дикарей в том, чтобы овладеть Маной».
Любопытно, что миф о Дионисе никак не может покрыть собой весь круг дионисийских явлений, — признак, что миф — только попытка дать им, уже внутренне определившимся, объяснение этиологическое. Например, дионисийское безумие не объяснено мифом. Часто прибегает он, для его оправдания, к мотиву гнева Геры. Наконец, при участии идей малоазийской религии Кибелы, возникает упоминаемое Платоном священное предание (λόγος), по которому сам Вакх является жертвой насланного Герою безумия (Вакх, приезжающий на осле в Додону, чтобы излечиться от безумия), отчего он и насылает в свою очередь на людей вакхические исступления и восторги. По Аполлодору (III, 5:1) и Юлиану, Дионис излечивается от безумия фригийской матерью — Кибелой.
Дионис умирает вечно и умирает насильственно. Если Титаны умертвили первого Диониса, то кто и как убил сына Семелы? Создается поздний миф об убиении Диониса Персеем; отчего, по общему закону отождествления убийцы и жертвы, Персей являет черты Диониса: он — жертва меланхолического безумия.
Дионисийский миф до такой степени недостаточен для объяснения культовых явлений дионисийского цикла, что у Плутарха, чтителя Диониса, мы встречаем (de def. orac. 14) следующее неожиданное заявление: «Торжества и жертвенные служения, в которых мы находим омофагии — пожирание жертвы сырьем — и растерзания, посты и плачи (постились орфики после омофагии, плачи нам известны из характеристики ночных триетерий), часто же хуления и исступления, и, как говорит Пиндар, кликания с сильным отбрасыванием головы (черта, повторяющаяся в радениях дервишей), — эти торжества и жертвоприношения совершаются, по моему мнению, не в честь кого-либо из богов, но с целью отвращения злых демонов. И все то, что в гимнах и мифах рассказывается о божественных похищениях, блужданиях, прятаниях, побегах и подневольных службах, — все это не страсти богов, а демонов». Греческое мифотворчество не смогло пластически преодолеть и властно очертить хаотической стихии оргиазма, отчасти чуждого эллинскому гению по своим историческим корням, отчасти коренившегося в темном демонизме народных масс и естественно тяготевшего к формам, аналогичным шаманству, нашей хлыстовщине и средневековому сатанизму.
Ища определить содержание религиозной идеи, которую мы можем полагать первоначальной в эллинском оргиазме, прежде всего должны мы исключить представление о божественности вина или опьянения чрез вино из первого и исходного круга дионисийских созерцаний. Конечно, не вино было обожествлено в Дионисе, как это может казаться вероятным хотя бы из мифа об Икарии. Гомер знает вино как усладу и как существенную часть жертвы богам и душам умерших, но бога вина не знает. Далее, элементы культа, отмеченные печатью явной первобытности, естественно признать в составе Дионисовой религии и наиболее древними; но среди этих элементов мы не находим опьянения вином, ни вообще опьянения физического; мы встречаем исключительно психические аффекты; питанием же исступленных являются сырое мясо и горячая кровь.
Правда, вино было рано оценено оргиастами, как могущественный стимул исступления. Фракийцы опьянялись несмешанным вином, брагой и наркотиками — курениями из конопляного семени. Их пророки прорицали «обильно вкусив вина», по словам Макробия. Загробное блаженство рисовалось их воображению, как состояние вечного опьянения. Изначала хранились в греческой памяти и обще-арийские представления о живой влаге, дающей бессмертие богам, — амброзии. Дионис, бог опьяненных душ, вобрал в себя и реализовал в вине, любезном оргийной общине, этот идеал растительной крови, текучей и огневой божественной души. Мы увидим, что он рано стал божеством растительности, цветения и обилия земного: лозу винограда возлюбил он выше всех произрастаний земли. Его страдающая и жертвоприносимая сущность была узнана и в винограде: в страстях растаптываемых гроздий, в мученичестве обрезаемых ножом виноградаря лоз увидели повторение страстей бога. Оргиазм изначальных радений нашел свое отражение в упоенном буйстве праздников виноградного сбора. Личина оргиастов пришлась к лицу виноградарям. Был обретен новый, более общий и простой, менее ужасный, менее опасный аспект глубокой и мрачной веры.
В этой связи понятной становится аномалия Дионисова имени. Эта аномалия в том, что оно, по-видимому, compositum («сложное, составное»), и при том, как кажется, образовано чрез сложение с именем Зевса, Дия (Διός gen. к Ζεύς). Его толковали: «сын Зевса», «влага Зевса», «гнев Зевса»; можно было бы прибавить к этим этимологиям столь же сомнительную: «сила, или воля, Зевса», видя в νῦσος корень numen («кивком головы выраженный знак, мановение, воля, повеление»), от νεύω («подавать знак, кивать»). Есть толкование: «двухкопытный»; отдельно стоят неубедительные словопроизводства из семитических языков и санскрита. Надпись на одной вазе ∆IΟΣ ФΩΣ (∆ιὸς φώς — «потомок Зевсов») над изображением Вакха, подкрепляет мнение о присутствии в имени бога элемента Зевсова имени. Итак, «многоименный» бог не имеет своего имени. Βάκχος («Вакх») — имя, характеризующее шум и бурю оргий, как и фракийское Σάβος, по-видимому, раньше означало вакхантов, нежели бога Вакха. Не имея соответственного имени, Дионис заимствует имя у отца, Дия. Дифференцированное из Зевсова имени имя Диониса обличает дифференциацию самого понятия из понятия Зевса.
В самом деле, оргийные культы исключительны. Близость оргиастов к своему богу препятствует им знать или признавать других богов. Оргиастические религии тяготеют к монотеизму. Бог, которому служит такая община, есть единственно доступный ей аспект божества, следовательно — бог в его высшем и наиболее общем виде — Зевс. Имя Диониса, столь абстрактное, возникло как отвлечение божественной силы оргий, для различения от других божеств и в силу необходимости стал к ним в определенное отношение. Первой же порой обожествления оргийной силы был период означения ее простым именем высшего бога.
Искусственность имени Диониса и как бы конкуренция с этим именем других имен выдают долгие поиски за словесным ознаменованием божества и, следовательно, за его определением догматическим и его пластическим образом. Критский бог двойного топора и человеческих жертв, предшествующий на Крите Дионису-Омадию, есть критский Зевс. Что этот Зевс — Дионис, явствует и из оргиастического характера его культа и мифического института куретов, и из того, что является в аспекте бога умирающего. Его оплакивали, как Диониса, считали богом Аидом (Ζεῦς ἤ Ἅιδης ὀνοµαζόµενος στέργεις, по Еврипиду), как и Диониса, про которого Гераклит говорит, что его оргии совершаются в честь Аида. Его культ был культ хтонический. Его гроб на Крите (гроб Зевса — нелепость с точки зрения общегреческой) был известен издревле, и результаты новейших раскопок согласны с древней локализацией культа этого умершего Зевса. Уже Одиссея, повествуя о собеседованиях Миноса критского с Зевсом, намекает на Идейскую пещеру, как жилище подземного бога. Природа этого критского служения и его ближайшее родство с дионисийством выступают в фигуре критянина Эпименида, пророка, не раз переживавшего в Идейской пещере долгие экстазы отделения души от тела, «мудрого в вещах божественных мудростью энтузиастической» (по выражению Плутарха), великого очистителя Афин от мести подземных божеств и религиозного реформатора очищенного им города. Мы уже встречали «бога двойного топора» в лице Диониса-человекорастерзателя на Тенедосе. Вот намеки на первоначальное почитание Диониса среди греков под неопределенным именем Зевса или, точнее, без всякого имени. Не даром ритор поздней поры, Аристид говорит: «Слышал я и другое предание, что сам Зевс — Дионис». И если мы заподозрим это заявление в религиозном синкретизме или философской теокразии (θεοκρασία, богосмешение), то формальный культ Зевса-Вакха (Ζεῦς Βάκχος) в Пергамоне, засвидетельствованный эпиграфически, показывает, по-видимому, нечто большее: здесь теокразия кажется нам имеющей свои корни в древнейшей религиозной идее и свои традиции во фригийском и пафлагонском культе Зевса, умирающего зимой и воскресающего весной, т.е. Диониса с именем Зевса.
Именно потому, что бог жертвенного страдания не имеет имени и лица, так легко, так логически возможно его облечение во многие лица, µορφαί ∆ιονύσου, лики, или формы, Дионисовы. Он бог-«герой» (ἥρως) вообще, как бог умирающий, и при том страстнόю смертью; и оттого издревле его божество ипостазируется во многих героях, единое под разноликими масками судьбы трагической. Мы видели ряд примеров такого ипостазирования; умножим этот ряд, не притязая исчерпать его, несколькими другими примерами.
Одно из древнейших свидетельств о трагических хорах есть свидетельство пятой книги Геродота о сикионцах. «Сикионцы, — говорит он, — чтили Адраста и славили его страсти (πάθεα) трагическими хорами, Диониса не чтя, а чтя Адраста. Клисфен же (тиран сикионский) возвратил (ἀπέδωκε) хоры Дионису, а остальной культ, принадлежавший дотоле Адрасту, отдал Меланиппу». Дело в том, что Адраст был герой аргивский, а Клисфен, из политических соображений, хотел отвратить свой народ от традиций, связывавших его с Аргосом. Не зная, что ему делать с внедрившимся в Сикионе почитанием героя Адраста, он спрашивает о том в Дельфах; но оракул защищает Адраста. Тогда тиран надумал добыть из Фив фиванского героя Меланиппа, вывез, с разрешения фивян, гроб его и построил ему в Сикионе храм. Так культ героя Меланиппа занял место культа Адрастова. Трагическим же хорам тиран указал прославлять не Адрастовы страсти, а Дионисовы. Замена, очевидно, была возможна только при условии внутреннего родства или аналогии между заменяемыми культами. Трагические хоры имели своей общей и принципиальной задачей служение Дионису; между тем они изображали судьбу Адраста. Не был ли Адраст только одним из местных обличий Диониса? Рассматривая дошедшие до нас мифологические данные об Адрасте, мы убеждаемся в присутствии в его облике черт самого Диониса, как бога хтонического. Адраст — дионисийский герой, или ипостась Диониса. Его отличительный атрибут в мифе — быстрый конь Арион (Ἀρείων), «божественный Арион, ведший свой род от богов», именно рожденный от Посейдона и Эриннии, следовательно — черный; черный цвет принадлежит дионисийской символике, и «черновласый» (κυανόθριξ, κυανοχαίτης) — эпитет Аида. Злой враг Адраста — Меланипп (Μελάνιππος); что значит «черноконный». Меланипп убивает его близких и чуть не умерщвляет его самого, но волшебный адский конь его уносит героя из сечи; чтό, однако, только обычное символическое означение героической смерти. Итак, герой черного коня умерщвляется своим же враждебным двойником, — черта, возможная только в знакомом нам круге дионисийских представлений о жреце и жертве.
Личность Адраста вообще отмечена чисто дионисийской трагикой: он вынужден предпринять поход против Фив, хотя наперед знает о роковом исходе войны. Впрочем, при состоянии наших источников, мы не располагаем всеми элементами первоначального трагического мифа.
Образ Аристея (Ἀρισταῖος), как ипостаси Дионисовой, не менее прозрачен. Он, прежде всего, представляет аспект Диониса как бога пчел и меда; ибо Вакх столь же бог меда, сколь вина. Однако Аристей — и виноградарь. В Сицилии он почитается в одном храме с Вакхом. Он преследует Эвридику, которая умирает в бегстве от укуса змеи: здесь Аристей-Дионис является и Дионисом-Аидом. Он сопричислен к Дионисову сонму (по другим, он — сын Диониса) и восхищен в гору Гемос (Αἷμος), во Фракии, где живет под землей, т.е. делается, как Дионис, претерпев смерть, божеством подземным («смертный не счастливый по страстям своим» (θνητὸς οὐ µάκαρ παθέεσσι), как означает его в одном стихе Григорий Назианзин).
Характеристичен благородный Ресос (Ῥῆσος), сын Музы, коварно убитый под Троей Одиссеем и Диомедом, являющимися «как волки», т.е. в личине волков, и поселенный также под землей, во фракийском (дионисийском) Пангее (Παγγαῖος), как жрец Дионисов. Характеристичен виноградарь и друг Диониса Οἰνεύς, сын Фития, сына Оресфея, — чья собака (символ лета)¹ рождает виноградную лозу. Характеристичен и сын его (или Ареса) и дионисийской Алфеи, Мелеагр (Μελέαγρος), жизнь которого связана с волшебной головней; мать сжигает головню, негодуя на сына за убийство ее братьев, и жизнь его сгорает одновременно: быть может, — ипостась Диониса, как факела ночных оргий, тризн по боге умершем. От Оресфея до Мелагра дионисийская филиация обличается самыми именами; подобной же филиацией связана с Дионисом менада Антиопа, дочь Никтея (Νυκτεύς, «ночной»),² которого другая дочь Никтимена (Νυκτιμένη, «ночная»)³ замужем за Полидором (Πολύδωρος, «многодарный» — имя божества хтонического). Характеристичен своими «страстями» (πάθη) Паламед (Παλαμήδης), засыпанный в колодце камнями, как его дубликат Антей (Ἀνταῖος, одно из имен Диониса), погибающий в колодце.
_________________________________
[1] Κύναστρον (Κύν-αστρον) τό Песья звезда, т.е. Сириус Arst.
[2] Νυκτέλιος 2 прославляемый в ночных празднествах (эпитет Вакха) Plut., Anth.
[3] Имя Νυκτιμένη несёт в себе не однозначное прочтение. Иванов читает это имя как «ночная» (дословно «ночью являющаяся», νυκτός + ἴμεν). Однако это имя можно разложить и иначе: νυκτι-μένος. В этом случае имя Νυκτιμένη несёт в себе не только определение «ночная» или даже «мрачная» (νύκτιος), но и «гневная» (μένος). Кроме того, имя Νυκτιμένη может являться искажением от νύκτιος μήνη — подобное словосочетание (νύκτερος μήνη) можно найти у Эсхила (ἃς οὔθ’ ἥλιος προσδέρκεται ἀκτῖσιν οὔθ’ ἡ νύκτερος μήνη ποτέ).
μήνη, дор. μήνα ἡ луна (ἡ νύκτερος μήνη. Aesch.; σέλας μήνης Hom.);
Μήνη ἡ Мена (богиня луны) HH., Luc.
Но не только во многих ликах героев является единый лик Диониса: он же просвечивает и в некоторых божествах, например, в Аресе, боге дионисийских фракийцев. Ряд общих черт связывает Диониса и Ареса. Было даже предание, что Арес — отец Диониса: указание на первоначальное культовое единство. Арес — «безумный» (µαινόµενος), как Дионис. Ему служат женщины (γυναικοθοίνας, как Дионис — γυναικοµανής). Он бог воинских кликов (Ἐνυάλιος), как Дионис. Трагедия «Семь против Фив», трагедия воинственного пафоса и упоения Аресом, признана древними — «полной Диониса». Дионис является в шлеме и всеоружии. Арес и Дионис — равно хтонические боги.
Итак, оргиастическая идея Дионисовой религии воплотилась в лице Диониса только после долгих поисков за божеством и именем, ей адекватным; и даже по возникновении Диониса-лица она как бы еще выходила за края найденного ею вместилища, переливаясь в культы иных, уже обособившихся божеств и создавая ряд дифференцированных подобий и повторений Диониса. Но если первоначальное в вакхической религии есть оргиастическое служение, открывшееся нам как служение жертвенное, и если жертва древнее бога, то что же обусловило самое жертву?
Существует мнение, по которому мотивом оргиазма дионисийского являются «растительные чары» (vegetationszauber), т.е. заклинание духов растительности, магическое пробуждение природных сил, путем обрядового воспроизведения их демонически-оргийной жизни, к их высшей деятельности, потребной человеку, зависящему от земного плодородия. Основаниями этому мнению служат, с одной стороны, аналогия сельского оргиазма у разных народов, с другой — связь Диониса с миром растительным. То и другое основание недостаточны. Религия Диониса не есть религия сельская. Напротив, в формах своего оргиазма (а мы должны искать ее корней именно в оргиазме), это — зимняя религия горных высей, снежных стремнин, бесплодных круч и диких ущелий, или же — в частном своем аспекте — религия влажных, болотистых, бесплодных низин. Приуроченная только впоследствии к культу винограда и плодовых деревьев, она никогда не имела прямого отношения к посеву злаков. Почитание дерева и растительной жизни вообще принадлежит, правда, к древнейшим ее элементам; но это по преимуществу культ горных зарослей, ели, сосны, дуба и, прежде всего, дикого плюща. Сельский оргиазм других народов целесообразен; его магия служит потребностям практическим. Трудно отыскать что-либо подобное в дионисийском оргиазме.
Вместе с тем, целая обширная область дионисийских явлений, не имея ничего общего с идеей растительности, ясно выдает свое отношение к идее загробного существования и к культу сил хтонических, или подземных. Эту-то сферу религиозных представлений и действий, наравне с внутренне-родственной ей сферой религиозных представлений и социологических явлений, связанных с идеей пола, и должно, по нашему мнению, считать первоначальной в дионисийском оргиазме. Отношение к растительности было только выведено из хтонической стороны Дионисова служения.
Свидетельства изобилуют. Прежде всего, это религия бога умирающего и погребенного, т.е. нисходящего в свое подземное царство. Умирает сам Дионис, и умирают, или нисходят в преисподнюю, его бесчисленные двойники, его отражения, ипостаси или личины. Так, по одному местному аттическому преданию, Дионис ищет дороги в Аид и просит некоего Просимна указать ему путь. Тот соглашается, с тем чтобы Дионис, вернувшись на землю, наградил его своей любовью. Но возвратившийся Дионис уже не застает Просимна в живых. В память о друге он воздвигает на его могиле фиговую ветвь, символ пола. Дионис вызывается наверх (ἀνακαλεῖται) в Лерне, причем черную овцу бросают в озеро, в жертву Пилаоху (Пυλάοχος) — Аиду-Вратнику. Дионисийские празднества соединены с поминками: Феодэсии, Ленэи, Анфестерии, Апатурии, дельфийские Героиды, Некисии в Аргосе.
Дионис зовется χθόνιος, µειλίχιος, νυκτέλιος, Ἅιδης, καθηγεµών, как божество преисподней, и величается рядом эвфемистических имен, свойственных богам подземного царства, общим гостеприимцам, равно распределяющим дары, богатым и обогащающим владыкам (χαριδότης, ὀλβιοδότης, ἱσοδαίτης). Он герой (ἥρως) и царь душ (ἄναξ), Ζαγρεύς — сильный охотник. Его символика — символика хтонических божеств, пурпуровый и черный цвета, гранатовое яблоко, ковчег. У фракийцев, где дионисийская религия являет свою древнейшую форму, это бог мертвых. Оттого геты, οἱ ἀθανατίζοντες, по выражению Геродота, верят в бессмертие, вечную жизнь со своим богом. «Кавзианцы плачут при рождении человека, и радуются об умерших, как обретших покой от многих зол». Фракийцам единогласно приписывается древними appetitus maximus mortis. Еще в одной поздней надписи, найденной близ Филиппов, умерший мальчик напутствуем молитвами родных на цветущие луга Дионисовы, где будут утешать его нимфы и сатиры божественного факелоносного сонма. В исторической Греции связь Диониса с культом умерших все более затемняется; но никогда не перестает он утверждаться как божество хтоническое.
Если же связь с культом душ первоначальна в Дионисовой религии, естественно предположить, что моменты оргиазма были приурочены прежде всего к тризне и поминкам, как и дионисийские празднества исторической Греции, так часто сопровождаемые поминками по умершим, суть или тризны по Дионису, или ликования о смерти, им преодоленной. Этот вывод, как покажет последующее изложение, освещает характернейшие черты оргийных служений: самый феномен оргиазма и его особенную обстановку; человеческие жертвы; растерзание жертв; роль маски в Дионисовом культе; наконец, отношение этого культа к религиозному началу пола.
Рассмотрев мистику дионисийского служения, мы установили двойной принцип ее: отождествление бога с жертвой и с жертвователем. Оргиастическая община, соединяющаяся для жертвы, определилась как временная коллегия жрецов; но так как жрец и жертва равно представляют самоотчуждающееся и страдающее божество, эта община открылась нам в то же время и как коллективная жертва. Религия страдающего бога самоутверждается в этой исконной мистике отождествления. Растерзание бога-жертвы оргиастами, т.е. переход жертвы в лиц, ее растерзавших, и чрез то пресуществление жрецов в жертву — вот первичный символ этой религии разрыва и разлуки, разрешения всех уз и всех связей, трагических экстазов убийственного расторжения и тоски по утраченном единстве. Ее древнейшая стихия обнаруживается в первобытно-каннибалическом имени страдающего бога: «Растерзатель человеков». И та же стихия неизменной является нам в изречении позднего мистика, неоплатоника Прокла: «Разъятие или расторжение — начало дионисийское; гармоническое соединение — начало аполлонийское». Климент Александрийский (Str. 1, 13, p. 128) не простирает своего отрицания Дионисова культа на данную в этом культе мистическую идею расторжения: «И варварская и эллинская философия видит вечную истину в некоем расторжении, распятии, — не том, о котором говорит мифология Дионисова, но о котором учит теология вечно сущего Логоса».
Так, религиозная идея, составляющая предмет нашего изучения, осталась верной себе до конца. На ее примере мы можем проверить всю справедливость замечания Эрвина Роде о греческой религии: «Греческая религия, — говорит он, — как религия не установленная, а органически возникшая, не могла выразить в понятиях мыслей и чувств, определивших ее внутреннее содержание и внешний облик. Она была представлена одними священнодействиями. Нет в ней и священных книг, из коих можно было бы уразуметь глубочайший смысл и связь идей, обусловивших отношение эллина к божественным силам, созданным его верой. Домыслы и вымыслы поэтов сплетают свой хоровод вокруг пребывающего неизменным зерна народного верования, которое, несмотря на недостаток логического развития религиозных представлений, или, быть может, именно вследствие этого недостатка, с достойной удивления верностью сохраняется в своем исконном своеобразии» (предисловие к 1-му изд. «Психеи»).
Мы искали распознать первоначальные черты дионисийской религии, и она предстала нам в образе первобытного каннибализма. В том сложном составе, в каком мы застаем в историческую эпоху эту мистическую, т.е. на идее единения с божеством основанную религию, — первичными элементами мы признали элементы оргиазма мистического, растерзания человеческой жертвы. Мы видели, что жертва древнее бога и что бог только обожествление жертвы; что первоначально дионисийская община не знает ни имени своего бога, ни его истории или священной легенды, что бог общины не разнится именем от ее членов и не имеет определенного лица, что община различает в нем только черты бога растерзанного, бога страдающего: миф должен еще только открыть, изобрести страсти бога, данного изначала страдающим. Ища происхождения этого мистического оргиазма, мы отстранили прежнее выведение его из культа вина, как источника состояний экстатических, как отстранили и выведение его из энтузиастического сочувствия состояниям и страстям природы, мыслимой как существо живое, ее периодическому цветению и отцветанию, умиранию и возрождению. Мы отклонили, наконец, и гипотезу о связи дионисийской религии с весенними заклинаниями, облекающимися у многих народов в формы оргиастические: эта связь допустима только для немногих и при том не первоначальных частей сложного феномена, нами изучаемого; как религия Диониса, в своей исконной сущности, — не религия земледельческая и даже не пастушеская, а скорее охотничья, так и оргиазм ее лишен практических целей полевого магизма. В иной обширной области явлений дионисийского культа, в области, не имеющей прямого и изначального отношения к идее силы растительной, хотя и тесно связанной с ней исторически отношениями производными, усмотрели мы коренное достояние Дионисовой религии: это — область культовых явлений почитания мертвых и общения с силами царства подземного. Тогда оргиастическое служение и жертва дионисийская раскрылись нам, прежде всего, как обряд и жертва первобытных тризн.
Не подлежит сомнению этнографический факт, что тризны составляют моменты наивысшего подъема и напряжения в психической жизни первобытных племен и как бы горную зону, где всего чаще и сильнее разражаются ее глухо назревающие грозы: тризна оргийна искони и по существу. Ограничимся одним, но весьма характерным по степени приближения к аналогическим явлениям Дионисовой религии примером Батлока, племя, живущее в северной части Трансвааля, ежегодно справляет праздник в честь умерших. Кудесники, спрятавшись, извлекают из флейт странные звуки, которые народ считает за голоса духов. «Модимо здесь», говорит толпа. Подобным же образом, в ночные часы фракийских радений, по уже выше рассмотренному свидетельству Эсхила в трагедии «Эдоны», скрытые «мимы ужаса» воспроизводили, среди завывания флейт, ревы невидимого быка, которые, являясь признаком приближения бога оргий, способствовали возбуждению всеобщего экстаза (Роде, «Психея»).
Излишне настаивать также и на том общеизвестном факте, что древнейшие тризны не обходятся без человеческих жертв. На костре Патрокла, по Гомеру, принесены в жертву тени героя двенадцать троянских юношей. О жертвенной смерти доблестных жен на похоронах мужей говорят мифы об Эвадне, Лаодамии, Панфии. Поликсена приносится в жертву на могиле Ахилла. Тарквиний гордый умерщвляет, по одному преданию, в жертву душам предков, — детей.
Греки разделяли общенародное верование, что души умерших вселяются в живых, при условии вкушения от покинутой ими плоти и ее крови: для подтверждения этого мнения философ Порфирий ссылается на древнего Ферекида. Аполлоний Тианский исцеляет одержимого отрока, изгоняя из него дух одного павшего в битве воина, им владевший.
В греческом мифе растерзания, многожды засвидетельствовано, отношение к культу душ. Персефона, богиня теней, растерзывает Минфу. Дух Ахилла, по Филострату, разрывает на части отданную ему рабыню. Левкона (белая), жена охотника Кианиппа (Κυάνιππος, «черноконный»), т.е. Загрея, разорвана собаками мужа. Несомненно, что представление об адских псах, раздирающих труп, собаках Гекаты, имеет связь с отдачей трупа в добычу псам или волкам (обычай, например, тунгусов); что у Гомера мы встречаем, естественно, только в применении к вражеским трупам. Но не случайно, что собаки Артемиды разрывают Актеона, Диониса месяца Елафеболиона и вместе Диониса хтонического, «дикого охотника» (на что указывает его закованный идол, описанный Павсанием в девятой книге и подобный идолу Диониса в оковах): эти собаки, конечно, только девы, спутницы богини, хтонической охотницы, преследующие Актеона так, как «собаки»-менады разрывают там же, на Кифероне, тайно приблизившегося к ним дионисийского героя Пенфея. Эриннии, образ которых сложился из черт знакомых нам по типу охваченной убийственным исступлением менады, — безумные, потрясающие факелами, змеями увенчанные девы-Эриннии зовутся собаками у Эсхила и у других писателей, гонятся за преступником, как ловчие псы за дичью, и нюхают воздух, привлекаемые запахом пролитой свежей крови. Древняя эпидемическая болезнь воображаемого превращения в собак, несомненно, развилась в Греции в связи с оргиастическим обычаем преследования жертвы, обреченной подземным силам, женщинами, изображавшими охотничьи своры. Вампиризм и вурдалачество углубляются своими корнями в эту темную эпоху оргийных тризн и утверждаются, как определенно характеризованное фольклором явление, в пору разложения древнейшего оргиазма.
В 24-й песни Илиады, Гекуба говорит своему супругу, Приаму, отговаривая его идти с дарами в стан Ахилла для выкупа тела Гектора:
«Такую, знать, долю суровая Парка
Выпряла нашему сыну, как я несчастливца родила, —
Долю, чтоб псов он насытил, вдали от родных пред очами
Лютого мужа, которого сердце, когда бы могла я,
Впившись в грудь, пожирать, отомстила б за то, что он сделал
С сыном моим»…
Чтобы понять до конца слова Гекубы, нужно уловить в ее каннибальском вожделении (которое в Илиаде, конечно, не простая риторическая фигура) противопоставление с собаками, раздирающими тело ее сына. Быть может, в первоначальной, догомеровской версии Гекуба говорила еще определеннее: «Теперь Гектора разрывают псы, а Ахилл на то любуется; о, если бы мне быть собакой (т.е. изображать собаку) на тризне Гектора, где Ахилл был бы обреченной на растерзание жертвой!». Чуткий миф подтверждает такое толкование. Гекуба является в поэме Ликофрона в образе собаки. Геката обращает ее (Гекубу) в одну из своих спутниц, устрашающих ночным лаем людей, не отмолившихся жертвами от гнева подземной богини. Собаки на рельефных изображениях саркофагов принадлежат, очевидно, той же сфере религиозных представлений. Керы, первоначально души умерших, впоследствии божества смерти, зовутся собаками Аида. По Гесиоду, Керы пьют человеческую кровь.
Оргиастическая женщина тризн, женщина-собака или волчица могил, должна была предстать народному воображению и в образе вампира, как героиня гоголевской повести «Вий», где литературная обработка, к сожалению, затемнила много ярких черт исконного мифа. Овидий в «Фастах» передает римские заклинания против strigae (колдуний), высасывающих кровь детей во время их сна: молодое животное заменяло детскую жертву, сердце отдавалось за сердце, внутренность за внутренность, душа за душу. Как растерзание жертвы, ее съедение, выпитие ее крови, так и детское жертвоприношение связываются с оргиазмом тризн. Это явствует, по крайней мере, из римских параллелей. Последнему Тарквинию народная ненависть приписывала детские жертвоприношения Ларам. По Макробию, куклы привешивались к дверям римских домов, как замена детской жертвы царице Манов. Оргиастическое вдохновение и дар пророческий, свойственный менадам, иногда являются связанными с выпитием крови. Так, жрица Геры Акрейской, еще в эпоху Павсания, пророчествовала, напившись крови; и мы вправе отнести это свидетельство и к менадам, потому что тип пророчествующей и боговдохновенной женщины вообще возник в лоне Дионисовой религии.
Но если к культу умерших сводятся столь исконные черты этой религии, как жертвенное человекорастерзание, пожирание сырой плоти и кровопийство, — как должно судить об элементах древопочитания, также, несомненно, составляющих древнейшую черту дионисийского оргиазма?
Дионис — бог древесный (δενδρίτης, δενδρεύς), в древе обитающий (ἔνδενδρος), лесной (ὑλήεις), бог густых зарослей (δασύλλιος), обильной растительности (φλεών, φλοῖος). «Древá радостный Дионис да возращает», — молится Пиндар. «Вакх» — молодой побег ели на праздниках Дионисий. Нам знакомы по вазам изображения древесного ствола, облаченного в одежды бога. Иногда маска Диониса прикреплена к верхней части ствола, так что ветви кажутся выросшими из его головы; алтарь с дарами стоит перед деревом. Фиванский Дионис Περικιόνιος — деревянный столп, увитый плющом. Вакх воспитывается в раю Нисы, или в «саду Дионисовом» (∆ιονύσου κῆπος). Тем не менее, выводить весь дионисийский феномен из первобытного древопочитания оказывается невозможным. Культ деревьев имеет вполне самостоятельное значение в греческой религии и обнимает гораздо более широкий круг, нежели почитание Диониса. Так, в поэмах Гомера он является без всякого отношения к этому богу. По Гесиоду, нимфы гор и лесов (Ореады, Дриады, Гамадриады) рождены Матерью-Геей вместе с горами и лесами: связь их с Гермесом, Аполлоном или Паном теснее их связи с Дионисом. С другой стороны, религия Диониса неизмеримо шире по своему объему, чем древопочитание дионисийское. Очевидно, два религиозных круга, имея разные центры, покрывают друг друга только в некоторых своих частях.
Дионисийская религия сочеталась очень рано с культом древесных душ. Это взаимоотношение становится ясным, если мы будем держаться гипотезы о возникновении вакхического оргиазма из оргиазма тризн. Дерево, один из первоначальных фетишей, рассматривается как обиталище душ человеческих, отделенных от тела. Дионис также признается как бы мертвым или погребенным в дереве. Если на Наксосе две маски Диониса сделаны из дерева, одна — из смоковницы, другая — из лозы виноградной, то оба фетиша имеют значение как бы мощей бога; уже то обстоятельство, что это были маски, указывает на их назначение представлять собой бога умершего. Менады опрокидывают горную сосну, и коринфяне, следуя повелению дельфийского оракула чтить эту сосну, «как Диониса», вырезают из нее два идола бога: эта умершая, говоря языком древних, сосна есть бог умерший. Отсюда и культ ковчегов со скрытыми в них изображениями Диониса. Что ковчег, гроб бога — дерево, видно из мифа об Осирисе, где этот, отождествленный с Вакхом, бог является поистине с чертами Вакха: ибо древопочитание вообще чуждо религиям Египта. Дерево ἐρείκη (Erica arborea) принимает в себя гроб с телом Осириса; Исида срубает дерево и обретает тело; богиня завещает чтить ковчег-дерево, и оно служит предметом культа в Библосе, еще в эпоху Плутарха.
Дионис — дерево постольку, поскольку мифические лица, превращенные в деревья, — действительно деревья. По представлению первоначальному, это души умерших, вселившиеся в деревья, как Дафна — лавр, юноша Кипарис — кипарисное дерево, Аттис — сосна, Филемон и Бавкида — два сплетшиеся ветвями дуба. По Феокриту, близ Спарты был платан, заключавший в себе душу Елены: «Чти меня, — говорит дерево, — я дерево Елены». Как вместилища душ (кому не памятен эпизод деревьев-людей в «Аду» Данта?), деревья способны и высвобождать наружу скрытую в них жизнь, порождать людей: таковы Дриопы, чада дубравы — дубровники, фригийские корибанты «древорожденные» (δενδροφυεῖς), Мелиады — дети ясеней.⁴ Вот представление, недрившееся в исконном греческом миропонимании и вполне совпавшее с основным представлением о боге возрождающемся, боге Палингенезии. Оттого в Прасиях (Πράσιοι) бог-младенец выходит из ковчега, прибитого к берегу морскими волнами.
_________________________________
[4] Μελίαι αἱ Мелии (нимфы, родившиеся из земли, окропленной кровью Урана) Hes.
μελία, ион. μελίη ἡ (дор. gen. pl. μελιᾶν) ясень Hom. etc.
μελιηδής, дор. μελιαδής 2 сладкий как мед (λωτοῖο καρπός, οἶνος Hom.).
μέλας черный, темно-красный, мрачный, жестокий.
Филлида, царица фракийская, думая, что покинута своим возлюбленным, Демофооном (Δημοφόων), сыном Тесеевым, удавилась: черта мифа, параллельная мифу об Эригоне; связь же предания требует подразумеваемого дополнения, что Филлида повесилась на миндальном дереве и что оно сделалось обиталищем ее души. Верный Демофоон возвращается, узнает возлюбленную в дереве, страстно обнимает его, — и дерево вдруг покрывается листвой. Наблюдение над цветением миндального дерева поэтически сочеталось здесь с символикой листвы, знаменующей оживление, возрождение. Вспомним внезапное осыпание листвы древесной в «Русалке» Пушкина. Из могил вырастают деревья, хранящие в себе душу погребенных. Так, стираксовые деревья выросли у могилы Радаманта. Стиракс — мистическое дерево, дающее благовоние, воскуряемое подземным божествам. Любопытно, что, по замечанию Плутарха, тут же, неподалеку от могилы, протекает ручей Киссуса (Κισσοῦσα), или «плющевой», где нимфы купали младенца-Диониса.
Души умерших вселяются в дерево: Дионис, как абстракция душ или героев тризны, вселяется в дерево, как они. Но это вселение — только следствие, выведенное из культа душ. По одному преданию, Дионис обещает любимой им деве венок, как он дает волшебной красоты венец и Ариадне. Дева умирает, как умирает и Ариадна, и превращается в гранатовое дерево. Венец, полученный ею в дар, есть венцеподобный плод гранатовый. Вот сочетание представлений Дионисова венка — силы растительной — и смерти. Гранатовое яблоко — символ обручения со смертью, как в мифе о Персефоне. Если Дионис выращивает гранатовое яблоко, ясно, что корни его в царстве теней, что он, именно как хтоническое божество, является богом расцветающей природы.

«Лист стремится в область неба,
Корень ищет тьмы ночной;
Лист живет лучами Феба,
Корень Стиксовой струей».
Хлорида (Χλῶρις) — «цветущая» — и Θυία, «Дионисом одержимая», — две женские фигуры,⁵ неразлучные в Аиде, по знаменитой в древности картине Полигнота, изображавшей подземное царство. Если ветвь в руках дионисийского тайнослужителя — «вакх», и венок на голове его — «вакх», — это потому, что «вакх» — сам он, как вместитель души жертвенно умершего (Вакху подобно) существа, первоначально — как живой двойник героя тризны.
_________________________________
[5] Χλῶρις (-ιδος) ἡ Хлорида (дочь орхоменского царя, жена Нелея, мать Нестора) Hom.
Θυῖα, ион. Θυίη ἡ Тия (дочь Кефиса, мать Дельфа [от Аполлона], миф. учредительница празднеств в честь Диониса) Her.
По другому преданию о гранатовом яблоке, этот плод вырос из пролитой и землей впитанной крови Диониса-Загрея; оттого Аид любит это дерево и растит его в своих подземных садах. Здесь связь растительности и кровавой тризны еще нагляднее. Из жертвенной крови Менекея вырастает гранатовое дерево. На ковчеге Кипсела, знаменитой работе VII века, описанной Павсанием, Дионис изображен почивающим в пещере, осененной виноградом, яблонями и гранатовыми деревьями: уже это сопоставление гранатового дерева с другими плодовыми и виноградом заключает в себе выведение растительной силы Диониса из его хтонической природы, как бога преисподней, что еще более выставляется на вид символом пещеры и помещением изображения на ковчеге-гробнице.
Если Дионис, как царь душ, — царь растительности, то, как царь душ, он и владыка плодов земных, обилия плодовитого. Он один из хтонических ὀλβιοδόται, πλουτοδόται, подземных деятелей богатства и избытка, как он и именуется наравне с Аидом и другими силами царства теней. Вместе с Деметрой и Персефоной, владычицами земли и сени смертной, он чтится, по Павсанию, как «плодоносец» (καρποφόρος). Хтонический Дионис фракийских Бизальтов возвещает знамением великого зарева предстоящее изобилие земных произрастаний, «благое лето» (εὐετηρία).
Итак, смертный аспект бога страдающего первее аспекта растительного. Из смерти — жизнь. Семя не даст плода, если не умрет. Озольский родоначальник — Оресфей (Ὀρεσθεύς) имел собаку, которая родила древесный пень; он похоронил мертвое дерево, из могилы выросла виноградная лоза Диониса. Из смерти — жизнь: таково исконное представление религии бога цветущего, бога изобильного.
Древопочитание естественно и непосредственно сочеталось с культом Диониса, как бога душ; но могила и тризна представляют в этом соединении религиозно-историческое prius. Два дальнейших феномена органически связаны с служением тризн: половой оргиазм с одной стороны, личина и лицедейство — с другой.
_______________________________
|
Метки: Дионис Греция |
КУЛЬТ УМИРАЮЩЕГО БОГА |
Вячеслав Иванов
ЭЛЛИНСКАЯ РЕЛИГИЯ СТРАДАЮЩЕГО БОГА. Глава VIII
На Крите, на склонах Иды, в миметических представлениях периодически изображалось рождение Зевса: оргиазм и первобытная священная драма, с ним связанная, сохранилась в Зевсовом культе, где оргиастические Куреты совершали, по мифу, воинственные пляски близ пещеры, в которой таился от гнева отца новорожденный Зевс. Но критский бог меда и земного изобилия, рожденный во мраке пещеры, λίκνω ἐνί χρυσέω, воспитанный нимфами и Адрастеей, вскормленный пчелами и козой Амалфеей, окруженный юношами, пляшущими под оргийный звон щитов, бог преследуемый и живущий в недрах горы, т.е. умерший, бог, наконец, прямо провозглашенный умершим и чей гроб показывается верующим в том же Идейском вертепе, — этот критский Зевс — не общий Зевс эллинов.
В этой стране исконных человеческих жертв и экстатических плясок дионисийская религия рано определилась в своей особенности, но не носила своего имени. Ее монотеистическая тенденция, исключавшая в оргиастических общинах всякое иное богопочитание (кроме, разве, почитания женской ипостаси бога оргий), помешала критскому богу двойного топора сопричислиться к сонму эллинских божеств, с которыми он вступил в ранние отношения и взаимодействие. Греки отожествили его с своим верховным богом и, подчиняясь политическому и культурному влиянию Крита, усвоили собственному верованию некоторые из его черт: именно, миф о его рождении. Дионисова религия только позднее проникает на Крит в своей эллинской форме и уже не смешивается с религией критского Зевса. Наравне с Критом, Малая Азия (где мы встречаем тот же культовый символ двойного топора), и именно Фригия, должна быть признана местностью, где дионисийская религия рано стала утверждаться в своих общих чертах. Но и здесь не выявилось божество Диониса. Отчасти его религиозная сущность была, как и на Крите, перенесена на Зевса; малоазийский Зевс есть бог умирания; только позднее является потребность отожествить его с Дионисом, потому что в лице его узнается Дионис (Ζεύς ∆ιόνυσος). Главной же причиной отклонения фригийских культов от религиозного идеала Диониса было сосредоточение местного оргиазма корибантов на обожествлении женского оргиастического начала, пребывающей и абсолютной женской ипостаси мужского бога, периодически возникающего, страдающего и умирающего, — которая во Фракии является с чертами Артемиды, во Фригии в образе Великой Матери, Кибебы. Но Фригия, по-видимому, только колония фракийцев, племени дионисийского по преимуществу. На вопрос о родине Дионисовой религии большинство ученых отвечают: Фракия. И нельзя отрицать, что описанный нами феномен образования этой религии, последовательные фазы и ранние формы ее развития мы встречаем именно в недрах этого загадочного и малоизвестного, арийского по происхождению, по характеру — дико-меланхолического и глубоко-возбудимого народа.
О фракийцах Геродот рассказывает, что они не берегут девства своих дочерей, но позволяют им свободно сходиться с мужчинами, что по умершим они правят пышные и кровавые тризны, что из богов чтут только Ареса, Диониса и Артемиду. Мы бы сказали: одну оргиастическую сущность в ее женском аспекте (Артемида) и мужском, он же вместе Арес или Дионис сообразно роду оргиазма, представленному двумя типами оргийных женщин: Амазонами и Менадами.¹ Что таково именно было представление древних о фракийских культах, можно заключать и из его отображения в типах художественных. Так, на вазе из Клузи (Ann. d. Inst. 43, табл. K=Roscher’s Lex. III, 1185), представляющей сцену убиения Орфея, мы видим женщин, с двух сторон на него нападающих: справа приближается Амазона на коне, во фригийском колпаке и с копьем, напоминающим тирс; слева — две менады забрасывают певца тяжелыми камнями, подобно менадам Еврипида, мечущим камни в Пенфея; на голове одной — фригийский убор, волосы другой повязаны дионисийской митрой. На амфоре из Вульчи (Roscher III, 1183) менада в шлеме замахивается на Орфея двойным топором, атрибутом Амазон. Типы фракийских менад и Амазон почти смешиваются.
_________________________________
[1] Ἀμαζών (-όνος) ἡ амазонка; преимущ. pl. Ἀμαζόνες αἱ амазонки (миф. племя воинственных женщин, жившее в Понте Hom., в Скифии или в Ливии Diod.);
μαινάς (-άδος) ἡ исступленная вакханка, менада.
Ряд свидетельств выдвигают, как особенности фракийского вакхизма: мантику, или экстатическое пророчествование; религиозное учреждение пророков и пророчиц Диониса, — они же отожествляются с самим Дионисом; наконец, веру как бы в некий обмен душ между царствами надземным и подземным, — в бессмертие души, рассматриваемое как ее переселение в недра земли и новый возврат на землю. Впрочем, не должно забывать, что фракийцы не знали имени Диониса и что их религия распадалась на местные культы, дионисийски окрашенные, но не объединенные окончательными и общими формами верования и служения. Наиболее характерны и полны известия о религии северо-фракийских гетов.
Геты чтили Залмоксиса, соединяющего в своем облике черты бога и пророка. Он собирает гетов на пир, — повествует предание. Дионис, как и Арес, — бог пира; уже одна эта черта обличает в нем бога тризн: пиршество, в его ритуальном значении, — угощение богов, первоначально — душ умерших (θεοξένια, сотрапеза богов и людей). Залмоксис научает гетов на пиршестве, что смерть только переселение в обители блаженства. Потом он удаляется от них и таится в подземном чертоге, устроенном им под пиршественной храминой, а на четвертый год, уже оплаканный ими, как умерший, — возвращается к своему народу; из чего геты убедились, что он говорил им правду. Очевидно, дело идет о возврате из недр земли, из подземного царства. И он открыл им тогда, что и он, и его верные живыми придут снова на землю из мира загробного. Они считают себя бессмертными, — говорит Геродот, — и думают, что не умрут, а пойдут к Залмоксису. «И чрез каждые три года на четвертый они посылают одного из своих, выбрав по жребию, вестником с поручениями и просьбами к богу. А посылают вестника так: одни становятся в строй, выставив три копья, а другие, схватив за руки и за ноги вестника и раскачав его, бросают на копья. Если он умрет, напоровшись на острия, — Залмоксис милостив, думают они; если же не умрет, пронзенный, они корят и винят его, как нечестивца, и отряжают гонцом другого. И не признают они иного бога». Вот религия Диониса в своем возникновении. Человеческие жертвоприношения, оргиазм пиршества и поминок, бог умирающий и воскресающий — все давно в этой варварской и детской, и так по-детски изображенной Геродотом религии Залмоксиса, — до отожествления жертвы и бога, жреца и бога. В самом деле, явно значение снаряжаемого посланца. Это — новый Залмоксис, и поручения, ему даваемые, — молитвы, обращенные к божеству, нисходящему в преисподнюю, сильному благодетельствовать или вредить оттуда живым. По свидетельству Страбона, жрец Диониса у гетов зовется богом. В трагедии «Ресос» мы читаем, что герой, претерпевший страсти, будет жить под землей, облеченный божественной силой, подобно тому как некий пророк Вакха (неясно, о ком именно идет речь: О Залмоксисе? о Ликурге? Орфее? или, наконец, об одном лице в названных трех?) поселен в недрах скалистого Пангея фракийского, великий бог для ведущих (мы разумеем: посвященных в тайну жертвенного дионисийского отожествления).
Такова двойственная природа Залмоксиса; прежде — человека, потом — бога. Залмоксис, очевидно, только абстракция правильно повторяемых жертв, или, что то же самое, обожествления чрез жертвенное убиение. К тому же выводу приводит и логика гетского священнодействия. Если тот, кого Геродот называет послом, не пронзен копьями, он — не бог, и участники кровавого радения лишены причастия богу чрез обагрение его жертвенной кровью; он — дурной человек, потому что не удостоен благодати обожествления. Прибавим, что «Залмоксис», по древнему словопроизводству (от ζαλµός = δορὰ ἄρκτου), значит: «носящий медвежью шкуру», — что соответствует имени Диониса «Бассарей» или «Бассар» — «носящий лисью шкуру».² Самая община, быть может, звалась «Залмоксисы», по аналогии общин Бассаров, Сабов и Вакхов. Каждый член ее был Залмоксис, по участию в жертвоприношении и в праве стать жертвой.
_________________________________
[2] Βασσαρεύς Бассарей, лидийское божество, отождествлявшийся с Дионисом;
βασσαρίς (-ίδος) ἡ бассарида Anacr., Anth. = βάκχη (вакханка);
βασσάριον τό ливийская лисица Her.
βασσάρα ὁ лисья шкура.
Знаменательна независимость богочеловека Залмоксиса от какого бы то ни было другого божества. Как его пророческое достоинство, так и его божественность представляются безусловно автономными. Это свидетельствует о глубокой древности изучаемого явления. Древнейшее верование не знает мужского бессмертного божества. В глазах первобытного человека боги подвержены смерти, как все существа природные. Геты, правда, отрицают самое смерть, как уничтожение; для них смерть — переход в иной мир и временное отсутствие. Тем не менее, божество не избавлено от необходимости этого перехода, превращения и восстановления. Их божество должно вкусить смерть наравне с людьми. Это представление делает впервые понятной и мыслимой возможность образования идеи божества, как абстракции из ряда обожествленных жертв.
Постоянной величиной в обряде является пентаэтерическое жертвенное человекоубиение, с целью создания или обновления подземного благодетельного, но и страшного фактора, необходимого для блага жителей земли. Множество последовательных жертв сливается в единую божественную сущность кого-то могучего и милостивого, но также и гневного, умилостивлений требующего, живущего в преисподней, но имеющего придти назад, — образ, общий первоначальной религии и позднейшему фольклору, еще различимый в мифах (славянских и германских, как миф Кифгейзера) о подземном богатыре, живущем под землей, в горных недрах, до урочной годины своего восстания. Что жертвы гетов, как отдельные звенья непрерывной цепи, связываются в единую, во множестве лиц правильно повторяющуюся и преемственно длящуюся жертву, — она же творит и питает единое, постоянно обновляющееся, божественное начало в области загробной, — явствует и из аналогии диких племен, обеспечивающих жертвенную преемственность особенного ритуала надевания на нового обреченного кожи, снятой с только что убитого, — как это наблюдается в древнемексиканских обрядах: здесь абстракция божества из обожествленных человеческих жертв совершается как бы наглядно пред нашими глазами.
Замечательно в обряде гетов поднятие жертвы на копья. Почему именно на копья? Это — символ высшей почести. Доселе в нашем церковном служении «Царь всех» прославляется как «дориносимый» (δορυφόρος), т.е. копьеносимый, чинами ангельскими. Поднятие на щите или на скрещенных копьях означает провозглашение военачальником или царем. Гетский обычай убиения посредством поднятия на копья, как кажется, связан с тем, общим многим первобытным народам, обожествлением царя и умерщвлением царя-бога, которое истолковано Фрейзером (James George Frazer) в его «Золотой Ветви». Для дикого царь — воплощение божества, носитель божественной силы и силы своего народа. Он должен быть убит еще молодым, чтобы низойти в царство мертвых полным этой мощи и стать, в виде духа, не бессильным покровителем своих людей. Обычай, изредка еще встречаемый в своем чистом виде, удержался в многочисленных пережитках. Вот что, например, было наблюдено европейцами (Акоста, по цитате в Golden Bough) у краснокожих Мексики.
Подробность обряда — употребление каменного ножа — заслуживает внимания. Религиозный обычай вообще сохраняет бытовые особенности, например, утварь, — эпохи минувшей; все древнее считается уже по тому самому священным. Обряд консервативен и, предохраняя от забвения и замены устарелое в быте, тем самым освящает его. Каменный нож необходим в обряде, потому что архаичен, потому что уже анахронизм. Но еще первобытнее растерзание жертвы руками. Отметим в особенности сходство мексиканского обряда с мифом о Дионисе-Загрее, которого Зевс ставит царем мира и который затем растерзан Титанами, причем расчлененное тело его сварено в котле, а трепещущее сердце вынуто из груди и принесено Зевсу; обожествление отдельной головы Диониса засвидетельствовано другими обрядами.
Мы различаем в этом этнографическом аналоге религиозный принцип постоянной преемственности
человеческой жертвы, отожествляемой с божеством и долженствующей как бы непрерывно обновлять собой божественный numen (образ), питать его неугасимый огонь. Божество распадается на последовательность человекобогов, слагается из неограниченного числа обожествленных чрез жертвенное убиение душ. Обреченный, как мы видим, достигает вершины божеских и, следовательно, царских почестей. Кто царь, тот обречен; кто обречен, тот царь; и царь — бог: вот круг идей, в которых вращается мысль первобытного человека. Другие параллели ближе приводят нас к изучаемой нами древности и даже прямо возвращают к циклу фракийских культов.
Ритор Дион Хрисостом рассказывает, что у персов в его эпоху (II в. н.э.) был странный обычай. Одного из осужденных на смертную казнь сажали они на престол царский, облачали его в царские одежды, давали ему есть и пить и веселиться вволю, предоставляли ему гарем царский, исполняли все его прихоти, а потом бичевали и распинали его. Отголоски этого обычая Фрейзер находит в предании о Гамане, повешенном в праздник Пурим, — которое составляет предмет библейской повести о Эсфири.
Недавно внимание ученых было привлечено новыми данными о римских Сатурналиях, почерпнутыми из жития св. Дасия, текст которого, по рукописи Парижской Национальной Библиотеки, был издан Ф. Кюмоном (Fr. Cumont), известным исследователем культа Митры. По легенде, содержащей исторически достоверные частности, римские солдаты в Мезии (современной Болгарии) ежегодно справляли Сатурналии следующим обрядом: за месяц до праздника они избирали из своей среды по жребию красивого молодого воина, одевали его в царскую одежду и величали царем Сатурном; его окружали всяким почетом и доставляли ему всякие потехи и наслаждения; когда же наступал праздник, он должен был зарезаться перед алтарем Сатурна. Один из вариантов жития гласит, впрочем, так: «он приносит себя в жертву, умерщвляя себя мечем, безымянным и гнусным идолам» (ἀνωνύµοις καί µυσαροῖς εἰδώλοις). Кто были эти безымянные боги? Не культ ли соседней северной Фракии перед нами в своих отдаленных переживаниях? Сатурналии соответствовали дионисийским Анфестериям, и жертва, быть может, почти чрез тысячелетие после жертв, описанных Геродотом, совершалась тому же фракийскому Дионису, которого первоисточник жития не называет, или не узнавая его под его фракийским именем, или из ненависти к Дионису, или потому, наконец, что древний дионисийский обычай так и не обрел имени своего бога, ведомого, быть может, только «пророкам», хранителям тайны. Общее между культом Залмоксиса и обрядом Сатурналий в Мезии в том, что жертва возвеличивается, облекается достоинством фиктивного царя. Издание жития естественно натолкнуло ученых на сближение между царем Сатурналий и Христом, казнь которого совершается в формах фиктивного провозглашения царем. Венец, трость и багряница, наречение царем иудейским и надпись на кресте, самый крест, напоминающий выше упомянутый азиатский обычай, — все подтверждает, по-видимому, аналогию потешного обряда кровавых Сатурналий. Но возвратимся к религии Диониса.
Для познания ее начал мы выводим из изложенного важное заключение. Мы видели, что на тризнах, откуда она проистекла, человек, надевший маску покойника, приносится в жертву, обыкновенно чрез растерзание, замаскированными участниками-жрецами оргий. Отвлечение из обряда тризны, с фиктивной обстановкой ее жертвоприношения, создало тип героя, обреченного на роковую гибель и трагически гибнущего, — этот первообраз страдающего бога, «героя» Диониса. В связи наших последних изучений становится вероятным, что убиение человека в маске героя — только замена первоначального убиения самого героя — царя или вождя. Погребенный, став богом, приобщает своей божественности и членов своей общины, так как человек, растерзанный в его маске, служит проводником и преемником той части его божественной силы, которая должна быть распределена между живыми причастниками жертвы. То, что было в незапамятные времена действительностью, обратилось в жертвенную трагедию, в обрядовое изображение героических страстей. Так, трагедия эпохи исторической, представшая нам в своих ранних и уже незапамятных начатках в образе человеческого жертвоприношения, совершаемого в фиктивной обстановке похоронного маскарада, восходит, быть может, в своих последних корнях до глубоко забытой реальности каннибальского религиозного цареубийства-богоубийства.
_______________________________
ЭЛЛИНСКАЯ РЕЛИГИЯ СТРАДАЮЩЕГО БОГА. Глава VIII
На Крите, на склонах Иды, в миметических представлениях периодически изображалось рождение Зевса: оргиазм и первобытная священная драма, с ним связанная, сохранилась в Зевсовом культе, где оргиастические Куреты совершали, по мифу, воинственные пляски близ пещеры, в которой таился от гнева отца новорожденный Зевс. Но критский бог меда и земного изобилия, рожденный во мраке пещеры, λίκνω ἐνί χρυσέω, воспитанный нимфами и Адрастеей, вскормленный пчелами и козой Амалфеей, окруженный юношами, пляшущими под оргийный звон щитов, бог преследуемый и живущий в недрах горы, т.е. умерший, бог, наконец, прямо провозглашенный умершим и чей гроб показывается верующим в том же Идейском вертепе, — этот критский Зевс — не общий Зевс эллинов.
В этой стране исконных человеческих жертв и экстатических плясок дионисийская религия рано определилась в своей особенности, но не носила своего имени. Ее монотеистическая тенденция, исключавшая в оргиастических общинах всякое иное богопочитание (кроме, разве, почитания женской ипостаси бога оргий), помешала критскому богу двойного топора сопричислиться к сонму эллинских божеств, с которыми он вступил в ранние отношения и взаимодействие. Греки отожествили его с своим верховным богом и, подчиняясь политическому и культурному влиянию Крита, усвоили собственному верованию некоторые из его черт: именно, миф о его рождении. Дионисова религия только позднее проникает на Крит в своей эллинской форме и уже не смешивается с религией критского Зевса. Наравне с Критом, Малая Азия (где мы встречаем тот же культовый символ двойного топора), и именно Фригия, должна быть признана местностью, где дионисийская религия рано стала утверждаться в своих общих чертах. Но и здесь не выявилось божество Диониса. Отчасти его религиозная сущность была, как и на Крите, перенесена на Зевса; малоазийский Зевс есть бог умирания; только позднее является потребность отожествить его с Дионисом, потому что в лице его узнается Дионис (Ζεύς ∆ιόνυσος). Главной же причиной отклонения фригийских культов от религиозного идеала Диониса было сосредоточение местного оргиазма корибантов на обожествлении женского оргиастического начала, пребывающей и абсолютной женской ипостаси мужского бога, периодически возникающего, страдающего и умирающего, — которая во Фракии является с чертами Артемиды, во Фригии в образе Великой Матери, Кибебы. Но Фригия, по-видимому, только колония фракийцев, племени дионисийского по преимуществу. На вопрос о родине Дионисовой религии большинство ученых отвечают: Фракия. И нельзя отрицать, что описанный нами феномен образования этой религии, последовательные фазы и ранние формы ее развития мы встречаем именно в недрах этого загадочного и малоизвестного, арийского по происхождению, по характеру — дико-меланхолического и глубоко-возбудимого народа.
О фракийцах Геродот рассказывает, что они не берегут девства своих дочерей, но позволяют им свободно сходиться с мужчинами, что по умершим они правят пышные и кровавые тризны, что из богов чтут только Ареса, Диониса и Артемиду. Мы бы сказали: одну оргиастическую сущность в ее женском аспекте (Артемида) и мужском, он же вместе Арес или Дионис сообразно роду оргиазма, представленному двумя типами оргийных женщин: Амазонами и Менадами.¹ Что таково именно было представление древних о фракийских культах, можно заключать и из его отображения в типах художественных. Так, на вазе из Клузи (Ann. d. Inst. 43, табл. K=Roscher’s Lex. III, 1185), представляющей сцену убиения Орфея, мы видим женщин, с двух сторон на него нападающих: справа приближается Амазона на коне, во фригийском колпаке и с копьем, напоминающим тирс; слева — две менады забрасывают певца тяжелыми камнями, подобно менадам Еврипида, мечущим камни в Пенфея; на голове одной — фригийский убор, волосы другой повязаны дионисийской митрой. На амфоре из Вульчи (Roscher III, 1183) менада в шлеме замахивается на Орфея двойным топором, атрибутом Амазон. Типы фракийских менад и Амазон почти смешиваются.
_________________________________
[1] Ἀμαζών (-όνος) ἡ амазонка; преимущ. pl. Ἀμαζόνες αἱ амазонки (миф. племя воинственных женщин, жившее в Понте Hom., в Скифии или в Ливии Diod.);
μαινάς (-άδος) ἡ исступленная вакханка, менада.
Ряд свидетельств выдвигают, как особенности фракийского вакхизма: мантику, или экстатическое пророчествование; религиозное учреждение пророков и пророчиц Диониса, — они же отожествляются с самим Дионисом; наконец, веру как бы в некий обмен душ между царствами надземным и подземным, — в бессмертие души, рассматриваемое как ее переселение в недра земли и новый возврат на землю. Впрочем, не должно забывать, что фракийцы не знали имени Диониса и что их религия распадалась на местные культы, дионисийски окрашенные, но не объединенные окончательными и общими формами верования и служения. Наиболее характерны и полны известия о религии северо-фракийских гетов.
Геты чтили Залмоксиса, соединяющего в своем облике черты бога и пророка. Он собирает гетов на пир, — повествует предание. Дионис, как и Арес, — бог пира; уже одна эта черта обличает в нем бога тризн: пиршество, в его ритуальном значении, — угощение богов, первоначально — душ умерших (θεοξένια, сотрапеза богов и людей). Залмоксис научает гетов на пиршестве, что смерть только переселение в обители блаженства. Потом он удаляется от них и таится в подземном чертоге, устроенном им под пиршественной храминой, а на четвертый год, уже оплаканный ими, как умерший, — возвращается к своему народу; из чего геты убедились, что он говорил им правду. Очевидно, дело идет о возврате из недр земли, из подземного царства. И он открыл им тогда, что и он, и его верные живыми придут снова на землю из мира загробного. Они считают себя бессмертными, — говорит Геродот, — и думают, что не умрут, а пойдут к Залмоксису. «И чрез каждые три года на четвертый они посылают одного из своих, выбрав по жребию, вестником с поручениями и просьбами к богу. А посылают вестника так: одни становятся в строй, выставив три копья, а другие, схватив за руки и за ноги вестника и раскачав его, бросают на копья. Если он умрет, напоровшись на острия, — Залмоксис милостив, думают они; если же не умрет, пронзенный, они корят и винят его, как нечестивца, и отряжают гонцом другого. И не признают они иного бога». Вот религия Диониса в своем возникновении. Человеческие жертвоприношения, оргиазм пиршества и поминок, бог умирающий и воскресающий — все давно в этой варварской и детской, и так по-детски изображенной Геродотом религии Залмоксиса, — до отожествления жертвы и бога, жреца и бога. В самом деле, явно значение снаряжаемого посланца. Это — новый Залмоксис, и поручения, ему даваемые, — молитвы, обращенные к божеству, нисходящему в преисподнюю, сильному благодетельствовать или вредить оттуда живым. По свидетельству Страбона, жрец Диониса у гетов зовется богом. В трагедии «Ресос» мы читаем, что герой, претерпевший страсти, будет жить под землей, облеченный божественной силой, подобно тому как некий пророк Вакха (неясно, о ком именно идет речь: О Залмоксисе? о Ликурге? Орфее? или, наконец, об одном лице в названных трех?) поселен в недрах скалистого Пангея фракийского, великий бог для ведущих (мы разумеем: посвященных в тайну жертвенного дионисийского отожествления).
Такова двойственная природа Залмоксиса; прежде — человека, потом — бога. Залмоксис, очевидно, только абстракция правильно повторяемых жертв, или, что то же самое, обожествления чрез жертвенное убиение. К тому же выводу приводит и логика гетского священнодействия. Если тот, кого Геродот называет послом, не пронзен копьями, он — не бог, и участники кровавого радения лишены причастия богу чрез обагрение его жертвенной кровью; он — дурной человек, потому что не удостоен благодати обожествления. Прибавим, что «Залмоксис», по древнему словопроизводству (от ζαλµός = δορὰ ἄρκτου), значит: «носящий медвежью шкуру», — что соответствует имени Диониса «Бассарей» или «Бассар» — «носящий лисью шкуру».² Самая община, быть может, звалась «Залмоксисы», по аналогии общин Бассаров, Сабов и Вакхов. Каждый член ее был Залмоксис, по участию в жертвоприношении и в праве стать жертвой.
_________________________________
[2] Βασσαρεύς Бассарей, лидийское божество, отождествлявшийся с Дионисом;
βασσαρίς (-ίδος) ἡ бассарида Anacr., Anth. = βάκχη (вакханка);
βασσάριον τό ливийская лисица Her.
βασσάρα ὁ лисья шкура.
Знаменательна независимость богочеловека Залмоксиса от какого бы то ни было другого божества. Как его пророческое достоинство, так и его божественность представляются безусловно автономными. Это свидетельствует о глубокой древности изучаемого явления. Древнейшее верование не знает мужского бессмертного божества. В глазах первобытного человека боги подвержены смерти, как все существа природные. Геты, правда, отрицают самое смерть, как уничтожение; для них смерть — переход в иной мир и временное отсутствие. Тем не менее, божество не избавлено от необходимости этого перехода, превращения и восстановления. Их божество должно вкусить смерть наравне с людьми. Это представление делает впервые понятной и мыслимой возможность образования идеи божества, как абстракции из ряда обожествленных жертв.
Постоянной величиной в обряде является пентаэтерическое жертвенное человекоубиение, с целью создания или обновления подземного благодетельного, но и страшного фактора, необходимого для блага жителей земли. Множество последовательных жертв сливается в единую божественную сущность кого-то могучего и милостивого, но также и гневного, умилостивлений требующего, живущего в преисподней, но имеющего придти назад, — образ, общий первоначальной религии и позднейшему фольклору, еще различимый в мифах (славянских и германских, как миф Кифгейзера) о подземном богатыре, живущем под землей, в горных недрах, до урочной годины своего восстания. Что жертвы гетов, как отдельные звенья непрерывной цепи, связываются в единую, во множестве лиц правильно повторяющуюся и преемственно длящуюся жертву, — она же творит и питает единое, постоянно обновляющееся, божественное начало в области загробной, — явствует и из аналогии диких племен, обеспечивающих жертвенную преемственность особенного ритуала надевания на нового обреченного кожи, снятой с только что убитого, — как это наблюдается в древнемексиканских обрядах: здесь абстракция божества из обожествленных человеческих жертв совершается как бы наглядно пред нашими глазами.
Замечательно в обряде гетов поднятие жертвы на копья. Почему именно на копья? Это — символ высшей почести. Доселе в нашем церковном служении «Царь всех» прославляется как «дориносимый» (δορυφόρος), т.е. копьеносимый, чинами ангельскими. Поднятие на щите или на скрещенных копьях означает провозглашение военачальником или царем. Гетский обычай убиения посредством поднятия на копья, как кажется, связан с тем, общим многим первобытным народам, обожествлением царя и умерщвлением царя-бога, которое истолковано Фрейзером (James George Frazer) в его «Золотой Ветви». Для дикого царь — воплощение божества, носитель божественной силы и силы своего народа. Он должен быть убит еще молодым, чтобы низойти в царство мертвых полным этой мощи и стать, в виде духа, не бессильным покровителем своих людей. Обычай, изредка еще встречаемый в своем чистом виде, удержался в многочисленных пережитках. Вот что, например, было наблюдено европейцами (Акоста, по цитате в Golden Bough) у краснокожих Мексики.
«Они выбирали лучшего из пленников, давали ему имя одного из своих богов, — ему же и обречен был он жертвой, — облачали и украшали его наподобие идола этого бога. Обреченный представлял таким образом бога в некоторых культах целый год, в других шесть или менее месяцев. В течение этого времени ему воздавались божеские почести — те же, что подобали представляемому им божеству. Его обильно кормили, поили, и всячески увеселяли. Когда он проходил по улицам, толпа окружала его и оказывала ему знаки богопочтения. Ему приносили дары, и к нему приводили больных и немощных, чтобы он благословлял и исцелял их. Он мог делать, что хотел для своего удовольствия; но за ним всюду следовали десять, двенадцать человек стражи, наблюдая, чтобы он не убежал. Он возвещал о своем приближении звуками флейты, чтобы народ готов был встретить его знаками боготворения. Когда наступал праздник и обреченный был откормлен, они убивали его и съедали в торжественном жертвоприношении. Так, по свидетельству очевидца, один юноша, обреченный на жертву, был окружаем наслаждениями и всенародным поклонением, увенчиваем цветами — до того дня, когда жрец возвел его наверх пирамидального храма, рассек его грудь каменным ножом, вырвал его сердце и поднял вверх, показывая солнцу. Голова, как предмет особенного почитания, была отделена от тела, а члены рассечены, сварены и съедены. Тотчас затем назначен был его преемник, для жертвоприношения следующего года, и кожа убитого была возложена на его преемника.»
Подробность обряда — употребление каменного ножа — заслуживает внимания. Религиозный обычай вообще сохраняет бытовые особенности, например, утварь, — эпохи минувшей; все древнее считается уже по тому самому священным. Обряд консервативен и, предохраняя от забвения и замены устарелое в быте, тем самым освящает его. Каменный нож необходим в обряде, потому что архаичен, потому что уже анахронизм. Но еще первобытнее растерзание жертвы руками. Отметим в особенности сходство мексиканского обряда с мифом о Дионисе-Загрее, которого Зевс ставит царем мира и который затем растерзан Титанами, причем расчлененное тело его сварено в котле, а трепещущее сердце вынуто из груди и принесено Зевсу; обожествление отдельной головы Диониса засвидетельствовано другими обрядами.
Мы различаем в этом этнографическом аналоге религиозный принцип постоянной преемственности
человеческой жертвы, отожествляемой с божеством и долженствующей как бы непрерывно обновлять собой божественный numen (образ), питать его неугасимый огонь. Божество распадается на последовательность человекобогов, слагается из неограниченного числа обожествленных чрез жертвенное убиение душ. Обреченный, как мы видим, достигает вершины божеских и, следовательно, царских почестей. Кто царь, тот обречен; кто обречен, тот царь; и царь — бог: вот круг идей, в которых вращается мысль первобытного человека. Другие параллели ближе приводят нас к изучаемой нами древности и даже прямо возвращают к циклу фракийских культов.
Ритор Дион Хрисостом рассказывает, что у персов в его эпоху (II в. н.э.) был странный обычай. Одного из осужденных на смертную казнь сажали они на престол царский, облачали его в царские одежды, давали ему есть и пить и веселиться вволю, предоставляли ему гарем царский, исполняли все его прихоти, а потом бичевали и распинали его. Отголоски этого обычая Фрейзер находит в предании о Гамане, повешенном в праздник Пурим, — которое составляет предмет библейской повести о Эсфири.
Недавно внимание ученых было привлечено новыми данными о римских Сатурналиях, почерпнутыми из жития св. Дасия, текст которого, по рукописи Парижской Национальной Библиотеки, был издан Ф. Кюмоном (Fr. Cumont), известным исследователем культа Митры. По легенде, содержащей исторически достоверные частности, римские солдаты в Мезии (современной Болгарии) ежегодно справляли Сатурналии следующим обрядом: за месяц до праздника они избирали из своей среды по жребию красивого молодого воина, одевали его в царскую одежду и величали царем Сатурном; его окружали всяким почетом и доставляли ему всякие потехи и наслаждения; когда же наступал праздник, он должен был зарезаться перед алтарем Сатурна. Один из вариантов жития гласит, впрочем, так: «он приносит себя в жертву, умерщвляя себя мечем, безымянным и гнусным идолам» (ἀνωνύµοις καί µυσαροῖς εἰδώλοις). Кто были эти безымянные боги? Не культ ли соседней северной Фракии перед нами в своих отдаленных переживаниях? Сатурналии соответствовали дионисийским Анфестериям, и жертва, быть может, почти чрез тысячелетие после жертв, описанных Геродотом, совершалась тому же фракийскому Дионису, которого первоисточник жития не называет, или не узнавая его под его фракийским именем, или из ненависти к Дионису, или потому, наконец, что древний дионисийский обычай так и не обрел имени своего бога, ведомого, быть может, только «пророкам», хранителям тайны. Общее между культом Залмоксиса и обрядом Сатурналий в Мезии в том, что жертва возвеличивается, облекается достоинством фиктивного царя. Издание жития естественно натолкнуло ученых на сближение между царем Сатурналий и Христом, казнь которого совершается в формах фиктивного провозглашения царем. Венец, трость и багряница, наречение царем иудейским и надпись на кресте, самый крест, напоминающий выше упомянутый азиатский обычай, — все подтверждает, по-видимому, аналогию потешного обряда кровавых Сатурналий. Но возвратимся к религии Диониса.
Для познания ее начал мы выводим из изложенного важное заключение. Мы видели, что на тризнах, откуда она проистекла, человек, надевший маску покойника, приносится в жертву, обыкновенно чрез растерзание, замаскированными участниками-жрецами оргий. Отвлечение из обряда тризны, с фиктивной обстановкой ее жертвоприношения, создало тип героя, обреченного на роковую гибель и трагически гибнущего, — этот первообраз страдающего бога, «героя» Диониса. В связи наших последних изучений становится вероятным, что убиение человека в маске героя — только замена первоначального убиения самого героя — царя или вождя. Погребенный, став богом, приобщает своей божественности и членов своей общины, так как человек, растерзанный в его маске, служит проводником и преемником той части его божественной силы, которая должна быть распределена между живыми причастниками жертвы. То, что было в незапамятные времена действительностью, обратилось в жертвенную трагедию, в обрядовое изображение героических страстей. Так, трагедия эпохи исторической, представшая нам в своих ранних и уже незапамятных начатках в образе человеческого жертвоприношения, совершаемого в фиктивной обстановке похоронного маскарада, восходит, быть может, в своих последних корнях до глубоко забытой реальности каннибальского религиозного цареубийства-богоубийства.
_______________________________
|
Метки: Дионис Греция |
ЭВОЛЮЦИЯ КУЛЬТА ДИОНИСА |
Вячеслав Иванов
ЭЛЛИНСКАЯ РЕЛИГИЯ СТРАДАЮЩЕГО БОГА. Глава IX
Во Фракии мы застаем дионисийскую религию в процессе ее образования, всецело отвечающем тому гипотетическому построению, которое явилось результатом нашего анализа связей между вакхическим культом и оргиазмом тризн. Должно ли думать, что именно фракийцы принесли эллинам откровение Диониса? Мы не решаемся утверждать об этом ничего положительного. Оргиастическая почва, наследие древнейшего культа душ, была подготовлена для новой веры, как мы видели, повсюду; самая вера выработалась в лоне отдельных племен, потом охватила своим заражением весь греческий мир. Вот все, что представляется нам достоверным. Везде в мифе Дионис со своим оргийным сонмом является пришельцем извне и завоевателем; он встречает сопротивление, и побеждает его. Как плющ стелется по зарослям, ползет по стволам чащи, укутывает деревья и опутывает ветви, — и деревья то как бы мирятся и роднятся с ним, и кажутся удвоенными его зеленой сетью, то чахнут и глохнут в его живучих и убийственных тисках, — так бог плюща обвил своею избыточной силой всю народную религию, удвоил собою одни культы и вытеснил другие. Одно только сопротивление было возможно и действительно: там, где дионисийская идея была раньше вобрана культом верховного бога, Дионис был бессилен пред своей же собственной сущностью. Все остальное в народной религии должно было принять более или менее глубокий отпечаток его влияния.
Возьмем пример. Ни одно жертвоприношение не могло обойтись в исторической Греции без флейт. Между тем, Гомер ничего не знает о флейте при жертвенных обрядах. Флейты, которые слышались, по Гомеру, и в греческом стане, и в стенах осажденной Трои, были принесены из Фригии, — быть может, также из Фракии или с острова Крита, — но сделались необходимой частью общеэллинского богослужения. Принесены же были они, конечно, вакхическими сонмами. О том же свидетельствует употребление венков. Гомер не знает цветочных венков. Первоначально они применялись только при погребениях; мы видим их на головах покойников на древнейших вазах. Возложение венка на голову мертвого было, по-видимому, связано с его обожествлением.¹ Вместе с погребальной маской венок был снят с мертвого и возложен на живых. Это было дело той тризны, откуда произошла дионисийская религия. Эта религия овладевает венком, как своим особенным символом и атрибутом; он зовется «вакх».
__________________________
[1] В Египте венец на голове покойника назывался «венцом оправдания» (mȝḥ n mȝˁ-ḫrw). Согласно египетской традиции, «венец оправдания» водружался на голову новопреставившемуся в качестве символа чистоты. Согласно религиозным представлениям, душе покойного надлежало пройти суд Осириса, на котором взвешивалось его сердце. Если его сердце оказывалось не отягощенным грехами — умерший получал статус «оправданного» (дословно, правогласного) и попадал в вечнозеленые тростниковые поля. Венец оправдания также известен как «венец бессмертия» (Crown of immortality).
«Специальная глава «Книги мертвых» (XIX) была посвящена венцу подобного рода, и до нас дошла даже магическая формула, которую следовало читать, когда такой венок возлагали на крышку гроба. Эти «венцы оправдания» (Wreath of triumph / Wreath of justification) были широко распространены со времени XVII династии до греко-римского периода.» (Говард Картер. Гробница Тутанхамона)
Из религии Диониса венок заимствуется общегреческим культом и общегреческим обычаем. Пиршество без венков на головах гостей невозможно, потому что вино и чаши и пиршественные трапезы — служение Дионису. Венок делается принадлежностью пиров, как и Дионисов дифирамб, о котором Архилох поет:
Не имея в виду дать полный исторический очерк распространения Дионисовой религии и ее дальнейших судеб в эллинском мире, ограничимся характеристикой нескольких главных этапов этого распространения и нескольких моментов ее влияния, имевших мировое значение.
Верная своему происхождению из тризны и почитания душ, религия Диониса должна была примкнуть к уже готовым местным культам сил подземных и растительных. Было указано на сравнительно позднее образование имени Диониса. В ту эпоху, когда вакхическая идея овладевает Элладой, должно было дифференцироваться имя и понятие Дия-Диониса от Дия-Зевса эллинов. Одну из самых ранних ступеней этой дифференциации мы застаем в Беотии. Фивы делаются преимущественно родиной Диониса; там он родится от Зевса и дочери Кадмовой, Семелы.
Фивы — центр культа Ареса, как бога смерти, бога человеческих жертвоприношений, — свидетельством тому служит миф о Менекее, заколовшем себя в жертву буйному и воинственному богу на стенах семивратного города и возрастившем из своей пролитой крови гранатовое дерево. Семела,² чье мистическое святилище (ἄβατον) обличает ее хтоническую сущность, — дочь Змееубийцы и Гармонии, дочери Аресовой. Змея, убитая Кадмом, родилась от Ареса, и сам он вместе с женой обращаются в змей. Змея же всегда символ хтонический. Кадм — домовой змий, µένοικος ὄφις, равноименный Менекею: дух, живущий в недрах, древний дух тризн. Но если хтоническая основа культов додионисийских объясняет легкость их сочетания и смешения с Вакховой религией в Беотии, то в той же Беотии эта религия является нам с чертами чисто эллинскими: ее мрачный характер изменяется, просветляется, кровавый элемент смягчен, идея растительного изобилия, зависящего от хтонических сил, и радостный оргиазм вступают в свои права. Дионис чтится в Фивах под своими растительными и оргиастическими символами — в фетишах столпа и плюща. Занесенные из Фригии экстатические флейты оглашают оргии Киферона. Местная керамика выдает нам безудержность оргийного разгула беотийских вакханалий. Дионис встречает на своем пути ряд местных растительных и сельских божеств; он вбирает в себя их numina и nomina.³ Бог Аристей усваивает себе его черты и становится дионисийским героем. Боги Φλές (или Φλεών), и Βρισεύς обращаются в культовые наименования (ἐπικλήσεις) Диониса. Но пришлец сталкивается на своем завоевательном пути и с противником огромной силы. Его имя — Аполлон. Отношения между этими божествами — одна из любопытнейших страниц истории эллинской религии; но они еще недостаточно расследованы. Между тем в этих отношениях пред глазами исследователя развертывается великая культурная борьба, положившая неизгладимую печать на всю греческую жизнь.
__________________________
[2] Σεμέλη, дор. Σεμέλα ἡ Семела (дочь Кадма и Гермионы, мать Вакха от Зевса) Pind., Her., Eur.
συμμελαίνομαι (συμ-μελαίνομαι) становиться совершенно черным, совершенно чернеть;
μέλας — черный;
[3] numina et nomina — обличия (божественные проявления) и имена (эпиклесы).
В Аполлоновой религии единственно проявилось влияние эллинского жречества. Если бы совокупность исторических причин не воспрепятствовала усилению греческого жречества, вся религия и образованность Греции нашла бы, вероятно, другие пути развития. Греция, наподобие Индии, создала бы великие религиозно-философские учения; она углубила бы свою народную веру, которая осталась нестройным и поэтическим, в своей живой и изменчивой противоречивости, многобожием; слабость жречества, неблагоприятная для развития глубочайших мистических и умозрительных начал, данных в зародыше во фрагментах эллинской «теологии» (θεολογία), — была, напротив, благоприятна расцвету искусства, поэзии и научно-философской мысли. Потенция греческого жречества сказалась в создании религии Аполлоновой. Не даром как бы на знамени этой жреческой религии — на портике дельфийского храма — были начертаны многозначительные в своей гиератической краткости изречения: «(ты) еси» (εἶ, ибо таково естественное истолкование всегда казавшегося загадочным слова) и «Познай самого себя» (мы разумеем: как сущего, — познай в себе Самого, т.е. Атмана индусов), — что прямо обращает нас к «Еси» (asi) и «То ты еси» (tattvamasi) ведической философии, — быть может, общему и международному достоянию сокровенной, эстетической мудрости жрецов и теургов (θεουργός), для которой понятие и слово «бытия» уже само по себе заключало идею божественности, как это сквозит еще в элеатском учении о бытии или в еврейских монотеистических формулах: «Сущий», «Аз есмь», «Я буду, кто буду».
Кажется, что развитие аполлонийской религии было существенно обусловлено аристократической оппозицией культовым и культурным захватам народных оргиастических вер, — религии Дионисовой, могущественной пристрастием сельских, земледельческих масс. Бог строя и меры, порядка и гармонии, сдержки и обособления, бог завоевателей и господ, законодателей и повелителей, — бог, прежде всего, мужской религиозной реакции против женского владычества (вспомним оправдание матереубийцы Ореста в Дельфах) и женских, всегда оргийных, культов, — должен был считаться с соперником — разрешителем, освободителем, задушевным богом неудержной скорби и неудержного веселья, варварским богом темных переживаний и неустроенных движений души, — богом мужеубийственных женских сонмов. Соперничество обоих божеств выразилось в стремлении Аполлонова культа усвоить и захватить в свое обладание ряд достояний Диониса. Сюда, прежде всего, может быть отнесено отлучение Артемиды от Диониса и ее сочетание с Аполлоном в образе сестры.
Это соединение Артемиды с Аполлоном совершилось в одном из главных древних центров греческой религиозной и культурной жизни, на острове Делосе (с которым мы все лучше знакомимся, благодаря новейшим раскопкам, делающим Франции такую же честь, как и ее раскопки в Дельфах). На Делосе Артемида издавна у себя дома. Это видно уже из гомеровского наименования острова именем Артемиды Ортигии. С другой стороны, критское влияние было могущественно на Делосе. Аполлон и Артемида строят себе там алтарь из рогов: образ внушен, быть может, критским обычаем, установленным результатами новейших раскопок на Крите, — украшать жертвенники рогами, чему параллели находятся в библейских текстах. Тесей, возвращаясь победоносный, с Крита, учреждает на Делосе круговой танец, подражающий блужданию в Лабиринте (предмет изображений на знаменитой архаической вазе «François» во Флоренции): обряд сам провозглашает свое критское происхождение. Религия критская — религия Артемиды и некоего Дионисова первообраза; и священная пляска, конечно, отрасль оргиастических обрядов критского бога двойного топора. На древнейшей дионисийской почве Делоса утверждается религия обособившегося Диониса. Герой Делоса — Аниос (Ἄνιος), его мать — Ройо (Ῥοιώ, гранатовое дерево), т.е. гранатовый плод (Диониса), а дед — Стафилос (Στάφυλος), т.е. Дионисов виноградный грозд (σταφυλή, виноградная гроздь), женатый на Хрисеиде, внучке Дионисовой. Когда Стафилос узнает о беременности дочери, он заключает ее в ковчег [и бросает в воду]: мотив явно дионисийский. Дочери Ания — Ойно, Спермо и Элаис (Οἰνώ, Σπερμώ, Ἐλαΐς, т.е. нимфы вина, хлебного посева и маслины), так называемые Οἰνοτρόφοι или Οἰνοτρόποι, т.е. взрастительницы винограда, или «пресуществительницы» в вино, — триада дионисийских растительных сил, культ которой, в своем переживании, еще сквозит в нашем обряде церковного благословения «пшеницы, вина и елея». Один сын Ания разорван собаками: знакомый нам дионисийский символ. Этот герой Диониса отчужден от него и провозглашен жрецом Аполлона. Трех дочерей своих все же он посвящает Дионису; от этого бога они получают дар своей чудотворной силы и впоследствии испытывают судьбу дионисийских героинь — преследование, бегство и превращение (в белых голубиц, — быть может, не без связи с критским культом голубя).⁴ Так не только Артемида, но и Аниос отняты на Делосе Аполлоном у его соперника-Диониса и принимают черты аполлонийские.
__________________________
[4] οἰνάς (-άδος) ἡ
1) виноградная лоза Anth.
2) дикий голубь, вяхирь Arst.
Уже «Одиссея» выдает попытку — даже благодать изобилия виноградного приписать Аполлону: она называет вино даром Марона, жреца Аполлонова. Между тем уже фракийская родина Марона указывает на его исконную связь с Дионисом, — как и его местный культ и филиация⁵ от Эванта (Εὐάνθης) и Ойнопиона (Οἰνοπίων), двух ипостасей Вакха. Ряд героев и божеств, низведенных до героев, оспаривается Аполлоном у Диониса. Таков, прежде всего, фракийский Орфей (по одной новой теории — самостоятельный бог минийского племени), являющийся, по свидетельствам самих древних, с двойственным обликом пророка аполлонийского и дионисийского. Наксос весь увит дионисийскими легендами: но его герой, Наксос, оказывается сыном Аполлона. Элевтер (Ἐλευθήρ), герой-эпоним города, принадлежащего богу-Разрешителю,⁶ получает в свою очередь в отцы Аполлона. Праздники дионисийского характера, как аттические Осхофории и Фаргелии и лаконские Карнеи (с их σταφυλοδρόµια⁷), превращаются в прославление Аполлона.⁸ В Амиклах Аполлон овладевает хтоническим Иакинфом (Ὑάκινθος), родственным Дионису-Псилаксу (Ψίλαξ). На Амиклейском троне, отданном Аполлону, над гробом Иакинфа, мы встречаем изображения дионисийских героев: Адраста (Ἄδραστος) и Адмета (Ἄδμητος). Адмет («необоримый», как и Адраст — «неизбежный») — ипостась бога смерти, взятого в его дионисийском, страдальном аспекте бога умирающего и воскресающего. Аполлон, в отмщение за пролитую им кровь змия-Пифона, должен нести под началом Адмета подневольную службу. Аполлонийская идея подвергается опасности быть вобранной и поглощенной идеей Диониса. Но развитие мифа восстановляет первую, и божество Аполлона торжествует. Аполлон изводит из Аида Адмета, как героя смертного, в награду за его доброту к своему божественному пастуху-подневольнику: он упоил Мойр вином (черта, заимствованная из дионисийского круга представлений и верований) и заручился их согласием освободить Адмета от смертной участи, если другой смертный решится умереть в замену его. Адмета заменяет его жена Алкеста, — воспоминание о жертвенном убиении жен на древних тризнах.
__________________________
[5] filiation f. развитие чего-л. в преемственной связи, в прямой зависимости.
[6] Ἐλευθήρ, (-ῆρος) ὁ Элевтер, город в Беотии;
ἐλευθέριος — несущий освобождение, освобождающий, избавляющий (Ζεύς Pind., Her., Thuc., Luc.; σωτέρ καὴ ἐ. θεός Arst.)
[7] σταφυλοδρόµια — соревнование в беге, держа в руке фиалу с виноградом.
[8] ὀσχοφόρια, ὠσχοφόρια {ὄσχος} τά осхофории (досл. «несение [виноградных] побегов»). Во время афинского празднества Σκίρα, в 7-й день месяца пианепсиона (октябрь-ноябрь), 20 избранных взрослых юношей (по двое от каждого сословия) по очереди бежали из храма Диониса в Лимнах в храм Афины Скирас (Ἀθηνᾶ Σκιράς) на Фалероне, неся в руках виноградные ветви с гроздьями. Каждый из 10 победителей получал в награду чашу, наполненную напитком, составленным из пяти главнейших продуктов года (вина, меда, сыра, муки и оливкового масла — πενταπλόα), и почетное место в следовавшей затем процессии. Праздничное шествие, в котором впереди поющего хора шли два мальчика в женской одежде, начиналось на Осхофории, площади перед храмом Афины, и следовало к храму Диониса, где Фиталиды приносили жертву.
Θαργήλια τά Фаргелии (афинский праздник в честь Аполлона и Артемиды в месяце фаргелионе, май-июнь) Dem., Arst. Изначально, это был праздник созревания плодов, для чего 6 фаргелиона приносилась жертва Деметре Хлое. Позднее, Фаргелии приобрели характер очистительного и искупительного праздника для всего города и его жителей. Очищение производилось как 6 фаргелиона, в день рождения Артемиды, так и 7, когда родился Аполлон.
Κάρνεα τά Карнеи (празднества в честь Аполлона Карнейского, отмечавшиеся в лакедемонском месяце карнее, август-сентябрь). Торжества начинались 7-го карнея и продолжались в течении девяти дней.
Борьба Аполлона за обладание Фивами оставила свой отпечаток на мифах о Ниобе и Ниобидах. Соперничество двух божеств воплощается, в культурной и обрядовой сфере, в антагонизме двух родов музыки — духовой и струнной. Ряд мифов окрашены стремлением прославить кифару и унизить флейту: таков миф о Марсии.⁹ Музы, исконные дионисийские божества, пророческие нимфы текучих вод, отторгаются у Диониса и неразрывно связываются с Аполлоном. Кифароды (κιθαρῳδοί) замалчивают Диониса, и его чары, и славят Феба.
Своего высшего напряжения и вместе разрешения борьба достигает в Дельфах. Вакх-пришлец рано завладевает хтоническим оракулом Пифона и пророчествует, как во Фракии, устами своей экстатической Пифии. Но Аполлон отвоевывает дельфийский оракул. Это его победа осуществляется, однако, лишь путем ответной уступки, глубоко изменяющей его собственную природу. Он усваивает себе дар экстатических вдохновений, пророчественный и очистительный. Его божество приобретает от Дионисова божества начала энтузиазма, мантики и катартики. Жрица Аполлона в Аргосе иступляется и исполняется богом чрез выпитие крови (по Павсанию, — ἐξ Ἀπόλλωνος µανῆναι). В Дельфах оба бога празднуют свое примирение, необходимое для духовного равновесия Эллады и для полноты творческого раскрытия идеи обоих. В ряде изображений керамики и пластики мы видим символы союза. Дионис и Аполлон подают друг другу руки при ликовании священного фиаса (θίασος).¹⁰ Они обмениваются своими атрибутами. Дионис, отныне «Тирсоносец-Пеан», «Эвий-Пеан»,¹¹ увенчивается лаврами, Аполлон — плющом; Дионис играет на лире, Аполлон-«флейтист» приближает к устам двойную флейту. Впервые эта последняя признается на пифийских играх, и флейтист-Саккадас реформирует в первой половине VI века старую священную драму, изображающую убиение Пифона. Аполлон убил Пифона, но он должен пострадать и искупить убийство изгнанием и неволей: победный бог разделяет судьбы бога страдающего. Спутники Диониса являются в свою очередь с символом Аполлоновой религии. На одной луврской краснофигурной вазе Силен с лирой и канфаром плывет на дельфине. На другой вазе Сатир учится лирной игре: оргиазм учится строю.
Треножник дельфийского храма отдан Аполлоновой Пифии; но под ним чтится священный гроб Диониса. Дельфийский храм разделен: на восточной стороне прославлен изображениями Аполлон, на западной — Дионис. Дельфийский год делится на две части: зимой поется Дионисов дифирамб (διθύραμβος),¹² весну зачинает Аполлонов пеан (παιάν).¹³ Особая коллегия жрецов (ὅσιοι — «святые», в дионисийском смысле) совершает вакхические служения. Миф повествует, что сам Аполлон погребает сердце растерзанного Диониса в Дельфах или на вершине соседнего Парнаса. Две снежные вершины прекрасно-величавой горы поделены между обоими некогда враждовавшими братьями. Дельфийский оракул распространяет по Элладе почитание Диониса.
__________________________
[9] Μαρσύας (-ου), ион. Μαρσύης (-ύεω) ὁ Марсий, сатир, спутник Вакха, с которого Аполлон содрал кожу за попытку состязаться с ним в музыкальном искусстве Her., Xen.
[10] θίασος ὁ
1) торжественное шествие в честь божества, преимущ. Вакха; ex. θίασοι τρεῖς γυναικείων χορῶν Eur. — три вакхических женских хоровода);
2) группа, сонм, сборище; ex. Μουσῶν Arph.; ἡλίκων Eur.
[11] Εὔιος ὁ Эвий, т.е. призываемый возгласами εὖα и οὐοῖ (эпитет Вакха) Plut.
Παιάν (-ᾶνος), эп. Παιήων (-ονο)ς, атт. Παιών (-ῶνος) ὁ целитель, избавитель (Пеан, эпитет бога-целителя, после Гомера отождествлялся преимущ. с Аполлоном, реже с Асклепием и др.).
[12] διθύραμβος (ῠ) ὁ дифирамб
1) эпитет Вакха Eur.
2) торжественная хоровая песнь в честь богов, преимущ. Вакха Pind., Her., Xen., Plat., Arst., Plut.
3) высокопарная речь, славословие Plat., Arst.
[13] παιάν (-ᾶνος), эп. παιήων (-ονος), дор. παίαων (-ονος), атт. παιών (-ῶνος) ὁ пеан, хоровая лирическая песнь, жанр древнегреческой поэзии. Первоначально пеан — это гимн, адресованный Аполлону, позже — и другим богам (Дионису, Гелиосу, Асклепию).
Но если Аполлон выходит из борьбы измененным, — очищенным и просветленным является и Дионис. Синтез обоих божеств впервые дает всей греческой идее ее окончательную формулу. Из обеих божественных потенций слагается эллинский пафос эстетического и этического строя. Оба бога дополняют друг друга, как золотое видение аполлонийских чар умиряет экстатическое буйство музыкального хмеля, как охранительная мера и грань спасает человеческое Я в его центробежном самоотчуждении, как правая объективация наших внутренних хаотических волнений целительно и творчески-плодотворно разрешает правое безумие исступившего из своих граней духа. Поистине Дионис-Дифирамб уже не губитель, а исцелитель, Пеан: «владыка, друг плюща, Вакх, Пеан, Аполлон звонколирный», — славит его трагедия. Филодам, поэт IV века, поет: «Когда сын Зевса и Фионы (мистическое и небесное имя Семелы по ее успении) совершил свои странствия на земле, на Олимп взошел он, Пеаном бессмертным нарекли его там плющом венчанные Музы, Аполлон завел песнь — и они пели»… Дионис принят в число небожителей. Миф и художество представляют его соратником богов в их войне с Гигантами. Без Дионисова содействия не совершил бы той могучей реформации, которая до корней преобразила и очеловечила греческое нравственное сознание. Без Аполлона Дионис не обрел бы среди Муз своей любимицы — Музы трагических хоров, Мельпомены.


1. Метапонт, Лукания. Статер (AR 20mm, 7.45g), 430-410 до н.э. Av: рогатая голова Аполлона Карнея (Κάρνειος). Rv: колос; META
2. Митилини, Лесбос. Гекта (EL 10mm, 2.53g), ок. 377-326 до н.э. Av: рогатая голова Аполлона Карнея. Rv: орел в квадратном поле.


3. Родос, Кария. Æ 37mm (20.20g), I в. н.э. Av: голова Диониса в венке из плюща и радиальной короне; Rv: крылатая Ника стоит на проре, с пальмовой ветвью и афластоном; POΔIΩN
4. Родос, Кария. Драхма (Æ 34mm, 24.42g), 31 до н.э. - 60 н.э. Магистрат Дамарат (Δαμάρατος). Av: голова Диониса в венке из плюща и радиальной короне. Rv: крылатая Ника на проре, с пальмовой ветвью и афластоном; POΔIΩN / EПI ΔAMAPATOY
Этот культурно-исторический синтез начáл аполлонийского и дионисийского совпал с эпохой тиранов. Ища опереться на демократию, тираны покровительствовали народной религии оргийного Вакха. Периандр Коринфский, в VII в. до н.э., вводит дифирамб (приписанный возродителю хороводов — Ариону,¹⁴ ипостаси Дионисовой) в обряд и обычай; той же династии принадлежит ковчег Кипсела, посвященный Дионису. Клисфен Сикионский «отдает» Дионису трагические хоры, прославлявшие дотоле Адраста: трагедия официально связывается с Дионисовым культом. Позднейшие актеры назывались «ремесленниками Диониса» или, собственно, «круг Диониса» (οἰ περὶ ∆ιόνυσον τεχνῖται): думаем, что это наименование спутников бога можно толковать в смысле хоровой дружины того, кто носил постоянную маску Диониса, — протагониста священной драмы Дионисовых страстей. «Крылатое слово»: οὐδὲν πρὸς ∆ιόνυσον (т.е. «здесь нет ничего, что бы касалось до Диониса»), — формулировавшее критерий «дионисийности», который был обычным в древности при оценке трагедий, — возникло, быть может, в том же Сикионе и запечатлело протест толпы против расширения культового содержания драмы и дифирамба путем перенесения Дионисовых черт на новых героев, возникавших как бы личинами божественного героя трагических «страстей». Особенно важное значение в деле утверждения Дионисовой религии имеет правление Писистрата в Афинах. Писистрат исходит из тех же политических соображений, как и Периандр: он опирается на сельское население и поднимает его религию. Он учреждает «городские Дионисии». Он даже ищет отожествить себя с Дионисом до такой степени, что в одной статуе бога, при нем воздвигнутой, современники узнают его черты. Будучи сам родом из местности, где сельский культ Вакха был прочен, Писистрат в своей внешнеполитической деятельности вступает в соотношения с государственными общинами Дионисова исповедания. В пору своего временного изгнания, проведенного им во Фракии, он, конечно, вполне проникается дионисийской идеей. Предпринятой им переработке гомеровских рапсодий обязаны мы, вероятно, несколькими дионисийскими интерполяциями в тексте Гомера. Преобразуя культы Делоса, Писистрат, по-видимому, и там выдвигает элементы религии Дионисовой; орудием для того служит миф о Тесее, облик которого принимает многие дионисийские черты. Религиозная деятельность Писистрата увенчивается орфической реформой.
Эту реформу можно определить как попытку основания дионисийской церкви. Некогда обвиняли деятелей этого движения, особенно теолога при дворе Писистрата — Ономакрита,¹⁵ в сознательных подлогах, которыми они будто бы придали своим собственным измышлениям характер древнейшего авторитета. Мы знаем теперь, что, несмотря на свободу редакции, допущенную орфиками, реформа имела целью закрепить действительно древнее предание. Новая община вступила в союз с культовой общиной Элевсина и путем религиозного синкретизма преобразила элевсинское служение. Она дала ему религиозно-мистическое и гностическое углубление и создала тот загадочный и могущественный фактор эллинской религиозной жизни, который вся древность так высоко оценивала и чтила, а мы тщетно ищем расследовать и уразуметь до конца — в Элевсинских мистериях.
__________________________
[14] Ἀρίων ὁ Μηθυμναῖος ὁ Арион из Метимны (о. Лесбос), греч. поэт 2-ой пол. VII в. до н.э. Her., Luc.
[15] Ὀνομάκριτος ὁ Ономакрит, афинский поэт и прорицатель времен Писистратидов, редактор сочинений Гомера и Мусея, приблиз. 520-435 до н.э. Согласно Павсанию, был первым орфическим теологом и поэтом.
Правда, орфическая церковь имела характер эзотерический, характер секты, лишь наполовину разоблачающей свои тайны и не предъявляющей притязаний господствовать над умами народа иначе как в лице и чрез посредство посвященных. Но она дала внутренний устой Дионисовой религии, и когда эта религия подвергалась опасности понижения и вырождения, спасла глубокие идеи, лежавшие в ее основе. В лоне раннего орфизма окончательно сложилась религиозная концепция страдающего бога, как идея космологическая и этическая вместе, — и выработались учения о бессмертии и участи душ, о нравственном миропорядке, о круге рождений (κύκλος γενέσεως), о теле как гробе души (σῶµα σῆµα), о мистическом очищении, о конечном боготождестве человеческого духа (ἐγένου θεὸς ἐξ ἀνθρώπου — «из человека ты стал богом», — формула орфических таинств). Дионисийская религия, преломленная в Веданте орфиков, глубоко напечатлелась на освободительных прозрениях греческой поэзии и на всей философии Греции. Без этой закваски непонятны миросозерцания Пиндара, Эсхила, Платона. Зависимость древнейших философских систем от творчества религиозного везде прозрачна, но еще не раскрыта, как надлежало бы.
В конце гармонического развития эллинской мысли идея вселенского страдания, представление о мире жертвенно страдающем чрез разъединение и разъятие божества, в себе единого, — делается основной идеей как неоплатонизма, так и позднего синкретизма, всех богов отожествившего с Дионисом, поставившего Диониса на высоту Всебога (Παντεός) страдающего, как страдальный аспект мира возникновений и уничтожений. Впрочем, еще Анаксимандр учил об уничтожении индивидуумов, как возмездии, платимом ими за свое обособление и отъединение. Мифы о дионисийских пещерах (βακχικὰ ἄντρα или σπήλαια) показывают, как души упиваются в них чарующими испарениями, чтобы, опьянившись забвением прежней чистоты и единства, ринуться из своей верховной отчизны в юдоль страды земной; кажется, что и Платонова притча о пещере, противополагающая миру ноуменов состояние духа, погруженного в феноменальное, в образе узничества пещерного, — принадлежит к той же семье дионисийских мифов.
В области понятий этических, Дионисова религия возрастила идеал героя страдающего, страстотерпца Геракла, — идеал, который, сочетаясь с утонченной моралью века, создает в воображении Платона (Rp. II, 361 D) образ праведника, признанного при жизни за злодея, подвергаемого поруганиям, бичеванию и распятию, этот пророческий образ, совпадающий с вдохновениями младшего Исаии. Дионисийская мистика сделала доступным язычникам и тот своеобразный мессианизм, который мы находим в знаменитой четвертой Эклоге Вергилия, чрез нее ставшего вещим прорицателем и предметом благоговейного страха в глазах мистического средневековья.
_______________________
Нам остается коснуться, в этом беглом обзоре дионисийских влияний, вопроса о связи между Дионисовой религией и христианством, — только коснуться. Ограничимся несколькими указаниями на первоначальные аналогии между возникающим христианством и Дионисовой религией, которые представляются нам как бы упреждениями, воспринятыми новым откровением из древнего религиозного опыта еще в самой колыбели нашего вероучения.
В евангельских притчах и повествовании мы встречаем непривычную череду образов и символов, принадлежащих кругу дионисийских представлений. Виноград и виноградник (ἄµπελος ∆ιονύσου); виноградари, убивающие сына хозяина в винограднике, как титанические виноградари в винограднике умерщвляют Вакха, он же непосредственно сын Диев, рожденный из чресл небесного отца; рыба и рыбная ловля (∆ιόνυσος ἰχθύς, — как ἰχθύς [рыба], наравне с Орфеем, — символ Христа; ∆ιόνυσος ἁλιεύς [рыбак]); чудесное насыщение народа хлебами и рыбами; хождение по водам и укрощение бури; полевые лилии и дети, играющие на флейте; облик Сына человеческого, как гостя и хозяина пиршеств и участника веселий, как жениха, окруженного девами, несущими светильники, как пастыря и агнца;¹⁶ мед и смоковница; огонь осоляющий, и семя, не оживающее, пока не умрет; отмена поста для сынов чертога брачного, и обещание нового вина в жизни новой; причащение хлебом и вином на жертвенной вечере (как в вакхических мистериях); вход в Иерусалим на осле (животное Диониса) среди вдохновенных кликов и в окружении пальмовых ветвей; эпифании и очищения; миро и слезы женских молитвенных восторгов; в четвертом Евангелии — претворение воды в вино на свадебном пире, речи о воде живой, о виноградной лозе, о съедении тела и выпитии крови Христа, — все это намечено в прообразах Дионисовой религии, как намечен и сам жертвенный облик Бога и человека вместе, чудесно зачатого земной избранницей небесного Отца (по успении своем взятой на небо), преследуемого и бегством спасенного во младенчестве, распространяющего свое внутреннее царство в охваченных священным восторгом, «обратившихся» (µετάνοια, µετατροπή Евангелия), забывших и презревших искаженную земную действительность душах людей, — странствующего по земле со своим божественно-беззаботным и детски-радостным сонмом, — часто не узнаваемого под новыми ликами своих явлений, окруженного непрерывающимся чудом, удаляющегося незаметным из враждебной толпы, — наконец, плененного врагами, страдающего, убитого, погребенного, женщинами оплаканного, воскресшего, взошедшего на небеса до своего нового молнийного явления.
__________________________
[16] Само слово «овен» (ὄῑν, οἰοῖν, οἰῶν) весьма созвучно таким дионисовым атрибутам как вино (οἶνος) или виноградная лоза (οἴνη). А слово βοῦκος (пастух) подозрительно созвучно со славянским словом «Бог», что не противоречит ипостаси Бога, как «пастыря».
Быть может, малоазийские и сирийские общины поклонников Вышнего Бога (ὕψιστος θεός), сохранившие в своих верованиях многие черты культа Диониса Сабазия, посредствовали между Галилеей и дионисийской Элладой и заронили среди соседних язычникам арамеев отголоски прозрений и предчувствий, родившихся в лоне чуждого им богопочитания. Быть может, дионисийские идеи и представления и издавна уже отдавались отдаленным эхом в еврейском пророчествовании. Во всяком случае, родство и взаимное тяготение Дионисовой веры, вдруг преображающей в глазах «вакха»-тирсоносца юдоль земную в блаженную Нису, этой огнем крестящей веры, чрез которую человек теряет свою душу, чтобы вновь приобрести ее, — и первоначальной, существенно экстатической стихии христианства — чувствуется, вопреки особенно ожесточенным нападениям христианских апологетов на все, что от Диониса в язычестве: эта вражда именно объясняется — боязнью соперничества.
Между тем Дионис был тайным и внутренним союзником Бога галилейских рыбарей против иного опасного соперника — Митры, чей культ являет ряд общих с христианством внешних особенностей и, по-видимому, повлиял на некоторые христианские представления, как в свою очередь дионисийство влияло на маздеизм. Если не случилось то, что, по мнению Ренана, было ближайшей исторической возможностью, — если культ Митры не сделался вселенской религией, — отчасти тому причиной было, быть может, скрытое присутствие в христианстве дионисийских начал, которые делали его непосредственно-понятным и бессознательно близким издавна воспитанной для его приятия Дионисовым откровением души языческой.
_______________________________
ЭЛЛИНСКАЯ РЕЛИГИЯ СТРАДАЮЩЕГО БОГА. Глава IX
Во Фракии мы застаем дионисийскую религию в процессе ее образования, всецело отвечающем тому гипотетическому построению, которое явилось результатом нашего анализа связей между вакхическим культом и оргиазмом тризн. Должно ли думать, что именно фракийцы принесли эллинам откровение Диониса? Мы не решаемся утверждать об этом ничего положительного. Оргиастическая почва, наследие древнейшего культа душ, была подготовлена для новой веры, как мы видели, повсюду; самая вера выработалась в лоне отдельных племен, потом охватила своим заражением весь греческий мир. Вот все, что представляется нам достоверным. Везде в мифе Дионис со своим оргийным сонмом является пришельцем извне и завоевателем; он встречает сопротивление, и побеждает его. Как плющ стелется по зарослям, ползет по стволам чащи, укутывает деревья и опутывает ветви, — и деревья то как бы мирятся и роднятся с ним, и кажутся удвоенными его зеленой сетью, то чахнут и глохнут в его живучих и убийственных тисках, — так бог плюща обвил своею избыточной силой всю народную религию, удвоил собою одни культы и вытеснил другие. Одно только сопротивление было возможно и действительно: там, где дионисийская идея была раньше вобрана культом верховного бога, Дионис был бессилен пред своей же собственной сущностью. Все остальное в народной религии должно было принять более или менее глубокий отпечаток его влияния.
Возьмем пример. Ни одно жертвоприношение не могло обойтись в исторической Греции без флейт. Между тем, Гомер ничего не знает о флейте при жертвенных обрядах. Флейты, которые слышались, по Гомеру, и в греческом стане, и в стенах осажденной Трои, были принесены из Фригии, — быть может, также из Фракии или с острова Крита, — но сделались необходимой частью общеэллинского богослужения. Принесены же были они, конечно, вакхическими сонмами. О том же свидетельствует употребление венков. Гомер не знает цветочных венков. Первоначально они применялись только при погребениях; мы видим их на головах покойников на древнейших вазах. Возложение венка на голову мертвого было, по-видимому, связано с его обожествлением.¹ Вместе с погребальной маской венок был снят с мертвого и возложен на живых. Это было дело той тризны, откуда произошла дионисийская религия. Эта религия овладевает венком, как своим особенным символом и атрибутом; он зовется «вакх».
__________________________
[1] В Египте венец на голове покойника назывался «венцом оправдания» (mȝḥ n mȝˁ-ḫrw). Согласно египетской традиции, «венец оправдания» водружался на голову новопреставившемуся в качестве символа чистоты. Согласно религиозным представлениям, душе покойного надлежало пройти суд Осириса, на котором взвешивалось его сердце. Если его сердце оказывалось не отягощенным грехами — умерший получал статус «оправданного» (дословно, правогласного) и попадал в вечнозеленые тростниковые поля. Венец оправдания также известен как «венец бессмертия» (Crown of immortality).
«Специальная глава «Книги мертвых» (XIX) была посвящена венцу подобного рода, и до нас дошла даже магическая формула, которую следовало читать, когда такой венок возлагали на крышку гроба. Эти «венцы оправдания» (Wreath of triumph / Wreath of justification) были широко распространены со времени XVII династии до греко-римского периода.» (Говард Картер. Гробница Тутанхамона)
Из религии Диониса венок заимствуется общегреческим культом и общегреческим обычаем. Пиршество без венков на головах гостей невозможно, потому что вино и чаши и пиршественные трапезы — служение Дионису. Венок делается принадлежностью пиров, как и Дионисов дифирамб, о котором Архилох поет:
«Мὸлнийным вином зажженный, я ль за чашей не горазд
Затянуть запевом звонким Дионису дифирамб?»
Не имея в виду дать полный исторический очерк распространения Дионисовой религии и ее дальнейших судеб в эллинском мире, ограничимся характеристикой нескольких главных этапов этого распространения и нескольких моментов ее влияния, имевших мировое значение.
Верная своему происхождению из тризны и почитания душ, религия Диониса должна была примкнуть к уже готовым местным культам сил подземных и растительных. Было указано на сравнительно позднее образование имени Диониса. В ту эпоху, когда вакхическая идея овладевает Элладой, должно было дифференцироваться имя и понятие Дия-Диониса от Дия-Зевса эллинов. Одну из самых ранних ступеней этой дифференциации мы застаем в Беотии. Фивы делаются преимущественно родиной Диониса; там он родится от Зевса и дочери Кадмовой, Семелы.
Фивы — центр культа Ареса, как бога смерти, бога человеческих жертвоприношений, — свидетельством тому служит миф о Менекее, заколовшем себя в жертву буйному и воинственному богу на стенах семивратного города и возрастившем из своей пролитой крови гранатовое дерево. Семела,² чье мистическое святилище (ἄβατον) обличает ее хтоническую сущность, — дочь Змееубийцы и Гармонии, дочери Аресовой. Змея, убитая Кадмом, родилась от Ареса, и сам он вместе с женой обращаются в змей. Змея же всегда символ хтонический. Кадм — домовой змий, µένοικος ὄφις, равноименный Менекею: дух, живущий в недрах, древний дух тризн. Но если хтоническая основа культов додионисийских объясняет легкость их сочетания и смешения с Вакховой религией в Беотии, то в той же Беотии эта религия является нам с чертами чисто эллинскими: ее мрачный характер изменяется, просветляется, кровавый элемент смягчен, идея растительного изобилия, зависящего от хтонических сил, и радостный оргиазм вступают в свои права. Дионис чтится в Фивах под своими растительными и оргиастическими символами — в фетишах столпа и плюща. Занесенные из Фригии экстатические флейты оглашают оргии Киферона. Местная керамика выдает нам безудержность оргийного разгула беотийских вакханалий. Дионис встречает на своем пути ряд местных растительных и сельских божеств; он вбирает в себя их numina и nomina.³ Бог Аристей усваивает себе его черты и становится дионисийским героем. Боги Φλές (или Φλεών), и Βρισεύς обращаются в культовые наименования (ἐπικλήσεις) Диониса. Но пришлец сталкивается на своем завоевательном пути и с противником огромной силы. Его имя — Аполлон. Отношения между этими божествами — одна из любопытнейших страниц истории эллинской религии; но они еще недостаточно расследованы. Между тем в этих отношениях пред глазами исследователя развертывается великая культурная борьба, положившая неизгладимую печать на всю греческую жизнь.
__________________________
[2] Σεμέλη, дор. Σεμέλα ἡ Семела (дочь Кадма и Гермионы, мать Вакха от Зевса) Pind., Her., Eur.
συμμελαίνομαι (συμ-μελαίνομαι) становиться совершенно черным, совершенно чернеть;
μέλας — черный;
[3] numina et nomina — обличия (божественные проявления) и имена (эпиклесы).
В Аполлоновой религии единственно проявилось влияние эллинского жречества. Если бы совокупность исторических причин не воспрепятствовала усилению греческого жречества, вся религия и образованность Греции нашла бы, вероятно, другие пути развития. Греция, наподобие Индии, создала бы великие религиозно-философские учения; она углубила бы свою народную веру, которая осталась нестройным и поэтическим, в своей живой и изменчивой противоречивости, многобожием; слабость жречества, неблагоприятная для развития глубочайших мистических и умозрительных начал, данных в зародыше во фрагментах эллинской «теологии» (θεολογία), — была, напротив, благоприятна расцвету искусства, поэзии и научно-философской мысли. Потенция греческого жречества сказалась в создании религии Аполлоновой. Не даром как бы на знамени этой жреческой религии — на портике дельфийского храма — были начертаны многозначительные в своей гиератической краткости изречения: «(ты) еси» (εἶ, ибо таково естественное истолкование всегда казавшегося загадочным слова) и «Познай самого себя» (мы разумеем: как сущего, — познай в себе Самого, т.е. Атмана индусов), — что прямо обращает нас к «Еси» (asi) и «То ты еси» (tattvamasi) ведической философии, — быть может, общему и международному достоянию сокровенной, эстетической мудрости жрецов и теургов (θεουργός), для которой понятие и слово «бытия» уже само по себе заключало идею божественности, как это сквозит еще в элеатском учении о бытии или в еврейских монотеистических формулах: «Сущий», «Аз есмь», «Я буду, кто буду».
Кажется, что развитие аполлонийской религии было существенно обусловлено аристократической оппозицией культовым и культурным захватам народных оргиастических вер, — религии Дионисовой, могущественной пристрастием сельских, земледельческих масс. Бог строя и меры, порядка и гармонии, сдержки и обособления, бог завоевателей и господ, законодателей и повелителей, — бог, прежде всего, мужской религиозной реакции против женского владычества (вспомним оправдание матереубийцы Ореста в Дельфах) и женских, всегда оргийных, культов, — должен был считаться с соперником — разрешителем, освободителем, задушевным богом неудержной скорби и неудержного веселья, варварским богом темных переживаний и неустроенных движений души, — богом мужеубийственных женских сонмов. Соперничество обоих божеств выразилось в стремлении Аполлонова культа усвоить и захватить в свое обладание ряд достояний Диониса. Сюда, прежде всего, может быть отнесено отлучение Артемиды от Диониса и ее сочетание с Аполлоном в образе сестры.
Это соединение Артемиды с Аполлоном совершилось в одном из главных древних центров греческой религиозной и культурной жизни, на острове Делосе (с которым мы все лучше знакомимся, благодаря новейшим раскопкам, делающим Франции такую же честь, как и ее раскопки в Дельфах). На Делосе Артемида издавна у себя дома. Это видно уже из гомеровского наименования острова именем Артемиды Ортигии. С другой стороны, критское влияние было могущественно на Делосе. Аполлон и Артемида строят себе там алтарь из рогов: образ внушен, быть может, критским обычаем, установленным результатами новейших раскопок на Крите, — украшать жертвенники рогами, чему параллели находятся в библейских текстах. Тесей, возвращаясь победоносный, с Крита, учреждает на Делосе круговой танец, подражающий блужданию в Лабиринте (предмет изображений на знаменитой архаической вазе «François» во Флоренции): обряд сам провозглашает свое критское происхождение. Религия критская — религия Артемиды и некоего Дионисова первообраза; и священная пляска, конечно, отрасль оргиастических обрядов критского бога двойного топора. На древнейшей дионисийской почве Делоса утверждается религия обособившегося Диониса. Герой Делоса — Аниос (Ἄνιος), его мать — Ройо (Ῥοιώ, гранатовое дерево), т.е. гранатовый плод (Диониса), а дед — Стафилос (Στάφυλος), т.е. Дионисов виноградный грозд (σταφυλή, виноградная гроздь), женатый на Хрисеиде, внучке Дионисовой. Когда Стафилос узнает о беременности дочери, он заключает ее в ковчег [и бросает в воду]: мотив явно дионисийский. Дочери Ания — Ойно, Спермо и Элаис (Οἰνώ, Σπερμώ, Ἐλαΐς, т.е. нимфы вина, хлебного посева и маслины), так называемые Οἰνοτρόφοι или Οἰνοτρόποι, т.е. взрастительницы винограда, или «пресуществительницы» в вино, — триада дионисийских растительных сил, культ которой, в своем переживании, еще сквозит в нашем обряде церковного благословения «пшеницы, вина и елея». Один сын Ания разорван собаками: знакомый нам дионисийский символ. Этот герой Диониса отчужден от него и провозглашен жрецом Аполлона. Трех дочерей своих все же он посвящает Дионису; от этого бога они получают дар своей чудотворной силы и впоследствии испытывают судьбу дионисийских героинь — преследование, бегство и превращение (в белых голубиц, — быть может, не без связи с критским культом голубя).⁴ Так не только Артемида, но и Аниос отняты на Делосе Аполлоном у его соперника-Диониса и принимают черты аполлонийские.
__________________________
[4] οἰνάς (-άδος) ἡ
1) виноградная лоза Anth.
2) дикий голубь, вяхирь Arst.
Уже «Одиссея» выдает попытку — даже благодать изобилия виноградного приписать Аполлону: она называет вино даром Марона, жреца Аполлонова. Между тем уже фракийская родина Марона указывает на его исконную связь с Дионисом, — как и его местный культ и филиация⁵ от Эванта (Εὐάνθης) и Ойнопиона (Οἰνοπίων), двух ипостасей Вакха. Ряд героев и божеств, низведенных до героев, оспаривается Аполлоном у Диониса. Таков, прежде всего, фракийский Орфей (по одной новой теории — самостоятельный бог минийского племени), являющийся, по свидетельствам самих древних, с двойственным обликом пророка аполлонийского и дионисийского. Наксос весь увит дионисийскими легендами: но его герой, Наксос, оказывается сыном Аполлона. Элевтер (Ἐλευθήρ), герой-эпоним города, принадлежащего богу-Разрешителю,⁶ получает в свою очередь в отцы Аполлона. Праздники дионисийского характера, как аттические Осхофории и Фаргелии и лаконские Карнеи (с их σταφυλοδρόµια⁷), превращаются в прославление Аполлона.⁸ В Амиклах Аполлон овладевает хтоническим Иакинфом (Ὑάκινθος), родственным Дионису-Псилаксу (Ψίλαξ). На Амиклейском троне, отданном Аполлону, над гробом Иакинфа, мы встречаем изображения дионисийских героев: Адраста (Ἄδραστος) и Адмета (Ἄδμητος). Адмет («необоримый», как и Адраст — «неизбежный») — ипостась бога смерти, взятого в его дионисийском, страдальном аспекте бога умирающего и воскресающего. Аполлон, в отмщение за пролитую им кровь змия-Пифона, должен нести под началом Адмета подневольную службу. Аполлонийская идея подвергается опасности быть вобранной и поглощенной идеей Диониса. Но развитие мифа восстановляет первую, и божество Аполлона торжествует. Аполлон изводит из Аида Адмета, как героя смертного, в награду за его доброту к своему божественному пастуху-подневольнику: он упоил Мойр вином (черта, заимствованная из дионисийского круга представлений и верований) и заручился их согласием освободить Адмета от смертной участи, если другой смертный решится умереть в замену его. Адмета заменяет его жена Алкеста, — воспоминание о жертвенном убиении жен на древних тризнах.
__________________________
[5] filiation f. развитие чего-л. в преемственной связи, в прямой зависимости.
[6] Ἐλευθήρ, (-ῆρος) ὁ Элевтер, город в Беотии;
ἐλευθέριος — несущий освобождение, освобождающий, избавляющий (Ζεύς Pind., Her., Thuc., Luc.; σωτέρ καὴ ἐ. θεός Arst.)
[7] σταφυλοδρόµια — соревнование в беге, держа в руке фиалу с виноградом.
[8] ὀσχοφόρια, ὠσχοφόρια {ὄσχος} τά осхофории (досл. «несение [виноградных] побегов»). Во время афинского празднества Σκίρα, в 7-й день месяца пианепсиона (октябрь-ноябрь), 20 избранных взрослых юношей (по двое от каждого сословия) по очереди бежали из храма Диониса в Лимнах в храм Афины Скирас (Ἀθηνᾶ Σκιράς) на Фалероне, неся в руках виноградные ветви с гроздьями. Каждый из 10 победителей получал в награду чашу, наполненную напитком, составленным из пяти главнейших продуктов года (вина, меда, сыра, муки и оливкового масла — πενταπλόα), и почетное место в следовавшей затем процессии. Праздничное шествие, в котором впереди поющего хора шли два мальчика в женской одежде, начиналось на Осхофории, площади перед храмом Афины, и следовало к храму Диониса, где Фиталиды приносили жертву.
Θαργήλια τά Фаргелии (афинский праздник в честь Аполлона и Артемиды в месяце фаргелионе, май-июнь) Dem., Arst. Изначально, это был праздник созревания плодов, для чего 6 фаргелиона приносилась жертва Деметре Хлое. Позднее, Фаргелии приобрели характер очистительного и искупительного праздника для всего города и его жителей. Очищение производилось как 6 фаргелиона, в день рождения Артемиды, так и 7, когда родился Аполлон.
Κάρνεα τά Карнеи (празднества в честь Аполлона Карнейского, отмечавшиеся в лакедемонском месяце карнее, август-сентябрь). Торжества начинались 7-го карнея и продолжались в течении девяти дней.
Борьба Аполлона за обладание Фивами оставила свой отпечаток на мифах о Ниобе и Ниобидах. Соперничество двух божеств воплощается, в культурной и обрядовой сфере, в антагонизме двух родов музыки — духовой и струнной. Ряд мифов окрашены стремлением прославить кифару и унизить флейту: таков миф о Марсии.⁹ Музы, исконные дионисийские божества, пророческие нимфы текучих вод, отторгаются у Диониса и неразрывно связываются с Аполлоном. Кифароды (κιθαρῳδοί) замалчивают Диониса, и его чары, и славят Феба.
Своего высшего напряжения и вместе разрешения борьба достигает в Дельфах. Вакх-пришлец рано завладевает хтоническим оракулом Пифона и пророчествует, как во Фракии, устами своей экстатической Пифии. Но Аполлон отвоевывает дельфийский оракул. Это его победа осуществляется, однако, лишь путем ответной уступки, глубоко изменяющей его собственную природу. Он усваивает себе дар экстатических вдохновений, пророчественный и очистительный. Его божество приобретает от Дионисова божества начала энтузиазма, мантики и катартики. Жрица Аполлона в Аргосе иступляется и исполняется богом чрез выпитие крови (по Павсанию, — ἐξ Ἀπόλλωνος µανῆναι). В Дельфах оба бога празднуют свое примирение, необходимое для духовного равновесия Эллады и для полноты творческого раскрытия идеи обоих. В ряде изображений керамики и пластики мы видим символы союза. Дионис и Аполлон подают друг другу руки при ликовании священного фиаса (θίασος).¹⁰ Они обмениваются своими атрибутами. Дионис, отныне «Тирсоносец-Пеан», «Эвий-Пеан»,¹¹ увенчивается лаврами, Аполлон — плющом; Дионис играет на лире, Аполлон-«флейтист» приближает к устам двойную флейту. Впервые эта последняя признается на пифийских играх, и флейтист-Саккадас реформирует в первой половине VI века старую священную драму, изображающую убиение Пифона. Аполлон убил Пифона, но он должен пострадать и искупить убийство изгнанием и неволей: победный бог разделяет судьбы бога страдающего. Спутники Диониса являются в свою очередь с символом Аполлоновой религии. На одной луврской краснофигурной вазе Силен с лирой и канфаром плывет на дельфине. На другой вазе Сатир учится лирной игре: оргиазм учится строю.
Треножник дельфийского храма отдан Аполлоновой Пифии; но под ним чтится священный гроб Диониса. Дельфийский храм разделен: на восточной стороне прославлен изображениями Аполлон, на западной — Дионис. Дельфийский год делится на две части: зимой поется Дионисов дифирамб (διθύραμβος),¹² весну зачинает Аполлонов пеан (παιάν).¹³ Особая коллегия жрецов (ὅσιοι — «святые», в дионисийском смысле) совершает вакхические служения. Миф повествует, что сам Аполлон погребает сердце растерзанного Диониса в Дельфах или на вершине соседнего Парнаса. Две снежные вершины прекрасно-величавой горы поделены между обоими некогда враждовавшими братьями. Дельфийский оракул распространяет по Элладе почитание Диониса.
__________________________
[9] Μαρσύας (-ου), ион. Μαρσύης (-ύεω) ὁ Марсий, сатир, спутник Вакха, с которого Аполлон содрал кожу за попытку состязаться с ним в музыкальном искусстве Her., Xen.
[10] θίασος ὁ
1) торжественное шествие в честь божества, преимущ. Вакха; ex. θίασοι τρεῖς γυναικείων χορῶν Eur. — три вакхических женских хоровода);
2) группа, сонм, сборище; ex. Μουσῶν Arph.; ἡλίκων Eur.
[11] Εὔιος ὁ Эвий, т.е. призываемый возгласами εὖα и οὐοῖ (эпитет Вакха) Plut.
Παιάν (-ᾶνος), эп. Παιήων (-ονο)ς, атт. Παιών (-ῶνος) ὁ целитель, избавитель (Пеан, эпитет бога-целителя, после Гомера отождествлялся преимущ. с Аполлоном, реже с Асклепием и др.).
[12] διθύραμβος (ῠ) ὁ дифирамб
1) эпитет Вакха Eur.
2) торжественная хоровая песнь в честь богов, преимущ. Вакха Pind., Her., Xen., Plat., Arst., Plut.
3) высокопарная речь, славословие Plat., Arst.
[13] παιάν (-ᾶνος), эп. παιήων (-ονος), дор. παίαων (-ονος), атт. παιών (-ῶνος) ὁ пеан, хоровая лирическая песнь, жанр древнегреческой поэзии. Первоначально пеан — это гимн, адресованный Аполлону, позже — и другим богам (Дионису, Гелиосу, Асклепию).
Но если Аполлон выходит из борьбы измененным, — очищенным и просветленным является и Дионис. Синтез обоих божеств впервые дает всей греческой идее ее окончательную формулу. Из обеих божественных потенций слагается эллинский пафос эстетического и этического строя. Оба бога дополняют друг друга, как золотое видение аполлонийских чар умиряет экстатическое буйство музыкального хмеля, как охранительная мера и грань спасает человеческое Я в его центробежном самоотчуждении, как правая объективация наших внутренних хаотических волнений целительно и творчески-плодотворно разрешает правое безумие исступившего из своих граней духа. Поистине Дионис-Дифирамб уже не губитель, а исцелитель, Пеан: «владыка, друг плюща, Вакх, Пеан, Аполлон звонколирный», — славит его трагедия. Филодам, поэт IV века, поет: «Когда сын Зевса и Фионы (мистическое и небесное имя Семелы по ее успении) совершил свои странствия на земле, на Олимп взошел он, Пеаном бессмертным нарекли его там плющом венчанные Музы, Аполлон завел песнь — и они пели»… Дионис принят в число небожителей. Миф и художество представляют его соратником богов в их войне с Гигантами. Без Дионисова содействия не совершил бы той могучей реформации, которая до корней преобразила и очеловечила греческое нравственное сознание. Без Аполлона Дионис не обрел бы среди Муз своей любимицы — Музы трагических хоров, Мельпомены.


1. Метапонт, Лукания. Статер (AR 20mm, 7.45g), 430-410 до н.э. Av: рогатая голова Аполлона Карнея (Κάρνειος). Rv: колос; META
2. Митилини, Лесбос. Гекта (EL 10mm, 2.53g), ок. 377-326 до н.э. Av: рогатая голова Аполлона Карнея. Rv: орел в квадратном поле.


3. Родос, Кария. Æ 37mm (20.20g), I в. н.э. Av: голова Диониса в венке из плюща и радиальной короне; Rv: крылатая Ника стоит на проре, с пальмовой ветвью и афластоном; POΔIΩN
4. Родос, Кария. Драхма (Æ 34mm, 24.42g), 31 до н.э. - 60 н.э. Магистрат Дамарат (Δαμάρατος). Av: голова Диониса в венке из плюща и радиальной короне. Rv: крылатая Ника на проре, с пальмовой ветвью и афластоном; POΔIΩN / EПI ΔAMAPATOY
Этот культурно-исторический синтез начáл аполлонийского и дионисийского совпал с эпохой тиранов. Ища опереться на демократию, тираны покровительствовали народной религии оргийного Вакха. Периандр Коринфский, в VII в. до н.э., вводит дифирамб (приписанный возродителю хороводов — Ариону,¹⁴ ипостаси Дионисовой) в обряд и обычай; той же династии принадлежит ковчег Кипсела, посвященный Дионису. Клисфен Сикионский «отдает» Дионису трагические хоры, прославлявшие дотоле Адраста: трагедия официально связывается с Дионисовым культом. Позднейшие актеры назывались «ремесленниками Диониса» или, собственно, «круг Диониса» (οἰ περὶ ∆ιόνυσον τεχνῖται): думаем, что это наименование спутников бога можно толковать в смысле хоровой дружины того, кто носил постоянную маску Диониса, — протагониста священной драмы Дионисовых страстей. «Крылатое слово»: οὐδὲν πρὸς ∆ιόνυσον (т.е. «здесь нет ничего, что бы касалось до Диониса»), — формулировавшее критерий «дионисийности», который был обычным в древности при оценке трагедий, — возникло, быть может, в том же Сикионе и запечатлело протест толпы против расширения культового содержания драмы и дифирамба путем перенесения Дионисовых черт на новых героев, возникавших как бы личинами божественного героя трагических «страстей». Особенно важное значение в деле утверждения Дионисовой религии имеет правление Писистрата в Афинах. Писистрат исходит из тех же политических соображений, как и Периандр: он опирается на сельское население и поднимает его религию. Он учреждает «городские Дионисии». Он даже ищет отожествить себя с Дионисом до такой степени, что в одной статуе бога, при нем воздвигнутой, современники узнают его черты. Будучи сам родом из местности, где сельский культ Вакха был прочен, Писистрат в своей внешнеполитической деятельности вступает в соотношения с государственными общинами Дионисова исповедания. В пору своего временного изгнания, проведенного им во Фракии, он, конечно, вполне проникается дионисийской идеей. Предпринятой им переработке гомеровских рапсодий обязаны мы, вероятно, несколькими дионисийскими интерполяциями в тексте Гомера. Преобразуя культы Делоса, Писистрат, по-видимому, и там выдвигает элементы религии Дионисовой; орудием для того служит миф о Тесее, облик которого принимает многие дионисийские черты. Религиозная деятельность Писистрата увенчивается орфической реформой.
Эту реформу можно определить как попытку основания дионисийской церкви. Некогда обвиняли деятелей этого движения, особенно теолога при дворе Писистрата — Ономакрита,¹⁵ в сознательных подлогах, которыми они будто бы придали своим собственным измышлениям характер древнейшего авторитета. Мы знаем теперь, что, несмотря на свободу редакции, допущенную орфиками, реформа имела целью закрепить действительно древнее предание. Новая община вступила в союз с культовой общиной Элевсина и путем религиозного синкретизма преобразила элевсинское служение. Она дала ему религиозно-мистическое и гностическое углубление и создала тот загадочный и могущественный фактор эллинской религиозной жизни, который вся древность так высоко оценивала и чтила, а мы тщетно ищем расследовать и уразуметь до конца — в Элевсинских мистериях.
__________________________
[14] Ἀρίων ὁ Μηθυμναῖος ὁ Арион из Метимны (о. Лесбос), греч. поэт 2-ой пол. VII в. до н.э. Her., Luc.
[15] Ὀνομάκριτος ὁ Ономакрит, афинский поэт и прорицатель времен Писистратидов, редактор сочинений Гомера и Мусея, приблиз. 520-435 до н.э. Согласно Павсанию, был первым орфическим теологом и поэтом.
Правда, орфическая церковь имела характер эзотерический, характер секты, лишь наполовину разоблачающей свои тайны и не предъявляющей притязаний господствовать над умами народа иначе как в лице и чрез посредство посвященных. Но она дала внутренний устой Дионисовой религии, и когда эта религия подвергалась опасности понижения и вырождения, спасла глубокие идеи, лежавшие в ее основе. В лоне раннего орфизма окончательно сложилась религиозная концепция страдающего бога, как идея космологическая и этическая вместе, — и выработались учения о бессмертии и участи душ, о нравственном миропорядке, о круге рождений (κύκλος γενέσεως), о теле как гробе души (σῶµα σῆµα), о мистическом очищении, о конечном боготождестве человеческого духа (ἐγένου θεὸς ἐξ ἀνθρώπου — «из человека ты стал богом», — формула орфических таинств). Дионисийская религия, преломленная в Веданте орфиков, глубоко напечатлелась на освободительных прозрениях греческой поэзии и на всей философии Греции. Без этой закваски непонятны миросозерцания Пиндара, Эсхила, Платона. Зависимость древнейших философских систем от творчества религиозного везде прозрачна, но еще не раскрыта, как надлежало бы.
В конце гармонического развития эллинской мысли идея вселенского страдания, представление о мире жертвенно страдающем чрез разъединение и разъятие божества, в себе единого, — делается основной идеей как неоплатонизма, так и позднего синкретизма, всех богов отожествившего с Дионисом, поставившего Диониса на высоту Всебога (Παντεός) страдающего, как страдальный аспект мира возникновений и уничтожений. Впрочем, еще Анаксимандр учил об уничтожении индивидуумов, как возмездии, платимом ими за свое обособление и отъединение. Мифы о дионисийских пещерах (βακχικὰ ἄντρα или σπήλαια) показывают, как души упиваются в них чарующими испарениями, чтобы, опьянившись забвением прежней чистоты и единства, ринуться из своей верховной отчизны в юдоль страды земной; кажется, что и Платонова притча о пещере, противополагающая миру ноуменов состояние духа, погруженного в феноменальное, в образе узничества пещерного, — принадлежит к той же семье дионисийских мифов.
В области понятий этических, Дионисова религия возрастила идеал героя страдающего, страстотерпца Геракла, — идеал, который, сочетаясь с утонченной моралью века, создает в воображении Платона (Rp. II, 361 D) образ праведника, признанного при жизни за злодея, подвергаемого поруганиям, бичеванию и распятию, этот пророческий образ, совпадающий с вдохновениями младшего Исаии. Дионисийская мистика сделала доступным язычникам и тот своеобразный мессианизм, который мы находим в знаменитой четвертой Эклоге Вергилия, чрез нее ставшего вещим прорицателем и предметом благоговейного страха в глазах мистического средневековья.
Нам остается коснуться, в этом беглом обзоре дионисийских влияний, вопроса о связи между Дионисовой религией и христианством, — только коснуться. Ограничимся несколькими указаниями на первоначальные аналогии между возникающим христианством и Дионисовой религией, которые представляются нам как бы упреждениями, воспринятыми новым откровением из древнего религиозного опыта еще в самой колыбели нашего вероучения.
В евангельских притчах и повествовании мы встречаем непривычную череду образов и символов, принадлежащих кругу дионисийских представлений. Виноград и виноградник (ἄµπελος ∆ιονύσου); виноградари, убивающие сына хозяина в винограднике, как титанические виноградари в винограднике умерщвляют Вакха, он же непосредственно сын Диев, рожденный из чресл небесного отца; рыба и рыбная ловля (∆ιόνυσος ἰχθύς, — как ἰχθύς [рыба], наравне с Орфеем, — символ Христа; ∆ιόνυσος ἁλιεύς [рыбак]); чудесное насыщение народа хлебами и рыбами; хождение по водам и укрощение бури; полевые лилии и дети, играющие на флейте; облик Сына человеческого, как гостя и хозяина пиршеств и участника веселий, как жениха, окруженного девами, несущими светильники, как пастыря и агнца;¹⁶ мед и смоковница; огонь осоляющий, и семя, не оживающее, пока не умрет; отмена поста для сынов чертога брачного, и обещание нового вина в жизни новой; причащение хлебом и вином на жертвенной вечере (как в вакхических мистериях); вход в Иерусалим на осле (животное Диониса) среди вдохновенных кликов и в окружении пальмовых ветвей; эпифании и очищения; миро и слезы женских молитвенных восторгов; в четвертом Евангелии — претворение воды в вино на свадебном пире, речи о воде живой, о виноградной лозе, о съедении тела и выпитии крови Христа, — все это намечено в прообразах Дионисовой религии, как намечен и сам жертвенный облик Бога и человека вместе, чудесно зачатого земной избранницей небесного Отца (по успении своем взятой на небо), преследуемого и бегством спасенного во младенчестве, распространяющего свое внутреннее царство в охваченных священным восторгом, «обратившихся» (µετάνοια, µετατροπή Евангелия), забывших и презревших искаженную земную действительность душах людей, — странствующего по земле со своим божественно-беззаботным и детски-радостным сонмом, — часто не узнаваемого под новыми ликами своих явлений, окруженного непрерывающимся чудом, удаляющегося незаметным из враждебной толпы, — наконец, плененного врагами, страдающего, убитого, погребенного, женщинами оплаканного, воскресшего, взошедшего на небеса до своего нового молнийного явления.
__________________________
[16] Само слово «овен» (ὄῑν, οἰοῖν, οἰῶν) весьма созвучно таким дионисовым атрибутам как вино (οἶνος) или виноградная лоза (οἴνη). А слово βοῦκος (пастух) подозрительно созвучно со славянским словом «Бог», что не противоречит ипостаси Бога, как «пастыря».
Быть может, малоазийские и сирийские общины поклонников Вышнего Бога (ὕψιστος θεός), сохранившие в своих верованиях многие черты культа Диониса Сабазия, посредствовали между Галилеей и дионисийской Элладой и заронили среди соседних язычникам арамеев отголоски прозрений и предчувствий, родившихся в лоне чуждого им богопочитания. Быть может, дионисийские идеи и представления и издавна уже отдавались отдаленным эхом в еврейском пророчествовании. Во всяком случае, родство и взаимное тяготение Дионисовой веры, вдруг преображающей в глазах «вакха»-тирсоносца юдоль земную в блаженную Нису, этой огнем крестящей веры, чрез которую человек теряет свою душу, чтобы вновь приобрести ее, — и первоначальной, существенно экстатической стихии христианства — чувствуется, вопреки особенно ожесточенным нападениям христианских апологетов на все, что от Диониса в язычестве: эта вражда именно объясняется — боязнью соперничества.
Между тем Дионис был тайным и внутренним союзником Бога галилейских рыбарей против иного опасного соперника — Митры, чей культ являет ряд общих с христианством внешних особенностей и, по-видимому, повлиял на некоторые христианские представления, как в свою очередь дионисийство влияло на маздеизм. Если не случилось то, что, по мнению Ренана, было ближайшей исторической возможностью, — если культ Митры не сделался вселенской религией, — отчасти тому причиной было, быть может, скрытое присутствие в христианстве дионисийских начал, которые делали его непосредственно-понятным и бессознательно близким издавна воспитанной для его приятия Дионисовым откровением души языческой.
_______________________________
|
Метки: Дионис Аполлон Греция |
Понравилось: 1 пользователю






