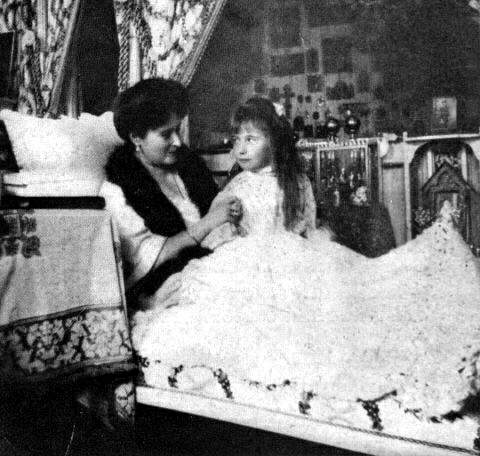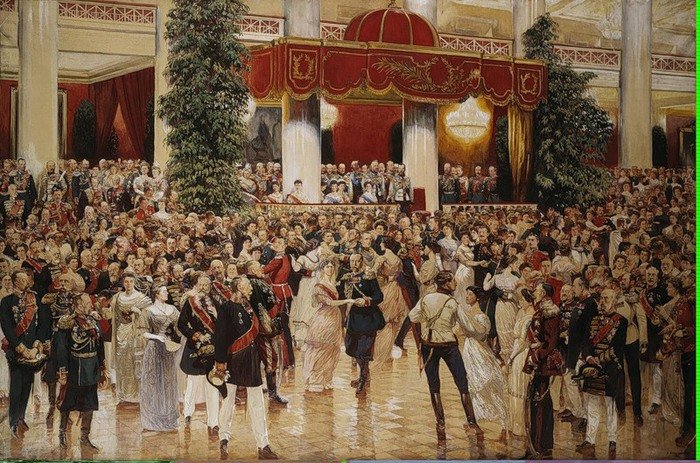-Рубрики
- Россия на пороге отречения (4)
- Верные до последнего (друзья Николая II)) (1)
- Видео о Царской Семье (12)
- Внутри семьи (семейная обстановка) (3)
- Война (4)
- Дворцовые интерьеры (3)
- Дневники Императрицы (1)
- Домашние любимцы (3)
- Достижения России в период правления Николая II (5)
- Император Николай II (6)
- Императрица Александра (9)
- Интриги против Царской Семьи (3)
- Катастрофа России: революция (5)
- Литература о Николае II и его семье (5)
- Наследник престола (3)
- Начало конца: отречение (2)
- НОВОСТИ (0)
- Письма Царской Семьи (16)
- Пророчества о Царской семье (3)
- Случаи из жизни семьи Николая II (2)
- Стихи о Царской Семье (2)
- Тяжкий крест семьи - болезнь Наследника (2)
- Фотоальбом семьи Николая II (20)
- Царские дети (13)
- Чудеса царственных мучеников (4)
-Музыка
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Интересы
-Друзья
-Постоянные читатели
-Сообщества
-Статистика
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА МОЙ НОВЫЙ САЙТ, ПОСВЯЩЕННЫЙ НИКОЛАЮ II. ТАМ РАЗМЕЩЕНЫ ВСЕ ТЕ ЖЕ СТАТЬИ, ЧТО И ЗДЕСЬ, А ТАКЖЕ НОВЫЕ!!!!!!! ТАМ ДОБАВЛЕН ФОТОАЛЬБОМ ЦАРСКОЙ СЕМЬИ СО МНОЖЕСТВОМ ФОТОГРАФИЙ. НОВЫЕ РАЗДЕЛЫ Я ПОСТЕПЕННО БУДУ там ДОБАВЛЯТЬ. МОЙ НОВЫЙ АДРЕС -
http://www.nikolaj2.tw1.ru/ - САЙТ ОПЯТЬ ЗАРАБОТАЛ !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Стихи об Императрице и Княжнах |

***
Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно…
Какие печальные лица
И как это было давно.
Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны —
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны…
Георгий Иванов
![]()
***
Пока бросает ураганами

Державный Вождь свои полки,
Вы наклоняетесь над ранами
С глазами полными тоски.
И имя Вашего Величества
Не позабудется, доколь
Смиряет смерть любви
владычество и ласка утешает боль.
Несчастных кроткая заступница,
России милая сестра,
Где Вы проходите как путница,
Там от цветов земля пестра.
Мы молим: сделай Бог Вас радостной,
А в трудный час и скорбный час
Да снизойдет к Вам Ангел благостный,
Как Вы снисходите до нас.
5-го гусарского Александрийского Вашего
Величества полка прапорщик
Николай Гумилев
7 июня 1916 г.
![]()
ЦАРСКИЕ ДОЧЕРИ
Царские дочери, царские дочери,
Счастье и славу Вам
в жизни пророчили,
Мир восхищался и зрел
Вас воочию,
Царские дочери, царские дочери.
Из лихолетья гляжу в Ваши очи я,
Полные скорби, страдания ночи…
Память в народе о Вас обесточили,
Царские дочери, царские дочери.
Дни наши ныне и мига короче,
Нет у России царевен, лишь прочие,
Есть "мисс Вселенной", "красавицы Сочи",
Царские дочери, царские дочери.
Души забвеньем у нас заколочены
И клеветой на Царя опорочены.
Вечным укором стоят у обочин
Совести нашей … царские дочери!
Владимир Невярович
![]()
Четыре Царственные розы
От рук проклятых и ужасных

Четыре русские княжны.
Ваш взор молитвенно лучистый,
Последний в жизни взгляд очей
Сказал, что вы душою чистой
Простить сумели палачей.
Одна беда была за вами –
Любовью к Родине горя,
Её вы были дочерями
Как дщери русского царя.
Последний вздох, утихли слёзы,
Исчезла жизни суета.
Четыре царственные розы
Прошли сквозь райские врата.
Владимир Петрушевский
ноябрь 1923 г.
![]()
Её Императорскому Высочеству
Великой княжне Анастасии
Николаевне ко дню рождения
Сегодня день Анастасии,
 И мы хотим, чтоб через нас
И мы хотим, чтоб через нас
Любовь и ласка всей России
К Вам благодарно донеслась.
Какая радость нам поздравить
Вас, лучший образ наших снов,
И подпись скромную поставить
Внизу приветственных стихов.
Забыв о том, что накануне
Мы были в яростных боях,
Мы праздник пятого июня
В своих отпразднуем сердцах.
И мы уносим к новой сече
Восторгом полные сердца,
Припоминая наши встречи
Средь царскосельского дворца.
Прапорщик Н. Гумилев, 5 июня 1916 года.
Царскосельский лазарет, Большой Дворец.
![]()
Отец просил Вам передать
пересказ подлинных слов
Великой Княжны Ольги
Отец просил Вам передать,
Чтоб не мстили за него.
Отец просил еще сказать:
Он всех простил до одного.
Всех оправдал в своей душе,
За всех он молится, скорбит.
Но знает, что теперь уже
Путь беззаконию открыт.
Зло будет множиться вокруг,
Но победит не зло - любовь,
И Солнца Правды чистый круг
Над Русью воссияет вновь!
Владимир Невярович
![]()
Из письма Её Императорского Высочества
Великой Княжны Ольги Николаевны

Отец всем просит передать:
Не надо плакать и роптать,
Дни скорби посланы для всех
За наш великий общий грех.
Он все́ обиды позабыл,
Он всех врагов своих простил,
И за Него велит не мстить,
А всех жалеть и всех любить.
Он говорит: мир тонет в зле,
Иссякла правда на земле,
И скорбный крест грядущих дней
Ещё ужасней и страшней.
Но час пробьёт, придёт пора,
Зло одолеет власть добра,
И всё утраченное вновь
Вернёт взаимная любовь.
С. Бехтеев
1941, г. Ницца
![]()
«ОТЕЦ ПРОСИЛ ПЕРЕДАТЬ всем тем, кто Ему остался предан, и тем, на кого они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за Него, так как Он всех простил и за всех молится, и чтобы не мстили за себя, и чтобы помнили, что то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но что не зло победит зло, а только любовь».
Великая Княжна Ольга Николаевна
(отрывок письма из Тобольска)
Серия сообщений "Стихи о Царской Семье":
Часть 1 - Стихи о Николае II и России
Часть 2 - Стихи об Императрице и Княжнах
|
|
Процитировано 3 раз
Понравилось: 3 пользователям
Стихи о Николае II и России |
 от себя: Хочу здесь привести некоторые стихотворения из книги "Царский крест". Много в этом сборнике можно прочесть стихов знаменитого царского поэта и офицера Белой армии Сергея Бехтеева и других современных авторов. Прежде чем перейти к самим стихам остановлюсь на личности С. Бехтеева. Из Википедии (http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%F5%F2%E5%E5%E2...E9_%D1%E5%F0%E3%E5%E5%E2%E8%F7) -
от себя: Хочу здесь привести некоторые стихотворения из книги "Царский крест". Много в этом сборнике можно прочесть стихов знаменитого царского поэта и офицера Белой армии Сергея Бехтеева и других современных авторов. Прежде чем перейти к самим стихам остановлюсь на личности С. Бехтеева. Из Википедии (http://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%E5%F5%F2%E5%E5%E2...E9_%D1%E5%F0%E3%E5%E5%E2%E8%F7) -
Сергей Сергеевич Бехтеев - (20 (7) апреля 1879 - 4 мая1954) (Место рождения Липовка, Орловская губерния, Российская Империя)
"русский поэт и драматург, белогвардейский офицер, эмигрант первой волны, Гражданская лирика Бехтеева посвящена идеалам монархизма. Был лично знаком с семьями Николая II и претендента на российский престол великого князя Кирилла Владимировича. Родился в имении Липовка Елецкого уезда Орловской губернии. Из старинного дворянского рода, известного с 1571 г. Учился в Александровском лицее, По окончании Лицея издаёт сборник стихов, посвящённый императрице Александре Фёдоровне. В 1903 году поступает служить в подшефный Императрице Кавалергардский полк, получает чин офицера.
С началом Первой мировой войны служит в действующей армии, получает ранение в голову и попадает в лазарет, где его посещает Императрица с Великими княжнами. В октябре 1917 г. на пепелище собственного дома в Липовке пишет ряд патриотических стихов. Часть стихов удалось передать Царской семье в Тобольск. Самое известное стихотворение Бехтеева — «Пошли нам, Господи, терпенье…» (Елец, октябрь 1917). Автор послал это стихотворение через графиню А. В. Гендрикову Царской Семье, находившейся в заключении в Тобольске. Его собственноручно переписала старшая дочь Николая II великая княжна Ольга Николаевна, поэтому оно нередко ошибочно приписывалось ей и получило большую известность в русском зарубежье 1920-х годов. Стихотворение сочувственно (хотя отметив его недостатки) оценил Владислав Ходасевич, считавший его автором великую княжну".
Основная тематика других его произведений: трагедия России и русского народа, предательство царя ближайшим окружением, Гражданская война, надежда на воскрешение России и т. п. Многие стихи поэта положены на музыку и исполняются Жанной Бичевской.
В эмиграции выпустил сборники стихов ("Святая Русь", "Царский Гусляр", «Песни русской скорби и слез», «Два письма», «Песни сердца» и др.)
"Умер в Ницце. Похоронен на местном русском кладбище Кокад. Надпись на могильной плите гласит:
Корнет, лицеист Императорского Александровского Лицея 59 курса, царский поэт и офицер белой армии."
![]()
Молитва
(Посвящается их Императорским Высоч.
Вел. Княжнам Ольге Николаевне и Татьяне Николаевне)
Пошли нам, Господи, терпенье,
 В годину буйных, мрачных дней,
В годину буйных, мрачных дней,
Сносить народное гоненье
И пытки наших палачей.
Дай крепость нам, о Боже правый,
Злодейства ближнего прощать
И крест тяжелый и кровавый
С Твоею кротостью встречать.
И в дни мятежного волненья,
Когда ограбят нас враги,
Терпеть позор и униженья
Христос, Спаситель, помоги!
Владыка мира, Бог вселенной!
Благослови молитвой нас
И дай покой душе смиренной,
В невыносимый, смертный час...
И, у преддверия могилы,
Вдохни в уста Твоих рабов
Нечеловеческие силы
Молится кротко за врагов!
г. Елец, Октябрь 1917 г.
![]()
Николай II
(Так писал я на третий день
"бескровной" русской революции - С.Бехтеев)
"Как женщина, Ему вы изменили,
и как рабы, вы предали Его"
М.Ю.Лермонтов
****
В те дни, когда мы все так низко пали,
Везде мне грезится священный Образ Твой,
С глазами, полными божественной печали,
С лицом, исполненным небесной добротой.
Тебя жалеть я не могу, не смею:
Ты для меня - по-прежнему Велик!
Перед тобой, мой Царь, я вновь благоговею,
И больно мне глядеть на Твой Державный Лик.
Слепой народ, обманутый лжецами,
За чистоту души Твоей святой,
Тебя клеймил постыдными словами
И казни требовал, над кем же... над Тобой!
Не так ли пал и Царь коварной Иудеи,
Мессия истины, народная мечта,
И Бога своего преступные евреи
Распяли на доске позорного Креста.
И Царь был осужден на пытки рабской казни,
Над Божеством глумился весь народ,
И люди-изверги убили без боязни
Того, Кто создал мир, моря и небосвод.
Но, победив в аду немые силы гроба,
Воскрес Господь и всем явился вновь;
Побеждена врагов чудовищная злоба,
И козни зла рассеяла Любовь...
Я верю в день священного возмездья!
Клятвопреступники, вас кара неба ждет!
Вас уличат в предательстве созвездья,
Над вами Солнце правды не взойдет;
И камни возопят от вашего злодейства,
Вас грозно обличит правдивая судьба
За низость ваших чувств, за гнусность фарисейства,
За клеветы восставшего раба...
Еще недавно так, пред Ним склоняя вы и,
Клялися вы Его до гроба защищать
И за Царя-Вождя, Хозяина России,
Вы обещали жизнь безропотно отдать.
И что же! где слова? где громкие обеты?
Где клятвы верности, присущие войскам?
Где ваших прадедов священные заветы?
А Он, обманутый, Он твердо верил вам!
Он, ваш исконный Царь, смиреньем благородный,
В своей душе Он мог-ли помышлять,
Что вы готовитесь изменой всенародной
России честь навеки запятнать!
Предатели, рожденные рабами,
Свобода лживая не даст покоя вам.
Зальете вы страну кровавыми ручьями,
И пламя пробежит по вашим городам.
Не будет мира вам в блудилище разврата,
Не будет клеветам и зависти конца;
Восстанет буйный брат на страждущего брата,
И мечь поднимет сын на старого отца...
Пройдут века; но подлости народной
С страниц Истории не вычеркнут года:
Отказ Царя, прямой и благородный,
Пощечиной вам будет навсегда!
г. Орел, 1917 г.
![]()
Святой Царь
"Благословенно Царство!"
Начальный возглас Божественной Литургии

Скажу я по долгу, скажу я по праву,
Да ведает русский народ: -
Я видел России величье и славу,
Державного солнца восход.
Я видел Святого Царя на престоле,
Обласкан радушно Им был,
В дни сказочной жизни, в дни истинной воли,
Сыновне я с Ним говорил.
И очи царевы любовно глядели,
И голос Монарший звучал,
Как песня волшебная нежной свирели,
Как сладостно плещущий вал.
Красы той небесной, красы той чудесной
Нельзя на словах передать,
Казалось, что Ангел улыбкой небесной
Дарил мне свою благодать.
И эти Глаза с величавым смиреньем,
И кроткие эти Уста, -
Казались прекрасным, живым отраженьем
Пречистого лика Христа.
И Царственный Образ в оправе священной
С тех пор не могу я забыть,
И буду Его я, как клад драгоценный,
Всю жизнь в моем сердце хранить.
г. Ницца
Воскресенье, 4 октября 1942 г.
![]()
Царские глаза
Кто видел в жизни только раз
Сиянье кротких Царских Глаз,
Тому Их век не позабыть
И Тех Очей не разлюбить.
Кому их встретить довелось,
В том сердце верою зажглось
Того в дни бедствий не смутят
Ни зло людей, ни смертный яд.
Всегда и всюду перед ним
Блестят величием своим
Глаза, Которым равных нет
В греховном мире слез и бед.
г. Ницца
23 ноября 1929 г.
![]()
Предсказание
Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь - и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя! - Твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ с возвышенным челом.
М.Ю. Лермонтов
1830
![]()
«Мир»
Из цикла «Пути России»

С Россией кончено… На последях
Её мы прогалдели, проболтали,
Пролузгали, пропили, проплевали,
Замызгали на грязных площадях,
Распродали на улицах: не надо ль
Кому земли, республик, да свобод,
Гражданских прав? И Родину народ
Сам выволок на гноище, как падаль.
О, Господи, разверзни, расточи,
Пошли на нас огнь, язвы и бичи,
Германцев с запада, Монгол с востока,
Отдай нас в рабство вновь и навсегда,
Чтоб искупить смиренно и глубоко
Иудин грех до Страшного Суда!
Максимилиан Волошин
23 ноября 1917 г.
Коктебель
![]()
Моей Родине
Прошла пора, когда в венце державном
Иконописною сияя красотой,
Блистала ты на троне православном,
Пленяя мир смиренной простотой.
Была тогда ты царственно прекрасной,
Святою Русью всюду ты звалась,
Перед тобой склонялся недруг властный,
Тебе хвала всеобщая неслась.
Теперь, увы, ты сделалась иною: —
Ты свой покров священный совлекла,
И распаленная чудовищной враждою,
Себя на общее презренье обрекла.
Ты храмы древние кощунством осквернила,
Ты разгромила Божьи алтари,
Ты те богатства блудно расточила,
Что накопляли мудрые Цари.
В своем безумии и яростной гордыне,
Отдавшись вихрю гибельных страстей,
Ты обесчестила духовные святыни,
Ты перебила лучших сыновей.
И вот теперь, поганая, босая,
Вся обагренная в дымящейся крови,
Ты мечешься, стеня и проклиная,
Без божества, без веры, без любви.
Забыв удел твоей прекрасной доли,
Победы громкие и славные дела,
Гонясь за призраком давно желанной воли,
Ты рабство худшее себе же создала.
Глумясь над совестью, святыни попирая,
Ты лезешь на рожон, ты падаешь в петлю,
Ты бесноватая, преступная, шальная, —
Но я твой сын! — и я тебя люблю!
Люблю за ширь стихийного размаха,
За кротость рабскую пред посланной судьбой,
За Крест Владимира, за Шапку Мономаха,
За Стеньки Разина разгулье и разбой.
Люблю тебя за то, — что ты необычайна.
Как песнь твоих былин, как сказок вещий бред,
Что для чужих племен — ты вековая тайна
И что такой, как ты, другой на свете нет!
Сергей Бехтеев
г. Ницца 11 ноября 1941 г.
![]()
Россия
Была Державная Россия,
Была великая страна
С народом мощным, как стихия,
Непобедимым, как волна.
Но, под напором черни дикой,
Пред ложным призраком "сво-бо-д"
Не стало Родины великой
Распался скованный народ.
В клочки разорвана порфира,
Растоптан царственный венец,
И смотрят все державы мира,
О, Русь, на жалкий твой конец!
Когда-то властная Царица,
Гроза и страх своих врагов,
Теперь ты жалкая блудница,
Раба, прислужница рабов!
В убогом рубище, нагая,
Моля о хлебе пред толпой,
Стоишь ты, наша Мать родная,
В углу с протянутой рукой.
Да будут прокляты потомством
Сыны, дерзнувшие предать
С таким преступным вероломством
Свою беспомощную Мать!
С. Бехтеев
1917 г.
![]()
Моя вера
Не должен, не может
Народ мой великий
Бесовское рабство влачить
Он все одолеет, он все превозможет,
Сумеет себя воскресить.
Он встанет из праха,
Воскреснет из тленья,
С очищенной скорбью душой,
Познавший обиды и ужас паденья
В пучине крамолы людской.
Ведомый ко благу Господней десницей,
Сквозь дебри житейских невзгод,
Он встанет как лазарь,
Из смрадной гробницы,
И к Божьим стопам припадет
1931 г.
![]()
За что?
Ответ недоумевающим
«Грех, тяготеющий над нами — вот сокровенный корень нашей болезни,
вот источник наших бед и злоключений!..»
Слова послания Патриарха Тихона от 18 июня 1918 г.
Нам, русским, послан Крест тяжелый,
И мы должны его влачить,
За грех чудовищной крамолы,
За то, что не хотели чтить
В своей бессовестной гордыне,
Как непокорные сыны,
Нам Богом данные святыни
Благой и мудрой старины.
За то, что нехристям в угоду
Преступный замысел творя,
Себе мы прочили свободу
И свергли Ангела-Царя.
И тем, покрыв себя позором,
Дерзнули клятву осквернить,
За всех нас данную Собором,
Во век Романовым служить.'
И вот за этот грех великий
Страдаем всюду мы теперь,
И Русью правит деспот дикий,
Бесчеловечный, лютый зверь.
И долго будем мы томиться
Под нам ниспосланным Крестом,
Пока в душе не совершится
У нас великий перелом,
Пока от зол мы не очнемся,
И, приведя наш бунт к концу,
К Царю мы, каясь, не вернемся,
Как дети блудные к Отцу.
С.С. Бехтеев
г. Ницца,
20 октября 1942 г.
![]()
Царь-богатырь
Незабвенной памяти Императора Александра III
Когда с державного престола
Ты русским царством управлял, -
В подполье пряталась крамола
И враг России трепетал.
Стремились все к Твоей державе,
Ища защиту и оплот,
Был наш солдат в почетной славе,
Был первый в мире русский флот.
Везде господствовал порядок,
Закон не смели нарушать,
В стране повсюду был достаток
И мирной жизни благодать.
Трудились сытые крестьяне
В просторных житницах полей.
Служили с рвением дворяне
Тебе и Родине своей.
Рукой железной правя твердо,
Ты порождал любовь и страх,
И флаг российский реял гордо
В нам чуждых странах и морях.
Таких Царей, как Ты, не будет,
Вот почему Ты мог сказать: -
"Когда Царь русский рыбу удит -
Европа может подождать!"...
С.С. Бехтеев
г. Ницца
Пасха 1943 г.
![]()
Царcкий крест
В годину трудных, страшных испытаний,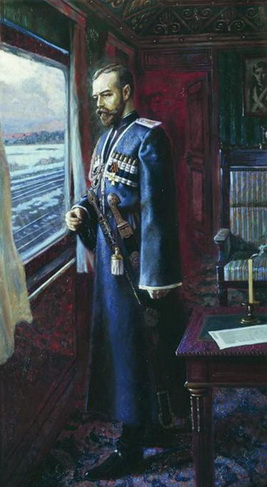
Когда забыл о Боге твой народ,
Испил ты чашу горькую страданий:
Как враг хотел, чтоб твой прервался род!..
Ты поднял крест... Другому не под силу.
Оставить враг заставил твой Престол,
Но ты не бросил, Мученик, Россию!
Народ свой не покинул, не ушел...
Ты терпеливо за народ слепой молился...
Молилась за него твоя Семья...
Но в бездну сатанинскую катился
Народ в безумьи... Позабыть нельзя...
Тебя ждала Российская Голгофа...
Ты знал судьбу! Ты верил в Божий перст!
Был до последнего России предан вздоха,
Благословил тебя Господь на тяжкий крест...
Ты отдал за Россию в жертву сына,
Жену любимую и дочерей невест...
Недолго ликовала бесовщина,
Когда взошла твоя Семья на Царский крест...
Анатолий Никушин
![]()
Конец былины
Кровавым пожаром зарделась заря,
Сегодня Россия лишилась Царя,
Сегодня, в дни смуты, измены и зол,
Покинул он скорбно Державный Престол.
Тревожные слухи по царству ползут,
Из уст в уста боязливо несут,
И горестны вести ужасной молвы:
Сегодня Россия лишилась Главы,
Сегодня, отравленный хмелем свобод,
Себя обезглавил безумный народ,
Сегодня, на склоне победной войны,
Окончилась сказка великой страны.
Сергей Бехтеев
1917 г.
![]()
***
Унылый март, шестая годовщина
Кровавых бурь при зареве огней.
И не забыть - не даст забыть чужбина -
Нам весь позор былых проклятых дней.
И помнят все: и те, кто всей душою
Безумно верили в смертельный ураган,
И те, о ком написано с тоскою:
"Кругом измена, трусость и обман".
И в этот март, в канун победной сечи,
Вы, на Царя поднявшие мечи,
Как лгали ваши пламенные речи,
О, бессердечные и злые палачи!
Всю вашу низость, ваше пустословье,
Как стон души, измученной от ран,
Клеймят слова, написанные кровью:
"Кругом измена, трусость и обман"
И в этот март, в шестую годовщину,
Вы все, восставшие на Вашего Царя,
Вы все, бежавшие постыдно на чужбину,
Склонитесь ниц, раскаяньем горя,
Пред светлой памятью замученного вами,
Пред тем, кто вами был на смерть убийцам дан
И кто писал с кровавыми слезами:
"Кругом измена, трусость и обман"
Николай Евреинов
1923 г.
![]()
Мы русские
Для славы со Христом мы были созданы,
Никак нас враг чудовищный не съест.
Кололи нас серпом, звездили звёздами,
Но наше знамя есть и будет Крест.
Ведут нас ко Христу дороги узкие,
Мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Клялись Царю мы крестоцелованьем
Предательство легло на Русский род,
Рассеяны по миру мы изгнаньем,
Как бывший богоизбранный народ.
Ведут нас ко Христу дороги узкие,
Мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
На теле у России раны рваные,
Но свет Христов отчётлив впереди,
И если нападут на нас поганые,
Мы в бой пойдём с крестами на груди.
Ведут нас ко Христу дороги узкие,
Мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
У нас с врагом окончена дискуссия,
Мы вновь воспрянем, подвигом горя.
Россия, Украина, Белоруссия -
Племён славянских три богатыря.
Ведут нас ко Христу дороги узкие,
Мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Наполнив мир малиновыми звонами,
Взойдёт победы Русская Заря,
И мы, восстав с крестами и иконами,
Пойдём венчать Российского Царя.
Ведут нас ко Христу дороги узкие,
Мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Уж ангелы трубят к Последней Битве,
За Веру, за Царя иди, не трусь.
Соборным покаяньем и молитвой
Да воскресит Господь Святую Русь!
Ведут нас ко Христу дороги узкие,
Мы знаем смерть, гонения и плен.
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Мы всё равно поднимемся с колен!
Мы – Русские, мы – Русские, мы – Русские,
Покаемся – поднимемся с колен!
Серия сообщений "Стихи о Царской Семье":
Часть 1 - Стихи о Николае II и России
Часть 2 - Стихи об Императрице и Княжнах
|
|
Процитировано 1 раз
Случаи из жизни Царской Семьи : часть 2 |
В Ставке же Великие Княжны пользовались известной свободой. Из воспоминаний М.Лашука: «...Когда Государыня и Великие Княжны приезжали в Могилев, к Их поезду назначался караул. Пришлось и мне стоять парным часовым у входа в вагон. Платформа, куда подавался Царский поезд, была большая. На ней недалеко от поезда были сложены накрест штоссы телеграфных столбов. В штоссе примерно рядов шесть. Недалеко была канава, примерно полметра или немного больше. Стоял я на посту от 4 до 8 вечера. Государь гулял с Великой Княжной Татьяной Николаевной и сказал: «Казаки! Можете быть свободны». Мы с нашим урядником разводящим зашли за эти столбы и там сидели. Флигель-адъютант и Великие Княжны играли в жмурки. Хоронились Княжны, полковник искал, потом полковник хоронился, Княжны искали... Вдруг подходят к нам Великие Княжны и говорят: «Казаки, спрячьте нас так, чтобы нас не нашел полковник». Наш разводящий Петр Касилов, станицы Григориполисской, отвечает им: «Мы здесь не можем спрятать Вас, Ваше Императорское Высочество». Я говорю разводящему: «Господин урядник, скажите Великим Княжнам, пусть оденут наши папахи и бурки и будут стоять, как будто мы стоим, а мы-то спрячемся, нас полковник не найдет». Я сам не мог это сказать Княжнам, потому что есть старший. Когда разводящий Великим Княжнам это сказал, они были очень рады. Подошли к нам, и мы надели на них наши папахи и бурки. Я помню, что одевал Великую Княжну Марию Николаевну. Княжны стали на нашем месте, а мы спрятались в канаве. Полковник ищет на столбах и между столбами, и не может нигде найти, но когда он проходил близко от Княжен, то они рассмеялись. Смеялся полковник, смеялись и мы... На этот смех пришел Государь с Великой Княжной Татьяной Николаевной...»
 на фото Мария и Ольга Николаевны, Могилев
на фото Мария и Ольга Николаевны, Могилев
Т. Мельник - Боткина: "Однажды, в самом начале войны, Ее Величество и Великие Княжны посетили лазарет, устроенный моим отцом в занимаемом нами казенном доме. Мы с младшим братом были только вдвоем дома. Мой отец, как всегда, страшно занятой, уехал по делам, а сестра милосердия ушла на полчаса домой, когда к нам наверх прибежала горничная с известием о приезде Ее Величества, и Великие Княжны Ольга Николаевна и Татьяна Николаевна, как всегда, скромно одетые в темные пальто и шляпы, уже были в лазарете.
Большинство раненых были выздоравливающие и, сидя, кто в халате, кто в нижнем белье, играли в карты. Ее Величество подошла к ним и спросила, во что они играют.
— В дурачки, Ваше Величество, — был ответ.
В это время подошли мы, и Ее Величество обратилась к нам с вопросами, но ласковый тон Ее Величества и счастье ее видеть, как всегда, лишили меня всякого самообладания, и я отвечала что-то очень бестолковое.
Тогда Ее Величество подошла к лежавшему. Это был солдат 35 лет, глухой, ревматик и до такой степени изнуренный, что ему можно было дать лет 75. Он лежал и читал Евангелие, ранее присланное Ее Величеством, и даже не обратил внимания на вошедших и не догадывался, кто это заговаривает с ним.
— Ты что читаешь? — спросила Ее Величество, наклоняясь к нему.
— Да вот все ноги болят.
Ее Величество улыбнулась и попробовала задать другой вопрос, но ответ был такой же бестолковый, и она, отойдя, попрощалась с нами и вышла вместе с Великими Княжнами в переднюю.
— Уже на зиму приготовили, — сказала, проходя, Ее Величество, указывая на валенки, стоявшие в передней.
Затем она вышла на крыльцо, кивнула нам еще раз и села в автомобиль.
Уже гораздо позже приехал к нам Алексей Николаевич. Он очень стеснялся идти в лазарет и, чтобы оттянуть это, пошел с моим отцом осматривать остальные комнаты нижнего этажа и нашел, что у нас очень уютно. Мы же тем временем ждали Алексея Николаевича в лазарете. Все встрепенулись, когда в дверях показалась его красивая маленькая фигурка.
Мой отец подвел к Алексею Николаевичу нескольких солдат, которые стояли, вытянувшись, около своих кроватей, а затем Алексей Николаевич прошел через лазарет в переднюю, а давно приготовленный граммофон звучно грянул «Боже, Царя храни», что, кажется, Алексею Николаевичу очень понравилось".
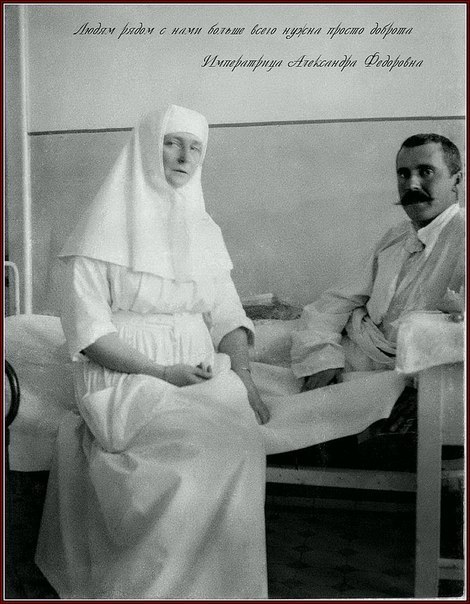
А. МОСОЛОВ :
"СЕРЕБРЯНЫЕ СAЛAЗКИ"
Великие княжны довольствовались в детстве самыми незатейливыми развлечениями. Приведу два примера.
Их Величества присутствовали вместе с семьей на пятидневных маневрах войск московского округа, живя в императорском поезде, передвигавшемся от одной стоянки до другой и возвращавшемся на ночь на открытую местность близ станции Рошково, чтобы не мешать железнодорожному движению. Это было в августе 1902 года.
В поезде находилась, кроме обычной свиты, Великая Княгиня Ольга Александровна. Дети были в восторге от этой поездки, делая большие прогулки в незнакомых им местах. Особенно их радовала игра, выдуманная Ольгой Александровной. Поезд стоял на высокой насыпи. Дети садились на большие серебряные подносы и, пользуясь ими наподобие салазок, спускались по откосу. Затем с трудом поднимались по крутой насыпи с подносом на спине. Эту игру повторяли и вечером, после обеда, в присутствии Их Величеств. Помню, как члены французской депутации, приглашенные к столу, обратились ко мне с некоторым страхом, нужно ли будет и гостям участвовать в этом развлечении. Я их успокоил.
Девочки держали пари, кто из них первая прибудет вниз. Кто-то из фрейлин должна была первая скатиться, чтобы присутствовать на финише. Генеpaл-адъютант Струков объявил детям, что он первый очутится внизу. Дети не верили. Когда состязавшимся скомандовали спускаться, Струков в парадной форме, с Александро-Невской лентой, держа свою почетную саблю с бриллиантами (за взятие Адрианополя) в руках, прыгнул с высоты более трех сажен с насыпи, рискуя сломать себе ноги, и конечно, опередил детей. Императрица очень его журила за эту выходку удали, но французы были в восторге.
 Одна из княжон катается на самодельной горке
Одна из княжон катается на самодельной горке
ПОДАРОК СИБИРЯКА
Другой случай детской радости касается ручного соболя. Я сидел у себя в канцелярии, изготовляя спешный доклад о придворных пожалованиях, и приказал никого не принимать. Входит старый курьер и докладывает:
— Осмелюсь доложить вашему превосходительству, что тут пришли старичок со старушкой, прямо из Сибири. Принесли в виде подношения Государю живого, ручного соболя. Очень уж просят доложить, говорят, что не на что будет переночевать.
— А тебе жаль их стало?
— Точно так.
— Ну, давай их сюда.
Вошел весьма симпатичный на вид старичок со старушкой и говорит мне:
— По ремеслу я охотник, и удалось мне взять живым молодого соболя. Приручили его со старушкой и решили поднести его Царю. Соболь-то вышел редкостный. Собрали все, что было денег: говорили мне, что хватит до Питера и обратно. Вот и поехали.
Показывает мне соболь, который тут же вскочил на мой письменный стол и стал обнюхивать представления к придворным чинам. Старик как-то свистнул, соболь — прыг прямо ему на руки, залез за пазуху и оттуда выглядывает. Я спросил, как они ко мне попали.
— Денег у, нас хватило только до Москвы. Оттуда решили идти пешком, да какой-то добрый барин, дай Бог ему здоровья, купил нам билеты до Петербурга. Утром приехали и прямо пошли в Зимний дворец. Внутрь меня не пустили, а отправили к начальнику охраны. Тот велел отвести к вам. Ни копейки не осталось, а видеть Царя — вот как хочется.
Я решил, что живой соболь может доставить большое удовольствие малым еще тогда княжнам. Старику дал немного денег и поручил парочку добросердечному курьеру. Перед тем я спросил старика, кто его в Сибири знает.
— Ходил к губернатору перед отъездом, да он говорит: «Иди, вряд ли тебя допустят. А писать мне о тебе не приходится».
Я послал телеграмму губернатору, чтобы проверить слова старика и узнать, надежный ли он. В те времена нужно было быть весьма осторожным. Через день получился удовлетворительный ответ, и я телефонировал княжне Орбелиани, рассказав ей о соболе. Час спустя узнаю, что Императрица приказала прислать обоих стариков в Зимний дворец, и поскорее, так как дети с нетерпением ждут соболя. Все с тем же курьером я приказал их отвести, а после представления вернуться ко мне.
Ждал я их долго. Оказывается, что они более часа оставались у детей, и все время была при этом Государыня. Долго рассказывали старик и старуха, как милостива была к ним Царица.
Старик предложил было взять соболя с собой, пока для него не устроят клеточку, но дети отпускать зверя не хотели, и наконец Императрица приказала его оставить. Старик мечтал видеть Царя, без чего, сказал он, не может вернуться в Сибирь. Ответили, что дадут знать, когда он может видеть Государя.
— Боюсь только, как бы соболек мой не нашкодил во дворце, он ведь к хоромам не привык.
На другой день с утра, я получил приказание прислать во дворец сибиряков к шести часам вечера. Вернулись они с соболем после восьми. Вот рассказ старика.
— Так и было. Соболек-то мой много нашкодил, поломал и погрыз. Когда я пришел, так он сразу ко мне за пазуху спрятался. Вошел Царь. Мы co старухой ему в ноги бросились. Соболек-то вылез и тоже, видно, понял, что перед Государем. Притаился и смотрит. Пошли мы с царями в детскую, где приказали мне выпустить соболька. Дети стали с ним играть: при нас он не дичится. Царь приказал нам со старухой сесть на стулья и говорит:
— Ну, теперь расскажите все: как задумал сюда ехать, как ехал и как наконец к Царице попал?
Я рассказал, а Царь все спрашивает о Сибири, об охоте там, о нашем житье-бытье. Затем Царица сказала, что детям пора обедать. Тогда Царь спрашивает, как обходиться с соболем. Когда я указал, он порешил, что в комнатах у детей его оставить нельзя. Надо будет отдать его в охотничью слободку, в Гатчине.
— Царь-батюшка, ведь его, кормилец мой, жаль отдавать на руки незнакомому охотнику. Позарится на шкуркy, да еще зарежет, а скажет, что околел. Знаю я охотников. Мало у них любви к зверю. Лишь бы шкурку получить.
— Нет, брат, я бы выбрал хорошего. Но, пожалуй, лучше будет тебе его отдать. Вези его домой, ходи за ним, пока жив будет, а считай, что исполняешь мое повеление. Смотри за ним, так как это уже мой соболь. Теперь иди, скажи Мосолову, чтобы министр дал приказание, как тебя наградить за подapок. Смотри же, хорошо смотри за моим соболем. С Богом, и доброго пути!
На другой день был у Фредерикса всеподданнейший доклад, и государь, не ожидая вопроса, сказал министру, что провел два часа в беседе со стариками, и что это было для него праздником: так интересно было ему узнать быт сибирских охотников и сибирского крестьянства вообще. Приказал дать старику часы с императорским гербом, а старухе брошку, несколько сот рублей за соболя и широко оплатить дорогу назад в Сибирь.
Старики уехали счастливыми, увозя с собой соболя. Одни княжны очень жалели, но «папа сказал, что это так нужно».
*********************************************************************************************
Павлов С.П. "Неизвестные воспоминания о Царской Семье" :
"Высокие Особы приезжали в лазарет в сумерки. К этому времени раненые выходили на веранду или же ждали у крыльца.
Часов в 10 мы обыкновенно начинали играть в особую игру, которая называлась игрой в «рубль» и об этой игре знало все петроградское высшее общество.
Игра эта в сущности была очень простая и вся она состояла в том, что нужно было под вытянутыми ладонями рук на столе прятать серебряный рубль и при том так хорошо, чтобы противная сторона не отгадала, у кого рубль и под какой рукой. Сами же играющие разделялись на две стороны. Командорами сторон были, конечно, Великие Княжны Ольга и Татьяна. Великая Княжна Мария Николаевна принимала участие то на одной, то на другой, смотря по Своему настроению.
Вот, в сущности, вся наружная конструкция этой знаменитой игры, но …она нас очень увлекала. Достаточно сказать: иной раз мы заигрывались в нее до часу ночи.
Может быть, многим наше увлечение этой игрой покажется странным и удивительным, но причина этого увлечения была очень простая – игра имела для нас чисто спортивный интерес. Какая сторона возможно дольше удержит рубль в своих руках. В этом был весь секрет нашего увлечения этой игрой. Ведь увлекаются же солидные и флегматичные англичане во время своих переездов по океану перебрасыванием и ловлением бросаемых подушек. А что может быть прозаичнее этого занятия.
Теперь даже трудно передать ту атмосферу непринужденности и самого неподдельного и искреннего веселия, которые царили за столом во время этой игры. Стоял сплошной шум и хохот, шутки и остроумные замечания. Вообще простота, с которой Себя держали Государыня и Великие Княжны была замечательна и… попросту нас поражала. Тому, кто сам не был очевидцем этого, даже трудно было себе представить, до какой степени Они были доступны. Абсолютно никакой официальности и натяжки. Это были простые, милые и хорошие люди, с которыми мы, раненые, всегда чувствовали себя хорошо, тепло и уютно.
Простота Высоких Особ прямо очаровывала раненых, и они, в свою очередь, отвечали Им восторженным обожанием.
Мне не хотелось сказать обожание. Слово это опошлено донельзя, и оно совершенно не выражает всей силы и глубины того чувства, которое мы питали к своим Августейшим Сестрам. Но так как на человеческом языке не придумано еще другого слова, которое по смыслу могло бы точно выразить всю высшую силу симпатии к другому человеку, то я употребляю слово обожание в его наиболее благородном смысле.
В этом чувстве обожания соединилось все. Это было сложное чувство, которое едва ли даже поддавалось точному анализу. Здесь было и восторженное удивление, и сильная любовь, и глубокая благодарность Высоким Особам за Их заботы и внимание к нам, и преклонение пред Их благородной простотой, – но более всего уважения – глубокого, беспредельного уважения и преданности.
**********
Как-то в присутствии Великой Княжны Татианы Николаевны мы заговорили о русской литературе, о новых направлениях в ней и о том, что в наше время нет особенно крупных писателей, и что поэтому с особенным удовольствием читаешь старых классиков. Великая Княжна при этом сказала, что Они читают еще только Тургенева. В другой раз как-то мы заговорили о любви. Вышло это случайно. Стояли весенние сумерки. В саду было особенно хорошо, и настроение было такое красивое, что само собой разговор перешел на любовь. Маргарита Сергеевна Хитрово, восторженная смолянка, молодая и сентиментальная девушка, сказала что-то об идеальной любви. Поручик [пропуск в тексте] ей что-то возразил. Загорелся спор. Наконец, за разрешением спора обратились к Великой Княжне Ольге, Которая сидела с нами и безмолвно слушала, о чем мы говорили. Великая Княжна серьезно ответила:
– Я думаю, что любовь должна быть искренним и хорошим чувством, но без взаимного уважения настоящая любовь немыслима. В этом отношении Рита права.
Сказала и …ужасно покраснела.

**********
Сама Государыня в выборе тем для разговора была не менее проста. Она говорила с нами почти обо всем. Каждый пустяк Ее интересовал. Часто Она, например, раненого расспрашивала о его домашней жизни, о том, где он ранен, есть ли у него родные и как живут. И Сама часто делилась Своими личными мыслями и думами. Говорила даже политические и военные новости. Например, о выступлении Румынии мы знали дня за три-четыре до выступлении последней. Однажды Она рассказывала, что очень любит верховую езду, но что лет 8 Она уже не может ездить, так как врачи запретили Ей это удовольствие.
Никогда не позабуду одного случая.
На этот раз Государыня была необычно взволнована. Об этом говорили Ее блестящие не по-обычному глаза.
– Сегодня получила письмо от Алексея, – сказала Она. – Он пишет, что Его произвели из ефрейторов в младшие унтер-офицеры. По этому случаю Он пишет Мне, что Ему необходимо увеличить карманные деньги. До сих пор Он у Меня получал по 10 рублей в месяц. Что же, пришлось увеличить. Теперь Он получает в месяц уже по 20 рублей, да единовременно Я выслала Ему еще 10 рублей.
Между прочим, я неоднократно обращал внимание на то, когда Государыня заговаривала про Алексея, Ее грустное лицо неуловимо менялось. Оно делалось особенно ласковым и приветливым. Может быть, Она потому так сильно любила Алексея, что Он был у Нее первым и единственным, но, может быть, Она любила Его особенно болезненно еще и потому, что боялась Его потерять каждую минуту.
Ведь Государыня была матерью, которая безумно любила Своего Сына, до болезненности.
После убийства Распутина Высокие Особы не приезжали в лазарет целую неделю и потом вообще как-то реже начали посещать Свой лазарет. И только на Рождество 1916-го я видел Царскую Семью у нас в лазарете. Высокие Сестры приехали к нам на елку без Наследника.
Я видел – настроение Царской Семьи было подавленное. Государыня Сама похудела и осунулась. В этот вечер я не видел улыбки на Ее застывшем в какой-то неподвижности лице, углы Ее губ были скорбно опущены книзу. Может быть, в это время бедная мать думала о Своем далеком Сыне в Ставке, в далеком Могилеве. Ведь уверили же Ее, что со смертью Распутина для Ее Семьи начнутся все беды – Муж Ее потеряет Трон, Сын умрет и т. д.
Государыня подарила нам всем по прекрасному альбому Царской Семьи с автографами. И я страшно жалею, что мне пришлось его уничтожить в Севастополе в начале 1918 года от большевиков.

источник - http://slavynka88.livejournal.com/127961.html
Из воспоминаний А.А. Танеевой «Страницы моей жизни»
Описывая жизнь в Крыму, я должна сказать, какое горячее участие принимала Государыня в судьбе туберкулезных, приехавших лечиться в Крым. Санатории в Ялте были старого типа. Осмотрев их все, Государыня решила сейчас же построить на свои личные средства в их имениях санатории со всеми усовершенствованиями, что и было сделано. Часами я разъезжала по приказанию Государыни по больницам, расспрашивая больных от Имени Государыни о всех их нуждах. Сколько я возила денег от Ее Величества на уплату лечения неимущих! Если я находила какой-нибудь вопиющий случай одиноко умирающего больного, Государыня сейчас же заказывала автомобиль и отправлялась лично со мной, привозя деньги, фрукты и проч., а главное — обаяние, которое Она всегда умела внушать в таких случаях, внося с Собою в комнату умирающего столько ласки и бодрости. Сколько я видела слез благодарности. Но никто об этом и не знал. Государыня запрещала говорить об этом.
**************************************
"Когда во время войны прибывали санитарные поезда, Императрица и Великие Княжны делали перевязки, ни минуты не присаживаясь с 9 часов утра до 3 часов дня. Во время тяжелых операций раненые умоляли Государыню быть около. Вижу ее, как она утешает и ободряет их, кладет руку на голову и порою молится с ними.
Императрицу боготворили, ожидали ее прихода, стараясь дотронутся до ее серого санитарного платья; умирающие просили ее посидеть около кровати, подержать им руку или голову, и она, невзирая на усталость, успокаивала их целыми часами.
Серия сообщений "Случаи из жизни семьи Николая II":
Часть 1 - Смешные и трагические случаи из жизни последних Романовых
Часть 2 - Случаи из жизни Царской Семьи : часть 2
Часть 3 - Случаи из жизни Царской Семьи : часть 3
|
|
Понравилось: 1 пользователю
св. Андрей Критский |
от себя: в интернете нашла одно размышление о Царской Семье Архимандрита Константина (Зайцева) - 1887-1975, в котором он говорит, что убийство Царской Семьи приходится на день памяти св. Андрея Критского, известного как автора Великого покаянного канона. Удивительно как много совпадений случалось в жизни Николая II, и даже здесь - день его убийства приходится на день памяти автора покаянного канона. Вот выдержки из рассуждений Архимандрита Константина (Зайцева):
"....Чем же воздала Россия своему чистому сердцем, любящему ее более своей жизни, Государю? Она отплатила ему клеветой. Он был высокой нравственности – стали говорить об его порочности. Он любил Россию – стали говорить об измене. Даже люди близкие повторяли эту клевету, пересказывали друг другу слухи и разговоры. Под влиянием злого умысла одних, распущенности других, слухи ширились, и начала охладевать любовь к Царю. Потом стали говорить об опасности для России и обсуждать способы освобождения от этой несуществующей опасности и, во имя якобы спасения России, стали говорить, что надо отстранить Государя. Расчетливая злоба сделала свое дело: она отдалила Россию от своего Царя, и в страшную минуту в Пскове он остался один... Страшная оставленность Царя... Но не он оставляет Россию, Россия оставляет его, любящего Россию больше своей жизни. Видя это, и в надежде, что его самоумаление успокоит и смирит разбушевавшиеся страсти народные, Государь отрекается от престола... Наступило ликование тех, кто хотел низвержение Государя. Остальные молчали. Последовал арест Государя и дальнейшие события были неизбежны... Государь был убит, Россия молчала...
"...Великий грех – поднять руку на Помазанника Божия... Не остается и малейшая причастность к такому греху неотомщенной. В скорби говорим мы "кровь его на нас и на детях наших." Но будем помнить, что это злодеяние совершено в день св. Андрея Критского, зовущего нас к глубокому покаянию... " (Архимандрит Константин (Зайцев)
Кто же он св. Андрей Критский? (из Википедии), День памяти 4 (17) июля
Андре́й Кри́тский или Андре́й Иерусали́мский (ок. 660, Дамаск — 4 июля 740[1], Эресос, о. Лесбос) —

известный христианский теолог, проповедник и автор духовных гимнов, архиепископ города Гортина на Крите.
Канонизирован в лике святителей, в Православной церкви память совершается 4 июля (по юлианскому календарю). Андрей Критский родился в Дамаске у родителей-христиан. Согласно его житию, он был немым от рождения до семилетнего возраста, когда чудесным образом исцелился, приняв причастие. С этого времени он начинает изучать Священное Писание и богословские науки. В возрасте 14 лет Андрей поступил в монастырь преподобного Саввы Освященного возле Иерусалима, где быстро заслужил уважение, ведя строгую монашескую жизнь.
В правление императора Юстиниана II Андрей был рукоположён в архиепископа города Гортины на Крите. Здесь он раскрывается как проповедник и поэт. Проповеди Андрея Критского отличаются высоким слогом и гармоничной фразой, что позволяет говорить о нём как одном из выдающихся церковных ораторов Византийской эпохи.
Скончался святитель 4 июля 740 года[2] на острове Лесбос, возвращаясь на Крит из Константинополя, куда он отправлялся по делам Церкви.
По данным исторических источников, Андрей Критский известен как автор Великого покаянного канона, также ему принадлежит авторство на каноны, посвященные главным византийским церковным праздникам, большинство из которых включено в современные богослужебные книги: каноны на Рождество Христово, Богоявление, Сретение, Благовещение, Пасху, Преображение, Рождество Богородицы, Зачатие святой Анны, Рождество Иоанна Предтечи, святителей Григория Богослова и Иоанна Златоуста, святителя Николая, и других.
Считается, что святой Андрей Критский изобрёл или по крайней мере впервые ввёл в византийскую литургическую службу саму форму канона.[4] Авторству Андрея Критского приписывается около 70 канонов.
Великий покаянный канон
Андрей Критский известен как автор Великого покаянного канона (шедевр византийской духовной поэзии)[2], который состоит из 250 тропарей (строф)[5] и считается самым длинным каноном из существующих. По мнению протопресвитера Александра Шмемана, этот канон «можно описать как покаянный плач, раскрывающий нам всю необъятность, всю бездну греха, потрясающий душу отчаянием, раскаянием и надеждой»[6].
Этот канон почитала и сама Александра Федоровна, из воспоминаний Ч. Гиббса (наставника Цесаревича): "В понедельник, во вторник, в среду и четверг мы слушали прекрасный канон св. Андрея Критского. Императрица снабдила каждого из нас копией канона на русском языке, чтобы мы могли следить за чтением". (из Тобольского заключения)
Согласно Типикону Великий канон читается только во время Великого поста:
Великое повечерие с чтением канона Андрея Критского именуется в просторечии ефимо́н (или мефимон, греч. μεθ'ήμών — «с нами [Бог]»).
Согласно Уставу на каждый тропарь канона положено совершать по три земных поклона.
ИСТОЧНИКИ -
http://ru.wikipedia.org/wiki/%C0%ED%E4%F0%E5%E9_%CA%F0%E8%F2%F1%EA%E8%E9
http://www.rusempire.ru/forum/topic1008.html

Серия сообщений "Чудеса царственных мучеников":
Часть 1 - Чудеса царственных мучеников
Часть 2 - Иконы Святых царственных страстотерпцев
Часть 3 - икона Божией Матери «ДЕРЖАВНАЯ»
Часть 4 - св. Андрей Критский
|
|
Великие Княжны и Александра Федоровна |
 Из дневника Александры Фёдоровны: «Великое искусство — жить вместе, любя друг друга нежно. Это должно начинаться с самих родителей».
Из дневника Александры Фёдоровны: «Великое искусство — жить вместе, любя друг друга нежно. Это должно начинаться с самих родителей».
«Родители должны быть такими, какими они хотят видеть своих детей — не на словах, а на деле. Они должны учить своих детей примером своей жизни».
«...важный элемент семейной жизни — это отношения любви друг ко другу; не просто любовь, а взлелеянная любовь в повседневной жизни семьи, выражение любви в словах и поступках. Любезность в доме не формальная, а искренняя и естественная. Радость и счастье нужны детям не меньше, чем растениям нужен воздух и солнечный свет».
Доброта, скромность, простота, глубокая Вера в Бога, прямота, дисциплина, крепость духа, умение жертвовать собой, непоколебимое сознание долга и всеобъемлющая любовь к Родине-России, это неполный перечень душевных качеств, которые восприняли царские дети от своих родителей.
Воспитание дочерей в царской семье было строгим, поскольку так была воспитана сама Александра Фёдоровна, да и Государя Николая в детстве не баловал отец — Император Александр III, отличавшийся спартанскими привычками. Во дворце девочки жили по двое в комнате: старшие Ольга с Татьяной, как их называли, «большие», и младшие Мария с Анастасией — «маленькие». Царевны спали на жёстких походных кроватях, легко укрытые, каждое утро принимали холодную ванну. Александра Фёдоровна, выросшая при небольшом дворе, с раннего детства прививала дочерям бережливость и умеренность. Платья и обувь переходили от старших сестёр к младшим. Государыня, сама очень скромная в одежде, в выборе причёсок, не позволяла и дочерям много наряжаться. Великая княжна Ольга Николаевна полностью восприняла это отношение к роскоши и одевалась очень скромно, постоянно одёргивая в этом отношении других сестёр.
Подруга Императрицы Юлия Ден, которую в царской семье ценили за её ум, рассудительность, спокойную уравновешенность, описывала в своей книге быт царевен: «Их Высочества любили своих горничных и часто помогали им убирать комнаты и стелить постели...
Их Высочества никогда не кичились своим происхождением. Со свойственной им учтивостью они неизменно пропускали меня вперёд, выходя из какого-то помещения. При этом не было ни церемонности, ни суеты; это были славные, милые девочки, и я любила их всех. Их Высочества поднимались рано и вскоре принимались за уроки. После утренних уроков они гуляли с Его Величеством. В перерыв между ленчем и чаем они вновь отправлялись с отцом на прогулку. Разговаривали они по-русски, по-английски, немного по-французски. По-немецки они не разговаривали никогда. Хотя они хорошо танцевали, возможность для этого предоставлялась им редко».
Александра Фёдоровна не позволяла княжнам сидеть без дела ни минуты. Желая видеть в дочерях настоящих помощниц, она приучала их к основам домашнего хозяйства и сама учила рукоделью. Чудные работы и вышивки выходили из-под их изящных ручек. Лучше других получалось рукоделье у Великой Княжны Татьяны Николаевны. Она шила себе и старшим сёстрам блузы, вышивала, вязала.

Государыня устраивала благотворительные базары, на которых сама вместе с дочерьми продавала то, что было сделано их собственными руками. Вырученные немалые средства шли на поддержание благотворительных учреждений.
Царевны получили прекрасное домашнее образование, играли на рояле, хорошо танцевали, рисовали. Воспитывались они в глубокой религиозности, посещали с родителями богослужения. Александра Фёдоровна постоянно читала Библию и толкования святых отцов Церкви, чтобы более точно и ясно знать путь, по которому должно идти за Христом. Любовь к чтению святого писания она прививала и детям.
Мать в отношениях с детьми — простая, сердечная, но одновременно и требовательная. Александра Федоровна не сомневалась, что искренность — непременное условие благородства. Она Сама была таковой и всем Детям сумела подарить то же качество. Чтобы стать по-настоящему нравственной, честной и добросердечной — надо быть преданной душой Господу. Александра Федоровна, не переставая, говорила о том Детям. Вот некоторые выдержки из Ее писем.
Ольге Николаевне: «Старайся серьезно говорить с Татьяной и Марией о том, как нужно относиться к Богу» (1909 год); «Ольга, дорогая, в комнате Я или нет, Ты всегда должна вести себя одинаково. Это не Я за тобой смотрю, а Бог все видит и повсюду слышит, и это Ему мы должны в первую очередь постараться понравиться, делая все, что нужно, побеждая свои недостатки» (1909); «Да вознаградит Тебя щедро Бог за Твою любовь к Маме и Твои молитвы за Ее здоровье. Все в Божьей воле» (1909); «Учись послушанию, пока Ты еще мала, и Ты приучишься слушать Бога, когда станешь старше» (1909); «Изо всех сил старайся быть как можно лучше, терпеливее и любезнее во время Святого Поста — серьезно вслушивайся в прекрасные молитвы в церкви» (1910).
Татьяне Николаевне. «Хорошенько молитесь в церкви за всех Нас, за всех Моих цыплят, больших и маленьких» (1907); «Это прекрасно — Ты молишься за свою Мамочку, — может быть, Бог даст что-то хорошее. Но иногда Он посылает болезнь для блага чьей- то души» (1909); «В церкви внимательно слушай чудные молитвы Великого Поста, они помогут Тебе быть хорошей» (1910).
Марии Николаевне. «Я сейчас должна почитать Библию и молитвы, так как не хожу в церковь. Я надеюсь, что Ты и Татьяна тоже так сделаете» (1907); «Да благословит Тебя Бог. Старайся всегда больше всего любить Его и быть хорошей терпеливой маленькой девочкой и старайся всегда быть послушной» (1910). «Не забудь перед исповедью и Причастием почитать книгу, которую Тебе дал Батюшка» (1911); «Я надеюсь, Ты не забыла, что на Пасху в России принято "троекратно лобызаться" (1912); «Ты можешь пойти на всенощную, а если стесняешься, будь в Моей маленькой молельне, и в воскресенье тоже» (1914).
Повзрослев, христианские наставления и поучения Матери для Дочерей уже не являлись обязательными. Теперь Они умом и всем сердцем чувствовали, понимали и ощущали красоту и силу Веры Христовой. Им не надо было теперь объяснять, как вести себя в Храме, как подходить к аналою, как прикладываться к образам. Молитва наполняла Их жизнь высокой, живительной радостью. Как признавалась Матери в 1915 году Мария «знаешь, это очень странно, но, когда я вышла из комнаты Алексея после молитвы, у меня было такое чувство, как будто Я пришла с исповеди, такое приятное небесное ощущение».
Дочери любили Мать бесхитростной и преданной любовью. Они старались передать Свои чувства в письмах, но нередко казалось, что чего-то главного, «самого-самого» недоговаривают. Им не хватало слов, но не оттого, что Они недостаточно хорошо владели лексическим запасом, а потому, что их ни в каком языке не существовало. Любовь к Родителям — это как любовь ко Всевышнему; чувство здесь всегда значимее, глубже, выше любого его словесного выражения. Подобного рода посланий сохранилось немало, но, может быть, одно из наиболее проникновенных написано четырнадцатилетней Татьяной Николаевной в ноябре 1911 года в Ливадии. Это удивительный образец той великой меры любви, которая соединяла Детей и Родителей.
«Моя дорогая, родная, милая Мама. Я прошу прощения за то, что не слушаю Тебя, спорю с Тобой, что непослушная. Сразу Я никогда ничего не чувствую, а потом я чувствую себя такой грустной и несчастной оттого, что утомила Тебя, потому что Тебе все время приходилось Мне все повторять. Пожалуйста, прости Меня, Моя бесценная Мамочка. Сейчас я действительно постараюсь быть как можно лучше и добрее, потому что я знаю, как Тебе не нравится, когда одна из твоих дочерей не слушается и плохо себя ведет. Я знаю, как это ужасно с Моей стороны плохо себя вести, Моя дорогая Мама, но я на самом деле, милая Моя, буду стараться вести Себя как можно лучше и никогда не утомлять Тебя и всегда слушаться с первого слова. Прости Меня, дорогая. Напиши Мне только одно слово, что Ты Меня прощаешь, и тогда я смогу пойти спать с чистой совестью. Да благословит Тебя Бог всегда и повсюду — никому не показывай это письмо. Поцелуй от Твоей любящей, преданной, благодарной и верной Дочери. Татьяна».
Естественно, что Александра Федоровна сказала желанное «слово »; Она всех Их любила. Она всегда серьезно и радостно воспринимала все детские душеизлияния, особенно когда речь шла о том, что хранилось в глубине сердец.
Всю жизнь Александра Федоровна не любила конспирации, в Своем же доме «тайны» и «секреты» Она просто не переносила. Однако детские исповедания умела хранить, так как это могло ранить душу той, которая Ей, Матери, открылась. Да, собственно, никаких особых «тайн» в этом мире не существовало. Когда девочки стали переходить в возраст девушек, то у старших — Ольги и Татьяны — возникали Свои, такие понятные, но необъяснимые для них «симпатии» к тому или иному молодому человеку. Они не распространялись на родственный и придворный круг. У Княжон вызывали симпатию те или иные молодые люди из числа дежурных офицеров при Дворе или офицеров полков, шефами которых они значились Дочери непременно об этом рассказывали Матери, которая неизменно в таких случаях была чрезвычайно внимательной и предупредительной. Она не запрещала им ничего, лишь учила сохранять внешнюю беспристрастность, потому что кругом так много любопытных и недоброжелательных глаз. Невинный взгляд или улыбка, адресованная тому или иному лицу, могли истолковать невесть как. Об этом Александра Федоровна хорошо знала. И призывала дочерей не давать злопыхателям ни малейшего повода.
Взаимная любовь детей и родителей была полной и безмерной. Как вспоминала С.К. Буксгевден, «Императрица воспитывала дочерей Сама, и делала это прекрасно. Трудно представить себе более очаровательных, чистых и умных девочек. Она проявляла свой авторитет только при необходимости, и это не нарушало той атмосферы абсолютного доверия, которая царила между Нею и Дочерьми. Она понимала жизнерадостность юности и никогда не сдерживала Их, если Они шалили и смеялись. Ей также нравилось присутствовать на уроках, обсуждать с учителями направление и содержание занятий».
Александра Федоровна приучала Детей вести дневник и писать письма, лишь только те начинали постигать азы грамотности. Это тоже было одним из элементов воспитания. Они должны были учиться излагать свои мысли и овладеть эпистолярным мастерством. Когда девочки вырастали, то появлялась и еще одна причина. Каждая из них хотела донести до Отца и Матери свое сокровенное, что коренилось в душе, но что высказать вслух было не всегда возможно. Родители бывали постоянно слишком заняты, слишком много людей вращалось вокруг, и остаться «тет-а-тет» с Матерью или Отцом каждой удавалось лишь изредка.
Дочери писали особенно часто Матери, хотя, казалось бы, Ее-то они имели возможность видеть куда чаще, чем Отца. Жизнь во дворце имела свои законы, установленные ритуалы, которые ни изменить, ни отменить Они были не силах. А душа так рвалась сказать что-то свое, что-то особенно значимое, предназначенное лишь для дорогого человека. И для всех четырех Великих княжон таким человеком всегда оставалась «дорогая Мама». Она все всегда понимала, все прощала и непременно давала правильный совет. Она являлась для Них бесспорным моральным авторитетом.
Потому регулярно и появлялись «послания» Великих княжон Матери, направленные из одного помещения дворца в другое. В Александровском дворце, где Принцессы прожили большую часть жизни, это были письма со второго этажа (там находись их комнаты) на первый, где располагались апартаменты Родителей. Чаще всего подобные «эпистолы» составлялись перед сном, после молитвы, когда душа рвалась сказать «прости» дорогому человеку. Типичный образец — записка Анастасии Николаевны от 7 мая 1915 года: «Моя дорогая милая Мама» Надеюсь, что Ты не слишком устала, Мы постараемся не ссориться, не спорить и не драться, так что Ты спи спокойно. Да хранит Тебя Бог! Твоя любящая дочь Анастасия».
Эти записочки, реже письма в полном смысле этого слова, Александра Федоровна никогда не оставляла без внимания. Она непременно на них отвечала, при этом исправляя в детских посланиях ошибки правописания. Так что каждое письмо «дорогой Мама?» являлось для Княжон еще и своеобразным экзаменом на знание иностранных и русского языков.
Александра Федоровна никогда не оставляла без внимания «обиды» на невнимание, возникавшие у дочерей. Она спокойно и обстоятельно все разъясняла. В 1908 году писала Ольге Николаевне: «Милое дитя! Целую Тебя нежно и благодарю за Твои записочки. Жаль, что я не могла повидаться с Тобой наедине, но сейчас это трудно. Скоро буду свободнее, и тогда Ты сможешь все Нам рассказать, и все, что Тебя интересует. Видишь ли, я обычно очень устаю и поэтому редко оставляю Вас всех с нами на долгое время, и часто грущу и не хочу, чтобы Вы видели Мое мрачное лицо».
Если же иногда Мать и дочери расставались, то тут уже каждодневная связь была не только желанной, но и обязательной. Летом 1903 года по дороге в Саров Александра Федоровна писала Ольге, оставшейся теперь «попечительницей» других Сестер. «Папа и Мама очень-очень нежно целуют своих милых маленьких Девочек и очень грустят, что должны Их оставить. Старайтесь быть золотыми, а Ольга обязательно телеграфируй Мне каждый день, как Вы там все поживаете. Я надеюсь, зверюшки Вам понравятся. Ну, хорошо. До свидания и да благословит Вас Бог. Еще раз целую Тебя, Мой цветочек, и прощаюсь со всеми девочками. Ваша Мама». «Попечительнице» в этот момент еще не исполнилось и восьми лет.
Письма и записочки писались большей частью по-английски. Телеграммы же почти исключительно — на русском языке. Постепенно вся корреспонденция сделалась русскоязычной. Александра Федоровна очень быстро научилась понимать русскую речь, стала свободно разговаривать и писать на языке своей новой Родины.
С огромной любовью отзывались о княжнах и описывали их жизнь очевидцы, приближённые царского двора.
«Трудно представить себе более очаровательных, чистых и умных девочек».
Из воспоминаний С.К. Буксгевден, фрейлины Императрицы.
«Дети, как называла Великих Княжон А.А. Танеева и Ю.А. (Лили) Ден (самые близкие подруги Государыни и Царских Детей) целиком разделяли взгляды Августейших родителей, которые не любили ничего показного, кричащего, стремились держаться подальше от «ликующих, праздно болтающих». Они наслаждались самыми простыми радостями — общением с природой, друг с другом, с простонародьем, которое по своему укладу жизни ближе всего к земле, к деревенскому восприятию мира...
Все Великие Княжны были бесхитростными, невинными созданиями. Ничего нечистого, дурного в их жизнь не допускалось. Её Величество очень строго следила за выбором книг, которые они читали. В основном, это были книги английских авторов. Их Высочества не имели ни малейшего представления о безобразных сторонах жизни, хотя — увы! — им суждено было увидеть самое гадкое, что в ней существует, и столкнуться с самыми низменными чертами человеческой натуры».
«Внешне однообразную свою жизнь Княжны наполняли веселием своих жизнерадостных и живых характеров. Они умели находить счастье и радость в малом. Они были юны не только своими годами, но были юными в самом глубоком смысле этого слова; их радовало всё: солнце, цветы, каждая минута, проведённая с отцом, каждая короткая прогулка, во время которой они могли посмотреть на толпу; они радовались каждой улыбке незнакомых им прохожих; они сияли всем лаской и яркими красками цветущих русских лиц. Везде, где они появлялись, звучал их весёлый звонкий смех. Никто и никогда не чувствовал себя с ними стеснённо, их простота делала всех такими же простыми и непринуждёнными, какими они были сами».
Из воспоминаний жительницы Царского Села С.Я. Офросимовой в книге «Царская семья».
«Когда Великие Княжны посещали детские приюты, то здесь вели себя с детьми-сиротами как с родными, без брезгливости целуя и лаская их. Приход их в приют столько вносил с собою ласки и привета, что дети в восторге радости кидались обнимать их, целуя руки, толпясь около них. Дети своим чутким сердцем ощущали в них чистую, искреннюю, нежную к ним любовь. Детское сердце не обманывает».
Из книги игумена Серафима (Кузнецова) «Православный Царь-мученик».
«...трудно определимая прелесть этих четырёх сестёр состояла в их большой простоте, естественности, свежести и врожденной доброте». «Обстоятельства рано приучили всех четырёх довольствоваться самими собой и своею природной весёлостью. Как мало молодых девушек без ропота удовольствовалось бы таким образом
«Великие княжны были прелестны своей свежестью и здоровьем. Трудно было найти четырёх сестёр, столь различных по характерам и в то же время столь тесно сплочённых дружбой. Последняя не мешала их личной самостоятельности и, несмотря на различие темпераментов, объединяла их живой связью. Из начальных букв своих имён они составили общее имя: «ОТМА». Под этой общей подписью они иногда делали подарки или посылали письма, написанные одной из них от имени всех четырёх», — писал о княжнах Пьер Жильяр.
Из дневника Александры Фёдоровны: «Чистота помыслов и чистота души — вот что действительно облагораживает. Без чистоты невозможно представить истинную женственность. Даже среди этого мира, погрязшего в грехах и пороках, возможно сохранить эту святую чистоту. «Я видел лилию, плавающую в чёрной болотной воде. Всё вокруг прогнило, а лилия оставалась чистой, как ангельские одежды. В тёмном пруду появилась рябь, она покачивала лилию, но ни пятнышка не появилось на ней». Так что даже в нашем безнравственном мире молодой женщине можно сохранить незапятнанной свою душу, излучая святую бескорыстную любовь».
И хочу закончить эту главу цитатой автора из книги Т.Н. Микушиной «О Царской семье» - «Любовь, царившая в семье, была их основой, воздухом и светом одновременно. Любовь родителей к друг другу и к России в сочетании с чувством долга и ответственностью венценосцев перед Родиной явились благодатной почвой для развития у детей качеств высочайшей пробы: искренности, доброжелательности, милосердия, мужества, глубокой веры в Бога, преданности Отечеству. 4 сестры были поистине жемчужинами в Российской короне, сияние которых могло бы в будущем осветить Россию и мир новым светом духовности».
Источники - 1. Боханов А.Н. "Святая царица". - М.: Вече, 2006.- 304с., илл.
2. Кравцова М. Воспитание детей на примере святых царственных мучеников. - М.: Вече, 2013. - 208 с.
3. Покаяние спасёт Россию. О Царской семье. /Сост. Т.Н. Микушина, О.А. Иванова, Е.Ю. Ильина.– Омск: Издательский Дом «СириуС», 2013. – 264 с., цв. и ч.-б. илл.
4. Буксгевден С. Венценосная мученица. - М.: Русский Хронографъ, 2010. - 528 с.
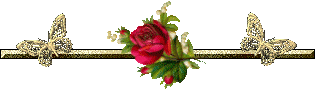
Серия сообщений "Царские дети":
Часть 1 - Святая женственность царевен Романовых
Часть 2 - Царские дети
...
Часть 11 - Воспоминания близких о Марии Николаевне
Часть 12 - Воспоминания близких об Анастасии Николаевне
Часть 13 - Великие Княжны и Александра Федоровна
|
|
Императрица - Мать |
 Бог, чтобы стать ближе всем, создал матерей. Материнская любовь как бы воплощает любовь Бога, и она окружает жизнь ребенка нежностью
Бог, чтобы стать ближе всем, создал матерей. Материнская любовь как бы воплощает любовь Бога, и она окружает жизнь ребенка нежностью
Императрица Александра Федоровна
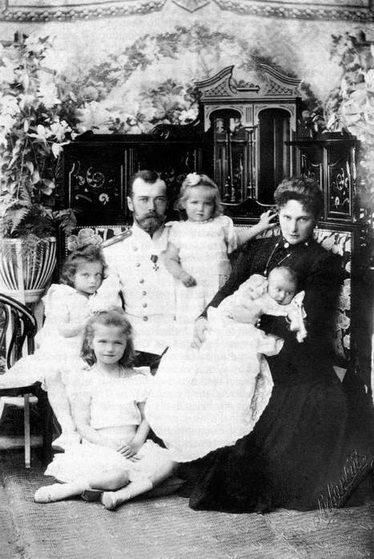
«Главным центром жизни любого человека должен быть его дом.
Это место, где растут дети — растут физически, укрепляют своё здоровье и впитывают в себя всё, что сделает их истинными и благородными мужчинами и женщинами.
В доме, где растут дети, всё их окружение и всё, что происходит, влияет на них, и даже самая маленькая деталь может оказать прекрасное или вредное воздействие. Даже природа вокруг них формирует будущий характер. Всё прекрасное, что видят детские глаза, отпечатывается в их чувствительных сердцах.
Где бы ни воспитывался ребёнок, на его характере сказываются впечатления от места, где он рос.
Комнаты, в которых наши дети будут спать, играть, жить, мы должны сделать настолько красивыми, насколько позволяют средства. Дети любят картины, и если картины в доме чистые и хорошие, то чудесно на них влияют, делают их утончённее. Но и сам дом, чистый, со вкусом убранный, с простыми украшениями и с приятным окружающим видом, оказывает бесценное влияние на воспитание детей». (Императрица Александра Федоровна)
В 1895 году у царской четы родилась первая дочь, Ольга. Александра Фёдоровна писала своей сестре, принцессе Виктории: «Тебе пишет сияющая, счастливая мать. Можешь представить себе наше бесконечное счастье теперь, когда у нас есть наша драгоценная малышка, и мы можем заботиться и ухаживать за нею».
 Ольга с родителями 1896 г.
Ольга с родителями 1896 г.
Александра Федоровна придерживалась английских методов воспитания. Простота, аккуратность и обязательность во всем. Это прививалось детям буквально с первых дней. Они должны были всегда ясно понимать, что такое «хорошо» и что такое «плохо», что можно делать, а чего делать не полагается. Они ни на минуту не должны были забывать о своем царскородном происхождении, а потому должны быть сдержанными и великодушными. «Дорогая Мама » им это с малолетства объясняла, четко очерчивая границы дозволенного.
Если Отец готов был порой прощать шалости, непослушание, несоблюдение придворного этикета, то Александра Федоровна никогда не проявляла снисхождения к слабостям. Она Себе их не прощала, не оставляла незамеченными и у Детей. В этом не было никакого «тиранства»; Александра Федоровна никогда в разговоре с Детьми даже не повысила голос. Она действовала убеждением и неотразимой логикой, против которой не находилось никаких контраргументов.
Мать готовила Их к взрослой жизни, прекрасно понимая, что, какой бы она в дальнейшем ни была, организованный человек сможет легче все перенести, все выдержать, чем тот, который потакает своим сиюминутным прихотям. И все Дети выдержали ниспосланные испытания. Даже в самые безысходные моменты поздних месяцев семейной жизни никто из них ни разу не « сорвался», никто не рыдал, не причитал. В последний земной срок Родители и Дети явили потрясающий пример семейной целостности, великой духовной мощи, аналогов которому в истории отыскать просто невозможно.
Мать объясняла Дочерям главные ценности жизни, раскрывая смысл земного существования человека. В январе 1909 года писала четырнадцатилетней Ольге: «Старайся быть примером того, какой должна быть хорошая, маленькая, послушная девочка. Ты у нас старшая и должна показывать другим, как себя вести. Учись делать других счастливыми, думай о Себе в последнюю очередь. Будь мягкой, доброй, никогда не веди Себя грубо или резко. В манерах и речи будь настоящей леди. Будь терпелива и вежлива, всячески помогай сестрам. Когда увидишь кого-нибудь в печали, старайся подбодрить солнечной улыбкой….».
От себя: Читая воспоминания близких или письма Императрицы восторгаешься тем, насколько Александра Федоровна была для дочерей близким другом, мудрым советчиком, разговаривая с ними как с равными себе, уважая их чувства, печаль и радость. Приведу здесь выдержки одного из писем Государыни к старшей дочери Ольге (в тот период жизни, когда Великая Княжна вступила в период первой влюбленности, первых волнений юношеской любви), в котором она трепетно успокаивает свою дочь:
«Я уже давно заметила, что ты какая-то грустная, но не задавала вопросов, потому что людям не нравится, когда их расспрашивают... Конечно, возвращаться домой, к урокам (а это неизбежно) после долгих каникул и веселой жизни с родственниками и приятными молодыми людьми нелегко... Я хорошо знаю о твоих чувствах к... бедняжке. Старайся не думать о нем слишком много, вот что сказал наш Друг. Видишь ли, другие могут заметить, как ты на него смотришь, и начнутся разговоры... Сейчас, когда ты уже большая девочка, ты всегда должна быть осмотрительной и не показывать своих чувств. Нельзя показывать другим свои чувства, когда эти другие могут счесть их неприличными. Я знаю, что он относится к тебе как к младшей сестре, и он знает, что ты, маленькая великая княжна, не должна относиться к нему иначе. Дорогая, я не могу написать все, на это потребуется слишком много времени, а я не одна.
Будь мужественна, приободрись и не позволяй себе так много думать о нем. Это не доведет до добра, а только принесет тебе больше печали. Если бы я была здорова я попыталась бы тебя позабавить, рассмешить — все было бы тогда легче, но это не так, и ничего не поделаешь. Помоги тебе Бог. Не унывай и не думай, что ты делаешь что-то ужасное. Да благословит тебя Бог. Крепко целую. Твоя старая мама».

А вот другое ее письмо к дочери:
«Дорогое дитя! Спасибо за записку. Да, дорогая, когда кого-нибудь любишь, то переживаешь с ним его горе и радуешься, когда он счастлив. Ты спрашиваешь, что делать. Нужно от всего сердца молиться, чтобы Бог дал твоему другу силу и спокойствие, чтобы перенести горе, не ропща против Божией воли. И нужно стараться помогать друг другу нести крест, посланный Богом. Нужно стараться облегчить ношу, оказать помощь, быть бодрой. Ну, спи спокойно и не слишком забивай свою голову посторонними мыслями. От этого не будет толку. Спи спокойно и старайся всегда быть хорошей девочкой. Да благословит тебя Бог. Нежные поцелуи от твоей старой мамы».
От себя: Какое единение и родство душ дочери и матери!!!! Читая успокаивающие слова Александры Федоровны к Великой княжне Ольге «Если бы я была здорова я попыталась бы тебя позабавить, рассмешить — все было бы тогда легче», понимаешь, что она всегда была рядом с ними в любых ситуациях, на любом расстоянии и свой богатый жизненный опыт Императрица передавала своим детям. Это еще один пример того насколько Александра Федоровна была мудрой, умной и дальновидной во всех отношениях. И только время показало насколько ее взгляды на жизнь и воспитание детей имело под собой образцовый пример для будущих поколений.
«Императрица была идеальной женой и идеальной матерью. Она разделяла с детьми все их радости и печали и с подлинным энтузиазмом участвовала в их играх и развлечениях. Она сама выкармливала своих детей, и пока те были совсем маленькими, в ее будуаре все время стояла их колыбель. Когда она перестала кормить свою 4 дочь (Анастасию), она написала в письме к сестре, принцессе Баттенбергской: «Это так тяжело – теперь ее придется передать на воспитание няням; этот момент навевает на меня меланхолию, поскольку она сейчас все время со мной или в соседней комнате». (С.К. Буксгевден)
 Александра Федоровна с Ольгой и Марией
Александра Федоровна с Ольгой и Марией
Образованием детей тоже заведовала Александра Федоровна. Пьер Жильяр, вспоминая первые свои уроки с Ольгой и Татьяной, которым было тогда соответственно десять и восемь лет, так описывал отношение Императрицы к учебным занятиям дочерей: «Императрица не упускает ни одного моего слова; у меня совершенно ясное чувство, что это не урок, который я даю, а экзамен, которому я подвергаюсь...
В течение следующих недель Императрица регулярно присутствовала на уроках детей... Ей часто приходилось, когда ее дочери оставляли нас, обсуждать со мной приемы и методы преподавания живых языков, и я всегда поражался здравым смыслом и проницательностью ее суждений». Жильяр явно был удивлен таким отношением Государыни и «сохранил совершенно отчетливое воспоминание о крайнем интересе, с каким Императрица относилась к воспитанию и обучению своих детей, всецело преданная своему долгу». Он рассказывает о том, что Александра Феодоровна хотела внушить дочерям внимательность к наставникам, «требуя от них порядка, который составляет первое условие вежливости... Пока она присутствовала на моих уроках, я всегда при входе находил книги и тетради старательно расположенными на столе перед местом каждой из моих учениц. Меня никогда не заставляли ждать ни одной минуты».
Не один Жильяр свидетельствует о таком внимании Государыни к учебным занятиям детей. Софи Буксгевден также пишет: «Ей нравилось присутствовать на уроках, обсуждать с учителями направление и содержание занятий». Да и сама Александра Федоровна рассказывала Императору в письме: «Дети начали свои зимние уроки. Мария и Анастасия недовольны, но Беби все равно. Он готов еще больше учиться, так что я сказала, чтобы уроки продолжались вместо сорока пятьдесят минут, так как теперь, слава Богу, он гораздо крепче».
То, что царские дети никогда не сидели без дела, вовсе не значит, что они вообще не отдыхали. Детские игры Государыня тоже считала делом, причем делом весьма важным: «Просто преступление — подавлять детскую радость и заставлять детей быть мрачными и важными... Их детство нужно по мере возможности наполнить радостью, светом, веселыми играми. Родителям не следует стыдиться того, что они играют и шалят вместе с детьми. Может, именно тогда они ближе к Богу, чем когда выполняют самую важную, по их мнению, работу».
 Императрица с дочерьми на балконе Александровского дворца 1908 г.
Императрица с дочерьми на балконе Александровского дворца 1908 г.
Вот как охарактеризовала педагогическую деятельность Императрицы современный автор М.Кравцова в книге «Воспитание детей на примере святых царственных мучеников». Родителей, которые захотят послушаться мудрого совета Императрицы Александры Феодоровны, эти слова могут предостеречь сразу от двух ошибок. Первая: у взрослых есть склонность резко ограничивать ребячьи забавы, при этом часто забывают, что дети есть дети и нельзя постоянно приносить их игру в жертву занятиям, пусть даже самым важным. Вторая ошибка: пустить ребенка на самотек, не интересуясь его занятиями в часы досуга, как, например, делают многие мамы, разрешая детям часами напролет играть в компьютерные игры. Организовать детскую игру ненавязчиво и мудро — большой талант. К счастью для себя, царские дети не знали компьютеров и у них были мудрые, любящие родители, всегда готовые разделить их забавы, а потому и отдых великих княжон и наследника всегда был веселым и здоровым.
Если бы сейчас родители сами играли с детьми или хотя бы просто вдумывались, во что играют и как развлекаются их чада, можно было бы избежать многих бед. Это не преувеличение. Что такое для ребенка игра? Акт творчества, познания, первые уроки жизни. Нормальная детская игра развивает ребенка, учит его принимать решения, быть самостоятельным. Правда, это не значит, что детские игры надо строго регламентировать. Иначе родители, испугавшись впасть в первые две ошибки, совершат третью — станут постоянно вмешиваться в игру ребенка «со своей взрослой колокольни», желая сделать ее правильной и «развивающей». (М.Кравцова)
Приведу еще одно письмо (тоже к старшей дочери), в котором мы читаем какое живое соучастие принимала Императрица в жизни своих детей (пускай даже на расстоянии): «…И то, что любящая вас старушка мама всегда болеет, также омрачает вам жизнь, бедные дети. Мне очень жаль, что я не могу больше времени проводить с вами и читать, и шуметь, и играть вместе, но мы должны все вытерпеть». Вот, что об этом говорить сама Александра Федоровна: «…Для настоящей матери важно все, чем интересуется ее ребенок. Она так же охотно слушает о его приключениях, радостях, достижениях, планах и фантазиях, как другие люди слушают какое-нибудь романтическое повествование. Пока живы родители, ребенок всегда остается ребенком и должен отвечать родителям любовью и почтением. Любовь детей к родителям выражается в полном доверии к ним».
Вновь обращусь к труду М.Кравцовой - Чему же учила детей Императрица Александра Феодоровна? Из письма к дочери Ольге: «Девочка моя, ты должна помнить, что одна из главных вещей — быть вежливой, а не грубой и в манерах, и в словах. Грубые слова в устах детей — это более чем некрасиво. Всегда обдумывай свое поведение, будь честной, слушай старших...»
«Дети должны учиться самоотречению, — рассуждала императрица. — Они не смогут иметь все, что им хочется. Они должны учиться отказываться от собственных желаний ради других людей. Им следует также учиться быть заботливыми. Беззаботный человек всегда причиняет вред и боль – ненамеренно, а просто по небрежности. Для того чтобы проявить заботу, не так уж много нужно — слово ободрения, когда у кого-то неприятности, немного нежности, когда другой выглядит печальным, вовремя прийти на помощь тому, кто устал. Дети должны учиться приносить пользу родителям и друг другу. Они могут это сделать, не требуя излишнего внимания, не причиняя другим забот и беспокойства из-за себя. Как только они немного подрастут, детям следует учиться полагаться на себя, учиться обходиться без помощи других, чтобы стать сильными и независимыми».
Много внимания Императрица уделяла отношениям между детьми. Царская семья была очень дружной, все проявляли друг к другу внимание и искреннюю заботу. Именно крепкая дружба и сплочённость помогала выстоять семье в тяжёлые времена.
 Императрица с дочерьми и Алексеем 1907 г.
Императрица с дочерьми и Алексеем 1907 г.
Из дневника Александры Фёдоровны: «Между братьями и сёстрами должна быть крепкая и нежная дружба. В наших сердцах и нашей жизни мы должны беречь и растить всё красивое, истинное, святое. Дружеские связи в нашем собственном доме, чтобы они были глубокими, искренними и сердечными, должны формировать родители, помогая сблизиться душам. Нет в мире дружбы чище, богаче и плодотворнее, чем в семье, если только направлять развитие этой дружбы. Молодой человек должен быть более вежливым со своей сестрой, чем с любой другой молодой женщиной в мире, а молодая женщина, пока у неё нет мужа, должна считать брата самым близким в мире для неё человеком. Они должны в этом мире охранять друг друга от опасностей и обманных и гибельных путей».
«Каждая преданная сестра может оказать такое сильное влияние на своего брата, которое будет вести его, как перст Господа, по верной жизненной дороге. В своём собственном доме, на собственном примере покажите им всю возвышенную красоту истинной благородной женственности. Стремясь ко всему нежному, чистому, святому в божественном идеале женщины, будьте воплощением добродетели и сделайте добродетель для всех настолько привлекательной, чтобы порок у них всегда вызывал только отвращение. Пусть они видят в вас такую чистоту души, такое благородство духа, такую божественную святость, чтобы ваше сияние всегда охраняло их, куда бы они ни пошли, как защитная оболочка или как ангел, парящий над их головами в вечном благословении. Пусть каждая женщина с помощью Божией стремится к совершенству… А братьям, в свою очередь, следует охранять сестер».
Один из главных секретов успеха в воспитании был прост: отец и мать принимали своих детей, столь непохожих друг на друга такими, какими их сотворил Бог, не пытаясь «уровнять» детей или в чем-то переломить их нрав. Александра Федоровна понимала жизнерадостность юности и никогда не сдерживала девочек, если они шалили и смеялись (М.Кравцова)
Христианские принципы жизни царской четы становились принципами воспитания детей: «Мы всегда должны думать о том, чтобы наша помощь другим приносила им какую-то пользу, учила их чему-то, изменяла к лучшему характер, делала их мужественнее, сильнее, искреннее, счастливее. В мире много людей, впавших в отчаяние, и мы должны иметь сказать им слово надежды или сделать доброе дело, которое выведет их из безысходности и даст силы вернуться к радостной, полной жизни. Любовь — это самое великое в мире. Мы должны стараться, чтобы все, что мы делаем, вся наша жизнь были на благо другим людям. Мы должны так жить, чтобы никому не навредить, чтобы наша жизнь служила примером для других... Даже то, что нам не нравится, мы должны делать с любовью и тщанием, и перестанем видеть то, что было нам неприятно. Мы должны оказывать помощь не только, когда нас об этом попросят, но сами искать случая помочь… Наш Господь хочет от нас, чтобы мы не предавали доверия. Верность — великое слово. Наполните любовью свои дни. Забудьте себя и помните о других. Если кому-то нужна ваша доброта, то доброту эту окажите немедленно, сейчас. Завтра может быть слишком поздно. Если сердце жаждет слов ободрения, благодарности, поддержки, скажите эти слова сегодня. Беда слишком многих людей в том, что их день заполнен праздными словами и ненужными молчаниями, что они откладывают на потом свою заботу о ком-то. Мы не можем достаточно ясно представить себе, что многие вещи, если не сделать их сейчас, не следует делать вообще. Не уклоняйтесь от своих обязанностей, какими бы они ни были неприятными. Невыполненный долг в этот день оставит чувство пустоты, а позднее придет чувство сожаления. Делайте что-то нужное в каждый момент своей жизни. Каждый день, когда мы делаем что-нибудь хорошее в верности своей Христу, возвышает нас и устанавливает более высокую планку для нашей судьбы.
Любовь не вырастает, не становится великой и совершенной вдруг и сама по себе, но требует времени и постоянного попечения...
Всегда любить — это долг» (царица-мученица Александра Феодоровна).
Источники - 1. Боханов А.Н. "Святая царица". - М.: Вече, 2006.- 304с., илл.
2. Кравцова М. Воспитание детей на примере святых царственных мучеников. - М.: Вече, 2013. - 208 с.
3. Покаяние спасёт Россию. О Царской семье. /Сост. Т.Н. Микушина, О.А. Иванова, Е.Ю. Ильина.– Омск: Издательский Дом «СириуС», 2013. – 264 с., цв. и ч.-б. илл.
4. Буксгевден С. Венценосная мученица. - М.: Русский Хронографъ, 2010. - 528 с.
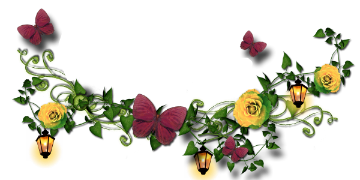
Серия сообщений "Императрица Александра":
Часть 1 - Александра Федоровна: интересы, вкусы, внешность
Часть 2 - Русская Императрица
...
Часть 7 - Религиозность Александры Федоровны
Часть 8 - Императрица и Распутин
Часть 9 - Императрица - Мать
|
|
Понравилось: 1 пользователю
Воспоминания близких об Анастасии Николаевне |
Четвёртая дочь царской четы Великая княжна Анастасия Николаевна родилась 18 июня 1901 г. в Петергофе.
Круглолицая, голубоглазая, с пшеничного цвета волосами, Анастасия очень походила на отца. Росла она подвижным и энергичным ребёнком. Домашние звали её «маленькой», Настаськой, Настей, «кубышкой» — за небольшой рост и кругленькую фигуру, а ещё забавным прозвищем «швыбзик» или «швибз» - за неистощимость в изобретении шалостей и проказ. Все отмечали, что маленькая Анастасия обладала большим обаянием.
«Анастасия Николаевна всегда шалила, лазила, пряталась, смешила всех своими выходками, и усмотреть за ней было нелегко», - писала Анна Танеева. С.Я. Офросимова вспоминала: «Когда приходили княжны, в особенности Великая Княжна Анастасия Николаевна, начинались страшная возня и шалости. Анастасия Николаевна была отчаянной шалуньей и верным другом во всех приказаниях цесаревича».
Девочка отличалась лёгким и жизнерадостным характером, любила играть в лапту, в фанты, крутить металлический обруч, могла часами без устали носиться по дворцу, играя в прятки. Легко лазила по деревьям и часто из озорства отказывалась спуститься на землю. Она была неистощима на выдумки, к примеру, любила раскрашивать щёки и носы сестёр, брата и молодых фрейлин душистым кармином (красным красителем) и клубничным соком. С её лёгкой руки в моду вошло вплетать в волосы цветы и ленты, чем девочка очень гордилась. Анастасия была неразлучна со старшей сестрой Марией, обожала брата и могла часами развлекать его, когда Алексея укладывала в постель очередная болезнь.

Юлия Ден писала: «Самая младшая из великих княжон, Анастасия Николаевна, казалось, была из ртути, а не из плоти и крови. Она была очень, чрезвычайно остроумна и обладала несомненным даром мима. Во всем умела находить забавную сторону... Думаю, из нее вышла бы превосходная комедийная актриса. Она то и дело проказничала, это был настоящий сорванец, но я бы не посмела сказать, что она отставала в своем развитии, как однажды заявил месье Жильяр, наставник цесаревича. Во время революции Анастасии исполнилось всего шестнадцать — в конце концов, не ахти какой преклонный возраст! Она была хорошенькой, но лицо у нее было смышленое и в глазах светился недюжинный ум»
Однако при этом Анастасия понимала своё положение, занимаемое ею от рождения, и однажды, когда младший брат сказал ей: «Анастасия, тебе нужно представлять в театре, будет очень смешно, поверь!», то получил неожиданный ответ, что Великая княжна не может выступать в театре, у неё есть другие обязанности.
По воспоминаниям Пьера Жильяра, «Анастасия Николаевна была... большая шалунья, и не без лукавства. Она во всём быстро схватывала смешные стороны; против её выпадов трудно было бороться. Она была баловница — недостаток, от которого она исправилась с годами. Очень ленивая, как это бывает иногда с очень способными детьми, она обладала прекрасным произношением французского языка и разыгрывала маленькие театральные сцены с настоящим талантом. Она была так весела и так умела разогнать морщины у всякого, кто был не в духе, что некоторые из окружающих стали, вспоминая прозвище, данное её матери при английском дворе, звать её «Солнечный луч».

Прилежанием в учёбе Анастасия не отличалась, она терпеть не могла грамматику, писала с ошибками, а арифметику с детской непосредственностью именовала «свинством». Преподаватель английского языка Чарльз Сидней Гиббс вспоминал, что однажды она пыталась подкупить его букетом цветов, чтобы повысить оценку, а после его отказа отдала эти цветы учителю русского языка.
Как и сёстры, Анастасия любила рисовать, вязала, шила, увлекалась модным в то время фотографированием, причём имела собственный фотоальбом. Она зачитывалась пьесами Шиллера и Гёте, любила Мольера, Диккенса и Шарлотту Бронте. С удовольствием играла с братом на гитаре и балалайке. Хорошо играла на рояле и охотно исполняла с матерью в четыре руки пьесы Шопена, Грига, Рахманинова и Чайковского.
А. А. Танеева: «Все эти три великие княжны (кроме Татьяны. —М. К.) шалили и резвились, как мальчики, и манерами напоминали Романовых. Анастасия Николаевна всегда шалила, лазила, пряталась, смешила всех своими выходками, и усмотреть за ней было нелегко».
Т.Е. Мельник-Боткина: «Больше всего мы видели Анастасию Николаевну. Она приходила и садилась в ногах дивана, на котором лежал отец, а вечером, когда при делала вид, что страшно боится, и забивалась в caмый дальний уголок, затыкая уши и смотря большими деланно испуганными глазками. Иногда, чинно разговаривая, она, если мы вставали за чем-либо, незаметно подставляла нам ножку».
Анастасия благодаря ее жизнерадостному характеру от природы даже в ссылке находила маленькие поводы для радости. В одном из ее писем во время ссылки в Тобольске, отправленном на пасхальной неделе 1918 г. сестре Марии, Анастасия описывает минуты радости, пережитые, несмотря на грусть, одиночество и беспокойство за больного брата: «Ужасно хорошо устроили иконостас к Пасхе, всё в ёлке, как и полагается здесь, и цветы. Снимались мы, надеюсь, выйдет. Я продолжаю рисовать, говорят — недурно, очень приятно. Качались на качелях, вот когда я падала, такое было замечательное падение!., да уж! Я столько раз вчера рассказывала сёстрам, что им уже надоело, но я могу ещё массу раз рассказывать... Вот была погода! Прямо кричать можно было от приятности. Я больше всех загорела, как ни странно, прямо акробатка!.. Очень извиняюсь, забыла Вас Всех моих любимых поздравить с праздниками, целую не три, а массу раз Всех. Все тебя, душка, очень благодарят за письмо».
Как свидетельствовал генерал М.К. Дитерихс, участвовавший в расследовании убийства царской семьи, «Великая княжна Анастасия Николаевна, несмотря на свои семнадцать лет, была ещё совершенным ребёнком. Такое впечатление она производила главным образом своей внешностью и своим весёлым характером. Она была низенькая, очень плотная, — «кубышка», как дразнили её сёстры. Её отличительной чертой было подмечать слабые стороны людей и талантливо имитировать их. Это был природный, даровитый комик. Вечно, бывало, она всех смешила, сохраняя деланно-серьёзный вид».
«Все любили Анастасию, так как своим очарованием каждое серое мгновение она умела претворить в радость и рассеять всякую заботу своей девичьей веселостью. Мать Анастасии, человек суровый, не раз пробовала выговаривать дочери, но эти выговоры обыкновенно кончались смехом и поцелуями. Отец, брат, старшие сестры, учительница, преподаватели и домашний врач, учитель музыки, горничная, лакей — все домашние обожали Анастасию.
 на фото Анастасия вместе с папой
на фото Анастасия вместе с папой
Однажды во время ссылки устроили любительский спектакль. Анастасия сама играла главную роль и в самых чувствительных сценах выказала столько комизма, что даже строгая мать Анастасии "умирала со смеху", как записал в своем дневнике домашний врач доктор Боткин»(Грубинский В. Анастасия).
Даже будучи под арестом в Тобольске и Екатеринбурге, в самые последние месяцы своей жизни, она находила способы развеселиться и развеселить окружающих. По воспоминаниям очевидцев, девочек везли в закрытых на ключ каютах, Алексей ехал вместе со своим денщиком Нагорным, доступ к ним в каюту был запрещён даже для врача.
Вскоре пароход прибыл в Тюмень, и далее на специальном поезде четверых детей доставили в Екатеринбург. Анастасия сохраняла при этом отличное расположение духа. В письме, рассказывающем о поездке, слышатся нотки юмора: «Мой дорогой друг, расскажу тебе, как мы ехали. Мы вышли рано утром, потом сели в поезд, и я заснула, а вслед за мной все остальные. Мы все очень устали, потому что не спали до этого целую ночь. Первый день было очень душно и пыльно, и приходилось на каждой станции задёргивать занавески, чтобы нас никто не мог видеть. Однажды вечером я выглянула, когда мы остановились у маленького дома, станции там не было, и можно было смотреть наружу. Ко мне подошёл маленький мальчик и попросил: «Дядя, дай газету, если у тебя найдётся». Я сказала: «Я не дядя, а тётя, и газеты у меня нет». Я сначала не поняла, почему он решил, что я «дядя», а потом вспомнила, что волосы у меня были коротко острижены, и вместе с солдатами, которые нас сопровождали, мы долго смеялись над этой историей. Вообще, в пути было много забавного, и если будет время, я расскажу тебе о путешествии с начала и до конца. Прощай, не забывай меня. Все тебя целуют. Твоя Анастасия».
 Анастасия с папой в ссылке в 1917 г.
Анастасия с папой в ссылке в 1917 г.
Один из охранников Ипатьевского дома вспоминал об Анастасии как об «очень дружелюбной и полной задора»; другой охранник говорил, что она была «очаровательным чертёнком», «живой, озорной, постоянно разыгрывала пантомимы с собачками, как будто в цирке».
Воистину она была не только проказницей, но и утешительницей. Ее живость и быстроту использовала Александра Феодоровна, когда сама из-за болезни вынуждена была сидеть без движения. «Анастасия - мои ноги», — говорила Государыня про младшую дочь. И в заключении Анастасия осталась веселой. Про ее дальнейшую возможную судьбу гадать труднее всего. Такие натуры, как великая Княжна Анастасия, малопредсказуемы. Ей было всего семнадцать лет, когда ее настиг конец земной жизни в подвале Ипатьевского дома. Анастасия умерла не от пули, ее докалывали штыками, смерть ее была мучительной. Успела ли понять эта девочка, видевшая в жизни столько радости и столько радости людям дарившая, что вообще происходит? Можно с уверенностью сказать лишь то, что ни капли ненависти не смутило в последний миг ее чистую душу.
 Анастасия в ссылке в 1918 г.
Анастасия в ссылке в 1918 г.
ИСТОЧНИКИ - 1. Кравцова М. Воспитание детей на примере святых царственных мучеников. - М.: Вече, 2013. - 208 с.
2. Покаяние спасёт Россию. О Царской семье. /Сост. Т.Н. Микушина, О.А. Иванова, Е.Ю. Ильина.– Омск: Издательский Дом «СириуС», 2013. – 264 с., цв. и ч.-б. илл.

Серия сообщений "Царские дети":
Часть 1 - Святая женственность царевен Романовых
Часть 2 - Царские дети
...
Часть 10 - Воспоминания близких о Татьяне Николаевне
Часть 11 - Воспоминания близких о Марии Николаевне
Часть 12 - Воспоминания близких об Анастасии Николаевне
Часть 13 - Великие Княжны и Александра Федоровна
|
|
Процитировано 1 раз
Воспоминания близких о Марии Николаевне |

Мария Романова появилась на свет 26 июня 1899 года. Когда она была еще совсем маленькой, ее внешность сравнивали с ангелочками на картинах Боттичелли, и родные называли ее чудесной малышкой, а ее огромные тёмно-синие глаза — «Машкиными блюдцами». С раннего детства все окружающие отмечали добродушие, сердечность, ровный, весёлый характер и приветливость Марии. Она была подвижной, смешливой, забавной «пышкой Туту» с распахнутой душой.
Однажды малышка стащила булочки с родительского чайного стола, и строгая Императрица в наказание хотела уложить её спать раньше положенного времени. Однако отец — Николай Александрович — возразил, сказав: «Я боялся, что у неё скоро вырастут крылья, как у ангела! Я очень сильно рад увидеть, что она человеческий ребёнок».
В семье её называли Машенька, Мари, Мэри. Мария с детства отличалась добродушием спокойствием. Как отмечал Пьер Жильяр: « Вкусы её были очень скромны, она была воплощенной сердечностью и добротой; сёстры, может быть, немного этим пользовались». Как-то четырнадцатилетняя сестра Ольга смогла убедить Марию, чтобы та написала матери письмо, про то чтобы Ольге дали отдельную комнату и разрешили удлинить платье. У Марии был талант к рисованию, она хорошо делала наброски, используя для этого левую руку, но у неё не было интереса к школьным занятиям.


рисунки Марии Николаевны
Среди младших детей царской семьи Мария являлась самой взрослой, поэтому со временем, когда Императрице приходилось уезжать вместе со старшими дочерьми, то на Марию возлагалась обязанность присматривать за Анастасией и Алексеем. «Моя дорогая Мария, ты прочитаешь это, когда мы уедем. Очень печально оставлять вас, троих малышей, и я буду постоянно о вас думать. Ты в этой группе старшая и поэтому должна хорошо присматривать за младшими», наставляла дочь Александра Фёдоровна.
Мария очень любила детей. По воспоминаниям окружающих, «она была по натуре типичнейшая мать. Её сферой были маленькие дети. Больше всего она любила возиться и нянчиться с ними». (Н.А.Соколов)
Внутренний мир Марии был всегда окрашен ярким и тёплым религиозным чувством. Чувство религиозности было естественным, просто выросшим из младенчества и осталось на всю короткую и яркую жизнь Beликой княжны глубоко и искренне переживаемым.
С матерью-другом всегда можно было всем поделиться, даже сокровенными мыслями: «Знаешь, это очень странно, но, когда я вышла из комнаты Алексея после молитвы, у меня было такое чувство, как будто я пришла с исповеди... такое приятное, небесное ощущение».
Характер этой девочки был весьма любвеобильный, сострадательный и миролюбивый. Никого она никогда не оскорбляла, а старалась всегда всех мирить. Это была юная миротворица. Простота её была необыкновенная, и вела она себя просто, как простая русская девушка, видя в каждом человеке брата и сестру...
С этой Царственной девочкой не было скучно и своим, и чужим. Она умела развлечь и развеселить скорбящего и унылого, за что все её любили и уважали. Хозяйством она хотя не увлекалась, но помогала своей сестре Татиане Николаевне, оказывая ей полное послушание...
 На фото Мария Николаевна и ее сестра Татьяна
На фото Мария Николаевна и ее сестра Татьяна
Игумен Серафим (Кузнецов) в книге «Православный Царь-мученик» с любовью рисует портрет Марии: «Великая Княжна Мария Николаевна унаследовала во всех отношениях, как внешних, так и внутренних, все качества своего деда Императора Александра III. Крепость телосложения была у неё мужественная при совокупности редкой красоты. Она обладала большой силой, так что когда Цесаревич Алексей Николаевич был болен и нуждался в передвижении, то Мария Николаевна носила его как малого ребёнка.
Она была неизменной заступницей за провинившихся перед отцом и матерью.
Она дружила с А.А. Вырубовой, делая с ней совместно много дел христианского милосердия. Эта юная Царевна была для всех светлым ангелом любви. Пред её просьбами было трудно устоять не только любвеобильному Царю, но и Царице с адамантовой силой воли.
 на фото Мария Николаевна вместе с сестрой Ольгой
на фото Мария Николаевна вместе с сестрой Ольгой
В своих воспоминаниях Игумен Серафим приводит один из случаев проявления Марией любви и сострадания. «Во время Царского юбилейного путешествия в 1913 году в одном из посещаемых Государем монастырей Владимирской епархии Мария Николаевна заметила больную старицу схимонахиню, сидящую в кресле далеко в стороне; во время молебна она, видимо, попросила отца подойти к этой страдалице и утешить её.
Кончился молебен. Государь пошёл из храма, но неожиданно для всех сворачивает с дороги в сторону и подходит к больной схимонахине, которая от нечаянной радости заплакала. Государь поговорил с больной, ободрил и просил от неё благословения и молитв... По примеру отца поступили и дети. Старица от духовного восторга умильно плакала слезами радости; виновница сего Мария Николаевна торжествовала, что имела возможность порадовать больную страдалицу скорбей беспросветных.
Так эта юная Царевна с жизнерадостным лицом и любвеобильным сердцем всюду вносила радость, мир и утешение, являясь для всех ангелом утешения».
После получения известия об отречении государя от престола Мария глубоко переживала, но старалась держаться, чтобы не огорчать мать. «Мама убивалась, и я тоже плакала, — призналась Мария Анне Танеевой, — но после, ради Мама, я старалась улыбаться за чаем». Сохранились строки из её письма отцу на английском языке, которые она писала 3 марта 1917 года из Царского Села, будучи пленницей. «Дорогой и любимый Папа! Я всегда с тобой в моих мыслях и молитвах. Сестры всё ещё лежат в тёмной комнате, и Алексею уже это надоело, и он перешёл в игральную - комнату с открытыми окнами. Сегодня мы очищали пули от олова с Жиликом (так дружески дети называли Пьера Жильяра —авт.-сост.)и были очень довольны. Я провожу почти все дни с Мама, потому что теперь только я одна здорова и могу ходить. Я также сплю с нею в одной комнате, чтобы быть близко на случай, если ей что-то понадобится. Лили Дэн спит в красной гостиной на диване, где спала раньше Ольга. Дорогой, любимый Папа, все мы сердечно тебя обнимаем и целуем. Храни тебя Бог. Твои дети». Сдержанное и тёплое письмо, в котором Мария старается успокоить отца, не позволяя себе ни единой жалобы на здоровье и на тревожащую их всех обстановку внутри и вокруг дворца.

Дополняет портрет Великой княжны Марии Николаевны генерал М.К. Дитерихс: «Во время прогулок в парке (в Царском Селе после ареста семьи —авт.-сост.) вечно она, бывало, заводила разговор с солдатами охраны, расспрашивала их и прекрасно помнила, у кого как звать жену, сколько детишек, сколько земли и т.п. У нее всегда находилось много общих тем для бесед с ними… Во время ареста она сумела расположить к себе всех окружающих, не исключая и комиссаров… А в Екатеринбурге охранники-рабочие обучали ее готовить лепешки из муки без дрожжей».
По воспоминаниям оставшихся в живых приближённых царской семьи, красноармейцы, охранявшие дом Ипатьева, проявляли иногда бестактность и грубость по отношению к узникам. Однако и здесь Мария сумела внушить охране уважение к себе. Сохранились рассказы о случае, когда охранники в присутствии двух сестёр позволили себе отпустить пару сальных шуток, после чего Татьяна «белая как смерть» выскочила вон, Мария же строгим голосом отчитала солдат, заявив, что подобным образом они лишь могут вызвать к себе неприязненное отношение.
14 июня 1918 года Мария отметила в доме Ипатьева свой последний — 19-й день рождения. Тогда же произошло событие, показавшее, насколько Мария смогла расположить к себе красноармейцев: один из них попытался тайком пронести в дом Ипатьева именинный пирог. Однако он был остановлен патрулём, внезапно явившимся с обыском.
Софья Яковлевна Офросимова, фрейлина Императрицы, писала о Марии с восторгом: «Её смело можно назвать русской красавицей. Высокая, полная, с соболиными бровями, с ярким румянцем на открытом русском лице, она особенно мила русскому сердцу. Смотришь на неё и невольно представляешь её одетой в русский боярский сарафан; вокруг её рук чудятся белоснежные кисейные рукава, на высоко вздымающейся груди — самоцветные камни, а над высоким белым челом - кокошник с самокатным жемчугом. Её глаза освещают всё лицо особенным, лучистым блеском; они... по временам кажутся чёрными, длинные ресницы бросают тень на яркий румянец её нежных щёк. Она весела и жива, но ещё не проснулась для жизни; в ней, верно, таятся необъятные силы настоящей русской женщины». Этим силам не суждено было раскрыться в полной мере.
Таким образом, из нескольких фрагментов мы можем сложить портрет простой и скромной молодой девушки с художественными наклонностями, безусловно с твердыми убеждениями и развитым материнским чувством. Интересно отметить, что в последнюю ужасную поездку в Екатеринбург, когда детей временно оставили в Тобольске, потому что Алексей Николаевич был слишком болен, чтобы ехать, Николай Александрович и Александра Феодоровна взяли с собой именно Марию Николаевну, с тем чтобы она помогала матери.
ИСТОЧНИКИ - 1. Кравцова М. Воспитание детей на примере святых царственных мучеников. - М.: Вече, 2013. - 208 с.
2. Покаяние спасёт Россию. О Царской семье. /Сост. Т.Н. Микушина, О.А. Иванова, Е.Ю. Ильина.– Омск:
Издательский Дом «СириуС», 2013. – 264 с., цв. и ч.-б. илл.

Серия сообщений "Царские дети":
Часть 1 - Святая женственность царевен Романовых
Часть 2 - Царские дети
...
Часть 9 - Воспоминания близких об Ольге Николаевне
Часть 10 - Воспоминания близких о Татьяне Николаевне
Часть 11 - Воспоминания близких о Марии Николаевне
Часть 12 - Воспоминания близких об Анастасии Николаевне
Часть 13 - Великие Княжны и Александра Федоровна
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 2 пользователям
Воспоминания близких о Татьяне Николаевне |
 Вторая дочь Императора Николая II и Императрицы Александры Фёдоровны родилась 1897г. в Петергофе. Её назвали Татьяной, поскольку императору понравилась мысль, что дочерей будут звать Ольга и Татьяна, как сестер Лариных в поэме А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
Вторая дочь Императора Николая II и Императрицы Александры Фёдоровны родилась 1897г. в Петергофе. Её назвали Татьяной, поскольку императору понравилась мысль, что дочерей будут звать Ольга и Татьяна, как сестер Лариных в поэме А.С. Пушкина «Евгений Онегин».
на фото слева направо В.к. Ольга Николаевна, Император Николай II и В.к. Татьяна Николаевна
С детства трепетно-внимательная к характерам дочерей Александра Фёдоровна отмечала внешнюю сдержанность, задумчивость и спокойствие Татьяны при сильной игре чувств и эмоций в душе. Почти при любых жизненных обстоятельствах княжна оставалась чуть сдержанной, задумчиво -ласковой, приветливой и ровной со всеми, редко её видели плачущей или сердитой, чем-либо опечаленной. Все страсти её живой, одухотворенной натуры бушевали только внутри неё. Все портреты Татьяны Николаевны в юности, оставленные её современниками, очень схожи собой. Приведём здесь наиболее яркие из них.
Софья Яковлевна Офросимова, фрейлина императрицы, вспоминала: «Направо от меня сидит княжна Татьяна Николаевна. Она Великая Княжна с головы до ног, так она аристократична и царственна! Лицо её матово-бледно, только чуть-чуть розовеют щёки, точно из-под её тонкой кожи пробивается розовый атлас. Профиль её безупречно красив, он словно выточен из мрамора резцом большого художника. Своеобразность и оригинальность придают её лицу далеко расставленные друг от друга глаза. Ей больше, чем сёстрам, идут косынка сестры милосердия и красный крест на груди. Она реже смеётся, чем сестры. Лицо её иногда имеет сосредоточенное и строгое выражение. В эти минуты она похожа на мать. На бледных чертах её — следы напряженной мысли и подчас даже грусти. Я без слов чувствую, что она какая-то особенная, иная, чем сёстры, несмотря на общую с ними доброту и приветливость. Я чувствую, что в ней - свой целый замкнутый и своеобразный мир».
Она Великая Княжна с головы до ног, так она аристократична и царственна! Лицо её матово-бледно, только чуть-чуть розовеют щёки, точно из-под её тонкой кожи пробивается розовый атлас. Профиль её безупречно красив, он словно выточен из мрамора резцом большого художника. Своеобразность и оригинальность придают её лицу далеко расставленные друг от друга глаза. Ей больше, чем сёстрам, идут косынка сестры милосердия и красный крест на груди. Она реже смеётся, чем сестры. Лицо её иногда имеет сосредоточенное и строгое выражение. В эти минуты она похожа на мать. На бледных чертах её — следы напряженной мысли и подчас даже грусти. Я без слов чувствую, что она какая-то особенная, иная, чем сёстры, несмотря на общую с ними доброту и приветливость. Я чувствую, что в ней - свой целый замкнутый и своеобразный мир».
Баронесса София Буксгевден писала о Татьяне: «Абсолютно лишённая самолюбия, Она всегда была готова отказаться от Своих планов, если появлялась возможность погулять с Отцом, почитать Матери, сделать то, о чем Её просили. Именно Татьяна Николаевна нянчилась с младшими, помогала устраивать дела во дворце, чтобы официальные церемонии согласовывались с личными планами Семьи. У Неё был практический ум Императрицы и детальный подход ко всему».
Титул Татьяны «Великая Княжна» требовал обращения «Ваше императорское высочество». Однако домочадцы и прислуга обычно обращались к ней по имени-отчеству или называли её уменьшительно-ласкательными именами: Таня, Татя, Татьяночка или Танюша. Баронесса С.К. Буксгевден рассказывала, что княжны "не придавали значения своему Царскому положению, болезненно воспринимая высокопарное обращение.
Однажды, на заседании комиссии по делам благотворительности, я должна была обратиться к Великой Княжне Татьяне Николаевне как к президенту этой комиссии и, естественно, начала: «Если это будет угодно Вашему Царскому Высочеству...» Она посмотрела на меня с изумлением и, когда я села рядом с ней, наградила меня пинком под столом и прошептала: «Ты что, с ума сошла, так ко мне обращаться?»
Пришлось мне поговорить с Императрицей, чтобы убедить Татьяну, что в официальных случаях такое обращение необходимо».
«Великая Княжна Татьяна Николаевна, — вспоминала Юлия Ден, — была столь же обаятельной, как и её старшая сестра, но по-своему. Её часто называли гордячкой, но я не знала никого, кому бы гордыня была бы менее свойственна, чем ей. С ней произошло то же, что и с Её Величеством (матерью Александрой Фёдоровной ~ авт.-сост.). Её застенчивость и сдержанность принимали за высокомерие, однако стоило вам познакомиться с ней поближе и завоевать её доверие, как сдержанность исчезала и перед вами представала подлинная Татьяна Николаевна. Она обладала поэтической натурой, жаждала настоящей дружбы.
А.Мосолов, начальник канцелярии Министерства императорского двора:  "Татьяна была выше, тоньше и стройнее сестры, лицо - более продолговатое, и вся фигура породистее и аристократичнее, волосы немного темнее, чем у старшей. На мой взгляд, Татьяна Николаевна была самой красивой из 4 сестер".
"Татьяна была выше, тоньше и стройнее сестры, лицо - более продолговатое, и вся фигура породистее и аристократичнее, волосы немного темнее, чем у старшей. На мой взгляд, Татьяна Николаевна была самой красивой из 4 сестер".
— Очень высокая, тонкая, как тростинка, Она была наделена изящным профилем камеи и каштановыми волосами. Она была свежа, хрупка и чиста, как роза».
«Татьяна Николаевна была в мать — худенькая и высокая, - трепетно вспоминала в своих мемуарах о царской семье А. А. Танеева (Вырубова). — Она редко шалила и сдержанностью и манерами напоминала Государыню. Она всегда останавливала сестёр, напоминала волю матери, отчего они постоянно называли её «гувернанткой».
Татьяна была ближе своей матери, чем другие сёстры, и многие считали её любимой дочерью царицы. «Не то чтобы её сестры любили мать меньше её, но Татьяна Николаевна умела окружать её постоянной заботливостью и никогда не позволяла себе показать, что она не в духе», вспоминал Пьер Жильяр. В письмах к мужу Александра Фёдоровна писала, что Татьяна — единственная из четырёх её дочерей, которая полностью её понимает. Как и мать, она была очень религиозна, изучала богословие и постоянно читала Библию, пыталась разобраться в понятиях добра и зла, страдания и прощения, человеческого предназначения на Земле. В своём дневнике она записала, что «необходима упорная борьба, поскольку за добро платят злом, и зло правит».
Татьяна - единственная, с кем в переписке Александра Федоровна говорит о делах, о войне, даже о том, что мучает царицу лично, - о распускаемой против нее клевете.
Приведём записку Татьяны к матери, датированную 1912 годом, где чувствуется тон почтительной послушной дочери мягко замещается теплой материнской интонацией: «Я надеюсь, что Аня (Танеева . - от авт. М.Кравцова.) будет мила с тобой и не будет тебя утомлять и не будет входить и тревожить тебя ,если ты захочешь побыть одна. Пожалуйста, дорогая Мама', не бегай по комнатам, проверяя, всё ли в порядке. Пошли Аню или Изу (С.К. Буксгевден, — авт.-сост.), иначе ты устанешь, и тебе будет трудно принимать тётю и дядю. Я постараюсь, и на борту с офицерами буду вести себя как можно лучше. До свидания, до завтра. Миленькая, не беспокойся о Бэби (домашнее имя Цесаревича Алексея —авт.-сост.). Я присмотрю за ним, и всё будет в порядке». Так пишет матери девочка- подросток, в которой чувствуются рано определившийся цельный характер, хозяйственная сметка, практичность и деловитость.
В её письмах к родителям столько дочерней любви и искренней заботы!
Из письма к матери 16 июня 1915 года: «Я прошу у тебя прощения за то, что как раз сейчас, когда тебе так грустно и одиноко без папы, мы так непослушны. Я даю тебе слово, что буду делать всё, чего ты хочешь, и всегда буду слушаться тебя, любимая".
15 августа 1915 года: «Я всё время молилась за вас обоих, дорогие, чтобы Бог помог вам в это ужасное время. Я просто не могу выразить, как я жалею вас, мои любимые. Мне так жаль, что я ничем не могу помочь... В такие минуты я жалею, что не родилась мужчиной. Благословляю Вас, мои любимые. Спите хорошо. Много раз целую тебя и дорогого папу... Ваша любящая и верная дочь Татьяна".
Не сразу догадаешься, что эти строки, написанные явно сильным человеком, принадлежат 18 - ей девушке и обращены к родителям.
Во время Первой мировой войны проявились многие способности Татьяны. Вместе с сестрой Ольгой они организовали специальные комитеты, в которых, по словам генерала А.А. Мосолова, очень разумно и толково работали и председательствовали. Ольгинский комитет предназначался для помощи семьям фронтовиков и увечных воинов, Татьянинский комитет — для помощи беженцам. Этот комитет оказал помощь трём с половиной миллионам беженцев. Он ставил перед собой следующие цели - оказание помощи лицам ,впавшим в нужду вследствие военных обстоятельств, в местах их постоянного места жительства или же в местах их временного прибывания, содействие отправлению беженцев на Родину, поиск работы для трудоспособных, содействие в помещении нетрудосопособных в богадельни, приюты, оказание беженцам денежных пособий, прием пожертвований. В этот комитет входили в России гос. и общественные деятели. Отметим, что Великая княжна Татьяна Николаевна, формально занимавшая пост Почетной председательницы, несмотря на свой юный возраст, активно, разумно и толково по словам А.Мосолова, участвовала в деятельности комитета.
В газетах того времени печаталось обращение: «От Её Императорского Высочества Великой Княжны Татианы Николаевны.
Война разорила и рассеяла миллионы наших мирных жителей: несчастные беженцы — бездомные и голодные — ищут пропитание.
Правительство, общественные и национальные установления, частные благотворители и Мой Комитет помогают беженцам, но нужда их так громадна, что покрыть её под силу лишь всему народу.
Прошу вас, добрые люди, согрейте беженца духовно и телесно и утешьте его сознанием, что понято вами безысходное горе его.
Вспомните завет Господень: «Алкал Я и вы дали Мне есть; жаждал и вы напоили Меня; был странником и вы приняли Меня» (Матф.
XXV, 35).
9 ноября 1915 г. Царское Село. ТАТИАНА».
А вот другое ее письмо к О.В. Палей, оказавшей немалую поддержку беженцам: "Княгиня Ольга Валериановна. Получила Ваше пожертвование в пользу близкого моему сердцу населения ,пострадавшего от военных бедствий, выражаю Вам мою искреннюю признательность. Остаюсь к Вам неизменно благожелательною. Татьяна."
В Татьянинском комитете были утверждены Правила о дипломах и жетонах... Дипломы и жетоны жаловались за оказание Комитету выдающихся заслуг пожертвованиями или устройством сборов, подписок, выставок, концертов, спектаклей, лекций, лотерей и т.п. Были установлены дипломы двух разрядов (диплом первого разряда печатался золотым шрифтом на веленевой бумаге), которые выдавались за собственноручным подписанием великой княжны Татьяны Николаевны.
Жетоны также устанавливались двух разрядов и имели вид синего эмалевого щита с изображением инициалов августейшей Почетной председательницы Комитета под великокняжеской короной. Жетоны первого разряда были серебряные, второго — бронзовые. Дамы могли носить их как брошь, а мужчины — как брелок на часовой цепочке или же в верхней петлице платья.
Общественная деятельность великих княжон приветствовалась и активно направлялась Императрицей. Из письма государыни супругу от 20 сентября 1914 года: «В 4 ч. Татьяна и я приняли Нейдгарда по делам ее комитета — первое заседание состоится в Зимнем Дворце в среду, после молебна, я опять не буду присутствовать. Полезно предоставлять девочкам работать самостоятельно, их притом ближе узнают, а они научатся приносить пользу».
Эту же мысль ее величество повторила в письме от 21 октября 1914года: «О. и Т. сейчас в Ольгином Комитете Татьяна одна принимала Нейдгарда с его докладом, продлившимся целых полчаса. Это очень полезно для девочек. Они приучаются быть самостоятельными, и это их гораздо большему научит, так как приходится думать и говорить за себя без моей постоянной помощи».
Ещё одна деятельность, которой Великая княжна Татьяна самоотверженно отдавала все свои силы, - это работа медицинской сестры. Каждый день она ездила в лазарет, даже в свои именины. Из воспоминаний Татьяны Мельник-Боткиной, дочери лейб-медика Николая II: я удивляюсь и их трудоспособности, - говорил мне мой отец про Царскую семью, - уже не говоря про Его Величество, который поражает тем количеством докладов, которые он может принять и запомнить, но даже Великая княжна Татьяна, например, она, прежде чем ехать в лазарет, встает в 7 часов утра, чтобы взять урок, потом едет на перевязки, потом завтрак, потом опять уроки, объезд лазаретов, а как наступит вечер... сразу берется за рукоделие или за чтение". Клавдия Михайловна Битнер, супруга тобольского коменданта, полковника Е.С. Кобылинского и педагог детей уже в неволе, после общения с княжной Татьяной говорила, что если бы семья лишилась Александры Федоровны, то крышей для нее была бы Татьяна Николаевна. Она была самым близким лицом к Императрице. Они были два друга".
Полковник Е.С. Кобылинский дополняет портрет Татьяны: "Когда Государь с Государыней уехали из Тобольска, никто как-то не замечал старшинства Ольги Николаевны. Что нужно, всегда шли к Татьяне: "Как Татьяна Николаевна скажет, "надо спросить у Тани". Эта была девушка вполне сложившегося характера, прямой, честной и чистой натуры, в ней отмечались исключительная склонность к установлению порядка в жизни и сильно развитое сознание долга. Она ведала за болезнью матери, распорядками в доме, заботилась об Алексее Николаевиче и всегда сопровождала Государя на его прогулках, если не было Долгорукова. Она была умная, развитая, любила хозяйничать и в частности вышивать и гладить белье".
Цельная, волевая, настроенная на нужды других натура, Татьяна Николаевна могла бы заведовать не только распорядками в доме, но и в общественной структуре, и в государстве. Ее деятельный ум, энергия, щедрое сердце располагали к этому всецело.
А.Якимов, царский охранник: "Такая же, видать, как царица, была Татьяна. У нее вид был такой же строгий и важный, как у матери. А остальные дочери: Ольга, Мария и Анастасия - важности никакой не имели".
Татьяна любила кататься верхом, Государыня часто об этом сообщает супругу "...собираюсь покататься с тремя девочками, пока Татьяна ездит верхом".
И.В. Степанов : "Татьяна.... была шефом армейского уланского полка и  считала себя уланом, причем гордилась тем, что родители ее - уланы. (Оба гвардейских уланских полка имели шефами Государя и Императрицу.) "Уланы papa" и "уланы mama"», — говорила она, делая ударение на последнем "а"». Государыня пишет Николаю Александровичу: «Татьяна в восторге, что ты видел ее полк и нашел его в полном порядке».
считала себя уланом, причем гордилась тем, что родители ее - уланы. (Оба гвардейских уланских полка имели шефами Государя и Императрицу.) "Уланы papa" и "уланы mama"», — говорила она, делая ударение на последнем "а"». Государыня пишет Николаю Александровичу: «Татьяна в восторге, что ты видел ее полк и нашел его в полном порядке».
на фото Татьяна Николаевна в полковой форме 8-ого уланского Вознесенского Ея Императорского Высочества Великой Княжны Татьяны Николаевны полка.
Отличность Татьяны от сестер, ее духовное старшинство проявляются даже в мелочах. «Обе младшие и Ольга ворчат на погоду, — рассказывает в письме Александра Феодоровна, — всего четыре градуса, они утверждают, будто видно дыхание, поэтому они играют в мяч, чтобы согреться, или играют на рояле, Татьяна спокойно шьет».
Скажем еще несколько слов об этой удивительной девушке. Великая Княжна Татьяна постоянно училась самоанализу, училась владеть собой. Вспомним фразу из письма Императрицы: «Только когда я спокойно говорю с Татьяной, она понимает». Татьяна Николаевна, будучи еще совсем в юных летах, уже весьма самокритична и способна оценивать свое внутреннее состояние: «Может быть, у меня много промахов, но, пожалуйста, прости меня» (письмо к матери от 17 января 1909 года).
«16 июня 1915 года. Я прошу у тебя прощения за то, что как раз сейчас, когда тебе так грустно и одиноко без Папы, мы так непослушны. Я даю тебе слово, что буду делать все, чего ты хочешь, и всегда буду слушаться тебя, любимая».
«21 февраля 1916 года. Я только хотела попросить прощения у тебя и дорогого Папы за все, что я сделала вам, мои дорогие, за все беспокойство, которое я причинила. Я молюсь, чтобы Бог сделал меня лучше...»
В письмах к родителям Татьяна все время называет себя «вечно любящей, верной и благодарной дочерью».
ИСТОЧНИКИ - 1. Кравцова М. Воспитание детей на примере святых царственных мучеников. - М.: Вече, 2013. - 208 с.
2. Покаяние спасёт Россию. О Царской семье. /Сост. Т.Н. Микушина, О.А. Иванова, Е.Ю. Ильина.– Омск: Издательский Дом «СириуС», 2013. – 264 с., цв. и ч.-б. илл.

Серия сообщений "Царские дети":
Часть 1 - Святая женственность царевен Романовых
Часть 2 - Царские дети
...
Часть 8 - Анастасия Николаевна Романова
Часть 9 - Воспоминания близких об Ольге Николаевне
Часть 10 - Воспоминания близких о Татьяне Николаевне
Часть 11 - Воспоминания близких о Марии Николаевне
Часть 12 - Воспоминания близких об Анастасии Николаевне
Часть 13 - Великие Княжны и Александра Федоровна
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Воспоминания близких об Ольге Николаевне |
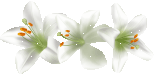

Она появилась на свет 31 ноября 1895 года в Царском Селе. Была веселой, подвижной девочкой, любимицей отца, который первое время сравнивал ее «достижения» с «достижениями» дочери своей сестры Ксении - Ирины. И записывал в дневнике, не скрывая гордости: «Наша Ольга весит чуть больше». «На крестинах наша была спокойнее и не так кричала, когда окунали...»
От отца Императора Николая II она унаследовала все лучшие стороны его души: простоту, скромность, доброту, непоколебимую рыцарскую честность, всеобъемлющую любовь к Родине — естественную, не показную, впитанную с рождения. От матери Императрицы Александры Фёдоровны она восприняла искреннюю глубокую Веру в Бога, прямоту, умение владеть собой и крепость духа.
Фрейлина Анна Танеева (Вырубова) вспоминала о княжне Ольге: "Характерными чертами у неё были сильная воля и неподкупная честность и прямота, в чём она походила на мать. Эти прекрасные качества были у неё с детства, но ребёнком Ольга Николаевна бывала нередко упряма, непослушна и очень вспыльчива; впоследствии она умела себя сдерживать».
В своей книге «Подлинная Царица Юлия Ден (она была не намного старше Ольги) подробно рассказывает о Великих Княжнах, в частности об Ольги Николаевны: "Великая Княжна Ольга Николаевна была самой старшей из четырёх сестёр- красавиц. Это было милое существо, и всякий, кто видел ее впервые, тотчас влюблялся в неё. В детстве она была некрасивой, но в пятнадцать лет как-то сразу похорошела. Немного выше cреднего роста, свежее лицо, тёмно-синие глаза, пышные светло русые волосы, красивые руки и ноги. К жизни Ольга Николаевна относилась серьёзно, была наделена умом и покладистым характером». Фрейлина Императрицы баронесса София Буксгевден также оставила описание княжны: Великая Княжна Ольга Николаевна была красивая, высокая со смеющимися голубыми глазами... Она прекрасно ездила верхом. Из всех сестер она была самая умная, самая музыкальная; по мнению её учителей, она обладала абсолютным слухом. Она могла сыграть на слух любую услышанную мелодию, переложить сложные музыкальные пьесы... Ольга Николаевна была очень непосредственна, иногда слишком откровенна, всегда искренна. Она была очень обаятельная и самая весёлая. Она была щедра и немедленно отзывалась на любую просьбу».
Генерал М.К. Дитерихс вспоминал: «Великая Княжна Ольга Николаевна представляла собою типичную хорошую русскую девушку с большой душой. На окружающих она производила впечатление своей ласковостью, своим чарующим, милым обращением. Со всеми она держала себя ровно, спокойно и поразительно просто и естественно. Она не любила хозяйства, но любила уединение и книги. Она была развитая и очень начитанная, имела способности к искусствам: играла на рояле, пела и в Петрограде училась пению, хорошо рисовала. Она была очень скромной и не любила роскоши".
"У Ольги Николаевны хрустальная душа", - говорили ее учителя.
"Старшая, Ольга Николаевна, обладала очень живым умом, - делился своими впечатлениями Пьер Жильяр. - У нее было очень много рассудительности и в тоже время непосредственности. Она была очень самостоятельного характера и обладала быстрой и забавной находчивостью в ответах. Вначале мне было не так-то легко с нею, но после первых стычек между нами установились самые искренние и сердечные отношения. Она все схватывала с удивительной быстротой и умела придать усвоенному оригинальный оборот.
... Я вспоминаю между прочим, как на одном из наших первых уроков грамматики, когда я объяснял ей спряжения и употребление вспомогательных глаголов, она прервала меня вдруг восклицанием: "Ах, я поняла, вспомогательные глаголы - это прислуга глаголов; только один несчастный глагол 'иметь' должен сам себе прислуживать!"...
Все как один утверждают, что Ольга обладала большим умом. Но ум этот был склада философского, а не практического. Она любила отвлеченно рассуждать, и ее суждения отличались большой глубиной.
«Всё это только красивые фразы, — однажды сказала дочери Императрица Александра Фёдоровна, — а дела нет никакого!» На что мудрая Ольга ответила: «Красивые слова поддерживают людей, как костыли, — и добавила: — При Екатерине было сказано много красивых слов, которые перешли потом в дело» (любимой исторической фигурой у Ольги была Екатерина II).
 В 20 -летнем возрасте Ольга получила право распоряжаться частью своих денег, и первой её просьбой было разрешить ей оплатить лечение ребёнка-инвалида. Выезжая на прогулки, Ольга часто видела этого ребёнка, ковыляющего на костылях, и слышала, что его родители были слишком бедными, чтобы платить за его лечение. Для лечения мальчика она начала откладывать деньги из своего небольшого ежемесячного содержания.
В 20 -летнем возрасте Ольга получила право распоряжаться частью своих денег, и первой её просьбой было разрешить ей оплатить лечение ребёнка-инвалида. Выезжая на прогулки, Ольга часто видела этого ребёнка, ковыляющего на костылях, и слышала, что его родители были слишком бедными, чтобы платить за его лечение. Для лечения мальчика она начала откладывать деньги из своего небольшого ежемесячного содержания.
Лейб-медик Евгений Сергеевич Боткин так писал об Ольге Николаевне:
"Я никогда не забуду тонкое, совсем непоказное, но такое чуткое отношение к моему горю...*(*Во время первой мировой войны у Е. С. Боткина погиб старший сын, горячо им любимый. Доктор очень остро переживал свою ужасную потерю. – С. М.). Посреди моих темных дум забегала в комнату Ольга Николаевна - и, право, точно ангел залетел". Солнечный свет ее души согревал всех, кто был рядом.
С прислугой Ольга, как и все сёстры, была неизменно ласкова и проста в общении. Прислуга тоже очень любила царских детей. Старик камердинер Волков говорил: «Я не умею рассказать про характеры Царской Семьи, потому что я человек не учёный, но я скажу, как могу. Я скажу про них просто: это была самая святая и чистая семья». Любимицей же Волкова была Великая Княжна Ольга. «Ольга — это Романова!» — с гордостью повторял он.
"Первые годы войны, когда внимание всех было приковано всецело к фронту, совершенно, перестроили жизнь великой княжны Ольги. Из замкнутого круга семьи с ее простой, строго размеренной жизнью, ей пришлось, вопреки всем склонностям и чертам ее характера, повести жизнь сестры милосердия, а иногда и - общественного деятеля... Часто великим княжнам приходилось самим выезжать в Петроград для председательствования в благотворительных комитетах их имени или для сбора пожертвований. Для великой княжны Ольги это было непривычным и очень нелегким делом, так как она и стеснялась, и не любила никаких личных выступлений" (П. Савченко).
Да, старшая княжна не была создана для общественной жизни, но старалась, как могла и умела, перебороть себя.
Ей в этом много помогали мать и бабушка – императрица Мария Феодоровна. Государыня Александра вообще, всячески развивая в детях самостоятельность и рассматривая участие великих княжон в общественной жизни как непременный Долг императорских дочерей, постоянно старалась расшевелить застенчивую и тихую старшую дочь. Она всюду брала ее с собою: в оперу, на концерт, заседания комитетов, в лазареты, больницы, институты "Я взяла с собой Ольгу, - пишет она мужу в одном из писем, - чтобы посидела со мной, она тогда более привыкнет видеть людей и слышать, что происходит. Она умное дитя".
И Великая княжна, внимала, размышляла, запоминала, записывала, разговаривала, одаривала улыбкой и скованность ее постепенно таяла.
Одна беда сильно огорчала мать - Государыню. Цесаревна Ольга, похоже, была весьма хрупкого здоровья. Часто хворала. Доктора привычно для медицины заставляли ее много лежать, но она им не подчинялась. Можно догадываться, что от матери она унаследовала и глубокую восприимчивость и некоторую сердечную слабость, часто столь свойственную художественным, артистичным натурам. Она быстро уставала и бледнела, однако, упорно отказывалась принимать лекарства и бездельничать. Сестры и родители трепетно оберегали ее, как могли.
.Е.Мельник-Боткина, дочь придворного врача, вспоминала:
«Великая княжна Ольга Николаевна, более слабая здоровьем и нервами, недолго вынесла работу хирургической сестры, но лазарета не бросила, а продолжала работать в палатах, наравне с другими сестрами, тщательно убирая за больными».
Софья Яковлевна Офросимова говорила о княжне – сестре милосердия: «Великую княжну Ольгу Николаевну все обожали, боготворили; про нее больше всего любили мне рассказывать раненые".
"На настоящем балу была только великая княжна Ольга Николаевна, и то всего один раз, в день трехсотлетия Дома Романовых. В этот вечер личико ее горело таким радостным смущением, такой юностью и жаждой жизни, что от нее нельзя было отвести глаз. Ей подводили блестящих офицеров, она танцевала со всеми и женственно, слегка краснея, благодарила по окончании танца кивком головы. Остальным княжнам так и не удалось побывать на настоящем балу" (С.Я. Офросимова).
А вот как описывала пору девичьего триумфа старшей Цесаревны Анна Танеева:
“В эту осень Ольге Николаевне исполнилось шестнадцать лет, срок совершеннолетия для Великих Княжон. Она получила от родителей разные бриллиантовые вещи и колье. Все Великие Княжны в шестнадцать лет получали жемчужные и бриллиантовые ожерелья, но Государыня не хотела, чтобы Министерство Двора тратило столько денег сразу на их покупку Великим Княжнам, и придумала так, что два раза в год, в дни рождения и именин, получали по одному бриллианту и по одной жемчужине. Таким образом, у Великой Княжны Ольги образовалось два колье по тридцать два камня, собранных для нее с малого детства.
Вечером был бал, один из самых красивых балов при Дворе. Танцевали внизу в большой столовой. В огромные стеклянные двери, открытые настежь, смотрела южная благоухающая ночь. Приглашены были все Великие Князья с их семьями, офицеры местного гарнизона и знакомые, проживавшие в Ялте. Великая Княжна Ольга Николаевна, первый раз в длинном платье из мягкой розовой материи, с белокурыми волосами, красиво причесанная, веселая и свежая, как цветок лилии, была центром всеобщего внимания. Она была назначена шефом 3-го гусарского Елисаветградского полка, что ее особенно обрадовало. После бала был ужин за маленькими круглыми столами”.
Сохранилась картина, на которой изображен этот самый бал. В центре ее - Великая княжна Цесаревна Ольга Николаевна в паре с военным. Они самозабвенно кружатся в вихре вальса, а светская публика смотрит на них в сотни пар глаз, расступившись, освободив пространство для столь легкого восторженного парения юности.
Замерла восхищенно, позабыв о музыке, прямо на середине танцевального па даже сама родительская Императорская чета, видимо, только что открывшая бал. Государь и Государыня Александра Феодоровна трепетно наблюдают за дочерью, чей силуэт кажется еще более воздушным, невесомым, на фоне алого бархата бесконечных лож и сияющего огнями сотен свечей танцевального зала..
Автор этой картины неизвестен широкой публике, она чудом уцелела в одном из частных собраний, но на ней художнику каким то шестым чувством удалось передать палитрой и мазками кисти всю прелесть мгновений быстро уходящей юности и вообще – мимолетность жизни.
Когда Ольга превратилась в красивую цветущую девушку, в семье встал вопрос о её замужестве. Найти подходящую партию было нелегко, и не только потому, что «народ-то всё пустой стал, махонький», как говорил старик Волков, обладающий простой житейской мудростью, а потому что Ольга категорически не хотела покидать Россию.
Ольге предлагали выйти замуж за румынского принца. И хотя родители с обеих сторон благосклонно относились к возможному браку, Ольга наотрез отказалась. «Если я этого не захочу, этого не будет, заявила княжна. - Папа мне обещал не принуждать меня, а я не хочу покидать Россию. На замечание Пьера Жильяра о том, что она всегда будет иметь возможность возвращаться на Родину. Ольга ответила: "Несмотря на все, я буду чужой в моей стране, а я русская и хочу остаться русской! "
И она до конца осталась русской с хрустально-чистой душой, полной безграничной любви к России и к своей семье.
Источники - 1. Покаяние спасёт Россию. О Царской семье. /Сост. Т.Н. Микушина, О.А. Иванова, Е.Ю. Ильина.– Омск: Издательский Дом «СириуС», 2013. – 264 с., цв. и ч.-б. илл. +
2. http://www.peoples.ru/family/children/o_romanova/index.html

Серия сообщений "Царские дети":
Часть 1 - Святая женственность царевен Романовых
Часть 2 - Царские дети
...
Часть 7 - Мария Николаевна Романова
Часть 8 - Анастасия Николаевна Романова
Часть 9 - Воспоминания близких об Ольге Николаевне
Часть 10 - Воспоминания близких о Татьяне Николаевне
Часть 11 - Воспоминания близких о Марии Николаевне
Часть 12 - Воспоминания близких об Анастасии Николаевне
Часть 13 - Великие Княжны и Александра Федоровна
|
|
Процитировано 1 раз
Императрица и Распутин |
от себя: Хочу здесь затронуть одну из самых загадочных и громких предметов обсуждений о Государыне и ее частной жизни - это тему Григория Распутина. Начну опять с воспоминаний Пьера Жильяра:
"Александра Федоровна с полным убеждением приняла свою новую религию и в ней черпала большое облегчение в часы волнений и тревоги". Особенно, это было связано с рождением наследника престола Алексеем Николаевичем. В частности с наследственной болезнью - гемофилией. "Она знала ее - эту страшную болезнь: ее дядя ,ее брат и 2 племянника умерли от нее. И вот ее единственный сын, этот ребенок, который был дороже всего на свете, был поражен ею, и смерть будет сторожить его, следовать за ним по пятам, чтобы когда-нибудь унести его, как унесла стольких детей в ее семье.
Нет, надо бороться, надо спасти его какой угодно ценой. Невозможно, чтобы наука была бессильна; средство спасения, быть может, все же существует, и оно будет найдено. Доктора, хирурги, профессора были опрошены, но тщетно, они испробовали все способы лечения.
Когда мать поняла, что от людей ей ждать помощи нечего, она все надежды возложила на Бога. Он один может совершить чудо! Шли месяцы, долгожданное чудо не совершалось, приступы повторялись, все более жестокие и безжалостные. Самые горячие молитвы не приносили столь страстного проявления милости Божией. Последняя надежда имела крушение. Бесконечное отчаяние наполнило душу Императрицы, ей казалось, что весь мир уходит от нее. И вот в это самое время к ней привели простого сибирского мужика - Григория Распутина. Этот человек ей сказал: "Верь в силу моих молитв, верь в силу моего заступничества - и твой сын будет жить". Мать уцепилась за надежду, которую он ей подавал, как утопающий хватается за руку, которую ему протягивают; она поверила ему всей силой своей души. Уже с давних пор она была убеждена, что спасение России и Династии придет из народа.
Трудно было бы понять нравственную власть Распутина над Императрицей, если не знать той роли, которую играют в религиозной жизни православного мира странники и странницы - это люди, не облеченные саном священника, и не монахи (хотя установилась привычка неправильно называть Распутина монахом).
Странник- это богомолец, который кочует из монастыря в монастырь, из церкви в церковь, ища правды и живет подаянием верующих. Он идет по безбрежной русской земле, направляя свой путь, как приведется, либо привлекаемый святостью места или людей.
Старец - это аскет, живущий обыкновенно в монастыре, а иногда и в затворе, наставник душ, к которому обращаются в минуты смятений и страданий. Часто бывает, что старец - это бывший странник, положивший предел своим скитаниям и поселившийся где-нибудь, чтобы окончить дни свои в созерцании и молитве.
Вот определение, данное Достоевским в его "Братьях Карамазовых":
"Старец - это берущий вашу душу, вашу волю в свою душу и в свою волю. Избрав старца, вы от своей воли отрешаетесь и отдаете ее ему в полное послушание, с полным самоотрешением. Этот искус, эту страшную школу жизни обрекающий себя принимает добровольно в надежде после долгого искуса победить себя, овладеть собою до того, чтобы мог наконец достичь, через послушание всей жизни, уже совершенной свободы, то-есть свободы от самого себя, избегнуть участи тех, которые всю жизнь прожили, а себя в себе не нашли".
Бог дает старцу указания, нужные для вашего блага, и открывают ему пути, по которым он должен вести вас к спасению. Старец - это страж идеала и правды на земле. Он является хранителем Священного предания, которое передается от старца к старцу до пришествия Царства Правды и Света. Некоторые из этих старцев достигают замечательной нравственной высоты и чтутся в числе святых Православной церкви.
Обращение в православие Государыни было следствием искренней веры. Православная религия вполне отвечала ее мистическому настроению, и ее воображение должно было прельститься стариной и наивностью обрядов этой веры. Распутин был облечен в ее глазах обаянием и святостью старца.
Таковы были чувства, с которыми Императрица относилась к Распутину и которые были так гнусно извращены клеветой. Они имели своим источником самое благородное чувство, какое способно наполнить сердце женщины, - материнскую любовь". (П. Жильяр)
А вот, что мы читаем про Императрицу и Распутина на страницах исследований А.Н.Боханова: "
Александре Федоровне "сфера невидимого" была доступна. Она обладала зрелым метафизическим зрением, которое развивала и совершенствовала с ранней юности. Потому жизнь святых чудотворцев, подвижников, простых странников и отшельников была ей близка, понятна, была ей желанна. Когда она встречалась с монахами и юродивыми, когда входила в келью затворницы, куда до того не ступала нога ни одной аристократки, то руководствовалась христианским порывом прикоснуться к подлинному духовному величию русского народа. Те, кто целиком посвятил себя служению Богу, и являлись истинными представителями Святой Руси, мечта о которой запечатлелась в русском народном сознании прочно и давно. Это была тоска по идеалу, алкание его. Царица всей душой стремилась стать "своей" для этого заповедного мира. И она ею стала.
Эта устремленность среди прочего проявлялась в ее отношении к Распутину. Ничего "личного" в этих отношениях никогда не существовало, хотя по этому поводу было сказано и написано невероятное количество гнусностей. Грязным людям всегда ведь кажется, что все кругом погрязли в тенях порока. Надо прямо сказать, среди современников и среди последующих сочинителей такого рода "свидетелей" и "исследователей" всегда оказывалось предостаточно.
Александра Федоровна с горечью вновь и вновь убеждалась, хотя это так трудно было принять, что Истинная Вера уже ничего (почти ничего) не определяет в жизни большинства из тех, кто ее окружал ее по праву должности или по статусу происхождения. Но она точно знала и другое: там, где кончаются золоченые палаты, там, где завершается светская "ярмарка тщеславия", там и начинается подлинность человеческих отношений.
И Распутин являлся как раз человеком из того дальнего, но такого близкого по духу мира. Он нес любовь к Богу, он умел сказать трепетное слово о Боге. Замечательно полно об этом высказалась cама Императрица. По Ее словам, Распутин «совсем не то, что наши митрополиты и епископы. Спросишь их совета, а они в ответ: "Как угодно будет Вашему Величеству!". Неужели Я их спрашиваю затем, чтобы узнать, что Мне угодно?»
Конечно, Распутин не был святым. За такого Александра Федоровна его никогда не держала, чтобы там ни писали и ни говорили.  Но Григорий отмечен благодатью Божией, его молитва угодна Господу. Он слышит ее и посылает милость. Царица не раз воочию убеждалась в этом чудесном явлении Милости Всевышнего. А потому и верила Распутину, как поверила бы любому другому подобному человеку. Он спасал Цесаревича. Во время обострения болезни он предсказывал день и даже время суток, когда Ему станет лучше. Он уверял Мать, что Цесаревич, дожив до 14—15 лет, пойдет на поправку и станет со временем вполне здоровым мужчиной. Все это сбывалось. Какое сердце могло бы не испытывать благодарности? Александра Федоровна никогда не относилась к числу неблагодарных.
Но Григорий отмечен благодатью Божией, его молитва угодна Господу. Он слышит ее и посылает милость. Царица не раз воочию убеждалась в этом чудесном явлении Милости Всевышнего. А потому и верила Распутину, как поверила бы любому другому подобному человеку. Он спасал Цесаревича. Во время обострения болезни он предсказывал день и даже время суток, когда Ему станет лучше. Он уверял Мать, что Цесаревич, дожив до 14—15 лет, пойдет на поправку и станет со временем вполне здоровым мужчиной. Все это сбывалось. Какое сердце могло бы не испытывать благодарности? Александра Федоровна никогда не относилась к числу неблагодарных.
Допущенная во внутренний мир Семьи, Анна Вырубова потом поясняла: «Что бы ни говорили о Распутине, что бы ни было необычного в его личной жизни, что бы он ни сделал в политическом смысле, в одно я всегда буду верить относительно этого человека. А именно в то, что он был ясновидящим, у него было второе зрение, и он использовал это, по крайней мере иногда, для благородных, святых целей. Предсказание выздоровления Цесаревича было одним из примеров. Он часто говорил нам, что произойдут определенные вещи, и они на самом деле происходили». Александра Федоровна придерживалась точно такого же взгляда.
Сохранилось свидетельство Великой княгини Ольги Александровны об удивительном примере благотворного вмешательства Распутина в казалось бы безнадежные обстоятельства. Дело происходило в 1907 году. Именно тогда Александра Федоровна впервые воочию узрела силу молитвы Распутина. Сообщение Ольги Александровны тем более значимо, что она никогда не входила в число распутинских «симпатизантов» и была очевидцем событий, о которых другие или не знали вовсе, или судили с чужих, часто недоброжелательных слов.
Летом 1907 года Цесаревич, гуляя в парке, упал. Произошло внутренне кровоизлияние. Начались страшные боли, Ребенок корчился в страшных муках. «Бедное Дитя так страдало, вокруг глаз были темные круги, тельце Его как-то съежилось, ножка до неузнаваемости распухла. От докторов не было совершенно никакого проку. Перепуганные больше нас, они все время перешептывались... Было уже поздно меня уговорили пойти к себе в покои. Тогда Аликс отправила в Петербург телеграмму Распутину. Он приехал во Дворец около пополуночи, если не позднее. К тому времени я была уже в своих апартаментах, а поутру Аликс позвала меня в комнату Алексея. Я глазам своим не поверила. Малыш был не только жив, но и здоров. Он сидел на постели, жар словно рукой сняло, от опухоли на ножке не осталось и следа, глаза ясные, светлые. Ужас вчерашнего вечера казался невероятным, далеким кошмаром».
Царица рассказала золовке, что Распутин даже не прикасался к Цесаревичу, он только стоял в ногах у кроватки и молился. Завершая свой рассказ, Ольга Александровна заметила: «Разумеется, нашлись люди, которые сразу же принялись утверждать, будто молитвы Распутина просто совпали с выздоровлением моего племянника». Это был расхожий аргумент, которым всегда старались отмести все разговоры о чудодейственных способностях Друга Царской Семьи. Ольга Александровна об этом прекрасно знала, но она знала и другое и о том не умолчала. «Во-первых, любой доктор может вам подтвердить, что на такой стадии недуг невозможно вылечить за какие-то считанные часы. Во-вторых, такое совпадение может произойти раз-другой, но я даже не могу припомнить, сколько раз это случалось!» Это было чудо, которое Императрица с радостью и благодарностью принимала...
Что же касается вообще сплетен, то они Александру Федоровну мало задевали. Исключение составляли лишь случаи, когда им начинали верить близкие люди. Некоторым Она сама старалась объяснить абсурдность их: свекрови Императрице Марии Федоровне или добродушной золовке Ольге Александровне. Другим ничего не объясняла, лишь удивляясь их легковерию и податливости к чужому и недобросовестному мнению. В некоторых случаях сплети даже вызывали улыбку, например, когда Вырубова с хохотом рассказывала, что, как она узнала в Петербурге, оказывается, она «живет с Распутиным» и даже регулярно «ходит с ним в баню!» Как можно было подобным глупостям верить? Но верили же!
Их соединяла вера в Бога, перед Лицом Которого «Царь всея Руси» и простой смертный были равны. Истинно верующие люди — Николай II и Александра Федоровна — чувствовали и видели Христапреданность Григория Распутина. С 1907 года началась история систематического общения Григория Распутина с Царем, Царицей и Их Детьми.  В конце того года он впервые молитвой облегчил страдания Цесаревича Алексея, и именно с этого момента Царица признала в нем не просто народного толкователя христианских заветов, но и спасителя Сына. Она ему была благодарна, и с каждым новым случаем явления Распутиным земного чуда Ее признательность лишь увеличивалась, и в конце концов Она окончательно убедилась, что Григорий — «человек Божий». Александра Федоровна называла его «Другом» и это слово всегда писала с большой буквы.
В конце того года он впервые молитвой облегчил страдания Цесаревича Алексея, и именно с этого момента Царица признала в нем не просто народного толкователя христианских заветов, но и спасителя Сына. Она ему была благодарна, и с каждым новым случаем явления Распутиным земного чуда Ее признательность лишь увеличивалась, и в конце концов Она окончательно убедилась, что Григорий — «человек Божий». Александра Федоровна называла его «Другом» и это слово всегда писала с большой буквы.
Последние десять лет существования монархии Венценосцы встречались с Распутиным регулярно, и это общение приносило Им душевный покой, умиротворение, тихую радость от ощущения благости Света Небесного. Крестьянин из Сибири рассказывал, пояснял, наставлял, и хотя его речь была далека от литературного совершенства, но то, о чем он говорил — о любви, смирении, вере и надежде, — было так желанно Августейшим Слушателям, было так Им необходимо.
Распутин толковал сложные истины и церковные догматы неожиданно просто и убедительно. Эта простота, доходчивость, красочность объяснений отвлеченных категорий и символов поражала многих и далеко не ограничивалась кругом «истерических столичных дам», как о том все еще нередко пишут. Среди прочих в числе «симпатизантов» Распутина находились и блестяще образованные церковные иерархи (архимандрит Феофан), и выдающиеся проповедники, чья искренняя приверженность Православию стала еще при их жизни легендарной, — протоиерей Иоанн Кронштадтский .
Когда Распутин стал бывать в Царском дворце, о нем редко кто и слышал. Но сам факт появления в царских чертогах необычного посетителя немедленно вызвал всплеск интереса. Появились слухи, версии, объяснения. Пришла известность. Причем ореол ее был явно негативного свойства. Никто не мог понять, что может быть общего у Повелителя Империи и какого-то «темного мужика». Новость пугала и озадачивала тех, кто к Венценосцам имел нелукавую симпатию.
В начале 1912 года на вопрос сестры Царя Великой княгини Ольги Александровны, как Аликс может доверять какому-то мужику, Царица без обиняков заявила: «Как же Я могу не верить в него, когда Я вижу, что Маленькому всегда лучше, как только он около Него или за Него молится». Такой очевидный признак избранничества перечеркивал все нелицеприятные характеристики, неоднократно долетавшие (родственники и некоторые придворные очень в этом деле старались) до ушей Матери Царицы, имеющей на руках больного Сына, все помыслы Которой были направлены лишь к Его спасению.
Отношения между Царицей и Распутиным цементировались только тем, что по пятам за престолонаследником ходила смерть. Уже после падения Монархии, давая показания следователю Чрезвычайной комиссии Временного правительства, архиепископ Феофан, которого многие считали «жертвой распутинских интриг», со всей определенностью заявил о характере отношений Царицы и Распутина.
«У меня никогда не было и нет никаких сомнений относительно нравственной чистоты и безукоризненности этих отношений. Я официально об этом заявляю, как бывший духовник Государыни. Все отношения у Нее сложились и поддерживались исключительно только тем, что Григорий Ефимович буквально спасал от смерти своими молитвами жизнь горячо любимого Сына, Наследника Цесаревича, в то время как современная научная медицина была бессильна помочь.
Граф Фредерикс однажды в интимной беседе спросил Государя, что такое представляет собой Распутин, о котором все так много говорят. Его Величество ответил совершенно спокойно и просто: "Действительно, слишком уж много и, по обыкновению, много лишнего говорят, как и о всяком, кто не из обычной среды принимается изредка нами. Это только простой русский человек, очень религиозный и верующий... Императрице он нравиться своей искренностью; она верит в его преданность и в силу его молитв за нашу Семью и Алексея... но ведь это наше совершенно частное дело... удивительно, как люди любят вмешиваться во все то, что их совсем не касается... кому он мешает?"
ИСТОЧНИК -1. Боханов А.Н. "Святая царица". - М.: Вече, 2006.- 304с., илл.
![]()
Серия сообщений "Императрица Александра":
Часть 1 - Александра Федоровна: интересы, вкусы, внешность
Часть 2 - Русская Императрица
...
Часть 6 - Нравственный мир Александры Федоровны - Императрица-друг
Часть 7 - Религиозность Александры Федоровны
Часть 8 - Императрица и Распутин
Часть 9 - Императрица - Мать
|
|
Религиозность Александры Федоровны |
Про Александру Федоровну писали и говорили, что в России она стала «экзальтированной фанатичкой», что Она сделалась «мистичной», что квалифицировалось «знатоками» как признак чуть ли не психического расстройства. Ничего подобного, конечно же, не существовало и в помине. Она была христианкой и тогда, когда стала Царицей под сводами помпезного Зимнего дворца, и тогда, когда Ее убивали ночью в тесном екатеринбургском подвале. Полнота религиозного чувства Царицы не подлежит сомнению. Она всегда жила Богом, ее душа Ему неизменно и целиком принадлежала.
Искренность и глубина ее Христапреданности наперед обрекала Александру Федоровну на светское одиночество. Хотя в России Православие по закону считалось государственной религией, а жизнь Империи была выстроена по церковному календарю, но в высшем обществе России властвовали уже совсем другие настроения и представления. Нет, никто, почти никто публично с исторической верой не порывал: ходили в храмы, причащались, постились. Но все это по большей части являлось лишь обрядоверием, в котором не было полноты и высоты религиозного переживания, характерного для Александры Федоровны. И то, что Ее русский избранник был таким же глубоким и полным христианином, как и Она, явилось счастьем Алисы-Александры. Если бы этой духовной симфонии не существовало, то вряд ли Принцесса из Дармштадта стала бы Русской Царицей.
С первых дней пребывания в России Она была потрясена не только ложью и лицемерием придворно-сановного мира по отношению к Ники, но и по отношению к Богу. Участвуя в процессиях и в поминальных панихидах, Она невольно вновь и вновь убеждалась, что даже в таком трагическом случае люди больше думали о земном, чем о небесном.
Во время бесконечных литий (только в Москве во время следования от вокзала до Кремля состоялось десять служб по упокоению Александра III) Александра Федоровна видела, сколько пустой суеты вокруг. Сановники и придворные все время о чем-то переговаривались, толкались, старались занять наиболее заметные, «выигрышные» места. Некоторые дамы даже умудрялись по несколько раз на дню менять «траурный наряд», как будто они присутствовали на премьере в опере! Молитвенное усердие редко кто из окружающих проявлял. В то же время видела, что у простых людей при поминании Александра III текли слезы, многие падали на колени, рыдали и причитали при виде царского гроба. На лицах же господ «из хорошего общества» слезы появлялись крайне редко...
Александра Федоровна не верила мнению толпы. Она имела ясное представление об испорченности человеческой природы, слишком хорошо знала Священное Писание. Толпа никогда не бывает права, прав всегда лишь Всевышний. Он — Истина, Любовь, Жизнь. Достойно внимания и почитания лишь то, что от Него и для Него.
Лили Ден в воспоминаниях заметила, что больше всего на свете Александра Федоровна любила Бога. Подруга Царицы была права. Государыня Сама о том много раз писала и говорила. Бог — Все. Это — свет, радость, надежда. То, что Он посылает, следует со смирением и благодарностью принимать. Горести — испытание, но и милость Его велика. Во всем жизненно главном — Он, и только Он. И Александра Федоровна знала: Она щедро одарена Всевышним. Господь послал Ей Ники, которого Она любила преданно и беззаветно почти четверть века.
"Так же, как и Государь, Императрица была исключительно верующей и православной, изучив особенности нашей религии до тонкости. Все церковные службы Ее Величество простаивала от начала и до конца, ничем не отвлекаясь и все время усердно молясь. Когда здоровье не позволяло больше ей долго стоять на ногах, она сидела во время служб, но посещала их аккуратно". (Фабрицкий С.С. из воспоминаний флигель-адъютанта Государя).
Также глубоко почитала Александра Федоровна и таинство причастия. Вот что можно узнать об этом из ее письма к Николаю II в окт. 1914 г.: "Какое счастье, что мы причастились перед твоим отъездом - это дало мне силы и покой. Как важно иметь возможность причащаться в подобные минуты и как бы хотелось помочь другим вспомнить о том, что Бог даровал это благо всем - не только как нечто обязательное раз в году во время Поста, но и для других случаев, когда душа жаждет этого и нуждается в подкреплении. Когда я нахожусь наедине с людьми, которые, как мне известно, переживают сильные страдания, я всегда касаюсь этого вопроса, и с Божией помощью мне во многих случаях удается объяснить, что это - всем доступное, благое дело и что это дарует облегчение и покой болящему сердцу".
Вера царицы была настолько глубока и всеохватна, любовь к Иисусу Христу столь цельной и абсолютной, что этими своими качествами она действительно походила на Христову Невесту. Она жила не только с верой в сердце, но - жила Верой. Если бы этого не было, она бы никогда не смогла перенести то, что ей ссудило Провидение.
Много о религиозности Императрицы описывает труд М.К. Дитерихса "Убийство Царской Семьи" - Государыня была сильно религиозной натурой. У такого человека как она, это не могло быть ни лживым, ни болезненным.
Ее вера в Бога была искренняя и глубокая. Как человек, не терпевший по природе какой-либо лжи, она, приняв Православие, приняла веру не по форме, не по необходимости, а всем сердцем, всем разумом, всей волей. Иной она не могла быть. Ее вера, ее набожность были искренни, глубоки и чисты. Никакого ханжества в ней не было и по натуре не могло быть. По основе христианского учения она верила всем сердцем в силу молитвы, верила до конца.
Чрезвычайно характерное явление обрисовывается различными показаниями свидетелей в свойствах религиозности Государыни. Мужчины считали Государыню истеричной и полагали, что на этой почве в ней развилась религиозная экзальтация. Женщины категорически отрицали наличие у Государыни истеричности и совершенно отвергали возможность болезненного проявления ее религиозного чувства.
Подробное изучение натуры, характера и психологии покойной Государыни по многочисленным ее письмам приводит к заключению, что суждение женщин в отношении религиозности Государыни, безусловно, соответствует истине. Вероятно, действительно женщины более способны воспринимать веру и религию до конечной глубины, чем мужчины. Ни в одном письме Государыни к кому бы то ни было, совершенно не проявляется истеричности. Чистая и глубокая вера в Бога, сопровождаемая всегда бесхитростным, спокойным, здравым суждением рассудка, - вот чем отличаются беседы Государыни с близким ее сердцу и духу людьми в многочисленной переписке. Никакой экзальтации, никакой искусственности, никакой фальши не чувствуется в ее словах. И только натуры очень хорошие, в свою очередь религиозные, но не способные воспринимать веру до конца, могли видеть в Государыне религиозную экзальтацию и приписывать ей истеричность - болезненное явление, до сих пор не объятое и не исчерпанное наукой.
Мария Густавовна Тутельберг (камер-юнгфер Государыни): "Государыня была глубоко религиозная женщина. Она верила в силу молитвы и верила глубоко, что Распутин наделен даром молитвы, что от его молитвы легче делается Алексею Николаевичу. Вот так Ее Величество и относилась к Распутину. Когда он был убит, Ее Величество была сильно огорчена. Тогда и Его Величество был , вероятно, обеспокоен этим. Он в момент убийства Распутина был в Ставке.
Помню, что однажды я высказала Ее Величеству свое некоторое сомнение в личности Распутина. Я сказала Ее Величеству, что Распутин простой, необразованный мужик. На это Ее Величество мне сказала: "Спаситель выбирал Себе учеников не из ученых и теологов, а из простых рыбаков и плотников. В Евангелии сказано, что вера может двигать горами", - и показывая на картину исцеления Спасителем женщины, Ее Величество сказала: "Этот Бог и теперь жив. Я верю, что мой сын воскреснет. Я знаю, что меня считают за мою веру сумасшедшей, но ведь все веровавшие были мучениками".
"Этот Бог и теперь жив" - это религия православного честного русского человека, религия и Божьих Помазанников русского народа. Тутельберг, Волков, Жильяр, Чемадуров, Битнер, Кобылинский - люди близко стоявшие и видевшие жизнь и правду этих Помазанников Божьих, - все в один голос свидетельствуют: это были люди, сильные христианской верой, верой своего народа. Они не боялись клеветы и грязи, потому что совесть их была чиста перед Богом. Они не переставали в простоте Христовой верить в Бога и готовы были стать мучениками за веру своего старого русского народа.
Они и стали для Православной Церкви мучениками, отдав жизнь за воскресение народа.
Источники - 1. Боханов А.Н. "Святая царица". - М.: Вече, 2006.- 304с., илл.
2. Дитерихс М.К. "Убийство Царской Семьи и членов Дома Романовых на Урале. - М.:Вече, 2007.- 512 с.

Серия сообщений "Императрица Александра":
Часть 1 - Александра Федоровна: интересы, вкусы, внешность
Часть 2 - Русская Императрица
...
Часть 5 - Благотворительные дома Императорской России сегодня
Часть 6 - Нравственный мир Александры Федоровны - Императрица-друг
Часть 7 - Религиозность Александры Федоровны
Часть 8 - Императрица и Распутин
Часть 9 - Императрица - Мать
|
|
Нравственный мир Александры Федоровны - Императрица-друг |
Александра Федоровна была наделена удивительным Даром любви. Она умела любить так беззаветно и преданно, на что способны только избранные люди. Никогда не принижала этого высокого и светлого чувства, никогда не произносила слово «любовь» по отношению к кому-то и чему-то, если это чувство не владело Ею целиком, если Она не готова была отдать во имя этого Свою жизнь. Подобная самозабвенность свидетельствовала об исключительных душевных качествах Царицы. Их часто не замечали, им старались не придавать значения, нередко им предписывали какую-то бытовую мотивацию. Но все это из области мелкой, завистливой и корыстной человеческой суетности.
У Нее же не было подобных греховных побуждений и себялюбивых устремлений. Ее любовь — это неизменно беспредельная правда сердца. Она умела разглядеть великое в простом и обиходном. Потому что для христианина Правда Божия всегда рядом, во всем и везде. Ее надо лишь ощутить, понять и с благодарностью принять. Последняя Царица на это была способна.
 на фото Императрица с сыном своей фрейлины Лили Ден
на фото Императрица с сыном своей фрейлины Лили Ден
В одном из своих писем, написанном в конце 1916 года и адресованном своей фрейлине графине Анастасии Васильевне Гендриковой (Настеньке) (1886—1918), Александра Федоровна сформулировала принципы сохранения «душевного равновесия» даже в самые безрадостные моменты жизни.
«Я сожалею, что Ваше настроение снова ухудшилось, но такие моменты неизбежны. Если бы мы могли всегда соблюдать наше душевное равновесие (как нам, вообще-то говоря, следует), мы были бы совершенны. Это одна из самых трудных вещей. А когда наше внешнее состояние оставляет желать много лучшего, настроение наше падает, и тогда милость Божия оставляет нас на время. Но не тревожьтесь: с помощью молитвы Вы снова воспрянете. Было бы слишком легко жить, если бы благополучие всегда было с нами; Вы должны его достичь и укрепить собственный характер. Нужно подавлять вспышки гнева. Нужно усердно работать, чтобы стать совершенным. Имейте мужество и молитесь, как нас учили. Зло всегда старается победить и тревожить нас в те времена, когда мы падаем духом. Жизнь — вечная борьба, и всемогущий Бог поможет нам победить, если мы будем смиренны перед Ним и подчиним себя Его воле».
Она действительно всю жизнь боролась за нравственное совершенство; с присущей Ей целеустремленностью старалась преодолевать слабости вне зависимости от того, как и по какому поводу они проявлялись. Александра Федоровна переживала, когда не сдерживалась и в состоянии минутного возбуждения говорила что- то и так, как было недопустимо. Это проявлялось даже в незначительных деталях каждодневного уклада. Не терпя лжи, Она иногда позволяла себе повышенный тон с разговоре с горничной, уличенной во вранье. Когда возбуждение момента проходило, неизменно говорила: «Зачем Я сорвалась?» — и просила прощения у Всевышнего за несдержанность.
При всем том Она всегда оставалась сердечной и отзывчивой и всегда интересовалась текущими или семейными нуждами горничных, нянь, камердинеров и вообще, как сказали бы сейчас, «обслуживающего персонала». Здесь не было никакого праздного любопытства сентиментальной барыни. Во всех вне зависимости от соц. статуса она умела видеть человека и всегда готова была протянуть руку помощи. Душевность царицы вызывалась и питалась великим духовным чувством православной христианки.
Няня Царских детей А.А. Теглева, прослужившая в семье 17 лет, уже после революции говорила о Государыне: "Она была властна. Но она была добра и весьма доступна, к ней можно было пойти всегда, и ей можно было сказать все. Она была сердечна". Горничная Е.Н. Эрсберг, проведшая в Царском доме 16 лет, свидетельствовала: "Императрица была властная, с сильным характером. Но для нас она была весьма доступна и простая".
По словам баронессы С.К. Буксгевден, Царица Александра «проявляла интерес ко всем при Дворе: от первой фрейлины до последней служанки, и часто помогала скромным людям и их семьям так, чтобы никто не знал об этом. Она была справедлива в истинно христианском смысле и помогала людям независимо о положения в обществе. Она с готовностью навещала как больную служанку, так и любую из фрейлин».
Имелись просто поразительные случаи Ее заботы о людях, которых при Дворе никогда ранее не наблюдалось. Когда ее молодая фрейлина княжна С.И. Орбелиани (Джамбакуриан-Орбелиани) тяжело заболела в 1906 году, то Александра Федоровна восприняла это как свое личное дело. Молодая девушка (ей только исполнилось 23 года) была сиротой, и Императрица окружила ее материнской лаской и заботой. Соня была помещена во Дворце, в комнате рядом с комнатами Великих княжон.
Александра Федоровна ежедневно навещала неизлечимую больную (у нее был прогрессирующий паралич позвоночника), нередко оставалась рядом с ней на ночь. Когда по прошествии девяти лет Соня умерла в 1915 году, то Царица писала Супругу: «Вот и еще одно верное сердце ушло в страну неведомую. Я рада, что здесь для нее все кончилось, потому что в дальнейшем ей суждены были тяжелые страдания. Да упокоит Господь ее душу с миром и да благословит ее за великую любовь ко Мне во все эти годы».
Царица умела распознавать душевные качества человека. И не удивительно, что большинство из тех, кого лично Императрица принимала на службу, сохранили верность Семье до самого конца. Некоторые заплатили за преданность собственной жизнью: доктор Евгений Сергеевич Боткин, «комнатная девушка» Анна Степановна Демидова, фрейлина графиня Анастасия Васильевна Гендрикова, лакей Иван Дмитриевич Седнев, камердинер Государя Алексей (Алозий) Егорович Трупп, повар Иван Михайлович Харитонов, «дядька» Цесаревича Климентий Григорьевич Нагорный. Их расстреляли в том, страшнопамятном июле 1918 года...
«Вера, Надежда, Любовь — это все, что имеет значение», — не раз говорила Александра Федоровна. И то не была пустопорожняя декларация. Это — убеждение души. Она умела любить, и Она умела дружить. Дружба для Нее тоже являлась проявлением любви. Она была и здесь преданной и верной, а мнение других в данном случае не играло никакого значения. Она слушала голос Своего сердца, лишь ему доверяла. Однажды призналась Лили Ден: «Меня не заботит, богато то или иное лицо или же бедно. Для Меня друг, кем бы он ни был, всегда останется другом».

Сколько возмущенных и даже гневных голосов прозвучало по поводу того, что Она дружит с теми, кто не прошел "апробацию" столичных аристократических салонах. Подруги Царицы — А. Вырубова и Юлия Ден — не имели при Дворе никакого официального положения, но были желанными и близкими для всей Царской Семьи. Александра Федоровна твердо придерживалась принципа Своей бабушки Королевы Виктории: каждый имеет право на личные привязанности. Все разговоры о необходимости присвоить друзьям Дома некий придворный чин Царица оставляла без внимания. Однажды со всей определенностью высказалась по пoводу положения Вырубовой: «Я никогда не дам Анне официального места при Дворе. Она Моя подруга, и я хочу, чтобы она ею и оставалась. Неужели Императрицу можно лишить права, какое имеет любая женщина, — права выбирать себе друзей?»
Знать что-то наполовину — нехорошо, делать что-то кое-как - недопустимо, любить кого-то и что-то без сердечной привязанности — непредставимо. Эта триединая формула не была сочиненной «философией» жизни, неким рационалистическим умозрением Александры Федоровны.
Просто Она иначе не могла чувствовать окружающий мир и все ценности его. А ценностей этих было много. Воспринимать их со всей полнотой Своей натуры у Нее хватало сил, у Нее хватало доброты сердца.
Все, что просто, искренне, бесхитростно, сразу же вызывало у Нее симпатию. Это проявлялось и в большом, и в малом. Дети, животные, пробуждение природы, солнечный свет, щебетание птиц, вызывали радостное настроение в душе, способствовали приливу жизненной энергии. Она видела красоту Мира Божия и была счастлива, что Ей позволено было это видеть и ощущать.

 на фото Александра Федоровна с сыном фрейлины Лили Ден
на фото Александра Федоровна с сыном фрейлины Лили Ден
Природную подлинность Императрица неизменно ставила выше самого изысканного произведения рук человеческих. Она, например, не пользовалась косметикой, не делала маникюр, не прибегала к различным ухищрениям, чтобы скрыть седину в волосах, которая у Нее стала проступать к сорока годам. Тяга к безыскусности сказывалась даже в Ее пристрастиях к цветам и ароматам. Больше всего любила ландыши и сирень, как и парфюмерию на их основе.
При всей бескомпромиссности натуры Александра Федоровна никогда не была человеком с «зашоренным» кругозором. Если Она что-то или кого-то не принимала и не воспринимала, то это не значит, что Она начинала по этому адресу отпускать какие-то критические замечания, не говоря уже о злословии.
Она и Николай II являлись удивительно незлобивыми людьми. Хотя в Ее письмах Супругу и можно найти иногда некоторый излишний эмоциональный всплеск и нелицеприятные характеристики, но это исключительно — настроение минуты. Супругу Она доверяла то, что «наболело», что тревожило и возмущало. Никакому другому адресату Александра Федоровна ничего подобного не писала. Никто из тех, кто имел возможность близко находиться около Императрицы, не зафиксировал случая, чтобы Она позволяла Себе отзываться о ком-то пренебрежительно или уничижительно.
Конечно, Она ошиблась в людях. Порой принимала видимое за истинное, но по-другому и быть не могло. Мир, окружавший Ее, настолько был лицемерным и изолгавшимся, что степень этого морального падения для таких искренних натур, как Царь и Царица, была просто непредставима.
Когда же Царица убеждалась, что кто-то оказался совсем не тем, за кого Она его принимала, то порывала с таким человеком все связи раз и навсегда. Никогда не опускалась ни до «выяснения отношений» , ни до шельмования. Так случилось, например, с флигель-адъютантом князем В.Н. Орловым (1868—1927), одно время входившим в «ближний круг» Царя и Царицы. Когда же Александра Федоровна узнала, что некогда «милый Влади» позволяет себе за глаза злословить по Ее адресу и даже — ужас! — намекать на то, что Она «изменяет» Мужу, то разорвала с ним всякое общение. Орлова же Она просто перестала замечать.
Или другой, столь же показательный случай. Две сестры Великие княгини Милица Николаевна (1866—1951) и Анастасия Николаевна (1867—1935), почти десять лет числились в «подругах» Александры Федоровны. Император и Императрица встречались с ними часто. Они представлялись такими искренними, необычайно одухотворенными, что сразу же выделялись из общей массы Императорской Фамилии. «Черногорки» открыли «первого Друга (Филиппа) и «второго Друга» (Распутина), за что Александра Федоровна была благодарна.
Удостоверившись, что сестры совсем не те, за кого себя выдавали, что они пытаются использовать неформальные отношения с Ней для получения определенных выгод и для себя, и для Черногории, откуда были родом и где правил их отец Николай Негош (1841—1921), то симпатия быстро сошла на нет. Она знала, что княгини упражнялись в злословии по Ее адресу, но ни разу не пыталась, что называется, поставить их на место.
Императрица вынуждена была встречаться с этими «черными женщинами» — они ведь члены Фамилии, но никаких знаков внимания не оказывала. Многие годы Она с ними ни разу даже не заговорила, ограничиваясь лишь кивком головы при встречах. Характерную деталь передала в своем письме княгиня Юсупова (1861 —1939), побывавшая на царском приеме в Ливадийском дворце 6 ноября 1913 года. По ее словам, "Черные сестры" ходили как зачумленные, так как никто из царедворцев к ним не подходит, видя, что Хозяева их вполне игнорируют».
Дружба Царицы была великодушной; Она друзьям многое прощала, если те сохраняли к Ней и Ее Дому любовь. Так было с Вырубовой (Танеевой). Анна была самым доверенным человеком, от которой у Венценосцев практически не имелось секретов, хотя у Александры Федоровны поведение подруги вызывало не только положительные эмоции. Но Она ей многое прощала, зная, что Анна искренне преданна Ее Семье.

Родилась Анна Александровна Танеева в 1884 году в семье крупного сановника, Главноуправляющего «Собственной Его Величества Канцелярии», музыканта, композитора и коллекционера А. С. Танеева (1850—1918). Матерью ее была Надежда Илларионовна, урожденная Толстая (1859—1937). Дочь получила хорошее домашнее образование, знала языки, была музыкально образована и прекрасно играла на фортепиано. В шестнадцать лет Анна тяжело заболела, и во время кризиса ей привиделось, что к ее постели подошла Императрица, протянула руку и спасла от смерти. Узнав об этом, Александра Федоровна посетила больную и благословила ее. Так Императрица познакомилась с той, кто должна была стать Ее главной дружеской привязанностью.
В 1902 году Анна Танеева выдержала экзамен при Петербургском учебном округе на звание домашней учительницы, а в 1903 году получила «шифр» и стала фрейлиной Большого Императорского Двора. Сближение Ани Танеевой с Царской Семьей в 1905 г., когда фрейлина была приглашена на поездку по финским шхерам на Императорской яхте. К этому времени Александра Федоровна имела к молодой фрейлине несомненное расположение. Анна покорила ее своей простотой, искренностью, добротой, ну, и конечно, очевидной верой в Бога.
Там же, где дружба, — там бескорыстие, там самопожертвование. Выгода и корысть с дружбой несовместимы. Этот максимализм близкие Царицы хорошо знали, боясь даже заикнуться о каких-то материальных «вспомоществованиях». В своих мемуарах А.А. Вырубова писала, что ей и в голову не могло прийти просить какие-то деньги, хотя средств постоянно не хватало. Фрейлины получали жалованье (четыре тысячи рублей в год), а Вырубова после замужества в 1907 году являлась лишь «подругой» (замужние женщины не носили фрейлинского звания). В конце концов Министр Императорского Двора В.Б.Фредерикс сообщил Александре Федоровне о тяжелом положении Анны. Дальнейшее выглядело следующим образом.
«Она спросила, сколько я трачу в месяц, но точной цифры я сказать не могла. Тогда, взяв карандаш и бумагу, Она стала со мной высчитывать: жалованье, кухня, керосин и т.д. Вышло 270 рублей в месяц. Ее Величество написала графу Фредериксу, чтобы Ей высылали из Министерства Двора эту сумму, которую и передавала мне каждое первое число».
Александра Федоровна не ошиблась в Анне. Она оказалась морально стойкой и благодарной ученицей. Она оказалась настоящим другом. Незадолго до смерти Царица написала, что «гордится ею».
Вот, что писал о доброте и отзывчивости Александры Федоровны флигель-адъютант С.С. Фабрицкий : "Императрица была исключительно доброй и снисходительной. Доброта Ее Величества сказывалась во всем, но в особенности в Ее отношениях к людям, в Ее постоянных заботах о всех мало-мальски Ей известных лицах, впавших во временное тяжелое положение, при заболевании и т.п. Помощь оказывалась широкая, как денежная, так и моральная. Трудно себе представить, какой массе лиц Ее Величество помогала выйти из материальных затруднений, скольким детям оказала помощь в воспитании и какую массу больных призрела в различных санаториях. Императрица обладала редко развитым чувством долга, и это как бы давало Ей возможность быть упорной во многих случаях, когда по ее понятиям так требовал долг."
ИСТОЧНИКИ - 1. Боханов А.Н. "Святая царица". - М.: Вече, 2006.- 304с., илл.; 2. Император Николай II. Откровения в подлинных воспоминаниях Свиты Его Величества. - / Сост.В.М. Хрусталев. - М.:АСТ, 2013. - 511 с.

Серия сообщений "Императрица Александра":
Часть 1 - Александра Федоровна: интересы, вкусы, внешность
Часть 2 - Русская Императрица
...
Часть 4 - Благотворительная деятельность Александры Федоровны
Часть 5 - Благотворительные дома Императорской России сегодня
Часть 6 - Нравственный мир Александры Федоровны - Императрица-друг
Часть 7 - Религиозность Александры Федоровны
Часть 8 - Императрица и Распутин
Часть 9 - Императрица - Мать
|
|
Благотворительные дома Императорской России сегодня |
В предыдущей главе было освещено о благотворительных учреждениях, созданных под покровительством Императрицы Александры Федоровны. Здесь я хочу отразить судьбу 3 из них: 1. гос. Ортопедический институт, что сейчас находится в Александровском парке, 5 в С-Петербурге у м. Горьковская, 2. Школа нянь в Царском Селе по адресу: Красносельское шоссе, 9, сейчас здесь располагается школа № 409, 3. Общество охраны материнства и грудных детей в Царском селе по адресу: Павловское ш., д. 14.
Начну с истории Ортопедического института описанного в 2-х томнике воспоминаний Буксгевден С.К.: 3-х этажное здание института заложили 21 сентября 1902 г. по проекту придворного архитектора Р.Ф. Мельцера. Фасад здания облицевали светлым глазурованным кирпичом, доставленным из Зигерсдорфа в Германии. Из-за русско-японской войны оборудование института затянулось и только 3 марта 1906 г. он открыл свои двери для пациентов. К этому времени Хорн умер (кому Императрица предложила создать это мед. учреждение) и директором назначили Р.Р. Вредена, чье имя институт носит и в наши дни.
 на фото здание института сегодня
на фото здание института сегодня
Расположенная на верхнем этаже и увенчанная маковкой церковь освящена была позже 22 декабря 1906 г. местным благочинным о. Иоанном Каменским. К этому дню Императрица подарила икону "Моление о чаше" и облачения. 6 образов в складно одноярусном с позолотой иконостасе, вырезанном из светлого дуба на фабрике Ф.Мельцера, написал молодой К.С. Петров-Водкин, ставший также автором сделанной в Лондоне фирмой Дультона наружной мозаики с изображением Иверской Божией Матери, которая до сих пор украшает апсиду. Ранее над ней возвышалась небольшая звонница с девятью колоколами, отлитыми в Гатчине на заводе В.Орлова. Запрестольный образ "Спаситель на престоле" исполнил академик Н.А. Бруни, повторивший свою мозаику для православной церкви в Дармштадте. Утварь была сделана на известной фабрике П.И. Оловянишникова в Москве. Игуменья Таисия из Леушинского подворья подарила образа Спасителя и Божией Матери.

Вот как исторически описывает эту церковь Антон Успенский в своем блоге, цитирую выборочно "Акцент центрального корпуса – домовая церковь Спаса Целителя со звонницей и луковичной главкой, от которой сохранился барабан. Фасад украшен изображением Иверской Божией Матери работы Кузьмы Петрова-Водкина. Это одно из самых ранних панно в технике майолики, появившееся на фасадах петербургских зданий. Изготовлением панно занималась лондонская фабрика Дультона. В церкви находился складной иконостас из дуба фабрики «Мельцер и К», совладельцем которой был сам архитектор. Иконы были написаны Кузьмой Петровым Водкиным. Церковная утварь была утрачена в 1920-х годах, сегодня алтарную часть церкви хотят восстановить".
Храм, приписанный к Троицкому собору, в обычное время использовался как аудитория, и тогда алтарь закрывался занавесом. На нижнем этаже здания размещалась часовня для панихид. Первым священником церкви был о. Николай Иоанович Серяков, участник Русско-японской войны. Проект надстройки и расширения института, предложенный И.А. Претро, был одобрен в конце 1916 г., но осуществить его не успели. Церковь была закрыта 13 декабря 1921 г., ее убранство в апреле 1924 года передали в Троицкий собор. Сейчас в помещении - аудитория Научно-исследовательского института травмотологии и ортопедии им Вредена. С 1988 г. основное здание института находится на ул. Академика Байкова.
Интересные воспоминания оставил нам русский эмигрант доктор Ю.И. Лодыженский, который работал в институте перед войной: "Ортопедический институт считался в Петербурге наиболее богато оборудованным лечебным учреждением после "Оттовского" акушерского института, отличавшегося даже излишней роскошью. Наш институт возник по инициативе молодой Государыни, при содействии ее массажиста и ортопеда Хорна... Он как и Вреден, был англичанином и, видимо, в своем деле достаточно опытным и добросовестным работником. Его и назначили первым директором института, который числился почему-то по ведомству внутренних дел и имел хорошо обеспеченный бюджет. Штат его состоял из директора, старшего ассистента, 3-х младших, которые менялись каждые 3 года, врача, заведующего гимнастическим залом и массажем, и врача, заведующего ортопедической мастерской, 6 общинских сестер (Пб Кресто-Воздвиженскойобщины Красного креста - по времени своего возникновения она была первой в России) и нужного числа административного персонала, санитаров и сиделок. Те, кто жили в институте, были отлично размещены. Каждая сестра имела свою комнату и пользовалась общей столовой, в начале здесь жили 3 младших ассистента, но потом их комнаты были отведены под палаты. В нижнем этаже размещались: канцелярия, склады, мастерская и замечательно оборудованная кухня. Во втором: амбулатория, лаборатория, рентгеновский кабинет, библиотека (красиво отделанная темным деревом и очень обширная),
 Библиотека сегодня
Библиотека сегодня
, большой "холл", где посетители надевали обязательные халаты, ординаторская, три большие отдельные палаты (бывшие ассистентские квартиры) и квартира директора. Весь 3 этаж был занят палатами - большими общими и маленькими одиночными, меньшего размера. Затем шли перевязочные, комната врачей и операционные - главная очень большая, в которой, вероятно предполагалось устроить аудиторию, но это не осуществилось. На 4 этаже помещались сестры и другой низший персонал.
Всюду царил образцовый порядок, все было выкрашено белой краской и уложено белыми торцами. Этажи были соединены широкими лестницами и лифтом.
 этажи и лестничные пролеты сегодня
этажи и лестничные пролеты сегодня
 Дверь лифтовой шахты сегодня
Дверь лифтовой шахты сегодня
Лестницы соединяли коридоры главного здания с боковым корпусом, в котором помещался гимнастический зал, а над ним очень хорошая, уютная церковь, куда стекались по воскресеньям ходячие больные, а лежачие слушали издали церковную службу через широко раскрытые двери. В обширном институтском здании имелось три подъезда - амбулаторный, он же хозяйственный, врачебный и для посетителей, а также директорский.

 подъезды сегодня
подъезды сегодня
В довольно большом саду было несколько хозяйственных небольших построек, а также особое помещение для "опытных" собак и кроликов и экспериментальная операционная и лаборатория.
Старшим ассистентом состоял русский грек Виктор Викентьевич Дуранте. На нем, в сущности, и держался весь порядок в институте, и им же определялись добрые отношения, царившие среди персонала... все серьезные операции делал Вреден, а Дуранте лишь ассистировал. Работал там и Владимир Александрович Бетехтин... под его непосредственным наблюдением изготовлялись аппараты для наследника, и Бетехтин сам их примеривал, сопровождая Вредена во дворец.
Ортопедический институт в Петербурге был в то время почти единственным и, во всяком случае, наилучшим оборудованным специальным лечебным учреждением, поэтому к нам стекались по всей России. В институте числилось 70 мест, но при желании число кроватей могло быть удвоено (это было во время войны). Большинство больных лежало бесплатно, также бесплатно производились все операции... Всегда было много больных детей".
Опять обращусь к блогу Антона Успенского: "Газета "Русский врач" в год открытия института охарактеризовала его как "новый лечебный дворец", где были уютные палаты, максимум на 4 человека, хорошо оснащенные операционные и лаборатории, великолепные условия для восстановительного лечения. Существовал гимнастический зал с механическими лечебными аппаратами и в подвальном помещении зал водолечения. У истоков создания Ортопедического Института стоял доктор медицины Карл Хорн. По его плану вся свободная территория была превращена в сад. Помимо больничных помещений в здании находились квартира директора и комнаты трех младших ассистентов. В одном из подсобных строений находилась собственная электростанция, построенная специально для лечебницы. Фасады здания выложены глазурованным кирпичом берлинской фабрики Шельдта, который и сегодня в отличном состоянии. Цоколь отделан серым сердобольским гранитом, составляющим легкий контраст декоративным наличникам окон из желтого и зеленого глазурованного кирпича.

 Стеклянный фонарь-эркер на одном из боковых крыльев обозначает место бывшей операционной.
Стеклянный фонарь-эркер на одном из боковых крыльев обозначает место бывшей операционной.
Парадная симметричная лестница ведет на второй этаж, охватывая объем лифтовой шахты.

Стены отделаны высококачественной плиткой, сохранился гардероб с полками для головных уборов и оригинальными чугунными вешалками. Ими пользуются до сих пор, но они находятся под охраной как декоративно-прикладные ценности.

Напольная плитка выпущена знаменитой фирмой «Вилерой и Бох» (Villeroy & Boch), оформившей множество питерских домов и существующей до сих пор.
 В каптерке хранятся исторические жардиньерки, предназначенные для операционной и бюсты Хорна и Вредена. Несмотря на такое незавидное соседство с фаянсом, состояние этих реликвий хорошее. Они дожидаются грядущего ремонта. В интерьере многое неплохо сохранилось, но крыша здания с прогнившими деревянными стропилами - самое слабое его место.
В каптерке хранятся исторические жардиньерки, предназначенные для операционной и бюсты Хорна и Вредена. Несмотря на такое незавидное соседство с фаянсом, состояние этих реликвий хорошее. Они дожидаются грядущего ремонта. В интерьере многое неплохо сохранилось, но крыша здания с прогнившими деревянными стропилами - самое слабое его место.
В советское время в здании размещался ленинградский НИИ травматологии и ортопедии, носивший имя Романа Вредена – основателя оперативной ортопедии. Научная и педагогическая база института помогла появлению и формированию многих именитых специалистов в этой области медицины.
Сегодня здесь находится Северо-Западный филиал Российской академии правосудия, бегают студенты, размещается несколько фирм-арендаторов.
Здание бывшего Ортопедического института – архитектурный образчик эпохи модерн, в котором целостно решен весь комплекс задач – от технологических и функциональных до планировочных и декоративных. Здание имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Своими силами администрация даже понемногу реставрирует мебель, да и про историю здания не забывает - на стене института висит очень подробная информация о здании с фотографиями, откуда я и переснял исторические виды." Вот такую интересную информацию я подчерпнула из блога Алексея Успенского и из воспоминаний в 2-х томах Буксгевден С.К. "Жизнь и трагедия Александры Федоровны".
![]()
Второе благотворительное учреждение Государыни, о котором хочу рассказать в этой главе - это Школа нянь в Царском Селе по адресу: Красносельское шоссе, 9, сейчас здесь располагается школа № 409. Здание было построено в 1904 г. архитектором С.А. Данини. Школа нянь было облицовано цветной радомской плиткой и черепичной крышей. Эркеры, резолиты и ряды больших окон улучшали освещенность комнат и использовались в построени главного фасада с несимметричными боковыми звеньями. Динамичный акцент вносила остроконечная шатровая башня.
 здание школы нянь фото нач. XX века
здание школы нянь фото нач. XX века
Двухэтажное здание школы обращено фасадом и детскими на юг и разделяется на 3 части, из них в средней помещались: классная, лаборатория, бельевая, квартира начальницы. Левое коыло принадлежало приюту: здесь помещались детские с относящимися к ним помещениями (теплая стеклянная веранда, ванная, буфетная, прачечная, комната сестры милосердия, аптека). В правом крыле находились помещения нянь, а также комната для кормилиц. На 3-м этаже-мансарде находился лазарет для детей и нянь. Столовая для нянь, кухня, гладильня, детская молочная, кладовая и помещения для прислуги в особой одноэтажной пристройке. В подвале находились баня, прачечная и центральное отопление. при школе была устроена своя молочная ферма на 6 коров.
Это была образцовая школа - больница. Архитектор Данини смог удовлетворить как санитарным, так и учебным требованиям, показав себя мастером интерьеров. Такое учреждение было новаторским и образцовым по постановке медицинского, учебного и педагогического процессов.
Среди инициатив зодчего заслуживает внимания идея вывода медицинских учреждений из центра города на границы садов и парков. Все медицинские сооружения, созданные по его проектам, окружены клумбами с цветами, полянками, деревьями, которым отведена своя роль в процессе реабилитации больных. Эти приемы нашли свое широкое воплощение в середине XX века.
Устроенная по мысли и на средства Александры Федоровны школа нянь была рассчитана на 50 воспитанниц, а состоящий при ней приют на 50 детей. Директором школы был детский врач, ученик профессора К.А. Раухфуса - Владимир Петрович Герасимович. В число воспитанниц принимались девицы в возрасте не моложе 16 лет, а в исключительных случаях - молодые женщины. Воспитанницы принимались на 2 года (этого достаточно, чтобы обучить их теоретическому и практическому уходу за ребенком дошкольного возраста) на полное содержание и получали от школы одежду и учебные пособия. Годовая плата 360 руб. в год, для лиц неимущих устанавливались бесплатные вакансии и стипендии, преимущественное право на стипендии и бесплатный прием предоставлялись детям воинских чинов, пострадавших на войне.
Воспитание детей - дело сложное и ответственное, требующее специальных знаний и особого призвания. Судьба подрастающего поколения тесным образом связана с безукоризненным проведением ухода и питания в первые годы жизни ребенка. Это учреждение и ставила себе целью идти навстречу этим потребностям. Ввиду серьезности этих задач требования к воспитанницам были высоки. Это должны были быть здоровые, достаточно сильные и крепкие работоспособные девушки не моложе 16 лет, т.к. няни моложе вряд ли могут пользоваться доверием матери. Все воспитанницы разделялись на 2 курса, т.е. ежегодно могли оканчивать 25 нянь. Обучение подразделялось на общее (теоретическое) и специальное. Центр тяжести лежал на последнем, т.е. на практическом обучении. С этой целью при школе был устроен образцовый детский приют, приспособленный для 50 детей, в возрасте от рождения до 7 лет.

Каждая воспитанница имела питомца, за которым и ухаживала 2 года обучения. Теоретический курс имел целью поднять культурный и интеллектуальный уровень воспитанниц, развить в них вкус ко всему хорошему, прекрасному и гармоничному в природе, литературе и жизни. Поэтому в число предметов были включены природоведение, литература, Закон Божий, начала педагогики, рисование и пение. При этом было обращено, чтобы няня научилась направлять пытливый ум ребенка к познанию окружающего мира. Няня должна уметь помочь матери пробудить в ребенке любовь к Богу, обучить его начальным молитвам, любви и пониманию природы. Специальный курс имел целью сделать работу няни сознательной, проникнутый пониманием, а не механикой. Он был разделен на 2 года и заключал в себе следующие предметы: анатомию с физиологией, гигиену, оказание первой помощи в несчастных случаях и детские заболевания.Для развития у воспитанниц любви ко всякому труду помимо ухода за ребенком воспитанницы исполняли все хозяйственные работы по школе, участвуя во всей школьной жизни (шили, мыли окна, топили печи, участвовали в проверке провизии и т.д.).
Ее Величество придавала большое значение Школе нянь в воспитательном смысле. Великие княжны часто посещали эту Школу, где они незаметно обучались приемам по уходу за детьми в самом молодом возрасте. Школа преследовала 2 цели: выпускать хорошо обученных по уходу ха детьми нянь, а также дать приют детям неимущих родителей или сиротам. Директором школы состояла О. А. Павлова (внучка Пушкина). Раухфус был врачом-консультантом и председателем попечительского совета школы. Будучи лейб-педиатором Двора в чине действительного тайного советника, Раухфус общался с императорской семьей и имел возможность лично выдвигать те или иные проекты. Он, несомненно, был главным идеологом этого учреждения. Содержалась школа всецело на собственные средства Императрицы.
Из дневника Николая II (28 мая 1905 г): "...в 2 1/2 поехали на освящение только что выстроенного здания Школы нянь. После молебна осмотрели все помещения сверху донизу. Очень уютно, практично и никакой роскоши. Заведует школой Раухфус, а строил наш архитектор Данини. Присутствовало довольно много дам. Вернулись после 4-х...» .
При большевиках школа была разграблена и упразднена. Во время Второй мировой воны здание было частично разрушено и в последствии перестроено до неузнаваемости, что изменило его неповторимый архитектурный образ. Сейчас это 3 этажное здание барачного типа с расположенной здесь школой № 409.
С 1914 по 1917 год здание школы отдано под госпиталь.
С 1917 по 1941 год школа становится санаторием для детей с ослабленным здоровьем.
1941 -1958 год здание школы было разрушено. 1958 году приступили к восстановлению здания, причем облик здания был полностью изменен.
1960 год Открытие школы. 1 сенября 1960 г. в восстановленном здании открылась общеобразовательная восьмилетняя школа №409.
![]()
3. Павловское шоссе 14. Общество охраны материнства и грудных детей в Царском селе (Приют Дрожжиной)
Рядом с дачей Юсуповой (Павловское шоссе, 12) на местах № 3 и 4, также отведенных в 1855 г., первое время находилась дача поручика лейб-гвардии Царскосельского Стрелкового батальона Франца Девиена. При доме находились надворные службы: конюшня, прачечная,сарай, навозный ящик и отхожее место. Архитектор сводит их под одну крышу.
К моменту постройки здания под охрану материнства и грудных детей владельцем этого участка земли была М.А. Дрожжина. В 1905г. 25 сентября здесь было заложено 2-х этажное каменное здание родильного приюта, находившееся в глубине участка. Живописное здание с мансардным полуэтажом и башенкой расположено было в глубине парка на месте снесенной деревянной дачи. Фасады облицованы светлой керамической плиткой. Арх. Данини обратился к мотивам романской архитектуры. Не отказался архитектор и от излюбленного фахверка во фронтонах.
Приют был образцово оборудован.
8 января 1907 г. «Родильный приют для охраны материнства и грудных детей им. М. А. Дрожжиной» начал принимать рожениц.
 Приют был открыт поспешно, без официальной процедуры утверждения его устава властями. Во главе приюта стоял комитет, членом которого была и Дрожжина. Данини занимался всеми финансовыми и хозяйственными делами, главный врач В. А. Бритнев заведовал медицинской частью. Приют был рассчитан на 25 кроватей и при условии содержания рожениц в течение 9 дней позволял принимать 1000 родов в год. В приют круглосуточно бесплатно принимались бедные и малоимущие жительницы Царского Села и окрестностей. Кроме того, два раза в неделю желающие получали бесплатную консультацию гинеколога и бесплатные лекарства. Персонал приюта состоял из 28 человек, включая четырех акушерок (в Дворцовом госпитале их было только две), часть служащих постоянно проживала в приюте. Одна из палат обслуживалась воспитанни¬цами Школы нянь, проходивших в приюте практику.
Приют был открыт поспешно, без официальной процедуры утверждения его устава властями. Во главе приюта стоял комитет, членом которого была и Дрожжина. Данини занимался всеми финансовыми и хозяйственными делами, главный врач В. А. Бритнев заведовал медицинской частью. Приют был рассчитан на 25 кроватей и при условии содержания рожениц в течение 9 дней позволял принимать 1000 родов в год. В приют круглосуточно бесплатно принимались бедные и малоимущие жительницы Царского Села и окрестностей. Кроме того, два раза в неделю желающие получали бесплатную консультацию гинеколога и бесплатные лекарства. Персонал приюта состоял из 28 человек, включая четырех акушерок (в Дворцовом госпитале их было только две), часть служащих постоянно проживала в приюте. Одна из палат обслуживалась воспитанни¬цами Школы нянь, проходивших в приюте практику.
Родильный дом быстро зарекомендовал себя благодаря образцовой постановке дела и современному оборудованию. Администрации дома пришлось даже требовать при приеме рожениц справки из полиции «о бедности», чтобы иметь возможность отказывать в помощи состоятельным людям.
Здесь была и приютская церковь, устроенная во имя святых покровителей супругов Дрожжиных, была освящена 23 Февраля 1907 г. митрополигом Санкт-Петербургским и Ладожским Антонием (Вадковским) в сослужении с ризничим Александро-Невской Лавры архимандритом Софронием и сонмом местного духовенства.
Помещение церкви, находившееся на втором этаже, прямо под колокольней позволяло вмещать до 300 человек. Снаружи здание было отделано облицовочным кирпичом, а его восточный фасад был увенчан куполом. На звоннице храма находились 5 колоколов (самый большой из которых весил 10 пудов 29,5 фунтов).
До 1941 г. в здании бывшего приюта размещался Детскосельский санаторий для туберкулёзных детей.
С 1945 по 1951 годы в одном из корпусов санатория располагалась городская больница им. Семашко. В 1946 году в г. Пушкин главврачом больницы направляют Рачинского В.Б. С первого дня он возглавляет родильное отделение и одновременно — главный акушер-гинеколог района.
К настоящему времени здание внешне сохранилось (за исключением купола), в помещении церкви находится столовая. Любопытно, что на звоннице до сих пор сохранились деревянные перекладины и скобы для крепления колоколов.
Со стороны Павловского шоссе находится историческая ограда, сооруженная на подпорной стене.
Сейчас в здании располагается стационарный Противотуберкулезный диспансер. (материал об этом здании взят из - http://tsarselo.ru/content/0/yenciklopedija-carsko...sse-14-priyut-drozhzhinoi.html )
Источники -
1. Буксгевден С.К. Жизнь и трагедия Александры Федоровны, Императрицы России: в 2-х томах. - М.: Лепта Книга, Вече, Грифъ, 2012
2. (http://school409.ucoz.ru/) +
3. http://www.tsarselo.ru/content/0/read1881.html#.Uj7wsMCGgp4+
4. http://a-uspensky.livejournal.com/48771.html
5. http://tsarselo.ru/content/0/yenciklopedija-carsko...sse-14-priyut-drozhzhinoi.html
![]()
Серия сообщений "Императрица Александра":
Часть 1 - Александра Федоровна: интересы, вкусы, внешность
Часть 2 - Русская Императрица
Часть 3 - Александра Федоровна и "светское общество"
Часть 4 - Благотворительная деятельность Александры Федоровны
Часть 5 - Благотворительные дома Императорской России сегодня
Часть 6 - Нравственный мир Александры Федоровны - Императрица-друг
Часть 7 - Религиозность Александры Федоровны
Часть 8 - Императрица и Распутин
Часть 9 - Императрица - Мать
|
|
Благотворительная деятельность Александры Федоровны |
Когда Александра Федоровна оказалась в России, то ее удивляло и озадачивала атмосфера  изысканности и неги, в которой прибывала русская аристократия. Дамы высшего света часто не только не могли обойтись без посторонней помощи в самых обиходных ситуациях, но они и не хотели подобной самостоятельности. Что же касается рукоделия, то первые же благотворительные базары сразу показали, что многим представительницам именитых дворянских фамилий было проще заказать вещи для базара в Вене или Париже, чем самим что-нибудь стоящее создать. Что касается Александры Федоровны, то приехав в Россию она не оставила своих давних занятий. Почти каждый день рукодельничала: шила, вышивала, штопала, показав себя профессиональной мастерицей.
изысканности и неги, в которой прибывала русская аристократия. Дамы высшего света часто не только не могли обойтись без посторонней помощи в самых обиходных ситуациях, но они и не хотели подобной самостоятельности. Что же касается рукоделия, то первые же благотворительные базары сразу показали, что многим представительницам именитых дворянских фамилий было проще заказать вещи для базара в Вене или Париже, чем самим что-нибудь стоящее создать. Что касается Александры Федоровны, то приехав в Россию она не оставила своих давних занятий. Почти каждый день рукодельничала: шила, вышивала, штопала, показав себя профессиональной мастерицей.
В России было принято кичиться не только древностью рода, что было характерно и для Англии, но и количеством прислуги, размером и стоимостью своих драгоценностей, чего в Англии Алиса-Александра не наблюдала. Императрицу шокировали случаи, когда порой дамы-патронессы различных благотворительных обществ являлись к своим подопечным — «несчастным больным» и «милым сироткам » — увешанные драгоценностями, в изысканных платьях, сшитых по последней парижской моде, источая аромат тончайших духов, в шляпах со страусиными перьями. Она находила такую демонстрацию роскоши и богатства неуместной и неприличной.
В своих самых первых письмах из России, написанных сразу после замужества, Александра Федоровна сетовала на то, что еще не смогла посетить ни одной больницы, и развивала широкие планы благотворительной деятельности. Когда она прибыла в Россию, все существовавшие там благотворительные учреждения, включая Красный Крест и школы для девочек, находились под патронажем вдовствующей императрицы. Мария Феодоровна также стояла во главе «Учреждения императрицы Марии», названного по имени ее основательницы - жены императора Павла I. Поэтому молодой Императрице было предложено взять на себя заботу о какой-либо новой организации, которая могла бы носить ее имя. Выбор императрицы пал на работные дома для бедных, которые предполагалось распространить по всей стране. Управлять ими должна специальная комиссия, названная «Комиссией помощи в работе».
Именно по предложению императрицы «Комиссия помощи в работе» начала устраивать летом в деревне ясли для малышей. Императрица же поддержала идею ортопедического института для детей. Она подробно писала об этом проекте принцессе Баттенбергской 17 июня 1902 года, подчеркивая, что «в России не существует ничего подобного. Этот проект очень интересует меня». Она испытывала искреннюю радость от того, что учреждение было выстроено и поддерживалось в превосходном порядке.
Александра Феодоровна проявляла большой интерес к подобного рода деятельности. Она была подлинным энтузиастом благотворительности. Ей нравилось придумывать новые схемы и затем воплощать их в жизнь. Она была весьма практична и тщательно продумывала каждую деталь намеченного предприятия. К тому же она отличалась широтой замыслов и вносила во все элемент личного участия. Во время дискуссий она сразу же приступала к сути дела, давая весьма практичные советы, способные значительно улучшить и дополнить первоначальные планы. Все те, кто знал ее с этой стороны, неизменно восхищались глубиной и ясностью ее суждений, а также присущим ей здравым смыслом. Разговаривая о предметах, искренне интересующих ее, государыня теряла всю свою застенчивость и сразу же предлагала своим единомышленникам наиболее простой и удобный способ действий. Особенную заботу вызывало в ней все, что касалось улучшения благосостояния детей. Россия в этом плане представляла широкую сферу деятельности, и императрица старалась провести в жизнь как можно больше замыслов.

 на фотографиях Императрица на благотворительных базарах
на фотографиях Императрица на благотворительных базарах
Еще одной излюбленной идеей императрицы было создание в России школы для нянь и гувернанток. Она писала в Англию, прося выслать ей правила, с помощью, которых можно было бы «потихоньку начать действовать». Это заведение она моделировала по образцу школы для нянь, устроенной женой принцa Кристиана в Лондоне. Невзирая на многочисленные трудности она провела в жизнь и это свое начинание: школа была открыта в Царском Селе в 1905 г. между Гатчинским ш. и Баболовским парком (Красносельское шоссе, 9). Императрица регулярно посещала ее, до самых последних дней планировала улучшения и дополнения. В связи с этими проектами императрица писала принцессе Баттенбергской (17 июня 1902г.) что «все новое — необыкновенно трудно, но и столь же интересно — особенно, когда все берешь под свой контроль. А это единственный способ довести дело до конца». Специальные архитектурные журналы сообщали, что здание Школы строится «в англо-саксонском стиле» или «в стиле английских коттеджей». Об этом заведении также можно прочесть в следующей главе, сейчас же здесь находится школа № 409.

Развивая благотворительную деятельность, Александра Феодоровна боролась не только с инерцией, но и с яростной оппозицией всему новому. Наиболее частым аргументом, выдвигаемым противниками ее начинаний, был тот, что в России всегда возникали проблемы с изысканием средств на подобную частную благотворительность, поэтому в итоге неизбежно приходилось обращаться за помощью к правительству. Когда же государыне удавалось преодолеть все эти препятствия, ей приходилось внимательно следить за тем, чтобы проекты не были положены «под сукно». Порой ей приходилось выдерживать настоящие битвы за возможность реализовать свои планы, и хотя много идей удалось воплотить, часть замыслов так и не продвинулась дальше.
На свою благотворительность Императрица нередко тратила весьма значительные суммы из собственных доходов. Как бы странно это ни звучало, но личные средства царицы были не столь уж велики, и ей часто приходилось сокращать собственные расходы ради возможности поддержать свои заведения. Мало кому известен тот факт, что деньги на содержание школы для нянь шли из кошелька самой императрицы. А во время войны (октябрь 1915 г.) произошло неслыханное событие: в секретариате императрицы новым просителям было сказано, что с деньгами им придется подождать до января 1916 года, поскольку императрица уже раздала свое годовое содержание различного рода благотворительным учреждениям, поддерживающим вдов и сирот. Когда в 1898 году в стране разразился голод, императрица из своих собственных средств отдала 50 000 рублей (около 5 000 фунтов), чтобы хоть как- то облегчить страдания людей в наиболее пострадавших от голода регионах.
Она ясно осознавала необходимость создания профессиональных школ для девочек и выступила с предложением преобразовать так называемые «патриотические школы» в более современные заведения. Но это оказалось ей не под силу: идея вызвала целую волну протестов, и официальные чиновники, ответственные за эти школы, не сочли нужным вносить туда какие-либо изменения. Александра Феодоровна лишь нажила себе врагов среди знатных дам, патронировавших эти школы, которых императрица назвала старомодными и непрактичными. К этой теме еще раз возвращалась, но так и не успела она воплотить это в жизнь.
Под покровительством Александры Федоровны с самого начала оказались родильные приюты и «дома трудолюбия», где призревались, получая профессию, сироты и падшие женщины. Она хотела учредить такие заведения во всех концах России, но не встретила поддержки ни среди сановников, ни среди общества. Не надеясь больше на общественный отклик, Она стала учреждать заведения Собственными усилиями и на Собственные средства.
Так в Царском Селе появилась «Школа нянь», а при ней приют для сирот на 50 кроватей (об этом уже сказано было выше). Там же Она основала и инвалидный дом на 200 человек, предназначенный для солдат-инвалидов. Кроме того, в Петербурге была учреждена Школа народного искусства, куда принимались девушки со всей России и где они обучались ремесленным искусствам. Заинтересованное участие принимала Императрица в делах туберкулезных больных. Несколько санаториев в Крыму появилось благодаря усилиям Александры Федоровны. В своей преданности милосердному служению. Александра Федоровна доходила до неслыханного. Она вместе с Дочерьми посещала туберкулезных больных, причем совершенно бесстрашно подходила и разговаривала с теми, у кого была самая тяжелая форма туберкулеза. У некоторых придворных такая смелость вызвала полуобморочное состояние...
Всю свою жизнь Она лично посещала больных, привозила лекарства, фрукты, цветы, но главное — доброе слово Царицы. Об этом мало кто знал и, как вспоминала А.А. Вырубова, «Государыня запрещала мне говорить об этом». Милосердное служение Царицы публику занимало мало, а точнее сказать, не интересовало вовсе. Вот кого Она приняла, как приняла, кому улыбнулась, кому протянула руку, какое выражение было у Нее на лице — подобные темы были первоочередными в мире светских новостей.
Уже в первый год своей русской жизни Александра Федоровна загорелась мыслью устроить большой благотворительный базар, чтобы собрать средства на нужды богоугодных заведений. Заведующий ее канцелярией, граф Н.А. Ламздорф (1860—1906), которого Она хорошо знала еще по Германии, где тот несколько лет возглавлял российскую миссию в Вюртемберге, посоветовал провести мероприятие в самом центре столице, в Эрмитаже. Александре Федоровне идея понравилась. Она сказала о том Ники, и тот сразу же одобрил. Начались приготовления.
Однако у многих в столице новость вызвала явное недовольство. Возмущались торговцы: их обошли, пригласили организовать торговлю какого-то пастора-англичанина, начавшего выписывать массу товаров из-за границы. Недовольны были великосветские дамы — патронессы различных благотворительных организаций: их не нашли нужным привлечь. Чины полиции и дворцового ведомства тоже сетовали: такое мероприятие будет проведено рядом с царскими покоями в Зимнем дворце, туда бесконтрольно привозят массу нераспечатанных ящиков, а вдруг в них спрятана бомба!
Конечно, никто открыто не высказывался, но за кулисами много шушукались и осуждали, осуждали, осуждали. К началу декабря 1895 года, когда открылся сам базар, столичная публика уже была соответственно настроена. Народу в залах собралось множество; все горели желанием не столько принять участие в судьбе «бедных сироток» (хотя и покупок много делалось, но большей частью по мелочи), сколько поглазеть на царский выход. Это было одно из редких за тот год появлений Венценосцев перед своими подданными. Впечатления столичной элиты отразил в своем дневнике граф В.Н. Ламздорф.
«Появившись вчера на базаре, Их Величества, видимо, произвели не очень благоприятное впечатление. Они, как рассказывают, имели боязливый вид; особенно застенчиво держала себя молодая Государыня; правда, Она вошла в зал величественно, но потом ограничилась поклонами, которые были слишком подчеркнутыми и слишком частыми; не произнесла при этом почти ни единого слова. Присутствующие заметили нервные взгляды, которые Ее Величество бросала на потолок. Имелась целая тысяча других признаков того, что Она чувствовала себя далеко не свободно. Руку Она протягивала с некоторой напряженностью; поскольку Она высокого роста, рука оказывалась прямо у губ тех дам, которых ей представляли, и Она лишь предоставляла им поцеловать руку. То немногое, что Государыня говорила, выглядело жеманно; Она оказалась менее красивой, чем на портретах, где Ее лицо изображается овальным, в то время как оно скорее квадратное». Столичный высший свет вынес свой очередной беспощадный вердикт.
Одна из наиболее ярких страниц в истории российской благотворительности — благотворительные базары. Обычно они проводились как светские праздники, на которых по высоким ценам продавались изделия, выполненные различными обществами или просто частными лицами, которые хотели помочь бедным, сиротам и бездомным.
 на фото Императрица во время посещения одного из благотворительных базаров
на фото Императрица во время посещения одного из благотворительных базаров
Особое внимание российского общества было обращено на борьбу с туберкулезом. По указу Императора Николая II в С.-Петербурге в 1910 г. была образована Всероссийская лига для борьбы с туберкулезом. Годовщину ее основания было решено ознаменовать устройством народного Туберкулезного дня. Эта идея принадлежит Императрице Александре Федоровне. Проводили его очень широко, по всей стране. В Петербурге он получил название Дня Белого Цветка и первый раз был устроен 20 апреля 1911 г. День Белого цветка вызвал такой отклик среди населения, что стал проводиться не менее четырех раз в год. Цветы были разные, каждый символизировал какую-то одну проблему. Букеты из белых ромашек раздавали вдень борьбы с чахоткой, букетики из колосьев ржи — при сборе впользу голодающих крестьян, люди, которые покупали розовые Цветы, помогали сиротам.
Вот как описывает его в своих воспоминаниях Н.В. Саблин: «Императрица организовала 4 больших базара в пользу туберкулезных в 1911, 1912, 1913 и 1914 гг. во время пребывания Царской Семьи на отдыхе в Крыму. Перед началом акции в районные комитеты развозили заготовленные букеты из искусственных ромашек, листовки и памятные жетоны. Курсистки — слушательницы Высших женских курсов и Женского медицинского института забирали букеты и расходились по городу. Цветы они укладывали в небольшие бело-желтые корзины. Ленты и заколки продавщиц тоже должны были быть ярких тонов. Лучше всего сборы шли на трамвайных остановках.
Такие базары принесли массу денег. Императрица сама работала, рисовала и вышивала для базара и, несмотря на свое некрепкое здоровье, весь день стояла у киоска, окруженная огромной толпой народа. На базар публика проходила через красиво оформленную арку. Все утопало в цветах, были разбиты газоны, установлены фонтаны и киоски. Царский павильон изнутри был декорирован лиловой материей. Николай II, граф Фредерикс приветствовали всех участников базара. Александра Федоровна с Алексеем в Царском павильоне, а Великие княжны в другом павильоне, продавали изделия собственной работы, альбомы, открытки, фотографии, парфюмерию. Все были одеты во все белое. На базаре-празднике играли 2 оркестра и балалаечники. Весь сбор 24532 рубля.
Организаторы особенно подчеркивали то, что ценен каждый пятачок. Прейскуранта на букеты не было — каждый давал сколько может, и за копейку, и за рубль полагался одинаковый букет. Жертвователям, дававшим 5 руб. и более, вручали памятный значок. Отчет о собранных средствах и их использовании печатался в газетах. В 1911 г. День Белого Цветка прошел по всей России.
В 1912 г. в Дне Белого Цветка участвовали и царские дети. Хорошо известна фотография: Августейшие дети в Итальянском дворике белого Ливадийского дворца позируют фотографу фон Ганну «перед тем, как отправиться по улицам Ливадийского имения и дальше шли в город собирать средства на борьбу с чахоткой, как называли тогда туберкулез. Многие служащие и жители Ливадии рады были получить маленькую ромашку из рук Великих Княжон, особенно, от Цесаревича Алексея.
 Царские дети на празднике Белого Цветка 1913 г.
Царские дети на празднике Белого Цветка 1913 г.
 на празднике Белого Цветка в 1912 г.
на празднике Белого Цветка в 1912 г.
 на празднике Белого Цветка в 1912 г.
на празднике Белого Цветка в 1912 г.
По просьбе и поддержки Императрицы в Петербурге был создан гос. ортопедический институт. Еще в 1894 г. при Максимилиановской лечебнице работало ортопедическое отделение, руководимое известным специалистом К.Х. Хорном, у которого была своя частная клиника на Фонтанке. Посетив ее в янв. 1901 г. Александра Федоровна и предложила создать государственный ортопедический институт. Он согласился и подал записку с проектом, состоящего из больницы на 100 коек, приюта для 50 калек и протезной мастерской. Заведение не только бы объединило бы "стационарную и амбулаторную клинику, но и служило бы образцом для учреждения и развития других подобных заведений". В нем предусматривалось также и подготовка врачей-ортопедов. В этот институт в числе первых пациентов попали пострадавшие при покушении 12 августа 1906 г. на П.А. Столыпина, тогда на его даче на Аптекарском острове взрывом бомбы революционеры убили 30 и ранили 60 человек.
3-х этажное здание заложили 21 сентября 1902г. по проекту придворного архитектора Р.Ф. Мельцера. Оно строилось в тенистом парке на средства самой Императрицы (истрачено было ок. 1 млн. руб.) и под ее контролем. Сейчас это здание сохранилось и его можно увидеть в глубине Александровского парка у м. Горьковская в С-Петербурге (рядом у Петропавловской крепости). Подробно об этом здании и других сохранившихся благотворительных заведениях Александры Федоровны можно прочитать в следующей главе.
Кроме всего перечисленного Царицей-мученицей было основано еще одно благотворительное заведение – «Общество охраны материнства и грудных детей в Царском селе. Учреждено в 1912 г. С целью оказания в пределах г. Царское Село материальной и медицинской помощи неимущим женщинам во время беременности, родов и всего периода кормления ребенка. Мысль организации общества, определение цели и его круга деятельности принадлежали Александре Федоровне. Руководил обществом известный врач, профессор Николай Васильевич Ястребов. По мысли Государыни был составлен и «временный» устав. Он назван был так, чтобы изменять его сообразно с выясняющимися обстоятельствами жизни, так как Общество это являлось первым в России, захватывающим для забот весь период материнства, а потому должно было само вырабатывать порядок своей деятельности,не имея прецедента.
В деятельность Общества входило: устраивать врачебные консультации для беременных и кормящих женщин, а также для детей. Устраивались здесь ясли и дневные приюты для детей до семи лет, с тем чтобы рабочие женщины, оставив там спокойно могли работать; выдача беднейшим матерям приданного для ребенка и необходимых для ухода за ребенком предметов, а в исключительных случаях — пособия вещами и деньгами пока женщина не найдет себе рабочее место. Также помогали приданным и деньгами бедным девушкам г. Царское Село, чтобы они не уклонялись от вступления в законный брак и от материнства, и многое другое входило в деятельность этого общества.
Первым делом общества было реорганизация родильного приюта в Царском Селе. Был осуществлен ремонт здания, заменено старое оборудование и дополнен медицинский персонал. Каждая палата теперь имела собственный вход из коридора, устроены изоляционные палаты и лазарет. Было также выделено помещение для консультаций для матерей и детей, для кипячения молока, его стерилизации и хранения, устроена столовая, квартиры для врачей, акушерок и других служащих были приведены в порядок. Приют имел 25 кроватей. Приют находился в г. Царское Село – Павловское ш., д. 14. Это учреждение являлось первым в России частным родильным приютом.
Использованная литература - 1. Буксгевден С.К. Жизнь и трагедия Александры Федоровны, Императрицы России: в 2-х томах. - М.: Лепта Книга, Вече, Грифъ, 2012
2. Боханов А.Н. "Святая царица". - М.: Вече, 2006.- 304с., илл.
3. Буксгевден С.К. Венценосная мученица. - М.: Русский Хронографъ, 2010. - 526с.

Серия сообщений "Императрица Александра":
Часть 1 - Александра Федоровна: интересы, вкусы, внешность
Часть 2 - Русская Императрица
Часть 3 - Александра Федоровна и "светское общество"
Часть 4 - Благотворительная деятельность Александры Федоровны
Часть 5 - Благотворительные дома Императорской России сегодня
Часть 6 - Нравственный мир Александры Федоровны - Императрица-друг
Часть 7 - Религиозность Александры Федоровны
Часть 8 - Императрица и Распутин
Часть 9 - Императрица - Мать
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 1 пользователю
Александра Федоровна и "светское общество" |
Александре Федоровне было суждено прибыть в столицу Империи в тени погребального катафалка. Она думала, что у нее будет достаточно времени, чтобы подготовиться к переезду в Россию, но судьба распорядилась иначе. Сразу же она была обязана начать играть публичную общественную роль, ту партию, которая Ей всегда была не по душе. У нее не было никакой возможности сразу же адаптироваться к неожиданным условиям своего бытия, которое так было не похоже на все другие исторические примеры.
Она уже имела представления о русской истории и знала, что такого еще не случалось. Ее полная тезка, супруга Императора Николая I Александра Федоровна (1798—1860), прежде чем стать Императрицей в 1825 году, 8 лет была Цесаревной. Бабушка Николая II - Императрица Мария Александровна (1824—1880) 14 лет являлась женой наследника Престола. Да и Ее свекровь Императрица Мария Федоровна почти 15 лет пребывала в качестве Цесаревны. За такой срок можно многое и многих узнать и понять. У нее же совсем иное испытание: Она будет выходить замуж не за Великого князя, Наследника Престола, а за Царя!!! И сразу же должна стать первостепенной общественной фигурой, которой ничего не прощают и ничего не забывают.
Да и не была она для многих желанной. С первого дня "каждое лыко" ставили «в строку». Амбициозный Министр финансов С.Ю. Витте (1849—1915), увидев Ее первый раз, нашел, что она красива, но успел разглядеть «нечто сердитое в складке губ». Генеральша Александра Викторовна Богданович, наслушавшись разговоров сановников, записала в дневнике: «Новую Царицу не хвалят, находят, что у Нее злое выражение лица и смотрит Она исподлобья». А известная «жрица декаданса», поэтесса и эссеистка Николаевна Гиппиус (1869—1945) уже в эмиграции заключила «Царица никому не нравилась и тогда, давно, когда была невестой Наследника. Не нравилось Ее острое лицо, красивое, но злое и унылое, с тонкими, поджатыми губами, не нравилась немецкая угловатая рослость». Не те складки губ, не то выражение лица, не те очертания фигуры, не та манера разговора...
Недостатки» зафиксированы в большом количестве мемуаров и дневников современников.  Этот какой-то оголтелый критический эстетизм невольно поднимает вопросы, которые у «гидов по лабиринтам русской истории», как правило, никогда не возникают. А какая у нее должна быть фигура, какая должна была быть манера, какие надо было иметь "складки", чтобы вызвать симпатию? Можно смело сказать: таковых никогда бы не удалось отыскать. Поэтому уместно речь вести не об облике Императрицы, а о психопаталогической природе самих представителей русского "общества".
Этот какой-то оголтелый критический эстетизм невольно поднимает вопросы, которые у «гидов по лабиринтам русской истории», как правило, никогда не возникают. А какая у нее должна быть фигура, какая должна была быть манера, какие надо было иметь "складки", чтобы вызвать симпатию? Можно смело сказать: таковых никогда бы не удалось отыскать. Поэтому уместно речь вести не об облике Императрицы, а о психопаталогической природе самих представителей русского "общества".
Приблизительно об этом же писал в своих воспоминаниях учитель царских детей Пьер Жильяр: "Задача, выпавшая на долю молодой Царицы, была не из легких. Ей нужно было привыкнуть к своему положению Императрицы, и притом в обстановке самого пышного европейского двора, наиболее подверженного интригам и проискам различных кружков. Она привыкла к скромной жизни в Дармштадте и испытала на себе строгий церемониал английского двора. Понятно, что она должна была чувствовать себя неподготовленной к своим новым обязанностям, и ее должна была смущать внезапная и резкая перемена образа жизни. Чувство ответственности и горячее желание посвятить всю себя служению на благо великого народа, Царицей которого она внезапно стала, возбуждали в ней пыл и в то же время пробуждали в ней неуверенность.
Она мечтала, однако, лишь о том, чтобы найти доступ к сердцам своих поданных. Но она не умела им это выказать, и ее врожденная застенчивость губила ее благие намерения. Она очень скоро почувствовала, что бессильна заставить понять и оценить себя. Ее непосредственная натура быстро натолкнулась на холодную условность обстановки двора. Ее начинания были не нужны в атмосфере косности (у нее было горячее желание улучшить судьбу женщин из простонародья, создавая больницы, родильные приюты; она хотела основать профессиональные школы и т.д.). В ответ на свое доверие она ожидала найти искреннюю и разумную готовность посвятить себя делу, настоящее доброе желание, а вместо того встречала пустую, безличную придворную предупредительность.
Несмотря на все усилия она не научилась банальной любезности и искусству затрагивать все предметы слегка, с чисто внешней благосклонностью. Дело в том, что Императрица была прежде всего искренней, и каждое ее слово было лишь выражением ее внутреннего чувства. Видя себя непонятой, она не замедлила замкнуться в себе. Ее природная гордость была уязвлена. Она все более и более уклонялась от празднеств и приемов, которые были для нее нестерпимым бременем. Она вела себя сдержанно и отчужденно, но Двор эти свойства принимал за надменность и презрение. Но те, кто приближался к ней в минуты страдания, понимали сколько чуткости и потребности самоотвержения скрывалось за этой видимой холодностью".
В период царствования Николая II сановно-придворный мир уже насколько «раскрепостился», настолько «эмансипировался», что Царя и Царицу многие воспринимали как людей «из публики». Времена благовейно-трепетного отношения к Царским Особам канули в Лету. К Венценосцам сплошь и рядом предъявляли претензии обывательского толка, забыв и не желая вспоминать, что Они вознесены на Богоустроенное место.
Тезисы о «не тех царях» популяризировали не только фигуранты типа Гиппиус, Витте и прочих подобных «очевидцев», не говоря уже о разношерстной компании историков-фальшивомонетчиков. Самое удивительное, что негативно тенденциозные измышления распространяли некоторые царские родственники еще при Их жизни, а некоторые не постеснялись оглашать непристойности и после Их гибели.
Внук Николая I Великий князь Александр Михайлович (1866—1933) написал в эмиграции мемуары, наполненные не только инсинуациями против своего двоюродного племянника Николая II и Александры Федоровны, но и злобными выпадами против Православия. Он заявлял, что учение Православной Церкви «лицемерно», что оно якобы порождало «антисемитизм» и «ксенофобию». В своем кощунственном самодовольстве Александр Михайлович отбросил все допустимые нормы и возводил прямую хулу на одного из величайших святых — Преподобного Серафима Саровского. Внук Царя уже не чувствовал и не понимал, что такое святость. А потому, не стесняясь, говорил о своем «отвращении» к Нему.
Уж если Великий князь в данном случае дошел до подобного предела низости, то надо ли удивляться, что он писал только гадости про Венценосную чету. Здесь невольно встает органический вопрос-объяснение, касающийся существа революционной катастрофы 1917 года. Каким образом русская Монархия могла исторически выстоять, если многовековые основы властиустроения, и главная среди них — духовная осененность Власти в глазах монархического истеблишмента, ничего уже не значили? Александр Михайлович — частный, но показательный пример.
Александра Федоровна, с детства испытав и многократно пережив одиночество и нелюбовь окружающих, встретив подобное отношение в России, отнеслась к нему с чувством смиренного безразличия. В декабре 1916 года признавалась Супругу: «Когда я была молода, Я ужасно страдала от неправды, которую так часто говорили обо Мне (о, как часто!), но теперь мирские дела не затрагивают Меня глубоко».
Почти до самого конца не стремилась ничего изменить. Hезадолго до отречения Николая II однажды в сердцах с горечью заметила: «В глазах России Я всегда неправа». Очень тонко эту трагическую коллизию передал в своих воспоминаниях Сидней Гиббс: «Я думаю, Ей не доставало чувства "театральности", присущего русской натуре; кажется, что русские скорее играют в жизнь, а не живут. Императрице, выросшей под попечительством своей бабки, Королевы Виктории, это было чуждо. Неудивительно, что такая фундаментальная разница между Нею и людьми при Дворе и была основой того отчуждения, которое отмечают почти все те, писал о Ней».
Лили Ден: "Даже в 1907 г., всего 2 года после окончания русско-японской войны, было не до веселья, поскольку еще многие семьи носили траур по погибшим, поэтому те лица, которые искали увеселений при Дворе, были разочарованы. Государыня придерживалась того мнения, что война еще слишком свежа в памяти всех, чтобы предаваться развлечениям. Она была совершенно искренна, но ее взгляды не встретили сочувствия в светских кругах. Светская чернь, враждебно настроенная против Государыни, заявляла, будто Императрица Всероссийская принадлежит обществу, а не себе самой. И обязанность ее в том, чтобы исполнять роль великолепного носового украшения на увеселительном корабле: война, дескать, позади, а свету нужны все новые и новые удовольствия и пустые забавы.
Петроградское общество состояло из отдельных партий; каждый великокняжеский двор имел свою собственную клику. Особенно падким на удовольствия, пожалуй, был двор Великой княгини Марии Павловны, супруги Великого князя Владимира Александровича. Великие князья в большинстве своем жили веселой жизнью. Как правило они обладали красивой внешностью - совсем как герои романов. Многие из них были большими поклонниками Императорского балета, а также танцовщиц из этого балета.
Когда в 1907 г. Петроградская жизнь, как полагали была скучна, люди не отказывали себе в дорогостоящих удовольствиях. По воскресеньям ходили смотреть балет, а по субботам - во Французском театре - очень модное место встречи влюбленных, где чересчур глубокие декольте дам сочетались с изобилием ювелирных изделий. После спектакля было принято отправляться в ресторан Кюба или в "Медведь", где слух ужинающих услаждали музыканты великолепного румынского оркестра. Никто не думал уходить из ресторана раньше 3 часов утра".
от себя: Царская семья была далека от "тусовочных" посиделок, особенно императрица, для которой главным в жизни оставалась ее семья - муж и дети. Поэтому те ожидания салонных встреч, балов при Дворе в те тяжелые времена для страны светская чернь не встретила, а той среде нужны были бурные эмоции, слухи, сплетни и веселье. В большей степени это исходило от того, что им нечем было себя занять, было много свободного времени, а хотелось чего-то нового, а новое они получали от сплетен из салонов, потому что своя жизнь была пуста и скучна. Поэтому и требовали от Императорского Двора праздников. Поэтому нравственная чистота Императрицы и была встречена в штыки. Праздность жизни, зависть к Императорскому Двору, честолюбие правящего класса и привело к такому концу.
"Выполняя многочисленные церемониально-династические обязанности, Государыня смотрела на окружающий придворно-аристократический мир с холодным отчуждением, прекрасно сознавая фальш и враждебность его. Эти качества Александра Федоровна распознала очень быстро. Уже вскоре после замужества Царица писала немецкой приятельнице, фрейлине сестры Ирэны Прусской баронессе Рантцау: «Я чувствую, что все, кто окружает Моего мужа: неискренни и никто не исполняет своего долга ради долга и ради России. Все служат Ему из-за карьеры и личной выгоды, и Я мучаюсь и плачу целыми днями, так как чувствую, что Мой Муж очень молод и неопытен, чем все пользуются этим. Сестра Елизавета не раз пыталась убедить Александру Федоровну, что надо уметь «очаровывать». В 1898 году она Ее наставляла «Твоя улыбка, слово — и все будут Тебя обожать... Улыбайся, улыбайся, пока у Тебя губы не заболят, и помни, что все, покидая твой дом, уйдут с приятным впечатлением и не забудут твою улыбку. Ты такая красивая, величественная и милая. Тебе так легко понравиться всем. Вспомни добрые улыбки тети Алисы и Минни. Пусть твою улыбку тоже все знают Весь мир говорит о твоей красоте, твоем уме, а сейчас пусть заговорят о твоем сердце, которое так нужно России и которое так легко угадать в твоих глазах."
Однако Александра Федоровна была слишком искренней и цельной натурой, все формы лицедейства, фальши были органически противны ее душе. Она владела даром любви, умела быть преданной, сердечной и нежной, но она никогда не умела (да и не хотела уметь) изображать, "играть чувства". Все показное для нее мало что значило.
Молодая Императрица со своим мужем сразу же после панихид и венчания разместились в Аничковом дворце, так началась семейная и монаршая жизнь Александры Федоровны. Занимали шесть комнат на первом этаже, где раньше жил Николай Александрович с братом Георгием. И Он, и Она понимали, что Марии Федоровне будет нелегко пережить одиночество, и первые месяцы Супруги оставались с ней под одной крышей.
Вдовствующая Императрица Мария Федоровна считала нормальным положение, при котором повелитель Империи жил с Женой не в своем доме (Дворец принадлежал Марии Федоровне), подчиняясь расписанию, составленному матерью. Как вспоминала позже сестра Николая II Великая княгиня Ольга Александровна, «под крышей Аничкова дворца находился как "старый двор", так и "новый двор". Положение было действительно неестественным ».
Однако Император так чтил мать, что готов был терпеть неудобства. Александра же Федоровна беспрекословно принимала все, что дорого Мужу, и никаких претензий не предъявляла, хотя в столичном обществе начали циркулировать слухи о «вражде» двух императриц. На самом же деле Царица Александра ни словесно, ни письменно, ни в узком кругу и уж тем более на публике ни единожды не позволила Себе как-то задеть свекровь. Письма, адресованные «дорогой» и «любимой Матушке», подписывала как «любящая дочь». Это были не пустые выражения. Брат Императрицы Эрнст-Людвиг позже написал: «С самого начала многие родственники, особенно Михень, были настроены против нее. Они называли ее «cette raede anglaise» (чопорная англичанка)... Императрица Мария была типичной свекровью и Императрицей. Алике, с Ее серьезным и твердым поведением, была нелегкой Невесткой для такой честолюбивой свекрови». Молодая Императрица чувствовала себя здесь квартиранткой.
Ники был целыми днями занят;  Ему надо было постигать сложнейшую механику государственного управления. Александре Федоровне надо было осваивать нравы и вживаться в сложный светский и придворный мир Петербурга. Она должна была научиться «играть по правилам», которые были изобретены совсем не для Нее. Самая большая сложность — взаимоотношения с Императрицей Марией Федоровной, главным образом с ее двором. С первых шагов отношения не стали складываться, и вины в том Александры Федоровны не было.
Ему надо было постигать сложнейшую механику государственного управления. Александре Федоровне надо было осваивать нравы и вживаться в сложный светский и придворный мир Петербурга. Она должна была научиться «играть по правилам», которые были изобретены совсем не для Нее. Самая большая сложность — взаимоотношения с Императрицей Марией Федоровной, главным образом с ее двором. С первых шагов отношения не стали складываться, и вины в том Александры Федоровны не было.
Она была тиха и смиренна, старалась ни в чем не перечить свекрови. Мария Федоровна постепенно стала возвращаться в столь знакомый и дорогой для нее придворный мир. Теперь уже не было Александра III, «ее Саши», которого она любила многие годы беззаветно и который заполнял всю ее жизнь. Он ушел, а она осталась на этой, как говорила, «грустной земле». Но грустить не давали, Придворные и сановники все время к ней обращались, взывали, умоляли: помочь, посодействовать, принять меры, проявить милость. И она мало-помалу начала выходить из своей траурной отрешенности. Во имя покойного она должна помогать дорогому Ники.
Мария Федоровна в какой-то момент вдруг решила, что обязана заниматься государственными делами, хотя за почти 14-летнее время правления Александра III она к ним не имела касательства, да и никогда ими не интересовалась. Теперь же ей показалось, что она может себя проявить там, куда категорически не допускал покойный супруг. Ники был слишком деликатен. Он не мог и не хотел обижать Своим невниманием дорогую Мама, а потому с ней советовался о некоторых кадровых назначениях. Другие темы с ней не обсуждал.
Нo и этого было достаточно, чтобы плодились слухи о том, что теперь в России чуть ли не правит Мария Федоровна. Приближенные вдовствующей Императрицы эти слухи и порождали, и муссировали. К чести Марии Федоровны надо сказать, что на политическую роль она никогда не претендовала, хотя наиболее ретивые клеветники все время старались подталкивать именно в этом направлении.
Придворный мир и придворная политика — вот вотчина, вот призвание старой Императрицы. Она чувствовала себя здесь уверенно и властно. Император оставил за ней все придворные прерогативы: и весь придворный штат, полагаемые супруге Императора. Она сохранила все привилегии на коронные драгоценности, право назначения фрейлин и служащих придворного ведомства, заведование ведомством Императрицы Марии (крупнейшим благотворительным учреждением в России), как и Красным Крестом. Расписанием жизни Двора составлялось в первую очередь исходя из ее желаний.
Молодая Императрица и по закону и по традиции получила Собственный Двор, но распоряжалась здесь Мария Федоровна. Она не только «подбирала» штат служащих и фрейлин, но даже заказывала для Невестки по своему вкусу туалеты, которые Ей совсем не нравились. Александра Федоровна все это сносила молча, без возражений.
Великая княгиня Ольга Александровна, которой тогда исполнилось лишь 12 лет, навсегда запомнила недоброжелательное отношение к Александре Федоровне, которым была пропитана атмосфера Аничкова дворца. «Чтобы Алике ни делала, — вспоминала Княгиня через многие годы, — все, по мнению двора Мама, было не так, как должно быть. Однажды у Нее была ужасная головная боль; придя на обед, Она была бледна. И тут же я услышала как сплетницы стали утверждать, будто Она не в духе из-за того, что мама разговаривала с Ники по поводу назначения каких-то Министров. В период Ее пребывания в Аничковом дворце — я это помню, — стоило Алике улыбнуться, как злюки заявляли, что Она насмешничает. Если у Нее был серьезный вид, говорили, что Она сердится».
Если принять во внимание, что многие «злюки» принадлежали к родовитым фамилиям, имевшим огромный вес в высшем обществе, то нетрудно понять, насколько быстро весь петербургский бомонд был «надежно информирован». Императрица Мария Федоровна не имела душевного расположения к Алисе-Александре ни в раннюю пору Ее жизни, ни потом, когда она стала Супругой Сына Николая. Нет, она никак это не демонстрировала; она для этого была слишком воспитанной и деликатной. Но она любила обсуждать события чужой жизни, любила узнавать «мнение света». И здесь таилась западня, в которой в конце концов и оказалось ее мировоззрение. Она почти сплошь слышала о Невестке сведения скептического свойства.
Постепенно, когда мера этого негатива превысила все пределы, Мария Федоровна стала относиться к молодой Императрице явно критически и уже не стеснялась делать выпады по Ее адресу в присутствии разных лиц. Александра же Федоровна никогда подобного не позволяла по отношению ни к каким, даже самым нелюбимым родственникам, не говоря уже о свекрови. Когда умер Александр III, то Ее так потрясло горе Марии Федоровны, что Она молила Бога, чтобы Императрица признала Ее за дочь. В конечном итоге подобного не случилось, но Александра Федоровна в том повинна не была.
Не может не поражать степень негативного восприятия Александры Федоровны, проявившаяся буквально с первых дней пребывания в России. Не только уважения к Царскому Сану не наблюдалось; многие люди не готовы были проявлять к Ней обычного человеческого участия и снисхождения. Она оказывалась «вино¬ватой» даже в ситуациях, которые не Ею режиссировались. Недоразумения начались с самого начала. Первые назначения фрейлин к новой Императрице состоялись в день свадьбы, 14 ноября. Но Александра Федоровна смогла их принять лишь 19 ноября. Из этого тут же была раздута целая история. Как Она могла так Себя вести? Она пренебрегает Своими обязанностями, «фраппирует» общество и дискредитирует представительниц благородных семейств! А у Александры Федоровны даже помещения Своего не было, где бы Она могла устроить прием! Надо было просить дозволения у вдовствующей Императрицы и ждать ее решения.
С обстоятельствами никто считаться не хотел. Дядя Царя Великий князь Владимир Александрович и его супруга Мария Павловна обсуждали и осуждали этот «нонсенс» даже на обеде у австрийского посла в Петербурге графа А. Волькенштейна! Эта великокняжеская чета уже в те дни «не любила» новую Царицу! Как написал позже весьма сведущий в придворной жизни генерал А.А. Мосолов (1854—1939), «Великая княгиня Мария Павловна, женщина умная и властолюбивая, пожелала стать наперсницею и опекуншею Государыни, но сразу получила холодный и решительный отпор, благодаря чему и стала неприязненно относиться к Императрице. Таким образом, Царица имела против себя Двор вдовствующей Государыни и могущественный двор Марии Павловны, к которому примыкало все петербургское общество".

Желающим постичь русскую историю периода заката Монархии необходимо ясно понимать, что многократно повторенное утверждение не есть показатель правдивости. Мнение толпы, суждения многих не являются индикатором достоверности. История бесчисленное количество раз доказала, что правда часто на стороне единиц, а не на стороне массы. Это особенно верно там, где начинается мир высоких духовных ценностей Христианства. Истинных Угодников Божиих всегда на земле были единицы, и почти всегда Им приходилось идти против привычных общественных настроений, приходилось нести человечеству Свет Христов наперекор мнениям и суждениям обычных людей. Потому Их так часто не понимали, не хотели слушать, шельмовали, преследовали и убивали. Они своим словом, личным примером Богопреданности не давали омертветь человеческой душе, беспокоили человеческую совесть, мешая людям комфортно устроиться на земле без Бога. Потому-то жизнь Святых Подвижников неизбежно сопровождали хула и клевета.
материал из - Боханов А.Н. "Святая царица". - М.: Вече, 2006.- 304с., илл. + Ю.А. Ден "Подлинная царица". - М.:Вече, 2009. - 304 с.

Серия сообщений "Императрица Александра":
Часть 1 - Александра Федоровна: интересы, вкусы, внешность
Часть 2 - Русская Императрица
Часть 3 - Александра Федоровна и "светское общество"
Часть 4 - Благотворительная деятельность Александры Федоровны
Часть 5 - Благотворительные дома Императорской России сегодня
...
Часть 7 - Религиозность Александры Федоровны
Часть 8 - Императрица и Распутин
Часть 9 - Императрица - Мать
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Благодарность!!!!!!!!!!!! |
От всей души благодарю Ladusia2407, за выраженную симпатию!!!!! Спасибо за то, что Вы заинтересовались моей страничкой:) Пусть каждый день приносит Вам удачу, пусть окружают Вас только верные друзья!!!! Счастья Вам и радости!!!!!

|
|
Русская Императрица |
от себя: "Многие ставили в упрек, что Александра Федоровна не та Императрица, все она делала не так, и вообще была не "русская" Царица, была "чужой среди своих". Эта глава дает опровержение таким стереотипным взглядам на последнюю русскую Государыню. Может быть когда-то исчезнет бесследно эта бесконечная клевета на нее и на последнего Императора. Глава составлена из выдержек цитат книги Боханова А.Н. "Святая царица". "
-----------------------
«Матушка Императрица» — традиционное обыденное титулование корононосительницы отражало исконные народные представления. Они возникли задолго до того, как Петр I в 1721 году провозгласил Россию Империей. Раньше этот православный народный титул звучал несколько иначе «Матушка Царица». Но и до Петра и после неизменно сохранялось иное обращение и обозначение: «Государыня».
Брак с Россией — больше чем просто должность или обязанность. Он у Александры Федоровны одухотворялся великим чувством любви, которая у Нее никогда не имела никаких изъятий. Мера его — беспредельная полнота. По-другому Она — Жена, Мать, Царица — любить не умела. Чувство это не изменялось даже в самые тяжелые периоды жизни. Когда была уже на краю мира сего, в заточении и унижении, но любовь к России оставалась чистой и высокой.
С исчерпывающей полнотой выразила это в одном из писем в декабре 1917 года. «Как Я счастлива, что Мы не за границей, а с ней (Россией) все переживаем. Как хочется с любимым, больным человеком все разделить, вместе пережить и с любовью и волнением за ним следить, так и с Родиной. Чувствовала слишком долго Ее матерью, чтобы потерять это чувство — мы одно составляем и делим горе и счастье. Больно Нам она сделала, обидела, оклеветала и т.д., но Мы ее любим все-таки глубоко и хотим видеть ее выздоровление, как больного ребенка с плохими, но и хорошими качествами, так и Родину родную».
Когда летом 1914 года началась мировая война, то Александра Федоровна поступила так, как только и могла поступить: пошла служить России, которая вступила в период тяжелых испытаний. Она без устали занималась организацией лазаретов и санитарных поездов. Все придворные автомобили и экипажи были отданы на перевозку раненых. Цветы из царских оранжерей, изделия придворных поваров и кондитеров — все отправлялось раненым. Как-то заявила Царица лейб-медику Е.С. Боткину (1865—1918), пока идет война, она ни себе, ни дочерям "не сошьет ни одного нового платья, кроме форм сестры милосердия". Она умела держать данное слово.
Примечательный случай произошел в октябре 1914 г. Уже шла война, старшие Дочери работали сестрами милосердия в госпитале, куда почти ежедневно поступали раненые с фронта. Вид этих несчастных, разговоры о зверствах врага зажигали душу огнем праведной ненависти. И Татьяна Николаевна не сдержалась и позволила Себе гневный монолог о «зверях-немцах». А рядом стояла Мать, родом из немецкого Дармштадта! Когда Татьяна поняла, что могла задеть чувства любимого человека, то Ей сделалось невыносимо горько на душе. Немедленно написала письмо - покаяние «ангелу Маме».
Уже шла война, старшие Дочери работали сестрами милосердия в госпитале, куда почти ежедневно поступали раненые с фронта. Вид этих несчастных, разговоры о зверствах врага зажигали душу огнем праведной ненависти. И Татьяна Николаевна не сдержалась и позволила Себе гневный монолог о «зверях-немцах». А рядом стояла Мать, родом из немецкого Дармштадта! Когда Татьяна поняла, что могла задеть чувства любимого человека, то Ей сделалось невыносимо горько на душе. Немедленно написала письмо - покаяние «ангелу Маме».
«Пожалуйста, прости Меня, дорогая Мама если когда-нибудь невольно Я обидела Тебя, сказав что-нибудь о Твоей прежней родине, но, в самом деле, если я действительно что-то говорю, не подумав, что могу Тебя задеть, потому что, когда Я думаю о Тебе, Я представляю, что Ты наш ангел, дорогая Мама, что Ты, и всегда забываю, что это не всегда было так, что у Тебя была другая родина, прежде чем Ты приехала сюда, к Папе».
Конечно, Александра Федоровна не держала никакой обиды. Она сама ненавидела и презирала кайзера Вильгельма и его бесчеловечное воинство. Но от «первой родины» не отрекалась. В ответном письме заметила: «Я абсолютно понимаю чувства всех русских и не могу одобрять действия наших врагов. Они слишком ужасны, и потому их жестокое поведение так Меня ранит, а также то, что Я должна выслушивать. Как ты говоришь, Я вполне русская, но не могу забыть Мою старую родину».
Она совершенно определенно и не раз о том говорила. После начала Мировой войны на волне антигерманской истерии многие подданные Царя, носившие германофонные фамилии, решили не искушать судьбу и принять русские фамилии. Когда по этому поводу за советом к Ней обратился полковник В.Э. Шуленбург, то Царица произнесла слова, которые могли бы стать эпиграфом к любому сочинению о русских и русскости. «Разве фамилия заставляет любить или не любить свое Отечество, быть верным своей Родине и своему Государю? Дело не в фамилии, а в том, как относишься к своим обязанностям по отношению к Родине. На то, что говорят злые люди, обращать внимание не стоит. Вы слыхали: Меня обвиняли, что Я англичанка, теперь — Я им немка. Но Там... — Царица показала рукой наверх... — Там знают, кто Я. А это главное. Моя совесть спокойна. Я — русская. Я — православная».
Однако чувство грусти не проходило, когда Она думала о том, что безумные самомнение и амбиции Кайзера Вильгельма привели к тому, что Ей пришлось прекратить всякое Общение со своими дорогими родственниками, оставшимися в Германии, теперь «по ту сторону фронта». Как призналась Царица в начале войны полковнику Лейб-гвардии Уланского Ее Величества полка шталмейстеру Высочайшего Двора Ф.В. Винбергу (1861—1927): «Я не хочу теперь о Себе думать; личные Мои чувства отстраняю от Себя. Но подумайте, в каком трудном положении Я нахожусь относительно Моих близких родных в Германии. Мой брат, Великий герцог Гессенский, посылает против нас свои войска. Муж Моей сестры, Принцессы Ирэны, Принц Генрих, стоит во главе действующего против нас флота». Она прервала с сестрой и братом общение, что стоило Ей немалых моральных мук.
Невзирая на все бестолковости
За несколько месяцев до гибели написала Вырубовой из Тобольска: «Какая Я старая стала, но чувствую себя матерью этой страны и страдаю, как за своего ребенка, и люблю Мою Родину, несмотря на все ужасы теперь и все согрешения. Ты знаешь, что нельзя вырвать любовь из Моего сердца и Россию тоже, несмотря на черную неблагодарность к Государю, которая разрывает Мое сердце, — но ведь это не вся страна. Болезнь, после которой она окрепнет. Господь, смилуйся и спаси Россию!»
Александра Федоровна была русской патриоткой. В этом чувстве не было никакого высокомерия или нелюбви к другим народам и культурам. Она была русской, потому что была православной. Именно Православие испокон веков открывало людям путь в Русский Дом, смысл существования и историческое предназначение которого вне Православия, помимо Православия понять и ощутить невозможно. Царица же была здесь своя, став истинно русской не по «составу крови», а именно органически, по духу.
Замечательно точно об этом написала Лили Ден:«Государыня была более русской, чем большинство русских, и в большей степени православной, чем большинство православных». Госпожа Ден могла это ответственно утверждать. Она не только любила Александру Федоровну, но она достаточно хорошо знала Ее. Уже в заточении в Тобольске Александра Федоровна сказала доктору Е.С. Боткину: «Я лучше буду поломойкой, но Я буду в России». Эта фраза отразила всю глубину той меры любви, которую испытывала Царица по отношению к стране, ставшей для Нее навсегда родной.
В Записных книжках Александры Федоровны за 1915 год
«Истинная патриотическая любовь к Родине не бывает мелочной. Она великодушна. Это не слепое обожание, но ясное видение всех недостатков страны. Такая любовь не озабочена тем, как ее будут восхвалять, а больше думает о том, как помочь ей выполнить ее высшее предназначение. Любовь к Родине по силе своей близка любви к Богу. Любовь к своей Отчизне сочетает в себе преданную сыновнюю любовь и всеобъемлющую любовь отцовскую, часто трудную, и эта любовь не исключает любви к другим странам и всему человечеству. Во всех видах любви, которые выше простых инстинктов, есть что-то таинственное, и это же можно сказать о патриотизме. Патриот видит в своей стране больше, чем видят другие, Он видит, какой она может стать, и в то же время он знает, что много в ней остается такого, что увидеть невозможно, так как это является частью величия нации. Хотя и видимы ее поля и города, eе высшее величие и главные святыни, как и все духовное, — это сфера невидимого».
Государыня, безусловно, искренно и сильно любила Россию, совершенно также, как любил ее и Государь. Так же, как Государь, смотрела она и на русский народ: хороший, простой, добрый народ. Это не были слова. Это было глубокое убеждение, проявлявшиеся у нее и на деле. Уже будучи арестованной в Царском Селе, Государыня, бывало выйдет гулять в парк. Ей расстелят коврик, она присядет на него, и сейчас же вокруг собираются солдаты охраны, подсаживаются к ней, и начинаются разговоры. Государыня разговаривала с ними и улыбалась; разговаривала без принуждения себя, и никто не разу не слышал, чтобы кто-либо из солдат осмелился бы ее обидеть во время таких бесед. В Тобольске многие из хороших солдат перед увольнением приходили к ней и к Государю прощаться, и она обыкновенно благославляла их образками.
Битнер рассказывает, что однажды у нее с Государыней произошел сильный спор, вызванный несходством оценки побуждений, делавших простого русского человека беспринципным и безжалостным красноармейцем. Государыня, увидя из окна пришедший из Омска какой-то отряд красноармейцев, сказала: "Вот, говорят, они нехорошие". Они хорошие." Битнер стала ей возражать, доказывая, что многого она не видит и о многом ей не рассказывали, скрывая от нее. В результате горячего спора обе женщины расплакались. У Битнер разболелась голова, и она не смогла прийти вечером в этот день к Царской Семье. Государыня прислала к ней камердинера, звала ее и написала письмо, прося Битнер не сердиться на нее. "В этом случае, - говорит Битнер, - она, по-моему, вылилась вся, какая она была".
Окружавшие удивлялись силе ее ненависти к Германии и Вильгельму. Всегда сдержанная и владевшая собой, она не могла касаться этого предмета разговора без сильного волнения и злобы. Когда она говорила про революцию, еще тогда, когда не было никаких большевиков, она с полным убеждением предсказывала, что такая судьба постигнет и Германию. Мысль ее при этом была определенная: революция в России - это не без влияния Германии, но за это поплатится сама тем же, что она сделала и с Россией.
"Меня считали немкой, - говорила она. - Если бы знали, как я ненавижу Германию и Вильгельма за то зло, которое они сделали для моей Родине".
Никто от нее никогда не слышал слова, сказанного на немецком языке. Она говорила хорошо по-русски, пользовалась французским и чаще английским языком. Дети же даже плохо владели немецким языком, и нелюбовь матери к Германии и Вильгельму всецело передалась и детям, которые выказывали ее даже в мелочах. Так, подарки, полученные ими однажды от Вильгельма, они раздали прислуге.
материал из - 1.Боханов А.Н. "Святая царица". - М.: Вече, 2006.- 304с., илл.
2. Дитерихс М.К. "Убийство Царской Семьи".- М.: Вече, 2007. - 512с.

Серия сообщений "Императрица Александра":
Часть 1 - Александра Федоровна: интересы, вкусы, внешность
Часть 2 - Русская Императрица
Часть 3 - Александра Федоровна и "светское общество"
Часть 4 - Благотворительная деятельность Александры Федоровны
...
Часть 7 - Религиозность Александры Федоровны
Часть 8 - Императрица и Распутин
Часть 9 - Императрица - Мать
|
|
Процитировано 1 раз
БЛАГОДАРНОСТЬ !!!!! |

|
|
Оболганный царь. Факты и цифры. |
источник из блога http://patriotka.livejournal.com/tag/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20II
Ни для кого уже не секрет, что история России искажена. В особой степени это касается великих людей нашей страны. Которых представляют нам в образе тиранов, сумасшедших или безвольных людей. Одним из самых оболганных правителей является Николай II.
Однако, если взглянуть на цифры мы убедимся, что многое из того, что нам известно о последнем царе - ложь.
В 1894 году, в начале царствования Императора Николая II, в России насчитывалось 122 миллиона жителей. 20 лет спустя, накануне 1-ой Мировой войны, народонаселение её увеличилось более чем на 50 миллионов; таким образом, в Царской России народонаселение возрастало на 2.400.000 в год. Если бы не случилось революции в 1917 г., к 1959 году её население должно было бы достигнуть 275.000.000.
В отличие от современных демократий, Императорская Россия строила свою политику не только на бездефицитных бюджетах, но и на принципе значительного накопления золотого запаса. Несмотря на это, государственные доходы с 1.410.000.000 рублей в 1897 году, без малейшего увеличения налогового бремени неуклонно росли, тогда как расходы государства оставались более или менее на одном и том же уровне.
За последние 10 лет до Первой Мировой войны превышение государственных доходов над расходами выразилось в сумме 2.400.000.000 рублей. Эта цифра представляется тем более внушительной, что в царствование Императора Николая II были понижены железнодорожные тарифы и отменены выкупные платежи за земли, отошедшие в 1861 году к крестьянам от их бывших помещиков, а в 1914 году, с началом войны, и все виды питейных налогов.
В царствование Императора Николая II, законом 1896 года, в России была введена золотая валюта, причём Государственному Банку было предоставлено выпускать 300.000.000 рублей кредитными билетами не обеспеченными золотым запасам. Но правительство не только никогда не воспользовалось этим правом, но, наоборот, обеспечило бумажное обращение золотой наличностью более, чем на 100%, а именно: к концу июля 1914 года кредитных билетов было в обращении на сумму 1.633.000.000 рублей, тогда как золотой запас в России равнялся 1.604.000.000 рублей, а в заграничных банках 141.000.000 рублей.
Устойчивость денежного обращения была такова, что даже во время русско-японской войны, сопровождавшейся повсеместными революционными беспорядками внутри страны, размен кредитных билетов на золото не был приостановлен.
В России налоги, до первой мировой войны, были самыми низкими во всём свете.
Бремя прямых налогов в России было почти в четыре раза меньше, чем во Франции, более чем в 4 раза меньше, чем в Германии и в 8,5 раз меньше, чем в Англии. Бремя же косвенных налогов в России было в среднем вдвое меньше, чем в Австрии, Франции, Германии и Англии.
Общая сумма налогов на одного жителя в России была более чем вдвое меньше, нежели в Австрии, Франции и Германии и более, чем в четыре раза меньше, чем в Англии.
В период между 1890 и 1913 гг. русская промышленность учетверила свою производительность. Её доход не только почти сравнялся с поступлениями, получавшимися от земледелия, но товары покрывали почти 4/5 внутреннего спроса на мануфактурные изделия.
За последнее четырёхлетие до 1-ой Мировой войны количество вновь учреждавшихся акционерных обществ возросло на 132%, а вложенный в них капитал почти учетверился.
В 1914 году в Государственной Сберегательной Кассе было вкладов на 2.236.000.000 рублей.
Сумма вкладов и собственных капиталов в мелких кредитных учреждениях (на кооперативных началах) составляла в 1894 году около 70.000.000 рублей; в 1913 году — около 620.000.000 рублей (увеличение на 800%), а к 1 января 1917 года — 1.200.000.000 руб.
Накануне революции русское земледелие было в полном расцвете. В течение двух десятилетий, предшествовавших войне 1914-18 гг., сбор урожая хлебов удвоился. В 1913 г. в России урожай главных злаков был на 1/3 выше такового же Аргентины, Канады и Соед. Штатов вместе взятых.
В царствование Императора Николая II Россия была главной кормилицей Западной Европы.
Россия поставляла 50% мирового ввоза яиц.
В этот же период времени потребление сахара на каждого жителя повысилось с 4 до 9 кг. в год.
Накануне 1-й Мировой войны Россия производила 80% мировой добычи льна.
Благодаря большим работам по орошению в Туркестане, предпринятым ещё в царствование Императора Александра III, урожай хлопка в 1913 г. покрывал все годичные потребности русской текстильной промышленности. Последняя удвоила своё производство между 1894 и 1911 гг.
Сеть железных дорог в России покрывала 74.000 вёрст (одна верста равняется 1,067 км), из которых Великий Сибирский Путь (8.000 вёрст) был самым длинным в мире.
В 1916 г., т.е. в самый разгар войны, было построено более 2.000 вёрст железных дорог, которые соединили Северный Ледовитый Океан (порт Романовск) с центром России.
В Царской России в период с 1880 по 1917 гг., т.е. за 37 лет, было построено 58.251 км. За 38 лет советской власти, т.е. к концу 1956 г., было построено всего лишь 36.250 км. дорог.
Накануне войны 1914-18 гг. чистый доход государственных железных дорог покрывал 83% годичных процентов и амортизации государственного долга. Иными словами, выплачивание долгов как внутренних так и внешних, было обеспечено в пропорции более чем на 4/5 одними доходами, которые получало русское государство от эксплуатации своих железных дорог.
Надо добавить, что русские железные дороги, по сравнению с другими, для пассажиров были самыми дешёвыми и самыми комфортабельными в мире.
Промышленное развитие в Российской Империи естественно сопровождалось значительным увеличением количества фабрично-заводских рабочих, экономическое благосостояние которых, равно как и охрана их жизни и здоровья, составляли предмет особых забот Императорского правительства.
Необходимо отметить, что именно в Императорской России, и при том в XVIII веке, в царствование Императрицы Екатерины II (1762-1796), в первый раз во всём мире, были изданы законы касательно условий труда: был запрещён труд женщин и детей, на заводах был установлен 10-часовой рабочий день и т.д. Характерно, что кодекс Императрицы Екатерины, регулировавший детский и женский труд, отпечатанный на французском и латинском языках, был запрещён для обнародования во Франции и Англии, как «крамольный”.
В царствование Императора Николая II, до созыва 1-ой Государственной Думы, были изданы специальные законы для обеспечения безопасности рабочих в горно-заводской промышленности, на железных дорогах и в предприятиях, особо опасных для жизни и здоровья рабочих.
Детский труд до 12-летнего возраста был запрещён, а несовершеннолетние и лица женского пола не могли быть нанимаемы на фабричную работу между 9-ю часами вечера и 5-ю часами утра.
Размер штрафных вычетов не мог превышать одной трети заработной платы, причём каждый штраф должен был быть утверждаем фабричным инспектором. Штрафные деньги поступали в особый фонд, предназначенный для удовлетворения нужд самих рабочих.
В 1882 году специальный закон урегулировал работу детей от 12 до 15 лет. В 1903 году были введены рабочие старосты, избиравшиеся фабрично-заводскими рабочими соответствующих цехов. Существование рабочих союзов было признано законом в 1906 году.
По тому времени Императорское социальное законодательство было несомненно самым прогрессивным в мире. Это заставило Тафта, тогдашнего Президента Соед. Штатов, за два года до 1-ой Мировой войны публично заявить, в присутствии нескольких русских высокопоставленных лиц: «Ваш Император создал такое совершенное рабочее законодательство, каким ни одно демократическое государство похвастаться не может».
В царствование Императора Николая II народное образование достигло необыкновенного развития. Менее чем в 20 лет кредиты, ассигнованные Министерству Народного Просвещения, с 25,2 мил. рублей возрасли до 161,2 мил. Сюда не входили бюджеты школ, черпавших свои кредиты из других источников (школы военные, технические), или содержавшиеся местными органами самоуправления (земствами, городами), кредиты которых на народное образование возрасли с 70.000.000 р. в 1894 г. до 300.000.000 р. в 1913 г.
В начале 1913 г. общий бюджет народного просвещенияв России достиг по тому времени колоссальной цифры, а именно 1/2 миллиарда рублей золотом.
Первоначальное обучение было бесплатное по закону, а с 1908 г. оно сделалось обязательным. С этого года ежегодно открывалось около 10.000 школ. В 1913 г. число их превысило 130.000.
По количеству женщин, обучавшихся в высших учебных заведениях, Россия занимала в ХХ веке первое место в Европе, если не во всём мире.
Время царствования Николая II явилось периодом самых высоких в истории России темпов экономического роста. За 1880-1910 г.г. темпы роста продукции российской промышленности превышали 9% в год. По этому показателю Россия вышла на первое место в мире, опередив даже стремительно развивающиеся Соединенные Штаты Америки (хотя нужно отметить, что по данному вопросу разные экономисты дают разные оценки, одни ставят на первое место Российскую Империю, другие - США, но то, что темпы роста были сопоставимы - бесспорный факт). По производству главнейших сельскохозяйственных культур Россия вышла на 1 место в мире, выращивая более половины производимой в мире ржи, более четверти пшеницы, овса и ячменя, более трети картофеля. Россия стала главным экспортером сельхозпродукции, первой "житницей Европы". На ее долю приходилось 2/5 всего мирового экспорта крестьянской продукции.
Успехи в сельхозяйственном производстве явились результатом исторических событий: отмены крепостного права в 1861 году Александром II и Столыпинской земельной реформы в годы правления Николая II, в результате которой в руках крестьян оказалось более 80% пахотных земель, а в азиатской части - почти вся. Площадь же помещьичих земель неуклонно сокращалась. Дарование крестьянам права свободно распоряжаться своею землей и упразднение общин имело огромное государственное значение, пользу которого, в первую очередь, сознавали сами крестьяне.
Самодержавная форма правления не препятствовала экономическому прогрессу России. По манифесту 17 октября 1905 г. население России получило право на неприкосновенность личности, свободу слова, печати, собраний, союзов. В стране росли политические партии, издавались тысячи периодических изданий. Свободным волеизъявлением был избран Парламент - Государственная Дума. Россия становилась правовым государством - судебная власть была практически отделена от исполнительной.
Быстрое развитие уровня промышленного и сельскохозяйственного производства и положительный торговый баланс позволили России иметь устойчивую золотую конвертируемую валюту. Император придавал большое значение развитию железных дорог. Еще в юности он участвовал в закладке знаменитой Сибирской дороги.
В годы правления Николая II в России было создано самое лучшее по тем временам рабочее законодательство, обеспечивающее нормирование рабочего времени, выбор рабочих старост, вознаграждение при несчастных случаях на производстве, обязательное страхование рабочих от болезней, по инвалидности и старости. Император активно содействовал развитию русской культуры, искусства, науки, реформам армии и флота.
Все эти достижения экономического и социального развития России являются итогом естественного исторического процесса развития России и объективно связаны с 300-летием правления Дома Романовых.
Французский экономист Тери писал: «Ни один из европейских народов не достигал подобных результатов».
Миф о том, что рабочие жили очень бедно.
1. Рабочие.Средняя зарплата рабочего по России составляля 37.5 рублей.Умножим эту сумму на на 1282,29 (отношение курса царского рубля к современному) и получим сумму в 48085 тысяч рублей на современный пересчет.
2. Дворник 18 рублей или 23081 р. на современные деньги
3. Подпоручик (современный аналог - лейтенант) 70 р. или 89 760 р. на современные деньги
4. Городовой (рядовой сотрудник полиции) 20, 5 р. или 26 287 р. на современные деньги
5. Рабочие (Петербург).Интересно что средняя зарплата в Петербурге была меньше и составляла к 1914 году 22 рубля 53 копейки. Умножим эту сумму на 1282,29 и получим 28890 российских рублей.
6.Кухарка 5 - 8 р. или 6.5.-10 тысяч на современные деньги
7. Учитель начальной школы 25 р. или 32050 р. на современные деньги
8. Учитель гимназии 85 р. или 108970 р. на современные деньги
9.. Старший дворник 40 р. или 51 297 р. на современные деньги
10..Околоточный надзиратель ( современный аналог -участковый) 50 р. или 64 115 на современные деньги
11.Фельдшер 40 р. или 51280 р.
12.Полковник 325 р. или 416 744 р. на современные деньги
13.Коллежский асессор (чиновник среднего класса) 62 р. или 79 502 р. на современные деньги
14. Тайный советник (чиновник высшего класса) 500 или 641 145 на современные деньги. Столько же получал армейский генерал
А сколько, спросите вы, тогда стоили продукты? Фунт мяса в 1914 стоил 19 копеек. Русский фунт весил 0,40951241 грамма . Значит, килограмм, будь он тогда мерой веса, стоил бы 46,39 копеек – 0,359 грамма золота, то есть, в нынешних деньгах, 551 рубль 14 копеек. Таким образом, рабочий мог купить на свое жалование 48,6 килограмма мяса, если бы, конечно, захотел.
Мука пшеничная 0,08 р. (8 копеек) = 1 фунт (0,4 кг)
Рис фунт 0,12 р.= 1 фунт (0,4 кг)
Бисквит 0,60 р.= 1 фунт (0,4 кг)
Молоко 0,08 р.= 1 бутылка
Томаты 0,22 р. = 1 фунт
Рыба (судак) 0,25 р. = 1 фунт
Виноград (кишмиш) 0,16 р.= 1 фунт
Яблоки 0,03 р. = 1 фунт
Весьма достойная жизнь!!!
Отсюда и возможность содержать многодетную семью!!!!!!!!!!
Теперь давайте посмотрим, сколько стоило снять жильё. Аренда жилья стоила в Питере 25, а в Москве и Киеве 20 копеек за квадратный аршин в месяц. Эти 20 копеек сегодня составляют 256 рублей, а квадратный аршин – 0,5058 м². То есть, месячная аренда одного квадратного метра стоила в 1914 году 506 сегодняшних рублей. Квартиру в сто квадратных аршин наш канцелярист снимал бы в Питере за 25 рублей в месяц. Но он такую квартиру не снимал, а довольствовался подвальной и чердачной каморкой, где площадь была поменьше, а арендная ставка – пониже. Такую квартиру снимали, как правило, титулярные советники, получавшие оклад на уровне армейского капитана. Голый оклад титулярного советника составлял 105 рублей в месяц (134 тысяч 640 рублей) в месяц. Таким образом, 50-метровая квартира обходилась ему менее чем в четверть жалования.
Миф о слабости характера царя.
Президент Франции Лубэ говорил: «Обычно видят в императоре Николае II человека доброго, великодушного, но слабого. Это глубокая ошибка. Он имеет всегда задолго продуманные планы, осуществления которых медленно достигает. Под видимой робостью царь имеет сильную душу и мужественное сердце, непоколебимо верное. Он знает, куда идет и чего хочет».
Царское служение требовало силы характера, которой Николай II обладал. Во время Священного Коронования на Российский Престол 27 мая 1895 года Митрополит Московский Сергий в своем обращении к Государю сказал: «Как нет выше, так нет и труднее на земле царской власти, нет бремени тяжелее царского служения. Чрез помазание видимое да подастся тебе невидимая сила свыше, действующая к возвышению твоих царских доблестей…»
Целый ряд аргументов, опровергающих этот миф, приводит в упомянутой выше работе А. Елисеев.
Так, в частности, С. Ольденбург писал, что у Государя была железная рука, многих только обманывает надетая на ней бархатная перчатка.
Наличие твердой воли у Николая II блестяще подтверждают события августа 1915 года, когда он взвалил на себя обязанности Верховного главнокомандующего – против желания военной верхушки, Совета министров и всего «общественного мнения». И, надо сказать блестяще с этими обязанностями справился.
Император много сделал для подъема обороноспособности страны, усвоив тяжелые уроки русско-японской войны. Пожалуй, самым значимым его деянием было возрождение русского флота, которое спасло страну в начале Первой мировой войны. Оно произошло против воли военных чиновников. Император даже вынужден был отправить в отставку великого князя Алексея Александровича. Военный историк Г. Некрасов пишет: «Необходимо отметить, что, несмотря на свое подавляющее превосходство в силах на Балтийском море, германский флот не предпринял никаких попыток прорваться в Финский залив, с тем чтобы одним ударом поставить Россию на колени. Теоретически это было возможно, так как в Петербурге была сосредоточена большая часть военной промышленности России. Но на пути германского флота стоял готовый к борьбе Балтийский флот, с готовыми минными позициями. Цена прорыва для германского флота становилась недопустимо дорогой. Таким образом, уже только тем, что он добился воссоздания флота, император Николай II спас Россию от скорого поражения. Этого не следует забывать!»
Особо отметим, что Государь принимал абсолютно все важные решения, способствующие победоносным действиям, именно сам – без влияния каких-либо «добрых гениев». Совершенно необоснованно мнение, согласно которому русской армией руководил Алексеев, а Царь находился на посту Главкома ради проформы. Это ложное мнение опровергается телеграммами самого Алексеева. Например, в одной из них на просьбу прислать боеприпасы и вооружение Алексеев отвечает: «Без Высочайшего соизволения решить этот вопрос не могу».
Миф о том, что Россия была тюрьмой народов.
Россия была семьей народов благодаря взвешенной и продуманной политике Государя. Русский царь-батюшка считался монархом всех народов и племен, живших на территории Российской империи.
Он проводил национальную политику на основе уважения к традиционным религиям – историческим субъектам государственного строительства России. И это не только Православие, но и Ислам. Так, в частности, муллы были на содержании Российской империи и получали зарплату. Многие мусульмане воевали за Россию.
Русский царь чтил подвиг всех народов, служивших Отечеству. Вот текст телеграммы, которая служит тому ярким подтверждением:
ТЕЛЕГРАММА
от 25 августа 1916 года Генерал-губернатору Терской области господину Фрейшеру
Как горная лавина обрушился ингушский полк на Германскую железную дивизию. Он немедленно поддержан чеченским полком.
В истории русского Отечества, в том числе и нашего Преображенского полка, не было случая атаки конницей вражеской части тяжелой артиллерии.
4,5 тыс убитыми, 3,5 тыс взятых в плен, 2,5 тыс раненых. Менее чем за 1,5 часа перестала существовать железная дивизия, с которой соприкасаться боялись лучшие воинские части наших союзников, в том числе в русской армии.
Передайте от моего имени, от имени царского двора и от имени русской армии братский сердечный привет отцам, матерям, братьям, сестрам и невестам этих храбрых орлов Кавказа, положившим своим бессмертным подвигом начало конца германским ордам.
Никогда не забудет этого подвига Россия. Честь им и хвала!
С братским приветом Николай II.
Миф о том, что Россия при царе потерпела поражение в Первой мировой войне.
С.С. Ольденбург в своей книге «Царствование Императора Николая II», писал: «Самым трудным и самым забытым подвигом Императора Николая II было то, что он при невероятно тяжелых условиях довел Россию до порога победы: его противники не дали ей переступить через этот порог».
Генерал Н. А. Лохвицкий писал: «…Девять лет понадобилось Петру Великому, чтобы Нарвских побежденных обратить в Полтавских победителей.
Последний Верховный Главнокомандующий Императорской Армии – Император Николай II сделал ту же великую работу за полтора года. Но работа его была оценена и врагами, и между Государем и его Армией и победой «стала революция».
А. Елисеев приводит следующие факты. Военные таланты Государя были в полной мере раскрыты на посту Верховного главнокомандующего. Уже самые первые решения нового главкома привели к существенному улучшению положения на фронте. Так, он организовал проведение Вильно-Молодечненской операции (3 сентября – 2 октября 1915 года). Государь сумел остановить крупное наступление немцев, в результате которого был захвачен город Борисов. Им была издана своевременная директива, предписывающая прекратить панику и отступление. В результате был остановлен натиск 10-й германской армии, которая была вынуждена отойти – местами совершенно беспорядочно. 26-й Могилевский пехотный полк подполковника Петрова (всего 8 офицеров и 359 штыков) пробрался к немцам в тыл и в ходе внезапной атаки захватил 16 орудий. Всего русские сумели захватить 2000 пленных, 39 орудий и 45 пулеметов. «Но самое главное, – отмечает историк П. В. Мультатули, – войскам снова вернулась уверенность в способности бить немцев».
Россия определенно стала выигрывать войну. После неудач 1915 года наступил триумфальный 1916-й – год Брусиловского прорыва. В ходе боев на Юго-Западном фронте противник потерял убитыми, ранеными и попавшими в плен полтора миллиона человек. Австро-Венгрия оказалась на пороге разгрома.
Именно Государь оказал поддержку Брусиловскому плану наступления, с которым были не согласны многие военачальники. Так, план начальника штаба Верховного главнокомандующего М. В. Алексеева предусматривал мощный удар по противнику силами всех фронтов, за исключением фронта Брусилова.
Последний считал, что и его фронт тоже вполне способен к наступлению, с чем были несогласны другие командующие фронтов. Однако Николай II решительно поддержал Брусилова, и без этой поддержки знаменитый прорыв был бы попросту невозможен.
Историк А. Зайончковский писал, что русская армия достигла «по своей численности и по техническому снабжению ее всем необходимым наибольшего за всю войну развития». Неприятелю противостояли более двухсот боеспособных дивизий. Россия готовилась раздавить врага. В январе 1917 года 12-я русская армия начала наступление с Рижского плацдарма и застала врасплох 10-ю германскую армию, которая попала в катастрофическое положение.
Начштаба германской армии генерал Людендорф, которого никак нельзя заподозрить в симпатиях к Николаю II, так писал о положении Германии 1916 года и о возрастании военной мощи России:
«Россия расширяет военные формирования. Предпринятая ею реорганизация дает большой прирост сил. В своих дивизиях она оставила только по 12 батальонов, а в батареях только по 6 орудий и из освобожденных таким образом батальонов и орудий формировала новые боевые единицы.
Бои 1916 года на Восточном фронте показали усиление военного снаряжения русских, увеличилось число огнестрельных припасов. Россия перевела часть своих заводов в Донецкий бассейн, чрезвычайно подняв их производительность.
Мы понимали, что численное и техническое превосходство русских в 1917 году будет нами ощущаться еще острее, чем в 1916.
Наше положение было чрезвычайно тяжело и выхода из него почти не было. О собственном наступлении нечего было и думать – все резервы были необходимы для обороны. Наше поражение казалось неминуемым… тяжело было с продовольствием. Тыл также тяжко пострадал.
Перспективы на будущее были чрезвычайно мрачны».
Более того, как пишет Ольденбург, по инициативе Великого Князя Николая Михайловича еще летом 1916 года была учреждена комиссия по подготовке будущей мирной конференции, дабы заранее определить, каковы будут пожелания России. Россия должна была получить Константинополь и проливы, а также Турецкую Армению.
Польша должна была воссоединиться в личной унии с Россией. Государь заявил (в конце декабря) гр. Велепольскому, что свободную Польшу он мыслит как государство с отдельной конституцией, отдельными палатами и собственной армией (по-видимому, имелось в виду нечто вроде положения Царства Польского при Александре I).
Восточная Галиция, Северная Буковина и Карпатская Русь подлежали включению в состав России. Намечалось создание чехословацкого королевства; на русской территории уже формировались полки из пленных чехов и словаков.
Б. Бразоль «Царствование Императора Николая II в цифрах и фактах»
http://www.imperiya.by/theory5-7469.html

Серия сообщений "Достижения России в период правления Николая II":
Часть 1 - Результаты правления Николая II (статистика Д.И. Менделеева и других)
Часть 2 - Великий реформатор (итоги реформ Николая II)
Часть 3 - Успехи России, которую мы потеряли
Часть 4 - Мифы о Николае II
Часть 5 - Оболганный царь. Факты и цифры.
|
|