-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Статистика
Записей: 872
Комментариев: 1385
Написано: 2521
С тобою вечный день рожденья… |

Когда-то у меня было такое стихотворение:
Жизнь коротка, не ухватиться
за край, когда идёшь ко дну.
Не взвыть, как зверь, не взмыть, как птица,
не кануть рыбой в глубину.
Но знаю истину одну:
с тобою вечный День Рожденья,
и Рождество, и Новый год.
Спасенье ты моё, везенье
и исцеленье от невзгод.
С тобою нет плохих погод.

Прошли годы. Это 25-е апреля — день рождения Давида — я впервые отмечала без него. Мне говорили, что мёртвым отмечать дни рождения не принято, только день памяти. Ну а для меня он живой. И день памяти для меня каждый день. И день рождения его теперь — вечный…

ненаглядный мой
На дне рождения, на самом дне,
когда покинут все, кто были с нами,
нередко остаёмся мы одне
наедине с несбывшимися снами.
Идём, куда не зная, налегке,
и, получив за жизнь привычно неуд,
глазами что-то ищем вдалеке,
закинув в небо свой дырявый невод.
И там, витая в голубом ничто,
утратив всё, чего ты так алкала,
вдруг понимаешь: истина - не то,
что плещет на поверхности бокала.
На расстоянье зорче нам видней.
Любовь ценней в конце, а не в начале,
как всё, что затаилось в глубине,
на дне рожденья счастья и печали.
И там, с тобой одним наедине,
плести свой день из небыли и были
и постигать, что истина на дне,
на дне того, что мы взахлёб любили.

мы с Давидом на диване
Теперь с этой стены на меня смотрят его портреты.


Пусть озаряют облака твой путь лишь.
Пройдут года, века, а ты — пребудешь.
Пусть бури-штили захлебнутся в трансе,
а ты, мой Штирлиц, навсегда останься.
А ты, мой милый, будь везде и всюду.
Я буду здесь, я буду верить чуду,
что даже смерть не сгладит вечным глянцем
твоих на сердце отпечатков пальцев.
Они пылают розы лепестками,
они плывут по небу облаками.
Пока их защищаю, как волчица,
то ничего со мною не случится.
Сначала хотела просто устроить себе день воспоминаний: слушать его чтение стихов, включать его любимую музыку, приготовить все его любимые блюда. И вспоминать, вспоминать… (Как Ариадна Эфрон, помню, вернувшись из лагеря, встречала свой первый Новый год в одиночестве: всё перемыла в доме, зажгла свечи и стала вспоминать: мать, отца, брата…) А потом подумала: ну почему одной? Ведь его столько людей знало, любило… Будем вспоминать вместе.
К этому дню я готовилась задолго. Отбирала из папки стихи, статьи, документы, которые будет интересно показать гостям. Я зачиталась своими письмами и его записками из 80-х, своими и его стихами.




А вот этот экспромт был им написан в ответ на стихотворение одной поэтессы, которая писала о моих книжках, различая их по цвету переплёта.

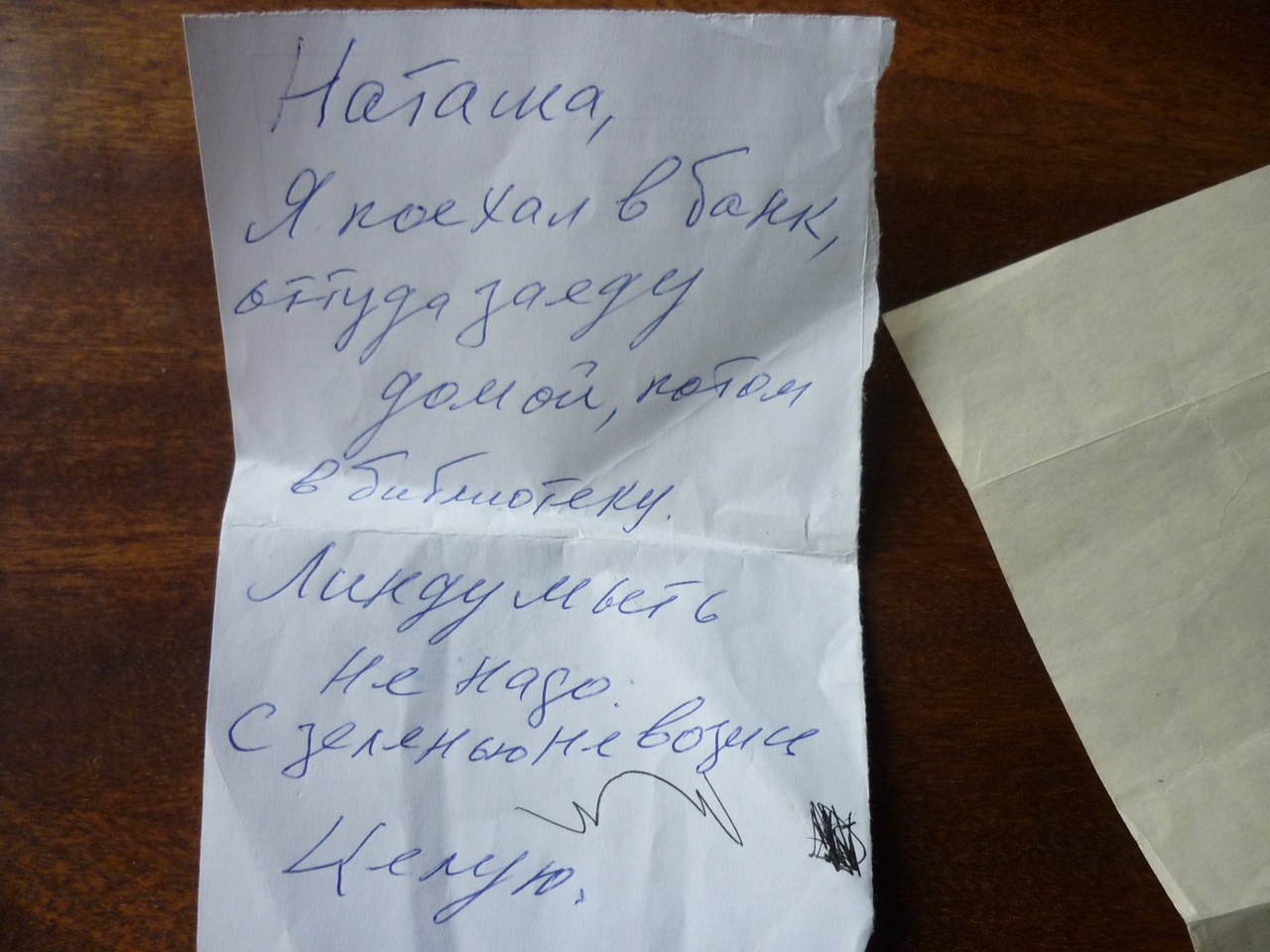





Я покрывала поцелуями все эти поцелуи, поливая их слезами — какое счастье, что сохранила все эти записки!
«Ушёл за хлебом. Скоро буду, жди.
Целую». - Я нашла твою записку.
Ей двадцать лет исполнилось поди.
Теперь она подобна обелиску.
Не правда ли, всё будет хорошо?
Ты торопился, до дому бежал всё.
Ты за небесным хлебом отошёл
и там всего лишь чуть подзадержался.
Мы встретимся в Ничто и в Никогда
и превратим их в Здесь, Везде и Вечно.
И снова будем не-разлей-вода.
Я верю в это свято и беспечно.




Какие мы были тогда счастливые! Как он меня любил! Какой был умница, талантливый, добрый, пылкий, нежный! Как же щедро меня наградила им судьба! И он был со мной счастлив. Я просто умирала от любви и нежности над этим ворохом бумажек. Конечно, не всё можно показывать и читать. Но как хорошо, что я это перечитала. Я была счастлива, снова пережив ту жизнь.
Вот моя новогодняя открытка ему 1980-го года.

(Кстати, когда покупала ту открытку, выбрав её из множества других, я ещё не знала, что существует олень Давида, редчайший вид этого благородного сказочного создания: https://ru.wikipedia.org/wiki/Олень_Давида Что это как не знак судьбы?)

В тот новогодний вечер у нас произошло решающее объяснение. Но как же труден и долог был путь к нашему общему счастью...


прощальное письмо бывшей жене
Обычная схема: сначала праздник,
романтика, будни уже потом.
А мы сначала в быту погрязли,
прежде чем обрели свой дом.
Как нас мурыжили по парткомам,
«личное дело», «поставить на вид»...
(Людям постарше сие знакомо,
а молодых вот весьма удивит).
Липкими сплетнями нас бомбили
и шепотками вослед молвы,
а мы любили, а мы любили,
пока ещё робко, ещё на Вы.
Когда ж отсплетничали и отвяли -
год прошёл или полтора -
только тогда разгорелось въяве
пламя сдерживаемого костра.
И нам плевать было на анонимки,
на пересуды, зависть и грязь.
Какое счастье — идти в обнимку,
не озираясь и не таясь!
Я до сих пор не могу привыкнуть
к тому, что билось, рвалось и жглось.
И мы никогда не дадим погибнуть
тому, что убить им не удалось!


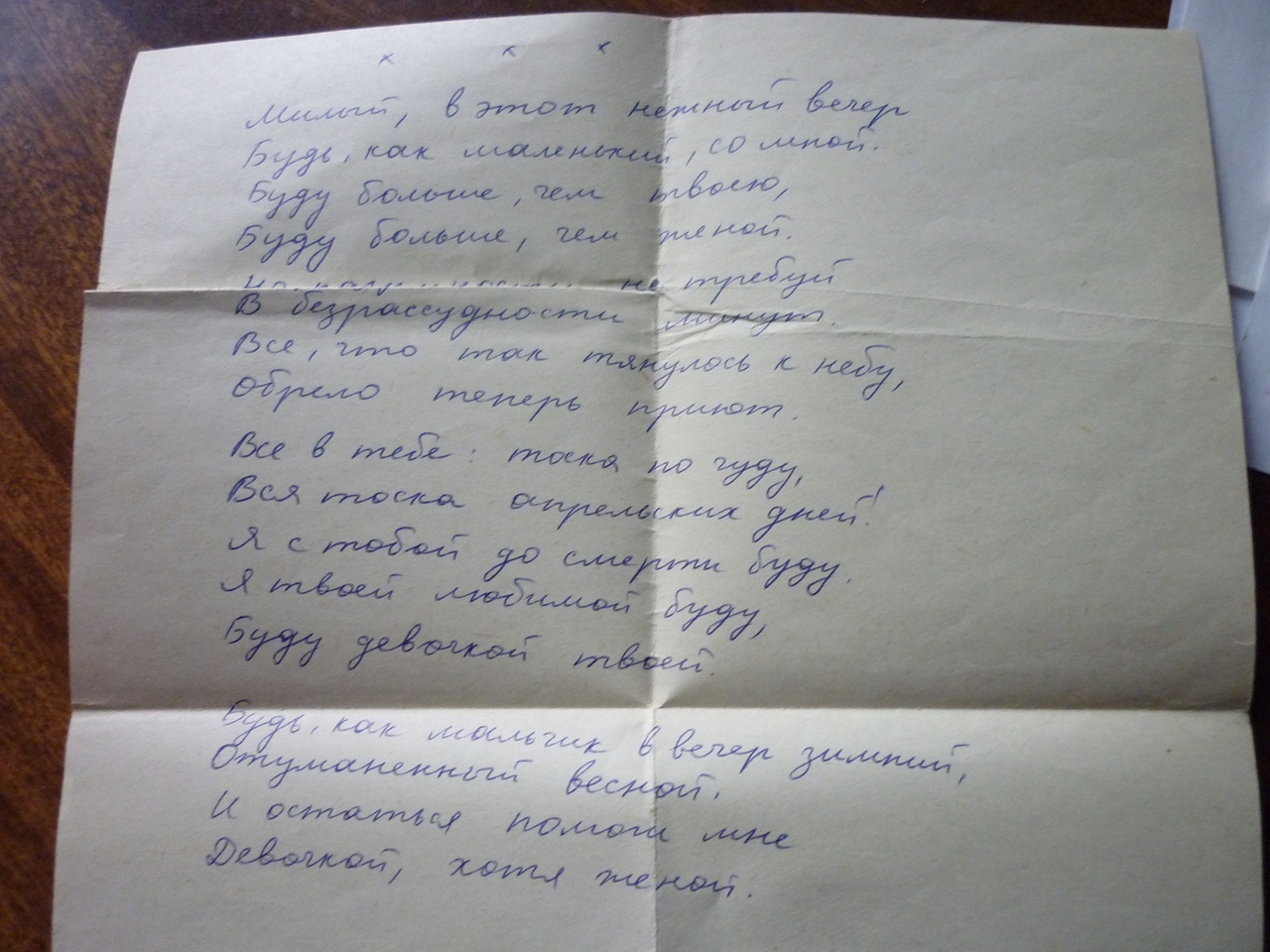
А вот такие поздравительные открытки я дарила ему в 80-х.








А это фото Давид сделал в конце 80-х в нашем лесу на Стрелке, где мы так часто гуляли.

Когда нас настигнет бедою,
пускай всё рассеется в дым -
ты помнишь меня молодою,
я помню тебя молодым.
И неба смущённый румянец
в преддверье заоблачных кар
напомнит щеки моей глянец
и рук твоих крепких загар.
Пусть всё унесёт в круговерти
навеки — зови-не зови...
Но память всесильнее смерти.
Особенно память любви.




Как хочется верить, что он меня видит, чувствует там, в своём далеке, что мы ещё встретимся. Ведь не может такая любовь уйти бесследно, в никуда. Где-то она должна остаться.
Но кто-то, верно, есть за облаками,
кто говорит: «живи, люби, дыши».
Весна нахлынет под лежачий камень,
и этот камень сдвинется с души.
Ворвётся ветер и развеет скверну,
больное обдувая и леча,
и жизнь очнётся мёртвою царевной
от поцелуя жаркого луча.
Мы вырвемся с тобой из душных комнат,
туда, где птицы, травы, дерева,
где каждый пень нас каждой клеткой помнит
и тихо шепчет юные слова.
Я вижу, как с тобою вдаль идём мы
тропою первых незабвенных встреч,
к груди прижавши мир новорождённый,
который надо как-то уберечь.


Мы с тобою ведь дети весны, ты — апреля, я — марта,
и любить нам сам Бог повелел, хоть в него и не верю.
А весна — это время расцвета, грозы и азарта,
и её не коснутся осенние грусть и потери.
Мы одной с тобой крови, одной кровеносной системы, -
это, верно, небесных хирургов сосудистых дело.
Закольцованы наши артерии, спаяны вены.
Умирай сколько хочешь — у нас теперь общее тело.
Во мне жизни так много, что хватит её на обоих.
Слышишь, как я живу для тебя? Как в тебя лишь живу я?
Нет тебя, нет меня, только есть лишь одно «мыстобою», -
то, что свёрстано намертво, хоть и на нитку живую!
https://www.youtube.com/watch?v=kIO-aEDAH6E&list=PLrgDSzTXDpvNgYNR5vlK2mBaWc3k94X20&index=30&t=0s


|
|
Понравилось: 3 пользователям
Клуб «Гармония момента». Встреча вторая. Окончание. |

(Прошу прощения за этот чёрный юмор - не удержалась, уж очень забавная картинка, не принимайте всерьёз:)
Классификация одиночеств
Потом вспоминали стихи на эту тему.
Незабвенная Белла:
О одиночество, как твой характер крут,
посверкивая циркулем железным.
Как холодно ты замыкаешь круг,
не внемля увереньям бесполезным…
Даруй мне тишь твоих библиотек,
твоих концертов строгие мотивы,
и, мудрая, я позабуду тех,
кто умерли или доселе живы…
- это одиночество-уединение, одиночество как благо, как наслаждение. Оно необходимо каждому творческому человеку.
Вспомнился кстати фильм по рассказам Чехова, где в одной из новелл двое заключили пари, что если один просидит 20 лет в полной изоляции — то другой заплатит за это ему кучу денег. Спорщик согласился. Прошёл срок — а он прочёл за это время массу книг, стал настолько мудрым, что отказался от денег, они стали ему уже не нужны, он познал иную, высшую радость. «И, мудрая, я позабуду тех...» Сначала не нужны будут деньги, потом живые люди… Что-то от сказки «Снежная королева» с её ледяным осколком в душе и с бесстрастным словом «Вечность». Здесь тоже важно остановиться, не переступать тот край, за которым - «консервная банка».

А вот другое одиночество, которое можно определить как "стыдное". Это определение Евтушенко в стихотворении «Как стыдно одному ходить в кинотеатры...».
Как стыдно одному ходить в кинотеатры
без друга, без подруги, без жены,
где так сеансы все коротковаты
и так их ожидания длинны!
Как стыдно — в нервной замкнутой войне
с насмешливостью парочек в фойе
жевать, краснея, в уголке пирожное,
как будто что-то в этом есть порочное…
Почему-то многие люди этого стесняются — ну вроде он никому не нужен, в чём-то ущербен. Пытаются любыми путями из этого состояния выкарабкаться. Вот фильм «Одинокая женщина хочет познакомиться», где героиня под покровом промозглой ночи развешивает объявления о знакомстве, но не может смириться с реальным воплощением мечты в виде безработного алкаша.

Подруга её стращает: «Тебе уже 43, ещё несколько лет — и тебе не с кем будет в кино сходить!» А она, хорохорясь: «Одна схожу! Было бы кино хорошее!». Да, но тем не менее в кино, в театр, в лес одной ходить — как-то неуютно, диковато, не принято. Люди боятся этого и стесняются как дурной болезни. И нужно быть очень самодостаточным и независимым, чтобы это положение стало для тебя естественным.
Бродский, «гений одиночества», вот уж кто наслаждается, купается в нём:
Ночь. Дожив до седин,
ужинаешь один.
Сам себе быдло,
сам себе господин…

Кажется, ему очень комфортно в этом одиночестве. Полёт одинокого ястреба, который достигает таких вершин ноосферы, что ему уже назад дороги нет. Пушкин: «Ты царь, живи один...».
У меня тоже есть одно стихотворение, в котором я пишу об одиночестве как о самонаполненности, о переполненности жизнью.
Тост
Пью за всё, что в себе я убила
в зазеркалье несбывшихся дней.
Пью за всех, кого я не любила
и не встретила в жизни моей.
Как овал одиночества светел...
Пью и славлю его, возлюбя.
Я в твоём не нуждаюсь ответе.
Я беру всю любовь на себя.
О луна, моя высшая почесть,
эталон золотого руна,
воплощение всех одиночеств,
я с тобою уже не одна.
Пусть не вспыхнет огонь из огнива
и не высечь мне искр из кремня,
но со мной эти жёлтые нивы,
и они согревают меня.
О любви и тоски поединок,
луч зари, победивший во мгле!
Одиночество — это единство
со всем сущим, что есть на земле.

Одиночество без одиночества
Одиночество как самодостаточность. Я полна собой, природой, любовью. Мне никто больше не нужен. Но это не жестяная банка, не царство снежной королевы, а наполненность всем вокруг, всеми дарами и красками мира. Такое одиночество присуще философам, мудрецам. Оно не каждому по силам. Его надо в себе растить, вырабатывать, может быть, медитировать. Муштровать, тренировать душу.
Маяковский любил приговаривать: «У вороны гнездо, у верблюда дети, а у меня никого, никого на свете». И неважно, что у него мать, сёстры, полно женщин, да и дети — дочь, а вот он чувствует себя одиноким. Так же как бывает и наоборот — человек один, а одиноким себя не чувствует.
Вот у меня такое было состояние после вечера памяти Давиду, который я очень боялась проводить: как смогу рассказать всё, что хочу, и не расплакаться, как приеду потом в пустую квартиру, ведь мы всегда приезжали вместе, отмечали успех, а тут — некому рассказать, поделиться, мне казалось, я не выдержу, буду плакать до утра. Но вечер прошёл на такой высокой ноте, ко мне подходили люди в слезах, с цветами, с подарками, привезли домой на машине, окружили такой любовью, заботой, теплом, без конца звонил телефон и пикала почта, я была в состоянии эйфории, в каком-то облаке вселенской доброты и ласки. Я поняла, что можно быть одной и не чувствовать одиночества, почувствовала, как это реально согревает и спасает.






И вот этот клуб — это тоже средство спасения от одиночества. Так важно знать, что мы гарантированно встретимся, что сможем поговорить о самом главном, сокровенном, порадоваться успеху друг друга, это даёт какую-то опору в жизни. Очень важно — сохранить эту атмосферу тепла, добра, — это надо выращивать, как цветок, холить, поливать. Бережней относиться к друг другу. Люди такие нежные существа, обидчивые, мнительные. Так легко эту гармонию нарушить.
Володя долго не мог понять — почему мы не можем обсуждать любые темы? Зачем я ввожу эти табу, ограничения на темы политики, религии? Мы же все воспитанные цивилизованные люди. Никто не говорит, что мы можем переругаться и передраться. Но осадок останется, раздражение… я даже этого не хочу. Кто во что верит или не верит, кто за кого голосует — пусть это останется личным делом каждого. Мы просто не будем об этом говорить. Обойдём эти кочки-ухабы. Дискуссионные клубы, все эти споры-драчки хороши в молодости. А сейчас я стремлюсь к спокойному общению на почве общих взглядов и интересов. Я стараюсь избегать всего, что может разъединить, отбить желание приходить сюда снова. Этот клуб — моё детище, его надо оберегать, как ребёнка, как слабый нежный росток. А не подрывать корни!


Пока не поздно
У Евтушенко есть такая строчка: «С течением дней я буду одней». Вот эта грамматическая неправильность - она кажется здесь очень точной. Мы все становимся всё одней и одней в жизни. Но хочется как-то этому по мере сил противостоять.
У меня есть книжка «Письмо в пустоту».

Это слова любви тем, кому не успела их сказать при жизни. Успевайте! Всё поправимо, кроме смерти. Любую разлуку, размолвку, разрыв можно исправить. Всё, кроме неё. Надо встречаться каждый раз как в последний и прощаться, как навсегда. На всякий случай. Всё успеть досказать, во всём признаться, всё исправить, пока не поздно. У меня там есть рассказ об отце «Поздно». Чтобы не было поздно. Потому что мы всегда наступаем на эти грабли.

Меня потряс фильм Стивена Спилберга «Искусственный разум» (2001), который посмотрела недавно в Интернете.
Действие там происходит в далёком будущем, когда семье можно было приобрести робота-ребёнка. Его можно было запрограммировать на любовь с помощью специальных кодовых слов. Одна семья приобретает такого механического ребёнка, поскольку их родной сын неизлечимо болен, находится в коме. Ребёнок-робот привязывается к родителям, особенно к матери. А потом родной ребёнок выздоравливает, выходит из комы. И мальчика-робота - увозят в лес и бросают там как ненужную игрушку. Но он-то уже запрограммирован на любовь. Он начинает искать маму. Он очень скучает, тоскует по ней. Ему объясняют, что мать не может его любить, он ненастоящий. Он мечтает стать человеком, чтобы мама его полюбила. Таким может его сделать голубая фея. Он ищет её, проходит много всяких испытаний, злоключений. Потом засыпает во льдах на две тысячи лет, и когда просыпается, встречает фею, которая объясняет ему, что даже она не в силах сделать его человеком, однако может воссоздать его мать по образцу ДНК. Но она сможет жить лишь до тех пор, пока не уснет снова — то есть не дольше дня. Это как-то связано со свойствами ДНК, и повторить эту процедуру невозможно. Однако мальчик просит вернуть ему маму хотя бы на один день.
Этот очень долгий день он проводит наедине с мамой, рисуя, играя и наслаждаясь её любовью. Он знает, что это вечером кончится и упивается каждой минуточкой этого дня. В конце дня она говорит мальчику, что всегда любила его. Затем она засыпает, и ребёнок ложится рядом с ней. Он закрывает глаза и «отправляется туда, где рождаются мечты». Без слёз это смотреть невозможно.

Я смотрела и думала — какое счастье было бы — один день провести наедине с близким человеком, которого уже нет, всё бы отдала за один только этот день рядом. А ведь когда-то они были, жили рядом, а мы не ценили, не понимали, как же были тогда счастливы. У Достоевского в «Бесах»: «Человек несчастлив только потому, что он не понимает, что он счастлив». Мы не понимаем этого, пока не утратим.
У Лёши есть очень трогательное, пронзительное стихотворение о маме, где он не может примириться с тем, что её нет «Она была». Я попросила его прочитать его.
Всю ночь кричала громко птица,
Луна плыла.
Мне мама не могла присниться:
Она была.
Варенье, что она варила,
Ещё стоит.
А свитер, как и говорила,
Тепло таит.
И платье, что она носила,
Ещё висит.
Но маму никакая сила
Не воскресит.
И вторит маятник упрямый
Мне в унисон:
Она была, и это самый
Счастливый сон.
Она была, но улетела
В далёкий Рай.
А возвратиться не сумела.
Но мой сарай
Хранит потрёпанную карту
И два крыла.
Я в Рай лечу, готовлюсь к старту,
И все дела.
В Раю, под яблоней цветущей,
Что по весне
Стоит, забыв про день грядущий,
Я, как во сне,
Увижу ангелов и маму,
И удивлюсь.
Домой отправлю телеграмму,
Что остаюсь,
Что в понедельник на работу
Я не приду,
Часы настенные в субботу
Не заведу…
Вот только б вешняя природа
Не подвела.
Лишь только б лётная погода
В тот день была.
Я изучу маршрут до Рая,
Зайду в сарай
И, ничего не забирая,
Отправлюсь в Рай.
Надену я, чтоб не разбиться,
Лишь два крыла…
Нет, мама не могла присниться:
Она была.

«Ваша жизнь на 10% зависит от того, что с вами происходит, и на 90% от того, как вы реагируете на эти события», - писал Джон Максвел. Кто-то со временем примиряется с потерями, живёт будущим, настоящим. А кто-то не может.
Без тебя
Как бы мне хотелось хоть на минутку вернуть близкого человека, маму, отца, Давида, - да, есть голос на плёнке, фотографии, письма, но нельзя - обнять, поцеловать, положить голову на плечо... И ужас этого «никогда», «невозможно» чувствуешь всем спинным мозгом. Видели фильм «С любимыми не расставайтесь»? Как она кричала: «Я скучаю по тебе!» Вот у меня такие же истерики, только не вслух, а внутри.
Первое и единственное стихотворение, которое написала в этом году:
Без тебя
Жили мы как друг в друге матрёшки,
а теперь стало пусто внутри...
Позвони, как туда доберёшься,
или райскую птичку пришли.
Вместо роз и конфет в день рожденья
собираешь мне звёзды в кулёк.
Это облако или виденье?
Или ты там в тумане прилёг?
Мы сойдёмся опять после жизни,
что пущу я легко на распыл.
Обниму тебя в райской отчизне, -
чижик-пыжик, ну где же ты был?
Я хочу, чтобы утром побудку
твоим голосом пел мне щегол,
и плясать под родимую дудку,
и спрягать мой любимый глагол.
Помнишь ли, как мы делали щуку,
а потом пили кофе гляссе
и внимали сердечному стуку,
когда пел «Без тебя» нам Дассен.
И глядишь ты с портрета в оконце,
улыбаясь чему-то вдали...
Без тебя я как небо без солнца,
как листва без корней и земли.
Здесь нет ни одного случайного придуманного слова, всё из жизни.
Жили мы как друг в друге матрёшки,
а теперь стало пусто внутри…
Мы засыпали-просыпались вместе, ели-пили вместе, мы были не разлей-вода. Теперь из меня вынули половину меня, половина души отделилась и теперь неизвестно где.
Позвони, как туда доберёшься,
или райскую птичку пришли.
Он всегда звонил, и из больницы, и когда задерживался где-то, он не смог бы мне не подать хоть какой-то знак, что он есть, что он по-прежнему меня любит. Сначала шарики. Потом райская птичка — сойка.
Эти две птички прилетали ко мне недавно — сидели на ветке вяза напротив балкона. Я их запомнила и нашла потом в интернете, это сойки. У них такие чудные голубые крылышки, отдающие перламутром. За 40 лет, что я живу здесь, они прилетали сюда впервые. И ни к одним из моих знакомых - специально спрашивала - не прилетали никогда.

Вместо роз и конфет в день рожденья
собираешь мне звёзды в кулёк.
Это облако или виденье?
Или ты там в тумане прилёг?
Он не мог не подарить мне чего-то на день рожденья, я знаю, что он хоть что-то, но пришлёт, то, что теперь ему доступно. Звёздочку с неба, солнечный зайчик, птичку. Или веткой помашет в окно.
Мы сойдёмся опять после жизни,
что пущу я легко на распыл.
Обниму тебя в райской отчизне, -
чижик-пыжик, ну где же ты был?
Чижик-пыжик — наш ежедневный ритуал, когда он скрипом гантелек исполнял этого чижика и мы все смеялись. Он радовался как ребёнок. «И плясать под родимую дудку», - это вот этот его аккомпанемент чижика-пыжика.
Я хочу, чтобы утром побудку
твоим голосом пел мне щегол.
Щегол — он пересвистывался с ним когда-то, ещё в 80-х, когда мы ещё не были женаты, были в зимнем лесу и он отвечал щеглу свистом, а тот принял его за своего. Мы так смеялись, что щегол «своя своих не познаша», вернее, наоборот, признал в Давиде своего собрата — щегла. И на девять дней на даче у Жени с Инной Бурылиных я услышала щегла-не щегла, не знаю, но свист точно с такой же интонацией, я её хорошо запомнила. Это был он, он подавал мне знак, что он здесь, рядом. Ну как я могу в это не верить. Это же сердце подсказывает.
Помнишь ли, как мы делали щуку,
а потом пили кофе гляссе
и внимали сердечному стуку,
когда пел «Без тебя» нам Дассен.
«Делали щуку» - да, на его день рождения, ему раньше её мама делала, это было его любимое блюдо, мы целый день возились, но зато как это божественно вкусно! 25-го апреля на день рождения Давида я буду делать его любимые блюда. И сделаю эту архисложную и архивкусную щуку. Надеюсь, что у меня получится. Хотя я одна ещё ни разу её не делала. Но, думаю, он мне, как всегда, оттуда поможет...
А «Без тебя» Дассена («Если б не было тебя», «Без тебя») - это его любимая песня Дассена, это как бы его признание мне в любви. Мы танцевали под неё… Эта музыка — сама нежность, в ней просто растворяешься. И я сейчас всё время её слушаю и этой песней с ним разговариваю. Я чувствую, что он слышит. Душа его слышит.
И глядишь ты с портрета в оконце,
улыбаясь чему-то вдали...
Без тебя я как небо без солнца,
как листва без корней и земли.
«И глядишь ты с портрета в оконце» - этот портрет у меня сейчас в кухне, я его тогда фотографировала в кухне, когда он птичку увидел.

Может быть ту самую, райскую, с перламутровыми голубыми крылышками, которая потом ко мне прилетала.
Свет небес и свет твоей улыбки,
птичка, промелькнувшая в окне.
Фокус расплывающийся, зыбкий,
словно ты не здесь уже, а вне.
Словно смерть — секрет полишинеля…
Из себя смотрю как из окна.
Вижу слабый свет в конце тоннеля…
Значит, я не так уже одна...
А это о другом портрете:

Стучит в окно лишь дождь да ветер,
заглянет ночью лишь луна.
И больше никому на свете
нет дела, как я тут одна.
До моего ночного бреда,
покуда не придёт рассвет...
Но ты смеёшься мне с портрета,
и улыбаюсь я в ответ. ..
Когда нет главного человека, который был всем, его ничто не заменит. И болевое тело уничтожить нельзя, от себя никуда не денешься. Может только что-то отвлечь на время. Но эта зияющая пустота — она будет всегда, её можно только временно чем-то заполнить. Но заполнять нужно, постоянно, иначе эта пустота тебя поглотит, пожрёт...
У меня много стихов об одиночестве ещё с юности. Даже когда я не была одинока, они всё равно писались.
...Ты уехал, ты уехал...
Гаснут звёзды на весу.
Среди шума, среди смеха
одиночество несу...
Я всего лишь кустарь-одиночка
над огромной страной,
где моя одинокая строчка
натянулась струной...
Если взялся за гуж – что с того, что не дюж,
должен вынести ношу двуногих.
Я пишу эти строки по адресу душ,
для таких же существ одиноких...
Жизнь погасла на экране.
Телефонный спит звонок.
В этом мире каждый ранен,
нелюбим и одинок...
Ах, цветочное пророчество!
Как наивен род людской.
Вдруг пахнуло одиночеством
и грядущею тоской...
Ночи чёрный крепдешин
в дырах звёзд.
Тонкий плащ моей души
сыр от слёз.
Я дрожу в руках дождя
у окна.
В этом мире нет тебя.
Я одна…
Валя выбрала какие-то мои стихи для прочтения. Я просила вспомнить понравившиеся стихи об одиночестве, а она — а можно, я твои прочту? Ну прочти.
Валя читает:
Мне кажется, я живу в маяке,
где зажигаю огонь,
чтобы корабль, что плывёт вдалеке,
не канул меж берегов.
Чтобы однажды один из ста
мой увидал бы свет,
чтобы доплыл, уцелел, пристал...
Но никого нет.
***
Как жаль, что нет такой науки,
что изучала бы всерьёз
законы вечныя разлуки,
состав невыплаканных слёз,
слепой влюблённости валентность,
душевной чёрствости недуг,
видений чудных мимолётность
и одинокий сердца стук.
Есть разные виды и типы одиночества. Многие мы уже сегодня рассмотрели. Есть вселенское, лермонтовское, одиночество демона, гения, ястреба, а есть привычное, будничное.
Скажи мне, кто не одинок?
В души пустынном помещенье
Ютится нежности щенок,
Скуля тихонько о прощенье.
Непоправимо одинок
Всяк в этом мире однобоком.
Щенок – заплаканный комок –
Всё тычется под левый бок.
Кому-нибудь он выйдет боком.
Одиночество, к которому уже притерпелись, как к постоянной тупой боли. С ним можно жить, привыкают. Все живут, чем я лучше.
Я привыкла к зиме и весны не ждала.
Я жила кое-как, ни о чём не печалясь.
По утрам на работу привычно брела,
в одиночество, словно в пальто, облачаясь...
А есть одиночество трагическое, с которым не можешь примириться, против которого твоя душа вопиёт. Это непоправимое одиночество смерти:
Зову тебя. Ау! — кричу. — Алё!
Невыносима тяжесть опозданий,
повисших между небом и землёй
невыполненных ангельских заданий.
Пути Господни, происки планет,
всё говорило: не бывает чуда.
Огромное и каменное НЕТ
тысячекратно множилось повсюду.
Ты слышишь, слышишь? Я тебя люблю! —
шепчу на неизведанном наречьи,
косноязычно, словно во хмелю,
и Господу, и Дьяволу переча.
Луна звучит высоко нотой си,
но ничего под ней уже не светит.
О кто-нибудь, помилуй и спаси!
Как нет тебя! Как я одна на свете.
Надя тоже прочла несколько моих стихов об одиночестве и закончила своей песней на одно из них:
Сердце — одинокий
остров в океане.
От земли далёкий,
утонул в тумане.
Кто его заметит,
кто его услышит?
И никто на свете
писем не напишет.
Волны будут биться
до изнеможенья...
С кем-нибудь случится
кораблекрушенье.
И кого-то чудом
выбросит на берег...
В это так нетрудно
каждому поверить.
Чайки там летают.
Морем пахнет остро.
Будет обитаем
одинокий остров.
Пусть наш клуб и станет таким обитаемым островом! Давайте за это выпьем!
Следующая тема: "Знаки, предчувствия, сны". Обещаю: будет интересно.

Четыре с лишним часа пролетели незаметно. Кто-то ушёл, кому было далеко добираться, а несколько гостей всё никак не могли друг с другом расстаться.
Аркадий и Коля писали отзывы в наш альбом:
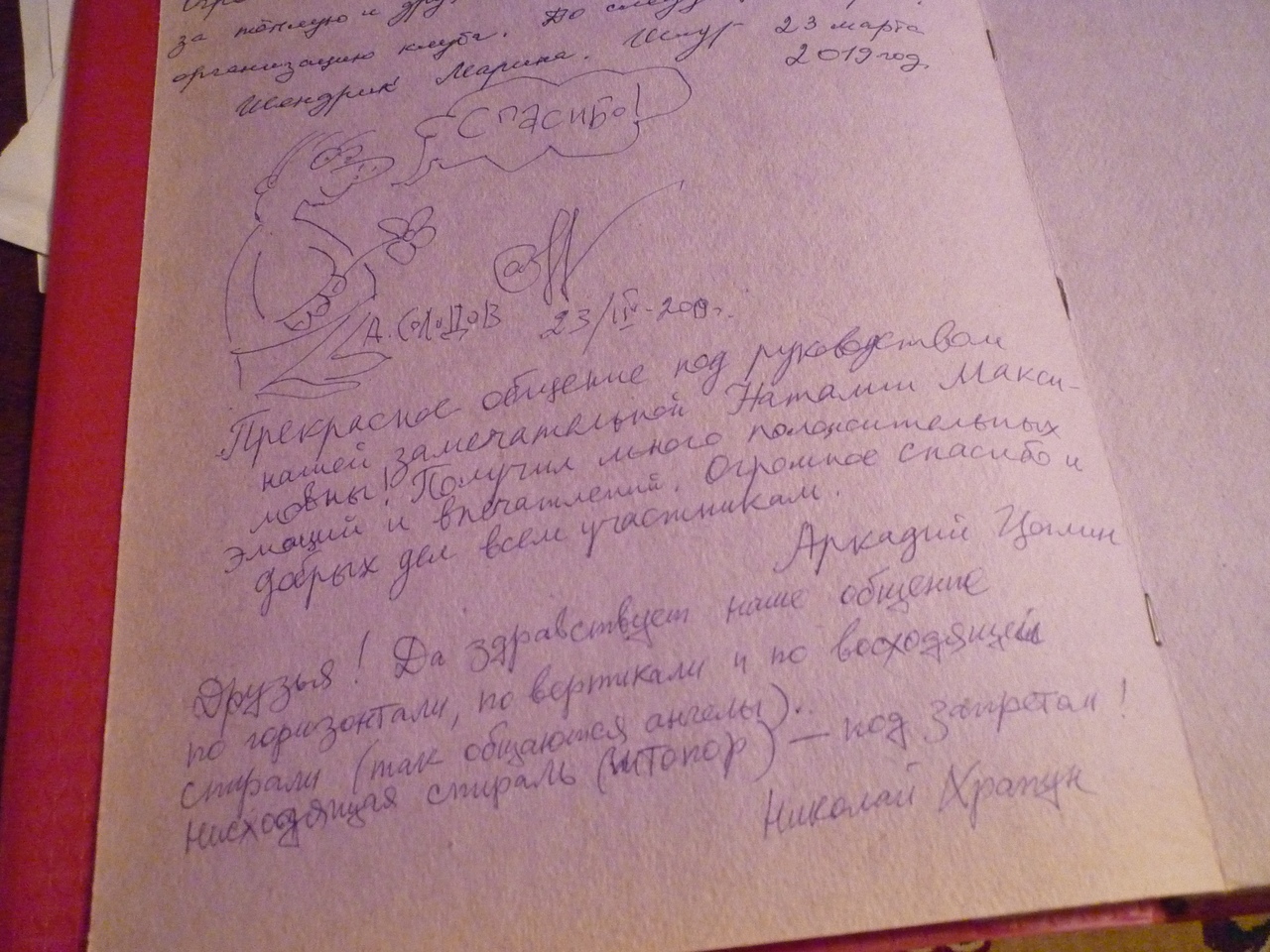
Потом с Колей завязался интересный спор о современной живописи.

У Лёши было хорошее настроение.

Он развеселился не на шутку.

А ещё говорят, что юмористы — мрачные люди.

Чувствую, в следующую встречу нас ждёт новый юмористический рассказ «для неулыбчивой отчизны» в духе Хармса. И, возможно, новые стихотворные посвящения друг другу…
До встречи в эфире, друзья!
Переход на ЖЖ: https://nmkravchenko.livejournal.com/469772.html
Продолжение (встреча третья) здесь: https://nmkravchenko.livejournal.com/471706.html
|
|
Понравилось: 2 пользователям
Клуб «Гармония момента». Встреча вторая. Продолжение. |

А я тем временем продолжала знакомить народ с интернетскими отзывами. Вот что писала Светлана Грибова из Зеленограда:
«Прочитала Ваш отчет о заседании клуба и как будто с вами побывала! Замечательная, насыщенная, душевная встреча получилась.
Вы с такой любовью представили своих друзей, так ярко и эмоционально каждого охарактеризовали, давая слово - поэтическое, художественное, ассоциативное - самим героям, что возникает впечатление моего личного с ними знакомства. И люди все, действительно, прекрасные! Каждый - интересный, глубокий, думающий и чувствующий человек, личность.
А знаете, я очень похоже строила свой юбилей на 50-летие. Народу 10 лет назад собралось довольно много, некоторые между собой не знакомы, я о каждом рассказывала историю нашей дружбы и читала свои стихи, этому человеку посвященные. Всё сопровождалось музыкой и песнями, народ заразился стихо-творчеством, пошли экспромты, стишки на заданные темы, давние заготовки, кто что, но было очень весело и душевно.
Про Ваш вечер в клубе с прекрасным названием. Вы, как опытный лектор, очень грамотно и интересно выстроили план встречи. И тема актуальнейшая, тем более в этот демисезонный период. Я внимательно и подробно ознакомилась с Вашими "знакомыми" "депрессантами" и "антидепрессантами". И начала улыбаться ))))
"Откупори шампанского бутылку иль перечти "Женитьбу Фигаро"" - я раньше перечитывала Джером К. Джерома или "12 стульев" или смотрела Рязановские фильмы. А сейчас ищу что-нибудь позитивное в интернете. А ещё йога. Пока помогает.
А какая же чудесная Лариса Миллер! Это Вы мне её открыли давно ещё. Сейчас читаю, наслаждаюсь. И теперь я познакомилась с Алексеем Солодовым. "Я неверный, наверное, выбрал маршрут, Моя жизнь не раскрылась, как тот парашют" - потрясающие строки! Так подумать о себе могут многие, выразить - он один!…»
Вспомнила лёшины строчки: «Ты знаешь, я такой один. Таких как я уже не будет». А Хлебников говорил: «А таких как я - и одного нет».
После этих слов мы не могли, конечно, не попросить Лёшу прочесть это стихотворение, близкое многим.


***
У меня парашют не раскрылся, увы,
И пятнадцать секунд до зелёной травы.
Я всё ждал, что раскроется он наконец,
Ведь пятнадцать секунд — и полёту конец!
Я руками, как птица, махал на лету
И внезапно проснулся в холодном поту.
И испуганно сердце стучало в груди:
Всё казалось, что встреча с землёй впереди.
И, ударясь о землю, на небо взлечу,
И в старинной церквушке поставят свечу…
Ничего не случилось, я жив и здоров,
На работу пришёл, и мой сменщик Петров
По-приятельски пару стрельнул папирос.
— Как дела? — затянувшись, мне задал вопрос.
— Всё нормально, — ответил, обиду тая.
И подумал, что жизнь не раскрылась моя.
Я неверный, наверное, выбрал маршрут,
Моя жизнь не раскрылась, как тот парашют.
Нераскрытая жизнь — как короткий полёт.
Только в небе куда-то летит самолёт,
А я падаю вниз и вот-вот разобьюсь,
Но развязки такой я совсем не боюсь.
Вот ещё один вздох и ещё один миг,
Но не слышит никто мой испуганный крик.
Деревянная церковь устала терпеть,
Ей бы душу мою поскорее отпеть.
Всё готово уже, и отец Никодим
Мне простит, что я был не однажды судим,
И с Петровым ругался, и женщин бросал,
И с ошибками в школе диктанты писал,
Что другие погибли, а я невредим –
Всё простит мне сегодня отец Никодим.
Уж стоят под иконами свечи во фрунт,
А в запасе — пятнадцать коротких секунд.
Прекрасно. И всё-таки парашют раскрылся… Талант твой раскрылся.
Стихи как говорящие картины,
картины — молчаливые стихи
А мне вспомнилось ещё стихотворение Коли, у которого тоже упоминается парашют в драматическом контексте.
Коль, прочти:
***
Ты не трогай, солнышко, парашют.
Видишь, я обугливаюсь, ухожу.
Отлежусь, окукливаясь, - вот цена
мигу облучения… Так сильна
боль от превращения крови — в сталь!
Паутину кокона рвёт дюраль.
Под крыло широкое — вьюжный край.
Полечу за стаями — в южный рай.
Все слова растаяли за спиной.
Паузы наполнены тишиной.
Крестиком серебряным на сини
стану, вас знамением осенив.

Коля стал было объяснять, что «солнышко» - это обращение к девушке… Но про солнышко все как раз поняли. А вот что касается остальных строчек — там был такой сложный и прихотливый ассоциативный ряд, что без пространных комментариев проникнуть в авторский замысел было трудновато. Как говорится, без поллитры не разобраться...

- Коль, ну поскольку ты у нас ещё и бард, спой, пожалуйста, у тебя есть о бардах, о дружбе и братстве:
***
Струн у гитары — шесть,
пальцев на кисти — пять.
Только дорог на Руси не счесть,
лишь друзей не собрать.
Прежнего братства рать
кони разносят прочь.
Это, наверное, можно понять,
только нельзя помочь.
С кляпом во рту — невмочь!
Пеплом заносит след.
Вновь разводящим приходит ночь,
только вот смены нет.
Слышен лишь звон монет,
стынет в стаканах чай.
Только дорога пылит, корнет,
только в душе печаль.
А поскольку Коля был ещё и художник, то потом мы смотрели его картины. Одна из них так хорошо вписалась у меня в простенок между дверью и зеркалом…


А потом мы перешли к нашей сегодняшней теме:
Одиночество и одинокость
Говорили о книге Марины Шендрик «Боль».


Там было много стихов об этом, а один раздел даже назывался «Два одиночества».
Меж нами пропасть и стена.
Всё выше горы и всё круче.
И желтоглазая луна
с укором смотрит из-за тучи…
Одиночество — страшно жестокая сила,
а душа всё вокруг уже исколесила…
Одиночество только неискоренимо.
Дни бегут и минуты, всё мимо, всё мимо…
Вы, наверно, как я, одиноки.
Взгляд Ваш добрый и чуткий ловлю.
Непременно сведут нас дороги
и об этом я Бога молю…
Стихи – своего рода письмо в бутылке, с тайной надеждой обрести в этом чужом и холодном мире родственную душу.
Сквозь одиночество руки тяну
к звёздному небу, к тебе одному.
Сквозь расстоянья, тревогу и боль
выпала в жизни нелёгкая роль.
Нас разделяют планеты, миры.
Лучше я выйду из этой игры.
Снова забудусь, усну и проснусь,
утром опять я к тебе прикоснусь.
Призрак! Ты просто мерещишься мне
в сказочном царстве на белом коне.
***
...И с полуслова, с полувзгляда
сердцам, звучащим в унисон,
мы будем бесконечно рады,
о только б это был не сон.
Восторгом трепета объяты,
несутся мыслей виражи.
Одно мне только непонятно,
где мне найти тебя, скажи?
Но вот эта жажда встречи близкой души, уединения с близкой душой другого перемежается жаждой одиночества, уединения, стремлением уйти в своё личное пространство.
***
Я хочу в консервной банке
ненадолго очутиться,
чтоб уйти от суеты
и на время отключиться
от мирского бытия
и от пристального взгляда,
от превратности судьбы
мне одной остаться надо.
Там в безмолвной тишине,
в серой баночке жестяной
я пойму, что нужно мне -
бедной дуре окаянной...
Отдохнув от суеты
и от самобичеванья,
сердцем ощутить тепло
и взаимопониманье
с миром. И в ладу с собой
возвратиться без изъянов.
Только нет пути назад
мне из баночки жестяной.
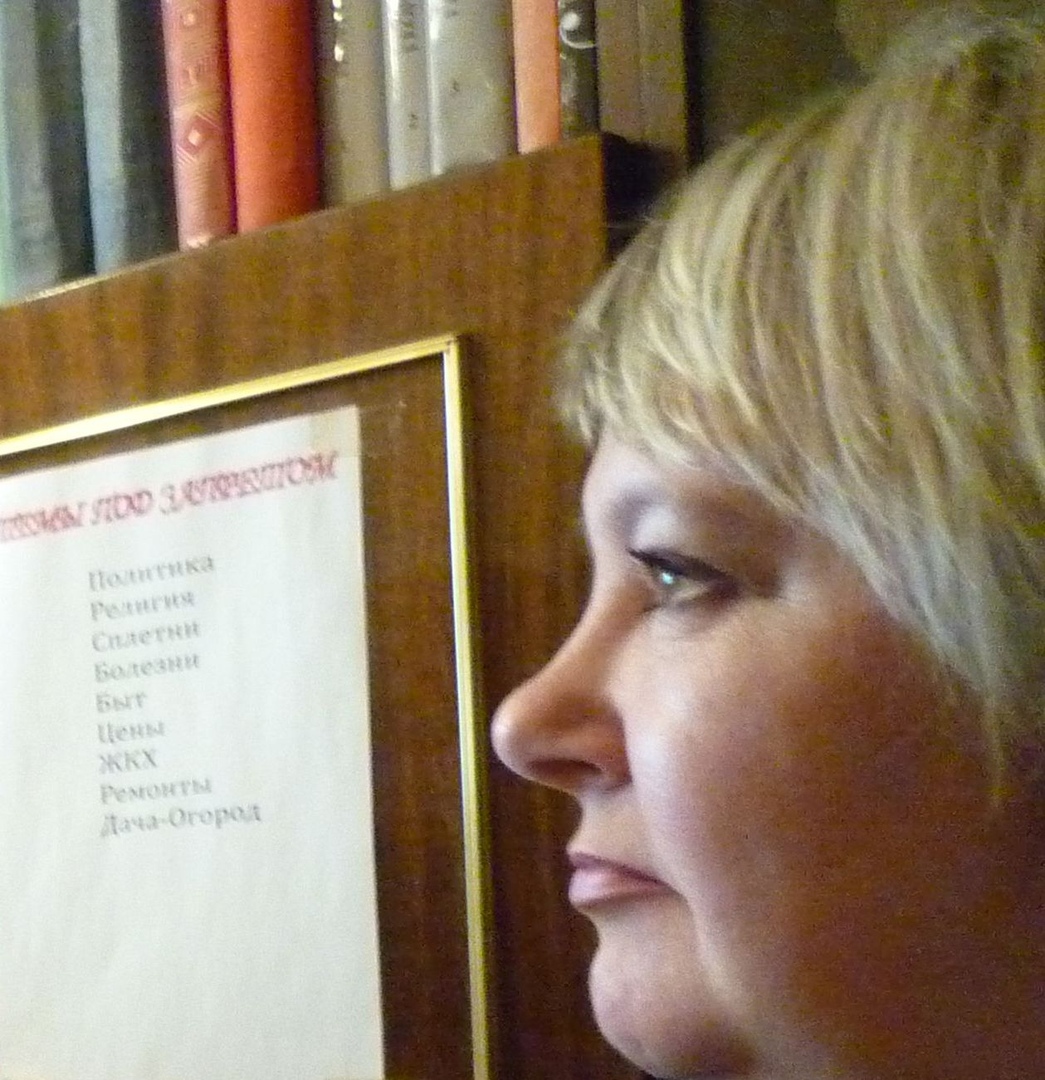
В консервной банке
Это очень интересная тема. Жажда спрятаться, укрыться в свою скорлупу. Вот недавно хотела найти Володю в «Одноклассниках», раньше всегда там был, и вдруг — пусто! Заменил фамилию, убрал стихи, стёр фотографии, поменял пароли, замёл следы, ушёл в свою норку. Что это — скромность? Гордыня? Инстинкт внутреннего самосохранения?
Но — поймала себя на схожих настроениях в своих ранних стихах, когда одиночеством ещё и не пахло...
Одна среди улиц голых
бреду по пустым дорогам...
Как речка, оденусь в холод,
чтобы никто не трогал...
Стройка начата и брошена,
кран маячит в небесах.
Я от мира отгорожена,
словно здание в лесах...
Как рожки улитка, упрячу в себя
всё то, что несла на лице я.
Открыть не пытайтесь, по коже скребя,
мой панцирь, мою панацею.
Чтоб некуда плюнуть, сперва подманя,
там тайное логово зверя.
Стучите, кричите, зовите меня –
я вам никому не поверю.
Это всё по принципу Тютчева, его завета: «Молчи, скрывайся и таи и думы, и мечты свои. Взрывая, возмутишь ключи. Питайся ими и молчи. Как сердцу высказать себя? Другому как понять тебя?..» Страх непонимания, страх насмешки, страх, что плюнут в душу — этот риск всегда присутствует, и в поэзии, и в любви.
Чьи-то тени срослись на пути,
обжигает ночная прохлада...
Не печалься, мой стих, не грусти.
Никого нам с тобою не надо!
Всё это были стихи интроверта, если говорить языком психолога. Хотите верьте - хотите нет — но я интроверт по жизни. Хотя многие меня считают экстравертом — публичные лекции, творческие вечера в больших залах, общаюсь публично с людьми… Рита Борцова мне написала: «ну уж если Вы интроверт, тогда я — аутист». Но я считаю — Володя, поправь меня как психолог, если я не права - интроверт — это не значит — скрытный замкнутый человек, нелюдим-рак-отшельник, это человек со своим глубоким внутренним миром, в который он не каждого пускает. (У Лёши есть строчки: «я в старый заповедник свой не каждого пущу»). Экстраверт — весь на поверхности, он всем понятен, ясен, предсказуем. Я не хочу сказать, что он хуже. Он проще. И жить ему проще, легче. Я бываю экстравертом только внешне и не от хорошей жизни. Я что-то преодолеваю в себе, какие-то краники в себе поворачиваю, когда выхожу на публику. Мне это всегда нелегко. Мне гораздо комфортнее, когда я сама в себе, в своей норке. Или вот здесь, в родных стенах, среди близких друзей.
Тут к месту пришёлся отзыв моей подруги Ревекки из Нью-Йорка:
«Насчёт одиночества и одинокости. Конечно, творческому человеку необходимо уединение, некая эмиграция в себя для того, чтобы отыскать гармонию. Как говорил Бродский, "но мысль об этом, как его - бессмертье - есть мысль об одиночестве, мой друг". Но есть люди, к сожалению, которые в этом заходят слишком далеко. Начинается все с того, что ты как бы не хочешь связываться с неинтересными тебе, неблизкими по духу людьми, а заканчивается изоляцией, скованностью, комплексами, высокомерием и даже страхом перед людьми».
Увы, это так. Нельзя замыкаться в себе, переходить ту грань, где необходимое личное пространство превращается в консервную банку. Это прямой путь к депрессии, к изоляции, к одичанию.
Как страшно никому не верить,
ромашек лепестков не рвать,
души окованные двери
на стук чужой не открывать.
Страшнее, если их откроешь –
и будет некому войти.
Лишь ветер над пустою кровлей
закружит листьев конфетти.
...И, целомудренно-мудры,
в полярном отрешенье круга
бездомные парят миры,
не обретённые друг другом.
(из моих старых стихов)
«Не понуждай и не зови»
У Марины в книге есть цикл «Два одиночества». Очень часто они не могут пересечься. Казалось бы, просто - «просто встретились два одиночества, развели у дороги костёр». Ан нет, не так-то просто его разжечь.
Недавно прочла статью одного психолога. Там его спрашивают: - Почему я одна, и умная, и красивая, а Германа всё нет, в чём причина. Он отвечает: - Причина — в тараканах в голове. Некоторые зациклены на себе, на своих комплексах, не верят, что они могут кому-то понравиться. «А как я буду выглядеть? А что обо мне подумают? а что будет потом? А чем это может кончиться?» И надо просто переключить внимание с этих мыслей на предмет разговора. Общаться одномоментно — т. е думать только о том, о чём вы говорите. И вы увидите, насколько всё станет легче и естественней.
И действительно, подумала я, когда мы с Давидом познакомились — мы год только разговаривали, о литературе, о поэзии, о жизни, и даже мыслей не было ни о чём, и из этого только потом что-то выросло, из душевного родства, общности взглядов, интересов. А когда я в юности шла на свидание с целью познакомиться и создать семью, строя далеко идущие планы — из этого никогда ничего путного не выходило.
А потом прочла у Блока:
Молчи, душа. Не мучь, не трогай,
не понуждай и не зови.
Когда-нибудь придёт он, строгий,
кристально-ясный час любви.
И я поверила ему. И не стала ничего форсировать. Как говорил Заболоцкий, «судьба сценарна. Она знает, что делает».
Всё должно получиться само собой. Как на небесах предписано. Как звёзды лягут. Нельзя вмешиваться в божье провидение. Бог накажет. Хоть я в него и не верю, но пути его неисповедимы.

(Звоню сама себе в колокольчик — низя! Запретная тема!)


Вспомнила стишок-пирожок из интернета:
Приди ко мне порой осенней,
развей тоску, создай семью...
Куда ж ты в обуви-то прёшься?
Убью!
А потом была музыкальная минутка. Надя Шаховская пела нам «Как бы мне рябине..», «Позарастали стёжки-дорожки...» Все подпевали. Я заслушалась и даже забыла по фотоаппарат.
Преодоление одиночества
Потом вспоминали книги и стихи об одиночестве.
Валя прочла стихотворение Искандера:
Плыл, мечтая, одинокий айсберг,
в океане сумрачной воды,
чтобы подошла подруга айсберг
и согрела льдами его льды.
Океан оглядывая хмуро,
чуял айсберг, понимал без слов:
одиночества температура
ниже, чем температура льдов.

Володя и Людмила читали стихи об одиночестве своих друзей и местных поэтов.
Я спросила: - Какие кто может вспомнить книги об одиночестве?
Валя назвала Маркеса «Сто лет одиночества». Я вспомнила «Каждый умирает в одиночку» Ганса Фаллады - роман, который потряс меня в студенческие годы.
Не так давно прочла в интернете «Одиночество в Сети» Януша Вишневского, «Одиночество простых чисел» Паоло Джордано . Поговорили немного об этих книгах. И ещё мне захотелось остановиться подробнее на «Маленьком Принце» Экзюпери.

И принц со своей розой, и Лис с его желанием быть приручённым — это тоже о преодолении одиночества. Но не все знают, что у сказочного Лиса был прототип. Некоторые исследователи усматривают в этом персонаже прообраз знакомой автора - Ренэ де Соссин, которую Экзюпери воспринимал как духовно близкого человека. Он познакомился с ней, когда ему было восемнадцать, она была сестрой его школьного товарища. Он был переполнен воспоминаниями, наблюдениями, мыслями и тосковал по умному, душевно-тонкому собеседнику. И создал для себя в письмах образ некой «воображаемой подруги», хотя она не отвечала на его письма и даже, кажется, не читала их.
Из письма Антуана де Сент-Экзюпери — Рене де Соссин
Аликанте, ноябрь 1926.
«Я и сейчас хорошенько не знаю, зачем пишу. Мне так нужен друг, которому я мог бы рассказывать о всех мелочах жизни. С которым мог бы поделиться. Сам не знаю, почему я выбрал вас. Вы такая чужая. Мои слова отскакивают от бумаги. Я уже не могу представить себе опущенные над моим письмом глаза, которые читали бы его и радовались моему солнцу, моим лакомствам, моим мечтам. Я пишу это письмо тихо-тихо, чтобы разбудить, не слишком веря, что мне это удастся. Может быть, я пишу самому себе…»
Вот такая душевная потребность в друге, собеседнике и в то же время разговор с самим собой.

«Вы не поймете этого, и никто не поймет. А я хотел бы заставить кого-нибудь понять. Почему вам безразлично все это?
Почему вы не слышите меня?..»
В своей будущей сказке-притче о Маленьком Принце, улетевшем на другую планету, Экзюпери выразил всю свою тоску об альтер эго, о своём втором я — друге, который понимал бы его с полуслова. На этой планете подобное было невозможным.

|
|
Понравилось: 1 пользователю
Клуб «Гармония момента». Встреча вторая. Тема: «Одиночество и одинокость» |

Раньше гармонию не надо было искать, она была в нас, в воздухе, всё было предельно просто:
Мир создан из простых частиц,
из капель и пыльцы,
корней деревьев, перьев птиц...
И надо лишь концы
связать в один простой узор,
где будем ты и я,
земной ковёр, небесный взор, -
разгадка бытия.
Мир создан из простых вещей,
из дома и реки,
из детских книг и постных щей,
тепла родной щеки.
Лови свой миг, пока не сник,
беги, пока не лень.
И по рецепту книги книг
пеки свой каждый день.
Теперь многие звенья это цепи распались. Распалась связь времён.
Героизм бессребренных стрекоз.
Мотыльков безумных суицид.
За существования наркоз
вдруг тебя охватывает стыд.
Телевизор, стол, плита, кровать –
наши траектории пути.
Жизнь на полуслове оборвать,
если дальше некуда идти.
Как колдует вечер-чародей,
перед тем, как сгинуть в никуда!
А твоя нежизнь средь нелюдей...
М-да-а.
Вот для того, чтобы восстановить эти звенья, попытаться выкарабкаться из болота депрессии, я и создала этот клуб.

Вторая встреча состоялась через три недели, 14 апреля. Это был день самоубийства Маяковского, и, хотя я хотела видеть наш клуб неким антиподом «клуба самоубийц» из «Принца Флоризеля», мы не могли, конечно, не затронуть этой темы.

«Берегите нас, поэтов...»
У меня была лекция о Бродском: «Гений одиночества». Наверное, то же самое можно было бы сказать и о Маяковском. Ибо настоящий Маяковский — не агитатор, горлан и главарь, ассенизатор и водовоз, каким он сам себя позиционировал, обращаясь к «товарищам потомкам». Настоящий Маяковский — гениальный лирик, с огромной силой выразивший трагедию человеческого существования, неприкаянность, одиночество человека, затерянного в необъятных просторах холодной, необжитой вселенной.
Время! Хоть ты, хромой богомаз,
лик намалюй мой в божницу века!
Я одинок, как последний глаз
у идущего к слепым человека.
… Значит — опять, темно и понуро
сердце возьму, слезами окапав,
нести, как собака, которая в конуру
несёт перееханную поездом лапу.
… Лошадь, не надо, лошадь, слушайте,
чего вы думаете, что вы их плоше?
Деточка, все мы немножко лошади,
каждый из нас по-своему лошадь.
Многое хочется цитировать.
Какими Голиафами я зачат -
такой большой и такой ненужный?
Он очень любил одну незатейливую песенку и часто напевал ее:
У вороны есть гнездо,
У верблюда – дети,
А у меня – никого,
Никого на свете.
Хотя были мама, сестры, Лиля, но он ощущал себя одиноким и потерянным в этом мире. Ему было свойственно не одиночество, а — одинокость (это всё-таки не одно и то же).
За всех — пуля, за всех — нож.
А мне когда? А мне-то что ж?
В детстве, может, на самом дне,
десять найду сносных дней.
А то, что другим?! Для меня б этого!
Этого нет. Видите — нет его!
...Нет людей. Понимаете крик тысячедневных мук?
Душа не хочет немая идти,
а сказать кому?
Брошусь на землю, камня корою
в кровь лицо изотру, слезами асфальт омывая.
Истомившимися по ласке губами
тысячью поцелуев покрою
умную морду трамвая.
Слушайте ж: всё, чем владеет моя душа,
а её богатства пойдите смерьте ей! -
великолепие, что в вечность украсит мой шаг,
и самоё моё бессмертие,
которое, громыхая по всем векам,
коленопреклонённых соберёт мировое вече,
всё это — хотите? - сейчас отдам
за одно только слово, ласковое, человечье.
Когда ему было особенно тяжело, он просил друзей: «Отнесись ко мне».
У лет на мосту, на презренье, на смех,
земной любви искупителем значась,
должен стоять, стою за всех,
за всех расплачусь, за всех расплачусь.
Он и расплатился по полной.
У Володи Савина есть стихотворение, в котором проскальзывает небольшая перекличка с Маяковским, но не с трагическим, а с детским, добрым, жизнеутверждающим — таким он тоже — хоть редко, но бывал. Володе близко вот такое светлое состояние духа.

- Володя, прочти, где у тебя «кроха сын к отцу придёт».
На Земле же быть добру –
Истина простая,
Встал
и рано по утру
Новый мир ваяю.
Вот очистились в луче
Солнечного света
Города и сёла все,
Вся моя планета.
Встречу Солнышко кивком
С улыбкою лукавой,
Шар
земной
держу легко
На ладони правой.
Кроха сын к отцу придёт,
И услышит кроха:
«Солнце – это хорошо,
А ненастье – плохо».
Краской яркою
цветной
Разрисую тучи,
Дождь прольётся расписной –
Добрый
и могучий.
Все случайные черты
Смоет безвозвратно,
А прекрасные мечты
Прорастут стократно.

Потом, раз зашла речь о памяти поэтов, Володя прочёл «Памяти Вознесенского».
Вечная тема, вечный призыв: «Берегите поэтов». Вспоминается Окуджавское: «Берегите нас, поэтов, берегите нас...» Но как их уберечь? Уберечь хотя бы их поэзию. Читать, помнить...
Потом Коля Храпун прочёл своё давнее «Две дороги — Марина, Анна...»

Но я немного забежала вперёд. Начался наш вечер с поздравления Аркадия Цоглина с недавним днём рождения.

Поздравляем друзей
Пусть с некоторым запозданием, но мы поздравили Аркадия с этим знаменательным днём, пожелали ему дальнейших творческих успехов, новых публикаций, большого личного счастья и всего, чего бы ему хотелось от жизни.

И подарили ему вот эти книги, выбранные неслучайно.


Это книги историка Майкла Гранта, британского антиковеда, автора многих популярных работ по античной истории. Поскольку Аркадий пишет пьесы на темы античности, где в вольной трактовке использует древнегреческие легенды («Счастье Поликрата», «Ивиковы журавли», «Гектор и Андромаха»), а его пьеса «Ясон и Медея» заняла 2 место в международном конкурсе, то книга «Классическая Греция» может стать ему хорошим подспорьем в работе. А книга «Крушение римской империи», повествующая о тех фатальных пороках, что привели к её распаду, возможно, вдохновит Аркадия на какие-то новые исторические сюжеты. Тем более, что его сейчас печатает журнал «Загадки истории», и в следующем номере должны появиться три его новеллы.

Было решено эту традицию — поздравления с днём рождения — внедрить и в дальнейшем в нашем клубе. Я думаю, всем будет приятно, если мы будем друг друга поздравлять. За это было грех не выпить.

А потом я представила всем нового члена нашей компании — Людмилу Калинину.

Театралка
С Людмилой мы знакомы тоже лет десять уже, если не больше, она ходила на мои лекции, читала мои книжки, писала замечательные письма, выступала на моих творческих вечерах.



На последний творческий вечер она мне принесла такие шикарные розы — точь-в точь такие, какие мне дарил Давид — ярко-алые, на длинных толстых стеблях. Это была такая радость.
Часто разговаривали по телефону. Если мы все тут в основном гуманитарии, то Людмила технарь — физик. И меня всегда поражало, что у человека негуманитарной профессии такое тонкое понимание поэзии, чувство слова и такая органическая потребность во всём этом. Сама Людмила ничего не пишет, но она очень любит поэзию, очень её чувствует. Она даже с собой в сумке носит томики стихов и читает их в трамвае, когда едет на работу.
Помню, она мне писала в письме, как читала в трамвае мой сборник и к ней подсел какой-то мужчина.
- Что это вы читаете?
- Стихи.
- Кто автор?
- Это наша современница. Наша землячка…
Он сел рядом и стал тоже читать с ней вместе. А потом сказал:
- Хорошо, что кто-то ещё пишет стихи. И хорошо, что кто-то их читает.
Да, нас, пишущих и читающих всё меньше и меньше, особенно читающих, пишущих-то пожалуй побольше будет.
Я храню письма Людмилы, они меня так же подпитывают, как и её мои лекции и книги. Вот что она мне писала:
«Эти лекции — неповторимое явление, м.б. даже миссия… Это хлеб для души… Они спасают от черноты современной жизни.
Книги ваши люблю читать и читаю часто. Часто держу стихи в сумке.
Чтение такая необходимая часть жизни, не только времяпрепровождение, не только удовольствие, но и терапия, особенно поэзиетерапия. Это несуществующее слово пишу по аналогии, например, с ароматотерапией: человек дышит специальными ароматами и выздоравливает. Так меня иногда в жизни стихи просто спасают, вытаскивают из депрессии, хронической усталости. Ваши стихи и другие книги в том числе».
Оказывается, мои творения спасают кого-то от депрессии. А я сама нуждаюсь в том, чтобы меня кто-то спас.
И ещё мне запомнились её слова на лекции: «Я хожу сюда получать знания и получать силы для жизни». Где же мне самой взять силы для жизни? Как говорится, сапожник без сапог. Врачу: исцелися сам! В этом смысле я могла бы сказать о себе как Лариса Миллер:
Я не знаю, как вы, я-то еле держусь,
Потому в утешители вряд ли гожусь.
Но зачем-то я слёзы с улыбкой мешаю
И других и себя, как могу, утешаю.
Так и будем утешать друг друга. Однажды и Людмила дала мне силы для жизни. Этой осенью мы с ней тоже, как и с Надей, провели день в лесу. Правда, это было уже в ноябре, лес был сыроватый, голый, было прохладно, но всё равно было очень хорошо.

Воздух был такой чистый, прозрачный. И мне вспоминались строки Мандельштама:
Воздух пасмурный влажен и гулок.
Хорошо и нестрашно в лесу.
Легкий крест одиноких прогулок
Я покорно опять понесу.

Я думала, что мы после леса продолжим уик-энд у меня, но Людмила в этот вечер спешила в филармонию, ей достался горящий билет. Она довольно часто бывала в театрах, в консерватории, причём не только в Саратове. У неё дочка живёт и работает в Москве, и когда она к ней приезжает, то они часто идут на какие-нибудь театральные премьеры. И образ Людмилы у меня как-то обозначился словом «театралка». Хотя это, скорее всего, не главное, что определяет её человеческую и личностную суть, но мне она увиделась прежде всего вот с этой стороны. Поскольку я редко вылезаю из своей скорлупы, я подумала, хорошо, что в нашем клубе будет человек, который нам расскажет о каких-то театральных постановках, о том, что особенно понравилось, зацепило за душу, поделится впечатлениями, сориентирует нас в мире современного искусства. Это кстати касается и всех здесь присутствующих — если что хорошее увидели, послушали, прочитали — то давайте в общую копилку вносите свои пять копеек.
А сейчас хочу спросить Людмилу — поскольку у нас сегодня тема одиночества, - можете вспомнить какой-нибудь спектакль, где эта проблема поднималась особенно ярко, остро?



Людмила рассказывает о полюбившихся постановках
«Учитель, воспитай ученика»
И ещё кое о чём хочу сказать вдогонку прошедшему занятию. По поводу Валентины Михайловой.

В прошлый раз я представляла её как жену художника, как «изысканку, утонченку, гурманку», всё это прекрасно, но, как оказалось, недостаточно. Я не сказала о ней главного. Много лет Валентина преподавала в техникуме отраслевых технологий и финансов. Казалось бы, растить будущих финансистов — какое это может иметь отношение к творчеству. Оказывается, имеет, и ещё как! На нашем первом занятии Валя дала мне прочитать вот эту маленькую брошюрку — это сборник творческих работ её учеников.

Она основала там кружок «В мире прекрасного», в котором было три направления: поэтический театр, литературная студия и искусствоведение. В этом сборнике были собраны работы её учеников с 2000 по 2008 год, это были стихи, эссе — не школьные сочинения, нет, настоящие полноценные эссе, рецензии на спектакли разных театров, на выставки музеев. И даже такой жанр фигурировал как проза.


И вы знаете, я была поражена высоким уровнем этих работ. Трудно было поверить, что это пишут не студенты-филологи, не слушатели факультета искусств, а пятнадцатилетние подростки, ученики техникума отраслевых технологий. Да, не все в равной степени, конечно, но попадались такие жемчужинки, такие талантливые откровения, незаёмные мысли, интересные тексты…
Из стихотворных подборок мне понравились стихи Алёны Володиной, я сразу почувствовала в ней поэтический дар. Чтобы не быть голословной, процитирую:
Любимому
Я целую тебя как целуют
звёздное небо ночное.
Небо звёзды взрывает и гасит,
я свои поцелуи гашу.
Мою жизнь кто-то тихо диктует,
ты не знаешь, что это такое?
Кто мне сердце под ночь перекрасил?
Я как солнце сердце хочу!
Я зову тебя через ночи,
через годы и километры,
через мокрые километры
ополчившихся толп домов.
Слышишь, я зову тебя — молча…
Мои мысли уносит ветром.
Ты меня никогда не услышишь
сквозь шорох бумажных листов. -
Конечно, не всё совершенно, но поэзия вполне ощутима, она безусловно здесь присутствует. А вот ещё:
***
Если бросить каплю света на ночные небеса,
видишь, там моя планета ходит точно по часам.
Если вылить солнце лета — путь укажешь кораблям.
Вот она — моя планета, вот она — моя земля!
Если даже здесь омлеты ценят больше, чем цветы,
я люблю свою планету — просто здесь бываешь ТЫ!
И аллитерация ей уже знакома, она владеет поэтическими приёмами.
***
До чего же я пустая —
будто банка из-под сока.
Отчего же я такая?
Почему я одинока?
И кровать моя устала
от одной и той же позы,
я лежу под одеялом
и глотаю молча слёзы…
Я сердиться перестала…
Самый тонкий нерв не рвётся.
До чего же я пустая —
будто небо из-под солнца.
Эта девочка талантлива, это несомненно.
Поразили и некоторые рецензии (на спектакли театра «Версии» на пьесу Мольера «Школа жён», ТЮЗа по Островскому «Женитьба Белугина», театра Драмы на пьесу Уильямса «Трамвай Желание», рецензии на выставку в музее Радищева «Три века русского искусства», на выставку авангарда «Острые углы»).
Особенно мне понравилась рецензия Гали Мулюковой на выставку «Женский портрет 16-19 веков» в музее Чернышевского — тем, что она нашла какие-то свои слова, не из интернета, не услышанные от экскурсовода, это её собственный взгляд, по-детски непосредственный и в то же время наблюдательный, острый.
«...На нас смотрели глаза женщин разных веков: кто-то смотрел свысока, кто-то с грустью в глазах, а чей-то взгляд был совсем отрешённым. Социальное положение той или иной дамы угадывалось не только в её наряде, но ещё и во взгляде высокомерном, в чертах лица, в осанке… На меня большое впечатление произвела картина «Музыкантши», на которой изображены три девушки, но, как ни странно, у всех у них одинаковые лица. Если честно, то это изображена одна и та же девушка, но в разных позах, местах, одеждах и с разными музыкальными инструментами. Художник нарисовал её в «пространственном» виде, но везде в глазах у неё отражается грусть. Может быть, это из-за музыки?..» -
как пытливо мысль ребёнка пытается проникнуть в суть этой картины неизвестного нидерландского художника.

Впечатлили эссе на тему «Война коснулась моей семьи», особенно то, где девочка (Елена Злобина) — пишет о своём деде, прошедшем всю войну, воевавшем в Сталинграде, награждённом многим орденами и медалями за героизм и всю жизнь писавшим стихи о войне, причём очень неплохие, она их там приводит. И этот дед 25 лет преподавал в том же техникуме, где его до сих пор с теплом все вспоминают.
«Весна. Май. В комнате открыто окно, дед сидит на диване, он уже плохо видит да и слышит тоже. Но в руках у него блокнот и ручка — дед сочиняет стихи.
Май 2005 года. 60 лет со дня Победы. Победы в одной из самых кровавых войн в истории человечества.
Победу вырвали из ада,
нас жёг огонь и ел нас дым.
В окопах был я Сталинграда,
откуда вышел чуть живым, -
выводит дед в блокноте, и по щекам у него текут слёзы...»
Такое нетривиальное начало. Так душевно написано о деде. У меня отец тоже в Сталинграде воевал. Он родом оттуда.

И очень понравилось эссе Ксении Клевцовой «Мой любимый уголок природы» .
Вот послушайте отрывок:
«В ста км от города, в районе со странным названием Дурасовский, стоит маленькая деревенька. Всего сто одноэтажных деревянных домиков живописно раскиданы по склону холма. Утопая в пушистой зелени яблочных садов, они словно перенеслись сюда из далёкого прошлого. Ничто не напоминает здесь о цивилизации, о шуме и пыли больших городов. Тишина, покой и размеренное течение жизни не нарушается здесь ни экономическими кризисами, ни войнами, ни обвалами акций.
Именно здесь, в этой глуши и находится мой любимый уголок — там, где между высоких раскидистых ив и мягкой луговой травы течёт небольшая равнинная речка...»
У меня обычно критерий в живописи — хочется ли мне войти в эту картину и пожить в ней. Вот здесь так вкусно описан этот уголок природы, что просто дико захотелось там побывать и пожить.
«Деревянный мосток ведёт через заросшие камышом берега прямо к воде. Вода здесь такая чистая и прозрачная, что временами, особенно в хорошую погоду, можно увидеть стайки блестящих рыбок, резвящихся на дне. Высокие пышные ивы склонились к воде, и сквозь их листву с трудом пробивается солнечный свет, образуя на поверхности воды причудливые узоры. В высоких зарослях камыша живут лягушки и маленькие чёрные узки, бегают водомерки и летают стрекозы. Жизнь как будто замерла здесь 100 или 200 лет назад, исчезло время, пропали секунды, часы и минуты, и осталось только то незримое чувство покоя, которое так остро ощущаешь, приходя сюда.
Здесь не плавают лодки, здесь не слышно человеческих голосов, здесь такая тишина, что её можно потрогать руками, в неё можно окунуться словно в воду. В этой тишине тонут все проблемы, растворяются трудности и горести, и жизнь кажется лёгкой, словно облако на небе...»
Хочется цитировать бесконечно. Я просто влюбилась в этот уголок - какой-то первозданной, есенинской, рубцовской природы. Как чудесно описала его эта девочка! Какое чувство слова, языка! Это просто классика. Это супер как хорошо и талантливо.
А последнее «произведение неопределённого жанра» обозначенное как «проза» под названием «Улыбка в подарок» (Катя Герасимова) - откровения девочки, не побоявшейся признаться в том, что лежала в нервном диспансере, описавшей свои переживания там и злоключения из-за первой неразделённой любви — это вообще выходит за рамки сборника ученических работ, это совершенно зрелая работа, настоящее эссе уже сложившегося мастера пера.
Валь, я снимаю перед тобой шляпу. Ну да, говорила она, вы все творческие, а она ничего не пишет. Но зато под её руководством вырастали таланты. Учитель, воспитай ученика! - ты воспитала. Я хорошо понимаю, что за этим стоит — за этой тоненькой брошюркой, какой титанический труд. Многие дети рождаются с искорками таланта, но эти искорки надо раздуть в пламя, надо формировать вкус, пробуждать здоровое честолюбие, надо было водить детей на спектакли и выставки, говорить с ними, обсуждать пьесы, постановки и картины художников, давать им темы для эссе, без всяких скидок на возраст и негуманитарный профиль учебного заведения, надо было читать им стихи, заниматься, пестовать в них творческую жилку. Это дорогого стоит. И это, может быть, даже важнее того, чем самому писать или рисовать.
Ты воспитала в детях любовь к искусству, к творчеству, с этим они пойдут по жизни, пусть они не станут литераторами и искусствоведами, но они будут интересными собеседниками, культурными образованными людьми.
Так что можешь больше не прибедняться — "я не творец", ты воспитывала творцов, ты возделывала свой сад на той скудной ниве, что была тебе отпущена, и доказала, что дух дышит везде. Валя, ты не изысканка-гурманка, ты альма-матер, как наш Аяцков говорил в интервью: «альма-матерь» (смех). Вот это твой образ теперь — альма-матерь. Кроме шуток.
Я помню, как отец во мне культивировал творческие импульсы, когда я случайно на прогулке с ним проронила две строчки: «листья кружатся в медленном танце...», и он носился с этими строчками, добился, чтобы я их дописала, всем читал, в радиоузел меня привёл на Провиантской, чтоб я их по радио прочла, всячески стимулировал, и мне самой уже хотелось написать что-то ещё. Если бы не он — всё бы во мне, наверное, заглохло на корню.

Таких как он — он один
Теперь несколько слов об итогах прошлой нашей встречи. «Ничто никогда не проходит бесследно!», как поёт Градский. Я выложила рассказ о нашем клубе в интернет и получила много откликов. Ни одного плохого, все — позитивные и восторженные. Если я в прошлый раз одного Лёшу ими смущала, то сегодня буду смущать всех. Но Лёша, конечно, огрёб по полной… я имею в виду комплиментов, комплиментов!)) - испугался! (Вспомнила, как один читатель мне написал письмо, там всякие хорошие слова, и вдруг в конце: «Так будьте же вы трижды… счастливы!»)
Отзывов много, поэтому я буду читать их вам частями, перемежая вашими выступлениями. (Зачитываю некоторые из них)
Дохожу до отклика Татьяны Угадовой из Москвы:
« Ах, хорошо! Особенно понравился Алексей Солодов... Ищу "Дворник и его друзья". Рассказ "Дворник взялся за старое"- блеск! (дала ссылку - НК)
Уже читаю... Спасибо!»
Говорю Лёше:
- Лёша, когда в прошлый раз я рассказала твою дворницкую эпопею и прочла твои стихи по этому поводу, это произвело сильное впечатление на Валентину. Она мне позвонила на другой день и говорит: «У меня не выходит из головы Лёша. Как представлю, как он там метёт, такой худенький...» И сказала, что впервые в жизни написала стих, и вдохновил её на него Лёша! Лёш, цени — первое стихотворение человека! Надеюсь, не последнее. Валь, прочти.
Валентина читает:
Как, дворник, руки твои ловки -
похоже, ты вошёл во вкус, -
всю нашу жизнь, её обломки,
мети, мети под старый куст.
Присядь на сей обломок жизни
и напиши в который раз
для неулыбчивой отчизны
юмористический рассказ.


Лёша был тронут. Сказал, что ему никто ещё не посвящал стихов.
- Валя, с почином тебя! Лиха беда начало. Может, ещё и рассказ юмористический тоже напишешь. Кстати, сейчас он нам его прочитает. Лёш, я знаю, у тебя и новые есть, но тут и твои старые не знают, прочти, пожалуйста, моё любимое про Каца — это вообще шедевр юмора. Но это не про нашего Каца, это вообще, вымышленный персонаж. Все совпадения случайны.
Лёша читает рассказ «Кац уходит» (второй рассказ).



|
|
Понравилось: 3 пользователям
Клуб «Гармония момента». Часть пятая. |

Есть ещё такой эффективный метод, как мотивационые цитаты. Цитаты, которые мотивируют вас к чему-то нужному и полезному для вас, необходимому для души. Они у каждого свои. Это своеобразные девизы в жизни, которые вам помогают удержаться на плаву.
Симонов: «Ничто нас в жизни не может вышибить из седла».
Скарлетт: «Я подумаю об этом завтра».
Мотивационные цитаты — это простой способ начать день с чего-то позитивного и сильного.
«Когда мы просыпаемся, у нас есть два варианта: мы можем двигаться к своей цели - или нет». Начни свое утро с этих мотивационных цитат, они вытащат тебя из постели и направят в нужную сторону.
«Жизнь не обязана давать нам то, чего мы ждём. Надо брать то, что она даёт, и быть благодарным уже за то, что это так, а не хуже». (Маргарет Митчелл «Унесённые ветром»)
«Самая большая глупость — это делать то же самое и надеяться на другой результат». (Альберт Эйнштейн)
"Человек несчастлив потому, что не знает, что он счастлив; только потому. Это все, все! Кто узнает, тотчас сейчас станет счастлив, сию минуту". Достоевский» («Бесы» )
По второму кругу
После обсуждения темы депрессии вернулись к творчеству. Володя прочёл ещё несколько стихотворений из своей объёмной папки, Аркадий посмешил всех Жванецким, Надя спела задорную «Утушку луговую». Прямо захотелось пуститься в пляс! Эх, жаль, королевство мало, разгуляться негде!

Надя поёт «Утушку луговую»

Надя читает что-то смешное из своего старого, перестроечной поры
Товарищ Ельцин, Вы - большой политик,
На рельсы обещались лечь костьми,
а я - простая женщина России,
С рабочим-мужем и двумя детьми...
Узнав, что у Коли есть единственная за жизнь картина, Надя вспомнила, что и у неё тоже одна есть. И принесла нам показать. Называется «Закат на Волге». Мне нравится.

Вспомнила депрессивный закат Есенина. Он предчувствовал свой близкий конец, почти физически ощущал его неумолимое приближение. Из воспоминаний В. Эрлиха: «Июнь 1925 года. Мы стоим на балконе квартиры Толстых (на Остоженке) и курим. Перед нами закат, непривычно багровый и страшный. На лице Есенина полубезумная и почти торжествующая улыбка: «Видал ужас? Это – мой закат…» Надин закат — жизнеутверждающий. Он даже чем-то похож на восход.
А потом Лёша читал свои стихи. И это было грустно. Но печаль была светла…

***
У меня парашют не раскрылся, увы,
И пятнадцать секунд до зелёной травы.
Я всё ждал, что раскроется он наконец,
Ведь пятнадцать секунд — и полёту конец!
Я руками, как птица, махал на лету
И внезапно проснулся в холодном поту.
И испуганно сердце стучало в груди:
Всё казалось, что встреча с землёй впереди.
И, ударясь о землю, на небо взлечу,
И в старинной церквушке поставят свечу…
Ничего не случилось, я жив и здоров,
На работу пришёл, и мой сменщик Петров
По-приятельски пару стрельнул папирос.
— Как дела? — затянувшись, мне задал вопрос.
— Всё нормально, — ответил, обиду тая.
И подумал, что жизнь не раскрылась моя.
Я неверный, наверное, выбрал маршрут,
Моя жизнь не раскрылась, как тот парашют.
Нераскрытая жизнь — как короткий полёт.
Только в небе куда-то летит самолёт,
А я падаю вниз и вот-вот разобьюсь,
Но развязки такой я совсем не боюсь.
Вот ещё один вздох и ещё один миг,
Но не слышит никто мой испуганный крик.
Деревянная церковь устала терпеть,
Ей бы душу мою поскорее отпеть.
Всё готово уже, и отец Никодим
Мне простит, что я был не однажды судим,
И с Петровым ругался, и женщин бросал,
И с ошибками в школе диктанты писал,
Что другие погибли, а я невредим –
Всё простит мне сегодня отец Никодим.
Уж стоят под иконами свечи во фрунт,
А в запасе — пятнадцать коротких секунд.

«Я неверный, наверное, выбрал маршрут, Моя жизнь не раскрылась, как тот парашют». Какой силы искренности строки! Но сколько людей, считающих свою жизнь раскрывшейся, удавшейся, с которыми поэт — да и многие из нас — никогда бы не поменялись?
***
Не часто, конечно, но всё же бывает:
Лишь северо-западный ветер подует –
Над городом странный мужчина летает,
И это давно никого не волнует.
Поверьте, его вы узнаете сразу,
Обманывать нет у меня основанья.
Он бережно держит волшебную вазу,
А в вазе — заветные наши желанья.
Хранит фотографии в правом кармане,
Пытаясь вернуть то, что было когда-то.
Быть может, когда-нибудь в прошлом романе
Он что-то забыл. И теперь виновато
Над городом кружит, как дивная птица,
И ищет кого-то: тебя ли, меня ли…
А может, он ищет знакомые лица,
А лица давно адреса поменяли?
Он крыши домов поливает слезами,
А в стареньком парке сирень расцветает…
Я всё это видел своими глазами:
Мужчина над городом нашим летает.

У Валентины последние строчки вызвали ассоциацию с Шагалом. Но у Шагала летали двое, а тут — в гордом одиночестве. А мне вспомнился Бродский, его полёт одинокого ястреба. И бессмертный возглас Катерины: «отчего люди не летают так, как птицы?» И фильм Балаяна «Райские птицы», виденный недавно...

И ещё у него о полётах:
***
Не смотри на небо часто:
можешь улететь.
Небо алчно и зубасто,
есть у неба сеть.
Осторожней, кто не знает:
небо — как магнит.
Никого не отпускает,
всех к себе манит.
Улетишь и не вернёшься:
нет пути назад.
В тёмном небе задохнёшься.
Небо — это ад.
Да, небо тоже может стать адом… Даже оно.
До этого разговор о депрессии шёл в том ключе, как из этого состояния выйти. А после этих стихов он вышел на новый виток — а нужно ли, всем ли и всегда нужно из него выходить?
Избавляться ли от боли?
Недавно я открыла для себя книгу Экхарта Толле «Новая земля. Новый образ жизни».

Это вторая часть трилогии, ещё была первая часть: «Сила момента сейчас».

В подзаголовке говорилось: «книга для тех, кто интересуется вопросами духовного развития и стремится гармонизировать свою жизнь».
Э. Толле - всемирно известный духовный мастер, как его называют, философ, психоаналитик, книги которого стали мировыми бестселлерами, переведены на все языки мира. Мне показалось, что это именно то, что мне нужно, я загорелась, поехала и купила — был последний экземпляр в единственном магазине. Ещё в трамвае стала жадно читать. Первую часть нашла в Сети. Но пока у меня двойственное впечатление от этих книг.
Толле учит жить настоящим моментом, учит спокойствию, душевному равновесию, как ощущать себя счастливым в любых обстоятельствах, как жить, не заморачиваясь страхами, тоской по прошлому. "Ты - небо. А облака - это то, что происходит, приходит и уходит".
В книге есть глава «Болевое тело», которая учит тому, как избавиться от душевной боли.

Какие есть для этого методы, способы и приёмы.
Но меня смущали некоторые моменты. Ведь кроме благодати и гармонии есть правда жизни, включающая в себя многое. Есть писатели - Горький, Щедрин, Лесков, Чехов и другие, открывающие нам её, и не всегда нам от этого комфортно и легко, да и не должно быть, душа обязана трудиться, как известно. А получается, что всё это нужно выбросить из головы и памяти, как балласт, мешающий нашему безмятежному счастью. Не станет ли человек, обученный всем технологиям счастья и благополучия, похожим на робота?
Вспоминается рассказ Т.Толстой «Чистый лист», где депрессивному герою друг предложил сделать операцию по удалению души. Депрессия исчезла, но он превратился в бодрого жизнерадостного дебила. Пока живёт в тебе тоска по близким, пока ты любишь и помнишь - душа страдает, но живёт. А иначе - бодрый дебилизм и животное существование. Ну, не всё так категорично - "или-или", есть, конечно, и промежуточные состояния, но для меня очевидно одно: настоящее родится только из боли, из выстраданного.
У Лёши есть сборник «Пока душа не успокоится».

Вот-вот последний ангел скроется,
поняв, что делал всё не так.
И лишь душа не успокоится,
не успокоится никак.
Но пока душа жива — она не успокоится никогда.
Герой рассказа Т.Толстой, измученный тоской и неразрешимыми жизненными проблемами, прослышал, что в одном научном институте делают частным образом операции: удаляют душу. После чего «люди выходят совершенно обновлённые. Необычайно обостряются мыслительные способности. Растёт сила воли. Все идиотские бесплодные сомнения полностью прекращаются. Всё у них о'кэйчик, живут припеваю-чи, над нами, дураками посмеиваются».
Игнатьев долго не мог решиться на эту операцию, несмотря на уговоры друга. «Не хочу, не хочу, не хочу, не хочу, думал Игнатьев. Не удержать лето слабыми руками, не предотвратить распада, рушатся пирамиды, трещина пролегла через моё трепещущее сердце...» Но деловой приятель его убеждает: «Жизнь, Игнатьев, жизнь! Здоровая, полноценная жизнь, а не куриное копание! Карьера. Успех. Спорт. Женщины. Прочь комплексы, прочь занудство! Ты посмотри на себя: на кого ты похож? Нытик. Трус! Будь мужчиной!» И вот непоправимое произошло.
«Краем глаза увидел, как прильнула к окну, прощаясь, рыдая, застилая белый свет, преданная им подруга — тоска, — и уже почти добровольно вдохнул пронзительный, сладкий запах...» Однако вместо волевого победителя жизни с кресла после ампутации души встаёт бодрый дебил: «Ну что, док, я могу мотать? Всё мне сделал, без дураков?» — хлопнул доктора по плечу. Крепкими пружинистыми шагами сбежал с потёртых ступеней, лихо заворачивая на площадках. Сколько дел — это ж ё моё! И всё удастся. — Игнатьев засмеялся. — Солнце светит. По улицам бабцы шлёндрают. Клёвые...»
Поэту нельзя без души, как бы она ни болела. Как точно об этом у Солодова:
Ныла ночами открытая ранка:
как надоела ей боль-квартирантка!
Боль вытекала по капле, но снова
вдруг вспоминалось забытое слово,
праздники, ссоры, улыбка, разлука…
Боль без промашки стреляла из лука.
То возвращалась, то вновь уходила,
рваные раны мои бередила,
бедную память тревожа ночами,
старыми фото, былыми речами…
Я эту боль на бумаге оставил.
Текст написал, запятые расставил.
Вот эти буквы, каракули, точки,
горькие слёзы, неровные строчки,
долгие проводы, краткие встречи,
яркие звёзды и тихие речи.
Спряталась робко под эту обложку.
Пейте её по чуть-чуть, понемножку.
Герою «Чистого листа» жалко было его подругу-тоску, которая его так мучила. И там потрясающее место, когда он уже сел в кресло для ампутации души, и как в последний раз к окну прильнула его подруга тоска, шелестя листьями, словно шепча ему что-то, умоляя не делать этого… И вот это останавливает, боишься, что результат лечения будет хуже болезни, убьёшь в себе что-то важное, дорогое… Какой-то кусочек души в себе ампутируешь.
В связи с эти мне очень близко стихотворение Валерия Черешни:
Живи, дурак, несуществующим,
пылинки в воздухе лови,
перебирай в мозгу тоскующем
воспоминания любви.
Пускай плывут густым течением,
гольфстримом греют пустоту
холодной жизни, в средостении
пусть заполняют немоту.
Живи слабеющим, мерцающим,
оскудевающим живи,
по этим водам иссякающим,
во тьме барахтаясь, — плыви.
Пусть угасающим свечением
ещё продлится краткий миг,
с его уже неслышным пением,
но ты настиг его, настиг.
Как человек умеет выразить невыразимое! Вот это «ты настиг его, настиг» - это остановленное прекрасное мгновение. Если удаётся написать удачную строчку, запечатлеть солнечный зайчик, пришпилить к бумаге — вот это «настиг его», пусть на мгновение, уловил гармонию момента. Мне это дороже каких-либо материальных благ.
Я боюсь, что если я научусь так владеть своим эго, управлять своими мыслями, эмоциями, как учит Толле, наступать на горло своим настроениям, я стихи писать разучусь. Они же рождаются из боли, из душевного хаоса, из страданий… Как это у Ходасевича: «Восстаёт мой тихий ад в стройности первоначальной». Вот это останавливает. «Вот что сбивает нас, вот в чём причина того, что бедствия так долговечны...».
А что вы на это скажете, мои дорогие виртуальные друзья? Те из них, кто дочитает, конечно. Какую модель поведения предпочли бы — Обломова или Штольца? Страдающего рефлексирующего поэта или душевно здорового бодрячка? Или может быть есть какая-то золотая середина?
Следующую тему предложила такую:
Одиночество и одинокость. В чём разница между этими состояниями? В каком случае оно благо, в каком несчастье? Каковы пути выхода из него. Всем ли нужно из него выходить.
Гости призадумались. Беседа обещает быть интересной…

Решили встречаться по субботам, с периодичностью в три недели.
Уходя, все оставляли свои впечатления в альбоме, который я завела по примеру салонов Золотого и Серебряного века.

У нас сейчас это называется гостевая книга, книга отзывов, но мне больше нравится «альбом». Нашла его в своих закромах, думала, куда бы применить и вдруг — осенило. А вот и первые записи.


Вечер прошёл как на одном дыхании. Четыре часа пролетели незаметно. Замыслы об этом клубе я вынашивала уже давно. Кажется, у меня получилось!

Переход на ЖЖ: https://nmkravchenko.livejournal.com/469667.html
Продолжение здесь -
(встреча вторая): https://www.liveinternet.ru/users/4514961/post453706737/
|
|
Понравилось: 2 пользователям
Клуб «Гармония момента». Часть четвёртая. |

И не могу не сказать о ещё очень важном факте колиной биографии. Если я только сейчас пришла к идее своего домашнего клуба, то Коля создавал такие клубы у себя на дому ещё с 80-х годов. Собирались по четвергам. Практически всю жизнь. Ну, может быть, с перерывом на ремонт, который надо было делать после таких встреч. Сначала это был клуб поэтов «Катулл», потом клуб бардов «Дорога», потом стали собираться краеведы, потом все вместе... И в стихах это у него мелькает:
...Беда не смевшему запеть
или дослушать.
Душе так хочется успеть
постигнуть душу.
Чужая куртка на плечах
паролем братства.
Дай бог забыть о мелочах
и вновь собраться.
***
Я останусь в памяти друзей.
Лишь бы только среди шума тризны
Волжских далей светлый Колизей
не услышал лжи и укоризны...
Причём если я тщательно подбирала состав нашей аудитории, чтоб никто мне компанию не испортил, то Коля смело звал всех желающих, это был дом открытых дверей, (видимо, по призыву Окуджавы: «Не запирайте вашу дверь, пусть будет дверь открыта»), у него вот в такой же комнате собиралась куча народу, сидели на спинке дивана, чуть не на головах друг у друга, к нему приходили даже люди с улицы, и всего только один раз одному гостю за всё время были вынуждены сказать: «Пошёл вон», а так все были прекрасные люди, даже с улицы. (Смех за столом). Ну, не знаю, может, я когда-нибудь тоже приду к такой широте души, но пока я к подобному не готова.

И ещё одна важная ипостась колиной деятельности — мы её оставим на следующий раз, потому что это тема более подробного разговора — это его краеведческие раскопки и изыскания. Только два слова об этом. Когда в 80-е мы все сдавали макулатуру за талончики, на которые получали книги, Коля смекнул, что в этих макулатурных развалах и свалках можно отыскать вещи куда более интересные и редкие, чем те, которые ты потом за эту макулатуру получишь. И он выпросил разрешение рыться там по часу-два в день. Поиски увенчивались успехом. Так, однажды он нашёл там дневник девочки, который та вела в Саратове в 20-е годы, это очень любопытный исторический документ, по которому уже в университете защищают дипломы.


И ещё Коля открыл одного краеведа, никому не ведомого, Николая Минха, который пишет, как он считает, лучше Гиляровского, и посвятил ему прекрасное стихотворение, там меня поразило сравнение сверкающего тела Волги с телом девушки, перекличка с Рембрандтом.
Прочти, Коля.

Коля читает стихи
Николаю Минху
Оставил реку, словно женщину,
уехав навсегда в столицу,
но в янтаре увековечены
друзей и старожилов лица.
Насильники прошли, как конница,
полнела Волга и пустела,
а издали девичьим помнится
её сверкающее тело.
Так под защитой кисти Рембрандта
подруга юная спокойна.
А для волжанина милее та,
что дышит под его рукою.
Всплывают золотою рыбкою
огни, затоны и причалы…
И смотрит Саския с улыбкою,
и Волга блещет величаво.

Теперь небольшой перерыв — кому-то чай-кофе-бутерброд, кому-то выйти или позвонить, слава богу курящих тут нет, а минут через пять продолжим тему депрессии. По идее с неё надо было начать, но я хотела сначала представить вас всех друг другу.
Я подготовила несколько интересных фактов на эту больную тему, а потом пойдём по второму кругу. Лёша у нас ещё стихов не читал, Аркадий хотел поделиться афоризмами Жванецкого, которые, по его мнению, могут помочь от депрессии, Надя ещё нам споёт. Итак, антракт на 15 минут. Пойду чайник снова поставлю.
Депрессия
Итак, приступим.

По статистике 350 миллионов человек страдают от депрессии в течение жизни. Каждый двадцатый человек на планете подвержен депрессивным состояниям и смену времен года ощущает особенно остро. От затяжной депрессии страдали многие известные поэты, знаменитые исторические личности. Я могу целую лекцию на эту тему прочитать, но скажу только вкратце самую суть — как они боролись с депрессией и какие методы применяли. Причины этой болезни размыты, не выявлены, но характер этого психического расстройства универсален и может поразить любого, будь ты никому не известный неудачник или признанный обществом гений.
Авраам Линкольн боролся с депрессией всю жизнь.

До того как занять Белый дом, 16-й президент США пережил три случая клинической депрессии и несколько раз пытался покончить с собой, называл себя «самым несчастным человеком на свете», наблюдался у врачей, принимал таблетки.
В конце концов Авраам Линкольн вывел для себя спасительную формулу отношения к жизни: «Я слишком хорошо знаком с разочарованием, чтобы огорчаться по этому поводу». В период обострения он не стеснялся обращаться за помощью к друзьям и читал сентиментальную поэзию.
Любопытно, что до начала XX века термин «депрессия» не использовался. То, чем страдал Линкольн и миллионы людей до него, называлось древнегреческим словом «меланхолия». Сплин, ипохондрия, хандра. Гиппократ описывал ее симптомы еще в IV веке до н. э., при этом считая, что меланхолия появляется из-за избытка черной желчи в организме. С тех пор медицина шагнула достаточно далеко, но к пониманию первопричин депрессии так и не приблизилась.
Химический дисбаланс, атрофия мозга, гормональные нарушения, инфекции, эволюционный механизм, дурные гены, плохое воспитание, социальная изоляция — теорий о причинах возникновения болезни много. Депрессия проявляется себя как комплексное заболевание, и единственное, что можно сказать наверняка — она часть природы Homo sapiens. Животные ей не подвержены. Помощь психиатра, антидепрессанты помогают не всем, многие кончают жизнь самоубийством.
В современной психиатрии выделяют малую, большую и атипичные депрессии. Чтобы определить, какая у тебя — есть специальные тесты.
Марина Цветаева, один из самых депрессивных русских поэтов XX века.

Тема смерти, вечного страдания и беспросветного отчаяния пронизывает ее творчество. Цветаева спасалась от депрессии в поэзии и любви, но, в отличие от Линкольна, не нашла верную формулу и повесилась в последний день лета 1941 года.
Зигмунд Фрейд лечился с помощью психоанализа.

Он считал, что необходимо принять некоторые установки априорно: понять, что нужно быть сильнее, верить в лучшее, держать себя в руках, поставить цель, влюбиться, выходить за пределы своего закрытого мира. Нужно себя отвлечь чем угодно: чем дольше, тем лучше.
Но срабатывало не всегда. В молодости он помогал себе с помощью кокаина, который тогда был легален и продавался в аптеках как медицинское средство широкого действия. Несколько лет он прописывал его и своим пациентам. Фрейд на себе изучил все побочные эффекты от приема наркотика и написал несколько научных статей о веществе, где проклял его использование в медицинских целях.
Дальше он искал спасения от болезненной апатии в самоанализе. Придуманный им психоаналитический метод принес доктору всемирную известность. В 1917 году он написал эссе «Печаль и меланхолия», в котором предположил, что у депрессивного расстройства — патологическая природа, и она поддается противодействию.
Франц Кафка спасался творчеством, вёл интроспективный дневник — т. е. дневник самонаблюдений, где фиксируешь свои чувства и ощущения.

Токсичные поэты
Депрессией страдал Блок.

Как тяжело ходить среди людей
И притворяться непогибшим... -
это пишет уже живой мертвец, в котором всё живое, радость жизни — умерло, ничего не хочется.
Блок спасался идеальным порядком — на столе, в комнате, всё было очень аккуратно, волосок к волоску, карандашик каждый очинен, бумага — ровненькими стопками, каждая вещь на своём месте, чтобы уравновесить тот хаос и дисгармонию, что творились внутри. Если не в душе, то хоть на столе порядок. Это его как бы успокаивало, что ли.
Корней Чуковский вспоминал, как поразила его комната Блока кричащим несходством с её обитателем. В комнате был уют и покой размеренной, благополучной жизни, на столе — педантичный порядок, а сам хозяин казался воплощением бездомности, неуюта, катастрофы.
Милый друг, и в этом тихом доме
лихорадка бьёт меня.
Не найти мне места в тихом доме
возле мирного огня!
Голоса поют, взывает вьюга,
страшен мне уют...
Даже за плечом твоим, подруга,
чьи-то очи стерегут!
Чуковский вспоминал, как часто Блока можно было встретить в каком-нибудь гнилом переулке, по которому он нетвёрдой походкой пробирался домой «с окостенелым лицом и остановившимся взглядом». Из письма Блока Е.Иванову: «Я — слепой, пьяный, примечающий только резкие углы безумий...»
Блок нередко был на грани самоубийства. Вот как он описывает это состояние:
Ведет - и вижу: глубина,
Гранитом темным сжатая.
Течет она, поет она,
Зовет она, проклятая.
Я подхожу и отхожу,
И замер в смутном трепете:
Вот только перейду межу -
И буду в струйном лепете.
И шепчет он - не отогнать
(И воля уничтожена):
"Пойми: уменьем умирать
Душа облагорожена.
Пойми, пойми, ты одинок,
Как сладки тайны холода...
Взгляни, взгляни в холодный ток,
Где всё навеки молодо..."

Описан классический случай — соблазн суицида, возможно, этим бы и кончилось, если бы он не умер в 40 лет. Диагноз: острый эндокардит (воспаление внутренней оболочки сердца), и психастения (невроз).
В какой-то мере Блок — токсичный поэт, если рассматривать его с позиций душевного здоровья.
Илья Эренбург писал: «У нас есть прекрасные поэты, и гордиться можем мы многими именами. На пышный бал мы пойдем с Бальмонтом, на ученый диспут — с Вячеславом Ивановым, на ведьмовский шабаш — с Сологубом. С Блоком мы никуда не пойдем». («Портреты русских поэтов» )
Да, не пойдём. И сколько таких поэтов, с которыми хочется не идти, задрав штаны, как за комсомолом, а летать, мечтать, дышать. Блок один из самых колдовских, магических поэтов.
Он поднимался на вершины, недоступные другим. От него исходило молчание иных миров. Подавляющее большинство людей живут внешней жизнью, а Блок был из тех, в ком безмерно превалировала внутренняя жизнь. В своём дневнике он пишет: "Что мне делать с этими мирами, что мне делать с собственной жизнью, которая отныне стала искусством, ибо со мной рядом живёт моё создание — не живое, не мёртвое — синий призрак". Он шёл по жизни как сомнамбула с закрытыми глазами и простёртыми руками.
Но то, что прекрасно для поэзии — плохо для жизни.
Блок - Менделеева, Ходасевич — Берберова, Маяковский — Лиля Брик — примеры союзов двух совершенно разных по психическому складу людей, душевно здоровых и внутренне дисгармоничных.



Любовь Менделеева пережила Блока на 18 лет и умерла в 1939 году от сердечного приступа в 58 лет. Среди её бумаг — черновых записей, писем, обрывков воспоминаний (она так и не успеет их закончить) — в её архиве хранились два аккуратных листка с подведёнными итогами жизни. На одном она записала все свои радости: чудные платья, парчи, кружева, шелка, балетные спектакли, модные журналы и даже взбитые сливки. На другом — бесстрастно перечислила шесть главных ошибок своей жизни. В их числе — замужество и несостоявшийся развод с Блоком.

Курьёзные методы
Есть и курьёзные примеры: как, например, Тургенев лечил свои депрессии?

Рассказывал он так. Сорвал однажды штору, скрутил из нее двухметровый колпак, нацепил на голову и несколько часов простоял в колпаке, уткнувшись носом в угол. Уверял, что беспокойство как рукой сняло. (Игорь Вирабов, биограф Тургенева)
Когда я это прочла — так хохотала, что депрессия действительно отступила.

Ещё об одном забавном методе сообщил мне мой френд из фейсбука:
«Наталия, у меня, безусловно, есть очень сильный секрет, который меня спасает от депрессии… Я его уже использую больше 15 лет. Во-первых, он несколько рискованный, не всегда удачный, но не редко приносит удовольствие... и дивиденды...
Я играю в букмекерских конторах, ставлю ставки на спортивные события, в основном на футбол и хоккей… Теперь я ставлю ставки в компьютере, не выходя из квартиры... Но это всё не просто, нужно немало времени, чтобы познать все тонкости, обходить препоны...
Бывало и по 27 тысяч выигрывал (полгода назад), недавно 9 тысяч снял... Но я играю по мелочам, большие деньги не ставлю… 100-200 рублей могу себе позволить ежедневно зарядить на ставки... а дальше, как повезёт… Этим и спасаюсь... Мой рабочий день начинается в 7-8 часов утра... Изучаю предстоящие матчи, анализирую таблицы, мнения специалистов-прогнозистов, состав команд, кому нужны очки, а кому нет, сколько травмированных и т. д. На это уходит 3-4 часа, потом ставлю ставки и в течение дня отслеживаю, как играют... Вот так и проходит каждый день до вечера... Особенно напряжённые выходные дни, много игр… Это труднее, чем писать стихи...»
Да, этот метод мне не подходил. Я абсолютно равнодушна к футболу-хоккею, и выигрыш даже большой суммы не сможет меня настолько обрадовать, чтобы я забыла свои страдания. Но кто-то из мужчин может и возьмёт это себе на вооружение.
Ещё один метод — занятия спортом. Но он если и срабатывает — на короткое время — на то время, пока ты им занимаешься. У меня даже написался такой стишок:
Ода спорту
Когда на душе тяжеленные гири,
не надо себе учинять харакири,
привешивать к люстре ремни и бретели,
вы лучше из гирь сотворите гантели.
Из камня на сердце — ядро для метанья,
из кошек скребущих — коньки для катанья,
из сердца — мотор, и ура, и виват нам!
Жить так, чтобы было другим неповадно!
Отжим до упаду, расцвет из распада,
да здравствует вечная олимпиада!
Коньки не отбросим, да здравствует спорт
и царство путёвых лоснящихся морд!
Начала за здравие, а кончила сарказмом, ибо мне претит это путинское фетишизирование спорта в ущерб культуре, поэзии. Когда я его опубликовала во время олимпиады в Сети — реакция была резко негативная, меня мягко говоря осудили.
Два типа героя — деловой Штольц, привлекательный, спортивный, современный, и замшелый Обломов, мечтающий на диване, ленивый, никчемный, но с душой и добрым сердцем, умеющим любить. Какой стиль жизни, какую модель поведения выбрать? С Обломовым в себе я борюсь, потому что это путь к депрессии, в никуда, а Штольц мне чужд и неприятен.


Писатели-антидепрессанты
На дне рождения Валя читала нам стихи Искандера. А я недавно прочла статью о нём под названием «Антидепрессант»:

«Его проза и поэзия были одновременно лекарством и противоядием. Само имя – Фазиль Искандер – сразу вызывало улыбку читателя. Никак не юморист и не сатирик, Искандер обладал удивительным качеством: поднимать настроение. Тем более во времена, когда настроение общества падало до минусовой отметки. «Время, в котором стоим» (его выражение) преодолевалось искандеровским смехом… Проза и поэзия Искандера действовали против уныния как антидепрессант. Принять рассказ Искандера на ночь – можно было выписывать такой рецепт в нашей литературной аптеке. Сильнодействующее лекарство, не дающее побочных эффектов...»
Да, есть такие писатели-антидепрессанты. У каждого свой. Мне очень помогает, например, Лариса Миллер.

Когда читаю: «Ну успокойся, успокойся, живи и ничего не бойся», - это действует как мантра, как заклинание. Ей понятна эта боль, это беспокойство.
Хоть бы памятку дали какую-то, что ли,
Научили бы, как принимать
Эту горькую жизнь и как в случае боли
Эту боль побыстрее снимать.
Хоть бы дали инструкцию, как обращаться
С этой жизнью, как справиться с ней —
Беспощадной и нежной — и как с ней прощаться
На исходе отпущенных дней.
Стихи Миллер и стали для меня такой «инструкцией». Их хотелось выписать, выучить и жить по их «рецептам». Там и молитва, и заклинание, и утешение, и надежда, и руководство к действию.
Утешение:
Все поправимо, поправимо.
И то, что нынче горше дыма,
Над чем сегодня слезы льем,
Окажется прошедшим днем,
Полузабытым и туманным
И даже, может быть, желанным.
И надежда:
Поверь, возможны варианты.
Изменчивые дни — гаранты
Того, что варианты есть.
* * *
Осенний ветер гонит лист и ствол качает.
Не полегчало коль еще, то полегчает.
Вот только птица пролетит и ствол качнется,
И полегчает наконец, душа очнется.
Душа очнется наконец, и боль отпустит.
И станет слышен вещий глас в древесном хрусте
И в шелестении листвы. Под этой сенью
Не на погибель все дано, а во спасенье.
И руководство к действию:
Ах, не можешь? Надо мочь.
Все твоё — и день, и ночь.
Вот он, день твой, белый, белый.
С этим днем что хочешь делай.
И ещё мне очень дорого у неё — надежда, что всё вернётся, пусть на ином витке, в другом качестве, пусть это будет другое, но это будет то же самое:

Все переплавится. Все переплавится.
В облике новом когда-нибудь явится.
Нету кончины. Не верь в одиночество.
Верь только в сладкое это пророчество.
Тот, кто был другом единственным, преданным,
Явится снова в обличье неведомом —
Веткой ли, строчкой. И с новою силою
Будет шептать тебе: «Милая, милая».

|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 1 пользователю
Клуб «Гармония момента». Часть третья. |

Помню, я как-то спросила Лёшу — а почему он работает дворником именно здесь? От дома далеко, платят мало… Думал, временно, а прикипел тут надолго. Он ответил: «Место нравится».


Он любил театр.



И в театре его любят.



В юности — когда был совсем уж неописуемой красоты — даже ездил в Москву поступать в театральный ВУЗ. «Эти придурки» его не приняли. Не прошёл с первой попытки, а дальше уже не пробовал. А то бы блистал сейчас на саратовской сцене.

Но зато он блистает в литературе.

Пусть не ярким блеском, но без него, как у Платонова, литературный мир был бы неполным.

При каждом удобном случае он ходит на спектакли — работа здесь давала эти преимущества.

Снимает на камеру артистов, снимается с интересными ему людьми.






После очередной смены декораций судьбы Лёша возрождается каждый раз в творчестве как феникс из пепла в какой-то новой ипостаси. Сначала это были рисунки, карикатуры, которые публиковались в журналах «Крокодил», «Вокруг смеха», побеждали на международных конкурсах в Польше, Бельгии, Турции, Японии.

Потом это были стихи, потом книги исповедальной прозы.



Потом Лёша увлёкся созданием авторских роликов, которые отличает его неповторимая интонация и щемящая ностальгическая нота. Вы можете их посмотреть на ютубе.
https://www.youtube.com/watch?v=syFF-mBeP0g&t=25s
https://www.youtube.com/watch?v=4h_vJcnG-HQ
https://www.youtube.com/watch?v=TXXHleMNtsY
А недавно, в самый трудный, «безработный», период своей жизни, он вдруг неожиданно для себя стал писать рассказы в духе сюрреалистического, абсурдного юмора. Причём чем мрачнее казалась жизнь — тем смешнее получались рассказы. (Как это у Блока: «Чем хуже жизнь — тем лучше стихи пишутся»)

Это была совершенно новая грань его таланта. Цикл дворницких рассказов, — они называются «Дворник и его друзья» - опубликованы и в энгельсском журнале «Другой берег», и в журнале «Зарубежные Задворки». И недавно, просматривая эти рассказы, на предмет того, что выбрать для сегодняшней встречи, каждый раз начиная хохотать как безумная, я обнаружила рассказ «Дворник взялся за старое», где идёт речь о том, как дворника спасали от депрессии. Прямо в тему! Я хочу попросить Лёшу прочитать нам его сейчас. Юмор конечно своеобразный, в него надо войти, это вам не Петросян какой-нибудь, это сюр.

(Приведу здесь маленький отрывок):
«Мы продолжали смотреть на дворника. От него пахло коньяком и селёдкой.
Мне стало его очень жалко, и я сказал:
— Алкаш несчастный.
А дворник обиделся и сказал:
— Никому я не нужен: жена от меня ушла, а завхоз меня не любит.
И заплакал.
— Вот и причина, — обрадовался повар и посмотрел на меня с директором.
А директор рассердился и сказал дворнику:
— Сколько можно пить? А если я тебя по статье?
Повар подсел к дворнику и сказал:
— Нельзя его по статье: пропадёт он.
Директор сказал:
— Пропадают обычно хорошие люди. А таким, как наш дворник, ничего не делается. Наоборот — хорошим людям от них одни проблемы.
А я сказал:
— Дворник хороший.
Директор даже подпрыгнул:
— Ты-то откуда знаешь, писатель? Фантастики начитался?
Я объяснил директору:
— У него депрессия от несчастной любви. Если его по статье — он может руки на себя наложить. Несчастная любовь — это очень серьёзно. Здесь главное — не рубить с плеча, а то потом уже ничего не исправишь.
А повар сказал:
— Дворнику надо помочь, один он не справится: он совсем обалдел от своей любви.
А директор подумал и сказал:
— Дворника надо отвлечь, переключить внимание на что-нибудь другое.
Мы стали думать: на что переключить внимание дворника, но у нас ничего не получалось.
Тогда повар сказал:
— Главное — не оставлять сейчас его одного.
Почему дворника нельзя оставлять сейчас одного — повар не объяснил, но все с ним всё равно согласились.
А директор спросил:
— Мы что же — так и будем около него сидеть?
Я сказал:
— Просто так сидеть не интересно. Давайте поиграем во что-нибудь.
Директор сказал:
— Правильно. Повар, поиграй с дворником.
А повар заупрямился и сказал:
— Нужен я ему! Вот если бы с ним завхоз поиграла…
И дворник ещё сильнее зарыдал.
Мы смотрели, как дворник рыдает, и у нас всё внутри переворачивалось от такого зрелища. Нам было очень жалко дворника, но мы никак не могли придумать: как ему помочь.
Тогда директор сказал:
— А вы тоже в детстве кричали людям с балкона, а потом резко садились вниз, чтобы не заметили? Я до сих пор так делаю.
И вдруг дворник хмыкнул и сказал:
— А мне нравилось обливать прохожих с балкона. Нальёшь в бутылку воды, обольёшь кого-нибудь и спрячешься!
А повар сказал:
— А я кошелёк за верёвочку привязывал и дёргал.
А я не стал ждать, когда все спросят, что делал я, и сказал:
— А давайте сейчас кого-нибудь обольём!
И мы побежали к директору на балкон, и целый день пугали и обливали прохожих. Было очень весело, и у дворника прошла депрессия. Потому что во время депрессии главное — переключить внимание на что-то другое и не оставлять человека одного». («Дворник взялся за старое»)

Аркадий позже прочёл эти рассказы в Интернете и сказал, что его герои похожи на детей. Да, это верно подмечено. В этом его фишка.

Маленький перерыв — по чашечке чая или кофе. И ещё у нас два человечка не охвачены. (Поглядев на Володю, поправляюсь: «Человека»!)
Итак, Марина.
Марина Шендрик

С Мариной мы познакомились таким образом. Я знала, что она давно ходит на мои лекции, но не знала, что она тоже пишет стихи. И как-то в разговоре по телефону с Иваном Михайловичем Корниловым я узнала, что у Марины вышла книжка и что там есть стихотворение, посвящённое мне. И он мне его прочёл:
Стихами Вашими дыша,
я часто порывалась
Вам позвонить и написать,
но всякий раз стеснялась…

Меня это очень растрогало. Я позвонила Марине, чтобы её поблагодарить, и узнала, что она в библиотеке берёт мои книги и читает. Это меня растрогало ещё больше. Особенно ей нравится «Очаг».

Я пригласила её в гости и подарила ей свой «Очаг», а она мне свою книжку. Это было в 2012 году. Её книжка называлась «Боль». Она была посвящена памяти близких.

И действительно книга была выстрадана ею. Это не придумано, это пережито. Поэтому несмотря на некоторый недостаток мастерства и профессионализма, она по-настоящему волнует. По-человечески волнует. Кстати, предисловие к ней написал Алексей Солодов.

Здесь всё сказано, всё главное о ней самой и о её книге, которые настолько слиты друг с другом, что их не разделить… Здесь всё самое главное, самое сокровенное.
Боль
А боль — она бывает разной.
Болит порою голова,
таблетку примешь — как-то сразу
вступает жизнь в свои права.
Но если боль на части душу
всю разрывает изнутри,
хоть плачь навзрыд, а хоть в подушку,
уткнувшись, думай до зари:
как излечить живую рану
души, не пребывать в аду?
Когда тебе судьба в подарок
на блюде поднесёт беду.
Дымится, тлея, сигарета.
Цветёт сирень в моём саду.
Я не хочу встречать рассветы.
Я с ночью тёмною в ладу.
Читала — и узнавала классические приметы депрессии, которой мне тоже сейчас стали знакомы.
Я не живу, а доживаю.
Потерян к жизни интерес.
Хожу у пропасти по краю
и звёзды не ловлю с небес…
***
… Я как загнанный зверь, то ли лапа в капкане,
то ли сердце само в окровавленной ране.
Я от боли своей потихоньку дичаю.
И на краешке пропасти, в эту пропасть ныряю…
***
Венки ли, букеты, кресты ли, ограды,
пусть бешеным залпом гремят канонады.
Какая мне разница? Жизнь пролетела.
Хотя умирать я совсем не хотела...
Но всё время Memento mori , всё время мысли о том, что будет после тебя, прощание с любимыми — всё это надрывает душу. Но и просветляет её. Потому что книга в общем-то светлая. Даже сквозь самые мрачные строки пробивается надежда, желание жить вопреки боли.
Что-то хочется порою
переделать, изменить, -
то ли мебель переставить,
то ли жизнь перекроить... -
а это уже пути выхода из этого состояния.

Марина Шендрик на вечере памяти Давида 19 января 2019 года, крайняя справа
***
Ты прагматик, а я поэтесса.
Что ни думай и как ни крути -
слишком разные по интересам.
Бог, наверно, за это простит…
Как друг друга понять и расслышать?
В лес иду я, а ты по дрова.
Мы с тобой очень разные, слышишь?
Ну скажи мне, что я не права!
Что же женской душе не хватает?
Это ясно давно уже мне.
Ведь романтики все обитают
только в сказках на белом коне.
… Я сама придумала тебя,
и твоей я подчиняюсь власти.
«Дура!» - говорю сама себе.
Но какое это всё же счастье!

Да вот так, о самом главном — самыми простыми и бесхитростными словами.
Наивная и такая прекрасная этой своей святой наивностью вера в любовь, в дружбу...
***
Напишите мне чёрным по белому,
научите, как правильно жить.
Как тоску свою заледенелую
растопить, расколоть, пережить.
Вы напишете и нарисуете,
заштрихуете чёрные дни,
на ветру одуванчик задуете
и измените календари.
Раскроите и сшейте по новому
по лекалам бессонную ночь.
И тогда будет в жизни всё здорово.
Знаю, что Вы мне в силах помочь.
Вы измените жизнь мою серую…
Я не славы в зените хочу.
Благодарствую, чувствую, верую,
Вы мой друг и Вам всё по плечу.
Да, тут встречаются неудачные строчки, банальные рифмы. Но кажется, что это не от неумения или небрежности, а – от переполненности, от полноты чувств, от нетерпеливого желания высказаться, не тратя время на поиски слов и словесных изысков. Но стихи трогают, задевают за живое. Её боль не оставляет равнодушным.
Когда-то не будет меня рядом с вами.
Останется книга моя со стихами.
Сестра моя, дочь, нерождённые внуки,
я с вами уже в бесконечной разлуке.
Дождём я прольюсь и с рассветом зари
листвою укрою, чтоб не обожгли
вас солнца лучи, чтобы снег не занёс,
когда за окном беспощадный мороз.
Росинкой я буду на чьей-то щеке,
волною прибрежной на жёлтом песке,
ромашками и васильками вдали,
чтоб вы ощутить меня сердцем могли.
Я с вами всегда наяву и во сне.
Не надо рыдать обо мне по весне.
Вы книгу откроете и, не спеша,
прочтёте. В ней теплится жизнь и душа.


И если говорить о слове, определяющим для меня маринину суть, то для себя я её определила как «добрая душа». «Страдающая душа». «Любящая душа». Но пока душа страдает, она живёт. И стихи пишутся.
Голос будет твёрд и звонок
и до страшного числа.
Я проснулась только в сорок,
будто вовсе не жила.
Запечалилось сердечко,
закружилась голова.
Но возьму я лист бумаги,
напишу на нём слова.
И пока стучит сердечко
и душа ещё болит -
будут силы, будут строчки —
так поэзия велит.

Ну и в заключение скажу по секрету, что Марина работает парикмахером в салоне красоты, что само по себе жизнеутверждающе, так что записывайтесь к ней в очередь.
Ещё перерыв. Кому чаю?

И ещё у нас остался на закуску — Коля.
Николай Храпун

Знакомы мы с Колей давно, с 80-х годов, и я его для себя с самого начала определяла словом «художник». Он продолжатель семейной династии: отец его, Владимир Храпун - был известный в Саратове художник, скульптор, книжный иллюстратор, и мама тоже художница, сейчас выставляется на проспекте Кирова, хотя ей уже 82 года. Коле сам бог велел пойти по этой стезе. И я помню момент нашего знакомства, когда после первой моей лекции в салоне «Вдохновение» в 1988 году — ко мне подошёл сумрачного, даже слегка разбойничьего вида человек, какой-то взъерошенный,всклокоченный, напомнивший мне чем-то Рогожина из пырьевского фильма «Идиот».

Но подошёл он ко мне с мирной целью - предложить свои услуги художника — рисовать афиши к моим вечерам, и делал это много лет абсолютно бескорыстно, бесплатно и вдохновенно. Не только писал, но и изображал лики этих поэтов на этих афишах, их портреты. Вот то, что уцелело — афишка и портрет, который он проецировал на плакат с текстом о вечере, но это уже 1992 год, в библиотеке на Зарубина, а те, что писались в 80-е, утеряны за давностью лет. Афиша немного порвана, но даёт представление даёт о том, какие шедевры он тогда творил.

И ещё портрет, который он сделал к лекции о Борисе Поплавском. Он очень точно передаёт суть личности поэта. Вот эти глаза исподлобья — Поплавский не выносил человеческих взглядов и всюду носил чёрные очки, которые не снимал даже ночью, даже в постели с женщинами. И вот здесь он так здорово сумел передать этот его слепой взгляд.

Николай сам и развешивал эти афиши на улицах (тогда это ещё было можно, не штрафовали ещё) и из-за угла наблюдал за реакцией прохожих на них — остановятся или пройдут мимо?. И у меня даже написался такой стишок об этом:
***
Жил-был художник один...
Художник из давно прошедшей жизни,
растаявший, как облако, как сон...
Сезам, откройся, снова покажись мне,
то, что звучало сердцу в унисон.
Был вечер о Цветаевой в салоне.
Он подошёл ко мне уже в конце
с какой-то фразой, сказанной в поклоне,
с улыбкою на сумрачном лице.
Мне показалось странным, диковатым -
горящий взгляд под гривой смоляной
и голос тихий, словно виноватый
в том, что никак не может быть виной.
Он рисовал мне к лекциям афиши:
на каждой был поэта чудный лик.
Развешивал их тайно в каждой нише
и наблюдал за тем, кто к ним приник.
Шёл снег, мороз, а он в одних кроссовках,
но любовался делом своих рук...
В его стараньях не было рисовки.
Он был одно большое слово ДРУГ...
Хоть Коля художник от бога, но у него оказалась всего одна картина. Но зато какая! Во он нам сегодня её принёс. Она называется «Калитка».

Хотя очень любит старый Саратов и собирает его снимки, здесь его вдохновил один из глухих уголков Хвалынска. Коля, а где эта калитка находится? Ты её отворил? Отворил потихоньку калитку? Где эта улица, где этот дом? У меня критерий в живописи: хочется мне или нет войти в эту картину, пожить там... В эту калитку войти хотелось.
Картина пошла по рукам. А потом как-то очень удачно вписалась в один из моих простенков возле зеркала.

Коля тоже посвящал мне стихи. Вот такое, например:
Быль обожжена болью,
темень — шире, зов — глуше.
Кто осыпал ночь солью?
Кто там по мою душу?
Расскажите о том, как
приходили пророки
расколдовывать звуки -
не бичуя пороки,
а беря на поруки.
Пали в мир опалённый
зёрна крови их алой…
Из частицы солёной
вырастают кристаллы...
Я помню ещё такой дорогой для меня момент. Когда на одной из лекций Коля поднял руку и прочитал адресованные мне строчки:
Лёгкая рука ваша
нас зовёт лететь выше.
Бог вам в помощь, Наташа,
в час, когда стихи пишут…

И подарил мне книгу, на которой написал эти стихи.

Коля на вечере в библиотеке

Коля Храпун рядом с Давидом после моей лекции в 2011 году

Коля Храпун на вечере памяти Давида 19 января 2019 года
Тут я должна сказать, что Коля не только художник. Он ещё и поэт. Может быть даже в первую голову поэт. Поскольку картина у него всего одна, а стихов… тоже кот наплакал, но всё же побольше будет. Он поэт камерный, очень тонкий, нежный, акварельный.

Коля читает свои стихи
Скрыло стены плетенье,
тишина, тишина…
Прихотливые тени
вяжут плющ и луна.
Завладела аллеей
голубая трава.
Под аркадами реют
заклинаний слова.
Воздух мёдом напоен.
Все добры и честны.
Дарит Оле-Лукойе
только честные сны.
Мы росли на асфальте -
почему же со мной
эти лунные пальцы
и язык неземной? ------ волшебные строки! Чудо!
Словно дрогнули струны
позабытого сна,
словно древние руны
пробудила луна...
Как больная собака,
я ищу ту траву,
чтоб воспрянуть из мрака
наяву, наяву…
Ему не только подвластна живопись, но и звукопись, потрясающие аллитерации, которые создают музыку стиха, музыку души.
Из стих-я «Старый город»:
Отчаянной болью разлуки —
разорванный ворот ворот,
деревьев дрожащие руки
да входа ощербленный грот…
Склоняюсь библейским скитальцем
под благословение их
и ласка изломанных пальцев
легка, как касанье слепых…
Что-то иногда декадентское проглядывает. Он не боится каких-то жутковатых вещей в своих стихах.
Кто сказал, что белый свет -
символ жизни и добра?
Белый саван, белый снег,
белых косточек гора…
Ну и там дальше множатся примеры всяких ужасов белого цвета, вызывающих ассоциацию с известной картиной Верещагина…

Но всё равно у него всё очень изящно и красиво, даже когда он пишет о смерти, о крови...
В перелеске свищут в девять
граммов соловьи.
Крестит клён меня рукою,
липкой от крови.
Городским озябшим телом
лягу в зеленя.
Незнакомая, родная,
схорони меня.

все заслушались
Будет осень. Вспыхнет память бликом прежнего огня.
Глянешь ласково из пламени на старого меня.
Дым окуривает хиной, охру тронул мастихин…
У Поэта нет камина, только сердце и стихи.
Вечный тигель. Плавлю строчки, мотыльком седым горя.
Ляжет трасса многоточий в чехарду календаря.
Да, Коля мастер. Его хочется цитировать и цитировать.
Под сенью глохнущего сада,
мелькнувшей жизни на краю
вдали от рая и от ада
между пространствами стою.
Потерь безумная отрада
венчает голову мою.
Но, как вы могли догадаться, эта музыка и звукопись не случайна: Коля пишет не только стихи, но и песни, и не только пишет, но и поёт. Он бард. Тогда, в 80-е, он постоянно мотался на грушинские фестивали, привозя мне оттуда кассеты с новыми записями лучших бардов, которые я использовала в своих лекциях, добывал мне пластинки, помню, как целый комплект из десяти пластинок на стихи Блока принёс.
Он вообще был человек порыва, импульса. Когда умер Окуджава, он сорвался с места и уехал в Москву, чтобы успеть на похороны. И положить на его могилу посвящённое ему стихотворение. Ему это было жизненно важно.

А потом он сделал из него песню. И сейчас эту песню Коля нам споёт.
Песня об Окуджаве
Над Арбатом склонясь, небо хмурится,
перелистывая лепестки.
Провожает своего барда улица
и начала не видать у реки.
Розы красные теплятся свечками,
мокрым зеркалом отразил
ленту траурную бесконечную
слёз не прячущий магазин.
Над доской гробовой голос льётся,
уходящей Москве ворожа,
и беззащитною остаётся
переулков арбатских душа.
У этой песни есть ещё продолжение:
Возле розы вьётся шмель.
Племя тополя ложится
на дерновую постель.
Нам — тужить, земле — кружиться.
У соснового креста
над венками вьётся песня.
Там слова чисты небесно
и мелодия проста.
Чья-то грустная труба
в зеленеющей аллее
ту мелодию лелеет,
одинока и слаба.
Онемев, живёт Арбат
без солдата и поэта.
Год — и боль утраты этой
не залечит лента дат.

|
|
Понравилось: 1 пользователю
Клуб «Гармония момента». Часть вторая. |
Следующий - Володя.
Владимир Савин

Володю я знаю давно, но он меня знает ещё давнее. Дело в том, что он пришёл на «Тантал» как раз в тот момент, когда мы с Давидом оттуда ушли.

«Тантал» в 80-е годы
И ему, как он потом рассказал, нас показали: вот эта та самая пара, о которой, видимо, тогда много разговоров ходило.


мы с Давидом разгружаем новую аппаратуру для ДК "Кристалл"
А я Володю узнала позже, когда он стал ходить на мои лекции, и когда после одной из них он подошёл и подарил мне своё стихотворение, навеянное моим выступлением на творческом вечере, где я говорила, что не член Союза писателей, по принципиальным соображениям, что там они все такие-сякие, и его так этот факт поразил — как это я - и не член СП!

И он написал вот такой стишок.
На моём дне рождения он его читал, но я хочу его ещё раз процитировать для тех, кто не слышал:
Не поэт официально.
Трудно верить в этот бред.
Имя: Кравченко Наталья.
Где причина, в чём секрет?
Полтора десятка книжек
не считаются за труд.
Власть, которая не слышит,
вас потомки не поймут.
Heобласканная властью,
собирает полный зал.
Но чиновник в безучастье
на ту встречу не попал.
Отчего народу в зале -
негде яблоку упасть?
Дело, видимо, в Наталье -
чувства, мысли, образ, страсть!
По свершившемуся факту
ясным видится ответ:
не чиновничьему акту
знать, кто истинно Поэт.
Не по членскому билету
запрягается Пегас.
Бюрократ - для кабинета,
а Поэт живёт для нас!
Владимир Савин. 29 марта 2008 г.
Володя, спасибо! Это мне дороже любого членского билета. Я его на стенку повешу, и это будет мой пропуск на Олимп. (Смех в зале, то бишь в гостиной).
Кстати, возвращаясь к тому вечеру, хочу сказать, что чиновник всё-таки попал на ту встречу. Ну, не на ту, на другую.

Это наш бывший зам. министра культуры Ю. Грищенко на моём вечере в областной библиотеке. (Позже его посадят за взятку. Возможно, как я слышала, его тогда подставили. Уж очень он был непохож на наших прежних министров своим демократизмом и интеллигентностью). Кто-то из слушателей пригласил его, я этого даже не знала. Сначала он важно заявил, что сможет у меня пробыть лишь полчаса, не больше – у него срочное совещание. Однако, услышав мои критические эскапады в адрес местной власти, отменил по мобильнику свою неотложную встречу и остался до конца. А в конце вечера вышел к микрофону и прочёл стих-экспромт собственного сочинения
(как бы в ответ на мои строчки на форзаце книги):
«Прими, читатель, этих строчек ересь,
не отшатнись, всецело им доверясь,
и полюби и за и вопреки».
А он в ответ прочёл:
Я принял Ваших строчек ересь,
не отшатнулся, им доверясь,
не смог любить ни за, ни вопреки,
но не уйду, Вам не подав руки.
Пожал мне руку и убежал. Небывалый случай в наших саратовских пенатах! Чтобы зам.министра пришёл(!) на вечер какой-то даже не членши Союза писателей, прочёл её книги, целых три (!), остался до конца вечера (!), внимательно слушал(!), выступил в ответ, согласившись(!) с критикой и даже написал стихи в ответ(!). Зал рукоплескал. А Валя мне потом рассказала, что ей передали, как он, уходя, сказал уже в коридоре: «Мы думаем, что это мы делаем культуру, а это она её делает». Странно было бы, если бы его после всего этого не посадили.
Вот здесь видео того выступления, которое не даст соврать:
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=fvgcOVNVKZA
Когда я говорила с Володей на днях по телефону и сказала, что его образ у меня ассоциируется со словом «психолог» - это его основная специальность, он чуть ли не обиделся.
- Я не психолог! - заявил он.
- А кто же? - опешила я.
- Я человек!
Ну, конечно, человек, прекрасный человек, высокопорядочный человек, я уже успела в этом не раз убедиться, я ещё скажу об этом, человек с большой буквы, Володя, я даже скажу больше, ты больше чем человек, можно даже сказать, человечище, «матёрый человечище», хотя нет, это как-то звучит… «матёрый человечище» - ужас какой… нет, просто человек, и быть человеком, оставаться человеком в любых обстоятельствах — это нелегко. А для него это органично.
Но я хочу объяснить, почему «психолог» - это слово для меня означает прежде всего «понимающий людей», «чувствующий людей», или, как ещё говорят о писателе, «инженер человеческих душ». И если на западе психологи, психоаналитики должны уметь разговорить человека, расположить его к себе, вызвать на откровенность, это необходимые навыки их профессии, то у Володи это прежде всего человеческие качества. Ему не нужно этому учиться, это для него естественно. У него не профессиональный, а искренний интерес к человеку. Когда с ним говоришь по телефону — не замечаешь, как летят часы, с ним очень легко, ему хочется всё рассказать о себе, ему не боишься довериться, настолько он открытый, добрый и душевный человек.

Мы с Володей Савиным и Тамарой Молодиченко, которую тоже знаю ещё с «Тантала»,
на вечере памяти Давида 19 января 2019 года
Ещё три фото с этого вечера.



Недавно мы с ним долго говорили по телефону и он мне рассказал всю свою биографию и даже родословную, у него была интересная, насыщенная жизнь — он и на заводе работал, и в МВД служил, и свой кооператив – лечебно-оздоровительный комплекс организовывал, пол-страны объездил туристом — и в горах лазил, по маршруту группы Дятлова ходил, и на плотах плавал, но всё-таки свою основную профессию психолога, мне кажется, он выбрал правильно, хотя и случайно, как он говорит. Но в жизни случайностей не бывает, всё предопределено. Как говорил Заболоцкий, «судьба сценарна. Она знает, что делает».
А самый главный факт биографии Володи для меня - это то, что он семь лет ухаживал за тяжелобольными родителями, прикованными к постели. Тот, кто ухаживал за лежачим близким человеком, знает, что это такое. А когда больных двое — это почти непосильная нагрузка и на психику, и чисто физически очень тяжело. Семь лет изнурительного труда! Уже за это памятник ему можно поставить. Я за Володю тогда очень переживала, как он всё это выдержит, хотелось ему помочь, мы пытались ему какую-то сиделку найти, но он сказал: «нет, это мои родители, я их никому не доверю, я должен сам». А ведь у самого семья, трое детей, сейчас уже пятеро внуков. Как он всё это вынес, пережил, одному богу известно. И после смерти родителей — продолжает помогать детям, внукам, друзьям. И на всё хватает его души, его сердца.


Володя говорил, что начал писать стихи, когда слегли родители, когда он дни и ночи дежурил у их постели. И когда их похоронил, стихи писаться перестали. Но я думаю, они ещё вернутся, пусть по другому поводу. И когда он мне читал их по телефону, я заметила, что и в стихах он словно стремится помочь другим, тем, кто будет их читать, каким-то советом, своим жизненным или душевным опытом. Со стороны они могут показаться кому-то несколько дидактическими, назидательными, что ли, но это именно от желания помочь, поделиться тем, что он знает, пережил, перечувствовал, передать частичку своей души.

на Грушинском фестивале
Я помню, когда он рассказывал свою биографию, меня поразил в ней такой факт — когда он служил в МВД, он был там на воспитательной работе, ему приходило много благодарственных писем от людей, которым он помог. Обычно все сохраняют такие письма как свидетельства своего профессионализма, своей востребованности, успеха в работе . А Володя взял передал все эти письма своему преемнику, который пришёл на его место, когда он оттуда уходил.
- Зачем? - удивилась я.
- Я подумал, что они могут ему помочь в его работе.
Для него важнее было, что его опыт может пригодиться другому. В этом весь он. Поэтому для меня образ Володи - это не только «психолог», но и это «человек», да, прежде всего человек. Хоть и говорят, что хороший человек — не профессия, но это куда важнее профессии.

Володя внимательно слушает, что я о нём говорю. И чувствует себя не в своей тарелке. "Я не публичный человек". Да я знаю...
- То, что я сейчас говорю — такие речи обычно говорят на похоронах, но зачем нам этого ждать, правда? надо говорить всё это людям при жизни. Как ты цитировал одного поэта:
А теперь непрошено
На могилу брошено
Столько роз и лилий!
Столько слёз пролили!
Почему ж немыслимо
Дать цветы при жизни нам –
Часть бы этих лилий?
Мы б ещё пожили…
И ещё Снегова об этом писала: "Дарите цветы друг другу Сейчас, сегодня, пока мы живы!"
Вот и слова нужно при жизни говорить...
Мы не могли не выпить за Володю.

Следующим был образ Нади.
Надежда Шаховская

Мы познакомились с Надей в середине 90-х, когда вышли мои автобиографические книжки «Публичная профессия» и «Будьте вы благословенны».


Она до этого два года ходила на мои лекции, читала мои книжки, но я не знала о её существовании, пока она не написала мне письмо. У нас была большая переписка, тогда ещё компьютеров не было, переписывались вручную, как в старые добрые времена. И мне хочется привести сейчас отрывок из её самого первого письма, с которого и началось наше знакомство:
«Здравствуйте, Наталья Максимовна! Давно, ещё в апреле, после вашей презентации, я прочла книгу «Будьте вы благословенны». Хотела сразу откликнуться, но не знала, как передать вам письмо. Я ходила на ваши лекции уже два года, читала все ваши три книги, но, согласитесь, автобиографическая исповедальная проза действует совсем особым образом: открытость, распахнутость настраивают и слушателей на такой же лад, моя душа сразу откликнулась — после чтения Вашим папой ваших юношеских стихов вспомнились собственные экзамены, тем более, что мы учились на филфаке в одно время. Не зря я попросила Вас надписать мне книгу «совпадающей по фазам», так как сразу почувствовала родственную душу, чему сама не раз удивлялась, читая книгу: ход мыслей, сравнения, ассоциации, поведение во многих случаях совпадали с моими. Книга «Истории моей любви» - как будто обо мне, точнее, об одной моей ипостаси — открытой, искренней, спонтанной, эмоциональной, которая идёт от отца, он — актёр, тоже профессия публичная».
Надин отец когда-то играл в саратовском театре оперетты, его фамилия Гусев.
Меня очень растрогало это письмо, и особенно стихи, которые она мне там написала:
Ты сестра мне по духу, родная сестра,
нам с тобой повстречаться настала пора.
Ты потерянный в детстве любимый близнец,
как стучит в унисон двуединство сердец.
Но душой дотянуться пока не могу.
Одиноко стою на другом берегу.
Сестра, близнец, вот те слова, которыми оформился для меня образ Нади. Тем более что у моей мамы за год до меня умерла сразу после родов девочка, моя сестра, ей её даже не показали, и мне часто потом думалось, что вдруг она на самом деле жива, вдруг она живёт в какой-то другой семье. Надино письмо сразу протянуло между нами родственную ниточку. И я написала ей в ответ такие стихи:
Близнец, невидимый попутчик,
сородич млечного астрала,
найдёныш, обретённый в тучах,
я наконец тебя узнала!
Как в шкурный век — стиха утеха,
в беззвёздный мрак — надежды лучик,
моё второе эго, эхо,
спасибо за родство созвучий!
И мы стали переписываться. Меня немного рассмешило одно место из её второго письма, где она писала:
«Вы не можете себе представить, как меня порадовали своим письмом. Я уж отчаялась получить хоть какой-нибудь отклик и позвонить боялась, вдруг, думаю, получу холодную отповедь, как Цветаева у Ахматовой (у Нади мы так значит с ней ассоциировались — восторженная Цветаева и холодная высокомерная Ахматова — Н.К.). Но внутри меня всё сопротивлялось таким печальным предчувствиям, я верила, что человек с таким лицом не может быть высокомерно-снисходительным. И как же я счастлива, что вы одной крови со мной. То моё письмо, конечно, бледная тень по сравнению с первоначальными эмоциями. Из-за невозможности высказать их я мысленно разговаривала с вами, идя утром на работу, и веду бесконечные диалоги, делюсь впечатлениями, сочиняю стихи, чувствуя себя неодинокой духовно...»
Ну, думаю, почему же мысленно, давай вести эти диалоги вживую, в реале. И мы стали встречаться, Надя приходила к нам, она сразу понравилась Давиду. Я помню, как он сказал, когда она ушла: «Какая она хорошая!»

мы на презентации моей книжки «Будьте Вы благословенны», 1996 год

на творческом вечере в большом зале библиотеки, 2001 год

на вечере памяти Наташи Медведевой в городской библиотеке, 2002 год

Надя на моём дне рождения читает стихи из книги «Очаг», 2009 год

Надя на моей лекции между Аркадием и Леночкой Десятниковой, 2010 год


Надя и Давид на моей лекции, 2011 год

Надя на вечере памяти Давида, 19 января 2019 года
Но мы и переписываться тоже продолжали. И, помню, как в одном письме я её упрекнула, что она всё воспринимает в радужном свете, закрывая глаза на правду жизни. И она мне ответила - я до сих пор помню эту её фразу: «Это не лакировка действительности, просто попытка гармонизировать свою жизнь».
Вот тогда уже в меня запало это зёрнышко: «Гармонизировать жизнь. Гармония момента». Я впервые задумалась — может, эта правда жизни не так уж нужна, может, гармония важнее. Мы не можем многого изменить. Но мы можем изменить свой взгляд на это, посмотреть под другим углом, с большей высоты. С высоты птичьего полёта. Взять нотой выше. Так что Надя в некоторой степени соавтор идеи этого моего клуба.


Потом жизнь нас надолго развела. У Нади на руках была внучка, у меня был больной Давид, мы долго не встречались, не общались, и телефона городского у неё уже не было, но вот когда я осталась одна, без Давида, произошла такая почти мистическая вещь. Мне захотелось сходить в лес, стояла золотая осень, а было не с кем. Я вдруг вспомнила про Надю, подумала — хорошо бы с ней, но что-то не решалась, наверное, думаю, у неё внуки, дела, не до этого. Взяла трубку и — положила обратно. И вдруг она мне сама звонит. Какая-то телепатия. Мы встретились и провели целый день вместе. Это был волшебный день. Мы пили чай с конфетами, которые она принесла, потом исходили весь лес вдоль и поперёк, надышались, наговорились, набрали букеты листьев, потом вернулись ко мне снова и пообедали, просидев до вечера, и мне было так легко в этот день, что моя депрессия впервые отступила.

наш лес на Юго-Востоке
И я поняла, что помогает: природа, близкий по духу человек рядом, разговоры, совместные чаепития — это то, что мне надо, то, что меня удержит.
И ещё что я хочу сказать — Надя не только ходила на мои вечера, она на них выступала, она прекрасно читала стихи — Марии Петровых, Натальи Крандиевской.

Надя на вечере в библиотеке читает стихи Натальи Крандиевской-Толстой
Лекцию о Наталье Крандиевской-Толстой это она меня сподвигла сделать, принесла мне свои вырезки, выписки, и я подготовила эту лекцию по её наводке.

Надя на моём творческом вечере «Семь лет спустя» 9 февраля 2019 года
Надя не только стихи пишет, она пишет песни, не раз выступала с песнями на мои стихи, одни незабвенные «Улочки Саратова» чего стоят!
https://www.youtube.com/watch?v=6jcFq2dtEQI (видео с творческого вечера 2007 года)
А в прошлый раз на дне рождения я сказала, что меня больше трогают еврейские народные песни, чем русские, и её это задело, поскольку Надя сейчас поёт в ансамбле русской народной песни, выступает на разных концертных площадках, ездит на гастроли, занимается этим профессионально.

Я задела её профессиональную честь. И она мне сказала потом по телефону: ну ничего, я спою такую русскую народную песню, что ты их сразу полюбишь! Сейчас я хочу сделать музыкальную паузу и послушать эту обещанную Надину песню.

Надя поёт «Помню я ещё молодушкой была...»
Я вспомнила, как ещё школьницей листала песенник и плакала над этими стихами, так они меня тронули. А тут ещё наложились собственные воспоминания… Надя с такой душой её спела. Все призадумались о своём...
Всё! Я полюбила русские народные песни! Давайте по этому поводу выпьем!
А следующий у нас будет Лёша.
Алексей Солодов

Лёша: - как чувствовал!
- Лёша - единственный из здесь присутствующих член Союза писателей. (оживление за столом). И я даже больше вам скажу (заговорщицким тоном): он – единственный там хороший писатель, за которого мне не стыдно. (Дружный смех). Да-да, не смейтесь, он там луч света в тёмном царстве. И сейчас я вам это докажу.
У Лёши столько дарований, что глаза разбегаются, не знаю, с чего начать. Поэт, писатель, художник-карикатурист, создатель короткометражных роликов, автор юмористических рассказов, и всё у него получается необыкновенно талантливо.
Ну, начну с главного — с его книг. Стихов и прозы. Когда-то лет 10 тому назад они случайно попали мне в руки и сразу запали в душу.



Это стихи и автобиографические повести «Потерявшийся пёс на холодном снегу», «Квартирант», «Как мы искали папу» - о своей тоске и одиночестве после смерти близких. Написано так, что душа плачет кровавыми слезами. Я тогда — ещё лет десять назад - написала большое эссе о творчестве Лёши, оно опубликовано и на моих страницах в ЖЖ, и в Стихах.ру, и в журналах: «Гостиная», «Бумжур», на портале «Золотое Руно». Там же, кстати, опубликованы и произведения Лёши. Стоит набрать в яндексе «Алексей Солодов. Саратов» - все эти стихи и повести всплывут и вы сможете их прочитать.
У Лёши книжки не просите, у него их уже нет, но всё можно прочесть в интернете. Публикуется в журналах «Волга-21 век», «Другой берег». Было несколько его творческих вечеров в музее Федина.



Рада сообщить, что в прошлом году его стихи заняли призовое место в международном конкурсе, который проводился в журнале «Зарубежные Задворки» в честь 10-летия проекта. Конкурс «ЮБИЛЕЙ-10»
Я не буду сейчас цитировать ни прозу Лёши, ни своё эссе о нём, это займёт много времени, лучше вы сами их прочтите, а я просто приведу вам несколько отзывов на них в интернете читателей. И вам сразу станет ясно, какого уровня перед вами автор и что трогает людей в его книгах.
Вот пишет Татьяна Доморослая из Новосибирска:
«Как близко мне все это - и одиночество, и тоска по прошлому. Есть особый талант - быть сыном. Есть люди - гениальные матери, отцы или деды (бабушки). Список можно продлить. А есть сыны. Или дочки...»
(я бы это определение «великий сын», «гениальный сын» отнесла бы ещё и к Володе Савину, который 7 лет самоотверженно ухаживал за больными родителями, а к Лёше — потому что он потрясающе это описал — счастливую жизнь в родном доме с близкими и свою неизбывную тоску по ним).
«Замечательные стихи и проза. Очень искренне, по-настоящему, простая высота и чистота. Прочувствовано, пережито. Поэт- человек с особым ощущением мира, особым взглядом, без кожи. Как с этим жить (с этой безмерностью в мире мер)? Он видит и чувствует, понимает больше, чем предусмотрено здесь. Поэтому так больно. С одной стороны, это его наполняет и переполняет болью (и со-чувствием), с другой, является пищей для творчества».
Вот пишет Елена Хмелевская из Калининграда:
«Это потрясающе, Наталья, настолько забирает в плен душу! И сам Ваш обыкновенный необыкновенный герой Алексей Солодов с его стихами, прозой и прекрасным ликом современного святого в лучшем смысле этого слова».
О лике Лёши пишет не один человек, вот ещё отзыв Галины Георгиевны из Железногорска:
«Это удивительный поэт со своей ИНТОНАЦИЕЙ, очень близкой, какой-то акварельной! Иногда кажется, что у него нет внешней оболочки, одни живые нервы. А глаза прямо в душу, как у Христа...»

Вообще смотреть прямо в душу — это надо уметь. Лёша, как это у тебя получается? Как ты туда попадаешь?
Тут Лёша, и до того смущённый услышанным донельзя, восстал:
– Наталья Максимовна! Я не могу больше этого слушать! Видит бог, я долго терпел...
– Терпи! Бог терпел… Привыкай. Это же не я, это люди о тебе пишут...

Последняя повесть, которую он написал, это «Трое из тринадцатой». Это повесть о старом доме, где прошло его раннее детство, необыкновенно трогательная вещь. Меня всегда поражало, как он всё это помнит — себя с трёхлетнего возраста, все эти детские словечки, переживания, подробности, так точно передана психология маленького ребёнка. До него, по-моему, никто это так ещё не описывал. Разве что у Януша Корчака что-то похожее («Когда я снова стану маленьким»). Как герой, став взрослым, часто вспоминал своё детство, своих родителей, которых уже не было в живых. И ему так хотелось хоть на миг вернуться в те прежние годы. Однажды, думая об этом, он вздохнул глубоко и тяжко. И вдруг перед ним явился гном: маленький человечек в колпачке, с красным фонариком, которым размахивал вправо-влево, вправо-влево. «Ты меня звал, вот я и пришёл. Чего ты хочешь?» — «Звал?» — «Ну да. Ты меня вызвал Вздохом Тоски. Многие думают, что заклятие — это обязательно слова. Да нет же, нет. Ну, говори своё желание!» И герой прошептал: «Хочу снова стать маленьким».

Этот старичок-гномик был — время, а фонарик — память человеческая. А память может мгновенно вернуть человеку и детство, и любой час жизни, и любого человека, который был ему близок и дорог когда-то...
Вот Лёша тоже сумел вызвать этого гномика вздохом своей тоски. Очень понимаю эту его тоску по детству, а по существу по близким и дорогим людям, которых ему так и не смог никто заменить. Так пронзительно, правдиво, лирично, ностальгично, местами смешно, а в основном грустно, но очень светло и чисто…

И вот что пишут другие об этой повести:
«Сегодня прочитала, не отрываясь, временами со слезами. Какая у него тонкая и ранимая душа! Побывала прямо в его детстве. Такое нежное душевное устройство у человека с малых лет, как же ему трудно должно быть в мире, полном несправедливости и зла! Пусть бережёт своё внутреннее, научится защищать сокровенное даже от взглядов людей, которые толстокожие сердцем. Дай Бог ему Света и много маленьких радостей!»


Лёша на моих лекциях


на вечере памяти Давида 19 января 2019 года
А повесть «Потерявшийся пёс на холодном снегу»- это такой крик души. Вернее, даже не крик, а плач души, скулёж.
Вспоминаются строчки Вознесенского: «Душа моя, мой звереныш, Меж городских кулис Щенком с обрывком веревки Ты носишься и скулишь» - их эпиграфом можно было бы поставить к этой повести.
И ещё отзывы:
«На одном дыхании и со слёзным комком в горле прочиталось-прожилось. Захотелось увидеть Алексея Солодова. Мне кажется, он, минуя сложные поэтические образы, что было, например, у Пастернака, сразу впал в хорошем смысле в "неслыханную простоту", а просто писать всегда очень трудно.
Как мне близки его слова о том, что достаточно остаться одному, и ты вновь оказываешься во власти прошлого. Как замечательно верно он пишет и стихи, и прозу! Его проза напомнила мне прозу Дмитрия Шеварова. Простая и очень нежная. Какая душа у человека!
Удивительное у него лицо, в него хочется всматриваться».

И ещё один отзыв, от Надежды Гуляевой:
«Какие близкие и понятные сердцу стихи. Всё всколыхнулось, вся жизнь. Господи, пусть этот человек обретет радость в душе, дай ему сполна насладиться жизнью».
Стихи Лёша нам ещё почитает сегодня, и не только сегодня, и не только стихи, а я сейчас хочу ещё вот что сказать. По поводу его образа, каким словом я его для себя определяю. Этот образ подсказал мне сам Лёша. Однажды он брал у меня почитать сказки Андерсена и я его спросила, с кем из его персонажей он себя отождествляет больше всего. Он ответил: «стойкий оловянный солдатик». И я подумала — точно! Потому что при всей хрупкой эфемерной внешности и нежности души жизнь у Лёши была довольно суровой, судьба не баловала никакими поблажками. И служба в армии, где обморозился, не раз лежал в госпиталях, тяжёлая работа у станка.

Потом вспомнил, что он филолог, и пошёл учителем в школу, но современные дети оказались похлеще тяжёлого труда на заводе, он решил вернуться обратно, но там прежнее место было уже занято, остальные мало оплачивались, потом на заводе вообще перестали платить зарплату, Лёша уволился, больше года был безработным, сдавал кровь, пока не запретили врачи — однажды при этой процедуре упал в обморок, жил впроголодь, потом устроился машинистом сцены в театре драмы, таскал тяжеленные декорации по 20-30 кг, и все эти испытания он переносил стойко, никогда не жалуясь, не подавая вида, как ему нелегко, никогда ни у кого ничего не прося, не пытаясь куда-то проникнуть с чёрного хода, ну, словом, стойкий оловянный солдатик, стоик, аскет, отшельник, подвижник. Но, конечно, это определение не исчерпывает всего богатства его натуры.

К сожалению, стихами и прозой сыт не будешь, и Лёша пошёл работать дворником в театре драмы, как некогда Платонов в Литинституте, он убирает площадь перед театром.

И это очень ответственно, поскольку если не дай бог актёр или режиссёр поскользнётся на льду — то спектакль может не состояться. Так что театр начинается не с вешалки — он начинается с дворника. Театр начинается с Лёши! И у него есть замечательное стихотворение об этом, оно немного шутливое, но в нём скрыт глубокий смысл. Лёш, я с твоего разрешения его процитирую, можно?
Я дворник в театре драмы,
Играю роль без грима.
А господа и дамы
Проходят гордо мимо.
Бумажки и окурки
Кидают мимо урны
Какие-то придурки,
Воспитанные дурно.
Я об одном мечтаю:
Вот запишусь в «качалку» -
И так их «воспитаю»,
Что всем их станет жалко.
В любое время года
Мету я на пороге,
Чтоб зрители у входа
Не поломали ноги,
На льду не поскользнулись
И шею не свернули,
Назад не ломанулись,
Билеты не вернули.
Когда-нибудь поставят
Про дворника спектакли
И зрителей заставят
На них ходить. Не так ли?
У нашего артиста
Был бенефис во вторник.
У входа было чисто,
Ведь я - отличный дворник.
27 сентября 2016 г.
Хоть у нас аплодировать как-то не было принято — всё-таки не театр, тут все словно забыли об этом и дружно разразились аплодисментами.

- Аркадий, напишите пьесу про дворника! И пусть там её поставят! Мы все придём, никого заставлять не надо!
А я продолжала...
|
|
Понравилось: 3 пользователям
Клуб «Гармония момента». Часть первая. |

Вот такой листочек прикноплен теперь к моей двери. Повесила ради прикола для участников первого занятия, а потом не захотела снимать. Пусть так и будет. Как напоминание о том, что главное в жизни — это «уловить гармонию момента»...
Но сначала — о том, как всё начиналось. С чего всё началось…
После похорон Давида у меня началась депрессия - до этого я не знала, что это такое. Думала, просто плохое настроение. Нет, это гораздо хуже. Когда-то Есенин говорил об этом состоянии с Надеждой Вольпин (цитирую свою лекцию):
«Однажды – осенью 20-го – он заговорил с ней в первый раз о неодолимой, безысходной тоске. О том, что у римлян называлось «томление жизнью».
– А у Вас так бывает? Пусто внутри? и вроде как жить наскучило?
– Нет, мне это незнакомо, – ответит она.
«Такое состояние, – жаловался он ей, – когда временами мутнеет в голове и всё кажется конченным и беспросветным». Короче об этом состоянии можно сказать: смертная тоска».

И вот это случилось со мной.
Объяснить тому, кто этого не испытал - невозможно. Это когда ничего больше не хочется и никакие зацепки за жизнь больше не держат. Похоже на тошноту, только не физическую. Довольно опасное состояние, с которым трудно справиться в одиночку. Я стала интуитивно искать всякие пути выхода из него, пытаясь, как Мюнхгаузен, вытащить себя за волосы из болота. И постепенно заметила, что Это отступает, когда я с кем-то общаюсь - вживую ли, по телефону или письменно, но с близким по духу человеком. И я уцепилась за это как за соломинку.
К тому же я никогда не жила раньше одна и привыкла разговаривать, мне нужен был собеседник, причём чем больше — тем лучше, - какая-то своя мини-аудитория, с которой я могла бы делиться наболевшим, прочитанным, написанным, обмениваться впечатлениями, мыслями.


Лекции, вечера в библиотеке, где эта потребность раньше удовлетворялась, в том же качестве практиковаться уже не могли.
Как я поняла на опыте двух последних вечеров, эта форма себя исчерпала, она стала слишком затратной, стала требовать очень многих организационных усилий, которые я одна потянуть уже не могла, а друзей эксплуатировать, постоянно злоупотреблять их помощью мне тоже больше не хотелось. К тому же все эти лекции выложены на моём сайте, это уже пройденный этап, мне это уже перестало быть интересным, и я поняла, что нужно искать какие-то другие формы самовыражения. Так я и придумала этот клуб - нечто среднее между литературным салоном, философским кружком и психологическим аутотренингом.
Вот такой гибрид я пожелала сотворить. Это не литературное объединение с чтением и обсуждением произведений, цель которого — научиться лучше писать. Это не посиделки с друзьями, не клуб по интересам, не свободный микрофон. Это разговор на заявленную тему, общение близких по духу людей, но общение на высокой ноте, когда всё бытовое и злободневное остаётся за рамками нашей встречи.
Эту идею я обсудила практически со всеми потенциальными его участниками - и они её горячо поддержали. В памяти вертелся "Клуб самоубийц" из "Принца Флоризеля", хотелось создать что-то ему прямо противоположное, что-то вроде клуба анти-самоубийц. То, что противостояло бы унынию, отчаянию, одиночеству. То, что поддерживало бы в трудные минуты, стало бы островком тепла и света, местом, где можно было бы отвести душу, поговорить по душам, оказать друг другу психологическую помощь.
Мысленно провела кастинг своих друзей и знакомых, - надо было, чтобы люди отвечали моей задумке и как-то сочетались между собой, к тому же больше 8-9 человек у меня просто не поместится. Да и Баратынский ещё говорил, что число собеседников не должно превышать числа Муз, а их, как известно, девять.
Хочу напомнить его стихотворение 1839 года «Обеды», где поэт пишет о том, как сделать обед не просто средством того, как набить желудок, а превратить его в пир духа и общения:
Я не люблю хвастливые обеды,
где сто обжор, не ведая беседы,
жуют и спят. К чему такой содом?
Хотите ли, чтоб ум, воображенье
привёл обед в счастливое броженье,
чтоб дух играл с играющим вином,
как знатоки Эллады завещали?
Старайтеся, чтоб гости за столом,
не менее харит своим числом,
числа камен у вас не превышали.
То есть гостей должно быть не менее трёх ( по числу харит — трёх сестёр) и не более девяти (по числу камен — 9 муз).
Вот я и решила соблюсти это условие классика.

на званом обеде в салоне пушкинской поры
(гостей, правда, тут поболее девяти, но видно, что еда тут не главное)
В избранный мной состав гостей клуба не попали ещё с десяток моих друзей и знакомых, не потому, что я к ним хуже отношусь или они мне менее интересны, тут разные были соображения — или их эта тема, которую я хочу поднять, не слишком волнует, или они тяготеют больше к традиционному общению, или кто-то с кем-то не монтируется, или они настолько яркие и самодостаточные личности, что клуб превратится в «театр одного актёра», а мне нужны были слушатели, собеседники, единомышленники и друзья.
Возможно, кто-то позже отпадёт, и тогда я приглашу кого-то ещё, так что состав может со временем видоизменяться, варьироваться. Если он будет расти — может быть, какие-то занятия мы будем проводить в библиотеке. Тогда каждый сможет привести друга, жену, мужа, дочку, подругу, круг членов нашего клуба можно будет значительно расширить. Но пока он будет таким, как сейчас. Я его составила из числа людей, которые ходили на мои лекции, читали мои книги, которых давно знаю, ценю, люблю, которые любят меня, которым могу доверять, и которым, как мне кажется, будут интересны все мои идеи, откровения и заморочки.
Я уже наметила программу занятий, темы обсуждений на ближайшие встречи. Решила, что заморачиваться застольем не надо - просто лёгкий фуршет, чтобы не возиться с грязными тарелками и не делать акцент на еде. В салоне у Мережковского и Гиппиус, например, пили только чай с сушками.

У нас всё-таки было чуток побогаче.

В отдельных случаях, если у кого-то из гостей состоится какое-то торжество — публикация, скажем, выход книги, выставка или победа в конкурсе, или ещё какое-нибудь знаменательное событие - можно будет стол сделать более праздничным, тортик какой-нибудь, но это только по исключительным поводам.
Второе правило: строгое табу на разговоры о политике, религии — обо всём, что разъединяет, о том, что удручает, - о болезнях, ценах, зарплатах, ЖКХ, огородах-дачах-ремонтах, всяческой рутине и бытовой мишуре, суете, никаких сплетен - всё это ничего не даёт ни уму ни сердцу, душевно опустошает и снижает уровень общения. Вот табличка — где указано, о чём говорить у нас будет нельзя.

Если кто-то будет выходить за рамки нашей тематики — вот колокольчик вместо свистка.

И вот такой колокольчик — с "предостерегающим" выражением лица.

Кто нарушит табу трижды — можем лишить слова. Ну не насовсем, а так… минут на пять. Чтоб запомнил.
Круг тем наших разговоров: литература, поэзия, живопись, искусство, кино, театр, книги, философия, природа, чувства, любовь, дружба, творчество, словом, всё, что поднимает нас над суетой, что приобщает к вечным ценностям.

Это не обязательно только позитив - если у человека какая-то печаль или беда - он может ею поделиться и будем сообща решать его проблему. Но говорить будем - по кругу, делясь тем, что за это время произошло в реальной или внутренней жизни светлого, катарсионного, что помогло выжить душе, будь то встреча с кем-то, прочитанная книга, увиденный фильм, спектакль или просто какая-то цитата, мысль, чувство, сон, стих, строка и т.д. Если настраиваться на эту волну и копить такие впечатления, а потом делиться ими с другими - это создаст некую всеобщую копилку, своеобразный банк данных, который не даст "пропасть по одиночке".
Может быть, всё это мои иллюзии, утопия, неосуществимая идиллия, но я решила попробовать. Клуб назвала "Гармония момента". Когда-то меня поразила эта мысль из "Фантазий Фарятьева": "Главное - уловить гармонию момента...".


У меня даже стих такой тогда написался:
Сквозь года сумела пронести
фразу из какой-то киноленты:
«Главное на жизненном пути –
уловить гармонию момента».
Я всю жизнь ловлю её, ловлю,
отделяя зёрна от половы.
Мне она – как парус кораблю,
как губам – единственное слово.
Пусть подчас печален жизни блюз, –
с каждым днём звучит она крещендо.
Я своей гармонией упьюсь,
я добьюсь счастливого момента!
Чёрную земную полосу
заменю на неба просветлённость,
а свою зелёную тоску –
на вечнозелёную влюблённость.

Хоть большинство людей, собранных мной в этот день, были не одиноки, с кругом близких, детей и внуков, но ведь у всех бывают минуты душевного одиночества, разлада, непонимания, и, я думаю, что навыки, которыми мы здесь будем сообща овладевать, совместно с культурным багажом, накопленным человечеством, всем пригодятся. У кого же не бывает депрессии, кто твёрдо стоит на ногах, кто может похвалиться своим душевным здоровьем — пусть помогут тем, кто в этом нуждаются, поделятся своим опытом, как им это удаётся.
Недавно прочла стихотворение Ларисы Миллер, которое настолько мне показалось в тему, что не удержусь, чтобы его не привести:
Снежинки, точно миражи,
В лучах повисли...
Ты как спасаешься, скажи,
От мрачных мыслей?
И получилось ли хоть раз,
Скажи мне честно,
Поверить в то, что всё у нас
Идёт чудесно?
И если да, то научи
Своим приёмам,
Чтоб мир, где света в полсвечи,
Казался домом.
Надеюсь, ты не подведёшь.
Мне надо срочно
Поверить в то, что мир хорош
И всё здесь прочно.
Это одна из задач клуба — отыскивать гармонию момента в жизни, внешней и внутренней, и помогать отыскать её другим, сообща вытаскивать себя из болота рутины, стереотипов, уныния, депрессии, учиться не просто выживать, а жить, по гамбургскому счёту, взяв нотой выше. Это самая главная задача клуба, но не единственная.
Вторая — это обмен творчеством. Тут среди нас поэты, писатели, драматурги, художники, певцы, театралы, и когда общение пойдёт по второму кругу, то все, кто хочет, сможет поделиться тем, что за это время написал, сотворил, опубликовал, увидел или прочёл, а другие смогут высказать своё мнение по поводу услышанного.
Третья задача, не менее важная — это роскошь человеческого общения, как её определил Экзюпери. Конечно, впрямую её не осуществить, это уж как повезёт, как получится. Но надо постараться. Любые отношения нужно растить, беречь, поддерживать. Это как цветок, который без воды и солнца зачахнет.
Когда я ещё совсем юной пришла в литобъединение «Молодые голоса», которое вёл писатель И. М. Корнилов, мне запомнилась и понравилась его фраза: «мы пришли сюда сердцем о сердце потереться».

Иван Михайлович Корнилов
Но позже я поняла, что в лито это невозможно, неосуществимо, — там, где обсуждение произведений — там и критика, и обиды, и ревность, и зависть, жажда первенства, соперничество, нередко переходящие во вражду. Я чуть ли не с детства варилась в этих сообществах и жила по принципу: «Платон мне друг, но истина дороже». Ради истины, ради поэзии могла пожертвовать отношениями, дружбой, критиковала так, что пух и перья летели.
С годами произошла переоценка ценностей. Мне стало гораздо важнее не то, как человек пишет, а какой он человек, личность, друг. Как писала Ахмадулина: «Когда моих товарищей корят — я понимаю слов закономерность, но нежности моей закаменелость мешает слушать мне, как их корят… Всё это так. Но всё ж он мой товарищ, а я люблю товарищей моих!..»

Вот для меня тоже теперь дружба и сам человек важнее того, что он пишет. Тем более что научить этому невозможно, литературный дар либо есть либо нет. И встречается он довольно редко. Ну а если твой друг ещё и талантлив — тогда это вообще праздник. Но это теперь не главное качество на моих внутренних весах.
Поэтому я хочу расставить приоритеты: у нас не литературная студия, где мы учимся писать, у нас круг друзей, единомышленников, где мы учимся жить, помогаем друг другу жить. По возможности на высокой ноте.
В мире очень мало тепла. Я хочу, чтобы это тепло мы находили здесь.
Может быть нам это удастся - подружиться по-настоящему. Как пел Окуджава: «Я друзей соберу, на любовь моё сердце настрою...».

Но это надо выращивать, как цветок, беречь и сохранять отношения. Это тоже труд души, которая, как известно, обязана трудиться.
Или вот ещё у Чухонцева:
Друзья дорогие, да будет вам в мире светло!
Сойдемся на зрелости лет в одиночестве тесном.
Товарищи верные, нас не случайно свело
на поприще гибельном, но как и в юности честном.
Всё это я сказала моим друзьям в своём вступительном слове на первом занятии нашего клуба, которое было посвящено теме Депрессии.
Встреча была назначена на субботу 23 марта, в 15 часов. Я уже предупредила, что будет скромный фуршет, но не удержалась и наготовила больше, чем было нужно для интеллектуальной беседы: свои фирменные блинчики с мясом, бутерброды, пирожки…

Но вот уже стол накрыт и я жду дорогих гостей.


Они не заставили себя ждать. Каждый стремился прийти раньше других или боялся опоздать, и собираться стали за полчаса до начала, а к трём часам все уже были в сборе. С утра мела страшная метель, снег шёл сплошной стеной, зима не хотела сдавать своих позиций, все приходили запорошённые снегом, насквозь промокшие, и это мне напомнило старый фильм «Мышеловка» по Агате Кристи, когда путники вот в такой же снегопад, отрезавший все дороги, собираются в гостинице, и там начинаются всякие загадочные убийства...

По ассоциации вспомнились и «Десять негритят», когда гости, незнакомые с друг с другом, собираются за большим столом, не ведая для чего их сюда созвали, после чего начинают твориться всякие ужасы…

Когда я озвучила эту аналогию, все засмеялись.
- Зря смеётесь, - сказала я зловещим тоном. - Вы ещё не знаете, что вас ждёт. Вы ещё не знаете, с кем связались…
Смех стал слегка принуждённым. Кто-то вспомнил, что сборища больше шести человек сейчас именуются сектой…
- Ну, секта в сборе, можно начинать, - приступила я.

Мы все здесь разные люди, иные не знакомы друг с другом, и, чтобы этот процесс взаимного узнавания ускорить, я придумала вот что. Поскольку я в выигрышном положении — я всех тут знаю хорошо и давно, то я сейчас хочу вкратце обрисовать каждого. Но чтобы это было не формально, не походило на характеристику в отделе кадров, я хочу это сделать через образ. Дело в том, что когда я знакомлюсь, общаюсь с человеком, у меня складывается некий его образ. Это, конечно, взгляд очень субъективный, индивидуальный, прихотливый, возможно, он отличается от вашего реального образа, но, как говорят художники — я так вижу, и мне хочется, чтобы вы сейчас взглянули на себя и друг на друга моими глазами. Я думаю, вам это будет небезынтересно. Конечно, я буду о всех вас говорить хорошо, иначе бы я вас сюда не позвала, - на всякий случай добавила я.
Давайте сейчас выпьем по рюмочке, закусим и я начну вас представлять друг другу. Это будет только сегодня. Дальше вы уже будете сами говорить о себе, что захотите и сочтёте нужным.
Мы дружно выпили (забегая вперёд, скажу, что двух бутылок каберне и муската на вечер хватило за глаза, общество подобралось непьющим и некурящим, хотя я специально не подбирала по этим качествам, но рюмки и тосты вносили ощущение уюта, непринуждённости и дружеского тепла, особенно учитывая неутихающую непогоду за окном), и я продолжала.
- Все, наверное, читали Катаева «Алмазный мой венец». Помните, он там даёт прозвища своим друзьям, зашифровывая их под разными именами? И все мы потом их разгадывали — кто там Ключик, кто Королевич, кто Командор, кто Синеглазый, кто Птицелов. Всё это были образы. Вот и у меня иногда какие-то образы ваши складываются, которые я тоже могла бы обозначить одним словом. Итак, слушайте - коротко о каждом, самую суть — что я о вас знаю, за что люблю и ценю, какими вас вижу и чувствую. Можете потом меня поправить, дополнить или опровергнуть, если что-то скажу не так. Но это уже потом.
Начну с Аркадия.
Аркадий Цоглин.

Я его знаю так давно, что, честно говоря, и не помню, когда мы познакомились. Мне кажется, он был в моей жизни всегда.
Мы почти соседи, живём через улицу. И за это время Аркадий столько раз мне помогал, и в творческих делах, и в бытовых, что если я буду это перечислять, то не знаю, когда закончу. Но там, на моих скрижалях, всё хранится. Он обучил меня компьютеру. Приходил всё лето почти ежедневно и обучал всем азам этого дела.

На вечер памяти и творческий вечер развешивал объявления по всему городу. Очень поддерживал в быту. Регулярно звонил и спрашивал: что нужно сделать? Чем я могу помочь? За много лет нашей дружбы Аркадий ни разу не дал мне повода усомниться в его прекрасных человеческих качествах, высокопорядочности, бескорыстной любви к литературе.


Аркадий на моих лекциях в библиотеке
Есть такое редкое забытое слово, в наших реалиях неупотребляемое, как джентльмен. Рыцарь. Вот это тот образ, который у меня ассоциируется с Аркадием.

Пусть даже в руках у него не меч и копьё, а лыжные палки или хвойные веточки, сути это не меняет.


Аркадий журналист по профессии, но — вопреки расхожему представлению о том, что это древнейшая профессия, он - абсолютно честный, принципиальный, неподкупный, бескорыстнейший человек, бессребренник — тоже редкое теперь понятие. Он ещё и волонтёр, что тоже вписывается в этот семантический ряд благородных понятий.
У Аркадия есть ещё такое качество, тоже очень редкое сейчас — это верность своим принципам и взглядам и умение их отстаивать, невзирая на лица, даже если это ставит под угрозу собственное благополучие. Внешне он мягкий, тихий, интеллигентный человек, но стержень в нём очень крепкий, стальной. Вот такой пример. Аркадий убеждённый атеист. Я знаю, что религия у нас в числе запретных тем, но я не на эту тему, я не говорю, что это хорошо или плохо, правильно или неправильно, просто констатирую факт. Однажды он устроился на работу в газету «Большая Волга», где редактором была верующая женщина, что называется до фанатизма. Я советовала Аркадию не афишировать свои взгляды, так как это может отразиться на его положении, но он всё-таки в каком-то диалоге с начальницей их не преминул высказать. Ну и, конечно, тут же получил по полной и лишился своего места.

Кто-то может сочтёт этот поступок неразумным, недальновидным, но у меня он вызывает уважение. Ибо если раньше человеку признаться в своей вере было крамолой, то сейчас публичное признание в своём неверии тоже требует немалого мужества. И я, помню, под впечатлением этого его поступка написала такое стихотворение, которое посвятила Аркадию (опубликовано в книге «Отщепенка»):
Блажен, кто верит, им защитой – крест,
и ангелы хранят, и люди – братья.
А атеист во всём один, как перст,
и нет ему опоры и гарантий.
Уютно жить под сенью высших сил,
под сводами церквей, в тени часовен.
А еретик, что мир собой бесил,
и по сей день единый в поле воин.
Он – на прицеле, он открыт ветрам...
Вся паства – из недавних комсомольцев.
Ходить на партсобрания иль в храм –
без разницы для этих богомольцев
Лишь только было б всё как у людей,
уж так оно заведено веками...
А кто не с нами – бес и лиходей!
Но мир всегда был жив еретиками.

Имеется в виду не буквальный смысл этого слова «еретик», а то, что человек не боится идти против течения. У меня собственно вся моя книга «Отщепенка» об этом.

Вообще у Аркадия много талантов. Он драматург, пишет пьесы, как современные, (когда я их читала, помню, пыталась угадать, кого же из знакомых он вывел под иными персонажами), так и на темы античности, где в вольной трактовке использует древнегреческие легенды, те, в которых выражены какие-то важные аспекты человеческих отношений, извечные духовные ценности, так что они тоже воспринимаются в какой-то мере как современные: «Счастье Поликрата», «Ивиковы журавли», «Гектор и Андромаха». А его пьеса «Ясон и Медея» заняла второе место в международном творческом конкурсе «Гомер» в прошлом году.

А в скором времени несколько его материалов на исторические темы опубликует журнал «Загадки истории». («Библейская история», «Ломоносов», «Конец света»).

Думаю, в следующий раз он принесёт журнал со своими публикациями.
И ещё одно творческое событие произошло в жизни Аркадия буквально на днях. Журнал «Камертон» напечатал его пьесу «Тревожный сигнал», пообещав выплатить за неё гонорар. Вот здесь она опубликована: http://webkamerton.ru/2019/02/trevozhnyy-signal
В следующий раз поговорим о ней.
А ещё Аркадий занимается в драматической студии. Я видела его в постановке «Метель» по Пушкину и могу засвидетельствовать, что он был там лучше всех, его игра очень выделялась на фоне других самодеятельных артистов, и он был там единственный, кто читал наизусть Пушкина, остальные все - по бумажке. Аркадий очень любит Пушкина и давно хотел у меня на вечере прочесть его стихотворение. Вот сейчас я думаю, этот час настал и он сможет это сделать. Пожалуйста, Аркадий, прочтите, что больше всего у него любите.
Аркадий читает: «Брожу ли я вдоль улиц шумных...»

Немного поговорили по поводу этого стиха. На первый взгляд, стихотворение печальное, - о смерти, о кладбище, хотя автору было тогда 30 лет, сейчас это расцвет жизни, а тогда уже было время подведения итогов. Но в сущности оно светлое, ведь оно о том, что жизнь бесконечна, как бесконечна природа, как бесконечно само человечество…

Следующий портрет: Валя.
Валентина Михайлова.

У меня она ассоциируется с таким словосочетанием, как жена художника. Она жена художника Олега Михайлова, картины которого находятся в Саратовском художественном музее имени А.Н. Радищева и в частных собраниях России, Польши, Германии. Собственно, уже не жена, а вдова. Здесь на этом снимке Валя представляет его творчество в библиотеке на фоне автопортрета мужа.
И если я в этом году провела вечер памяти Давида, который мне стоил много крови, души и нервов, то Валентина проводит вечера памяти мужа в разных культурных центрах города уже 15 лет. Это дорогого стоит.


Я знаю два фильма о жёнах художников, это датский фильм режиссёра Билле Аугуста 2012 года «Жена художника», о жене датского художника Кройера. Есть ещё наш фильм 1982 года «Портрет жены художника» с участием Валентины Теличкиной. Но, думаю, о нашей Валентине можно было бы вполне снять третий фильм. И, может быть, ещё снимут.
Среди саратовских живописцев творчество Олега Михайлова стоит особняком. Но достаточно один раз увидеть его работы, и понимаешь, что его невозможно ни с кем спутать. Настолько индивидуальность художника делает неповторимым его творчество.
Один из очень немногих в Саратове, Олег Михайлов обратился в своих картинах к знаковому языку геометрической абстракции, сочетая ее с элементами фигуративной живописи, создавая этим свой мир и свое философское представление о нём. Организованный порядок мироздания складывается из аранжировки линий, форм и цвета, парящих, пульсирующих, балансирующих в невесомости пространства четырехугольников картин. Сами же картины воспринимаются как прозрачные объекты-окна в тот, другой мир, открывающийся за ними.
К сожалению, в интернете я тех картин не нашла. Но хорошо помню завораживающее впечатление от них, когда впервые побывала у Валентины дома.
А вот видеофильм о его творчестве "Космическая рапсодия", представляющий произведения Олега Святославовича Михайлова из собрания Радищевского музея:
https://www.youtube.com/watch?time_continue=140&v=Hzgxn5-hbJQ
Вот статья о его творческом стиле: http://www.museum.ru/N19231
Но я увлеклась, я ведь собиралась писать не искусствоведческую статью о художнике, а словесный портрет его жены, моей подруги.
Недавно мы с Валей говорили по телефону, и она меня спросила, что я имела в виду, когда надписала ей свою книгу: «тонкому ценителю поэтического слова, женщине изысканных неувядаемых чувств». Сейчас скажу что. У меня при общении с ней часто всплывали строки Северянина: «Изысканка, утонченка, гурманка» - это про неё. Это её стиль жизни. Вот эти закуски на шпажках «как в лучших домах Филадельфии» она меня научила делать.

Она любит всё красивое. Изысканно одевается. У неё уникальный дизайн дома. Помню, когда мы познакомились, первое, что она сделала - потащила меня к своей знакомой хозяйке салона женской одежды, где мы долго примеряли всякое-разное, я с её лёгкой руки приоделась во всё шикарное — тоже, между прочим, хороший способ борьбы с депрессией, если она ещё далеко не зашла.

Валя всегда оттачивала мой вкус и пробуждала во мне женские инстинкты, которые у меня от долгих литературных бдений несколько притуплялись:
(https://nmkravchenko.livejournal.com/182476.html).


Так что не только «Жена художника», но и «Изысканка, утонченка, гурманка» - это мой образ Валентины.
Ну и ещё я хочу сказать, что Валентина очень хороший друг, она очень много помогала мне в моих делах, и, в частности, в подготовке вечера памяти Давида — то, что зал был полон — во многом её заслуга, ибо она обзванивала очень многих людей от имени библиотеки, фактически выполняя их работу, целую неделю по несколько часов в день, это была неоценимая помощь — как и Аркадий, который разносил объявления о моих вечерах по всему городу, без них я бы, конечно, полный зал на 250 мест не собрала, потому что за семь лет связи с людьми были во многом утрачены.

на вечере памяти Давида 19 января 2019 года
А здесь Валя говорит речь на моём творческом вечере в марте 2011 года.



Она и на последнем моём творческом вечере 9 февраля 2019-го хотела речь сказать, но не хватило времени, другие слушатели перехватили микрофон. Но зато этот панегирик она произнесла на моём дне рождения с ремаркой «продолжение следует» и я в нетерпении жду этого продолжения, Валя!

Валентина выступает — пушки, как водится, молчат.
Я прочла стишок, который посвятила когда-то Валентине в день рождения:
Блок когда-то сказал в экстазе,
над бокалом склонясь аи:
Валентина, звезда, мечтанье,
как поют твои соловьи!
Вот и мы своей Валентине
в день рождения в День семьи
пожелаем и присно и ныне —
пусть удача тебя не покинет
и поют в душе соловьи!
И мы подарили ей тогда с Давидом таких соловьёв, которые перелетают с ветки на ветку и поют — какая-то механическая игрушка, бог знает, как они это делают. Примерно такая:

И ещё одно стихотворение (его написал Давид):
Нас всех опутывает быт,
как паутина.
Скопленье боли, бед, обид,
тоска, рутина.
Но только встретишь ты её -
яснеет разум,
отходят прочь печаль, нытьё,
уходят разом.
И вспоминаешь вдруг тогда,
что не для быта -
для вдохновенного труда
душа открыта.
Так выпьем за душевный свет
и за животворящий след,
живи ещё полсотни лет,
собою радуя нас всех,
своеобразно, креативно,
живи и здравствуй, Валентина!
Вот так она и живёт. Креативно! После таких слов грех не выпить.

Ещё рюмочку - и я продолжу, пока ещё вяжу лыко.
|
|
Понравилось: 4 пользователям







