-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Статистика
Записей: 872
Комментариев: 1385
Написано: 2521
Календарь. Подборка в журнале "Камертон" |
|
|
Понравилось: 1 пользователю
"Ещё не ночь". Подборка в журнале "Новый день". |
|
|
Понравилось: 2 пользователям
Из цикла "Лоскутное одеяло" |

Новая публикация в "Зарубежных Задворках" (из старых стихов):
|
|
Понравилось: 1 пользователю
Творческий вечер «Семь лет спустя». Окончание. |
Начало здесь
Это был первый мой творческий вечер за семь лет, когда болел Давид и я должна была за ним ухаживать. За это время публика наша частично состарилась, кого-то уже и не было на этом свете, прежние телефоны не отвечали… Распалась связь времён. Но всё-таки зал вопреки всему был полон.

В конце вечера — а это был своеобразный творческий отчёт за то время, что мы не виделись — я рассказала о своих публикациях. Ведь моя литературная жизнь — хоть в виртуальном пространстве — но продолжалась...
Публикации
Их можно просмотреть на сайте в графе «Публикации в журналах» со всеми ссылками на них: https://sites.google.com/site/sajtnataliikravcenko/home/publikacii-v-zurnalah
Я только перечислила те, что входили в Журнальный Зал. Это «Нева», две мои подборки в № 5 за 2017 год, № 12 за 2018 год. Там были стихи Давиду.
И от недружеского взора
счастливый домик охрани!
Пушкин. Домовому
Чур-чур я в домике! И домик был счастливый...
А вот теперь над бездною завис.
О берег бьется океан бурливый.
Как страшно мне смотреть отсюда вниз.
Здесь всё, что я без памяти любила,
что мне сберечь уже не по плечу.
Прощай, наш домик! Рушатся стропила.
Я падаю. Но я еще лечу.
Потоком волн земные стены слижет,
но я с собой свой праздник унесу.
Мы падаем, а небо к нам все ближе.
Не знаю как, но я тебя спасу.
* * *
Ива, иволга и Волга,
влажный небосвод.
Я глядела долго-долго
в отраженье вод.
И казалось, что по следу
шла за мной беда,
что перетекала в Лету
волжская вода.
Словно слово Крысолова
вдаль зовет, маня...
Мальчик мой седоголовый,
обними меня.
Мы с тобой — живое ретро,
серебро виска.
В песне сумрачного ветра
слышится тоска.
Я не утолила жажды,
годам вопреки
мы войдем с тобою дважды
в оторопь реки.
Мы еще наговоримся
на исходе дней,
до того, как растворимся
в темной глубине.

Были две подборки в журнале "Южное сияние", выходящем в Одессе, № 3 за 2017 год и №3 за 2018.

С последней публикацией в «Южном сиянии» вышла почти мистическая история. Уже готова была к выпуску моя подборка, но там были стихи лёгкого, юмористического содержания (стихи ведь долго ждут своей очереди). А в это время умирает Давид. Я чувствовала, что нельзя сейчас публиковать такие стихи в дни его смерти, это должны были быть стихи о нём. И думаю, как же мне отозвать те стихи или притормозить их публикацию, как вдруг, словно услышав эти мои мысли на расстоянии, мне пишет редактор журнала Сергей Главацкий о том, что вот публикация уже практически готова, но он прочёл мою подборку в журнале «Семь искусств» «Зима нашей любви» и она ему так понравилась, что он очень хотел бы её у себя напечатать. И просит моего разрешения на замену. Я безумно обрадовалась, и стихи эти вышли. Но это был небывалый случай, чтобы просили опубликовать уже опубликованное, причём в этом же году. Обычно требуют новое. Мне даже подумалось, что это какие-то силы вселенной пошли мне навстречу.
И были подборки в журнале «День и Ночь», выходящем в Красноярске (потому такая зимняя обложка, но тоже очень красивая),

в №5 за 2016 год и № 6 за 2018 год . Прочла по одному стихотворению из каждой подборки. Из подборки 2016 года:
Стихотворение о дереве. Небольшая предыстория. На этот стих меня вдохновило дерево в сквере по пр. 50 лет октября на 2 Дачной, рядом с памятником директору «Тантала» Умнову, мимо которого часто хожу.

Оно очень необычной формы, напоминает скрипичный ключ в музыке:
Вот дерева скрипичный ключ,
которым отмыкают душу.
Весной его ласкает луч,
зимой снежинками опушит.
Причудливо изогнут ствол,
и не один гадал фотограф,
что означает жест его,
замысловатый иероглиф.
А я на свой толкую лад:
как корчат их мученья те же.
Рай без любимых — это ад,
в каких бы кущах нас ни тешил.
Кривится, словно от резца,
как будто пламя жжёт утробу...
Но, чтоб глаголом жечь сердца,
сперва своё спалить попробуй.
И, сто ошибок совершив,
друг парадоксов — но не гений,—
спешу к кормушкам для души,
в места энигм и офигений,
здесь, на скамейке запасной,
в тиши дерев себя подслушать...
Укром, карманчик потайной...
Я рыба, я ищу где глубже.
Где небеса глядят в глаза,
где всё незыблемо и просто,
с души сползают, как слеза,
и позолота, и короста.
И ещё одно, из подборки 2018 года. Подборка называется «О принцах». Первое — о самом первом принце, о принце из моего детства.
Принц
Когда мне было восемь лет -
раздался в дверь звонок.
За дверью принц. В руках букет.
Стою, не чуя ног...
Соседку Таню он спросил.
(Всё было как во сне).
И мне едва хватило сил
сказать: «А Тани нет...
Она на даче». Принц смущён,
расстроен, удручён.
Букет, потисканный ещё,
мне в руки был вручён.
А принц шагнул через порог
и канул в никуда...
Он стал причиной стольких строк,
написанных тогда!
Букет прижавши, как трофей,
приняв его всерьёз,
я на глазах у кухни всей
бегу, не пряча слёз.
И мысли об одном: скорей,
укрыться, словно тать,
от всех за створками дверей,
и плакать, и мечтать...
И было не понять самой
загадку бытия:
букет не мой, жених не мой,
а вот любовь — моя!

Улочки Саратова
А потом выступила Надя Шаховская со своей композицией по моим ранним стихам.

Надя не раз выступала на наших вечерах и всегда вносила какую-то ностальгическую нотку тепла и сердечности. Это качества, присущие ей самой. Сама я свои ранние стихи уже давно не читаю, но Надя не даёт их забыть.
А вот ссылка на её выступление несколько лет назад (в этот раз не удалось записать на видео):
https://www.youtube.com/watch?v=6jcFq2dtEQI&t=...DSzTXDpvOsLoVZ_sN4h2PNnBWYOO60

Завершала её композицию песенка об улочках Саратова, которая всем сразу полюбилась. (В зале было немало людей, живших неподалёку). Вот фотография одной из них.

улочка Лесная
Аллея улицы Лесной...
Там полисадничек резной
И травы по утрам в росе...
Она короткая совсем.
Каких-то метров тут пятьсот.
И нет особых тут красот,
и нет домов солидных.
Я здесь гуляю с Линдой.
Она так неказисто-хороша,
питаю к этой улочке я нежность.
Так выглядела бы моя душа,
когда б она имела тоже внешность.
Аллея улицы Лесной,
зимою, летом и весной
куда ведёт она меня,
вдруг обрываясь у плетня?..
Есть у меня ещё об этих улочках:
Весною я гуляю по Лесной,
ищу глазами клумбы на Цветочной.
Увы, там только вырубки и зной.
О как же те названия неточны!
На Луговой лугов нам не топтать,
а на Вишнёвой — вишен не отведать.
На Мельничной с надеждою шептать,
что время перемелет наши беды...
Есть журналы, где я сейчас печатаюсь постоянно. Это «Гостиная» - с 2016 года мои вещи там появляются в каждом номере. Журнал «Семь искусств».
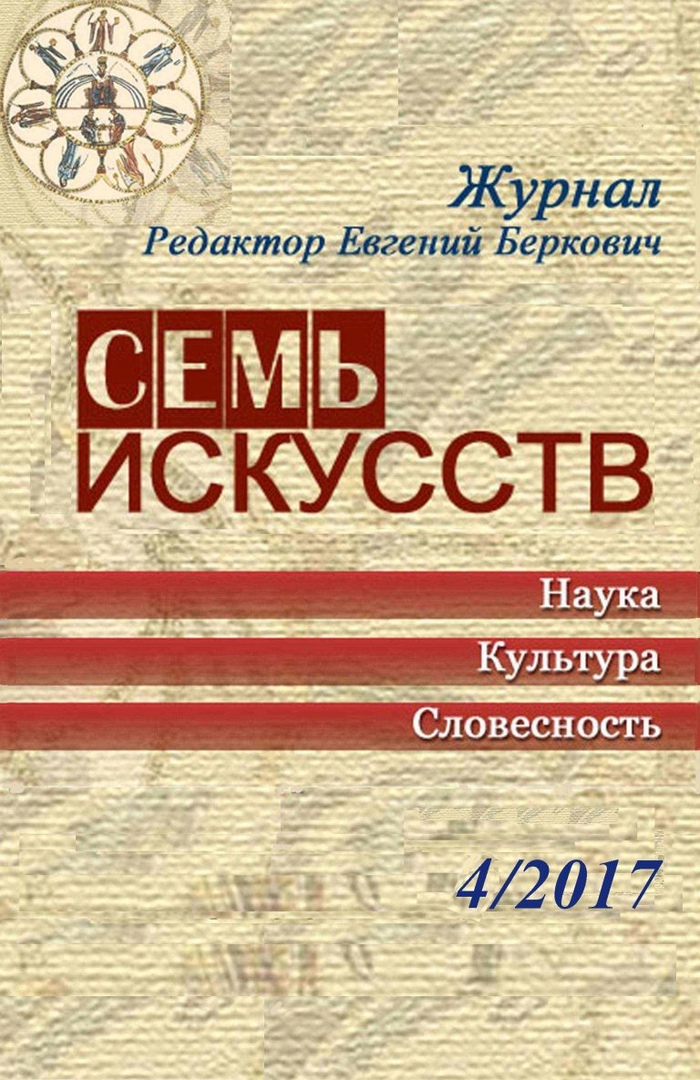
Там эссе о Ларисе Миллер, подборка стихов о Давиде "Зима нашей любви" и в последнем январском номере — моё эссе «Такая же редкость как любовь» - это о дружбе, о том, чем она выше любви, какую роль играла в жизни известных поэтов, там важные и дорогие для меня мысли и откровения: http://7i.7iskusstv.com/y2019/nomer1/kravchenko/
И — журнал «Зарубежные Задворки», «За-За», который выходит в Германии, и у него есть бумажный эквивалент, «БумЖур», где у меня тоже у меня ряд публикаций, с предисловиями Елены Крюковой.
З А Р У Б Е Ж Н Ы Е Za–Za З А Д В О Р К И МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ БУМАЖНЫЙ ЖУРНАЛ/«БУМЖУР»

№ 10 (40), октябрь 2017 «Себе в 20 век».
Наталья Кравченко! И сразу хлынул свет.
Сразу это сияние, по нему безошибочно можно узнать поэта, — сияние среди тьмы, сияние во тьме, светящаяся материя, подобная Рембрандтовскому свечению...
Этот поэт может запросто звонить самой себе в ушедший, в двадцатый век — так, как Марина Ивановна могла писать "имеющему быть рожденным / Столетие спустя — как отдышу...": "Я звоню ей по старому номеру в вымерший век..."
Наталья пишет сияющую, пьянящую ароматами сирень, как писали восхищенные этими космическими цветами художники до нее, и в изображении этих гроздьев видятся Рахманинов и Врубель, Кончаловский и Пастернак. Традиция здесь сама расцветает, как счастливые, пятилучевые цветы сирени.
Наталья Кравченко смело делает так, чтобы музыка русской лиры, которую мы издавна любим, звучала, продолжала звучать. Так она присягает уходящему времени — и протягивает руки ко времени наплывающему, наступающему. Будущему.
Мы имеем дело с поэтом, который не боится ситуаций и положений почти мистических, необъяснимых: "Прохожие оборачивались тобой. / Я не подхожу, так как знаю, что невозможно..."
Вся драгоценная ткань этой поэзии, этой поэтики (по Блоку, "растянутая на остриях нескольких слов"), вспыхивает и сияет перед нами, в который раз от сотворения мира говоря нам о его бессмертии.
Елена Крюкова
Я однажды нашла старую записную книжку со своим телефоном, которого уже давно не существовало, как и той квартиры, и самой меня той уже давно не было, и очевидцев той меня, и мне захотелось позвонить той, какой я была когда-то давно, предостеречь от ошибочных шагов, в чём-то переориентировать в жизни, понимая, конечно, всю бесцельность и бесполезность таких предостережений. Всё равно что должно свершиться — оно свершится.
Звонок себе в двадцатый век
Я звоню ей по старому номеру в вымерший век
(убираясь, нашла в телефонной заброшенной книжке).
И встаёт, проступая сквозь темень зажмуренных век,
всё, что было со мной, отсечённое жизнью в излишки.
Ни работы-семьи, не волшебник, а только учусь…
Неумеха, оторва, влюблённая девочка, где ж ты?
Ненадолго себя покидая, в тебя отлучусь —
подышать свежим воздухом детства и глупой надежды.
В этом городе юном, где нету снесённых домов,
а все улочки прежних названий ещё не сменили,
всё свершалось бездумно по воле нездешних умов —
по какой-то волшебной нелепой всевидящей силе.
Непричёсаны мысли, расхристанны чувства и сны.
Два сияющих глаза из зеркала с жаждой блаженства.
Это я — то есть ты — в ожидании первой весны,
в предвкушении самого главного взгляда и жеста.
Там витало рассветное облачко радужных грёз,
облачённых не в слово ещё, а в бурлящую пену.
Много позже подступят слова, что из крови и слёз,
и свершат роковую в тебе и во мне перемену.
Лишь порою напомнят бегущей строкою дожди,
как потом было поздно, светло и безвыходно-больно.
«Не туда ты идёшь, не тому ты звонишь, подожди!» —
я кричу сквозь года, но не слышит за толщей стекольной.
И не слушает, как и тогда — никогда, никого,
выбегая к почтовому ящику десять раз на день.
И мне жаль той тоски, за которой потом — ничего.
И мне жаль этих слов в никуда, этих слёз-виноградин.
Я шепчу ей бессильно, что будет иная пора,
будут новые улицы, песни и близкие лица.
«Это лишь репетиция жизни, любви и пера,
это всё никогда, никогда тебе не пригодится!»
Только что им, с руками вразлёт, на беду молодым,
различить не умеющим в хмеле горчинки и перца!
А излишки ушедшего, жизнью отсеянных в дым,
ощущаешь сейчас как нехватку осколочка сердца.
Натянулись, как нервы, незримые нити родства,
сквозняком нежилым — из неплотно захлопнутой двери…
Почему-то мне кажется, девочка эта жива,
только адрес её в суматохе отъезда утерян.
Коль замечу, что почву теряю, в тревоге мечусь,
наберу старый номер в тоске ожиданья ответа.
Оболочку покинув, в былую себя отлучусь —
подышать чистым воздухом детства, надежды и света.
И вторая публикация в «БумЖуре» - «Тропка в никуда» № 3 (45), март 2018
Светлая боль. Сияющая боль. Только в поэзии наше прошлое и наше настоящее, наше страдание может легко становиться радостью и вечностью; и то, что рвало сердце на части, внезапно становится картиной на стене, — и глядим, закинув голову, любуясь на то, что обратилось из сиюминутного горя в царственное, вечное счастье.
Наталия Кравченко смело идет и по дорогам, и по бездорожью. Она глядит по сторонам и многое подмечает, и многое — навеки — запоминает. Но более всего она видит мир внутренним взором — кристальным, хрустальным. Чистейшим. Более чистой интонации в современной поэзии трудно найти.
"О как понимаю я эту потребу, —
пешком — через тернии — к тайному небу,
где сердце взлетает до солнечных врат
и мысли не знают табу и преград..."
Камертон ее души изначально настроен на счастье. Но...
"А счастье — это как журавль,
что скрылся вдаль за облаками..."
И сколько еще дорог надо пройти, сколько железных сапог износить, сколько всего увидать — и тайного, и явного, — чтобы прийти к своей
любви, единственной, небесной? Дождется ли любовь твоя — тебя?
"...Я стою одна как на ладони,
больше не спасаясь от погони,
подставляя холоду лицо..."
Но везде — в любом стихе — в любой легчайшей рифме — сквозит, радость, твоя улыбка.
Елена Крюкова
***
Я свернула в сторону
от больших дорог,
где цветы не сорваны
и рассвет продрог,
где лесное озеро —
словно лик судьбы,
где растут по осени
строки как грибы.
Я стою под ливнями,
на ветру планет.
Генеральной линии,
магистрали — нет!
Все дворцы с бассейнами,
светские пиры,
все пути шоссейные
в Скотные дворы —
всё, что здесь упрочено —
отвергаю прочь.
Жизнь моя — обочина,
шаг с обрыва в ночь,
где репейник колется
и поёт вода.
Жизнь моя — околица,
тропка в никуда!
Вот эти строки «Жизнь моя — обочина, жизнь моя - околица, тропка в никуда!» предвосхитили большой цикл стихов под названием «Неудачница», вызвавший в своё время большой резонанс. Большинство из них были написаны, когда я ушла из библиотеки.

Реквием по библиотечным вечерам
Чутких ушей и внимательных глаз
как не хватает сейчас мне.
Сердце об это споткнётся не раз
в мире, где всё безучастно.
Там где был свет и улыбки друзей -
темень захлопнутых ставен.
Зал — что разрушенный тот Колизей -
мёртвыми стенами славен.
Пусть не пустует подмосток амвон,
блещет красивая люстра,
но навсегда замолчал микрофон,
тот, что усиливал чувства.
Некого гнать вышибалам взашей -
публика больше не рвётся.
Им, потерявшим такую мишень,
скушно, поди, без эмоций.
Власть министерств секретарш и ментов, -
всё в этом духе и стиле.
О держиморды культурных фронтов!
Радуйтесь — вы победили.
***
Списали со счетов, а я ещё живая...
Я стала лишь звездой, невидимой средь дня.
В погоне за рублём, за счастьем, за трамваем,
вам в суете сует не повстречать меня.
Я просто чуть взяла октавою повыше,
взяла себе в родню вечернюю зарю.
И вот парю себе невидимо над крышей
и с высоты на вас с улыбкою смотрю.
***
Непосильное сброшено бремя.
Налегке я вернулась домой.
«А хорошее было то время!» -
слышу я о себе же самой.
Это время подёрнуто дымкой.
«Ах, как жаль, что Вас слышать нельзя...»
Ощущаю себя невидимкой,
сквозь которую взгляды скользят.
Забросали цветами, списали,
на могилке насыпали холм.
Что ж я будто в пустующем зале
в отключённый кричу микрофон?
Что за дело, что пьеса всё длится,
молоточек стучит и стучит?
Расплываются в сумраке лица,
голоса угасают в ночи...
Разберите меня на цитаты,
фотографии, письма и сны.
Засушите как лук и цукаты
до какой-нибудь новой весны.
***
Голубь стучится клювом в окно.
Я насыпаю птице пшено.
Так вот и я, тетеря,
стучалась в закрытые двери.
Крыльями билась в чужое окно,
но тем, кто внутри, было всё равно.
Билась, теряла перья,
силы, года, доверье.
Но никто не открыл.
Иль не хватило крыл?
***
И не верила, и не просила,
не боялась... но что-то никто
не пришёл и не дал, как гласила
поговорка. Ну что ж, а зато -
всё! Цветаевские посулы
оправдались всему вопреки.
И мерцанье огня из сосуда
мне дороже дающей руки.
Но всегда, до скончания лет -
чёрный список и волчий билет.
***
Жизнь протекает в неизвестности
и в песни претворяет сны.
Но вечно у родной словесности
я на скамейке запасных.
И всё же лучше буду в падчерицах
искать подснежников зимой,
чем угождением запачкаться
и изменить себе самой.
Пронзать чужие души лезвием
и ткать невидимую нить,
пока хоть что-то у поэзии
в составе крови изменить.
***
Членства и званий не ведала,
не отступав ни на шаг,
высшей считая победою
ветер свободы в ушах.
И, зазываема кланами,
я не вступала туда,
где продавались и кланялись,
Бог уберёг от стыда.
Выпала радость и таинство -
среди чинов и речей,
как Одиссей или Анненский,
зваться никем и ничьей.
Но пронести словно манию,
знак королевских кровей -
лучшую должность и звание -
быть половинкой твоей.

Было много откликов, где пытались это опротестовать, доказывали, что я — напротив, «удачница».
«Дорогая Наталия Максимовна!
Не считайте себя неудачницей! Вы счастливица! Преклоняюсь пред Вами за Ваш талант и великую душу! Ваша Л.Д." (Людмила Дербина).
"А подборка под названием "Неудачница" - несомненно удачна! Как, впрочем, всё, опубликованное Вами! "(Рута Марьяш)
«Наташа, какие великолепные стихи и какие трогательные, в цикле "Неудачница". Вы не можете быть неудачницей при любых внешних обстоятельствах, Вы так богаты своим внутренним миром, своим талантом, что - Вы счастливый человек, очень гармоничный, я Вами просто восторгаюсь» (Леонид Подольский)
Валентин Панарин: «Неудачница... Ох, Наталья Максимовна, всё постигается в сравнении...
Называетесь - неудачница,
Словно шли Вы чужой тропой.
Вам и пишется, Вам и плачется,
А ведь кто-то совсем слепой.
Кто придумал, Вы неудачная?
Наделил Вас талантом Бог.
Вы простая и многозначная,
Я и доли вот так не смог.
Неудачница, неудачная...
А удачники, это кто?
Поглядишь - ну, простое жвачное,
А ведь гонору на все сто.
Вы Удачница, Вы счастливая.
Крошку счастья у Вас займу.
Вы и умная и красивая.
Плачьте, жалуйтесь - я пойму».
Если судить по принципу Цветаевой: «А зато… а зато — всё!» - в чём-то это, может, и так, но… Много лет замалчиваний, травли в прессе, когда приходилось с боем пробивать объявления на лекции, когда требовали за них деньги - на бесплатные вечера, когда были закрыты для меня все двери — и «филологические субботы», и музей Федина, и радио, и ТВ - всё это было не для меня… Не странно ли, не дико ли, что нам с Давидом приходилось защищать и отстаивать то, что должны были, казалось бы, в городе беречь, ценить, помогать тому, что мы делали четверть века самоотверженно, бескорыстно и небесталанно. Вместо этого — пасквильные статейки в «Богатее», подмётные письма в министерство культуры — якобы я читаю «скабрезные лекции», рытьё на меня компромата в библиотеке, когда хотели опорочить и стереть с лица земли то, что так нужно было сотням людей. Как говорила Гурченко, «меня никто не любит кроме народа», да, народ был всегда за меня, и если бы не он, не письма моих читателей и слушателей в мою защиту с многими десятками подписей, не их звонки в редакции и визиты в министерство - то меня просто бы заклевали, одна бы я не выстояла в этой борьбе и мышиной возне. Но зато… «А зато — всё!» Хоть в реальном исчислении это всё - ничто, но в метафизическом — всё. Смотря на каких весах взвешивать.
Время доказало нашу правоту. И мои лекции сейчас читает весь мир, и письма пишут со всего света, так что я не очень уже завишу от Саратова. Но конечно, живое дыхание зала, когда видишь устремлённые на тебя глаза людей, аплодисменты, единение душ — это ни с чем не сравнится. И в заключение вечера прозвучала песня, которая уже стала нашим гимном и по традиции завершала наши вечера, песня Светланы Лебедевой на мои стихи, посвящённая «Моим слушателям». В 2009 году она вошла в финал грушинского фестиваля. https://yadi.sk/mail?hash=gHdPIh%2FhyU2CObYabS80lcNBw2iRabGCxhFYVoetlUoL%2FputBngU4Yww3AVRy2Apq%2FJ6bpmRyOJonT3VoXnDag%3D%3D
Люди с хорошими лицами,
с искренними глазами,
вы мне такими близкими
стали, не зная сами.
Среди сплошной безликости
не устаю дивиться:
как их судьба ни выкосит —
есть они, эти лица!
Вихри планеты кружатся,
от крутизны шалея.
Думаю часто с ужасом:
как же вы уцелели,
в этом бездушье выжженном,
среди пигмеев, гномов, —
люди с душой возвышенной,
с тягою к неземному?
Вечно к вам буду рваться я,
в зал, что души бездонней,
радоваться овациям
дружественных ладоней.
И, повлажнев ресницами,
веровать до смешного:
люди с такими лицами
не совершат дурного.
Я вас в толпе отыскиваю,
от узнаванья млея,
я вас в себе оттискиваю,
взращиваю, лелею.
Если б навеки слиться мне
с вами под небесами,
люди с хорошими лицами,
с искренними глазами...










А закончить хочу вот этим стихотворением:

А я не заметила, что собеседника нет, -
должно быть, ушёл, а быть может, и не появлялся, -
и всё говорю — в пустоту, в микрофон, в Интернет...
Как мир переделать хотелось, а он мне не дался.
Но что мне укоры его, и уколы, и суд, -
превышен порог болевой и бессмысленна пытка.
Какую бы форму мирскую не принял сосуд -
единственно важно горящее пламя напитка.
Не в полную силу любя, отдавая, дыша,
в эфире тебе никогда не дождаться ответа.
С последним лучом, как с ключом — отворилась душа,
и мгла озарилась доселе невиданным светом.
Сверкающий искрами вечный струится поток,
что движет неистовой силы небесное тело.
От дна оттолкнувшись, выходишь на новый виток,
где будет всё то, что когда-то от мира хотела.

|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 3 пользователям
Творческий вечер "Семь лет спустя" |
В субботу 9 февраля в областной научной библиотеке прошёл мой творческий вечер «Семь лет спустя».
Именно столько длился перерыв в общении с моими слушателями, когда надо было ухаживать за тяжело больным мужем и я практически не выходила из дома. Но литературная жизнь в виртуальном пространстве продолжалась. За это время было написано много стихов, эссе, было много публикаций, литературных встреч и событий, и с самым интересным из всего этого я и хотела в этот день поделиться с теми, кто не забыл и пришёл. Зал был полон, несмотря на катаклизмы с погодой и транспортом.

К сожалению, семь лет — это очень большой отрезок времени, в идеале надо проводить такие вечера хотя бы раз в год, чтобы не накапливалось столько всего нового, поэтому приходилось рассказывать кратко, выборочно, пунктирно, чтобы успеть охватить как можно больше новостей и тем.
Сетевое
Сориентировала слушателей на свой сайт:
https://sites.google.com/site/sajtnataliikravcenko/, где всё опубликовано, с тем, чтобы смогли дочитать то, чего не досказала. Весь свой монолог, конечно, здесь приводить не буду, остановлюсь только на самых важных для меня моментах. Я говорила о таких пунктах в меню моего сайта, как лекции и эссе о поэтах, стихи, видео и аудиозаписи, последние публикации в толстых журналах, победы на конкурсах. Всё по чуть-чуть, галопам по европам. Прочла два стихотворения из цикла «Сетевое», поскольку эта сторона жизни уже вошла в нашу плоть и кровь.

Я не успела придумать роли -
жизнь захватила меня врасплох.
Всем открыты мои пароли,
виден слог мой — хорош ли, плох.
Я не успела надеть вуали,
спрятать острую боль в ножны.
Слова, что в моей глубине кричали -
всем доступны и всем слышны.
Я ничего под замок не прячу.
Нету тайн от тебя, народ.
Не закрываясь руками, плачу
и смеюсь во весь алый рот.
Ты прочитаешь меня как книгу,
где на последней строке умру.
Лес облетевший стоит, взгляни-ка.
Жизнь и смерть красны на миру.
***
Я отправляюсь в себя как в далёкую ссылку.
Кто же когда-нибудь кликнет по ней и меня,
кто же окликнет однажды отважно и пылко,
выхватив глазом из текста, как стих из огня?
Слово без клика — как будто безлюдная Мекка.
Ссылки застыли, заснув летаргическим сном.
И, пока их не коснулась рука человека,
будут манить вас двойным заколдованным дном.
В рай, как известно в народе, насильно не тянут.
Вот водопой — ну а пить не заставить никак.
Слава ж безумцам, которые всё не устанут
кликать друг друга, затерянных в тёмных веках!
Хочется надеяться, что у моего водопоя на сайте народу теперь поприбавится.
«Поэзии серебряные струны»
Подвела итоги нашего с Давидом семнадцатилетнего библиотечного марафона, за время которого были прочитаны сотни лекций из цикла «Поэзии серебряные струны». Это был не только серебряный век, но и золотой, и средневековье, и современная поэзия. Вот такие абонементы раздавались тогда нашим слушателям.


Это уже раритет. Я предложила сохранить эти абонементы, у кого они ещё есть, на память, больше их не будет. Но в утешение сообщила, что все эти лекции выложены на моём сайте: https://sites.google.com/site/sajtnataliikravcenko...-o-poetah-zz-versia-ot-23-02-3, причём в гораздо большем объёме, т. к. я здесь уже не была ограничена лимитом времени, дополнены новыми фактами, иллюстрациями, фотографиями, видео и аудио-фрагментами. Часто они в двух, трёх и более частях. Лорка, например в 8 частях — это практически целая книга. На сайте приведён список в алфавитном порядке всех этих поэтов и ссылок лекций о них, которые можно не только прочитать, но некоторые ещё и прослушать — в конце текста приводится аудиозапись, которая велась из зала. Список длинный, поэтов более 100, лекций о них и того больше, так как об одном поэте могло быть несколько лекций. Например, о Блоке были такие: «Это чёрная музыка Блока», «Мы тоже дети страшных лет России», «Была ты всех ярче, верней и прелестней» (О Блоке и Любови Дельмас), «Бедная девочка в розовом капоре» (о дочери Блока).
Я знакомила слушателей с теми лекциями, которые здесь, в библиотеке, ещё не звучали, с новыми (или хорошо забытыми) для многих именами: Ольгой Анстей, Татьяной Бек, Евгением Блажеевским, Вениамином Блаженным, Майей Борисовой, Татьяной Галушко, Ириной Снеговой, Леонидом Губановым, Ларисой Миллер, Еленой Крюковой, читала их стихи.
К сожалению, в зале была не только моя публика, проверенная временем, затесались и случайные люди, которым эта информация оказалась лишней. Они сидели с недоумёнными и затруднёнными лицами, а потом уходили. Что ж, бывает, поэзия не для всех. Можно подвести лошадь к водопою, но нельзя заставить её пить. Таких, к счастью, было немного.
Я рассказала о своих изысканиях и раскопках в биографиях поэтов, пестревших белыми пятнами (Майя Борисова, Ирина Снегова), после которых стали известны даты смерти этих поэтесс, прояснились обстоятельства последних лет их жизни, что были раньше тайной за семью печатями. Рассказала о полученных письмах от близкой подруги Майи Борисовой, от дочери Ирины Снеговой, от вдовы Леонида Губанова. Приводила письма последней, ставшие для меня большой неожиданной радостью:
Здравствуйте, Наталья Максимовна!
Уже давно разыскиваю Вас.
Меня зовут Ирина Губанова. Была женой поэта Леонида Губанова. Бережно и трепетно храню его архив, по мере возможностей публикую его произведения, издаю книги. Мое последнее достижение - книга "И пригласил слова на пир". Издательство "Вита Нова", Питер. 2012 г. Вошло много ранее неопубликованного, иллюстрации - 100 рисунков поэта, редкие фотографии, статья Льва Аннинского, библиография.
В интернете прочитала Ваше эссе о поэте, очень тронута тем, как Вы его прочувствовали.
У меня к Вам огромная просьба, если это, конечно,возможно - могу ли я приобрести Вашу книгу "По горячим следам" для архива поэта? Возможно, у Вас есть и другие заметки, размышления. Была бы Вам весьма признательна.
Огромное спасибо за то, что Вы делаете, как искренне доносите поэзию до людей. Да и сами Вы поэт от Бога.
С уважением, Ирина Губанова. 5 октября 2013 г.

Ирина Губанова
Я послала ей книгу. Там было моё стихотворение о Леониде Губанове:
Не печатали поэта, не печатали.
Он оставлен был России на потом.
Словно шапку в рукава – в психушки прятали,
и ловил он, задыхаясь, воздух ртом.
Только в пику всем тычкам и поношениям,
козням идеологических мудил,
жизнь брожением была, самосожжением.
Он на сцену, как на плаху, выходил.
И распахивал всё то, что заколочено,
словно вены, наши двери отворял,
и лилась потоком кровь его пророчества,
одиночества катил девятый вал.
Кровь бурлила и шальное сердце бухало,
и, казалось, наливал ему сам Бог.
Был он братом и по крови, и по духу им –
всем великим собутыльникам эпох.
Нет, недаром, видно, так пытал-испытывал
и отметил щедрой метою Господь.
Недостаточность сердечная? Избыточность!
Не вмещалось это сердце в эту плоть.
И, пройдя его, слова сияли заново,
и срывали с уст молчания печать.
Невозможно их читать – стихи Губанова.
Ими можно лишь молиться и кричать.
Она ответила:
"Дорогая Наталия! Безумно признательна Вам за то, что откликнулись. Спасибо за книгу. В Москве все букинистические магазины обзвонила - нет Вашей книги, увы! А за эти строки низко Вам кланяюсь!!!
"Невозможно их читать – стихи Губанова,
Ими можно лишь молиться и кричать".
Будете в Москве - жду в гости.
Ирина".

Если в своих стихах я стараюсь выразить себя, свой мир, свои чувства, то в лекциях я целиком перевоплощаюсь в своих героев, живу их жизнями и чувствами. У меня даже были такие строки:
Забыть себя. Оставить на вокзале.
Чтоб мир в росе до клеточки проник.
И помнить лишь, что во вселенском зале
ты - микрофон, транслятор, проводник.
И счастье, конечно, когда этот микрофон достигает сердец и умов людей.

Встречи в Интернете
Интернет дарит встречи с людьми, с которыми вряд ли когда смогла встретиться в Саратове. Так, помню, когда я в 90-е годы готовила лекцию о Рубцове — я не думала, что судьба сведёт меня с Людмилой Дербиной, женщиной, которую долго клеймили как убийцу поэта. Я и раньше сомневалась в этом — во-первых, задушить человека, взрослого мужчину не так просто, сжав пальчиками горло, во-вторых, убийцы так себя не ведут — она сама бросилась в милицию с криком: "я его убила!" Но медэкспертиза показала, что смерть наступила от сердечного приступа. Так совпало - двухдневная потасовка, которую Рубцов сам же и начал, и то, что ему стало плохо с сердцем. Все дни перед этим он пил, глотал таблетки. Сейчас любой мало-мальский адвокат легко доказал бы невиновность Дербиной. Однако под давлением местной писательской гвардии суд обвинил её в умышленном убийстве и припаял 8 лет.
Я специально разбиралась в этом вопросе, читала материалы дела и убедилась, что Людмила была не виновата. Это было роковое стечение обстоятельств. И выложила пост о ней, названный строчкой стихотворения Михаила Анищенко — замечательного саратовского поэта - «Ты ни в чём не виновата»:
Боль твоя растёт, как пеня,
Смерть гадает по руке.
Ночью, путаясь в коленях,
Выйдешь к Вологде-реке.
В омут глянешь бесновато,
Но в предчувствии нырка.
«Ты ни в чём не виновата», -
Скажет Вологда-река.
Скажет, будто бы отрубит,
И послышится во мгле:
«Он тебя на небе любит,
Как не вышло на земле».
И рассыплются перцово
Искры света по лугам,
Где восходит след Рубцова
К чёрно-белым облакам.
Он стоит в простой рубахе,
Ясно видит край родной,
Где кричит любовь на плахе,
В платье Люды Дербиной.
Он глядит с небес, как в омут,
На родимый свой закут,
Где всё так же пьют и стонут,
Убивают и крадут.
«Жизнь темна и подловата, -
Скажет он, дождём пыля, -
«Ты ни в чём не виновата,
Люба-Любушка моя!»

Людмила Дербина
Но несмотря на эти стихи, на многие неопровержимые факты, на то, что человек уже заплатил всей изуродованной судьбой за то, чего не совершал, 80-летнюю больную женщину продолжают травить, писать о ней гадости — в частности, Ст. Куняев, и она от этого очень страдает. Меня всегда трогала судьба Дербиной, которую так называемые поклонники Рубцова (зачастую толком его и не читавшие), налепив на неё ярлык "убийцы", дружно и азартно загоняют в гроб. Они даже не дают себе труда вчитаться в её строки, в которых столько боли, раскаяния, горечи, неизбывной вины и жажды прощения. А она ведь уже в сущности легенда, единственная, кто близко знал и помнит Рубцова (первая жена умерла в 2002 году и была весьма далека от его творчества), кто запечатлел его живой образ в своих воспоминаниях, в чьих записях и стихах он продолжает жить.
Я написала Дербиной, поддерживала её в коментах на её странице, сражалась с её гонителями, и она горячо отозвалась, несколько раз звонила мне из Вологды, мы очень долго разговаривали, она писала мне письма:
"Наталия Максимовна, дорогая! Спасибо Вам за добрые слова. Давно знаю, что Вы как никто поняли трагедию моей жизни. Мне хотелось бы рассказать Вам очень многое. Но всё в воле Господа. Буду надеяться. Низко Вам кланяюсь.
Людмила Дербина, 16.06.13".

Л.А. Дербина
Письма
Бывают удивительные письма, которые очень помогают жить и верить в себя, в то, что не зря существуешь.
Когда я ушла из библиотеки, то получила вот такое письмо от одной девочки, которая много лет ходила на мои вечера с бабушкой. К тому времени она закончила школу и уехала в Москву.
"Наталья Максимовна, здравствуйте! Знаете, у вас есть очень удивительный талант -привязывать людей своим голосом!
Я училась в 4 гимназии, в 2006 году Венера Махмудовна подарила нам «Собачью жизнь», из-за которой я проплакала несколько дней, да что там – в сознании что-то перевернулось. Потом я выступала на вашей лекции и с тех пор не пропустила почти ни одной. На протяжении 5 лет мы приходили с бабушкой.
Вы необыкновенный человек: теплый, радужный, талантливый, добрый. Я читала ваши книги, ваши стихи до сих пор крутятся в голове и рассказы.
Я закончила школу и уехала учиться в Москву. Как я жалею, кто бы только знал…. И очень скучаю.
Недавно мы гуляли с другом и наткнулись на дом Окуджавы. Я вспомнила вас, начала рассказывать, какие у нас в Саратове есть замечательные люди, да и про самого Окуджаву. Потом пошел дождь и мы решили спрятаться в театре. Купили билеты на первый попавшийся спектакль, и как я удивилась, когда поняла что это произведение по книге Окуджавы «Будь здоров, школяр»!
Знаете, мне очень захотелось вам написать, я так соскучилась…. По вашему голосу, по вашим глазам, по захватывающим и увлекательнейшим историям. Я передаю огромнейший привет из самого сердца.
Я желаю Вам всего самого наилучшего, успехов, понимания и поддержки близких во всем. ВЫ – гордость нашего времени, я в этом абсолютно уверена! С самой теплой любовью и добром,
Маша Иванова".
Такое письмо, конечно, дорогого стоит. На вечере присутствовала Венера Махмудовна Авдеева, преподавательница той 4 гимназии, где она выращивала таких чудесных учениц, и я рада была увидеть её и поблагодарить. Вот одна фотография, где она на моём творческом вечере подошла ко мне с одной из них, Дашей Безменовой.

Большим подарком было для меня получить письмо от Ревекки Левитант, талантливой поэтессы из Нью-Йорка (сама она родом из Вильнюса), которая с 1996 года живёт в США, преподаёт в школе для детей-аутистов. Меня очень тронуло одно место в её письме:
«Помните, Вы писали, что муж был Вам защитой.
А потом писали, что в последние годы Вы сами пытались ему быть защитой. Но Вы наверно не подозреваете, что являетесь такой защитой для многих людей. Вы всем своим творчеством, стихами, воспоминаниями о муже, всей деятельностью создали, построили эту защиту, эту охранную грамоту, этот защищающий храм, куда хочется прийти к Вам на исповедь... И ещё захотелось поделиться и стихами... Боже мой, Наталия, как хочется услышать хрустальные слова из Ваших уст, обращенные лично ко мне...».
Эти слова и согревали, и вдохновляли, и окрыляли... Хотелось быть достойной этих ожиданий. Не знаю, кто кому больше помогал.
Ревекка давно уехала из России, отвыкла уже, видимо, от наших реалий, условий жизни, и когда она мне предложила совершить турне по Европе или по России, то я была в некотором затруднении, что ей ответить.
"Наташа, а Вы не думали как-то развеяться после этих таких тяжких лет борьбы за здоровье мужа? Предпринять какое-то творческое путешествие, например? Это было бы счастье увидеть вас здесь в Н. Й. Понимаю, далеко. Но Вы могли бы поехать и куда-то по Европе или по России. Вас многие знают и может быть могли бы организовать ваши выступления и экскурсии для Вас? Как Вам такая идея?"
Насколько я помню, такие турне организовывали в своё время для Северянина, Маяковского, с лекциями по миру ездили Сологуб и Бальмонт, даже в наш Саратов заезжали. Какие-то спонсоры, наверное, эти гастроли им оплачивали, но тогда всё было, видимо, гораздо проще.

карта выступлений Маяковского
Боюсь, даже если бы все мои читатели и слушатели со всех концов земли сложились - на такое турне бы сейчас не хватило... (шучу).
А на днях я получила от Ревекки стихотворение, посвящённое мне, которое она выложила на моей странице фейсбука. Хочу поделиться им с вами:
Дорогая Наташа, здравствуйте! Вот написались у меня такие стихи для Вас. Про "деревню, глушь, Саратов ", не обессудьте. Грибоедов же не знал, что Ваш город, оказывается, больше по населению того же Вильнюса.
Молчать и горевать - плохой вариант,
Уехать бы в деревню, в глушь, в Саратов,
Где женщина - прекрасный бриллиант -
Теплом сияет в миллион каратов.
И заново учиться у неё,
как жить, любить, творить, вязать на пяльцах.
Её слова - целебней мумиё,
И смысл всего разложен, как на пальцах.
История её любви - бальзам
На раны многих. Все-таки бывает
Любовь такая вопреки слезам,
Которые поэты проливают.
И голос её чист, как серебро.
Любовь к таким лишь может длиться долго.
С ней обоюдны радость и добро,
Не всё уносит в безвозвратность Волга.
И речь её прозрачна, как хрусталь -
Столь многим подарила воскресенье.
А вдруг и я окрепну, словно сталь?
Слова её - опора и спасенье.
Тепла её не остудил мороз.
Осанку держит, находясь у края.
Любимого дух смерти вдаль унёс,
Зато любовь живёт, не умирает.
Я думала, весь мир сошёл с ума -
И не бывает Грэев и Ассолей.
Но если ты - поэзия сама,
То чудо есть назло расхожей боли.
Я была растрогана до слёз. Как бы мне хотелось походить на этот идеал! Увы, мне до него далеко. Но буду стремиться приблизиться к нему хоть немного. Такие встречи, письма, стихи — огромный стимул для дальнейшей жизни и деятельности.
А преград пространственных не ощущаешь, когда души соприкасаются.

Это Ревекка. Она напоминает мне чем-то мадонн Боттичелли.
О Давиде
«Вы для меня, Наташа, и Ваша жизнь с Давидом, образец такого полного и счастливого воплощения любви, какого я, пожалуй, нигде ещё не встречала, ни в литературе, ни в жизни. Ну разве что в сказках. Поэтому я так к Вам и тянусь, как от века тянутся к свету, радости и поэзии», - писала Ревекка.

Меня часто спрашивают, как мне сейчас живётся без Давида. Нелегко. Да, у меня есть его голос, есть его портреты, книги, записки, воспоминания. Но… обнять нельзя. У меня были такие стихи: «крестов раскинутые руки, которым некого обнять». А в фильме «Апельсиновый сок» героиня Дапкунайте говорит: «Если человека нельзя обнять — то его как бы нет». Но он есть! Он всё равно для меня есть...

Как обернулись близкими стволы,
чтоб ветки я их гладила как руки,
когда голы, пусты мои тылы,
и ни души не слышится в округе.
Ты сможешь эту истину понять,
сорвав с души последние отрепья.
И если стало некого обнять -
то обнимай детей, собак, деревья…

***
Жизнь безлюдней к концу и безлюбней,
мы срываемся в тартарары.
В небе ангел играет на лютне
и зовёт нас в иные миры.
В небесах высоко и красиво,
там легко обитать не во зле.
Но какая-то нищая сила
крепко держит меня на земле.
Расступается мёрзлая яма
и вздыхает душа: наконец!
Из тумана встаёт моя мама
и даёт свою руку отец.
Я теперь понимаю, как просто
быть счастливым и нощно, и днесь.
Облетает земная короста...
Мой любимый, не бойся, я здесь.

***
Я руку тебе кладу на висок -
хранителей всех посланница.
Уходит жизнь как вода в песок,
а это со мной останется.
Тебя из объятий не выпустит стих,
и эта ладонь на темени.
Не всё уносит с собою Стикс,
не всё поддаётся времени.
Настанет утро - а нас в нём нет.
Весна из окошка дразнится...
Мы сквозь друг друга глядим на свет,
тот — этот — какая разница.


Звучали песни Светланы Лебедевой на мои стихи, посвящённые Давиду: «Мы как будто плывём по реке», «Ты стал моим берегом и оберегом» «Пролетела весна...».

https://www.facebook.com/ozingin.mihail/videos/pcb...7926546765/?type=3&theater
Вот здесь у меня на сайте можно послушать все песни Светланы на мои стихи, их там больше 50-ти:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLrgDSzTXDpvMD-HLgTkjPwtraUEsiF6XU
И на том же сайте есть у меня песня о нас с Давидом "Мыстобою", написанная и исполненная Светланой Голиковой, моей дорогой подругой из Судака: https://www.youtube.com/watch?v=kIO-aEDAH6E&t=0s&list=PLrgDSzTXDpvNgYNR5vlK2mBaWc3k94X20&index=30

Выступила Тамара Молодиченко, с которой мы когда-то работали на «Тантале», со своими стихами, посвящёнными нам с Давидом.


И ещё были в этот день стихи, от Светланы Юдиной, с которой учились когда-то вместе на филфаке:
Вы — Феникс, Натали! Горите, не сгорая.
Какие бы костры жестоко Вас ни жгли,
Вы снова с нами здесь, как вестница из рая,
и голос Ваш — как песнь заоблачной земли!
Да... Нашу песню не задушишь, не убьёшь... Спасибо друзьям, воскрешающим из пепла!
Конкурсы
За 7 лет побед в конкурсах было немало, они все перечислены на моей главной странице сайта (в гугле): https://sites.google.com/site/sajtnataliikravcenko/ ,
я назову только несколько.
Вот диплом от Пятого Международного конкурса поэзии имени Владимира Добина, проходившего в Ашдоде (Израиль). (К сожалению, здесь почему-то не раскрылся). А жаль, очень красивый. "Награждается конкурсная работа "Поэзия должна быть делом личным", - начертано на нём. «Поэзия должна быть личным делом. И лишь тогда она нужна для всех!» - так я выразила в том победившем стихотворении своё кредо. Учредитель — израильский литературно-художественный журнал «Русское литературное эхо» при поддержке Союза писателей Израиля. Вот обложка этого журнала, где напечатаны стихи финалистов, в том числе и мои.

В том же году я стала лауреатом 3 международного конкурса поэтов "Цветаевская осень", проходившего в Одессе. К сожалению, диплома нет, многие организаторы конкурсов зажилили дипломы. Цветаевская тема для меня — особая. Стихи, которые там победили, старые, они есть в моих книжках, мне захотелось на вечере прочесть новое. Это стих-е «Последний день» - о последнем прожитом ею дне в Елабуге.

Последний день
Знаю, умру на заре! - Ястребиную ночь/
Бог не пошлет по мою лебединую душу!
...Чтоб на вечерней заре и на утренней сразу!
А зато... А зато — Всё.
М. Цветаева
Нет, не на утренней, не на вечерней заре...
Это случилось между часом-двумя пополудни.
Все разошлись кто куда. Ни души на дворе.
Ты торопилась — не будет минуты безлюдней.
Выход был найден. Скорее же... Нужно спешить...
Скоро с воскресника должен был сын воротиться.
Не поддавались рассудку метанья души -
загнанность зверя, мучения пойманной птицы.
Что вспоминала, от нас навсегда уходя?
Пальцы вцепились в виски... Умолкающий Кафка...
Год примерялась к крюкам, но хватило гвоздя
в час, когда смертной тоски затянулась удавка.
Нет ни надежд, ни иллюзий — одна пустота.
Выжженный взор прикрывали усталые веки.
«Скоро уеду — куда не скажу». Вот и та
станция, имя которой запомнят навеки.
Пряничный город. Бревенчатый домик. Тупик.
Кама, как Чёрная речка, как чёрная яма...
Кто тебе виделся в твой умирающий миг?
Что твои губы шептали: «Любимые»? «Мама»?
Было душе твоей тесно в телесном плену.
Но до последней минуты, пока не убита -
жарила рыбу для Мура, глотая вину, -
эту последнюю дань ненавистному быту.
«Это не я», - ты писала. «Мурлыга, прости».
Звал за собою в высоты простор лебединый.
Жизнь, не держи и домой в небеса отпусти!
Быт с бытиём наконец-то слились воедино.
Ужаса крик и ликующий радости гимн
перемешались в стихе твоём исповедальном.
Взгляд напоследок вокруг — что оставишь другим?
Что от тебя остаётся и ближним, и дальним?
Старый набитый стихами тугой чемодан
и сковородка, где наскоро жарила рыбу.
Пища земная и пища духовная. Дар
сыну прощальный и миру - души своей глыбу.
Вот твой, Создатель, билет, получи, распишись!
Волчья страна, где и небо затянуто тиной...
Царство Психеи, душа, занебесная жизнь -
вот твоё Всё, за которое ты заплатила.
Прорезь улыбки на белом блаженном лице.
В фартуке синем качается тело у входа.
Ждёт её Комната в потустороннем Дворце,
та, что заказывал Рильке за год до ухода.
Ещё назову несколько конкурсов. В 2014 году получила Диплом дипломанта поэтического конкурса «Пятая стихия» Международной премии имени Игоря Царёва (2013-14) с формулировкой:«за русскую душевность поэтической речи».

В октябре 2016 года стала финалистом и дипломантом межобластного конкурса поэзии "Чем жива душа...", проходившем в Ярославле. С формулировкой:
«За редкое умение облечь свои размышления о сути подлинной поэзии в точную художественную форму. За органичное и свободное парение в пространстве мировой литературы». Председатель жюри конкурса Ю.М. Кублановский. К сожалению, тоже здесь не раскрывается.
Вообще в 2016 году я стала финалистом сразу пяти международных и межобластных конкурсов. В 2017 и последующих годах просто уже не участвовала, решила, что хватит. Вот этот диплом получила от Луганска.

Стала дипломантом международного литературного конкурса "Родной дом" (шорт-лист, Минск, 2016), и лауреатом международного конкурса "Серебряный голубь России 2016" (4 премия, Санкт-Петербург, 2016). Получила премию 5 тысяч. (За работы о Кузмине и Ходасевиче)
Дипломов не дали, придётся верить мне на слово.
И ещё стала лауреатом Международного Многоуровневого конкурса имени Де Ришелье – 2016 (Одесса). Получила пятого Серебряного Дюка в номинации "Поэзия". Их всего было семь: золотой, бриллиантовый, алмазный, изумрудный... Некоторые считали, что нам этих золотых и платиновых Дюков вручали, ничего подобного, но желающие могли поехать и на месте заказать их себе за свои деньги из этого материала в ювелирной мастерской. Вот так остроумно нам в Одессе отвечали. Но таковых кажется не нашлось.
А вот такой красивый диплом я получила за победу в юмористическом конкурсе на портале «Планета писателя», на который послала свои «Смехотворинки».

Получила тогда приз — книжку стихов А. Городницкого.
Первое же место я получила за победу в конкурсе Бориса Акунина в его блоге на самую смешную и дурацкую историю. Как заявил писатель, его интересовали смешные и дурацкие моменты, какие случаются с людьми в повседневной жизни. Главным условием было, чтобы это все лично происходило с авторами произведений.

Я должна сказать, что поклонницей и фанаткой Акунина никогда не была и даже к своему стыду не прочла ни одной его книги. На его блоге оказалась случайно — проходила мимо. Прочтя про конкурс, я вспомнила свои смехотворинки, благо у меня их было много, выбрав для конкурса одну. Она случилась со мной лет в 19, когда я была как сейчас пишут «в активном поиске», мечтала познакомиться с каким-нибудь принцем. Вот эта непритязательная история, вдруг ставшая знаменитой.
"Однажды шла в гололёд и упала. И тут же вскочила. Вдруг вижу: с противоположной стороны улицы ко мне со всех ног бежит молодой офицер. Видимо, хотел помочь мне подняться. А я-то уж встала, дура! И, чтоб исправить свою оплошность, снова упала, на этот раз нарочно. Лежу и строю планы: сейчас он ко мне подойдёт, я томно обопрусь о его плечо, попрошу довести до дома, там угощу чаем...
Чувствую, что-то уж долго лежу. Смотрю – а это он, оказывается, за троллейбусом бежал!
Вскочил в него и уехал. А меня так никто и не поднял".

Из 500 присланных на конкурс историй моя была признана самой смешной и дурацкой. За победу был положен приз: один из персонажей следующего романа Акунина про Эраста Фандорина должен был получить имя и фамилию победителя.
Действительно, казалось бы, подарок царский - быть увековеченным на страницах книг о сыщике Фандорине.

Столько было поздравлений! Столько зависти! Привожу реплики с блога Акунина:
- Приз шикарный!!!! Победителю ура! поздравляю победителя! Завидую:)
- Ура, новый роман про Фандорина! Наконец-то! Идея с призом классная, завидую победителю.
- Приз потрясающий! Я тооож такой хочу =)
- P.S.: пойду удушу свою жабу =)
- Поздравления победительнице от менее удачливого конкурсанта!..
Такой был ажиотаж! Все газеты пестрели заголовками: «Саратовская поэтесса рассмешила Бориса Акунина», «Рассказ саратовского автора признан «Самой смешной и дурацкой историей»... У меня дома телефоны надрывались. Журналисты местных газет и телеканалов жаждали взять у меня интервью. А меня это злило. Я велела Давиду говорить, что меня нет дома. Ну что такое в самом деле — когда я завершаю цикл литературных вечеров, когда побеждаю в нормальном поэтическом международном конкурсе, когда выпускаю книгу — их нет, прессе это неинтересно. А тут — какая-то фигня — и слава до небес! Я не хотела, чтобы меня воспринимали в этом — дурацком - качестве. А в другом они меня видеть не хотели.
А между тем в блоге Акунина, помню, кипели такие страсти! Там вовсю шло обсуждение моей дурацкой истории и персонажа будущего романа. Высказывали предположения:
- Победитель - дама по фамилии Кравченко. Давайте пофантазируем: жена одного из персонажей, классная дама в гимназии, ремингтонистка, почтовая служащая, слушательница курсов, участница забастовки работниц... Или окажется, что Кравченко - настоящая фамилия одной из актрис или поэтесс, творящих под псевдонимом "Ветер-Вольная" или "Нимфа Бел-конь-Сандомирская"...
- Ну к примеру, курсистка, и чтобы непременно упала, и чтобы непременно удачно поднялась!
- Да-да, поскользнулась на набережной и тут же подбежал Эраст Петрович…
- А она смерила его негодующим взглядом и сказала: - Вы считаете, что женщина не в состоянии сама встать на ноги? Подите прочь, ретроград!

- Хорошо бы, она поскользнулась где-нибудь в Баку, чертыхнулась бы на персидском, и Эраст Петрович отдал бы ей некое важное письмо.
- Да, он оглядывал бы всех молодых людей, ожидая "сотрудника Кравченко", мужчину, и тут перед ним упала бы барышня...
- Очень надеюсь, что это будет какая-нибудь почтенная дама, например, жена полковника Кравченко из контрразведки, а не торговка семечками))) И она, конечно, будет слегка неравнодушна к ЭПФ!
- Жалко, что мы уже знаем фамилию, никакой тайны...
В общем, фамилию мою склоняли почём зря. Хотя она и не склоняется. Но когда меня подобная перспектива постигла, то я как-то не обрадовалась, а призадумалась. Неизвестно ещё что за персонаж будет, что она там будет у него вытворять под моим именем и фамилией, я ведь никак уже это проконтролировать не смогу. Так у меня какое-никакое своё имя есть, а тут может меня так припечатают в этом романе, что потом не отмоешься.
Словом, я отнеслась к своей будущей награде скептически. И решила от этого нежданно свалившегося на меня счастья отказаться. Я написала Акунину, что, мол, спасибо, большая честь, конечно, для меня, но я от этого приза отказываюсь. Мол, такая слава напоминает мне славу Остапа Бендера, попавшего под лошадь.
- «Не беспокойтесь, Наталия, под лошадь Вы не попадёте», - пообещал мне Акунин. Позже, когда готовилась вёрстка, прислал ещё одно письмо:
"Уважаемая Наталья, подтвердите, пожалуйста, что Вы отказываетесь от приза за победу в конкурсе. На следующей неделе книга уходит в типографию, после этого любые вставки в текст невозможны".
Я отвечала: «Я бы не отказалась, если бы знать, что этот персонаж не какой-нибудь "дурацкий" и карикатурный.)) Но если Вы не можете этого обещать наверняка, тогда всё-таки откажусь. Как мне ни жалко!"
Так мы с ним торговались-препирались, и в конце концов книжка вышла без меня. Это был "Черный город". (Первоначальное объявленное им название было: "Любовь в темноте Черного города»).
Поклонники Фандорина кинулись читать её с лупой и искать меня. И, к своему разочарованию, не находили. Акунин, наверное, потирал руки — пиар-ход гениальный, роман читают, интерес к нему подогрет дальше некуда... А когда разочарованные фанаты, не найдя там меня среди этих персонажей, стали спрашивать Акунина, - а где же обещанная победительница? - отвечал: «А она отказалась. Испугалась». - А кто это должна была быть? - любопытствовали обманутые читатели. Оказалось, какая-то красавица, вполне себе положительная героиня...

Но я думаю, это он назло мне так говорил, чтоб я локти кусала, что отказалась...
Но был случай, когда я всё-таки попала в книгу. ("Попала под лошадь"). В книгу московского писателя Леонида Подольского «Четырёхугольник». В качестве четвёртого угла. Хоть эта героиня носила и другое имя, но имела мои стихи, биографию, фрагменты моих писем… Там было много для меня лестного, но много и авторского вымысла, не соответствовавшего действительности. Вот уж поистине, никогда не знаешь, под какую лошадь попадёшь…

Леонид Подольский и Лев Аннинский
Окончание здесь
|
|
Процитировано 2 раз
Понравилось: 3 пользователям
Новая публикация в журнале "Подлинник" |
|
|
Понравилось: 4 пользователям
«Но я храню твоё объятье…». Часть пятая. |
Репортаж с вечера памяти Давида Аврутова
Продолжаю свой репортаж с вечера памяти Давида. Было удивительное единение с залом, я буквально ощущала его взволнованное дыхание…






В этот день несмотря на зимнюю непогоду и коллапс с транспортом, пришли очень многие, знавшие Давида — и по совместной работе на предприятиях, и по нашим многолетним вечерам поэзии, и были те, кто помнили его молодым.


Давид был необыкновенным человеком: умным, талантливым, живым, весёлым, его очень любили друзья и родные... Но если бы меня спросили, какое качество было в нём определяющим, я бы сказала: самоотверженность. Это было в нём главным. Он всегда думал прежде всего о других — о своих близких, о тех, кто нуждается в нём. Обо мне. Он так умел любить…
Я вспомнила, как он не принял поначалу мой рассказ «Образ счастья», в котором я писала, как мы были счастливы в первые годы нашей жизни, вызывая в памяти призраки прежних дней, то лучшее в них, что будет потом вспоминаться на том свете, станет образом земного счастья. Я не могла тогда понять, что его задело и огорчило в моем рассказе. «А у меня такие минуты – каждый день», – сказал он мне с легким укором. Захлестнуло счастьем и стыдом. Я любила наше прошлое, самое первое, лелеяла юность нашей любви, а для него все это было в настоящем.

Он жил для меня, предвосхищал каждое моё желание. В день рождения я ещё спала, а он уже бежал на базар, чтобы меня встретили на столе самые красивые и дорогие огненно-красные розы на длинных и мощных стеблях — он всегда выбирал именно такие. Наши утра... Какие они были счастливые ещё совсем недавно!
Утро — такое богатство дано!
Мы выпиваем его по глоточку.
Счастье вдвойне, оттого, что оно,
как предложение, близится к точке.
Тянется, как Ариаднина нить...
О, занести его в буфер программы
и сохранить! Сохранить! Сохранить!
Вырвать из будущей траурной рамы!
Круг абажура и блик фонаря,
солнечный зайчик над нашей кроватью...
Лишь бы тот свет не рассеялся зря,
лишь бы хватило подольше объятья!

Это моя любимая фотография. Я сделала из неё портрет и повесила над своей кроватью, чтобы он так обнимал меня всегда.
Висит над моей кроватью
и светится по ночам
связавшее нас объятье,
как плач по твоим плечам…
Перед смертью не надышишься. Лампочка, прежде чем погаснуть, вспыхивает особенно ярко. Вот такими яркими и счастливыми были наши последние годы перед его болезнью, когда весь мир поделился на до и после.

Здесь мы встречаем Новый год у наших старых друзей. 2015-ый, когда он ещё мог выходить.
Всю жизнь Давид писал мне записки, когда куда-то уходил, у нас так было заведено ещё до мобильников, чтобы я не волновалась. Записки были разные, но заканчивались всегда одним и тем же словом: «целую!» Разбирая его бумаги, я находила его записочки, любовно сбережённые мною:
Я в парикмахерской. Целую!
Я пошёл платить за квартиру и потом на базар. Целую.
Я поехал за малиной. Целую!
Наташа, я поехал в библиотеку. Линду мыть не надо. С зеленью не возись. Целую!
Мы гуляли. Целую!
Я перечитывала их, обливая слезами, покрывая эти «целую» своими поцелуями. И мне начинало казаться, что он действительно лишь ненадолго недалеко отлучился куда-то — вот же записка, «скоро приду», и вот-вот прозвучит его знакомый звонок в дверь...
«Ушёл за хлебом. Скоро буду, жди.
Целую». - Я нашла твою записку.
Ей двадцать лет исполнилось поди.
Теперь она подобна обелиску.
Не правда ли, всё будет хорошо?
Ты торопился, до дому бежал всё.
Ты за небесным хлебом отошёл
и там всего лишь чуть подзадержался.
Мы встретимся в Ничто и в Никогда
и превратим их в Здесь, Везде и Вечно.
И снова будем не-разлей-вода.
Я верю в это свято и беспечно.

Мне было хорошо с ним вдвоём, но даже когда я сидела одна за столом, что-то писала или читала, то одно сознание, что он рядом, в соседней комнате и можно всегда к нему вбежать, что-то прочитать, процитировать, поделиться мыслью, строчкой — это было необходимо как воздух, и так же как воздух не замечалось, воспринималось как нечто само собой разумеющееся... А вот теперь его нет рядом. И такая зияющая пустота вокруг… Захочешь по привычке что-то сказать, спросить — а в ответ зловещая тишина… Да, можно позвонить друзьям, знакомым. Но у людей своя жизнь, свои дела и заботы. А мы всегда были на одной волне...
Теперь меня никто не ждёт, я не люблю возвращаться в пустой дом, и часами брожу по городу, по нашим любимым местам, где бывали вместе, и вспоминаю, вспоминаю…

Обошла весь город – себя искала,
свою радость прежнюю, юность, дом.
Я их трогала, гладила и ласкала,
а они меня признавали с трудом.
Многолюден город, душа пустынна.
Всё тонуло в каком-то нездешнем сне...
Я скользила в лужах, под ветром стыла
и искала свой прошлогодний снег.
Увязала в улицах и уликах,
и следы находила твои везде...
Годовщину нашей скамейки в Липках
я отметила молча, на ней посидев.
И проведала ту батарею в подъезде,
у которой грелись в морозный день, –
мы тогда ещё даже не были вместе,
но ходила всюду с тобой как тень.
Я нажала – и сразу открылась дверца,
и в душе запели свирель и фагот...
Ибо надо чем-то отапливать сердце,
чтоб оно не замёрзло в холодный год.

Наши места, где он любил бывать. Дом книги, книжный магазин на Кутякова, Букинист — его любимые места. Они его помнят.
Книги — это была его страсть. Он знал все книжные магазины города, все цены в них, всех книжных продавцов по именам, в начале 90-х ежедневно ездил на угол Горького и Яблочкова, где собирались книгоманы для обмена и продажи книг (это запрещалось, их разгоняла милиция, забирала, штрафовала), и простаивал там часами, привозя потом мне путём сложных двойных-тройных комбинаций обменов то, о чём я мечтала, и о чём даже и не мечтала. Так у меня тогда появился первый сборник Ахмадулиной «Сны о Грузии», двухтомник неадаптированного Андерсена, позже - трёхтомник Георгия Иванова, двухтомник Ивана Елагина. Он ездил на книжные ярмарки, привозил оттуда книги, которых ещё тогда не было ни у кого в городе.

У нас была огромная библиотека, собранная моим отцом, которую Давид всё время приумножал, несколько шкафов, где книги стояли в три ряда. Потом уже трудно было отыскать там нужную книгу, и он составлял каталоги, списки, периодически переставлял их по своей системе.
Когда в 1992 году Давид создал своё издательство и развивал мне свои планы дальнейшей деятельности, как будет издавать мои стихи на отличной финской бумаге — я смеялась, мне это казалось маниловскими мечтами, тогда в Саратове никто не издавал своих книг, это было немыслимо, издавали только членов Союза писателей за государственный счёт. Но он осуществил то, о чём я даже не мечтала, не смела мечтать.





Давид создал первое тогда в Саратове частное издательство. Вот обложки всех моих книг, изданных Давидом:
https://sites.google.com/site/sajtnataliikravcenko/home/oblozki-knig
Коленкор, бумвинил, набор, вёрстка, ISBN, УДК, ББК — все эти неведомые прежде слова стали заполнять нашу жизнь.
Давид издавал не только мои книги — художественную, приключенческую литературу: Георга Борна, серию «тайн» («Тайны Мадридского двора», «Тайны французского двора», «Тайны Константинопольского двора»), неизданного Дюма («Последний платёж», «Робин Гуд — принц отверженных»), послесловия писал к этим книгам. Многие говорили, что послесловие Давида — это лучшее, что было там… Вот, приведу отрывок:
«Если путь прорубая отцовским мечом
Ты соленые слезы на ус намотал,
Если в жарком бою испытал что почем, —
Значит, нужные книги ты в детстве читал!
В. Высоцкий
О чести, мужестве и достоинстве… и о любви!
О гордости, благородстве и верности… и о любви!
О предательстве, трусости и о коварстве… и о любви!
Это Дюма. Много есть прекрасных, любимых с детства писателей: И Майн Рид, и Купер, и Жюль Верн. Но Дюма любим всю жизнь. Потому что в его книгах скрещивают шпаги Добро и Зло, и Добро побеждает. Изворотливая, корыстная хитрость наказывается не менее изобретательным, но благородным коварством. И читатель торжествует.
Как-то на встрече с читателями в Останкине писатель Владимир Максимов сказал, что если бы литература могла влиять на человечество, то для достижения идеального устройства мира достаточно было бы одной книги: «Трёх мушкетёров».
Не всё, что вышло из-под пера А. Дюма, равноценно. И неудивительно: Дюма — это настоящая фабрика романов. Удивительно то, что большая часть их увлекательна. А главное — в каждом из них, действительно, как в детях, живут гены автора, гены доброты, щедрости, неувядаемого жизнелюбия.
Эти качества были органичны для Дюма. Он сам мог быть героем своих книг. Да он и был он, так как это его доброта и сила живут в Портосе, его порывистость и детская открытость — в д,Артаньяне, его ум и достоинство — в Эдмоне Дантесе.
Эдмон Дантес, граф Монте-Кристо, занимает особое место в творчестве Дюма. Это гений мести, за всех униженных и оскорблённых, обманутых и преданных. Казалось бы, как можно любить героя, который живёт ненавистью, а целью жизни считает месть? Но мы любим его, горячо, преданно, восторженно, как можно любить только мечту. Потому что он мстит за нас, он всегда за справедливость, потому что это ненависть, о которой Владимир Высоцкий писал:
Ненависть пей— переполнена чаша,
Ненависть требует выхода, ждет.
Но благородная ненависть наша
Рядом с любовью живет...»
В последние годы болезни самое дорогое что у Давида осталось — это книги, он всем их показывал с радостью и гордостью — кто бы ни приходил - и врачу, и электрику, и почтальону, и соседке — в наивной убеждённости, что им всем это тоже так же интересно и важно. Он то и дело снимал их с полки, - читать уже не мог, но рассматривал, гладил, перелистывал...

Книги падали, порой разрывались, я их подклеивала, а он снова снимал и снова бессильно ронял на пол… Когда приходила сиделка и читала ему мои стихи, он слушал и плакал. Иногда сам читал вслух. И слёзы застилали ему глаза…
Последняя фраза Пушкина была обращена к книгам: «Прощайте, друзья!» Думаю, если бы он мог говорить в последнюю минуту — сказал или подумал бы — нечто подобное...
Помню последнюю прогулку нашу по Набережной. Это было летом 2012 года. Я её запечатлела в стихе, словно предчувствовала, что она не повторится.
Помнишь, как мы пошли с тобой в то воскресенье осеннее в Липки?
Старых лип там уж нету почти, ну а новые – низки и хлипки.
Помнишь, ели мороженое, рифму искали к орешкам кешью.
И её подсказало над деревом небо синеющей брешью.
Шли по Взвозу мы к Волге, зашла я в бывший отцовский дворик,
где листва всё пышнее, а запах каштанов горяч и горек.
А у самой беседки застали свадьбы: невесты, платья.
Крики «горько», лобзанья, хмельные объятья, все люди братья.
«Офигительная!» – орал тамада за большие деньги.
«Сногсшибательная!» – вторил ему, надрываясь, подельник.
Лоскутками цветными обвешан был памятник «всем влюблённым»,
что глядели из вороха тряпок озлобленно, оскорблённо.
Словно знали, что их прозвали в народе: «двум педерастам».
Да вот так этот мир и построен, где всё на контрастах.
Шли и шли мы по Набережной под пьяные свадьбины вопли.
Начал дождик накрапывать и мы ненадолго промокли.
Пустовали кафе и лежали бомжи, как на лаврах, на лавках.
О театр абсурда, весь мир подшофе, нестареющий Кафка!
Нас укрыли зонты от дождя, а быть может от божьего рока.
Ах, веди нас, дорога, веди, доведи до родного порога!
Поскорей бы согреться, и чаю поставить, и хлеба, и сала...
Моё глупое сердце, ответь, для чего и кому я всё это писала?
Просто – всем невдомёк – наша жизнь – мотылёк, ветерка дуновенье.
Просто – этот денёк захотелось спасти, уберечь от забвенья…

А в октябре 2014-го года была наша последняя прогулка в лесу на Юго-Востоке. На гору ты уже не мог подняться и в последнее время мы гуляли здесь. «Последний тёплый выходной» - так назывался мой пост в ЖЖ, где я рассказывала об этой прогулке во всех подробностях.

Давид пригрелся на солнышке и даже глаза от удовольствия закрыл. Это был очень тёплый день - последнее воскресенье октября…

Последняя наша вылазка в лес.

Мы вырвемся с тобой из душных комнат,
туда, где птицы, травы, дерева,
где каждый пень нас каждой клеткой помнит
и тихо шепчет юные слова.
Я вижу, как с тобою вдаль идём мы,
тропою первых незабвенных встреч,
к груди прижавши мир новорождённый,
который надо как-то уберечь.

Один писатель, написавший с меня одну из героинь своей повести «Четырёхугольник», пишет там о моей жизни с Давидом: «Ну неужели можно любить такого глубокого инвалида?» Представьте, можно. И ещё как можно. У меня много стихов об этом.
Мы в опале божьей этим летом,
в небесах горит звезда Полынь.
Холодно тебе под новым пледом,
несмотря что за окном теплынь.
Я иду на свет в конце тоннеля,
факелом отпугивая смерть.
Все слова из пуха и фланели,
чтобы твои рёбрышки согреть.
С болью вижу, как слабеет завязь,
нашу жизнь из ложечки кормлю.
Как я глубоко тебя касаюсь,
как же я до дна тебя люблю.
***
Любовь – не когда прожигает огнём, –
когда проживают подолгу вдвоём,
когда унимается то, что трясло,
когда понимается всё с полусло...
Любовь – когда тапочки, чай и очки,
когда близко-близко родные зрачки.
Когда не срывают одежд, не крадут –
во сне укрывают теплей от простуд.
Когда замечаешь: белеет висок,
когда оставляешь получше кусок,
когда не стенанья, не розы к ногам,
а ловишь дыханье в ночи по губам.
Любовь – когда нету ни дня, чтобы врозь,
когда прорастаешь друг в друга насквозь,
когда словно слиты в один монолит,
и больно, когда у другого болит.
Вот это моя формула любви.

У меня есть эссе о любви в старости, названное строчкой И. Лиснянской «Мой старый царь Соломон», где я пишу об этом.
Подальше, подальше, подальше
от кланов и избранных каст,
от глянцевой славы и фальши,
от тех, кто с улыбкой предаст.
Поближе, поближе, поближе
к тому, кто под боком живёт,
к тому, кто поймёт и услышит,
кто сердце тебе отдаёт.
Покрепче, покрепче, покрепче
прижми к себе родину, дом,
и станет воистину легче
на этом, а может, на Том.

У Давида с юности было тяжёлое заболевание мозговой оболочки — арахноидит, это началось ещё в старших классах. Тогда никто не мог поставить диагноз. В 60-х годах директор Тантала Умнов, где Давид работал, помог положить его в клинику Склифосовского. Там ему делали пункцию позвоночника, это была очень болезненная процедура, там он впервые попробовал морфий. Его всю жизнь мучили головные боли, но это не было заметно со стороны, потому что он жил — на всю катушку, просто сжигал себя, выкладываясь по полной — в работе, в дружбе, в любви. Не ложился на реабилитацию в больницу по два раза в год, как требовали врачи, просто глушил себя обезболивающими, пил по четыре, а то и — страшно сказать — по восемь таблеток пенталгина в день.

В 2013 году он впервые попал по скорой в больницу с подозрением на инсульт, но тогда всё обошлось. А вот в 2014-ом уже не обошлось. С этого времени болезнь начала быстро прогрессировать. Трижды лежал в больницах, но легче не становилось. Путалось сознание, нарушалась походка, координация, слабела память.
Твой бедный разум, неподвластный фразам,
напоминает жаркий и бессвязный
тот бред, что ты шептал мне по ночам,
когда мы были молоды, безумны,
и страсти огнедышащий везувий
объятья наши грешные венчал.
Во мне ты видишь маму или дочку,
и каждый день – подарок и отсрочка,
но мы теперь – навеки визави,
я не уйду, я буду близко, тесно,
я дочь твоя и мать, сестра, невеста,
зови, как хочешь, лишь зови, зови.
Вот он, край света, на который я бы
шла за тобой по ямам и ухабам,
преграды прорывая и слои,
вот он – край света, что сошёлся клином
на взгляде и на голосе едином,
на слабых пальцах, держащих мои.
А дальше – тьма, безмолвие и амок...
Мне душен этот безвоздушный замок,
и страшен взгляд, не видящий меня,
но я его дыханьем отогрею,
ты крепче обними меня за шею,
я вынесу и всё преодолею,
так, как детей выносят из огня.
Когда он в первый раз не узнал меня — это было по-настоящему страшно. Когда вдруг спросил в разговоре: «а откуда ты знаешь Наташу Кравченко? Она у нас лекции в библиотеке читала»… У меня земля покачнулась под ногами, слёзы брызнули градом. Я кидалась ему на шею: «Давид!! Это же я, я!..» Он обнимал меня и смущённо говорил: «Ой, прости, что это я, конечно, это ты, Наташа...» Но потом уже просто смотрел извиняющимся взглядом и не узнавал…
Средь кошёлок, клеёнок, пелёнок
жизнь проходит быстрее всего.
Дома ждёт меня старый ребёнок,
позабывший себя самого.
Я любовь не сдавала без боя,
были слёзы мои горячи.
– Помнишь ли, как мы жили с тобою,
как на море купались в ночи?
Мы пока ещё вместе, мы рядом,
как друг друга нам вновь обрести?
Ты глядишь затуманенным взглядом:
– Очень смутно… Не помню… Прости…
Драгоценность былого «а помнишь?»
для меня лишь отныне одной.
Больно видеть, как медленно тонешь
под смыкающейся волной…
Раньше домом нам был целый город,
перелески, тропинки, лыжни,
звёздный полог и лиственный ворох,
укрывая, к нам были нежны.
А теперь мы одни в этом горе,
в этом замкнутом круге, хоть вой,
словно в бочке заброшены в море,
где не вышибить дна головой.
Достучаться, нельзя достучаться,
свою горькую участь влача,
до плеча, до улыбки, до счастья,
до дубового сердца врача!
Не теряя надежды из вида,
и поглубже запряча беду,
я внимаю псалому Давида,
я в Давидову верю звезду.
Было – не было… Тело убого,
ненадёжная память слаба.
Но нетленны в хранилище Бога
наши юность, любовь и судьба.

Вот я и подошла к последней странице нашей жизни — самому горькому и трудному рассказу.
20 июля Давид сломал шейку бедра. И с этого дня стал быстро угасать.
Гаснет жизнь, как лампа на столе…
Но давай мы будем не об этом –
радоваться проблескам во мгле,
редким озареньям и просветам.
Знаю, не откроется Сезам,
ты закрыт на тысячу засовов.
Но читаю мысли по глазам
и ищу врачующее слово.
В изголовье жду, когда уснёшь.
Пролепечешь что-то, словно маме…
Хорошо, что ты не сознаёшь
весь кошмар случившегося с нами.
Он ушёл очень легко, так плавно перейдя в другое измерение, что даже я, сидевшая рядом, не почувствовала этой грани перехода. Её просто не было. Не было ни вздоха, ни всхрипа, ни стона. Он ушёл светло, не мучаясь, с еле заметной улыбкой на губах, словно ему снился какой-то хороший сон. Это случилось в ночь с 7 на 8 августа, в половине первого ночи.

Я всегда этого страшно боялась. И с тех пор, как он заболел, все мои стихи были — молитвы, заклинания:
Заклинаю незримую силу
с человечески добрым лицом
о свече, что горит через силу,
и о сказке с хорошим концом.
Я соперницы сроду не знала,
ты мне был с потрохами вручён,
но опять сквозь туманность кристалла
за твоим её вижу плечом.
Только зря она в окна стучится,
пока рядом родная Ассоль
защищает тебя как волчица,
ставя палки в колёса косой.

Татьяной была или Ольгой,
весёлой и грустной, любой,
Ассоль, Пенелопою, Сольвейг,
хозяйкой твоей и рабой.
Любовь заслоняя от ветра,
как пламя дрожащей свечи,
Русалочкой буду и Гердой,
твоей Маргаритой в ночи.
Пусть буду неглавной, бесславной,
растаявшей в розовом сне,
лишь только б не быть Ярославной,
рыдавшей на градской стене.
А когда это случилось — в дни похорон мне вспоминался "Доктор Живаго", стихи оттуда: "Я кончился, а ты жива...", и плач Лары над ним, который я никогда не могла читать без слёз и спазм в горле, словно предчувствуя, что это будут и мои слова о любимом:
« И вот она стала прощаться с ним простыми, обиходными словами бодрого бесцеремонного разговора, разламывающего рамки реальности и не имеющего смысла, как не имеют смысла хоры и монологи трагедий, и стихотворная речь, и музыка и прочие условности, оправдываемые одною только условностью волнения...
Казалось, эти мокрые от слез слова сами слипались в ее ласковый и быстрый лепет, как шелестит ветер шелковистой и влажной листвой, спутанной теплым дождем.
— Вот и снова мы вместе, Юрочка. Как опять Бог привел свидеться. Какой ужас, подумай! О, я не могу! Господи, реву и реву...
Прощай, большой и родной мой, прощай моя гордость, прощай моя быстрая глубокая реченька, как я любила целодневный плеск твой, как я любила бросаться в твои холодные волны...»
И в ответ слышалось: «Прощай, Лара, до свидания на том свете, прощай, краса моя, прощай, радость моя, бездонная, неисчерпаемая, вечная... Больше я тебя никогда не увижу, никогда, никогда... больше никогда не увижу тебя...»
Раньше я ощущала незримую связь со вселенной, я чувствовала, что что-то там охраняет и защищает меня. А сейчас этот озоновый слой прорвался и в него врывается холод , чёрный сквозняк небытия. Я больше не чувствую этой защиты, этого небесного покровительства. Оно было у меня только с ним. Его дарит только любовь.
Раньше я писала:
Я выхожу на полночный балкон,
ворохи слов отпускаю на ветер.
Слышится эхо астральных веков.
Кажется, кто-то сейчас мне ответит...
Это волшебная сказка, игра.
Неба глоток мне пошлёт исцеленье.
В свежести ветра и в шелесте трав
чудится Божее благословенье.
Только лишь в логове тайных миров
можно душе отдышаться ночами.
Что б ни случилось — укроет покров,
соткан из воздуха и из печали…

И вот это покров прорван, я его больше не чувствую. Холодно, одиноко, страшно.
Помню, однажды ночью я вышла на «полночный балкон», но уже не в том зачарованном состоянии, как раньше, а в совершенно жутком... посмотрела вниз, отметила: недостаточно высоко, если что, потом подняла голову на каштан, которым мы вместе с Давидом всегда любовались, и вдруг я увидела гроздь разноцветных воздушных шариков, зацепившихся за карниз верхнего балкона, рвавшихся ко мне под порывом ветра.

Сначала я удивилась: откуда они тут взялись посреди ночи, ещё вечером их не было, не было никаких праздников и свадеб накануне… И вдруг мгновенно считала это как некий знак свыше, как послание от него — словно он хотел мне сказать: "Не грусти, жизнь - праздник, я дарю тебе эти шарики, не плачь, улыбнись, радуйся жизни, я здесь, рядом, я тебя люблю…"
Как будто я услышала эти слова, сказанные его голосом. Это было так похоже на него: прийти, как всегда, на помощь в трудную минуту — поддержать, помочь, успокоить, утешить… И мне стало легче. Я как-то верю в такие вещи.
В небо глядела: где ты?..
Листья летят с высоты.
И кажется, это билеты
туда, где ты...
***
Мы были в единой связке,
и вдруг оборвалась нить...
Не вышло, увы, как в сказке,
в один с тобой день свалить.
Висит над моей кроватью
и светится по ночам
связавшее нас объятье,
как плач по твоим плечам.
А кожа имеет память,
такую же, как душа,
в волнах твоих глаз купая,
теплом твоих рук дыша.
Как шарики трепетали,
запутавшись за карниз...
Как будто из смертной дали
последний твой мне сюрприз.
Рыдает безмолвно слово,
не сказанное в свой час.
Отчаянней, чем живого,
люблю я тебя сейчас.
У нас были маленькие гантельки, которыми я заставляла его заниматься, при сжимании они издавали ритмичный скрип, и я придумала «проскрипывать» с ним с их помощью какую-нибудь незатейливую мелодию. «Чижик-пыжик, где ты был, на Фонтанке водку пил..» Он играл мне «Чижика» и смеялся, как ребёнок, а я радовалась, что его развеселила. Я сейчас делаю это по утрам так же как он, и тоже смеюсь. Мне кажется, он это видит оттуда.
Для укрепления памяти Давиду надо было заучивать стихи, но ему уже трудно было это делать, и мы декламировали разные детские слоганы, считалочки: «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять. Вдруг охотник выбегает, прямо в зайчика стреляет. Пиф-паф, о-ё-ёй, умирает зайчик мой...»
Смерть-охотник в зайчика стреляет,
умирает милый зайчик мой…
Пусть ещё на свете погуляет,
каждый день я жду его домой...
За меня цеплялся слабый пальчик,
но разжался, ускользая в рай.
Зайчик моей жизни, солнца зайчик,
не погасни, будь, не умирай!
О прости, что я не защитила,
пулю на себя не приняла.
Я судьбе по полной заплатила.
Я с тобой счастливою была…


Как одной встречать мне эту осень?
Для чего мне этот свет дневной?
Чтобы биться головою оземь,
изнывая мукой и виной?..
Возьмите всё — и радости, и грёзы,
все праздники, добытые в мольбе,
возьмите смех, оставьте эти слёзы,
что вечно будут литься по тебе.
Моя любовь к тебе не перестанет.
Твои шаги мне слышатся все дни.
Они всё ближе с каждым днём скитаний,
вот, кажется, лишь руку протяни…
Всегда твоя от пяток до гребёнок,
и ты весь мой, от тапок до седин.
Ты за руку держался, как ребёнок.
Не удержала… Ты ушёл один.
Прощай, любимый. Нет, не так — до встречи!
Ты где-то там, на лучшей из планет.
А боль свежа, как этот летний вечер.
И жизнь прекрасна, но тебя в ней нет.
Теперь ты часть пейзажа, часть вселенной,
в иное измеренье перейдя.
А мне брести по этой жизни бренной,
выть на луну и слушать шум дождя…
А больше всего меня мучает вот что. Дня за два до смерти я переписывала свои стихи с компьютера, торопилась, а Давид лежал рядом на кровати, и вдруг посмотрел на меня каким-то прояснённым взглядом и попросил: «Покажи мне. Прочти!» Я отмахнулась: «Потом! Мне тут ещё кое-что подправить надо». Но он продолжал просить с какой-то несвойственной ему настойчивостью, почти мольбой: «Ну покажи! Ну прочитай!» Ему так этого хотелось. Ну что мне стоило прочесть — эти, или любые другие, снять любую свою книжку с полки, которые были все переполнены стихами о нём. Когда я - или сиделка — читали ему их — Давид плакал. У него поднималось давление. Я старалась лишний раз его не волновать. И в этот раз сказала: потом как-нибудь, в другой раз. Но другого раза не случилось. И эти стихи я читала ему уже над гробом.
А сейчас меня это страшно мучает — он так хотел услышать эти стихи, может быть, чувствовал, что напоследок, ему так это было надо! А я - не дала… Momento mori, помни о смерти, всегда надо помнить, что любой день может оказаться последним, ничего нельзя откладывать на потом!!! Нет никакого потом, есть только сейчас, сегодня, сия минута! Эту страшную истину всегда почему-то постигаешь слишком поздно…
Читала я стихи тебе над гробом,
которые просил прочесть вчера.
Всё сожрала смертельная утроба.
В миры иные ты ушёл с утра.
Как ты просил: «Ну покажи, ну дай мне!»
Я отмахнулась: после, недосуг…
И вот теперь читаю их в рыданье,
но до тебя не долетит ни звук.
Хотела искупать тебя к обеду,
да отложить решила до зари.
Ты умер в ночь со вторника на среду.
Я обмывала косточки твои.
Есть только миг! Сегодня нас связало,
а завтра слижет чёрная дыра…
Минуточку! Тебе не досказала,
какой я сон увидела вчера...
Но я верю, что мы ещё встретимся, пусть в каком-то другом измерении, но это будет. Не может не быть. И там я буду читать ему всё, что он хочет всё, что написала о нём, всё, что ещё напишу и буду писать, пока буду жива…
Мою голову клал ты себе на плечо,
нежно гладя, прощаясь, слабея…
На душе от запёкшихся слов горячо.
Сколько их не сказала тебе я...
Я живу без тебя — ни жива, ни мертва,
ночью шарю рукой по кровати.
Если раньше была перед Богом права,
то теперь нет меня виноватей.
Шёл, качаясь, бычок по короткой доске -
обернулась доска гробовою.
Почему за тобою в едином броске
я не кинулась вниз головою...
Я иду на твой голос, на свет, по пятам,
я к твоей прижимаюсь одежде...
Милый, бедный, родной, ты услышь меня там,
я люблю тебя жарче, чем прежде.

Вот его фотография, которую я очень люблю.
Он здесь в день своего юбилея, когда ему исполнилось 80, в подаренной мной рубашке. У него здесь такая заразительная улыбка, что я просто не могу не улыбнуться ему в ответ. Я сделала портрет из этой фотографии и повесила над диваном. И каждое утро мы улыбаемся друг другу.
Стучит в окно лишь дождь да ветер,
заглянет ночью лишь луна.
И больше никому на свете
нет дела, как я тут одна.
До моего ночного бреда,
покуда не придёт рассвет...
Но ты смеёшься мне с портрета,
и улыбаюсь я в ответ.
Ну хорошо, не буду плакать,
а буду жить — как будто ты
со мною делишь эту слякоть,
и снег, и завтрак, и цветы.
И верить в чудо, что покуда
я буду на тебя смотреть -
с тобою не случится худа,
плохого не случится впредь.
А вот у этой фотографии была такая история.

Давид завтракал в кухне и вдруг слышу, зовёт меня: «Смотри скорей, какая птичка красивая!» Я прибежала с фотоаппаратом, но птичку уже не застала, а в объектив попала улыбка Давида — такая по-детски простодушная, изумлённо-радостная, мальчишеская, наивная… А когда я смотрела на эту фотографию после его смерти («когда человек умирает — изменяются его портреты...»), то эта так и не увиденная мной птичка стала казаться мне райской птичкой, вестницей с того света, а этот спонтанный снимок — один из последних его снимков на земле — словно фото на проездной — Туда, в Вечность...
И написалось такое стихотворение:
Свет небес и свет твоей улыбки,
птичка, промелькнувшая в окне.
Фокус расплывающийся, зыбкий,
словно ты не здесь уже, а вне.
Словно смерть — секрет полишинеля…
Из себя смотрю как из окна.
Вижу слабый свет в конце тоннеля…
Значит, я не так уже одна.
Наша жизнь — как ветра дуновенье,
но побудь, побудь ещё со мной!
Остановка чудного мгновенья.
Фото на небесный проездной.
У Ахматовой есть стихи:
У меня сегодня много дела:
надо память до конца убить,
надо, чтоб душа окаменела.
Надо снова научиться жить...
Сильные строки, понятно, почему она так сказала, но меня всегда коробила эта строчка: «память до конца убить». Я никогда не могла бы применить её к себе. Я не смогла бы убить свою память. Это самое дорогое, что осталось у меня. Это всё равно что убить свою душу, свою любовь. И я написала вот такие стихи, как бы в противовес ахматовским строчкам:
Так вот какая ты, любовь до гроба,
когда всё стало мёртвым на земле.
Что было кровным — сделалось бескровным,
что было всем — застыло на нуле.
Замолкли губы, что меня будили
горячим поцелуем поутру,
и глаз, что мы друг с друга не сводили,
огонь угас, как свечка на ветру.
Твои черты разглядываю в оба,
разглаживаю складочки на лбу…
Люблю тебя до гроба и за гробом,
любила бы тебя и там, в гробу.
Прощай, прощай! Я вечно помнить буду!
Не забывай меня и там, смотри!
Увы, я знаю, не бывает чуда,
но чудом были наши тридцать три.
Нет, не прощай! Любовь не охладела,
и Ариадны не прервётся нить.
А у меня сегодня много дела -
мне надо память о тебе хранить.
Давид был похоронен на Новом городском кладбище.

К сожалению, я не всех успела позвать попрощаться с ним. Прошу прощения у тех, кому не позвонила в тот день. Была в таком состоянии, что о многих просто не вспомнила. На всякий случай сообщаю его новые координаты: Новое городское, участок 42, могила № 80. Пока здесь только цветы. А летом я поставлю ему памятник. Потом он будет и моим тоже. И тогда мы уже не расстанемся никогда.
И даже если смерть поставит точку -
жизнь всё равно прорвётся запятой,
ростком зелёным, тонким завиточком
под каменной кладбищенской плитой.
Взойдёт весна на белом свете этом, -
а значит без сомненья и на Том,
окрасит всё вокруг защитным цветом
и защитит от смерти как щитом.



Переход на ЖЖ: https://nmkravchenko.livejournal.com/464944.html
|
|
Понравилось: 1 пользователю
«Но я храню твоё объятье…». Часть четвёртая |
Репортаж с вечера памяти Давида Аврутова



«Купите Дворец!»

саратовский Дворец Культуры «Кристалл» в 90-е годы
Тогда это казалось дико: Дворец культуры, который строился для людей, в котором в обеденный перерыв перед рабочими бесплатно выступали известные артисты и поэты, где работали студии, лектории, детские кружки, проводились ёлки, вдруг внезапно раз! - и отошёл кучке богатеев.
Наше отчаяние я выразила тогда в таких стихах:
«Купите Дворец!» — объявленье гласит.
Глазам и ушам я не верю.
Но вот уж другая табличка висит,
и стражники встали у двери.
Как будто плевок получили в лицо!
Здесь были концерты и встречи,
а нынче тут место для сходки дельцов,
свершающих сделки под вечер.
Теперь варьете тут. И сцена дрожит.
И девочки гладки и прытки.
Дешёвая музыка их ублажит,
а к ней — дорогие напитки.
Там каждый фирмач, толстосум и гурман
в любви одноклеточной страждет.
Им видится мир, как огромный карман,
который наполниться жаждет.
Когда-то мы строили этот ДК...
Но всё это рухнуло разом.
И храмы культуры идут с молотка,
и небо не сверзнется наземь!
Ау, диссиденты! Молчите, увы.
Нет надобы в вашей прослойке.
Вам так и не дали поднять головы
ещё на заре перестройки.
Мы мнили: свобода! И мир новизны,
как только могли, приближали.
Но вместе с империей обречены
и рынком невольничьим порабщены,
мы вихрем истории снесены
и занесены на скрижали.

Вот здесь, на этой видеозаписи с передачи ГТРК о презентации моей первой книжки, Давид читает эти мои стихи...
Это был 1994 год. Как слушали его люди!
https://www.youtube.com/watch?v=_33Vuk-yTh4&in...pvOsSyqu1EAKHFvt_W5rl-jW
Наш Дворец прибрал тогда к рукам президент промышленно-банковского концерна «Поволжье» Александр Скорынин. Всех, кто в нём работал, взял к себе с испытательным сроком на два месяца. Сказал, что оставит лишь тех, кто «впишется в коммерческие структуры». Но мы с Давидом не вписались, это было ясно.
Наш бывший ДК Кристалл стал именоваться «Культурно-деловой центр» (Читай: «коммерческо-развлекательный»). Там теперь были: школа стриптиза, эротические шоу, казино, биржи, варьете, поле чудес, разные увеселительные презентации — всё это торжествующе-победоносное царство дебилов.

И если раньше сюда приходили люди с одухотворёнными лицами (как это у Дольского: «мне видится зал, как огромный кувшин, который наполниться жаждет»), то теперь здесь собирался всякий сброд, который вдруг по какому-то нелепому стечению обстоятельств стал хозяином жизни.
Когда я спросила Скорынина (ведь культурно-деловой центр всё-таки), - «а где же здесь культура?», он глубокомысленно ответил: «Смотря что называть культурой». Ну, понятно, культуры у нас были разные. Когда я видела эту зажравшуюся публику, этих плебеев духа — мне вспоминалась блоковская молитва: «Отойди от меня, буржуа, отойди от меня, сатана, я не знаю, лучше я или ещё хуже его, но гнусно мне, рвотно мне, отойди от меня, сатана..."

Мы с Давидом пытались этому противостоять, как могли. Но увы силы были неравные. Нам пришлось уйти из этого Дворца, в котором столько лет работали, для которого столько сделали, но теперь он был уже для другого и для других.
Не звонят колокольчики слова.
Наступила глухая пора.
Мы живём не под шелест вишнёвый -
под уверенный стук топора.
Этих белых одежд им милее
вызывающий блеск от-кутюр.
Детский лепет цветка одолеет
торжествующий шелест купюр.
Роковая судьбы неизбежность -
сад души, обречённый на сруб.
И моя старомодная нежность
запоздало срывается с губ.
Что любили - в утиль обратили,
подменили и облик, и суть.
Победили они, победили
и ногой наступили на грудь.
Гром литавр раздаётся победный.
Но в фальшивящем звуке альта
не "победный" мне слышится - "бедный",
не "победа" звучит, а "беда".
Под удары дикарского бубна
будут жить, набивая суму,
забывая родимые буквы,
вопреки доброте и уму.
Наш силы неравны, неравны,
против зла - беззащитность души
и бесправная голая правда
против сытой нахрапистой лжи…
Четверть века у микрофона
И тогда мы стали проводить вечера поэзии. Сначала в салоне «Вдохновение» с 1988 по 1990-й два года, пока салон не стал магазином, с 1992 года по 1994-й — в библиотеке на Зарубина, а с 1995-го по 2011-й - в нашей областной научной библиотеке, 17 лет. А если ещё вспомнить 1986 год, когда мы проводили вечера в ДК «Мир», то в общей сложности это 25 лет. Четверть века.
Наверное, пол-города перебывало у нас на этих лекциях.


Сколько народу — яблоку негде упасть. Хочется поблагодарить тех, кто нас фотографировал тогда - Люду Лебедянцеву, Леночку Десятникову, которая ещё и записывала мои лекции, благодаря чему их можно послушать теперь в интернете, тех, кто по своей инициативе, совершенно бескорыстно сохранил нам эту память, свидетельство того, что мы с Давидом существовали, что мы делали это.

Конец вечера — люди начинают расходиться под аплодисменты зала… А кто-то и не спешил расходиться и оставался для дальнейшего общения.

Вечер о Мандельштаме — об этом можно сразу догадаться по знаменитому слайду на экране.

Последние ряды зала тоже все сплошь заполнены.

Люди записывали, конспектировали, многие писали отзывы, письма.
Одно из них я хотела бы сейчас зачитать, поскольку там речь так же и о Давиде. Это письмо я получила от одного слушателя , пожилого шофёра, который ездил на наши вечера издалека, преодолевая не только трудности дальней дороги, но и сопротивление своей семьи, домочадцев, не понимавших этой вдруг возникшей страсти к поэзии. Он читал мне его на последнем творческом вечере.

Гергардт Освильдович Анкерштейн на моём творческом вечере. 2011 год.
«Этот год проходит для меня под знаком Натальи Максимовны Кравченко. С 1995 года Вы, оказывается, проводите здесь свои вечера, а я ничего не знал! Никто не сказал мне об этом. Я все уши прожужжал всем про Ваши вечера. Еду на них из совхоза ЦДК, с Зоналки, на двух транспортах. Но для меня это не препятствие. В маршрутке читаю Ваши стихи, и один раз даже проехал свою остановку. Все смеялись.
Везде, где Вы, Наталья Максимовна, пишете в стихах о Давиде Иосифовиче, у меня наворачиваются слёзы. И, Боже, как же я ему завидую! Это такое счастье – жить одной жизнью, одним делом! Наш библиотечный зал, «что души бездонней», стал и для меня таким же родным, как и для Вас. Сколько я узнал интересного из Ваших книг о поэтах, о великих людях. Ничего с таким интересом не читал. А Ваши реквиемы! У меня от них слёзы и сердцебиение. Когда читал о Нине Сергеевне Могуевой – ком стоял в горле. Простите за чёрный юмор, но хочется стать героем одного из Ваших реквиемов.
С огромным удовольствием читаю Ваши четверостишия, где такой искромётный юмор.
К моим походам в город, в библиотеку, дома относятся холодно (что мягко сказано). Я хочу написать Вам свой опус под названием «Я спешу на лекцию». Он основан на фактическом материале. 25 ноября у моей дочери Лены был день рождения, она у меня с 74 года. Это был рабочий день. День рождения перенесли на субботу. А в субботу Вы нам читали.
(Я представила себе эту картину. Семейное торжество, гости, тосты, праздничный стол. И вдруг в разгар застолья глава семьи поднимается и начинает собираться. - Куда? Зачем?! - На лекцию. И вот эту реакцию гостей и родных автор описал в своём эмоциональном и непосредственном стихотворном послании):
Я спешу на лекцию
Жена в ярости. Родные в шоке.
Гости меня никак не поймут.
Куда спешит он? Куда едет?
От гостей, от стола, где едят и пьют.
Я еду на Кравченко. Уже полгода
я ею болен. Её стихи для меня бальзам.
Как говорит она! Как читает!
Всю жизнь бы отдал этим часам!
Рильке, Цветаева, Мандельштам, Пастернак -
с нами, в этом зале, всегда живые.
Если слушателям так лекции будут читать -
их никогда не забудут в России.
Я лечу, я спешу, я бегу из зала — быть дома в восемь жена наказала!
Ещё говорила: «Не будешь дома в восемь — такую тебе устрою Болдинскую осень!»
Вверяю Вам письмо с огромным уважением к Вам, Наталия Максимовна и Давид Иосифович! Счастлив, что знаком с Вами, что имею возможность читать Ваши книги и слышать ваши голоса.
Гергардт Освильдович Анкерштейн».

Сейчас Гергардт Освильдович восстанавливается после инсульта, он очень жалел, что не сможет прийти, и просил меня зачитать это его письмо снова.

Я хочу, чтобы все, кто был на этих вечерах, помнит их, помнили и то, что если бы не Давид — они вряд ли бы состоялись, во всяком случае на таком высоком уровне. Я просто одна бы не потянула всю эту организационную работу, которая вся была на нём. Он и литературу мне подбирал к лекциям, доставал книги, которых ещё не было в Саратове, привозил с книжных ярмарок, списывался с издательствами из других городов, - думаете, откуда у меня были такие редкие факты на лекциях? - из новейшей литературы, которой меня обеспечивал Давид. Он и слайдпрограммы готовил, а раньше вручную слайды показывал, причём мы эти слайды заказывали за свой счёт, нам никто это не оплачивал, и всю эту многолетнюю работу он проводил абсолютно бескорыстно, без копейки денег. И объявления на вечера всюду разносил-развешивал, и слушателей обзванивал, и композиции по моим стихам готовил с юными артистами из театра «Данко», и сам выступал с чтением стихов.

Здесь он читает стихи из моей книги «По горячим следам».
Давид великолепно читал стихи. Он был лауреатом Всесоюзного конкурса чтецов в 70-е годы, когда он читал стихи со сцены — его не отпускали часами, все слушали как заворожённые.
Но, конечно, он не только мои стихи читал на вечерах. Практически стихи всех поэтов, о которых я рассказывала на лекциях, читал он. Мы записывали эти фонограммы в домашних условиях, на своих стационарных катушечных магнитофонах, которые тогда были очень хорошего качества, на музыке с наших пластинок, которую я тщательно подбирала, подкладывала под его чтение в микрофон, микшировала, выводила. Это была настоящая домашняя студия. Мы делали десятки дублей, мы искали лучший вариант, добивались совершенства.
Я хочу дать вам сейчас послушать гениальное стихотворение Артюра Рембо «Пьяный корабль» в переводе Давида Самойлова в исполнении Давида. Я его писала на музыке композитора 18 века Сезара Франка, которая очень здесь подходит, на мой взгляд. Это подлинный шедевр — и самого произведения и исполнения, вполне адекватного ему. Даже кто-то написал ему в коментах, что «чтение вполне равновелико содержанию». И это не фигура речи. Это стихотворение впервые прозвучало на нашем вечере «Проклятые поэты» о Верлене и Рембо.
Послушайте сейчас это стихотворение. Кстати, на ритьюбе у него больше 1020 просмотров. Читает Давид Аврутов.
https://rutube.ru/video/5fef5854eafe69c7b3cb6e3eea...AMzRbYgkCllCherXmWRV7GLipusFks
Способ выжить
Мне сейчас очень трудно без него. Держусь за свои воспоминания, как за спасательный круг в море горя.
Вспоминать, писать о нём, рассказывать - это мой способ выжить. Как та Шахерезада — пока она рассказывала — длилась жизнь.
Скрипач на крыше заставляет быть,
взяв нотой выше.
Ведь что такое в сущности любить?
Лишь способ выжить.
Некоторые советуют: надо отпустить боль-тоску, и тогда станет легче, и мне, и его душе. Но я не хочу его никуда отпускать от себя. Нет, я напротив, стараюсь жить так, как будто он по-прежнему здесь, со мной, рядом. Слишком сильная связь, чтобы она прервалась со смертью.
Я вспоминаю, как мы были с ним счастливы. Ещё до того, как началась наша бурная деятельность — с конца 80-х, а мы с Давидом вместе были с начала 80-х, и тогда мы просто жили, работали на «Тантале», в лес ходили — он у нас в получасе ходьбы — только подняться на гору на Стрелке, весной за ландышами, летом за грибами, зимой на лыжах, встречались с друзьями, гостей собирали. Летом отдыхали на турбазе «Монтажник» на Волге. Там было так хорошо: домики в лесу, лодка, острова… И была у нас дача в Займище (у моих родителей), где мы тоже иногда отдыхали.
Вот здесь я сняла Давида у нас на огороде.

А это он меня на веранде.

Правда эту дачу мы продали потом, потому что не любили там работать, предпочитали проводить время на пляже.

Давид на пляже

А здесь я в волжских волнах, плыву, оглядываясь на Давида, ещё молодая, счастливая, влюблённая, и мне хочется сказать, глядя на этот снимок: остановись, мгновенье!
И высшая точка этого счастья — наша поездка к морю, в Сочи, которую я запечатлела тогда в стихах:
Мы вместе — о чудо! - пускай ненадолго, -
завидуй, прохожий, судачь!
Простит нам измену песчаная Волга,
дремотная суетность дач.
Нас ждут сумасшедшие южные ночи.
Вскипает и пенится кровь.
Да здравствует море! Да здравствует Сочи!
Да здравствует наша любовь!
Отныне мы знаем, как выглядит счастье,
когда оно — вслед за тоской, -
как солнце, как ветер, распахнутый настежь,
как кружево пены морской!..
И потом, спустя годы, когда Давид создал издательство, издал мои стихи, в том числе и эти, и была презентация первой моей книги в библиотеке на Зарубина, на которой прозвучала композиция по моим стихам, подготовленная Давидом со студентками 3 курса театрального факультета консерватории. Послушайте небольшой фрагмент из неё.
https://www.youtube.com/watch?v=ziND4Ij7oY0&feature=player_embedded
Потом Давид не раз готовил такие композиции по моим стихам, вот на этой фотографии вы видите фрагмент одной из них.

Здесь бард Светлана Лебедева справа (её песня на мои стихи «Моим слушателям» («Люди с хорошими лицами, с искренними глазами...») даже вошла в финал Грушинского фестиваля в 2009 году) и юная чтица Феодосия, у которой сейчас своя школа танцев. Это 2007 год.
Стихи Давида
А ведь Давид тоже писал стихи. У него даже шуточная поэма есть, «Дон Жуан в ОКБ», о том, как любимец женщин из прошлых веков попадает в наши дни, на наш завод, и каких женщин он там встречает. Поэма изобилует конкретными сатирическими деталями и узнаваемыми личностями, её читали в те годы, покатываясь со смеху, передавали из рук в руки. Но и сейчас, когда посвящённых в те реалии уже почти не осталось, её невозможно читать без улыбки. Когда-нибудь я её обязательно выложу в интернете, может быть, к 8 марта.
А ещё — у него есть детская азбука в стихах, к сожалению, написанная лишь до половины, где каждая буква алфавита обозначена афористичным четверостишием о каком-нибудь зверьке на эту букву. Он написал её буквально за полчаса — просто чтобы показать, как надо писать, после нашего спора — издавать или нет предложенную нам азбуку известным местным поэтом, которая, на его взгляд, никак на печать не тянула.
А вот его вариант (заметьте, совершенно экспромтный, написанный лишь в качестве доказательства!) Приведу только несколько букв.
Азбука для детей
Баран бодается упрямо,
ему от книг не по себе,
бранят его отец и мама:
он в азбуке ни «Ме» ни «Бе».
Волчонок выучил всё вмиг,
в родителя сынок,
барана, зайца — всех постиг,
всех знает на зубок.
Индюк — интересная, важная птица,
с иными водиться ему не годится.
И пышные перья, и грудь колесом,
он гордо молчит — и слывёт мудрецом.
Никто, никогда, ни за что не узнает,
какие идеи его осеняют…
На всё лишь кивает своей головой
и очень доволен индюк сам собой..
Жираф красив в жакете жёлтом,
в лосинах в крапинку из шёлка,
по жаркой Африке гарцует,
словно не ходит, а танцует,
и шея длинная слегка
чуть задевает облака.
На жизнь он смотрит свысока.
Зайка вовсе не боится
ни волчонка, ни лисицы.
Коль их встретит на дороге,
то спасают зайца ноги.
Знает заяц: скорость ног -
жизни заячьей залог.
Как же здорово написано: таким доступным для детей языком, и так остроумно, ничего лишнего, каждое четверостишие — это не просто детский стишок о зверушке, это ещё и психологические типы людей. Я его умоляла дописать эту азбуку, мы бы её издали, с картинками, люди бы раскупали, но он отмахнулся — ему уже это было неинтересно, он уже жил другими идеями… Так эта азбука и осталась недописанной.
А вот эти стихи Давида ещё никто не видел. Он писал их только мне, тогда, в 80-х, в первые годы нашей любви. Мне, конечно, трудно быть к ним объективной, но мне кажется, что они — прекрасны!
***
Тоньше лепестка
нежная рука.
Профиль василька
рядом с твоим груб.
Миг — и на века
ты — моя строка,
счастье, боль, тоска,
радость моих губ.
***
Ты само очарованье,
в тебе нежность как дыханье,
в каждой капельке волос,
словно мне совсем случайно
прикоснуться к тихой тайне
довелось.
***
Ты моя пленительная тайна,
мой заветный тридевятый лес.
Там покой и ласка обитают…
Мне б укрыться под его навес.
Руки выплывают из тумана,
манят лебединые крыла…
Ты всегда неизлечимой раной,
ты всегда мечтой моей была.
***
Голос твой меня обворожил.
Слушаю, внимаю — слов не слышу, -
кто-то в душу арфу мне вложил,
Золушка из сказки тихо вышла.
Так нас окрыляют журавли,
увлекая в край освобожденья.
Облака так в голубой дали
манят нас обманами виденья.
Так поют у розы лепестки,
словно нету в мире увяданья,
нету ни печали, ни тоски,
только радость и очарованье,
только трепет ласковой руки
в тайный час счастливого свиданья.

Тогда, под Новый год 1984-го, у нас произошло решающее объяснение. Я помню эту встречу до мелочей, помню все его слова и прикосновения, помню добрый свет его глаз. И его стихи о том Новом годе:
***
Ночь новолуния,
белые снеги,
тихо искрится свет фонарей.
Звёзды, как стражи земного ночлега,
как маяки беспредельных морей,
звёзды, скажите, что нам готовит,
чем нас порадует новый восход?
Пусть он счастливым и светлым приходит,
с ворохом новых надежд, Новый год.
Белые снеги, свежей порошей
вы позасыпьте несчастья людей.
Пусть Новый год будет очень хорошим,
добрым для взрослых и для детей.
35 лет счастья
А в последний день зимы он пришёл ко мне с чемоданом, и с этого дня началась наша совместная жизнь, которая длилась 35 лет. Мы всегда отмечали с ним именно этот день, а не дату регистрации брака, которая была много позже — 10 лет спустя. Но на беду этот год оказался високосным, и Давид пришёл ко мне 29 февраля, так что этот день мы могли праздновать лишь раз в четыре года, и смеялись, что этак до серебряной свадьбы не доживём.
Дожили. И даже пережили.


***
Мы дольше серебряной свадьбы вдвоём,
и сердце моё возлежит на твоём,
ресницы щекочут ресницы.
Но вдруг померещится топот погонь,
и крепко твою я сжимаю ладонь,
мне страшно, что это лишь снится.
Я знаю на ощупь тебя и на слух,
и знаю, однажды кого-то из двух
она уведёт на рассвете,
но верю, спасёт нас живая вода,
и парно обнявшихся минет беда,
коль будем с тобою как дети.
А сейчас послушайте ещё одну аудиозапись чтения Давида. Это стихотворение Бродского «Горение». Он просто потрясающе его читает.
https://www.youtube.com/watch?v=TNboHPxmuMM&li...2g2Jzm2N6z5kWkI7a&index=18
Когда я сейчас слушаю любовную лирику в исполнении Давида, будь то Бродский или Лорка — я чувствую, что это не они объясняются в любви своим возлюбленным, это не холодный Бродский, не замкнутый Лорка — нет, это мой Давид со всем пылом и жаром страсти говорит мне о своей любви их стихами! И мне хочется воскликнуть, как Маяковский: «Послушайте!» Вот так он меня любил, да, да, именно он, да, именно меня!
И ещё одно волшебное стихотворение Лорки из его «сонетов тёмной любви»: «Я твоё повторяю имя...»
https://www.youtube.com/watch?v=nG_dtSLnG0k&li...A2g2Jzm2N6z5kWkI7a&index=2
Мне, конечно, трудно судить объективно, но я просто не могу представить, что кто-то может читать лучше Давида. Для меня это эталон чтения. Многие профессиональные артисты, мне кажется, могли бы у него поучиться. Но тут не только мастерство, конечно, тут всё — любовь, страсть, темперамент, накал, энергетика, нежность, душа... Этому нельзя научиться. Это либо есть либо нет.
Какое счастье, что у меня остался его голос, что я могу его слушать, моих любимых поэтов в его исполнении. И не только у меня — столько людей в интернете может наслаждаться теперь этим чтением.
Когда Давид болел, я часто ему ставила эти записи, и ему было радостно их слушать. Я все их выложила в ютубе и говорила: "я из тебя сделаю звезду интернета!"
Мы понимали друг друга с полуслова.
Я споткнусь на каком-то слоге –
ты продолжишь за мною фразу.
Два медведя в одной берлоге,
мы совпали с тобой по фазам.
Вопиюще не одиноки
в закутке домашнего круга,
два медведя в одной берлоге –
мы немыслимы друг без друга, -
писала я в одном из стихов.

Наши беспрерывные диалоги, порой переходящие в творческие споры и бытовые стычки — ну куда же без этого — рождали новые литературные жанры: «смехотворинки», «разговорчики», «домашние перебранки». К моему удивлению, они имели большой успех в интернете — заняли 1 место на конкурсе юмористической миниатюры на портале «Планета писателя», и в конкурсе, объявленном Борисом Акуниным в его блоге на самую смешную и дурацкую историю, случившуюся с тобой в жизни, из пятисот присланных историй именно моя была признана самой смешной и дурацкой. Хотя в этом никакой моей личной заслуги не было — эти смехотворинки рождались в процессе наших диалогов с Давидом. Сама жизнь их рождала...
Мне хочется сейчас привести вам некоторые из них.
Разговорчики
Куда уж больше?
Давида спрашивает юная артистка из народного театра, с которой он готовит композицию по моим стихам:
- Давид Иосифович, а сколько Вам лет?
– Много.
– Ну сколько?
– Угадай.
Думает. Осторожно:
– Ну... пятьдесят четыре?
– Больше.
Брови ползут вверх. Неуверенно:
– Пятьдесят восемь?
– Больше.
– Больше?!
И, почти с ужасом:
– Шестьдесят?!
– Больше.
Она всплёскивает руками:
– Да куда уж больше!
Заветы Сократа
По телевизору рассказывают о Сократе, который призывал в своё время всех жениться: "Попадётся хорошая жена – будешь счастливым, плохая – станешь философом".
Я спрашиваю Давида:
– Ты счастливый или философ?
Давид, поразмыслив:
– Счастливый философ.

Святость или талант?
Продавец книжного магазина Вадим говорит Давиду о своём неприятии Достоевского: играл в карты, пил.
Давид:
- Но среди талантов не бывает праведников.
- Да? - ехидно прищурился тот. - А Наталья Максимовна?
Это называется удар ниже пояса. Нет уж, пусть лучше сомневаются в моей святости, чем в таланте.
Домашние экспромты
Я – Давиду (утром из ванны):
– Поскольку я в неглиже, ты на меня не гляже.
А это Давид – мне, тоже, выйдя из ванны:
- Тёр мочалкою ретиво,
Кипяток лил докрасна.
Я-то думал, это мыло.
Оказалось – седина!
А это снова я, после завтрака, над разбитой вдребезги тарелкой:
- Одной тарелкой меньше стало –
Одною песней больше будет.
Не пой, светик, постыдись!
Колем с Давидом орехи. Я колю и ем одновременно, он же только сосредоточенно колет, несмотря на неоднократные приглашения последовать моему примеру. «Знаешь, - вспоминаю я старинный обычай, - крепостных, собиравших ягоду, хозяева заставляли в это время петь, чтобы те её не ели. Ты был бы идеальный сборщик — тебя даже заставлять петь было бы не надо».
- Если бы я запел, - заметил муж, - они бы сказали: «Нет, лучше уж ешь!»
Лечение кошкой
Утром по ТВ говорили о том, что глажение кошки снижает давление. Проводили эксперимент: три женщины гладили по 5 минут трёх кошек - у всех снизилось. Потом оказалось, что две из них гладили игрушечных кошек. Т.е. дело не в кошке, а в том, что человек в покое, совершает ритмичные движения, гладит что-то мягкое, шелковистое, не важно что. Результат тот же.
Я, уже было задумавшись о приобретении кошки для снижения Давидовой гипертонии, облегчённо вздохнула:
- Кошка не принципиальна. Можешь гладить, например, меня.
Давид:
- Да у меня тогда наоборот, поднимется…

Более чем
- Давид, иди есть.
- Картошка готова?
Я, открыв крышку, после паузы:
- Более чем. Сгорела.
Суета сует
Давид решил читать Библию. Просил не тревожить.
– Давид, включи «Пока все дома».
Он, строго:
– Это суетная передача.
Домашние перебранки
Интеллектуальная ругань
Скандалили с Давидом из-за моей неверной (якобы) трактовки Мандельштама. Я придерживалась линии Аверинцева, он — Гаспарова. Так кричали, что слышали соседи.
Знали бы, по какому интеллектуальному поводу так страшно ругаемся.
Не облако, а обло
Я, вспомнив С. Гандлевского («Это яблоко? Нет, это облако…»), спрашиваю Давида:
– Я для тебя кто – яблоко или облако?
(Перед этим кто-то из моих слушателей написал мне на брошюре с программой «Яблока»: «Вы не яблоко, а облако»).
– Ты не яблоко, и не облако. Ты – обло.
– ?!
– «Чудище обло, стозевно и лаяй».
– Сам ты «лаяй»!
Тут Линда присоединяет к нашим голосам свой визгливый «лаяй», как бы заступившись за меня в этом наглом поклёпе.
Конец неотвратим
Давид, нервничая, что я не успею подготовиться к лекции, заставляет идти заниматься. Я, отмахиваясь, говорю, что у меня всё просчитано и я успею. Подняв вверх палец, назидательно цитирую:
- Но продуман распорядок действий!
Давид, вперив в меня указующий перст, парирует:
- И неотвратим конец пути!
За завтраком
Утром спрашиваю мужа:
– Ты что будешь есть: омлет, манную кашу или овсянку?
Давиду не нравится ничего из перечисленного.
– Это всё равно что выбор между Ельциным и Зюгановым.
– И Явлинским, – пытаюсь я ему напомнить о третьем компоненте.
– Явлинского я здесь не вижу, – отрезает он.
Мама, заглянув в морозильник, включается в нашу предвыборную аналогию:
– А пельмени? Пельмени – Явлинский!
За едой у меня созревает стих:
– Что ты будешь есть? – тебя спросила, –
Кашу овсяную или манную?
Ты ответил: – Это равносильно
выбору меж Ельциным – Зюгановым.
Ангел мой с профилем чёрта,
ангел мой с прядью седой.
Сладко сквозь годы без счёта
быть для тебя молодой.
Нас не настигнет бедою,
нас ей не взять на излом.
Ты у меня под пятою.
Я у тебя под крылом.
Варим картошку в мундире,
яблоки сорта ранет.
И никого в целом мире
нас ненасытнее нет.

Маленький мирок
Люди, далёкие от творчества, часто задают мне вопрос: "О чём можно писать столько стихов? Ну о чём?" И в самом деле - о чём? Всё вроде описано, ничего особенного не происходит в твоей жизни, всё с годами устоялось, вошло в свою колею. Да, но всё время что-то происходит в тебе, в твоей душе, в твоём внутреннем мире. Поэтому стихи пишутся непрерывно. Для меня это как дышать.
Свежий ветер влетел в окно,
распахнул на груди халат.
Бог ты мой, как уже давно
не ломали мы наш уклад.
Те года поросли быльём,
где бродили мы в дебрях рощ...
Свежевыглаженное бельё,
свежесваренный в миске борщ.
Наши ночи и дни тихи.
Чем ещё тебя удивлю?..
Свежевыстраданные стихи,
свежесказанное люблю.
Мы любили свой дом, свою неприметную беспафосную жизнь в нём.
Эти ступеньки с лохматой зимы,
старые в трещинках рамы.
Как затыкали их весело мы,
чтобы не дуло ни грамма.
Наша халупа довольно нища.
Просто тут всё и неброско.
И далеко нашим старым вещам
до европейского лоска.
Но не люблю безымянных жилищ,
новых обменов, обманов,
пышных дворцов на местах пепелищ,
соревнованья карманов.
Там подлатаю и здесь подновлю,
но не меняю я то, что люблю.
Ближе нам к телу своя конура.
Как мы её наряжали!
Да не коснётся рука маляра
слов на заветных скрижалях.
Стены в зарубках от прошлого дня...
Только лишь смерти белила
скроют всё то, что любило меня,
всё, что сама я любила.
Чужд мне фальшивый гламур и бомонд.
Чур меня, чур переезд и ремонт!
В этом смысле мы с Давидом были похожи, нам было уютно и хорошо в том доме, который у нас был, и мы ничего не хотели в нём менять.
Я научилась штопать, шить и жить.
Как хорошо, что некуда спешить.
В незнаемое кончилась езда.
Нас сторожит вечерняя звезда.
И нам идёт пить чай с лесной травой,
всё, что привыкли делать не впервой.
Ты мумиё моё, ты мой жень-шень.
Одна я беззащитна, как мишень.
Сменилась даль на пристальную близь.
Две половинки пазлами слились.
С обочины смотрю с улыбкой я.
Не тем вы озабочены, друзья.
Нам не висеть в трамвае в часы пик.
«Что нового?» поставит нас в тупик.
Но вечно новы дождик по весне
и радуга цветастая в окне.

Казалось бы, что может быть поэтичного, интересного, романтичного в жизни двух пенсионеров? Сразу вспоминаются старосветские помещики Гоголя... Ан нет. Когда два любящих человека живут много лет рядом — им не так важно, что происходит за их окном, в большом мире. Им хорошо вдвоём, потому что они друг для друга — целый мир.
Уютный комнатный мирок
с родными старыми вещами,
без обольщений и морок,
из сердца вырванных клещами.
Отброшен гаршинский цветок,
не надо ран очарований!
Мой домик, угол, закуток,
что может быть обетованней?
На коврик, чашки, стеллажи
сменить бездомность и огромность.
Не Блоковские мятежи,
а Баратынского укромность.
О здравствуй, снившийся покой!
Ты наконец не будешь сниться!
Утешь меня и успокой
в ладонь уткнувшейся синицей!
Уходит завтра во вчера
без жертв, без жестов и без тостов.
Дней опадает мишура
и остаётся жизни остов.

Вот так я обживала своё новое пространство. И оно мне нравилось. У меня был такой цикл стихов - «Узкий круг», где я попыталась передать это своё новое душевное состояние и мироощущение, когда мы с Давидом ушли с работы.
А круг сужается, сужается,
всё отсекая на корню.
Друзья звонят и обижаются,
что забываю, не звоню.
Круг сузился до тесной комнаты,
до круга лампы над столом,
мой ближний круг — где только дом и ты,
и вяз за кухонным окном.
Но пусть друзья не ужасаются, -
мол, погружается на дно...
Мой мир сужается, сужается
до лишь того, что суждено, -
вдали от топота и ропота
неузнаваемой страны -
до слова, сказанного шёпотом,
до теплоты и тишины,
до стынущей тарелки с ужином,
до книжных полок, что вокруг,
до глаз твоих, от счастья суженных,
в кольце моих горячих рук.
И любишь ревностней и яростней
в привычной будничности дней.
Чем ночь черней — тем звёзды ярче в ней.
Чем уже круг — тем он сильней.

Вот здесь мы в узком кругу — отмечаем мой день рождения в 2009 году. Впрочем, не таком уж узком - в объектив попала только половина стола. Надя Шаховская читает мои стихи из новой книги «Очаг». И так слушают её, такая атмосфера была тогда удивительная, как будто ангел пролетел. Мне кажется, даже по фотографии это чувствуется.
И был ещё у меня цикл стихов «В домике». Была такая детская игра: «Чур-чур я в домике», когда дети очерчивали мелом круг, запрыгивали в него, и никто уже не смел их там достать. Вот у меня было такое же ощущение защищённости в своём доме, в своей семье, как в детстве.
«Чур-чур я в домике!» И за чертой — напасти.
Перескочив спасительный порог,
неуязвима я для смертной пасти,
всех неприкосновенней недотрог!
Чур-чур меня, страна и государство!
Я мысленно очерчиваю круг,
где мне привычно расточает дар свой
домашний круг и круг любимых рук.
Там чёрная нас не коснётся метка -
укроет крыша, небо и листва,
грудная клетка, из окошка ветка...
Мой домик детства, радости, родства.

***
Дождинки в ладони падают,
зима ещё вдалеке.
День снова меня порадует
синицею в кулаке,
где в доме — как будто в танке мы,
плечо твоё — что броня,
где вечно на страже ангелы,
тепло как в печи храня...
***
Наша жизнь уже идёт под горку.
Но со мною ты, как тот сурок.
Бог, не тронь, когда начнёшь уборку,
нашу норку, крохотный мирок.
Знаю, мимо не проносишь чаши,
но не трожь, пожалуйста, допрежь,
наши игры, перебранки наши,
карточные домики надежд…

Мой дом, моя крепость, мой муж, мой мир… Я и раньше воспевала это в своих стихах, что обычно, надо сказать, у поэтов воспевать не принято. И помню, как одна местная критикесса в своей огромной разгромной статье, ниспровергая там моё творчество, припечатала его таким ярлыком: «маленький пошленький мир — мирок». Когда такую же примерно фразу сказал Николай Вышеславцев Цветаевой по поводу творчества Пруста, она ему ответила: «Не бывает маленьких мирков. Бывают только маленькие глазки». Я не вижу ничего плохого в маленьком мирке, если он свой, родной, живой, тёплый. Ибо он может нам стать защитой от большого, чужого, холодного, враждебного мира.
Мы гуляем на закате
в свой последний звёздный час.
Дома расстилаю скатерть,
режу хлеб, включаю газ.
Я пою тебя настоем
с немудрёным пирогом.
Теплюсь лампою настольной,
глажу душу утюгом.
О безумный, оглашенный,
мир за тонкою стеной!
Ты больной, но не душевный,
хоть душевно ты больной.
Скольких бед и мук виною,
мир, убийца и вампир,
обойди нас стороною,
пощади наш скромный пир.
Будем тише и укромней,
дом укроет от стихий.
Но ещё надёжней кровли
защитят мои стихи.

Защита
Всё это, конечно, иллюзия. Ни от чего и ни от кого никакие стихи защитить, увы, не могут. Но у меня тем не менее был такой цикл: «Защита». Он родился спонтанно, в разговоре с Давидом. Я вычитала где-то такую фразу: «У каждого должна быть экзистенциальная защита — главная миссия человеческой фантазии — формирование такой картины мира (придумать себе такую систему), которая помогла бы забыть о нашей бренности, мизерности и беззащитности».
Давид на эту книжную премудрость ответил просто: «Я — твоя защита, а ты — моя защита. И всё». Всё остальное от лукавого. И я с этим горячо согласилась.
Раны зарубцованы, зашиты.
Трещины срастаются веков.
Ты – моя великая Защита
от вселенских чёрных сквозняков.
Как же я давно тебя искала
и в упор не видела лица,
разбиваясь, как волна о скалы,
о чужие твёрдые сердца.
Ты моя отрада и забота.
Жизнь, как мячик, кину – на, лови!
С легкостью отдам души свободу
я за плен пленительный любви.
И с годами все неугасимей
свет из-под состарившихся век.
Этот бесконечный стих во Имя
я не допишу тебе вовек.
Давид всегда был рядом, я всегда чувствовала его надёжное плечо. Я с ним не знала, что такое депрессия, он всегда мог вытащить меня из любого горя. Умер отец, умирала мама, погибали любимые собаки — он всегда мог поддержать, утешить, успокоить, найти те самые единственные, целебные для сердца слова. Он всегда знал чем порадовать. Я постоянно чувствовала рядом его дыхание, его помощь, участие, заботу.
Всё уходит в бездну, сводясь на нет,
ухмыляется Бог-палач.
Только ты — спасительный мой жилет,
куда можно упрятать плач.
Только ты — единственный огонёк
в море мрака, холода, лжи.
Я держусь за шею, как за буёк -
удержи меня, удержи...
А потом, когда он заболел — я стала его защитой, у нас поменялись роли.
За тобой была как за стеною каменной,
за меня готов был в воду и огонь.
А теперь порой рукою маминой
кажется тебе моя ладонь.
Как наш быт ни укрощай и ни налаживай -
не спасти его от трещины корыт.
Ускользаешь ты из мира нашего
в мир, куда мне ход уже закрыт...
***
Наш Титаник тонет, небо в звёздной кроши,
в стенах всюду бреши, трещины в судьбе.
Но не бойся, милый, думай о хорошем,
о большом и добром, праведном Судье.
Шелковистым пледом я тебя укрою,
станет телу жарко, сердцу горячо.
Да, у нас отныне поменялись роли.
Обопрись покрепче на моё плечо.
Как это ни странно, как это ни дико -
мы сумели выжить в нынешнем аду.
Но теперь Орфеем стала Эвридика,
и теперь из ада я тебя веду.
Переход на ЖЖ: https://nmkravchenko.livejournal.com/464686.html#comments
|
|
Понравилось: 1 пользователю
«Но я храню твоё объятье…» Часть третья |
Репортаж с вечера памяти Давида Аврутова



Вехи жизни
Давид родился в 1937 году, окончил школу с золотой медалью, потом закончил филологический факультет университета. Он был очень популярен на курсе, группу, где он учился, называли «группой Аврутова».

Он везде был лидером, люди к нему тянулись — за советом, за помощью, он был очень авторитетным и в то же время отзывчивым и добросердечным человеком. Когда мы с ним вместе работали на «Тантале» - к его столу всегда стояла очередь из желающих с ним поговорить, поделиться, посоветоваться.
После окончания СГУ он работал воспитателем в школе-интернате № 2. Дети его очень любили, были даже случаи, когда не хотели на перемену уходить после звонка, так интересно он рассказывал, требовали продолжения рассказа.
Потом работал старшим инженером в НИЭТИН (научно-исследовательский электротехнический институт), на заводе электроприборов, в объединении «Алмаз». А в 70-х-80-х годах работал на «Тантале», сначала в бюро технической информации, потом в социологической лаборатории.
Вот такими мы были, когда мы познакомились на «Тантале», где оба тогда работали — в 80-е, в лаборатории социологических исследований.


Была тогда модная специальность: социолог. Мы занимались социологическими исследованиями, Давид занимался ещё и комплексным планом объединения.

И мы вместе с ним выпускали заводскую радиогазету.

Здесь Давид у микрофона. Его называли «наш Левитан».
Причём делали мы её не как обычно — читают заводские новости и всё, мы делали её на профессиональном уровне, на уровне областного радио, где я до этого работала несколько лет, у нас была хорошая аппаратура, — и мы делали репортажи из цехов, из заводских общежитий, интервью брали у начальства, поднимали острые темы, так что нашими передачами заслушивались, и даже нам пеняли, что люди из-за них забывают о своей основной работе.

А это мы разгружаем новую аппаратуру, на которой будем записывать артистов и чтецов в ДК «Кристалл».


Вот такими мы были тогда, в 80-е, когда встретились с Давидом на «Тантале» и полюбили друг друга.
Это был 1986 год, когда в Саратове в нашем ДК «Кристалл», где мы тогда уже работали, проходил первый международный фестиваль бардовской песни.


Был большой ажиотаж: весь Дворец был оцеплен милицией — у всех проверяли документы, всюду торчали люди из КГБ, они страшно боялись этого фестиваля - боялись беспорядков, какого-то свежего смелого слова, записывать строго запрещалось, но мы записывали, замаскировали тряпками теристорную, аппаратуру, и записывали втихую, эти уникальные записи у меня до сих пор хранятся: песни Владимира Ланцберга, Ивасей, Любы Захарченко, молодой Вероники Долиной, Окуджавы, Розенбаума... За 35 лет они почти все размагнитились, но рука не поднимается их выбросить, так и храню как память.
В 1984 году мы с Давидом соединили наши судьбы, и ни разу ни на миг я об этом не пожалела. Это было самое счастливое время. Бурное, насыщенное. Пробуждалось общественное самосознание, была надежда на свободу.
Мы в то время помимо работы на Тантале проводили вечера в салоне «Вдохновение» на проспекте Кирова, рядом с магазином «Белочка», сейчас уже ни того, ни другого не сохранилось. И в салоне «Автограф», что был неподалёку. Мы открывали новые имена, я рассказывала о поэтах и писателях, о которых ещё запрещалось говорить — о Галиче, Бродском, Науме Коржавине, Солженицине. Приходили люди в штатском, записывали, доносили куда-то.
А потом мы организовали при ДК «Кристалл» политклуб «Аргумент», позже переименованный в клуб имени Галича.
Политклуб «Аргумент»
Об этом клубе я могла бы рассказывать часами. Это наше детище, это целая эпоха в нашей жизни и в культурной жизни нашего города!
Клуб возник стихийно, в 1988 году, на гребне первой волны перестройки.
Давид тогда имел несчастье быть в партии, и в его обязанности входило вести политзанятия. Как писал А. Дольский: « Я в партию нечаянно вступил — и вот теперь подошвы не отмою». Чтобы «отмыть подошвы», он под видом политзанятий и организовал этот клуб, где собирались люди и говорили о том, что их по-настоящему волновало, что волновало страну.
Потом подключилась я, внесла в это дело литературно-эмоциональную струю. Мы придумывали темы занятий, приглашали интересных людей, подбирали кинофильмы в прокате на нужную тему (нашу киностраничку вёл Володя Яценко, который в 80-е по ТВ вёл передачу «Новости киноэкрана»). Эти встречи, рассказы, выступления обязательно сопровождались бурным обсуждением, дискуссией, просмотром выставки или видеомонтажа на эту тему, после всё это снова обсуждалось, и в итоге все драчки и споры завершались чаепитием с чем-то вкусным. Было очень интересно.
Комнату в ДК «Кристалл» нам выделили небольшую, всего на 40 мест, и она каждый раз была забита под завязку, хотя о занятиях мы даже объявлений не давали, люди сами узнавали по цепочке и душились за билетами. Билеты были по 2 рубля.
Нам становилось тесно, мы перекочевали в фойе, потом в малый конференц-зал, а затем и в большой. Парторг на собраниях ставил Давида в пример: «К Аврутову на политзанятия за деньги ходят!» Не только ходили — рвались. У нас многое проводилось впервые в городе.
Были вечера, посвящённые диссидентству, репрессированным, авангарду в живописи и в кино, шокирующим новинкам в литературе и искусстве.
Мы первыми пригласили хор Троицкой церкви, тогда это был почти криминал, религия была под полузапретом. Впрямую запретить нам уже не могли, но чинили множество препятствий, были звонки с угрозами, Пимену звонили от нашего имени, что ничего не состоится, пытались сорвать выступление хора.

Хор Троицкой церкви
Но оно всё же состоялось, состоялось в день вывода наших войск из Афганистана, и сбор от средств был нами перечислен в фонд помощи пострадавших в этой войне.
А потом Давид организовал круглый стол «Религия и перестройка» с участием архиепископа Саратовского и Волгоградского Пимена, доктора философии Я. Аскина, режиссёра Д. Лунькова, писателя Б. Дедюхина и других известных людей города. Дискуссия о религии в таком составе вызвала интерес небывалый. У меня есть видеозапись этого круглого стола, она длится два с половиной часа.
Вот здесь фрагмент этой — уже исторической — видеозаписи 1989 года. В этом году ей исполнилось 30 лет.
https://www.youtube.com/watch?v=z8zFDfWF_zk
В интернете вы сможете посмотреть и другие фрагменты этой видеозаписи, если наберёте в поисковике: "Давид Аврутов, клуб Аргумент", или "архиепископ Пимен, круглый стол в «ДК Кристалл»".

Архиепископ Пимен
Было у нас ещё занятие на тему «Национальный вопрос, настоящее и будущее», на которое нами были приглашены главы всех местных национальных конфессий: имам мусульман Поволжья, зам. председателя общества «Возрождение немцев», глава еврейской общины.
Мы созвонились с секретарём Союза кинематографистов Грузии Эльдаром Шенгелая, и он нам выслал кассету с видеозаписью о событиях в Тбилиси 9 апреля 1989 года, когда омоновцы убивали женщин сапёрными лопатками.

рис. А. Дольского
Этот фильм шёл 40 минут. (По ТВ его показывали с большим сокращением и купюрами). В Саратове его не видел ещё никто. Стояла мёртвая тишина. Потом была буря возмущения, все шумели, кричали, долго не расходились, порывались писать в Верховный Совет.
Давида таскали в райком для объяснений. Он был занесён в чёрный список. Секретарь Ленинского райкома (нам позже передавали его слова) говорил: «Эти горлопаны (имея в виду Сашу Никитина, активного участника нашего клуба, который шумно диссиденствовал и громогласно ниспровергал основы марксизма-ленинизма) нам не страшны, а вот такие, как этот — и он тыкал пальцем в фамилию Давида - опасны, вокруг него может ядро сплотиться».

А. Никитин — ярый диссидент и антиленинец, завсегдатай нашего клуба
(ныне — юрист и правозащитник).
Зам. секретаря райкома Н. Ковырягина требовала у Давида план занятий и, встречая там имена приглашённых — Евтушенко, Окуджавы, Петрушевской, Кима, - морщилась и с сомнением качала головой: «План у вас какой-то... с душком».
А начальница городского отдела культуры, к которой Давид вызывался на ковёр дежурно, как на работу, шипела в унисон Ковырягиной: «Душ-шит нас эта интеллигенция».
Но, как говорится, собака лает, змеи шипят, а караван продолжает свой курс. По «Голосу Америки» мы узнали о Марине Кудимовой и пригласили её к нам в клуб. Она впервые читала у нас свои крамольные стихи, её не отпускали два часа.

Марина Кудимова в 90-е
У нас впервые в Саратове состоялась премьера «Реквиема» на стихи Ахматовой в исполнении Елены Камбуровой.

Осенью 1988-го мы приглашали Дмитрия Межевича с Таганки и Максима Кривошеева с Ленкома с концертами песен Галича, Вертинского и лагерных песен на стихи репрессированных поэтов.
Приглашали театр «Третье направление» со спектаклем «Московские кухни» по стихам Юлия Кима. Когда в конце спектакля актёры выходили со свечами и портретами погибших, замученных диссидентов — весь зал вставал в стихийном порыве, в горле стоял ком, в глазах — слёзы.
А наутро следовал вызов Давида и очередной разнос. Но это уже было потом.
Позже я описала все эти события в своей книге «Будьте вы благословенны»,

а ещё подробнее — с многочисленными фотографиями и иллюстрациями — выложила в интернете в своём ЖЖ «Дневник перестроечных лет». Все самые интересные события, происходившие с 1988 по 1993 годы на нашем Тантале, в ДК Кристалл, в нашей семье, в нашем городе — всё там запечатлено по горячим следам. Подчёркиваю: это не воспоминания постфактум, когда может подвести аберрация памяти, всё записывалось тогда же, когда происходило, это настоящая хроника событий, по которой можно изучать нашу историю.
И, должна сказать — эту мою работу заметили в Москве, когда в 2015 году к будущему столетию Галича в издательстве «Новое литературное обозрение» вышла книга Михаила Аронова «Полная биография», - самая полная биография Галича, проследившая весь его жизненный и творческий путь.

(Михаил Аронов - литературный псевдоним ижевского писателя Якова Ильича Кормана.)
И вот, читая её в интернете, я там среди прочих материалов с удивлением обнаружила довольно большой кусок из моей книги, там, где описывается создание нашего политклуба и то, что ему предшествовало — как я услышала на турбазе по радиостанции «Свобода» передачу о Галиче, как меня потрясли его стихи и песни, как я хотела рассказать о нём на лекции, но мне это в «Обществе знаний» запрещали — нельзя, «антисоветчик», как мы создали этот клуб, как приехали в Москву, где встречались с родственниками Галича и его друзьями – известными артистами, поэтами, брали у них интервью. (Эти мои интервью тоже есть в интернете — с Л. Филатовым, З. Гердтом, М. Козаковым, В. Никулиным, А. Дольским). Как попала моя книга в это издание — неизвестно, никуда ничего не посылала, никто со мной по этому поводу не разговаривал и не списывался. Но порадоваться этому цитированию мне помешали два крупных ляпа, допущенных в этой книге. Я даже не могу назвать это накладками, скорее подлогом.
Во-первых, почему-то там наш политклуб «Аргумент», позже переименованный в клуб имени Галича — наше выстраданное детище, в которое было вложено столько душевных и физических сил, везде именуется клубом «Контрапункт», не имевшим к нам никакого отношения, это совершенно разные клубы, хоть и созданные в одно время. «Контрапункт» - это клуб поэтов, которые собирались на дому и читали друг другу свои стихи, мы же занимались другим - можно сказать, революционной по тем временам, просветительской деятельностью, открывали новые имена, давали оценку событиям. Это была огромная работа, небезопасная в то время. И кому это понадобилось - присобачить нам чужое имя, а им — присвоить нашу славу, можно только гадать. Да, «Контрапункт» - более раскрученный, это местный бренд, они до сих пор публично свои юбилеи отмечают, мы же нигде себя не афишировали, но наш клуб знали и любили сотни людей, благодаря ему у многих тогда открылись глаза на многое.
И ещё такое искажение фактов: везде в этой книге писали обо мне в единственном числе — я пригласила Кривошеева и Межевича, я поехала в Москву, хотя у меня - везде «мы», я себя от Давида никогда и нигде не отделяла, но он почему-то там в этой книге был выброшен за скобки, даже имени его не упоминалось. Это, конечно, крайне несправедливо, неправильно, возмутительно. Особенно сейчас, перед его памятью, столько сделавшего для нашего города, для людей. Именно Давиду принадлежала инициатива и главная заслуга во всей этой деятельности, я только ему помогала и потом описала в своей книге. К Давиду подходили, благодарили, ему писали письма, гораздо больше тогда писали ему, чем мне. Одно из тех писем я сохранила, вот оно:
"Дорогой Давид! Я восхищаюсь Вами, выдающийся Вы человечище! Чертовски завидую, так как считаю, что вы делаете стоящее дело. Очень благодарна вам за вашу работу, мне она представляется подвижнической и до конца не оцененной по заслугам. Мы с Барсуковым Ю.А. (позднее — депутатом первого горсовета — Н. К.) Вас искали, он не хотел уходить, пока не пожмёт Вам руку и не поблагодарит, но у вас было закрыто (но шумно). Мы постеснялись лезть со своими поцелуями. В конце спектакля («Московские кухни» - Н. К.) мне подумалось, что не сносить Вам головы, и одновременно захотелось её уберечь.
Думаю, что эти спектакли мы бы не увидели, если бы не Вы. Дорогой Давид, будьте добры, всегда рассчитывайте на мою помощь и поддержку, на глубокую симпатию и верность. Может быть, в жизни это тоже немало.
С искренней признательностью и горячей благодарностью
Матвеева. 16.01.90."
Я тоже думаю, что это немало.
А потом наш клуб задушили. Задушили с двух сторон: со стороны КГБ, райкомов, парткомов, замотавших Давида по инстанциям, и - со стороны администрации Дворца, которая стала требовать, чтобы наш клуб приносил доход, а это значило, что надо увеличивать цену на билеты, а чтобы её оправдать — приглашать «звёзд». Так всё это выродилось постепенно в обычные концерты, а потом и вовсе заглохло в связи с рынком. А там и сам Дворец пошёл с молотка.

|
|
Понравилось: 2 пользователям
«Но я храню твоё объятье…» Часть вторая |
Репортаж с вечера памяти Давида Аврутова

После прошедшего в библиотеке вечера памяти Давида и выложенного фоторепортажа с него мне многие писали сердечные отзывы, взволнованные тёплые слова. И чаще всего повторялась фраза: «Вы исполнили свой долг». Но я не могу сказать, что это был долг перед памятью Давида, долг — это обязанность, я же ощущала это как внутреннюю потребность, как душевную необходимость. Я вынашивала этот монолог полгода, ещё с осени, долго не могла собраться с духом, собрать в кучку все свои расхристанные чувства, обрывки бредовых снов, клочки недописанных писем, кровавые куски души. И вот этот день настал… В конце вечера, окружённая плотным кольцом людей с растроганными лицами и заплаканными глазами, задаренная цветами и конфетами, обласканная словами, объятиями и поцелуями, я почувствовала, что срастаюсь, что, кажется, теперь смогу жить дальше. Нет, я не отпустила Давида, я просто взяла его с собой в ту, новую жизнь без него. И нынешний вечер был отправной вехой этой новой жизни.
Здесь я приведу этот свой рассказ-монолог, перемежавшийся слайдами и стихами, видео и аудиозаписями, длившийся без малого два с половиной часа.




Мы собрались в этот день по печальному поводу. Вот уже полгода, как нет моего Давида. Никто не знает до конца, каким он был. Это знала по-настоящему только я.
Давид был уникальный человек. Необыкновенно и разносторонне талантливый.

Он мог бы стать учёным — он написал за свою жизнь 12 диссертаций, но не себе, а своим коллегам. Он мог бы стать поэтом — но никогда не публиковал свои стихи. Мог бы стать актёром, режиссёром — многие в зале помнили, какие прекрасные композиции он готовил по моим стихам со студентками театрального, как сам потрясающе читал стихи. Мог бы стать журналистом, телеведущим — какие интересные круглые столы он вёл в саратовском ДК «Кристалл», передачи на ТВ делал, брал интервью у известных артистов, - если бы занимался этим целенаправленно. Но он никогда не думал о себе, о своей карьере, он никогда не жил для себя… Он всегда думал прежде всего о других — о тех, кто нуждается в нём, о своих близких. Обо мне. Он посвятил мне свою жизнь.
Мне хочется рассказать вам о нём, о нашей с ним жизни, как бы расколовшейся на две части — до болезни и после. Это очень нелегко. Но я постараюсь.
Общее дело

Вот здесь мы с ним в нашей областной библиотеке на фоне книжных полок. Это 1995 год. Тогда мы только начинали здесь нашу лекционную деятельность. Сначала в читальном зале — в 90-х годах этого конференц-зала у нас ещё не было.

Вот здесь мы тоже в читальном зале на презентации моей книги
«Будьте вы благословенны» в 1997 году.

А это чуть раньше — на презентации сборника «Сокровенное» в «Доме искусств» в 1996-м.
Тогда он ещё назывался «Дом учёных».

Слушаем композицию по моим стихам, подготовленную Давидом с начинающими актрисами.
Очень волнуемся, как она пройдёт.

Судя по аплодисментам, композиция удалась.

Я была счастлива. И очень благодарна Давиду.

А вот здесь мы уже в нашем новом зале — бывшем зале кинотеатра «Ударник». В 2000 году Л.А. удалось его отвоевать для библиотеки — в читальном зале мои слушатели уже не помещались. Причём здесь вы видите ещё не перегороженный зал — он был тогда на 400 мест. И, как видите, был весь заполнен.

Вот здесь фрагмент того зала более крупно — здесь уже можно рассмотреть Давида напротив микрофона. Это 2003 год. Зал ещё не был так оборудован и оснащён техникой — сейчас, конечно, не сравнить с тем, что было. Не было пластиковых окон, в нём было очень холодно, мы буквально замерзали. Но всё равно проводили свои вечера поэзии - по 10 вечеров каждый год.

А вот здесь зал уже перегорожен стенкой. Обратите внимание, сколько народа ходило к нам на лекции. Номерков в гардеробе не хватало. Очередь стояла на улице до Московской.

Это правое крыло того же зала. Даже когда однажды треснула стена в библиотеке — поговаривали, что это из-за наплыва нашей публики.

Коллективное фото в этом зале после творческого вечера. 2003 или 2004 год.


Давид внимательно слушает, что я говорю. Он был моим самым взыскательным читателем, слушателем, критиком, издателем, режиссёром, советчиком, другом.

Даже вперёд всем корпусом подался — боится пропустить хоть одно слово. А потом высказывал мне, что было так, что не так.

Здесь он обменивается впечатлениями с моими слушателями перед началом вечера.

А здесь уже после вечера что-то цитирует из моей книги для тех, кто не спешил расходиться.

Ещё одно коллективное фото. Нас очень многое связывало с Давидом.
И главное дело моей жизни, - литература, поэзия, лекции, вечера — давно уже стало нашим общим делом.

Это фотография с экрана телевизора, когда телевидение сняло передачу о презентации моей первой книги в городской библиотеке на Зарубина в 1994 году. Глядя на эту фотографию, я вспоминаю фразу Экзюпери, что любовь — это когда смотрят не друг на друга, а в одном направлении. При всём аскетизме этой фразы в ней есть большая доля истины.

Здесь я из общей фотографии сделала такой наш семейный портрет в интерьере. И мне хочется сейчас как иллюстрацию к нему прочитать стихотворение замечательной поэтессы Натальи Медведевой, безвременно ушедшей от нас в 2001 году, посвящённое нам с Давидом. Наташа ходила на все наши вечера и по впечатлениям от них написала вот такое стихотворение:
Семейный портрет в интерьере
разодранной в клочья страны.
Сквозь горести и потери
как лица освещены!
Пропитан тоскою острожной
сам воздух, и души в крови. –
А этим двоим так надёжно
в прозрачных ладонях любви.
Грохочут разборки и войны
и рядом совсем, и вдали.
А двое светлы и спокойны –
с ума они, что ли, сошли?
Вокруг кто ворует, кто клянчит,
кто в ненависти хрипит.
А девочка-одуванчик
о веке прекрасном твердит.
Старинною вазой из шкафа
изъят наш уклад и разбит.
Но времени Голиафа
опять побеждает Давид.
И, глядя на них, понимаю,
как встать над бедой и судьбой:
не драться, все копья ломая,
а просто – остаться собой.
И, значит, вернётся, я верю,
всё то, чем держалась страна.
Семейный портрет в интерьере.
И залита солнцем стена.
Мне очень дороги эти стихи. Я их даже поместила в свою книжку «Письмо в пустоту».
Посмотрим теперь молодые фотографии Давида.
Друзья



Вот таким Давид был в молодости. Таким я его ещё не знала.

Многие говорили, что он был похож на молодого Михаила Козакова.

Здесь он дурачится с друзьями, одноклассниками. Очень живая, непосредственная фотография.

Как сказали бы сейчас, прикалывается. Но тогда не было ещё этого слова.

Давид с самыми близкими друзьями — друзьями детства.
Из них сейчас в живых остался только один, его одноклассник Женя Бурылин, тот, что слева.

Вот здесь они спустя годы. Женя часто бывал у нас дома. Они дружили всю жизнь, до самой смерти Давида. Он провожал его в последний путь.
Одноклассник, плачущий над гробом.
Холм цветов, в котором погребли…
Как же были счастливы вы оба,
как наговориться не могли!
А мои слова и поцелуи,
что теперь лишь о тебе одном,
как дождя ласкающие струи,
вечно будут плакать за окном.
Я тебя в себя вбираю взглядом,
постигаю вечности азы.
Раньше твоё сердце билось рядом,
а теперь лишь тикают часы…

С женой Инной они часто бывали у нас дома. Это наши самые давние, самые близкие друзья. Здесь они у нас в год юбилея Давида, когда ему исполнилось 80. Такие весёлые, счастливые ещё совсем недавно.

А вот здесь они у нас в прошлом году, в день рождения Давида, за три месяца до его смерти. Видно уже, как он похудел здесь. Он был уже очень тяжело болен.

А здесь мы у них, встречаем Новый год. Мы часто встречались на праздники, когда Давид ещё мог выходить. Нам всегда было хорошо вместе.

Здесь мы ещё молодые. На дне рождения Жени, который у него совпал с августовским путчем 19 августа. И когда он, не зная ещё этого — был на даче — шёл на работу в понедельник с тортиком — на него все неодобрительно косились, шарахались, принимая за приспешника путчистов.

Я написала позже ему в поздравительной открытке:
С утра блеснёт улыбки луч —
мы вновь сойдёмся в круге нашем.
И никакой дефолт и путч,
как серый волк, уже не страшен.

А вот таким Давид был в 60-х годах — я ещё училась в школе, судьба нас пока не свела. Как раз в эти годы он напишет своё письмо в защиту Окуджавы. Я рассказывала эту историю на вечере Окуджавы, сейчас просто коротко, самую суть.
С именем Окуджавы связана одна скандальная история, случившаяся у нас в Саратове. Это было в 1965 году. В Саратов приехала группа поэтов от журнала «Юность»: в их числе был Окуджава.

Обкомовским идеологам не понравилось его выступление, они почувствовали в нём какой-то душок ненашенский и ими была организована разгромная статья в «Советской России» под изничтожающим заголовком «Ловцы дешёвой славы», где его обвинили в идейной ущербности творчества, в искажённом изображении нашей замечательной советской действительности, в развращающем влиянии на молодёжь. Статья была оформлена как письмо в редакцию от имени саратовцев и подписана Героем Советского Союза, бывшим энкаведешником Д. Емлютиным, хотя писалась на самом деле зам. редактора «Коммуниста» Я. Гореликом. Окуджаве грозили крупные неприятности, увольнение с работы.
И тогда Давид решил спасти Окуджаву,спасти честь Саратова и доказать, что не все саратовцы были таковы, есть ещё люди в наше время, и организовал ещё одно «письмо трудящихся» из нашего города, на этот раз - в защиту Окуджавы — как бы в пику предыдущему. Написал его сам, а подписал именем героя соцтруда - (нашёл такого на «Тантале», противопоставив их Герою — нашего), следом подписался сам и группа его друзей, предусмотрительно добавившим к своим фамилиям звания "ударников коммунистического труда". Били их, как говорится, их же оружием: их героям противопоставлялись наши герои. Я говорю «нашим», хоть меня там, как говорится, не стояло, но это по причине малолетства, а если б я там была — то, конечно бы, присоединилась, и тем бы мало не показалось.
Давид разослал то письмо по многим журналам. Вскоре ему позвонил Евгений Храмов и сообщил, что письмо это было зачитано на заседании правления СП, где разбирали личное дело Окуджавы, и возымело своё действие - Окуджава был «помилован», дальнейшего хода делу не дали, спустили всё на тормозах. Скандал был замят, Окуджава спасён.
Вот такая позорная история с благополучным концом. И я горжусь, что мой муж был инициатором этого честного, смелого и — небезопасного по тем временам поступка.

Переход на ЖЖ: https://nmkravchenko.livejournal.com/464234.html
|
|
Понравилось: 2 пользователям









