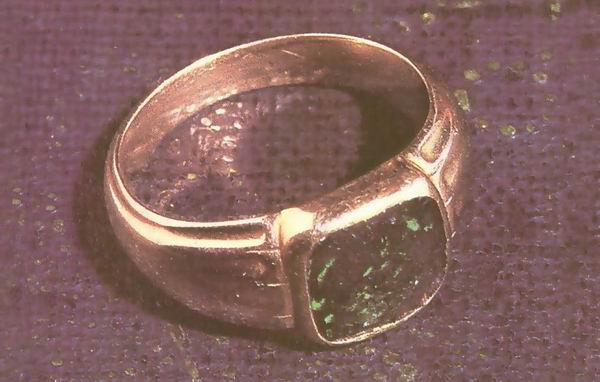-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Статистика
Записей: 871
Комментариев: 1385
Написано: 2520
"И, может быть, на мой закат печальный..." |

О Пушкине (окончание)

Начало здесь
Многое в отношениях к женщинам Пушкина объясняют нам эти строки из дневника Анны Керн:
«Живо воспринимая добро, Пушкин, однако, как мне кажется, не увлекался им в женщинах; его гораздо более очаровывало в них остроумие, блеск и внешняя красота. Кокетливое желание ему понравиться не раз привлекало внимание поэта больше, чем истинное и глубокое чувство, им внушенное...»
«Глаза Олениной моей»
В 1828 году Пушкин увлёкся Анной Олениной, дочерью президента Академии художеств и директора Императорской публичной библиотеки Алексея Николаевича Оленина. Его салон был одним из самых притягательных для Пушкина после выпуска из лицея.
И не только салон. Гостеприимное оленинское имение Приютино было тем местом , где встречались Пушкин, Глинка, братья Брюлловы, Грибоедов.

И.А. Иванов. Приютино. 1825 год
Позже все обитатели этого гостеприимного дома радушно приняли возвратившегося из ссылки поэта.

Младшая дочь Олениных — Анна, высокообразованная, изящная, музыкальная, в 17 лет уже была назначена фрейлиной и при дворе слыла одной из первых красавиц. Ей посвящали стихи Крылов, Гнедич, Козлов.

В.И. Гау. 1839.
Была она небольшого роста, миниатюрной, с золотисто-русыми кудрями и необыкновенно живыми глазами, о которых восторженно писал Пушкин:
… Но, сам признайся, то ли дело
Глаза Олениной моей!
Какой задумчивый в них гений,
И сколько детской простоты,
И сколько томных выражений,
И сколько неги и мечты!..
Потупит их с улыбкой Леля,—
В них скромных граций торжество;
Поднимет, — ангел Рафаэля
Так созерцает божество!

П.Ф. Соколов. 1825.
А она возмущалась: как он смел сказать — «глаза Олениной моей». Откуда, почему — «моей»?
Анна была кокетливой, острой на язык, умела поддерживать светскую беседу, была восприимчива к искусствам, музицировала (уроки ей давал сам Глинка), хорошо рисовала, даже пробовала себя в стихах и прозе. Остроумный Вяземский называл ее «бойкой штучкой» и говорил, что она «мала и резва, как мышь».

Пушкин разглядел, зоркоглазый, её прелестные маленькие ножки (среди особенностей поэта, - отмечает в дневнике «третья Анна», - была та, что он питал слабость к маленьким ножкам»), и, ошеломлённый, принялся испещрять этими изящными ножками поля рукописей — вперемешку с неоставляющими сомнения инициалами и профильными портретами владелицы.

Осенью 1828 года поэт, покидая Петербург с его гранитным холодом и скукой, пишет в альбом Анне стихотворение:

Город пышный, город бедный,
Дух неволи, стройный вид,
Свод небес зелено-бледный,
Скука, холод и гранит -
Все же мне вас жаль немножко,
Потому что здесь порой
Ходит маленькая ножка,
Вьется локон золотой.
Однажды Оленина нечаянно сказала Пушкину «ты». Эта оговорка особенно взволновала его как истинный знак зарождающегося чувства. Он тотчас откликнулся на неё прелестным стихотворением:
Пустое вы сердечным ты
Она, обмолвясь, заменила
И все счастливые мечты
В душе влюбленной возбудила...
Пред ней задумчиво стою,
Свести очей с нее нет силы;
И говорю ей: "Как Вы милы!"
И мыслю: "Как тебя люблю!».

Г.Г. Гагарин. 1833.
Как-то раз Пушкин услышал у Олениных привезённую с Кавказа Грибоедовым и обработанную Глинкой грузинскую мелодию. Анна прекрасно пела её, и эти печальные напевы отозвались в душе поэта воспоминаниями об оставленном навеки полуденном береге. Так родились стихи, щемящие, исполненные чувства невозвратимого времени. Может быть, в них прозвучала и тема будущей неизбежной разлуки.

Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной;
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.
Увы! Напоминают мне
Твои жестокие напевы
И степь, и ночь - и при луне
Черты далекой, бедной девы...
Я призрак милый, роковой,
Тебя увидев, забываю;
Но ты поёшь - и предо мной
Его я вновь воображаю.
Не пой, красавица, при мне
Ты песен Грузии печальной:
Напоминают мне оне
Другую жизнь и берег дальный.
Увлечение Пушкина оказалось не шуточным, хоть в нем и было много игры и шутливого флирта. Юной придворной красавице, безусловно, льстили ухаживания поэта.

Она вела «Дневник-журнал», где в романтической форме описала знакомство с Пушкиным, назвав его «самым интересным человеком своего времени».
В мае 1828 года они стали встречаться с поэтом и вне дома. Это были совершенно невинные свидания в Летнем саду, куда Анна являлась вместе с гувернанткой-англичанкой и где среди застывших мраморных кумиров поджидал ее Пушкин.

Здесь он занимал и пытался увлечь её разговорами и стихами.

Англичанка была в сговоре, и они условились при беседах называть поэта вымышленной фамилией Брянский, чтобы не выдать тайны. Свидания эти проходили, как свидетельствовал Вяземский, почти ежедневно и часто на глазах его самого или П. Плетнева.

Пушкин, Жуковский и Гнедич в Летнем саду
Пушкин был восхищён красотой Анны. Однажды на одной из совместных прогулок по заливу художник Джордж Дау стал набрасывать портрет Пушкина, и тот адресовал ему такое стихотворение, последние строки которого стали крылатыми:

Зачем твой дивный карандаш
Рисует мой арапский профиль?
Хоть ты векам его предашь,
Его освищет Мефистофель.
Рисуй Олениной черты.
В жару сердечных вдохновений,
Лишь юности и красоты
Поклонником быть должен гений.

К Олениной же обращено и стихотворение "Предчувствие", в котором ощущается тревожное предощущение грядущей разлуки, недоверчивое сомнение и надежда:
Снова тучи надо мною
Собралися в тишине;
Рок завистливый бедою
Угрожает снова мне...
Сохраню ль к судьбе презренье?
Понесу ль навстречу ей
Непреклонность и терпенье
Гордой юности моей?
Бурной жизнью утомленный,
Равнодушно бури жду:
Может быть, еще спасенный,
Снова пристань я найду...
Но, предчувствуя разлуку,
Неизбежный, грозный час,
Сжать твою, мой ангел, руку
Я спешу в последний раз.
Ангел кроткий, безмятежный,
Тихо молви мне: прости,
Опечалься: взор свой нежный
Подыми иль опусти;
И твое воспоминанье
Заменит душе моей
Силу, гордость, упованье
И отвагу юных дней.

Однако сама Анна Алексеевна относилась к поэту довольно равнодушно, что видно из ее «Дневника». Её жёсткая характеристика поэта, данная в нём, показывает, что Аннета Оленина и не собиралась становиться женой поэта. Как человек он был ей неприятен. Она отмечает там его некрасивую внешность, злобу, насмешливость, дерзость — всё, что её отталкивало от Пушкина:
"Бог, даровав ему гений единственный, не наградил его привлекательной наружностью. Лицо его было выразительно, конечно, но некоторая злоба и насмешливость затмевали тот ум, который виден был в голубых или, лучше сказать, стеклянных глазах его. Арапский профиль, заимствованный от поколения матери, не украшал лица его. Да и прибавьте к тому ужасные бакенбарды, растрепанные волосы, ногти как когти, маленький рост, жеманство в манерах, дерзкий взор на женщин, которых он отличал своей любовью, странность нрава природного и принужденного, и неограниченное самолюбие - вот все достоинства телесные и душевные, которые свет придавал русскому поэту XIX столетия".

Пушкин с замиранием сердца делает ей предложение и получает решительный отказ.
А ведь в рукописях он уже писал её имя со своей фамилией, выводя на полях: «Annette Pouchkine». Отказ избранницы был очень болезненным ударом для самолюбия поэта.

Он резко порвал с домом Олениных и, как всегда, выплеснул обиду в стихах. В черновых набросках к 8 главе «Евгения Онегина» Анна и ее семья изображены в карикатурном виде, с ярко выраженной антипатией:
Тут... дочь его была
Уж так (жеманна), так мала!
Так неопрятна, так писклива,
Что поневоле каждый гость
Предполагал в ней ум и злость.
По счастью, эти черновые наброски (с указанием имён) в печать не попали.
Анна Оленина всю жизнь берегла альбом с автографами и рисунками Пушкина, после смерти завещав его своей внучке.

Там, среди других автографов, в 1829 году поэтом было вписано стихотворение «Я Вас любил», (ранее написанное Каролине Собаньской). Позже, в 1833-м, Пушкин приписал к нему фразу: «plusqueparfait — давно прошедшее, 1833».
Наверное, Анне было чуть обидно за эту приписку, и потому она, завещая альбом внучке, «выразила желание, чтобы этот автограф с позднейшей припиской не был предан гласности. В тайнике своей души сохранила она причину этого пожелания: было ли это простое сожаление о прошлом или затронутое женское самолюбие, мне неизвестно, — писала внучка, — но желание Анны Алексеевны я исполнила, и автограф не сделался достоянием печати».
Как ни хороша и привлекательна была Аннет, вышла замуж она уже после смерти Пушкина, в 1840 году, тридцати двух лет, за офицера лейб-гвардии Гусарского полка Ф.А. Андро де Ланжерона.

А. Попов. 1832.
После смерти мужа в 1885 году переехала в имение своей младшей дочери в Волыннской губернии. Здесь семидесятилетней старушкой она предалась воспоминаниям, будто помолодев лет на десять, занимаясь разбором своего рундука. Ее внучка запомнила, что были в этом архиве альбомы с автографами и рисунками Пушкина, в которых «все больше ножки гирляндою вокруг стихотворений 1828 года».
«Все, что относилось к памяти Пушкина, бабушка хранила с особой нежностью, - писала внучка. - Она всегда говорила, что в его обществе никому никогда скучно не могло быть, такой он был веселый и живой, особенно когда был в кругу доброжелательном».

Бог не дал ей быть любимой... Дал тогда, а она не заметила...
"А счастье было так возможно..."
Ещё до встречи с Олениной поэт познакомился с семейством Ушаковых, состоявших в родстве и знакомстве с Д. И. Фонвизиным и женой А. Н. Радищева. В хлебосольном их доме на Средней Пресне бывали артисты, музыканты. Пушкина привез сюда его близкий друг и дальний родственник хозяев Сергей Соболевский. И на целых четыре года, до самой помолвки Пушкина с Натальей Гончаровой, этот дом стал для него своим. Его атмосфера, очевидно, напоминала ему милое Тригорское: общее веселье, розыгрыши, шутливые стихи и карикатуры в альбомах.

Две дочери Ушаковых — старшая Екатерина и младшая Елизавета — знали строки Пушкина наизусть, в доме были все издания его сочинений, ноты романсов на его стихи. Старшая, Екатерина Николаевна, полюбила его глубоко и серьезно.

И был, видимо, момент, когда поэт ощутил ответное чувство.
Блондинка с пепельными волосами, тёмно-голубыми глазами, Екатерина была резвой, шаловливой, лукаво-насмешливой, похожей на девочку-подростка. В альбом ей он написал такое заклинание:

Ек. Н. УШАКОВОЙ
Когда, бывало, в старину
Являлся дух иль привиденье,
То прогоняло сатану
Простое это изреченье:
«Аминь, аминь, рассыпься!» В наши дни
Гораздо менее бесов и привидений
(Бог ведает, куда девалися они).
Но ты, мой злой иль добрый гений,
Когда я вижу пред собой
Твой профиль, и глаза, и кудри золотые,
Когда я слышу голос твой
И речи резвые, живые,
Я очарован, я горю
И содрогаюсь пред тобою,
И сердца пылкого мечтою
«Аминь, аминь, рассыпься» говорю.
3 апреля 1827
Зима 1826-27 года стала, наверное, самой счастливой в жизни Екатерины. Пушкин бывал в её доме почти каждый день. Молодые люди читали стихи, слушали музыку, дурачились и заполняли забавными карикатурами и стихотворными подписями альбомы сестёр Ушаковых. Кстати, в сохранившимся альбоме Елизаветы Николаевны и располагается знаменитый «Дон-Жуанский список» Пушкина. Видимо, в ответ на шутку сестёр поэт записал имена женщин, в которых был когда-то влюблён.


Екатерина питала к Пушкину самые нежные чувства и одно время он отвечал ей взаимностью, подумывая даже о женитьбе. Поэт часто бывал в её обществе, скучал без неё на светских вечерах и заметно оживлялся при её появлении. Е.С. Телепнева, знакомая Ушаковых, оставила такую запись в своём дневнике:
«Пушкин во все пребывание свое в Москве только и занимался, что Ушаковой. На балах, на гуляньях он говорил только с нею, а когда случалось, что в Собрании Ушаковой нет, то Пушкин сидит целый вечер в углу задумавшись, и ничто уже не в силах развлечь его!»

В доме Ушаковых всё «дышало» Пушкиным: здесь хранились издания его сочинений, ноты романсов на его слова, альбомы, которые можно было перелистывать сколько душе угодно...

В эту зиму у Екатерины были все основания мечтать о скором счастье. Пушкин ездил в дом постоянно, а подобные визиты в семью, где есть дочери-невесты, принято было понимать вполне однозначно...

Но Пушкин не посватался. Ничего не произошло: ни объяснения, ни ссоры, ни разрыва. Зима прошла весело, в шутках, разговорах и дурачествах, а 16 мая Пушкин уехал из Москвы.
Уезжая в Петербург, он написал в альбом Екатерине Николаевне грустные строчки:

В отдалении от вас
С вами буду неразлучен,
Томных уст и томных глаз
Буду памятью размучен;
Изнывая в тишине,
Не хочу я быть утешен,—
Вы ж вздохнете ль обо мне,
Если буду я повешен?
16 мая 1827
Что это было? Искреннее — на тот момент — признание? Прощальная шутка?

О том, что творилось в это время в душе Екатерины Ушаковой, можно представить хотя бы из этого письма, отправленного брату Ивану:

«Он уехал в Петербург, может быть, он забудет меня; но нет, нет, будем лелеять надежду, он вернется, он вернется безусловно! Держу пари: читая эти строки, ты думаешь, что твоя дорогая сестра лишилась рассудка; в этом есть доля правды, но утешься: это ненадолго, все со временем проходит, а разлука — самое сильное лекарство от причиненного любовью зла... Город почти пустынен, ужасная тоска (любимые слова Пушкина). Прощай, дорогой брат, надеюсь получить от тебя такое же длинное письмо. В ожидании этого удовольствия остаюсь навсегда преданная тебе, послушная, ленивая, безумная и любящая Катичка, называемая кое-кем Ангел».
Екатерина Николаевна оказалась права: разлука стала действительно лекарством... для Пушкина: в Петербурге он пережил сильное увлечение Анной Олениной, сватался, получил отказ, а когда вернулся, их отношения с Ушаковой стали только дружескими. Последнее стихотворение, посвященное Е. Н. Ушаковой, Пушкин написал в январе 1830 года.

ОТВЕТ
Я вас узнал, о мой оракул!
Не по узорной пестроте
Сих неподписанных каракул;
Но по веселой остроте,
Но по приветствиям лукавым,
Но по насмешливости злой
И по упрекам... столь неправым,
И этой прелести живой.
С тоской невольной, с восхищеньем
Я перечитываю вас
И восклицаю с нетерпеньем:
Пора! в Москву! в Москву сейчас!
Здесь город чопорный, унылый,
Здесь речи — лед, сердца — гранит;
Здесь нет ни ветрености милой,
Ни муз, ни Пресни, ни харит.
1830
В это время он просил руки Гончаровой, но там отказали, и Ушакова была как бы запасным вариантом.

Екатерина Ушакова. Рис. Пушкина
Катенька искренне полюбила Пушкина. Она была умна, добра, начитанна, хорошо знала и обожала его стихи. Их связывала настоящая дружба. Но чуткая девушка видела, что сердце поэта ей не принадлежит, и она нашла деликатный способ отказаться от него.
Когда Пушкин пришёл к знаменитой питерской гадалке и вернулся от неё с предсказанием, что «умрёт от своей жены», Ушакова в полушутливом тоне объявила, что не желает быть причиной гибели поэта, поэтому она и решается отказать ему для него же самого.

Вскоре Пушкин узнаёт, что Екатерина помолвлена с князем Долгоруковым. «С чем же я остался?!» - воскликнул он. - «С оленьими рогами!» - насмешливо ответила ему Катенька. Она знала о том, что поэт сватался не только к ней, и мстила ему карикатурами в своём альбоме. Так, в одной из них была изображена Оленина, протягивающая Пушкину кукиш, а под рисунком — подпись Екатерины:
Прочь, прочь отойди!
Какой беспокойный!
Прочь, прочь! Отвяжись,
любви недостойный!

Уже после смерти поэта 27-летняя Екатерина Ушакова вышла замуж за вдовца — Д.Н. Наумова и прожила долгую «обыкновенную» жизнь.
К сожалению, погибли два альбома Екатерины Николаевны, полностью посвященные Пушкину, исписанные его рукой, заполненные его стихами и рисунками; их ей пришлось сжечь перед замужеством по требованию ревнивого жениха. А многочисленные письма поэта она сожгла перед своей смертью, несмотря на просьбы дочери сохранить их для потомства. «Мы любили друг друга горячо, это была наша сердечная тайна: пусть она и умрет с нами»,— сказала она в ответ.

Многие считали, что если бы Пушкин остановил свой выбор тогда на Ушаковой — его судьба сложилась бы счастливее. Живая, смышлёная, с чувством юмора, с любовью к поэзии, верная поклонница гения, она дала бы ему покой и счастье. Это было ясно и Пушкину. Но там, где ясность — нет тайны. А Гончарова была так загадочно молчалива...
Сто тринадцатая любовь

Зимой, в самом конце 1828 года, на балу у знаменитого московского танцмейстера Иогеля Пушкин увидел в толпе юных барышень высокую тоненькую Ташу Гончарову в белом воздушном платье с золотым обручем в тёмных волосах. В её движениях, в правильных чертах лица была законченная гармония. Поэт узнал в ней свою суженую.
Шестнадцатилетняя Наталья Гончарова только недавно начала выезжать, но о ней уже говорили в свете, называли одной из первых московских красавиц, восхищались ее одухотворенной прелестью.

Очарованный поэт вскоре сделал ей предложение и получил неопределенный ответ - полуотказ, полусогласие. Но он не отступил: слишком сильна была его влюбленность; мечта о счастье с этой девочкой, такой не похожей на него, такой спокойной, нежной, умиротворяющей, кружила ему голову.

В свете она воплощала идеал романтической красоты. Пушкин посвятил своей будущей жене стихотворение «Мадонна», где уподоблял Богородице.
Не множеством картин старинных мастеров
Украсить я всегда желал свою обитель,
Чтоб суеверно им дивился посетитель,
Внимая важному сужденью знатоков.
В простом углу моем, средь медленных трудов,
Одной картины я желал быть вечно зритель,
Одной: чтоб на меня с холста, как с облаков,
Пречистая и наш божественный спаситель -
Она с величием, он с разумом в очах -
Взирали, кроткие, во славе и в лучах,
Одни, без ангелов, под пальмою Сиона.
Исполнились мои желания. Творец
Тебя мне ниспослал, тебя, моя Мадонна,
Чистейшей прелести чистейший образец.

"Моя женитьба на Натали (это, замечу в скобках, моя сто тринадцатая любовь) решена", - признался как-то Пушкин в письме княгине В.Ф. Вяземской весной 1830 года. Может быть, это откровение было шуткой или молодецкой бравадой. Но, так или иначе, любовный опыт поэта, зафиксированный современниками, действительно чрезвычайно богат.
Около двух лет тянулась история пушкинского сватовства. И вот наконец в апреле 1830 года согласие было получено. "Участь моя решена. Я женюсь... Та, которую любил я целые два года, которую везде первую отыскивали глаза мои, с которой встреча казалась мне блаженством - Боже мой - она... почти моя... Я готов удвоить жизнь и без того неполную. Я никогда не хлопотал о счастии, я мог обойтиться без него. Теперь мне нужно на двоих, а где мне взять его?" Так писал Пушкин весной 1830 года, сразу после помолвки. С этого времени он постоянно возвращается к мысли о возможности счастья для него, бездомного, гонимого поэта с зыбким и туманным будущим.

Свадьба беспрестанно откладывалась. "Пушкин настаивал, чтобы поскорее их обвенчали. Но Наталья Ивановна напрямик ему объявила, что у нее нет денег. Тогда Пушкин заложил именье, привез денег и просил шить приданое." - вспоминала княгиня Долгорукова.

Временами на поэта находила жестокая хандра. В такие моменты он нервничал, жаловался друзьям, ходил мрачным. За неделю до свадьбы он писал своему приятелю Н.И. Кривцову:

"Женат - или почти. Все, что бы ты мог сказать мне в пользу холостой жизни и противу женитьбы, все уже мною передумано. Я хладнокровно взвесил выгоды и невыгоды состояния, мною избираемого. Молодость моя прошла шумно и бесплодно. До сих пор я жил иначе как обыкновенно живут. Счастья мне не было... Мне за 30 лет. В тридцать лет люди обыкновенно женятся - я поступаю как люди и, вероятно, не буду в том раскаиваться. К тому же я женюсь без упоения, без ребяческого очарования. Будущность является мне не в розах, но в строгой наготе своей..."
Перед женитьбой Пушкин проводит одинокую осень в Болдино.

8 сентября он пишет «Элегию»:
Безумных лет угасшее веселье
Мне тяжело, как смутное похмелье.
Но, как вино — печаль минувших дней
В моей душе чем старе, тем сильней.
Мой путь уныл. Сулит мне труд и горе
Грядущего волнуемое море.
Но не хочу, о други, умирать;
Я жить хочу, чтоб мыслить и страдать;
И ведаю, мне будут наслажденья
Меж горестей, забот и треволненья:
Порой опять гармонией упьюсь,
Над вымыслом слезами обольюсь,
И может быть — на мой закат печальный
Блеснет любовь улыбкою прощальной.
5 октября - «Расставание» («В последний раз твой образ милый дерзаю мысленно ласкать...»)
17 октября - «Заклинание» («Явись, возлюбленная тень...»), где вызывает образ любимой:
Приди, как дальняя звезда,
как лёгкий звук, как дуновенье,
иль как ужасное виденье,
мне всё равно, сюда, сюда!

И, перед самым отъездом в Москву, когда, казалось, мысли должны быть полны близким свиданием с невестой, Пушкин написал «Разлуку» (27 ноября):
Для берегов отчизны дальней
ты покидала край чужой.
В час незабвенный, в час печальный
я долго плакал пред тобой...
О чём он думал? О мёртвой Амалии Ризнич?

Об умершей для него графине Элизе Воронцовой?

Прощался со всем своим свободным любовным прошлым? Или, как предполагали некоторые биографы, в его жизни была ещё какая-то глубокая «утаённая любовь», которая осталась от нас скрытой?

Этого мы не знаем и вряд ли когда узнаем. Для нас важно не имя, а то, что поэт хранил в своём сердце столько страстной нежности, что любовь свою передал стихами, которые и через столетия волнуют, заражают, вдохновляют.

Н. Кузьмин. Пушкин в Болдино
Красноречивее всех признаний выдают они внутреннюю неудовлетворённость Пушкина-жениха. Он словно чувствовал, что сбился с дороги, что настоящая любовь осталась позади, что «возлюбенная тень» больше полна жизни, чем его московская косая мадонна. Ей в Болдино он не посвятил ни одной строчки стихов, но почти во всём, что он там написал, отразился его многообразный любовный опыт, его знание женского сердца.

Свадьба прошла торжественно. Наталья Николаевна перестала быть отдаленной прекрасной мечтой. Он стал относиться к ней менее возвышенно - и еще больше полюбил. "...Женка моя прелесть не по одной наружности", - писал Плетневу через несколько дней после свадьбы.

Но ему же — накануне женитьбы — признавался: «Чёрт меня догадал бредить о счастье, как будто я для него создан. Должно мне было довольствоваться независимостью».
А был ли счастлив вообще Александр Сергеевич? С молодых лет в нем уживались два человека - чувственный и вместе с тем рассудочный; способный увлекаться почти до безумия, но никогда не отдающий себя женщине целиком. Из многочисленных любовных приключений нельзя назвать ни одного, которое бы подчинило его душу.
Признаваясь в любви многим, он любил по-настоящему, наверное, только свою Музу.

Невинна, ибо не любила
Сейчас мы уже далеки от ханжества тех времён, давно не считая Наталью Гончарову злодейкой, сгубившей поэта, но и теперь нам трудно понять, как мог Пушкин любить этот “чистейшей прелести чистейший образец” (в этом определении есть что-то дистилированное, в сущности, это та же красота “без извилин”, о которой писал Пастернак). Цветаева считала, что “Гончарова вышла за Пушкина без любви, по равнодушию красавицы, инертности неодухотворённой плоти – шаг куклы!”

То, что Гончарова не любила Пушкина, уже общеизвестный факт. И он знал это. Как жена она лишь добросовестно исполняла свой супружеский долг, но чувство, страсть дремали в её неразбуженном сердце. Но он любил её такой, какою она была.
Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем,
Восторгом чувственным, безумством, исступленьем,
Стенаньем, криками вакханки молодой,
Когда, виясь в моих объятиях змией,
Порывом пылких ласк и язвою лобзаний
Она торопит миг последних содроганий!
О, как милее ты, смиренница моя!
О, как мучительно тобою счастлив я,
Когда, склоняяся на долгие моленья,
Ты предаешься мне нежна без упоенья,
Стыдливо-холодна, восторгу моему
Едва ответствуешь, не внемлешь ничему
И оживляешься потом все боле, боле -
И делишь наконец мой пламень поневоле!
Это эротическое стихотворение не только и не просто о физической близости. Главная его тема — противопоставление двух типов женщин, «страстного» и «смиренного», играющего огромную роль в пушкинском творчестве. Мария и Зарема в «Бахчисарайском фонтане», Лаура и Донна Анна в «Каменном госте», царевна и царица-мачеха в «Сказке о мёртвой царевне». Другая тема - излюбленная пушкинская тема Пигмалиона, оживляющего своей любовью холодную статую. Вместе с тем это последнее эротическое стихотворение Пушкина, больше до конца жизни ничего подобного он не пишет. После женитьбы у него отсутствуют стихи на интимные темы (неслыханный случай для поэта, перешагнувшего порог тридцатилетия).

Жене поэта меньше повезло с его стихотворными посвящениями, чем другим пушкинским женщинам. Кроме сонета «Мадонна» и довольно откровенного стихотворения «Нет, я не дорожу мятежным наслажденьем...», ей посвящено, со слов самого поэта, знаменитое «На холмах Грузии лежит ночная мгла...». Но что интересно, в первоначальном варианте этот поэтический шедевр был длиннее и выглядел так:
Все тихо — на Кавказ идет ночная мгла,
Восходят звезды надо мною.
Мне грустно и легко — печаль моя светла,
Печаль моя полна тобою —
Тобой, одной тобой — унынья моего
Ничто не мучит, не тревожит,
И сердце вновь горит и любит оттого,
Что не любить оно не может.
Прошли за днями дни. Сокрылось много лет.
Где вы, бесценные созданья?
Иные далеко, иных уж в мире нет,
Со мной одни воспоминанья.
Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь
И без надежд и без желаний.
Как пламень жертвенный, чиста моя любовь
И нежность девственных мечтаний.

Стихи датированы в рукописи 15 мая; они были написаны в Георгиевске, на Северном Кавказе; холмы Грузии и Арагва внесены в текст позднее.
Стихотворение было обращено к M. H. Волконской, с которой поэт общался на Северном Кавказе в 1820 году.
К шестнадцатилетней Натали, с которой он познакомился в 1828-ом, никак не могли относиться слова: «Я твой по-прежнему, тебя люблю я вновь». В процессе работы Пушкин перечеркнул последние строфы и оставил лишь две первых, которые можно было отнести не к давнему чувству, а к новому, только что возникшему.

Серьёзных исследований о Пушкине-семьянине нет, и это не случайно. Миф держится в основном, на его ласковых и заботливых письмах к жене. Но это фасад.
Дочь Елизаветы Хитрово Дарья Финкельмон пишет в дневнике о Натали: «Невозможно быть прекраснее, иметь более поэтическую внешность, а между тем у неё немного ума». И о Пушкине: «что до него, то он перестаёт быть поэтом в её присутствии”.

Его письма Натали не сравнить с его же письмами Воронцовой, Собаньской или Керн, полными страсти, огня, поэзии, – они нудные, нравоучительные, прозаичные. Он пишет ей, как ребёнку, инструктируя, что делать и чего не делать: “платишь деньги, кто только не попросит, этак хозяйство не пойдёт... Не сиди, поджавши ноги, и не дружись с графинями, с которыми нельзя кланяться в публике... На хоры не езди – это не место для тебя”.
Пушкин любил жену, но в письмах его к ней нет ни его, ни её духовной жизни, нет ни поэзии, ни разговоров о литературе, о творчестве, а только то, что ей интересно и доступно её разумению: сплетни, деньги, подробности быта.

Письма Натали к нему до нас не дошли, но, судя по обиженным и недовольным ответам Пушкина, были сухи, лаконичны, формальны. Более того, она не всегда их и писала-то сама: когда была невестой, то ей их диктовала мать. “Письма Ваши короче визитной карточки”, – упрекает её Пушкин. А Вяземскому жалуется: “Что у неё за сердце? Твёрдою дубовой корою, тройным булатом грудь её вооружена”.

К поэзии, литературе Натали была глубоко равнодушна. Когда поэт, полный творческого волнения, подходил к ней прочесть новые стихи, она восклицала: «Господи, до чего ты мне надоел со своими стихами, Пушкин!»

Но, не интересуясь стихами, строго следила за тем, сколько ему за них платят, вмешиваясь в переговоры с книгопродавцами и требуя высоких гонораров. И что, с такой женщиной поэт мог быть счастлив? Хотя бы теоретически? Мне кажется, и не будь Дантеса, этот брак был бы обречён. Если нет гармонии в отношениях, понимания главного в человеке – не может быть и счастья. “Ведь счастье – это когда тебя понимают”.
Натали тоже было несладко в этом браке. Пушкин с эгоизмом человека, всей душой живущего в другом деле, старался оградить себя от семейных волнений, уезжал из дома накануне родов жены и приезжал, когда всё было уже позади. Он не был однолюбом, всегда был готов увлечься понравившейся ему женщиной, и женитьба его в этом плане не изменила.

С женой ему было скучно, он искал общества других женщин, а ей было скучно дома. Свет, балы, танцы были её самовыражением, способом существования, как для него – стихи.

Вяземский пишет о Пушкине: «Не в его натуре быть хорошим семьянином, домашний очаг не привлекал и не удерживал его». Женившись, он жил, как привык, холостяком: карты, загулы, романы, измены. Чего же ждать от жены?
Хорошо было бы объективности ради посмотреть на происходившее глазами Натальи Николаевны, но она не оставила ни слова о своих переживаниях: ни странички дневника, ни писем, ни впечатлений.
Княгиня Вера Вяземская, хорошо осведомлённая о семейной жизни Пушкиных, рассказывала о том, что Наталья Николаевна привыкла к неверностям мужа и таким образом приобрела холодное спокойствие сердца. Это спокойствие, как оказалось, обладало смертоносной силой...

Прошло почти двести лет, но до сих пор человечество продолжает спрашивать: ну а всё-таки, была ли виновата Наталья Гончарова? Положа руку на сердце — был грех или зря погорячился этот Пушкин? Как писал Тимур Кибиров:
Виновата ли ты, виновата ли ты,
может, Пушкин во всём виноват?
Ты скажи, Натали, расскажи, Натали,
чем же люб тебе кавалергард?

"Встреча Пушкина с Дантесом в Летнем Саду" 1937 год. Худ. Г. К. Савицкий
В традиционной пушкинистике сложилось резко отрицательное отношение к Наталье Николаевне. В работах Щёголева, Вересаева она — ограниченная и бездушная модная красавица, явившаяся ближайшей причиной гибели поэта. А Ахматова так и вовсе объявила Гончарову «сообщницей Геккернов в преддуэльной истории» и даже «агентом Геккерна-старшего».

Пастернак, прочитав эти работы, воскликнул: «Бедный Пушкин! Ему следовало бы жениться на Щёголеве и позднейшем пушкиноведении, и всё было бы в порядке».
Потом возникло другое направление, представленное работами Ободовской, Дементьева, которые нашли в архиве Полотнянова завода 14 писем Натали к своему брату, письма её сестёр, и, вдоновлённые этой находкой, несколько превысили меру восхваления вдовы Пушкина: естественное уважение к мужу, интерес к его делам, забота о детях, ведение хозяйственных дел — всё это возводится ими в ранг каких-то необыкновенных достоинств.
Истина, как всегда, где-то посередине.
Гончарова была обыкновенной женщиной, живым человеком.

Да, не блистала умом, не обладала литературным вкусом, но ей был присущ житейский ум, природный такт. Пыталась быть объективной к ней и М. Цветаева: «В Наталье Гончаровой нет ничего дурного, ничего порочного, ничего, чего бы не было в тысячах таких, как она... Было в ней одно: красавица. Только — красавица, просто — красавица, без корректива ума, души, сердца, дара».

Цветаева считала Натали невиновной в гибели Пушкина. «Изменила ли Гончарова Пушкину или нет, целовалась или нет, всё равно — невинна. Невинна потому, что кукла невинна, потому что судьба, невинна потому, что Пушкина не любила». Цветаева убеждена, что Гончарова не причина, а повод смерти Пушкина, с колыбели предначертанной. Так же, как в гибели самой Цветаевой была трагическая предопределённость. Ведь не секрет, что ещё в ранней юности Пушкин сам себе сочинил эпитафию. Дыхание судьбы. Рок.

Гениальный суевер
В. Майков писал: «Брак этот как и весь конец жизни Пушкина был несчастным. Злой рок словно преследовал поэта». Он и сам чувствовал это. Интуиция его никогда не обманывала.
Перед свадьбой Пушкиным внезапно овладело тревожное предчувствие. За два дня до венчания он приехал на Арбат к Нащокину, у которого в это время находилась знаменитая цыганская певица Татьяна Демьянова («цыганка Таня»). Пушкин попросил: «Спой нам, Таня, что-нибудь на счастье. Слышала, может быть, я женюсь...» И она тоскливо запела:
Ах, матушка, что так в поле пыльно?
Государыня, что так пыльно?
Кони разыгралися...
А чьи то кони, чьи то кони?
Кони Александр Сергеича...
Пушкин заплакал навзрыд. Нащокин бросился к нему: «Пушкин, что с тобою?» - «Эта песня мне всю внутрь перевернула, она мне большую потерю предвещает», - ответил поэт и уехал, ни с кем не простившись.

А. Керн вспоминала: «Пушкин в эту зиму бывал часто мрачным, рассеянным и апатичным». Вяземский отмечает в письме жене: «Он что-то всё время был не совсем по себе...». Печаль, тревога, безнадёжность, тоска и отчаяние то и дело озвучиваются в стихах и письмах Пушкина.

А во время венчания 18 февраля 1831 года внезапный порыв ветра задул у Пушкина свечу.

Потом он задел аналой и уронил с него крест, а при обмене кольцами его кольцо выскользнуло и упало на пол. Вдобавок шафер жениха внезапно устал держать венец и передал его другому человеку. Пушкин смертельно побледнел. Всех этих тревожных знаков ему с лихвой хватило, чтобы почувствовать грозное предупреждение судьбы.

Тревожное предчувствие, предощущение скорой смерти владело им все последние месяцы:

Долго ль мне гулять на свете
То в коляске, то верхом,
То в кибитке, то в карете,
То в телеге, то пешком?
Не в наследственной берлоге,
Не средь отческих могил,
На большой мне, знать, дороге
Умереть господь судил,
На каменьях под копытом,
На горе под колесом,
Иль во рву, водой размытом,
Под разобранным мостом.
Иль чума меня подцепит,
Иль мороз окостенит,
Иль мне в лоб шлагбаум влепит
Непроворный инвалид.
Иль в лесу под нож злодею
Попадуся в стороне,
Иль со скуки околею
Где-нибудь в карантине.

http://video.mail.ru/mail/nina11031954/620/3346.html
За 11 месяцев до смерти 18 мая Пушкин сообщает жене из Москвы: «Это моё последнее письмо, более не получишь». Имелось в виду, что он не будет больше писать, поскольку едет домой, но это действительно его последнее письмо к ней.
13 августа он пишет из Петербурга мужу сестры Николаю Павлищеву, и опять: «Нынче осенью буду в Михайловском — вероятно, в последний раз». Конечно, речь идёт о попытках продать родовое имение. Но всё же оторопь берёт от второго, вещего смысла: то и дело писать слово «последний», рассчитываясь с земными делами... Цявловский назвал поэта «гениальным суевером» и считал, что это было «иррациональным в его психике».

Эпилог: http://www.liveinternet.ru/users/4514961/post262098579/
|
|
Процитировано 4 раз
Понравилось: 3 пользователям
"Текла в изгнаньи жизнь моя..." |
(О Пушкине. Продолжение № 2)

Начало здесь
ПУШКИН – это религия, а пушкинская тема – неисчерпаемая и вечная… И всегда останется таковой. Ведь что мы знаем о Пушкине? Оказывается, почти ничего, что выходило бы за рамки его канонической биографии, которая не только порой представляет факты этой биографии в искажённом виде, но меняет и весь облик поэта.
В этих новеллах Вы увидите настоящего Пушкина, без котурнов и глянца. Они — строго документальны, в их основе — письма и дневники, воспоминания и архивные бумаги. А также художественные тексты, которые в той или иной мере всегда являются документами души.

Барышни из Тригорского
«В изгнаньи» поэт вовсе не скучал и не тосковал, как можно подумать по некоторым его стихам. Жизнь его там протекала весело и насыщенно.
Из письма Пушкина к А. Вульфу, от 20 сентября 1824 г. (из Михайловского в Дерпт):

Здравствуй, Вульф, приятель мой!
Приезжай сюда зимой,
Да Языкова поэта
Затащи ко мне с собой
Погулять верхом порой,
Пострелять из пистолета.
Лайон, мой курчавый брат
(Не михайловский приказчик),
Привезет нам, право, клад...
Что? — бутылок полный ящик.
Запируем уж, молчи!

Чудо — жизнь анахорета!
В Троегорском до ночи,
А в Михайловском до света;
Дни любви посвящены,
Ночью царствуют стаканы,
Мы же — то смертельно пьяны,
То мертвецки влюблены.

Тригорское
По сравнению с блестящими одесскими и петербургскими красавицами барышни из соседнего села Тригорское, где много времени проводил ссыльный Пушкин, занимали в его сердце более скромное место. Но и в творчестве поэта их след присутствует.
В частности, это дочери Прасковьи Осиповой-Вульф Анна и Евпраксия, представлявшие собой два противоположных типа, отражение которых в Татьяне и Ольге «Евгения Онегина» не подлежит сомнению.

Хотя, конечно, это не портреты с натуры, а, скорее, общие типы русских женщин той эпохи.

Зизи
Первой привлекла внимание Пушкина Евпраксия — Зизи, как звали её домашние, впоследствии — баронесса Вревская.

Евпраксия на портрете худ. Багаева. 1841 год.
Их отношения с Пушкиным поначалу ограничивались флиртом, безобидными шалостями. В пору пребывания Пушкина в псковской ссылке она из 15-летнего подростка расцветала в хорошенькую девушку. Поэт посвятил ей строчки в 5 главе «Онегина»:
Зизи, кристалл души моей,
предмет стихов моих невинных,
любви приманчивый фиал, —
ты, от кого я пьян бывал!

На все знаки внимания Зизи отвечала тем, что рвала его стихи. Чем и нравилась. Пушкин сообщал брату: «Евпраксия дуется и очень мила».
Ей он написал в альбом своё знаменитое стихотворение:
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.
Бойкая, весёлая, беззаботная хохотушка, Зизи относилась к жизни очень просто, ничего не искала в ней, кроме удовольствий.

Кругла, красна лицом она,
как эта глупая луна
на этом глупом небосводе. -
изобразит её в образе Ольги поэт.


Тем не менее впоследствии их отношения приобрели более серьёзный характер. Всю жизнь Евпраксия Вревская хранила пачку писем от Пушкина, а перед смертью попросила свою дочь сжечь их.

Накануне дуэли Пушкин исповедался Евпраксии о своей мучительной истории с Дантесом и о подробностях завтрашнего поединка. Она единственная всё знала о предстоящей дуэли, но ничего не сделала, чтобы предотвратить неотвратимое.

А. И. Тургенев говорил, что вдова Пушкина упрекала Вревскую «в том, что, зная об этом, она её не предупредила».
Она оказалась единственным человеком, которому поэт рассказал всё — «открыл свое сердце». «…26 января, накануне дуэли, Пушкин вышел из дома в шесть часов вечера и направился к Евпраксии Николаевне. В его доме готовились к обеду, и ему было, видимо, невыносимо трудно сесть за стол вместе с семьей, как ни в чем не бывало. С ней же он мог говорить обо всём свободно».
По словам Вревской, «Пушкин сам сообщил ей о своём намерении искать смерти».

Анна
Если очевидно, что какие-то внешние черты Ольги были списаны Пушкиным с Евпраксии, то старшую сестру Анну Николаевну Вульф полностью отождествить с образом Татьяны нельзя. Хотя имение Лариных безусловно списано с Тригорского, а из всех тамошних барышень ближе всех к образу Татьяны была именно Анна Николаевна.

Но только ближе других, не более. Иначе поэт был бы в неё влюблен, а этого не было никогда.
Мечтательная, начитанная, замкнутая в себе девушка чем-то напоминала Татьяну, но Пушкин относился к ней гораздо хуже и с меньшим великодушием, нежели Онегин к его героине.
Восемнадцатилетняя Анна Николаевна познакомилась с Пушкиным в июле – августе 1817 года, когда поэт, только что окончивший Царскосельский лицей, приехал в гости к своим родителям в Михайловское. И только в 1824—1826 годах, во время отбывания там поэтом ссылки, завязался их роман, который принёс девушке много страданий.

Анне Вульф шёл 25-й год, когда она вновь встретилась с сосланным Пушкиным.

По тем понятиям — почти старая дева. Пушкин писал в одном из адресованных ей стихов:
Я был свидетелем златой твоей весны;
Тогда напрасен ум, искусства не нужны,
И самой красоте семнадцать лет замена.
Но время протекло, настала перемена
Ты приближаешься к сомнительной поре...

Анна Вульф. 1830.
Она была не особенно хороша собой, слезлива, сентиментальна и не очень умна. Но в душе её хранился неистощимый запас нежности, преданности и желания любить. Анна серьёзно увлеклась поэтом. Но женитьба на девушке из псковского поместья не входила в его планы.

Пушкин посвящает Анне шутливо-иронические стихи:
Нет ни в чём Вам благодати,
с счастием у Вас разлад.
И прекрасны Вы некстати,
и умны вы невпопад.


Сложилась необычная для Пушкина ситуация, когда не он добивался благосклонности девушки, а она влюбилась в него без памяти. Размышления над этой новой для него моделью любовного опыта составили содержание 4 главы «Евгения Онегина», где он иронически констатировал открывшиеся ему истины:
Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей
И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.
Пушкин потешался над слезливой чувствительностью Анны, изводил её своими колкостями. Она совсем не нравилась ему, но от скуки или по привычке поэт не счёл нужным отказаться от победы над её беззащитным сердцем. Об этом свидетельствуют адресованные ему письма Анны, которые он не сжёг, хотя она так просила его об этом.
«Я очень боюсь, что у вас нет любви ко мне, - писала бедная девушка, - вы ощущаете только мимолетные желания, какие испытывают совершенно так же столько других людей. Уничтожьте мое письмо, когда прочтете его, заклинаю вас, я же сожгу ваше; знаете, мне всегда страшно, что письмо мое покажется вам слишком нежным, а я еще не говорю всего, что чувствую… Когда-то мы увидимся? До той минуты у меня не будет жизни» (20 апреля 1826 г.).

Стиль её писем — совершенно стиль письма Татьяны к Онегину (хотя знаменитое «Письмо Татьяны» было написано раньше, еще в Одессе): «С чего мне начать и что Вам сказать? Я боюсь и не могу дать волю моему перу...»
«Я словно переродилась, получив известие о доносе на вас. Творец небесный, что же с вами будет? Ах, если бы я могла спасти вас ценою собственной жизни, с какой радостью я пожертвовала бы ею, и вместо награды я попросила бы у неба лишь возможность увидеть вас на мгновение, прежде чем умереть. Вы не можете себе представить, в какой тревоге я нахожусь, — не знать, что с вами, ужасно; никогда я так душевно не мучилась… Боже, как я была бы счастлива узнать, что вас простили, — пусть даже ценою того, что никогда более не увижу вас, хотя это условие меня страшит, как смерть… Как это поистине страшно - оказаться каторжником! Прощайте, какое счастье, если все кончится хорошо, в противном случае не знаю, что со мною станется...» (11 сентября 1826 г.).

Анна так никогда и не вышла замуж и ещё много лет оставалась, пожалуй, самой преданной поэту женщиной. Он знал это и приезжал к ней в трудную минуту залечивать свои душевные раны.

Так было осенью 1828 года после болезненного разрыва с Олениной, осенью 1829-го после первого отказа на его предложение Гончаровой. Пушкин нагрянул тогда незваным гостем в Малинники, где застал Анну одну, и они провели вместе восхитительные три недели. Там были написаны им два стихотворения: «Зима. Что делать нам в деревне?» и «Зимнее утро», проникнутые ощущением безмятежного покоя и счастья.
Послушайте первое из них в блистательном исполнении К. Райкина: http://www.youtube.com/watch?v=WAkb3JUJEKg
Про утреннее пробуждение возлюбленных мы тоже знаем с детских лет:

Мороз и солнце, день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный –
Пора, красавица, проснись!
Открой сомкнуты негой взоры,
Навстречу северной Авроры
Звездою севера явись!
Читает И. Смоктуновский: http://www.youtube.com/watch?v=83aAFAu98ZE
Вероятно, к ней же обращён черновой отрывок Пушкина от 1828 года:
Но ты забудь меня, мой друг.
Забудь меня, как забывают
томительный, печальный сон,
когда по утру отлетают
и тень, и...

«Цветы последние милей...»
Пушкин мало ценил в женщинах возвышенные чувства и не дорожил сердечной привязанностью. Как-то он сказал Анне Керн о женщине, которая его любила: «Нет ничего безвкуснее долготерпения и самоотверженности». Видимо, его слова «Чем меньше женщину мы любим...» можно с неменьшим основанием отнести и к мужчинам.
Среди таких "долготерпеливых" была и мать Анны Вульф и Зизи — Прасковья Осипова-Вульф — дальняя родственница Пушкина (её сестра Елизавета была замужем за двоюродным братом матери поэта Яковом Исааковичем Ганнибалом), соседка поэта, владелица села Тригорское.

Вот как рисует её портрет племянница Анна Керн:
«И так мне рисуется Прасковья Александровна в те времена. Не хорошенькою, – она, кажется, никогда не была хороша, – рост ниже среднего, впрочем, в размерах, и стан выточенный; лицо продолговатое, довольно умное; нос прекрасной формы; волосы каштановые, мягкие, тонкие, шёлковые; глаза добрые, карие, но не блестящие...»

В 1817 году Пушкин, окончив Лицей, первый раз посетил Тригорское и вписал в альбом Прасковьи Александровны стихотворение «Простите, верные дубравы...».

Простите, верные дубравы!
Прости, беспечный мир полей,
О легкокрылые забавы
Столь быстро улетевших дней!
Прости, Тригорское, где радость
Меня встречала столько раз!
На то ль узнал я вашу сладость,
Чтоб навсегда покинуть вас?
От вас беру воспоминанье,
А сердце оставляю вам...
Быть может (сладкое мечтанье!),
Я к вашим возвращусь полям,
Приду под липовые своды,
На скат тригорского холма,
Поклонник дружеской свободы,
Веселья, граций и ума.
Уклад жизни её семьи, где ссыльный Пушкин бывал практически ежедневно, показался ему настолько характерным воплощением русской усадебной культуры, что именно его он положил в основу описания деревенского быта в «Евгении Онегине».

Хозяйка усадьбы Ларина списана почти с натуры:
Бывало, писывала кровью
Она в альбомы нежных дев,
Звала Полиною Прасковью
И говорила нараспев,
Корсет носила очень узкий,
И русский Н как N французский
Произносить умела в нос;
Но скоро всё перевелось;
Корсет, альбом, княжну Алину,
Стишков чувствительных тетрадь
Она забыла; стала звать
Акулькой прежнюю Селину
И обновила наконец
На вате шлафор и чепец.

19-летнему Пушкину Прасковья Вульф уже тогда представлялась пожилой женщиной, хотя ей ещё не было и сорока.
А кстати, Ларина проста,
но очень милая старушка...
Но через пять лет, когда поэт оказался в ссылке и лишён общества блестящих светских дам, их отношения с Прасковьей Александровной стали более близкими и дружескими, а потом переросли в нечто большее.
Ему было 24, ей 42. Разница в возрасте никогда не смущала Пушкина (вспомним влюблённость в Голицину, Воронцову, Собаньскую). Прасковья Вульф любила, ценила и понимала его. Порой ревновала (ведь в её жилах тоже текла кровь африканских предков), увозила от пылкого друга то дочь, то племянницу, но чаще отрешалась от себя, всем сердцем откликаясь на заботы и горести поэта, превыше всего для себя ставя его благополучие. Она улаживала его дрязги с отцом, занималась устройством его имущественных дел, создавала условия для работы в своём доме, предотвратила безумный план побега за границу.
Вопреки обыкновению, Пушкин в отношении Прасковьи Вульф пожелал быть безупречно скромным. Он не включил её имя в дон-жуанский список, который в шутку набросал в альбом сестёр Ушаковых (перечень дам, любивших его), хотя её имя могло бы там занять место с большим правом, нежели дочери её Евпраксии.

Пушкин тщательно скрывал их отношения. Уничтожил все письма Прасковьи Вульф 1820-х годов, от которых случайно сохранилось только два отрывка. В одном из них он писал: «Целую Ваши прекрасные глаза, которые я так люблю...»
Он посвящает ей стихи: «Подражание корану», «Быть может, уж недолго мне...» А в 1825 году пишет стихотворение «Последние цветы», обращаясь к стареющей женщине с трогательной нежностью:

Цветы последние милей
Роскошных первенцев полей.
Они унылые мечтанья
Живее пробуждают в нас.
Так иногда разлуки час
Живее сладкого свиданья.
«Она друг Пушкина была»

Если Прасковья Осипова-Вульф, испытывая к Пушкину не совсем платонические чувства, всё же сохраняла над собой власть, оставаясь ему прежде всего преданным другом и заботливой советчицей, то дочь Кутузова Елизавета Михайловна Хитрово не могла побороть свою страсть к поэту, ежедневно забрасывая его пылкими письмами, которые Пушкин, смеясь, бросал в камин, не читая.
Он познакомился с Елизаветой Хитрово в 1827 году, когда впервые после ссылки приехал в Петербург и вскоре стал завсегдатаем её знаменитого литературного салона.

Со всею страстью и пылкостью возвышенно-экзальтированной натуры Елизавета Михайловна увлеклась Пушкиным. По словам Петра Вяземского, она питала к поэту «языческую любовь», граничащую с поклонением. Была она на 16 лет старше Пушкина и любила его восторженной, самоотверженной, горестной любовью стареющей женщины, не ждущей и не смеющей ждать ответного чувства.

Друг Пушкина Вяземский уверял, что, хотя Александр Сергеевич и жаловался порой на надоедливость Хитрово, называя её шутя Пентефреихой (библейский персонаж, жена царедворца Пентефрея, влюблённая в юношу Иосифа и преследующая его повсюду), тем не менее относился он к ней всегда с беспредельным уважением, почитая её «за самого искреннего своего друга».

Е. Хитрово. Рис. Пушкина
Поэт часами разговаривал с ней об её отце, о сражениях и событиях, коим она была живая свидетельница, поддерживал с ней дружеские отношения, наносил визиты.
Хитрово было тогда 46 лет. Она была полная, некрасивая, лицом походила на своего отца-фельдмаршала. Не блиставшая умом, суетная, смешная, Елизавета давала повод ко множеству шуток над ней и двусмысленных анекдотов.

шарж на Е. Хитрово неизвестного художника. 1830-е годы. Литературный музей.
Но доброты она была неисчерпаемой.
Когда Пушкин женился, она, переборов своё горе, пожелала ему в письме от всей души счастья, пообещав больше не докучать своей любовью: «Когда я утоплю в слезах мою любовь к Вам, я тем не менее останусь всё тою же — страстною, кроткою и необидчивой, готовой пойти за Вами в огонь и воду».
О дуэли Пушкина с Дантесом Елизавета Михайловна узнала поздно ночью 8 февраля 1837 года и тут же бросилась к умирающему другу…

Жуковский не хотел впускать её в кабинет, где лежал смертельно раненый поэт, но она молча, не проронив ни слова, подавляя рыдания, встала на колени перед дверью кабинета и стояла до тех пор, пока Жуковский молча не отворил перед ней дверь. Так, на коленях, Елизавета Михайловна и подползла к изголовью друга. Какие слова она шептала, что говорила, сжимая его руку при этом последнем свидании – никто не знает! Да и надо ли знать?

На отпевании поэта в церкви Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади она одна рыдала безудержно, никого и ничего не стесняясь…
Елизавета Михайловна пережила своего любимца и кумира всего лишь на два года. 3 мая 1839 года дочь Кутузова скончалась.

На могиле Елизаветы Хитрово в Александро-Невской лавре установлен барельеф с её изображением. С медальона барельефа смотрит на нас дама пожилая, не отвечающая признанным классическим канонам красоты, но всё же – одна из самых прекрасных женщин, встретившихся Пушкину на его жизненном пути. И – единственная, которая сохранила и никому не продала его письма, несмотря на их порой откровенную грубость и насмешки над адресатом.
Пушкин не посвятил ей стихов. Но на её кончину откликнулась графиня Е. Растопчина:
Прощальный гимн воспойте ей, поэты!
В вас дар небес ценила, поняла
она душой, святым огнём согретой,
она друг Пушкина была!
Барышня-крестьянка
В ссылке в Михайловском Пушкин увлёкся 19-летней крепостной девушкой Ольгой Калашниковой — дочкой старосты, которая работала горничной у господ.

"Вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны. Тогда я узнал тайну русской речи", - читаем в письмах Пушкина.

Против его двери была дверь в комнату Арины Родионовны, где няня и крепостные девушки вязали, вышивали, шили.

И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных вьюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада...
Зимой катались с горы на салазках девушки. Пушкин стоял и глядел на веселое это катанье.

В Святки он облачился в просторные нянины валенки, вознамерившись прокатиться. "С Ольгой! С Ольгой! - закричали в один голос подружки. - Она лучше всех правит". - "И лучше всех вывалит! Я сяду впереди", - смеялся Пушкин. "Нет, уж как вы хотите, барчук, а я вас сама прокачу!" - вызвалась Оленька. "Хорошо, я сяду, пожалуй, за тобой".
Санки были малы, сидеть было тесно, и, когда они перевернулись, Александр и Оленька полетели с размаху в сугроб. Девушка вскрикнула от неожиданности, а Пушкин успел поцеловать ее в розовую морозную щеку...

Между ними завязался любовный роман, продолжавшийся больше года. В одном из шутливых куплетов Пушкина есть такие строчки:
Смеётесь вы, что девой бойкой
пленён я, милой поломойкой.
В 4 главе «Евгения Онегина» он описывал свои встречи с Ольгой:
Прогулки, чтенье, сон глубокий,
лесная сень, журчанье струй,
порой белянки черноокой
младой и свежий поцелуй...
И в той же главе:
В избушке, распевая, дева
прядёт, и, зимний друг ночей,
трещит лучинка перед ней.

В. А. Тропинин. «Пряха».
Критики тогда были страшно возмущены, что он простую девку назвал девою. Но Пушкин сознательно поэтизирует здесь крестьянскую девушку, в которой его привлекала естественность, отсутствие столь раздражавшего его в тригорских барышнях жеманства. На этом противопоставлении построена и написанная им позже «Барышня-крестьянка».


В конце 1825 года Ольга забеременела, и Пушкин в мае 1826-го отправляет её в Болдино, куда незадолго до этого был назначен старостой её отец.
Поцеловав на прощанье, он напутствовал Ольгу, чтобы была весела и здорова,вручив ей письмо для передачи в Москве Петру Вяземскому следующего содержания:

"Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твое человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве и дай ей денег, сколько ей понадобится, а потом отправь в Болдино (в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи)... При сем с отеческою нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик. Отсылать его в Воспитательный дом мне не хочется, а нельзя ли его покамест отдать в какую-нибудь деревню - хоть в Остафьево. Милый мой, мне совестно ей-богу... но тут уж не до совести..."
В большинстве исследований, в частности, у В. Ходасевича, этот эпизод занимает центральное место. Он пишет об угрызениях совести Пушкина по этому поводу и справедливо считает, что эти мотивы нашли отражение впоследствии в поэме «Русалка» и в стихотворении «Яныш-королевич» (из цикла «Песни западных славян»). Дальнейшая судьба девушки была неизвестна Ходасевичу, и он предположил, что она, подобно дочери мельника из «Русалки», бросилась в омут.

Драму "Русалка" поэт не закончил - остановился на том месте, где творческое воображение уже не в силах было развить сюжет: на сцене встречи князя со своей дочерью, которая предстает пред ним в виде русалочки. "...Откуда ты, прекрасное дитя?" - восклицает герой. Похоже, Пушкин попал в типовую ситуацию, не зная, куда дальше двинуть своих героев...
"...И мы, - не правда ли, моя голубка?
Мы были счастливы; по крайней мере
Я счастлив был тобой..."

В действительности всё было не так романтично, как в поэме. В июле 26-го года у Ольги родился сын Павел, который спустя два месяца умер. Пушкин, оказавшись в Болдино в 4-ую годовщину смерти сына, посвятил этому событию одно из самых грустных своих стихотворений:
"Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий..."
Пушкин приходил на могилу сына каждый раз, когда оказывался в Болдино. И каждое такое посещение служило источником горьких раздумий.
Стою печален на кладбище.
Гляжу кругом — обнажено
святое смерти пепелище
и степью лишь окружено...
Почувствовав, что Пушкин тяжело переживает вину, Ольга просит поэта дать ей вольную. Потом — вольную брату. Потом — всей семье. Получив вольную, она вышла замуж за дворянина, титулованного советника, получив тем самым статус дворянки.
Не хочу быть чёрною крестьянкой,
а хочу быть столбовою дворянкой. -
вот откуда эти строки.


бывший дом Ольги Калашниковой-Ключарёвой в Лукоянове, куда она вышла замуж
Поручителем на свадьбе Ольги был Пушкин. Вероятно, он помог ей деньгами. Потом она просит у него две тысячи на выкуп заложенного имения. В этом же 1833 году Пушкин набрасывает черновые строки своей знаменитой сказки:
Вот неделя, другая проходит.
Ещё пуще старуха вздурилась.
Не хочу быть столбовою дворянкой,
а хочу я быть Римскою папой!

Потом Ольга разошлась с мужем, приобрела нескольких крепостных, дом и зажила жизнью небогатой провинциальной помещицы.

Конечно, не бог весть что, но ведь и не «разбитое корыто».

Много лет спустя поэт Михаил Дудин написал стихотворение "Об Ольге Калашниковой моя песня", в котором утверждал, что «Я помню чудное мгновенье» было посвящено именно ей:

О том не ведают ученые,
у них другой в науке крен.
Всё спорят головы мочёные
об озареньи Анны Керн...
И вдруг спокойно озарение
само приходит по себе,
что чудо - "чудное, мгновение" -
одной написано тебе.
Он же писал о том, что Пушкин перед смертью якобы вспоминал Ольгу:
В последний раз подушку комкая,
в своем бреду тебя кричал.
Но, правду скрыв перед потомками,
о том Жуковский умолчал.
На самом деле нет никаких оснований считать, что отношения Пушкина и Ольги Калашниковой чем-то отличались от достаточно типичных отношений помещика и крепостной. Написанная, как и «Я помню чудное мгновенье...», в 1825 году (роман с Калашниковой начался в январе этого года или в декабре предыдущего) «Сцена из Фауста», видимо, отражает это. Там Мефистофель напоминает Фаусту о соблазнении невинной девушки:

Не я ль тебе своим стараньем
Доставил чудо красоты?
И в час полуночи глубокой
С тобою свел её?..
Казалось бы, версия Дудина правильна. Вот он - «гений чистой красоты». Но некоторое сходство в стихах одного поэта, написанных к тому же в один год, ничего не подтверждает (не говоря уж о том, что «гений чистой красоты», как известно, был заимствован Пушкиным у Жуковского). Кроме того, Мефистофель продолжал:
Ты думал: агнец мой послушный!
Как жадно я тебя желал!
Как хитро в деве простодушной
Я грёзы сердца возмущал!
Любви невольной, бескорыстной
Невинно предалась она...
Что ж грудь моя теперь полна
Тоской и скукой ненавистной?..
На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем...

В письме к своему другу Петру Вяземскому, которого Пушкин просил приютить Калашникову в Москве (этому помешали активные действия его отца Сергея Львовича), поэт спрашивал: «Видел ли ты мою Эду? Вручила ли она тебе мое письмо? Не правда ли, что она очень мила?». Здесь содержится намёк на высоко ценимую Пушкиным поэму Баратынского «Эда». Героиня поэмы, красавица-финка, «отца простого дочь простая», влюбилась в русского гусара, который, не любя, соблазнил ее.
Пушкинисты, повинуясь тогдашним догмам, долго не хотели обсуждать вопрос об Ольге Калашниковой. Статья П. Е. Щёголева «Крепостная любовь Пушкина» была переиздана по прошествии десятилетий только в 1994 году. Между тем, созданная Михаилом Дудиным легенда о простой девушке, которую Пушкин якобы любил до самой смерти, о том, что она и Пушкин в «проклятый век» «родились неровнями», однако любовь хотя бы на одну ночь сделала барина и крепостную равными друг другу, очень соответствовала как раз официальной идеологии.

Во втором столбце знаменитого донжуанского списка Пушкина (из Ушаковского альбома) есть имя Ольга, которое может иметь отношение только к Калашниковой, однако это единственное имя списка, которое перечеркнуто. В список же Пушкин включал вовсе не тех женщин, с которыми у него были романы, а тех, кого он любил.
Окончание здесь
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/178255.html
|
|
Процитировано 3 раз
Понравилось: 2 пользователям
"Текла в изганьи жизнь моя..." |
Просьба пока не читать: текст в стадии редактирования!
(О Пушкине. Продолжение № 2)

Начало здесь
ПУШКИН – это религия, а пушкинская тема – неисчерпаемая и вечная… И всегда останется таковой. Ведь что мы знаем о Пушкине? Оказывается, почти ничего, что выходило бы за рамки его канонической биографии, которая не только порой представляет факты этой биографии в искажённом виде, но меняет и весь облик поэта.
В этих новеллах Вы увидите настоящего Пушкина, без котурнов и глянца. Они — строго документальны, в их основе — письма и дневники, воспоминания и архивные бумаги. А также художественные тексты, которые в той или иной мере всегда являются документами души.

Барышни из Тригорского
«В изгнаньи» поэт вовсе не скучал и не тосковал, как можно подумать по некоторым его стихам. Жизнь его там протекала весело и насыщенно.
Из письма Пушкина к А. Вульфу, от 20 сентября 1824 г. (из Михайловского в Дерпт):
Здравствуй, Вульф, приятель мой!
Приезжай сюда зимой
Да Языкова поэта
Затащи ко мне с собой
Погулять верхом порой,
Пострелять из пистолета.
Лайон, мой курчавый брат
(Не михайловский приказчик),
Привезет нам, право, клад...
Что? — бутылок полный ящик.
Запируем уж, молчи!
Чудо — жизнь анахорета!
В Троегорском до ночи,
А в Михайловском до света;
Дни любви посвящены,
Ночью царствуют стаканы,
Мы же — то смертельно пьяны,
То мертвецки влюблены.
Тригорское
По сравнению с блестящими одесскими и петербургскими красавицами барышни из соседнего села Тригорское, где много времени проводил ссыльный Пушкин, занимали в его сердце более скромное место. Но и в творчестве поэта их след присутствует.
В частности, это дочери Прасковьи Осиповой-Вульф Анна и Евпраксия, представлявшие собой два противоположных типа, отражение которых в Татьяне и Ольге «Евгения Онегина» не подлежит сомнению.
Хотя, конечно, это не портреты с натуры, а, скорее, общие типы русских женщин той эпохи.
Зизи
Первой привлекла внимание Пушкина Евпраксия — Зизи, как звали её домашние, впоследствии — баронесса Вревская.
Евпраксия на портрете худ. Багаева. 1841.
Их отношения с Пушкиным поначалу ограничивались флиртом, безобидными шалостями. В пору пребывания Пушкина в псковской ссылке она из 15-летнего подростка расцветала в хорошенькую девушку. Поэт посвятил ей строчки в 5 главе «Онегина»:
...строй рюмок узких, длинных,
подобных талии твоей,
Зизи, кристалл души моей,
предмет стихов моих невинных,
любви приманчивый фиал, —
ты, от кого я пьян бывал!
На все знаки внимания Зизи отвечала тем, что рвала его стихи. Чем и нравилась. Пушкин сообщал брату: «Евпраксия дуется и очень мила».
Ей он написал в альбом своё знаменитое стихотворение:
Если жизнь тебя обманет,
Не печалься, не сердись!
В день уныния смирись:
День веселья, верь, настанет.
Сердце в будущем живет;
Настоящее уныло:
Все мгновенно, все пройдет;
Что пройдет, то будет мило.
Бойкая, весёлая, беззаботная хохотушка, Зизи относилась к жизни очень просто, ничего не искала в ней, кроме удовольствий.
Кругла, красна лицом она,
как эта глупая луна
на этом глупом небосводе. -
изобразит её в образе Ольги поэт.
Тем не менее впоследствии их отношения приобрели более серьёзный характер. Всю жизнь Евпраксия Вревская хранила пачку писем от Пушкина, а перед смертью попросила свою дочь сжечь их.
Накануне дуэли Пушкин исповедался Евпраксии о своей мучительной истории с Дантесом и о подробностях завтрашнего поединка. Она единственная всё знала о предстоящей дуэли, но ничего не сделала, чтобы предотвратить неотвратимое.
А. И. Тургенев говорил, что вдова Пушкина упрекала Вревскую «в том, что, зная об этом, она её не предупредила».
Она оказалась единственным человеком, которому поэт рассказал всё — «открыл свое сердце». «…26 января, накануне дуэли, Пушкин вышел из дома в шесть часов вечера и направился к Евпраксии Николаевне. В его доме готовились к обеду, и ему было, видимо, невыносимо трудно сесть за стол вместе с семьей, как ни в чем не бывало. С ней же он мог говорить обо всём свободно».
По словам Вревской, «Пушкин сам сообщил ей о своём намерении искать смерти».
Анна
Если очевидно, что какие-то внешние черты Ольги были списаны Пушкиным с Евпраксии, то старшую сестру Анну Николаевну Вульф полностью отождествить с образом Татьяны нельзя. Хотя имение Лариных безусловно списано с Тригорского, а из всех тамошних барышень ближе всех к образу Татьяны была именно Анна Николаевна.
Но только ближе других, не более. Иначе поэт был бы в неё влюблен, а этого не было никогда.
Мечтательная, начитанная, замкнутая в себе девушка чем-то напоминала Татьяну, но Пушкин относился к ней гораздо хуже и с меньшим великодушием, нежели Онегин к его героине.
18-летняя Анна Николаевна познакомилась с Пушкиным в июле – августе 1817 года, когда поэт, только что окончивший Царскосельский лицей, приехал в гости к своим родителям в Михайловское. И только в 1824—1826 годах, во время отбывания там поэтом ссылки, завязался их роман, который принёс девушке много страданий.
Анне Вульф шёл 25-й год, когда она вновь встретилась с сосланным Пушкиным.
По тем понятиям — почти старая дева. Пушкин писал в одном из адресованных ей стихов:
Я был свидетелем златой твоей весны;
Тогда напрасен ум, искусства не нужны,
И самой красоте семнадцать лет замена.
Но время протекло, настала перемена
Ты приближаешься к сомнительной поре...
Анна Вульф. 1830.
Она была не особенно хороша собой, слезлива, сентиментальна и не очень умна. Но в душе её хранился неистощимый запас нежности, преданности и желания любить. Она серьёзно увлеклась поэтом. Но женитьба на девушке из псковского поместья не входила в его планы.
Пушкин посвящает Анне шутливо-иронические стихи:
Нет ни в чём Вам благодати,
с счастием у Вас разлад.
И прекрасны Вы некстати,
и умны вы невпопад.
+Рис. П.
Ложилась необычная для Пушкина ситуация, когда не он добивался благосклонности девушки, а она влюбилась в него без памяти. Размышления над этой новой для него моделью любовного опыта составили содержание 4 главы «Евгения Онегина», где он иронически констатировал открывшиеся ему истины:
Чем меньше женщину мы любим,
Тем легче нравимся мы ей
И тем ее вернее губим
Средь обольстительных сетей.
Пушкин потешался над слезливой чувствительностью Анны, изводил её своими колкостями. Она совсем не нравилась ему, но от скуки или по привычке Пушкин не счёл нужным отказаться от победы над её беззащитным сердцем. Об этом свидетельствуют адресованные ему письма Анны, которые он не сжёг, хотя она так просила его об этом.
«Я очень боюсь, что у вас нет любви ко мне, - писала бедная девушка, - вы ощущаете только мимолетные желания, какие испытывают совершенно так же столько других людей. Уничтожьте мое письмо, когда прочтете его, заклинаю вас, я же сожгу ваше; знаете, мне всегда страшно, что письмо мое покажется вам слишком нежным, а я еще не говорю всего, что чувствую… Когда-то мы увидимся? До той минуты у меня не будет жизни» (20 апреля 1826 г.).
Стиль её писем — совершенно стиль письма Татьяны к Онегину (знаменитое «Письмо Татьяны» было написано еще в Одессе): «С чего мне начать и что Вам сказать? Я боюсь и не могу дать волю моему перу...»
«Я словно переродилась, получив известие о доносе на вас. Творец небесный, что же с вами будет? Ах, если бы я могла спасти вас ценою собственной жизни, с какой радостью я пожертвовала бы ею, и вместо награды я попросила бы у неба лишь возможность увидеть вас на мгновение, прежде чем умереть. Вы не можете себе представить, в какой тревоге я нахожусь, — не знать, что с вами, ужасно; никогда я так душевно не мучилась… Боже, как я была бы счастлива узнать, что вас простили, — пусть даже ценою того, что никогда более не увижу вас, хотя это условие меня страшит, как смерть… Как это поистине страшно оказаться каторжником! Прощайте, какое счастье, если все кончится хорошо, в противном случае не знаю, что со мною станется» (11 сентября 1826 г.).
Анна так никогда и не вышла замуж и ещё много лет оставалась, пожалуй, самой преданной поэту женщиной. Он знал это и приезжал к ней в трудную минуту залечивать свои душевные раны.
Так было осенью 1828 года после болезненного разрыва с Олениной, осенью 1829-го после первого отказа на его предложение Гончаровой. Пушкин нагрянул тогда незваным гостем в Малинники, где застал Анну одну, и они провели вместе восхитительные три недели. Там были написаны им два стихотворения: «Зима. Что делать нам в деревне?» и «Зимнее утро», проникнутые ощущением безмятежного покоя и счастья.
Послушайте первое из них в блистательном исполнении К. Райкина:
http://www.youtube.com/watch?v=WAkb3JUJEKg
Про утреннее пробуждение возлюбленных мы тоже знаем с детских лет:
Мороз и солнце; день чудесный!
Еще ты дремлешь, друг прелестный –
Пора, красавица, проснись:
Открой сомкнуты негой взоры
Навстречу северной Авроры
Звездою севера явись!
Читает И. Смоктуновский: http://www.youtube.com/watch?v=83aAFAu98ZE
Вероятно, к ней же обращён черновой отрывок Пушкина от 1828 года:
Но ты забудь меня, мой друг.
Забудь меня, как забывают
томительный, печальный сон,
когда по утру отлетают
и тень, и...
«Цветы последние милей...»
Пушкин мало ценил в женщинах возвышенные чувства и не дорожил сердечной привязанностью. Как-то он сказал Анне Керн о женщине, которая его любила: «Нет ничего безвкуснее долготерпения и самоотверженности». Видимо, его слова «Чем меньше женщину мы любим...» можно с неменьшим основанием отнести и к мужчинам.
Среди таких «долготерпеливых была и мать Анны Вульф и Зизи — Прасковья Осипова-Вульф — дальняя родственница Пушкина (её сестра Елизавета была замужем за двоюродным братом матери поэта Яковом Исааковичем Ганнибалом), соседка поэта, владелица села Тригорское.
Вот как рисует её портрет племянница Анна Керн:
«И так мне рисуется Прасковья Александровна в те времена. Не хорошенькою, – она, кажется, никогда не была хороша, – рост ниже среднего, впрочем, в размерах, и стан выточенный; лицо продолговатое, довольно умное; нос прекрасной формы; волосы каштановые, мягкие, тонкие, шёлковые; глаза добрые, карие, но не блестящие...»
В 1817 г. Пушкин, окончив Лицей, первый раз посетил Тригорское и вписал в альбом Прасковьи Александровны стихотворение «Простите, верные дубравы».
Простите, верные дубравы!
Прости, беспечный мир полей,
О легкокрылые забавы
Столь быстро улетевших дней!
Прости, Тригорское, где радость
Меня встречала столько раз!
На то ль узнал я вашу сладость,
Чтоб навсегда покинуть вас?
От вас беру воспоминанье,
А сердце оставляю вам...
Быть может (сладкое мечтанье!),
Я к вашим возвращусь полям,
Приду под липовые своды,
На скат тригорского холма,
Поклонник дружеской свободы,
Веселья, граций и ума.
Уклад жизни её семьи, где ссыльный Пушкин бывал практически ежедневно, показался ему настолько характерным воплощением русской усадебной культуры, что именно его он положил в основу описания деревенского быта в «Евгении Онегине».
Хозяйка усадьбы Ларина списана почти с натуры:
Бывало, писывала кровью
Она в альбомы нежных дев,
Звала Полиною Прасковью
И говорила нараспев,
Корсет носила очень узкий,
И русский Н как N французский
Произносить умела в нос;
Но скоро всё перевелось;
Корсет, альбом, княжну Алину,
Стишков чувствительных тетрадь
Она забыла; стала звать
Акулькой прежнюю Селину
И обновила наконец
На вате шлафор и чепец.
19-летнему Пушкину Прасковья Вульф уже тогда представлялась пожилой женщиной, хотя ей ещё не было и сорока.
А кстати, Ларина проста,
но очень милая старушка...
Но через пять лет, когда поэт оказался в ссылке и лишён общества блестящих светских дам, их отношения с Прасковьей Александровной стали более близкими и дружескими, а потом переросли в нечто большее.
Ему было 24, ей 42. Разница в возрасте никогда не смущала Пушкина (вспомним влюблённость в Голицину, Воронцову, Собаньскую). Прасковья Вульф любила, ценила и понимала его. Порой ревновала (ведь в её жилах тоже текла кровь африканских предков), увозила от пылкого друга то дочь, то племянницу, но чаще отрешалась от себя, всем сердцем откликаясь на заботы и горести поэта, превыше всего для себя ставя его благополучие. Она улаживала его дрязги с отцом, занималась устройством его имущественных дел, создавала условия для работы в своём доме, предотвратила безумный план побега за границу.
Вопреки обыкновению Пушкин в отношении Прасковьи Вульф пожелал быть безупречно скромным. Он не включил её имя в дон-жуанский список, который в шутку набросал в альбом сестёр Ушаковых (перечень дам, любивших его), хотя её имя могло бы там занять место с большим правом, нежели дочь её Евпраксия.
Пушкин тщательно скрывал их отношения. Уничтожил все письма Прасковьи Вульф 1820-х годов, от которых случайно сохранилось только два отрывка. В одном из них он писал: «Целую Ваши прекрасные глаза, которые я так люблю...»
Он посвящает ей стихи: «Подражание корану», «Быть может, уж недолго мне...» А в 1825 году пишет стихотворение «Последние цветы», обращаясь к стареющей женщине с трогательной нежностью:
Цветы последние милей
Роскошных первенцев полей.
Они унылые мечтанья
Живее пробуждают в нас.
Так иногда разлуки час
Живее сладкого свиданья.
«Она друг Пушкина была»
Если Прасковья Осипова-Вульф, испытывая к Пушкину не совсем платонические чувства, всё же сохраняла над собой власть, оставаясь ему прежде всего преданным другом и заболтивой советчицей, то дочь Кутузова Елизавета Михайловна Хитрово не могла побороть свою страсть к поэту, ежедневно забрасывая его пылкими письмами, которые Пушкин, смеясь, бросал в камин, не читая.
Он познакомился с Елизаветой Хитрово в 1827 году, когда впервые после ссылки приехал в Петербург и вскоре стал завсегдатаем её знаменитого литературного салона.
Со всею страстью и пылкостью возвышенно-экзальтированной натуры Елизавета Михайловна увлеклась Пушкиным. По словам того же Вяземского, она питала к поэту «языческую любовь», граничащую с поклонением. Была она на 16 лет старше Пушкина и любила его восторженной, самоотверженной, горестной любовью стареющей женщины, не ждущей и не смеющей ждать ответного чувства.
Друг Пушкина Вяземский уверял, что, хотя Александр Сергеевич и жаловался порой на надоедливость Хитрово, называя её шутя Пентефреихой (библейский персонаж, жена царедворца Пентефрея, влюблённая в юношу Иосифа и преследующая его повсюду), тем не менее относился он к ней всегда с беспредельным уважением, почитая её «за самого искреннего своего друга».
Е. Хитрово. Рис. Пушкина
Поэт часами разговаривал с ней об её отце, о сражениях и событиях, коим она была живая свидетельница, поддерживал с ней дружеские отношения, наносил визиты.
Хитрово было тогда 46 лет. Она была полная, некрасивая, лицом походила на своего отца-фельдмаршала. Не блиставшая умом, суетная, смешная, Елизавета давала повод ко множеству шуток над ней и двусмысленных анекдотов.
Шарж на Е. Хитрово неизвестного художника. 1830 годы. Литературный музей.
Но доброты она была неисчерпаемой.
Когда Пушкин женился, она, переборов своё горе, пожелала ему в письме от всей души счастья, пообещав больше не докучать своей любовью. «Когда я утоплю в слезах мою любовь к Вам, я тем не менее останусь всё тою же — страстною, кроткою и необидчивой, готовой пойти за Вами в огонь и воду».
О дуэли Пушкина с Дантесом Елизавета Михайловна узнала поздно ночью 8 февраля 1837 года и тут же бросилась к умирающему другу…
Жуковский не хотел впускать её в кабинет, где лежал смертельно раненый поэт, но она молча, не проронив ни слова, подавляя рыдания, встала на колени перед дверью кабинета и стояла до тех пор, пока Жуковский молча не отворил перед ней дверь. Так, на коленях, Елизавета Михайловна и подползла к изголовью друга. Какие слова она шептала, что говорила, сжимая его руку при этом последнем свидании – никто не знает! Да и надо ли знать?
На отпевании поэта в церкви Спаса Нерукотворного на Конюшенной площади она одна рыдала безудержно, никого и ничего не стесняясь…
Елизавета Михайловна пережила своего любимца и кумира всего лишь на два года. 3 мая 1839 года дочь Кутузова скончалась.
На могиле Елизаветы Хитрово в Александро-Невской лавре установлен барельеф с её изображением. С медальона барельефа смотрит на нас дама пожилая, не отвечающая признанным классическим канонам красоты, но всё же – одна из самых прекрасных женщин, встретившихся Пушкину на его жизненном пути. И – единственная, которая сохранила и никому не продала его письма, несмотря на их порой откровенную грубость и насмешки над адресатом.
Пушкин не посвятил ей стихов. Но на её кончину откликнулась графиня Е. Растопчина:
Прощальный гимн воспойте ей, поэты!
В вас дар небес ценила, поняла
она душой, святым огнём согретой,
она друг Пушкина была!
Барышня-крестьянка
В ссылке в Михайловском Пушкин увлёкся 19-летней крепостной девушкой Ольгой Калашниковой — дочкой старосты, которая работала горничной у господ.
"Вечером слушаю сказки моей няни, оригинала няни Татьяны. Тогда я узнал тайну русской речи", - читаем в письмах Пушкина.
Против его двери была дверь в комнату Арины Родионовны, где няня и крепостные девушки вязали, вышивали, шили.
И ныне здесь, в забытой сей глуши,
В обители пустынных вьюг и хлада,
Мне сладкая готовилась отрада...
Зимой катались с горы на салазках девушки. Пушкин стоял и глядел на веселое это катанье.
В Святки он облачился в просторные нянины валенки, вознамерившись прокатиться. "С Ольгой! С Ольгой! - закричали в один голос подружки. - Она лучше всех правит". - "И лучше всех вывалит! Я сяду впереди", - смеялся Пушкин. "Нет, уж как вы хотите, барчук, а я вас сама прокачу!" - вызвалась Оленька. "Хорошо, я сяду, пожалуй, за тобой".
Санки были малы, сидеть было тесно, и, когда они перевернулись, Александр и Оленька полетели с размаху в сугроб. Девушка вскрикнула от неожиданности, а Пушкин успел поцеловать ее в розовую морозную щеку...
Между ними завязался любовный роман, продолжавшийся больше года. В одном из шутливых куплетов Пушкина есть такие строчки:
Смеётесь вы, что девой бойкой
пленён я, милой поломойкой.
В 4 главе «Евгения Онегина» он описывал свои встречи с Ольгой:
Прогулки, чтенье, сон глубокий,
лесная сень, журчанье струй,
порой белянки черноокой
младой и свежий поцелуй...
И в той же главе:
В избушке, распевая, дева
прядёт, и, зимний друг ночей,
трещит лучинка перед ней.
В. А. Тропинин. «Пряха».
Критики тогда были страшно возмущены, что он простую девку назвал девою. Но Пушкин сознательно поэтизирует здесь крестьянскую девушку, в которой его привлекала естественность, отсутствие столь раздражавшего его в тригорских барышнях жеманства. На этом противопоставлении построена и написанная им позже «Барышня-крестьянка».
В конце 1825 года Ольга забеременела, и Пушкин в мае 1826-го отправляет её в Болдино, куда незадолго до этого был назначен старостой её отец.
Целуя, он напутствовал Ольгу, чтобы была весела и здорова, передав ей письмо для передачи в Москве Петру Вяземскому следующего содержания: "Письмо это тебе вручит очень милая и добрая девушка, которую один из твоих друзей неосторожно обрюхатил. Полагаюсь на твое человеколюбие и дружбу. Приюти ее в Москве и дай ей денег, сколько ей понадобится, а потом отправь в Болдино (в мою вотчину, где водятся курицы, петухи и медведи)... При сем с отеческою нежностью прошу тебя позаботиться о будущем малютке, если то будет мальчик. Отсылать его в Воспитательный дом мне не хочется, а нельзя ли его покамест отдать в какую-нибудь деревню - хоть в Остафьево. Милый мой, мне совестно ей-богу... но тут уж не до совести..."
В большинстве исследований, в частности, у В. Ходасевича, этот эпизод занимает центральное место. Он пишет об угрызениях совести Пушкина по этому поводу и справедливо считает, что эти мотивы нашли отражение впоследствии в поэме «Русалка» и в стихотворении «Яныш-королевич» (из цикла «Песни западных славян»). Дальнейшая судьба девушки была неизвестна Ходасевичу, и он предположил, что она, подобно дочери мельника из «Русалки», бросилась в омут.
Драму "Русалка" поэт не закончил - остановился на том месте, где творческое воображение уже не в силах было развить сюжет: на сцене встречи князя со своей дочерью, которая предстает пред ним в виде русалочки. "...Откуда ты, прекрасное дитя?" - восклицает герой. Похоже, Пушкин попал в типовую ситуацию, не зная, куда дальше двинуть своих героев...
"...И мы, - не правда ли, моя голубка?
Мы были счастливы; по крайней мере
Я счастлив был тобой..."
В действительности всё было не так романтично, как в поэме. В июле 26-го года у Ольги родился сын Павел, который спустя два месяца умер. Пушкин, оказавшись в Болдино в 4-ую годовщину смерти сына, посвятил этому событию одно из самых грустных своих стихотворений:
Смотри, какой здесь вид: избушек ряд убогий...
Пушкин приходил на могилу сына каждый раз, когда оказывался в Болдино. И каждое такое посещение служило источником горьких раздумий.
Стою печален на кладбище.
Гляжу кругом — обнажено
святое смерти пепелище
и степью лишь окружено...
Почувствовав, что Пушкин тяжело переживает вину, Ольга просит поэта дать ей вольную. Потом — вольную брату. Потом — всей семье. Получив вольную, она вышла замуж за дворянина, титулованного советника, получив тем самым статус дворянки.
Не хочу быть чёрною крестьянкой,
а хочу быть столбовою дворянкой. -
вот откуда эти строки.
бывший дом Ольги Калашниковой-Ключарёвой в Лукоянове, куда она вышла замуж
Поручителем на свадьбе Ольги был Пушкин. Вероятно, он помог ей деньгами. Потом она просит у него две тысячи на выкуп заложенного имения. В этом же 1833 году Пушкин набрасывает черновые строки своей знаменитой сказки:
Вот неделя, другая проходит.
Ещё пуще старуха вздурилась.
Не хочу быть столбовою дворянкой,
а хочу я быть Римскою папой.
Потом Ольга разошлась с мужем, приобрела нескольких крепостных, дом и зажила жизнью небогатой провинциальной помещицы.
Конечно, не бог весть что, но ведь и не «разбитое корыто».
Много лет спустя поэт Михаил Дудин написал стихотворение "Об Ольге Калашниковой моя песня", в котором утверждал, что «Я помню чудное мгновенье» было написано именно ей:
О том не ведают ученые,
у них другой в науке крен.
Всё спорят головы мочёные
об озареньи Анны Керн...
И вдруг спокойно озарение
само приходит по себе,
что чудо - "чудное, мгновение" -
одной написано тебе.
Он же писал о том, что Пушкин перед смертью якобы вспоминал Ольгу:
В последний раз подушку комкая,
в своем бреду тебя кричал.
Но, правду скрыв перед потомками,
о том Жуковский умолчал.
На самом деле нет никаких оснований считать, что отношения Пушкина и Ольги Калашниковой чем-то отличались от достаточно типичных отношений помещика и крепостной. Написанная, как и «Я помню чудное мгновенье...», в 1825 году (роман с Калашниковой начался в январе этого года или в декабре предыдущего) «Сцена из Фауста», видимо, отражает это. Там Мефистофель напоминает Фаусту о соблазнении невинной девушки:
Не я ль тебе своим стараньем
Доставил чудо красоты?
И в час полуночи глубокой
С тобою свел её?..
Казалось бы, версия Дудина правильна. Вот он - «гений чистой красоты». Но некоторое сходство в стихах одного поэта, написанных к тому же в один год, ничего не подтверждает (не говоря уж о том, что «гений чистой красоты», как известно, был заимствован Пушкиным у Жуковского). Кроме того, Мефистофель продолжал:
Ты думал: агнец мой послушный!
Как жадно я тебя желал!
Как хитро в деве простодушной
Я грёзы сердца возмущал!
Любви невольной, бескорыстной
Невинно предалась она...
Что ж грудь моя теперь полна
Тоской и скукой ненавистной?..
На жертву прихоти моей
Гляжу, упившись наслажденьем,
С неодолимым отвращеньем...
В письме к своему другу Петру Вяземскому, которого Пушкин просил приютить Калашникову в Москве (этому помешали активные действия его отца Сергея Львовича), поэт спрашивал: «Видел ли ты мою Эду? Вручила ли она тебе мое письмо? Не правда ли, что она очень мила?». Здесь содержится намёк на высоко ценимую Пушкиным поэму Баратынского «Эда». Героиня поэмы, красавица-финка, «отца простого дочь простая», влюбилась в русского гусара, который, не любя, соблазнил ее.
Пушкинисты, повинуясь тогдашним догмам, долго не хотели обсуждать вопрос об Ольге Калашниковой. Статья П. Е. Щёголева «Крепостная любовь Пушкина» была переиздана по прошествии десятилетий только в 1994 году. Между тем, созданная Михаилом Дудиным легенда о простой девушке, которую Пушкин якобы любил до самой смерти, о том, что она и Пушкин в «проклятый век» «родились неровнями», однако любовь хотя бы на одну ночь сделала барина и крепостную равными друг другу, очень соответствовала как раз официальной идеологии.
Во втором столбце знаменитого донжуанского списка Пушкина (из Ушаковского альбома) есть имя Ольга, которое может иметь отношение только к Калашниковой, однако это единственное имя списка, которое перечеркнуто. В список же Пушкин включал вовсе не тех женщин, с которыми у него были романы, а тех, кого он любил.
Окончание следует
Переход на ЖЖ:
|
|
"Явись, возлюбленная тень..." |
(О Пушкине. Продолжение.)

Начало здесь
Белинский говорил: «Есть всегда что-то особенное и грациозное в каждом чувстве Пушкина. Читая его произведения, можно воспитать в себе человека».
Прочитывая жизнь поэта «сквозь магический кристалл» его произведений, нельзя не убедиться в правоте этого высказывания.
«Всё в жертву памяти твоей...»
Во время южной ссылки в Одессе в 1823 году Пушкин испытал сильное чувство к двух женщинам одновременно. Одна из них — жена крупного одесского коммерсанта, дочь австрийского банкира Амалия Ризнич.

Это была жгучая красавица с пламенными глазами, чёрной косой до колен, двадцатилетняя полунемка-полуитальянка с примесью еврейской крови, ни слова не говорившая по-русски, экзотического облика и поведения. «Негоциантка молодая, самолюбива и томна, толпой рабов окружена...» - набрасывал её портрет Пушкин в «Евгении Онегине».

Вероятно, к этому времени, к первым неделям влюблённости относятся черновые наброски его стихотворения «Ночь»:
Мой голос для тебя, и ласковый, и томный,
Тревожит позднее молчанье ночи тёмной.
Близ ложа моего печальная свеча
Горит; мои стихи, сливаясь и журча,
Текут, ручьи любви, текут, полны тобою.
Во тьме твои глаза блистают предо мною,
Мне улыбаются — и звуки слышу я:
"Мой друг, мой нежный друг... люблю... твоя... твоя!.."
Пушкину удалось пробиться к ласкам Амалии сквозь толпу поклонников-рабов, но допущен к благосклонности он был не один.

Это вызывало жгучую ревность поэта. Однажды, по свидетельству брата Льва, он в бешенстве пробежал пять вёрст в 35-градусную жару. Был случай, когда во время ночного свидания, в саду дома негоциантки Пушкин в припадке ревности стал её душить, и на её хрип и крики сбежались люди.
Простишь ли мне ревнивые мечты,
моей любви безумное волненье?

«Ревнивые мечты» Пушкина в этих стихах подразумевали вполне конкретное лицо. Им был богатый пожилой помещик Исидор Собаньский — счастливый соперник поэта.
Мной овладев, мне разум омрачив,
Уверена в любви моей несчастной,
Не видишь ты, когда, в толпе их страстной,
Беседы чужд, один и молчалив,
Терзаюсь я досадой одинокой;
Ни слова мне, ни взгляда... друг жестокий!
Хочу ль бежать: с боязнью и мольбой
Твои глаза не следуют за мной.
Заводит ли красавица другая
Двусмыссленный со мною разговор -
Спокойна ты; веселый твой укор
Меня мертвит, любви не выражая.
Скажи еще: соперник вечный мой,
Наедине застав меня с тобой,
Зачем тебя приветствует лукаво?..
Что ж он тебе? Скажи, какое право
Имеет он бледнеть и ревновать?..
В нескромный час меж вечера и света,
Без матери, одна, полуодета,
Зачем его должна ты принимать?..
По мнению исследователей, поэт видел перед глазами именно свои отношения с Ризнич, когда рисовал терзания Ленского:

Да, да, ведь ревности припадки -
болезнь, так точно, как чума,
как чёрный сплин, как лихорадка,
как повреждения ума.

И ещё много лет спустя Пушкин не мог без душевного содрогания вспомнить этот доставшийся ему дорогой ценой любовный опыт.
О ты, которой
я в бурях жизни молодой
обязан опытом ужасным
и рая мигом сладострастным... -
писал он в «Евгении Онегине». Измены, притворство Ризнич, его подозрения и ревность в конце концов приводят к разрыву.
Всё кончено: меж нами связи нет.
В последний раз обняв твои колени,
произносил я горестные пени.
«Всё кончено» - я слышу твой ответ.
Но вскоре Амалия родила сына, которого нарекла Александром. Пушкин был счастлив. Размолвка забыта.
Он Бог Парни, Тибулла, Мура,
им мучусь, им утешен я.
Он весь в тебя — ты мать Амура,
ты богородица моя!

Спустя полгода Пушкин пишет стихотворение «Младенцу»:
Дитя, не смею над тобой
Произносить благословенья.
Ты взором, мирною душой,
Небесный ангел утешенья.
Да будут ясны дни твои,
Как милый взор твой ныне ясен.
Меж лучших жребиев земли
Да будет жребий твой прекрасен.
Эти стихи натолкнули его на мысль написать монолог Алеко у колыбели сына. Сохранилось несколько набросков, но в окончательный текст поэмы Пушкин их так и не включил.
А между тем Амалия Ризнич заболевает чахоткой и уезжает на лечение в Италию.
Пушкин утверждал, что её муж отправил туда супругу из ревности.
Поэт вынашивает план бежать с Амалией в Италию.

Это нашло отражение в его поэзии:
Ночей Италии златой
Я негой наслажусь на воле,
С венецианкою младой,
То говорливой, то немой,
Плывя в таинственной гондоле;
С ней обретут уста мои
Язык Петрарки и любви.
Очень люблю стихотворение Татьяны Галушко «Пушкин и Ризнич». В нём ярко передана вся суть этой истории, весь жар страсти поэта:
Ещё с утра он был рассеян,
смеялся, запрокинув лоб!
«В Одессе много Одиссеев
и, верно, мало Пенелоп...»
А ввечеру (как день был долог
и гаснул, не задев пера!)
Вдруг бубенцы, огни, виолы,
и плещущие веера.
И факелы, и флаги — мимо.
Веселье вёсел и смычка.
И несравнимо, нестерпимо
во весь зенит его зрачка
вместилась женщина. И в гору,
обрывами, домой, назад,
он, словно по пятам — погоня,
нёс эту женщину в глазах.
Он чувствовал, как тяжелы
глаза, как на лице огромны,
как безнаказанно-жадны
и, вероятно, вероломны.
Куда луна над ним бежит?..
Скорей бы! До стола, до дрожи
свечи... Она принадлежит
до смерти, да и после тоже,
ему, ему, его стихам,
его зрачкам, её вобравшим.
Он убегал. Он настигал.
И называл всё это блажью.
Всё сбудется потом. Потом
она на край стола присядет
и косы, свитые жгутом,
черно уронит на тетради.
Он скажет: «Ризнич... Резеда...»
И задохнётся, точно бредит...
Потом стихи. Она уедет
и не прочтёт их никогда.

Побег тогда не удался. Пушкин, видимо, не решился на него, так как Амалию провожало очень много людей (друзей, знакомых, поклонников), и незаметно проскользнуть на корабль в этой толпе было невозможно. А соперник поэта Собаньский устремился следом за ней.
Всё в жертву памяти твоей:
И голос лиры вдохновенной,
И слезы девы воспаленной,
И трепет ревности моей,
И славы блеск, и мрак изгнанья,
И светлых мыслей красота,
И мщенье, бурная мечта
Ожесточенного страданья.

Слуга, приставленный к Амалии мужем Ризнич, известил того об измене жены. Супруг лишил её материальной поддержки. Любовник вскоре её бросил. Амалия осталась во Флоренции одна и скончалась в нищете в 1825 году.
Судьба её ребёнка неизвестна.
Пушкин узнал о смерти Ризнич лишь через год и - к своему ужасу — остался равнодушен.
Под небом голубым страны своей родной
Она томилась, увядала...
Увяла наконец, и верно надо мной
Младая тень уже летала;
Но недоступная черта меж нами есть.
Напрасно чувство возбуждал я,
Из равнодушных уст я слышал смерти весть
И равнодушно ей внимал я.
Так вот кого любил я пламенной душой
С таким тяжелым напряженьем,
С такою нежною, томительной тоской,
С таким безумством и мученьем!
Где муки, где любовь? Увы! в душе моей
Для бедной, легковерной тени,
Для сладкой памяти невозвратимых дней
Не нахожу ни слез, ни пени.
(«Элегия», 1826)
Но он ещё вернётся к мыслям об Амалии, к своим стихам о ней.

Новый всплеск воспоминаний об этой женщине относится к знаменитой Болдинской осени 1830 года, когда Пушкин, в преддверии женитьбы, прощался со своими былыми подругами.

Это и стихотворение «Прощание» («прими же, дальняя подруга, прощанье сердца моего»), и «Заклинание» («хочу сказать, что всё люблю я, что всё я твой: сюда, сюда!»), и «Для берегов отчизны дальней...» («Твоя краса, твои страданья исчезли в урне гробовой, а с ними — поцелуй свиданья, но жду его: он за тобой...»)
Отзвуки мыслей об Амалии ощутимы и в трёх его «испанских» произведениях Болдинского периода. Это «Каменный гость», где Дон Гуан вспоминает свою умершую возлюбленную.

Это стихи «Я здесь, Инезилья...»,

«Перед испанкой благородной...»

Но... жизнь продолжается. «И сердце вновь горит и любит оттого, что не любить оно не может».
«Храни меня, мой талисман»

Почти в то же время Пушкин влюбляется в первую леди Одессы — супругу генерал-губернатора Елизавету Ксаверьевну Воронцову.

Поэт в то время служил в канцелярии губернатора Новороссийского края – графа Михаила Воронцова, но служба мало интересовала поэта.
Ей был 31 год, Пушкину — 24. Будучи старше поэта на 7 лет, она, по мнению современников, отличалась от сверстниц молодостью души и очаровательной наружностью.

П. Ф. Соколов. Портрет Е. К. Воронцовой
Поначалу, как писала княгиня Вяземская, посвящённая в их отношения, было это у них «очень целомудренно, да и серьёзно лишь с его стороны». Воронцова в письмах отзывалась о Пушкине так: «Я старалась усыновить его, но он непослушен, как паж, и если б он не был так дурён собой, я бы прозвала его Керубино...»
Сперва Элиза избегала влюбленного юношу, однако пылкое чувство Пушкина покорило ее сердце, и в феврале 1824 года она ответила ему взаимностью. Они переписывались. К сожалению, ни одно из их писем до нас не дошло. Пушкин, чтобы не компрометировать любимую, сжигал всё, что она писала.
Роман этот кончился тем, что ревнивый генерал-губернатор изгнал поэта из своих владений, за что взбешённый Пушкин наградил Воронцова несправедливой эпиграммой:
Полумилорд, полукупец,
Полумудрец, полуневежда,
Полуподлец, но есть надежда,
Что станет полным наконец.

Дж. Доу. Портрет М. С. Воронцова
Эпиграмма, о которой уже говорил весь город, дошла до Воронцова. Отныне дверь его дома была закрыта для Пушкина. А через неделю поэт узнал, что граф приказал арестовать его и срочно отправить к родителям.
Пушкин снова замыслил побег, на этот раз в Турцию. В этом ему помогала жена Вяземского княгиня Вера, с которой он сдружился в Одессе. Побег должен был состояться в ночь с 31 июля на 1 августа 1824 года. Под покровом ночи Пушкина должны были посадить на шлюпку и доставить на борт корабля, отплывавшего в Константинополь.

А оттуда — двигаться в Италию, Париж, Лондон. Предполагалось, что пять суток он будет прятаться в трюме, пока бриг не уйдёт в открытое море.

Вяземская снабжала его деньгами, вещами, необходимыми в дороге.

В ночь на 31 июля Пушкин прощается с Воронцовой. Местом тайного свидания была выбрана та самая пещера, из которой ему на другой день предстояло бежать.

Когда стемнело, появилась Элиза. Позже Пушкин отразит эту встречу в стихотворении «Прощание»:
В пещере тайной, в день гоненья,
Читал я сладостный Коран.
Внезапно ангел утешенья,
Влетев, принес мне талисман.
Его таинственная сила...
Слова святые начертила
На нем безвестная рука.
(стихотворение было недописано)

Воронцова надевает ему на палец золотой перстень с древнееврейской надписью и показывает ему свою руку с таким же талисманом. Перстни на расстоянии должны были сохранять между ними незримую связь. До конца дней своих Пушкин верил в таинственную силу этого талисмана.

Это была золотая витая печатка с восьмиугольным сердоликом с выгравированной надписью на древнееврейском языке: «Симха, сын почтенного рабби Иосифа, да благословенна его память».

Там, где море вечно плещет
На пустынные скалы,
Где луна теплее блещет
В сладкий час вечерней мглы,
Где, в гаремах наслаждаясь,
Дни проводит мусульман,
Там волшебница, ласкаясь,
Мне вручила талисман.
Эти строки были написаны три года спустя после встречи с Воронцовой. Пушкин не расставался с талисманом до самой смерти. Перстнем с печаткой опечатывал личные письма и архивы. Поэт верил, что перстень хранит его поэтический дар.

Храни меня, мой талисман,
Храни меня во дни гоненья,
Во дни раскаянья, волненья:
Ты в день печали был мне дан.
Когда подымет океан
Вокруг меня валы ревучи,
Когда грозою грянут тучи, —
Храни меня, мой талисман.
В уединеньи чуждых стран,
На лоне скучного покоя,
В тревоге пламенного боя
Храни меня, мой талисман.
Священный сладостный обман,
Души волшебное светило...
Оно сокрылось, изменило...
Храни меня, мой талисман.
Пускай же ввек сердечных ран
Не растравит воспоминанье.
Прощай, надежда; спи, желанье;
Храни меня, мой талисман.

Однако побег не удался. Почему — неизвестно, можно только гадать. Что произошло в последний час, уже после прощания? Кажется, ответ дал сам поэт в известном стихотворении «К морю», начатом сразу после пережитых событий:
Не удалось навек оставить
Мне скучный, неподвижный брег,
Тебя восторгами поздравить
И по хребтам твоим направить
Мой поэтической побег!
Ты ждал, ты звал... я был окован:
Вотще рвалась душа моя:
Могучей страстью очарован,
У берегов остался я...

Возможно, побегу помешала сама Воронцова, - либо, чтобы остаться с Пушкиным, либо — чтобы не навлекать неприятностей на карьеру мужа.
Стихи «Ангел», «Кораблю», «Желание славы», отчасти «Разговор книгопродавца с поэтом», «Прозерпина», «Расставание», «Талисман», «Сожжённое письмо» - всё это посвящено Воронцовой.

Но самое прекрасное проявление её власти над душой поэта — это пленительный, совершенно новый в русской литературе образ Татьяны, который был создан там же, в Одессе, под впечатлением глубокой и сильной женственности натуры графини Элизы. Описывая превращение Татьяны в светскую даму, Пушкин придал ей некоторые внешние черты графини Воронцовой.
Она была нетороплива,
не холодна, не говорлива,
без взора наглого для всех,
без притязаний на успех.

Многие исследователи связывают имя Елизаветы Воронцовой с пушкинской Татьяной. Именно судьба этой женщины вдохновила поэта на создание образа Татьяны Лариной. Ещё до замужества она полюбила Александра Раевского, с которым состояла в дальнем родстве.

Элиза написала Раевскому, окружённому ореолом героя Отечественной войны 1812 года. Это было письмо-признание. Как и Евгений Онегин в пушкинском романе, холодный скептик отчитал влюблённую девушку. Вскоре её выдали за графа Воронцова. Но когда Раевский увидел Елизавету Ксаверьевну блестящей светской дамой, женой известного генерала, его сердце загорелось от неизведанного чувства. Отставив службу, он приехал в Одессу, чтобы завоевать Воронцову. Но тут оказался соперник — Пушкин, и Раевский, чтобы устранить его, прибегнул к содействию мужа Елизаветы.
Пушкин был в отчаянье от провала его романтического побега, который он так тщательно и любовно готовил. Вначале поэт даже хотел застрелиться, но потом подчинился судьбе и поехал в Михайловское.

В ссылке Пушкин получал письма из Одессы от Воронцовой, запечатанные таким же перстнем.

После смерти поэта этот перстень попал к Тургеневу, от него — к Виардо, она передала его в Лицей, но Лицей позже ограбили и перстень исчез, судьба его неизвестна.
В октябре 1824 года Пушкин получает от Елизаветы письмо, которое он по её просьбе уничтожил. Вид горящего послания вдохновляет его на новые стихи:

Прощай, письмо любви! прощай: она велела.
Как долго медлил я! как долго не хотела
Рука предать огню все радости мои!..
Но полно, час настал. Гори, письмо любви.
Готов я; ничему душа моя не внемлет.
Уж пламя жадное листы твои приемлет...
Минуту!.. вспыхнули! пылают — легкий дым
Виясь, теряется с молением моим.
Уж перстня верного утратя впечатленье,
Растопленный сургуч кипит... О провиденье!
Свершилось! Темные свернулися листы;
На легком пепле их заветные черты
Белеют... Грудь моя стеснилась. Пепел милый,
Отрада бедная в судьбе моей унылой,
Останься век со мной на горестной груди...
(«Сожжённое письмо»)
Очевидно, в письме Воронцова сообщала ему, что ждет ребенка. Под рукой поэта появляются строки, многократно перечёркнутые:
Прощай, дитя моей любви,
я не скажу тебе причины.
...и клевета неверно ей,
быть может, образ мой опишет
о том, кто... она со временем услышит.
3 апреля 1825 года Елизавета Ксаверьевна родила девочку. То, что это дочь Пушкина — уже непреложный факт. Об этом пишет в своей книге (М., Русский путь, 1999) правнучка Пушкина Наталья Сергеевна Мезенцева. Она услышала это от своей тёти Анны Алексеевны, а той поведал её отец Александр Александрович Пушкин.
Умерла Софья рано. В портретах её, находящихся в Алупкинском Дворце, проскальзывают арапские черты: она одна из всей семьи Воронцовых была смуглой и черноволосой.
Судя по всему, Воронцов сильно подозревал, что это не его дочь. Во всяком случае, в мемуарах графа, адресованных его сестре – леди Пембрук, жившей в Лондоне, есть упоминания о рождении всех его детей. Отсутствует только запись о рождении Софьи.

неизвестный художник. Портрет Софьи Воронцовой.
Графиня Воронцова прожила долгую жизнь и до самой старости не забывала о своей любви к поэту.

Их переписка не сохранилась. В 1950-х годах в Варшавском архиве было обнаружено единственное дошедшее до нас письмо Пушкина к Воронцовой. Это был крайне любезный и абсолютно безобидный ответ на просьбу графини прислать какое-нибудь из своих произведений для публикации в благотворительном сборнике.
«Она волнует меня как страсть»
Ещё одно имя, сыгравшее роковую роль в судьбе Пушкина. Каролина Собаньская. Этой женщине поэт посвятил одно из самых прекрасных своих стихотворений «Что в имени тебе моём?» Ей же он написал два полных отчаянья и огнедышащей страсти письма, дошедших до нас в черновиках.
Каролина-Розалия-Тэкла Собаньская, 1794 года рождения, принадлежала к одному из самых знаменитых польских аристократических семейств.

Она была дочерью графа Адама-Лаврентия Ржевусского и пленной красавицы-гречанки; брат ее Генрих - известный польский романист. Она дожила до глубокой старости, умерла в Париже в возрасте 91 года. По воспоминаниям современников, Каролина Собаньская была самой красивой из полек, живших в Одессе в середине 20-х годов.


Одесса 19 века
Собаньская была тайным агентом III отделения и вела скрытую от посторонних глаз жизнь. Будучи совсем юной отданной за 50-летнего помещика Собаньского (дальний родственник того Собаньского, что любил Ризнич), она вскоре разошлась с ним и стала неофициальной женой графа И. О. Витта, который был организатором тайного политического сыска на юге России.

Будучи начальником военных поселений в Новороссии, Витт проник в Южное тайное общество и предал Александра и Николая Раевских, Михаила Орлова, организовал тайную слежку за Пушкиным в Михайловском.

А Собаньская была верной помощницей своего сожителя.

Её блестящий салон в Одессе посещали многие. Любительница изящных искусств, весёлая, прекрасная пианистка, душа общества. В Каролину был влюблён Адам Мицкевич и посвящал ей стихи.

Её сестра Эвелина Ганская была замужем за Бальзаком.

И никто из них не подозревал, что эта очаровательная женщина была жандармским агентом и писала тайные доносы Бенкендорфу.

Пути ссыльного Пушкина и Каролины Собаньской впервые пересеклись ещё в 1821 году в Киеве, куда поэт ездил на помолвку Екатерины Раевской с Михаилом Орловым. Позже они встречались в Одессе.

От этих дней осталось неоконченное стихотворение, навеянное тщетными стараниями поэта добиться взаимности у гордой полячки:
Как наше сердце своенравно!
............. томимый вновь
Я умолял тебя недавно
Обманывать мою любовь,
Участьем, нежностью притворной
Одушевлять свой дивный взгляд,
Играть душой моей покорной,
В нее вливать огонь и яд.
Ты согласилась, негой влажной
Наполнился твой томный взор;
Твой вид задумчивый и важный,
Твой сладострастный разговор
И то, что дозволяешь нежно,
И то, что запрещаешь мне,
Всё впечатлелось неизбежно
В моей сердечной глубине.
Л. Краваль, которой удалось найти лики Собаньской в бесчисленных женских портретах, украшающих рукописи Пушкина, отмечает:
«В рукописях Пушкина 1821-1823 годов встречается множество портретов одной и той же красивой брюнетки, зрелого возраста, с печатью демонизма в лице, с резкими сильными чертами греческого очерка, с миндалевидными глазами, с огненным взглядом (варианты: пронзительным, злобным, мрачным), с подбородком ведьмы, с маленьким красивым ртом, ограниченным скобочками-морщинками, с верхней губкой особенно изящного, стрельчатого рисунка и нижней - по-польски втянутой, вампической...»

Именно такой воспринимал красавицу Каролину поэт.
В декабре 1829 года Пушкин опять встречает в Петербурге Собаньскую. Страсть вспыхивает в нём с новой силой.
Тема Клеопатры, демона, падшего ангела - Собаньской стала для Поэта навязчивой мыслью, преследовала его неотвязно - в стихах, прозе, в маленьких трагедиях, в набросках будущих произведений.

Какие письма он ей писал!
«Сегодня девятая годовщина дня, когда я увидел Вас в первый раз. Этот день был решающим в моей жизни. Чем больше я об этом думаю, тем более убеждаюсь, что моё существование неразрывно связано с Вашим, я рождён, чтобы любить Вас и следовать за Вами, всякая другая забота с моей стороны - заблуждение или безрассудство...»
«Не из дерзости я пишу Вам... чем могу я Вас оскорбить, я Вас люблю с таким порывом нежности, с такой скромностью — даже Ваша гордость не может быть задета. Я не прошу ни о чём, я сам не знаю, чего хочу, тем не менее я Вас...»

У Беллы Ахмадулиной есть «Отрывок из маленькой поэмы о Пушкине». Он называется «Он и Она». В нём она прекрасно выразила и очарование их встречи, и магию этой женщины, и смятение пушкинских чувств:

1. Он и она
Каков? - Таков: как в Африке, курчав
и рус, как здесь, где вы и я, где север.
Когда влюблен - опасен, зол в речах.
Когда весна - хмур, нездоров, рассеян.
Ужасен, если оскорблен. Ревнив.
Рожден в Москве. Истоки крови - родом
из чуждых пекл, где закипает Нил.
Пульс - бешеный. Куда там нильским водам!
Гневить не следует: настигнет и убьет.
Когда разгневан - страшно смугл и бледен.
Когда железом ранен в жизнь, в живот
не стонет, не страшится, кротко бредит.
В глазах - та странность, что белок белей,
чем нужно для зрачка, который светел.
Негр ремесла, а рыщет вдоль аллей,
как вольный франт. Вот так ее и встретил
в пустой аллее. Какова она?
Божественна! Он смотрит (злой, опасный).
Собаньская (Ржевусской рождена,
но рано вышла замуж, муж — Собаньский,
бесхитростен, ничем не знаменит,
тих, неказист и надобен для виду.
Его собой затмить и заманить
со временем случится графу Витту.
Об этом после). Двадцать третий год.
Одесса. Разом - ссылка и свобода.
Раб, обезумев, так бывает горд,
как он. Ему - двадцать четыре года.
Звать - Каролиной. О, из чаровниц!
В ней все темно и сильно, как в природе.
Но вот письма французский черновик
в моем, почти дословном, переводе.
2. Он - ей
(Ноябрь 1823 года, Одесса)
Я не хочу Вас оскорбить письмом.
Я глуп (зачеркнуто)… Я так неловок
(зачеркнуто)… Я оскудел умом.
Не молод я (зачеркнуто)… Я молод,
но Ваш отъезд к печальному концу
судьбы приравниваю. Сердцу тесно
(зачеркнуто)… Кокетство Вам к лицу
(зачеркнуто)… Вам не к лицу кокетство.
Когда я вижу Вас, я всякий раз
смешон, подавлен, неумен, но верьте
тому, что я (зачеркнуто)… что Вас,
о, как я Вас (зачеркнуто навеки)…

5 января 1830 года он записывает в её альбом посвящение. Видимо, оно было ответом на просьбу Каролины украсить её литературный альбом своим именем.
Что в имени тебе моем?
Оно умрет, как шум печальный
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом.
Оно на памятном листке
Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.
Что в нём? Забытое давно
В волненьях новых и мятежных,
Твоей душе не даст оно
Воспоминаний чистых, нежных.
Но в день печали, в тишине,
Произнеси его, тоскуя.
Скажи: есть память обо мне,
Есть в мире сердце, где живу я...

По сути, это уже прощание с прошлым.
Пушкин называл её демоном, он страстно любил её и боялся. Его тянуло к ней, как мотылька тянет к огню, но в какой-то момент что-то оттолкнуло его от Собаньской. Скорее всего, это было предчувствие, которым поэт был так наделён. Ведь он ничего не знал о её тайной жизни...
Из его последнего письма ей:

«...А вы, между тем, по-прежнему прекрасны, так же, как и в день переправы или же на крестинах, когда ваши пальцы коснулись моего лба. Это прикосновение я чувствую до сих пор - прохладное, влажное. Оно обратило меня в католика. - Но вы увянете; эта красота когда-нибудь покатится вниз, как лавина. Ваша душа некоторое время еще продержится среди стольких опавших прелестей - а затем исчезнет, и никогда, быть может, моя душа, ее боязливая рабыня, не встретит ее в беспредельной вечности».
На этом они и расстались.
И может быть, память о ней вызвала у него осенью 1830 года образ Лауры, "милого демона", в объятья которого устремляется изгнанник Дон Гуан, едва он оказался в Мадриде. Ведь именно к Лауре обращены в "Каменном госте" слова о мимолетности женской красоты, напоминающие нам о письме поэта к Собаньской:

Но когда
Пора пройдет, когда твои глаза
Впадут и веки, сморщаясь, почернеют
И седина в косе твоей мелькнет,
И будут называть тебя старухой,
Тогда - что скажешь ты?
В Парижской библиотеке хранятся записки Каролины Собаньской. Они изданы вот в этой книге:

Последняя запись там сделана 7 января 1843 года. Поразительно, что в этом дневнике, который она вела 20 лет, не нашлось места ни Пушкину, ни Мицкевичу. Даже в записи от 13 марта 1830 года после неожиданного отъезда Пушкина из Петербурга нет и следов той душевной бури, которую пережил поэт, нет никакого отклика на его любовь. И летом того же года, когда Пушкин уже вернулся в Петербург, и они вновь встретились, дневник хранит молчание. Почему?
Одну из версий предложила Анна Ахматова:

«То, что Собаньская, дожившая до 80-х годов, так глухо молчала о Пушкине — дурной знак. Женщина, которая в России собирала самые редкие автографы: тюремный автограф Марии-Антуанетты, автограф Фридриха Второго и, очевидно, знала им цену, не сохранила безумные письма Пушкина. Как стало известно сравнительно недавно, уже в начале 30-х годов она была агенткой Бенкендорфа. Очень вероятно, что и к Пушкину она была подослана и боялась начинать вспоминать, как бы кто-нибудь ещё чего-нибудь не вспомнил».
Спустя 100 лет пушкинист М. Цявловский писал: «Любовь между Пушкиным и Собаньской — факт, ещё не известный в литературе». Но и после публикации Цявловского Собаньскую и её роль в творчестве поэта старались всячески замять, замолчать. Никак не укладывалась она в благостные «адресаты лирики Пушкина». Полагалось считать ошибочным, что Пушкин в период сватовства к Натали страстно желал другую мадонну (в 1829 году их пути с Собаньской снова пересеклись в Петербурге).

Сватавшемуся к Натали Пушкину 30 лет, Собаньской — 36, по тем временам немалый возраст для женщины. «Вам я обязан тем, что познал всё, что есть самого судорожного и мучительного в любовном опьянении, и всё, что есть в нём самого ошеломляющего». Он вымаливает у неё дружбу и близость, «как если бы нищий попросил хлеба».
В этом же году поэт в письме к Николаю Раевскому описывает свою героиню из «Бориса Годунова» - странную и честолюбивую красавицу - и прибавляет: «Я уделил ей только одну сцену, но я ещё вернусь к ней, если Бог продлит мою жизнь. Она волнует меня как страсть».

Лжедимитрий и Марина Мнишек
И Пушкин действительно возвращается к этой женщине — но не к Марине Мнишек, а к оригиналу.

Помимо «Что в имени тебе моём?» к Собаньской обращено и стихотворение «Я Вас любил...». Позднее Пушкин впишет его в альбом к Анне Олениной, но написал он его тогда, когда ухаживал за Каролиной. Не только в массовой, но и в специальной литературе скрывался адресат этого стиха. Неловкость была в том, что одно из лучших в мировой лирике стихотворений было обращено не к будущей жене, а к леди-вамп, одной из самых мерзких окололитературных особ 19 столетия.

Подумать только, «Я Вас любил» адресовано жандармскому агенту! Но факты — упрямая вещь, как бы нам ни было это неприятно.
Я вас любил: любовь еще, быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно, безнадежно,
То робостью, то ревностью томим;
Я вас любил так искренно, так нежно,
Как дай вам бог любимой быть другим.

Баллада о чудном мгновеньи
Имя Анны Керн неразрывно связано с Пушкиным как имя женщины, вдохновившей его на бессмертные стихи «Я помню чудное мгновенье...», которое все уже знают наизусть. Керн интересна нам также и тем, что оставила откровенные воспоминания о Пушкине и сохранила письма, адресованные им ей (обычно близкие поэту женщины уничтожали эту корреспонденцию).

Это миниатюра А. Керн 1820-х годов. Вот как об этом портрете отозвался И. С. Тургенев:
«Она показала полувыцветшую пастель, изобразившую её в 28 лет: белокурая, с кротким личиком, с наивной грацией, с удивительным простодушием во взгяде и улыбке... немного смахивающая на русскую горничную в роде Варюши. На месте Пушкина я бы не писал ей стихов».
О вкусах не спорят. Возможно, Пушкин тоже не писал бы стихов Полине Виардо...
Среди поклонников Анны Керн были композитор Глинка (положивший на музыку эти стихи), поэт Веневитинов и даже отец Пушкина Сергей Львович. Даже сам император Александр I (прожжённый ловелас, знаток женских сердец), будучи на балу в Полтаве, особо отметил очарование Анны Петровны, много танцевал с нею, щедро рассыпал комплименты и звал в Петербург.
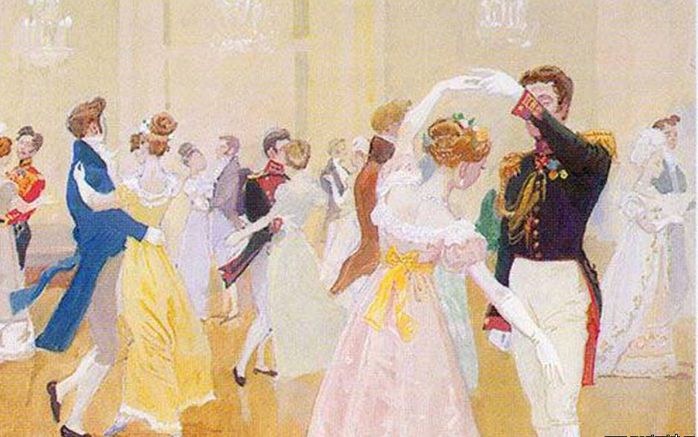
Куда Анна и приехала два года спустя. И где приключилось то самое хрестоматийное «чудное мгновенье» и «мимолетное виденье». Первая встреча их с Пушкиным произошла в доме Олениных в январе 1819 года (ей тогда было 26 лет). В «Евгении Онегине» поэт опишет эту минуту:
Сегодня был я ей представлен.
Глядел на мужа с полчаса.
Он важен, красит волоса
и чином от ума избавлен.
(Керн была 16-летней девушкой отдана за 52-летнего генерала — грубого солдафона, настоящего Скалозуба, которого всю жизнь ненавидела).
Чувство к чужой жене вспыхнуло сразу.

Но Анна тогда не удостоила вниманием поэта, ему не удалось произвести на неё впечатления. После этого целых шесть лет Пушкин и Керн не виделись.
Приезд Анны Петровны в псковскую глушь, где поэт находился в ссылке, явился для Пушкина полной неожиданностью. Страсть вспыхнула в нём с новой силой.

Прасковья Вульф, поняв, что Пушкин влюблён не на шутку — наутро увезла свою племянницу А.Керн от греха подальше в Ригу — к мужу. Но было уже поздно...
Перед отъездом Пушкин вручает Анне свой лирический шедевр «Я помню чудное мгновенье...». Листок бумаги со стихом был вложен в подаренный ей экземпляр главы «Евгения Онегина».

Ох, как же заметался не добившийся своего и брошенный любимой поэт! Как он озлобился («проклятое посещение, проклятый отъезд»), как затосковал («каждую ночь прогуливаюсь у себя по саду; я повторяю себе: она была здесь; камень, о который она споткнулась, лежит у меня на столе…»).

Исправно продолжал наведываться в опустевшее Тригорское, о чем писал в Ригу хозяйке. Писал нарочито церемонно, об Анне Петровне – ни слова.

А затем вдруг стал засыпать письмами Анну Николаевну, в которых была пронзительная тоска по Анне Петровне:
«…Мысль, что я для нее ничто, что, пробудив и заняв мое воображение, я только потешил ее любопытство, что воспоминание обо мне ни на минуту не сделает ее более рассеянной среди ее триумфов, ни более мрачной в дни печали; что ее прекрасные глаза остановятся на каком-нибудь рижском фате с тем же выражением, мучительным и сладострастным – нет, эта мысль для меня нестерпима; скажите ей, что я от этого умру; нет, не говорите ей этого: она будет смеяться над этим, восхитительное создание!»

Затем не удержался и написал самой Анне. Ответ получил не сразу. Вновь написал, потом еще, и при этом нарочно перепутал конверты: весьма откровенное письмо, предназначенное Керн, вложил в конверт, адресованный Прасковье Александровне – в отместку за скоропалительный отъезд из Тригорского. Был страшный скандал, закончившийся разрывом между теткой и племянницей. А Пушкин все писал и писал в Ригу, умоляя Анну Петровну приехать к нему в Михайловское...

Пушкин в конце концов добился расположения Керн, но слишком поздно, когда туман и угар страсти рассеялся и на её месте осталась одна прозаическая похоть. С раздражением к своему былому чувству Пушкин в письме Соболевскому отзывается о «гении чистой красоты» в циничной форме, похабно сообщая о своей победе, а в письме к Алексею Вульфу называет Керн «вавилонской блудницей». Этими неэтичными поступками он поставил в весьма затруднительное положение биографов, не знающих, как оправдать и обелить в данном случае неделикатного гения.
Но судьба подарила им ещё одну встречу — уже после смерти. И снова свела их. Об этом рассказал в своём замечательном стихотворении Павел Антокольский:
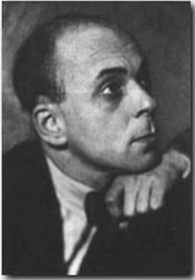
БАЛЛАДА О ЧУДНОМ МГНОВЕНИИ
...Она скончалась в бедности. По странной случайности гроб ее
повстречался с памятником Пушкину, который ввозили в Москву.
из старой энциклопедии
Ей давно не спалось в дому деревянном.
Подходила старуха, как тень, к фортепьянам,
Напевала романс о мгновении чудном
Голоском еле слышным, дыханием трудным.
А по чести сказать, о мгновении чудном
Не осталось грусти в быту ее скудном,
Потому что барыня в глухой деревеньке
Проживала как нищенка, на медные деньги.
Да и, господи боже, когда это было!
Да и вправду ли было, старуха забыла,
Как по лунной дорожке, в сверкании снега
Приезжала к нему - вся томленье и нега.
Как в объятиях жарких, в молчании ночи
Он ее заклинал, целовал её очи,
Как уснул на груди и дышал неровно,
Позабыла голубушка Анна Петровна.
А потом пришел ее час последний.
И всесветная слава, и светские сплетни
Отступили, потупясь, пред мирной кончиной.
Возгласил с волнением сам благочинный:
"Во блаженном успении вечный покой ей!"
Что в сравнении с этим счастье мирское!
Ничего не слыша, спала, бездыханна,
Раскрасавица Керн, боярыня Анна.
Отслужили службу, панихиду отпели.
По Тверскому тракту полозья скрипели.
И брели за гробом, колыхались в поле
Из родни и знакомцев десяток - не боле,
Не сановный люд, не знатные гости,
Поспешали зарыть ее на погосте.
Да лошадка по грудь в сугробе завязла.
Да крещенский мороз крепчал как назло.
Но пришлось процессии той сторониться.
Осадил, придержал правее возница,
Потому что в Москву, по воле народа,
Возвращался путник особого рода.
И горячие кони били оземь копытом,
Звонко ржали о чем-то еще не забытом.
И январское солнце багряным диском
Рассиялось о чем-то навеки близком.
Вот он - отлит на диво из гулкой бронзы,
Шляпу снял, загляделся на день морозный.
Вот в крылатом плаще, в гражданской одежде,
Он стоит, кудрявый и смелый, как прежде.
Только страшно вырос,- прикиньте, смерьте,
Сколько весит на глаз такое бессмертье!
Только страшно юн и страшно спокоен,-
Поглядите, правнуки,- точно такой он!
Так в последний раз они повстречались,
Ничего не помня, ни о чем не печалясь.
Так метель крылом своим безрассудным
Осенила их во мгновении чудном.
Так метель обвенчала нежно и грозно
Смертный прах старухи с бессмертной бронзой,
Двух любовников страстных, отпылавших розно,
Что простились рано, а встретились поздно.
1954




аллея Анны Керн

Продолжение здесь
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/177433.html
|
|
Процитировано 5 раз
Понравилось: 2 пользователям
"И тайна его с ним умерла..." |

Начало здесь.
Сегодня, 10 февраля — 178-ая годовщина со дня гибели Пушкина, величайшего и любимейшего поэта нашей страны.

Убит. Убит. Подумать! Пушкин...
Не может быть! Все может быть...
«Ах, Яковлев, - писал Матюшкин,
Как мог ты это допустить!
Ах, Яковлев, как ты позволил,
Куда глядел ты! Видит бог,
Как мир наш тесный обездолел.
Ах, Яковлев...» А что он мог?
Что мог балтийский ветер ярый,
О юности поющий снег?
Что мог его учитель старый,
Прекраснодушный человек?
Иль некто, видевший воочью
Жену его в ином кругу,
Когда он сам тишайшей ночью
Смял губы: больше не могу...
(Владимир Соколов)
Геккерен первым назвал Пушкина в письме самоубийцей, искавшим смерти. И наша неприязнь к барону не отменяет резонности этого объяснения. Самоубийство стало его протестом, активной защитой, демонстрацией независимости. Это был последний шаг к полной свободе. Пастернак, размышляя о смерти Пушкина, тоже писал, что финал очень похож на самоубийство. Пушкин метил не в Дантеса, не в царя, он метил в самого себя.

В последний год Пушкин решительно искал смерти. Дантес был загнан в угол, он не хотел убивать поэта. Но Пушкин срежиссировал всё так, что под видом благородной дуэли, защищающей честь, Дантес вынужден был выступить в роли киллера.
Поединок был неизбежен. Если бы Пушкин поправился, он снова бы начал эту дуэль.

По дороге с Чёрной речки он сказал: «Я жить не хочу». В постели повторял: «Если Арендт найдёт мою рану серьёзной, смертельной, ты мне скажи. Меня не испугаешь: я жить не хочу». Говорил: «Нет, мне здесь не житьё, я умру, да видно, уж так надо. А скоро ли конец? Пожалуйста, поскорее!» «Кончена жизнь. Жизнь кончена». Он был не жилец.
Не случайно Вяземский писал: «Необузданный, пылкий, беспорядочный, он сделался спокоен, прост и полон достоинства, как скоро добился, чего желал, ибо он желал этого исхода».

Давид Самойлов в своих стихах о Пушкине уловил самую суть:
Он заплатил за нелюбовь Натальи,
всё остальное – мелкие детали:
интриги, письма, весь дворцовый сор.
Здесь не ответ великосветской черни,
а истинное к жизни отвращенье,
и страсть, и ярость, и души разор.

Можно ли было спасти раненого Пушкина?
Восемь лучших врачей Петербурга, включая личного врача царской семьи, пытались сделать это. Даль, который производил вскрытие тела, заявил, что пуля ранила брюшину и вошла в крестец, ранения кишечника не было установлено. Лечили раненого консервативно, ставили ему, и без того потерявшему много крови, пиявки. Вопрос об операции, хотя лапаротомия (вскрытие брюшной полости) даже в России тогда уже делалась, почему-то не возник. Знаменитый хирург (так пишется о нём в энциклопедии Брокгауза) Николай Арендт, который принимал участие в войне с Наполеоном, а значит, не раз имел дело с подобными случаями, сказал только: «Для Пушкина жаль, что он не был убит на месте, потому что мучения его невыразимы».

В 20-е годы утверждалось, что доктор Арендт не лечил Пушкина из политических соображений и дал ему умереть, но что советские врачи спасли бы поэта. Для проверки этого утверждения писатель Андрей Соболь в 1926 году пришёл на Тверской бульвар к памятнику Пушкина с наганом и выстрелил себе в живот.


Через 20 минут его положили на операционный стол в той самой клинике, врачи которой похвалялись своими преимуществами перед Арендтом.
Через три часа после операции Соболь умер, хотя пуля нанесла ему более лёгкие повреждения, чем Пушкину.

На деле и того, и другого писателя спасать надо был не после выстрела, а до: оба оказались психически неуравновешенными.


«Не дай мне бог сойти с ума...»
По мнению американских психиатров, Пушкин, как любая творческая личность, относился к так называемой группе риска. В психоанализе поэт и неврастеник находятся в одной категории.
Приступы тоски с желанием покончить с собой бывали у него с юности. Тоска душила его каждую весну, и брат Лев предупреждал в письме соседку по Михайловскому Прасковью Осипову: «Я ещё более тревожусь за брата. Приближается весна, а это время года располагает его сильней к меланхолии. Признаюсь, что я во многих отношениях опасаюсь его последствий». То есть самоубийства.
Самое раннее признание поэта относится к 1815 году: «Моё завещание друзьям», где впервые появились тревожные строчки: «Поэт решился умереть».
А в черновике в 16-летнем возрасте он писал:
Нет, полно, полно мне терпеть,
дорожный посох мне наскучил,
угрюмый рок меня замучил.
Хочу я завтра умереть.

Двадцати лет от роду он пишет: «Мне мир постыл...»
Таких примеров множество.
«Не дай мне бог сойти с ума...» - писал Пушкин. Одна из версий его гибели заключается как раз в этом: в сумасшествии Пушкина в последние месяцы его жизни. Кто-то из его друзей записывает в это время в дневнике: «Пушкин — сумасшедший». Психиатры находят у него семь из девяти основных признаков тяжёлой депрессии, кроме того определяют у него циклотимию — мягкий вариант маниакально-депрессивного психоза, находят элементы психопатии.
Многим покажется это диким. Как же, Пушкин — сама гармония, свет, радость... Но это не прямой аналог души поэта. Это не весь Пушкин. Так можно думать, зная его лишь по школьным учебникам. Известный исследователь-пушкинист Валентин Непомнящий считал, что Пушкин, особенно в зрелую пору, «катастрофичен и эсхатологичен».

«Кроме тебя, в жизни моей утешения нет»

Несколько лет назад в парижском архиве Дантеса, у его правнука барона Клода нашлись уникальные документы. Это 25 писем Жоржа Дантеса, которые он писал Геккерену в течение двенадцати месяцев, начиная с весны 1835 года. Позже эти письма были опубликованы в книге итальянской исследовательницы жизни и творчества Пушкина Серены Витале «Пуговица Пушкина».

В одном из писем Дантес приводит слова Натали:«Я люблю Вас, как никогда не любила, но не просите большего, чем моё сердце, ибо всё остальное мне не принадлежит, а я могу быть счастлива, только исполняя все свои обязательства. Пощадите же меня, и любите всегда так, как теперь, моя любовь будет Вам наградою».

Скорее всего, Натали открылась мужу и рассказала ему о преследованиях Дантеса только после получения анонимного пасквиля. Призналась, что встречалась с Дантесом у Полетики, что получала и хранила его письма.

В этот день – 4 ноября 1836 года – Пушкин узнал о романе жены, начавшемся ещё осенью прошлого года. Это был для него страшный удар. За два года до этого он писал ей: «Кроме тебя в жизни моей утешения нет». Теперь не оставалось и этого утешения.
Ещё вчера он думал, что у него есть дом, семья. И вот этот дом рухнул. Он не мог с этим примириться. Он не хотел больше жить. Он искал смерти.

Именно это предательство самого близкого человека стало для Пушкина решающим, а бумажка ордена рогоносцев – лишь мелкая деталь в веренице событий. Для души поэта не оставалось ничего, кроме смерти. Он даже, отправляясь на дуэль, не взял свой перстень-талисман, оставил его дома сознательно.
Три дуэльные истории
Существует ещё одна версия гибели Пушкина, которая может показаться дикой на первый взгляд: Пушкин стрелялся на самом деле не из-за Натали, а из-за её сестры Александрины.

(То есть Александрина была поводом, последней каплей, но не истинной причиной свести счёты с жизнью поэта).
Вот на чём эта версия основана.
Как известно, вместе с Натали в дом к Пушкину переехали и две её сестры — Екатерина и Александрина.

Александрина была некрасива, но умна, практична, хозяйственна. Она в основном занималась детьми, так как Натали увлекалась больше балами. Любила и знала стихи Пушкина. Он подружился с нею. И вот Геккерны, а также А. Трубецкой и Полетика — троюродная сестра Натали — стали распускать грязные сплетни, что Пушкин живёт с Александриной. Правда это была или нет — выяснять здесь не будем, не в этом суть. Сплетня докатилась до дома Пушкина, она пятнала честь его семьи, и он вынужден был вызвать Дантеса на дуэль.
Почему Дантеса? А потому что его любила Натали, хоть и сохраняла мужу физическую верность. Это может показаться невероятным, но факты — упрямая вещь.

Существует традиционная версия, что главной и единственной причиной смертельной дуэли было поведение Натали и ревность Пушкина, его стремление отомстить Дантесу. Но факты разрушают привычную схему. Ибо с начала ноября 1836 года до конца января 1837-го прошло три месяца, и за это время произошла не одна, а три дуэльных истории.
В начале ноября 1936-го Пушкин вызывает Дантеса, отстаивая честь жены. Однако Геккерен принял все меры, подключив Жуковского, царя, наконец, наскоро женив Дантеса на Екатерине, чем удалось погасить скандал.

17 ноября Пушкин готовился выйти на поединок, чтобы отомстить за опозоренную Екатерину, соблазнённую Дантесом, но помолвка состоялась и повод для дуэли снова был утрачен.
Но во второй половине января 1837-го Пушкин стал жертвой клеветы, и у него не было иного способа оградить честь Александрины и своей семьи, кроме дуэли. Гибель поэта потрясла общество, и клевета, которая послужила поводом, была мгновенно забыта.

Самая сильная из страстей
«Служенье муз не терпит суеты», - философствовал Пушкин, а на практике следовал как раз обратному. Он всю жизнь рвался к запретным плодам. Его разрядкой были попойки, карты и женщины, колесо ежедневной, еженощной гульбы. Он играет. «Страсть к игре, - говорил он Алексею Вульфу, - есть самая сильная из страстей».

Выигрыши, чаще проигрыши, случайные связи, тяжкие похмелья. Германн в «Пиковой даме» - во многом автобиографический образ.

В черновиках Пушкин начинал писать её от первого лица. Он воодушевил своего героя собственной страстью игрока, своим суеверием. Он столь же настойчиво мечтал разбогатеть за ломберным столом, как Германн в компании игроков.

Если заменить имена в повести, то это окажутся московские и петербургские приятели Пушкина.

Когда поэт проигрывал — всё шло с молотка, будь то стихотворения или часть романа.
Для сравнения: Баратынский раз проигрался и прекратил это занятие, Вяземский в юности просадил полмиллиона и больше не играл. Пушкин остался игроком до конца дней. Ценности и бриллианты жены были им заложены, чтобы расплатиться с карточными долгами. Именно деньги были сутью страсти не только Пушкина, но и Некрасова, и Достоевского.
Пушкин играл азартно, но плохо, рассчитывал на авось, проигрывал шулерам, "шулерскими методами тоже пользовался — очень хотелось выиграть, - вспоминал журналист и мемуарист Ксенофонт Полевой. - Но чаще всего продувался в пух! Жалко было смотреть на этого необыкновенного человека, распалённого грубою и глупою страстью".

Деньги — едва ли не главная тема писем Пушкина. Не рифмы, но суммы обсуждает он со своими корреспондентами, жалуется на нужду, просит у всех, у кого может. Не жена, не дети, не творчество — красная нить писем поэта последних лет, а цифры с нулями.

Он клянётся жене, что бросит карты. Он скрывает от неё свои проигрыши, обманывает: «Денег тебе ещё не посылаю. Принуждён был снарядить в дорогу своих родителей», - врёт он ей, ибо денег родителям и не думал посылать, всё проиграл. Денег нет, а те, что попадают карман, немедленно проигрываются. И опять он в долгах, как в репьях.

Ах, как хочется после многолетнего тщательного изучения всего, что связано с Пушкиным, вернуться к его школьному, чистому, хрестоматийно-выглаженному, облизанному поколениями пушкинистов образу! Чтобы не знать той стороны жизни, которая засасывала его в болото. Но как закрыть глаза, как уничтожить факты, свидетельства, накопленные десятилетиями? И остаётся одно: писать, как было на самом деле. Чепуха это всё, что поэзия отдельно, а биография - отдельно. У писателя жизнь и то, что пишется — одно.
Любовь по методичке
Помните этот диалог?
- Вы любите Пушкина? - спросила Сергея Довлатова дама из методического центра.

- Люблю. (Так, думаю, и разлюбить недолго).
- А можно спросить, за что?
- Любить публично — скотство! - заорал я.
- Пушкин — наша гордость! - выговорила она. - Это не только великий поэт, но и великий гражданин... Ознакомьтесь с методичкой.

Нет, только не это. Только не любовь по методичке, постижение творца с парадного хода, заставленного венками и бюстами. Только не каноническое поклонение «великому гражданину». Пусть все любят Пушкина как хотят и как могут. Или не любят. Тоже для Пушкина беда небольшая. «Поэт, не дорожи любовию народной».

Больше, чем какой-либо другой русский писатель, Пушкин у нас обожествлён. Этому можно было бы только радоваться, если бы обожествление не исключало отношение к поэту как к живому явлению. Всё будто в нём одинаково прекрасно, никаких пятен на солнце нет. Побуждения за этим самые лучшие, но в результате Пушкин становится подобен существу заоблачному — и забывается, что он дорог нам именно своей человечностью, своей живой и сложной непосредственностью, не допускающей всегда одинакового, академически-бесстрастного отношения.
Сквозь магический кристалл
«Без биографии Пушкина, как без ключа, нельзя проникнуть в таинство самой поэзии», - заметил как-то один из ближайших друзей поэта П. А. Плетнёв. Но справедливо и обратное: лирика Пушкина раскрывает множество тайн его жизни. Каждое произведение поэта при всём обилии его поэтических смыслов, при всей поэтической отвлечённости от фактов реальной жизни, неизменно содержит некий глубинный автобиографический пласт. Докопаться до него чрезвычайно трудно. Вероятность ошибочных интерпретаций здесь очень велика. И тем не менее: творчество самого поэта — во многом пока ещё не оцененный, но богатейший лирический дневник его жизни.
Например, в «Скупом рыцаре» - отзвуки собственных столкновений с отцом, в его глазах скуповатым, несколько истеричным человеком.

В «Моцарте и Сальери» - тонко завуалированная параллель отношения к нему Жуковского. Вернее, того, как Пушкин видел это отношение на рубеже 30-х годов (эта трагедия первоначально называлась «Зависть»).

Непонятные и непреодолимые силы, которые вдруг встали между ним и его невестой — основа трагедии «Пир во время чумы» - те силы, которые заставляли его воспринимать собственную жизнь как хрупкое равновесие «бездны на краю», как кратковременный пир, который может в любую минуту взорвать немилость, ссылка, разлука с любимой, измена, коварство, смерть.

Есенин говорил в своей автобиографии: «Что же касается остальных автобиографических сведений, они — в моих стихах». Этот же принцип применим и к лирике Пушкина. Это тот «магический кристалл», сквозь который мы можем созерцать жизнь поэта, и который позволит нам представить его не монументом с площади, а живым человеком. Образ гения не может поблёкнуть от слова правды.

Почему Пушкин только наше всё?
Вспоминается замечательное стихотворение А. Городницкого:
Почему лишь Пушкин — наше всё,
Не Толстой, не Лермонтов, не Гоголь,
Почему лишь он — наместник Бога,
Только он нам грудь мечом рассёк?
Почему лишь Пушкин — наша боль,
А не Достоевский и Тургенев?
Почему лишь он, курчавый гений,
Занимает вечно эту роль?
Властью и женою нелюбим,
Свой покой нашедший лишь в могиле.
Потому мы так о нём скорбим,
Будто бы вчера его убили?
Не с того ли, что вокруг враги,
Что, как он, и наше поколенье
Не успеет выплатить долги
И не отомстит за оскорбленье?
И опять потеря тяжела,
И опять нам утешаться нечем
В час, когда десятого числа
В феврале мы зажигаем свечи.

Зная о Пушкине очень многое, мы не знаем главного: почему мы все им так больны? Чем он так действует на нас? Что это за феномен? Как случилось, что он изменил всю нашу культурную историю и наполнил её собой?
Откуда у него над нами власть? В чём оправдание этой власти?

Это происходит с нами в детстве... Вот как волшебно вспоминает о своей первой встрече с поэтом Белла Ахмадулина:

«... в темноте эвакуации, в чужом дому, бормочут над моим полусном большие бабушкины губы... Слух помнит порядок звуков в них, но только тогда, внезапно я узнаю в звуках слова, а в словах — предметы мира, уже ведомые мне. «Буря мглою небо кроет...» И вдруг такая беспросветная тоска, такая боль неуюта и одиночества... беспечного сознания защищённости и в помине нет, а бабушка, которой прежде всегда доставало для блаженства, - что она может поделать с великой непогодой над миром?»

Наша любовь к Пушкину — одна из черт нашего национального характера. Мы чуть ли не рождаемся на свет божий уже с этой любовью, непонятной для иностранца. Она в наших генах, в нашей крови.
Другие поэты, предшественники Пушкина — Батюшков, Жуковский, Державин или даже его современники — Тютчев, Баратынский, кажутся нам по сравнению с ним принадлежащими далёкому прошлому. В то время как Пушкин — современник. Он говорит на другом языке, чем они, он близок и понятен, он входит в нашу жизнь с детства и остаётся в ней навсегда.

«Любить иных — тяжёлый крест». Бывает любовь трудная, мучительная, больная, тёмная. Любить Пушкина легко и сладостно. Он светлый, солнечный, гармоничный.
Тургенев когда-то предлагал испытанный рецепт от головной боли — прочесть вслух десять стихотворений Пушкина.
В Пушкине не было ни тени напыщенной ходульности, как в современных ему западных романтиках, не было заносчивости Байрона, позёрства Шатобриана. В жизни, как и в поэзии, Пушкин оставался искренним, насквозь правдивым. Это основное свойство его характера, его творчества.

На Западе нашего восхищения Пушкиным не разделяют. Если Шекспир, Мольер, Гёте — достояние всемирной культуры, то Пушкин, являясь «нашим всем», для человечества таковым вовсе не является. Когда иностранцы слышат наши восторги, они спокойно уточняют: «Это какой Пушкин? Либреттист?» Потому что он непереводим. Успешно перевести Пушкина на чужой язык возможно, лишь сделавшись вторым Пушкиным.

«Я к Вам пишу, чего же боле, что я могу ещё...» Что это? Да ничего. Как перевести «Я помню чудное мгновенье»? - Я помню момент, когда мы с тобой встретились, и это было, допустим, как мираж. Ну что тут такого он сказал? А в нас ведь всё отзывается на эту мелодику. Достаточно ритма онегинской строфы, чтоб напряглись все струны и появилось ощущение непереносимой лёгкости...
Невыносимая лёгкость бытия
Есть такой американский фильм с названием: «Невыносимая лёгкость бытия» (по роману Милана Кундеры). В этих словах — суть пушкинской поэзии.
Его эпитеты не изысканны, они естественны, как природа, и он их так непринуждённо и беспечно роняет, как дерево листву, находит слова и рифмы, очаровательные в своей наивности, создающие впечатление какой-то первобытной простоты.

В синем небе звёзды блещут,
в синем море волны хлещут.
Что-то необыкновенно милое и детское слышится в этих строчках:
Отвечает ветер буйный:
там, за речкой тихоструйной,
есть высокая гора,
в ней глубокая нора.
Или:
Ветер, ветер, ты могуч,
ты гоняешь стаи туч,
ты волнуешь сине море,
всюду веешь на просторе,
не боишься ничего,
кроме Бога одного.
Само естество, ничего лишнего, вычурного, строгая чистота линий. У Пушкина не чувствуешь тяжести слова, оно прозрачно. В ранг художества он возводил всё естественное, обыкновенное, в то время как многие поэты, уходя от внешней реальности, украшают её, идеализируют, не видя красоты в самих буднях жизни.
Мороз и солнце, день чудесный...
Прощай, свободная стихия...

Эти слова — как выдох. Лёгкость — вот самое первое чувство, которое мы выносим из чтения Пушкина. Кажется, что стихи эти не стоят ему никаких усилий, что они выливались у него сами собою.
До Пушкина почти не было лёгких стихов. Ну, Батюшков, ну, Жуковский. И то спотыкаемся. И вдруг — откуда ни возьмись, «летит, как пух от уст Эола» - эту характеристику танцевального искусства Истоминой можно было бы отнести и к его стихам.
«Небрежный», «резвый» - его любимые эпитеты в ту пору характеризуют манеру его творчества.

Лёгкость в отношении к жизни была основой миросозерцания. Непременный участник пирушек, застолий, балов, постоянный посетитель притонов, борделей, кабаков. Он ложится под утро, отсыпается, потом пишет, не вылезая из-под одеяла. Кажется, он единственный российский писатель, собрание сочинений которого создано в постели. «Счастливой лени верный сын», - назвал он себя.

В то время как другие пииты, следуя высокой традиции, влезали на пьедестал, мысленно облачаясь в мундир или тогу, Пушкин, не долго думая, заваливался на кровать, и там, «среди приятного забвенья, склонясь в подушку головой», «немного сонною рукой» - набрасывал что-то, не стоящее внимания и не требующее труда.
В таком ленивом положенье
стихи текут и так, и сяк.
Так вырабатывалась манера, поражающая раскованностью мысли и языка, так начиналась свобода слова, неслыханная ещё в нашей словесности.
Пушкин начал не со стихов — со стишков. Он не чурался стихотворных тостов, любовных записочек, его поэзия разменивалась на мелочи и расходилась по дешёвке в дружеском кругу — в альбомы, в остроты.
Вот он бросает фразу, которая в первую минуту шокирует: «Отечество почти я ненавидел...» Но — читаем следом:
Но я вчера Голицину увидел
и — примирён с отечеством моим.
Пушкин был щедр на безделки. Жанр поэтического пустяка привлекал его с малолетства. Он сохранил за собой репутацию лентяя, ветреника и повесы, незнакомого с муками творчества.
Не думай, цензор мой угрюмый,
что я беснуюсь по ночам,
объятый стихотворной думой,
что ленью жертвую стихам...
Ну кто ещё этаким дуриком входил в литературу? -
Сначала я играл, шутя стихи марал,
а там — переписал, а там — и напечатал.
И что же — рад — не рад, но вот уже я брат
тому, сему, другому... что делать? Виноват!

Эта обманчивая лёгкость, наверное, вдохновила Окуджаву на стихотворение «Счастливчик Пушкин»:
У него ремесло первый сорт,
и перо остро.
Он губаст и учён как чёрт,
и всё ему просто...
Он ушёл бумагу марать
под треск свечки.
Ему было за что умирать
у Чёрной речки.
Эта мнимая лёгкость не могла обмануть Анну Ахматову:
Кто знает, что такое слава?
Какой ценой купил он право,
возможность или благодать
шутить, таинственно молчать
и ногу ножкой называть?

Не могла обмануть эта лёгкость ни Цветаеву, ни Ахмадулину. Настоящего поэта не обманешь. Он нутром чует, чего это всё стоит.
Б. Ахмадулина «Из дневника»:
«Где она, эта блаженная трель, полечка в гортани, пушкинская лёгкость: «Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса и воспомнил Ваши взоры, Ваши синие глаза». Я всегда с ума сходила от зависти к этим Ижорам и особенно к слову «воспомнил» - ах, какое счастье, наглость голого ребёнка, какое нетрудное — пожалуйста, сколько угодно! - великое тра-ля-ля голоса. (Знаю я это тра-ля-ля, когда — не правда ли, Марина Ивановна, - африканская загнанность в угол, затыканность пальцами и смерть от раны в низ живота входят в пустяковый труд песенки)».

Бердяев называл Пушкина «ренессансным человеком». Он пел для забавы, без дальних умыслов, но в результате возникает глубина и серьёзность. А лёгкость переходит в ангельское парение.

В 30-е годы Пушкин уходит всё дальше от своих иллюзий 20-х годов. Уходит он и от современников, переставших его понимать, подаривших своё сочувствие пошлому Бенедиктову и высокопарному Кукольнику.

В.Г. Бенедиктов

Н.В. Кукольник. худ. К.Брюллов
Пушкин уже казался им легкомысленным, неглубоким.
Ю. Айхенвальд высказал такую мысль, которая кому-то, может, покажется крамольной и шокирующей: «Свободный духом, царственно-беспечный Пушкин как художник не обнаружил и следа интеллектуализма. Он поэт «глуповатой поэзии». Не наитие умственных откровений создавали его силу, а непосредственная интуиция, вдохновенное постижение прекрасной сущности предметов — догадка красоты».
Он жил, шутя и играя, и, когда умер, заигравшись чересчур далеко, Баратынский, вместе с другими комиссарами разбиравший бумаги покойного, среди которых, например, затесался «Медный всадник», восклицал в письмах жене: «Можешь ты себе представить, что меня больше всего изумляет во всех этих поэмах? Обилие мыслей. Пушкин — мыслитель! Можно ли было этого ожидать?!»

Да, мыслитель.

И даже академик.

В 1833 году Российская академия избрала его своим действительным членом. Когда Пушкин уезжал из Михайловского, за ним везли 12 возов книг. И когда Николай I в изумлении отозвался о первой встрече с поэтом: «Я разговаривал с умнейшим мужем России», - он был абсолютно прав.
«За морем житьё не худо»
«Давно, усталый раб, замыслил я побег...» Свой побег Пушкин замышлял не только в деревню, но и гораздо дальше. Как отметил погибший в сталинских лагерях пушкинист Пётр Губер, у поэта было пламенное желание — побывать за границей. Его держали против воли. И тогда он начинает искать возможность покинуть Россию тайно. Так, летом 1821 года он с этой целью отправился с цыганским табором до Измаила (подробности этой экскурсии знали только близкие друзья).

Позже Пушкин описал это в черновом варианте поэмы «Цыганы», где повествование поначалу велось от первого лица.
За их ленивыми толпами
я пустынях часто я бродил.
Простую пищу их делил
и засыпал пред их огнями.
В походах медленных любил
их песен радостные гулы -
и долго милой Мариулы
я имя нежное твердил.

В 1825 году Пушкину удалось договориться с врачом в Пскове (то ли разыграв тяжёлого больного, то ли щедро заплатив ему), что у него смертельная болезнь — аневризма ноги, якобы нужна срочная операция, которую здесь сделать невозможно и нужно для этого ехать в Ригу, откуда поэт хотел бежать через Балтийское море на Запад. А перед этим он подаёт прошение Николаю I-му:
«Здоровье моё, расстроенное в первой молодости, и род аневризма давно уже требуют постоянного лечения, в чём и представляю свидетельство медиков: осмеливаюсь всеподданейше просить позволения ехать для сего в Москву или в Петербург, или в чужие края».
Пушкин просил отпустить его для постоянного лечения. Поэт верил, что на этот раз его отпустят. В мыслях он уже был там, в «чужих краях», и писал в это время Вяземскому:

«Когда воображаю Лондон, чугунные мосты, паровые корабли, английские журналы или парижские театры и бордели — то моё глухое Михайловское наводит на меня тоску и бешенство».

Лондон 19 века
И в другом письме: «Ты, который не на привязи, как можешь ты оставаться в России? Если царь даст мне свободу, то я месяца не останусь».
При его страсти к новым впечатлениям, любви к путешествиям, ему надо было потрогать, ощутить Европу.

С периодической настойчивостью в течение десяти лет Пушкин рвался за пределы империи. И в «Путешествии в Азрум» он размышляет о несбывшейся мечте вырваться за пределы России. В стихотворении «Из Пиндемонте» - высказывает свои мечты о свободе передвижения:
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Трепеща радостно в восторгах умиленья.
Вот счастье! вот права...

Но увы, в этом ему было отказано...
Однако за несколько дней до дуэли Пушкин был в гостях у одной княгини, и там за столом зашёл разговор об Америке как о стране новых возможностей. И поэт сказал: «Мне мешает восхищаться этой страной, которой теперь принято очаровываться, то, что там слишком забывают, что человек жив не единым хлебом». Эта фраза говорит о том, что он нигде не смог бы жить, кроме России, где «чёрт догадал» его «родиться с душой и талантом».
Пушкин — не борец с царским самодержавием, он лишь «поклонник правды и свободы», как сам назовёт себя позже. Но и в такой роли ему нет места. Он жалуется Дельвигу:

Бывало, что ни напишу,
всё для иных не Русью пахнет.
То есть то, что он пишет — якобы прозападного толка и здесь не нравится. (Позже, в советские «железнозанавесные» времена пушкинская строка «за морем житьё не худо» была запрещена цензурой).
Достоевский называл Пушкина главным славянофилом России. Но можно было бы, наверное, назвать его и «главным западником». Вспомним, что прозвище Пушкина-лицеиста было «Француз».

Самую суть Пушкина Достоевский определил как способность к преодолению национальной ограниченности, своеобразный художественный интернационализм, названный им «всемирной отзывчивостью». В пушкинской поэзии мы можем ощутить дух ислама («Подражание Корану»), почувствовать особенности европейского средневековья («Скупой рыцарь»), погрузиться в атмосферу итало-испанского Возрождения («Каменный гость»). Пушкин умеет выразить идеальные начала чужой нации, воплотить гений, дух чужого народа.

Продолжение здесь
Литература:
1. Сирена Витале «Пуговица Пушкина». Янтарный сказ, Калиниград, 2001.
2. Р. Г. Скрынников «Пушкин. Тайна гибели». Санкт-Петербург, изд. Дом «Нева», 2004.
3. А. Тыркова-Вильямс «Пушкин». ЖЗЛ, М., Молодая Гвардия, 2002. В двух томах.
4. А. Александров «Пушкин. Частная жизнь». М., Захаров, 2003.
5. Ю. Дружников «Узник России». М., «Голос-Пресс», 2003.
6. Ю. Тынянов «Пушкин». Саратов, Приволжское изд., 1988.
7. Последний год жизни Пушкина. Переписка. Воспоминания. Дневники. М., «Правда», 1990 (под ред. В. В. Кунина).
8. В. М. Фридкин «Гибель А.С. Пушкина». М., Знамя, 1999.
9. Л. Гроссман «Дантес и Гончарова». М., Алгоритм, 2007.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/176967.html
|
|
Процитировано 4 раз
Понравилось: 3 пользователям
На смерть поэта (о Татьяне Бек). Окончание. |

Начало здесь
«Я не вашего поля ягода»
И ещё что поражает в её стихах - полное отсутствие нарциссизма. Она считала себя некрасивой, чуть ли не уродом. И не стыдилась открыто писать об этом. Но как сквозь эти строчки об угловатом «гадком утёнке» пробивается лебединая красота чистоты, искренности, правды!
***
В темном детстве, от старших в сторонке,
Я читала, светлея лицом,
Эту сказку о гадком утенке
С торжествующе-лживым концом.
Я считала, что я некрасива...
Только лучше сказать - неточна:
Ведь прекрасна и грубая грива,
Если выразит лёт скакуна!
Ненавижу свою оболочку!
Понимаю, что, как ни смотри,
Видно черную зимнюю почку,
А не слабую зелень внутри.
Автопортрет
Не мстительница, не владычица,
Не хищница - но кто же, кто же я
- Осина, что листвою тычется
В жестокий холод бездорожия.
(...Прошла эпоха в клубах гибели,
Промчались облака ли, кони ли...
Ну погостили, чашу выпили
И - ровно ничего не поняли!)
Черты свои, - но складки папины:
Мое лицо, почти увечное,
Где стали детские царапины
Морщинами - на веки вечные.

«Ну, может, сама она так и думала, — справедливо заметила в недавнем письме поэт Марина Бородицкая, — и, конечно, поклонники Барби так подумали бы, но вообще-то она была очень красивая. Что-то цветаевское в ней было, и вместе ахматовское. И, между прочим, мужчины Таней очень даже интересовались!»
Стихотворение Т. Бек, посвящённое М. Цветаевой, где она рисует её портрет, во многом можно было бы отнести к ней самой:
Эта женщина с круглыми бусами,
С волосами прямыми и русыми --
Воплощенная правда, душа.
Надо быть пошляками и трусами,
Чтобы вымолвить: "Нехороша!"
О, толпа разодетая, важная,
Жадно жрущая на серебре, --
Не по вкусу тебе эта страшная
Ворожба? Или нет -- рукопашная,
Где точны, как удары, тире...

Как-то её спросили:
- Как выглядит Ваша Муза?
Она ответила:
- Моя Муза — это сильная женщина в мужском пальто. Опять-таки лучше всего сказать стихами:
То ли сполох огня, то ли радуга,
то ли муза в мужском пальто.
Я не вашего поля ягода.
Я не ягода. Я не то...
Тем не менее, стихи Татьяны Бек свидетельствуют, что мысль о собственном изгойстве ранила её постоянно.
***
Главных дел - неисполненный список.
И сутулится жизнь, как швея.
Хоровод напомаженных кисок,
Не приманивай, я не твоя!
Мне ходить в одиночку по краю,
Разрезая фонариком ночь.
А когда я в работу ныряю
С головою - спасателей прочь.
Да, согласна: тяжёлые глуби
Не для ласково скроенных глаз.
Но, стихию толкущая в ступе,
Я порою счастливее вас.

Ну кто ещё из поэтов так писал о креативном заряде изгойства, о силе слабости, о мощи немощи?
***
Я буду старой, буду белой,
Глухой, нелепой, неумелой,
Дающей лишние советы,
Ну, словом, брошка и штиблеты.
А все-таки я буду сильной!
Глухой к обидам и двужильной.
Не на трибуне тары-бары,
А на бумаге мемуары.
Да! Независимо от моды
Я воссоздам вот эти годы
Безжалостно, сердечно, сухо...
Я буду честная старуха.
Не стала. Не успела. Именно потому, что была слишком честной...

В её стихах сразу бросаются в глаза те же прямота, мощная энергия, порядочность, ироничность, что и в поведении поэта. Татьяне Бек удалось полностью воплотиться в слове. Поэтому ее поэзия так естественна. Подлинность дара — с редчайшей чистоты оттенком, — пронзительная подлинность.
Она была драматична, а это работало вопреки охватившей сейчас поэзию холодности, изобретательной поверхностности и ненатуральности.
И ещё, что характерно для её лирики — она писала не о бросающейся в глаза красоте окружающей жизни, а о том неказистом, бросовом, мимо чего все, а в особенности поэты, обычно брезгливо проходят мимо, не замечая. Она не отстранялась в снобистской уверенности от мелочей, увлекала восторгом и горем, — трепетом счастья и подспудной дрожью трагедии, которой пронизано всё в мире. Это потрясающее, безошибочное свойство описывать то, чем другие пренебрегли:
Вечно манили меня задворки
и позабытые богом свалки.
Не каравай, а сухие корки.
Не журавли, а дрянные галки.
Улицы те, которые кривы,
рощицы те, которые редки,
лица, которые некрасивы,
и – колченогие табуретки.
Я красотой наделю пристрастно
всякие несовершенства эти...
То, что наверняка прекрасно,
и без меня проживёт на свете!

Подобно Цветаевой, писавшей: «Не люблю залюбленных людей и залюбленные города», Татьяна Бек говорила: «Я тоже. Я всегда любила задворки городов и людей-изгоев».
Её стихи - о людях, судьбах и чувствах, которые существуют «в мире подлинном и злом». Этот мир «непогож и неудобен. //Не обойти его колдобин, //а ежели и обойдёшь//, то это смерть, поскольку – ложь». Её стихи честны и точны. Они вряд ли потрафят литературным «Аркадиям» и «Агашкам».
Поэзия Татьяны Бек — это воплощение того странного, необъятного, непостижимого и простого мира, в котором «...жизнь, конечная, как страсть,// И бескрайняя, как жалость».
Из мемуаров Евгения Степанова «Бек с препятствиями»:

«За три дня до своей смерти она позвонила мне домой и сказала:
— Как, ты не знаешь, чтó произошло?!
И начала рассказывать о письме ряда писателей в адрес Туркменбаши с предложением перевести на русский язык его стихи… О диких, грубых выкриках поэта Х. в ее адрес и в адрес Н. Б. Ивановой, о том, что присутствующий при этом критик Ч. никак не одернул поэта, о постоянных звонках домой с оскорблениями и даже угрозами…
Она на секунду замолчала. И горько сказала:
— Ты знаешь, мне кажется, теперь я не смогу преподавать в Литературном институте. Морально не смогу.

В финале беседы она спросила:
— Скажи мне, я выживу?

В последнее время она всегда спрашивала меня: “Я выживу или нет? Что будет со мной?” Теперь я понимаю, что до конца не отдавал себе отчета в серьезности постановки вопроса.
В тот день (накануне ее трагической смерти) я, как мог, ее успокаивал. Внушал ей, что нельзя реагировать на озлобленных и полусумасшедших людей!


Договорились, что она будет брать трубку только через автоответчик.
На следующий день я уехал по делам в Чебоксары. Уехал все-таки спокойный. Мне показалось, что она вошла в норму. Она обещала мне, что будет брать телефонную трубку только через автоответчик и оградит себя от ненужных контактов.
В поезде у меня прихватило сердце. Такого не случалось давно. Подошел к проводнику за лекарствами — у него их не нашлось.
В это время, оказывается, она умирала. Но я этого не знал.
Иногда мне кажется: то, что я сейчас пишу, бессмысленно — она (самый лучший в мире читатель) не прочтет. Какое-то оцепенение.

Как истинный поэт она предвидела свою судьбу, свою скорую кончину. Она всё сказала, что хотела сказать.
Невозможно без содрогания читать, например, такое стихотворение:
* * *
Я с руки накормлю котенка,
И цветы полью из ведра,
И услышу удары гонга…
До свидания. Мне пора.
Разучилась писать по-русски
И соленым словцом блистать:
Рыбы, водоросли, моллюски —
Собеседники мне под стать.
Нахлобучу верблюжий капор,
Опрокину хмельной стакан.
— До свидания, Божий табор.
Я была из твоих цыган.
И уже по дороге к Лете
Ветер северный обниму
(Слепоглухонемые дети
Так — играючи — любят тьму).
— Сколь нарядны твои отрепья,
Как светло фонари зажглись,
Как привольно текут деревья,
Наводняя собою высь!
Звуков мало, и знаков мало.
Стихотворная строчка спит.
Я истаяла. Я устала.
До свидания, алфавит.

Она, конечно, очень сильно, смертельно устала, поскольку была поэтом, т. е. человеком без кожи. И Господь взял ее к себе. Она сейчас в надежных руках.
У меня сохранилась такая мистическая записка от Татьяны Александровны:
«Женя! Жди — я сейчас! Т. Б. 28.3.90»
Сейчас 2006 год. Я жду. До сих пор не верю, что она не вернется».
Ещё несколько фотографий
на вечере памяти Юрия Коваля
Татьяна Бек и Дмитрий Сухарев
Евгений Рейн, Татьяна Бек, Юрий Норштейн
Татьяна Бек читает свои стихи:
А стыдно им действительно не стало. Вот ответ Игоря Шкляревского на многочисленные обвинения в прессе:

«Повеселился я от души! Ведь это же не я, а наша обличительница написала: "Ваши дети от случайных браков, / из коммунистических бараков, / из двухсотых и трехсотых блоков / не полюбят Пушкина и Блока". И не вчера, а в 1965 году... А если это я - не надо мне устанавливать запреты вместо того, чтобы легко и весело любить литературу!»
Им не стыдно. Им весело.
И в заключение - ещё одна цитата:
"Отец Тани сказал однажды о непорядочном поступке знакомого: «Много не заработает, а некролог испортит». Таня некролог не испортила, но мы тоже должны кое-что сделать, чтоб свои некрологи не испортить.
Во-первых, нужно назвать все своими словами: Таня погибла «за вашу и нашу свободу» (как написала Наташа Горбаневская, выйдя в 68-м на Красную площадь — тогда она протестовала против ввода наших войск в Чехословакию).
Во-вторых, нужно хотя бы мемориальную доску открыть. И цветы туда носить.
Как писал Георгий Иванов: поэтами часто рождаются, но редко кто умрет поэтом… Ну вот — Таня умерла так, борясь за свободу… Но какая боль нам всем от этого!"
Нина Горланова "Татьяна Бек", «Дети Ра» 2007, №9-10
Татьяна Бек похоронена на Головинском кладбище в Москве.
Мне кажется, я слышу её голос:
Вот и кончена, вот и погашена
жизнь. Ну нет, всё равно — бессмертная!

***
Слагаю стих,
Который тих,
Но внутренне вполне железен, -
В надежде, что для остальных
Он может быть небесполезен.
Иначе как?
Иначе мрак.
И - срам навязываться музам!
...Я думать ухожу в овраг
С неразрешимым этим грузом.
Под стать лучу
Согреть хочу
Слова, которые устали...
Как в старину просили: «Чу...
Прислушайтесь...»
- Я вам нужна ли?
О да! Очень нужна. Очень.
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/176806.html
|
|
Процитировано 1 раз
Понравилось: 4 пользователям
На смерть поэта (о Татьяне Бек). Продолжение. |

Начало здесь
«Простой ужас простой жизни»
Татьяна Александровна Бек родилась 21 апреля 1949 года в Москве в семье писателя Александра Бека.


В этом шумном доме, кооперативе "Московский писатель" по адресу 2-я Аэропортовская дом 7/15 (позднее ул. Черняховского 4), в пятом подъезде, она жила с 1957 года до середины 80-х годов.


Я из этого шумного дома,
Где весь день голоса не смолкают,
Где отчаянных глаз не смыкают
И смеются усталые люди,
И не могут друг друга понять,
Я на лыжах, на лыжах, на лыжах,
На растресканных, старых и рыжих,
Убегу по лыжне незнакомой,
По прозрачной, апрельской лыжне.
Дует ветер, как мальчик, грубый.
Крепко-крепко сжимаю губы,
Я быстрее еще могу!
По-разбойничьи свищут лыжи,
Мальчик-ветер лицо мне лижет,
А лицо мое - в талом снегу.
До чего же тут все по-другому,
Тут сама я честнее и проще,
Тут взрослее я и сложней.
Мне как фильтры - белые рощи!
...Я из этого шумного дома
Убегу по лыжне незнакомой,
По прозрачной апрельской лыжне.

По времени вхождения в литературу Бек — семидесятница, но она чувствовала себя ближе со старшими, чем со сверстниками, поэтически важнейшие для нее связи уходили поверх 60-х — в предшествующую эпоху.
Оттуда и ее ощущение жизни — из послевоенного, позднесталинского, послесталинского детства.
Строились разрухи возле.
Вечный лязг, и треск, и гром.
Даже летом ноги мерзли
В помещении сыром,
Тесном и полуподвальном,
Где обоев цвет несвеж…
В этом братстве коммунальном
Мы росли эпох промеж.

Первая крупная публикация – журнал «Новый мир» (1966). Окончила факультет журналистики МГУ. Первый поэтический сборник вышел в 1974 году. Критики тепло встречали ее стихи, но относили их к разряду женской поэзии.
В 70-е годы Татьяна Бек работала библиотекарем во Всесоюзной Государственной библиотеке иностранной литературы.
В 1972-ом окончила факультет журналистики МГУ. В 1974 году вышел ее первый поэтический сборник «Скворешники».
Работала обозревателем в журнале «Вопросы литературы», вела поэтическую колонку в «Общей газете», занималась литературой «серебряного века».
В Литературном институте вела поэтический семинар.

«Стихосложенье было и остаётся для меня доморощенным знахарским способом самоврачеванья: я выговаривалась… и лишь таким образом душевно выживала», - признавалась она.
Менялся нрав, ломался голос.
Не помню лета - помню стужу.
Какой-то стыд, какой-то тормоз
Мешал мне вырваться наружу.
Мой внешний мир с одной читальней,
Троллейбусом и телефоном
Завидовал дороге дальней,
Лесам глухим, морям бездонным!
Не знала я, что суть не в этом,
Что дух, невысказанный, пленный,
И был бескрайним белым светом,
Огромной маленькой вселенной.

Она не боялась говорить естественно и просто, не придумывала ни свои стихи, ни себя в них.
Сядь в электричку и выйди в тамбур,
И задохнешься, как в первый раз
(Больно - поэтому без метафор):
Просто осина и просто вяз.
Развивая классическую традицию русского стиха, Татьяна Бек дерзновенно взрывала поэтическое слово изнутри — силой характера, неординарностью взгляда и самооценки, уникальностью судьбы.
Поразмысли над этим, историк!
...Вижу, как на ветру холостом
Снова рушится карточный домик,
А когда-то - Незыблемый Дом.
Неужели святыню -- на свалку?
Неужели не вечен оплот?
...Пенелопа забросила прялку:
С женихами хохочет и пьёт.
А ведь было: воскресные шляпы!
Наведя неказистый уют,
Наши бедные мамы и папы
Облаками попарно бредут...

В одном из стихотворений Т. Бек скажет:
Я счастливая! Мне повезло
быть широким и смешанным лесом.
Здесь имеется в виду множество национальностей, которые были перемешаны в крови её предков. Отец был обрусевший датчанин, мать — наполовину русская, наполовину белоруска, дед по отцу — еврей. Татьяна считала, что её необузданный характер объяснялся именно такой смесью кровей: «Иногда бывают порывы, перемены настроения, безумства. Четыре четверти пошли друг на друга в бой!» - говорю я в таких случаях».

Как справедливо заметила критик Алла Марченко, - "Татьяне Бек единственной из всех нас удается почти невозможное - от себя за всех спеть то, что не ложится на голос: простой ужас простой жизни... И при этом - сохранить и речь, и голос, и слово, и походку стиха".
***
Умирающий бесповоротно,
Он надел на пижаму медаль...
И раскрыты глаза, как полотна,
На которых - последняя даль.
Не помогут ни Бог, ни аптека,
Ни домашняя грелка со льдом.
У него, у ровесника века,
За плечами - не сад, а содом.
Все равно! Доставайте медали -
На комоде, в большом стакане.
Мы же верили, мы воевали.
Мы летали на красном коне.
И, в матрас упираясь локтями,
Он восстанет и крикнет с одра:
- Не подумайте, люди! Я с вами.
Я еще доживу до утра.
Она умела бесстрастно и безжалостно воссоздать эпоху. Стиль — графичный, сдержанный, без вычурных метафор. Но их видимая лаконичность скрывает бездну глубины чувств и эмоций, читаемых между строк.

***
«Вы зайцы. Оплатите штраф!»
Плывёт корабль под новым стягом.
Лицо, упрятанное в шарф,
и ночь, охваченная страхом.
Узорчатая, как змея,
и смертоносная, и злая,
ты ль это родина моя,
где в люльке крашеной росла я?
Нет, это попросту мираж:
он не навеки, не надолго.
В стране порош, в стране параш
я потеряюсь, как иголка.
Но и разбитая дотла,
проговорю из-под завала,
что здесь я счастлива была,
бродяжила и целовала,
и вышивала по канве,
и враждовала под конвоем.
И родина — в снегу ль, в траве -
меня оплачет волчьим воем.

***
И эта старуха, беззубо жующая хлеб,
И этот мальчонка, над паром снимающий марки,
И этот историк, который в архиве ослеп,
И этот громила в объятиях пьяной товарки,
И вся эта злая, родная, горячая тьма
Пронизана светом, которого нету сильнее.
...Я в детстве над контурной картой сходила с ума:
(На Северный полюс бы! В Африку! За Пиренеи...)
А самая дальняя, самая тайная соль
Была под рукой, растворяясь в мужающей речи.
(...И эта вдова - без могилы, где выплакать боль,
И этот убийца в еще сохранившемся френче...)
Порою покажется: это не век, а тупик.
Порою помнится: мы все - тупиковая ветка.
Но как это пошло: трудиться над сбором улик,
Живую беду отмечая лениво и редко!
Нет. Даже громила, что знать не желает старух,
И та же старуха, дубленая криком: С вещами!
И снег этот страшный, и зелень, и ливень, и пух -
Я вас не оставлю. Поскольку мне вас завещали.

На протяжении долгого времени она была членом российского Пен-клуба, доцентом Литературного института. Татьяна Бек — лауреат поэтических премий года журнала «Звезда» и «Знамя», ежегодной премии Союза журналистов России «Серебряный гонг», лауреат конкурса «Московский счет» (номинация «Лучшая поэтическая книга года»).
Тем не менее её мало знают и мало ценят. Вернее, ценит не такой широкий круг читателей, которого она заслуживает. А со времени трагической её безвременной гибели и вовсе забыли. Эта чудовищная несправедливость не поддаётся пониманию, не укладывается в голове. Как будто бы благополучная литературная судьба Бек внутренне ощущалась ею как сопровождающаяся непониманием и несправедливостью.
Я плакать хотела, но мне запретили,
И годы, как крупные слезы, текли.
...Записка с гаданьем в китайском трактире,
Которую в рисовый хлеб запекли,
Гласила, внезапная, как откровенность,
Как детская тяга, как дрожь бытия:
«В грядущем у вас - лишь одна драгоценность:
Прошедшее ваше». О, радость моя!

***
Как выпить жизнь до дна
и не сойти с ума?
Одна. Одна. Одна.
Сама. Сама. Сама.

Книги Татьяны Бек

Сборники поэзии:
«Скворешники» (М.: Молодая гвардия,1974)
«Снегирь» (М.: Советский писатель, 1980)
«Замысел» (М.: Советский писатель, 1987)
«Смешанный лес» (М.: ИВФ «Антал». 1993)
«Облака сквозь деревья» (М.: Глагол. 1997)
«Узор из трещин» (М.: ИК «Аналитика». 2002)
«Сага с помарками» (2004)
Литературная критика
Татьяна Бек. До свидания, алфавит. Б. С.Г.-ПРЕСС, М., 2003, 639 с. Литературная критика, эссеистика и «беседы», автобиографические зарисовки и мемуары.
Татьяна Бек. Она и о ней: Стихи, беседы, эссе. Воспоминания о Т.Бек. ПРЕСС, М., 2005, 832с

Это книга издана в память о Татьяне Бек, здесь представлены ее последние стихи, беседы-интервью с известными деятелями культуры, острые эссе. Мемуарная часть состоит из воспоминаний о Татьяне Бек ее друзей, в основном литераторов.
Вот как вспоминают Татьяну Бек её друзья и ученики:
Сергей Арутюнов:

«Подмывает сказать, что эти стихи — классика, и тут же спохватываешься: классики в том виде, в котором она бытовала у нас как минимум в течение ста лет, больше не существует. «Классическая классика» попадает в школьные и институтские программы, заучивается наизусть, обсуждается, переиздается — а кто будет переиздавать книги Бек? Пушкин? Покойный Гантман? Еще какие-нибудь добрые мужественные подвижники? Не верится. Простите — не верю.
По «классической классике» пишутся диссертации, на нее ссылаются, о ней вообще говорят. А Бек в тех же блогах сегодня цитируют в основном девушки, заглянувшие на какой-нибудь женский форум: под стихотворением, стянутым из какого-нибудь раннего сборничка, как правило, или недоуменное или равнодушное молчание или — того хуже — подблеивающие оценки полудурков обоих полов.
Дело не в моем апокалиптическом взгляде на вещи: объективно происходит свертывание прежних литературоцентрических координат...
Ей достался на долю великий духовный перелом — не зря она так часто ломала ноги.
Интеллектуальное пространство «толстых журналов», прибежища «перестроечной мысли», сегодня выглядит изодранно — «народу это больше не нужно». Заменивший интеллигентские координаты суррогат телевидения органически не пропускает ни единого живого слова. Негласно действует цензура, пропускающая любую мерзость, но стеной встающая там, где начинает звучать голос совести. Отупение нации развивается скачкообразно, угрожая стать необратимым.
В 1993-м году немыслимая жестокость русской жизни подступает вплотную и, кажется, молодецки бьет женщину по плечу, дескать, ну, сказани, сказани мне еще, люблю смелых дур… подставься! До конца после прозрения поэт вынужден стоять под ледяным ветром. Больше — ни пристанища, ни утешения. Разрывы с друзьями, метания, гибель.
Любовная, пейзажная, портретная лирика ее, убежден, создавалась во имя высшей точки кипения лирики — четырехсот пятидесяти одного градуса по Фаренгейту...
Ей образцово дурно жилось. Бывало, я мог привести ее по телефону в состояние приподнятое: ей приходила в голову мысль или строка, и она спешила проститься. А может быть, приходил долгожданный гость. Очно, помнится, наши разговоры не клеились: она много куда спешила. Она была нетерпелива, она все время кого-то ждала, неслась по городу, чтобы не думать о неизбежном — о том, что одинока, нелюбима, предаваема на каждом шагу обстоятельствами, бытом, заговором молчания вокруг «нашей милой Тани». Неслась… На улице ее интересовало то, от чего я обычно отводил взгляд: бомжи, придурки, помойки, старухи, цыганки, кошки и нищенки.


Она любовно называла их «сумасшедшими».

Странноприимство… оно было свойственно ей куда в большей степени, чем кому бы то ни было. Удивительно, как не толклись возле ее двери паломничающие нищенки и калики перехожие, но тут лишь реалии века: обворовывали ее регулярно...
Теперь я говорю, что она моя литературная мать, что у нее я учился и стихам, и, что главнее, чувствованию правды, исступленному всматриванию в ткань словесную и житийную (как редко удается избегнуть пафоса там, где его следует избегать).
Если бы не она, меня бы не было…»
Евгений Степанов:

«Каким она была человеком? Она была поэтом. То есть человеком непростым — порывистым, увлекающимся, резким.
Когда вышла толстенная книга мемуаров о ней, в которой я прочитал воспоминания самых различных людей, то с удивлением обнаружил, что практически с каждым из авторов сборника она в разное время находилась в конфликте.
Она крайне не любила наше аэропортовское “гетто” (вообще, писательскую среду), избегала ее, но беда заключалась в том, что другой среды у нее — от рождения! — не было.
Дмитрий Сухарев на одном вечере назвал её: “Бек с препятствиями”.
Очень часто говорили о Евгении Рейне. Я все удивлялся, что она так тепло относится к этому литератору.
— Он ведь не поэт! — однажды, выпив для храбрости рюмашку коньяку, сказал я.
Она непритворно удивилась:
— А кто же он тогда? Городской сумасшедший?
— Насчет сумасшествия не знаю. Но, конечно, то, что он делает, это плохая зарифмованная проза. Длинная и занудная.
— А Николай Алексеевич Некрасов?
— То же не поэт! — рубил я, войдя в раж, с плеча. — Он — прозаик, писавший в рифму. И Пушкин прозаик.
Она хохотала.
Потом я “напал” и на Владимира Корнилова. И тут она “взорвалась”. И прямо послала меня на три буквы.
Через час прислала письмо с извинениями.
Татьяна Бек в том направлении, в котором она работала, по праву считалась настоящим мастером. Она была в поэзии (и в жизни) предельно искренна, ее стихи исповедальны и завораживающи.
Она была увлекающимся человеком. И, зачастую, на мой взгляд, переоценивала своих друзей (в первую очередь отношу это к себе). То есть она проявляла симпатию к человеку — и эта любовь переходила на его творчество. Она начинала этого человека всячески пропагандировать — публиковать, писать о нем рецензии, рассказывать по радио. И любовь не знала границ.
Иногда она мне рассказывала о своей личной жизни. Фигурировали очень известные литературные имена. Писать об этом не имею права.
Она была уникально образована. Другого такого знатока поэзии я не знал. Когда нужно было что-то уточнить (дату рождения поэта, кто автор той или иной строки и т.д.) — я звонил ей. И она выдавала информацию лучше, чем энциклопедический словарь.
Работоспособность — феноменальная. Она сделала комментарии к книгам своего отца, писателя Александра Бека, составила Антологию акмеизма, издавала книги Соколова, Глазкова, Некрасовой, работала журналисткой, писала рецензии, делала интервью…

Когда в 2003 году вышла ее книга “До свидания, алфавит”, я прочитал ее с огромным интересом. Это собрание эссе, литературных портретов, баек-миниатюр, мемуаров, интервью, стихов... Многожанровая книга. И в каждом жанре Татьяна Бек предстала сложившимся профессионалом, имеющим свою индивидуальность.
Она была самоиронична. Любила посмеяться над собой, нарисовать шаржированный автопортрет (один из них у меня сохранился).

Процитирую симпатичнейший фрагмент из книги “До свидания, Алфавит”, где фигурирует Фаина Раневская.

“Фаина Георгиевна Раневская, которая очень подружилась с моими родителями летом 1964 года на финском взморье, в Комарове, называла меня приязненно “мадмуазель Модильяни” — за мою худобу и вытянутость на грани шаржа. Позднее, уже в Москве, она мне даже, когда мы ходили к ней в гости, подарила итальянский альбом художника с соответствующей надписью...
Теперь я уже ближе к мадам Рубенс...”
По отцу она была обрусевшей датчанкой, а по маме наполовину русской, наполовину еврейкой…
Ее важнейшая черта — безукоризненная моральная чистота, порядочность и щепетильность.
Помню, предложил ей напечататься в моем новом журнале “Дети Ра”. Она согласилась, но предупредила:
— Я дам подборку, но эти стихи скоро выйдут в моей новой книге. Ты согласен на такие условия?
Я, конечно, согласился. Честно говоря, никто из поэтов за долгие годы моей редакторско-издательской деятельности о подобных вещах никогда не предупреждал.
Она жила небогато. Иногда денег не было совсем. Но никогда не просила».
Евгения ДОБРОВА:

«Сама Татьяна Александровна называла вдохновение «лихоманкой», а стихосложение — «знахарским видом самоврачевания», чем-то вроде пускания крови в старину. К ее творчеству эта метафора применима совершенно. У Бек очень болезненная лирическая струна, очень искренняя поэзия. Автобиографичная, исповедальная. Такая растрава «на разрыв аорты». Можно в слезах захлебнуться. Читаешь про нее — и себя жалко. Сильное сопереживание рождается.
Поразительно, при всем трагизме, обнажении ран, в стихах нет мести миру — мести за свое личное не-счастье. «Я булыжник швырну в лимузин, проезжающий мимо бомжа» — это другое. Принцип. Гражданская позиция, если угодно.
Вообще, Татьяна Александровна была очень принципиальной, до непримиримости иногда, и в ее поэзии такие контрапункты звучат отчетливо.
Мне нравятся её стихи, в которых метафора одиночества — а у Бек почти все стихи пропитаны этим раствором — раскрывается через предметы обихода, быта. Взять хотя бы хрестоматийное «Я проклята. Я одинока. / Я лампу гашу на столе». Трагедия жизни деликатно разыгрывается через милые домашние мелочи — это мастерство высокого полета и высокого такта».
Любимые стихи
Я тоже очень люблю это стихотворение Бек. По-моему, оно никого не сможет оставить равнодушным:
***
Гостиничный ужас описан...
Я чувствую этот ночлег, -
Как будто на нитку нанизан
Мой ставший отчётливым век, -
Где кубики школьного мела
Крошились, где пел соловей,
Где я ни на миг не сумела
Расстаться с гордыней своей,
А вечно искала подвоха,
И на люди шла как на казнь,
И страстью горевшая - плохо
Хранила простую приязнь, -
Любимый! А впрочем, о ком я?
Ушёл и растаял вдали.
Лишь падают слёзы, как комья
Сырой похоронной земли.
Но главное: в пыточном свете,
Когда проступают черты,
Мои нерождённые дети
Зовут меня из темноты:
«Сюда!» - Погодите до срока.
А нынче, в казённом жилье,
Я проклята. Я одинока.
Я лампу гашу на столе.

Как и многие, многие другие... Я теряюсь, не зная, какие стихи выбрать для цитирования — всё родное и горячо любимое до боли!
Звонят — откройте дверь!
О неприкаянности срам!
Ходить в невероятной шляпке,
И шляться по чужим дворам,
И примерять чужие тапки...
Вам, безусловно, невдомек,
Что за нелепая фигура —
В руке цветок, в другой кулек —
Стоит на лестнице понуро?
А это — я. Я вас люблю!
Но чтобы не казаться лишней,
Лишь сообщу, что — по рублю
На улице торгуют вишней.
Полчасика — на передых.
И снова в месиво окраин...
— Не понимаю молодых! —
Мне в спину заорет хозяин.
Встреча
С таким лицом идут на подвиг
В зловещей тоге, —
С каким, на твой ступивши коврик,
Я просто вытирала ноги!
И думала, когда открыли
И вешали пальто в передней:
С таким лицом — влюбляли. Или
На грош последний
В аптеке покупали яду, —
О, наши бабки!
А я скажу: — Нет — и не надо.
Не любишь? Велика досада! —
И выбегу — пальто в охапке —
По лестнице,
потом — по саду...
Какие слова она умеет найти о любви!
***
Это что на плите за варево,
Это что на столе за курево?
Я смутилась от взгляда карего
И забыть уже не могу его.
Там, за окнами - вьюга страшная,
Тут пытают перо с бумагою...
Мне сказали, что я - отважная.
Что мне делать с моей отвагою?
- Коль отважная, так отваживай. -
...Но какая тревога - нежная!
О, любовь моя, - свет оранжевый,
Жар малиновый, буря снежная...

***
Не лицо мне открылось, а свет от лица.
Долгожданное солнце согрело поляну.
Я сказала себе, что уже до конца
Никуда не уйду и метаться не стану!
Это было как ясная вспышка во тьме,
Это было отчетливей вещего знака...
(Так больного ребенка в счастливой семье
Необузданно любит бездетная нянька.)
Я сейчас не хочу ничего объяснять,
Но по этому свету, по этому знаку
Я - невнятная дочь и небывшая мать -
Ощутила любовь как могучую тягу!
...Разолью по стаканам кувшин молока:
Отстоялось на холоде - и не прокисло...
Надвигается вечер. Плывут облака.
И людская порука исполнена смысла.
***
Ты меня исцелил. Ты вернул меня в детство,
Где надежда прекрасна, как первая елка;
Где любое касанье, любое соседство
Переходит в родство высочайшего толка;
Где садовый жасмин —как молочная пена;
Где сандалии в августе требуют каши;
Где кругом — перемены, где колется сено,
Где сбываются сны и сбиваются наши
Голоса… Ты вернул мне простые повадки:
Приласкать, заслонить и продернуть в иголку
Нить, которая держит в порядке
Мирозданье… И бусы повесить на елку —
Золотые, витые, забытые бусы, —
И приладить звезду на макушке зеленой,
И составить депешу, глотая союзы,
И швырнуть через горы рукою влюбленной:
«Ты меня исцелил…»
***
И когда над немытой харчевней
зажигается звёздная карта,
я хмелею от песни вечерней
и целую тебя троекратно.
- Уходи! Мы чужие навеки,
мы сроднились в нежизненном сплаве.
А листва обмирает на ветке,
а натура мечтает о славе,
а звезда, над землёю нависши,
прочищает вселенское горло.
О, любовь меня сделала выше:
опрокинула, смяла, простёрла,
разорила (читай — одарила),
укротила (читай — укрепила).
И протяжная, точно долина,
открывается нищая сила.
А какие — о нелюбви! -
***
Не заметил (поскольку привык),
Что - лишенная стати и сути -
Я мертвею, как мертвый язык,
На котором не думают люди.
Мы заварим немыслимый чай,
Мы добавим туда зверобою.
...Не заметил - и не замечай!
Я жива лишь твоей слепотою.
А заметишь - какая тоска, -
Я уйду, как ушли печенеги...
- Не меня ты, любимый ласкал,
Не со мною прощался навеки,
Не со мною мирился, крича,
Что не ту я фуфайку надела...
Ухожу (я была горяча
И любила тебя без предела)
Неизвестно зачем и куда
(Я и мертвая буду твоею)...
Как народ, как язык, как вода,
Ухожу, вымираю, мертвею.
***
Ну чего тебе надо, лахудра,
вместо хлеба жующая жмых?
Даже сны показали под утро,
что любви уже нету в живых.
Эта нежность — она за пределом
вероятия. Эта тоска -
в полумёртвом лесу поределом,
где не вырезать ни туеска.
Почему-то, конец ощущая,
с пущей страстью жалеешь того,
чья жестокая тень небольшая
у порога легла твоего.
***
Брошенный мною, далекий, родной, —
Где ты? В какой пропадаешь пивной?
Вечером, под разговор о любви,
Кто тебе штопает локти твои
И расцветает от этих щедрот?..
Кто тебя мучает, нежит и ждет?
...По желудевой чужбине брожу
И от тоски, как собака, дрожу —
Бросила. Бросила! Бросила петь,
И лепетать, и прощать, и терпеть.
Кто тебе — дочка, и мать и судья?
Страшно подумать, но больше — не я.
Подруге, которая тяжело переносила разлуку с любимыми людьми, она посоветовала:
- Я всегда в таких случаях говорю: переводи разлуку на музыку.
Ей это удавалось.
***
Опять говорю с ежевикой,
Опять не могу без осин.
Дрожишь и над малой травинкой,
Когда остаешься один.
Гляжу, чтоб забыть укоризну
Твою, где любви ни на грош,
Как скачет весь день по карнизу
Какой-нибудь птичий гаврош.
До боли ладонями стисну
Колени. Но вдруг разогнусь
И так по-мальчишески свистну,
Что даже сама улыбнусь.

***
От косынки до маминых бот
Я какая-то злая старуха!
Сердце бьется, как рыба об лед,
Безутешно, неровно и глухо.
Ничего... проживу... не впервой.
Даже улица пахнет вокзалом!
Чемоданами, пеной пивной,
Паровозным гудком запоздалым.
Я опять не о том говорю.
Я твой город замажу на карте!
Ничего... заживет к январю...
Только снова измучает в марте.
«Страшно у себя внутри»
«Когда человек умирает — изменяются его портреты...» И стихи тоже изменяются. В них открывается глубинный смысл, не видимый, не замечаемый раньше. С особенным трепетом читаешь сейчас её стихи о смерти. И понимаешь всем существом, до дрожи, как не случайна она была.
***
Вот оно, по-арестантски голое,
Вот оно, черное как беда...
Я захлебнусь, не найдя глагола, - и
Хватит эпитета, голое, да, -
Не наготою зверей, любовников
Или детей - наготою конца, -
Дерево из допотопных столпников,
Не покидающих тень отца, -
Вот оно: загнанное, и вешнее,
И одинокое - на юру.
...Все несказаннее, все кромешнее
Время и место, где я умру.
Эмоциональный градус бывает предельно высок, внутренние бури бушуют, еле сдерживаемые ребрами четверостиший.
***
Страшно у себя внутри,
Как в стенах чужих и стылых...
Кто-нибудь, окно протри, -
Я сама уже не в силах.
Кто-нибудь, протри окно, -
Чтобы луч раздвинул нишу...
Мне действительно темно.
Я ли света не увижу.

***
Прозренья мои — как урки,
Присевшие на пригорке.
Курила всю ночь. Окурки
Страшнее, чем оговорки.
Еще я пила из кружки
Чифирь смоляного цвета,
А кошка вострила ушки,
Не видя во мне поэта.
. . . . . . . . . . . . . . . . .
Отпела и отгорела…
Когда ты меня отпустишь,
Бессонница без Гомера —
Мучительная, как пустошь?

* * *
О, год проклятый - навет, и змеиный след,
И окрик барский, и жатва чужого хлеба...
И даже кошка, роднее которой нет,
Под Новый Год ушла без меня на небо.
Сквозь крест оконный - портовых огней игра:
Моя пушистая азбуку неба учит...
- Скажи: куда мне? Скажи, что уже пора. -
...Молчит, и плачет, и, всхлипывая, мяучит.

***
Ходившая с лопатой в сад,
Глядишь печально и устало...
Не строила - искала клад.
Не возводила - клад искала.
Твою надежду на чужой
Непредсказуемый подарок
Жизнь охлестнула, как вожжой:
- Не будет клада, перестарок!
...Под раскалённой добела,
Под лампою без абажура
Земная жизнь твоя прошла, -
Кладоискательница, дура...

В этих строчках уместилась вся её трагичность, "невостребованность" в обычном, обывательском понимании жизни. Они совершенно отражают её последние настроения и мысли, с которыми она ушла.
Окончание здесь
|
|
Процитировано 3 раз
Понравилось: 3 пользователям
На смерть поэта (о Татьяне Бек) |

Начало здесь
7 февраля 2005 года в Москве скончалась известная российская поэтесса Татьяна Бек.
Ей не было и 56-ти лет. По неофициальной версии, ее смерть могла наступить в результате самоубийства. В то же время в редакции "Литературной газеты", с которой сотрудничала Бек, сказали, что Татьяна Бек "скончалась от обширного инфаркта у себя дома".
По данным РИА "Новости", это мог быть инфаркт, по данным сайта радиостанции "Эхо Москвы", - самоубийство.
Как сообщил друг поэтессы Владимир Войнович, Бек была "очень чувствительным, обидчивым и ранимым человеком", а в последнее время тяжело переживала разрыв с некоторыми из своих друзей. Он отметил, что последние дни каждый день говорил с ней по телефону, и "она была в ужасном состоянии".
Из воспоминаний Нины Горлановой:
"…О том, что мертвую Танечку нашли, когда пузырек из-под таблеток был пуст, а на запястье у нее был надрез, мне позвонили из Израиля… Но точно там тоже не знали: сердце не выдержало травли или она перебрала дозу снотворного". («Дети Ра» 2007, №9-10)
Какой иной, зловещий смысл появился у этих хрестоматийных строк:
Февраль! Достать чернил и плакать...

Травля

Причиной гибели известной поэтессы стал несчастный случай, утверждает "Московский Комсомолец": в декабре, в гололед, 55-летняя Татьяна Бек сломала голеностоп и до последнего времени носила гипс. Поэтесса не выбиралась из дома, а первый выход в свет сделала на Татьянин день. Газета, ссылаясь на "друзей" поэта, утверждает, что у нее не было причин совершить суицид.
Однако близкая подруга Бек, её коллега по "Независимой газете" заместитель главного редактора издания критик Виктория Шохина, утверждает в интервью "Полит.ру" , что это «не соответствует действительности". Привожу фрагмент из её интервью газете:
Виктория Шохина: Татьяна Бек не смогла оправиться от травли
«… В последнее время она находилась под впечатлением от травли, развязанной против нее за высказывания об авторах апологетического письма Туркменбаши с предложением перевести его поэтические "опусы". Антисобытием года прошедшего она назвала "письмо троих известных русских поэтов к Великому Поэту Туркменбаши с панегириком его творчеству, не столько безумным, сколько непристойно прагматичным". (http://www.compromat.ru/page_16208.htm)
Авторами письма были поэты Евгений Рейн, Михаил Синельников и Игорь Шкляревский.

В продвижении проекта участвовал главный редактор "Знамени", известный критик Сергей Чупринин».

Почему Татьяна Бек так отреагировала в ситуации с письмом? По словам Виктории Шохиной, сыграло роль и четкое представление о неправильности сделанного российскими литераторами, и то, что у Татьяны Александровны было много знакомых литераторов в Туркмении, - зная ситуацию там, она не могла промолчать.
После Нового года, рассказывает Виктория Шохина, трое из четырех - Рейн, Чупринин и Синельников - звонили Татьяне Бек и в разной форме (от брани Рейна до "дружеских" укоров Чупринина) оказывали на нее психологическое давление. Невозможность примирить традиционное представление об этих людях (с Евгением Рейном и Сергеем Чуприниным она была давно и хорошо знакома, работала с ними вместе в Литинституте) и их нынешние поступки усугубили ситуацию.
«Таня не могла молчать. И поплатилась за сказанное. Ей устроили настоящую психическую атаку. Звонили, угрожали, говорили страшные вещи, по-иезуитски умело нажимали на болевые точки. А делалось это так: сегодня звонил один, завтра - другой, послезавтра - третий…
Не знаю, было ли это организовано или каждый действовал сам по себе, по наитию. Но результат был достигнут - Таня впала в отчаяние. Она мучилась и никак не могла понять, чем заслужила такие оскорбления и угрозы.
Прямая и чистая душа, она хотела, чтобы все было честно, по правилам. И думала, что остальные хотят того же. И поэтому, сталкиваясь с бесчестьем, всякий раз искренне страдала. Будто забывала, что живет там, где нет никаких правил.
Таня искренне верила в то, что если всё честно и добросовестно объяснить, то люди поймут. Даже те, кто думает по-другому.
"Негоже ни поэтам, ни мудрецам перед царями лебезить, выгоду вымогаючи..." - так писала она ("НГ-EL", 2005, # 1). Но она ошибалась: это были не "поэты и мудрецы", скорее люди, по недоразумению сходящие у нас за интеллигентов.
И вот что странно и страшно. Почему-то в качестве мишени выбрали именно ее - поэта, женщину, человека очень ранимого и впечатлительного.
Последней каплей стали лживые и подлые слова анонима в одной уважаемой газете - о том, как "одна поэтесса использовала" имя одного "поэта, его влияние, товарищескую помощь в своих целях".

Таня спрашивала: "А если я умру, им хотя бы станет стыдно?" - "Нет, - сказала я. - Чувство стыда им неведомо". Она не поверила... А я не поверила в то, что она умрет...»

Смерть Татьяны Бек не осталась незамеченной упомянутыми литераторами. Евгений Рейн и Сергей Чупринин организовали в Литинституте траурный митинг памяти Татьяны Бек.
В "Литературную газету" на другой день был принесен некролог, написанный Евгением Рейном, что вызвало бурю возмущения у многих друзей и коллег Тани.
«Я не называю имен тех, кто звонил Тане, - пишет Шохина. - Но буквально на следующий день после ее гибели, 8 февраля, начался настоящий дезинформационный шквал. Как будто ждали и готовились.
От имени родных и друзей Татьяны большая просьба к фигурантам - не появляться на похоронах Татьяны.
Татьяна Бек не могла молчать. И расплатилась за это непомерно высокой ценой. Своей жизнью».
"Полит.Ру", 08.02.2005
© "Независимая газета"-Ex Libris, 09.02.2005
http://abos.ru/?p=35328
«...не желаю двора твоего, властолюбец...
На страницах "НГ-Ex Libris"а" Татьяна Бек дважды выразила свое отношение к переводам из Туркменбаши, считая этот проект "не столько безумным, сколько непристойно прагматичным" ("НГ-EL", 2004, # 49).
Она считала, что не может поступить иначе, ей будет стыдно перед туркменскими друзьями, перед своими студентами в Литинституте, перед самой собой. Она и раньше писала в стихах:
Я не желаю тесниться в единой обойме
С теми, кто ловит улыбку любого тиранства...
Только с годами открылось мне в полном объеме
Чернорабочего пира простое пространство.
...Ну а покуда линяют и прыгают белки -
Надо поехать в Саратов, на родину папы,
И отказаться от замыслов, ежели мелки,
И уколоться опять о еловые лапы.
Я повторяю, что по нутру одиночка
И не желаю двора твоего, властолюбец...
Это не пишется: каждая новая строчка
Ветром глухим с перегона доносится, с улиц.
Небольшое отступление о том, кто такой Туркменбаши и почему Татьяна Бек считала то лизоблюдское письмо своих друзей-поэтов с предложением перевести его опусы — позором.
Как величают Cапармурата Ниязова

Акбар (Великий), Сердар (Вождь), Туркменбаши (Предводитель всех туркмен), сын лучшей из туркменских матерей Гурбансолтан-эдже. Еще один, новый титул был оглашен 19 февраля — на 65 лет Ниязова. Его стали именовать Очеловеченный символ Туркмении.
Его последние Указы:
В конце февраля 2005 года Ниязов принял ряд решений, которые уже воплотились в жизнь:
1. “Книги у нас никто не читает, в библиотеки народ не ходит. Пускай остаются Центральная библиотека и студенческие библиотеки в вузах — все остальные надо закрыть”.
2. “В каждом областном центре остается только диагностический центр, по направлениям которого люди будут ездить лечиться в Ашхабад. Все остальные больницы и госпитали на территории страны закроются…”
3. “Зачем нам теперь заповедники? Пускай люди выпасают скот на этих территориях, пользы гораздо больше будет”.
В апреле Ниязов издал указ, запрещающий ввоз и распространение в стране иностранных печатных изданий (на русском, казахском, узбекском, киргизском, а также английском языках).
В мае прекратилось действие Соглашения об урегулировании двойного гражданства между Россией и Туркменистаном. Несколько десятков тысяч граждан Туркмении, которые сохранили российские паспорта, стали иностранцами в своей стране. Теперь они оплачивают валютой билеты для поездок за рубеж. Им запрещено покидать Ашхабад без специального разрешения. Для них действуют повышенные тарифы на коммунальные услуги.
Памятник Туркменбаши в центре Ашхабада возвышается на 63 метра.

Вся эта композиция медленно вращается по ходу движения Солнца и совершает за сутки полный оборот вокруг своей оси.

Осью же всего сооружения является панорамный лифт, ведущий на несколько круговых обзорных площадок.
Вот что о нём пишут в СМИ: http://www.compromat.ru/page_10213.htm
И вот этого-то узурпатора воспылали желанием переводить известные и уважаемые доселе поэты, польстившись на шальные деньги. И организовали травлю той, которая посмела их пристыдить и одёрнуть. Как же они потом юлили и изворачивались! Про бесстыдный некролог, наскоро — чтоб опередить всех - состряпанный Рейном, я уже сообщала. С. Чупринин попытался уйти «в несознанку», дескать он к этому письму отношения не имеет, он подписывал другое, в котором говорилось просто о переводах туркменских стихов. Своих же «вляпавшихся» коллег всячески пытался выгородить и оправдать.
Объяснения С. Чупринина

«Почему же тогда Рейн, Синельников, Шкляревский поставили свои подписи - и не только под письмом с просьбою поддержать издание в Москве антологии классической и современной туркменской поэзии в образцовых переводах, чем я ограничился, но и под велеречивыми строками о важности издания по-русски "светских молитв" самого Туркменбаши?
Так ведь поэты же!.. Нафантазировали себе, поди, Бог знает что. Синельников, попробуем вообразить, - возможность в комфортных условиях продолжать переводы среднеазиатской поэзии, чем он занят уже не первый десяток лет. Шкляревский - право поэта разговаривать с царями. Рейн...
Остановлюсь. Чтение в сердцах тем и опасно, что заразительно».
Что ж остановился-то? Нечего сказать в оправдание подлости?
Вот что «нафантазировал себе» Михаил Синельников (цитирую по TURKMENISTAN.RU):

ИЗВЕСТНЫЙ РОССИЙСКИЙ ПОЭТ МИХАИЛ СИНЕЛЬНИКОВ СЧИТАЕТ, ЧТО СТИХИ ТУРКМЕНБАШИ «ПРОНИКНУТЫ ВЫСОКИМ НРАВСТВЕННЫМ ЧУВСТВОМ»
Выступивший недавно с инициативой перевода на русский язык стихотворных произведений президента Туркменистана Сапармурата Ниязова известный российский поэт Михаил Синельников считает, что стихи Туркменбаши «проникнуты высоким нравственным чувством».
«Туркменбаши хороший поэт, - сказал Михаил Синельников в интервью газете «Московские новости». – Он отлично владеет формой, которая очень сложна в туркменской поэзии, не утратил живого интереса и образного восприятия мира».
Михаил Синельников напомнил, что восточную поэзию, в том числе туркменскую, переводили знаменитые поэты – Волошин, Тарковский, Луговской. Поэтому он считает естественным, что сегодня к ней обратились прославленные российские поэты Евгений Рейн и Игорь Шкляревский.
На этой неделе центральные газеты Туркмении напечатали адресованное главе государства письмо российских поэтов Евгения Рейна, Игоря Шкляревского и Михаила Синельникова, в котором они просят согласия Сапармурата Ниязова на перевод и издание в Москве стихотворений туркменского лидера.
«Сегодня литература теряет свою прежнюю силу, - говорится в письме. - В такое время издание книги Ваших стихотворений на русском языке поднимет значимость поэзии. Байрам хан и Алишер Навои принадлежат истории не только как выдающиеся государственные деятели, но и как первостепенные поэты. Сегодня такое счастливое сочетание еще важнее».
| |
© TURKMENISTAN.RU, 2004, http://www.turkmenistan.ru/?page_id=3&lang_id=...;type=event&sort=date_desc
Чупринин возмущён, что его замазали в эту историю, написав во «Времени новостей», что, «подписавши письмо про антологию, "клюнул"-то я, оказывается, "на приманку легких денег с запахом туркменского газа".
Другие комментаторы до таких подлых предположений не опускались. Но фразочки про то, что я будто бы "поддержал инициативу" перевести стихи Туркменбаши на русский язык, нет-нет да и мелькали в газетах, в интернете, в разговорах моих коллег - журналистов и литераторов.
Это меня, понятное дело, раздражало, так как я - простите за повторение - никогда, ни при каких обстоятельствах и никоим образом такой инициативы не поддерживал. Идея перевести стихи Туркменбаши - не лучшая из тех, что приходили в головы трем прекрасным поэтам, но я их, во-первых, не сужу, а во-вторых, за идею эту в любом случае не отвечаю».

А как же быть со звонками Бек? Значит, поддерживал?
Только вот то, что они - поэты, никакое не алиби, а скорее, - наоборот.
«Сам позыв восстановить утраченную дружбу народов через переводы заслуживает, безусловно, всяческого уважения. - пишет Виктория Шохина в статье «Поэты и государство» в «Независимой газете» от 2004-12-20. - Но почему бы не начать с переводов стихов других туркменских поэтов – скажем, замечательно талантливого Шерали Нурмурадова, который вынужден скрываться от опеки родного государства за границей?
Однако наши «почтовые лошади просвещения» решили вложить свои недюжинные поэтические силы именно в творчество Туркменбаши. О причинах можно только гадать. И одна из догадок такая: это тот же этатистский соблазн, сгущающийся в воздухе.
Отлить этот соблазн в чеканные строки и тем сделать еще более соблазнительным. Подать Ниязова как сложную, тонко организованную творческую личность. Не как предмет для шуток (хотя его подданным не до смеха, особенно русскоязычным), а как харизматика. Ниязов – это круто. Государство – это он. Исподволь готовить нас к приятию лидера такого типа. Правда, это задачи уже не столько для поэта, сколько для литературного чиновника-исполнителя.
Итак, поэты, мастера культуры, делают свой выбор. В пользу государства.
И ничего, что капитуляция индивида перед государством обоюдно непродуктивна. И ничего, что кто-то не подаст руки кому-то из участников проекта. Это пройдет.
Это у нас уже проходило. И не раз». (http://www.ng.ru/politics/2004-12-20/2_poets.html)
И снова хочется привести стихи Татьяны Бек:
***
Глядя на собственные пупы,
Вы обездарели, вы тупы...
Тоже мне вече, мужи, бояре!
Так... Перекупщики на базаре.
Я же - не лучше. Стою зевакою,
То комментирую, то не вякаю.
...О психология смерда-зайца!
Посторониться? Уйти? Ввязаться?
***
- Зачем ты занят нелюбимым делом
И примостился ближе к пирогу? -
...Березы черно-белые - на белом,
Но синем, ибо сумерки, снегу...
Все кончено! Уписывая ломти,
Шестеркой вейся около туза.
- Деревья ненаглядные, пойдемте
Куда глаза глядят... - Глядят глаза
В просторную прямую перспективу,
Где вечереют желтые огни.
Нет! Я не растеряю душу живу,
Как в три ее погибели ни гни...

***
И родина, где я росла, ветвясь,
Меня не видит и толкает в грязь, -
И мусор доморощенных жемчужин
На откровенном торжище не нужен, -
И город, где я счастлива была,
Закрыл ворота и сгорел дотла, -
И прохудились сапоги, в которых
Я шла на свет, - и драгоценный ворох
Всего, что пело, я кидаю в печь...
Коль сгинул век, - то не себя ж беречь!
***
Мы новые? Нет, мы те же,
И, свежую грязь меся,
Нам память несёт депеши
О том, что изъять нельзя -
Ни белочек в перелеске,
Похожих на букву ять,
Ни марлевой занавески,
Которую сшила мать, -
Ни послевоенной спеси,
Ни лжи, источавшей яд,
Ни инея на железе,
Которым бряцал парад...
О, всё это - мы. (А кто же?)
О, всё это - жизнь твоя!
И значит, постыдной кожи
Не сбрасывай: не змея.
Наследница страшной зоны,
В крови стою и пыли.
...У неба - свои резоны,
Невнятные для земли.

Как чиста и бескомпромиссна её лирика, как не пристаёт к ней грязь расчёта, наживы, корысти, всё, на что так падки оказались её «друзья»!
***
Открывается даль за воротами
Неуютно, тревожно, светло...
Мы поэтами, мы обормотами
Были, были, - да время сошло.
Ты играл со звездой, как с ровесницей, -
Для того ль, чтобы нынче брести
Этой полупарадною лестницей,
Зажимая синицу в горсти?
Для того ль ты скитался бездомником,
Подставляя ненастью тетрадь, -
Чтобы впредь по чужим однотомникам
Равнодушно цитаты искать?
...А ведь живы и ветер, и заросли
Чистотела, и наши следы -
Как рассказ о несбывшемся замысле
Вдохновения, детства, беды.

Ещё несколько документов
Из письма автору сайта И. Бродского от Галины Славской:
"Дорогой Саша, Вы москвич и «вращаетесь» в литературных кругах. Я не верю, что Вам была неизвестна роль Рейна в самоубийстве Татьяны Бек.
Я считаю кощунством помещение на сайте (дважды!) их беседы-интервью...
Как будто ничего не случилось... И безудержное прославление Рейна на последних страницах меня просто возмущает и отбивает охоту работать...
Посылаю Вам «напоминание»...
Ваша Галя". (http://www.brnolno.ru/10660447.htm)
В качестве "напоминания" на сайте помещена статья из газеты «Культура»от 06.02.2008 (http://flb.tv/info/42842.html) под заголовком:
«Газпрому» – газ, поэту – смерть
Журналистка Виктория Шохина считает, что в гибели поэтессы Татьяны Бек виновны ее коллеги Евгений Рейн, Михаил Синельников и Сергей Чупринин.
Три года назад 7 февраля трагически погибла поэтесса Татьяна Бек. В свое время трагическая история ее гибели наделала немало шума, однако страсти вскоре утихли. Обозреватель «Москора» решил расследовать обстоятельства той недавней трагедии и встретился с лучшей подругой поэтессы – журналисткой Викторией Шохиной.

Послание тирану
«Это история страшная, тяжелая. И до сих пор никто из друзей Тани не может ее забыть.
Началась она в декабре 2004 года, когда появились сообщения о том, что группа российских литераторов обратилась к Туркменбаши с нижайшей просьбой сделать перевод «Рухнамы» на русский язык. Это письмо подписали Евгений Рейн, Игорь Шкляревский и Михаил Синельников – люди в нашей литературе значительные, с именем и репутацией либералов.
Учитывая ситуацию, когда в тюрьмах Туркменбаши сидели все, кто были против его курса, это выглядело абсолютно аморально и абсурдно, – говорит Виктория Шохина. – Примерно так же, как если бы они написали письмо Пол Поту или Гитлеру. Но мало того. Тут же появилось еще и второе письмо: к «многоуважаемому» Туркменбаши с просьбой «благословить» издание книги стихов туркменских поэтов в переводе на русский обращался, наряду с тремя поэтами, еще и Сергей Чупринин – главный редактор либерального журнала «Знамя».
Естественно, во всей литературной тусовке начались брожения. Вся интеллигенция понимала, что неприлично обращаться к человеку, который швырял людей в тюрьмы, где страдал в том числе и наш с Таней однокурсник, бывший министр Боря Шихмурадов. Его бросили в тюрьму, а его родные не получали ни справок, ни писем. Жив он – нет, до сих пор ничего не известно. Кроме того, у нас с Таней была подруга Айя Кербабаева, внучка самого знаменитого туркменского писателя. Она незадолго до трагедии с Таней с родителями, мужем и дочерью эмигрировала из Ашхабада в Россию. Там жить было невозможно. Про ужасы туркменской жизни я вам не буду рассказывать. Ашхабад – красивейший город с фонтанами, золотыми статуями.

Но он мертв. Людей оттуда как будто выжгли. Все боялись ходить по улицам, разговаривать. И вот на фоне этой ситуации в предновогоднем номере газеты «НГ-Эксклибрис» появился опрос-анкета о значимых событиях прошедшего 2004 года. И Таня назвала антисобытием года «письмо троих известных русских поэтов к Великому Поэту Туркменбаши с панегириком его творчеству, не столько безумным, сколько непристойно прагматичным». А потом, уже в январе, она писала в своей колонке: «Негоже ни поэтам, ни мудрецам перед царями лебезить, выгоду вымогаючи». И после этого началось...
Ночные звонки
– А потом они стали ей звонить, – продолжает Виктория. – Первым позвонил Рейн.
Он – человек нервный, излишне эмоциональный. Кричал, обзывал, ругался.

Но что произвело на Таню самое жуткое впечатление, так это так называемое «уголовное проклятие», которое прозвучало из уст ее любимого поэта. Дословно воспроизводить его не стану. Слишком уж оно мерзкое. Таню это потрясло. Она пережила жуткий шок. Но если бы это был единичный звонок, то было бы еще туда-сюда.
Но потом позвонил еще и Чупринин.

А они с Таней вели поэтические семинары в Литинституте. Их там так и называли: Бек и Чуп. Это было даже не просто приятельство, а совместная многолетняя работа. Чупринин не кричал (он вообще никогда не кричит). Он говорил совершенно хладнокровно, по-иезуитски цитировал Ахмадулину: «Да будем мы к своим друзьям пристрастны, да будем думать, что они прекрасны».

Говорил, что Таня об этом еще пожалеет. И пока не поздно, она должна понять, что поступила неправильно. И тут была одна пикантность. Если Шкляревский и Синельников были, что называется, сами по себе, то Рейн и Чупринин – члены ПЕН-центра, который занимался в том числе и защитой туркменских поэтов и диссидентов, которых Туркменбаши Ниязов изгонял или сажал в тюрьму. Когда человек вступает в ПЕН-центр, он обязуется защищать свободу слова.
А третий звонок был от Синельникова.

И если Рейн и Чупринин были друзьями, то Синельников – дальним знакомым. Он позвонил Тане на протяжении двадцати лет, дай бог, один-два раза. Синельников говорил, что Таня не понимает, что сделала, что ситуация в стране меняется. Что ей придется пересмотреть свои приоритеты. Что она еще об этом пожалеет. Он, в отличие от Рейна, не ругался.
Стыдно им не станет
– К тому времени Татьяна была уже в полном душевном раздрае, – продолжает Шохина. – Я видела ее бледную, с трясущимися руками. Это было ужасно. Она ведь поэт, человек впечатлительный, невероятно ранимый… И ей казалось, что уже весь мир против нее.
Тогда за нее попытался вступиться Андрей Битов – как глава ПЕН-центра. Он позвонил Рейну и как-то его прищучил.

Но это уже не имело значения. Я жила близко от Тани. Все время к ней бегала. Она переживала, не могла переключиться на другие мысли. В январе – начале февраля она говорила и думала только об этом. Как-то спросила меня: «Если я умру, им станет стыдно?»

Я ответила: «Если ты умрешь, тебя назовут дурой, скажут, что причина твоего ухода – личная жизнь, климакс и т.п. Стыдно им не станет, а твоим друзьям станет плохо». Но, как я потом поняла, мысль у нее уже зрела.

На протяжении долгих лет (с 1967 года) нашей дружбы мы не раз об этом говорили. Поскольку я знала, что она негативно относится к самоубийству, я думала, что она на это не пойдет. Оказалось, что я неадекватно оценила ситуацию.
За день до самоубийства, 6 февраля мы с Таней разговаривали беспрерывно. И все о Рейне, Чупринине, Синельникове. Я приносила ей коньяк и мандарины. Таня ничего не ела, только курила (хотя курильщиком она не была) и спрашивала: «Что мне делать?»

Весь мир для нее сузился до этих трех мерзавцев во главе с Туркменбаши. Это был последний день моего отпуска, утром мне надо было выходить на работу. Ночью позвонила Таня, я спала. Мой сын подошел к телефону, сказал: «Мама спит, ей завтра рано вставать». Утром я приехала на работу, стала ей названивать. Никто не отвечал. Так бывало, поэтому я не думала о самом плохом. Часов в шесть вечера я дозвонилась до ее брата, у которого были ключи. Он вошел в квартиру, Таня лежала на полу в ванной. Я позвонила живущей в соседнем с Таней доме вдове поэта Корнилова Ларе Беспаловой, ее дочь Даша – врач. Даша помчалась к Тане. Там были таблетки, датское снотворное, Таня купила их для сестры, но не успела передать. Даша нашла только пустой пузырек, из-под 50 таблеток.
– Правда, что у Татьяны в это время был перелом ноги?
- Ногу она сломала до нового года, в начале декабря. Но все указания врача она выполняла. К тому моменту, как все началось, она уже ходила – правда, прихрамывала. Нога к этому не имела никакого отношения.
Потом в «Московском комсомольце» появилась совершенно мерзкая заметка, написанная подругой Рейна. Мол, Таня сломала ногу, у нее была неудачная личная жизнь. И поэтому, мол, она все это и совершила. На самом деле все было не так. И с личной жизнью у нее было совершенно нормально. Потом поэты стали оправдываться. Но Ира Щербакова из «Мемориала», очень близкая Танина подруга, с детских лет, позвонила Рейну и Чупринину и сказала, чтобы они на похороны не приходили. И они не пришли. То есть эти люди понимали, что виноваты, какие бы они сплетни про Таню ни распускали, желая обелить себя.
– «Рухнаму» в итоге перевели?
– История с переводом «Рухнамы» заглохла. В печати проходила версия, что скорее всего это заказывал «Газпром». С Туркменией была такая практика (западные компании тоже так делали). Если они хотели на более выгодных условиях купить газ, то делали роскошное издание Туркменбаши небольшим тиражом, с этими книжечками приезжали в Ашхабад. Это была плата (или даже взятка) ради более выгодных условий контракта. Но потом все это дело заглохло.
– Правда ли, что после этого Рейн в литературных кругах стал «нерукопожатным»?
– Уже после этого был вечер в доме Цветаевой на Трехпрудном, и Рейна с женой Надей выгнали.

Для кого-то он, может быть, и стал «нерукопожатным», но тем не менее Рейн участвует в каких-то литературных мероприятиях, куда-то все время ездит, его включают в составы каких-то делегаций. После гибели Тани жена Рейна прибежала в ПЕН-центр и заплатила взносы за три года. Они очень испугались. Ведь ПЕН-центр – это статус...»
А ведь какие стихи она о нём писала!
Е. Рейн

Ты, надевший впотьмах щегольскую рубаху,
Промотавший до дыр ленинградские зимы,
Ты, у коего даже помарки с размаху
Необузданны были и непоправимы, -
Ты, считая стремительные перекосы
Наилучшим мотором лирической речи, -
Обожая цыганщину, сны, парадоксы
И глаза округляя, чтоб верили крепче, -
Ты - от имени всех без креста погребенных,
Оскорбленных, униженных и недобитых -
Говоришь как большой и капризный ребенок,
У которого вдох набегает на выдох, -
Ты - дитя аонид и певец коммуналок -
О, не то чтобы врешь, а правдиво лукавишь, -
Ты единственный (здесь невозможен аналог!) -
Высекаешь музыку, не трогая клавиш, -
И, надвинув на брови нерусское кепи,
По российской дороге уходишь холмами,
И летишь, и почти растворяешься в небе -
Над Москвою с ее угловыми домами.
А вернешься - и все начинается снова:
Смертоносной игры перепады и сдвиги,
И немыслимый нрав, и щемящее слово,
И давидова грусть, и улыбка расстриги.
Для чистого — всё чисто...
***
Я любила тебя намного сильней, чем надо.
Как русалка, как дура, как кто незнамо...
Я летела к тебе сквозь дрожь твоего палисада,
Как стрела... А там оказалась яма,
Яр предательский, злая дыра, воронка.
О, зачем я, отвергнутая, злословлю?
Я тебя любила, как брата и как ребенка.
Как отца, наконец... Но я не ходила на ловлю,
На охоту (коварство хищное было мне мерзко!) —
И капкан не ставила: сильной любви в силках ли
Выражаться? В клетку была твоя занавеска,
А из крана ночью, как слезы, капали капли, —
И мне было жалко тебя в связи с любой незадачей
И хотелось укрыть, заслонить, перешить, исправить.
Я любила слишком, что значило быть незрячей
И пускать на ветер иную любовь и память.
Проклинаю как порчу, бегу от тебя, но спиною: пячусь.
Перерезала нить, но, пятясь, хочу наглядеться...
И гоню ужасные мысли: мол, переиначусь,
Изменюсь, нальюсь новизной — и тебе никуда не деться.
Нет, нет, нет! Ухожу от тебя навеки.
Ненавижу ямы твои, буераки, овраги, пещеры.
...Я отныне вольна не топиться весной в Онеге
И смертельно бояться себя за отсутствие чувства меры.
Но как же так? Почему? Швырнуть свою жизнь под ноги — кому, ради чего? Кажется, мы никогда не найдём ответ на этот вопрос. Или ответ лежит на поверхности и явлен Таниной готовностью немедленно свести счёты с жизнью, если та вдруг обернётся предательством друзей и телефонным террором кувшинных рыл?
(Держишься, держишься в атмосфере бесчестия, и вдруг обнаруживаешь, что запас прочности иссяк. Тогда - катастрофа.)
Нам остаётся искать ответы в её стихах...
***
Не думая о месте и о пользе,
Я выскочила прочь из колеи...
— Вас больше нет! Вас не бывало вовсе,
Кумиры сотворенные мои.
Стекло промыто — и сияют краски,
И спесь ликует, и повержен миф...
— Прощайте! Я служила вам по-рабски,
За что и ненавижу — разлюбив.
Я вечно шла на глупость и на дыбу,
Но вдруг очнулась, обнаружив, что
(Мои приветы — Фрейду и Эдипу)
Больная страсть пуста, как решето,
Темна, необоюдна, безутешна...
Я вас любила (вы же назубок
Все помните!) “так искренно, так нежно,
Как дай вам Бог”.
...Но отвернулся Бог.
***
Я не трачу себя понапрасну.
Как фонарь на рассвете, я гасну,
Если свет мой не виден, не нужен,
Не заметен ни небу, ни дому...
Надоело, разбей меня, ну же!
Или выучи жить по-другому.
Не смогла по-другому. Разбили.
В одном из стихотворений она писала:
Душа мужает, раздвигая ширь,
когда друг друга несмертельно раним.
На этот раз рана оказалась смертельной. Стрела — самоубийственной:
* * *
Не боялась огня и копья,
Не страшилась воды и недуга. . .
Пуще всех опасалась себя:
Глубины, закипающей глухо,
И толкающей в нищее зло,
В подозрение, спесь и безволье,
И ломающей напрочь весло
По дороге в открытое море, -
Где я мяла себя и несла
В одинокий свинец поднебесья.
. . .Что мне, недруги, ваша стрела,
Если самоубийственна песня?
***
Прелесть утратила и сноровку,
Но не отчаялась до поры, —
Так черепаха тянет головку
Нежную — из роговой коры:
Из торжества омертвелых клеток...
Лежа на берегу крутом,
Я улыбнусь тебе напоследок
Любящим и безвольным ртом.
***
Вы, кого я любила без памяти,
Исподлобья зрачками касаясь,
О любви моей даже не знаете,
Ибо я её прятала. Каюсь.
В этом мире — морозном и тающем
И цветущем под ливнями лета,
Я была вам хорошим товарищем.
Вы, надеюсь, заметили это?
Вспоминайте с улыбкой, не с мукою
Возражавшую вам горячо
И повсюду ходившую с сумкою,
Перекинутой через плечо.

Продолжение здесь.
|
|
Процитировано 4 раз
Понравилось: 6 пользователям
Командировочная душа |
Начало здесь
Из книги «Публичная профессия» (СГУ, 1998)
Так называли меня в редакции.

Дело в том, что я очень любила ездить в командировки. И где-то с апреля по октябрь, то есть начиная с сева, заготовки кормов и кончая уборкой урожая, из них не вылазила.

У нас с Казаковым выработалось что-то вроде игры: он с закрытыми глазами тыкал пальцем на карте в какую-нибудь точку Саратовской области, и я с готовностью тут же отправлялась на вокзал брать билет в эту Тьмутаракань.

Невзирая на дожди, слякоть, хлябь, распутицу и так далее. Ольга — жена Казакова — рассуждала вслух, пытаясь понять причины этой моей добровольной ненормальности:
- Молодая... Энергии много.
Но всего этого было мало, чтобы объяснить. Командировка в глухую дыру где-нибудь в заволжской степи, от которой до ближайшего районного центра ехать на перекладных часа два, где шага не ступишь, чтобы не утонуть в грязи, или задыхаешься от сухой горячей песочной пыли — это для всех было сущим наказанием, от которого каждый увиливал, как мог.

Это можно было воспринимать в крайнем случае философски, как неизбежное зло, или нудно-патриотично, как исполнение своего профессионального долга. Для меня же это было радостью, глотком свободы, подарком судьбы.

Во-первых, командировки давали мне ощущение своей значимости. Я как бы вырастала в собственных глазах, когда взрослые, умудрённые опытом люди доверяли мне, 19-летней девчонке, (я с третьего курса филфака перевелась на заочное, училась и работала штатным корреспондентом молодёжной редакции областного радио) свои беды, проблемы, просили разобраться в каком-то вопросе, кого-то наказать, кому-то помочь. Мой приезд всегда был событием.
- Корреспондент... Из самой области...

Люди как-то внутренне подтягивались, старались выглядеть лучше, чем они есть.

Я не привыкла к такому уважительному отношению в обычной городской жизни, и меня это грело.
Во-вторых, каждая поездка — это была масса новых впечатлений, встреч в пути, дорожных исповедей, целый калейдоскоп новых лиц, типажей, образов жизни — всё это давало пищу для размышлений, зарисовок в блокноте и весьма разнообразило мой внутренний мир. В детстве я нигде не бывала, родители никуда не возили меня на лето, Москву и Ленинград я увидела впервые в 18 лет. И эти поездки в забытые богом места, где я сама как бы и выполняла временно роль Бога, вернее, его посланца, компенсировало в чём-то мою охоту к перемене мест, тягу к путешествиям, к чему-то новому, неизведанному.

Так приятно было, «из дальних странствий возвратясь», ворваться в редакцию с полным ворохом впечатлений, задумок, бродячих сюжетов и услышать:
- А, лягушка-путешественница приехала! Ну, выкладывай, что там у тебя, командировочная твоя душа...
Помню первую свою командировку. Мне поручили проверить письмо из одного посёлка, в котором жители жаловались на кассиршу сельпо, беззастенчиво обсчитывающую покупателей. Я поехала, преисполненная сознания важности доверенной мне миссии. Никто мне не объяснил, как нужно проверять подобные письма. Презирая всякие экивоки, я подошла с микрофоном к этой самой кассирше и с прямотой древнего римлянина ей рубанула:
- Говорят, что Вы обсчитываете покупателей. Это правда?

Когда я принесла эту плёнку главному редактору и он услышал этот мой, с позволения сказать, вопрос, то в ужасе схватился за голову. Но, услышав ответ кассирши, остолбенел ещё больше. Кассирша с той же непосредственностью доверительно со мной поделилась в микрофон:
- Да всяко бывает. Когда мы их обсчитам, когда они нас.
Получилось, как в рубрике Галки Галкиной: «Каков вопрос — таков ответ». Казалось бы, задание выполнено, письмо проверено, всё предельно ясно. Мы — их, они — нас. Эта бесхитростность и простота, что хуже воровства, чем-то даже подкупала. Человек подставляется, бери его голыми руками. И это смущало.
Моё интервью так и не увидело свет.
Вообще прямота и правдолюбие в таких вещах нередко выходили мне боком. Время было такое, что требовало лакировочных очерков о передовиках, засахаренных рубрик «Расскажу о хорошем человеке», слащавых «подводок» и жизнеутверждающих концовок. А жизнь в эти искусственные рамки никак не вмещалась.
Ну, скажем, посылали меня сделать материал о каком-нибудь передовом комбайнере или трактористе.

Я должна создать из него яркий положительный образ, пример для подрастающего поколения. А это чаще всего дурак дураком, который двух слов связать не в состоянии. Бьёшься с ним, как рыба об лёд. Наконец терпение лопается.
- Вы, очевидно, хотите сказать так-то и так?
-М-м...
- Повторите, пожалуйста. (Заставляешь повторить за собой. Записываешь только его ответ).
- Вы, очевидно, думаете то-то и то-то?
- Угу.
- Повторите за мной, будьте добры. (Записываешь).
И вот такое, с позволения сказать, скроенное из лоскутков, причём, собственных, интервью потом монтируется, вырезаются паузы, лишние междометия, всё это соединяется воедино, сдабривается музычкой, обрамляется бодрым голосом диктора и — вперёд, в эфир.

И даже неплохо порой слушается. Но ты-то знаешь всю подноготную, всю эту грязную кухню, где готовится подобная стряпня, «лепятся» все эти псевдоположительные герои.
Жёг стыд за свою профессию, в которой нужно было врать, фальшивить, закрывать глаза на очевидное и делать вид, как свите голого короля, что существует то, чего нет. Это стало в конце концов для меня невыносимым.
Последней каплей стало задание взять интервью у матери Героя Советского Союза А. Хользунова, чьим именем названа саратовская улица. Надо было сделать одну из тех парадных показушных передач, которыми пестрел наш местный эфир в те годы.
Я застала старую, одинокую плачущую женщину, которая сидела уже несколько дней голодная, без молока и хлеба. Она жаловалась мне на пионеров школы имени её сына, которые забыли про неё и давно не навещали, высказывала ещё какие-то обиды. Я пошла в магазин и купила ей продуктов (потом моя начальница мне выговаривала, что я не должна была этого делать, что это не моя обязанность. Вроде как я этим – в её глазах – подрывала авторитет редакции).
Поев, женщина немного успокоилась, и я включила «репортёр» (так тогда назывались громоздкие, в 5 кг весом, редакционные диктофоны).

Она стала вспоминать свою жизнь, погибших на войне мужа и троих сыновей. Они все были для неё равны – и герои, и негерои. Вспоминала и плакала. Я запомнила один эпизод: как младший сын всегда дарил ей весной сирень – её было полно в окрестных двориках.

Когда шла война, сирень, ничуть не считаясь с этим, цвела особенно пышно – рвать её было некому. Весной 45-го мать получила последнюю похоронку. Когда мы разговаривали, кусты сирени кудрявились и колыхались за окном. Она всхлипнула: «Теперь мне уже мой сыночек сирень не принесёт». Меня поразило тогда: ведь больше 30 лет прошло, а для неё всё было словно вчера...

Я не могла делать из её рассказа «парадный» репортаж, я написала всё как есть. Мой материал исчеркали, заставили всё переписывать. Но самое дикое было на монтаже, когда звукорежиссёр, ругаясь, вырезал каждый всхлип женщины на плёнке, убирая, по его выражению, «сопли». Тогда делали так называемый «кровный» монтаж, то есть вырезали слово (даже междометие), если оно в чем-то противоречило идеологии. Все передачи должны были кончаться оптимистически. Матери героев плакать не должны, они должны были гордиться своими сыновьями. Меня жёг стыд за ту искорёженную редакторами передачу, где правду заменили фальшью.
Как я ненавижу этот тупой, самодовольный, толстокожий оптимизм, не желающий слышать чужую боль, равнодушный и нетерпимый ко всему, что нарушает его сытое благополучие. Извечное «сделайте мне красиво». Главное, чтоб мой взгляд, мой слух ничто не оскорбляло, не тревожило, не царапало, а что там, как там на самом деле – наплевать. «Кто плачет там? Мне слёзы не видны...»
Сколько сюжетов было под запретом! Я часто ходила мимо интерната слепых, который был тогда в подвале на Вольской, и мне захотелось сделать передачу о его обитателях.

Моё начальство пришло в ужас. Нельзя! Негатив.
На такие вещи было Табу. О старой, больной брошенной всеми женщине, которая ведёт себя не как мать героя – нельзя. Надо врать. О каком-нибудь идиоте-передовике, который двух слов не свяжет, надо писать, приукрашивая, сочиняя ему «образ», подгоняя под модель «нашего современника». Мне стало тошно, и я ушла с радио, хотя в принципе очень любила эту работу.
Мне нравилось записывать людей, как бы фотографировать их голоса, их неповторимые интонации. Мне даже расшифровывать записи нравилось, хотя это была очень кропотливая, нудная работа: каждое слово с плёнки надо было переносить на бумагу, чтобы потом из этой «прямой речи» выбирать нужное.
В командировках порой случались весьма забавные случаи. Однажды наша группа выехала в Базарный Карабулак.

Мне выделили одноместный номер в гостинице. Я никак не могла отпереть ключом дверь и попросила помочь шофёра. Он открыл, но ключ не вернул, а положил себе в карман, сообщив, как о чём-то обыденном:
- Сегодня вечером я к тебе приду.
Я обомлела от такой наглости. А он уже скрылся с моим ключом в кармане. И найти его было нигде невозможно. Что делать? Погоревав, я пошла к администратору и, объяснив, в чём дело, попросила дать другой номер. Мне дали общий, на десять человек, где спать пришлось на раскладушке почти под столом. Но зато в безопасности. А в мой номер поселили какую-то почтенную начальницу из гороно преклонных годов.
В двенадцать ночи шофёр на цыпочках прокрался в мой бывший номер и открыл дверь своим ключом. После непродолжительной схватки он вылетел оттуда, сопровождаемый дикими криками, бранью и тяжёлыми предметами гостиничного обихода. Всё это начальница гороно громогласно рассказывала администрации поутру, явно гордясь собой. Шофёр ходил, прикрывая синяк на скуле. Я злорадно хихикала.

Вообще это был самый больной вопрос в командировках — страх насилия. Жизнь подставляла ловушки на каждом шагу. То автобус сломался и высадил меня в поле, откуда приходилось добираться до места в кромешном мраке. То номер в гостинице не был заказан заранее, меня встречала на двери табличка «Мест нет», и некуда было идти на ночь глядя.
Помню, ехала в село Терновку, там от автобуса очень долго надо было идти пешком. Была зима, сильный мороз, поднялась пурга, «репортёр» натирал плечо и оттягивал руку, ноги и руки замёрзли. Меня то и дело обгоняли машины, притормаживая:
- Девушка, садитесь, подвезу.

Но я, помня мамины наставления «в машину ни к кому не садиться», стойко отвергала помощь и продолжала свой крестный путь. Наконец силы оставили меня. «Всё, больше не могу, - думала я. - Сейчас упаду тут и замёрзну. И в газете напечатают некролог: «Смерть вырвала из наших рядов...»
Когда очередная машина притормозила возле меня, я не выдержала и влезла в её тёплое нутро. Но на всякий случай, чтобы нейтрализовать возможные поползновения шофёра, стала говорить ему предостерегающим тоном, какой я большой человек и по какому важному заданию еду. И что за мной стоит большое начальство, и оно в курсе моего маршрута, и что в случае чего...

Мне этого показалось мало, и я незаметно вытащила из футляра микрофон, выпрямив его штатив во всю длину: если он вдруг что — я его сразу микрофоном по башке, была такая тайная мысль...

Всю дорогу я напускала на себя грозный вид для пущей важности, одним глазом опасливо косясь на шофёра, шарахаясь от каждого его случайного движения. Эта поездка утомила меня больше, чем ходьба пешком по заметённому снегом полю. Шофёр слушал мою болтовню молча, не проронив ни слова. Непонятно было, что у него на уме.
Наконец, слава богу, добрались до посёлка. Я достала из кармана горсть монет — с деньгами у меня тогда было туго — и стала отсчитывать их водителю. Он отстранил мою руку и сказал, широко улыбнувшись во весь свой щербатый рот:
- Конфеток себе на них поди купи.
И уехал. А я осталась на дороге с деньгами в кулаке и со стыдом в сердце. Хороший ведь человек оказался! А я его хотела микрофоном... Нет, всё-таки, что ни говори, а хорошие люди чаще попадались.

Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/176553.html
|
|
Понравилось: 2 пользователям
Ещё три рассказа |
Продолжаю публиковать непридуманные рассказы из моей книги «Публичная профессия» (СГУ, 1998). На этот раз — три, самых маленьких и смешных.
Птичка птеродактиль


Однажды Давид зашёл в Дом книги, чтобы посмотреть, как продаётся мой сборник. Он увидел, что один покупатель заинтересовался обложкой.

- Купите, - посоветовал Давид. - Хорошие стихи. Не пожалеете.
Покупатель развернул первую страницу, там, где фотография.

И — закрыл книгу.
- Не. Слишком полненькая. Вот если бы у неё было худое, измождённое лицо...
В представлении иных читателей истинные поэты – это непременно костлявые аскеты с тоскующим взглядом и чахоточным румянцем на впалых скулах. "Юноша бледный со взором горящим..."
Я, увы, такой не была.

Что было поводом наших неоднократных пикировок с Давидом. Придирчиво оглядев мою фигуру, он начинал:

– Тебе надо похудеть.
– Да я и так ничего не ем! Я ем, как птичка.
– Птички разные бывают. Птеродактиль, например.

– Да я ем одну лишь травку!
– Динозавры тоже травкой питались.

– Давид! – взрываюсь я. – Скажи честно, ты бы сам на себе женился?
– Ни за что. Что я, враг себе, что ли?
– То-то и оно.

– Всё-таки он меня достал. Я решила начать бегать.
В городе это было невозможно – увязывались собаки. Да и пыльно. Я утянула Давида в лес. Он шёл по тропинке, а я бежала вперёд. Потом обратно, ему навстречу.
– Ну, как я бегу? Какой у меня стиль: трусца, рысца?
Давид пригляделся.
- У тебя – трясца.
Нет, бег был не для меня.
Я решила купить "Гербалайф". Это было дорого, но я сумела убедить Давида, что красота требует жертв. И что торг в данном случае неуместен.
Начались дни голодных пыток. Обед был положен лишь раз в день. А утром и вечером – только какая-то дрянь в порошках и таблетках. Я ждала этого вожделенного обеда целые сутки. Даже ночью он мне снился. Если Давид заставал меня ненароком на кухне, то поднимался крик.
– Как ты смеешь есть?! Зря, что ли, такие деньги отдали?
– Это мой законный обед! Имею право! – надрывалась я.
– Твой законный обед был три часа назад!
– Ты что, как шпион, следишь за каждым моим шагом? Это невыносимо!
Я крепилась день, другой. Но потом, не в силах договориться со своим желудком, под покровом ночи, тайком, как Васисуалий Лоханкин, пробиралась на кухню.
Наутро меня мучила совесть. Каждый сброшенный килограмм давался ценой физических и душевных мук.
Через каждые три дня мне звонил дистрибьютер. (Так назывались люди, продававшие "Гербалайф"). Он пытал меня, на сколько сантиметров я уменьшилась и в каком месте. Это ему было нужно для отчёта.

Отвечать мне было стыдно вдвойне: и как женщине, и как добившейся весьма скудных результатов.
Однажды дистрибьютер увидел мой портрет в газете.
Из статьи под ним он узнал, что я провожу вечера при большом скоплении народа. И обратился ко мне с просьбой от имени фирмы рекламировать их товар.
– Это как? – не поняла я.
– Ну вот Вы там рассказываете о чём-то. А потом скажите, что вот Вы потому так хорошо выглядите, что употребляете "Гербалайф".
Я представила эту картину.
После проникновенных слов о Тютчеве или Мандельштаме я объявляю, как Якубович: "А теперь рекламная пауза! Покупайте "Гербалайф! Вы почувствуете кайф!"
Такое мне бы и в страшном сне не приснилось.
Разумеется, я отказала фирме.
Семейный портрет в пеньюаре
Однажды утром я вышла за чем-то на балкон в пеньюаре. Давид подкрался с "Полароидом" и меня щёлкнул. Получилось неожиданно хорошо. Я загорелась дать именно это фото на свой сборник.

– Смотри, какая я здесь красивая. Поэзия в глазах, печать мысли... Я так никогда больше не получусь.

Давид возражал:
– Но ведь ты здесь в пеньюаре. Это неприлично.

– А может, это и к лучшему? Больше будут сборник раскупать.
– Мы же не "Анжелику" издаём, а стихи замужней женщины.

В конце концов было решено попросить в типографии отрезать фото по самую шею, чтобы пеньюара в книжке было не видно. Там обещали, но в последний момент забыли это сделать. Так я и осталась с пеньюаром. Утешало то, что современная мода летнего сезона была не слишком далека от нижнего белья.
Однажды я по секрету поделилась с подругой эротической тайной своего снимка.
Она очень удивилась:
– Да что ты говоришь! А мы ещё спорили с сестрой, что это у тебя за любопытная кофточка. Я даже хотела заказать себе такую же.
Я вспомнила, как где-то читала, что наши войска, возвращаясь после победы, в числе прочих трофеев привозили из Берлина и разные немецкие тряпки, в том числе женские пеньюары. Многие наши женщины, никогда их в глаза не видевшие, решили, что это богатые вечерние туалеты, и появлялись в них в гостях, в ресторанах, в театрах.
Подумать только, что я спустя полвека чуть было не возродила эту моду!
Как познакомиться

В передаче "Иванов, Петров, Сидоров" представляют книгу "Как познакомиться за 3 минуты". Оказывается, надо перед будущим суженым как бы невзначай уронить платок. Не заметит – уронить ещё раз. Я подумала: этак платков не напасёшься.

Вспомнила свои "ухищрения" в юности. Однажды шла в гололёд и упала.

И тут же вскочила. Вдруг вижу: с противоположной стороны улицы ко мне со всех ног бежит молодой офицер. Видимо, хотел помочь мне подняться. А я-то уж встала, дура! И, чтоб исправить свою оплошность, снова упала, на этот раз нарочно. Лежу и строю планы: сейчас он ко мне подойдёт, я томно обопрусь о его плечо, попрошу довести до дома, там угощу чаем...
Чувствую, что-то уж долго лежу. Смотрю – а это он, оказывается, за троллейбусом бежал!
Вскочил в него и уехал. А меня так никто и не поднял.

Вспоминается ещё один, чем-то похожий случай, когда жизнь посмеялась над романтическими прожектами.
У нас с Давидом был один холостой приятель, которого я вознамерилась познакомить со своей одинокой подругой. Продумала процедуру знакомства до мелочей: куда посадить, какой свет сделать, какую музыку поставить, когда невзначай оставить одних... Были припасены свечи, шампанское. Но злодейка-судьба распорядилась по-другому.
Первым пришёл приятель и тут же заскочил в туалет. А следом звонок –подруга. Я не успела её предупредить, что жених уже здесь, как она рванула ручку туалета. Задвижка сорвалась, и жених предстал ей во всей красе. Подруга ойкнула и от неожиданности пробормотала вместо извинения: "Здрасьте!" Приятель был в шоке, но по инерции вежливо ответил ей с унитаза: "Здравствуйте..." Вот так они познакомились. Продолжения, как можно догадаться, не последовало. Свечи, шампанское и томный голос Дассена победила какая-то дурацкая задвижка туалета, которую Давид не удосужился прибить попрочнее.
Как подумаешь - от чего зависит порой судьба человеческая!
Переход на ЖЖ: http://nmkravchenko.livejournal.com/175710.html
|
|
Понравилось: 1 пользователю