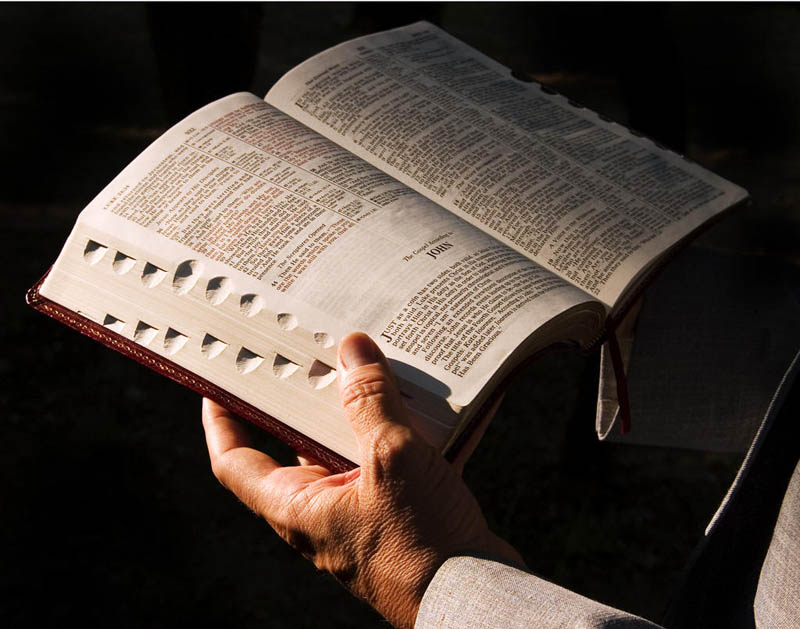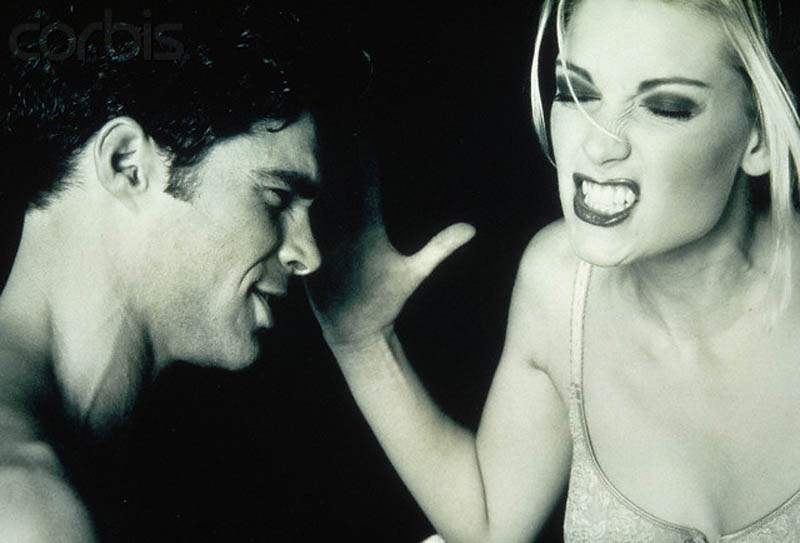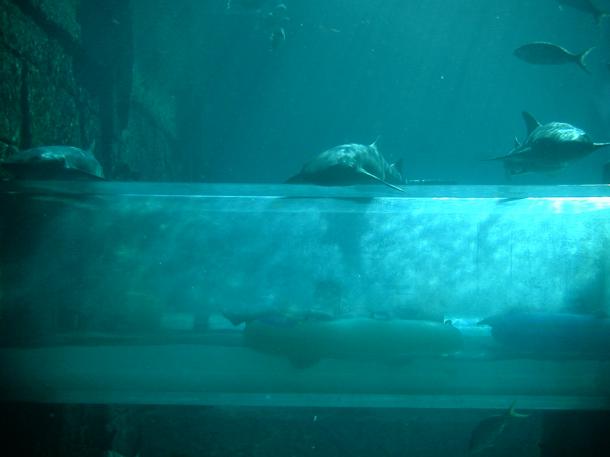Все двадцать лет с момента крушения СССР нас убеждают в том, что практически все, что выпускалось в «этой стране», было немирового качества, неконкурентоспособное, серое, убогое и так далее в этом роде. Из советских брендов мир якобы знал только водку, икру, автомат Калашникова, матрешек и балалайки. Однако это было не совсем так. Советский Союз имел в своем активе массу самых разнообразных брендов, известных и продаваемых далеко за пределами страны, начиная с часов «Слава», сигарет «Прима» (которые, говорят, курила сама английская королева), детских электрических игрушек «Огонек», оптических приборов ЛОМО, различных марок фирменного фарфора и автомобилей «Нива» и до натуральных шуб премиум-класса и авиалайнеров. Экспортным товаром были даже спички. Их этикетки, отражавшие различные этапы развития страны, являлись еще и своеобразным информационно-имиджевым брендом.
Возьмем, к примеру, часовую промышленность. Сегодня экспорт часов приносит Китаю 6 млрд долларов в год, а Швейцария, продающая 25 млн часов, зарабатывает на них ежегодно 10 млрд евро. Практически столько же, сколько приносит весь российский оружейный экспорт! А ведь еще каких-то 20 лет назад ситуация на мировом рынке была другая. Не Китай, а наша страна была одним из лидеров мирового часового рынка, контролируя десятую его часть. В СССР выпускалось 50 млн часов в год, и треть этой продукции шла на экспорт. У советских хронометров было лучшее в мире соотношение «цена — качество». В 1965 году наручные часы «Восток 2809» завоевали большую золотую медаль на престижной Лейпцигской международной выставке. Иностранцев до глубины души поразил тот факт, что «элитный» по западным меркам прибор выпускался в СССР массовыми тиражами и стоил несколько долларов. При этом низкая стоимость часовой продукции сочеталась с ее необыкновенной надежностью. Готовясь к операции «Буря в пустыне», Пентагон, выбиравший из десятков поставщиков, закупил для американских солдат 50 тысяч «Командирских» часов барнаульского завода «Восток». Испытания показали, что в отличие от «нежных» швейцарских и японских механизмов они отлично переносят экстремальные условия. Сегодня отечественной часовой промышленности в ее былом виде больше нет. Один за другим приказали долго жить знаменитые советские часовые бренды «Слава», «Заря», «Чайка», «Молния» и другие.
Не менее высокотехнологичной и конкурентоспособной была и отечественная радиоэлектронная промышленность.
По мнению как отечественных, так и иностранных экспертов, к середине 80-х годов прошлого века она вышла на сопоставимый с западными конкурентами технологический уровень и при минимальной поддержке вполне могла начать выпуск собственных DVD-, MP3-проигрывателей, мобильников и других современных устройств практически одновременно (возможно, на один-два года позже) с зарубежными конкурентами. Например, продукция Бердского радиозавода побеждала на многих выставках за границей и продавалась в Европе, Африке, Турции, Англии, Иране, Вьетнаме (экспорт завода осуществлялся в 26 стран мира). Производство кооперировалось с сотнями предприятий СССР и стран СЭВ. С 1985 по 1990 год в СССР был сделан настоящий прорыв в бытовой радиоэлектронике. Такие бренды, как «Электроника», «Радиотехника», «Вега», «Одиссей», «Амфитон» и другие, были широко известны не только в Советском Союзе, но и далеко за его пределами. К усовершенствованию продукции и ее выпуску подключились предприятия двойного назначения (в том же Зеленограде). Но триумфальное шествие отечественных радиоэлектронных брендов также было приостановлено доморощенными «эффективными менеджерами и макроэкономистами», наставляемыми на путь истинный теми, кому эти и другие советско-российские бренды и стоящие за ними конструкторско-производственные мощности были никак не нужны на мировом, глобализуемом под собственные интересы и выгоды рынке.
Уничтожение брендов сопровождалось уничтожением их носителей и производителей, то есть объектов и целых отраслей экономики.
Прикрывалось это все, разумеется, разговорами о естественном рыночном процессе, низком качестве «советского вала» и его «примитивном» дизайне. Но так ли это на самом деле? Возьмем, к примеру, законодателей мировой автомобильной моды и качества — японцев. Так вот, на конец июня прошлого года Toyota Motor из-за целого ряда дефектов, выявленных, кстати, только в процессе эксплуатации, отозвала свыше 14 млн автомобилей по всему миру! Это, конечно, серьезно ударило по светлому имиджу еще недавнего лидера мировых продаж. При этом никто, включая наших мэтров рыночной экономики, не сказал ни слова о неконкурентности японских машин. Руководство корпорации объяснило проблемы тем, что за последние годы резко возросли продажи Toyota, что потребовало скорого увеличения производства, вот эта спешка и стала причиной снижения качества. Оказывается, некачественный «вал» могут гнать не только совковые предприятия, но и передовики капиталистического производства. Тогда зачем с таким усердием и неистовой энергией нужно было банкротить, давить и всеми возможными способами вытеснять с рынка именно наши «малоэффективные» компании? Почему китайские производители, «вал» которых в разы некачественнее того, что «гнала» советская промышленность, всячески поддерживаются, а их бренды-аналоги продвигаются на мировые рынки собственным государством?
Что имеем — не храним
Теперь о дизайне.
Когда преподавателю британской Высшей школы дизайна Умберто Джираудо показали наиболее распространенные когда-то в СССР товары народного потребления, он, вопреки ожиданиям «тонко чувствующих стиль экспертов», не ужаснулся, а, напротив, пришел в полный восторг. Вот лишь несколько его оценок.
Растворимый кофе в банке. «Милая упаковка. Простая, экономичная в производстве, всего два цвета, и до сих пор выглядит очень современно. Я бы с радостью купил кофе в такой упаковке — она выглядит гораздо аутентичнее, чем весь этот пластиковый мусор, в который кофе фасуется сегодня».
Сгущенка в металлической банке. «Настоящий русский шедевр. Я знаю, что очень многие люди любят этот продукт, в том числе потому, что его можно варить прямо в банке».
«Ушастый» «запорожец». «Настоящий шедевр советского дизайна, несмотря на то что он базировался на дизайне FIAT. У «запорожца» есть уникальные черты, например, решетка на капоте, которая придает образу автомобиля некоторую агрессивность. Ни разу не видел «запорожцев» в жизни, но слышал множество историй об этих машинах. В частности, о том, как их ремонтировали и украшали». Холодильник ЗИЛ. «Восхитительный дизайн, и я категорически не понимаю, почему русские покупают китайские холодильники и проводят их ребрендинг, вместо того чтобы вдохнуть новую жизнь в старые формы». Но этого всего, как и многого другого, уже нет. Вдыхать новую жизнь не во что.
В результате реформ Россия утратила сквозное производство (от конструкторских разработок и выпуска комплектующих до сборки и упаковки) огромного количества своих продуктовых и товарных брендов, среди которых телевизоры, мотоциклы, велосипеды, детские игрушки, значительная часть товаров легкой, пищевой и других промышленных групп. Но свято место пусто не бывает. Не для этого оно расчищалось. На месте полноценных отечественных отраслей появились сборочные придатки транснациональных корпораций, о качестве и дизайне продукции которых уже никто не спорит.
Конкурировать, по сути дела, им не с чем, поскольку изделия под известными с советских времен марками занимают сегодня не более 20% в общем объеме российского производства товаров массового спроса. Да и те уже весьма условно можно назвать полностью отечественными и оригинальными. Так, например, бренд «Ява» вместе с фабрикой перешел к British American Tobacco, печенье «Юбилейное» ушло французскому Danone, «Приму» получила в собственность британская компания. Даже знаменитый «Беломорканал», наряду с несколькими российскими фабриками, сегодня производит японская компания JTI.
В других сегментах эта цифра варьируется от 45—48% до 2% (исключение составляет оборонное производство, информация о содержании в котором иностранной компоненты не разглашается). Маркетинговые аналитики отмечают, что большинство российских предприятий не управляют, а скорее просто «используют» ту или иную торговую марку, доставшуюся им по наследству. Зачастую под старым известным брендом покупателю предлагается продукт, по своим качественным характеристикам лишь отдаленно напоминающий тот, что выпускался году эдак в 1977—1978-м. Например, тот же банальный бинт.
Не лучше ситуация и с новыми российскими брендами. Вот что говорит по этому поводу управляющий директор компании BrandLab Александр Еременко: «Брендов мирового уровня у сегодняшней России очень мало. Из современных можно выделить только бренд «Касперский», который всего за 15 лет добился мирового признания, а в некоторых странах, например, в Германии, даже является лидером продаж. В ближайшие десять лет на мировом рынке станут заметны еще пять-семь российских брендов, большинство из которых связаны с высокими технологиями.
Было успешно реанимировано несколько старых брендов, но только внутри страны: «Аленка», «Жигули» («Жигулевское»), «Известия», «Ералаш» и др. Новых российских брендов за рубежом не ждут, там своих полно. Есть небольшие успехи, например, водка «Русский стандарт», но до мирового признания очень далеко». Вот и все, что осталось от некогда, без лишнего пафоса можно сказать, великой брендовой экономики.
Если бы наши «уважаемые» отечественные реформаторы не руководствовались принципом, который после смерти Е.Т. Гайдара озвучил один из них, сказав примерно следующее: «Речь не шла об экономических решениях, а о том, чтобы сломать систему», возможно, судьба отечественных брендов, равно как и всей экономики, не была бы так печальна.
За что боролись?
Накануне кризиса в 2007 году Россия вышла на первое место в мире по зависимости потребителей от брендов. Такие выводы опубликовала в аналитическом докладе международная консалтинговая компания McKinsey. На втором месте в рейтинговой таблице оказались американцы, на третьем — поляки.
О чем говорят эти показатели брендозависимости?
Во-первых, принимая во внимание то обстоятельство, что бренд — категория (система) не только экономическая, но и философская, касающаяся как материального выражения, так и человеческих, культурных ценностей, мы далеко продвинулись в утрате собственных и заимствовании чужих составляющих данной системы. Народ-победитель семимильными шагами трансформируется в другое, пока не очень понятно какое, именно народообразование. Первый канцлер Германской империи Отто фон Бисмарк очень хорошо сказал по этому поводу: «Русских невозможно победить, мы убедились в этом за сотни лет. Но русским можно привить лживые ценности, и тогда они победят сами себя!» Великий немец, как его называют на родине, не успел осуществить на практике свои мудрые мысли. Но «полезные советы» не сгинули в анналах истории. Они с успехом претворяются в жизнь. Очень интересную характеристику этому успешному процессу дал человек, весьма далекий от политики и экономики, прославленный американский архитектор, профессор Питер Айзенман, посетивший российскую столицу в рамках Второй Московской биеннале архитектуры и XV ярмарки «Арх Москва». «По-моему, опасность для Москвы и для России в излишней подверженности влиянию Запада, в погоне за брендами и имиджем. Слишком много стилизации, того, что я называю китчем. Мировой капитал проникает в Россию очень быстро, и страна теряет целостность и свою культурную идеологию», — сказал впервые посетивший нашу страну всемирно признанный мэтр архитектуры и культурологии.
Во-вторых, происходящее пагубно и разрушительно действует не только на ценностные ориентиры, мировосприятие и векторы приложения жизненной энергии россиян, оно ломает их физически. Как отмечает доктор Гленн Уилсон, психиатр из Лондонского королевского колледжа (King's College London), в основе лейбломании (погоне за «фирмой») лежат низкая самооценка, депрессия и одиночество. Добавим, что данная гонка обуславливается еще и активно подогреваемым со всех сторон нашими «партнерами» и тьюторами (tutor — наставник, воспитатель, куратор) стремлением показать личный успех и принадлежность к особо избранной элитарной группе населения, демонстрирующей всем остальным свой особый статус и ничтожество всех остальных.
Озабоченное «фантиками» и прочими второстепенными мелочами, зависимое от чужого капитала, разобщенное, пронизанное антагонизмом, больное общество, состоящее из комплексующих индивидуумов с низкой, либо невероятно завышенной самооценкой, — не это ли нужно тем, кто так стремится под общим лозунгом «дальнейшей демократизации» низвести народ России до стадии морального и физического упадка, позволяющей манипулировать им в максимальной степени.
http://clubs.ya.ru/4611686018427433877/replies.xml?item_no=18305

















 Советский Союз обладал поистине уникальными высокотехнологичными производствами полного цикла, подчеркнем, именного полного цикла, то есть от теоретической и технологической разработки оригинальной модели и бренда до производства готового для массового потребления продукта. Вместе эти производства составляли высокотехнологичные промышленные сегменты, которые могли бы приносить стране серьезные прибыли и стать точками роста ее экономики.
Советский Союз обладал поистине уникальными высокотехнологичными производствами полного цикла, подчеркнем, именного полного цикла, то есть от теоретической и технологической разработки оригинальной модели и бренда до производства готового для массового потребления продукта. Вместе эти производства составляли высокотехнологичные промышленные сегменты, которые могли бы приносить стране серьезные прибыли и стать точками роста ее экономики.