-Цитатник
Пробуждение сознания или электронно-цифровой концлагерь? Нет ничего сильнее идеи, время кот...
Купленный за 172 000 долларов портрет может стоить миллионы - (0)Купленный за 172 000 долларов портрет может стоить миллионы Открыта новая картина РембрантаПочему...
ЭРМИТАЖ.ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII—XVIII ВЕКОВ.Малые голландцы(2) - (0)ЭРМИТАЖ.ГОЛЛАНДСКАЯ ЖИВОПИСЬ XVII—XVIII ВЕКОВ.Малые голландцы(2) Шатровый зал ...
Замки Бельгии:Стеркхоф - (0)Замки Бельгии:Стеркхоф В XVI веке жил в Антверпене могущественный род Стер...
Дом князя Оболенского на Новинском бульваре - (0)Дом князя Оболенского на Новинском бульваре На Новинском бульваре стоит ореставрированный в совет...
-Музыка
- Дунайские волны (вальс)
- Слушали: 6228 Комментарии: 0
-Метки
-Рубрики
- Живопись (1188)
- нидерландская и фламандская живопись (854)
- голландская, бельгийская живопись ХIХ-ХХI века (220)
- сюжеты в живописи (104)
- английская живопись (11)
- российская живопись (10)
- Династии России (512)
- Трубецкие (66)
- Строгановы (39)
- Юсуповы (33)
- Нарышкины (33)
- Голицыны (28)
- Шереметевы (27)
- Демидовы (26)
- Чернышевы (25)
- Орловы (25)
- Толстые (23)
- Воронцовы (23)
- Волконские (21)
- Куракины (21)
- Шуваловы (21)
- Барятинские (18)
- Оболенские (14)
- Бенкендорфы (14)
- Анненковы (13)
- Румянцевы (10)
- Мусины-Пушкины (9)
- Бакунины (9)
- Сухово-Кобылины (7)
- Муравьевы (4)
- Бестужевы (4)
- Головкины (4)
- Бобринские (3)
- Бестужевы-Рюмины (2)
- музыка (430)
- города и страны (295)
- о Голландии (169)
- о Бельгии (100)
- Муром (25)
- история (274)
- декабристы (143)
- Голландия (44)
- Голландия. Немного истории. (27)
- Бельгия (25)
- российско-голландские связи (18)
- Приключения голландцев в России (7)
- Испания (6)
- Муром (5)
- Россия (3)
- ЖЗЛ (191)
- Пушкин и вокруг (90)
- Россия (34)
- Голландия, Бельгия (18)
- Блумсбери (14)
- Англия (10)
- Муром (8)
- Франция (8)
- Америка (6)
- разное (71)
- видео (26)
- тесты, астрология (18)
- для дневника (5)
- культура, искусство (4)
- для детей (4)
- праздники (27)
- праздники голландии (13)
- праздники России (5)
- Космонавтика, Байконур (25)
- Мятлевский (14)
- Скульптура (9)
- голландия (6)
-Ссылки
-Поиск по дневнику
-Подписка по e-mail
-Друзья
-Постоянные читатели
-Сообщества
-Трансляции
-Статистика
Записей: 2861
Комментариев: 2522
Написано: 6250
Вложенные рубрики: Россия(3), российско-голландские связи (18), Приключения голландцев в России(7), Муром(5), Испания(6), декабристы(143), Голландия. Немного истории.(27), Голландия(44), Бельгия (25)
Другие рубрики в этом дневнике: Скульптура(9), разное(71), праздники(27), Мятлевский(14), музыка(430), Космонавтика, Байконур(25), Живопись(1188), ЖЗЛ(191), Династии России(512), города и страны(295)
Николай Александрович Бестужев, овеянный гениальностью..., часть 3. |
Это цитата сообщения TimOlya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Николай Александрович Бестужев, овеянный гениальностью..., часть 3.
Николай Александрович Бестужев, овеянный гениальностью..., часть 3.
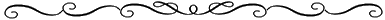
Последняя часть рассказа о художнике-декабристе Николае Александровиче Бестужеве посвящена его пребыванию на поселении, куда он с братом Михаилом прибыл в сентябре 1839 года. Ещё в острогах они мечтали попасть в Селенгинск, заштатный городок в Забайкалье, куда их влекла жажда активной трудовой жизни. Бестужевы считали, что именно здесь они смогут найти применение своему трудолюбию и изобретательности. Кроме того, из Селенгинска было рукой подать до городов Верхнеудинска, Нерчинска, Кяхты и Иркутска. Сверх того для удобств самой жизни этот город хорош тем, что пользуется прекрасным климатом на берегу величественной реки, изобилующей рыбой (Михаил Бестужев)

***
Метки: ЖЗЛ россия бестужевы декабристы |
История о том, как продажа земли смягчила участь двух декабристов (I). |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
История о том, как продажа земли смягчила участь двух декабристов (I).
Нижегородский помещик
"Я нахожусь в сей губернии вице-губернатором уже восемь лет. Вашему Сиятельству известны как поведение мое, так и самая служба, в коей при отправлении должности гражданского губернатора в 1812 году удостоился изустно получить Ваше благоволение за предложение мое о собрании суммы пожертвований на обмундировку и устройство обозов, формируемых тогда Вашим Сиятельством полков".(Из письма нижегородского вице-губернатора, Александра Семеновича Крюкова, министру юстиции, члену Государственного совета, князю Дми́трию Ива́новичу Лоба́нову-Росто́вскому.)
Министр внял просьбе и в ответном письме пообещал сделать все от него зависящее, дабы помочь ему занять столь желанное кресло. 23 декабря 1818 года Александр Семенович Крюков был назначен нижегородским губернатором. Редко кто из заместителей в губернской администрации становился начальником. Этот – стал. Первым из двух нижегородских вице-губернаторов, все-таки сумевших подняться по служебной лестнице. Александр Семенович Крюков происходил из древнего боярского рода. Предок Крюковых, Салах-Эмир мурза, не поладил с ханом Едигеем и выехал из Золотой Орды к сопернику Дмитрия Донского, Великому князю Рязанскому Олегу Ивановичу. В 1371 году этот мурза крестился и принял имя Иван Мирославич. Вот праправнук его, Тимофей, прозванный Крюк, и был родоначальником Крюковых. Бояре Крюковы были в родстве с Апраксиными, Ханыковыми, Хитрово. В XIV веке был известен боярин Крюк-Фоминский Михаил Фёдорович. Яков Васильевич Крюк был окольничим и постельничим Ивана Грозного. Тульский дворянин Крюков Афанасий в 1650году - курским воеводой. В боярских списках 1706 года упоминаются Крюковы: Алексей Семенович, Григорий Матвеевич, Иван Епифанович, Иван Иванович, Иван Матвеевич. В общем, древний знатный род, внесенный в VI часть родословных книг Московской и Тульской губерний. Родовой герб дворян Крюковых был весьма символичным - два крюка, положенные крестообразно на шпагу. До своего назначения в 1810 году нижегородским вице-губернатором Крюков успел шестнадцать лет прослужить в конной гвардии. При императоре Павле, известном своей «любовью» к «гвардейским янычарам», когда за год в конной гвардии сменились почти все офицеры, Крюков карьеру решил делать на гражданской службе. Ушел в отставку и двенадцать лет был директором Государственного заемного банка для дворян и городов.
«От дворян принимать под залог деревни, полагая 40 рублей за душу»...
«... Дворяне закладывают имения на 20 лет по 5 процентов, а 3 процента идет на уплату капитала, итого 8 процентов». 1787 год. (Из указа императрицы Екатерины II. “О переименовании учрежденного в 1754 году Дворянского банка в Государственный заемный банк для дворян и городов». Яблочков М. История дворянского сословия в России. СПб., 1876. С. 565-566.)
Первые банки возникли в России в середине XVIII века. Они были государственными и организованы как сберкассы, принимавшие вклады до востребования и выдававшие долгосрочные ипотечные ссуды частным лицам и государственной казне. Первыми банками были Дворянский (с 1754г.) и Астраханский (с 1764г.). Банков в стране тогда было пять, и до 50-х годов XIX века банковская система оставалась неизменной (только после реформы 1860 года, в связи с отменой государственной монополии на банковское дело, начали возникать частные банки). "Как у двора, так и в столице никто без долгу не живет, для того чаще всех спрягается глагол: быть должным..." писал еще Д.И.Фонвизин в своей "Всеобщей придворной грамматике". Он же спрашивал Екатерину II: "Отчего все в долгах?" - и получил ответ: "Оттого в долгах, что проживают более, нежели дохода имеют" (Фонвизин Д.И. Собр. соч.: В 2 т. М.; Л., 1959. Т. 2. С. 51, 272).
Чем же занимался банк Крюкова? Долги, проценты по залогам, перезакладывание уже заложенных имений было уделом отнюдь не только бедных или стоящих на грани краха помещиков. Более того, именно мелкие и средние провинциальные помещики, менее нуждающиеся в деньгах на покупку предметов роскоши и дорогостоящих импортных товаров и довольствующиеся "домашним припасом", реже входили в долги и прибегали к разорительным финансовым операциям. А вот столичное дворянство, начиная с екатерининских времен, поголовно было в долгах. Одалживая же под залог крепостных душ и земельной собственности большую сумму, помещик сразу соблазнительно просто получал в свои руки нужное ему количество денег. В те времена жить на средства, полученные при закладе имения, называлось "жить долгами". Предполагалось, что дворянин на полученные при закладе деньги приобретет новые поместья или улучшит состояние старых. А затем, повысив таким образом свой доход, получит средства на уплату процентов и выкуп поместья из заклада. Но в большинстве случаев дворяне просто проживали полученные в банке суммы, тратя их на покупку или строительство домов в столице, туалеты и балы (помните, у Пушкина в «Евгении Онегине» - "давал три бала ежегодно и промотался наконец…"). Многие дворяне перезакладывали уже заложенные имения, что влекло за собой удвоение процентов, которые начинали поглощать значительную часть ежегодных доходов от деревень. И вновь приходилось делать долги, вырубать леса, продавать еще не заложенные деревни. А дед Пушкина, например, продавал свои московские вотчины и покупал имения в Нижегородской губернии, в Большом Болдино. Земли-то были не хуже, однако подешевле. Так же сделал и Крюков. А уж он-то, в силу служебного положения, прекрасно знал ситуацию. И стал Александр Семенович Нижегородским помещиком, прикупив землицу в Нижегородской губернии, а с ней и заложенные в Государственном заемном банке деревни, в том числе Мышьяковку и Сормово, да в них 400 душ крепостных. Кстати, по тем временам название Мышьяковка способно было у понимающего человека вызвать нешуточный интерес - русское название «мышьяк» произошло от "мышь" (то есть препарат для истребления мышей и крыс). В амбарах и хранилищах помещиков и купцов эти самые грызуны - крысы и мыши - в те времена при оптовой торговле зерном, были просто бедствием. Природные же минеральные образования, пригодные для экономически целесообразного извлечения мышьяка, встречаются не так уж часто. Особенно недалеко от множества портовых и торговых складов, которыми богат Нижний Новгород. А, значит, от продажи мышьяка можно было иметь очень неплохой доход.
Крюкова ценили. От государя за службу в банке Александр Семенович был удостоен бриллиантового перстня. Однако хотелось служебного роста, да и дети (сыновья Александр, Николай, Платон и дочь Надежда) подрастали. Вот к имениям своим и хотелось быть поближе. В 1810 году он сменил место службы. А уж опыта у нового Нижегородского вице-губернатора было - хоть отбавляй. С первого же дня после назначения вице губернатором он с головой ушел в работу. Исполнительный и инициативный (что, согласитесь, весьма ценно) он стал незаменимым помощником губернатора А. М. Руновского.
1812 год. Герой Турецких войн, лично Суворовым награжденный золотой шпагой «За храбрость», генерал от инфантерии князь Дми́трий Ива́нович Лоба́нов-Росто́вский, бывший военный губернатор Петербурга, а с 1810 года Лифляндский, Эстляндский, Курляндский генерал-губернатор и Рижский военный губернатор, назначен воинским начальником на территории от Ярославля до Воронежа. Его задача – срочное формирование воинских соединений. Не дожидаясь приезда губернатора А.М.Руновского с курорта, где тот «поправлял пошатнувшееся здоровье», Крюков начинает сбор на это денег самостоятельно. Для бывшего директора банка - привычная работа. Выполнено было оперативно и весьма успешно - собрано 52 тысячи рублей. И князь Лобанов-Ростовский лично благодарит Крюкова, - на эти деньги он смог уже в сентябре 1812 года обмундировать и отправить в армию сформированные им 8 пехотных и 4 егерских полка - целых две пехотных дивизии.
Спереди на шапке - крест и вензель императора
"…. долго, весьма долго не забудут враги наших пеших казаков, - так называли они ополченцев, - спрашивая, откуда они, эти бесстрашные люди с крестом на лбу, пришедшие на их пагубу". (Барон фон Штейнгель, Владимир Иванович, декабрист.)
Капитан-лейтенант фон Штейнгель, будучи в отставке, в 1812 году вступил в Петербургское ополчение. Участвовал в заграничных походах 1813—1814 годах. С сентября 1814 года - адъютант при московском генерал-губернаторе А.П.Тормасове. Участвовал в восстановлении Москвы.
Въ Нижегородскомъ ополченiи знамена белаго цвета, съ золотыми, вокругъ коймами и лавровыми ветвями. На одной стороне изображены, писаные золотомъ: крестъ, корона, вензелевое имя Императора Александра I и надписъ: “За Веру и Царя”. По сторонамъ креста буквы: Н. и 0. (Нижегородскаго ополченiя); а по сторонамъ вензеля нумеръ полка и баталiона, какъ, напримеръ, въ 1 баталiоне 1-го полка: 1-го П. 1 го Б. На обороте представленъ темнокраснаго цвета олень съ золотыми рогами (*Олень сей, изображающiй Нижегородскiй гербъ, представленъ на знаменахъ не совсемъ верно; онъ долженъ быть красный, съ черными рогами и черными копытами.), а подъ нимъ золотая арматура. Копья на древкахъ прорезныя, съ вензеловымъ именемъ Императора Александра
6 июля 1812 года в Санкт-Петербурге был опубликован манифест о создании всенародного ополчения в помощь регулярным войскам для борьбы с Наполеоном. Создавали его как временную вооруженную силу. Ополчение формировали в 16 центральных губерниях России, разделенных на 3 округа, и 4 губерниях Украины. А в тех губерниях, которые не вошли в эти округа, по инициативе жителей тоже создавали отряды ополченцев. Сформировали конный эскадрон Херсонской губернии, корпуса олонецких и курляндских стрелков, корпус лифляндских егерей, лифляндский казачий полк, отряды Вологодской губернии. Были и ополченские формирования, создававшиеся состоятельными лицами на свои средства, например гусарский полк графа П. И. Салтыкова, казачий графа М.А.Дмитриева-Мамонова и батальон великой княгини Екатерины Павловны. Вооружались, снаряжались и содержались ополченцы только на пожертвования. Основной же контингент ополчения составляли крепостные крестьяне. Их принимали в ополчение только с ведома помещика (по 4-5 человек в возрасте 17-45 лет от ста здоровых мужчин). А ремесленники, мещане и духовенство вступали в него добровольно. Командиры избирались дворянством из отставных офицеров.
Командующим войсками ополченского округа в Казанской, Нижегородской, Пензенской, Костромской, Симбирской и Вятской губерниях был назначен генерал-лейтенант граф Петр Александрович Толстой. Его послужной список впечатляет - губернатор Петербурга, командир лейб-гвардии Преображенского полка, Посол в Париже (1807- 1808). Небезосновательно говорили, что именно хлопоты по формированию ополчения окончательно подорвали здоровье губернатора А.М.Руновского. Дел было невпроворот и у вице-губернатора А.С.Крюкова, и у предводителя Нижегородского дворянства, ставшего командиром ополчения, камергера князя Г.А.Грузинского. Не только как у администраторов, но и как у помещиков, - ополченцев ведь им надо было найти из собственных крепостных. Кстати, и командир ополчения, князь Г.А.Грузинский, был личностью весьма колоритной. Этот екатерининский вельможа обосновался после Санкт-Петербурга в своем поместье Лысково. Это богатое село потомкам грузинского царя Вахтанга VI пожаловал царь Пётр I. Егора Александровича Нижегородцы так и звали - «царевич грузинский». Его придворный титул приравнивали к генеральскому, а за активное участие в дворянском собрании Нижегородские дворяне трижды избирали его своим предводителем. О жестокости князя ходило много легенд, но самую страшную поведал нижегородский краевед Дмитрий Смирнов. Хоть и был князь крупным благотворителем, но у себя в усадьбе — форменный деспот. Частенько бывал бессмысленно жесток, не считал крепостных за людей и беспощадно их колотил. Некоторые от него бежали. Взамен беглецов князь «привечал» у себя крестьян, бежавших от других владельцев, не интересуясь, кто они и откуда. Таким князь давал имена бежавших крестьян. Однажды стража доложила, что губернатор едет с проверкой жалоб. Недолго думая, князь согнал всех беглых под мельничную плотину и велел подрубить опоры. Тогда утонуло несколько десятков крестьян. После многих подобных «художеств» князя наконец-то удалось отдать под суд. Но он и тут отвертелся, найдя хитроумный выход из ситуации. Подкупив кого надо, Грузинский сам себе устроил пышные похороны. Числился князь мертвым три года, с 1798 по 1801 год, однако быстренько «ожил» по восшествии на трон нового царя. Александр I князя сразу же простил. Вот этот-то матерый крепостник не побоялся встать во главе 12 462 крепостных, ставших в ополчении ратниками. И, представьте, неплохо командовал Нижегородским полками - пятью пешими и одним конным.
Нижегородские ополченцы были одеты в серую форму. Каждому ратнику полагался ранец. В нем - рубаха, портки, рукавицы, портянки, онучи, запасные сапоги и провиант на трое суток. Пехотинцы вооружены были пиками и топорами. «Ополченiе сiе (5 полковъ пешихъ и 1 конный) при сформированiи его было одето согласно постановленiю Графа Толстаго, причемъ шапки имело четыреугольныя, въ роде уланскихъ, съ околышемъ изъ черной овчины; пешiе воины были вооружены пиками, съ широкимъ плоскимъ острiемъ, а конные обыкновенными пиками и саблями и имели казачьи чепраки, изъ сераго, съ обкладкою и вензелями изъ краснаго сукна. Они отличались отъ пешихъ еще темъ, что имели на шапкахъ, вместо меховаго, серый, суконный околышъ, съ двумя выпушками изъ краснаго сукна; такую же выпушку по верхнему и боковымъ краямъ воротника, у обшлаговъ и вдоль борта; серые, суконные кушаки, съ красною, суконною выкладкою по краямъ, и такую же выкладку, въ одинъ рядъ, на шараварахъ».
«Объ обмундированiи офицеровъ Нижегородскаго ополченiя сведенiй не сохранилось».
В декабре ополчение выступило на биваки. Ушел с ним и старший сын вице-губернатора, семнадцатилетний корнет Нижегородского конного полка Александр Александрович Крюков, и ополченцы-ратники из крепостных крестьян его отца. Присоединение ополчений к армии позволило не только использовать их непосредственно в боевых действиях, но и освободить строевых солдат от дел боевого обеспечения -охраны обозов, парков, лагерей, коммуникаций, складов; работы санитарами, саперами, ездовыми, - и таким образом усилить регулярные войска. В мае 1813 года Резервная армия Лобанова-Ростовского и корпус генерала Д.С.Дохтурова тоже вошли в ополченскую армию генерал-лейтенанта П.А.Толстого. И эта армия двинулась в заграничный поход, где в качестве резерва находились при русской армии в сражениях под Дрезденом и Рейхенбергом. Ополченцы участвовали в осаде Дрездена, после чего часть ополчения была отправлена в помощь войскам, осаждавшим Гамбург, а часть осталась при осаде крепости Глогау. Александр Крюков в рядах нижегородского ополчения (почти все рядовые ратники которого, напомню, были крепостными крестьянами) воевал всю заграничную компанию 1813-1814 годов. И воевал храбро, раз за участие в сражениях был награжден медалью. Может быть, в этот период жизни он и переосмыслил свое отношение к крепостным. Согласитесь, это жуткое социальное неравенство – храбро воевавшие соратники Александра при расформировании ополчения превращаются опять в «сиволапых крестьян» и возвращаются своим помещикам, - а он, отпрыск знатного рода боярского корнет Крюков, переходит на службу в Ольвиопольский гусарский полк...
Ольвиопольским гусарским полком тогда командовал генерал-майор Д.В.Шуханов. Сформированный в свое время из Сербского и Болгарского гусарских, полк славился в армии отчаянными рубаками и наездниками. В 1806 - 1807 годах полк в составе корпуса генерала Витгенштейна дрался в Молдавии против турок. Вступил в войну 1812 года в составе Дунайской армии. К Бородино полк не успел, зато во время заграничного похода показал себя в сражениях с французами при Дрездене и Барсюр-Об. Под Барсюр-Об французскими войсками командовал старый противник Витгенштейна, маршал Удино. В разгар боя бывший гусар Витгенштейн «тряхнул стариной» и лично возглавил лихую кавалерийскую атаку Псковского кирасирского и Ольвиопольского гусарского полков, вдребезги разбив наступающую конницу французов. После этого маршал Удино и отдал всем своим войскам приказ об отступлении. А тяжело раненый в этой атаке граф Витгенштейн продолжал руководить наступающими войсками. Нижегородский конный полк тоже участвовал в тех сражениях - и при Дрездене и при Барсюр-Об. Корнета Крюкова тогда заметили и предложили служить в Ольвиопольском гусарском полку. Вскоре Александр получил повышение и стал гусарским поручиком.
«Примите нас под свой покров, Питомцы волжских берегов!
Примите нас, мы все родные!
Мы дети матушки – Москвы!
Веселья, счастья дни златые,
Как быстрый вихрь промчались вы! ...
Погибнет он! Москва восстанет!
Она и в бедствиях славна;
Погибнет он. Москва восстанет!
Россия будет спасена!
Примите нас под свой покров,
Питомцы волжских берегов!»
- писал в 1812 году Василий Львович Пушкин, дядя великого поэта в стихотворении «К жителям Нижнего Новгорода».
Для победы над Наполеоном требовалось не только срочно собрать ополчение и немалые денежные средства. После смерти Руновского Нижегородским губернатором стал родственник А.С.Крюкова, Степан Антонович Быховец Он принял этот пост в нелегкие для России времена и первым делом стал разбираться с неотложными делами: мобилизацией рекрутов, размещением пленных, организацией лазаретов и тому подобным. Тем более что ранее провинциальный и тихий город оказался в это время одним из главных культурных центров России. Почему? Да ведь в Нижний переехали, спасаясь от наполеоновской армии, многие московские учреждения, да и сами москвичи предпочитали прятаться от Наполеона именно в Нижнем.
"Нижегородский кремль увидел в своих стенах казначейство с его золотым запасом, московский сенат, государственные архивы, почтамт. Старинные, видевшие еще Ивана Грозного, нижегородские башни приняли в свои недра столичные ценности и документы, а нижегородская казенная палата и другие присутствия разместили у себя московских чиновников". Московский университет тоже переехал в Нижний Новгород. Сюда прибыли ректор университета Гейм, одиннадцать профессоров, студенты и гимназисты до университетской академической гимназии. На восьмидесяти подводах привезли научные коллекции и приборы. В Нижний переехали многие семьи аристократов: Римские-Корсаковы и Архаровы, Оболенские и Одоевские, Муравьевы и Дивовы, Карамзины и Вяземские, Анненковы и Кокошкины, Шаховские и Пушкины привезли с собой капиталы, привычку к шумной рассеянной светской жизни, последние моды и крупную карточную игру. Местная власть не ударила в грязь лицом перед светскими львами. В домах губернатора и вице-губернатора шли непрерывные праздники и балы. Сначала в этих «развлечениях» участвовали только русские, но вскоре присоединились и иноземная знать – после разгрома 1812 года в Нижний начали прибывать ( и в немалом числе) пленные из Наполеоновской армии. Это были вовсе не те сломленные и изнуренные люди, которых нам рисовала отечественная историография. И знали они не только два русских слова "хлеба! соли!", как нам вдалбливали в школе. Да, солдаты и офицеры Наполеоновской Великой Армии после битвы под Малоярославцем сдавались в плен сотнями, но они попадали они далеко не в концлагерь. Итальянцы, испанцы, немцы, поляки, французы — всему этому «воинству» находилось в плену дело. А уж если в плен сдался дворянин – «шевалье», то его вообще обязательным порядком определяли на жительство в русскую дворянскую семью. Поэтому далеко не все наполеоновские вояки так уж мечтали вернуться в свои страны, где была разруха или шла война. В Нижнем на каждого пленного городская казна ассигновала пятачок в день, да еще и подрабатывай, как можешь...
Было среди сосланных в Нижний Новгород пленных немало ветеранов Великой Армии, завоевавшей всю Европу. Той армии, костяк которой составляли бойцы французской революционной армии образца 1793 года. И которая воевала под лозунгом «Мир хижинам – война дворцам!». Далеко не все они стали роялистами. Просто профессиональные и много повидавшие на своем веку вояки. Довольно культурные и грамотные. И весьма привлекательные для молодежи и нижегородских дам, между прочим. Иные даже стали учителями и наставниками молодежи, когда в 1813 году домой вернулся воспитанник Московского университетского Благородного пансиона Николай Крюков. В Нижнем он поступил в пансион Стадлера, а потом жил в доме родителей и брал уроки у учителей Нижегородской гимназии. Тогда-то он начал набираться своих «якобинских» идей, в том числе и от пленных французов. И впервые от одного из этих республиканцев узнал семейный секрет Крюковых - историю о «верном Национальному собранию гражданине Манжене», - то ли однофамильце, то ли родственнике его по матери. Романтический юноша проникся республиканскими идеями и презрением к монархам. Не зря его показания в следственной комиссии по делу декабристов свидетельствуют о его идейной убежденности: «Вступить в общество побудило меня желание блага моему отечеству». Кстати, в среде декабристов Николай Крюков слыл философом и политиком, за что пользовался безграничным доверием П.И. Пестеля.
Метки: ЖЗЛ россия декабристы крюковы |
История о том, как продажа земли смягчила участь двух декабристов (II). |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
История о том, как продажа земли смягчила участь двух декабристов (II).
Так что же это была за история с однофамильцем его матери?
Цитирую из письма Дени Бело - своему отцу. Источник: Louis Bunneville de Marangy, Journal d'un volontaire de 1791. Paris 1888. Приведено по: Г.Ландауэр. Письма о французской революции. Письмо датировано «Сен-Менеуль, 15 марта 1792 года». Из всего письма приведу только фразу: «…..Господина и госпожу Людовик XVI, а также их детей заставили остановиться у господина Манжена, управляющего делами общины Варен».
События же лучше изложить современным языком. Удивительно, что за этот сюжет не ухватился Александр Дюма - старший. Попытка роялистов увезти Бурбонов очень уж напоминала отчаянную попытку постаревших на двадцать лет мушкетеров спасения короля Карла I от безошибочной логики мщения Оливера Кромвеля. Ну, а если поподробнее…… 20 июня 1791 года семья французского короля Людовика Шестнадцатого бежала из охваченного революцией Парижа. Спасение царственной семьи замышляли маркиз де Буйе и граф Аксель Ферзен. Первый готовил посты и конвой из роялистски настроенных офицеров и солдат, второй придумал путь и способ бегства. Ферзена почему-то в литературе называют шведом. Но его связь со Швецией заключается только в том, что корпус его отца, русского генерала Ивана Евстафьевича, 22 июня 1790 года успешными действиями на суше помог победе эскадры адмирала Чичагова над шведами в Выборгском сражении. За это лифляндец И.Е. Ферзен и стал графом, генерал-поручиком, кавалером ордена Александра Невского. Так что последний любовник королевы Марии Антуанетты, граф Алексей Иваныч Ферзен, имел уж самые что ни на есть подлинные документы Российской империи. На сцену появился знаменитый экипаж «берлин», который Ферзен «занял» у соотечественницы, русской баронессы Корф. По документам она вместе с камеристкой, лакеем и двумя детьми возвращалась домой. Мария-Антуанетта стала Корф, король – лакеем (между прочим, это соответствовало распределению ролей в семье). И вот ничем не подозрительный экипаж и его пассажиры благополучно подъезжает почти к самой границе. Документы – подлинные, а предъявляет их граф Ферзен, прекрасно объясняющийся на нескольких языках. Подозрений не возникает ни малейших. Вот только в деревне Сен-Менуэльд, где фальшивые Корфы переменяли лошадей, почтмейстер Друэ обратил внимание на странное сходство лица лакея баронессы с профилем, изображенным на ассигнации. Бравый патриот, прекрасно объясняющийся на немецком, и по акценту лакея тоже понял, кто это – весть о бегстве королевской семьи из столицы донеслась и до этих мест. И Друэ дает команду своим подчиненным тянуть со сменой лошадей. Два республиканца – офицер Гильом и Друэ отправляются в путь по известным им тропинкам в Варен. Первая их забота - уведомить общинное управление.
Городок Варенн на востоке Франции. Арка ворот, ведущая внутрь селения, похожего, как утверждают некоторые, на перевернутое седло. В ночи журчит невидимая речка Эра. Ведущий через нее маленький мост, который должны были миновать беглецы, забаррикадирован наваленными телегами и тяжелой мебелью. У въезда на него стоит два маленьких полевых орудия. А у ворот толпится с полдюжины людей, кое-как одетых, вооруженных громоздкими ружьями. Подъезжает огромный роскошный экипаж, «берлин» (были такие в конце восемнадцатого века: на высоких красных колесах, обитый изнутри белым утрехтским бархатом, с зелеными шторами). Во тьме раздаются крики «Стой!», вспыхивают спрятанные под полой фонари, кто-то хватает лошадей под уздцы, а дула уже направлены на пассажиров экипажа. Вперед выходят управляющий делами коммуны Варенна и командир местной национальной гвардии. Парижские журналисты писали, что в свете факелов оба смотрелись весьма живописно: Манжен был в сюртуке, надетом на голое тело, и в домашних туфлях — его только что разбудили. Командир тоже в мундире на голом теле. Зато он весь обвешан оружием: на боку шпага, в одной руке пистолет, в другой - ружье. После недолгих переговоров «господина и госпожу Людовик XVI, а также их детей» просят остановиться у господина Манжена, управляющего делами общины Варен. Король пытается спорить:
«Французы ошибаются, если думают, что преданность монарху угасла в их сердцах. Чтобы доказать им это, я возьму с собой вас, солдаты национальной гвардии. Вы проводите своего короля до границы».
Но Манжен и командир гвардейцев молчат.
Обманутый этим молчанием, король повелительно обратился к Манжену: «Приказываю вам немедля собрать отряд и велеть запрягать лошадей в мою карету!»
На это Манжен ответил печально: «Нет, сир. Мы не имеем права тронуться с места, пока не приедут люди из Парижа».
«Но я так хочу, я вам, наконец, приказываю!» - сказал Его Величество.
Тут оба, - Манжен, и командир национальной гвардии... расхохотались. А молоденький офицерик взрывает мост. Он догадался о том, что со стороны границы может подойти подмога. Теперь город окончательно отрезан.
Часы бьют пять, но маркиза де Буайе с подмогой из-за границы нет. С последним ударом часов входят посланцы из Парижа. Они привезли декрет Национального собрания. Оба в помятой одежде — скакали всю ночь. Они заговорили, перебивая друг друга: «Сир! В Париже волнения... люди готовы перебить друг друга… Интересы государства... Вот декрет Национального собрания... Вам надлежит вернуться...». Король прочел и сказал: «Во Франции больше нет короля».
«Семье нужно время, чтобы, не торопясь, собраться» - говорит король. Ему обещают. Но кто-то на улице уже разъяснял толпе, что король ждет солдат, которые должны освободить его. И вскоре чернь угрожающе кричала за окном: «Толстяка в Париж! За ноги втащить его в карету! И шлюху тоже!»… Уже тысяч десять людей пришло в город.
«Я никогда не видел такой ярости», - сказал герцогу де Шуазелю пришедший с посланцами толпы Манжен.
В восемь часов, поняв, что де Буайе уже не придет, король, усталый и беспомощный, уступил толпе. Маркиз же с полком пришел только к девяти часам - неповоротливый немецкий полк собирался слишком долго. Немцы не горели желанием рисковать жизнями ради французского короля. У самого города полк де Буайе встретили звуки набата, разрушенный мост и Манжен с несколькими тысячами национальных гвардейцев на том берегу. С известием о том, что Семья уже час с лишним находится на пути в Париж! Полк спешился у реки, не смея форсировать брод. Маркиз плакал...
Возвращенные в Париж Бурбоны ничего уже, кроме ненависти и презрения, не вызывали. Участь их была решена. Несмотря на принятую вскоре конституцию, сохранявшую монархию, Людовик VI и его семья оказались под негласным арестом. Восстание 10 августа 1792 года, свергнувшее монархию, поменяло только условия заключения. Чуть больше, чем через год, все было кончено: сначала гильотинировали короля, затем – королеву. Наследник престола, мальчик дофин, умер в тюрьме. Потом казнили тех, кто казнил короля и не успел эмигрировать. Затем пришел молодой и энергичный генерал Бонапарт, разогнал всех оставшихся в живых честолюбцев и создал Первую империю. Многие ее солдаты в 1812 году или усеяли своими костьми Старую Смоленскую дорогу в России, или угодили в русский плен. От них-то историю «о гражданском мужестве республиканца господина Манжена» и услышал молодой Николай Крюков. И о ее действии на романтического юношу можно только догадываться.
Оставаться в Нижнем А.С. Крюков собирался надолго
Прекратились военные действия на рубеже 1813-1814 годов. При расформировании ополчения возвратились домой и Нижегородские ополченцы. Сын Крюкова Александр перешел в Ольвиопольский гусарский полк поручиком и надел зеленый доломан и ментик. Николай уехал учиться. Но вернуться к обычной в провинции жизни россиянам как-то не удавалось - насмотрелись на иноземную жизнь в заграничных походах, да и в награду за победу ждали от государя-императора не только кресты и медали. В Российском ополчении состояло не менее 420 тысяч человек. Немало было среди них и известных литераторов, - П.А.Вяземский, В.А.Жуковский, С. Н. Глинка, И. И. Лажечников, А. А. Шаховской, А. С. Грибоедов и М. Н. Загоскин. Однако, к сожалению, ни один из них не написал о роли рядовых ополченцев в этой войне. И, очевидно, не зря. Роль народа в победе над Наполеоном откровенно замалчивалась. Начались "брожения" среди крестьян, разговоры "о воле". В начале 1815 года Нижегородский губернский прокурор Николаев доносил министру юстиции князю Лобанову-Ростовскому: «В Нижнем появились разглашатели пустых новостей насчет освобождения всех крестьян от власти помещиков. С присовокуплением слов, оскорбительных для государя». 12 марта 1815 года канцелярский чиновник Снежницкий рассказывал у себя в присутствии, что, как он слышал на базаре, «государь уже приказал отобрать всех помещичьих крестьян в казенное ведомство». Получил взыскание - такие рассказы очень не нравились начальству. Оно приказывало приводить к порядку "распоясавшееся" население. И старались, приводили. Чтобы другим не повадно было, арестовали приехавшего из Петербурга с капитаном Любанским дворового человека Дмитриева (тот рассказывал "о даровании всем крестьянам вольности и что об этом уже читан был манифест в Казанском соборе"). Выдрали Дмитриева плетьми и отдали в солдаты.
15 августа 1816 года случился страшный пожар на Макарьевской ярмарке. Шептались, что не без участия Нижегородского губернатора Быховца и вице губернатора Крюкова (они якобы угадали желание канцлера Николая Петровича Румянцева). Новую ярмарку решили открыть в Нижнем Новгороде. Торговля в 1817 году на новом месте прошла с выдающимся успехом, на ярмарку было привезено значительно больше товара, чем в предшествующем году к Макарию. Купечество было в восторге от блестящей торговли и отметило это, может быть, не без влияния Быховца, целым рядом празднеств по окончании ярмарки, закрывшейся 15 августа. Но немалые хлопоты со строительными подрядами для новой ярмарки Быховцу «вышли боком» - он угодил под суд. В столице вспомнили об энергичном и опытном вице-губернаторе. В 1818 году Крюков наконец-то занимает это, так манившее его, кресло. Благо, и все дела уже знакомы новому губернатору - как-никак целых восемь лет он по существу управлял губернией и брал на себя немалую губернаторских забот и хлопот.
Оставаться в Нижнем А.С.Крюков собирался надолго. Об этом говорит купленный им, а точнее, его женой, дом на главной улице города (сейчас в нем располагается областной суд Нижнего Новгорода). Сохранилась купчая, из которой следует, что "дом этот 4 мая 1811 года продан майором Петром Лукиным сыном Михайловым за 8 тысяч рублей ассигнациями супруге статского советника Александра Семеновича Крюкова. Но не только Александр Семенович отличался предприимчивой жилкой, но и «англичанка по происхождению» (думается мне, что ее английское происхождение придумано супругами Крюковыми для того, чтобы скрыть кое-какие факты, о которых речь шла выше) супруга его, в девичестве Елизавета Ивановна Манжен (Mangin), от него тоже не отставала. По ее распоряжению купленный каменный дом соединили с флигелем, который она построила. И дом несравненно преобразился. В те времена все губернаторы жили в казенных домах, где всегда размещалась их канцелярия и казенное присутствие (мобильников-то у них не было, а многие вопросы требовали оперативного вмешательства). И когда Крюкова назначили губернатором, хозяйственная Елизавета Ивановна продала собственный дом казне. Правда, уже за 30 тысяч рублей - ну надо же было как-то компенсировать затраты. С этим самым домом, где в свое время А. С. Пушкин у губернатора Бутурлина побывал, связана и история возникновения Гоголевского «Ревизора».
Дети губернатора успешно делали карьеру
Поручик Александр Крюков 23 мая 1817 года стал адъютантом главнокомандующего 2 армией, графа Витгенштейна. В прошлом отчаянный гусар, награжденный золотой саблей «За храбрость», граф и адъютантов себе под стать подбирал - они считались самыми отчаянными храбрецами в русской армии. 8 июля 1812 года корпус П.Х.Витгенштейна у села Клястицы к северу от Полоцка разгромил французского маршала Ундино, который превосходил его по силам, заслугам, военному опыту. Ундино должен был соединиться с войсками маршала Макдональда, вместе с ним взять в осаду Ригу и захватить Санкт-Петербург. После этой победы Наполеон отказался от намерения захватить столицу Российской империи и направился на Москву. Имя графа в то время было у всех на устах. В знак величайшего уважения жители Пскова подарили победителю икону чудотворца Гавриила с надписью: «Защитнику Пскова, графу Петру Христиановичу Витгенштейну». Дворяне Ржева выплавили золотую медаль с портретом полководца, жители Больших Лук просили у него разрешения поставить в своем городе памятник, архимандрит Печерского монастыря — построить в его честь храм Пресвятой Божьей Матери с установлением бюста. В Пскове хотели установить памятник генералу напротив Троицкого собора. Но Витгенштейн отказался от всех почестей, считая победу над грозным врагом заслугой заслугой воинов своего 1-го корпуса. Эту его операцию Главнокомандующий армией М.И.Кутузов назвал полной победой, отметив, что лучше воевать в его ситуации не смог бы никто. Витгенштейн никогда не стремился к чинам, ставя честь выше почестей. «Чести моей никому не отдам», — было написано на его гербе. Он стал и главнокомандующим (после смерти М.И.Кутузова). Но должность эту занимал недолго. «Поскольку в армию прибыл Барклай де Толли, который старше меня и в команде которого я всегда находился, мне приятно быть под его руководством», — писал он Александру І.
У такого прославленного командира Александр Крюков и был адъютантом. В январе 1819 года Крюков, оставаясь адъютантом командующего 2-ой армией, был переведен в лейб-гвардии Конно-егерский полк. А 8 февраля 1820 года - в самый элитный полк империи, лейб-гвардии Кавалергардский, которым командовал брат его приятеля, полковник Владимир Иванович Пестель.
Дочь Крюковых, Надежда, вышла за родовитого аристократа - князя Владимира Александрова Бековича-Черкасского, сына смоленского губернатора, генерал-поручика, тайного советника. Муж ее был внуком Михаила (Алея) Алегуковича Черкасского, боярина с 1679 года и любимца Петра I. Того, кто первым в русской истории был избран на должность генералиссимуса. В числе приданого невесты была и деревня Мышьяковка.
Поступивший в 1817 году в столичную Школу колонновожатых (впоследствии Академия Генерального штаба), Николай Крюков весьма успешно ее заканчивает, получает чин прапорщика и направлен в армию на юг страны, под крылышко к старшему брату. В штабе 2-й армии прекрасно принят офицерами, становится близким другом Павла Пестеля, адъютанта графа Витгенштейна, сына генерал-губернатора Сибири, Ивана Борисовича Пестеля. А подполковник Мариупольского гусарского полка Павел Иванович Пестель — лицо, достойное подражания. Блестяще окончил Пажеский корпус в Петербурге. Герой войны - отличился в сражении под Бородино, где был тяжело ранен; награжден золотой шпагой «За храбрость», которую ему вручил лично М.И. Кутузов. В заграничном походе 1813–1814 года показал свою храбрость в битвах при Дрездене, Кульме, Лейпциге и Барсюр-Об.
Братья Крюковы приняты не только в доме командующего, но и у начальника штаба 2-ой армии генерал-майора П.Д.Киселёва, начальника 16 пехотной дивизии генерал-майора М.Ф..Орлова, генерал-интенданта О.Юшневского и в доме полковника Горленко, мужа племянницы жены командующего. Они на дружеской ноге и с сыном командующего, флигель-адъютантом императора Александра I Львом Петровичем Витгенштейном, и с родовитыми аристократами, бывшими гвардейцами - нижегородцем Михаилом Бестужевым-Рюминым и Сергеем Муравьевым -Апостолом.
В общем, карьера сыновей складывается успешно. Губернатору, правда, говорили, что дети немного фрондируют, но это ничего. Просто после окончания заграничного похода золотая молодежь России снова стала играть в конспирацию. Ведь война породила большое число молодых и политически активных офицеров, желавших играть в жизни страны более активную роль, чем гарнизонное прозябание или столичные кутежи. Это под впечатлением увиденного в Европе в годы европейского похода. Но вот только впечатление на них произвела вовсе не истощённая войной Франция в преддверии реставрации, а те самые контр реформы, которые провели в Австрии и Пруссии для модернизации и укрепления монархического режима. Ну, а с такой верноподданной оппозицией даже государь-император Александр I говорил спокойно об испанской революции 1820 года, - «нас это не касается». А раз так — то и за сыновей беспокоится нечего.
"Дома строятся в два этажа, деревянные, по планам, выдающимся из строительного комитета, и расположены со всеми удобствами для пристанища в них приезжающих на ярмонку".
Частный дом в нагорной части (тот самый, который Елизавета Ивановна впоследствии завещала сыновьям) и дом в Сормовском имении Крюковы построили уже после перепланировки города. Жила же семья губернатора в казненном доме на Покровке, а новый губернаторский дом строился на ярмарке. Еще в 1821 году Крюков писал в столицу: «осуществление конфирмованного в 1804 году плана города из-за крутых гор, глубоких оврагов и по другим причинам невозможно. На обращенных к Волге косогорах ютятся делающих безобразие 528 домов нижегородской бедноты». …. «В городе только тридцать зданий каменных, да и те, за исключением казенных, незначительны». Он просил перепланировать Благовещенскую слободу, "господствующую над ней гору", район Ямских слобод, канатных заводов, Благовещенскую площадь, Покровскую, Ильинскую и Телячью улицы. Дело сдвинулось - на основе предложенного директором Комитета по делам строений и гидравлических работ России генерал-лейтенантом Августином Августиновичем Бетанкуром был составлен новый план города, ставший на десятилетия основой его развития. А после того, как план утвердил Александр I, в Нижнем началось грандиозное строительство. Близ села Гордеевка наладили работу трех кирпичных заводов, выпускавших до 3 миллионов кирпичей ежегодно. В первую очередь, конечно, строили ярмарку. Современники писали: "Мы нашли большую часть сего огромного предприятия свершенным. Главные корпуса, определенные для жительства губернатора, для помещения банков, биржевой залы, ресторации и пр. и пр., кончены, равномерно и значительная половина гостинаго двора; нет сомнения, что ярмонка перейдет из балаганов в новый гостиный двор". Строили в нагорной части, да и соседняя с ярмаркой Кунавинская слобода тоже преображалась: запущенные до того улицы приводились в порядок, на месте старых лачуг строили большие двухэтажные дома.
24 августа 1822 года состоялось освящение нового каменного гостиного двора. "Посреди главной площади, против биржевого зала, нарочно устроена была большая галерея, по которой Преосвященный Моисей, епископ Нижегородской и Арзамасской, с многочисленным духовенством совершал молебствие с водосвятием и окроплял ярмонку святою водою. После сего гражданский губернатор А. С. Крюков дал в большой зале губернаторскаго дома завтрак, на который приглашены были все чиновники и духовенство.
«С сего самого дня уже развевался флаг ярмонки, как знак ея существования».
Не все получалось гладко у Александра Семеновича: в 1823 году разгорелся крупный скандал. Во время ревизии Нижегородского уездного казначейства были обнаружены огромные даже по тем временам хищения. Некто Попов, назначенный казначеем, умудрился за шесть лет украсть 730 тысяч рублей! Росли аппетиты казначея почти в геометрической прогрессии: в 1816 году, в губернаторство Быховца, он "взял" из казны всего лишь 150 рублей, а в 1818 - 2 081 рубль, то в губернаторство Крюкова сумы были несколько иные – в 1820 уже 202 526 рублей, в начале 1823 года аж 230 000 рублей! А ведь этого вора-казначея на этот пост рекомендовал в свое время Крюков! Да и контроль за деньгами, которые рекой потекли на строительство ярмарки, был поставлен из рук вон плохо, что было уж совсем непростительно для губернатора - бывшего банкира. Конечно, началось следствие. Попов был арестован и во время следствия умер в тюрьме. Деньги как-то растворились. Благодетель Крюкова император Александр I посчитал возможным оставить проштрафившегося губернатора на месте.
«…. посадить, где лучше, и содержать строго, но хорошо, ибо полагать должно, что не виноват». (Генерал-прокурор Верховного уголовного суда по делу о восстании на Сенатской площади князь Дми́трий Ива́нович Лоба́нов-Росто́вский. Из приказа об аресте А.А. Крюкова)
Декабрь 1825 года. Как гром среди ясного неба на всю Россию раскатилось эхо от грома выстрелов на Сенатской площади. 3 января 1826 года закованный в кандалы полковник Пестель был доставлен в Петербург и заключен в Алексеевский равелин. Власти уже знали его роли в заговоре. Против Пестеля давали откровенные показания Трубецкой, Оболенский, Рылеев, Никита Муравьев. Поджио подробно расписал следователям, как Пестель «по пальцам» считал намеченных для ликвидации членов царской фамилии. По словам Николая I «Пестель был злодей во всей силе слова, без малейшей тени раскаяния...» Условия содержания Пестеля были крайне суровы, без малейших послаблений, как это было у других декабристов.
Двое сыновей Крюкова, Александр и Николай, далеко не рядовые члены "Союза благоденствия" и Южного общества, тоже оказались замешанными в мятеже. Член Союза благоденствия и Южного общества, Александр Александрович Крюков первый, поручик лейб-гвардии Кавалергардского полка и адъютант командующего второй армии графа П.Х.Витгенштейна, был арестован 30 декабря 1825 года. В приказе об аресте были слова: «…. посадить, где лучше, и содержать строго, но хорошо, ибо полагать должно, что не виноват». Александр был доставлен из Тульчина в Петербург на главную гауптвахту, потом переведен в Петропавловскую крепость. В январе же на главную гауптвахту доставлен и член Тульчинской управы "Союза благоденствия", прапорщик Николай Крюков второй. В ходе следствия выяснилось, что и сын командующего 2-армией Лев Витгенштейн, которого сам Александр I взял к себе на службу флигель-адъютантом, тоже готовил покушение на императора. Александра I должны были убить на балу, а среди нескольких вероятных исполнителей кровавого террористического акта был и ротмистр государевой свиты. Немало было свидетельств о принадлежности Витгенштейна-младшего к тайным обществам. Барятинский сознался: именно он привлек Льва Петровича к «Союзу благоденствия». Муравьев, Волконский, Булгарин, Поливанов, В.Толстой тоже указывали на него как на друга Пестеля, с которым он в 1821 году ездил в Полтаву в поисках кандидатов для тайных обществ. А вместе с Михаилом Бестужевым-Рюминым и Николаем Крюковым Лев Витгенштейн ездил и в Вильно, на связь с близким родственником своей невесты Стефани князем Константином Радзивиллом. Князь был влиятельным членом польского Патриотического общества, и именно под его руководством поляки решали, какой быть Польше после переворота в Российской империи. Декабристы обещали "отдать независимость Польше", которая обязывалась "принять правление республиканское". Однако во время следствия Николай I учел весомые заслуги генерал — лейтенанта П.Х.Витгенштейна (думаю, не только их, но и поведение Льва) и способствовал тому, чтобы следственный комитет принял оправдательное решение: «Высочайше повелено не считать прикосновенным к делу». Царь даже проявил великодушие, и сын командующего 2-ой армией даже остался в его свите флигель-адъютантом. После расправы над декабристами Витгенштейну-отцу присвоили высшее воинское звание «генерал-фельдмаршал». 57-летний полководец уже мечтал о спокойной жизни в своем имении в Каменке, а ему пришлось в 1828 году воевать против Турции. После этой войны он стал князем. А вот Крюкову-отцу не так повезло. Показания Пестеля были весьма откровенны. Вопреки современным сложившимся стереотипам, дворянская этика XIX века допускала откровенность с властями, а тем более с императором — первым дворянином. И перед следствием он предстал не как подсудимый, а как политический деятель, защищающий своё дело. И не удостоился симпатий современников, видевших в нём холодного лицемера, потенциального Бонапарта и даже шпиона Аракчеева. Лишь немногие смогли смириться с его умом и железной волей, чувством реальности и презрением к дилетантизму. Мало кто знал, что это был заботливый сын и добрый человек. Сейчас говорят, что Пестель был первым настоящим русским революционером из той породы, что бросила вызов Дому Романовых и, в конце концов, одержала заслуженную победу. Что он хотел не реформы феодально-крепостнического режима и что его идеи уже были идеями буржуазной революции.
Не менее откровенно, не скрывая своих республиканских убеждений, давал показания и единомышленник Пестеля, идеолог и теоретик Южного общества Николай Крюков. «Во Франции нет больше короля» - сказал Людовик XVI, задержанный в Варенне однофамильцем его матери Манженом. Может быть, и Николай мечтал сказать — в России нет больше императора? В общем, братья Крюковы пошли за своим другом Павлом Пестелем до конца. Поэтому для них Верховный Уголовный суд и не нашел «смягчающих обстоятельств». Приговор был суров: "Участвовал в умысле на цареубийство и истребление царской фамилии, участвовал в умысле произвести бунт и в распространении тайного общества принятием поручений и привлечением товарищей". Два брата оправдали свой родовой герб - два крюка, положенные крестообразно на шпагу. За участие в мятеже они были отнесены к обвиняемым 2-го разряда и приговорены к 20 годам каторги. Каждый.
25 июля 1826 года на кронверке Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге были повешены пятеро главарей восстания, в том числе и друзья Крюковых – П. И. Пестель, С. И. Муравьев-Апостол и М. П. Бестужев-Рюмин. А отца братьев-декабристов вскоре без лишнего шума перевели на службу в Герольдию, - следить за сохранностью архивов с дворянскими родословными. Пять лет тихо прослужил бывший губернатор архивариусом, а потом о нем опять вспомнили. Нижегородские дворяне избрали его предводителем. Расчет оказался правильным: со своими новыми обязанностями Крюков справился отлично и два трехлетних срока продержался на этом выборном посту. Это по его предложению в 1834 году были собраны деньги на строительство благородного пансиона при гимназии, который впоследствии стал основой Дворянского института.
Братья Крюковы 3 марта 1827 года были доставлены в Читинский острог. В сентябре 1830 прибыли в Петровский завод. В ноябре 1832 года срок каторги им был сокращен до 10 лет. По указу от 14 декабря 1835 года, отправились на поселение в село Онашино Енисейской губернии. В январе 1837 года переведены в уездный город Минусинск. Однако в любой государственной службе братья отказано, и они занялись земледелием и скотоводством. Все ходатайства о службе, о переводе на Кавказ рядовыми, подававшиеся братьями, их отцом, предводителем нижегородского дворянства, и их сестрой, княгиней Надеждой Александровной Бекович-Черкасской даже в 1840 и в 1841 годах неуклонно отклонялись. Все-таки, чисто по-человечески, согласитесь, что братья Крюковы куда более симпатичны, чем Свиты Его Величества флигель-адъютант ротмистр Лев Витгенштейн. Братья имели возможность покаяться, наверняка им это предлагали так, что трудно было отказаться. И, хотя соблазн был весьма велик, оба брата не отказались ни от своих убеждений, ни от соратников. И во время следствия показали себя Гражданами. С большой буквы. За это прилично возненавидивший их за время следствия Николай I и применял к ним самое страшное для патриота наказание — запрещение любой службы Родине...
А князь Лев Вингенштейн женился на фрейлине императрицы Марии Федоровны, княжне Стефани Радзивилл, единственной дочери и наследнице польского магната князя Доминика Радзивилла. Того, который ежегодно получал со своих владений на Волыни 60 тысяч рублей. Крюковы были в Читинском остроге, а в апреле 1828 года в Зимнем дворце было протестантское бракосочетание Стефани и Льва. Крестной матерью жениха была императрица Мария Федоровна, крестным отцом — брат царя Михаил Павлович. Прощение царя было куплено дорогой ценой – отречением, пусть и не публичным. Отречением от себя. От друзей. От идей. Ценой правдивых показаний на соучастников что, простите, называется стукачеством. Вот только после этого счастья в жизни младшего Витгенштейна уже не было. Было молчаливое отчуждение отца. Был стыд при взгляде на гордый родовой герб с девизом: «Чести моей никому не отдам». Был скучный французский городок Эмс. Была Волынь и бесконечные договоры князя о ссуживании им местным евреям денег под проценты. То Витгенштейн одолжит Давиду Лейбе 500 рублей на 10 лет, чтобы тот возвращал ему еженедельно по одному рублю. То он предоставит луцкому купцу Карпу Зданевичу за 700 рублей годовых аренды - в Довгошиях, Питушкове, Посныкове земли, да две водяные мельницы, да пивные и сукновальни. То подпишет договор, по которому купец третьей гильдии Шмуль Баумштейн в Олыке и ее окраинах арендует у Л.Витгенштейна пивные. В общем, Пушкинский «скупой рыцарь». А доживал же блестящий флигель-адъютант Свиты Его Величества и «вершитель судеб Российской империи» Лев Витгенштейн свои скучные дни вообще на прусской земле, откуда вышли его предки. В норе, как крыса. Один, без друзей. Скука…
Александр Крюков женился в Сибири, в 1841году. Никаких торжеств, конечно, по этому поводу не было. Сначала это был гражданский брак, а уже потом, в 1853 году, он обвенчался со своей избранницей, Анной Николаевной Якубовой (урожденной Киве), крестьянкой Лифляндской губернии, сосланной в Сибирь на поселение за умерщвление своего незаконного ребенка. По отбытии срока наказания, в 1852 году, жена бывшего дворянина Крюкова была перечислена… в крестьянки Енисейской губернии.
Сделка
« Лета тысяча восемь сот сорок девятого июля в тридцатый день. Действительная Статская Советница Елизавета Ивановна вдова Крюкова продала компании Нижегородской машинной фабрики и Волжского буксирного пароходства доставшуюся ей, по духовному завещанию мужа, Александра Семеновича Крюкова, землю» (Купчая. Палата Гражданского суда и крепостных дел Нижнего Новгорода за № 285).
Со времен событий на Сенатской площади прошло почти четверть века. И вот по ходатайству матери братьям Крюковым все-таки разрешено было вступить в гражданскую службу. В Сибирском городе Минусинске они стали канцелярскими служителями 4 разряда. А просто тогда поддержали ходатайство матери декабристов и другие, весьма Николаем I уважаемые, ходатаи. Из числа близких знакомых трех компаньонов - Дмитрия Егоровича Бенардаки, князя Кочубея или князя Меньшикова. Возможно, это был министр внутренних дел граф Перовский. Но вот почему? Все-таки, наверное, потому, что незадолго до этого в Нижний Новгород приехал Алексей Иванович Узатис, отставной майор корпуса горных инженеров и компаньон Нижегородской машинной фабрики и Волжского буксирного пароходства. Буквально незадолго до смягчения участи братьев-декабристов уездные власти города Балахны дали отрицательный ответ на его прошение о продаже земли для постройки завода — конкуренции опасались. Тогда-то Узатис «неожиданно получает сведения, что вдовствующая помещица Крюкова согласна продать участок земли на правом берегу реки Волга». Это не какая-нибудь пустошь, это наследство бывшего губернатора. Да и рядом престижные земли, принадлежавшие генерал-поручику Бутурлину, княгине Голицыной, княгине Бекович-Черкасской, княгине Шаховской, полковнику Н.А.Миротворцеву, коллежскому советнику Т.Г.Погуляеву, купеческой вдове из дворян М.И.Пашковой… Ну не собиралась Елизавета Ивановна эту землю продавать, право. Однако, если ей серьезный человек предложил улучшить участь осужденных сыновей, – это « то предложение, от которого нельзя отказаться». И в приходной книге Палаты Гражданского суда и крепостных дел Нижнего Новгорода за № 285, а по-записной – за № 23 появляется купчая. « Лета тысяча восемь сот сорок девятого июля в тридцатый день Действительная Статская Советница Елизавета Ивановна вдова Крюкова продала компании Нижегородской машинной фабрики и Волжского буксирного пароходства доставшуюся ей, по духовному завещанию мужа, Александра Семеновича Крюкова, землю».
Кто же сделал Е.И. Крюковой предложение и стал гарантом сделки? Ходят слухи, что это был Владимир Иванович Даль. По отцу датчанин, по матери – француз. По рождению - украинец, по вероисповеданию - лютеранин (лишь в конце жизни принял православие). По мировоззрению - демократ.
Даль был дворянином, но беспоместным. А потому должен был добывать хлеб государственной службой. В 1848 году над ним снова нависла угроза ареста за рассказ "Ворожейка", в котором власти усмотрели "порицание действий начальства". Соответственно доложили императору, от которого Даль получил выговор. А министр внутренних дел граф Перовский, у которого Владимир Иванович был правой рукой - начальником министерской канцелярии, заработал царское замечание. В.А. Перовский ценил Даля как честного и надежного помощника, но и царское замечание нельзя было проигнорировать. Министр вызвал начальника своей канцелярии и поставил перед ним условие: "Служить - так не писать, писать - так не служить". А Владимир Иванович не мог не служить, потому что это был единственный доход его большой семьи из девяти душ: он с женой, его мать и сестра жены, пятеро детей. И не писать уже не мог.
Граф Перовский (потомок одного из детей А.Г. Разумовского и императрицы Елизаветы, получивших фамилию по названию подмосковного села) был не только министром, но и председателем департамента уделов, имения которого находились во многих губерниях. Вот он и предложил Далю: уезжай из столицы на службу управляющим удельным имением. А удельное ведомство, снабжавшее царских родственников, было своеобразным государством в государстве, и управляющий удельным имением мало зависел даже от губернатора. Перовский предлагал любую губернию, но Даль выбрал Нижегородскую. Выбрал не ради карьеры, а для науки, чтобы быстрее завершить главное дело своей жизни - "Толковый словарь живого великорусского языка". Летом 1849 года семья Даля прибыла в Нижний Новгород. Поселилась в здании удельной конторы на Большой Печерской улице (теперь это первый, угловой корпус НИРФИ, на нем сейчас установлена мемориальная доска). В Нижнем Даль возобновил запрещенные ему в столице "Далевские четверги" - вечерние встречи на квартире с друзьями и единомышленниками. Бывали у него не только врачи, учителя и офицеры гарнизона, и отдельные чиновники.
Наиболее близко Даль сошелся с Павлом Ивановичем Мельниковым (тем самым, что подписывался Мельниковым-Печорским). По признанию последнего, их связывала "традиционная приязнь". Знакомы они были еще по Петербургу. А в Нижнем Новгороде оказались еще и соседями по улицам: Мельников жил на улице Тихоновской (теперь улица Ульянова). На одном из «четвергов» знакомый Даля по Петербургу майор А.И.Узатис посетовал на отрицательный ответ уездных властей города Балахны. Даль свел его с Мельниковым. Коренной Нижегородец, чиновник особых поручений при нижегородском губернаторе и редактор "Нижегородских Губернских Ведомостей" дал представителю компании Нижегородской машинной фабрики и Волжского буксирного пароходства добрый совет — попробовать решить дело с Елизаветой Ивановной Крюковой. Благо, доставшееся Мельникову от отца, начальника нижегородской жандармской команды, имение Ляхово было недалеко от земель Крюковых. Он лично знал и саму Елизавету Ивановну, и ее земли и семейные обстоятельства бывшей губернаторши. Возможно и историю, связанную с ролью ее девичьей фамилии - Манжен - в жизни Николая Крюкова. Ну а для правой руки министра внутренних дел и бывшего начальника министерской канцелярии В.И.Даля, конечно, никакого труда не составляло навести справки и о деталях в деле Крюковых, и о перспективах улучшения участи братьев. Так что, когда Узатис и Елизавета Ивановна условились о цене, весомые гарантии смягчения участи сыновей Крюковой честнейший Владимир Иванович Даль от лица власть предержащих, а в первую очередь своего шефа графа Перовского, мог дать вполне. И тринадцатого июля тысяча восемьсот сорок девятого года сделка была официально оформлена в палате Гражданского суда и крепостных дел Нижнего Новгорода.
Метки: ЖЗЛ россия декабристы крюковы |
Знаменитые дуэли нижегородцев (I). |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Знаменитые дуэли нижегородцев (I).
Трудной и опасной была служба в Нижегородском драгунском полку, но служить там хотели многие офицеры. Иногда даже гвардейские. Известно всего два случая, когда о переводе офицера в этот полк столичный свет говорил как о ссылке. Так говорили о корнете лейб-гвардии Уланского полка А.И.Якубовиче и корнете лейб-гвардии Гусарского полка М.Ю.Лермонтове. Случившиеся с ними истории прекрасно характеризуют нравы тогдашнего общества и стоят того, чтобы о них знать. Начну с Якубовича, - он постарше, как и его история. С того самого капитана Нижегородского драгунского, который лихо поучаствовал в восстании 1825 года. «Команда под руководством Якубовича и Арбузова должна была занять Зимний дворец и произвести арест членов императорской фамилии» - такие показания на следствии дали К.Ф.Рылеев и «диктатор восстания» князь С.П.Трубецкой. Авантюра не удалась. Якубович был осужден по первому разряду и пошел на каторгу через Урал в первой партии. А вовлек Якубовича в эти «декабристские игры» практик Рылеев, использовав его давнюю ненависть к членам императорской фамилии. А вот откуда она взялась, эта самая ненависть, и почему Якубович так мечтал угостить еще Александра I «цареубийственным кинжалом»? Об этом отдельная песня, однако…
Кавказских рыцарей краса,
Пустыни просвещенный житель,
Ты не одним врагам гроза -
Самой судьбы ты повелитель...
Строки эти поэт Нечаев посвятил другу капитану Якубовичу - человеку яркой и трагической судьбы, который был довольно заметной фигурой в российской истории. Бурные досуги «золотой» и гвардейской молодежи в те времена частенько приводили к неизбежным конфликтам. Одна из таких шумных историй привела блестящего корнета лейб-гвардии Уланского полка А.И.Якубовича и в ряды Нижегородского драгунского полка и на Сенатскую площадь... В истории этой немалую роль сыграли опять таки нижегородские дворяне - граф Шереметев и его родственник барон Строганов.
Граф Василий Шереметев происходил из древнего и, пожалуй, самого прославленного русского боярского рода. В родословной книге русских великих и удельных князей и боярских родов XVII века, еще в Петровское время, на основании легендарных средневековых сказаний род Шереметевых назван в числе "выезжих" родов из земли пруссов. И сейчас на левом берегу Волги, в месте впадения в нее реки Ветлуги, почти на границе Горьковской области и Марийской республики, в поселке Юрино (бывшее Архангельское) стоит удивительный замок, построенный старшим братом графа, Сергеем Васильевичем. Тем кавалергардом, который прославился в Отечественной войне 1812 года и в свите Александра I въезжал в побежденный Париж, а за мужество, проявленное во время войны, получил золотое оружие. Этот граф Сергей слыл человеком настолько крутым и жестоким, что крестьяне прозвали это место "Шереметевская Сибирь". Говорят, что по замку до сих пор ходит привидение в образе крепостной девки Палаши с веночком на голове. Ее замуровали в "каменный мешок" за то, что она отказала барину в его праве "первой ночи". В общем, далеко не бедным человеком был граф В.В.Шереметев, третий сын графа Василия Сергеевича Шереметева, сподвижника Кутузова и участника всех русско-турецких войн, которые вела Екатерина II. Того, кто купив имение у сестры графа Платона Зубова Ольги Жеребцовой выйдя в отставку поселился в Нижегородской губернии. Но вернемся к знаменитой гвардейской дуэли…
Императорское театральное училище помещалось на Екатерининском канале (ныне, по странной иронии судьбы, канал Грибоедова). Неподалеку от училища размещалось любимое место отдыха Петербургской «золотой молодежи» и гвардейских офицеров - «Северный трактир». И многие известные в столичном бомонде лица проводили там время в ожидании предметов своих восторгов – молодых балерин и актрис.
В кареты всех сажают нас,
Тут, у подъезда, офицеры,
Стоят все в ряд, порою в два…
Какие милые манеры
И все отборные слова!
Такие вот характерные картинки случались в тех местах каждый вечер. Их описал с натуры в свое время М.Ю.Лермонтов словами своей героини. Стрелы Амура разили в тех местах без промаха. И однажды будущий драматург, Александр Сергеевич Грибоедов, стал свидетелем начала бурного романа своего давнего приятеля, штаб-ротмистра Кавалергардского полка и Нижегородского помещика, графа Василия Васильевича Шереметьева с прима-балериной Евдокией Ильиничной Истоминой (той самой, увековеченной бессмертной Пушкинской строкой в «Евгении Онегине»). Неразлучным другом Шереметьева был тогда бретер и кутила, корнет лейб-гвардии Уланского полка Александр Иванович Якубович. Невинной шалостью Якубовича было, переодевшись сбитеньщиком, беспрепятственно проникать за кулисы и там угощать юных дев шампанским. Надев солдатские шинели, гвардейские офицеры в компании Шереметьева и Грибоедова притворялись музыкантами, что давало им возможность примкнуть к лихому Якубовичу, уже сидевшему в компании хмельных балерин с бокалами шампанского. Именно Якубович и познакомил тогда графа и кавалергардского штаб-ротмистра с балетной примой…
Роман с необычайной грациозностью опустошал карманы его сиятельства. В веселой компании любил порой и Грибоедов поколесить по увеселительным заведениям Петербурга ночи напролет. «Приезжай, приезжай скорее!.. – писал он своему приятелю кавалергарду Степану Бегичеву – я с Шереметьевым и Истоминой еду в Шустер-клуб; когда бы ты был здесь, и ты б подурачился с нами. Сколько здесь портеру и так дешево». Государственной коллегии Иностранных дел губернский секретарь А.С.Грибоедов жил в то время в квартире, которая располагалась в доме крупного коммерсанта Чагина. Квартира эта была его приятеля, камер-юнкера графа Александра Петровича Завадовского, тоже большого поклонника таланта Истоминой.
«В Петербурге говорили, что стравил всех Грибоедов, который сосводничал Завадовскому Истомину. После этого он уехал в Грузию». (Юрий Тынянов «Смерть Вазир-Мухтара»)
В ноябре 1817 года, между Шереметевым и Истоминой произошел разрыв. Как прима-балерина впоследствии уверяла, она «давно намеревалась, по беспокойному его характеру и жестоким с нею поступкам, отойти от него». Некоторые лица высшего петербургского общества небезосновательно предполагали, что Шереметев, «по юным летам своим, вероятно, ничем другим перед нею не провинился, как тем, что обмелел его карман». Но, как бы то ни было, Истомина 3 ноября переехала от Шереметева на отдельную квартиру. Далее история развивалась так: Истомина утверждала, что «когда она была 5 числа, в понедельник, в танцах на театре, то знакомый как ей, так и Шереметеву, А.С. Грибоедов, часто бывший у них по дружбе с Шереметевым и знавший о ссоре ее с ним, позвал ее с собою ехать к служащему при театральной дирекции действительному статскому советнику князю Шаховскому, к коему она и ранее нередко езжала. А потом завез ее на квартиру, куда вскоре приехал и граф Завадовский. Там он по прошествии некоторого времени, предлагал ей о любви, но в шутку или в самом деле, того не знает, но согласия ему на то объявлено не было. Посидевши с ними несколько времени, была отвезена Грибоедовым на свою квартиру». В общем, неприятная история, где автор «Горя от ума» выглядит весьма скверно – в просторечии его поступок называется сводничеством, хотя на следствии Грибоедов говорил: «Истомину я пригласил ехать единственно для того только, чтоб узнать подробнее, как она поссорилась с Шереметевым».
На третий день после этого Шереметев просил прощения. Он грозил застрелиться, если любимая не останется. Видя его «в таком чистосердечном раскаянии и не желая довести до отчаяния» Истомина согласилась. Но за два следующих дня граф так замучил ее расспросами о том, не была ли она у кого-нибудь во время ссоры, что прима-балерина взорвалась. И кое-что сказала влюбленному кавалергарду. Что именно - неизвестно, но в столичном свете долго потом ходили слухи, будто бы друг графа, корнет Якубович утверждал, что причиной дуэли был «поступок Завадовского, не делавший чести благородному человеку». И надо ли объяснять, какой? Вот и Якубович отказался. Обещал, мол, хранить тайну умиравшему Шереметеву.
Дуэль всегда начиналась с вызова. Естественно, вызвал Шереметев. То есть по дуэльному кодексу оскорбленным стал Завадовский. Но ведь именно оскорбленная сторона и требовала удовлетворения (сатисфакции). С этого момента противники уже не должны были вступать ни в какое общение: это было дело их представителей-секундантов. С секундантом оскорбленный и обсуждал тяжесть нанесенной обиды, а от этого зависел и характер дуэли - от формального обмена выстрелами до гибели одного или обоих участников. Именно секундант направлял противнику письменный вызов (картель), где были прописаны условия дуэли. Секундантом Завадовского был Грибоедов, секундантом Шереметева – Якубович. Но эта дуэль была «четверная», то есть после первого поединка должны были стреляться и секунданты. Поэтому на дуэли и присутствовали зрители – родственник Шереметева барон Строганов и Каверин. Тот самый друг Пушкина, с которым Евгений Онегин в первой главе романа «встречался у Talon» - известный кутила и буян. Условия дуэли были самыми жестокими, - ведь она была до смертельного исхода. По правилам, когда один из участников выстрелил, второй мог не просто продолжать движение, но и потребовать противника к барьеру. Этим, кстати, всегда и пользовались бретеры. А бретерами в свете считались и Якубович, и Завадовский, и Шереметев, и Каверин.
«Когда с крайних пределов барьера стали сходиться на ближайшие, Завадовский, отличный стрелок, шел спокойно. Хладнокровие его взбесило Шереметева, и чувство пересилило в нем рассудок. Он не выдержал и выстрелил в Завадовского, еще не дошедши до барьера. Пуля пролетела около Завадовского близко, потому что оторвала часть воротника у сюртука, у самой шеи. «Ah! - сказал Завадовский - II en voulait a ma vie! A la barriere!" (Ого! он покушается на мою жизнь! К барьеру!»). Делать было нечего, он подошел. Завадовский выстрелил. Удар был смертельный -ранил Шереметева в живот». Присутствовавший на дуэли П.П. Каверин, писал: «Завадовский, увидав, как раненый Шереметев несколько раз подпрыгнул на месте, потом упал и стал кататься по снегу», подошел к раненому и сказал: "Что, Вася? Репка?" (Репка была лакомством у народа. Выражение употреблялось иронически - в смысле: "что же? вкусно ли? хороша ли закуска?"). А Якубович отвез Шереметева на его квартиру, где тот и умер 13 ноября.
Любая, а не только "неправильная" дуэль была в России уголовным преступлением. Дуэль становилась предметом судебного разбирательства, а противники и секунданты несли уголовную ответственность. И суд, по букве закона, приговаривал дуэлянтов даже к смертной казни. Правда она, как правило, в дальнейшем для офицеров чаще всего заменялась разжалованием в солдаты. С правом выслуги. Перевод же на Кавказ давал возможность быстрого получения звания офицера. Расследованием обстоятельств этой дуэли занимались и полковник кавалергардов Сергей Петрович Ланской и петербургский полицмейстер полковник Ковалев. А результаты его были доложены императору Александру I. Все ожидали крупных разборок, однако действительность превзошла ожидания….
Впоследствии имела хождение явно идиотская версия о том, что отец Шереметева, отставной генерал-майор и полный кавалер всех орденов Россейских Василий Сергеевич Шереметев просил у государя не подвергать младшего Завадовского наказанию. И император Александр Павлович, который имел, кстати, самую точную информацию о событиях от Ланского и Ковалева, почему-то выслушав объяснения Завадовского, признал, что убийство Василия Шереметева совершено «в необходимости законной обороны». Думается мне, что объяснили сложившуюся ситуацию императору как раз отцы, только графа Завадовского. Я не оговорился - Завадовский был «узаконенным сыном». Бывший фаворит императрицы Екатерины II, граф Петр Завадовский, усыновил Александра, родившегося от любовника его жены, князя Ивана Ивановича Барятинского. Ну а уж князья Барятинские - прямые потомки князей Черниговских в XIV колене, происходили от самого Рюрика. Оба – и Барятинский, и Завадовский – участники заговора против императора Павла. Поэтому фаворит бабушки, граф Завадовский немедленно после воцарения Александра I был вызван в Петербург и назначен членом совета при государе и присутствующим в Сенате. Потом - председателем комиссии для составления законов. Он был близким царю человеком. Ему поручалось и готовить проект преобразования Сената, и пост министра народного просвещения, а в 1810 году он стал председателем департамента законов в Государственном Совете. Ну, кто именно из родственников с императором переговорил, история умалчивает. Однако участник дуэли граф Александр, в наказание, просто был отправлен в заграничный вояж.
Свидетель этой дуэли, Петр Павлович Каверин, которого его друг Александр Сергеевич Пушкин называл «magister libidii» — «наставник в разврате», приводил в удивление аристократов любовными подвигами, количеством выпитого в один присест вина и грандиозностью картежных ставок...
В нем пунша и войны кипит всегдашний жарь,
На Марсовых полях вон грозный был воитель,
Друзьям вон верный друг, красавицам мучитель,
И всюду вон гусар. (
А.С.Пушкин. «К портрету Каверина»)
Один из «подвигов» штаб ротмистра лейб-гвардии гусарского полка Каверина как раз пришелся на год 1817-й. В доме Николая Тургенева, на Фонтанке, Петр, в присутствия Пушкина, залпом выпивает из горла без передышки пять бутылок шампанского. После этого отворяет окно третьего этажа и... выходит погулять. Все с боязнью думали, что он вот-вот сорвется и упадет на мостовую. Между тем, подхватив шестую бутылку “Клико”, гуляка ступает на карниз, идет по нему, декламируя сатирические строки о покойном императоре Павле. Конечно, на утро Каверин ничего не мог вспомнить о своих затеях, даже сразу же записанный его стихотворный экспромт (записал Пушкин) не вызвал ни малейших просветлений памяти. А напился Каверин тогда неспроста - двумя днями раньше вышел из тюрьмы, куда попал за участие в дуэли между Шереметевым и Завадовским. Однако Каверин, который к тому времени уже убил на дуэлях не меньше дюжины личных врагов, на этот раз пострадал не за участие в перестрелке. Просто, преисполненный благородства, он взял на себя обязанность улаживать дело с полицией, - за что и попал на трое суток в заточение.
Еще два участника дуэли - Грибоедов и Строганов, получили от своего начальства «небольшое отеческое внушение». А Александр Иванович Якубович был переведен на Кавказ, в Нижегородский драгунский полк, куда и уехал, глубоко презирая «помазанника божия»...
История эта имела продолжение. Грибоедов, терзаемый тяжкими переживаниями, нашел утешение в Грузии, предложив руку и сердце княжне Нине Чавчавадзе. И во время его пребывания на Кавказе завершилась эта Петербургская история. Проще изложить это по запискам Н.Муравьева-Карского, свидетеля осведомленного и точного. Тот приводит воспоминания Грибоедова о его чувствах вовремя дуэли с Якубовичем. Грибоедов не испытывал никакой личной неприязни к своему противнику, дуэль с которым в окрестностях Тифлиса состоялась через год после Петербургской, 28 октября 1818 года. Это стало завершением "четверной дуэли", которую начали Шереметевым и Завадовским. Грибоедов предлагал мирный исход, от которого Якубович отказался, подчеркнув, что не испытывает никакой личной вражды лично к нему, но исполняет слово, данное покойному графу Шереметеву. Тем более непонятно, что, встав с мирными намерениями к барьеру, Грибоедов по ходу дуэли почувствовал желание убить Якубовича - пуля прошла так близко от головы, что «Якубович полагал себя раненым: он схватился за затылок, посмотрел свою руку... Грибоедов после сказал нам, что он целился Якубовичу в голову и хотел убить его, хотя это и не было первое его намерение». Якубович же не потребовал от него подойти к барьеру, а выстрелил с того места, где стоял. Неплохой пианист Грибоедов получил ранение в руку. «По крайней мере, хоть играть перестанешь» - беззлобно заметил будущий декабрист будущему драматургу….
Кстати, Грибоедов не простил Якубовичу этих слов и отомстил ему довольно оригинальным способом. Вспомните сцену на балу в комедии "Горе от ума". Гости судачат о безумии Чацкого. Загорецкий предлагает свою версию: « - В горах был ранен в лоб, сошел с ума от раны.
На что глухая графиня-бабушка, недослышав, возмущенно реагирует:
- Что? К фармазонам в клоб? Пошел он в басурманы!»….
Очень похоже, что в этих строчках зашифрована судьба Якубовича. Воюя на Кавказе, он действительно был ранен в голову, но умудрился при этом остаться в живых. Благополучный исход подобных ранений был весьма редок, и тогдашние читатели комедии должны были сразу же понять, кого имеет в виду автор, говоря: "сошел с ума от раны". Ведь все годы своего изгнания опальный лейб-улан ненавидел Александра I и приказ о переводе из гвардии на Кавказ носил у сердца, лелея планы мести императору. Слово же «клоб» (тогда так произносили слово клуб) - прямой намек на декабристов. Кстати, впоследствии декабристы, используя настрой Якубовича, и поручили ему возглавить боевой отряд, который в день восстания должен был захватить Зимний дворец и арестовать царскую семью. И, если бы эта акция удалась, восставшие имели бы намного большие шансы на победу. А если бы они победили, - неизвестно, как бы пошла дальше русская история...
Опальный офицер Якубович за шесть с лишним лет пребывания в той далекой южной стране хорошо узнал ее. Объездил Закавказье и Закубанье, Дагестан, Кабарду, Карачай, забираясь в самые глухие горные ущелья, где порой и дороги-то не было. Историк Кавказской войны В. Потто приводит в своей книге эпизод, когда отряд под командованием Якубовича подошел к скале, преграждавшей путь. После долгих поисков была найдена узкая лазейка, в которой Александр Иванович, человек крупный и довольно тучный, застрял. Подчиненные "схватили его за ноги, и потащили волоком; на нем изодрали сюртук, оборвали все пуговицы, но все-таки протащили". Это место в верховьях Баксана осталось в памяти кавказских воинов, как "Дыра Якубовича". По крайней мере в своих воспоминаниях генерал Ермолов именно так это место называл.
Газета "Северная пчела" в ноябре 1825 года поместила статью "Отрывки о Кавказе (из походных записок)", подписанную "А.Я.". Автор, сразу же узнанный читателями, рассказывает о быте, обычаях, военном искусстве карачаевцев и абазехов (абазин), о которых отзывается с большим уважением и теплом. В российской печати это сочинение было одним из первых на кавказскую тему - Лермонтов и Марлинский стали осваивать ее позже, пять- десять лет спустя, а Пушкин к тому времени успел написать лишь одну поэму "Кавказский пленник". Но южная страна уже тревожила его воображение, и, прочитав "Отрывки о Кавказе" в Михайловской ссылке, Александр Сергеевич сразу же запросил А. Бестужева: "Кто написал о горцах в "Пчеле"? Вот поэзия! Не Якубович ли, герой моего воображения? Когда я вру с женщинами, я их уверяю, что я с ним разбойничал на Кавказе… в нем много в самом деле романтизма…". "Героем моего воображения" Пушкин назвал Якубовича не зря. Задумывая после поездки на Кавказ "Роман на Кавказских Водах", который, к сожалению, так и не был написан, он сделал офицера-изгнанника одним из главных персонажей, обыгрывая его любовь к приключениям, необычайным романтическим ситуациям. Даже подлинная фамилия Якубовича была указана в набросках первого варианта. Однако хватит о Якубовиче и Пушкине, пришло время рассказать о другой дуэли…
Метки: история россия декабристы лермонтов |
Знаменитые дуэли нижегородцев (II). |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Знаменитые дуэли нижегородцев (II).
«...но при сем долгом считаю прибавить, что в самый день ссоры, когда майор Мартынов при мне подошел к поручику Лермонтову и просил его не повторять насмешек, для него обидных, сей последний отвечал, что он не в праве запретить ему говорить и смеяться, что, впрочем, если обижен, то может его вызвать и что он всегда готов к удовлетворению». (Князь А.И.Васильчиков, секундант на знаменитой дуэли.)
Квартал Верхне-Волжской набережной, расположенный между улицей Семашко и гостиницей “Октябрьская”, двести лет назад был одним из самых красивых мест Нижнего. Но уже никто, кроме краеведов и старожилов, не вспомнит, что на этом месте находилась усадьба одного из богатейших людей Нижнего — Соломона Михайловича Мартынова. Обширная усадьба выходила к Волге громадным парком. К сожалению не сохранилось имен архитектора и строителей большого и, по словам очевидцев, красивого дома. Главной же достопримечательностью усадьбы был парк. Часть его, прилегавшая к дому, была “висячей”, то есть располагалась на террасе на уровне второго этажа дома. Значительная территория парка представляла собой “лабиринт” с путаными дорожками, а земля, тянувшаяся вплоть до обрыва над Волгой, была отведена под английский сад с аккуратно подстриженными деревьями и кустарниками.
В формулярном списке его сына, Николая Соломоновича Мартынова, убийцы Лермонтова, значится: на июль 1841 года был отставным майором, 24 лет, из нижегородских дворян. В скобках: дворянство приобретено отцом – винным откупщиком. Когда Соломон Михайлович Мартынов обзавелся в Москве домами и связями, он решил сына, как это сделал в свое время отец Дмитрия Бенардаки, определить сначала в гвардейскую службу. И Николай Мартынов поступил в Школу юнкеров. После ее окончания в 1832 году, был принят в Кавалергардский полк корнетом (школа была при полке). Вы только представьте себе - в самый элитный столичный полк гвардии принят сын винного откупщика и еврея-выкреста…. Вот что значили связи и деньги! И историография еще смеет утверждать, что в те времена офицерами гвардии могли быть только родовитые аристократы (они же - ужасные сионисты), и что пути в гвардию для богатых, но не родовитых просто не было!
Конечно, помогли не только деньги и связи отца. Николай и сам должен был чего-то стоить, иначе ему не служить бы в этом полку. Ведь «…история славных кавалергардов начиналась так: 30 марта 1724 года к коронации императрицы Екатерины I, состоявшейся 7 мая 1724 года, в качестве ее почетной стражи был сформирован Кавалергардский корпус. С течением времени это формирование, комплектовавшееся из представителей знатных российских фамилий, видоизменялось, распускалось и образовывалось снова. Так продолжалось до тех пор, пока 11 января 1800 года, через год после очередного учреждения Кавалергардского корпуса, Павел I не переформировал его в трех эскадронный лейб-гвардии Кавалергардский полк, на одинаковом положении с другими гвардейскими полками без сохранения привилегии набора исключительно из дворян».
Это самый блестящий и привилегированный полк русской армии,- гвардейская тяжелая кавалерия. (Слово кавалергард произошло от французского cavalier — всадник и garde — охрана). Особенно кавалергарды прославились своей знаменитой атакой у Аустерлица, которая спасла от разгрома всю русскую армию (участвовавший в этой атаке кавалергард Евдоким Давыдов, брат поэта-партизана Дениса Давыдова и один из немногих, оставшихся после атаки в живых получил 18(!) ран).
Во время событий 14 декабря 1825 года полк под командованием полковника В.И.Пестеля (родного брата вождя мятежников Павла) был на Сенатской площади. Именно нижегородец Сергей Шереметев сделал первый выстрел по восставшим декабристам, среди которых был его младший брат Николай, впоследствии сосланный на Кавказ. Из числа кавалергардов (находившихся в строю или служивших в полку ранее) по делу декабристов проходило 28 человек. Среди них и нижегородцы - например, кавалергард Иван Александрович Анненков. Этот богатейший помещик известен не как участник событий, а из-за его романтической любви к француженке Полине Гебль. Он не из числа страдальцев - после ссылки служил чиновником для особых поручений у родственника, Нижегородского губернатора Федора Васильевича Анненкова. В 1865 году Анненков был избран председателем Нижегородской земской управы, в 1868 - почетным мировым судьей. А начиная с 1863 года Иван Анненков целых пять сроков подряд вообще избирался уездным предводителем дворянства. И великий Александр Дюма после того, как по Нижегородски хлебосольно Анненковы приняли его у себя доме, даже сделал их прототипами героев романа "Учитель фехтования".
Вот и еще один знакомый Бенардаки и семьи Мартыновых - тоже в прошлом кавалергард. Во время событий 1825 года - полковник Генерального штаба Александр Иванович Муравьев. Нижегородский помещик Сослан по делу декабристов в Сибирь (иркутским городничим!?!). Выдержал там нешуточную баталию с Иринеем, архиепископом Иркутским, Нерчинским и Якутским. Доносы архиепископу не помогли. Иринея сослали в отдаленный монастырь, а Муравьев стал Архангельским губернатором. А вскоре он, этот декабрист !?! стал губернатором Нижегородским…
Один из повешенных вождей восстания тоже начинал в кавалергардах. Михаил Павлович Бестужев-Рюмин. Этот казнен несмотря на то, что был из старинного дворянского рода и отец его служил Горбатовским городничим.
Осужденным по 2 разряду поручику кавалергардского полка, другу Павла Пестеля и адъютанту графа Витгенштейна, Крюкову Александру Александровичу и его брату, прапорщику Николаю Александровичу, сыновьям Нижегородского губернатора, царь возможности вернуть эполеты, несмотря на многочисленные ходатайства, так и не предоставил.
А вот еще один Нижегородец - кавалергард князь Александр Иванович Одоевский. Тот самый, автор известного стихотворения „Струн вещих пламенные звуки до слуха нашего дошли…“. Именно князь Одоевский, один из помощников руководителя восстания К.Ф.Рылеева, вместе с Каховским, который стрелял из пистолетов, на Сенатской площади убил саблей пытавшегося остановить своих солдат полковника Стюрлера и заколол штыком в спину генерала Милорадовича. Это единственный декабрист, применить к которому высшую меру просили у Николая I целых две делегации офицеров. Но царь не только сократил князю срок ссылки на 3 года, но впоследствии и предоставил возможность вернуть эполеты в рядах Нижегородского драгунского полка.
Даже после этого неполного перечисления нижегородских декабристов становится понятным, почему вожди восстания планировали сделать Нижний Новгород новой столицей империи. А ведь в этом списке отсутствуют еще многие фамилии. Избранного диктатором этого восстания нижегородского помещика князя Трубецкого, например, и нижегородского помещика князя Шаховского. Их я не назвал только потому, что они не были кавалергардами. Кстати, родственники этих людей (да, может быть, и они сами) наверняка были нижегородскими знакомыми семьи Мартыновых.
Уже на Кавказе ротмистр Гребенского казачьего полка, бывший корнет кавалергардского полка Н. С. Мартынов (который, как он писал в своей биографии, «имел несчастие убить на дуэли Лермонтова») опубликовал стихотворение «К декабристам», где были такие строки:
«И как нам не почесть участия слезою
Ратующих за чернь вельмож и богачей.
То цвет России был, поблекший под грозою,
И скошенный с земли руками палачей».
Между прочим, за эти стихи автор не пострадал ни капельки. И опубликовали, и не сослали. Сослуживец по кавалергардскому полку В. А. Бельгарт так характеризует Мартынова: “Он был очень красивый молодой гвардейский офицер, высокого роста, блондин, с выгнутым немного носом. Он был всегда очень любезен, весел, порядочно пел романсы и все мечтал о чинах, орденах и думал не иначе как дослужиться на Кавказе до генеральского чина”. И действительно, Мартынов за 7 лет сделал довольно успешную карьеру, получив уже в 1841 году при выходе в отставку чин майора (Лермонтов одного с ним года выпуска был только поручиком). “Н.С. Мартынов получил прекрасное образование, был человек весьма начитанный и, как видно из кратких его Записок, владел пером. Он писал и стихи с ранней молодости, но, кажется, не печатал их”. Эти слова принадлежат П. Бартеневу, другому сослуживцу Мартынова по кавалергардскому полку. И из гвардии Мартынова из гвардии не выгонял. В те времена, чтобы попасть на Кавказ в ряды действующей армии, существовала… очередь. По разнарядке отправляли туда ежегодно лишь по несколько офицеров от каждого полка. Вспомним: так командировали в наше время омоновцев и милиционеров в Чечню. Поэтому слово «ссылка» и не употреблялось даже Лермонтовым.
Почему же бывший корнет кавалергардского полка Николай Мартынов выбрал для службы Гребенской казачий полк, а не пошел в более престижный Нижегородский драгунский, к землякам? Есть несколько версий: возможно, просто первая свободная вакансия открылась именно в Гребенском полку; возможно, был и расчет – уж больно много ссыльных декабристов пыталось получить офицерские эполеты в нижегородских драгунах, и Мартынов все же не хотел, чтобы его с ними путали – он же на Кавказ ехал за генеральскими эполетами. А может быть, просто не захотел служить вместе с бывшим другом детства – ведь первым то в 1937 году на Кавказ уехал все-таки Лермонтов. Кто знает? Как пишет П. К. Мартьянов: «Отставной майор Гребенского казачьего полка Мартынов, «счастливый несчастливец», как метко охарактеризовал его Лермонтов В. И. Чиляеву, был красивый и статный мужчина, выделявшийся из круга молодежи теми физическими достоинствами, которые так нравятся женщинам, а именно: высоким ростом, выразительными чертами лица и стройностью фигуры. Он жил в надворном флигеле Верзилиных вместе с М.П.Глебовым и Н.П.Раевским и, по словам последнего, являлся истым дэнди a la Circassienne. Отличительными признаками этой горской фешенебельности были у него бритая по - черкесски голова и необъятной величины кинжал, из - за которого его Лермонтов и прозвал poignard'oм. Он одевался чрезвычайно оригинально и разнообразно. Как отставной офицер, он должен был носить форму Гребенского полка, но это ему не нравилось, и он употребил все свои способности на то, чтобы опоэтизировать ее, делал к ней добавления, менял цвета и применяя их согласно погоде, случаю или своему вкусу... Одно в нем не изменялось: это то, что рукава его черкески для придания фигуре особого молодечества были всегда засучены, да за поясом торчал кинжал. Все это проделывалось с целью нравиться женщинам».Ну а теперь немного о знаменитой дуэли Лермонтова, которую некоторые историографы прошлого пытались именовать убийством поэта….
Существует масса различных версий о ее причине – первая из них проста и логична: высшие власти мстили Лермонтову. Версию выдвинул первый биограф поэта П. А. Висковатый: «Нет никакого сомнения, что г. Мартынова подстрекали со стороны лица, давно желавшие вызвать столкновение между поэтом и кем - либо из не в меру щекотливых или малоразвитых личностей. Полагали, что «обуздание» тем или другим способом «неудобного» юноши - писателя будет принято не без тайного удовольствия некоторыми влиятельными сферами в Петербурге. Мы находим много общего между интригами, доведшими до гроба Пушкина и до кровавой кончины Лермонтова. Хотя обе интриги никогда разъяснены не будут, потому что велись потаенными средствами, но их главная пружина кроется в условиях жизни и деятелях характера графа Бенкендорфа, о чем говорено выше и что констатировано столькими описаниями того времени». Конечно, П. А. Висковатый имел возможность беседовать со многими осведомленными и заслуживающими доверия современниками поэта. И, если он пришел к такому выводу, то несомненно, у него были к тому достаточно убедительные основания. А вот если руководствоваться соображением «ищи того, кому это выгодно», то уж Мартынов на роль наемного убийцы не подходит ни капельки. И поэт, и его противник были убежденными монархистами. Императора поругивали, понятно, да ведь кто богу не грешен и государю не виноват? Не стал бы Мартынов убивать Лермонтова за то, что тот правительство ругает, - стоит вспомнить его же недавние строчки про «скошенных с земли руками палачей». Да и какими же это, хотелось бы знать, благами могли Мартынова, богача и офицера, успешно делавшего армейскую карьеру, прельстить эти царские сатрапы или даже бы и сам государь – император? Состояние у него и так было немаленькое, карьеру он мог бы сделать прекрасную. Наоборот, Николай Мартынов – умный человек, целясь в Лермонтова из гладкоствольного дуэльного пистолета, не мог не понимать, что в случае гибели Лермонтова навсегда летит под откос» не только вся его армейская карьера, но и рушатся заветные мечты о генеральском чине. Да и не в игрушки он играл. Уж кому, как не Мартынову, было известно, что стрелок Лермонтов отличный, - «туза навскидку пробивал корнет». Дуэльному противнику Лермонтова было что терять и никакой выгоды не было убивать...
Во времена заслуженно забытой «политпропаганды» некоторые «кем-то уважаемые» авторы додумались аж до того, что Лермонтова убил не Мартынов, а снайпер из засады. Ну, это уж просто какой-то «рояль в кустах»!!! «Собственно секундантами, — вспоминал князь Александр Илларионович Васильчиков,- были: Столыпин, Глебов, Трубецкой и я. На следствии же показали: Глебов себя секундантом Мартынова, я - Лермонтова. Других мы скрыли. Трубецкой приехал без отпуска и мог поплатиться серьезнее». Кстати, тот же П. А. Висковатый, основываясь на статьях А. И. Васильчикова о Лермонтове и на личных беседах с ним, считает этого участника дуэли одним из друзей поэта, а его рассказы - абсолютно правдивыми. Он так писал в своей книге по поводу статьи Васильчикова «Несколько слов в оправдание Лермонтова от нареканий г. Маркевича»: «Справедливая и горячая защита Лермонтова делает тем более чести князю Васильчикову, что сам он в свое время немало чувствовал на себе сарказм Лермонтова». Кстати, в семье председателя Государственного совета России князя И.В.Васильчикова к таким словам, как честь (в отличие от авторов версии про снайпера) относились всегда крайне щепетильно….
А вот и два других секунданта: Алексей Аркадьевич Столыпин-Монго - двоюродный дядя и друг М. Ю. Лермонтова. Начиная с юнкерской школы, они почти всегда были рядом. Оба по окончании школы несколько лет служили в одном и том же лейб-гвардии гусарском полку, проживая на одной квартире и посещая высший петербургский свет. Вместе участвовали в Галафеевской экспедиции 1840 года в Чечне и вместе прожили в Пятигорске последние месяцы перед дуэлью. «Назвать Монго-Столыпина — писал его современник М. Н. Лонгинов - значит для людей нашего времени то же, что выразить понятие о воплощенной чести, образце благородства, безграничной доброте, великодушии и беззаветной готовности на услугу словом и делом».
Князь Сергей Васильевич Трубецкой тоже принадлежал к числу друзей Лермонтова. «Он был из тех остроумных, веселых и добрых малых, которые весь свой век остаются Мишей, или Сашей, или Колей. Он и остался Сережей до конца и был особенно несчастлив или неудачлив... - так писал о нем С. А. Панчулидзев в книге «История кавалергардов». О их дружеских отношениях говорит датируемая серединой апреля 1841 года запись в дневнике Ю. Ф. Самарина: «Помню его [Лермонтова] поэтический рассказ о деле с горцами, где ранен Трубецкой... Его голос дрожал, он был готов прослезиться...»
Интересная, однако, версия со снайпером получается – собрались старые знакомые и приятели, сплошь аристократия и люди чести, (а один даже ее эталон), выяснять отношения. Бабахнул из кустов снайпер и Лермонтова убил. А друзья же поэта вместо того, чтобы снайпера отловить и, после положенного ему мордобития, отправить куда надо, напридумывали на нашу голову разного. В общем, настолько «достойная» версия, что, наверное, автор в свое время получил за нее нехилую премию имени кого-то там…..
А вот еще одна версия дуэли - «комплекс Сальери» - зависть поэта-неудачника к славе талантливого поэта. Правда, Мартынов мог бы стихи и в столице писать, для этого незачем было и на Кавказ переводится. Его туда никто не ссылал. И папиных денег на издателей, чтобы книжками всю публику завалить, не только вполне хватило бы, но и на шикарную жизнь внукам еще и осталось.
Штатовская версия дуэли сначала вообще вызывает нешуточные сомнения в нормальности психики ее автора. И только потом, подразобравшись, начинаешь понимать кое-что. Вот история вопроса - в 1976 году, в США, в альманахе «Russian Literature Triguarterly» была опубликована подборка весьма откровенных стихотворений, которые приписывались Лермонтову. Это подтверждал и компьютерный анализ текста (которого, впрочем, никто не видел). Откуда взялись стихотворения в штатах – бывал Лермонтов на Кавказе, в Петербурге и Москве, в Тарханах жил, конечно. А вот чтобы в США – ну это уж вряд ли… Более или менее начинаешь понимать причину, узнав про автора. Это литературовед из Йельского университета Александр Познанский. Выпустил в свое время монографию «Демоны и отроки» (в период гласности и перестройки она была выпущена в 1999 году небольшим тиражом московским издательством «Глагол», не за счет, этого издательства, конечно). Так вот, в монографии мистер Познанский заключает: великий русский поэт страдал так называемым латентным гомосексуализмом, породившим многие психологические комплексы. Многие его любовные стихи посвящены не женщинам, а мужчинам, прежде всего однокашникам по юнкерской школе, Михаилу Сабурову и Петру Тизенгаузену. В качестве доказательств Познанский приводит отрывки писем, адресованных Сабурову и Александру Бартеневу. Последний, кстати, явно намекал на близкие отношения Михаила Юрьевича и Мартынова. Мартынов, по его мнению, и вызвал Лермонтова на дуэль потому, что ревновал его к женщинам вообще, а Лермонтов ухлестывал за ними только для видимости. И, откровенно говоря, они нередко бросали его (может быть, узнавали о его противоестественных увлечениях?), или же он сам неожиданно оставлял объект своего поклонения». Я почему-то уверен, что американцы не стоят в очередях за книгами русских поэтов. По-моему, они в основном газеты да комиксы читают. А уж если книги, то у этого народа тоже хватает прекрасных поэтов, которых переводить не надо. Готов спорить - очень мало американцев скажет, кто же такой Лермонтов. Однако на статьи в газетах и монографию денежки-то нашлись. Ну что тут сказать – ай да молодец «бывший русский» - то ли какой-то эмигрант, то ли их потомок - Александр Познанский. Сообразил, умница, как использовать янки для того, чтобы себе заработать на бутерброд с маслом! Нашел и выполнил социальный заказ – то ли ЦРУшники тогда очередную пакость хотели сбросить русским, то ли в Йельском университете у какого-то папочки на этом занятии ребенок попался. Тут-то доцент и выдал монографию - ничего, мол, страшного, этим и многие великие люди тоже грешили. Интересно, сам-то Познанский в эту ахинею верил?
"Положа руку на сердце, беспристрастный свидетель должен признаться, что Лермонтов сам, можно сказать, напросился на дуэль и поставил своего противника в такое положение, что он не мог его не вызвать" (Князь А.И.Васильчиков, секундант на знаменитой дуэли.)
«Пути Лермонтова и Мартынова разошлись в конце 1834 года. После окончания юнкерской школы Михаил Юрьевич был направлен в лейб-гвардии Гусарский полк, расквартированный в Царском Селе, а Мартынов стал кавалергардом». «В 1837 году за стихотворение «На смерть поэта», посвященное гибели Александра Пушкина, корнет Лермонтов был переведен в Нижегородский драгунский полк, расквартированный в ста верстах от Тифлиса. Хотя официально не за крамольные стихи, а за то, что находился в столице без разрешения начальства, иными словами, в самоволке». «В том же 1837 году в качестве волонтера отправился на Кавказ и Мартынов. Поближе к сестрам, которые жили в Пятигорске. Здесь бывшие однокашники встретились снова. Как будто что-то тянуло их друг к другу».«Лермонтов не слишком-то торопился к месту назначения. Добирался до полка почти… 9 месяцев. В апреле 1837 года прибыл в Ставрополь, где сказался тяжело больным и был помещен в военный госпиталь. Потом его отправили «для пользования минеральными водами» в Пятигорск». «Все это время Лермонтов расслаблялся. Ухаживал за женщинами, много писал, встречался с грузинским поэтом Александром Чавчавадзе, пил кавказское вино, но пару раз все-таки попал под обстрел. И, как явствовало из семейной переписки Мартыновых, опубликованной в 1891 году в журнале «Русский архив», Лермонтов заявил, что его ограбили по дороге. Пропали письмо, дневник и 300 рублей ассигнациями, вложенные в конверт, которые Наталья Мартынова, сестра Николая Соломоновича, наказала передать брату. Лермонтов вернул Мартынову только деньги, хотя знать о них, если не вскрывать пакет, он не мог. А это прояснилось только в 1841 году. Мартынов якобы вызвал поэта на дуэль, чтобы защитить честь семьи, поскольку Лермонтов читал чужие письма и использовал дневник сестры в романе «Герой нашего времени». В образе же княжны Мери современники узнавали Наталью Мартынову, ставшую графиней де Лаутордонне. И, наконец, чашу терпения переполнил дружеский шарж на Мартынова, где он был изображен в мундире с газырями и с огромным кинжалом, сидящим на ночном горшке. Это выглядело очень смешно, и Мартышка буквально взбесился». Из всего вышеизложенного можно, например, сделать вывод что родовитейший аристократ Лермонтов с презрением относился к «свежеиспеченному» дворянину Мартынову. А может быть, завидовал – и личным качествам, и богатству семьи, и службе в элитном кавалергардском полку, и быстрому продвижению по службе. Характер великого поэта, как и у многих гениев, был отвратительным, и Лермонтов вполне мог позволить себе в разговоре с Мартыновым сказать об отце – выкресте или о еврейском происхождении. Даже если это было сделано один на один – дуэли не могло не быть, несмотря на любую дружбу, а уж если был хоть один свидетель.. Говорят, Мартынов якобы вызвал поэта на дуэль, чтобы защитить честь семьи». А давайте-ка уберем слово якобы?
В «Дуэльном кодексе» Дубасова, по которому происходили гвардейские дуэли, орудием убийства гвардейцами друг друга, как правило, служили гладкоствольные пистолеты без мушки. Участники дуэлей, бывало, освобождались от наказания, ибо поединок считался единственно объективным средством смыть оскорбление и восстановить честь мундира. В случае дуэли между гвардейскими офицерами результаты ее выносились на рассмотрение суда чести, и этот суд выносил постановление, подчинение которому считалось обязательным. В случае неповиновения суду чести офицер исключался не только из гвардии, но и из армии. И если вызванный мог выстрелить в воздух, то вызвавший, по условиям дуэльного кодекса, обязан был стрелять на поражение…
А возможно, что смертельное ранение поэта и впрямь трагическая случайность (не зря в биографии Мартынов написал: «имел несчастие убить на дуэли Лермонтова» - возможно, хотел только ранить). Но вот причина дуэли в этой версии чрезвычайно логична. В пользу трагической случайности говорит и то, что Мартынов и Лермонтов были друзьями детства (именно этим, а не каким-то латентным гомосексуализмом объясняются их близкие отношения). Отец Мартынова был крупнейшим винным откупщиком. А бабушка Лермонтова Елизавета Алексеевна - дочерью Алексея Емельяновича Столыпина - Пензенского губернского предводителя дворянства, разбогатевшего, как и отец Мартынова, тоже на винных откупах. Родной брат бабушки Лермонтова (дядя поэта и приятель Пушкина) тоже занимался винными откупами. Отец Николая Мартынова и ближайшие родственники Михаила Лермонтова – люди одного рода занятий – общались семьями. Были ли они компаньонами или соперниками в своем бизнесе – история умалчивает. Но общие занятия родни объясняют и знакомство М.Ю.Лермонтова с сестрами Н.С.Мартынова. Одна из усадеб Мартыновых находилась всего в 50 верстах от Тархан, где Елизавета Алексеевна Арсеньева воспитала поэта. «Все ходили кругом да около Миши, должны были угождать ему, забавлять его. Зимой устраивалась гора, на ней катали Мишеля. Святками каждый вечер приходили в барские покои ряженые из дворовых, плясали, пели, играли, кто во что горазд. Все, которые рядились и потешали Михаила Юрьевича, на святки освобождались от урочной работы», – пишет П.А. Висковатый. - «Если случалось ему заболевать, то в «деловой» девушки освобождались от работ. Им приказывали молиться Богу об исцелении молодого барина. В доме постоянно жили мальчики – сверстники, дети родственников и соседей. Они вместе с деревенскими ребятами играли, строили и брали штурмом снежные крепости, скакали верхом. В летнее время рыли окопы и устраивали потешные бои на манер Петра I. Часами пропадали в лесу и на речке. И во всех играх Лермонтов был командир, неистощимый на выдумки.»
Заканчивалось блестящее гвардейское столетие. В российском обществе быстро выделялась новые прослойки из откупщиков-разночинцев и заводчиков. В ней были и представители иных сословий. А вскоре ушла в прошлое и дворянская культура. Но понятия честь продолжало жить - буржуазия хранила лучшие традиции дворянства. В само понятие честь вкладывали уже и честь дворянскую, и честь купеческую (ведь и русскому купцу тоже всегда верили на слово!). Такое понимание о чести сохранились до первой мировой войны, чтобы потом почти окончательно уйти в прошлое, уже после войны гражданской. Диктатуре пролетариата, жившей принципами демократического централизма, это слово – честь - тоже не требовалось. Почему? Да ведь именно понятие об этой самой дворянской чести и было средством защиты личности от произвола деспотии. Однако даже и при этой диктатуре люди чести вовсе не вымерли, как мамонты. В России их оставалось немало. Умение держать слово, сохранять чувство собственного достоинства, достойно ответить на оскорбление — такие качества вызывали не только уважение, но еще и стремление к подражанию. И зависть. Не зря же слово честь культивировали целые века многие люди, в том числе и богатейший винный откупщик, миллионер, заводчик, отставной гусарского полка поручик и православный грек - Дмитрий Егорович Бенардаки. Он сам был таким, вот окружение его и состояло из этих самых людей чести…
«Поэты гибли. Уж не потому ли
Что был им непривычен пистолет?
Но бил привычно Пушкин пуля в пулю,
Туза навскидку пробивал корнет.
Стрелялся взрослый муж, и не повеса.
Была в другом заключена беда….
Когда бы Пушкин застрелил Дантеса –
Как жить ему? И как писать тогда?!».
Написал в наше время Александр Михайлович Городницкий, российский бард и поэт...
Метки: история россия декабристы лермонтов |
Т.П. Ден. "Пушкин в Тульчине". |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
В истории тайных организаций декабристов — Союза благоденствия и Южного тайного общества — местечко Тульчин на Украине играло важную роль. Здесь был штаб второй армии, здесь жили П. И. Пестель и ряд других участников движения, здесь происходили встречи и совещания членов тайного общества. Поэтому для суждения о связях Пушкина с декабристскими кругами очень существенно знать, бывал ли он в Тульчине, когда и при каких обстоятельствах. Между тем это до сих пор еще остается недостаточно ясным.
О поездке в Тульчин Пушкин мечтал еще до своей ссылки на юг России. 12 марта 1819 года А. И. Тургенев писал П. А. Вяземскому: Пушкин «не на шутку сбирается в Тульчин, а оттуда в Грузию и бредит уже войною».1 В Тульчине у Пушкина были знакомые. Прежде всего он еще по Петербургу хорошо знал начальника штаба второй армии П. Д. Киселева, встречался с ним у Карамзиных, у П. А. Вяземского и, наконец, у М. Ф. Орлова. Киселев собирался даже устроить поэта на военную службу, но почему-то не выполнил своего обещания, и у Пушкина возникло недоверие к блестящему генералу, которое явно ощущается в посвященных ему стихах 1819 года:
На генерала Киселева
Не положу своих надежд,
Он очень мил, о том ни слова,
Он враг коварства и невежд;
За шумным, медленным обедом
Я рад сидеть его соседом,
До ночи слушать рад его;
Но он придворный: обещанья
Ему не стоят ничего.
(«Орлову»)
В Тульчине Пушкин знал и адъютанта Киселева, И. Г. Бурцова, с которым познакомился еще лицеистом в Царском Селе, где Бурцов стоял во главе кружка, который посещали Пущин, Кюхельбекер, Вальховский и др.2 Знал Пушкин также и двоюродных братьев А. П. и М. А. Полторацких, которые в 1821 году были откомандированы из Тульчина в Кишинев для топографических съемок.3
В Тульчин Пушкину удалось попасть только в период южной ссылки. О том, что в эти годы он бывал в Тульчине, свидетельствуют данные записок декабриста Н. В. Басаргина и стихи, посвященные Пушкиным в десятой главе «Евгения Онегина» движению тайных обществ на юге. Н. В. Басаргин в своих записках, рассказывая о пребывании в Одессе в 1823 году, сообщает следующее: «В Одессе встретил я также нашего знаменитого поэта Пушкина, он служил тогда в Бессарабии при генерале Инзове. Я еще прежде этого имел случай видеть его в Тульчине у Киселева. Знаком я с ним не был, но в обществе раза три встречал».3
В десятой главе «Евгения Онегина» Пушкин запечатлел пейзаж Тульчина:
...там, где ранее весна
Блестит над Каменкой тенистой
И над холмами Тульчина,
Где Витгенштейновы дружины
Днепром подмытые равнины
И степи Буга облегли...4
В этих стихах Пушкин с присущей ему лаконичностью дал четкое описание характерных крутых холмов, встающих над Бугом, которые открываются на окраине Тульчина, как раз за домом, где жил Пестель. В черновых вариантах этих стихов вместо холмов упоминаются то «чертоги», то «равнины». «Чертоги», т. е. дворцы, — также характерная деталь тульчинского пейзажа. Почти наискосок от дома, в котором жил Пестель, находился дворец Потоцких с медной сверкающей крышей. Другой дворец Потоцких был против дома, в котором жил Киселев. «Равнины» стелются у подножия холмов и за ними.
К какому же времени относится поездка Пушкина в Тульчин и чем она была вызвана?
Н. О. Лернер приурочивает поездку Пушкина в Тульчин к ноябрю 1822 года,5 связывая ее с «последней поездкой Пушкина в Каменку»: «Из Каменки, — пишет он, — Пушкин заезжал в Тульчин. Там его видел Н. В. Басаргин». Говоря о поездке Пушкина в Каменку, а оттуда в Тульчин в ноябре 1822 года, Лернер опирается на свидетельство П. И. Бартенева, который, рассказывая о вторичной поездке Пушкина в Измаил6 в 1822 году по приказу Инзова в наказание за какую-то дуэль, писал:
«Дорогою в Измаил, или может быть на обратном пути, Пушкин заезжал в Тульчин, где находилась, как мы сказали, главная квартира корпуса и жили некоторые знакомые его: при одном анакреонтическом стихотворении „Мальчик, солнце встретить должно“, означено им: „Тульчин, 1822“.
«Кажется, что к ноябрю месяцу этого же года следует отнести новую и последнюю поездку его в Чигиринский повет Киевской губернии, в село Каменку, к Давыдовым».7
М. А. Цявловский считал весь вышеприведенный рассказ Бартенева неправдоподобным.8 Он ссылался при этом на противоречащие данным Бартенева свидетельства современников Пушкина — П. И. Долгорукова и И. П. Липранди. Долгоруков в своем дневнике сообщает, что Инзов за дуэль Пушкина с Рутковским, которую, вероятно, имел в виду Бартенев, посадил поэта под домашний арест.9 Липранди в своих воспоминаниях, не выражая сомнений относительно поездок Пушкина в Каменку и Тульчин, сомневается лишь в том, что Пушкин поехал в Тульчин из Измаила. «Измаил от Кишинева лежит на юг, а Тульчин — на север. До каждого слишком по двести верст, и все три пункта находятся в прямом направлении». Кроме того, Липранди подвергает сомнению самый факт поездки Пушкина в Измаил во второй половине 1822 года: «Но я думаю, что в 1822 году, особенно во второй половине оного, едва ли Пушкин был там».10
Отвергая предположение Лернера о пребывании Пушкина в Тульчине в 1822 году, Цявловский утверждал, что Пушкин приехал в Тульчин 12 или 14 и пробыл до 15 или 17 февраля 1821 года.11 По его мнению, Пушкин заехал туда вместе с братьями Давыдовыми, возвращаясь из Киева с «контрактовой» ярмарки в Каменку, где он гостил с ноября 1820 по конец февраля 1821 года.12 Прямых свидетельств, удостоверяющих поездку Пушкина в Тульчин в феврале 1821 года, у Цявловского нет. Он связывает посещение Пушкиным Тульчина с фактом его пребывания в Каменке в этом году, что само по себе вполне возможно. Но в Каменке Пушкин, как известно, гостил не только в 1820—1821 годах. А. И. Давыдова, жена В. Л. Давыдова, в письме к дочерям в 1838 году из Сибири пишет: Василий Львович «был хорошо знаком с нашим знаменитым поэтом, бывавшим несколько раз в Каменке и прожившим там однажды целых четыре месяца».13 Это письмо Т. Г. Цявловская в примечаниях к «Летописи» учитывает для того, чтобы аргументировать возможность пребывания Пушкина в Каменке в ноябре 1822 года.14 Свою гипотезу Т. Г. Цявловская подтверждает четырьмя документами: 1) стихотворением «К Адели», написанным, несомненно, в Каменке и помещенным Пушкиным под 1822 годом в издании «Стихотворений» (ч. I, 1829);15 2) письмом М. Ф. Орлова от 9 ноября 1822 года к Вяземскому из Киева с приложением письма Пушкина, что указывает на пребывание Пушкина в этих числах в Киеве;16 3) письмом Е. Н. Орловой от 8 декабря 1822 года к брату А. Н. Раевскому, в котором она пишет: «Посылаю тебе письмо, кажется от Пушкина; его принесла г-жа Тихонова... Пушкин послал Николаю отрывок поэмы, которую не думает ни печатать, ни кончить... Его дали Муравьевым, которые привезут его тебе».17 Письмо свидетельствует о том, что Пушкин находился около 9 декабря в Киеве, а может быть и в Каменке, откуда его письмо было доставлено в Киев Тихоновой. Четвертым документом является приведенное выше письмо А. И. Давыдовой 1838 года.
Итак, можно с достаточной уверенностью считать, что в ноябре 1822 года Пушкин был в Киеве у своего друга М. Ф. Орлова, который еще в феврале 1822 года покинул Кишинев в связи с делом В. Ф. Раевского. 24 ноября вместе с Орловым он, по всей вероятности, был на семейном празднике в Каменке, где в этом году был съезд представителей управ тульчинской директории. Из Каменки он, повидимому, вернулся снова в Киев, где был на контрактах, во время которых происходили собрания представителей управ Южного общества.18 Из письма Е. Н. Орловой А. Н. Раевскому мы знаем, что в Киеве в эти дни были братья Муравьевы.
Сообщение Бартенева о поездке Пушкина в Тульчин в 1822 году, несмотря не некоторые неточности, очевидно, в основе своей справедливо. Но Пушкин мог быть в Тульчине скорее в начале ноября, по дороге в Киев, чем в конце ноября, после пребывания в Каменке.
В Тульчине Пушкин, вероятно, имел намерение поговорить с П. Д. Киселевым о возможности устройства на военную службу брата Льва. В письме от 4 сентября он предлагал брату устроить его с помощью Н. Н. Раевского или же П. Д. Киселева: «Ты бы определился в какой-нибудь полк корпуса Раевского — скоро был бы ты офицером, а потом тебя перевели бы в гвардию — Раевский или Киселев — оба не откажут».19 Кроме того, в связи с арестом В. Ф. Раевского (в феврале 1822 года), с которым Пушкин был крепко связан дружескими отношениями, у поэта могла возникнуть потребность в серьезном разговоре с Киселевым, игравшим существенную роль в расследовании дела В. Ф. Раевского. И, наконец, Пушкин мог иметь желание попрощаться с уезжающим за границу Киселевым, поскольку ходили упорные слухи, что он не вернется обратно в Россию.20 В Тульчине Пушкин мог встретиться с К. А. Охотниковым,21 которому пришлось в это время отправиться в штаб второй армии для объяснений по личному делу в связи с арестом В. Ф. Раевского.
Остается, однако, неясным, был ли Киселев в это время в Тульчине. Получив в конце сентября 1822 года сообщение о смертельной болезни матери его жены графини Потоцкой, находившейся в Берлине, Киселев взял месячный отпуск и выехал из армии к прусской границе, о чем известил князя П. М. Волконского письмом от 1 октября. Вследствие формальных затруднений выезд Киселева задержался; пробыв некоторое время в Варшаве, он выехал в ноябре и прибыл в Берлин уже после смерти тещи, последовавшей 12 ноября. В конце декабря он вернулся в Варшаву, где оставался, по-видимому, до середины января 1823 года.22 С другой стороны, из письма П. И. Пестеля к Киселеву от 15 ноября 1822 года мы знаем, что в это время последний должен был быть уже в Берлине.23 В таких условиях трудно предполагать, чтобы Киселев в начале ноября был в Тульчине — во всяком случае, на длительное время. Поэтому свидание с ним Пушкина в Тульчине остается под вопросом.
Когда же в таком случае могла произойти та встреча Басаргина с Пушкиным «в Тульчине у Киселева», о которой сообщает в своих воспоминаниях Басаргин? Последний, будучи адъютантом Киселева, должен был, вероятно, сопровождать его в поездке если не в Берлин, то, по крайней мере, в Варшаву. Следовательно, встреча его с Пушкиным в ноябре 1822 года столь же проблематична, как и встреча Пушкина с Киселевым. Что касается приезда Пушкина в Тульчин в феврале 1821 года, то в это время, нужно думать, там находились и Киселев и Басаргин, но последний еще не был тогда адъютантом Киселева.24 Правда, в своих показаниях следственному комитету в 1826 году Басаргин сообщал: «В 1821 году зимой я был отчаянно болен, а по выздоровлении поехал в отпуск в Москву и Владимирскую губернию...».25 Но датировку «в 1821 году зимой» следует понимать, очевидно, как конец этого года, так как в записках Басаргин сообщает о совещании тульчинского отдела Союза благоденствия (на котором он присутствовал), посвященном обсуждению постановлений московского съезда членов Союза.26 Съезд же, как известно, происходил в январе 1821 года. Следовательно, в январе-феврале этого года Басаргин был в Тульчине. К этому времени, всего вероятнее, и нужно относить встречу Басаргина с Пушкиным в Тульчине у Киселева. Этим не исключается и возможность встречи в начале ноября 1822 года.
Необходимо рассмотреть еще обстоятельства, связанные с рукописью стихотворения Дельвига «Мальчик! Солнце встретить должно...», помеченной: «Тульчин, 1822», которую Геннади, а за ним и Бартенев считали автографом Пушкина, что, по мнению Бартенева, указывает на пребывание Пушкина в Тульчине в 1822 году. Но стихотворение принадлежит А. А. Дельвигу, а тульчинская рукопись его нам неизвестна, и написана ли она рукой Пушкина или чьей-либо иной, мы не можем сказать. К указанию П. И. Бартенева на рукопись стихотворения «К мальчику» с якобы пушкинской пометой: «Тульчин, 1822» Цявловский относится скептически:
«Что касается до указания Бартенева на мнимый тульчинский автограф Пушкина, то оно заимствовано из Геннади.27 Геннади же был введен в заблуждение кн. Н. А. Долгоруковым, считавшим стихотворение Дельвига пушкинским. Таким образом, относить поездку Пушкина в Тульчин к 1822 году на основании пометы «Тульчин, 1822» на чьей-то копии стихотворения Дельвига, приписанного Пушкину, конечно, никак нельзя».28
Возможно, однако, что Пушкин в Тульчине в ноябре 1822 года читал по памяти и записал первую строфу стихотворения Дельвига «К мальчику». Список этой первой строфы с пометой «Тульчин, 1822» и с ошибочной атрибуцией стихотворения Пушкину был передан Н. А. Долгоруковым Г. Н. Геннади, который поместил этот фрагмент в первом томе редактированных им сочинений Пушкина 1859 года под заглавием «Экспромт». Известно, кроме того, что тот же фрагмент стихотворения Пушкин однажды читал и в Каменке. Об этом чтении сохранился рассказ в дневнике Г. И. Соколова, одесского цензора, записанный 19 марта 1844 года:
«Вчера <В. А.> Давыдов рассказал экспромт, сказанный Пушкиным в доме покойного отца его Александра Львовича Давыдова. На другой день ужина, обильного возлияниями и продолжавшегося долго, Пушкин просыпается раньше других и зовет: Мальчик! Хозяин, проснувшись, спрашивает его: Что ему нужно? Но он не перестает звать мальчика и, когда он явился, то Пушкин торжественно провозгласил:
Мальчик! Солнце встретить должно
С торжеством в конце пиров;
Принеси же осторожно
И скорей из погребов
Матерь чистого веселья —
Благосмольного вина,
Чтобы мы, друзья, с похмелья
Не видали б в чашах дна!»29
Текст этой записи совпадает, за исключением некоторых явных ошибок (вместо «благосмольного вина» нужно «влагу смольную вина», вместо «мы, друзья, с похмелья» нужно «мы, друзья похмелья», вместо «не видали б» — «не видали»), с черновым текстом этой строфы в тетради Дельвига 1819 года (ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 768) и с первопечатным текстом стихотворения в журнале «Благонамеренный» (1819, ч. V, март, № VI, стр. 335). В тексте копии этого стихотворения в бумагах «Зеленой лампы» (ИРЛИ, ф. 244, оп. 1, № 763) рукой Илличевского, с поправкой Пушкина и с надписью: «Третье заседание 17 апреля 1819 <года>. Председательство члена Улыбышева» — имеется разночтение в последних двух стихах, а именно:
Чтобы мы друзья похмелья
Не нашли в фиале дна.
Текст же, напечатанный Геннади по «тульчинской» рукописи, дает следующее отличие второго стиха от текста «Благонамеренного»:
С торжеством, среди пиров.
Это разночтение можно объяснить тем, что тульчинская запись сделана по памяти. Принадлежит ли она действительно Пушкину, мы, не имея подлинника, сказать не можем (Геннади не был авторитетным знатоком пушкинских автографов), но если это так, то запись — лишнее подтверждение пребывания Пушкина в Тульчине в 1822 году.
Стихотворение Дельвига, любимое Пушкиным, — на это указывают и участие Пушкина в обработке стихов его друга, засвидетельствованное материалами Пушкинского Дома, и возвращение его к той же теме в 1832 году в стихотворении «Мальчику (Из Катулла)» («Пьяной горечью Фалерна...»), — могло быть произнесено в Каменке в один из приездов туда Пушкина, в 1820—1821 или в 1822 году, и вторично — в Тульчине, в ноябрьский приезд 1822 года.
Возможно, что стихотворение, читанное Дельвигом на заседании «Зеленой лампы» в 1819 году, всплыло в 1822 году в памяти Пушкина в связи с воспоминаниями об этом дружеском кружке, которые именно в это время с большой силой захватили Пушкина и отразились в незаконченном послании к петербургским друзьям, часть которого была послана в письме к Я. Н. Толстому 26 сентября 1822 года; в нем Пушкин настойчиво спрашивает о судьбе «Зеленой лампы»:
Горишь ли ты, лампада наша,
Подруга бдений и пиров?..
В изгнаньи скучном, каждый час
Горя завистливым желаньем,
Я к вам лечу воспоминаньем...
Из наших соображений о возможности, почти несомненности вторичной поездки Пушкина в Тульчин в начале ноября 1822 года можно сделать следующие заключения.
Поездка диктовалась важными деловыми и политическими соображениями. Пушкин должен был хотеть видеть и Пестеля и Киселева. Видел ли он их — мы не знаем. Пестель 15 ноября 1822 года был в местечке Линцы, где стоял штаб Вятского полка,30 но мог приезжать и в Тульчин, особенно если Киселев там был недолго в начале ноября 1822 года. Если последнее верно и Пушкин виделся в это время, хотя бы и мимолетно, с Киселевым, у них мог и должен был произойти очень серьезный разговор и даже спор, связанный с делом В. Ф. Раевского и других пострадавших кишиневских друзей.
Очень возможно, что в связи с этой встречей Пушкина и Киселева находится и письмо Киселева к М. Ф. Орлову, дошедшее до нас в черновике и написанное, вероятно, в начале 1823 года,31 по возвращении его из-за границы. В этом письме Киселев определяет свои политические позиции и противопоставляет свои убеждения либерала радикальным взглядам М. Ф. Орлова и Пушкина:
«Мы с тобою разнствуем в мнениях, полагаю потому, что смотрим разным способом: ты смотришь в подзорную трубу, в которой механизм весь устроен редакторами „Минервы“, пылким воображением твоим, киевским бездействием32 и скукою; я же гляжу защуря глаз, дабы предметы видеть не в бесконечной и бесполезной отдаленности, но сколько можно вблизи и в настоящем их виде...
«Ты знаешь и уверен, сколь много я тебя уважаю; но мысли твои неправильны и, конечно, с сердцем твоим не сходны. Неудовольствия, грусть, сношения с красноречивыми бунтовщиками33 и, сознаюсь, несправедливое бездействие, в котором ты оставлен, — вот тому причины. Скинь с себя тебе неприличное...; оставь шайку крикунов и устреми отличные качества свои на пользу настоящую...
«Я знаю, что мысли мои с духом времени не сходны, что Греч не будет меня хвалить, что ряд пылких учеников лицея34 и громада тунеядцев московских35 провозгласят недостойным гасителем; другие назовут рабом власти, но я суждения их презираю и мыслей своих не переменю».36
Итак, вопрос о встрече Пушкина с Киселевым в Тульчине в начале ноября 1822 года остается открытым, несмотря на значительную вероятность такой встречи. Но как бы то ни было, позднейшее отношение Пушкина к Киселеву характеризуется чувством большой неприязни и недоверия.
Липранди в своих воспоминаниях отмечает это неприязненное отношение Пушкина к Киселеву в 1823 году. Он рассказывает, что в спорах о дуэли Киселева и Мордвинова37 Пушкин, вопреки мнению большинства, выступал против Киселева и «не переносил», как он говорил, «оскорбительной любезности временщика, для которого нет ничего „священного“».38
Вот все, что нам известно об одном из важнейших моментов в истории связей Пушкина с членами Южного тайного общества — о пребывании поэта в центре декабристов-южан, в Тульчине, в 1821 и 1822 годах.
————
Примечания:
1 Остафьевский архив князей Вяземских, т. I, СПб., 1899, стр. 202.
2 В. К. Кюхельбекер. Лирика и поэмы, т. I, Л., 1939, стр. XIII—XIV. Бурцова Пушкин назвал в стих. «Недавно я в часы свободы» (1822).
3 Н. В. Басаргин. Записки. Изд. «Огни», Пгр., 1917, стр. 24—25.
4 Пушкин, Полное собрание сочинений, т. VI, Изд. Академии Наук СССР, 1937, стр. 525.
5 Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина. Изд. 2-е, СПб., 1910, стр. 82.
6 Первая поездка в Измаил состоялась в 1821 году. Пушкин ездил туда вместе с Липранди, посланным по делу возмущения солдат в Камчатском полку («Русский архив», 1866, № 8 и 9, стб. 1272, 1276).
7 П. Бартенев. Пушкин в южной России. «Русский архив», 1866, № 8 и 9, стб. 1182.
8 М. А. Цявловский. Летопись жизни и творчества А. С. Пушкина, т. I. Изд. Академии Наук СССР, стр. 758—759. В дальнейшем приводится сокращенно: Летопись.
9 «Звенья», т. IX, М., 1951, стр. 100.
10 «Русский архив», 1866, № 8 и 9, стб. 1445 и 1444.
11 Летопись, стр. 277.
12 Летопись, стр. 266—267 и 280. — О поездке Пушкина в Киев см. еще брошюру Д. Косарика «Пушкін на Україні» (Київ, 1949, стр. 19): <перевод> «28 января <1821 года> А. С. Пушкин вместе с В. Л. Давыдовым выехал в Киев на контракты, как это видно из материалов поместной конторы в Каменке» (Сборник «Пушкин», изд. Академии наук УССР, Киев, 1937, стр. 164).
13 Д. Косарик. Пушкін на Україні, стр. 22, 23.
14 Летопись, стр. 764; см. также: Пушкин. Исследования и материалы. Труды Третьей Всесоюзной Пушкинской конференции, 1953, стр. 366—367.
15 Пушкин, Полное собрание сочинений, т. II, кн. 2, Изд. Акдемии Наук СССР, 1949, стр. 1121—1122.
16 П. П. Вяземский. А. С. Пушкин. 1816—1825. По документам Остафьевского архива, СПб., 1880, стр. 53—55. — Письмо Пушкина к П. А. Вяземскому, о котором пишет М. Ф. Орлов, считается утраченным и не упомянуто на своем месте в «Летописи» (стр. 364). Однако есть основание полагать, что это письмо — то самое, которое напечатано в академическом издании (т. XIII, стр. 59—61) под датой «Март 1823 г. Кишинев» (ср.: Н. О. Лернер. Труды и дни Пушкина, СПб., 1910, стр. 82—83). Вошедшие в письмо эпиграммы на Аглаю (Давыдову) связаны с жизнью Пушкина в Каменке и непонятны без предположения о пребывании там Пушкина во время их написания, а это могло быть в начале ноября 1822 года, до приезда поэта в Киев.
17 М. Гершензон. Семья декабристов. «Былое», 1906, № 10, стр. 308.
18 6 декабря 1822 года В. А. Глинка писал Кюхельбекеру: «Я наверно увижу его <Пушкина> в Киеве во время контрактов...» («Литературное наследство», кн. 16—18, 1934, стр. 345).
19 Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIII, 1937, стр. 45.
20 Памяти декабристов. Сборник материалов, т. III, Изд. Академии Наук СССР, Л., 1926, стр. 191—192.
21 12 ноября Охотников покинул совсем Кишинев. В Петербург он повез письмо Пушкина Вяземскому, до нас не дошедшее; см. письмо Пушкина к Вяземскому от 5 апреля 1826 года (Пушкин, Полное собрание сочинений, т. XIII, 1937, стр. 61).
22 А. П. Заблоцкий-Десятовский. Граф П. Д. Киселев и его время, т. I, СПб., 1882, стр. 168—169.
23 Памяти декабристов. Сборник материалов, т. III, 1926, стр. 186 и 191.
24 Назначен на эту должность 16 октября 1821 года (см.: Восстание декабристов, т. VIII, Алфавит декабристов, 1925, стр. 274).
25 Н. В. Басаргин. Записки, Пгр., 1917, стр. XXII.
26 Н. В. Басаргин. Записки, стр. 13.
27 Пушкин, Сочинения, т. I, под редакцией Г. Н. Геннади, изд. Я. А. Исакова, СПб., 1859, стр. 273.
28 Летопись, стр. 759.
29 А. И. Маркевич. Неизданное стихотворение Пушкина. «Записки Одесского общества истории и древностей», т. XXIV, 1902, отд. V, стр. 66.
30 Памяти декабристов, т. III, стр. 191.
31 В публикации это письмо датировано 1819—1820 годами, что, бесспорно, неверно.
32 Киселев имеет в виду вынужденную отставку М. Ф. Орлова и его отъезд в Киев в 1822 году.
33 Киселев, вероятно, намекает на В. Ф. Раевского и П. И. Пестеля, на которого он в начале ноября 1822 года получил донос от Добровольского, сослуживца Пестеля. В связи с этим доносом Киселев даже предполагал в ноябре 1822 года навсегда уехать за границу.
34 Киселев намекает на Пушкина и, возможно, на других лицеистов — Кюхельбекера и Дельвига, фигурирующих в это время в доносах В. Н. Каразина и других.
35 «Громада тунеядцев московских» — это, по всей вероятности, члены Союза благоденствия: Граббе, Фонвизин, Якушкин, которые бывали в Тульчине и были хорошо известны Киселеву.
36 «Русская старина», 1887, т. 55, июль, стр. 231—233.
37 В 1823 году Киселев убил на дуэли И. Н. Мордвинова.
38 И. П. Липранди. Из дневника и воспоминаний. «Русский архив», 1866, № 8 и 9, стб. 1454.
Метки: история россия пушкин декабристы |
Дар праправнучки декабриста |
Это цитата сообщения ГалаМаг [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Дар праправнучки декабриста
История декабристского движения пополнилась новым интересным свидетельством: княгиня Елена Вадимовна Волконская передала в дар Государственному Историческому музею альбом, принадлежащий ее знаменитому роду.

Княгиня Е.В. Волконская. Фото А. Юрова
Метки: ЖЗЛ россия декабристы волконские |
Михаил Федорович Орлов: дипломат, декабрист, герой... |
Это цитата сообщения TimOlya [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Михаил Федорович Орлов : дипломат, декабрист, герой ....
Метки: ЖЗЛ россия орловы декабристы |
В. Романов. "Я летаю на собственных крыльях". |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
В. Романов. "Я летаю на собственных крыльях".

Альманах «Факел», 1990 г.
Из письма княгини Марии Николаевны Волконской своему отцу, прославленному генералу 1812 г., Николаю Николаевичу Раевскому. 21 декабря 1826 г.:
«Мои добрый папа, вас должна удивить та решительность, с которой я пишу письма коронованным особам и министрам, но что вы хотите — нужда и беда вызвали смелость и в особенности терпение. Я из самолюбия отказалась от помощи других. Я летаю на собственных крыльях и чувствую себя прекрасно».
Оставалось несколько дней до отъезда Марии Николаевны в Сибирь, к мужу, декабристу Сергею Григорьевичу Волконскому. Что мы знаем о Марии Николаевне? Не той, некрасовской, поднятой на котуры, почти недосягаемой, а реальной, живой, поначалу худенькой, угловатой, а потом прекрасной и таинственной?! Как это все произошло? Можно ли проследить это преображение души, прочесть ее историю, хотя бы ее начало, кем она могла стать и кем не стала, и почему? И еще множество вопросов, порой незначительных, но в них и наши надежды.
Нам надо сейчас непременно знать, что это значит: «летать на собственных крыльях и чувствовать себя прекрасно». Знать, чтобы заново обрести это давно утерянное, позабытое нами чувство.
ДЕТСТВО
Эпоха началась с отцеубийства. В ночь с 11 на 12 марта 1801 г. Павел I был задушен в своей спальне. На трон взошел его сын Александр I, благословивший это злодеяние. И хотя многие в Петербурге и Москве встретили с радостью это известие, ожидая лучших перемен, но для всякого честного человека такая насильственная смена монархов прибавляла и привкус душевной горечи. На зле добра не построишь.
Для полковника Николая Николаевича Раевского Павел I был не более как самодур и тиран. 10 мая 1797 г он без всяких причин повелел исключить его со службы. И что делать 26-летнему полковнику, который в жизни ничего больше не умел? Посудите сами. В три года он уже был зачислен на военную службу в лейб-гвардию Преображенского полка в Петербурге, в шесть лет ему присвоено звание сержанта, а в пятнадцать — гвардии прапорщик Раевский уже в действующей армии под началом двоюродного дяди, знаменитого екатерининского вельможи, генерал-фельдмаршала Григория Александровича Потемкина. Еще через год Раевский участвует в русско-турецкой войне. Через два года он командует казачьим полком, а в двадцать три он уже полковник, командир Нижегородского полка драгун. В том же 1794 г. Раевский женится на дочери бывшего библиотекаря Екатерины II и внучке Ломоносова Софье Алексеевне Константиновой. Женится по естественной симпатии, увлекшись пылкой и темпераментной девицей, и вот после трех лет счастия такой форс-мажор: отставка! Какое же мнение мог иметь Раевский о Павле I? И ему ли не радоваться переменам?
Александр I, едва вступив на престол, тотчас Раевского облагодетельствовал. Он не только вернул его в армию, но и пожаловал чин генерал-майора. И что же Раевский?.. Он просит... отставку. Дерзость неслыханная, прошение равносильно отказу от благодеяния. И это в тот момент, когда Наполеон требует от России полного разрыва с англичанами, на что Александр, естественно, не пойдет, а это значит: война.
Что же заставило Раевского просить от ставки? Не устройство же семейных дел и имения, как он указывал в рапорте? Монарх мог и обидеться, но он только заступал на престол и, сделав вид, что обидного намека не усмотрел, отставку разрешил.
Сейчас приходится лишь гадать, что послужило действительным поводом к такому решению Раевского. То ли обида на Павла еще не прошла, то ли бравый офицер, прошедший хорошую выучку Потемкина, не привык принимать генеральские аксельбанты, как милостыню, да и не это главное для нас. Важен характер будущего героя 1812 г.— противоречивый, резкий, своевольный, в чем-то даже тиранический, и понимание этого характера очень существенно в рассказе о Марии Николаевне, ибо все в доме Раевских проходило под знаком этого характера, все решения принимались только с согласия главы семейства, да и дети, вольно или невольно, многое унаследовали от отца. Его не просто слушались, его боготворили в доме, и первого внука обязательно называли в честь отца и деда Николаем. Любовь к отцу у всех детей, даже у старшего, Александра, который, казалось, вообще мало кого любил в своей жизни, была той святыней, разрушить которую не могло ничто. Далее мне придется не раз говорить об этом, ибо искать разгадку многих поступков Марии Николаевны невозможно, не зная, сколь велико было влияние Раевского-старшего на дочь.
До сих пор существуют две даты рождения Марии Николаевны. Одна — 25 декабря 1805 г., другая — 1 апреля 1807 г. Обе даты имеют свои подтверждения. В научных изданиях последних лет указывается первая дата, мне же думается, наиболее вероятней все же — 1807 г. Об этом, во-первых, говорит сама Мария Николаевна. Рассказывая о муже в своих «Записках», она сообщает, что «он был старше меня лет на двадцать...» Сергей Григорьевич Волконский родился в 1788 г. и, следовательно, был старше Марии Николаевны на 19 лет, если исходить из того, что она родилась в 1807 г. Известно, что скончалась Мария Николаевна 10 августа 1863 г. на 56-м году жизни, что подтверждает именно 1807 г. Мы также знаем, что ее сестра Елена родилась в 1804 г. болезненной, со слабым здоровьем, и Раевские очень тревожились, выживет ли она. Вряд ли вслед за Еленой могла появиться сразу и Мария, ибо в 1806 г. родилась Софья, которая, по отзывам Марии Николаевны, была ее старше. Поэтому за год рождения мы берем 1807-й.
Мария Николаевна была младшей в семье Раевских, шестым ребенком, а младшая дочь исстари любимица отца. Подобно сверстницам своего круга, Мария получила блестящее домашнее образование. Она прекрасно играла на рояле и пела, знала несколько иностранных языков. Дочь известного драматурга той поры Василия Капниста Софья Васильевна Скалон, современница Марии Николаевны, в своих записках подробно описывает это домашнее воспитание и образование:
«Воспитание наше шло таким образом. Нас будили рано утром, а в зимнее время даже при свечах; дядька Петрушка с вечера приготовлял для нас длинный стол в столовой, положив каждому из нас на листе чистой бумаги книги, тетради, перья, карандаши и пр. После длинной молитвы, при которой все мы стояли рядом, один из нас читал ее громко, мы садились на свои места и спешили приготовить уроки к тому времени, когда мать наша проснется; тогда несли ей показывать что сделали, и если она оставалась довольна нами, то, заставив одного из нас прочесть у себя одну главу из евангелия или из священной истории, после чаю отпускала нас гулять...»
Надо сказать, что Мария Николаевна, как и Софья Васильевна, училась вместе со своими сестрами. Софья знала в подлиннике Байрона, а Елена больше тяготела к музицированию. Разучивание новых музыкальных пьес, арий, романсов и для Маши стало одним из страстных увлечений юности.
Гувернантки — француженки и англичанки, няньки и дядьки, учителя составляли во многих дворянских семьях солидный «воспитательский корпус». Но главной средой формирования личности оставалась все же семья. Влияние родителей, старших братьев и сестер было огромно. Софья Алексеевна Раевская росла в семье очень образованной, любовь к знаниям она прививала и детям. Все Раевские хорошо знали литературу и философию (отечественную и зарубежную), недаром многие сверстники высказывали восхищение Екатерине и Александру за их широчайшие знания и смелое неординарное мышление.
Особо хочется остановиться на фигуре Александра Раевского, старшего из сыновей, который, благодаря острому, ироничному уму, пользовался огромным авторитетом у сестер. Достаточно сказать, что под его влиянием находился молодой Пушкин, и, несмотря на последовавший позже разрыв между ними, поэт сохранил до конца своих дней уважение к этой незаурядной личности.
Можно смело сказать, что под влиянием старшего брата сформировался независимый ум Екатерины Раевской, испытала его влияние и Мария Николаевна.
Александр был старше Марии на двенадцать лет. В архиве Волконских сохранились два письма, посланных юной Машей брату, который служил адъютантом при графе Воронцове в Париже. Письма датированы мартом 1816 г Маше девять лет, и она с нетерпением ждет возвращения брата:
«Мой дорогой брат! ваше последнее письмо принесло нам большую радость, ибо мы узнали из него, что вы находитесь в добром здравии, а главное, предполагаете скоро вернуться, и нам предстоит снова обрести друг друга. Какая это будет радость вновь увидеть вас, ибо мы так долго были лишены вашего братского товарищества...» «Я с огромным нетерпением,— пишет Мария во втором письме,— жду этот миг, когда смогу вновь увидеть вас и самой высказать все то, что не могу выразить на бумаге. Знайте же, что мы уезжаем из Каменки во вторник после пасхи и поедем в Крым. Я заранее радуюсь и надеюсь, что, может быть, вы примете в этом участие, я хочу, чтобы обстоятельства позволили вам осуществить это мое пожелание, которое объединит нас, отчего наше путешествие будет самым приятным и самым веселым! До скорой встречи, мой прекрасный и дорогой брат. Софья и я целуем вас тысячу и тысячу раз».
Прочитав оба отрывка, трудно представить, что их отправитель находится в столь юном возрасте. Несмотря на некоторую наивность интонации, они выдают уже зрелую девушку, пылкую, романтичную, нежную, которая всю силу чувств переносит на брата и в то же время уже умеет изысканным слогом выразить эти чувства. Поневоле хочется спросить вслед за Пушкиным:
Кто ей внушал и эту нежность,
И слов любезную небрежность?
Кто ей внушал умильный вздор,
Безумный сердца разговор?
Оба письма, как и положено традициям того времени, написаны по-французски. Отдавая дань прекрасному домашнему образованию, все же нельзя не заметить не столько умение вести «безумный сердца разговор», этому вполне могли научить гувернантки, сколько готовность его вести. Душа уже пробудилась, живет, жадно впитывая все краски жизни. Важен не сам предмет обожания, важна сама жажда найти, открыть такой предмет, и фигура брата здесь самая уместная и достойная. Ореол героя венчает его, и именно герою она способна посвятить всю себя без остатка. Это чувство потом чуточку погаснет, потускнеет, жизнь найдет ему более тонкую оправу, но вот что удивительно: читая записки, письма Марии Николаевны перед отъездом в Сибирь («Я летаю на собственных крыльях»), угадываешь ту же интонацию, тот же сердечный пыл, ту же жажду нежности.
Мария — младшая в семье, и воспитание ее — насыщение магического кристалла души — идет кругами: отец, мать, братья, сестры, гувернантки. От старшей Екатерины она переняла резкость, категоричность суждений (Маша быстро выросла из романтических иллюзий, из байронизма, что позволило ей о первых опытах Пушкина отзываться весьма снисходительно), от Елены — мягкость, кротость, чувствительность, от Софьи — педантичность, обязательность и аккуратность, страсть к чтению. Нежная, чувствительная по природе, она тянется к Александру и Екатерине, которых объединяют острый ум, скептицизм, ирония. Вот Екатерина Николаевна пишет брату Александру: «Пушкин больше не корчит из себя жестокого, он очень часто приходит к нам курить свою трубку и рассуждает или болтает очень приятно...» И далее: «Его теперешний конек — вечный мир аббата Сен-Пьера. Он убежден, что правительства, совершенствуясь, постепенно водворят вечный и всеобщий мир и что тогда не будет проливаться иной крови, как только кровь людей с сильными характерами и страстями, с предприимчивым духом, которых мы теперь называем великими людьми, а тогда будут считать лишь нарушителями общественного спокойствия. Я хотела бы видеть, как бы ты сцепился с этими спорщиками...»
Здесь очень важно и то, о чем спорят люди, окружающие юную Марию, и та ирония, которая заключена в словах Екатерины Николаевны. Ни она, ни Александр Раевский не верят в будущее совершенство мира и общества, в их мыслях, суждениях, поступках больше от поколения Базаровых, жестких, прагматичных, нежели от романтиков начала XIX века. Мария Николаевна эту иронию целиком не усвоит, но трезвый и хладнокровный ум, категоричность в ее поступках обнаружить нетрудно. Обожая в детстве и отрочестве старшего брата (позднее ее привязанность постепенно перейдет к более пылкому и сердечному Николаю), она не могла не восхищаться язвительными и парадоксальными суждениями Александра Раевского.
Для полноты душевного здоровья скептицизм и ирония — вещи необходимые. С одними романтическими иллюзиями сибирскую каторгу одолеть было бы невозможно, и запас такого «строительного материала» души Марии Николаевне впоследствии очень пригодится.
Определенно можно сказать, что именно этот «запас прочности» дал ей силы совершить и первый дерзостный поступок: пойти против воли отца, мнения семьи и поехать вслед за мужем. Приветствуя подвиг жен декабристов, мы забываем подчас о причинах, его породивших. Ведь нужны были смелость, отвага, мужество, чтобы одной выступить против целого света, пренебречь запретами отца и брата, которых она так недавно беспрекословно слушалась. Откуда же взялись эти качества?
Как вообще становятся героями? Утверждение, что героем или героиней надо родиться, не только ничего не объясняет, но еще больше запутывает. В бою под Салтановкой в 1812 г., когда французы, превосходя во много раз численностью корпус генерала Раевского, стали теснить его и тень поражения уже, казалось, накрыла его полки, Николай Николаевич приказал семнадцатилетнему Александру взять знамя, схватил за руку одиннадцатилетнего Николку и с возгласом: «Солдаты! Я и мои дети откроем вам путь к славе! Вперед за царя и Отечество!» ринулся под град пуль. Одна из них продырявила Николке панталоны, осколок картечи сильно ударил генерала в грудь. Но этого мгновения было достаточно, чтобы вывести корпус из замешательства. Грянуло многоголосое «ура!», и солдаты вмиг выбили втрое превосходящего противника с Салтановской плотины, обратив его в бегство. Такого гренадеры Наполеона еще не видели. Раевский явил себя героем в этом эпизоде. Он как бы накапливал «энергию героизма» еще со времен Павла, когда без дела сидел у себя в имении, когда вместе с Багратионом терпел поражение под Фридландом. А под Салтановкой и Смоленском его геройские деяния воодушевляли всю армию.
Этот момент накопления шел в душе и Марии Николаевны. Начиная с самого детства, она словно готовила себя к взлету. Характер набирал силу, и это чувствовали многие. Недаром в 1820 г., путешествуя с семьей Раевских, Пушкин обратил внимание именно на Машу, задумчивую, тихую девочку, точно угадав в ней этот будущий бунт. Даже возникла легенда о безответной любви, и немало стихотворных строк поэта было ей посвящено. Недаром именно Мария Николаевна привлекла внимание и еще одного незаурядного человека, героя Отечественной войны 1812 г. князя Сергея Григорьевича Волконского.
НОВАЯ ЖИЗНЬ
«Я вышла замуж в 1825 году за князя Сергея Григорьевича Волконского, вашего отца, достойнейшего и благороднейшего из людей», — пишет в начале своих «Записок» Мария Николаевна и затем в конце их еще раз повторит этот эпитет — «благороднейший». И это не просто обязательная фраза. Декабристы (а уточняя, скажем, лучшая их часть) были действительно людьми исключительными, исключением из общего числа, ибо и в те времена достаточно было карьеристов, казнокрадов,взяточников, подлецов. И благороднейший человек, князь Сергей был все же фигурой скорее исключительной, а не типичной. Вот лишь несколько примеров:
В 1815 г. Волконский, будучи уже генерал-майором, командиром корпуса, вступается за своего обер-провиантмейстера Олова, которого губернатор Житомира, где квартировал корпус Волконского, поляк Гажицкий хотел переселить с лучшей квартиры в худшую. Жена Олова была на сносях, и последний, встретив князя Сергея Григорьевича, пожаловался ему. Волконский потребовал оставить Олова на прежней квартире, Гажицкий настаивал на своем. Вспыхнула ссора, Гажицкий вызвал Волконского на дуэль, причем губернатор считался в обществе стрелком первоклассным Волконский вызов принял, они стрелялись и, к счастью, оба не пострадали. Но сам факт говорит о многом.
Служа под началом генерала Винценгероде, Волконский вступился за офицера, которому генерал дал пощечину за то, что офицер притеснял немцев (дело происходило в Германии, когда шла война против Наполеона). Волконский отважился указать генералу на его проступок. «Но это не офицер, а простой рядовой!» — стал уверять генерал. «Да и в этом случае было бы ваше действие предосудительно, — горячился Волконский, — а вы нанесли такую обиду офицеру». «Неужели?» Тогда добрый старик... сказал: «Да, я невольно обидел офицера, но постараюсь это поправить; позовите мне этого офицера». Когда его привели, он ему сказал: «Я неумышленно пред вами виноват... мой... поступок не могу другим поправить, как предложить дать вам сатисфакцию поединком». «Но, к сожалению, — продолжает в своих «Записках» Волконский, — этот офицер не понял благородного поступка начальника и, к стыду моему, ответил: «Генерал! Не этого я от вас прошу, но чтоб, при случае, не забыли меня представлением». Тут уже я покраснел за соотечественника. Этот анекдот выставляю не в пользу свою, но чтоб выказать благородство чувств Винценгероде».
Оба этих факта рельефно очерчивают благородный лик князя Сергея, его по разительную честность и справедливость. Он всегда помнил, как должно поступать человеку, умел совладать с той животной природой, которая тянет человека вниз, призывает заботиться только о себе «Накануне Лаонского дела, — пишет он в «Записках», — я получил пакет на собственное мое имя, по содержанию которого я вызывался в главную квартиру. Тут был я в недоумении накануне ожидаемого сражения как мне удалиться, и я решился объявить о полученном мною вызове по окончании сражения, как я выше сказал, два дня кряду сражение продолжалось, и мне приходилось быть в довольно сильном огне, и хотя я без хвастовства скажу, что я не из трусливого десятка, но внутренне я себе говорил ну не дурак ли я, вчера мог бы выехать, объявив о вызове, мною полученном, а теперь того и смотри, что убьют или, что еще хуже, попаду в калеки на всю жизнь и уже поклялся самому себе, что едва кончится сражение, то доложу Винцен героде о полученном мною предписании и, не отлагая, в путь».
По прошествии многих десятков лет Волконский находит в себе мужество, не красуясь, описать естественные свои мысли, предназначенные только себе и никому другому, характеризующие его не как героя, а как обычного человека. Он делает это не для того, чтобы потрафить читателю вот посмотрите, я такой же, как вы, и так же боялся, когда приходилось быть под огнем. Он делает это ради самой правды чувств правды обстоятельств и своих поступков. Эта правда и являла собой высоту человеческого достоинства, высоту благородства князя Сергея. Эта правда и привела его в круг декабристов.
Таков был избранник Марии Николаевны. Свадьба состоялась в январе 1825 г. Они прожили год, а из него всего лишь несколько месяцев были вместе. Но даже за это время Мария Николаевна не могла не почувствовать, не ощутить всю красоту души своего избранника. Она быстро поняла, что не только ради «блестящей будущности» родители выдали ее за князя Волконского. Ее мужем стал один из лучших людей своего времени, и выбор отца в этом смысле был точен.
Безусловно, ей трудно было покидать родной дом, сестер и беззаботную счастливую жизнь, которая ее окружала. Оттого в первых письмах ее еще столько грусти, тоски по дому.
«13 июня 1825 года, Одесса. Дорогая Катенька! Ты пишешь о своих занятиях по хозяйству, что сказала бы ты, видя, как я хожу каждый день на кухню, чтобы наблюдать за порядком, заглядываю даже в конюшни, пробую еду прислуги, считаю, вычисляю, я только этим и занята с утра до вечера и нахожу, что нет ничего более невыносимого в мире.
Если папа в Киеве — умоляй его приехать к нам, я все приготовила к его приезду, велела повесить занавески и меблировать комнаты, так же, как в помещении Орловых и братьев. Приезд их для меня был бы праздник, особенно Александра. Как я была огорчена тем, что он отказался от этого путешествия. M-mе Башмакова все время восхваляет его и тебя. Она как нельзя более предупредительна и должна считать меня очень угрюмой, так как я вообще совсем не любезна от природы, а теперь меньше, чем когда-либо».
Варвара Аркадьевна Башмакова, жена полковника Башмакова, чиновника особых поручений при графе М. С. Воронцове, опекала молодую жену Волконского. Это письмо довольно подробно раскрывает состояние Марии Николаевны. От полной беззаботности, от жизни, которая, казалось бы, только в том и состояла, чтобы получать радости и удовольствия, восемнадцатилетняя девушка вдруг погрузилась в круг ежедневных забот. А вот письмо из Умани брату Николаю: «Дорогой Николай, приезжай к нам, как только сможешь, мы здесь очень одиноки (у М. Н. гостит ее сестра Софья. — В.Р.), погода отвратительная, нет возможности выходить, и мы заперты в трех маленьких комнатах, так как дом еще не готов...»
Волконского нет, он на учениях. И вся эта грусть и хандра вполне естественны. Но в письмах за чередой грустных ноток проскальзывает уже и некоторая гордость за свое новое положение хозяйки дома. Мария Николаевна об этом не забывает, сообщая сестре и о кухне, и о конюшне, и о прислуге, и о денежных счетах. Так что словам о невыносимости менее всего стоит доверять. И сообщение брату о новом доме — тоже черточка нового облика.
Меняется и стиль писем, их тональность, они становятся энергичней, напористей, ведь взрослеет, меняется сам автор этих писем. Рвется ниточка, связывавшая Марию Николаевну с родительским домом, что ж, это и трудно, и болезненно, но в письмах говорит уже наполовину княгиня Волконская. Но вот эта тоска по дому. эти, еще детские, слезы будут потом вытащены на свет сестрами и отцом, как доказательство нелюбви Маши к мужу. Так удобнее будет им оправдать в глазах света дочь, если они убедят ее не ехать вслед за Волконским в Сибирь. В какой-то миг старый генерал в это уверовал, ибо себя считал виновником всех несчастий дочери, ведь знал он о принадлежности Волконского к тайному обществу, знал и все-таки дал согласие на брак. Да и жена, и дочери уверяли его в том, что брак этот совершился не по любви. Здесь сказались отчасти и зависть сестер, и слепота материнской любви, нам ли судить их за это. Марии Николаевне же предстояло еще вступить в эту борьбу, борьбу неравную, изнурительную. И вот здесь-то и явились вдруг в ее характере все те качества, о которых уже говорилось: и достоинство, и честь, и мужество. Огромная энергетическая духовная сила всего рода Раевских, таившаяся до поры до времени, перелилась в хрупкую восемнадцатилетнюю женщину, которая, точно продолжив военную стезю Раевских, стала девой-воительницей. Ее «курганная высота», на которой отличился генерал Раевский в час Бородинской битвы, была еще впереди.
«Я ДОСТИГЛА ЦЕЛИ СВОЕЙ ЖИЗНИ»
В конце декабря князь Сергей привез жену в имение Раевских, Болтышку, под Киевом. Мария Николаевна ждала первенца. Он уже знал, что полковник П. И. Пестель арестован, но не знал о событиях 14 декабря 1825 г. Генерал Раевский поведал зятю о них и, предчувствуя, что арест может коснуться и князя, предложил ему эмигрировать. Волконский от этого предложения сразу же отказался, ибо бегство для героя Бородина было бы равносильно смерти.
В начале января 1826 г. Мария Николаевна родила первенца, которого, по семейной традиции, решено было назвать Николаем. Молодая мать заболевает родильной горячкой и о дальнейших событиях вплоть до апреля 1826 г. ничего не знает.
А события тем временем следуют одно за другим. Арестованы Орлов, Волконский, сыновья Раевского. Сам Николай Николаевич едет хлопотать за родственников в Петербург, но к его приезду сыновей отпускают, за ними ничего нет. Утешительно и положение Михаила Орлова, за него ежечасно хлопочет его брат Алексей, второй человек в новом правительстве Николая I. А положение Волконского осложняется еще и тем, что он не хочет давать показания на своих товарищей, и царь в сильном гневе, который обрушивает на голову старого генерала, попробовавшего похлопотать за зятя.
Лишь возвратившись в апреле в Болтышку, Раевский обо всем известил дочь, прибавив, что Волконский «запирается, срамится» и прочее. И конечно, отец сразу же объявил ей, что не осудит ее, если она решит расторгнуть брак с Волконским.
Можно лишь представить себе, каково было все это услышать молодой женщине, измученной долгой болезнью. Раевский, верно, и рассчитывал на то, что она снова покорится воле родителей, но произошло наоборот. Дочь взбунтовалась. Как ее ни отговаривают, она едет в Петербург, добивается свидания с мужем, наносит визиты родственникам мужа, утешая их и мужественно ожидая приговора.
До этого момента она ничего не знала ни о тайных обществах, ни о том, чем занимался Волконский, но узнав, не пришла в ужас, отчаяние, как ее родители. Она впервые начинала понимать своего мужа, осмысливать ту его деятельность, которая была от нее скрыта.
Александр Раевский, горячо любимый брат и кумир юности, насильно увозит ее из Петербурга, обрывая общение Марии Николаевны с семьей мужа. Он увозит ее к тетке, графине Браницкой, где она оставила своего сына.
Любопытны подробности изнурительной борьбы Александра Раевского с сестрой за то, чтобы лишить ее свиданий и всяких связей с мужем. Одновременно с хлопотами о свидании сестры с Волконским он пишет письмо Бенкендорфу с просьбой не допускать этого свидания, а если все-таки оно состоится, то прежде дать встречу с Волконским графу Алексею Орлову, который изложит условия, на которых это свидание должно состояться. Выставлялись следующие условия: утаить от Марии Николаевны степень своей виновности и употребить все свое влияние, чтобы заставить ее уехать из Петербурга к сыну и там ждать решения судьбы мужа.
Увы, Волконский вынужден был принять эти условия. Кроме того, Александр уведомил сестру Волконского Софью Григорьевну, что письма ее к Марии Николаевне им вскрываются и до адресата не доводятся.
Таким образом, решение Маши уехать из Петербурга продиктовано прежде всего просьбой мужа, князя Волконского. Но и ей она бы не подчинилась, понимая, что просьба эта — лишь забота о ней, но внезапно поднимается температура у сына Николино, о чем сообщает графиня Браницкая, и Александр использует этот случай — уговаривает Машу уехать из Петербурга.
Даже по этому небольшому эпизоду видно, сколь решительно Мария Николаевна была настроена находиться рядом с мужем и разделять все огорчения его незавидной участи и почему Александру пришлось прибегнуть к столь изощренным приемам, чтобы разлучить их.
А в имении Браницкой ее ждало заточение на несколько месяцев — с апреля по август. И все это время она была лишена известий о муже.
Но эти месяцы не прошли даром. В душевном одиночестве, думая о муже, Мария Николаевна как бы рождалась заново. Потребовалась огромная духовная работа, чтобы определить свое отношение к «преступлению» Сергея Григорьевича, понять его, прийти к единственному выводу: что бы его ни ожидало, быть рядом с ним. Это решение тем более ценно, что Мария Николаевна выстрадала его. Если А Г. Муравьева, Е И. Трубецкая и другие жены декабристов не были скованы столь жесткими домашними оковами, были вольны общаться друг с другом, находили поддержку друзей, родственников, всех сочувствующих бунту, то Волконская была вынуждена в одиночку бороться за свой смелый выбор, отстаивать его и даже пойти на конфликт с самыми близкими, любимыми ею людьми. Недаром декабрист М. Лунин назовет Раевских «трусливым семейством», имея в виду их решительное сопротивление отъезду Марии Николаевны.
А Раевские были уверены в том, что Машенька выполнит их волю. Они уже подыскивали ей место жительства с ребенком, о чем свидетельствует письмо Александра Раевского сестре Екатерине: «Не отнесись легко к вопросу о месте жительства Маши и о враче для ее ребенка. Помни, что в этом ребенке все ее будущее, помни о страшной ответственности, которая падет на нас, если мы не примем всех мер предосторожности, какие в нашей власти. Мы должны строго руководствоваться наиболее благоприятными вероятностями, а они все или за кн. Репнину, или за Одессу. Что касается ее самой, ее воли, то, когда она узнает о своем несчастье, у нее, конечно, не будет никаких желании. Она сделает и должна делать лишь то, что посоветуют ей отец и я...»
«Она сделает и должна делать лишь то, что посоветуют ей отец и я...» — это суждение характеризует не только Александра Раевского. Оно в немалой степени рисует нам и положение женщины в начале XIX века. И то, что сделали жены декабристов, и прежде всего Мария Волконская, явило для русского общества событие необычайное, возможно, не менее значительное, чем само восстание.
12 июля 1826 г. подследственным объявили приговор. Сергей Григорьевич Волконский был осужден по первому разряду на 20 лет каторги. 26 июля его отправили в Сибирь. И лишь через несколько недель Александр Раевский рассказал сестре о случившемся. Он собирался в Одессу и попросил Марию Николаевну ничего не предпринимать до его возвращения. Он уехал, оставив Волконскую на попечение сестре, Софье. Уехал, уверенный, что все будет так, как хочет он...
Но едва экипаж скрылся из виду, Волконская спешно стала укладываться, заявив, что поедет в Яготин, Полтавской губернии, в имение брата мужа князя Репина. Софи тотчас оповестила отца. До Яготина Марию Николаевну сопровождали мать и сестра. Вручив ее князю и его жене, они со слезами на глазах уехали.
Вместе с князем Николаем Григорьевичем Репниным и его женой Волконская отправилась в Петербург. Мария Николаевна забрала в столицу и сына. Остановилась она в доме свекрови, княгини Александры Николаевны Волконской, на Мойке (в квартире, где через одиннадцать лет умирал Пушкин).
Мария Николаевна приехала в Петербург 4 ноября. А за две недели до ее приезда в столицу прибыл ее отец, Николай Николаевич. Он встретился с царем, которому верноподданнически объявил, что будет удерживать дочь «от влияния эгоизма Волконских». С «бабами Волконскими» у генерала отношения весьма натянуты.
Мария Николаевна пишет прошение государю отпустить ее к мужу, ждет ответа почти месяц. Вечером 21 декабря получен благожелательный ответ Николая I, а уже в 4 часа утра 22 декабря 1826 г., оставив ребенка свекрови, она выезжает в Москву. Хочется отметить и этот факт: своего ребенка она оставляет не матери, а свекрови.
Настолько сильна вражда родного дома, сильно неприятие ее поступков, что Мария Николаевна оставляет своего первенца человеку, с которым она даже мало знакома. Что ж, она решилась и на это, уверенная в своей правоте. Какой силой души надо было обладать, чтобы вынести эту вражду и уехать, не простившись с близкими?!
Вспомним восторженную Машеньку, пишущую письма своему горячо любимому брату... Сколь разнятся поступки Марии Волконской от поступков Маши Раевской. А ей всего лишь девятнадцать лет.
В Москве она на несколько дней останавливается у княгини Зинаиды Волконской (дом З. Волконской дважды перестраивался, ныне там находится Елисеевский магазин - С.А.), давшей в честь ее знаменитый вечер, на котором были А. С. Пушкин, Д. В. Веневитинов и другие известные люди России. И в канун нового, 1827 г., когда в московских домах шли балы, звенели бокалы, она покидала Москву. Ей казалось — навсегда. Отцу она сказала, что на год, ибо он обещал проклясть ее, если она не вернется... Он чувствовал, что более не увидит ее.
Из всей семьи Раевских лишь три человека — отец, Екатерина и Елена — позже смогли понять, каждый по-своему, поступок Марии Николаевны. Отец 2 сентября 1826 г. писал дочери: «Муж твой виноват перед тобой, пред нами, пред своими родными, но он тебе муж, отец твоего сына, и чувства полного раскаяния, и чувства его к тебе, все сие заставляет меня душевно сожалеть о нем и не сохранять в моем сердце никакого негодования: я прощаю ему и писал ему прощение на сих днях...»
В апреле 1827 г. он пишет дочери Екатерине: «Неужто ты думаешь, мой друг Катенька, что в нашей семье нужно защищать Машеньку. Машеньку, которая, по моему мнению, поступила хотя неосновательно, потому что не по одному своему движению, а по постороннему влиянию действует, но не менее она в несчастии, какого в мире жесточе найти мудрено, мудрено и выдумать даже. Неужто ты думаешь, что могут сердца наши закрыться для нее? Но полно и говорить об этом. В письмах своих она все оправдывает свой поступок, что доказывает, что она не совсем уверена в доброте оного. Я сказал тебе, мой друг, один раз: ехать по любви к мужу в несчастии — почтенно. Не будем возвращаться к этому предмету. Дай бог, чтобы наша несчастная Машенька осталась в этом заблуждении, ибо опомниться было бы для нее еще большим несчастием».
И наконец, за несколько месяцев до смерти, 3 апреля 1829 г. Раевский отец сообщает Екатерине: «Машенька здорова, влюблена в своего мужа, видит и рассуждает по мнению Волконских и Раевского уже ничего не имеет, в подробности всего войти не могу и сил не станет».
5 мая 1829 г Екатерина пишет брату Александру:
«Он (князь Сергей — В.Р. ) в ее глазах то самое, что Михаил в моих, и не делает ли его для нее еще более дорогим его покорность и страдания Машенька сможет еще найти счастье в своей преданности к мужу, в выполнении своих обязанностей по от ношению к нему. Выходят замуж для того, чтобы разделять судьбу своего мужа в благополучии, несчастьи и унижении, если только муж не разорвал брачных уз тяжкими поступками в отношении к своей жене».
И неожиданно резким диссонансом звучит письмо матери Марии Николаевны, которая до 1829 г. не написала дочери ни строчки: «Вы говорите в письмах к сестрам, что я как будто умерла для вас. А чья вина? Вашего обожаемого мужа. Немного добродетели нужно было, чтобы не жениться, когда человек принадлежал к этому про клятому заговору. Не отвечайте мне, я вам приказываю». Словно сердце ее не выдержало всех несчастий, ожесточилось, умерло так и не поняв, не простив дочь.
Сибирская жизнь Марии Николаевны только начиналась. Пройдет еще целых тридцать лет, прежде чем придет Указ о помиловании и декабристам разрешат вы ехать. Из 121 ссыльного в живых не останется и двух десятков. Переменится и сама Мария Николаевна, изменится Сергей Григорьевич, произойдет много разных событий но это уже потом, позже.
Говорят, несчастья и страдания преображают человека. Что же касается Марии Николаевны — то эта истина вдвойне верна. Из всех несчастий она вышла зрелой и прекрасной женщиной, мужественной, влюбленной в своего мужа. Впрочем, если у кого то все же закрадется в душу сомнение по любви ли поехала Мария Николаевна вслед за мужем, хочу ответить со всей уверенностью — по любви. Именно любовь зрелое влечение сердца оформировала окончательно ее духовный облик. Еще 31 декабря 1825 г за несколько дней до ареста мужа, она писала ему:
«Не могу тебе передать, как мысль о том, что тебя нет здесь со мной, делает меня печальной и несчастной, ибо хоть ты и вселил в меня надежду обещанием вернуться к 11-му, я отлично понимаю что это было сказано тобой лишь для того, чтобы немного успокоить меня, тебе не разрешат отлучиться. Мой милый, мой обожаемый, мой кумир Серж! Заклинаю тебя всем, что у тебя есть самого дорогого, сделать все, чтобы я могла приехать к тебе если решено, что ты должен оставаться на своем посту».
Волконский сдержал слово, данное жене. Он приехал не к 11 му, а 5 января. Приехал самовольно, зная, что у него остаются считанные часы до ареста. Приехал, чтобы поздравить жену с рождением сына и при ласкать ее, успокоить. Посмотреть на любимые черты, может быть, в последний раз. Он пробыл в Болтышке всего несколько часов.
Именно Марии Николаевне Волконской принадлежат поразительные по своей точности и искренности слова, которые се годня звучат как завещание нам. «Если даже смотреть на убеждения декабристов как на безумие и политический бред, все же справедливость требует признать, что тот, кто жертвует жизнью за свои убеждения, не может не заслуживать уважения соотечественников. Кто кладет голову свою на плаху за свои убеждения, тот истинно любит отечество, может быть и преждевременно затеял дело свое ».
Новые времена подтвердили это.
Метки: ЖЗЛ россия декабристы волконские жены декабристов |
В. Колесникова. "Усладительная болезнь моего сердца..." |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
В. Колесникова. "Усладительная болезнь моего сердца..."
Журнал «Наука и религия», №10, 1991 г.
Он еще раз перечитал последние строчки ее письма. Встал и принялся ходить по комнате - по диагонали, как привык за год ходить по своей одиночке в Петропавловской крепости. Почему-то зазвучала шекспировская фраза: "Нет повести печальнее на свете..." - Нет? - спросил он вслух и продолжал вслух же рассуждать: - Да, это печально, погибли два юных существа. А мы? Уже не юные. Не погибли. Мы заживо похоронены в Сибири. Любим впервые в жизни. И навсегда. И не можем быть вместе. Что печальнее? Что печальнее?..
Он подошел к столу, взял перо, задумчиво повертел в руках, бросил и, схватив письмо Натали, осыпал его поцелуями, потом приложил к лицу и прошептал сквозь слезы:
- Любимая! Что, что нам делать? Что есть у меня, кроме моей любви? Я нищ, и не только сейчас - всегда. У меня нет будущего - только бедность и безумный брат мой. Что я могу дать тебе? Ты бежала от бедности в брак с Михайлой Александровичем. Зачем же опять убегать тебе в бедность. И он... Если б только богат. Но ведь добр, благороден, умен, любит тебя без памяти! И он друг мой!
Павел мечется по комнате, потом обессиленный падает на колени перед иконами:
- Господи, вразуми ее, дай силы мне!..
Он долго то вслух, то беззвучно молиться. Потом успокоенный поднимается и долго пишет ответ любимой. Складывает листки и тихо, будто душа вздохнула, будто сердце обрело голос, произносит:
- Есть повести печальнее на свете...
Герои этой повести - Павел Сергеевич Бобрищев-Пушкин и Наталья Дмитриевна Фон Визина.
Он - декабрист, член Южного общества. Следственный комитет по делу декабристов "силу и вины": 23-летнего поручика свиты Его ИМПЕРАТОРСКОГО Величества обозначил: "Знал об умысле на цареубийство и участвовал в умысле бунта принятием на сохранение бумаг Пестеля и привлечением в тайное общество одного члена". Павел Бобрищев-Пушкин вместе с братом Николаем, понимая политическую и идеологическую значимость первой Российской антимонархической Конституции П.И. Пестеля и желая сохранить ее для России, для будущего, решают спрятать ее после ареста Пестеля (13 (25) декабря 1825 года), нарушая приказ, гласивший: «Русскую правду» - сжечь!" Братьев не останавливает сознание, что при этом они рискуют головой. Верность своим республиканским убеждениям П.С. Бобрищев-Пушкин пронес через всю жизнь. Почти шесть лет он провел на каторге. Местами ссылки были городок Верхоленск (1833), через полгода Красноярск (1833 - 1840), последние 16 лет прошли в Тобольске. Как вспоминали товарищи и сибирские знакомые, Павла Сергеевича называли не иначе, как другом человечества. " Всю жизнь посвятил он на служение страждущему человечеству" , - писала М.Д. Францева. Людям отдавал он свое сердце, время, силы, таланты. А талантами П. Пушкин наделен был в избытке: блистательный математик, поэт, баснописец, переводчик (в частности, перевел " Мысли" Б. Паскаля ), рисовальщик, архитектор, теолог и философ. Декабрист И.Д. Якушкин писал, что Пушкин "прекрасные способности ума".
Все эти многообразные таланты дополнились еще множеством ремесел, которые Павел Сергеевич освоил на каторге: стал закройщиком, портным, столяром, плотником, слесарем, перплетчиком - всего не перечислишь. Кроме того, изучил гомеопатию, имел огромную врачебную практику в Тобольске. Его пациентами были бедняки, которых он лечил бесплатно. В 1848 году во время эпидемии холеры в Тобольске П.С. Бобрищев-Пушкин спас около 700 больных.
Она - жена декабриста М.А. Фонвизина, Наталья Дмитриевна, урожденная Апухтина. Единственная любимая дочь богатого помещика Д.А. Апухтина, первые 16 лет жила счастливо, беззаботно,но к 20-м годам века отец ее разорился. После долгих раздумий 19-летняя Наташа согласилась (в 1822 году) выйти замуж за своего двоюродного дядю - 34-летнего генерал-майора в отставке, героя Отечественной войны 1812 года М.А. Фонвизина. Уже в Сибири своему духовнику замужество она объяснит чувством долга:"Надобно было спасать отца". Тихое семейное благополучие, радость материнства длятся только до декабря 1825 года, когда Михаила Александровича арестовывают Едва оправившись от родов второго сына, она спешит из Москвы в Петербург, чтобы просить за мужа. В 1828 году Наталья Дмитриевна следует за ним в Сибирь, оставив обоих сыновей на попечение родителей. Делит с М.А. Фонвизиным все тяготы его неволи. В Сибири у них рождается еще двое сыновей, но умирают в младенчестве. Самое тяжелое горе супругов Фонвизиных настигает в 1850 и в 1851 годах: один за другим умирают уже взрослые сыновья. Перед мужеством натальи Дмитриевны преклоняются все декабристы. В Сибири у нее было несколько воспитанников, среди которых - М.Д. Францева, оставившая влспоминания о тобольских декабристах. Все знавшие Наталью Дмитриевну отмечали ее незаурядный ум, неутомимую энергию, феноминальную память, начитанность и глубокие познания в философии и теологии, характер самобытный, сложный ипротиворечивый. П.С. Бобрищев-Пушкин, говоря о своеобразии ее натуры, отмечал, что живет в ней несколько "я": твердость, решимость - и бесконечная мягкость и доброта; мужской практический ум - и женская беспомощность; научные знания - и глубочайшая религиозность; завидная логика - и непоследовательность, граничащая с авантюризмом. Добавим: натура страстная и, казалось бы, необузданная - и способность подчинить земные желания велению духа и долга - такова Н.Д. Фонвизина. Она умерла в 1869 году, пережив самых близких и беззаветно любивших ее...
Нельзя не испытывать чувства неловкости, заглядывая в мир интимных отношений двух людей. И здесь бессильно оправдание давностью лет. Любовь двух - всегда сегодня, потому что перед этим чувством бессильно время и оно не подвержено старости. Пытаюсь объяснить, почему так хочется рассказать о любви, что началась в конце 30-х годов века минувшего: в рвении архивных поисков письма П.С. Бобрищева-Пушкина к Н.Д. Фонвизиной 1838 года я обнаружила случайно и почувствовала, что светом, идущим от них, нельзя не поделиться с другими.
Письма П.С. Пушкина января - марта 1838 года могли показаться лишь высокодуховными беседами, не обнаружься среди других эпистолий декабриста той, что датирована 28 марта 1857 года. Это письмо - ключ к ним, письмо объяснение в любви, первое и единственное письмо-исповедь...
Середина 30-х годов минувшего века. Сосланный на поселение в Красноярск декабрист П.С. Бобрище-Пушкин ведет жизнь самую деятельную: врачует гомеопатией, рисует, пишет басни, переводит Б. Ласкаля, занимается ремеслами. Отчаянно бедствует : вместе с психически больным братом, о котором трогательно заботится, он получает в год 114 рублей 28 4/7 копейки серебром казенного пособия. В то время он безмерно далек от ощущения, что идет к нему радость-беда всей его жизни - его Любовь.
"С первого взгляда, как ты проезжала через Красноярск в Енисейск (в 1834 году Фонфизины ехали на поселение в Енисейск - В.К.), ты уже показалась мне чем-то отличным для меня. Но я был в таком аскетичном состоянии, что на этом не остановливался", - вспоминал Павел Сергеевич в письме 1857 года. "Какая нездешняя женщина, - подумал он тогда и испугался: - Что значит нездешняя?" - не нашел и не стал искать ответа. Но несколько дней после этого в самые неожиданные моменты вдруг наплывали на него ее огромные галаза - они грустили и смеялись, вопрошали и звали куда-то.
"Что со мной?" - недоумевал он. И, пожалуй, впервые подумал, что ни одна женщина еще не привлекала его внимания. В годы учебы в Муравьевском училище они с братьм часто бывали в свете. Он знал, что нравится, и относился к этому как к должному. Павел любил балы. Сама атмосфера, прилежность и налаженность бальной суеты сливалась в образ праздника, который уносил юного офицера на несколько часов из однообразия военных его занятий в беспредметные дали, в бездумье и беззаботность. Вся сановная Москва вывозила на балы дочерей. И, конечно, для него, хотя и небогатого жениха, но знатного и родовитого, большая его родня непременно сыщет ту, что станет его женою. Может быть, он даже влюбится. Но случится это или нет, брак все равно заключается на небесах, и он только подчинится воле Всевышнего. Ему даже в голову не приходило хлопотать об этом предмете. Балы... И почему-то он сразу представлял Ее - в белом платье, и лицо будто одни эти выманивающие его душу из заточения глаза.
"Когда вы переехали в Красноярск, я уже с увлечением беседовал с тобою, и раз, когда ты рассказывала о каком-то архимадрите Павле, невольно проговорилась внутри, что не ты ли будешь тем же для меня. Все это скользнуло без особой остановки, ибо духовное мое состояние было еще слишком сосредоточенно".
Его душа просыпалась долго и недоверчиво. Ее же пробудилась сразу, чувство - бурное, неудержимое - находило выход лишь в письмах Натали, безошибочно угадав притягательное родство их душ, так же зорко разглядела и то, что чувственная природа его еще спит и бог весть как откликнется на прямой ее зов. И Наталья Дмитриевна пишет Павлу Пушкину письма-исповеди о поразившей ее сердце любви, не называя имени любимого. Павел Сергеевич ошеломлен. Твердыня его понятий - светских, религиозных, нравственных - о таинстве и святости брака зашаталась. Он почитает это настоящим горем для Натальи Дмитриевны. "Когда мне пришлось вмешаться в твое горе, то не самонадеянность одна, а какая-то несознательная радость, что я могу безгрешно помогать человеку, в котором я так ясно вмдел печать Божию, меня увлекла, как вихрем."
Они живут через несколько улиц друг от друга. Павел Сергеевич ежедневно бывает в фонвизинском доме, но, безусловно, не может говорить о "горе" Натальи Дмитриевны в присутствии М.А. Фонвизина. Но он почти ежедневно пишет ей, вручая свои послания во время визита. В письмах он ведет борьбу с любовью-искушением Натали: "Подлинное искушение Ваше таково, что я не читал ему ничего подобного. О моя голубушка, воспряньте, отрясите этот сон с очей Ваших, разрушьте это неестественное очарование. Страсть ваша сама по себе хотя есть несчастное и виновное заблуждение, но она более достойна плача, нежели осуждения, ибо она сама собой наказывается, делаясь для Вас нестерпимою мукою..."
Когда Наталья Дмитриевна наконец признает, что предмет ее любви он, Павел Пушкин, он повергнут, и не только этим признанием, но и тем, что понимает:его собственные чувства вырвались из заточения. радость, недоумение, бессильная попытка прикрикнуть на свою и ее любовь, слезы умиления и слезы боли - все в письмах марта 1838 года. Он пытается найти спасение от наступающей на него любви в евангельских изречениях и христианских установлениях. Тщетно! В письме-исповеди 1857 года, когда без этой любви Павел Сергеевич уже не мыслит существования, но состояние страсти-бури вошло в более спокойное русло, он напишет: "Последующее уже было перемешано - тут была и борьба, и увлечение, и угождение твоей увлекающей, как быстрина потока, природе. Тут я не только уже невольным чувством, но и волею усиливал твою привязанность, чтобы дать привал увлекшему тебя чувству. Таким образом, впутался так, что уже сердцу не было иного выхода, как переходить от невольного к произвольному увлечению. Ты сделалась как усладительная болезнь моего сердца. Все родные и весь мир для меня исчез. Одно только существо для меня было дорого, его счастие и спокойствие, и возвращение к Богу было моею молитвою и желанием."
В 1838 году Михаила Александровича Фонвизина переводят на поселение в Тобольск. Натали и оставшейся в Красноярске Павел, подстегивая себя напоминанием о чувстве долга, надеются на спасительность разлуки. В мартовских письмах он даже прибегает к менторству, потому что Натали мечется, затягивает отъезд, придумывая какие-то причины: "Только не начинайте ничего опрометчивого, по какой-то минутной вспышке. Это вредно и для Вас - на что это похоже: то давай ехать, то опять валяться в ногах "Батюшка мой, останься", как Вы делали. Впрочем, не осуждая Вас, говорю, голубушка моя милая, ибо знаю, что Вы не знаете, куда кинуться, чувствую это и понимаю. Однако эти романтические вспышки Вы бы, кажется, имели уже довольно сил оставить".
Трудным был этот год для Натальи Дмитриевны, безутешным - для Павла Сергеевича, как свидетельствуют ремарки его в письмах из Красноярска сентября 1838 - начала 1839 года. "Я стал гораздо рассеяннее и много переменился, Вы это сами уже давно заметили. Внутренняя потеря не вознаграждается ничем внешним. Рассеянность заглушает только на короткое время тоску души, которая с тем большим прескорбием чувствует свое уклонение, а пересилить уже не может" (30 сентября 1838 года).
"Есть положения, что и взгляд на самого себя так бывает тяжек, что бегаешь туда и сюда, чтобы заглушить вид своего внутреннего опустошения. Горько все это сознавать на опыте, но в путях божьих, как знать, может, и это нужно. Чтобы узнать цену даров Божьих, может быть, бывает , нужно их лишиться - дай Бог, чтобы только не навсегда" (29 октября 1838 года).
В феврале 1840 года братьев Бобрищевых-Пушкиных также переводят в Тобольск. Павел Сергеевич и Наталья Дмитриевна встретились вновь. Но все изменилось. "Я тут только увидел, - пишет Павел Сергеевич в исповеди 1857 года, - что ты перешла пропасть, а я за нею или чуть ли в ней и до сих пор остался... Твой прием, дружеский, но совсем в другом роде, меня озадачил. Духом я благодарил Бога о твоей перемене, но собственное мое обнищание тем сделалось сознательнее. Возвращение к чувственным искушениям и падениям, которые имели влияние на упадок душевных и телесных сил, ввергли меня в совершенное уныние и ропот... Последующие немощи твои опять сделали мне тебя доступнее, хотя они и причиняли мне сердечное горе, но сближение твоей нищеты с моею воскрешали воспоминания благие. Одним словом, в других только фазах, но и тут, и там ты одна была сретоточением всей моей внутренней жизни. День, в который я не видал тебя или не слыхал, был для меня не днем, а ночью. И вообще для меня люди существовали и теперь существуют только в отношении к тебе". Так написал он в 1857 году, а тогда, в 1840-м, спрятал свое чувство под покровом нежной и преданной дружбы. Редкий день во все годы жизни в Тобольске не бывал П.С. Бобрищев-Пушкин в фонвизинском доме. Не угасала его любовь, обретая с годами все большую духовную устремленность к идеалу. А для Натальи Дмитриевны, преодолевшей любовь во имя долга, он остался на всю жизнь ее духовным братом, другом, к которому она (первому и единственному) обращалась за советом, помощью, поддежкой, кому открывала тайники души своей...
М.А. Фонвизину ранее других декабристов - в 1853 году - разрешили вернуться на родину. Через год Михаила Александровича не стало. Тяжело переживала его смерть декабристская семья. Когда боль утраты ослабела, не мог, вероятно, не помышлять о союзе с любимой Павел Сергеевич. Но вдруг узнает, что иная любовь уже завладела сердцем Натальи Дмитриевны - к И.И. Пущину. Любовь взаимная, но так уж устроена Натали, что не может жить без этакого романтического виража. Она пишет в Сибирь длинные письма-исповеди, но адресат нередко получает их после простения и одобрения П.С. Пушкина. Наталья Дмитриевна не решается на брак с Пущиным. Ее терзают размышления о поздних ее и Ивана Ивановича летах, неуверенность и т.д. Эти письма-терзания перемеживаются с пылкими "юными" посланиями. То готова идти под венец - то ревнует, то желает принести в жертву свою свободу - то бичует себя расканием. Большой Жанно на этих гигантских эмоциональных качелях чувствует себя беспомощно, как ребенок. павлу Сергеевичу не остается иного, как прийти им на помощь. "Насчет Ивана мое мнение, как прежде, так и теперь, одно и тоже. Прежде твоих борений ведь ты была уверена, что жребий относился к нему. Предайся воле Божьей, и ты успокоишься", - пишет он 28 марта 1857 года. П.С. Бобрищев-Пушкин успокаивает, умиротворяет не только любимую, но и И.И. Пущина: "В полулистке от 11 апреля ты говоришь, что знаешь мою сильную к ней привязанность. В письме от 22... ты спрашиваешь опять, есть ли мое сердечное на ваш союз благословение. Друг мой любезный, мое сердечное благословение на всем, что только касается до этого дорогого мне человека. Мне самому, уверяю тебя, ничего тут не надобно. Если во всем этом исполняется воля Божия и есть надежда возможного на земле успокоения после стольких бурь, могу ли я, который о ее благе только и думаю и молюсь, отказать ей в сердечном благословении, а тебе, мой великодушный и добросовестный друг, и подавно, когда я знаю, что ты ее не столько для себя, как для нее, а она не столько для себя, как для тебя любит.
Возникало во мне иногда, каюсь тебе, особенно сначала, борьба и с той гадкой стороны, где лежит собака на сене, - сама не есть и людям не дает. Но я отмаливался от нее, как от недуга болезненного. Богу и мне самому гадко и противно. В этом грехе прости и ты меня, друг мой сердечный. Но дело в том - все это ветер дующий и преходящий, а глубиною воли моей я там, на что есть воля божия. Если ему угодно исполнить ваше предположение и благословить вас счастием, то оно, конечно, будет и моим счастием.", - писал Павел Сергеевич Пущину 7 мая 1857 года, когда он уже свыкся с мыслью, что любимой не быть с ним рядом никогда. А как страдало и мучилось его сердце, мы вряд ли узнали бы, не будь его письма-исповеди 28 марта 1857 года.
Того огня, что зажгла Н.Д Фонвизина в его душе почти два десятилетия назад, хватило на всю жизнь, но за два месяца до брака любимой с другом силы временно изменили ему. Выше этих только человеческих сил было последнее испытание его любви: он имел объяснение с Натальей Дмитриевной, когда в начале марта 1857 года гостил у нее в Марьино, и, видимо, сдерживаемые столько лет чувства вырвались наружу бурно, бесконтрольно и безоглядно, отбросив узду разума. Безусловно, нашла Наталья Дмитриевна слова, которые как-то примирили с безответностью его чувства. Однако горечь потери, неловкость от ненужного объяснения с любимой перекрывается в его исповеди чувством острой сердечной боли: "Зачем я, несчастный и обреченный на вечное одиночество человек, увлекся теперь несьыточным и совершенно ни с чем не сообразным увлечением сердца? Забыл и о духовном родстве, которе, может, ставит непреодолимую преграду между нами, забыл, что я, может быть, тебя оскорбляю и унижаю своими дерзкими мечтами. Забыл, что ты уже почти соединена с человеком, который, по моему сознанию, искренне тебя любит и которого, по моему глубокому сознанию, я мизинца не стою. Забыл все это и увлекся, и запутался, как птица, в сети летящая. Но какое бы, произвольное или невольное ни было это увлечение - произвольное потому, что я питал его и им услаждался, невольное потому, что в этого рода страстях и произвольное делается невольно, - в одном себя упрекаю: зачем высказался?"
И как крик отчаяния: "Только ты меня не покидай, а то для меня это будет невыносимое горе. У меня, одинокого, только и приюта, что твоя дружба".
И.И. Пущин и Н.Д. Фонвизина венчались 22 мая 1857 года. И двух лет не продлилось их счастье - Иван Иванович умер 3-го апреля 1859 года на руках верного Павла Сергеевича, который бессменно дежурил у постели друга и услыша последнее "прости" оставшимся на земле и последний вздох И.И. Пущина.
Видимо, дружба Натальи Дмитриевны и Павла Сергеевича в последние годы походила на родственные отношения двух пожилых людей. Он часто приезжал из своего Коростино Тульской губернии к ней в Москву и подолгу гостил. Здесь 13 февраля 1865 года настиг его и последний час - он умер на руках женщины, которую боготворил всю жизнь. И как знать, не было ли в рыцарственном этом чувстве мужчины еще и детской привязанности ребенка, который не знал материнской ласки с 12 лет? П.С. Бобрищев-Пушкин умер с той же надеждой, с которой прошел жизнь и о которой писал в исповеди: "И все-таки я уверен, что никто меня так глубоко и чисто не любит, как ты, которой принадлежит все живущее во мне и существующее".
Цельные натуры, видимо, одинаково видят в любви три ее ипостаси: любовь-долг, любовь духовную и любовь земную. Для Н.Д Фонвизиной они соотнеслись с тремя разными людьми. Для П.С. Бобрищева-Пушкина все три сосредоточились в ней, единственной его Натали.И не кажутся нам противоречащими друг другу его к ней обращения: "Ты - усладительная болезнь моего сердца", а потом: "Мой друг, сестра моя единственная и неоценимая, я от тебя ничего телесного и земного не желаю и не требую. Но будем вечными, неизменными друзьями". Безответность земного чувства не только не обеднила его душу, но возвысила до самоотречения.
Метки: декабристы фонвизины пущин бобрищев-пушкин жены декабристов |
Никита Кирсанов. "Декабрист Иван Анненков" (часть 3) |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Декабрист Иван Анненков" (часть 3).

Декабристы провели в Читинском остроге четыре года. Но пребывание их в Чите считалось временным, так как за 700 вёрст от неё для них строилась новая тюрьма в Петровском заводе. План этой тюрьмы утвердил сам Николай I, не перестававший следить за своими врагами и в далёкой Сибири. Известие о переводе из Читы в Петровск пришло к декабристам летом 1830 года. Для отправки в новую тюрьму узников разделили на две партии: одна должна была идти в сопровождении плац-майора и выступила 7 августа. В ней находился и И.А. Анненков. Вторая партия под наблюдением коменданта была отправлена 9 августа. Шли 48 дней и прибыли в Петровск в 20-х числах сентября. Вслед за декабристами отправились и женщины. Полина Анненкова выехала, держа на руках двух детей: одну девочку полуторогодовалую, другую трёхмесячную.
Перевод в Петровск вызвал у заключённых сильное волнение. За время пребывания в Чите они успели в какой-то мере акклиматизироваться, между ними и местным населением установились хорошие отношения. "В Чите нас очень полюбили, - писала Полина Анненкова, - и многие даже плакали, когда мы уезжали, и провожали нас до самого перевоза, который был на расстоянии двух или трёх вёрст от селения". Между тем декабристам было известно, что Петровский завод расположен на болоте, что тюрьма плохо построена, в камерах нет окон и т.д.
Петровский чугуноплавильный и железоделательный завод Забайкальской области Верхнеудинского округа был построен в 1789 году и находился в ведомстве Нерчинских рудников. Работы здесь производились ссыльными каторжанами и состояли в выплавке чугуна и изготовлении разных изделий. Каторжный труд делал жизнь этих людей невыносимой. Полина Анненкова так рассказывала о своём первом впечатлении при виде Петровска: "Нельзя себе представить, какое тяжёлое впечатление он произвёл на меня. Подъезжая, мы все поворачивали. Наконец, первое, что представилась глазам, была тюрьма, потом кладбище и наконец уже строения. Петровский завод был в яме, кругом горы, фабрика, где плавят железо, - совершенный ад. Тут ни днём, ни ночью нет покоя, монотонный стук молотка никогда не прекращался, кругом чёрная пыль от железа..."
Вновь выстроенное для декабристов здание тюрьмы расположено было между гор, в котловине, на сыром месте. С трёх сторон оно ограждалось глухими стенами, а с четвёртой - высоким бревенчатым частоколом. Всего в тюрьме было 64 камеры. Они не имели наружных окон и очень слабо освещались через узкие щели над дверью, выходившей в коридор с окнами на двор острога. Декабристов разместили по тёмным камерам в одиночку. Жёны декабристов жили в своих домах, купленных у местных жителей. Позднее им разрешено было жить в тюрьме с мужьями, и каждая из них устраивала, как могла, убранство своей камеры.
Устроенные без окон казематы вызвали решительный протест со стороны женщин. Они с возмущением писали родным в Петербург, что недостаток света сильно влияет на здоровье заключённых, что они болеют и слепнут. Так, А.Г. Муравьёва писала отцу в октябре 1830 года: "Здесь темно. Искусственный свет необходим днём и ночью; за отсутствием окон нельзя проветривать комнату". Жена декабриста Фонвизина сообщала своей родственнице в Петербург: "Вы себе и представить не можете этой тюрьмы, этого мрака, этой сырости, этого холода, этих всех неудобств". То же самое писала своей матери Е.И. Трубецкая: "Темь в моей комнате такая, что мы в полдень не сидим без свечей. В стенах много щелей, дует ветер, и сырость так велика, что пронизывает до костей". Негодующие письма жён декабристов своим родным произвели такое сильное впечатление в столичном обществе, что царю пришлось уступить. Через полгода последовало разрешение прорубить в камерах окна, но их сделали высоко под потолком в виде узких щелей, поставили решётки, и поэтому солнечного света по-прежнему было недостаточно.
Принудительный труд декабристов в Петровске, как и в Чите, состоял из разных земляных работ: проложении и ремонте дорог, уборке острожного двора и других. По зимам по-прежнему мололи зерно на ручных мельницах.
Но декабристы не падали духом. Их жизнь проходила постоянно в тех или иных занятиях по выбору самих заключённых. Восстановилось столярное мастерство, начатое ещё в Читинском остроге. Выделывались шкафы, столы, кресла, комоды для себя и для местных жителей. М.А. Бестужев писал, что он знал "различные мастерства, как-то: портняжное, сапожное, башмачное, кузнечное, слесарное, токарное, переплётное..." Некоторые изготовляли модели сельскохозяйственных и других машин. Собирались ботанические коллекции сибирской флоры. Писатели и поэты, как, например, Н.А. Бестужев и А.И. Одоевский, занимались литературным трудом. "Каторжная академия" работала с полным напряжением. Продолжалось чтение лекций по различным отраслям знаний. В Петровском заводе декабристы основали при тюрьме школу для обучения детей местного населения. Учили грамоте, арифметике, ремёслам, иностранным языкам. Эта школа продолжала своё существование и после выхода декабристов на поселение. Занятия в ней вёл оставшийся при заводе И.И. Горбачевский.
Умственная жизнь вознаграждала лишение свободы. Недостатка в книгах и журналах не было. Всё это присылалось родственниками в изобилии. Со временем у многих декабристов составились целые библиотеки.
В Петровском заводе, как и в Чите, декабристы-художники занимались рисованием и живописью. Среди них особенно ярко выделяется имя подлинного художника Николая Александровича Бестужева. В Чите и в Петровском заводе он создал целую галерею портретов своих товарищей, жён декабристов, изображал их жилища, сделал много видовых рисунков Читинского и Петровского острогов. В своих пейзажах Н.А. Бестужев раскрыл красоту сибирской природы.
Талантливым художником показал себя Иван Александрович Анненков, сделавший ряд акварельных и других рисунков. На них изображены виды окрестностей Читы в разные времена года и внутренний вид Читинского и Петровского острогов. На одном из его рисунков показана улица в Чите с деревянными домами. На одной стороне - дома жён декабристов, там же и дом Анненковых. По улице возница везёт воду в узкой длинной бочке. Рисунок выполнен очень тонко и искуссно. В настоящее время рисунки И.А. Анненкова хранятся в Институте русской литературы Академии наук РФ и у его потомков, а возможно, и у других частных лиц.
Талантливыми художниками были Василий Петрович Ивашев, Иван Васильевич Киреев, Александр Михайлович Муравьёв, Пётр Иванович Борисов и Николай Петрович Репин. Работы художников-декабристов дают нам представление о тюремной жизни и быте заключённых и их жён, а также о сибирской природе.
В Петровском остроге, как и в Читинском, декабристы жили одной дружной семьёй, помогали друг другу. Здесь образовалась товарищеская артель, и более состоятельные из них отдавали в общую кассу то, что получали от своих богатых родственников. Были организованы общие столовые. На определённый срок выбирался староста, ведавший артельным хозяйством. Образовались и другие артели, например: взаимопомощи ссыльным на поселении после отбытия каторги, газетная - для правильного пользования газетами и журналами, приходившими на имя декабристов и их жён. Артели просуществовали вплоть до 1835 года, когда уже почти все декабристы-каторжане были разосланы на поселение в разные углы Сибири.
Положение декабристов стало намного тяжелее, когда они перешли на поселение и оказались разобщёнными между собой. Большинство из них принадлежало к числу несостоятельных людей, не имеющих никаких средств к существованию. Выдававшийся неимущим паёк (пособие) в 200 рублей ассигнациями в год ни в какой мере не обеспечивал ссыльных. К тому же декабристы не хотели принимать эту "милость" из рук царя, и казённым пайком пользовались лишь немногие поселенцы. Водворённые в отдалённые места Сибири, при крайне суровом климате, они могли кое-как жить только благодаря помощи местного населения и своих товарищей.
Однако, несмотря на все невзгоды, декабристы-поселенцы развернули большую научную, культурно-просветительскую и хозяйственную деятельность. Они изучали природу и климат Сибири, её растительный и животный мир, сажали и выращивали разные овощи, неизвестные до того времени в крае, вводили новые сельскохозяйственные культуры: картофель, кукурузу, огурцы, в парниках выращивали цветную капусту, дыни, арбузы.
Декабристы являлись исследователями быта, нравов, языка, песен народов, населявших Сибирь. Они устраивали школы и сами преподавали в них. Например, Бестужевы учили детей в Селенгинске, Матвей Муравьёв-Апостол - в Вилюйске, Якушкин - в Ялуторовске. Учили безвозмездно богатых и бедных, русских и бурят, тунгусов и якут. Недаром в Сибири слова "декабрист" и "народный учитель" связывались воедино.
Будучи на поселении, декабристы, не имея в большинстве своём специального образования, оказывали населению постоянную медицинскую помощь. Где бы им не приходилось быть, они посещали больных, снабжали лекарствами, давали советы.
Хозяйственная и просветительная деятельность декабристов в Сибири в значительной степени способствовала развитию края, подъёму его культурного уровня и производительных сил. Она явилась образцом для местного населения, указала пути, по которым должен идти подъём Сибири. Эта деятельность декабристов на поселении была тесно связана с теми идеями, которые вели их на борьбу против самодержавия, которые вдохновляли их всю жизнь.
Ивану Александровичу Анненкову, как и другим декабристам, осуждённым по II разряду, срок каторги был сокращён сначала до 15 лет, а затем (в 1832 г.) до 10 лет. По указу 14 декабря 1835 года второразрядники освобождались от каторжных работ и переводились на поселение. Местом поселения Анненкова было назначено село Бельское - в 130 верстах от Иркутска. Из-за отсутствия средств Анненковы выехали из Петровска позже других, а именно 20 августа 1836 года. "Наконец, после долгих сборов, - писала дочь декабриста Ольга Ивановна, - наша семья покинула Петровский завод, где мы провели ровно шесть лет. Нас детей было трое, последнему брату не было ещё и года". При переезде через Байкал баркас потерпел крушение, и Анненковы едва не погибли. В сентябре они прибыли в Иркутск. Анненков хотел здесь остановиться на некоторое время, чтобы жена оправилась от болезни, но генерал-губернатор Восточной Сибири Броневский не разрешил ему этого, и он выехал в Бельское один. Между тем болезнь Прасковьи Егоровны обострилась. На все просьбы Анненковых позволить Ивану Александровичу приехать в Иркутск и жить там до её выздоровления Броневский отвечал отказом. "Мать была в полном отчаянии", - вспоминала Ольга Ивановна. Только весной 1837 года Анненков перевёз семью в Бельское.
Положение Анненковых было вдвойне тяжелее других. Ко всем тяготам и несчастьям ссыльных присоединились заботы о куске хлеба: семья увеличивалась, а средств почти не было. Кроме того, здоровье Прасковьи Егоровны сильно пошатнулось, и она стала часто и подолгу болеть. Жизнь их в Бельском была самая безотрадная, полная постоянных тревог и волнений. С большим трудом им удалось снять квартиру в крестьянском доме без всяких удобств. "Приходилось мириться с полнейшим недостатком во всём, даже в жизненных припасах", - вспоминала О.И. Иванова. Анненков пробовал завести своё хозяйство, по образцу крестьянского, чтобы иметь средства к существованию. Но для этого нужны были пахотная земля и покосы, а в черте поселения этого не было. Отлучаться же с места жительства было запрещено.
И.А. Анненков был поставлен в самое затруднительное положение. Он рисковал за каждый неосторожный шаг, непонятный или привратно истолкованный местными властями, быть судимым, и очень строго. Об этом он так писал иркутскому губернатору: "Господин исправляющий должность земского исправника в приезд свой приказал волостному правлению предписанием, с которого прилагаю копию, объявить нам, что если мы отлучимся без особенного дозволения начальства, то будем судимы, как за побег, словесно же велел старшине осматривать ежедневно мой дом и не выпускать нас из селения без конвойного...
Не отлучаться же за черту селения, как требует этого господин исправник, и испрашивать на каждый раз особое дозволение начальства невозможно по медленности отношений. В Бельске не существует базара, и поэтому выезд в соседние деревни необходим бывает для закупки съестных припасов, сена, дров и тому подобного. Не имея ещё своего хозяйства, я должен изыскивать средства пополнять в окрестностях то, чего нельзя достать на месте, и заботиться также о дешёвой покупке припасов". Далее Анненков просит разрешить ему "выезд по волости", в которой он находится.
В другом своём письме на имя того же губернатора он ходатайствовал о наделе "земли для хлебопашества и покосов", на что согласно правилам о поселенцах он имел право. Но и эта его просьба не была удовлетворена.
Так прошло около двух лет ссылки в Бельском. Кроме Анненковых сюда был водворён ещё один декабрист - Пётр Фёдорович Громницкий, который, по словам О.И. Ивановой, и делил с ними все невзгоды, так обильно обрушившиеся на них в этой глуши.
В июне 1838 года Анненков был переведён в город Туринск Тобольской губернии. Здесь он встретился с декабристами В.П. Ивашевым и Н.В. Басаргиным, прибывшими сюда на поселение ещё раньше. В Туринске Иван Александрович был допущен к гражданской службе и определён канцеляристом 4-го разряда.
Ивашевы, муж и жена, очень обрадовались прибытию Анненкова с семьёй, о чём свидетельствуют их письма к родным. Так, В.П. Ивашев писал своей сестре: "Переведены сюда Анненковы, они уже приехали, жена нашего союзника - женщина приятная, мать пренежная". Камилла Петровна Ивашева тоже писала сёстрам: "Вот уже два дня, что я точно очутилась в обществе Петровского завода, так как мы наслаждаемся прибытием Анненковых, которых я не видела больше года и даже не смела надеяться на радость соединиться с ними... Четверо восхитительных детей, один лучше другого, составляют их свиту..." Эти отзывы Ивашевых дополняет их внучка О.К. Буланова, которая пишет в своих воспоминаниях: "С ним (Анненковым) приехала его жена Прасковья Егоровна и четверо детей: Ольга, впоследствии по мужу Иванова, Владимир, Иван и Николай. Приезд Анненковых был радостным событием для Ивашевых и должен был внести не мало оживления в их однообразную жизнь в Туринске".
Приведём ещё одну выдержку из письма В.П. Ивашева к родным, в котором он даёт такую интересную характеристику Анненковым: "Красивая женщина, в сопровождении прелестных детей, с твёрдым и весёлым характером, всегда ровным настроением Анненкова примерная жена и мать. Муж её очень красив, с благородными и медлительными манерами. Голова его так и просится на рисунок... Многочисленность семьи при ограниченных средствах требует большой экономии во всём, но они оба с женой умеют это устроить..."
В Туринске Анненков оставался недолго и в июне 1841 года был переведён в Тобольск. Здесь он с семьёй прожил ещё 15 ссыльных лет. В течение этого времени Анненков исполнял разные мелкие служебные должности: находился в штате канцелярии Тобольского общественного губернского правления, исправлял должность ревизора поселений Тобольской губернии и должность заседателя Тобольского приказа общественного призрения.
Однако Анненков, как и другие декабристы, не был восстановлен в прежних правах и оставался на положении ссыльно-поселенца. Он по-прежнему находился под надзором, и на каждый выезд его из Тобольска, даже по служебным делам, требовалось разрешение властей. Оставались ограниченными в правах и дети декабриста. Мария Владимировна Брызгалова, внучка Анненкова, писала в своих воспоминаниях, что по окончании Тобольской гимназии отец её подал прошение Николаю I о разрешении поступить в университет, но на это последовал отказ царя. "Отец с чувством глубокой горечи вспоминал об этом событии всю жизнь", - заключала она. Этот факт свидетельствует о бесправном положении ссыльных декабристов и их семей даже в последние годы их пребывания в Сибири. Николай I мстил декабристам всеми способами до конца своей жизни. Он не мог забыть пережитого им страха в день восстания 14 декабря.
Материальное положение Анненкова в Тобольске нисколько не улучшилось. Жалование, которое он получал за службу, не обеспечивало семью, а какая-либо помощь со стороны родственников ему не была оказана. Сохранился документ, нписанный от лица О.И. Ивановой, в котором говорится, что после смерти матери Анны Ивановны в 1842 году Анненков подал правительству просьбу о наследовании имущества умершей. Министр внутренних дел препроводил эту просьбу к военному министру с вопросом: имеет ли Анненков право наследовать имения после матери? Военный министр отвечал, что "не полагает возможным предоставлять государственным преступникам, получившим ... дозволение вступить вновь в службу, право наследовать после родственников, так как им не возвращены права прежнего состояния..."
Это мнение было сообщено министру юстиции, который поддержал его. Так доложено было царю и "от высочайшего имени" Анненкову было объявлено, что просьба его не может быть удовлетворена. Между тем родственники Анненкова вошли в соглашение, по которому, устранив прямого наследника "как не имеющего никакого права на наследие", произвели раздел имущества умершей А.И. Анненковой. В заключение Ольга Ивановна пишет: "Будучи таким образом притеснён и обманут своими родственниками, отец мой, состоящий ныне по службе коллежским секретарём, Иван Анненков, терпит крайность с многочисленным семейством и не имеет далее возможности поддерживать своих сыновей..."
Несмотря на все превратности судьбы, Анненковы не предавались отчаянию. Иван Александрович, по словам декабриста А.Е. Розена, "был заботливым отцом семейства и был счастлив взаимной любовью своих детей". Живой, весёлый характер Прасковьи Егоровны, её энергия, её любовь к мужу и детям, постоянная забота о них способствовали сплочению семьи. Е.И. Якушкин, сын декабриста, писал жене в 1855 году из Сибири об Анненковой: "Как бы ни были стеснены обстоятельства, она смеётся и поневоле поддерживает бодрость в других... Анненков женился на ней и хорошо сделал..." И.И. Пущин, который, по собственному его признанию, не принадлежал к числу поклонников Анненковой, писал о ней: "Не могу не отдать ей справедливости: она с неимоверной любовью смотрит на своего мужа... Часто имею случай видеть, как она даже недостатки его старается выставить добродетелью".
Особого внимания заслуживает отзыв об Анненковых писателя Ф.М. Достоевского, встечавшегося с ними в 1849 году в Тобольске, а позднее в Омске, где он отбывал каторгу за участие в кружке Петрашевского. При этих встречах с Анненковыми и другими ссыльными декабристами и их жёнами была оказана материальная помощь Достоевскому и его товарищам (деньгами и вещами), облегчившая на первых порах их пребывание в Сибири. Впоследствии писатель с благодарностью вспоминал об этих сибирских друзьях.
Так, шесть лет спустя, в 1855 году, уже из Семипалатинска, где он служил солдатом после каторги, Достоевский писал Анненковой: "Я всегда буду помнить, что с самого прибытия моего в Сибирь Вы и всё превосходное семейство Ваше брали во мне и в товарищах моих по несчастью полное и искреннее участие. Я не могу вспомнить об этом без особенного утешительного чувства и, кажется, никогда не забуду. Кто испытывал в жизни тяжёлую долю и знал её горечь - особенно в иные мгновенья, тот понимает, как сладко в такое время встретить братское участие совершенно неожиданно... Вы были таковы со мною, и я помню встречу с Вами, когда Вы приезжали в Омск, и когда я ещё был в каторге". В письме из Омска в 1854 году к своему брату Достоевский говорит о встрече с Анненковой и её дочерью О.И. Ивановой как об одном из лучших воспоминаний его жизни.
Тридцать лет пробыли Анненковы в Сибири, мужественно и стойко неся все тяготы жизни политических изгнанников. "С нами делил он тюремную жизнь с твёрдостью", - говорил об Анненкове декабрист Розен. О.И. Иванова вспоминала: "Отец мой был человеком с непреклонным характером и железной силой воли. Я никогда не слыхала от него ни малейшего ропота на судьбу или сожаления о прошлом. Он никогда не жаловался на своё положение, а оно было тяжелее, чем других его женатых товарищей..." Пройдя все испытания в годы каторги и поселения, Иван Александрович сохранил верность своим взглядам на положение в России: он оставался непримиримым врагом крепостничества и угнетения.
26 августа 1856 года Александром II был издан манифест об амнистии декабристов и о разрешении им вернуться в Европейскую Россию. Но, амнистия эта, как и другие мероприятия "обновлённого" политического курса Александра II, имела явно демагогический характер и была расчитана только на внешний эффект. Она ни в какой мере не свидетельствовала о желании царя облегчить положение участников событий 14 декабря. Они возвращались из Сибири без права проживать в Петербурге и Москве, с ограничением в гражданских правах и должны были подвергаться надзору полиции. В чём заключался этот надзор, разъяснялось в особой секретной инструкции, изданной в дополнение к манифесту 26 августа. В ней говорилось: "Когда кто-либо в местах его жительства поручается надзору полиции, тогда обязанностью оной есть: наблюдать за его поступками и смотреть, чтобы он никуда не скрылся и далее того места, где ему определено жить, не отлучался".
Эти жандармские меры правительства вызвали глубокое возмущение в кругах передовой русской общественности, как только декабристы начали возвращаться на родину. Разоблачая двуличие царя, Герцен в 1857 году писал: "Амнистия, бедная, жалкая... Александр II боится! Даже и тем, которые возвращены из Сибири после тридцатилетних страданий, постарались отравить окончание ссылки, не дозволяя им ездить в Москву и Петербург".
Как и другим ссыльным декабристам, И.А. Анненкову разрешено было возвратиться с семьёй из Сибири "и жить, где пожелает, в пределах империи, за исключением Петербурга и Москвы". Но Иван Александрович не сразу решился покинуть Тобольск, так как не знал, на какие средства можно будет существовать по возвращении из Сибири. Кроме того, его тревожила перспектива подвергнуться на родине новому мелочному надзору. После долгих раздумий и колебаний Анненков решил переехать на жительство в Нижний Новгород, где тогда губернаторствовал декабрист Александр Николаевич Муравьёв. При содействии друзей П.Н. Свистунова и И.И. Пущина он в июне 1857 года был определён "на службу в Нижегородскую губернию с назначением состоять при начальнике губернии сверх штата". В конце следующего месяца Анненковы покинули Тобольск.
Как рассказывает М.В. Брызгалова, по возвращении из ссылки, на одной из остановок перед Нижним Новгородом, Иван Александрович был встречен делегацией крестьян своих нижегородских и пензенских имений, поднесших ему хлеб-соль. Один из стариков заплакал и сказал: "Батюшка ты наш, Иван Александрович, да какой же ты старый стал. Знаем мы, батюшка, за что ты был в Сибири. За нас, батюшка, за нас". По словам Брызгаловой, эта встреча носила в высшей степени трогательный характер: крестьяне были первыми, кто встретил изгнанников на родной земле.
С искренней симпатией отнеслась к нему передовая общественность. В Нижнем Новгороде с ним познакомился Тарас Шевченко, только что сам вернувшийся из ссылки. 16 октября 1857 года, после беседы с Анненковым, он записал: "Благоговею перед тобой, один из первозванных наших апостолов". Здесь же, в Нижнем Новгороде, Анненковых посетил Александр Дюма, которому разрешено было путешествовать по России. Он вспоминал: "...Анненкова показала мне браслет, который Бестужев надел ей на руку с тем, чтобы она с ним не расставалась до самой смерти. Браслет и крест на нём висевший, были скованы железным кольцом, которое носил её муж".
Анненковы навсегда обосновались в Нижнем Новгороде. Всё пережитое по новому воспитало их вкусы, заставило ограничить потребности. Обстановка в их доме была очень простая и скромная, во всём наблюдалась строжайшая экономия. Впоследствии И.А. Анненкову были возвращены родственниками имения его матери в Нижегородской и Пензенской губерниях, но они достались ему в крайне запущенном состоянии, были заложены и перезаложены в опекунском совете. Потребовалось немало усилий и труда, чтобы наладить в них хозяйство, выйти из этого запутанного положения.
Подобно многим возвратившимся из ссылки декабристам Анненков принял горячее и деятельное участие в осуществлении крестьянской реформы, сохранив, по собственному его свидетельству, старую ненависть к рабству. Порядки "американских плантаторов", по его выражению, которые ему не раз приходилось наблюдать в прошлом и настоящем, вызывали в нём острое возмущение и будили энергию к работе по скорейшей ликвидации крепостного права. И Анненков проявил в этом направлении большую активность. Так, он состоял членом Комитета по улучшению быта помещичьих крестьян, учреждённого в 1858 году, и неоднократно ездил в Петербург в качестве депутата по крестьянскому вопросу. Позднее был членом Нижегородского губернского по крестьянским делам присутствия. В период проведения реформы Анненков состоял в должности председателя нижегородского съезда мировых посредников и на этом поприще заслужил большую популярность среди передовых слоёв нижегородского общества, видевшего в нём одного из наиболее гуманных и убеждённых сторнников освобождения крестьян.
В годы реформы Анненков ездил в Пензенскую губернию в село Скачки Мокшанского уезда - имение, находившееся тогда в совместном владении Ивана Александровича и его родственников. Он добился того, что родственники вынуждены были пойти на смягчение крепостного режима и на более выгодные для крестьян условия освобождения. В одном из своих писем из села Скачки Анненков сообщал жене: "Я застал здесь порядки американских плантаторов. Порка производится ежедневно. Управляющие расхаживают день и ночь с кнутами в руках. Прошлую ночь я даже не мог заснуть, так что объявлю кузену, что в своей части уничтожу эти порядки. Он, конечно, подскочит до потолка, но ничего не поделает и должен будет идти на уступки... В противном случае он лишается управления имением... А губернатору скажи, что моя старая ненависть к рабству пробудилась с тех пор, как я попал в Пензенскую губернию на американские плантации... здесь отпечаток рабства на всех лицах, разбойники управляющие и заседатели в тысячу раз превосходят нижегородских". Далее Иван Александрович с возмущением говорил о надоевшем ему "обществе станового, которого кузен вздумал поселить в Скачках, чтобы иметь палача и его помощников в своём распоряжении".
И.А. Анненков принял также деятельное участие в проведении земской реформы. В 1865 году на первом губернском земском собрании он был избран председателем нижегородской земской управы и состоял в этой должности до 1868 года. Работа его на этом поприще была чрезвычайно плодотворна. Так, он покрыл уезд целой сетью школ, значительно улучшил общее его благосостояние.
Одновременно, начиная с 1863 года и до конца жизни, И.А. Анненков являлся нижегородским уездным предводителем дворянства и всегда выступал против произвола помещиков и местных властей, защищая интересы крестьянства. "Иван Александрович пользовался огромным уважением и популярностью в Нижегородской губернии", - писала М.В. Брызгалова.
После того как декабристам был разрешён въезд в столицы, Анненков несколько раз посетил Петербург. Мария Владимировна Брызгалова рассказывает в своих воспоминаниях, что Анненков во время одного из своих приездов в столицу с сыном Владимиром, её отцом, побывал в Петропавловской крепости. Остановившись у гробницы Николая I, он со свойственной ему медлительностью вынул табакарку из кармана, поднёс к носу щепотку табаку, понюхал, а потом сказал: "Хотел меня сгноить в крепости, а гниёшь прежде меня".
В одно время Иван Александрович с сыном Владимиром ездил за границу, где провёл четыре месяца. После этого посетила Францию, где провела детство и юность, Прасковья Егоровна, но недолго там была, так как заботы о муже и детях, заботы по хозяйству, которое она всегда вела в образцовом порядке, требовали постоянного её присутствия в своём доме. И после 30 лет ссылки она вопреки всем невзгодам сохранила свою удивительную жизнеспособность. Она была в курсе всех дел мужа и оказывала ему неизменную помощь и поддержку.
Так протекали последние годы жизни старика-декабриста и его жены - француженки, ставшей русской героиней. Смерть Прасковьи Егоровны наступила внезапно. Утром 14 сентября 1876 года её нашли в постели уже похолодевшей. В это же утро кончилась, по существу, жизнь и Ивана Александровича: жить без неё он не мог. Здоровье его расстроилось, им овладел душевный недуг. Скончался он через год с лишним после смерти жены, 27 января 1878 года, 76 лет от роду. Похоронен был на нижегородском Крестовоздвиженском кладбище, рядом со своей женой, так горячо его всю жизнь любившей и бывшей ему самым верным и преданным другом. (В советское время прах Анненковых был перенесён на Бугровское кладбище).
В некрологе, помещённом в журнале "Новое время", говорилось: "Нам пишут из Нижнего, что там 27-го января скончался один из последних декабристов Иван Александрович Анненков... Он отличался неподкупною честностью, строгою справедливостью, добротою и необыкновенною ясностью ума. Иван Александрович живо интересовался всеми животрепещущими вопросами России и Европы, следил за текущей прессой и не уступал никому из молодых образованных людей в свежести и новости своих познаний по многочисленным вопросам жизни и науки... Он любил свою страну и воодушевлял этим благородным чувствам каждого, кто встречался с ним.
Никто из знавших покойного не забудет его светлых глаз, смотревших сквозь золотые очки, его улыбки, его дельных и честных речей. Он откликался на всё великое и благородное, ему чужды были низость и ласкательство, он был неподкупен и чист душою и сердцем... С сожалением все проводят его в могилу".
Метки: ЖЗЛ россия декабристы анненковы |
Никита Кирсанов. "Декабрист Иван Анненков" (часть 2) |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Декабрист Иван Анненков" (часть 2).

И.А. Анненков вместе с Никитой и Александром Муравьёвыми и Торсоном был отправлен в Сибирь ночью 10 декабря 1826 года. А.М. Муравьёв так описывал вывоз из крепости: "...в 11 часов вечера, когда тюремные крепостные ворота были уже закрыты, плац-майор и крепостные адъютанты собрали в одной из комнат комендантского дома четырёх осуждённых политических: Н. Муравьёва, его брата, Анненкова и Торсона. Мы с восторгом бросились друг другу в объятия... Через несколько минут появился старый комендант, который злобным голосом объявил нам, что по приказанию императора нас закуют в цепи для отправления в Сибирь. Плац-майор с насмешливым видом принёс мешок с цепями... С непривычным для нас шумом спустились мы по лестнице комендантского дома, сопровождаемые фельдъегерем и жандармами. Каждый из нас сел с жандармом в отдельную почтовую повозку. Быстро проехали мы город, где все мы оставляли убитые горем семьи... Мы не чувствовали ни холода, ни тряски ужасной повозки. Цепи мы несли с гордостью".
Полина Гёбль, узнав об отправлении Анненкова в Сибирь, приехала на первую станцию, чтобы встретить его, но это ей не удалось, так как к этому времени декабристов уже провезли. На другой день она выехала в Москву.
Группу ссыльных, в которой находился Анненков, сопровождал фельдъегерь Желдыбин, человек известный своей жестокостью в отношении многих декабристов, которых он перевозил в Сибирь. "Этот зверь", по словам П. Гёбль, заставлял беспощадно гнать лошадей, не давал покоя ссыльным, мучил их. Особенно страдал в пути Анненков. Он был в одной шинели, а между тем стояли жестокие морозы, и у него руки и особенно ноги, закованные в кандалы, сильно распухли. Желдыбин до самого Омска мчался, не обращая внимания на то, что его просили остановиться где-нибудь, чтобы купить тёплое платье. Только в Омске удалось им это сделать. А.М. Муравьёв вспоминал: "Наш товарищ Анненков сильно страдал, так как он был без шубы. В Омске ему купили шубу".
Путь его лежал дальше, в Читу, куда в 1827 году доставили всех декабристов, приговорённых к каторге. Так как тюрьма для них была ещё не достроена, всех их поместили в здании бывшего пересыльного пункта.
Чита в то время представляла собой небольшое поселение в два десятка жилых домов горнозаводских крестьян. При селе имелась ветхая церковь, хлебные амбары и дом начальника острога.
Здесь И.А. Анненков наряду с другими декабристами переносил все тяготы жизни ссыльных. Их принудительный труд состоял в разных земляных работах. Они рыли ров для фундамента под новый острог и канаву для ограды вокруг него, засыпали глубокий овраг вдоль почтовой дороги, прозванный ими "Чёртовой могилой", уравнивали дорогу землёй, камнями и щепками. Кроме того, их заставляли мести улицы, чистить казённые конюшни, а в зимнее время - колоть лёд и молоть зерно на ручных мельницах.
Питание заключённых было крайне скудным. По словам декабриста Н.И. Лорера, обед, состоявший из щей и каши, доставлялся в тюрьму на "очень грязных носилках, на которых, вероятно, навоз выносили когда-то".
К осени 1828 года строительство нового острога было закончено, и декабристов перевели туда. Здесь положение заключённых нисколько не улучшилось. До 70 человек должны были разместиться в четырёх камерах. Спать приходилось на нарах, где каждому отводилось очень мало места. В казематах было темно, "пороги брали ощупью". Тюрьма была окружена высоким тыном и находилась под постоянной охраной стражи. Часовые сопровождали заключённых и на работы, проводившиеся вне острога.
В короткое время каторжный режим изменил внешний вид Анненкова до неузнаваемости. Е.И. Трубецкая рассказывала после Полине Гёбль, что она была поражена, когда увидела на работе Ивана Александровича. Он в это время мёл улицу и складывал мусор в телегу. На нём был старенький тулуп, подвязанный верёвкой, и он весь оброс бородой. Трубецкая не узнала его и очень удивилась, когда муж сказал ей, что это был тот самый Анненков - блестящий молодой человек, с которым она танцевала на балах.
Угнетала морально и физически ссыльных не только изнурительная работа, но и страшная оторванность от близких и родных. Ведь ни одному из них не разрешалось иметь переписку как с друзьями, так и с родителями. Они не получали газет, не имели книг. Их ожидала в конечном счёте духовная смерть, если бы не пришли на помощь жёны некоторых декабристов, которые добровольно отправились в далёкую Сибирь.
Эти женщины не входили в тайные политические общества и не были участниками событий 14 декабря 1825 года. Однако есть основания считать, что некоторые из них знали о готовящемся восстании. Об этом свидетельствуют сами жёны декабристов. Так, П. Анненкова в своих воспоминаниях пишет: "К нему собиралось много молодых людей, они обыкновенно просиживали далеко за полночь. Из разговоров их я узнала, наконец, что они участвовали в каком-то заговоре. Это меня так сильно встревожило, что я решила сказать о моих подозрениях мужу и умоляла его ничего не скрывать от меня. Тогда он сознался, что участвует в тайном обществе и что... его, наверное, ожидает крепость или Сибирь. Я поклялась ему, что последую за ним всюду".
М.Н. Волконская указывает в своих записках, что ещё до восстания в Петербурге узнала от мужа о существовании тайного общества и, когда был арестован Пестель, сама помогала мужу сжигать в камине бумаги.
Не привлечённые к ответственности вместе с мужьями, они разделили с ними их суровую судьбу, пошли на каторгу и на поселение, пошли рядом с ними на всём протяжении их тернистого жизненного пути. Передовая общественность России расценила их поведение как великий подвиг русских женщин.
Подвиг этот состоял не только в акте самопожертвования для облегчения участи любимого человека. Добровольное следование в Сибирь за политическими врагами царя вырастало в крупное общественное событие, было своего рода демонстрацией протеста против мер расправы царя с декабристами. А за спиною этих женщин невидимо стояли родные, близкие и друзья других декабристов, к ним протягивались нити сочувствия и симпатии передовых общественных слоёв.
Но царь вовсе не был заинтересован в возбуждении общественного внимания к осуждённым "преступникам". Их должны были забыть. Между тем отъезд жён к лишённым прав и состояния каторжникам вновь напоминал о деле декабристов, воскрешал в памяти кровавые события на Сенатской площади. Поэтому царь, правительство создавали разные препятствия для выезда жён к мужьям-декабристам.
Всё пускалось в ход, чтобы помешать намерению рвавшихся в Сибирь женщин: в пути их обыскивали, на станциях им не давали лошадей, с них брали подписки, в силу которых они лишались дворянских привилегий и переходили на положение жён ссыльных-каторжан, стеснённых в правах передвижения, переписки, распоряжения своими деньгами и имуществом. У них отнималось право возврата на родину в случае смерти их мужей, а дети, родившиеся в Сибири, должны были зачисляться в "казённые крестьяне". И всё это лицемерно прикрывалось якобы "заботами" об интересах жён и их детей. Женщины не читая подписывали эти требования.
Была разработана и "высочайше утверждена" секретная инструкция иркутскому губернатору Цейдлеру об использовании всевозможных средств для возвращения из Иркутска тех жён декабристов, которым удастся добраться туда.
Всего на каторгу к мужьям отправилось одиннадцать женщин. Преодолевая многочисленные препятствия, чинимые правительством, первыми в 1827 году приехали в рудники Забайкалья Екатерина Ивановна Трубецкая, Мария Николаевна Волконская и Александра Григорьевна Муравьёва. В 1828-1831 годах в Читу и в Петровский завод прибыли невеста Анненкова - Полина Гёбль, невеста Ивашева - Камилла Ледантю, жёны декабристов Елизавета Петровна Нарышкина, Наталья Дмитриевна Фонвизина, Александра Ивановна Давыдова, Анна Васильевна Розен, Мария Казимировна Юшневская и Александра Васильевна Ентальцева.
Большая часть перечисленных женщин принадлежала к титулованной знати, светилам верхов общества. Княгиня М.Н. Волконская была дочерью знаменитого генерала Раевского; княгиня Е.И. Трубецкая - дочь миллионерши Козицкой и графа Лаваль. Отцом А.Г. Муравьёвой был граф Чернышёв, а Е.П. Нарышкиной - граф Коновницын. Юшневская была замужем за генерал-интендантом; А.В. Розен носила титул баронессы. А.И. Давыдова была невесткой владелицы большого имения Каменки Киевской губернии, где шла широкая барская жизнь и собирался цвет культурного общества.
Но были в этом ряду женщины из низов. К ним относились много бедствовавшие в детстве А.В. Ентальцева, П. Гёбль, дочь гувернантки К.П. Ледантю.
После выхода декабристов на поселение приехали в Забайкалье мать и сестра К.П. Торсона и сёстры Михаила и Николая Бестужевых.
Упорно добивались разрешения на выезд в Сибирь и другие жёны, матери и сёстры осуждённых, но получили отказ.
Далёк и труден был путь жён декабристов в Сибирь. Надо было преодолеть расстояние в семь тысяч вёрст и притом в зимнюю стужу, при плохом состоянии в то время средств передвижения. А они мчались туда, нигде не останавливались ни днём ни ночью вплоть до Иркутска, где их ждала принудительная остановка. М.Н. Волконская рассказывает, что она всю дорогу не вылезала из кибитки, не обедая нигде, питаясь тем, что подавали ей в кибитку - кусок хлеба или что попало. П. Анненкова, описывая тяготы своего путешествия, вспоминает, что зимой, в жестокие морозы, она доехала от Москвы до Иркутска за 18 дней. По её словам, иркутский генерал-губернатор не хотел верить этому. "Он спросил меня, - не ошиблись ли мы в Москве числом на подорожной, так как я приехала даже скорее, чем ездят обыкновенно фельдъегеря".
Из всех одиннадцати женщин, последовавших за своими мужьями в Сибирь, Полине Гёбль оказалось намного труднее получить разрешение ехать к Анненкову, так как она находилась в менее выгодных условиях: она была официально лишь невестой, а разрешение на поездку в Сибирь давалось только жёнам и никому другому. Все попытки её получить паспорт, чтобы немедленно выехать, ни к чему не привели.
После многих хлопот и других проволочек в ноябре 1827 года она получила наконец разрешение следовать за Анненковым в Сибирь. Московским обер-полицмейстером Шульгиным ей были предъявлены "Правила, касающиеся жён преступников, ссылаемых на катржные работы", которые она должна была подписать. Вот некоторые пункты из них:
"1. Жёны этих преступников, следуя за своими мужьями и оставаясь с ними в брачном союзе, естественно, должны разделить их участь и лишиться своих прежних прав, т.е. они будут считаться впредь лишь жёнами ссыльно-каторжан, и дети их, рождённые в Сибири, будут приписаны к числу государственных крестьян.
2. С момента отправления в Нерчинск им будет воспрещено иметь при себе значительные суммы денег и особенно ценные вещи...
4. Если жёны этих преступников прибудут к ним из России с намерением разделить участь своих мужей и пожелают жить с ними в остроге, то это не возбраняется им...
5. Жёнам, которые пожелают жить вне острога, разрешается видеться с их мужьями в остроге, однажды, через каждые два дня на третий...
8. Жёны преступников, живущие в остроге или вне его стен, не могут посылать писем иначе, как вручая их открытыми коменданту. Точно так же самим преступникам и их жёнам дозволяется получать письма не иначе, как через посредство коменданта. Всякое письменное сообщение иным способом строго воспрещается".
Прочитав эти правила, Полина Гёбль ответила Шульгину: "Я согласна на всё в них изложенное и отправляюсь в Нерчинск, чтобы вступить в брак с преступником Анненковым и поселиться там навсегда". Получив паспорт и нужные бумаги, она выехала в Сибирь. "Было одиннадцать часов ночи, когда я оставила Москву 23 декабря 1827 года", - писала она.
Итак, все препятствия были преодолены и часть пути пройдена. Но будущее сулило ей ещё много горя, и требовалось немало усилий, чтобы справиться со всей тяжестью его.
Подорожную Полине Гёбль выдали в Москве только до Иркутска, и она не знала, куда далее должна будет ехать. Ехала через Казань, Пермь, Екатеринбург, Томск, Красноярск. Через 18 дней после отъезда из Москвы, 10 января 1828 года, она приехала в Иркутск. Проезжая через многие города и селения, иностранка Полина Гёбль не могла не заметить такую черту характера русских людей, как радушие и гостеприимство, которые она встречала повсюду. "Гостеприимство было сильно развито в Сибири, - впоминала она. - Везде нас принимали... везде кормили отлично, и когда я спрашивала, сколько должна заплатить, ничего не брали... Такое бескорыстие изумляло меня". Далее она указывала, что "Сибирь - чрезвычайно богатая страна, земля здесь необыкновенно плодородна, и немного надо приложить труда, чтобы получить обильный урожай".
Французский писатель Александр Дюма в своём романе "Учитель фехтования" уверяет, что Полину Гёбль всю дорогу сопровождала целая стая волков, так что она даже не могла нигде остановиться. Но этого не было. "Я видела во всё время моего пути в Сибирь только одного волка, и тот удалился, поджавши хвост, когда ямщики начали кричать и хлопать кнутами", - говорила она, возражая романисту.
В Иркутске Гёбль продержали более полутора месяцев. Это было связано с тем, что местный губернатор Цейдлер, выполняя специальную инструкцию, присланную из Петербурга, старался всеми способами задержать её и убедить вернуться в Европейскую Россию. Однако, несмотря на все старания начальства, Полина Гёбль не отступила от исполнения своего долга. 28 февраля она получила разрешение следовать дальше и тут только узнала, что должна ехать в Читу. На следующий день Полина оставила Иркутск и 5 марта была уже в назначенном месте.
Здесь Полину Гёбль снова заставили подписать "Правила", которые касались жён ссыльных каторжан. В них указывалось, какие обстоятельства должны были принять на себя жёны декабристов, находясь вместе с мужьями на каторге. Приведём отдельные пункты этих правил:
"1. Желая разделить участь моего мужа, государственного преступника (фамилия), и жить в том селении, где он будет содержаться, не должна отнюдь искать свидания с ним никакими происками и никакими посторонними способами, но единственно по сделанному на то г. коменданта дозволению и токмо в назначенные для того дни и не чаще через два дня на третий.
2. Не должна я ни под каким видом ни к кому писать и отправлять куда бы то ни было моих писем и других бумаг иначе, как токмо через г. коменданта. Равно если от кого мне или мужу моему через родных или посторонних людей будут присланы письма и прочее, должна я их ему же, г. коменданту, при получении объявить, если оные не через него мне будут доставлены...
5. Обязуюсь иметь свидание с мужем моим не иначе как в арестантской палате, где указано будет, в назначенное для того время и в присутствии дежурного офицера...
10. Наконец, давши такое обязательство, не должна я сама никуда отлучаться от места того, где пребывание моё будет назначено... без ведома г-на коменданта...
В выполнении сего вышеизложенного в точности под сим подписуюсь. Читинский острог. 1828 года".
Только на третий день приезда в Читу Полине Гёбль разрешили свидание с Анненковым. Он был закован в тяжёлые ножные кандалы и с трудом переставлял ноги. Сопровождали его дежурный офицер и часовой. "Невозможно описать, - вспоминала позже Полина Анненкова, - той безумной радости, которой мы предались после долгой разлуки, забыв всё горе и то ужасное положение, в котором находились в эти минуты. Я бросилась на колени и целовала его оковы".
Через месяц им разрешено было обвенчаться. Церемония бракосочетания состоялась 4 апреля в читинской церквушке в присутствии коменданта острога Лепарского. Жениха и двух его товарищей П.Н. Свистунова и А.М. Муравьёва (они были шаферами) привели в оковах и сняли их только на церковной паперти (у крыльца). После вечания их снова заковали и отвели в острог. Лишь на другой день "свадьбы" молодым разрешили двухчасовое свидание. После вступления в брак с Иваном Александровичем Полину Гёбль стали звать Прасковьей Егоровной Анненковой.
Во всё время пребывания в Чите заключённых не выпускали из острога. Жёны же их, приехавшие в Сибирь, имели право ходить к ним на свидание не более двух раз в неделю. Анненкова рассказывала, что в те дни, когда нельзя было идти в острог, "дамы" ходили к тыну, брали с собой ножи и выскабливали в тыне скважины, сквозь которые можно было говорить с заключёнными.
Эти замечательные и смелые женщины оказывали узникам большую помощь. Они заботились об их питании и улучшении санитарного состояния камер. Так как самим каторжанам было строго запрещено писать даже близким родственникам, то данные обязанности взяли на себя жёны декабристов, которые стали вести постоянную переписку с родными и друзьями, оставшимися в России. Письма эти проходили через руки коменданта и отдавались ему незапечатанными, так же как и письма из России проходили через его руки и должны были им читаться.
Пребывание в Чите содействовало ещё более тесному содружеству декабристов. Оно не распалось и впоследствии - в Петровском заводе, и тогда, когда их отправили на поселение в разные места Сибири.
Вместе они боролись за право на улучшение условий их заключения. Благодаря настоятельным совместным требованиям декабристы добились разрешения на строительство в тюремном дворе двух небольших домиков. В одном из них ссыльные разместили столярную и переплётную мастерские, а в другом - различные музыкальные инструменты, на которых по очереди играли. Некоторые из декабристов увлеклись рисованием.
В 1828 году было разрешено получение русских и иностранных книг, журналов, газет. Вся эта литература и периодика выписывалась через жён декабристов или присылалась родными. Например, мать Никиты Муравьёва отправила в Читу его большую библиотеку, которой пользовались все заключённые. Книги оживили умственную деятельность декабристов, среди которых было много талантливых учёных, изобретателей, поэтов, писателей.
Основное место в культурной жизни ссыльных отводилось самообразованию. Одним из видов его были лекции, которые проводились систематически. Так, доктор Ф.Б. Вольф читал курсы анатомии, физики, химии. П.С. Бобрищев-Пушкин преподавал высшую и прикладную математику, А.О. Корнилович и П.А. Муханов - историю России, А.И. Одоевский - русскую словесность, а Никита Муравьёв - стратегию и тактику. Кроме всего этого изучались иностранные языки.
По приезде в Читу Полина Анненкова, как и её подруги, с головой окунулась в бесчисленные домашние заботы, которые оказались не легки в условиях сибирской каторги. Всё её внимание было поглощено заботами о том, как скрасить жизнь мужа. Она начала с того, что тайно от охраны заменила казённые кандалы Анненкова другими, более удобными. Казённые оковы очень стесняли узников. Они были тяжелы , а главное - коротки, отчего особенно страдал Иван Александрович, так как он был для того времени высокого роста (согласно примет "государственного преступника" Анненкова, его рост составлял 2 аршина 7 7/8 вершка - 173 см.). С помощью подкупленного кузнеца были сделаны другие оковы, легче и цепи длиннее. Их надели на Анненкова также с помощью кузнеца, а казённые Полина спрятала у себя и возвратила их, когда оковы были сняты с узников в сентябре 1828 года. Свои же кандалы она сохранила, впоследствии их них было сделано "на память" много колец и несколько браслетов.
Затем надо было снабжать Ивана Александровича бельём и одеждой, доставлять ему в острог кушанья домашнего приготовления, позаботиться о постройке дома и о многом другом. В своих воспоминаниях Полина Анненкова подробно рассказывает о том, какие овощи выращивала она на своём огороде, чем кормила мужа, как боролась за смягчение условий каторжной жизни. Всё это требовало большой энергии, повседневного труда, к которому с ранних лет приучила её нужда.
Полина Анненкова сознавала своё превосходство в этом отношении над остальными жёнами декабристов, с трудом приспосаблявшимися к тяжёлой и непривычной жизни. Не без некоторой гордости она говорила: "Дамы наши часто приходили посмотреть, как я приготовляю обед, и просили научить их то сварить суп, то состряпать пирог. Но когда доходило до того, что надо было взять в руки сырую говядину или вычистить курицу, то не могли преодолеть отвращение к такой работе, несмотря на все усилия, какие делали над собой. Тогда наши дамы со слезами сознавали, что завидуют моему умению всё делать, и горько жаловались на самих себя за то, что они не умели ни за что взяться..."
Труд, лишения, общее горе соединили этих женщин в одну дружную семью. У них всё было общее: печали и радости, любовь к близким и ненависть к их угнетателям. Всех связывала тесная дружба, которая помогала переносить неприятности и заставляла забывать многое.
По приезде в Читу жёны декабристов, в том числе и Полина Анненкова, жили на квартирах, которые они снимали у местных жителей. Позднее были построены свои небольшие домики, наподобие крестьянских изб, и заведено своё "хозяйство". Но заключённые и их жёны жили главным образом на деньги, которые им присылали из России родственники.
Положение Анненковых было особенно тяжёлым. Мать Ивана Александровича за всё время ссылки сына ему ничем не помогла. Эта бездушная женщина не сделала ни шагу, чтобы утешить его или облегчить его участь. Она не любила сына, и особенно не могла простить ему участия в декабристском движении. Родственники И.А. Анненкова ещё при жизни Анны Ивановны проявили весьма откровенное поползновение завладеть наследством "государственного преступника", а после её смерти все имения перешли в их руки. Двоюродный брат декабриста Н.Н. Анненков заполучил даже 60 тысяч рублей, которые принадлежали лично Ивану Александровичу и были отобраны у него при аресте. Только впоследствии эти деньги были переданы на имя Полины Анненковой, которые она положила в банк и на проценты от них жила всё время в период пребывания в Сибири. Разумеется, такие средства не обеспечивали полностью существование семьи Анненковых, и она подчас нуждалась даже в самом необходимом. "Отцу иногда приходилось очень трудно, и вообще он был очень стеснён материально", - вспоминала дочь декабриста Ольга Ивановна.
Метки: ЖЗЛ россия декабристы анненковы |
Никита Кирсанов. "Декабрист Иван Анненков" (часть 1) |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Декабрист Иван Анненков" (часть 1).

Отец декабриста, Александр Никанорович Анненков, крупный помещик, служил в лейб-гвардии Преображенском полку, вышел в отставку в чине капитана и потом занимал должность советника Симбирской гражданской судебной палаты. Оставив эту службу в 1796 году, он жил в Москве и в своих деревнях (умер в 1803 г.). Мать декабриста Анна Ивановна Анненкова (ок. 1760-1842) была единственной дочерью иркутского генерал-губернатора Ивана Варфоломеевича Якобия, чрезвычайно разбогатевшего за время службы в Сибири, ставшего обладателем больших земельных владений и денежных сумм.
После смерти отца и мужа Анна Ивановна объединила в своих руках огромное состояние, половина которого перешла к ней от И.В. Якобия, остальное было передано по духовному завещанию покойного мужа. В её имениях в Нижегородской, Пензенской, Симбирской, Оренбургской и Московской губерниях числилось около пяти тысяч крепостных крестьян мужского пола. Только в Мокшанском уезде Пензенской губернии в селе Скачки и пяти деревнях (Ломовке, Александровке, Алексеевке, Чурдимовке и Брюхатовке), по данным 1807 года, имелось 1360 душ. Кроме того, в Городищенском уезде в селе Богородском ей принадлежало дворовых и крестьян 400 душ, а всего в Пензенской губернии - 1860 крепостных душ мужского пола.
Однако в обстановке кризиса крепостного хозяйства в первой половине XIX века имения Анненковой, как и многих других помещиков, постоянно разрушались и приходили в упадок. Беспорядочное хозяйничание и расточительство владелицы усиливали это состояние упадка. По словам её невестки, жены декабриста, Полины Анненковой, "старуха жила невозможной жизнью". В её громадном доме в Москве постоянно находилось до 150 человек, составлявших её свиту. При барыне всегда было до 40 избранных девушек и женщин разного возраста, которые поочерёдно должны были находиться в её комнате. Одних платьев у неё насчитывалось до пяти тысяч. "Анна Ивановна совершала свой туалет... - вспоминала Полина Анненкова, - необыкновенным способом. Перед нею стояло 6 девушек, кроме той, которая её причёсывала. На всех девушках были надеты разные принадлежности туалета Анны Ивановны: она ничего не надевала без того, чтобы не было согрето предварительно животной теплотой... Даже место в карете, перед тем как ей выехать, согревалось тем же способом..."
Многочисленными имениями А.И. Анненковой управлял некий Чернобой, наживший себе за счёт ограбления крестьян несколько домов в Москве, а всем хозяйством заправляла дальняя родственница Мария Тихоновна Перская. "Все доходы с имений, - пишет Полина Анненкова, - привозились и сдавались Марии Тихоновне, в комнате которой стоял комод, куда ссыпались деньги по ящикам, по качеству монеты, и, наверное, Мария Тихоновна сама не знала хорошенько, сколько ссыпалось в коиод и сколько из него расходовалось".
Роскошь, причуды старухи, бесконтрольное расходование средств вели к тому, что имения закладывались и перезакладывались, росли долги. К 1835 году опекунский долг (долг по залогу имений) Анны Ивановны составлял 500 тысяч рублей. Сильно разорив имения, она всё же оставила после себя 2500 ревизских душ.
У неё был другой сын - Григорий, который в 1824 году был убит на дуэли. За смертью брата Иван Александрович Анненков стал единственным наследником всего состояния матери. Однако в силу сложившихся обстоятельств оно не досталось ему.
О додекабристском периоде жизни Ивана Александровича сведений сохранилось немного. Об этом узнаётся главным образом из его показаний во время следствия и воспоминаниях родных.
Родился И.А. Анненков в Москве 5 марта 1802 года. Там же прошли его детские и юношеские годы. Первые впечатления о крепостном праве он получил, живя в доме матери и наблюдая её образ жизни, её быт, её произвол и деспотизм в отношении крепостной прислуги. Кроме того, ему не раз приходилось бывать в имениях матери, а также в имениях других помещиков, где он мог непосредственно наблюдать жизнь крепостной деревни. Уже в это время у него сложилось твёрдое убеждение в несправедливости существующего порядка. Он становится врагом крепостного права и всякого угнетения. Впоследствии он не раз говорил о своей "старой ненависти к рабству".
Приобретение жизненных наблюдений продолжалось в годы учения и службы, когда общение с передовой молодёжью дало ему много новых сведений о положении в России, приобщило к передовым идеям, наставило на путь активной борьбы.
И.А. Анненков получил первоначальное домашнее образование. Преподавателями его были швейцарец Дюбуа и француз Берже. В 1817-1819 годах он слушал лекции в Московском университете, но курса не окончил. Сдав экзамен при Главном штабе в 1819 году, Анненков был зачислен юнкером в лейб-гвардии Кавалергардский полк и вскоре произведён в корнеты, а в 1823 году - в поручики.
Первые семена "вольнодумия" были посеяны в нём, по его собственному свидетельству, преподавателем Дюбуа. На следствии он показывал: "Первые свободные мысли внушил мне мой наставник, ибо он всегда выставлял своё правительство (швейцарское) как единственное, не унижающее человечества, а про прочие говорил с презрением, наше же особенно было предметом его шуток". Через Дюбуа Анненков познакомился с сочинениями прогрессивных французских мыслителей.
В 1823 году Иван Александрович сблизился с однополчанином корнетом П.Н. Свистуновым, оказавшим на него большое влияние. Последний прочёл с ним отдельные главы "Общественного договора" Руссо и давал ему читать другие книги передовых писателей.
Всё это, по словам Анненкова, склонило его к решению вступить в тайное общество. Однако путь развития вольнодумства у него шёл, как было указано выше, не только через чтение книг, но и личные наблюдения над окружающей действительностью и общение с лучшей частью дворянской молодёжи. Ещё до того как он формально стал членом тайной организации, у него были встречи с некоторыми видными деятелями декабристского движения. Так, в 1823 году, по показанию Е.П. Оболенского, на квартире Анненкова в Петербурге происходили совещания декабристов, на которых присутствовали Нарышкин, Оболенский, Никита Муравьёв и некоторые другие.
В 1824 году Анненков уже являлся членом Северного общества декабристов. Из показания Матвея Муравьёва-Апостола известно, что Иван Александрович бывал на собраниях у Рылеева, где "читали план Конституции Никиты Муравьёва".
Но вскоре И.А. Анненков перешёл в петербургскую ячейку (филиал) Южного общества. Как показывают материалы следствия, участники этой группы, организованной Пестелем во время его приезда в Петербург в 1824 году, стояли на республиканских позициях. Так, П.И. Пестель говорил на одном из допросов: "Вадковский, Поливанов, Свистунов, Анненков (все четыре кавалергардские офицеры) и артиллерийский Кривцов были со мною ознакомлены через Матвея Муравьёва и находились в полном революционном и республиканском духе".
Сказанное Пестелем о петербургском филиале подтвердили во время допросов Матвей Муравьёв-Апостол и М.П. Бестужев-Рюмин. Первый из них показал: "Никита Муравьёв и князь Сергей Трубецкой не были согласны на счёт предложения Южного общества республики и истребления (царской семьи). Н. Тургенев, князь Оболенский, Рылеев, Бестужев (адъютант), князь Валериан Голицын, Митьков, Поливанов, Фёдор Вадковский, Свистунов, Анненков, Депрерадович разделяли сие мнение". М.П. Бестужев-Рюмин также показал, что из числа северян "республику... приняли только члены, присовокупленные обществу Пестелем, - кои суть: Свистунов, Фёдор Вадковский, Поливанов, Анненков, Депрерадович и принятые ими, из числа коих известен мне один полковник Кологривов". Бестужев-Рюмин особо выделяет Анненкова как "решительного человека, нам известного".
Итак, Иван Александрович Анненков принадлежал к той группе северных декабристов, которая разделяла мнение руководителей Южного общества о необходимости введения в России республиканского устройства и уничтожения императорской фамилии.
За несколько месяцев до событий 14 декабря И.А. Анненков познакомился со своей будущей женой Жанеттой Поль. Родилась она 9 июня 1800 года во Франции близ города Нанси в семье военнослужащего. После смерти отца, убитого в Испании во время наполеоновских войн, мать её осталась с четырьмя детьми без всяких средств существования. Семья стала испытывать острую нужду, и Жанетте, старшей дочери, рано пришлось работать. Продавая своё рукоделие - шитьё и вышивание, она всё же не могла зарабатывать столько, чтобы содержать себя и родных. Жизнь становилась всё труднее. Семнадцатилетней девушкой Жанетта переехала в Париж, где стала работать в торговом доме Моно. "Тут только я почувствовала, - писала она в своих воспоминаниях, - всю горечь моего нового положения, очутившись между людьми мне незнакомыми, совершенно чужими, к тому же мало образованными... Много стоило мне слёз и усилий, чтобы сломить себя и привыкнуть к ним... а потом привыкнуть к моим новым обязанностям, которые были совсем не легки".
В Париже она прожила шесть лет. Необходимость зарабатывать себе на хлеб, тяжёлые условия работы воспитали в ней привычку к труду, умение жить, полагаясь только на себя. Эти качества, весьма пригодились ей впоследствии в Сибири.
В 1823 году Жанетта приехала в Москву, где под псевдонимом Паулина (Полина) Гёбль устроилась в качестве продавщицы модного магазина Дюманси. Здесь она прожила два года. Встреча с Анненковым произвела в её судьбе внезапный и резкий перелом. "Он начал неотступно за мной ухаживать, предлагая жениться на мне, - указывала она позже в своих мемуарах. - Но целая бездна разделяла нас. Он был знатен и богат, я - бедная девушка, существовавшая своим трудом. Разница положений заставляла меня держаться осторожно".
В конце июня 1825 года они встретились в Пензе на ярмарке, куда Полина Гёбль приехала с торговым домом Дюманси, а Анненков прибыл за ремонтом (покупкой) лошадей для Кавалергардского полка. Эта встреча была решающей: Полина стала невестой Анненкова. 3 июля они вместе выехали из Пензы в имение Анненковых село Скачки Мокшанского уезда, а оттуда ездили в другие их имения, находившиеся в Симбирской и Нижегородской губерниях. В Москву вернулись только в ноябре, а 2 декабря Анненков уехал в Петербург.
За два дня до восстания, 12 декабря, он присутствовал на совещании у Е.П. Оболенского, где обсуждался план действий в день присяги Николаю. 14 декабря Анненков был на Сенатской площади со своим полком, высланным против мятежных войск. Но не сомнения в успехе предприятия были причиной тому, что он в этот день находился не в рядах восставших. Он понимал, конечно, что отказ выступить с полком на площадь мог вызвать его немедленный и преждевременный арест, за которым могли последовать аресты его товарищей-декабристов. После событий 14 декабря И.А. Анненков находился на свободе ещё четыре дня. 19 числа в 11 часов ночи его арестовали.
Как и других видных участников декабристского движения, Анненкова сначала допрашивал сам Николай I у себя в Зимнем дворце. Полина Анненкова в своих воспоминаниях со слов Ивана Александровича подробно рассказывает, как производился этот первый допрос, а также последующие допросы её мужа. На вопрос царя, чего хотело тайное общество, Анненков смело отвечал, что "хотели пресечь зло", что "желали лучшего порядка в управлении, освобождении крестьян и проч." Затем Николай спросил, почему он, зная обо всём этом, не донёс правительству? Когда же допрашиваемый ответил, что он считает нечестным доносить на своих товарищей, царь грозно крикнул: "Вы не имеете понятия о чести! Знаете, чего заслуживаете?.. Вы думаете, что я вас расстреляю, что вы будете этим интересны? Нет, я вас в крепости сгною!"
Затем его допрашивал генерал Левашов, требуя, чтобы он назвал членов тайного общества, но Анненков не выдал своих товарищей. После допроса его отправили в Выборгскую тюрьму, где он находился до февраля 1826 года.
К этому времени следственная комиссия уже располагала сведениями о плане цареубийства и о том, что Анненков присутствовал при обсуждении этого плана. 1 февраля его снова привезли в Петербург, и Левашов вторично его допрашивал. Анненков отрицал свою причастность к "умыслу" на истребление императорской фамилии.
"Государственного преступника" отвезли в Петропавловскую крепость и посадили в камеру № 19 Невской куртины. "Меня ввели в небольшую комнату со сводом, - рассказывает Анненков. - Посредине ещё можно было стоять во весь рост, но к бокам камеры надо было сгибаться. Стояла кровать, на которой лежал матрац из соломы... на меня надели халат, туфли и заперли дверь. Первое чувство было такое, что положили живого в могилу".
Вскоре Анненкова опять доставили в следственную комиссию. Граф Бенкендорф и князь Голицын долго его допрашивали, добиваясь "признания во всём", угрожали расправой. И он стал сдаваться. "Понятно, что в эту минуту нервы у меня были сильно расшатаны всем пережитым, крепость стояла перед глазами, как фантом. Несмотря на всю твёрдость моего характера, я настолько был потрясён, что, наконец, почти машинально выговорил, что действительно слышал о цареубийстве. Тогда Бенкендорф тотчас же велел подать мне бумагу, и я так же машинально подписал её. Меня снова отвезли в крепость".
Признания в замысле истребления царствующего дома и введения республиканского правления было достаточно, чтобы отнести допрашиваемого к числу наиболее опасных политических врагов самодержавия и вынести ему жестокий приговор. Больше Анненкова в комиссию не вызывали. Он содержался в Петропавловской крепости до отправления на каторгу.
Следует отметить, что на допросах Анненков проявил большую выдержку и самообладание, и лишь крепость, одиночное заключение, неведомое и страшное будущее сломили его, заставили дать некоторые нужные комиссии показания.
В "Алфавите" декабристов, где указаны вина и степень наказания осуждённых, об И.А. Анненкове сказано: "Вступил в Северное общество в 1824 году; ему была открыта цель оного - введение республиканского правления, а потом слышал о намерении истребить императорскую фамилию". Анненков был осуждён по II разряду - положение головы на плаху и ссылка в каторжную работу навечно. 10 июля 1826 года последовал указ царя о конфирмации (утверждении приговора), по которому наказания осуждённых были "смягчены". Так, для II разряда (их было 17 человек) вместо положения головы на плаху и вечной каторги последовало осуждение в каторгу на 20 лет.
Объявление приговора произошло 12 июля в помещении коменданта Петропавловской крепости, куда были сведены все заключённые. Они мужественно встретили приговор царского суда. Через несколько часов их снова вывели из казематов: с них сорвали погоны, мундиры и переломили шпаги над головами, а затем развели по камерам, откуда предстояла их отправка в назначенные места. Во время переломления шпаги, по неловкости палача, Анненков получил сильный удар в голову и долго находился в бессознательном состоянии. Это обстоятельство, пишет внучка декабриста М.В. Брызгалова, отчасти способствовало развитию душевного недуга, которым он страдал впоследствии.
Полина Гёбль, жившая в Москве, долгое время не имела никаких сведений об Анненкове и делала напрасные попытки узнать что-либо о постигшей его участи. Выехать в Петербург она не могла в это время из-за отсутствия средств. Деньги, которые ей оставил Иван Александрович, уезжая в Петербург, все были израсходованы. "Я стремилась к любимому мною человеку, - пишет она, - и не могла выехать из Москвы, где приковала меня страшная нужда. Мне положительно нечем было существовать, и я должна была усиленно работать, чтобы не умереть с голоду". Анна Ивановна Анненкова, равнодушная к судьбе своего сына, ничего не сделала для того, чтобы облегчить его положение. Более того, она всячески старалась отклонить Полину от поездки в Петербург. 11 апреля 1826 года Полина Гёбль родила дочь Александру, после чего опасно заболела и слегла на три месяца в постель. Естественно, что она не могла работать и впадала с каждым днём всё более в нужду, закладывала и продавала последние вещи. Только летом (вероятно, в июле), оправившись от болезни, раздобыв средства и добившись паспорта, Полина Гёбль уехала в Петербург.
Родственники имели право видеть узников только раз в неделю, каждый имел свой день. Их приводил на свидание плац-адъютант к коменданту, встреча продолжалась не более часа и на глазах у посторонних. И.А. Анненкову разрешалось свидание в среду. Но Полина Гёбль не была официально его женой, не имела даже права родственницы и должна была придумывать, по её словам, "разные разности, чтобы добраться до него". Преодолевая трудности, она несколько раз пробиралась в крепость, где ей удавалось увидеть Ивана Александровича. Встречи их были тайные, во время прогулок заключённых во дворе, и продолжались не более пяти минут.
В начале декабря Полина возвратилась в Москву, чтобы добиться от матери Анненкова какой-либо материальной помощи её сыну, который подвергался разным лишениям, не имел белья, голодал. Анна Ивановна ответила отказом. 9 декабря Полина снова вернулась в Петербург. Здесь она узнала о покушении Анненкова на самоубийство: он хотел повеситься на полотенце, но оно оборвалось, и его нашли на полу без чувств. Того же числа в 11 часов вечера ей удалось проникнуть в Петропавловскую крепость и через подкупленного офицера добиться свидания с Анненковым. Он сказал ей, что "зима устанавливается и их, наверное, отправят в Сибирь". Это было последнее их свидание в Петербурге. "Мы расстались, и надолго на этот раз", - указывала в своих воспоминаниях Полина Анненкова.
Для отправки осуждённых в Сибирь на каторгу была выработана особая инструкция. Первые две группы, каждая по четыре человека, были увезены в июле 1826 года, вскоре после объявления приговора (Трубецкой, Волконский, братья Борисовы, Артамон Муравьёв, Оболенский, Якубович и Давыдов). Потом одних за другими отправляли и остальных. Перед отправкой ссыльных заковали в ножные кандалы с замками.
К каждому ссыльному было приставлено по одному жандарму, а общее руководство перевозкой группы возлагалось на специального фельдъегеря. Везли осуждённых порознь на тройках. Самый вывоз из крепости должен был происходить по ночам. Путь был избран, минуя Москву, ярославским трактом и до Иркутска. Совершался он очень быстро - в один месяц.
Метки: ЖЗЛ россия декабристы анненковы |
Никита Кирсанов. "Декабрист Сергей Волконский". |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Декабрист Сергей Волконский".

Волконские принадлежали к высшим слоям русской аристократии, в которую они попали не потому, что их предок был царским фаворитом или брадобреем. Они вели своё происхождение от "святого" князя Михаила Черниговского. Дед декабриста, Семён Фёдорович, принимал участие во многочисленных войнах первой половины XVIII века. В Семилетнюю войну он был генерал-лейтенантом, командовал кирасирами и заведовал провиантмейстерской частью. Умер Семён Волконский в 1768 году и похоронен в своём селе Новоникольское Мышкинского уезда Ярославской губернии. Позже над его могилой жена и сын Григорий Семёнович (отец декабриста) построили церковь.
Карьера Григория Семёновича во многом сходна с карьерой своего отца. Его жизнь хорошо охарактеризована, хотя в несколько напыщенных фразах, в надписи на могильной плите в Александро-Невской лавре в Петербурге: "Генерал - от кавалерии князь Григорий Семёнович Волконский. Служил отечеству 66 лет. На поле брани Румянцева, Суворова, Репнина - сподвижник, на поприще гражданском - Оренбургский военный губернатор. Член Государственного Совета. Родился 25 января 1742 г., переселился в жизнь вечную 1824 г. июня 17 дня".
Сыновья Григория Семёновича тоже служили исправно и достигли высоких чинов. Старший сын Николай (с 1801 г. в память деда со стороны матери фельдмаршала Н.В. Репнина носил эту фамилию) - участник Аустерлицкого сражения, в котором командовал эскадроном кавалергардов, атаку которых описал Л.Н. Толстой в произведении "Война и мир". В 1810 году Николай был послом в Испании, а в 1813-1814 гг. - наместником Саксонии. После войны на протяжении почти 20 лет Николай Репнин занимал пост Малороссийского генерал-губернатора. Второй сын - Никита - дослужился до генерал-майора, с 1811 г. служил в 3-й армии. Радовался Оренбургский генерал-губернатор и успехам младшего сына, Сергея, которого в письмах называл не иначе, как "наш герой". Служба Сергея Волконского началась в 1796 году, когда ему было всего восемь лет. В этом же году он был зачислен (конечно, номинально) штабс-фурьером в штаб Суворова, с которым отец был знаком лично и которого обожествлял, усвоив себе некоторые странности характера великого полководца. Продвижение по службе недоросля Сергея Волконского шло быстро - в службу записан 6 июля, а в августе уже был адъютантом в Алексопольском пехотном полку, в сентябре - полковым квартирмейстером Староингерманландского полка, а в марте 1797 г. "переименован" ротмистром в Екатеринославский Кирасирский полк.
Пока "шла" служба, Волконский до 14 лет учился. Действительная служба началась только в декабре 1805 года, когда он был переведён поручиком в Кавалергардский полк. Принимал участие во всех крупных сражениях в войнах с Францией, Турцией. За храбрость, проявленную в бою под Прейсиш-Эйлау, получил золотую шпагу. Во время Отечественной войны получил чин полковника, а в 1813 году - генерал-майора. Ему было в это время 25 лет. Сергей Волконский принимал участие в 58 сражениях. После войны был назначен бригадным командиром. Подобно многим своим товарищам Сергей Григорьевич пережил увлечение масонством, был членом "Соединённых друзей", ложи "Сфинкс", сам основал ложу "Трёх добродетелей". Война оказала огромное влияние на будущего декабриста. Позже он писал: "Зародыш сознания обязанностей гражданина сильно уже начал высказываться в моих мыслях и чувствах, причиной чего были народные события 1814 и 1815 гг., которых я был свидетелем, вселившие в меня вместо слепого повиновения и отсутствия всякой самостоятельности мысль, что гражданину свойственны обязанности отечественные, идущие по крайней мере, наряду с верноподданическими".
После возвращения в Россию Волконский служил во второй армии, располагавшейся на Украине. Здесь он сближается с членом тайного общества Михаилом Орловым, с которым вместе учился, вместе начинал службу в Кавалергардском полку. Молодой генерал вращался в кругу людей, связанных с Союзом спасения, а затем Союзом благоденствия. Но членом Союза благоденствия Сергей Григорьевич стал только в 1820 г., заняв в нём сразу довольно значительное положение. Он сблизился с П.И. Пестелем. После образования Южного общества Волконский ещё больше внимания уделяет революционной деятельности. Он находится в курсе всех событий, касающихся Общества - на его квартире в Киеве проходили съезды членов Южного общества. Он выполнял поручения Пестеля, направленные на сближение Северного и Южного обществ, вёл переговоры с Польским обществом о совместном выступлении.
В 1824 г. Волконский решил просить руки дочери героя 1812 года Н.Н. Раевского, Марии. За содействием он обратился к своему товарищу Михаилу Орлову, который был женат на старшей дочери Раевского. Волконский предупредил Орлова, что если участие в тайном обществе явится препятствием к вступлению в брак, тогда он готов отказаться от личного счастья, "нежели решусь своим политическим убеждениям и своему долгу". На некоторое время Волконский уехал в отпуск на кавказские воды, "с намерением буде получу отказ, искать поступления на службу в Кавказскую армию и в боевой жизни развлечь горе от неудачи в личной жизни".
Но не только это привело Волконского на Кавказ. Он имел задание от Южного общества узнать подробности о тайном обществе, которое якобы существовало в кавказской армии. Если бы удалось установить с ним связь, то это привело бы к тому, что в день выступления можно было расчитывать на Кавказский корпус и даже на его командующего А.П. Ермолова.
Из разговора с А.И. Якубовичем у Волконского сложилось впечатление, что на Кавказе действительно существует тайное общество, которое готово поддержать восстание, а в случае неудачи будет тем зерном, "могущим возродить новую попытку". Окрылённый этими надеждами, Волконский возвратился с Кавказа, тем более что старик Раевский согласился выдать за него свою дочь. 11 января 1825 года в киевской церкви Спаса на Берестове состоялось венчание. Жена была на 17 лет моложе своего мужа и вышла замуж не по любви, а под влиянием отца, которого все Раевские обожествляли. В первый год совместной жизни супруги провели вместе только три месяца - после свадьбы Мария Николаевна заболела и должна была уехать на лечение в Одессу. Волконский остался со своей дивизией.
Для тайного общества настали тревожные дни - стало известно о доносах на его членов. Волконский встретился с женой только осенью, чтобы отвезти её в Умань, где стояла его дивизия, а сам затем уехал в Тульчин, где находился штаб второй армии. Здесь Волконский узнал о доносе Майбороды и о том, что Пестель арестован. Но всё же ему удалось повидаться с руководителем Южного общества, предупредить о доносе. На это Пестель ответил: "Смотри, ни в чём не сознавайся! Я же, хоть и жилы мне будут тянуть пыткой - ни в чём не сознаюсь! Одно только необходимо сделать - это уничтожить "Русскую правду", одна она может нас погубить".
Волконский возвратился в Умань. Мария Николаевна описывала это возвращение в следующих словах: "Он вернулся среди ночи; он меня будит, зовёт: "Вставай скорей", я встаю, дрожа от страха. Моя беременность приближалась к концу, и это возвращение, этот шум меня испугали. Он стал растапливать камин и сжигать какие-то бумаги. Я ему помогала, как умела, спрашивая, в чём дело? "Пестель арестован" - "За что?" - Нет ответа. Вся эта таинственность меня тревожила". Именно этой ночью Волконская впервые соприкоснулась с тайным обществом.
Сергей Григорьевич понимал, что рано или поздно, но он тоже будет арестован. Волконский отвёз жену в имение её отца с. Болтышка Чигиринского уезда и возвратился в Умань. Ещё раз он посетил Болтышку, когда пришло известие, что 7 января 1826 г. родился сын Николай. Волконский был арестован на своей квартире в Умани.
Теперь его увезли в столицу в сопровождении фельдъегеря. По дороге они обогнали несколько таких же саней, в которых везли его товарищей. Навстречу попадались флигель-адъютанты, ехавшие по "Высочайшему повелению" для расследования восстания Черниговского полка. Вся страна была возбуждена. Шло расследование, которым руководил лично император. Следовали бесконечные допросы - устные, письменные, перекрёстные. Делались очные ставки. На одном из допросов генерал-адъютант Чернышёв сказал: "Стыдитесь, генерал-майор князь Волконский, прапорщики больше вас показывают!"
Положение Волконского было тяжёлым - полная неизвестность о жене и ребёнке, разобщённость с матерью, братьями, сестрой, неизвестность в отношении будущего.
Мать С.Г. Волконского - Александра Николаевна - была обер-гофмейстерикой двора. Она не сразу посетила своего сына в крепости, утверждая, что это свидание убило бы её. Ещё когда следствие не закончилось, она уехала из Петербурга в Москву с императрицей, где начинались приготовления к коронации. В Петербурге она владела домом на Мойке, где сейчас находится музей-квартира А.С. Пушкина.
Нелёгким было положение и Марии Николаевны. После рождения сына она заболела и находилась в тяжёлом состоянии, когда же приходила в себя и спрашивала о муже, ей отвечали, что он находится в Молдавии по делам службы. Наконец, она узнала правду и решила ехать в столицу, чтобы повидаться с мужем. Оставив маленького сына у своей тётки графини Браницкой в Белой Церкви, она в апреле отправилась в дорогу. В Петербурге она остановилась у своей свекрови в доме на Мойке.
Мария Николаевна добилась свидания с мужем, которое произвело на неё тягостное впечатление. В эту тяжёлую минуту Волконская осталась одна. Её братья старались очернить Волконского. Особенно старался брат Александр. В семье мужа она тоже встретила только колкости и холодность.
Наконец приговор Верховного уголовного суда так определил состав преступления Волконского: "участвовал согласием в умысле на цареубийство и истребление всей императорской фамилии, имел умысел на заточении императорской фамилии, участвовал в управлении Южным обществом и старался о соединении его с Северным; действовал в умысле на отторжение областей от империи и употреблял поддельную печать полевого аудитора". Осуждён был по I разряду. Срок каторги был определён сначала в 20 лет, а затем сокращён до 15-ти.
Находясь в крепости, Волконский в мае 1826 г. составил духовное завещание, в котором дал распоряжение относительно своего имущества. Душеприказчиками Волконский назначил своего тестя Н.Н. Раевского и брата Николая Репнина. Вместе с Марией Николаевной они назначались также опекунами Николеньки. Свои имения Волконский разделял на благоприобретённые и родовые. К первым относились 10 тысяч десятин земли в Таврической губернии, хутор возле Одессы и дом в этом же городе; "родовое имение состоит: а) Нижегородской губернии Балахнинского уезда Кирюшинское имение, первоначально поступившее в числе 1498 душ, в котором в силу домового акта, в ноябре 1824 г. учинённого, полагаю причитается до 72 душ, а по сему всего в Кирюшинском имении 1560 душ; b) Ярославской губернии Угличского уезда Заозерское имение в числе 643 душ; с) переведённые из Томальского имения в Новорепьёвку 44 душ..."
По завещанию жена получала Новорепьёвку, хутор, дом в Одессе, седьмую часть из Нижегородского имения. Родовые имения, в том числе Заозерье, Волконский завещал сыну.
После составления завещания Волконский написал ещё записку, в которой дал пояснения относительно некоторых статей завещания. В этой записке он писал: "Заозерское имение весьма невыгодно, ужасно малоземельно и в общем владении с другими двумя владельцами. Продажа оного и покупка другого есть оборот несомнительно выгодный для пользы сына моего". Заозерского имения Волконский коснулся ещё раз в специальной "Записке по делам, матушке поручаемых". Он писал: "В Нижегородской вотчине оброк с души - 30 руб. Годового дохода 45 тыс. В Заозерье - 25 руб., посему 16075. Дробных по сим же имениям доходам может ещё будет до 2000..." С Заозерского имения в 1825 г. Волконский получил 6788 руб. В этой же записке Волконский указывал на возможность продажи имения: "Ежели приступить необходимо будет к продаже Заозерской вотчины, посему, полагаете, можно продать, считая цены по ревизской душе".
После приговора Волконский, Трубецкой, Оболенский, Давыдов, Артамон Муравьёв, Якубович, братья Борисовы закованными были отправлены в Иркутск, а оттуда - в Благодатский рудник. В октябре 1826 г. маркшейдер Черниговцев доносил начальнику Нерчинских заводов - "все означенные восемь человек размещены по принадлежности на Благодатском руднике, что все они ремесла никакого за собой не имеют, кроме российского языка, и прочих наук, входящих в курс благородного воспитания". От губернатора Цейдлера последовало распоряжение об использовании государственных преступников для работы в шахте. Декабристы работали на руднике до середины сентября 1827 года.
Именно сюда, в Благодатский рудник, приехала жена С.Г. Волконского. Ей пришлось приложить много усилий, чтобы опять увидеть своего мужа. Хоть царь в письме к Марии Николаевне после предупреждения об опасностях, которые ожидают княгиню в Сибири, и написал, что "предоставляю вполне вашему усмотрению избрать тот образ действий, который покажется вам наиболее соответствующим вашему настоящему положению", но избрать было нелегко. Братья и отец были против. Когда Н.Н. Раевский услышал из уст дочери о намерении ехать в Сибирь, он поднял кулаки над её головой и закричал: "Я тебя прокляну, если ты через год не вернёшься".
Но Волконская всё же поехала. На некоторое время она остановилась в Москве у Зинаиды Волконской, бывшей замужем за братом декабриста, Никитой Григорьевичем Волконским и которую Пушкин называл "царицей муз и красоты". Невестка устроила для Марии Николаевны как бы прощальный музыкальный вечер. На нём присутствовал и А.С. Пушкин.
После нескольких дней пребывания в Москве Волконская тронулась в путь по заснеженной России. В Иркутске губернатор всячески отговаривал Марию Николаевну от её намерений, но видя её решительность, предложил подписать условия, что теперь она будет считаться женой ссыльного каторжного, что "дети, которые приживутся в Сибири, поступят в казённые заводские крестьяне", и ещё ряд пунктов, ограничивающих её свободу. Она подписала.
Вскоре произошла встреча с мужем. "Вид его кандалов так воспламенил и растрогал меня, что я бросилась перед ним на колени и поцеловала его кандалы, а потом и его самого".
В 1827 г. декабристы из рудника переведены были в Читинский острог, где прожили три года. Здесь Волконские получили известие о смерти своего сына Николеньки, которому А.С. Пушкин составил проникновенную эпитафию:
"В сиянии и радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благославляет мать и молит за отца".
В сентябре 1830 года декабристов перевели в тюрьму Петровского завода. Жёны поначалу проживали в камерах своих мужей, а потом начали покупать или строить собственные дома. Такой дом имела и Волконская, а в 1835 г. перед самым выходом на поселение, в нём разрешили жить и Сергею Григорьевичу. В 1832 г. у них родился сын, Михаил, а через два года - дочь Елена. Теперь княгиня Волконская всецело посвятила себя заботам о своих детях, тем более, что она уже потеряла надежду вернуться в Россию.
Мать Волконского, умирая, просила Николая I вернуть сына из Сибири и разрешить ему жить в одном из своих имений. Царь не разрешил это, но жизнь Сергея Григорьевича была облегчена - в 1835 г. он вышел на поселение. Правительство долго решало, где поселить Волконских. Лучшим местом в Сибири считались Курган и Ялуторовск, но в первом уже жили 6 декабристов, а во втором - 3. Николай приказал поселить Волконского одного. Он соглашался даже на Ялуторовск, но потребовал перевести живших там декабристов в другое место. Наконец, решили спросить у Волконского, где он желает жить - в Петровском заводе или в Баргузине, где жил на поселении Михаил Кюхельбекер (в случае согласия Волконского на Баргузин, Кюхельбекера должны были перевести в другое место). Волконский остался жить в Петровском заводе, а в 1836 г. переселился в село Урик Иркутской губернии. Там жил врач - декабрист Ф.Б. Вольф, который всегда мог помочь часто болевшим детям, а также и Сергею Григорьевичу, страдавшему ревматизмом.
В Урике, кроме Вольфа, жили М.С. Лунин и Муравьёвы - Никита и Александр. В восьми верстах в Усть-Куде жили И.В. Поджио и П.А. Муханов, в 30 верстах в селении Оёк позднее были поселены - С.П. Трубецкой и Ф.Ф. Вадковский. Расстояния не мешали встречам друзей, но особенно близок Волконский был с М.С. Луниным.
В Урике Сергей Григорьевич с увлечением занялся любимым делом - земледелием, которому посвящал всё свободное время ещё в Петровском заводе. В Урике у него было 15 десятин.
О смягчении участи Волконских просили их высокопоставленные родственники. О переводе Волконского на Кавказ просил брат Марии Николаевны, генерал-лейтенант Н.Н. Раевский-младший. Об этом же ходатайствовал и новороссийский генерал-губернатор Воронцов. Но эти просьбы Бенкендорф даже не доводил до сведения императора. Надежды вернуться в Россию пропадали.
В 1846 г. Волконские переехали в Иркутск. Сергей Григорьевич хотел, чтобы его сын Михаил получил университетское образование. Ступенькой к диплому должна была быть гимназия. М.С. Волконский в 1849 г. окончил Иркутскую гимназию с золотой медалью. Высшего образования, которое дало бы ему возможность сделать "блестящую карьеру", он не получил. Но и без "диплома" он занимал впоследствии высокие административные посты и дослужился до товарища министра просвещения.
Мария Николаевна, очутившись в большом, по масштабам Сибири, городе, поставила свой дом на широкую ногу, стараясь вести светский образ жизни, который она едва вкусила до замужества. Визиты, балы - всё это мало интересовало стареющего декабриста. Большую часть времени он проводил в деревне, поближе к крестьянам, среди которых у него было много друзей.
Десять лет прожили Волконские в Иркутске. В июне 1855 г. дочь Сергея Григорьевича Елена обратилась с просьбой резрешить ей и матери, чьё здоровье всё ухудшалось, поехать в Москву для консультации с врачами. Разрешение было получено. Мать и дочь выехали в Москву 6 августа. Волконский проводил их до Красноярска и вернулся в свой опустевший дом. Ему предстояло прожить в нём ещё целый год.
26 августа 1856 г. последовал царский Манифест о помиловании декабристов. Волконскому возвращались "все права потомственного дворянина, только без почётного титула, прежде им носимого, и без прав на прежнее имущество, с дозволением возвратиться с семейством из Сибири и жить, где пожелает в пределах империи, за исключением С.-Петербурга и Москвы, под надзором". Этот Манифест был привезён в Сибирь из Москвы по личному распоряжению нового царя Александра II Михаилом Волконским.
Жить в Москве Волконскому запрещалось - формально он жил в деревне Зыково Московской губернии, а фактически - в Москве, сначала на Спиридоновке, а затем в собственном доме дочери Е.С. Молчановой.
В 1826 г. Сергей Григорьевич завещал свои родовые имения за исключением 7-й части, сыну Николаю. После его смерти они должны были вернуться обратно в род. Братья Волконского Никита и Николай после смерти первенца Сергея Григорьевича отказались от причитавшихся им наделов в пользу семьи декабриста. Братья также завещали своим сыновьям Александру Никитичу и Василию Николаевичу не пользоваться чужим достоянием, а передать их Сергею Григорьевичу.
Годы, проведённые в Сибири, сказывались на здоровье Марии Николаевны и Сергея Григорьевича. Волконская умерла в 1863 г. в возрасте 57 лет в селе Вороньки Козелецкого уезда Черниговской губернии, в имении второго мужа дочери, Н.А. Кочубея. Через два года там же умер и С.Г. Волконский.
Метки: ЖЗЛ россия декабристы волконские |
Никита Кирсанов. "Декабрист Валериан Голицын" (часть 2) |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Около трёх лет провёл Валериан в Киренске. В 1829 году последовала царская "милость" - он был зачислен рядовым в 42 егерский полк, а через полгода переведён в 9 Кавказский линейный батальон, который располагался в Астрахани. При назначении его на службу командирам Кавказского корпуса предписывалось от 17 ноября 1829 г. иметь за Голицыным "тайный и бдительный надзор". Командир батальона полковник Бланжиевский в своём рапорте от 21 января 1833 г. так описывал службу декабриста в Астрахани: "В батальоне за ним был учреждён тайный надзор, и ежедневно я имел в виду о всех занятиях его в отправлении службы и вне оной. Во время службы рядовой Голицын наравне с прочими нижними чинами в очередь на службу наряжали в караул, на главную гауптвахту, к провиантским бунтам, в таможню и в тюремный замок; стоял (он) на установленных постах очередные часы; дневальным по роте; на ротных и батальонных учениях со всеми вместе выводом был, все обязанности исполнял с ревнстью и усердием, вёл себя хорошо, свободу же имел, как и прочии чины, и ничего противного законам за ним я не замечал".
12 ноября 1832 года дежурный генерал военного министерства генерал-адъютант Клейнмихель сообщил астраханскому военному губернатору Пяткину, что "Государь император повелел осуждённого приговором Верховного уголовного суда Валериана Голицына" выслать из Астрахани в Грузию, отправить его в Тифлис "со всеми о нём сведениями к командиру отдельного Кавказского корпуса". Бумагу эту губернатор получил 27 ноября и на другой день сделал распоряжение "не мало не медля исполнить оное поручение". Но николаевская бюрократическая машина часто сама попадала в ловушки, изобретённые ею для других. Когда командир Голицына обратился к коменданту Ребиндеру с просьбой выписать подорожную для отправления Голицына и обеспечить прогонными деньгами его конвой, то комендант заявил, что нижним чинам прогоны не выдаются, и пускай Голицына отправят "по средствам внутренней стражи, предписав им иметь за ним в пути ближайший надзор". Бланжиевский в ответ на такое предписание рапортовал, что "будучи по преступлению своему важным, он не подлежит в разряд обыкновенных арестантов, пересылаемых посредством внутренней стражи". Только "важность" преступника убедила Ребиндера "в необходимости отправления его под надзором благонадёжного унтер-офицера". Лишь 10 декабря были доставлены прогоны. В это время Голицын простудился и заболел. "Освидетельствовав" его вместе с ротным командиром, полковник Бланжиевский из чувства сострадания к больному, чтобы не подвергать его здоровье опасности при столь дальней дороге и к тому же зимой, оставил Голицына впредь до выздоровления в местном околотке, где лечил его доктор Суворов.
О такой "поблажке" государственному преступнику узнал губернатор. Считая подобный поступок ослушанием царского повеления и сделав за это командиру батальона строгий выговор, он предписал ему 16 декабря "с получением сего, без малейшего отлагательства времени отправить сего рядового к месту служения, донеся в то же время мне о часе его выбытия для представления нынешнею почтою военному министру гр. Александру Ивановичу Чернышёву". Пришлось выполнять столь строгое распоряжение и на следующий же день в 8 часов утра отправить преступника "в том же болезненном состоянии" под конвоем унтер-офицера Ростова.
Конечно, весть о задержании Голицына в Астрахани достигла Петербурга. Военный министр писал генералу Пяткину: "до сведения государя императора дошло" не только то, "что рядовой Голицын, после объявления ему высочайшей воли, оставался давнее время в Астрахани и пользовался свободою", но ещё "и сделал значительный долг, простирающийся до 2 тысяч рублей". Граф не постеснялся добавить собственноручно: "сверх 3000, прежде сего им издержанных".
Теперь, естественно, мчатся фельдъегеря с одного конца страны на другой с перепиской относительно долгов Голицына. От батальонного командира опять требуют объяснений "по какой причине отправлен он не тотчас, у кого именно и сколько занял денег и какое из них сделал он употребление?"
Все обвинения оказались ложными, ни на чём не основанными. Подтвердив причину задержки перепиской с комендантом и медицинским актом, бывший командир Голицына донёс губернатору, что "во время службы денежных долгов (он) не делал. По разведывании, у купцов и маклеров не занимал, не делал никаких расходов, потому что не имел из чего; по векселям частным распискам и на верное слово ни у кого не занимал и, наконец, по служении его в батальоне жалоб и претензий ни на малейшую сумму и ни по каким случаям, как словесным, так и письменным - (я) не получал". Эти сведения подтвердило также губернское правление.
Вся переписка (на 26 листах) была отослана в столицу. Видимо, она вполне удовлетворила военного министра, так как больше распоряжений в Астрахань не поступало. А больной Голицын, не подозревая о том, что задал столько работы канцелярии, ехал в сопровождении унтер-офицера в пехотный графа Паскевича полк.
В середине января 1833 года декабрист прибыл в урочище Царские Колодцы, где располагался полк. Царские Колодцы, находившиеся в 120 верстах от Тифлиса, представляли собой солдатскую слободу, вытянувшуюся вёрст на шесть. В слободе находилось несколько каменных домов, до ближайшего грузинского селения было 20 вёрст.
В этом заброшенном уголке Грузии Голицын совершенно неожиданно для себя встретил своего знакомого по Петербургу, декабриста с причудливой и печальной судьбой - А.О. Корниловича. Александр Осипович Корнилович занимался литературой, в то же время это единственный среди декабристов специалист-историк, черпавший свои исторические сведения в государственных архивах. Статьи Корниловича на исторические темы свидетельствуют о его разносторонних интересах. Его перу принадлежит ряд работ по истории России XVII века, но больше всего Корниловича привлекала эпоха Петра I. Ряд очерков, помещённых в журналах и в "Полярной звезде", издававшейся Рылеевым и Александром Бестужевым, завершился изданием А.О. Корниловичем альманаха "Русская старина" (1824 г.) с посвящением памяти Петру I. В этом сборнике помещены четыре статьи Корниловича о быте петровского времени, об ассамблеях и о личности Петра I. Сочинения Корниловича о Петре I были использованы А.С. Пушкиным при написании романа "Арап Петра Великого". Пушкин использовал и другие работы Корниловича при создании своих произведений, в частности, переводы Корниловичем сочинений голландца Стрюйса о восстании Разина, "Жизнеописание Мазепы" при написании "Полтавы".
Членом тайного общества Корнилович стал в 1825 году, но принимал в нём довольно активное участие. Верховный уголовный суд приговорил его к лишению дворянства и 12 годам каторги. После срок был сокращён до 8 лет. В марте 1827 года Корнилович был уже в Читинском остроге.
Однако в Сибири он был недолго. Менее чем через год фельдъегерь, привезший декабриста Вадковского, забрал с собой Корниловича в столицу. Причиной быстрого возвращения из Сибири был донос Фаддея Булгарина в III отделение, в котором он писал о своих подозрениях относительно связи декабристов с австрийским правительством. Это могло казаться правдоподобным, тем более что князь С.П. Трубецкой был женат на графине Лаваль, сестра которой была замужем за австрийским послом в Петербурге графом Лебцельтерном. По словам Булгарина, секретарь посольства Гуммлауэр подружился с Корниловичем. Последнего Булгарин рисовал как ветренного и болтливого молодого человека, через которого австрийский посол и его секретарь выведывали сведения о разных лицах. Доносу Булгарина был дан ход. Таким образом, Корнилович опять оказался в Петербурге. 15 февраля 1828 года он был доставлен в Петропавловскую крепость. Он дал подробные письменные показания о встрече с австрийским послом и его секретарём, сношения с которыми ограничивались светскими встречами и невинными разговорами. Объяснение Корниловича, написанное в крепости, по-видимому, показалось убедительным для Николая I.
Неделю спустя Корнилович написал свою первую записку, в которой предлагал поручить ему составить историю России, начиная с эпохи Петра I, с выяснением различных проектов, выдвинутых в своё время, но затем забытых, осуществление которых могло бы быть полезно в будущем.
В апреле того же года он представил вторую записку с проектами мер для повышения нравственности в семейной жизни крестьян, в том числе об учреждении приходских училищ. Николай I распорядился "дозволить ему писать что хочет" и вместе с тем поручил ему описать, "каким образом обходятся с каторжниками в Чите". Корнилович в своей новой записке подробно и правдиво описал положение декабристов на каторге. Эту записку читал Николай I, и, на основании её, разрешено было снимать кандалы с декабристов, "кто этого своей кроткостью заслуживает".
Затем Корнилович представил одну за другой записки о положении в польских губерниях, о мерах к развитию русской торговли в Азии, об улучшении положения сельских священников, о русско-персидских делах. Всего за время заключения в крепости декабрист написал 23 различные записки. Бенкендорф распорядился присылать ему газеты, некоторые журналы и книги. Корнилович, очевидно, надеялся, что его проекты помогут его освобождению. Он просил о разрешении участвовать в походе против турок, но просьба успеха не имела. Ему разрешили писать матери, сёстрам, брату.
В крепости он написал повесть из эпохи Петра I "Андрей Безыменный". Об этом Бенкендорф доложил Николаю I, в результате чего повесть была напечатана отдельной книжкой в типографии III отделения и вышла в свет без имени автора и ограниченном количестве экземпляров. В крепости Корнилович занимался переводами Тита Ливия и Тацита.
Заключение Корниловича в крепости, по его словам, было значительно более тяжёлым, чем сибирская каторга. Оно продолжалось четыре с половиной года. В ноябре 1832 года он был отправлен на Кавказ, будучи назначен рядовым в пехотный графа Паскевича-Эриванского полк, стоявший в Царских Колодцах. Корнилович ехал на Кавказ, полный надежд и литературных планов, но очень скоро он писал брату в письме: "Ну уж сторонка, в которую судьба меня забросила. Подлинно Южная Сибирь! и климат, и жители - одно к одному. Думаю даже, что жизнь в Сибири гораздо предпочтительнее". Солдатская лямка везде была тяжела. Постепенно крепло убеждение, что из этого состояния можно вырваться только ценой крови, только в бою можно было получить офицерское звание и отставку.
Корнилович искренне обрадовался прибытию Валериана Голицына. Уже в январе 1834 года Корнилович писал в письме к матери: "На счастье моё, встретил здесь своего товарища по несчастию Голицына (кн. В.М.), с которым вместе живу. Таким способом в компании с ним время веселее провожу, и дешевле стоит жизнь. В настоящее время живу в тесноте, в крестьянской избе, где двум с трудом можно повернуться. Но это ненадолго, скоро переедем в другое помещение, где нам будет просторнее". Такой же радостью полно и письмо к старшему брату Михаилу, написанное в мае: "Я, любезный мой, совершенно праздную, от утра до вечера на боку, читаю старые журналы, за недостатком новых. К счастью, нашёл здесь товарища в несчастии Голицына, пострадавшего вместе со мною по одному делу, хорошего, умного человека, с которым вместе тянем горе. Без него я совершенно бы зачерствел".
Корнилович и Голицын в какой-то мере были интеллектуальным центром в Царских Колодцах. Они превосходили окружающих по уму и образованию, поэтому большинство офицеров старались поддерживать с ними знакомство. Дом, в котором жили эти "нижние чины", стал своеобразным клубом - всегда кто-то приходил побеседовать. Частые посещения становились даже в тягость, особенно Корниловичу, который вообще был менее общительным, и его замкнутость ещё больше усилилась в крепости. К тому же частые посетители не давали работать. Сначала друзья жили вместе, но потом Голицын купил себе избу, тем самым несколько улучшил бытовые условия и свои и Корниловича. Встречались они по-прежнему каждый день. Корнилович и ещё несколько опальных офицеров (Хвостов, Райко) составили тот круг близких друзей, в среде которых проходили грустные дни нелёгкой солдатской службы на Кавказе.
В этой отупляющей однообразной жизни, где каждый день похож на предыдущий, так же как и годы сливались в вереницу одинаковых дней, иногда являлась нечаянная радость, когда появлялся какой-нибудь старый товарищ, подобно тому, как в один из весенних дней 1834 года в солдатской слободке неожиданно оказался декабрист и писатель Александр Бестужев-Марлинский. Друзья не знали, куда усадить желанного гостя, чем угостить, а, главное, говорили день и ночь напролёт, слушали друг друга и не могли наслушаться. Но такие события случались крайне редко. Чаще всего серые будни солдатской службы, тревоги, разговоры о предстоящих экспедициях в Персию или против горцев. Хотя часто эти экспедиции кончались смертью от пули горца, как это случилось через три года с Бестужевым-Марлинским или смертью от малярии, которая через пять лет погубила поэта Александра Одоевского, военных действий желали, их ждали, так как это была единственная возможность освободиться от солдатской шинели, а затем и вообще получить свободу.
1 августа 1834 года полк, в котором служили Корнилович и Голицын, отправился в поход в Дагестан. Путь до города Кубы друзья проделали вместе, а затем Корнилович получил приказ, что он поступает в распоряжение генерала Ланского. 25 августа Корнилович заболел лихорадкой, которая быстро прогрессировала. 29 августа ему стало совсем плохо. Голицын всё это время находился возле больного друга. Позже в письме к брату Корниловича, Михаилу, Валериан писал: "Видя, что болезнь усиливается, я пригласил ещё другого лекаря... Я находился при нём до 9 часов, он находился без памяти...", в 11 часов Корниловича не стало. "...30 числа, отпев его по обряду греко-российскому", совершили погребение "не блистательно, но торжественно". Могила его "по правую сторону дороги, ведущей из Дербента в Торки и на самом берегу Самура..."
Далее Голицын пишет: "Я хотел, чтобы место могилы Александра Осиповича не было утрачено, и велел насыпать груду камней и поставить деревянный крест. На возвратном пути я опять нашёл его в целости, но так как наш скромный памятник стоит на большой дороге, на поле, где жители сеют хлеб, то плуг ского сравняет это место. Зная расположение полковника Ховена к вам и покойному, я просил его поставить какой-нибудь камень с надписью". После смерти Корниловича вещи и бумаги его остались у Голицына.
Смерть друга потрясла Валериана. Ему хотелось сохранить память о своём товарище, перенеся любовь к нему на его близких. Он обращается к М.О. Без-Корниловичу: "Начатое по столь горестной причине знакомство, я надеюсь, продолжится в более приятных обстоятельствах, по крайней мере, это моё искреннее желание, ибо я очень любил вашего братца и не могу оставаться равнодушным к тем, кого он любил и которые его любят, а поэтому прошу Вас принять в число ваших знакомых и Валериана Голицына".
А тем временем "по воле его величества" декабрист вновь переводится в новый для него Кабардинский егерский полк, принимавший активное участие в войне с горцами. В 1835 году Валериан Михайлович участвует в экспедиции за Кубань.
В Кабардинском полку служило много декабристов. С 1829 по 1836 год в нём служил Н.П. Окулов, а с 1837 по 1843 год - М.А. Назимов, вместе с последним туда же прибыл А.И. Вегелин. К сожалению, мы ничего не знаем о взаимоотношениях Валериана с этими декабристами. Даже неизвестно, были ли знакомы Окулов и Голицын, хотя это не исключено.
Отношение многих офицеров к Голицыну было гуманным. Декабрист впоследствии с благодарностью вспоминал генерала Николая Николаевича Раевского, сына героя войны 1812 года. Несмотря на разницу в чине, он обращался с Валерианом Михайловичем по-дружески, приглашал к себе обедать и проводить вечера.
Современники отмечали, что Голицын несмотря на свой ум, очень дорожил своим аристократическим происхождением, и ему было приятно, когда его называли князем. Декабрист Н.И. Лорер, встречавшийся с Голицыным в конце 1850-х годов, писал: "В князе Валериане Михайловиче было много странного, и при всём его либерализме, он был аристократ до мозга костей".
Аристократизм Голицына принял такие болезненные формы, очевидно, под влиянием ссылки и службы на Кавказе. Своей солдатской шинелью он явно тяготился. В 1835 году он был произведён в унтер-офицеры (4.06.1835), а через два года получил звание прапорщика (31.05.1837). Голицын не мог скрыть удовольствия, что снова может одеть тонкий сюртук вместо толстой шинели.
Летом 1835 года Голицын впервые посетил Пятигорск, а впоследствии некоторое время жил в Ставрополе, возле которого располагался Кабардинский егерский полк. Здесь он, ещё будучи унтер-офицером, посещал вместе с декабристом С.И. Кривцовым дом Н.М. Сатина и Н.В. Майера. Сатин во время учёбы в Московском университете близко сошёлся с Герценом и Огарёвым, стал участником их студенческого кружка. В 1835 году он вместе с ними был арестован и сослан в Симбирскую губернию, а через два года по болезни переведён на Кавказ, где познакомился со многими декабристами. Он следующим образом характеризовал Валериана Михайловича: "замечательно умный человек". Споры с ним были самые интересные: мы горячились, а он, хладнокровно улыбаясь, смело и умно защищал свои софизмы и большею частию, не убеждая других, оставался победителем".
Один из постоянных посетителей квартиры Майера офицер Генерального штаба Г.И. Филипсон вспоминал потом об этом времени: "Через Майера и у него я познакомился со многими декабристами, которые по разрядам присылались из Сибири в войско Кавказского корпуса. Из них князь Валериан Михайлович Голицын жил в одном доме с Майером и был нашим постоянным собеседником. Это был человек замечательного ума и образования. Аристократ до мозга костей, он был бы либеральным вельможей, если бы судьба не забросила его в сибирские рудники. Казалось бы, у него не могло быть резких противоречий с политическими и религиозными убеждениями Майера, но это было напротив, оба одинаково любили парадоксы и одинаково горячо их отстаивали. Спорам не было конца, и иногда утренняя заря заставала нас за нерешёнными вопросами".
Майер - это доктор Вернер из "Героя нашего времени". Портретное сходство полное. Оно прослеживается по линии и внешнего и внутреннего сходства, вплоть до мелочей. Майер был настолько своеобразен, ярок и привлекателен, что многие его черты Лермонтов перенёс нетронутыми в роман.
В Ставрополе Лермонтов очутился в декабре 1837 года, когда возвращался из первой своей кавказской ссылки. Он сразу оказался в атмосфере оживлённых споров на квартире у Майера и Сатина. Ставропольские встречи и разговоры нашли своё отражение в романе "Герой нашего времени". В дневнике Печорина можно прочитать: "Я встретил Вернера в С. среди многочисленного и шумного круга молодёжи; разговор принял под конец вечера философско-метафизическое направление; толковали об убеждениях: каждый был убеждён в разных разностях". Это очень перекликается с рассказами Сатина и Филипсона.
Лермонтов с Майером и Голицыным был знаком раньше. С последним он познакомился летом 1837 года в Пятигорске, где Голицын был в отпуске и лечился на водах. В книге ванных билетов от 24 мая 1837 года записано: "выдано 10 билетов унтер-офицеру Валериану Голицыну". Когда Лермонтов проездом в Петербург задержался в Ставрополе, он, вероятно, встретил в кружке декабристов и своего знакомого - В.М. Голицына.
М.Ю. Лермонтов, был знаком и с младшим братом Валериана - Леонидом, который когда-то служил в лейб-гвардии Гусарском полку. На одном из листов альбома рисунков Лермонтова есть записи, сделанные его рукой, очевидно, адреса знакомых: "Аквердова - на Кирочной, графиня Завадовская, Леонид Голицын в доме Ростовцева".
В дневнике у В.А. Жуковского есть запись, свидетельствующая о встрече Лермонтова и Леонида Голицына: "5 ноября 1839, воскресенье. Обедал у Смирновой. Поутру у Дашкова. Вечер у Карамзиных. Князь и княгиня Голицыны и Лермонтов". Женой Л.М. Голицына была внучка М.И. Кутузова - Анна Матвеевна Толстая.
Жизнь в Сибири, служба на Кавказе подорвали здоровье Валериана Михайловича. 22 июля 1838 года он был уволен с военной службы и должен был отправиться в Астрахань, но 17 сентября этого же года ему было разрешено служить по гражданскому ведомству на Кавказе. Голицыну удалось остаться в ставшем для него родным Ставрополе, он был зачислен в штат "Общего Кавказского областного управления". Но на "статской службе" был он недолго: кавказский климат не действовал на него благотворно, и в 1839 году Голицына уволили со службы по болезни.
После 14 лет ссылки и службы опять на свободе. Хотя это скорее была какая-то "полусвобода", так как за ней стояли "голубые мундиры". Хотелось скорее уехать с Кавказа. В это время произошла встреча его с Лорером, который запечатлел этот момент в следующих строках: "Мрачный ноябрь месяц наступил, и я почти безвыходно сижу в своей лачужке. Однажды утром слышу знакомый голос, осведомляющийся обо мне, и через несколько минут обнимаю моего дорогого товарища князя Валериана Михайловича Голицына, который наконец получил отставку и едет, счастливец, к матери и братьям. Как истый москвич, после первых дружеских объятий, он потребовал чайку. Я послал сказать Ромбергу, что буду у него обедать с товарищем, угостил покуда приятеля чаем из самовара, а он мне успел передать все затруднения, которые ему делали при получении отставки. И меня, стало быть, ждёт подобная же участь! Заботою Голицына в настоящее время было - как бы переправить в Керчь свою карету. Я взялся похлопотать об этом и, пригласив к себе Дорошенку, просил его помощи и содействия. Он обещал достать большую шаланду, но требовал терпения и согласия князя выждать более благоприятной погоды. Волею и неволею надо было согласиться, но ненадолго: ибо на другой же день всё было исполнено, и карету до Тамани перевезли на волах, а там поставили на большую лодку с 6-ю человеками гребцов. На берегу я простился с этим милым человеком и весело возвратился к себе в лачужку, радуясь, что и ещё один из наших свободен и после 17 лет несчастной ссылки возвращается на родину".
Местом жительства Голицыну был назначен Орёл. Царь не мог, конечно, оставить своего "друга" без внимания. За Голицыным был установлен секретный надзор. Только через год ему разрешили на лето поехать в местечко Хиславичи Могилёвской губернии, где находилось имение сестры графини Екатерины Михайловны Салтыковой (29.09.1808-9.12.1882).
Валериану Михайловичу не разрешили даже ездить в Москву, где жила мать. Наталья Ивановна очень любила своего сына. Когда он был в Сибири, она почти каждый день писала ему письма, а после перевода сына на Кавказ - каждый год ездила в Астрахань или Пятигорск, чтобы провести с ним несколько недель.
Когда княгиня Голицына ездила к сыну на Кавказ, она брала с собой двоюродную племянницу, княжну Дарью Андреевну Ухтомскую (19.03.1824-24.12.1871), которую воспитывала у себя как родную дочь, и даже любила её больше родной дочери. Княжна Долли, как звала её тётка, не была красавицей, но её весёлость и обаяние производили очень приятное впечатление. Валериан влюбился в молодую княжну, но старая княгиня была против этого брака сына. Княжна Ухтомская, верная своей любви к ссыльному, отказывала всем женихам. Только через год после смерти матери он получил разрешение приехать в Москву, чтобы 23 января 1843 года обвенчаться с княжной Долли.
Валериану Михайловичу было уже без малого сорок лет. Тотчас после свадьбы молодые поселились в имении при селе Архангельское-Хованщина Епифановского уезда Тульской губернии, где прожили десять лет и где родились их дети: Леонилла (р. 28.12.1844), впоследствии бывшая замужем за Иваном Александровичем Сипягиным и Мстислав (28.10.1847-26.03.1902), к которому как к внучатому племяннику (21.05.1863) перешёл майорат с добавлением титула графа Остермана-Толстого. Мстислав Валерианович был женат (с 30.06.1869) на Амалии Ивановне Лоренц (р. 25.10.1851). Скончался и был похоронен в селе Красное Рязанской губернии.
Живя в Архангельском-Хованщине, В.М. Голицын очень сблизился с жившим в 15 км Иваном Артемьевичем Раевским. Жена последнего, Е.И. Раевская, так описала внешний облик декабриста: "Валериан Голицын был среднего роста, хорошо сложен. Лицо его было смуглое, нос орлиный, волосы чёрные, как смоль, бороду брил, усы носил немного подстриженными. Большие его чёрные глаза (как тогда говорили "бибиковские") глядели прямо и строго, но любовь его к семье смягчала иногда до нежности эту обычную строгость. В молодости он, вероятно, был очень хорош собой... Характера он был прямого, правдивого, высказывал своё мнение без утайки. На его дружбу можно было положиться".
В деревне Валериана Михайловича посещали образованные мыслящие люди, проживавшие в окрестностях и близкие ему по взглядам. Здесь их ждала богатая библиотека, почти все отечественные и иностранные газеты и журналы, которые можно было получить в России, и, конечно, умный, несколько парадоксальный собеседник.
Е.И. Раевская рассказывает, что собиравшиеся у Голицына обсуждали и вопросы об отмене крепостного права. Само собой разумеется, что проекты, которые обсуждались, предусматривали отмену крепостного права сверху и в интересах помещиков, но в николаевское время даже разговоры о "крестьянском деле" допускались только в специальных секретных комитетах.
В 1853 году Голицыну разрешено было проживать в Москве, но под строгим надзором, от которого он был освобождён лишь в марте 1856 года, а в августе ему и детям был возвращён княжеский титул с освобождением от всех ограничений.
В.М. Голицын всегда любил Россию. Во время Крымской войны декабрист очень остро переживал неудачи русской армии. Он хотел даже предложить помещикам сформировать за свой счёт батальоны.
После амнистии многие декабристы поселились в Москве или в ближайших губерниях. В первопрестольной Голицын встресался с А.П. Беляевым, Н.И. Лорером, П.С. Бобрищевым-Пушкиным, Н.В. Басаргиным, М.И. Муравьёвым-Апостолом. Недалеко от Архангельского поселился в усадьбе Высокое М.М. Нарышкин, приезжавший часто к Валериану Михайловичу. В Калуге Голицын посещал Е.П. Оболенского, с которым у него было много общего во взглядах.
Валериан Михайлович был разумным хозяином, свои дела вёл аккуратно, жил по средствам. После смерти своего дяди бездетного графа А.И. Остермана-Толстого в 1857 г. В.М. Голицын по завещанию получил огромное наследство. Ему досталось до 70 тысяч десятин земли в разных губерниях, но везде царил страшный беспорядок, дела были запутаны, так как герой 1812 года жил постоянно за границей, а имения находились в полном распоряжении управляющих. До 1857 года имениями А.И. Остермана-Толстого сначала управлял Александр Голицын, а затем Леонид Голицын, которому Остерман-Толстой передал имения, не входившие в майорат, в том числе подмосковную усадьбу Ильинское. Однако, Л.М. Голицын, оказался неважным управляющим.
Валериан Михайлович стал вникать во все дела, пытаясь наладить их. Он предпринял в 1859 году поездки по своим поместьям, но в имении Матоксе Шлиссельбургского уезда (ныне деревня в Куйвозовском сельском поселении Всеволожского района Ленинградской области) неожиданно заболел холерой. В.М. Голицын успел только написать письмо Я.И. Ростовцеву, с которым был в дружеских отношениях. Он просил Ростовцева оказать поддержку семье. Валериан Голицын, любимый женою и детьми, всегда окружённый друзьями, умер 8 октября 1859 года, в глуши среди болот, в присутствии слуги. Похоронили его в Москве в родовом склепе на кладбище Данилова монастыря, однако, в советское время кладбище было упразднено и могила декабриста оказалась утраченной...
Метки: ЖЗЛ россия декабристы голицыны |
Никита Кирсанов. "Декабрист Валериан Голицын" (часть 1). |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]

Отец декабриста М.Н. Голицын - потомок древнего княжеского рода. К XIX веку этот род стал очень разветвлённым, но князья продолжали играть значительную роль в управлении государством. Родной брат Михаила Николаевича, Александр Николаевич (8.12.1773-4.12.1844), с детства был другом великого князя Александра Павловича, поэтому после воцарения последнего стал обер-прокурором Синода (1803). Под стать своему царствующему другу, обер-прокурор увлекался религией и мистикой. Мистические настроения особенно овладели князем после 1812 года, когда он стал возглавлять Российское библейское общество. С 1816 года А.Н. Голицын занимал пост министра просвещения, а через год возглавил объединённое министерство духовных дел и народного просвещения, которое Н.М. Карамзин называл министерством "затмения".
Период управления Голицына характерен душной атмосферой мистицизма и мракобесия. Достаточно сказать, что среди сотрудников министра находились такие личности, как М.Л. Магницкий и Д.П. Рунич. Политика А.Н. Голицына вызывала недовольство православной церкви. Дело дошло даже до публичного скандала в салоне графини Орловой-Чесменской, когда архимандрит Фотий прокричал "анафему" министру. Ревностный сын православной церкви, обер-прокурор святейшего Синода и министр духовных дел был предан самому страшному для христианина проклятию. Положение Голицына пошатнулось, и в 1824 году, вследствие происков Фотия и А.А. Аракчеева, он вынужден был подать в отставку. "Без лести предан" видел в Голицыне своего соперника по влиянию на царя. Об огромном доверии Александра I своему министру говорит хотя бы то, что он вместе с Аракчеевым и митрополитом Филаретом принимал участие в составлении Манифеста об отречении от престола Константина Павловича. Рукой Голицына была даже написана довольно мудрёная заключительная фраза Манифеста: "О нас же просим всех верноподданных наших да они с любовью, по которой Мы в попечение о них непоколебимом благосостоянии полагали Высочайше на земли благо, принесли сердечные мольбы к Господу и Спасителю Нашему Иисусу Христу о принятии души Нашей, по не изречённому Его милосердию, в Царствие его вечное". Голицын также сделал копии с этого Манифеста, которые и были разосланы в Государственный Совет, Сенат и Синод. Как известно, этот Манифест содержался в глубокой тайне.
В период "междуцарствия" А.Н. Голицын поддерживал Николая I и настаивал, чтобы тот исполнил волю своего брата, выраженную в Манифесте от 16 августа 1823 года. Позднее Голицын управлял почтовым ведомством.
Всю жизнь А.Н. Голицын провёл холостяком и был известен своей нетрадиционной сексуальной ориентацией. Н.М. Языков в письме 1824 года приводит анекдот, "будто бы государь призывал к себе известного содомита В.Н. Бантыш-Каменского и приказал ему составить список всех ему знакомых по этой части, что Бантыш-Каменский представил ему таковой список, начав оный министром просвещения, потом стоял канцлер и так далее... Он имел после этого аудиенцию у государя и удостоверил его клятвенно в истине своего донесения". А.С. Пушкин высмеял Голицына в эпиграмме "Вот Хвостовой покровитель..." Знаменитый мемуарист и сам гомосексуал Ф.Ф. Вигель вспоминает о Голицыне ещё более непристойно: "Не краснея, нельзя говорить об нём, более ничего не скажу: его глупостию, его низостию и пороками не стану пачкать страниц".
Михаил Николаевич Голицын (19.06.1756-3.04.1827) не занимал таких постов, как его брат, но тоже стоял значительно высоко на служебной лестнице. В 1802 году он был назначен Ярославским губернатором, пост которого занимал четырнадцать лет. В отличие от своего брата, обер-прокурора, губернатор не очень увлекался мистикой, хотя и отдавал дань моде (да и с ориентацией у него "всё было в порядке"). Его больше занимали дела по управлению губернией - это ведь было напряжённое время войн с Наполеоном, а затем последовала Отечественная война 1812 года, и М.Н. Голицыну пришлось заниматься организацией госпиталей, ополчением, размещением беженцев и т.п. На организацию ополчения губернатор пожертвовал пять тысяч рублей из своих доходов. Война принесла горе и князю - в Бородинском сражении погиб его 22-летний сын Николай.
Во время правления Голицына в Ярославле были открыты "Ярославское Демидовское высших наук училище", гимназия, "Общество любителей российской словесности" и типография при губернском правлении.
Князю Михаилу Николаевичу не везло в семейной жизни. Ему не было ещё и сорока лет, когда умерла его вторая жена - Федосья Степановна Ржевская, воспитанница первого выпуска Смольного института. По приказу Екатерины II она была запечатлена Левицким, который изобразил её танцующей. Похоронив жену в Толгском монастыре, князь Михаил Николаевич отправился исполнять свои служебные обязанности в Эстляндию, где он был тогда вице-губернатором. Вскоре он женился третий раз. Его женой стала Наталья Ивановна Толстая (18.07.1771-24.11.1841), сестра А.И. Остермана-Толстого, героя войны 1812 года, прославившегося особенно во время заграничных походов (Кульм). "Княгиня Наталья Ивановна, - писала о ней одна из родственниц, - была, в своём роде, замечательная женщина по уму, самостоятельному характеру и оригинальному обращению в обществе". Уже в Ярославле от этого брака 23 сентября 1803 года у Голицыных родился второй сын - Валериан. Очевидно, будущий декабрист родился в губернаторском доме, который находился тогда на углу Которосльной набережной и Духовской улицы (ныне улица Республиканская). Здание находилось напротив факультета иностранных языков пединститута, ближе к реке. В 1820-е годы, когда губернатор переехал на Волжскую набережную, здание пришло в ветхость, а в 1840-е годы от него остались одни развалины. Сохранился чертёж этого здания, выполненный по приказу Ярославского гражданского губернатора М.Н. Голицына в 1809 году.
У Валериана было ещё два брата: старший - Александр (1798-1858), в аристократическом свете известный под прозвищем "Серебряный". Одно время у него были сомнения в истинности православия, и он перешёл в католичество. В 1820-е годы довольно часто думающая молодёжь пыталась истолковать отрицательные стороны русской действительности косностью православия, его зависимостью от бюрократического государственного аппарата. Многим казалось, что духовное освобождение можно найти в лоне независимой могущественной католической церкви. Даже такой яркий и оригинальный ум, как Чаадаев, тоже был очарован католицизмом, а для молодого мыслителя Печерина это даже кончилось поступлением в монашеский орден. У Александра Голицына колебания между католицизмом и православием кончились в пользу отечественной религии. В этом сыграл определённую роль и митрополит Филарет, написавший в 1820-х годах специально для князя "Серебряного" "Разговор между испытующим и верующим", в котором ополчился против векового врага православной церкви - "папежства". Впоследствии Александр Голицын довольно успешно служил, стал статским советником и возглавлял почтовое ведомство в Варшаве.
Младший брат декабриста - Леонид Михайлович (15.02.1806-23.02.1860) - служил в гвардии. Во время войны с Турцией в 1828 году он был адъютантом Дибича. Голицын принимал участие в подавлении восстания в Польше в 1831 году, где был тяжело ранен, после чего вышел в отставку.
М.Н. Голицын принадлежал к состоятельным дворянам. У него были имения в Ярославском, Ростовском, Пошехонском, Ветлужском, Ливенском, Епифанском уездах. По седьмой ревизии (1815 г.) Ярославскому губернатору только в управляемой им губернии принадлежало 748 душ мужского пола. К моменту восстания декабристов имения Голицына значительно возросли. В 1822 году Михаил Николаевич купил с торгов у статского советника М.А. Майкова за 34750 рублей в Ярославском уезде сельцо Горки, Копытово, Поратки, деревни Чебакино, Тантыково, Починки, Михино, Поповку, Савкино. В начале XIX века князю Голицыну принадлежало также село Карабиха, возле которого была построена усадьба. После смерти старого князя в 1827 году усадьба перешла к его сыну Леониду, у вдовы которого Анны Матвеевны и их дочери Екатерины Леонидовны и приобрёл усадьбу Н.А. Некрасов.
В первой половине XIX века барский дом в Карабихе выглядел иначе, чем теперь. По семейным преданиям Голицыных, план усадьбы составил тот же архитектор, который строил и подмосковное Ильинское, принадлежавшее в начале XIX века А.И. Остерману-Толстому. Барский дом был с антресолями и двумя боковыми флигелями, которые соединялись со средним домом галереями. Вдоль всего фасада пристроены были массивные каменные аркады. В центральной части они достигали уровня второго этажа, т.е. образовывалась терраса с двумя въездами, настолько широкими, что парные экипажи Голицыных подавались прямо под портик к дверям парадного гостиной. За домом начинался английский парк с большими лужайками, беседками, горками, статуями. Ко времени продажи усадьбы Голицыны давно не жили в ней. Постройки обветшали, парк зарос, беседки и мостики развалились, статуи были разбиты.
Н.А. Некрасов приобрёл усадьбу и земли только по правую сторону дороги, а земли по левую сторону остались за Голицыными.
В 1868-1870 годах брат поэта, Фёдор Алексеевич, произвёл ремонт и частичную перестройку ансамбля барского дома. В результате этого ремонта фасад утратил свой первоначальный облик. Интерьер также потерял прежнее великолепие, хотя в кабинете Некрасова оставались ещё кое-какие вещи из голицынских времён - старинная бронза и большой портрет Екатерины II.
Будущий декабрист до 11 лет воспитывался дома, затем с 1814 по 1815 гг. в петербургском Пансионе коллегии иезуитов, а в 1815-1817 гг. пансионе Жонсона. Затем он учился в Москве у профессора Шлецера, сына известного историка Августа Шлецера. В семь лет (29.03.1811) сын губернатора был зачислен формально в привилегированное учебное заведение - Пажеский корпус, где уже учился его старший брат Александр, а затем будет учиться и младший - Леонид. Реально в стенах этого учебного заведения Валериан Голицын оказался в 1819 году.
Постановка образования в Пажеском корпусе не отличалась серьёзностью. Учителя были плохо подготовлены, ни один из них "не умел представить свою науку в достойном её виде и внушить к ней любовь и уважение". Особенно плохо преподавали историю - изучали только античную и русскую. Так как почти все воспитанники происходили из аристократических семей, и отцы которых занимали высокие посты, многое пажам сходило с рук. Поэтому дисциплина в корпусе была слабой - царил дух своеобразного буршианства, процветало своеволие старших по отношению к младшим. Говоря современным языком: в корпусе процветала "дедовщина" и проделки питомцев были очень далеки от невинных. Будущий декабрист А.С. Гангеблов, тоже бывший жертвой этих проделок, рассказывает, что однажды группа пажей решила отомстить своему товарищу. Для этого они заколотили его в бочку, предварительно обмотав голову полотенцем, и под крики "ура" спустили с лестницы.
Но наряду с гусарским духом, воспеваемым Денисом Давыдовым и бытовавшим среди дворянской военной молодёжи, в корпусе среди определённой части пажей господствовал дух свободолюбия и личной независимости. Некоторых не устраивали занятия, где античную историю в основном преподавали для знания мифологии, а французский язык для того, чтобы уметь изъясняться в великосветском обществе. Среди воспитанников распространялась литература, которая явно не рекомендовалась для назидательного чтения. Наконец, в Пажеском корпусе возникло тайное общество "квилки". В основном, в нём занимались самообразованием, но и туда проникали идеи, волновавшие передовых людей России. Руководитель этого кружка, "вольнолюбец до цинизма", по определению Гангеблова, дружил с писателем-декабристом Александром Бестужевым.
В 1820 году, когда В.М. Голицын был уже камер-пажем, в Пажеском корпусе произошёл настоящий "бунт". Поводом послужило наказание воспитанника Арсеньева розгами. Это вызвало возмущение пажей, возглавляемых "квилками". Позже Гангеблов заметил, что "школьный бунт этот был детищем тех же учений, которые привели к декабрьской катастрофе". Хотя руководитель "квилков" А.Н. Креницын по высочайшему повелению был наказан розгами, исключён из корпуса и разжалован в солдаты, случай оставил след и был одной из зарниц грозы 1825 года. Интересно отметить, что уже будучи на Кавказе, Гангеблов, встретившись там с Голицыным, неоднократно в своих разговорах вспоминал тот бунт, о котором он счёл также необходимым сообщить на следствии, "что семя, брошенное в школьную почву, могло бы рано или поздно принести вредные плоды". В такой атмосфере провёл Голицын без малого три года.
26 марта 1821 года князь начал служить в чине прапорщика в знаменитом Преображенском полку. В этом полку он прослужил три года, а 3 февраля 1824 года был уволен поручиком. 2 февраля 1825 года он поступил в Департамент Внешней торговли с переименованием в титулярные советники. Кто мог подозревать, что молодой камер-юнкер - племянник одного из влиятельнейших людей в государстве А.Н. Голицына - уже два года является членом тайного общества?
В Северное общество Валериан Михайлович вступил ещё будучи офицером-преображенцем в 1823 году. Изучая историю Северного общества, можно прийти к выводу, что в этой декабристской организации в период с 1823 по 1825 годы выделилось два крыла: более умеренной программы и тактики - Никита Муравьёв, Сергей Трубецкой, Николай Тургенев, и сторонники революционной программы и особенно тактики - так называемая, "отрасль" Рылеева. Хотя "отрасль" не представляла какой-то особой организации внутри общества, но она объединяла между собой людей, связанных общностью понимания как задач, стоявших перед тайным обществом, так и общих всему движению тактических лозунгов и положений программы. В.М. Голицын по своим взглядам примыкал к "отрасли" К.Ф. Рылеева, хотя лично они встречались редко.
В Северном обществе, в отличие от Южного, не было общепризнанной, принятой программы. Конституция Никиты Муравьёва вызвала в столичной декабристской организации серьёзную критику, которая ещё более усилилась, когда в 1823-1824 гг. члены Северного общества познакомились с программой Южного общества. Революционная решительность и демократические тенденции "южан" встретили сочувствие многих новых членов общества. Взгляды сторонников П.И. Пестеля импонировали Голицыну. В 1823-1824 гг. он вступал в спор с одним из руководителей Северного общества, С.П. Трубецким, перед которым защищал республиканские идеи Пестеля. Одним из пунктов разногласий в области тактики был вопрос о цареубийстве. Опыт французской и испанской революций приводил членов Южного общества к пониманию необходимости одновременного уничтожения всех возможных претендентов на престол как опоры контрреволюции.
На одном из собраний у Оболенского член Южного общества А.В. Поджио сказал декабристам Митькову, Валериану Голицыну и другим, что "покушение на жизнь всей царской фамилии положено первым началом действия общества". Это должно служить сигналом к революционному выступлению. "Отрасль" Рылеева разделяла точку зрения Пестеля. Источники свидетельствуют, что на собрании у Оболенского после слов Поджио об истреблении царской семьи Митьков ответил: "Моё мнение: до корня всех истребить. Валериан Голицын равным образом был с тем согласен". Декабрист Матвей Муравьёв-Апостол подтверждал на следствии, что во всё время его пребывания в 1823 году в столице, "Никита Муравьёв и князь Сергей Трубецкой не были согласны на счёт преступного предложения Южного общества: республики и истребления (царской фамилии). Н. Тургенев, князь Оболенский, Рылеев, Бестужев, Вадковский, Свистунов, Анненков, Депрерадович разделяли сие мнение". Князь Голицын принимал участие в нескольких собраниях (Оболенского, Поджио), где обсуждались как программные документы, так и тактические вопросы. Правда, особой активности князь не проявлял.
Надо сказать, что Валериан Голицын стал главным героем романа Мережковского "14 декабря", но пусть читатель не надеется найти в этом произведении какие-то факты из жизни реального Голицына. Не говоря уже о мировоззрении, которым автор наделил своего героя. Мережковский в качестве исторической канвы взял воспоминания декабриста И.Д. Якушкина.
Арестовали Голицына в январе 1826 года. 24 числа этого месяца он был отправлен в крепость с неизменной запиской: "присылаемого князя Голицына посадить на гауптвахту, содержать строго, но хорошо". Для престарелого Михаила Николаевича это был удар, который стал тяжелее вдвойне, когда в Карабиху пришло известие, что арестован и старший сын, Александр, подпоручик лейб-гвардии пешей артиллерии. Последний был арестован вследствие показаний фон Вольского, сообщившего князю Голицыну ещё в 1823 году о существовании тайного общества. Брат Валериана не изъявил желания сделаться членом этого общества, однако, Матвей Муравьёв-Апостол сообщил на следствии, что на одном из собраний у Поджио наряду с Валерианом присутствовал и "брат его артиллерийский" (имеется в виду, что Александр служил в артиллерии). Якушкин и Михаил Бестужев считали старшего Голицына принадлежавшим к обществу и даже возлагали на него определённые надежды. Михаил Бестужев, рассказывая о восстании на Сенатской площади писал: "Пешая гвардейская артиллерия не соединилась с нами потому, что князь А. Голицын и прочие члены общества по малодушию позволили... себя арестовать". Хотя в рассказе Бестужева много неточностей, и вряд ли всё происходило так на самом деле, но, очевидно, Александр Голицын знал об обществе. Показания главных членов Северного общества были для него благоприятными, и следователи не стали особенно тщательно выяснять обстоятельства связей гвардейского поручика с декабристами. Пробыв под арестом до 20 апреля, А. Голицын был освобождён без каких-либо последствий для своей карьеры.
Младший брат томился на карауле у Петровских ворот Петропавловской крепости в мучительном ожидании своей участи. Сначала Валериан решил всё отрицать, не говорить, что он является членом тайного общества. Но следователи знали слишком много, больше того, чем мог он догадывться. Это стало ясно уже из предварительного устного допроса. Следственная комиссия обычна присылала вопросы арестованному. Голицын колебался - отрицать или рассказать? Верность слову, понятие дворянской чести требовали первого, но вместе с тем приходили мысли о молодости, о суровых военных законах, восходящих ещё к петровскому времени.
Нужно вести себя твёрдо, - главное - отрицать своё согласие на цареубийство. Очная ставка с Александром Поджио, который показал, что Голицын соглашался на истребление императорской фамилии. Нет, никогда не соглашался. - А слова Митькова - "До корня всех истребить". - Нет, никогда не слышал таких слов от Митькова. Показания других об истреблении царя - обнадёживающие для князя: одни говорят, что Голицын не присутствовал, когда Митьков произносил страшные слова, другие - что вообще не помнят Голицына. Похоже, что самая чёрная туча проходит. Может чем-нибудь поможет дядя Александр Николаевич? Брата Александра ведь освободили. А пока: серый гранит, часовые, одноногий комендант. О своём пребывании в крепости Валериан Михайлович вспоминал позже: "Мой день разделён на две равные половины. До полудня я лежал в постели. С полудня до полуночи я ходил безостановочно по своей крошечной тюрьме и курил. Ни книг, ни бумаги, ни чернил, ни перьев, ни карандашей не давали. Табак давали, картуз табаку лежал у меня у окна, и когда он был запечатанный, то от сырости тюрьмы всегда лопалась бумага. В полночь я ложился и до полудня следующего дня уже не вставал с постели. Что я передумал во время ежедневного двенадцатичасового хождения взад и вперёд по пространству в несколько шагов, рассказать невозможно".
По приговору Верховного уголовного суда Валериан Голицын был осуждён по VIII разряду - "лишение чинов и дворянства и ссылка в Сибирь бессрочно". По конфирмации в августе 1826 г. "бессрочно" заменено на 20 лет. Приговор оказался сравнительно мягким. Может здесь и сказалось заступничество дяди? Ведь вымолил же на коленях Алексей Орлов у императора Николая I помилование своему брату Михаилу.
Своему "другу по 14 декабря" (так в непринуждённой атмосфере Николай I называл сосланных декабристов) В.М. Голицыну царь сначала местом ссылки назначил Якутск. Условия жизни в этом крае были суровыми, русского населения было очень мало, якуты вели кочевой образ жизни. Не хватало даже хлеба, поэтому местное население заготавливало в прок древесную кору, которую сушили, а затем употребляли вместе с молоком. Но в глухих местах Якутии было невозможно создать того строгого и бдительного надзора, которого требовало правительство. Вероятно, по этой причине, а также под влиянием дяди и отца, в конце июля 1826 года Голицына отправили в город Киренск Иркутской губернии. Название "город" было слишком громким для Киренска. В 1858 году в нём проживало всего 830 человек, а во времена Голицына - и того меньше.
На поселение Валериана вёз фельдъегерь Тихонов. Попутчиком стал бывший поручик Черниговского полка А.И. Шахирёв, тоже осуждённый по VIII разряду. Местом поселения ему был назначен глухой, спрятанный среди болот, Сургут Тобольской губернии. До Тобольска доехали вместе, распрощались, чтобы больше уже никогда не встретиться. Шахирёв умер через два года.
Ссылка сына в Сибирь совсем подорвала здоровье престарелого князя. Для него "государственный преступник", замышлявший перевернуть устои государства, был всего-навсего мальчик, который и шагу не может ступить без поддержки отца. Как будет он жить в холодной Сибири среди диких якутов? Кто будет заботиться о его здоровье, о его досуге в этой дикой стране, где и собеседника невозможно найти? Брат Александр Николаевич и так сделал всё, что можно, но нужно как-то помочь сыну. Старый князь, наконец, решил кого-нибудь из близких людей к Валериану послать, чтобы опытный человек помог наладить ему жизнь. Выбор пал на Василия Лазова, грека по национальности, проживавшего в семье Голицыных около 20 лет и бывшего дядькой почти всех младших детей, в том числе и Валериана. Лазов сам согласился ехать в далёкую Сибирь. Князь дал в помощь греку двух крепостных, снабдил их деньгами, наставлениями, письмами родных к "своему мальчику", и Лазов в начале 1827 года отправился в Сибирь. Но старый князь так и не дождался сообщений верного грека о сыне: в этом же, 1827 году, семидесятилетний Михаил Николаевич скончался.
Прибыв в Иркутск, Лазов явился к губернатору И.Б. Цейдлеру и заявил, что желает отправиться по торговым делам в Киренск и Якутск. При этом он добавил, что "быв с давнего времени знаком с домом князей Голицыных, намерен, согласно сделанного ему поручения, присоединиться к сосланному в Сибирь государственному преступнику Валериану Голицыну, устроить его жизнь, заниматься его хозяйством и наблюдать за нравственным и физическим поведением".
Для губернатора такая просьба явилась неожиданной, но он всё же отпустил грека в Киренск. Сомнения о законности разрешения ехать Лазову к Голицыну не оставляли Цейдлера. Совсем недавно он выдержал упорную борьбу с Е.И. Трубецкой, М.Н. Волконской и А.Г. Муравьёвой. А ведь ещё в сентябре 1826 года иркутский гражданский губернатор получил высочайше одобренное указание генерал-губернатора Восточной Сибири Лавинского, в котором предписывалось местному начальству "употреблять всевозможные внушения и убеждения к оставлению их (имелись в виду жёны декабристов) в сем городе и к обратному отъезду в Россию". В частности, рекомендовалось внушить жёнам, что, "следуя за своими мужьями и продолжая с ними супружескую связь, они, естественно, сделаются причастными к их судьбе и потеряют прежнее звание, т.е. будут уже признаваемые не иначе, как жёнами ссыльно-каторжных, а дети, которые приживутся в Сибири, определить в казённые крестьяне".
Но даже эти угрозы не оказали действия. Губернатор разрешил ехать к своим мужьям: всё-таки здесь - законный брак, освящённый церковью, а как быть с "дядькой", следующему к государственному преступнику, чтобы следить за его "нравственным и физическим состоянием"?
Цейдлер решил обратиться к генерал-губернатору. Последний совсем растерялся. Ведь по его заявлению уже было возбуждено дело "за беспорядки при распределении государственных преступников" против председателя Иркутского губернского правления Н.П. Горлова, который отнёсся чрезвычайно гуманно к первой партии декабристов и разместил их вблизи Иркутска, вместо того, чтобы отправить в дальние рудники. И не сочтут ли в Петербурге прибытие "дядьки" к молодому Голицыну как послабление? После раздумий Лавинский решил обратиться за соответствующими разъяснениями к Главному управляющему третьим отделением Бенкендорфу. Правда, генерал-губернатор Восточной Сибири сделал это в неофициальной форме - это было частное письмо, написанное на французском языке. Всесильный шеф жандармов доложил об этом самому Николаю I.
По распоряжению царя Бенкендорф на письме Лавинского сделал следующие пометки: "Кто ему (Лазову) дал паспорт и как он испросил у нежинского магистрата написать об этом губернатору (Черниговскому, в губернии которого находился Нежин, Губернатор донёс позднее, что в Нежине Лазов "промышленности никакой не имел"); написать князю Голицыну в Москву (Д.В. Голицын - в 1820-1843 гг. московский генерал-губернатор), чтобы он испросил мать молодого Голицына, почему она выбрала этого грека, чтобы доверять своего сына; кто те двое слуг и по какому праву она туда их послала. Генерал-губернатору Сибири - чтобы он немедленно отослал этого грека обратно, хорошо допросил его предварительно, а равно и слуг".
Через некоторое время Бенкендорф получил своеобразное письмо-покаяние матери Валериана, Натальи Ивановны Голицыной. Она писала следующее: "На вопрос, сделанный мне чиновником московского военного губернатора статским советником Тургеневым по какому случаю грек Василий Лазов находится в городе Киренске, который объявил тамошнему начальству, что он приехал к сыну моему Валериану Голицыну - устроить ему жительство, заняться его хозяйством и наблюдать за его нравственным и физическим поведением, объясняю: что означенный грек Лазов, имея около 50 лет от роду, более 20 лет жил у нас в доме, как друг, при котором все почти дети наши родились и возросли и который по собственной своей привязанности к нам просил даже нашего согласия ехать туда, так как от правительства не было запрещения на въезд и жительство в оных городах свободного состояния людям. Мы не только не отказали ему в том, но не могли довольно признать сердечного расположения его к нам, тем более, что зная хорошую его нравственность и правила, мы польстились поручить ему назидание сына нашего, постигнутого несчастием на 23 году, быв совершенно уверенны, что он не допустит его впасть в пороки, которые бы ещё могли усугубить его положение. Что касается до крепостных людей, в то время, когда господин Лазов решился предпринять этот путь, нодобны были ему люди для сопровождения и для услуги - по летам его невозможно было на расстоянии 7 000 вёрст ехать одному или с неизвестными лицами, почему покойный муж мой, желая дать ему в услугу тех, которые сами пожелают, собрал их и спросил. Эти двое изъявили желание ехать и служить г. Лазову, на кой предмет и снабжены были плакатными паспортами, дабы в случае, если они пожелают оттуда возвратиться, чтоб не встретилось им какое препятствие".
Царь, прочтя это письмо и не видя здесь потрясения государственных основ, приказал: "Крепостных выслать обратно в Россию, а греку разрешить остаться в Киренске, но взять с него подписку, что он согласен поселиться в сем городе, в противном случае выслать и его". Бенкендорф сообщил высочайшую резолюцию Лавинскому, но уже было поздно. Генерал-губернатор вызвал ещё раньше Лазова из Киренска в Иркутск и придирчиво рассмотрел его бумаги. Из писем "от отца, матери и других родственников преступника Валериана Голицына" он увидел, что Лазова "убеждали решить всё возможное о Валериане Голицыне, способствовать ему советами к терпеливому сношению участи его, подтверждать в поведении его, отвергнуть от худых наклонностей, в которые он мог бы погрузиться от отчаяния, доставлять ему всё нужное к жизни и быть ему неразлучным собеседником". Как видим, намерения были самые благие и могли быть даже полезны для властей, но последняя не могла терпеть, чтобы наряду с ней находилась ещё какая-нибудь опека. Лавинский приказал Лазову и крестьянам уехать в Россию. Впоследствии, однако, Лазов всё же несколько раз приезжал к Голицыну в Сибирь с деньгами, книгами и т.п.
Злоупотребления администрации сказывались не только на людях близких к декабристам, но и сами декабристы постоянно ощущали "заботу" сибирской администрации, которая подчас была более нахальной, чем в европейской части страны. Строго контролировалась переписка "государственных преступников". Письма пересылались через жандармское управление и поступали туда только в открытом виде. Во все почтовые отделения страны были разосланы списки декабристов и лиц, с которыми они переписывались. Почтовое начальство обязано было вскрывать все такие письма и "поступать с ними соответственно по содержанию", т.е. пересылать во всех подозрительных случаях в жандармское управление. Именно таким образом до нас дошло письмо Валериана Голицына к матери от 28 мая 1828 года. Из этого письма жандармы сделали интересующие их выписки и отправили в третье отделение.
Письмо раскрывает злоупотребления администрации, которые на каждом шагу отравляли жизнь Голицына. Он писал: "Нам разрешено писать и получать письма от наших родных, а между тем вот уже более трёх месяцев, что я не имею писем от сестрицы; наверное, это не по её вине. Позволяют нашим родным приходить нам на помощь, но деньги не доходят до нас целиком и мы совершенно не знаем, какие суммы высылаются нам.
Несмотря на наши хлопоты, несмотря на письмо, которое вы написали губернатору с просьбой переслать мне деньги на мою жизнь, несмотря на то, что я получил только 3200 рублей вместо 4000 в продолжении этих двух лет, что я здесь, губернатор мне ничего не выслал, и я вынужден лишать себя очень многого и платить вдвое дороже за вещи, которые мог бы иметь дешевле и лучшего качества. Даже вещи прибывают разрозненными. Только сегодня я получил ружьё, посланное Леонидом (младшим братом), не хватает в нём двух частей и его, по-видимому, употребляли на охоте, так как оно сильно подержано. Губернатор предварительно послал мне ключ от ящика, в котором находилось ружьё, а ящик прибыл ко мне открытым, а ключ не подходит к замку, наверное, его подменили. Из русских журналов я получил только первый номер "Телеграфа". Из 50 пудов муки доставлено мне только 25 пудов, остальная часть девалась бог весть куда, так же как и много других вещей, о посылке которых я не знаю, ибо не все письма доходят до меня.
Словом, нас хорошо обставили. Невозможно дальше оставаться в этом положении, так как оно всё ухудшается. Вам следовало бы, дорогая матушка, попросить, чтобы нам разрешили писать непосредственно; письма могли бы вскрывать на почте, но по крайней мере была бы установлена отчётность. Настоящее письмо будет вложено в письмо к губернатору, которому я излагаю все свои нужды, но увенчается ли это успехом, бог знает, т.к. я уже писал ему и безрезультатно. Кроме того, его плохо слушают. Так, например, это ружьё должен был передать мне исправник, но я получил его бог весть каким путём и месяц спустя. Будет ли вообще доставлено ему это моё письмо, т.к. кто знает, в его ли канцелярии или здесь делаются эти "прекрасные дела". И вы хорошо понимаете, что в первом случае не доставят из опасения кары, во втором - чтобы не быть уличёнными в злоупотреблениях. Ужасно подумать, что придётся всю жизнь провести с подобными людьми".
Иркутский губернатор Цейдлер вынужден был в своё оправдание приложить к письму Голицына следующую записку: "Долгом считаю объявить, что все вещи осматриваются при мне и отправляются тотчас и потому ничего утеряно быть не может. Что нумера газет не все, в этом правительство не виновато, а что пришлют, то и отправляем. Посылки худо укладываются, вещи приходят потерянные и разбитые. Муки прислано 5 кулей, а не 50 пудов. Денег Голицыну отправлено 3300 рублей, и по желанию матери его, из принадлежащих ему 500 отослано Веденяпину. Следовательно, ничего и никаких денег правительство здешнее не удерживает". Губернатор не смог опровергнуть фактов, хотя и свалил всю вину на плохую упаковку. Из записки Цейдлера видно, что Голицын помогал своему товарищу по несчастью. Но сейчас трудно установить, о каком Веденяпине идёт речь. Аполлон Веденяпин был осуждён по VIII разряду и в это время находился на поселении в Киренске вместе с Голицыным. Младший брат Аполлона, Алексей Васильевич Веденяпин в это время служил рядовым на Кавказе в 42 егерском полку. Очевидно, его имеет в виду Цейдлер, иначе бы Голицын знал об этих 500 рублях, если бы их получил Аполлон Веденяпин.
Метки: ЖЗЛ россия декабристы голицыны |
Никита Кирсанов. "Дворяне Вадковские" (часть 1). |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Дворяне Вадковские" (часть 1).
В выписке из польского Гербовика о Вадковских сказано, что они происходят из города Магдебурга, в Пруссии, откуда Михаил Вадковский перешёл в Польшу и в 1622 году был утверждён на сейме в дворянском достоинстве. Внук Михаила, Иван Юрьевич, в 1695 году выехал из Польши в Россию, был принят на воинскую службу и во время царствования императора Петра Великого участвовал в военных действиях против шведов. К 1727 году имел чин полковника и ведал Кригскомиссарской конторой Адмиралтейской коллегии.
Сын Ивана Юрьевича, Фёдор (1712-5.10.1783), в 1727 году был определён пажем к великой княгине Наталье Сергеевне, затем служил в лейб-гвардии Семёновском полку. Был одним из "первых пособников" Екатерины II, возведших её на престол в 1762 году, за что 9 июня награждён орденом Св. Александра Невского. Из послужного списка Ф.И. Вадковского видно, как развивалась его военная карьера: камер-паж, фендрик гвардии, подпоручик гвардии (1736), поручик гвардии (1738), капитан-поручик гвардии (1740), капитан гвардии (1742), секунд-майор (1755), премьер-майор гвардии (1757), подполковник гвардии (1757), генерал-майор (1761), генерал-поручик (1762), генерал-аншеф (1775), командир Семёновского полка (1765-1766). В конце 1760-х годов Ф.И. Вадковский вышел в отставку и поселился в Елецкой провинции Воронежской губернии. В 1779 году был назначен сенатором. От брака с Ириной Андреевной Чириковой, урождённой Воейковой (1717-1774), имел пятерых детей. Скончался в С.-Петербурге и был похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.
В Елецкой провинции (с начала XIX века Елецкий уезд Орловской губернии) Фёдор Иванович Вадковский владел сёлами Пятницким и Большие Извалы. Кроме того, ему принадлежали село Покровское (Красная Поляна), где находилось центральное имение, Богословское, деревни Черницово, Богословское (Лопуховка), Братки, Суханино, Плоское и Екатериновка. После смерти Ф.И. Вадковского, родовые имения в Елецкой провинции унаследовал его сын Фёдор Фёдорович.
Младший сын генерал-аншефа, Фёдор Фёдорович Вадковский (21.12.1756-27.08.1806), получил отличное домашнее образование. С рождения он был записан солдатом в лейб-гвардии Семёновский полк и через десять лет произведён в сержанты. Действительную службу начал прапорщиком в январе 1771 года. В 1774 году был произведён в поручики, 7 января 1778 года - в капитан-поручики, а 28 июня того же года пожалован в камер-юнкеры.
Ф.Ф. Вадковский с детства был дружен с великим князем Павлом Петровичем. В сентябре 1781 года сопровождал великого князя во время его путешествия по Европе. Будучи в Вене, заслужил такой отзыв Иосифа II: "Месье Вадковский симпатичный молодой человек". 1 января 1785 года пожалован в камергеры. Вступление на престол Павла I повлекло за собой быстрое возвышение Вадковского.
Высочайшим указом от 21 ноября 1796 года он был пожалован в генерал-поручики и назначен командовать сформированным Павловским полком. Кроме того, был назначен присутствующим в Военной коллегии и мариентальским комендантом. В апреле 1797 года был награждён орденом Св. Александра Невского. Однако военная служба тяготила Ф.Ф. Вадковского. По словам графа Е.Ф. Комаровского, Вадковский целыми днями сидел перед камином в вольтеровском кресле и не ездил ко двору, а по поводу своего назначения говорил: "Я должен был принять то, что мне предложили; я его (императора) давно знаю, он шутить не любит, хотя уже 20 лет, как я военную службу оставил".
При дворе он поневоле должен был вмешиваться в интриги. Он поддерживал партию императрицы Марии Фёдоровны и был сторонником Екатерины Ивановны Нелидовой. В октябре 1797 года Вадковского постигла опала и он был отстранён от командования Павловским полком, а через год, 27 октября 1798 года, отставлен от службы с чином действительного тайного советника, с назначением в Сенат.
Ф.Ф. Вадковский, по словам современника, был человеком просвещённым и гуманным, с природным умом он соединял доброе сердце; он был сибарит и дорого ценил комфорт, которым умел пользоваться. Тепло о нём отзывался князь И.М. Долгоруков: "Я с ним был в приятельских отношениях, когда ездил ко двору играть с ним на театре великого князя. Он меня любил, и я льнул к нему преимущественно пред всеми прочими шаркателями царских чертогов... Вадковский остался и потом хорошим моим приятелем; мы часто видались и в сообщениях наших не было ни коварства, ни принуждения. Редкое преимущество в связи с придворным! Он недолго прожил, томился в мучительном недуге и слишком рано скончался для всех тех, кои способны были разуметь и ценить, несмотря на холодный с виду характер, отличные его достоинства".
Графиня Екатерина Ивановна Чернышёва, принадлежала к одному из самых влиятельных родов России. Родилась она в С.-Петербурге 28 июля 1765 года в семье графа Ивана Григорьевича Чернышёва (24.11.1726-26.02.1797) и графини Анны Александровны, урождённой Исленьевой (28.05.1740-7.08.1794).
В юности Екатерина Ивановна как фрейлина Екатерины II сопровождала императрицу в период её путешествия по России. Сохранился уникальный документ - дневник Екатерины Ивановны на французском языке, который она вела во время этого путешествия. Этот дневник хранится в Государственном Историческом музее в Москве и ждёт своих исследователей.
В 1782 году в неё был влюблён князь А.Б. Куракин, но сватовство его окончилось неудачей; граф Чернышёв считал невыгодным породниться с князьями Куракиными, неугодными Екатерине II за свою дружбу с великим князем Павлом Петровичем.
Весёлая и живая, умная и энергичная, Екатерина Ивановна, была отличной музыкантшей и собирала у себя многочисленное и передовое общество. В её доме в Петербурге на Фонтанке (ныне № 20) любил проводить время граф Е.Ф. Комаровский, что едва не было причиной его дуэли с известным щёголем, красавцем и танцором, князем Б.В. Голицыным.
2 сентября 1789 года Екатерина Ивановна вышла "по большой любви" замуж за Фёдора Фёдоровича Вадковского. В приданое она получила 3000 душ крепостных мужского пола находящихся в Тамбовской губернии.
В зимний период супруги Вадковские проживали преимущественно в Петербурге, а на лето выезжали в орловское имение Фёдора Фёдоровича - Пятницкое. "Село оврага прудового, - сообщалось в "Экономических камеральных описаниях" Извальской волости Елецкого уезда, - и двух безумянных отвершков по обе стороны оврага Пятницкого, на правом берегу церковь каменная Великомученицы Параскевии, нарицаемая Пятницы; дом господский деревянный и при нём сад нерегулярный с плодовитыми деревьями, деревья оврага прудового на левом берегу дачею простирается большой дороги, ведущей в г. Задонск по обе стороны, земли грунт чернозёмный; крестьян на пашне в посредственном зажитке". (В 1820-х годах Вадковские за антигосударственную деятельность были лишены части своих владений, а крепостные крестьяне села Пятницкое перешли в государственное ведомство. Однопрестольный храм Параскевы Пятницы, построенный в селе Ильёй Фёдоровичем Вадковским в 1791-1798 годах не сохранился. В 1864 году в селе Большие Извалы, также ранее принадлежавшем Вадковским, был построен храм во имя Казанской Божьей Матери, сохранившийся до настоящего времени).
После смерти мужа на руках Екатерины Ивановны осталось четыре сына и две дочери: Иван (1790-1849, с. Петровское Елецкого уезда Орловской губернии), впоследствии участник Отечественной войны 1812 года и заграничных походов русской армии, полковник (1820), батальонный командир лейб-гвардии Семёновского полка, один из четырёх офицеров, осуждённых по делу о восстании Семёновского полка; был женат на Е.А. Молчановой; Павел (22.05.1792-15.05.1829, С.-Петербург), камер-юнкер двора Его Императорского Величества и кавалер; в чине прапорщика лейб-гвардии Семёновского полка принял участие в Отечественной войне 1812 года (Бородино, Тарутино, Малоярославец) и заграничных походах; был женат на Анастасии Семёновне Викулиной (1805-1887), дочери действительного статского советника, предводителя дворянства Воронежской губернии Семёна Алексеевича Викулина (1775-1841); Екатерина, в замужестве Кривцова (1796-1861, С.-Петербург); Софья, в первом браке Безобразова, во втором Тимирязева (6.02.1799-8.08.1875, Москва); Фёдор (1.05.1800, С.-Петербург - 8.01.1844, с. Оёк Иркутской губернии), прапорщик Нежинского конно-егерского полка, член Южного общества декабристов (1823), активный организатор декабристской ячейки в Кавалергардском полку; был холост и Александр (20.08.1801, С.-Петербург - 1845, с. Гавриловка Кирсановского уезда Тамбовской губернии), подпоручик 17-го егерского полка, член Южного общества (1823); был женат на Надежде Андреевне Волковой (?-1862).
Как ни трудно пришлось сорокалетней вдове, но Е.И. Вадковская сумела дать блестящее образование всем детям. И все они в той или иной степени оказались связанными с историей декабристского движения.
Сёстры Екатерина и Софья Вадковские были видными представительницами высшего петербургского общества. В силу своего происхождения, а впоследствии высокого положения мужей, они на протяжении многих лет были близко знакомы со многими выдающимися политическими и культурными деятелями эпохи, стали свидетелями важных исторических событий.
Красавица Софья Фёдоровна в 1816 году вышла замуж за полковника Петра Михайловича Безобразова (1788-1819). Овдовев в двадцатилетнем возрасте, она долго оставалась одна. Поэт П.А. Вяземский называл её "вдовой случайностью, но прелестью невестой". В 1827 году она вторично вышла замуж, на этот раз за Ивана Семёновича Тимирязева (16.12.1790-15.12.1867), дядю биолога; адъютанта великого князя Константина Павловича, генерала-майора, позднее астраханского военного губернатора, петербургского знакомого А.С. Пушкина. С поэтом была знакома и сама Софья Фёдоровна. По воспоминаниям её сына, Пушкин однажды, будучи в гостях у Тимирязева, сказал ей: "Ах, Софья Фёдоровна, как посмотрю я на вас и ваш рост, так мне всё и кажется, что судьба меня, как лавочник, обмерила". Для женщины она была очень высокого роста (около 180 см) и когда она появлялась в обществе со своими подругами графиней Шуазель и графиней Е.П. Потёмкиной (сестрой декабриста С.П. Трубецкого), то их в свете, исключительно за рост, называли "le bouquet monstre". Поэт Вяземский посвятил в 1822 году Софье Фёдоровне стихотворение. Она же, оставила воспоминания, из которых отрывок под заглавием "Свидание с императором Александром Павловичем", был напечатан в "Русском Архиве".
У Тимирязевых было трое детей: Ольга Ивановна (р. 1831), пианистка, ученица Н.Г. Рубинштейна; Фёдор Иванович (14.06.1832-24.05.1897), пианист-любитель, вице-губернатор (1878-1879), губернатор (1880-1881) Саратовской губернии, мемуарист и Александр Иванович (1837-1895), женатый на Ольге Борисовне Данзас (20.10.1840-6.10.1879), дочери действительного тайного советника Бориса Карловича Данзаса (19.10.1799-18.10.1868), лицеиста II курса, привлекавшегося к следствию по делу декабристов.
Скончалась Софья Фёдоровна Тимирязева в Москве и была похоронена на Ваганьковском кладбище рядом с мужем, однако их могилы не сохранились.
Екатерина Фёдоровна Вадковская по характеристике современника, была "женщина, которая с высшим изяществом форм соединяла тонкий, живой, наблюдательный и несколько насмешливый ум, а вместе с тем и глубокие чувства. В молодости она была очаровательной собеседницей и всегда была искренним другом". С юных лет она проявляла живейший интерес к русской литературе, была лично знакома со многими известными писателями. В 1821 году Екатерина Фёдоровна вышла замуж за друга Пушкина, дипломата и англомана Николая Ивановича Кривцова (10.01.1791-31.07.1843), старшего брата декабриста Сергея Кривцова. Посажённым отцом и матерью на их свадьбе были приглашены знаменитый историк Н.М. Карамзин с супругой. В браке у Кривцовых родилась единственная дочь Софья Николаевна (19.08.1821-29.12.1901), ставшая впоследствии женой Помпея Николаевича Батюшкова (14.04.1811-20.03.1892), брата поэта.
Скончалась Екатерина Фёдоровна Кривцова в Петербурге и была похоронена, согласно завещания, в селе Любичи Кирсановского уезда Тамбовской губернии (ныне Умётский район Тамбовской области) в ограде Казанской церкви рядом с мужем.
Хочется добавить, что потомки Вадковских проживают сейчас в России, а также Великобритании, Германии, Швейцарии, США, Испании и Аргентине. Праправнук И.Ф. Вадковского, Василий Васильевич (1878-1941), в 1924 году из Венгрии через Францию эмигрировал в США, где и умер. Похоронен в городе Си-Клиф, штат Нью-Йорк. От брака с Марией Евгеньевной Утиной (р. 1887) имел детей: Василия (1902-1984), похоронен в округе Майами-Дейд, штат Флорида; Надежду (р.1908) и Александра (1911-2003), похоронен в городе Нейплс округа Колйер, штат Флорида. В республике Беларусь, в деревне Шабаны под Минском, проживает праправнук А.Ф. Вадковского, Леонид Борисович Вадковский. Более полной информацией на данный момент я не располагаю...
Будущие декабристы Александр и Фёдор Вадковские родились в Петербурге, в доме матери, что на Фонтанке. Фёдор Фёдорович - 1 мая 1800 года, Александр Фёдорович - 20 августа 1801 года. Обоих братьев крестили в приходской церкви Святых и Праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы (ныне ул. Моховая, 46).
До 1810 года братья жили в Петербурге, по "временам выезжая в Елецкое имение" Пятницкое, а затем были отправлены в Москву и зачислены в Благородный пансион при Московском университете.
В Пансион принимались мальчики от 9 до 14 лет с оплатой в 150 рублей в год и обучение длилось шесть лет по индивидуальным программам. Окончание давало право на те же чины Табеля о рангах, что и диплом Московского университета, а также право на производство в офицеры. Лучшие воспитанники без экзаменов принимались в университет.
Обучение включало изучение следующих предметов: юридические дисциплины, богословие, математика, физика, география, естествознание, военное дело, рисование, музыка, танцы, а также российская словесность.
Братья Вадковские проучились в Пансионе два года. С началом Отечественной войны, Екатерина Ивановна забрала сыновей домой в Петербург и определила Александра в Немецкое училище Святого Петра, а Фёдора в частный пансион аббата Лемри.
"С самого начала, - показывал на следствии по делу декабристов Александр Вадковский, - был отдан в пансион в Москве, где находился почти два года, после чего был в Петропавловском училище года полтора, а потом уже воспитывался в Петербурге и окончил свои науки с французским учителем аббатом Лемри. Учителя ходили ко мне из Пажеского корпуса, потому что я сам был пажем, хотя никогда не жил в корпусе..."
Фёдор Вадковский, у которого рано проявились блестящие математические способности, музыкальная одарённость и поэтический талант, закончил своё обучение в частных аристократических пансионах Гинрихса и Годениуса в Петербурге.
25 января 1818 года Фёдор Вадковский поступил на военную службу - подпрапорщиком в лейб-гвардии Семёновский полк, командиром батальона которого был его брат Иван. В формулярном списке Фёдора Фёдоровича указывалось: "По-российски, по-французски и по-немецки, истории, географии и математике знает". 21 апреля 1820 года, за полгода до возмущения Семёновского полка, он был переведён юнкером в Кавалергардский полк. Через четыре месяца он стал уже эстандарт-юнкером, а с 1 января 1822 года - корнетом того же полка.
Следуя семейной традиции, на службу подпрапорщиком в Семёновский полк поступил и Александр Вадковский (по собственным показаниям 22 марта, по формулярному списку - 22 апреля 1819 года).
"Семёновская история" осенью 1820 года круто изменила судьбу Вадковского-младшего. "Откровенно скажу, - утверждал он, - что вольнодумческие и либеральные мысли врезались во мне со времени перевода моего в армию из бывшего Семёновского полка. Во-первых, что не позволено мне было служить в одном полку с братом моим. Во-вторых, - что тем же чином был переведён в армию, а в-третьих, - что в течение пяти лет, что служу в армии, не позволено мне было иметь ни отпуска, ни отставки, ни перевода в другой полк, тогда как обстоятельства мои непременно сего требовали..."
Александр Вадковский получил назначение в Кременчугский пехотный полк 24 декабря 1820 года. 12 января следующего года он был произведён в прапорщики и переведён 17-й егерский полк, где 4 января 1824 года был произведён в подпоручики.
В 1822 году Фёдор Вадковский стал членом Северного общества декабристов, а спустя год, прибывший из Тульчина в Петербург князь А.П. Барятинский, служивший адъютантом главнокомандующего 2-й армией генерала от кавалерии графа П.Х. Витгенштейна, принял Вадковского и в Южное общество. В разговоре с декабристом А.В. Поджио он так отозвался о Фёдоре Фёдоровиче: "Это храбрец, таких нам и надо".
В этом же году, во время пребывания в Туле, Фёдор Вадковский принял в тайное общество брата Александра. "На предложение в оное войти я согласился, - признавался Вадковский-младший, - в чём дал расписку, обещая сохранить в тайне существование и членов оного. Намерение общества было даровать народу вольность и прекратить страдание всеобщее. Способы достижения сей цели были мне неизвестны, но брат уверял, что общество сильно и может во всём успеть..."
Что касается "способов достижения цели", то как раз в этом вопросе между декабристами не было полного единства. Фёдор Вадковский поддерживал более революционную программу П.И. Пестеля, предусматривающую республиканское государственное устройство России, осуществление намеченных конституцией демократических преобразований, отмену крепостного права. "Я существую и дышу только для священной цели, которая нас соединяет", - писал Вадковский Пестелю.
В одном из сохранившихся набросков Ф.Ф. Вадковского им перечислены следующие пункты этой программы: "1. Уничтожение самовластия. 2. Освобождение крестьян. 3. Преобразования в войске. 4. Равенство перед законом. 5. Уничтожение телесных наказаний. 6. Гласность судопроизводства. 7. Свобода книгопечатания. 8. Признание народной власти. 9. Палата представителей. 10. Общественная рать или стража. 11. Первоначальное обучение. 12. Уничтожение сословий".
В борьбе с самодержавием Фёдор Вадковский широко использовал и свой поэтический талант. Большую известность получили его сатирические стихотворения, направленные против членов императорской фамилии.
К сожалению, ранние поэтические опыты Вадковского до нас не дошли. Наиболее подробные сведения об их содержании и идейной направленности приведены в опубликованных воспоминаниях декабриста Владимира Толстого: "В то время Беранже был в большом ходу; Вадковский ему подражал то песнями буфф, то песнями политическими, как-то: "А где наш царь? В манеже наш царь!" - И далее царя и великих князей ругали, глумились над ними, выставляли все их недостатки и прочее, и поминалось, что для них есть штыки..."
Указание В.С. Толстого привлекло внимание исследователй декабристской поэзии. В частности, ими было высказано предположение об участии Вадковского в написании известных агитационных песен "Царь наш, немец русский..." и "Вдоль Фонтанки-реки..." Рылеева и А. Бестужева. В последней песне, например, имеется упоминаемая мемуаристом угроза:
Разве нет у нас штыков
На князьков-сопляков?..
По свидетельству современника, в стихотворении "Странная история" Вадковским "в юмористической форме рассказывалось о свержении самодержавия".
19 июня 1824 года Фёдор Вадковский, неоднократно ходатайствовавший о смягчении участи находящегося в витебской тюрьме брата Ивана, неожиданно сам подвергся аресту. "Несносно жить в казённой духоте нашей столицы, - сообщал А. Бестужев поэту Вяземскому. - Нет дня, чтобы не слышно было чего-нибудь новенького да хорошенького!Дня три тому назад как фельдъегерь, прямо с маневров, умчал кавалергардского Вадковского, брата того, которого до сих пор душат в Витебске..."
Оказалось, что правительству стало известно одно из политических стихотворений Фёдора Вадковского. На этот раз он отделался довольно легко - переводом из столицы в отдалённый армейский полк. Официально было объявлено, что корнет Кавалергардского полка Вадковский "за неприличное поведение" переведён в Нежинский конно-егерский полк, с переименованием в прапорщики.
А вот что говорят современники о причине этого ареста. Декабрист В.Ф. Раевский: "За разные насмешки против двора, каламбуры и нескромные суждения..." Ф.И. Тимирязев, родной племянник Вадковского: "За стихи против начальства и великого князя Михаила Павловича..." Декабрист С.Г. Волконский: "За смелые разговоры и, кажется, за распространение стихотворений, имеющих целью осуждение правительства и государя..." Будущий же руководитель восстания Черниговского полка С.И. Муравьёв-Апостол при встрече с Вадковским поинтересовался, не раскрытие ли тайного политического общества явилось причиной ареста?..
Разумеется, арест Фёдора Вадковского был не только для него неожиданностью. Особую тревогу выразили его товарищи по тайному обществу, теряясь в предположениях. В день ареста Александр Михайлович Муравьёв поскакал на квартиру Вадковского, забрал все его бумаги и передал их Сергею Трубецкому.
Среди важных документов, не попавших таким образом в руки властей, находилась копия следственного дела о бунте Семёновского полка в 1820 году, а также черновые письма на имя царя о помиловании И.Ф. Вадковского, которому, первоначально вынесли смертный приговор. Вполне понятно, что декабристы придавали огромное значение "семёновской истории" в деле распространения антиправительственных настроений в войсках. Картина жестокой расправы над одним из лучших русских полков способствовала появлению "свободного образа мыслей" у многих участников декабристского движения.
Среди этих бумаг находился и революционный катехизис на французском языке, написанный Вадковским. Фёдор Фёдорович всегда уделял большое внимание агитационной работе среди офицеров.
Историю своего ареста Ф.Ф. Вадковский подробно рассказал Владимиру Толстому во время их встречи в орловском имении Чернышёвых Тагино. Заключительная часть этого рассказа (в передаче Толстого) выглядела так:
"В Новой Деревне полковой командир граф Апраксин призвал Вадковского и сдал его фельдъегерю, который его отвёз в Главный гвардейский штаб, где был собран главный генералитет. Тут показали Вадковскому его рукою написанную песнь и добивались, кто её сочинил, кто его одномысленники и пр. Вадковский отвечал, что он её и сочинил и написал, подпивши, что никого сообщников не имеет, а сам подражает Беранже, и в доказательство стал им петь шутовские песни вроде:
Если хочешь быть счастлив,
Ешь побольше чернослив.
Гордый генералитет расхохотался и разошёлся, оставя Вадковского арестованного; через несколько часов приехал фельдъегерь и потартал его в Курск в Нежинский конно-егерский полк..."
Метки: ЖЗЛ россия декабристы вадковские чернышевы |
Никита Кирсанов. "Декабрист Владимир Толстой" |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Декабрист Владимир Толстой".
Владимир Сергеевич Толстой имел за плечами насыщенную событиями и крутыми поворотами судьбы биографию. Он родился 10 мая 1806 года в селе Курбатове Скопинского уезда Рязанской губернии в семье гвардии капитан-поручика Сергея Васильевича Толстого (16.10.1767-4.08.1831). Семья принадлежала к нетитулованной ветви Толстых, но благодаря матери Елене Петровне, урождённой княжне Долгоруковой (20.04.1774-22.02.1823), Толстой находился в родстве с представителями многих знатных дворянских родов. Кроме Владимира в семье ещё были старший брат Василий (15.01.1797-25.08.1838), полковник, женившийся впоследствии на Марии Николаевне Ларионовой (7.01.1805-23.03.1854), воспитательнице великих княжён и Александра (27.03.1800-15.02.1873), ставшая женой графа Александра Никитича Панина (22.03.1791-15.02.1850). За отцом в Рязанской и Тверской губерниях числилось 647 душ.
Владимир Толстой получил домашнее воспитание под руководством гувернёров - француза Куант де Лаво и англичанина Гарвея. Приглашались также русские преподаватели: московский священник Покровский, учитель гимназии Кудрявцев и студент Брезгун. Основными предметами была история, география, иностранные языки и математика. Русскому языку, по обычаю дворянских семей того времени, уделялось не много внимания. Сохранившиеся письма Толстого к разным лицам написаны в основном по-французски.
В военную службу вступил 29 августа 1823 года унтер-офицером в Екатеринославский кирасирский полк. 30 октября того же года получил звание юнкера, а 10 мая 1824 года был переведён в чине подпрапорщика в Московский пехотный полк, где 9 марта следующего года получил очередной чин прапорщика.
В биографическом справочнике "Декабристы" в статье посвящённой Толстому указано, что с 1824 года он состоял членом Южного тайного общества. Это историческая ошибка. В "Алфавите" членов тайных обществ, составленном в 1827 году правителем дел Следственной комиссии по делу декабристов А.Д. Боровковым, о Толстом записано следующее: "Членом Северного общества с 1824 года. Знал цель - введение конституции. Слышал, что общество, может быть, принуждено будет ускорить кончину некоторых священных особ царствующей фамилии и что, в случае необходимости, совершится сие людьми вне общества. На совещаниях нигде не был и о замыслах возмущения 14-го декабря не знал". На членство Толстого в Северном обществе указывает и обнаруженная не так давно в Краснодарском краевом архиве выписка из секретного дела 1840 года, являющаяся приложением к уведомлению Военного министра Чернышёва главнокомандующему Отдельным Кавказским корпусом. Текст самого уведомления гласит: "Государь Император по докладу отношения Вашего Сиятельства № 515, Высочайшим приказом 8-го сего мая соизволил: уволенного из состоявших по кавалерии поручика Толстого, определить по кавалерии же, состоянием при Кавказском линейном казачьем войске". А далее в приложении почти слово в слово воспроизведён текст Боровкова. Возможно, на якобы членство Толстого в Южном обществе, составителей справочника натолкнули показания другого декабриста графа В.А. Бобринского, состоявшего членом Южного общества, который сообщал следователям о предложении сделанном Толстому "завести тайную типографию" ... Как бы то ни было, но 18 декабря 1825 года был отдан приказ об аресте прапорщика Толстого.
4 января 1826 года Владимир Толстой был доставлен в Петропавловскую крепость с сопроводительной запиской "содержать под строгим арестом" и помещён в № 4 Кронверкской куртины. 30 января показан в № 5 той же куртины.
"По приговору Верховного уголовного суда осуждён в каторжную работу на два года. Высочайшим же указом 22-го августа (1826 г.) повелено оставить его в каторжной работе один год, а потом обратить на поселение в Сибири". 10 февраля 1827 года отправлен из Петропавловской крепости в Сибирь (приметы: рост 2 арш. 7 6/7 вершк., "лицо белое, продолговатое, глаза светлокарие, нос небольшой, продолговат, остр, волосы на голове и бровях светло-русые, на левой стороне подбородка от золотухи шрам, а на левой ляжке натёртый порохом крест").
По особому высочайшему повелению обращён прямо на поселение в Тункинскую крепость Иркутской губернии. Выехал из Читы - 15 мая 1827 года.
Благодаря стараниям влиятельных родственников 15 июня 1829 года Толстой был одним из первых декабристов определён рядовым на Кавказ. В середине августа он прибыл в Тифлис и 18 сентября был зачислен в 41-й егерский полк. 1 января 1830 г. переведён в 1-й Кавказский батальон. 28 января 1833 г. получил звание унтер-офицера. 19 июня 1835 г. - прапорщик Черноморского 2-го линейного батальона. Продвижению Толстого в период его кавказской службы, немало способствовал женатый на его двоюродной сестре Елизавете Павловне (ур. Фонвизиной) Е.А. Головин, в то время главнокомандующий Отдельным Кавказским корпусом, сменивший на этом посту И.Ф. Паскевича. Именно по его просьбе Толстого из "государственных преступников" (как записано в формулярном списке) прикомандировали к штабам русских генералов. Сохранилось рекомендательное письмо Головина к генералу Н.Н. Раевскому-младшему. Беря Толстого под защиту, он писал, что тот "сделался жертвою блестящего начала первой юности, начала, которое в других краях европейских, может быть открыло бы ему путь к дальнейшим успехам в житейском быту, но не у нас, где молодым людям надобно давать направление другое и которое, к сожалению, не весьма многие уразуметь способны". Впрочем, всё это было несколько позже, а пока...
В.С. Толстой принимает активное участие в походах против горцев. В 1835 г. участвует в возведении Абинского укрепления, где сооружались помещения для гарнизона, насыпались валы и производились другие строительные работы. Тогда же участвует в сооружении Николаевского укрепления на реке Атакуф. За эту экспедицию награждён орденом Св. Станислава 4-й степени. В 1837 г. он уже подпоручик. 9 января 1839 г. переведён из 2-го Черноморского линейного батальона в Навагинский пехотный полк. С ним участвовал во всех морских экспедициях 1839 года - по устройству Черноморской береговой линии, возведению и защите фортов Раевского, Головинского, Тенгинского и Лазаревского.
Местом сбора войск, участвовавших в экспедициях на Черноморское побережье Кавказа, была Тамань. Это позволяло встречаться служившим на Кавказе декабристам. В промежутках между экспедициями многие из них получали кратковременные отпуска для лечения на водах Пятигорска. Тогда они проделывали путь от Тамани через селения Ахтанизовское, Ивановское, Екатеринодар (ныне Краснодар), станицу Прочноокопскую - в Ставрополь, далее - в Пятигорск. Станица Прочноокопская, благодаря проживанию там семьи Нарышкиных, превратилась в постоянное обиталище и своеобразный культурный клуб всех "кавказских" декабристов. 20 августа 1839 г. за отличие в делах против горцев В.С. Толстой был произведён в поручики, а 11 марта 1840 г. он был переведён в Кавказский линейный казачий полк с зачислением по кавалерии. После снятия Головина вышел в отставку и в январе 1843 года (приказ от 17 января) уволен от службы "по болезни" с запрещением въезда в столицы и в Одессу и с установлением секретного надзора. Толстой поселился в имении сестры в Сычёвском уезде Смоленской губернии. В феврале 1843 года московская тётка декабриста Мария Петровна Римская-Корсакова, ур. княжна Долгорукова, обратилась по инстанциям с просьбой разрешить племяннику приехать в Москву для встречи с ней, так как они не виделись более 17 лет. На что последовал "высочайший отказ". В марте того же года родственники Толстого вновь обращаются с просьбой через А.Х. Бенкендорфа о разрешении Владимиру приехать на время в Москву, а затем переехать для службы в Одессу, где климат схож с кавказским. "На сие ответствовано графу Бенкендорфу, что как Государь Император, двукратно не изволил изъявить Монаршего соизволения на дозволение поручику Толстому жить в Одессе и приехать в Москву на свидание с родственниками; то за силою Высочайшего повеления, объявленного в приказе по военному ведомству 14 ибля № 87-й, невозможно войти с новым докладом Его Величеству".
В 1845 году, видимо, из-за отсутствия средств к существованию, Толстой с 8 мая вновь поступает на военную службу в составе Кавказского линейного казачьего войска. Через несколько месяцев (4.12.1845), за отличие в делах против горцев, Толстой был произведён в штабс - ротмистры. Спустя два года 3 января 1847 г. уволен в отпуск с причислением к запасным войскам, по окончании которого прибыл к Кавказскому казачьему линейному войску с переводом в 4-ю бригаду и переименованием в сотники (21.07.1848). 12 октября 1847 года был освобождён от секретного надзора, что позволило ему уволиться из армии и поступить на гражданскую службу. В 1850 году Толстой правил должность асессора Тифлисской губернской строительной и дорожной компаний, а через год был назначен чиновником по особым поручениям при кавказском наместнике князе М.С. Воронцове, затем с 1855 по 1856 гг. при Н.Н. Муравьёве-Карском - деятеле раннего декабризма, человеке высокого достоинства и чести.
В 1840-х гг. Толстой занялся литературной деятельностью. В рукописном отделе РГБ хранится рукопись Толстого "О Кавказе", датированная 1844 г. В ней Владимир Сергеевич рассматривает военную политику России на Кавказе. Он критикует деятельность военной и гражданской администрации, выдвигает ряд предложений об укреплении гарнизонов и крепостей, о борьбе с болезнями на Кавказе, об оборудовании морских портов, обеспечении войск продовольствием. В тех условиях подобный труд не имел шансов увидеть свет, но вот другая работа Толстого об Осетии, выдержала сразу две публикации.
В 1847 г. по поручению М.С. Воронцова Толстой был командирован совместно с протоиереем Алексеем Колиевым в Северную Осетию, объяснить осетинам русские законы о православном христианстве. Во время длительного путешествия декабрист собрал уникальный историко-этнографический материал, который послужил основой для двух его опубликованных статей "Тагаурцы" и "Из служебных воспоминаний". Только за эти материалы Толстого можно справедливо причислить к числу видных кавказоведов. Осетинский этнограф Герлик Цибиров в начале 1990-х гг. обнаружил в военно-историческом архиве СПб. большой труд по этой теме, считавшийся утраченным и опубликовал его в 1997 г. под общим заголовком "Сказания о Северной Осетии".
По амнистии 26 августа 1856 года Толстой был освобождён от всех ограничений и выйдя в отставку с чином надворного советника, поселился в имении Бараново (Акатово, Окатово, Бараново-Окатово) Подольского уезда Московской губернии, полученном в наследство от родной тётки княгини Елены Васильевны Хованской. Сохранился деревянный 2-этажный господский дом с антресолями, подъездная аллея, обсаженная елью и берёзой, пейзажный парк. Сейчас здание усадьбы использует под учебную базу Московский педагогический университет.
Не обременённый семейными хлопотами (Толстой был холост), Владимир Сергеевич продолжил занятия литературной деятельностью. С 1864 по 1884 гг. в исторических журналах появилось несколько сочинений декабриста. Но не всё им написанное попало на страницы печати. В 1955 г. С.В. Житомирская опубликовала часть его воспоминаний и замечаний на книгу А.Е. Розена "Записки декабриста", найденные в Отделе рукописей библиотеки им. Ленина (ныне РГБ). Там же хранились "Характеристики русских генералов на Кавказе" (ф. 178. "Музейное собрание", д. 4629 а). Видимо, характер этих записей мало соответствовал декабристскому прошлому Толстого, а кавказская тема находилась под запретом и Житомирская эту работу не опубликовала. Более того, характеристики русских генералов подчас весьма резкие и злые. Автор не скрывает своего негативного отношения к "немцам", в силу чего лица с немецкими фамилиями очерчены им предвзято. Он также не смог завуалировать своей неприязни к людям, замешанным в смуте 1825 г., но вышедшим "сухими из воды" и продолжившим карьеру в "николаевское время" (Н.Н. Раевский-младший и П.Х. Граббе).
Давая оценки другим, Толстой невольно характеризует и самого себя. В его воспоминаниях присутствует высокая самооценка и завышенные требования к другим, отчётливо проступает ощущение невостребованности личных дарований и недовольство переломанной 1825 г. судьбой. Однако здесь будет уместно привести и редкие мнения о Толстом его сослуживцев по Кавказу. М.Ф. Фёдоров, описывая свой армейский быт, так харектеризует Толстого: "Никогда ничем не занимался, только напевал, да насвистывал куплетики и курил постоянно сигару..." Другой его сотоварищ по Кабардинскому егерскому полку И. фон дер Ховен отнёсся к нему более жёстко: "Личность простоватая, ничем себя особенно не ознаменовавшая. Заметно, что слабая натура и не выдержала жестоких ударов судьбы и он видимо склонялся под тяжким бременем". Г.И. Филипсон выставил Толстого в несколько комичном виде при описании вызова "на дуэль полковником Энгштремом де Ревельштадтом". В целом же он оставил нелестный отзыв: "... наружность его, голос и манеры были крайне несимпатичны; нравственные принципы его были более чем шатки ... Специальность его сказалась уже при графе Воронцове ... сделался шпионом, сыщиком, доносчиком и во всём, что нравилось его патрону; он был посылаем секретно в разные места, переодевался, посещая кабаки и харчевни, где собирал разные сведения и где не раз был оскорбляем телесно". В поддержку Толстого можно сказать, что служба у графа Воронцова, предполагала разведовательную работу на Кавказе, в которой многие усматривали шпионаж... А Филипсон, кстати, в своих воспоминаниях "прошёлся" не только по Толстому, но и по военному разведчику Г.В. Новицкому. Досталось "на орехи" даже брату поэта Льву Сергеевичу Пушкину. Так что, по всей вероятности, Владимир Сергеевич, просто стал жертвой наговора и безосновательных оскорбительных обвинений...
Скончался Владимир Сергеевич Толстой 27 февраля 1888 года в своём усадебном доме и был похоронен в ограде церкви Георгия Победоносца (снесена в 1930-х гг.) соседнего села Передельцы (ныне входит в состав г. Москвы).
Метки: ЖЗЛ россия декабристы долгоруковы толстые |
Никита Кирсанов. "Самая счастливая из женщин". |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Никита Кирсанов. "Самая счастливая из женщин".

А. Маньяни. Портрет графини Александры Григорьевны Чернышёвой. 1816 г.
Все шесть сестёр Чернышёвых были обаятельны, каждая по-своему, но особой красотой, по свидетельству мемуариста, выделялись Елизавета, Вера и Надежда: "Гр. Елизавета Григорьевна напоминала собою чисто восточный тип, как я видал в гравюрах аравитянок и израильтянок в библейских сюжетах Гораса Верне.
У неё были большие кофейного цвета глаза... правильные и тонкие античные черты лица на матово-смугловатом фоне, тёмные, но не совсем вороного крыла цвета волосы, роста среднего, но превосходно сложена... Натура была пылкая и любящая, горячий друг своим друзьям, стояла за них горою перед кем бы то ни было..."
Она вышла замуж за историка, археолога и нумизмата, основателя знаменитой библиотеки А.Д. Черткова. В их московском доме гостили Жуковский и Пушкин, читал свои произведения Гоголь, бывший в дружеских отношениях с хозяйкой дома. Незадолго до событий на Сенатской площади в Елизавету Чернышёву был влюблён декабрист Владимир Сергеевич Толстой.
"Из всех сестёр стройностью талии наиболее отличалась гр. Наталья Григорьевна", - сообщал посетивший семейство Чернышёвых в августе 1825 года, мемуарист граф М.Д. Бутурлин, отмечая, что в свои семнадцать лет она лицом очень напоминала бабушку Н.П. Квашнину-Самарину. После отъезда старшей сестры Александры к месту сибирской каторги Никиты Муравьёва, Наталья Григорьевна обратилась к императору за позволением делить с сестрой изгнание и лишения.
Получив отказ, она деятельно помогала своей сестре - добровольной изгнаннице. На склоне лет, уже будучи вдовой известного военачальника Н.Н. Муравьёва-Карского, Наталья Григорьевна имела все основания сказать, что она на деле доказала свою любовь к близким ей людям.
Веру Григорьевну с её необыкновенной белизной кожи и постоянным румянцем на щеках можно было назвать брюнеткой лишь по цвету глаз и оттенку волос. "Глаза были небольшие и кругловатые, но взгляд был томно-задумчивый и нежный... и не изобличающий силы характера и воли, которыми, однако же, она была одарена. Рот был маленький с припухлыми ярко-малиновыми губами... Движения были плавны, сдержаны и проникнуты негою... Это было такое создание, от которого трудно было отводить глаза".
Когда готовящаяся к отъезду в Сибирь Анна Васильевна Розен находилась в Москве, то все сёстры Чернышёвы приняли исключительное участие в её судьбе. "Особенно Вера Григорьевна, ныне графиня Пален, - подчёркивал декабрист Андрей Розен, - со слезами просила взять её с собою под видом служанки, чтобы она там могла помогать сестре своей..."
Снова обратимся к объективному свидетельству Бутурлина: "Графиня Надежда Григорьевна не подходила ни к той, ни к другой из сестёр: роста была мужского, смуглая, как цыганка, и с сильным, киноварным румянцем во всю щёку до самых ушей, с выразительными тёмными глазами, с той особенностию, что у неё не видать было вовсе верхних ресниц, и глаза казались как бы выходившими прямо из под бровей; брови были густы и горизонтальны, а волосы тёмные. Вся её фигура была величава и эффектна..."
Удивительно ли, что она покорила сердце Дмитрия Гончарова, старшего брата Н.Н. Пушкиной, управляющего всеми гончаровскими имениями и предприятиями. Однако на его предложение "прелестная и божественная графиня" ответила отказом. Деятельное сочувствие своему шурину выражал Александр Сергеевич, летом 1834 года писавший жене: "Ты слади эту свадьбу, а я приеду в отцы посаженные..." В 1838 году Надежда Григорьевна вышла замуж за капитана Генерального штаба князя Григория Долгорукова.
Давая портреты своих кузин, граф М.Д. Бутурлин, по его выражению, "не описал" лишь старшую сестру - Софью Григорьевну Чернышёву. Ей в ту пору было 26 лет, а самой младшей Надежде - 12. Через четыре года Софья выйдет замуж за участника Отечественной войны И.Г. Кругликова. Унаследовав после "политической смерти" единственного брата Захара чернышёвский майорат, она со временем передала брату (под видом продажи) орловское имение Тагино.
С Софьей Григорьевной был знаком А.С. Пушкин, с ней переписывался поэт П.А. Вяземский, опубликовавший в "Полярной звезде" стихотворение "Графиням Чернышёвым". Декабрист Н.М. Муравьёв переслал ей нелегально из Сибири свой портрет работы Н.А. Бестужева. Софья Григорьевна воспитала дочерей своего дальнего родственника декабриста В.Л. Давыдова после того, как к нему в Сибирь выехала его супруга Анна Ивановна. Недаром Давыдовы благодарно писали: "Только одна в мире Софья Григорьевна, только одна..."
До нас дошло несколько портретов и словесных описаний второй, после Софьи, дочери Чернышёвых - Александры Григорьевны, родившейся в Петербурге 2 июня 1800 года. Самый ранний портрет относится к 1816 г. Это рисунок карандашом и сангиной, выполненный художником Маньяни, многие годы жившим в семье Чернышёвых в качестве учителя рисования.
Есть все основания предполагать, что Александра Григорьевна была недовольна этим портретом. Много лет спустя она писала о манере письма Маньяни: "У него особый дар: он схватывает черты лица, набрасывает их на бумагу, а затем располагает наобум, как вздумается..."
О других портретах декабристки чуть позже, а пока напомним, как же выглядела замечательная русская женщина, эта "сибирская героиня", на самом кануне событий 14 декабря 1825 года.
Всё тот же М.Д. Бутурлин вспоминал: "Она была выше среднего роста, блондинка, кровь с молоком и широковатого телосложения. Тогдашние петербургские англичане находили поразительным сходство её с умершею в 1817 году принцессою Шарлоттою, дочерью тогдашнего принца-регента, впоследствии короля Георга IV".
Александра росла в атмосфере обострённого чувства патриотизма, свободомыслия, осуждения аракчеевщины и засилия неметчины. Чтение вольнолюбивых произведений Пушкина, Рылеева, Грибоедова и Бестужева-Марлинского располагало к обсуждению казни испанского революционера Риего, восстания Семёновского полка, к которому имел прямое отношение кузен сестёр Чернышёвых - Иван Фёдорович Вадковский.
В 1820 году Александра начинает свой дневник трогательными словами: "Я говорила, говорю и пишу, что нет большего несчастья, чем иметь голову горячую и сумасбродную и ум набекрень..." В характере умной и наблюдательной девушки ярко проявлялась страстная эмоциональность.
22 февраля 1823 года она вышла замуж за двадцатисемилетнего капитана гвардии Н.М. Муравьёва, активного члена ранних декабристских организаций, правителя дел Северного общества, автора знаменитой "Конституции". Это о нём упоминает Пушкин в десятой главе "Евгения Онегина":
Витийством резким знамениты,
Сбирались члены сей семьи
У беспокойного Никиты...
Интересно, что ту же черту декабриста отметил и поэт Константин Батюшков: "Твой дух встревожен, беспокоен..." Широкообразованный и щедро одарённый от природы, Никита Муравьёв был блестящим историком и математиком, библиофилом, знатоком множества языков. Это им сказаны слова: "История народа принадлежит народу". Собранная им огромная библиотека уникальна по своему составу. "Этот человек один стоил целой академии", - сказал о нём декабрист М.С. Лунин.
В "Алфавите декабристов" о капитане Н.М. Муравьёве говорилось: "Участвовал в умысле на цареубийство изъявлением согласия в двух особенных случаях в 1817 и в 1820 году; и хотя впоследствии и изменил в сем отношении свой образ мыслей, однако ж предполагал изгнание императорской фамилии; участвовал вместе с другими в учреждении и управлении тайного общества и составлении планов и конституции".
Арестованный в Тагино 20 декабря 1825 года на глазах жены, готовящейся в третий раз стать матерью, Никита Михайлович сумел из Москвы переправить ей несколько строк: "Помни о своём обещании беречь себя: мать семейства в твоём положении имеет священные обязанности, и, чтобы их исполнять, прежде всего нужно чувствовать себя хорошо".
Уже в предпоследний день уходящего года Александра Григорьевна прибыла в столицу. В ответ на "покаянное" письмо мужа из крепости она нашла мужественные слова: "Ты просишь у меня прощения. Не говори со мной так, ты разрываешь мне сердце. Мне нечего тебе прощать.
В течение почти трёх лет, что я замужем, я не жила в этом мире, - я была в раю... Не предавайся отчаянию, это слабость, недостойная тебя. Не бойся за меня, я всё вынесла... Я самая счастливая из женщин".
5 января 1826 года Александра Григорьевна передала мужу в Петропавловскую крепость свой портрет, работы художника-акварелиста П.Ф. Соколова.
"Портрет твой очень похож, - сообщал Никита Михайлович жене, - и имеет совершенно твою мину. Он имеет большое выражение печали..."
А в письме от 16 января того же года он признавался: "В минуту наибольшей подавленности мне достаточно взглянуть на твой портрет, и это меня поддерживает..." С этим портретом декабрист не расставался до конца своих дней.
Благодаря необычайной энергии, силе воли, а также влиятельным связям А.Г. Муравьёва добивается свидания с мужем, хлопочет о разрешении разделить его судьбу. Реакцию передового столичного общества на горе семей, насильственно лишённых сыновей, мужей и братьев, хорошо передают печальные строки письма к В.А. Жуковскому, написанного 29 июля 1826 года его племянницей Александрой Воейковой:
"Окончание несчастий 14-го декабря поразит тебя так же, как и нас, - но благодарю Бога, что ты далеко, что не видишь несчастных родителей. В каком они положении ты представить можешь, но видеть всё это, и знать, что никакой помощи, никакой отрады этому горю нет, - это нестерпимо... Даже когда я радуюсь своей маленькой Машей, мысль о бедной Александре Григорьевне мешает мне быть счастливой. С каким чувством эта бедная женщина смотрит на своих детей..."
Ровно через год после декабрьских событий на Сенатской площади последовало "высочайшее разрешение" Муравьёвой ехать в Сибирь, к месту каторги мужа. На другой день, 15 декабря 1826 года, Александра Григорьевна подала царю прошение о снисхождении к её брату Захару, являвшемуся единственной опорой для больного отца, умирающей матери и сестёр, "едва покинувших младенческий возраст, но уже увядших от слёз и печали".
Поручив двух маленьких дочек Екатерину и Елизавету и совсем крохотного сына Михаила попечению свекрови, Муравьёва на самом стыке 1826 и 1827 годов выехала из Москвы. Перед отъездом её посетил Пушкин. Родители Александры Григорьевны жили в самотёчном доме В.П. Тургеневой, матери будущего писателя.
Вручив мужественной женщине стихи для декабристов, поэт сказал: "Я очень понимаю, почему эти господа не хотели принять меня в своё общество: я не стоил этой чести".
Александр Сергеевич верил, что "любовь и дружество" самоотверженных жён и сестёр, а также признательных современников дойдут до сибирских узников "сквозь мрачные затворы". А в том, что "свободный глас" поэта услышали в "каторжных норах" декабристы, заслуга прежде всего Александры Муравьёвой. Пушкинское послание "Во глубине сибирских руд...", получившее большой общественный резонанс, поэтесса Ростопчина перевела на французский язык и выслала Александру Дюма-отцу.
В начале января 1827 года поэт П.А. Вяземский писал в одном из писем: "На днях видели мы здесь проезжающих далее Муравьёву-Чернышёву и Волконскую-Раевскую. Что за трогательное и возвышенное отречение. Спасибо женщинам: они дадут несколько прекрасных строк нашей истории..."
В феврале в Иркутске и Чите Александра Григорьевна подписывает страшные пункты отречения от своих гражданских и человеческих прав. Каждый пункт мучительнее другого, вызывает внутренний протест:
"1. Жена, следуя за своим мужем и продолжая с ним супружескую связь... потеряет прежнее звание, то есть будет уже признаваема не иначе, как женою ссыльно-каторжного, и с тем вместе принимает на себя переносить всё, что такое состояние может иметь тягостного...
2. Дети, которые приживутся в Сибири, поступят в казённые заводские крестьяне..."
Муравьёва первой из жён декабристов прибыла в глухую Читу, где отбывали срок каторжных работ, кроме мужа, брат Захар и деверь Александр. Купив домик напротив тюрьмы, она два раза в неделю ходила туда на свидания с мужем. Они проходили в присутствии дежурного офицера и продолжались всего лишь один час.
Иван Пущин, которому Александра Григорьевна передала пушкинское стихотворение "Мой первый друг, мой друг бесценный...", вспоминал: "В ней было какое-то поэтически возвышенное настроение, хотя в отношениях она была необыкновенно простодушна и естественна. Это составляло главную её прелесть.
Непринуждённая весёлость с доброй улыбкой на лице не покидала её в самые тяжёлые минуты первых годов нашего исключительного существования. Она всегда умела успокоить и утешить - придавала бодрость другим..."
Муравьёва тяжело переживала вынужденную разлуку с детьми, оставленными у свекрови. На какое-то время утешило получение их портретов. Вскоре у Муравьёвых родилась дочь Софья (Нонушка) - первый ребёнок у политических ссыльных.

Н.А. Бестужев. Портрет Александры Григорьевны Муравьёвой. 1832 г.
"Наша милая Александра Григорьевна, - отмечал А.Е. Розен, - с добрейшим сердцем, юная, прекрасная лицом, гибкая станом, единственно белокурая из всех смуглых Чернышёвых, разрывала жизнь свою сожигающим чувством любви к присутствующему мужу и к отсутствующим детям. Мужу своему показывала себя спокойною, даже радостною, чтобы не опечалить его, а наедине предавалась чувствам матери самой нежной..."
Некоторое время спустя после рождения Нонушки, пришло известие о кончине матери Александры Григорьевны. Московский дом Чернышёвых современники называли в те дни "святынею несчастья".
А.Г. Муравьёва никогда не замыкалась в своём горе, её стараниями жизнь читинских узников делалась терпимой. Она сыграла выдающуюся роль в установлении контактов лишённых права переписки декабристов с их родными и близкими. Получая огромную материальную помощь от свекрови Екатерины Фёдоровны и из дома, она щедро помогала нуждающимся декабристам.
"Выписав" отличную аптеку, хирургические инструменты, лекарственные растения, Муравьёва организовала в Чите прекрасную больницу, значение которой - при бесчеловечных условиях содержания политических узников - трудно переоценить.
По её настоянию Николай Бестужев написал воспоминания о К.Ф. Рылееве. С помощью Александры Григоревны, обеспечившей бумагой, кистями и красками на редкость одарённого того же Бестужева, мы имеем настоящую портретную галерею первых русских революционеров. Недаром свой рассказ "Шлиссельбургская крепость" Николай Бестужев посвятил Александре Муравьёвой.
Благодаря жене и матери Никита Михайлович получил в острог большую часть своей богатой библиотеки. Проявив выдумку, Александра Григорьевна организовала получение декабристами русских и иностранных журналов.
"Мы все без исключения любили её, - утверждал декабрист Николай Басаргин, - как милую, добрую, образованную женщину и удивлялись её высоким нравственным качествам: твёрдости её характера, её самоотвержению, безропотному исполнению своих обязанностей..."
А декабрист Сергей Кривцов, покинув читинский острог, просил свою сестру: "Александре Григорьевне пиши в Читу, что я назначен в Туруханск и что все льды Ледовитого океана никогда не охладят горячих чувств моей признательности, которые я никогда не перестану к ней питать".
Посылая каждый день в тюрьму несколько блюд собственного приготовления, Муравьёва зачастую забывала об обеде для себя и своего мужа. "Довести до сведения Александры Григорьевны о каком-нибудь нуждающемся, - вспоминал декабрист Иван Якушкин, - было всякий раз оказать ей услугу, и можно было оставаться уверенным, что нуждающийся будет ею успокоен".
К осени 1830 года читинских узников перевели за шестьсот с лишним вёрст в новый, специально построенный острог, расположенный на территории Петровского завода. "Мы в Петровском и в условиях, в тысячу раз худших, нежели в Чите, - писала Александра Григорьевна отцу за три месяца до его смерти. - Во-первых, тюрьма построена на болоте, во-вторых, здание не успело просохнуть, в-третьих, хотя печь и топят два раза в день, но она не даёт тепла, в-четвёртых, здесь темно: искусственный свет днём и ночью; за отсутствием окон нельзя проветривать комнаты...
Я целый день бегаю из острога домой и из дома в острог, будучи на седьмом месяце беременности. У меня душа болит за ребёнка, который остаётся дома один; с другой стороны, я страдаю за Никиту и ни за что на свете не соглашусь его видеть только три раза в неделю..."
Хлопотами Муравьёвой и других добровольных изгнанниц полгода спустя в остроге были прорублены окна, правда, узкие и высоко от пола. А Александру Григорьевну ждало новое испытание - умерла новорожденная дочь Ольга.
"У меня нет ещё сил взяться ни за книгу, ни за работу, - жаловалась она в те дни свекрови, - такая всё ещё на мне тоска, что всё метаюсь, пока ноги отказываются... Вы и не представляете, сколько у меня седых волос".
Из нескольких портретов Муравьёвой той поры, исполненных талантливой кистью Николая Бестужева, сохранился лишь один, принадлежавший её мужу. Написанный, видимо, в последние месяцы жизни декабристки, портрет производит тяжёлое впечатление. Мучительные годы, проведённые в сибирской ссылке, не прошли бесследно. Александра Григорьевна выглядит устало, лицо её осунулось, взгляд скорбный...
Скрывая от мужа "общее расстройство" своего здоровья, она не внимала совету доктора Ф.Б. Вольфа принять особенные меры предосторожности и продолжала вести обычную жизнь. Ходя по нескольку раз в день из своей квартиры в каземат, она крепко простудилась и после трёхнедельной болезни умерла в возрасте тридцати двух лет.
Произошло это 22 ноября 1832 года.
В день смерти жены Никита Муравьёв стал седым. Да и вообще не было никого - ни среди декабристов, ни среди уголовных, называвших её "матерью", - кого бы не потрясла эта преждевременная кончина.
Велика была скорбь потому, что сошла в могилу всеобщая любимица, "святая женщина", на протяжении шестилетнего пребывания в Сибири олицетворявшая лучшие человеческие качества. "Она умерла на своём посту, - скажет Мария Волконская, - и эта смерть повергла нас в глубокое уныние и горе".
Умирая, Александра Григорьевна выразила желание быть похороненной на родине, рядом с отцом, на кладбище Орловского Свято-Успенского монастыря. Николай Бестужев, у которого были поистине золотые руки, изготовил деревянный гроб с винтами, скобами и украшениями. В надежде, что разрешат перевезти прах незабвенной Муравьёвой в родные места, он, с позволения коменданта, отлил на заводе свинцовый гроб. Однако, резолюция Николая I была однозначной: "Совершенно невозможно". Похоронили А.Г. Муравьёву на погосте Петровского завода.
"Если бы Вам случилось приехать ночью в Петровский завод, - писал И.Д. Якушкин сестре её Надежде Григорьевне Долгоруковой, - то налево от дороги Вы бы увидели огонёк, это беспрестанно тлеющая лампада над дверьми каменной часовни, построенной Никитой Михайловичем и в которой покоится прах Александры Григорьевны".
Метки: ЖЗЛ россия декабристы чернышевы муравьевы жены декабристов |
Неизвестная история известного портрета. |
Это цитата сообщения AWL-PANTERA [Прочитать целиком + В свой цитатник или сообщество!]
Неизвестная история известного портрета.

П.Ф. Соколов. Портрет М.Н. Волконской с сыном. 1826 г.
14 декабря 1825 года больно отозвалось по всей России. Виселица с пятью повешенными стала мрачным символом николаевского правления. Десятки декабристов были сосланы в Сибирь. Одиннадцать жён разделили с ними изгнание, ошеломив русское общество своей стойкостью, самоотверженностью и несгибаемой волей.
Своим отъездом в Сибирь в конце 1826 г., вслед за осуждёнными мужьями, Мария Волконская и Екатерина Трубецкая устроили царю настоящую манифестацию. Вызов брошен...
Целью императора Николая I было лишить декабристов общественной поддержки. Но цель потерпела крах. Виной тому были жёны осуждённых, не пожелавшие смириться с тем, что их мужья заклеймены как преступники перед образованным человечеством.
Один из осуждённых братьев Бестужевых писал: "Каземат... через наших ангелов-спасителей, дам, соединил нас с тем миром, от которого навсегда мы были оторваны политической смертью, соединил нас с родными, дал нам охоту жить..."
Учёный-литературовед и искусствовед Илья Самойлович Зильберштейн, будучи в Париже в 1966 г., встретился с потомком декабриста Василия Львовича Давыдова - Денисом Дмитриевичем Давыдовым. У него находился альбом, некогда принадлежавший жене декабриста, Александре Ивановне Давыдовой.
Денис Дмитриевич был тяжко болен, и судьба альбома его очень тревожила. Хотелось сохранить его для потомков. И чтобы окончательно решить и обсудить, что предпринять для отправки альбома на родину, в Россию, он приглашает двух своих друзей. Одним из них был В.Н. Звегинцев - крупный знаток русской истории ХIХ века. Ему принадлежал 60-й том "Литературного наследства", посвящённый декабристам. На одной из страниц этого тома была напечатана фотография акварельного портрета Марии Николаевны Волконской и указано, что местонахождение оригинала неизвестно. Но, не успев пережить глубокое разочарование от этого сообщения, Илья Самойлович услышал следующее: "Так вот. Эта акварель находится у меня!" Сообщение Звегинцева было настолько неожиданно, что поверить в него было почти невозможно.
Что же это за акварель? Чем она примечательна?
Прежде всего о самой М.Н. Волконской (урождённой Раевской). Дочь прославленного героя Отечественной войны 1812 года, генерала Раевского, и Софьи Алексеевны Константиновой, внучки М.В. Ломоносова. Она вошла в жизнь и творчество Александра Сергеевича Пушкина как "утаённая любовь", та девушка, которая не ответила ему взаимностью.
Будучи на юге в ссылке, Пушкин часто посещал семью Раевских. Вот как он об этом пишет в своих воспоминаниях: "Счастливые минуты жизни моей провёл я посреди семейства почтенного Раевского. Я не видел в нём героя, славу русского войска, я в нём любил человека с ясным умом, с простой, прекрасной душою..."
А лирические стихи, посвященные юной Марии, говорят о его нежных чувствах:
Я помню море пред грозою:
Как я завидовал волнам,
Бегущим бурной чередою
С любовью лечь к её ногам!
В своих "Записках" Мария Николаевна пишет: "Как поэт он считал своим долгом быть влюблённым во всех хорошеньких женщин и молодых девушек, с которыми он встречался... В сущности, он обожал только свою музу и поэтизировал всё, что видел":
В ту пору мне казались нужны
Пустыни, волн края жемчужны,
И моря шум, и груды скал,
И гордой девы идеал,
И безыменные страданья...
Марии Раевской едва исполнилось 19 лет, когда в начале 1825 г. в Киеве она венчалась с будущим декабристом Сергеем Григорьевичем Волконским.
Трудно объяснить этот брак. Волконский был старше её на 17 лет. За плечами была бурно прожитая жизнь. Возможно, его героическая биография привлекла девушку... За 10 лет его боевого пути Волконский участвовал в 58 сражениях, а в 24 года стал генерал-майором.
За неделю до ареста Сергея Григорьевича Мария Николаевна находилась у родных. 2 января 1826 г. она родила сына. Узнав, что произошло с мужем, она немедленно отправилась в Петербург, оставив младенца на попечение родных.
Потянулись долгие месяцы следствия, допросов, очных ставок. 10 июля 1826 г. император Николай I утвердил приговор по делу декабристов. Пятеро из них были повешены: П.И. Пестель, С.И. Муравьёв-Апостол, К.Ф. Рылеев, М.П. Бестужев-Рюмин, П.Г. Каховский. 121 человек был сослан на каторгу и на поселение в Сибирь.
Волконский был отнесён к категории "государственных преступников первого разряда, осуждаемых к смертной казни отсечением головы", но 11 июля, по "высочайшему повелению", приговор был смягчён: Волконский приговаривался к лишению чинов и ссылке на каторжные работы на 20 лет.
Узнав об окончательном приговоре, Мария Николаевна решает следовать за мужем на каторгу. Николай Первый категорически запретил жёнам декабристов брать с собой детей. Но это не остановило её. И вот в последние недели своего пребывания в Петербурге она заказывает знаменитому художнику-акварелисту П.Ф. Соколову портрет. На портрете художник изобразил Марию Николаевну с десятимесячным сыном Николаем на руках. Портрет был заказан в 2-х экземплярах: один для сестры Софьи Николаевны, а другой для мужа. Судьба первого неизвестна. Судьба же второго весьма примечательна. В архиве Волконских находятся два письма Марии Николаевны, в которых она упоминает о сеансах у Соколова. Одно к сестре, а другое - мужу: "Наш дорогой Николино чувствует себя хорошо, скоро ты получишь его и мой портрет работы Соколова".
В декабре 1826 г. М.Н. Волконская двинулась в дорогу, почти бесконечную. 26 декабря она приехала в Москву. Вот, что она пишет в своих воспоминаниях: "В Москве я остановилась у Зинаиды Волконской, моей невестки... Пушкин, наш великий поэт, тоже был здесь... Во время добровольного изгнания нас, жён сосланных в Сибирь, он был полон самого искреннего восхищения: он хотел передать мне своё "Послание к узникам" для вручения им, но я уехала в ту же ночь и он передал его А. Муравьёвой". Это была их последняя встреча. Путь её лежал на Благодатский рудник, где закованный в кандалы муж уже отбывал наказание. Портрет Мария Николаевна взяла с собой. Видимо, в первую же встречу она передала портрет мужу, так как в описи вещей портрет значился. Портрет стал реликвией для семьи Волконских, так как их сын, оставленный на попечение родных, умер в возрасте трёх лет.
Пушкин посвятил его памяти эпитафию:
В сияньи, и радостном покое,
У трона вечного творца,
С улыбкой он глядит в изгнание земное,
Благословляет мать и молит за отца.
Тридцать лет провела Мария Николаевна Волконская в Сибири, но любовь и интерес к родной литературе не иссякали. В сибирской глуши "звуки лиры" Пушкина были отзвуком тех далёких лет.
В письмах родным и друзьям она не забывает упоминать поэта. Её интересуют его судьба, его жизнь и творчество. После выхода "Бориса Годунова", она пишет З.А. Волконской: "Борис Годунов" вызывает наше общее восхищение; по нему видно, что талант нашего великого поэта достиг зрелости; характеры обрисованы с такой силой, энергией, сцена летописца великолепна. Но, признаюсь, я не нахожу в этих стихах той поэзии, которая меня очаровывала прежде, той неподражаемой гармонии, как ни велика сила его нынешнего жанра". Видимо, лирика А.С. Пушкина была Марии Николаевне Волконской ближе.
Мария Николаевна не расставалась с акварелью, на которой П.Ф. Соколов изобразил её с сыном.
За 140 лет портрет этот проделал несколько десятков тысяч километров в разные концы света, пока не оказался во владении В.Н. Звегинцева. Описание этого пути заслуживает внимания. Итак, дорога от Петербурга до Благодатского рудника, затем Читинский острог, оттуда в 1830 г. путь в Петровский завод, в 1837 г. Волконские отбыли на поселение в село Урик Иркутской губернии; после смерти Николая I, в 1855 г., новый император Александр II подписал амнистию декабристам, и Волконские поселились в селе Вороньки Черниговской губернии.
В Сибири у Волконских родилась дочь Елена. В 1910-х годах портрет находился у неё, в имении Вайсбаховка Полтавской губернии.
От третьего брака у Елены Сергеевны была дочь, портрет перешёл к ней. Дочь Елены Сергеевны вышла замуж за русского офицера А.И. Джулиани, у них было два сына: Сергей и Михаил. В.Н. Звегинцев был их троюродным братом. Приобрёл он портрет у Сергея в 1925 г. Совершенно случайно он встретил Сергея Джулиани, своего родственника, на улице во Флоренции. Тот шёл к антиквару продавать акварель. Звегинцев её купил. И за это потомки должны быть ему благодарны.
Но портрету суждено было проделать своё последнее путешествие на родину.
30 ноября 1966 г. портрет был отправлен Владимиром Николаевичем Звегинцевым в Россию. К нему было приложено письмо, адресованное Илье Самойловичу Зильберштейну: "Конечно, вы правы, говоря, что место окончательного "упокоения" акварели на родине и что пора ей закончить своё долгое путешествие. К этому же заключению пришёл и я... Уже раз ей грозило закончить своё существование у какого-то флорентийского антиквара. В лучшем случае была бы она куплена любителем красивой акварели, но уже, наверное, никто бы со временем не знал, кого она изображает, и для потомства и для русских музеев она навсегда была бы потеряна. Уже несколько раз у меня были предложения её продать, но, каковы бы ни были "минуты жизни трудные", я никогда на это не согласился и не соглашусь... "
Русский художник и реставратор И.Э. Грабарь писал: "Если бы в послереволюционные годы за рубежом было больше настоящих любителей и ценителей русской живописи, то многие шедевры, попавшие за границу, не канули бы в Лету".
Многострадальный портрет декабристки Марии Николаевны Волконской заслуженно занимает положенное место в Государственном музее им. Пушкина в Москве.
Метки: ЖЗЛ россия декабристы волконские жены декабристов |








